Pippilotta Дьявол на испытательном сроке
Введение
Солнце Чистилища почти не отличается от солнца смертного мира. Лишь только тем, что смертное солнце не заставляет души сиять сильнее и светом своим никак не влияет на желание совершать грехи
И чем выше к Небесам находится тот или иной слой Чистилища — тем сильнее чувствуется этот эффект местного света.
На верхнем слое Чистилища работают обладатели самых обширных греховных счетов. Чаще всего убийцы — однократные или многократные. Старожилы отмечали легкую иронию в том, что именно подобным грешникам удавалось максимально эффективно овладевать святым словом, что так сильно помогало в борьбе с демонами. Хотя клинок, окутанный святым огнём, им в этом благом деле помогал не меньше. А белые ангельские крылья, дарованные Небесами всякой душе, находящейся на службе у Чистилища — помогали сохранить цельность собственной души, если вдруг противник оказывался слишком силен. И не было иных ангелов, иных серафимов, чем грешники, вставшие на путь искупления. Они забирают души из смертного мира, они ведут подсчет греховного кредита для других грешников, они защищают смертных от демонов, они делают еще много различной работы, если вдуматься.
Самый верхний слой Чистилища не годится для работы. Солнце здесь так безжалостно, что выдержать его свет рядовой работник Чистилища можно очень недолго. Здесь заточены демоны — те, чья зависимость от греха не была побеждена, опасные для душ смертных и обитателей Чистилища, осквернившие многих людей своих ядом, те, в кого не верят даже небеса. Они опасны настолько, что для того чтобы сдержать их силу — их приходится приковать к крестам.
Ангелы приходят к демонам каждый день — демонов столь много что все Горящее Поле даже множеству ангелам удается обойти лишь за неделю. Ангелы пытаются облегчить муки наказанным, подкармливают измученные души демонов благой пищей. Все помнят, что всякий закоренелый грешник достоин милосердия. Время от времени оковы некоторых несчастных размыкаются, потому что небеса решают, что довольно наказали их, и тогда демоны снова пытаются встать на путь истинный. Освобождаются только слабые демоны, те, кто не был клеймен двойной или тройной звездой, как закоренелый, жестокий грешник, безжалостный ко всему миру, и милосердный лишь к себе. Никто и никогда не получал помилования, из тех, кто были отправлены на холм Исчадий, но все же и туда отправлялись всеблагие сестры милосердия — молельщицы из Лазарета Отравленных Душ, и туда приносили пресный хлеб, да воду, тело и лицо каждого распятого тут протирали мокрыми полотенцами и их боль — боль что несло им всякое соприкосновение с освященным деревом креста отступала. Всякий распятый ждал этого момента — когда полотенце коснется его кожи, и небеса на некоторое время проявит снисхождение,
Демоны молчаливы и измучены, в большинстве своем, они рады всякому ангелу, который явится чтобы облегчить им их страдания. Впрочем, встречаются и более строптивые экземпляры. Например, один из исчадий ада настолько раздражает сестер милосердия, что лишь одна из них выдерживает в его присутствии некоторое время.
Ей приходится терпеть его капризы, кормить его с рук, и под градом ядовитых колкостей протирать его лицо. Кажется, демон поставил себе целью раздразнить и эту смиренную барышню, потому что его язык до сих пор не унялся. Например сейчас — пока она тщательно омывает его руки он над ней в который раз посмеивается.
— Ну так что, твой Джон в кои-то веки затащил тебя в какую-нибудь подсобку? — ехидно спрашивает демон, а девушка мягко улыбается.
— Джон не такой как ты думаешь, Генри.
— Ой, да брось, — хмыкает демон, а осторожные пальцы девушки с его щек убирают волосы — его длинные волосы, которые выбились из растрепавшейся косы, и прилипли к лицу, — я же видел его не раз, всякий раз прямо остро чую, что он тебя хочет, ну и с чего бы это он и не такой?
— Ох, Генри, — вздыхает девушка, и берет свежее полотенце, чтобы омыть его лицо, — вот как тебе еще не надоело? Чем ты опять довел Рит?
— Всего лишь рассказал, как поимел бы её, если бы мне довелось, — демон замирает, чтобы он не говорил, но ему действительно нравится, когда его лица касается прохладная ткань, а иногда — и тонкие пальцы сестры милосердия, и в выжидании этих кратких мгновений заключается удовольствие, дозволенное исчадиям ада.
— Ну, вот зачем, — девушка качает головой, — она плакала. И сказала что больше к такому распутнику, как ты, не подойдет. К тебе не подойдет, Генри.
— Велика печаль, — демон фырчит, — ты ко мне приходишь, этого достаточно. И между прочим ей понравились мои фантазии, просто твоя Рит — лицемерка. Ну как же, признает она, что течет, даже когда мой пот смывает. Я же грязное исчадие ада, а она — праведница, и практически святая, разумеется.
— Постыдное во всяком сердце есть, Генри, — собеседница демона не обращает внимания, что он задел словом её подругу, — но разве с постыдным не надо бороться?
— Вот и будем считать, что я помогаю твоей Рит бороться с её постыдным, — усмехается демон, пока девушка осторожно разбирает его волосы, вычесывает из них колтуны — он неделю метался на кресте в агонии, успел растрепаться, но волосы сильно раздражают, когда прилипают к обнаженной груди. Каждый раз она переплетает его волосы в одну тугую косу, чтобы они не доставляли ему лишних неудобств.
— Посещения полагаются раз в неделю, Генри, — ворчит девушка, — и не всякую среду выпадает моя смена. Ты мог бы вести себя посдержанней, хотя бы между моих смен.
— Не хочу. — возражает демон, — ты же меняешься сменами, чтобы придти сюда, так зачем мне что-то менять? Буду сдерживаться — ты будешь приходить ко мне реже.
— Ах вот оно что, — девушка вновь улыбается, — так это все расчет, чтобы я приходила?
— Ты пахнешь вкуснее, — по лицу демона расползается насмешливая улыбка, он даже демонстративно облизывает губы, показывая насколько взбудоражен его аппетит, — приятно думать о том, как я тебя сожру.
Её руки даже не вздрагивают — она навещает этого демона уже не первый раз, и это не первый раз, когда он намекает, что не против утолить свой голод её сущностью. Это уже даже не страшно.
— Ну, раз мы заговорили о еде, — смеется она и достает из холщовой сумки лепешку, — попробуй не откусить мне пальцы, ладно?
— Сложная задачка, — бурчит демон, но вполне спокойно открывает рот. Хлеб, которым кормят демонов — пресный, это сделано специально, чтобы не перевозбуждать их вкуса, не вызывать излишних терзаний о лишениях. Тем не менее, сущность демонов нужно подкреплять, иначе они попросту могут не выдержать своих кар и угаснуть, а угасание бессмертных душ, какими бы грешными они не были — великое горе на небесах.
Девушка кормит демона, отламывая от лепешки маленькие кусочки, и он принимает их, мысленно сравнивая себя с голодным, раскрывающим клюв птенцом, и улыбается.
— Спасибо, — произносит он, когда сестра милосердия, докормив ему лепешку, аккуратно стирает пальцами с его губ крошки, еще раз промокает их полотенцем.
— Пить будешь?
— Да, — отзывается демон, просто и без добавления колкостей. Девушка подносит к его рту кувшинчик с водой, и он приникает к нему с такой жадностью, что ясно — жажда его мучила сильнее, чем голод. У кувшина очень узкое горло, его и делали специально, чтобы поить демонов, но, все же, пара струек все равно попадают мимо рта, стекают по его щекам на плечи. Девушка ловит их свободной ладонью — за полотенцем все равно не наклониться, на краткий миг касается кожи демона, и он еле заметно вздрагивает. Его кожа горячая, прохладным ладоням сестры милосердия она кажется и вовсе раскаленной. Девушка торопливо стирает воду с кожи демона, отнимает кувшин от его губ.
— Могла бы и подольше потрогать, — демон склоняет голову набок, разглядывая девушку, которая смущается — она всегда смущается в такие моменты — и прячет от него глаза, — и пониже тоже могла.
— До следующей среды, Генри, — девушка старается собираться неторопливо, чтобы её уход не выглядел побегом, однако справляется она с этим чрезвычайно плохо. Разумеется, по мнению демона, который в полной мере знает об испытываемых вблизи него эмоциях.
— До следующей среды, — демон провожает её взглядом до того момента, когда её фигурка не теряется за крестами, и только тогда позволяет себе договорить фразу, — Агата.
Он не скажет ей, что действительно не хочет, чтобы к нему приходил хоть кто-то другой, кроме неё. Не опишет, как его бесит, когда какая-нибудь другая сестра приближается к нему. Все они — все они бесконечно фальшивят и лгут, вместо положенного ему сочувствия сплошь как один молельщицы испытывают лишь презрение и страх перед его грехами. Смывают с его тела пот, а сами при этом будто бояться запачкаться, заразиться от него греховной жаждой. Может это устраивало других демонов, изнуренных настигшим их наказанием небес, но Генри был готов поголодать лишнюю неделю, обойтись без облегчения боли, что даровала вода, лишь бы не ощущать лишний раз ангельской фальши.
Она — она была другой. Много он о ней не знал, лишь то, что удалось выведать в краткие минуты разговора. Просто девушка, которая действительно пока еще сопереживала демонам, по своей воле перешла в Лазарет, работа в котором оплачивалась едва ли не хуже, чем работа в других подразделениях, Её пока не испортили, не внушили отвращение и страх, и демон с неудовольствием думал о моменте, когда это все таки случится.
Когда в букете запахов и её эмоций он почует приторные нотки фальши.
Первая встреча (1)
Агата Виндроуз особенной себя не считала. Обычная рядовая душа на попечении Чистилища, не добившаяся особых успехов на поприще учета человеческих грехов, сбора душ (очень малоэффективно отбивалась от демона, который хотел оттяпать кусочек от души умершего). Чистилище было многообразно, принести здесь пользу можно было многими методами, но после провала в качестве серафима-стража Горящих Полей Агата решила попробовать себя в качестве сестры милосердия.
В Лазарете Отравленных Душ всегда не хватало рук. На них было поддержание духовной оболочки приговоренных к распятию демонов, на них было исцеление раненых в сражении с демонами архангелами, на них было восстановление пораженных ядом демонов душ, слишком много работы и не так уж много работников — местные коэффициенты перерасчета кредитного долга былизи самыми низкими среди централизованных организаций. Вроде как считалось, что не так уж сложно посещать распятых демонов, отмаливать отравленные души, исцелять святым словом ангелов.
Считалось так, на деле текучка именно в Лазарете была сильнее прочих. С отравленными сложно иметь дело — уж больно они агрессивны, непросто изо дня в день делать нудную, скучную работу, которая в результате еще и на кредитном счете отражалась неважно.
Впрочем, Агату все устраивало. Джон, разумеется бурчал, что они стали реже видеться, всячески зазывал Агату обратно в стражу, но ей туда больше не хотелось. Как оказалось, стоять лицом к чужой боли для нее практически невыносимо.
Серафим, что ведет наблюдение за Горящим Полем, должен быть хладнокровен, ведь именно ему в случае чего ловить амнистированного демона, удерживать его в Чистилище, не пустив в человеческий мир, заниматься его сопровождением в судебный корпус, в котором триумвират архангелов-судей изучит его дело и решит вопрос судьбы помилованного. У Агаты с хладнокровием было не очень, а после первых же двух смен, в ходе которых приходилось летать над полем и слушать регулярные крики распятых демонов, — оно и вовсе закончилось.
В итоге, крыло — одно из двух тяжелых крыльев, на весе которых нужно было сосредоточиться во время полета, — свело прямо над Холмом Исчадий, и Агата рухнула вниз. Душе — бессмертной душе из Чистилища в мире смертных сложно нанести какие-нибудь повреждения, но в Чистилище — легче легкого. Лечатся все физические травмы легко и быстро, но от боли никуда не спрячешься.
Агата упала неудачно — прямиком на крест с демоном, обрушив его на землю. Пришла в себя от того, что её сущность пылала. Как-то раз она уже переживала такое, когда дотронулась до крыла одного из триумвирата архангелов и едва не сожгла руку в яростной святости.
— Святоша, — тихо прохрипел кто-то из-под неё, — я чую, что ты очнулась, слезь с меня, будь добра.
Агата, слабо кряхтя, прислушалась к ощущениям, проверяя работоспособность конечностей, поняла, что валяется в неудобном положении, спина, оказавшаяся на крестовине, являлась основным источником боли, голова и ноги свесились к земле. Крыло, попавшее под спину, смягчившее её падение и разделившее кожу Агаты и святой крест, на который она упала, было сломано в трех местах, да еще и обуглилось практически целиком от безжалостной праведности святыни, и не было хуже в мире этой жгучей пульсирующей боли. Она лежала на кресте наискось, и это спасало, попади голова на основу креста — вряд ли бы она пришла в себя.
— Я ни на что не намекаю, но святая земля жжет меня не слабей креста, — слабо произнес голос того, кто был под Агатой, — и валяться между двумя калеными наковальнями не входит в комплект карательных мер, которые должны быть болезненны до грани сознательного. Я вот-вот отрублюсь.
Агата сжала зубы, готовясь к тому, что тоже окажется в состоянии обморока, и, рванувшись, скатилась с креста.
Демон действительно был прижат тяжеленным крестом к земле. Из-под огромного креста от висельника была видна только одна заломившаяся ладонь — и он не лгал, кожа на пальцах, соприкасающаяся с поверхностью земли, уже была обожжена до волдырей.
Агата, поджав здоровое крыло, чтобы не задеть окружавшие их кресты, коснулась края перекладины и зашипела от боли. Взглянула на дрожащие от боли пальцы распятого, втянула в себя побольше сухого горячего воздуха, прикусила губу и толкнула перекладину вверх — над головой.
Крест перевернулся вокруг крестовины и обрушился на землю. Демон, больше не соприкасавшийся со святой землёй, пережил удар креста об землю, взвыв, — спина сильнее приложилась к «телу креста», для него это был практически удар об раскаленную сковороду. Но болевого шока ни у него, ни у обожженной Агаты не случилось. Хотя Агата, глядя на свои багровые пальцы, с которых от жара начала слезать кожа, испытывала настойчивое желание упасть в обморок, а не подвывать, прижимая к себе искалеченные руки.
— Спасибо, — раздался хриплый голос, и, скуля от боли, Агата взглянула на распятого. Демон смотрел на неё устало, прикрыв веки, и его длинные волосы разметались вокруг его головы будто лучи солнца.
— Целую вечность не видел серафимов, — выдохнул демон, — откуда ты, святоша?
Он был обнажен до пояса, хотя любоваться было нечем — он и при жизни явно был худоват, хотя и жилист, а сейчас и вовсе — истощен настолько, что кожу на груди казалось можно проткнуть пальцем. Особенно тонкой казалась кожа там, где её коснулись чернила клейма приговора. Агата аж ахнула, увидев тройную звезду.
— Ага, я очень плохо себя вел, — измученно ухмыльнулся распятый, — страшно?
— Я не имею права осуждать тебя, — у Агаты кружилась голова. Хотелось бы опереться на что-то спиной, но здесь все, на что можно было облокотиться, — раскаленные кресты.
— Ляг, — посоветовал демон, — тебя земля жечь не будет. Вытяни обожженое крыло по земле, она охладит, а здоровое прижми к телу, чтобы не задело ничего святого.
— Ты помогаешь мне? — и тем не менее, спрашивая это, Агата уже ложилась.
— Мне тебя жаль, святоша, — демон шевельнулся, пытаясь пожать плечами, и на пару секунд соприкоснувшись отведенным плечом с крестом, ловил ртом воздух, сбитый с темы разговора, — мой крест — мое наказание, ты его не заслуживаешь, это точно.
Между ними было шага два. И несмотря на то, что тело демона, не унимаясь, содрогалось, вздрагивало, сам демон неотрывно смотрел на неё. И это было жутко. Агата помнила, кто в её смертном мире, при первом же знакомстве смотрел на неё таким взглядом, в котором ей много позже мерещился жестокий голод.
Агата попыталась отвернуться и, потревожив раненое крыло, не удержала на губах возглас боли.
— Я настолько неприятен тебе, — в голосе демона вдруг зазвучало явственное огорчение.
— Ты так смотришь… — замялась Агата, не зная, как ей объяснить..
— Мне жаль, правда, — спешно выдохнул он, — просто свежее лицо, и от тебя так светит, что невозможно не смотреть.
— Ты имеешь в виду?
— Ауру. Да. Я постараюсь… Сдерживаться.
Агата чувствовала себя если не преступницей, то попросту мерзкой — сначала сама не удержала сосредоточения на полете, доставила распятому куда больше страданий, чем ему полагалось по приговору. Теперь же попросту искала к чему придраться в поведении человека, который тут наверняка от одиночества и боли мог тронуться рассудком. Дались ей его взгляды, смотрит и смотрит.
— Хэй, — тихо окликнул её демон, вырывая её из полудремы, — ты живая?
Агата раскрыла глаза. Лицо демона было все так же повернуто к ней.
— Мне нужно поспать. Усталая я далеко не уйду.
— Святоша, ты в принципе далеко не уйдешь, — возразил демон, — ты сейчас на территории казни исчадий ада, а она максимально удалена от границ Горящих Земель. Практически в центре. Здесь жарче и светлей всего. Взлететь ты не сможешь, дойти… не дойдешь — не выдержишь света, жара и боли от собственных увечий. Упадешь и отрубишься.
— Что предлагаешь?
— Тебя найдут через метку, просто посиди тут.
Он говорил верные вещи — хотя говорил с явной оттяжкой звуков, будто говорил через боль, и по всей видимости, так оно и было — его тело постоянно напрягалось, будто живая пружина, которая стремится оторваться от куска металла, к которому её приковали. Метки — маленькие черные значки, буквы разных алфавитов покрывали запястья каждой души. Их редко было очень много, их использовали для того, чтобы связываться с друзьями или руководством, но все же позвать на помощь Джона или Артура Агата вполне могла.
— Ты можешь просто дать мне поспать? — спросила Агата, коснувшись знака омега на запястье, послав просьбу о помощи Джону, который сейчас был где-то на другом конце этого измерения.
— Не могу, — он пытался говорить ехидно, но ехидство смазывалось болезненными нотками. — Сестры, которые ко мне ходят, не говорят со мной — боятся, до дрожи в коленках, да и вообще у меня слишком дерьмовый характер, чтобы я терпел их лицемерную жалость. Можно сказать, ты — мой первый собеседник лет за пять. И ты исчезнешь через пару часов, а я тут опять буду лишь в обществе собственных воплей, которые мне уже не надо будет сдерживать.
— Демон, который соскучился?
— Ну, можно так сказать, — тяжело дыша, отозвался демон. По его лбу катились капли пота. — Ох, — тело распятого явственно скрутило судорогой. И если бы не стальные хваты, не дававшие ему оторвать бедер от раскалённого креста, — то ему бы, наверное, полегчало.
— И долго ты так? — слабо спросила Агата.
— Сложно сказать, — мелко подрагивая, отозвался он, — если я не потерялся в счете посещений, с той поры минуло сорок одна сотня сред, а это где-то лет восемьдесят.
— Восемьдесят лет? — Агата передернулась. — Что же ты сделал?
Демон уставился на неё. Прямым взглядом глаза в глаза.
— Я не хочу об этом, — ровно произнес он, — это слишком долгий разговор, в финале которого тебя будет бесконечно тошнить от отвращения.
На самом деле он не походил на чудовище. О нет. О демонической природе говорили только витые, высокие черные рога, покоившиеся над ушами. Ему шли его длинные темно-рыжие волосы, чертовски длинные, густым водопадом спускавшиеся аж за поясницу — оттеняли широкие скулы, придавая его лицу чуть вытянутую форму. Широкие губы тоже пребывали в движении, то плотно сжимаясь, то чуть обнажая зубы, которыми распятый кусал губы в исступленной муке. Она любила такие необычные лица, далекие от античного золотого сечения — пусть нос был чуть длинноват, но было в общей совокупности его черт нечто бесконечно завораживающее. И если бы он улыбнулся — если бы он мог сейчас улыбаться, искренне, открыто, без толики ехидства, без сквозящей боли, кажется, перед этой улыбкой вряд ли возможно было бы устоять.
— А о чем хочешь поговорить? — чуть задумавшись о том, как перенесла бы лицо демона на бумагу, спросила Агата.
— Это не важно на самом деле, — практически весело отозвался демон, — расскажи о себе, я послушаю.
— Ты хочешь от меня чего-то?
— О, а ты можешь что-то? — с насмешливым любопытством поинтересовался висельник. — Серьезно, по-моему, всем известно, что судьба исчадий заканчивается, когда их приковывают к кресту. На нас больше нет протоколов, а-а-аргх.
Демон подавился на полуслове, судорожно выгибаясь и прикусывая губу.
— Ты можешь не терпеть, — тихо сказала Агата. Сдерживать боль было сложно, уж она-то знала…
— Ну знаешь, я тогда вообще тебя не услышу, — бледновато улыбнулся демон, — и потом, ты даже не представляешь, насколько я устал слышать свой голос.
Он говорил, а Агата содрогалась. Потому что перед глазами явственно вставали часы криков, часы боли, то утихающей, то вновь внезапно усиливающейся. И все это умноженное на годы. На десятки лет.
— Как ты жив еще!
Демон вновь повернул голову к Агате, уставившись на неё темными глазами.
— С трудом, — неожиданно серьезно отозвался он, — но давай об этом тоже не будем.
Агата села. Ей было неловко искать облегчения от боли, в то время как ему легче сделать она не могла.
— Потеряешь сознание, — предупредил демон.
— Откуда знаешь?
— Помню свой болевой порог до ада, — демон повел плечом, насколько ему позволяли оковы, — тогда очень мало мог вынести, без чертовой смертной оболочки. Сейчас больше. И лучше бы я мог сдохнуть, правда.
— Как тебя зовут? — спросила Агата, и распятый уставился на неё так, будто она сделала ему непристойное предложение.
— Тебе и правда интересно мое имя? — удивленно переспросил он. Похоже, с ангелами у него действительно не ладилось.
Агата качнула подбородком.
— А сама мне свое скажешь? — уточнил он.
— Зачем тебе? — Агата смущенно потупилась. — Я же вряд ли вернусь.
— А тебе зачем?
— Я буду о тебе молиться, — Агата слегка покраснела, даже постоянные обитатели чистилища к её религиозности относились с насмешками, как же может отнестись к этому демон, сосланный в Горящие Земли?
Однако он замолчал, уставившись на неё так, будто хотел врезать её в память целиком, до самой последней родинки на щеке.
— Я хочу тебя вспоминать, — наконец ответил он, — и не как простое равнодушное лицо, я хочу помнить имя ангела, которая испытала ко мне сочувствие.
— Это тебе не облегчит мук…
— Отнюдь, — возразил демон, — память о прошлом имеет большое значение. Я и мои грехи росли из моего прошлого. Если в моем прошлом будет хоть кто-то светлый… Как ты. Возможно тогда я смогу поверить, что когда-нибудь смогу искупить.
— Агата, — тихо произнесла она — эта его речь пробрала до последнего фибра души.
— Генрих… Генри, — демон явно не оговорился, нарочно сделал поправку на то, какую форму имени предпочел бы слышать.
Первая встреча (2)
Джон спустился с небес неожиданно, Агата даже не услышала мерные взмахи его крыльев, а когда заметила — даже слегка смутилась, будто её застали на месте преступления.
Джон Миллер был её другом — они дружили практически с первого дня Агаты в Чистилище. Именно он когда-то доставил её душу в Чистилище, провел для неё первичный инструктаж и впервые напоил кофе после первого рабочего дня. Агата до сих пор помнила, как её потряхивало после тех нескольких часов, которые она провела в качестве ассистента собирателя душ: суетливых, шумных, полных новых незнакомых людей. У неё кругом шла голова — даже с учетом того, что в своей жизни она не была необщительной барышней, ей впервые довелось столкнуться со стольким количеством людей — и каких людей. В Чистилище было абсолютно нормально столкнуться с суфражисткой, времен первых забастовок за права женщин, и рыцарем раннего средневековья, который когда-то не считал простолюдинов достойными людьми. От переизбытка впечатлений и эмоций Агате тогда хотелось забиться в какой-нибудь уголочек, обнять голову руками и не высовываться вовек, и вот тогда-то Джон и прихватил её за локоток, утащил из общей столовой в общежитие и, усадив в полосатое плюшевое кресло, впихнул в ладони белую чашку с горячим кофе. Он сказал тогда, что она была похожа на потерянную плюшевую игрушку. Особенно лестным это сравнение не было, игрушкой Агате быть совершенно не хотелось, пришлось справляться с собственными привычками. Позже Агата узнала, что Джон сделал для неё внезапное исключение, несмотря на свой открытый и легкий характер, он не особенно стремился завести кучу друзей, обычно ограничиваясь легкими и теплыми приятельскими отношениями. Видимо, Агата попала в Чистилище именно тогда, когда Джон решил внести в свой образ жизни некоторые коррективы. Впоследствии дружба Джона и Агаты окрепла настолько, что некоторые сплетницы вовсю спрашивали у Агаты «каков он в постели», неизменно вгоняя её в краску. Джон всякий раз смеялся над этими случаями и неизменно уводил разговор в сторону новых книг, которые ему довелось скопировать с земных, или какого-нибудь очередного помилованного, которого он привел с Горящих Полей. Они не говорили о прошлом, о том, что легло на их плечи после окончания смертной жизни, стремясь не нарушать покой друг друга, не оценивать по прошлым, оставленным позади грехам. И это не тревожило ни Агату, ни Джона. Он вообще отличался практически непрошибаемым спокойствием, будто и вовсе ничего не чувствовал по поводу творящегося в Чистилище хаоса. Все он принимал исключительно как посылы судьбы, испытывающие его на прочность, и неизменно выдерживал все удары стоически. Агата не могла на него не равняться.
Вот и тогда, в день знакомства Агаты и Генри, на его лице не было ни капли раздражения, что его вытянули на другой край измерения, в область которой было труднее всего находиться.
— Друг мой, не шевелись, — произнес он негромко, касаясь её крыла. Он умел исцелять прикосновением рук, многие в Чистилище умели. Боль исчезала постепенно, вслед за тем, как от пальцев Джона все глубже в крыло Агаты пробирались щекотливые импульсы тепла. Генри на кресте насмешливо хмыкнул, но комментария не отпустил. Джон бросил в его сторону косой взгляд.
— Спасибо, — когда Джон опустил руки, Агата смогла наконец выпрямить оба крыла, а затем и заставить их исчезнуть.
— Ерунда, — хмыкнул Джон и, размяв пальцы, шагнул к упавшему кресту.
— Здравствуй, Хартман, — суховато произнес Джон, обращаясь к демону, — ты сегодня помалкиваешь? Сильно землей прижгло?
— Спасибо за пожелание, Джонни, — демон слегка улыбнулся, — в моих условиях лишнее здравствие не повредит. А что, ты склонен пообщаться? Неожиданно.
В его голосе не было враждебности, подхалимских ноток, он просто говорил, слегка с насмешкой как со старым знакомцем. Они с Джоном явно сталкивались раньше, и совместного прошлого у них было более чем достаточно.
Джон глянул в глаза демона сверху вниз. Ни толики презрения не было в выражении его лица, даже некоторая печаль. Он часто так смотрел на грешников, которые никак не могли взять себя в руки. Джон наклонился, подхватил вершину креста и легко, даже не поморщившись от боли, вновь установил крест. Земля чуть дрогнула, расступаясь под «ногой» крестовины. Джон свел вместе обожженые ладони, прикрыл глаза — его руки окутало слабое сияние, и ожоги истаяли на его руках, будто торопясь зажить поскорее.
— Пойдем, друг мой, ты должна отдохнуть, — Джон настойчиво сжал ладонь Агаты.
Он увел её прочь, она даже толком не попрощалась с демоном, с которым её столкнули Небеса, лишь обернувшись, махнула Генри ладонью. Он проводил её взглядом, тяжелым, горьким, насмешливым взглядом, запрокинув голову и оперевшись затылком на крест. И что-то было безумно болезненное в том, что она уходила, а он оставался тут.
Следующим утром она уже не смогла подняться в небо над Горящим Полем. Зато зачем-то заявилась в Лазарет и попросила допустить её до работы с демонами.
Никто не препятствовал, демонов было много, сестер милосердия было не очень много, а временами встречались персонажи вроде Генри, которые уже довели до белого каления даже примерных работниц, которые прибегали на исповедь после каждой встречи с наглыми демонами. Было сложно работать здесь — по крайней мере так говорили, немногим удавалось спокойно терпеть язвительность исчадий ада и при этом пытаться испытывать к ним сочувствие. Впрочем, Агата вполне справлялась. Она вообще предполагала, что терпение есть величайшая добродетель.
Когда она впервые вызвалась навестить Генри — он же «распятый 226643, с Холма Исчадий», — на неё посмотрели как на дуру. Предупредили, что характер у демона паршивый, он любит издеваться над ангелами, играя на том, что ощущает их подавленные желания. Рассказали и что в подобных случаях дозволяется посещать распятого реже, чем раз в неделю, чтобы не вводить души в искушение.
Но Агата пожала плечами и сказала, что не боится. Что может демон сказать об обуревающих её страстях, чего она сама не знает? И пошла. Надела голубое платье сестры милосердия, белый, скрипящий чистотой передник, собрала свои непослушные кудряшки в хвост и, взяв сумку с водой, полотенцами и хлебом, пошла.
Когда Генри тогда её увидел — у него, кажется, пропал дар речи.
— Я думала, ты более разговорчив, — улыбаясь, сказала тогда Агата, а он еще пару мгновений просто смотрел на неё, силясь издать хоть звук.
— Почему перешла? — спросил он, когда наконец справился с вихрем эмоций.
— Подумала, что тебя должен хоть кто-то кормить, — Агата пожала плечами, — раз уж ты умудрился не понравиться всем сестрам милосердия сразу.
— В Лазарете быстро не отработаешь, — заметил демон, пока Агата смачивала полотенце.
— Я вроде бы никуда не тороплюсь, — отозвалась Агата, и это была правда. Глупая, наивная Агата Виндроуз всерьез не могла наступать на горло своим эмоциям. Ей было сложно видеть смерти людей, ей было сложно причинять вред демонам, даже защищая людские души, и ей было просто невыносимо наблюдать муки распятых демонов. А вот поддержка измученных обитателей полей — эта работа, пока что, имела хоть какой-то смысл. Все же должны быть равны перед небесами, да? И пусть Генри хоть тысячу раз демон, но в первую очередь он — живая душа, которую нельзя лишать того милосердия, которого для него хотел сам Создатель. Она выдержит. Все что угодно.
Так думала Агата, но сегодня, после слишком откровенного намека демона, она впервые испытала неприятную слабость и желание отказаться от этой работы. Подумать только, бедная Рит, ей-то довелось слушать о том, какие непотребства демон бы с ней проделал — и он-таки не остановился на одном намеке, нет, он рассказывал подробно, обстоятельно — Рит во время исповеди рыдала так, будто он её раздел и вывел голой в людное место. Тогда, обнимая и успокаивая подругу, Агата думала, что она преувеличивает, что это можно было стерпеть, но сейчас…
Что если Генри вздумается проделать подобное и с Агатой. Как ей выполнять свои обязанности, если у неё будут трястись руки, за спиной будут кашлять страхи, а сама она, разумеется, будет чувствовать себя будто котлета во время жарки.
Из размышлений Агату выводит Джон, осторожно щелкает перед её носом пальцами, и Агате приходится отложить все эти переживания на потом.
— Устала? — мягко спрашивает он. — Ты же сегодня была у Исчадий, да?
— Ага, — отзывается Агата, изучая лицо друга. Он выглядит бодрым — этот светловолосый серафим, с удивительно красивыми, тонкими губами. Агата изрисовала этой формой губ уже не один лист — одними лишь губами, в разных вариациях положения рта, да и в принципе — она регулярно любуется губами Джона, наверное, именно поэтому столь многие убеждены, что она в него влюблена. Но нет, ни в коем случае. Агата не хочет даже думать о подобных вещах. Красивые черты можно найти у каждого человека, не считать же, что Агата влюблена во всех людей, это слишком ветрено!
— Чувствую, Хартман снова взялся за старое, — вздыхает Джон и, прихватывая Агату за локоток, тянет её в столовую. Здесь можно съесть все, что приготовили из амброзии великие эйды, здесь можно наконец расслабиться после тяжелого дня.
Амброзия — то, чем делятся с чистилищем щедрые эйды, пища для бессмертных душ, которой придают вид обычных блюд, которые готовят люди. Как и демонам, всякой бессмертной душе нужно питаться, иначе ослабевшая душа становится слишком чувствительной к искушениям. Так или иначе, без пищи бессмертные долго с праведным образом жизни не протянут.
Эйды — высшие сущности, бессмертные души, познавшие очищение от страхов, греховных помыслов, всего, что свойственно смертным. Они снабжают чистилище всем — едой, одеждой, бытовыми мелочами. Они облекают мысль в форму, для них не существует никаких пределов, они делают только то, что желают, но желают они почему-то помогать заблудшим грешникам, называя их всего лишь детьми. Им незнакомы страх, боль и огорчение, им совершенно никаким образом нельзя навредить. Стать эйдой, чистой душой, мечтают очень многие, таковых даже больше, чем желающих переродиться.
Джон сажает Агату за стол, приносит чай и какие-то пирожные. Плевать, как оно выглядит, это все равно амброзия, которой придали другую форму, привычную для вечно-торопящихся грешников, чтобы они хоть в чем-то ощущали неизменность, хоть в чем-то могли быть уверены. И у амброзии всегда тот вкус, которого ты хочешь, например, сейчас на языке у Агаты нежный фисташковый крем и хрустящее воздушное тесто.
— Ну рассказывай, — улыбается Джон, и Агата внезапно рассказывает, потому что держать в себе становится уже совершенно нереально. Невыносимо молчать об уже четвертом намеке Генри на то, что Джон питает к ней, Агате, некое желание, о провокационных намеках Генри в свою сторону, и вообще невозможно при этом всем не захлебываться в эмоциях, в совершенной панике, потому что Агата совершенно не искушена в чувственных вопросах, её человеческий опыт вспоминать совершенно не хочется — он слишком омерзителен, а в Чистилище она занималась чем угодно, но не романтической самореализацией.
Джон некоторое время молчит, затем вздыхает, находит на столешнице ладонь Агаты и осторожно её сжимает.
— У Хартмана тяжелый характер, милая, — произносит он, — но мне кажется, что нет такого испытания, что ты бы не вынесла.
— Ну, я многое не вынесла, — Агата смеется, стискивая его пальцы, пытаясь удержаться за них, как за якорь спокойствия.
— Поиск своего места это не проваленные испытания, — качает головой Джон, — но сейчас ты сделала осознанный выбор, насколько я знаю — ты довольна своей работой, и разумеется, небеса хотят проверить тебя — выдержишь ли ты тот груз, за который берешься.
Тяжелый вздох слетает с губ Агаты. Да, она должна выдержать. Пусть демон и задевает её за больное, заставляет её страхи вновь шевелиться в груди — она справится, потому что только в Лазарете она ощущает то незыблемое спокойствие, что светится сейчас на лице Джона. Он не раз рассказывал ей о том, почему ему нравится быть стражем, и делал это настолько вдохновенно, что Агата и сама рискнула попробовать себя в этом. Пусть у неё не получилось, но её друг очень упоен своей деятельностью. Его работа — его стержень, что удерживает его от греха. И ей стоит взять с него пример.
Они с Джоном допивают чай, съедают пирожные, болтая о ерунде, доходят до общежития Агаты. Лишь там, у высокого белого здания, блестящего в небесах стеклами, когда приходит время прощаться, Джон сжимает руку Агаты и, заглядывая в её лицо, тихонько спрашивает:
— А если ты узнаешь, что Хартман прав насчет меня, что ты скажешь?
Освобождение (1)
— Ты настолько рано, что я аж подумал, что тебя заинтересовало мое предложение, — на лице Генри настолько нахальная улыбка, что невольно хочется кинуть в него полотенцем. Однако, он не виноват в том, что её сюда принесли ноги, раз принесли — значит, она вполне может вытерпеть его комментарии.
Агата садится напротив креста, обнимает колени руками. Она чувствует себя растерянной. Джон разумеется не потребовал от неё ответа «прямо сейчас», но именно в ту секунду она ощущала себя лишь только оглушенной, и глаза сами по себе порывались пустить несколько расстроенных слез.
— Что, Миллер наконец-то рассказал тебе, что мечтает снять с себя штаны и поиметь тебя? — с любопытством спрашивает Генри, и Агата лишний раз замечает, насколько же у него живое, открытое лицо. Нет, такой может задеревенеть, напустить на себя холодность, но она будет ему как чужая, как будто фарфоровая маска.
Агата выдыхает, бросая на демона красноречивый взгляд, замечает, как он прикусывает губу, и ощущает себя виноватой. Она тут со своей ерундой, а он по-прежнему распят и по-прежнему приговорен к неунимающейся боли.
— Извини, я, наверное, мешаю, да?
— О, мешай, пожалуйста, на здоровье, — выдыхает Генри, чуть содрогаясь, — хоть какое-то развлечение.
Агата снова утыкается подбородком в колени. По идее, с этими всеми переживаниями ей нужно идти в исповедальню — сестры помогут, а если не помогут, то хотя бы выслушают, скажут что-то в поддержку. Но не хочется идти туда, кажется, сегодня там дежурит сплетница Селин, которая вроде бы и не болтает о том, что выслушивает, но все равно её в этом подозреваешь. Почему ноги принесли Агату сюда — к язвительному нечестивцу, она особо не понимает. Но раз уж она тут, она тут и останется. Столько, сколько выдержит, конечно. В конце концов, не зря посещения этого слоя ограничивают всего по две смены в неделю. Местное солнце выжигает до пепла все, что в тебе желает греха. Говорят, некоторых работников, которые никак не откажутся от пристрастия к грехам, водят сюда в качестве профилактики греховной жажды.
— Джон мне друг, — недовольно произносит она, — неужели настолько принципиально все довести до постели?
— Да брось, подумаешь, дружеский перепих, — ухмыляется демон, — это настолько несерьезно, что можешь переспать с ним и забыть.
— Нет, — Агата категорично качает головой, игнорируя его насмешливый тон, — нереально такое забыть, нереально отнестись к такому, будто он зайдет ко мне «чая попить».
— Знаешь, что забавно, — Генри отбрасывает с плеча косу за спину, — ты хочешь, чтоб я тебе сейчас рассказал, что ты чувствуешь, так?
— Да кто меня знает, чего я хочу, — Агата пожала плечами, — я и так знаю, что я чувствую. Недоумение. Недовольство. И вообще не понимаю, что он во мне нашел. Между прочим, красивый парень, не одна девчонка по нему сохнет.
— О, погоди, погоди, — демон вдруг преисполняется подозрительным энтузиазмом. — Хочешь скажу, что он в тебе нашел?
Агата смотрит ему в глаза и понимает — он сейчас размажет её тонким слоем, одними только описаниями каких нибудь «удивительно чувственных губ, которые так и просят поцелуев», если он чуть-чуть понизит тон и будет говорить с легким придыханием, то даже если он будет читать вслух академический справочник, будет казаться, что говорит он о чем-то бесконечно развратном. И после этого она не просто сбежит — она попросту расплавится от неловкости. Возвращаться после этого будет еще сложнее.
— Нет, спасибо, я уже представила, — бурчит она, и губы Генри разъезжаются в довольной улыбке.
— Я тебе потом тогда расскажу, — то ли обещающим, то ли угрожающим тоном заявляет он.
— Ага, уже напугал, правда, — кивает Агата и достает из сумки кувшин с водой. У неё есть возможность унять его боль, и она ею воспользуется. Вообще, сразу надо было выпоить ему воду, тогда даже в начале разговора ему было бы гораздо легче, да только каша в голове отвлекла.
— А тебе не влетит, что ты тут всяких ублюдков вне плана посещений поишь, — с, кажется, искренним беспокойством спрашивает Генри. Все-таки он действительно озабочен вопросом интенсивности её посещений.
— У тебя были пропуски, имеешь право на компенсацию, — Агата поднимает кувшин на уровень его губ, — ну так что, хочешь?
Разумеется он хочет. Он прикладывается к кувшину, как будто является иссохшим растением. Будь у него такая возможность — он бы в этот кувшин нырнул. В этот раз ни капли мимо он не упускает, хотя в любом случае Агата специально повесила на плечо полотенце, чтобы не дразнить его лишний раз.
— Господи, аж в глазах просветлело, — блаженно улыбается Генри, когда кувшинчик пустеет.
— Рада, что тебе легче, — Агата вновь возвращается на землю у подножия креста, затягивает шнурок на горловине сумки.
— Спасибо, — вдруг произносит демон неожиданно мягко, в его искренность очень легко поверить.
— Ерунда, это всего лишь то, что тебе полагалось ранее, — Агата разводит руками и снова задумывается. Почему-то именно здесь ей думается особенно продуктивно, наверное, это потому, что очень хотелось отрешиться от творящегося вокруг. Все-таки сложно представить, как она сможет отказаться от отношений с Джоном и при этом никак его не обидит. Наверняка на их дружбе это скажется. Агата панически боится остаться без друга — она не очень умеет сходиться с людьми, ей чертовски повезло, что Джон оказался настолько надежным, в Чистилище и тут, и там — случаи срывов, и первыми жертвами, потерявшими ключи от самоконтроля грешников, чаще всего становятся именно те, кто считался их друзьями. Может, все-таки стоит рискнуть? Довериться Джону, дать возможность их дружбе выйти на новый уровень отношений? В конце концов, уже столько народу считают их парочкой, почему бы и не попробовать?
Генри, который все это время изучающе смотрит на неё, вздыхает, обращая её внимание на себя.
— Он тебе не нравится, — ровно произносит он, отводя взгляд в сторону, — вот как хочешь, он тебе как мужчина не нравится совершенно. Почему так сложно об этом ему сказать?
— Это его ранит.
— Миллер — не мудак. Он поймет. Сколько вы там с ним знакомы?
— Семь лет.
— Он семь лет просто был с тобой рядом, и его это устраивало. Сегодняшнее признание это всего лишь попытка — может, удастся что-то изменить, но даже если нет — терять тебя он не захочет.
— С чего ты вообще взял это?
— Я бы не захотел, — все так же ровно отвечает демон, — ты — хороший друг. Такими не расшвыриваются.
Неведомо зачем Генри решил выступить в качестве советчика. Возможно, ощущал благодарность за воду, но в таком случае Агата ощущала себя не очень приятно, будто она выменяла у него все эти слова, даже не выменяла — вырвала.
— Я сам сказал вообще-то, — бурчит Генри, по-прежнему избегая её взгляда, — и не из-за воды вовсе.
— Ладно, — неловко бормочет Агата, лишний раз напоминая себе, что с чувствами в присутствии исчадия ада надо как-то посдержанней. Он чует слишком многое. Практически читает мысли.
— Что делаешь? — удивленно интересуется Генри, замечая, что она изменила позу — встала перед его крестом на колени.
— Хочу помолиться о тебе, как и обещала, — Агата складывает вместе ладони, — помолчать можешь некоторое время?
— Попробую, — демон кивнул, глядя на Агату как на невиданное чудо света, — только это не обязательно, слышишь?
— Сама решу, молиться мне или нет, позволишь? — Агата одаривает его резким взглядом, Генри изображает на лице суеверный страх, но исключительно для того, чтобы прикрыть им растерянность, кажется, ничего подобного он не ожидал.
Агата понятия не имеет, что он натворил при жизни, как он грешил пока считался «на исправлении», просто сейчас ей конкретно кажется, что есть в его душе стремление к правильным вещам, не к греху. Даже его капризы были вызваны нежеланием чужой фальши, хотя с понятием «добродетель» ему еще предстоит знакомиться. Все же он не конченный ублюдок, в нем шевелится человеческое, и неплохо бы, если наказание для него стало хоть чуточку мягче. И если для этого понадобится произнести тысячу молитв — она, пожалуй, прочитает, лишь бы помогло. О молитве о прощении грехов Агата раньше лишь только слышала, точного текста она не знает, однако, искренне предполагает, что душевный порыв компенсирует ей огрехи в исполнении. И порыв действительно оказывается настолько сильный, что Агата шепчет и шепчет, фразу за фразой, слово за словом и никак не может остановиться. Её переполняет сочувствие к несчастному распятому, ей довелось лишь раз соприкоснуться с его крестом— и все её тело содрогалось при этом воспоминании, но он прикован к кресту уже не первый десяток лет, и, честно говоря, Агата хочет сделать хоть что-то, что помогло бы ему оказаться освобожденным от наказания, но все, что она может — это умолять небеса о милосердии, задыхаясь от собственной настойчивости, не замечая бегущих по щекам слез.
В голове гудит, когда она наконец находит в себе силы замолчать и открывает глаза. Генри смотрит на неё печальным взглядом и не говорит ни слова. Как бы то ни было — еще чуть чуть, и ей придется уйти, оставив его тут в одиночестве, предназначенным для одних лишь мучительных кар, но она может ему дать сейчас лишь только свою молитву.
Она взмахивает крыльями, поднимаясь над землей, и подается вперед, как можно ближе к нему, настолько близко, чтоб смочь коснуться его влажного от пота лба своими пересохшими губами. В эту секунду она не боится боли, что грозит ей, соприкоснись она с крестом хоть кончиком крыла. Она готова принять это наказание, это малая плата за возможность его приободрить.
— Держись, — шепчет она, ловя его опустошенный взгляд.
А затем его оковы размыкаются, и демон падает на землю.
Освобождение (2)
Первое что делает Агата — бросается к Генри. Как позже она понимает — это было необдуманно, освободившийся демон часто резко сталкивается со своим голодом, и ангелу в это время с ним рядом лучше не находиться, но тем не менее Агата сделала ровно то, что делать не рекомендовалось ни в коем случае. Демон упал с креста не очень удачно — вниз лицом, даже не успев сгруппироваться, и лежит на горячей земле, не шевелясь.
— Ты цел? — Агата хватается за его плечи, пытаясь его приподнять. Генри дергается, приподнимается на руках, садится на колени и хищно уставляется на Агату. Её сердце вдруг испуганно замирает, поневоле вспоминается, что за пять сред, что она сюда приходила, четыре раза он высказывал желание впиться в её сущность своими демоническими клыками.
Генри подается вперед с истинно дьявольской улыбкой на губах. Агата даже не вздрагивает — в конце концов, у неё нет возможности сбежать от исчадия ада. Так хоть все закончится быстро, глядишь, через несколько месяцев она и придет в себя в Лазарете. Когда губы демона вдруг накрывают её собственные, Агата, в уме уже представившая долгие дни в состоянии парализованной демоническим ядом и поврежденной души, ощущает, как звенит в ушах, заглушая даже слабые стоны распятых. Его губы были еще прохладными от выпитой им воды, и он нежно ласкал её губы языком, будто умоляя о взаимности. Агата сама не знает, почему размыкает губы, почему вдруг тянется ему навстречу, запоздало замечая, что под её пальцами его голые плечи, и она стискивает их так, что скорее всего впоследствии у Генри останутся синяки. Поцелуй торопливый, но даже его хватает, чтобы сердце выкрутилось в груди в морской узел. Всего пятнадцать мгновений, пятнадцать оглушительно-громких ударов сердца в груди, пять столкновений двух языков, от которых кровь не только нагревается, но и вскипает пузырьками. А потом Генри отстраняется, ухмыляясь.
— Честно говоря, хотел это сделать с первой встречи, — с покаянным видом сознающегося в убийстве тетушки подростка произносит он, заставляя Агату окончательно растеряться, а затем встает. В его движениях заметна неестественная грация. Агата и раньше замечала подобное у тех редких демонов, что покинули Поле, но у них выражено было меньше, чем у Генри. Он двигается быстрее, чем она, и скорее всего скорость реакции у него тоже повыше. Стоило ему сойти с креста, сделать пару свободных вдохов, как на глазах такая очевидная ранее, предельная истощенность вдруг исчезает. Хотя он по прежнему оставался узкоплечим, но у его тела вдруг появились рельефы, и теперь на них можно было засмотреться. Форма плеч особенно просилась на зарисовку, желательно немедленную. Агата никогда не придавала мужским мускулам какое-то большое значение, но именно сейчас, оглушенная поцелуем, сбитая с толку, запутавшаяся в собственных же чувствах, она понимает, что уже три минуты не может оторвать взгляда от его груди, от черной звезды в трех кольцах, что была нанесена над самым его сердцем. Смотрит, и хочет коснуться его кожи еще раз, провести пальцами по кольцам метки грешника, по тонкому шраму над ней — будто кто-то когда-то полоснул по его коже кинжалом, целясь в сердце, но промазал. От этих мыслей становится сложно дышать, ей с трудом удается оттеснить их на задний план.
Этот район патрулируют с меньшей интенсивностью — здесь никогда не было помилованных, но тем не менее два серафима неподалеку все-таки нашлись. Они приземляются с двух сторон: за спиной Генри и за спиной у Агаты, и стоит одному из них высоким встревоженным голосом потребовать поднять руки — Генри напрягается, будто взведенная пружина, готовая придти в движение, даже зрачки сужаются. И дураку ясно, что на него накатывает удушливая волна страха. Все амнистированные переживают её, после того как они вдруг снова получают освобождение от небесного гнева, да еще и доступ ко всему спектру демонических возможностей, всякий описывает свое самочувствие после того, как крест его отпустил фразой «я боялся, что меня вернут обратно». При том, что все знают о существовании протокола работы с амнистированными. Даже демоны. Спектр эмоций всегда приблизительно одинаков, каково же сейчас Генри, который в курсе, что исчадий ада еще не миловали никогда?
Агата порывисто обнимает его — обхватывает за плечи, шепчет прямо в ухо: «Не бойся».
Эти объятия не были интимными, лишь дружескими, с такой же теплотой Агата обнимала при встрече и Рит, и Джона. Он должен ощутить, что он не один, что есть рядом человек, который точно не хочет для него распятия.
— Попробую, — тихонько выдыхает Генри в ответ, прикрыв глаза, осторожно проведя рукой по её спине.
— Поднимите руки, — снова вскрикивает незнакомый Агате серафим-страж, и в голосе его прорезаются панические нотки. Ему не хочется сцепляться с исчадием ада — даже двое стражей могут и не отбиться, ему не хочется отвечать за ту безмозглую сестру милосердия, что зачем-то оказалась так близко к демону. Генри втягивает носом воздух, явно пытаясь успокоиться, и задирает руки к небу.
— Здравствуй, Рози, — весело сказал страж-серафим Найджел Честер, подходя к Агате со спины, — значит, сбежала от нас в Лазарет?
Агата, обернувшаяся к Найджелу, виновато улыбается. Он вообще для многих свойский парень, знает всех в своем подразделении и многих за его пределами, практически каждому своему знакомому присваивает отдельное прозвище, очень многие считают другом этого широкоплечего лохматого разгильдяя, который талантливее всех на свете умел опаздывать. Во владении святым словом Найджелу нет равных, ему даже рекомендовали работу в паладинах, но Найджелу не нравится человеческий мир. В нем, по его мнению, слишком много искушений.
— У меня не срослось…
— Ой не объясняй, — Найджел весело подмигивает, и у Агаты в груди шевелится подозрение, что он видел поцелуй, и даже молитву — щеки, разумеется, сразу же начинают пылать. Хотя вообще это исключено. Патрулирование ведется с такой высоты, где распятые видятся если и не как божьи коровки, то как майские жуки — точно, вызов на приземление поступает через знаки на запястье и уже после освобождения демона от оков, так что заметить он ничего не мог. Если не пролетал тут рядом, разумеется.
— Свяжете? — демон поднимает руку, оглядывая её — на запястье красуется грубая широкая темная полоса оставшаяся от оков.
— По регламенту ты должен идти сам, — Найджел натягивает на лицо суровую мину, но она слетает уже через несколько секунд. Он редко бывает серьезен.
Для того, чтобы выбраться вместе с демоном с полей распятий, обычно не уходит много времени. Во многом это происходило из-за того, что амнистированные сплошь и рядом освобождались по окраинам, там, где было рукой подать до ангельского кордона, на котором сдавали жетоны перехода. Делается это для предотвращения побегов, все-таки не так уж сложно неокованной ладонью поймать болтающийся на запястье сестры милосердия жетон.
Но сейчас… Как Генри некогда очень веско заметил, Холм Исчадий — огромный, покатый, находился в самом центре Горящих Полей. Агата редко тратит на путь от кордона до холма меньше двух часов, и это она преодолевает большую часть дистанции при помощи крыльев, не ног. Пешком же — а с демоном предполагается идти именно пешком — путь вполне мог занять всю ночь и даже некоторую часть утра.
И Агата в общем и целом была настроена выдержать дорогу, но…
Странная слабость наваливается на неё уже после третьего шага. Вот просто — мышцы слабеют, наливаются тяжестью все сильнее с каждой секундой. После десятого шага — в глазах мутнеет уже невыносимо, подкашиваются ноги. Однако упасть кульком на землю не получилось, Генри, идущий чуть впереди, вдруг резко разворачивается, одним прыжком преодолевает разделяющее их расстояние и перехватывает под колени и плечи. Агату первый раз (как в жизни смертной, так и после неё) подняли на руки. Она и так-то реагировала медленней, чем он, а сейчас, чтобы сконцентрироваться на его лице, приходится приложить какие-то совсем неадекватные усилия.
— Она не дойдет пешком, — спокойно говорит Генри, бесстрастно, лишь только констатируя факт.
— Может, я возьму мисс и долечу с ней до кордона? — неуверенно предлагает спутник Найджела.
— Сопровождающих должно быть двое, по регламенту, — возражает тот, — в его случае вообще бы лучше четверых, но нету у нас четверых сейчас стражей близко.
— Я донесу, не переживайте, — Генри неотрывно глядит прямо в глаза Агате, а та с каждой секундой заливается краской все сильнее. Это было слишком, она не желает сейчас быть слабой, и уж точно смертельно боится находиться так близко к нему — после всего-то того вихря суетных чувств, что он ей устроил. Но сил едва хватает, чтобы прямо держать голову, не то чтобы встать на ноги или даже высказать внятное возражение.
— Может, лучше я? — растерянно предлагает Найджел, а Генри ухмыляется.
— Кто первым поймал леди, тому её и обнимать, — с искренним весельем замечает он, — и потом… Я объективно сильнее, если я захочу сожрать девушку, я её сожру, нейтрализовав вас, а вы лишь потеряете мобильность, если будете её нести.
Он говорит веско и убедительно, но Найджел все равно не успокаивается на этом.
— Рози, ты-то что думаешь? — осторожно спрашивает он.
— Ничего, — выдыхает Агата, — я сейчас согласна на все, даже если меня сам сатана понесет.
— Как будто я ему позволю тебя у меня забрать, — шепчет ей Генри, едва слышно, но так, что вся кожа покрывается мурашками, и жар начинает разливаться уже по всему тело. Её слова сошли за согласие, хотя она уже о них жалеет, но по-прежнему не находит сил как для самостоятельного пути, так и для толкового возражения.
— Попробуй уснуть, — шепотом советует демон, и ей мерещится в его голосе сочувствие, — должно помочь, наверное.
Сначала Агата предполагает, что не сможет последовать его совету — ей кажется, что мысли, странные, несвязные мысли просто не дадут ей даже смежить век, но голова как будто сама опускается на его плечо, глаза закрываются, не желая рассматривать узоры черного клейма на его обнаженной груди, что оказывается вдруг так близко, и густой тяжелый сон накрывает Агату. Один раз она приходит в себя — во время краткого привала, в эту минуту она лежит — одной половиной тела на сухом песке Полей, другой — на коленях Генри. И он молчит, просто глядя в практически белое небо, но его горячие пальцы сжимают её ладонь, выписывают на ней таинственные узоры.
Агате не хочется шевелиться, вырывать руку из его хватки, а он никак не реагирует на её пробуждение, поэтому она закрывает глаза и забывается снова.
Освобождение (3)
В кабинете Артура Пейтона, главы Департамента ангелов-стражей, одуряюще пахнет ладаном. Судя по всему, в бессознательном состоянии сюда притаскивают много кого, не Агату первую, потому что тут же стоит кушетка, и даже пушистый плюшевый плед тут тоже имеется.
— Не дергайтесь, юная леди, — ровно замечает Артур Пейтон, человек, чье спокойствие было настолько незыблемым, что кажется, даже предсказанный кем-то когда-то апокалипсис Артур встретит все с той же непроницаемой миной, затем лишь вздохнет и посетует, что работы внезапно стало слишком много.
Говорит это Артур во многом потому, что, очнувшись, Агата тут же подскакивает, лихорадочно оглядывается и ощущает себя лютой бездельницей. Вообще, просыпаться в чужом кабинете — особенно в кабинете бывшего шефа, который работает практически круглосуточно и, кажется, совсем не берет выходных — всегда немного неловко.
— Простите, сэр, — пищит Агата, суетливо ловя сваливающийся с неё плед.
Мистер Пейтон откладывает в сторону ручку, которой только что заполнял какой-то очередной формуляр (ужасающий чистилищный бумагооборот угнетал даже прожженных земных бюрократов). Взгляд архангела (между прочим аж одного из триумвирата архангелов, которые вместе принимают решения о спорных ситуациях) тяжел настолько, что Агата под ним даже съеживается.
— Где Генри? — отважно, но полузадушенно вопрошает девушка, втягивая голову в плечи. Взгляд Артура обещает ей только разнос и, возможно, еще тележку неприятностей.
— В допросной, — мистер Пейтон складывает вместе ладони, кажется, становясь еще грозней, — юная леди, почему вы знаете его имя?
— Ну… — Агата заминается, понимая, что её ответ не только не объяснит «как так вышло», но и утроит ураганность угрожающих ей проблем, — в общем-то я знаю имена семи демонов из тех, кого посещаю вместе с сестрами милосердия.
— И со всеми вы общаетесь столь панибратски? — безжалостно уточняет Артур Пейтон.
В лицо Агаты бросается кровь. Панибратски! Возмутительно!
— При всем уважении, сэр, я всего лишь пытаюсь отвлечь демонов от их мук, — отчеканивает она, позабыв про всякий страх, — и только тех, кто этого хочет.
Большинство уже не хотят говорить, не помня самих себя в болевой агонии. Они хотят лишь выпить свою воду да бессильно уронить голову вниз, едва кувшин отнимется от губ.
— Вы понимаете, что вы натворили? — в тоне мистера Пейтона громыхает нешуточная угроза.
— А что я натворила, сэр? — вскидывает Агата, скрещивая руки на груди. — Помолилась за демона? Принесла ему лишний кувшин воды из тех девяносто четырех, что ему не донесли?
— Помолились? — растерянно переспрашивает её Артур, вдруг так резко меняясь в лице, что Агата сразу понимает — её попросту провели, создав у неё обманчивое ощущение, что мистер Пейтон уже в курсе произошедшего. Он не знал. Либо Генри ничего им не рассказал, либо ему не поверили.
Кажется, мысль о том, что за демонов можно помолиться, оглушает главу ангелов-стражей. Он некоторое время с потерянным лицом смотрит в одну точку, затем его лицо принимает вполне осмысленное недоверчивое выражение.
— Подробней расскажите, — требовательно произносит он, — о чем вы молились, что делали, что говорили?
— Я не помню, что конкретно говорила, — обиженно отзывается Агата, хотя и сама понимает, что ничего страшного её бывший начальник не сделал, всего лишь с максимальной эффективностью выяснил необходимую ему информацию.
— А не конкретно? — смягчаясь в тоне, явно «меняя гнев на милость» уточняет Артур. — Меня устроит общее описание.
— Я просто просила о смягчении небес к судьбе Генри, — Агата задумывается, припоминая, — он ведь совсем не безнадежен, жутко не переносит фальшь, но нам же и не полагается ничего подобного?
— Мисс Виндроуз, — Артур вдруг встает, огибает стол, опирается о столешницу, скрестив руки на груди, — Генрих Хартман — единственный меченый трижды окольцованной звездой, к которому впору было добавлять четвертое кольцо, но ради одного конченного дьявола решили дополнительный этап греховной деградации не заводить. Побоялись, что накликаем появление еще не одного такого… героя. За семьдесят шесть лет его распятия именно на Хартмана больше всего поступало жалоб от работников Лазарета, он не просто издевался над ними — он едва ли не стимулировал в них греховный голод, который с большим трудом удавалось купировать. Да он и болтлив настолько исключительно потому, что это самый сильный демон за всю историю Чистилища, которого даже небесные кары ослабляют не окончательно. Единственный, к слову, известный демон, которому удалось собрать столько энергии смертных душ, что он мог физически вредить и смертным людям. А вы говорите, что он совсем не безнадежен?
— Не безнадежен, — отважно возражает Агата, хотя сама немного опешила от всего перечисления возможностей и подвигов Генри. А ведь речь еще не зашла о том, что он конкретно творил, чтобы заслужить подобную дурную славу.
— Поразительно, — Артур качает головой, недоверчиво глядя на Агату, затем встряхивается и резко сменяет тему. — Как чувствуете себя, юная леди?
— Лучше, сэр, — Агата выпрямляется, разворачивая плечи, — видимо, я слишком долго пробыла под светом верхнего слоя.
— Может быть, да, — задумчиво произносит Артур, а затем шагает к двери из кабинета, поманив Агату за собой.
Она ожидает, что по пути ей снова станет дурно, однако нет, слабость отступает теперь уже вовсе. Даже более того — Агата чувствует себя такой отдохнувшей, будто она качественно выспалась, а не в бессознательном состоянии, истощенная светом верхнего слоя, была доставлена на слой, где располагался центр организации работы серафимов-стражей.
Допросная обнаруживается совсем рядом — буквально по соседству, Агата только и успевает, что кивнуть Сильви — секретарше Артура, а затем она заходит в открытую для нее дверь. Артур входит следом за ней, и с этого момента в небольшой, очень светлой из-за притаившейся под потолком в центре комнаты прозрачной чаши со святым огнем, поскольку в ней находится весь Триумвират архангелов — Орудий Небес — допросная становится своебразным «залом суда». Здесь будет принято окончательное решение о судьбе демона.
Генри сидит на стуле посреди комнатки. Его уже успели переодеть — видимо, не одну Агату смутил его полуобнаженный растрепанный вид и черная пентаграмма на сердце — в обычную форму, в которой ангелы-стражи являлись на службу — обычный, такой «офисный костюм», что бывалые земные менеджеры даже закатывали глаза от того, насколько на том и на этом свете совпадает дресс-код. Костюмчик сидит «как влитой», и наверное, было бы лучше — для самообладания Агаты, разумеется, если бы он был на пару размеров больше, возможно тогда Генри бы не выглядел сейчас настолько привлекательным. Но жилет удивительно элегантно облегал широкие плечи, брюки будто подчеркивали, что ноги у Генри действительно стройные и длинные, а закатанные рукава белой рубашки обнажали удивительно красивые запястья и кисти рук — практически непристойно обнажали, по мнению совершенно конкретного наблюдателя, но кто виноват, что красивая форма рук являлась фетишем какой-то там Агаты Виндроуз. И почему она раньше не замечала его запястья и эти длинные пальцы? Не один бы лист измарала карандашом, пытаясь запечатлеть идеальную форму мужских рук. Даже широкие шрамы от оков не в силах были испортить эту картину.
Генри успели даже расчесать, хотя если это было сделано с целью сделать его менее заметным — то миссия была провалена. Он не стал выглядеть скромнее, отнюдь — даже более броским, с этим своим высоким хвостом зачесанных волос цвета темной меди, на свету отливающих алым. На нем так и хотелось задержать взор, а затем отвести его и вернуться — снова и снова.
Генри ловит взгляд Агаты — растерянный, нужно сказать, взгляд — и улыбается. Нет, не насмешливо, не дразняще, не развязно — лишь только ободряюще, с легкой — очень легкой теплотой.
— Ну как наш помилованный, — Артур обращается с этим вопросом к Кхатону. Агата видела его редко, хоть он и руководил Лазаретом, он появлялся перед сестрами лишь только для возобновления запасов святой воды, а Агата и вовсе была в Лазарете чуть больше, чем месяц.
— Обычный демон, — пожимает плечами Кхатон. Вообще этот архангел производит впечатление, далекое от первой ассоциации при мысли о святой воде, а именно ей повелевает Кхатон. Темнокожий, высокий, широкоплечий, такой мускулистый, что, кажется, он может шутя остановить голыми руками несущегося на него разъяренного зубра, Генри на его фоне выглядит как угловатый подросток, хотя Агата догадывается, что демоническая сила от глаз ангелов попросту скрыта.
— Так и не узнаешь Хартмана с первого взгляда, — уточняющим тоном произносит Анджела Свон — самый безжалостный архангел в Триумвирате, воплощение молнии — святой воли Небес. Ее подчиненные, работники Департамента ангелов-хранителей выходят в мир смертных чаще всех прочих обитателей чистилища и чаще всех прочих сталкиваются с демонами.
— Вы меня уже замучили, — Генри вздыхает, потирая глаза, недовольно поглядывает на сосуд под потолком, — давайте вы быстренько решите, что я отправляюсь обратно на крест, и успокоитесь уже.
Архангелы безмолвно глядят на него, видимо, размышляя над сказанным, да и вообще над ситуацией.
— Как думаете, мисс Виндроуз, — вдруг произносит Артур, — может ли ваш приятель вернуться на крест?
Почему он это спрашивает именно у неё — не очень-то ясно, но он смотрит на неё пристально, явно ожидая её ответа. Агате так и хочется огрызнуться, что Генри — не её, и вряд ли его можно назвать приятелем, ей вообще после сегодняшнего вечера сложно классифицировать Генри однозначно. Нет-нет, да и проскакивают какие-то неадекватные мысли о том, что он вообще-то очень привлекателен… Но не стоит это рассказывать архангелам, поэтому Агата прикусывает язычок, а потом с минуту молчит, раздумывая.
— Я была бы очень разочарована таким исходом, сэр, — наконец отвечает она, глядя прямо в глаза мистеру Пейтону. Вообще, говорить с архангелами, да еще с такой уверенностью, чертовски сложно, всякий раз делая это, Агата нешуточно паникует, но она уже не первый год наступает на горло собственному страху, и она может сказать, что думает, вслух. Кому угодно. Ну кроме разве что Джона, если речь заходит о вопросе отношений.
— Хартман, святой крест тебя не примет, — глухо ворчит Кхатон, — Небеса тебя помиловали. Пусть нам и непонятно, как это произошло.
— Значит, найдете другой крест, — ровно отзывается Генри, — ну это же правда нонсенс, помилованное Исчадие? Помилованный я? Да на всем холме висельников нет большего грешника.
— Хартман, не пытайся повлиять на наше решение, — резко произносит Анджела, — демонстративное раскаяние твою шкуру точно не спасет.
— Никаких демонстративных раскаяний я не устраиваю, мисс Свон, — Генри скрещивает руки на груди, — просто я сомневаюсь, что вам нужны такие проблемы. Я бы лично их не захотел. Проверьте постфактум состояние моего счета, посмотрите там — были ли коэффициенты пересчета из-за фальши? Все письменные извинение впоследствии заносите по адресу: Горящие Поля, Холм Висельников, Крест Самого Болтливого Ублюдка.
Глаза мисс Свон мечут молнии — пока еще фигуральные, действительно, где же это видано, чтобы архангел приносил извинения перед демоном, да еще и перед таким дерзким, но дискуссию она не продолжает. Видимо, вспоминает о том, что гордыню тоже необходимо иногда смирять.
— Возвращать помилованных — спорить с волей Небес, — замечает Артур. В его позе напряжение, он будто сию секунду ждет, что Генри сорвется с места и бросится на кого-нибудь.
— А вообще, Хартман, ты преувеличиваешь степень своей опасности, — вдруг заявляет Кхатон, — на твой случай есть Орудия…
— Которых в бытность моего ареста было четверо, а сейчас трое… — возражает Генри.
— У нас есть ключ от ада, Хартман, — у Артура очень усталый голос, кажется, он уже пресытился этой дискуссией. — Твоя амнистия — вопрос решенный. На данный момент. Так что давай уже перейдем к конструктивному обсуждению — сможешь ли ты работать в Чистилище, хочешь ли ты это делать?
— Сложно представить, — Генри задумался, — я не знаю, как получится оказаться среди сотен душ, столько запахов…
— Слабые демоны справлялись, с помощью экзорцизмов и визитов на верхний слой, — Артур говорит деловито, будто читая служебную инструкцию.
— У них не такая чувствительность, — Генри морщится, будто жалея о собственной демонической силе, — но я думаю — выдержу
— Тебе будет определен испытательный срок, — сухо возвещает Артур, — с учетом твоего послужного списка — очень длинный испытательный срок.
Генри пожимает плечами и вообще выглядит вполне смиренно. Кажется, леди Анджелу это напрягает, она недоверчиво вглядывается в его лицо, будто пытаясь выглядеть в нем хоть искорку фальши. Но либо Генри отличный актер, либо он искренне расположен к работе. Впрочем, поначалу амнистированным всегда легко — так говорит Джон, хуже становится позже. В конце концов адаптироваться в Чистилище у демонов получалось плохо. Основная масса работников попросту побаивалась их, их возможностей, которые во много превышали возможности простых, необращенных грешников, их яда, который мог не только на некоторое время отправить душу чистилищного работника в Лазарет, но и надолго, очень надолго заразить его жаждой греха. Работали демоны исключительно в Штрафном отделе, который располагался тут же — на слое серафимов стражей. В принципе, тут к ним относились помягче — в конце концов, у серафимов этого слоя и за своими плечами были немалые грехи, да и страхов было меньше — клинок святого огня редко подводил в сражении с демоном.
В вуали ночи (1)
Когда Агате и Генри наконец удается покинуть Департамент Решений — с прохладного, темного небесного купола уже вовсю поблескивают искорки звезд.
— Нереально, — Генри шепчет это еле слышно, так что Агате еле удается разобрать это слово. Он смотрит на небо, замерев на первой же ступеньке высокой мраморной лестницы. До Агаты не сразу доходит, что он просто уже успел позабыть, что такое ночное небо, ведь над полями солнце никогда не заходит.
Они мешаются на проходе, серафимы, выходящие за ними, вынуждены огибать демона и его спутницу. Агата осторожно касается локтя Генри, и он сбрасывает с себя зачарованную задумчивость.
— Извини, — улыбается он, — мне просто до сих пор кажется, что все это — всего лишь мой сон, потому что я на кресте забылся.
— А бывало такое? — почему-то Агате казалось, что Генри никогда не проваливался в полусонное забытье, в котором пребывает большая часть распятых.
— Бывало, когда подолгу не кормили, — Генри кривит губы, явно вспоминая о неприятном, — в общем-то не так и худо, ощущаешь меньше, есть шанс даже увидеть какой-нибудь сон.
Это звучит ужасно. Лишь в самый отчаянный момент жизни учишься искать положительные стороны у неприятного. Агата осторожно сжимает его ладонь, стремясь выразить поддержку, тянет его вниз по лестнице.
— И все же я не очень понимаю, что произошло, — Агата говорит это тихо, со вздохом искреннего недоумения, а Генри вдруг заходится смехом. И в этом смехе, негромком, открытом, не слышно ничего пугающего, загадочного, опасного, с чем обычно ассоциируются у ангелов демоны. Генри смеется вполне обычным человеческим смехом, в котором открыто звучит облегчение и веселье.
— Ты загадала Пейтону загадку, а мне подарила свободу, — довольно сообщает он, — теперь Триумвират неделю спать не будет, чтоб понять, что ты там такого Небесам наговорила, что они прониклись сочувствием ко мне вслед за тобой.
— Я все-таки надеялась, что я не при чем, — Агата вздыхает, — получается, в этом всем виновата я?
Лицо Генри вдруг как-то бледнеет, вмиг теряя всю энергичность. Он даже как-то сутулит плечи, чуть отодвигаясь от Агаты.
— Ты жалеешь? — тихо спросил он. — Жалеешь, что молилась за меня?
— Что? — Агата удивленно охнула. — Генри нет, ни в коем случае. Я бы… Да ни за что бы я о таком не…
Он сгребает её в объятия, сжимает так крепко, что из груди Агаты вырывается полузадушенный писк. В этих объятиях нет ничего интимного, ну — по крайней мере поначалу нет, он просто стискивает её в руках, еле слышно одними только губами повторяя «спасибо, спасибо, спасибо…». Это потом уже его рука скользит вниз по её спине, и он, чуть изменив положение тела, вдруг оказывается с ней лицом к лицу, воздух между ними загустевает настолько, что его оказывается безумно сложно втянуть в себя.
На пару мгновений Агата оказывается настолько оглушена этой близостью, что даже не особенно вспоминает о попытке отстраниться. Потом до нее доходит (опять же запоздало), что вслед за этим долгим молчанием может последовать попытка поцелуя, но она не успела понять, что испытывает по этому поводу, Генри отпускает её сам, отстраняется и проводит по лицу пальцами, будто избавляясь от наваждения. А вот на это реакция следует незамедлительно. Агату берет приступом волна разочарования. Она сама на себя злится из-за этого, но эта эмоция чистая, её невозможно ни с чем перепутать. Некая её часть действительно расстроена, что поцелуя так и не состоялось. Это очень глупо! Она молилась о милосердии к нему точно не из-за этой нерациональной эмоции. Хотя совесть тут же сообщает Агате, что даже там, на кресте, она находила его привлекательным и даже не раз отмечала приятные черты его лица — в те минуты, когда не была огорчена очередной его болезненной гримасой. Но все же её сочувствие было вызвано вовсе не привлекательностью её собеседника, но его искренностью, его болью, разве нет? Разве Небесам, что принимали решение о судьбе Генри, было дело до её личных симпатий, разве дело не в милосердии?
Довольно сложно размышлять о произошедшем с точки зрения Небес. Сложно было сейчас пытаться не смотреть на его руки, на обнаженные запястья с широкими шрамами. Ей хочется коснуться их, осторожно, ласково, чтобы он ощутил, что ей жаль, что ему довелось перенести. И она чертовски злится на саму себя, что у неё не хватает решимости взять его за руку, переплести с ним пальцы.
Нужно бы уже успокоиться, переключиться. Он вполне может стать её приятелем — разве это будет плохо? Пытаясь успокоиться, Агата практически силком заставляет себя глядеть вперед, на парковую аллею, по которой они идут.
Чистилище почти не отличается от земли. По крайней мере пейзажами — не отличается. Здесь не найдешь птиц, насекомых, другого зверья, ведь, в отличие от людей, звери не имеют понятия о грехе. Агате иногда не хватало пения птиц — в огромном старом парке отцовского поместья соловьи драли горло чуть ли не все лето, и каждую ночь она засыпала под мелодичные пересвистывания крылатых певцов. Чистилище же могло похвастаться лишь тишиной, но только в незаселенных душами землях — ведь здесь на самом деле работают и день, и ночь, ведь в смертном мире всегда полно дел, демонов, неучтенных грехов и душ, которые нуждаются в доставке из смертного мира. В городах Чистилища нет темных улиц, подворотен, лишь одни типовые административные и жилые многоэтажные здания, да парки между ними — чтобы работники хоть иногда видели что-то кроме четырех стен своего кабинета. Работа многих департаментов сопряжена друг с другом, стоит ли удивляться, что постоянно по аллеям, да между слоями снуют загруженные работники, со своими папками, личными делами, протоколами, договорами и прочей многочисленной документацией, которую по какой-либо причине понадобилось подписать в соседнем (или не очень соседнем) здании?
Генри кажется оглушенным всей этой суетой, идет, убрав руки в карманы, рядом с Агатой и растерянно скользит взглядом по лицам проскакивающих мимо него людей.
— Запахи мешают? — осторожно спрашивает Агата, чтобы избавиться от этого странного неловкого ощущения.
— Да не до них, если честно, — демон рассеянно пожимает плечами, — я уже и забыл, сколько здесь движения…
— Это плохо?
Генри качает головой.
— Я устал от неподвижности, — произносит он глухо, — когда изо дня в день ничего не происходит, все постоянное — твоя боль, твои чувства, все постоянное. И даже лица сестер, что приходят по миссии милосердия — все одинаково фальшивые, приторные…
— Ну спасибо, согрел душу приятным словом, — Агата шутя подталкивает его локтем, а Генри вдруг расслабляется. Исчезает та ощутимая нахохленность, напряженность, которая не отпускала его после беседы с архангелами.
— Знаю, как сделать приятное девушке, — смеется он, затем глядит на цепочку с жетоном — с его жетоном, доставленным из архива, недоверчиво передергивает плечами.
— Сложно поверить, что небеса доверяют мне настолько, что дают в руки ключ к дверям между слоями и смертному миру. Только в руки возьми, да глаза закрой — и ты уже в Лондоне. Ешь, греши, ни в чем себе не отказывай, зарабатывай на новую высшую меру.
— Но ты не сбегаешь, — улыбается Агата, — мне кажется, что это хороший знак.
— Сбежать — легко, — лицо Генри приобретает задумчивый вид, — очень-очень легко. А мне чрезвычайно любопытно, какие у меня «трудные» перспективы.
— Работа, Генри, у тебя впереди работа, — Агата говорит это трагичным тоном, возводя очи к небесам, — так что самое время бросить это гиблое место.
— Думаешь о поцелуе? — вдруг невпопад спрашивает он, и Агата аж спотыкается от неожиданности. Снова эта сумятица в мыслях, а на его лице — удовлетворение. Генри ловит её за запястья — казалось бы для того, чтобы поддержать, на деле же, чтобы, остановившись в маленьком скверике, развернуть к себе и заглянуть в лицо. Здесь не темно — в парках вообще не бывает темно, здесь повсюду светочи святого огня, и в их ровном белом свете Агата явственно видит на лице Генри удовлетворение. Он уже, похоже, разобрал её реакцию и очень ей доволен.
— Ты можешь не читать эмоции? — недовольно пыхтит Агата, старательно пытаясь если не разобраться в этом оглушительном, эмоциональном вихре, то хотя бы взять его в руки.
— Не дышать? — Генри смеется. — Нет, милая, не могу. Даже будь это побочным эффектом зрения — ходить зажмурившись, сама понимаешь, неудобно, но у нас все завязано на дыхание, на чутье. Так что прости, не выйдет. Хотя сейчас я уже вряд ли бы от этого отказался.
— Да, думаю, Генри, — тихо отвечает Агата, наконец справляясь с нахлынувшими на неё воспоминаниями. Луна подмигивает ей из-за плеча Генри, сквер неожиданно тих, мимо не бегают трудоголики-грешники, и как-то вечер вдруг начинает становиться томным. Да, вот сейчас, когда он стоит всего в полушаге от неё и смотрит на неё так, будто одними взглядами насыщает свою сущность.
— Ты сказал, что хотел сделать это с нашей первой встречи, — Агата даже слегка завидует ему, потому что в отличие от него, ей приходится ловить каждое изменение его лица, его взгляда, ей приходится ожидать его объяснений.
— Ага, — Генри виновато опускает глаза, хотя улыбка у него плутовская, — честно говоря, мне кажется, это синдром капитана дальнего плавания, который пять лет не видел женщин, но я тогда с трудом удержался, чтоб не умолять тебя навестить меня еще раз.
— Почему удержался? — Агата, которая в общем-то умеет связывать слова в предложения, именно сейчас не может внятно выговорить два слова, смущенная этими его словами.
Генри молчит, еле заметно, чуть недоверчиво качая головой. Вновь заглядывает в её лицо, касается щеки горячей ладонью. Это прикосновение отдается в груди приятным эхом, Агате ужасно хочется прижаться к его ладони плотнее, вдохнуть запах его кожи, ощутить её жар под губами. Но она все еще боится преодолевать это расстояние, ей в спину дышит льдом и болью прошлое. Которое так и не удалось изжить.
— Вон ты какая, — тихонько шепчет он и невесомо, легко касается губами её щеки, — нежная… искренняя… — спустившись к её губам, он замирает, заглядывает в её глаза, будто пытаясь в них что-то найти, — ну и зачем тебе такой закоренелый грешник?
Он столь откровенно, неприкрыто искушает её, дразнит, остановившись в жалком дюйме от её лица, лаская его лишь только своим дыханием, что это выходит уже за все рамки. За кого он её держит, за дурочку, которая никак не может решить, чего она хочет? Эта мысль будто рвет в Агате некую напряженную струну, которая лишь только и сдерживала её порывы. И вдруг весь мир за пределами рук Генри, его глаз становится оглушительно бессмысленным, и Агате не хочется думать о нем вовсе. Не сегодня. Не сейчас. Сейчас она решительно подается вперед и сама приникает к его обжигающим губам.
В вуали ночи (2)
Не сказать чтоб у Агаты имеется особенно богатый поцелуйный опыт. За семь (о боже, таки да — семь) лет провалов в Чистилище в жизни Агаты было два или три кавалера, желавших пересечь Ту-Самую-Черту. И да, они пробовали Агату целовать, почему-то это, по их мнению, было достаточным объяснением чувств, но в те несколько не очень приятных моментов Агата закостеневала, напрягалась, а позже и вовсе отпихивала от себя «романтика», с этими его губами. Кажется, самым первым движением после этого она вытирала губы, чем смертельно обидела как первого, так и второго кавалера (а в третьем Агата была не уверена — он очень вероятно обознался и совершенно случайно зашел не к тому сборщику душ и не в ту смену). Но с Генри все совсем не так — даже в первый их раз он целовал её так, что было ясно — он хочет ощущать её губы, вот именно сейчас и здесь, он хочет пробовать её на вкус и ровным счетом не собирается вкладывать в поцелуй никакого дополнительного значения. Она ему нравилась. Нравится. А у неё от всякого его прикосновения к её рукам, к её коже будто проскакивают маленькие чувственные замыкания. Почему он? Да черт же его разберет, просто потому что это были его прикосновения, и больше никаких обоснований у Агаты нет.
От его требовательных губ здесь и сейчас у Агаты кружится голова. Не будь его рук — таких бесстыжих рук, не прижимай он её к себе так плотно, что еще чуть-чуть и кажется — затрещат ребра, — возможно, её ноги бы даже подкосились, но нет, она прижата к его груди, и кажется, что сердце готово остановиться, а тело — умереть еще раз, потому что сейчас она не ощущает ничего, кроме его губ. Таких терпких, пьянящих губ, что уже исцеловали все её лицо и в который раз вновь вернулись к её рту, будто на данный момент он не хочет ничего, лишь ласкать языком её губы, целуя её так глубоко, что порой не хватает дыхания — а порой и самообладания, потому что такие поцелуи невинными назвать совершенно точно нельзя. Это чистая похоть, заключенная в соприкосновении губ, и Агата, к своему стыду, совершенно не может ей противиться — лишь пару раз смеясь, откидывала голову назад, пытаясь отдышаться, но тогда его губы впивались в её шею, пусть не очень низко — чуть ниже мочки уха, но когда он сделал так впервые, она даже ахнула от неожиданности, до того это был провокационный удар. И вот он — второй, и Агата лишь жадней глотает ртом воздух, покуда все существо грозит рассыпаться на мельчайшие молекулы — то ли от стыда, то ли от оглушительного удовольствия.
Кажется, небо на западе слегка розовеет. На этом слое раньше рассветает, чем на других прочих, но именно сейчас Агата задает себе вопрос — сколько времени они целовались? Понимает, что да — действительно долго, никак не меньше часа, он уже даже успел будто бы случайно «задеть» пальцами её грудь, и она в отместку за такое нахальство прикусила ему губу. Сколько было тех поцелуев, слившихся в один? Двадцать? Пятьдесят? Агата хихикает, понимая, что действительно похожа на только-только отметившую совершеннолетие девчонку, которая чувствует себя голодной — ей ужас как не терпится всласть натискаться со своим возлюбленным, только так, чтобы папа из окна не увидел…
Генри, такой чуткий к переменам её настроения Генри, решает над ней сжалиться, чуть-чуть ослабляет хватку, выпрямляется. Его лицо настолько близко к её лицу, что они соприкасаются лбами, носами — и почти что губами, но в слове «почти» и заключается вся потрясающая чувственность этой ситуации. Когда от соприкосновения отделяют считанные миллиметры, кажется, что все твое существо раскаляется в ожидании, и чувствовать начинаешь так остро, как никогда раньше.
— Светает, — шепчет Агата, и Генри недовольно вздыхает.
По идее им надо расходиться. Общежитие этого слоя уже рядом — за одной маленькой аллейкой, общежитие Агаты на три слоя ниже. Однако расставаться с ним ей сейчас совершенно не хочется, не хочется расплетать этих теплых объятий, окунаться в холодную реальность.
— Могу ли я тебя проводить? — мягко спрашивает Генри, и его голос ласкает её кожу как нежнейшая кисть для пудры. Сказать, что её волнует его голос — ровным счетом никак не описать весь спектр её эмоций.
— Я думаю, можешь, — Агата смущенно опускает глаза. Она по-прежнему не чувствует себя сейчас умудренной взрослой женщиной (хотя вот тут она совершенно точно осознает, что льстит себе, как в оценке возраста, так и в оценке умудренности), оставившей позади смерть, нет, скорее школьницей из выпускного класса, которая гуляет с мальчиком и стесняется даже от того, что он берет её за ручку, но было в этом ощущении нечто удивительно упоительное, и от того, что её пальцы тесно переплетаются с пальцами Генри, перед её глазами мир слегка приплясывает. Как давно, как давно она такого не чувствовала. И чувствовала ли вообще? Прижизненный опыт вспоминать по-прежнему не хочется.
«Провожать» предстоит совсем недолго. Чтобы спуститься на три слоя вниз, нужно всего-то сжать пальцами жетон и, закрыв глаза, отсчитать три мгновения.
В парковых аллеях на слое Лазарета существенно людней, поэтому толком постоять и посмотреть друг на дружку не получилось. А еще тут было темнее — солнце здесь вставало на три часа позже. Агата не стала высвобождать пальцев из руки Генри, потянула его к общежитию. Пусть проводит её хотя бы до здания, пройдется вместе с ней по парковой дорожке, может быть, там удастся выкроить мгновение, чтобы вновь приникнуть к его губам.
— Какой этаж? — спросил Генри, задирая голову кверху.
— Семнадцатый, но мне нужно зайти забрать у дежурного ключи, — извиняющимся тоном произнесла Агата, — и, кстати, моя квартира с другой стороны.
Обустройством жилья для грешников занимались эйды. Строительством таких похожих друг на дружку зданий из серого и белого кирпича — некогда сами грешники. Зданий было много, их почему-то никогда не было с избытком и всегда на всех хватало. Квартирки у ангелов были небольшие, пара комнат и прихожая, столько места, чтобы не чувствовать себя угнетенным, но и пущего простора грешникам не предоставлялось, будто для того, чтоб они не забывали — Чистилище — их перевальный пункт, впереди — новая жизнь.
Нет, именно в тот момент, когда они подходят — у общежития стоит горстка вернувшихся из лазарета «братьев милосердия», которые не занимаются посещением демонов, но очень много времени посвящают молитвам об исцелении душ, глубоко пораженных демоническим ядом. Таких душ было немного — относительно немного, если брать во внимание общее количество «пациентов» Лазарета. Большинство пострадавших удавалось вернуть в строй за краткий срок, редко кто держался в лазарете больше нескольких недель, но на верхних этажах в огромных хранилищах стояли сосуды с практически померкшими душами. И годы молитв уходят на то, чтобы хоть капельку усилить их сияние.
Когда по ступенькам к дверям проходит Агата, за руку с демоном — да с каким демоном, парни давятся, кто словом — а кто-то и сигаретой. Агату провожают несколько пораженных взглядов, но самый цирк поджидает Агату в холле, у стойки вахтера.
В такое время вахтер обычно дрыхнет, прямо тут, опустив голову на столешницу, пользуясь тем, что наступило счастливое время между сменами в Лазарете, когда редкий работник припрется позже или раньше положенного времени. Ключи выдавать не нужно, можно и вздремнуть.
Однако, Эрик Даллас — прожженный вахтер, профессионал своего дела, спит чутко, поэтому к тому моменту, как Агата доходит до стойки, совершенно четко цокая по плитке каблуками, Эрик уже успевает не только придать телу практически вертикальное положение, но и разлепить глаза. И вот это оказывается самым неудачным его решением, потому что, увидев за спиной Агаты демона, даже хладнокровный Эрик Даллас от неожиданности кувыркается со стула и вскакивает на ноги с уже пылающим клинком в руке.
— Отвали от неё, н-нечистый, — отважно восклицает он, и кажется, повышенным тоном он надеется разбудить кого-нибудь из близлежащих комнат. Ну да, с исчадием ада он не справится, ни один, ни с поддержкой в лице Агаты, будь даже она готова её предоставить. Как бы то ни было, попытку вступиться за неё перед демоном Агата, разумеется, оценила.
Генри не двигается никоим образом, по лицу его пробегает ехидное выражение, будто он хотел было съязвить, но удержался.
Агата открывает, было, рот, чтоб затеять длинное пространное объяснение «Кто, что и зачем он тут вообще что-то делает», как за спиной кто-то дипломатично покашливает. Агата оборачивается — и видит Кхатона. Его видит и Эрик, и, кажется, это для его нервов оказывается даже слишком чересчур. Возможно, он даже быстрей Агаты соображает, что архангел, со скучающим видом устроившийся в углу холла, на диванчике и с книжечкой в руках, видел — сколько времени дрых вахтер, в то время как по служебному регламенту должен бы бдительно оберегать обитателей общежития. Эрик прячется за стойкой, явно желая прикинуться каким-нибудь элементом интерьера.
— Вы долго, мисс Виндроуз, — укоризненно хмурится Кхатон, а Агата сконфуженно улыбается. Ну да, они с Генри не очень-то торопились. Даже по парку к зданию шли медленно, будто на эшафот, желая продлить возможность подержаться за руки.
— Я не ожидала вашего визита, сэр, — чуть виновато произносит она, а Кхатон разводит руками, откладывает книгу, подходит к Генри и Агате.
— Мы волновались, — ровно отзывается он, будто это много объясняет. Затем бросает взгляд на Генри, чуть иронично поднимает бровь.
— Хартман, ты собрался позавтракать с девушкой или позавтракать ею?
Агата краснеет, от того лишь, что одной только фразой Кхатон уже положил её в одну постель с Генри, а демон натянуто улыбается, будто бы плохой шутке.
— Я провожаю, — спокойно отвечает он.
— Обижаешься, Хартман? — интересуется Кхатон, кажется, лишь для галочки.
— Вообще, неважно, что я чувствую, — произносит Генри, чуть мрачнея, — в конце концов, я — демон, я принципиально отличаюсь от всех обитателей чистилища как возможностями, так и всякими наклонностями.
— Да, насчет этого, — Кхатон кивает, — если заинтересован в помощи от срывов — ходи на экзорцизмы почаще. Если я правильно информирован — голод вашему брату они хороши отбивают.
— Правильно, — Генри вздыхает.
— Это тоже болезненно? — сочувственно спрашивает Агата. — Как и крест?
— Ну, слабее, — уверенно возражает Генри, — в первый день на кресте я понял, что боли не ведал вовсе.
— Ох, парень, — Кхатон дружелюбно хлопает Генри по плечу, — о боли не думай, боль-голод — это все лишь ощущения смертной оболочки. Поборешь её — поборешь и себя.
— Я буду стараться, — обещает Генри, и Агата не удерживается от смеха — таким тоном обычно маленькая Ханни после всякой проделки обещала их матери хорошо себя вести. Кхатон, кажется, тоже улавливает схожесть, потому что глухо хмыкает в кулак, пряча улыбку.
— Ну, вот не стыдно вам смеяться, праведники? — Генри корчит скорбную мину. — Я, правда, буду стараться. И вообще, я сейчас себе напоминаю мальчишку, которого выпустили из чулана. В чулан я, разумеется, снова не хочу, да и сознательности, надеюсь, мне хватит, чтобы не нарываться. Но надежды не очень надежная штука.
В вуали ночи (3)
Кхатон надолго не задерживается, лишь спрашивает парой фраз о самочувствии Агаты, оставляя у нее стойкое ощущение, что она чего-то не понимает (а иначе почему о такой мелочи беспокоятся за один вечер два архангела сразу), а затем спокойно кивает Генри и выходит из здания.
Эрик выглядывает из-за стойки с пришибленным видом. Видит Генри и снова пытается втянуть голову в плечи.
— Дыши, пацан, я съем тебя не целиком, только ногу откушу, левую — она у тебя самая аппетитная, — зловещим тоном обещает Генри, и где-то там за стойкой раздается нервный всхлип, кажется, Эрик не понимает, что это шутка.
— Генри — первый помилованный из Исчадий, — сообщает Агата, барабаня пальцами по дереву.
— Первы-ы-ый? — тихонько стонет Эрик. — А что, еще будут?
— Не знаю, — растерянно отзывается Агата. Она действительно не думала над этим, но почему-то сейчас вдруг ей становится чрезвычайно интересно — что будет, если она помолится за кого-то еще? Сколько еще на Поле таких, как Генри, которых просто боятся отпускать? И что же конкретно нужно Небесам для того, чтобы амнистировать кого-то серьезнее бесов?
— Ты мне ключ уже дашь или нет, — Агата стучит костяшками пальцами по стойке, и Эрик начинает суетиться. Огненный клинок в его руке не гаснет — и Генри раздраженно морщится от его мельтешения перед своими глазами. Наконец Эрик перерывает самый последний из ящичков с ключиками и бросает в ладонь Агаты маленький серебристый ключик.
— Спокойной смены, Рик, — напоследок бросает Агата и вытаскивает Генри обратно на улицу. Разумеется, в здании есть лестницы, но кому они вообще нужны, если есть крылья.
— Кажется, пора прощаться, — вздыхает она, а Генри удивленно поднимает брови.
— Почему тут, а не там, — он кивает наверх, на посадочные площадки, что есть на каждом этаже, заменяя привычные в смертном мире балконы.
— А как ты туда поднимешься? — удивленно уточняет Агата. Ангельские крылья — воплощение чистой совести их носителя. Чем больше грехов её пятнает, тем тяжелей вес, ложащийся на плечи всякий раз при полетах. Многие привыкают — да что там, все привыкают, ведь крылья — основное преимущество ангелов перед демонами, у демонов их попросту нет. Существует версия, что при первом перевоплощении в демона попросту теряешь возможность пользоваться крыльями, многие строят версии по поводу того, что, мол, демоны слишком слабы, чтобы выдержать чудовищный вес собственного греха.
Генри загадочно ухмыляется, делает шаг назад, а затем прикрывает глаза.
За его спиной сгущается чернота, на краткий миг даже кажется, что у его лопаток сконцентрировалась сама ночь, но затем она приобретает форму. Форму огромных, блестящих крыльев, похожих на крылья летучей мыши. Он рисуется — он совершенно точно рисуется, потому что он с непроницаемой — такой чуждой на его лице улыбкой шагает к ней, прихватывает за талию и взмывает в воздух.
Агата взвизгнула — больше от неожиданности, чем от страха, но ей и простительно, когда ноги вдруг резко теряют опору, когда неожиданно оказывается, что тебя и землю разделяет десяток футов — в этом случае простителен страх. Она бы налупила этого негодяя, что тихонько смеется над её испугом, хоть даже ладонями по плечам, но для этого необходимо оторвать эти самые ладони от этих его чертовых плеч и повиснуть только на его руках. Нет, этот подлец её удержит, в этом нет никаких сомнений, но лишний раз поощрять подобные выходки совершенно не хочется.
— Ты издеваешься? — яростно выдыхает Агата, ловя его взгляд.
— Совсем капельку, — примиряюще шепчет Генри, — ну скажи мне, как отказаться от лишней минуты объятий?
— Мог и предупредить? — бурчит Агата, практически сразу теряя в злости. Она в принципе не особо умеет злиться, из неё ярость испаряется практически сразу. А его голос звучит нежно, сложно злиться на такое.
— Прости, птичка, — улыбается Генри своими невозможными губами, сейчас, когда она смотрит на них, у неё снова пересыхает по рту, в груди снова начинает копошиться жар.
На площадке для приземлений почти как балконе, вот только перил нет — они обычно только мешают. Генри приземляется мягко, испаряет крылья, но не двигается с места, не ослабляет объятий. Просто стоит и смотрит. Будто ждет, что именно она с ним попрощается, и это совершеннейшее свинство с его стороны — такого от неё ожидать. Она не хочет говорить это снова, теперь уже окончательно. Не хочет выбираться из его уютных, теплых объятиях, в которых чувствует себя куском масла, оказавшимся вдруг на солнцепеке — вот-вот растечется в лужицу.
Пальцы Генри нежно касаются её ушка — черт возьми, кажется, что даже если он поцелует её в затылок — у нее уже случится чувственный шок, а сейчас она тихонько втягивает в себя воздух, чуть прикрывая глаза. Как же тяжело, как же тяжело осознавать, что чем дольше она тянет — тем неумолимей становится необходимость сказать ужасные слова «До завтра»…
— Может, предложишь мне чаю? — Генри говорит эти слова с настолько хитрым выражением лица, что кажется, что он предложил как минимум план по свержению английской королевы.
Чай — это хорошая идея. И почему она собственно не пришла ей самой? Наверное, потому что у нее в голове сейчас такие сквозняки, что мысли не рискуют выбраться из своих уютных домиков. А все его руки… И губы… И подбородок… Короче говоря, это все он виноват, да.
Тем не менее Агата смущенно краснеет, улыбается — даже чересчур радостно, спешно бросается к своей двери, возится с ключами. Светоч под потолком зажигается, стоит только ей войти в комнату. Генри чуть морщится, входя за ней, так же, как и она, оставляет ботинки у двери, оглядывается.
— Ничего себе… — присвистывает он.
За семь лет в Чистилище Агата извела столько бумаги и холстов, что даже жаль ресурса великих эйд, которые обеспечивают своими возможностями грешникам доступ к желаемому.
В её квартирке собрано не все, лишь около трети, часть портретов рассосалась по их оригиналам, часть — была признана недостойной хранения и сожжена. Но тем не менее даже оставшегося объема рисунков достаточно, чтобы впечатлиться. Картин на стенах мало — большинство просто лежат (и валяются) на полу, приставленные к стенам, ножкам стола, спинке кровати. Почетного места на стенах удостоились лишь пять штук пейзажей, да один лишь портрет, который Агата водрузила напротив кровати. Просто потому что этот портрет ей действительно был нужен.
— Дочь? — осторожно спрашивает Генри, глядя на маленькую девочку в желтом платье в белый горошек, что тянется пальцами к столу, пытаясь стащить с него конфету.
— Сестра, — отзывается Агата и убегает в соседнюю комнату за чашками. Когда она возвращается — Генри стоит у ее рабочего стола и сунув руки в карманы, будто подчеркивая, что он ничего не трогает, смотрит на незаконченный эскиз.
— Извини, — Агата торопливо собирает со стола карандаши и утягивает из-под носа Генри изучаемый им лист, — он не закончен.
— Ты рисовала меня? — недоверчиво спрашивает Генри, поднимая взгляд на Агату, и она вновь (в который раз за этот вечер?) заливается краской.
— У тебя лицо… очень выразительное, было сложно удержаться, — Агата не то чтобы робеет, просто не любит показывать портреты до их готовности. В Чистилище ко многим вещам начинаешь относиться легче, поэтому нет ничего страшного что он видит.
Генри выглядит опешившим и, кажется, впервые за вечер теряет контроль над ситуацией.
Впрочем, вряд ли ему составляет трудность мельком пробежаться взглядом по оставленным на виду рисункам и понять, что рисует Агата многих. Почему-то сейчас это кажется Агате внезапно слишком легкомысленным. Мысль эта настолько смешит её, что Агата в шутку называет себя распутницей и наконец ставит на стол чашки с чаем и снова бежит в соседнюю комнату за печеньем.
Когда она возвращается — чашка Генри пуста, а он сам уселся на кровати.
— Устал, — спокойно поясняет он на её опешивший взгляд, — ты же тоже, да?
— Ага, — Агата ставит на стол тарелку с потерявшим всякое значение печеньем и смотрит на Генри. Либо ей кажется, либо он действительно собирается затащить её в эту вот самую постель.
— Все-таки ты собираешься со мной позавтракать? — щурится Агата, припоминая формулировку Кхатона.
— Ну что ты, это же не просто чаю попить, — ухмыляется Генри, и Агата от возмущения, что он таким способом припоминает ей её же слова, кидает в него печеньем. Надежды, что она сможет попасть ему в лоб, тщетны, граничат с самообманом — демонстрируя дивную скорость движения, он ловит печенье и с довольным видом впивается в него зубами. Замирает — кажется, у кого-то сейчас случился вкусовой шок, и не мудрено, столько лет держаться на одном-то пресном хлебе, Агата даже сахар в чай не добавляла, чтобы лишний раз его не шокировать. Генри жует медленно, кажется, совершенно забыв про существование Агаты и, кажется, через раз вспоминая про необходимость дышать, а ей внезапно и иррационально хочется убрать со стола чертову тарелку. Агата прижимает ладони к лицу, понимает, что очень долго не спала — ну это ж надо, начать ревновать к печенью. Что дальше? Приступ ревности к рубашке, потому что, распутница этакая, так и льнет к его телу?
— Устала? — тихо переспрашивает Генри, и Агата отрывает от лица руки, глядя на него. Он уже расправился с печеньем, ни единой крошки не заметно ни на руках, ни на полу, ни на брюках… Просто нереальная аккуратность. Агата качает подбородком вверх-вниз.
— Иди сюда, — Генри касается ладонью покрывала кровати. Агата делает первый шаг еще до того как до неё доходит, что это ловушка. Да, сейчас она сядет рядом с ним, а потом окажется опрокинута на кровать одним его легким движением. Тем не менее замирать посреди пути глупо, и она выбирает меньшее из зол, что не выставит её дурочкой, вставшей на полшага от постели. Она садится не рядом с ним, но чуть поодаль, сознательно и с большим сожалением отказываясь от его близости, но и лишая его возможности «блиц-атаки».
На губах Генри расцветает загадочная улыбка, а Агата, ловя себя на том, что слишком много внимания уделяет мужским губам, устало запрокидывает голову, уперевшись затылком в стену. Нужно бы сосредоточиться. Она уже раскусила его план, что ей стоит сейчас отправить его обратно на слой серафимов? Но не хочется, по-прежнему не хочется. Черт возьми, да ей по-прежнему хочется вновь соприкоснуться с ним губами, вновь переплестись с ним в объятиях.
— Погаси, пожалуйста, светоч, глаза режет, — тихонько просит Генри, и Агата, разлепляя глаза, глядит в его лицо. Честное лицо. Слишком честное лицо. Он вряд ли врет — демоны действительно не любят света светочей, но вынуждены мириться с ним — других источников света в Чистилище нет. Но это ли единственный мотив для этой просьбы? Остаться с ним в темноте? Осознание такой возможности порождает в душе Агаты немало противоречивых эмоций.
«— Выгнать его, похоже, будет непросто, — мелькает уверенная мысль, — но стоит ли выгонять?»
Агата прикрывает глаза, складывает ладони, говорит святому огню спасибо за его службу, и светоч гаснет.
В вуали ночи (4)
— Спасибо, — шепчет Генри, и кровать негромко скрипит под его весом — он придвигается ближе к ней, практически вплотную, так, что Агата уверена — он точно слышит, как пугливо подскакивает в её груди растерянное сердце. Он слишком близко, чтобы она могла думать о чем-то другом, кроме него и этой близости. И одним только этим дело не оканчивается, он опускает свои тяжелые руки её на плечи, тянет к себе. Опустить голову на его колени оказывается приятнее, чем опираться на стену. Если бы Агата услышала от кого еще вчера, что сегодня будет практически осознанно устраивать голову на коленях мужчины вместо того, чтобы с воплем сбежать от соблазнителя, — она бы лично приложила дурака святым словом. Но сейчас дурочкой является она, она очень сильно «плывет» от того, что Генри сейчас рядом, в голове по-прежнему одни только сквозняки, пальцы то и дело покалывает от желания и самой прикоснуться к нему, и её отрезвлять никто не спешит.
— Ну что, ты отбиваться будешь от гнусного совратителя? — хмыкает Генри, и Агата тихо вздыхает, не зная, что ему ответить. Надо бы отбиться, да.
— Вообще, я понимаю слово «нет», — шепчет демон, — так что давай ты его быстренько скажешь, и я отчалю к своей холодной пустой постели…
— На жалость давишь? — фырчит Агата, а Генри лишь ухмыляется.
— Это я так заигрываю, — невесомо поглаживая пальцами её щеку, отвечает он, — давил бы на жалость — сознался бы, что мне чертовски тревожно остаться в одиночестве.
Вообще, это очень великодушно с его стороны — давать ей шанс отказаться уже сейчас, когда она сама погасила свет. Иной бы мужчина наверняка уже это воспринял как однозначное «Да», но, видимо, Генри ощущает её смятение. И дает ей право струсить.
— Я думаю еще, — Агата и сама понимает, что этот ответ идиотский. Ну о чем тут думать — либо да, либо нет. Но нет же, почему-то так сложно определиться. Кто же прыгает в постель к мужчине после нескольких поцелуев? И почему вообще она размышляет над тем, прыгнуть ей или не прыгнуть?
— Думай, — мягко улыбается демон, и это практически переход в наступление — его бесстыжие пальцы забираются в её волосы, вытягивая из них шпильки и разбирая тугой пучок на пряди, зарываясь в них, осторожно их перебирая. Эти прикосновения к коже под волосами приносят такое неожиданно сильное удовольствие, что Агата не может сдержать слабый стон. В эти мгновения она сама себя ощущает измученной, уставшей, будто бы лишь эти сумасшедшие прикосновения помогали ей возродиться.
Слишком неприемлемые мысли вдруг начинают кружиться в голове. Хочется отказаться от советов сознания окончательно, закрыть уже глаза и забыться. Хочется, чтобы прошлым уже наконец стало что-то хорошее. Вспоминаются минуты сегодняшней ночи, когда она проснулась, а его пальцы рисовали чувственные узоры на ее запястье. Мурашки и сейчас бежали по её коже, и это ощущение знакомо ей раньше, вот только чувство отторжения, никогда прежде не запаздывавшее, явиться сейчас не спешило. Ему, кажется, плевать, что сейчас Агату обхаживает не кто-нибудь, а демон, что ей не должно испытывать к нему ничего, кроме чувства ответственности за его судьбу. Но даже ей самой эти нотации внутреннего голоса кажутся неубедительными. Черт возьми, даже сейчас в груди скребется неуверенное желание сказать уже наконец «да» ему (или себе — он, кажется, уже все сам решил за нее) и окончить этот идиотский цирк. Она уже в Чистилище, здесь нет общества, которое её осудит, если она проведет ночь с мужчиной. Да хоть тысячу ночей — только на работу выходи, пожалуйста.
Агата садится, пытаясь стряхнуть с себя наваждение, открывает было рот, но Генри перекладывает теплую ладонь на ее щеку, касаясь большим пальцем ее губ, и у девушки напрочь отнимается язык. Он действительно ни капли не сомневается в исходе этой ночи. И явно не собирается отказываться от своей цели.
Генри медленно очерчивает ее губы пальцами, сердце от этого его прикосновения восторженно замирает, Агата, сдается уже и тянется к его лицу. Ей сейчас хочется целоваться, настолько сильно, что без этого сердце биться дальше, кажется, не собирается. Генри накрывает ее рот губами, прижимает ее к себе так тесно, что с трудом удается вдохнуть — он, казалось, хочет ее выпить, вобрать в себя целиком. И остатки сопротивления угасают, встреченные яростным жаром его губ. Агата уже не желает отказываться от его страсти. Так выходит, что Генри не делает ничего, что противоречило бы чувствам, переполнявшим её душу, пожалуй, он просто раньше заставил её прочувствовать их, иначе она еще долго бы не нашла со своими желаниями общего языка.
Его руки по-прежнему прижимают её к его телу, не давая отодвинуться ни на дюйм, сам он молчит, скользя раскаленными губами по её шее, рисуя языком на её коже странные узоры, заставляя ее хватать ртом воздух.
Она ощущает себя бестолковой. Вот сейчас, когда она вроде бы не проявляет никакого сопротивления, когда она уже окончательно решила, что согласна на эту ночь — только на эту, потом, наверное, будет легче отстаивать свои принципы, — желательно бы хоть как-то ответить Генри на его такой неукротимый порыв. Ей богу, от табуретки и то было бы больше отдачи, чем от Агаты сейчас. Она проводит ладонями по его спине, ощущая, как под тонкой тканью рубашки напрягаются мускулы. Сложно понять, возымело ли это хоть какой-то эффект — Генри по-прежнему не издает ни звука, лишь хрипло дышит и не отрывает губ от её плеча, с которого уже спустил рукав расстегнутого платья, но Агате показалось, что он прижал пальцы на её коже чуть крепче, и это дает слабое ощущение ликования. Он прячется от неё за панцирь, не желая намекать, сколь сильно она его волнует, но даже в этом панцире он, оказывается, не так уж неуязвим. Она тянет ткань его рубашки вверх — смертельно хочется ощутить под пальцами именно его кожу. Добирается — вжимает пальцы в горячую спину, практически как кошка «подбирая когти». Вот теперь ошибиться невозможно — Генри действительно издает короткий, низкий, горловой стон, прямо-таки впившись пальцами в её бедра, сжимая их так, что от его напора перехватывает дыхание. Агата силится не запаниковать, все это для нее в новинку, подобная напористость слишком близко подходит к её страхам. С одной стороны, все тело уже пылает, будто его огонь перекинулся на неё, с другой — рассудок орет благим матом и требует, чтоб её сейчас же стошнило от ужаса. Агата сглатывает ужас в который раз, жмурится, плотнее прижимается к груди Генри, пытаясь спрятаться в его руках от отравляющих ей вечер мыслей. Он снова приникает к её губам, и ей ощутимо легчает. Все в порядке, она с ним, потому что сама этого хочет, и никак иначе. Ей действительно хочется, и потяжелевшие груди, и с каждой секундой усиливающийся спазм внизу живота являются тому свидетельствами.
Агата расстегивает несколько верхних пуговиц рубашки Генри, и он стаскивает её через голову, так резко отшвырнув её от себя, будто ткань жжет его сильнее распятия. В этот раз Агата прижимается к нему сама, не дожидаясь, пока он вновь притянет её к себе. Касается ладонями его груди, практически раскаленной кожи, скользит по плечам. Раздается треск, и Агата даже не сразу понимает, что это был практически предсмертный вопль её платья, — Генри, видимо, надоела эта преграда между их телами, и он разделался с ней без особых церемоний.
— Я могла его снять, — с легкой укоризной шепчет Агата.
— Ну, извини, — хмыкает Генри и отбрасывает останки платья в сторону. Ладно. Это было обычное форменное платье Лазарета, в шкафу таких еще три висит, и на складе можно получить запасное. Куда важней сейчас он — его страсть, его желание. Хорошо, что вокруг темнота, Агата боится думать о том, что он бы сейчас видел её — всю её, совершенно обнаженной. Мрак же окутывает, прячет, будто освобождая её от ответственности за то, что она слишком глубоко отдается собственным эмоциональным порывам. От его рук, опустившихся на её талию, по всему её телу разливается слабость, но все же она не идет у неё на поводу — она сама тянется к Генри, желая ощутить больше, чем он ей дает, желая поцеловать его самостоятельно, задав ему тот характер поцелуя, который нужен ей. И она получает свое — когда их тела соприкасаются — кожа к коже, никаких помех, когда губы снова встречаются в жадном поцелуе, ощущений оказывается столько, что Генри и сам не выдерживает и тихо стонет. Сама же Агата едва ощущает себя, во всем её существе с каждой секундой невыносимым становится томление. Генри будто бы ощущает это — чуть подается вперед, заставляя Агату лечь на спину. Он практически не отрывается от её губ, осторожно опускает ладонь на заветный треугольник внизу живота. Еще один короткий разряд, снова накатывает удушливая волна паники, но Агате сейчас, уже практически захмелевшей от его поцелуев и раскаленных касаний, — уже все нипочем. Она лишь тихонько вздрагивает, крепче вцепляется в его плечи, слабо стонет. Ей нравится. Ей нравится, как чуткие пальцы касаются клитора, дразнят его, она готова скулить от того, насколько сильно, практически невыносимо удовольствие от этой ласки. И она-таки скулит, извивается, то ли пытаясь увернуться от его пальцев, то ли для того, чтобы эта пытка стала еще мучительней и слаще.
Он отрывается от её губ, и это оказывается обидно, но губы Генри вновь оказываются на её плечах, вновь спускаются ниже, к груди, пальцы свободной руки сжимают один сосок, дерзкий язык измывается над вторым, а Агата уже задыхается. Каждое его прикосновение — как терпкое, теплое вино, которое хочется медленно смаковать и пьянеть-пьянеть-пьянеть от каждого из них. Агате утром будет стыдно от того, что она сейчас так несдержанно стонет, от того, что выгибается навстречу рукам Генри, от того, как все сильней её охватывает огонь желания. Но стыдно будет утром, не сейчас, сейчас его пальцы осторожно скользят по её таким влажным складочкам, подбираясь к самой чувствительной точке ее тела.
— Ну что, хочешь? — шепчет Генри, снова возвращаясь к её губам. Он будто издевается, снова сталкивая её с самой собой, с необходимостью осознанно принять решение. Он ведь все это наверняка чувствует. Да и просто, нельзя же столько времени ласкаться друг с дружкой и при этом не испытывать желания.
— Хочу, — Агата почти рычит, тянется к нему, обвивает руками спину, впивается зубами в плечо. Не очень сильно, но в конце концов, не он ли говорил, что его болевой порог гораздо выше, чем у большинства местных обитателей? Она уже кипит, она сама движется навстречу его пальцам, заставляя их глубже проникнуть внутрь неё, чтобы удовольствия стало больше. Когда его пальцы исчезают — Агата только и может, что издать тихий обиженный всхлип, а Генри тихо смеется.
— И кто тут кого совращает, а? — шепчет он, и у Агаты пылают щеки. Но она не успевает возмутиться, потому что… потому что ощущает прикосновение к её бедру твердой плоти. Становится совсем чуточку страшно. Агата сомневается, что не сгорела бы со стыда, доведись ей увидеть мужской фаллос воочию, но… любопытство все же берет верх, и она тянется к паху Генри осторожными пальцами, изучая, знакомясь. Член оказывается твердый…
— Большой… — тихонько выдыхает Агата, пытаясь представить, как этот вот орган в ней окажется.
— Ты мне сейчас польстить пытаешься или боишься? — фырчит Генри.
— Боюсь, — сознается Агата.
— Птичка, просто доверься мне, — прямо-таки умоляюще шепчет Генри.
В его лице внезапно Агате мерещится некая слабость, будто доверием его в жизни не особенно удостаивали.
— Я верю, Генри, верю, — торопливо шепчет она, и демон расслабляется.
Кожа там существенно нежнее, и ощутив, как Генри шумно хватает ртом воздух от её прикосновений, Агата с трудом удерживается, чтобы не сжать головку члена сильнее. Ей нравится, ей чрезвычайно нравится ощущать, что не одну её трясет от этой сумасшедшей близости. Генри чуть изменяет положение тела, упирается своей плотью прямиком в её нежные складочки, будто намекая, что до основного, такого долгожданного процесса остается совсем чуть-чуть, и что лучше бы не ждать вовсе. Агата не ждет, она чуть напрягается, подстраиваясь под его позу, и осторожно, не выпуская из пальцев напряженную головку его члена, направляет её куда нужно. Генри двигает бедрами, и изо рта Агаты вырывается стон. Наконец-то. Наконец-то она ощущает его плоть, её неторопливое движение. Кажется, что она ждала всю предшествующую жизнь именно этого ощущения. Кажется, что никогда, никогда в её жизни она не испытывала столько удовольствия сразу, но он снова и снова проникает в неё, находит губами её губы, и настоящее становится все лучше и лучше, хотя в каждое отдельное мгновение кажется невозможно, что наслаждение станет сильнее, но с каждой секундой, с каждым стоном, с каждым движением навстречу его члену все существо Агаты наполняется все большим блаженством.
— Ну что, больно? — голос Генри срывается, кажется, у него от силы удовольствия тоже шатается мир.
— Н-нет, — стонет Агата, подаваясь ему навстречу. И еще раз. И третий…
Кажется, она теряет вес от его прикосновений, и предложи ей кто-нибудь сейчас возможность никогда более не расставаться с ним, никогда не размыкать объятий, сплестись в вечном поцелуе, — Агата согласится без малейшего сомнения. Мир попросту перестает существовать за гранью его тела, его плоти, его не дающего выдохнуть поцелуя, которым он в очередной раз терзает её губы. И все что у неё остается — это её голос. Голос, который, кажется, ей этой ночью еще предстоит сорвать…
Генри останавливается, отстраняется. Заставляет перевернуться, подхватывает под животик, ставит на колени.
— Колени сдвинь чуть-чуть, — он говорит так, что не хочется спорить. Совершенно. Головка члена снова касается нежной дырочки, Агата — распаленная, изнемогающая, нетерпеливо подается бедрами назад, навстречу ему.
— Не торопись, — Генри прижимает ладонь к её животу, и только после этого толкается членом вовнутрь, проникая в её лоно, осторожно, бережно. Она чувствует. Чувствует каждое его движение внутри себя, и чем плотнее он прижимает свою ладонь к её животу, тем острее наслаждение скручивает тело Агаты. Она вжимает лоб в прохладное покрывало, потому что сил держаться на руках уже нет.
— Генри! — его имя слетает с губ и звучит лучше, чем просто стон удовольствия.
— Генри!! — нет мира за пределами этих горячих рук на её животе, нет чувств, кроме ощущения твердого члена внутри себя, нет звуков помимо его глухих кратких стонов, с которыми он вбивается в её тело.
— Генри!!! — мощнейший оргазм накатывает на неё, и мир исчезает вовсе, взрывается раскаленными искрами, и Агата окончательно задыхается, захлебывается в удовольствии, а Генри ускоряется сам. Движения становятся резче, его стоны перерастают в хриплое, рваное рычание, его пальцы впиваются в её бедра, грозя оставить на нежной коже синяки, впрочем, сейчас Агата не против, ей хочется, чтобы кончил и он, хочется и самой доставить ему удовольствие. И вот и он добирается до своего пика, и он с особой алчностью насаживает её на свой член и замирает, а внутри Агаты горячо и липко.
Он отпускает её, разжимает руки, сам переворачивает её на бок, ложится рядом, смотрит в глаза, а Агате хочется уже устроиться к нему поближе и смежить веки. Впрочем, сейчас она не отказывает себе в желаемом, так и делает.
— Спасибо, — слышит она, прежде чем провалиться в дремоту окончательно. Сил ответить ему тем же, к сожалению, нет…
Доброе утро-ночь (1)
Просыпаться вечером — есть ни с чем ни сравнимое удовольствие. Хотя Генриху по пробуждению приходит мысль, что просыпаться — вообще само по себе удовольствие. Распятые не спят, распятые забываются, и даже в этом забытьи они чувствуют раскаленные прикосновения креста. Именно поэтому проснуться самостоятельно, не от особенно острого болевого спазма, ощутить под собой прохладные простыни, а рядом — теплое мерное дыхание спящей девушки — оказывается настолько приятно, что даже глаза поначалу размыкать не хочется, тем более что обонять мир тоже весьма приятно. Хотя какой там мир. Сейчас весь мир для Генриха утопает в запахе Агаты. У каждого грешника свой уникальный запах, будто кто-то на Небесах развлекается тем, что составляет букеты ароматов специально для каждого, по перечню его грехов. Чтобы демону было поинтересней жить. Запахи себе подобных демоны не любят — слишком горькие они становятся по росту кредитного счета. Горькие, тяжелые, душные. Слава богу, свой запах можно разобрать только если очень сильно принюхаться и уткнуться носом в кожу. Генрих даже не хочет представлять, чем может пахнуть от него — при его-то послужном списке.
А вот от Агаты пахнет морем, терпким, соленым, свежим морским бризом — нотки этого запаха он иногда улавливал у искренних людей, не привыкших лгать. От волос исходит аромат липового меда, впрочем это не запах, свойственный лично Агате, это благовония, которыми часто благоухают шампуни, изготовленные эйдами. И даже этот запах Агате очень подходит, Генрих подается вперед, зарывается носом в темные кудри, рассыпавшиеся по подушке. Запаха столько, что на краткий миг он даже слегка глохнет от этой сладости. Последствия настигают быстро. Голод поднимает голову — даже не в желудке, кажется, вся сущность Генриха скручивается в тугую пружину. Он столько времени не поддерживал смертную оболочку свежим куском души, а тут — такое лакомство, рядом, практически праведница. Он утыкается носом в её шею, проводит языком по нежной коже. Всего одно движение, только одно — лишь трансформировать зубы, впиться ими в тонкую кожу, пустить в её кровь свой яд… Он выпьет её энергию, а потом сбежит. Архангелов сейчас трое, они не рискнут с ним связываться, и можно особенно рьяно не охотиться, не как в прошлый раз…
Агата сонно улыбается, переворачивается с боку на бок, прижимается щекой к груди Генриха. Усилием воли, между прочим, практически титаническим, демон заставляет себя расслабиться, расширяет сузившиеся в вертикальную щель, зрачки, прикусывает кончик языка, чтобы болью заставить голод отступить.
Поддаться соблазну очень легко — он это знает, как никто. Даже работники Чистилища то и дело дорываются до греха, то и дело лгут, позволяют себе осуждать, презирать, завидовать, реже — таскают из мира смертных приглянувшиеся вещички. Один раз вкусив грех в посмертии — будешь сильнее искушаться впредь. У демонов же желание греха усилено во сто крат, доведено до чувства круглосуточного греховного голода. И самый лучший способ его утоления — поглощение энергии бессмертной души. Каждый демон может отравить чужую душу, высосав из нее некую часть силы, ослабив её настолько, насколько позволяет сила самого демона. Генрих может высосать душу Агаты досуха, возрождать в ней энергию работникам Лазарета придется не один год.
Было одно «но» — на крест Генрих возвращаться не хочет. А именно это его и ждет, и плевать, что архангелов всего трое — они его снова загонят в угол, пусть через несколько лет, но они это сделают. А потом — снова крест. Или что ему там обещал Пейтон? Ад? Место для конченных ублюдков, тех, чьи души настолько осквернены грехом, что их скрывают во мрак и пустоту, от бдительного ока Небес. И там, в холодной черноте, существуют тысячи голодных сущностей, вооруженных всем спектром демонических возможностей. И всякая норовит оторвать кусок от соседа.
Это его причина? Генрих впивается зубами в подушечку большого пальца, чтобы отрезвить себя болью еще сильнее. Серьезно? Он сейчас помышляет о том, чтобы не жрать душу Агаты только по той причине, чтобы не попасть под карательные меры?
Черт возьми, еще вчера он жарился на распятии, и в его жизни не было ровным счетом ни единого намека на иной исход. Сейчас же он свободен, благодаря молитве спящей рядом девушки. Ему должно быть стыдно от подобной неблагодарности.
Демоны стараются изжить положительные черты побыстрее. Благодарность, стыдливость, благородство, сочувствие — все это не поощряется в среде охотников на души, самый человечный всегда остается самым голодным, стоит ли удивляться, что Генрих сам по себе не не является положительным героем и считается среди тех же сестер милосердия очень неприятным типом. Так оно и есть — в конце концов, знали бы они, сколько душ им было поглощено — ненавидели и боялись бы даже сильнее. Но все же сейчас подход к жизни придется менять. В Чистилище не получится жить по понятиям демонов, здесь совершенно иные порядки.
В происходящее до сих пор удается поверить с трудом. Может, он просто получил право на забытье, после того как его крест сшиб при падении серафим? Но голод — голод, притухший на святом кресте, сейчас потихоньку шевелится в желудке. Вчера он был гораздо сильней, практически выворачивал наизнанку, после того как исчезла боль от распятия — Генрих ощутил прилив голода сполна. Но сейчас — сейчас ощущение ослабло, такой уровень дискомфорта будет возможно игнорировать. Не очень-то легко, но возможно.
Генрих осторожно касается нежной щечки Агаты. Вслушивается в мерное биение девичьего сердечка. Улыбается, припоминая, чем окончилась вчерашняя ночь. Не то чтобы это было сложно — все-таки не так мало женщин было в его жизни, чтобы он не знал, как можно затащить в постель ту или иную. И все же — парадокс. Когда он целовал её в первый раз — он всего лишь очерчивал для себя границу. Это был тот его максимум, который он разрешил себе в первые секунды после освобождения. Агата понравилась ему сразу, с первого взгляда, и потом ему сложно было отвести от нее взгляд — пять сред, точнее, четыре — и один четверг, потому что однажды вместо Агаты приперлась идиотка-Рит, и Агата пришла только на следующий день. Обеспокоенная, встревоженная, расстроенная из-за подруги, но пришла, чтобы он не остался без положенной ему воды и пищи. И приникнув к её губам, он ощутил, как задрожала её душа. Не от страха — от взаимности. Она это не осознала, чувство не было оформившимся, но он ей нравился. Можно сказать, что на этом её судьба была предрешена. Генрих бы не стал навязывать ей собственные чувства, относись она к нему спокойно, как к знакомому, без толики интереса. Если бы отвесила ему на поле тяжелую пощечину, отскочила — напуганная. Это бы его отрезвило, заставило бы охладеть к ней. Но её интерес был, и её следовало с ним столкнуть как можно скорей, не давая опомниться.
Генрих хотел её — едва ли еще не на кресте, и сам себя ненавидел за то, что так непотребно думал о девушке, которая настолько глубоко прониклась к нему сочувствием. Но она была слишком упоительна, слишком отвечала его вкусам, чтобы он мог легко отказаться от интереса к ней. Он помнил все, от первого взгляда на неё, когда она, перевернув его крест, лелеяла обожженные руки. Это было сродни вспышке, он просто увидел её, и все остальное в мире потеряло всякую значимость. Генрих никогда не предполагал, что в девушке может быть привлекателен даже овал лица, он всегда оценивал женщин в целом, но тут — его пальцы и сейчас так и тянулись к её маленькому подбородку. И она смущалась от его взглядов, отворачивалась, и он сам себя ненавидел за то, что отвращал её.
Он хотел — но так и не осмелился умолять её, чтобы она его навещала — хотя бы изредка, хотя бы иногда, чтобы ему было чего ждать, хотя он не был достоин такой возможности. У неё не было на то никаких мотивов, с чего бы ей навещать какого-то там распятого, но слова так и норовили сорваться с языка. Даже помня о совершенных когда-то грехах, он все равно хотел, чтобы она смотрела на него своими ясными глазами. Когда она взлетела, чтобы поцеловать его после молитвы, её глаза были настолько близко, что Генри будто и сам окунулся в эти темно-зеленые озера, глядя в которые казалось, что вокруг вдруг началась весна. Господи, даже от поцелуя в лоб — абсолютно не чувственного, прощального, ни в коем случае не интимного, не романтического, у Генри на пару секунд зашумело в ушах, он даже на несколько мгновений не ощущал боли от креста. Он так и не успел сказать ей ни слова, а позже слова уже перестали быть необходимы. Он мог пойти за ней. Он мог с ней не расставаться.
Генрих отдает себе отчет, что его чувство никоим образом не является осознанным, сформированным, зрелым. Он абсолютно не знает эту девушку, лишь слегка представляет себе её натуру, исходя из запаха. Но когда она измученная дремала на его руках, ему вопреки натуре и инстинктам демона не хотелось впиться зубами в её сущность, лишь поглубже вдохнуть её запах и никогда не выпускать её из своих рук.
Да — в существовании более привлекательных девушек Генрих не сомневается, но вряд ли хоть у одной из красоток будет похожий запах. У Агаты он есть — честный, чистый запах, прямо под стать её одухотворенной мордашке. И Генрих действительно смотрел на неё, когда она смывала пот с его тела, и представлял, как целует эти восхитительно чувственные губы, как ласкает пальцами нежную шейку, как изучает ладонями гибкое тело. Маленькое, практически невинное развлечение для приговоренного к вечным мукам. Она бы о нем не узнала никогда.
Генрих прикрывает глаза, пытаясь сосредоточиться. Мысли надлежит держать в порядке, иначе голод в узде удержать не удастся, даже если он будет не выпускать Агату из постели вовсе. У нее свои дела, работа, в конце концов — тот же Миллер, который сейчас видится основным источником предстоящих проблем. Он уже привык быть единственным мужчиной в жизни Агаты, пусть у них до постели и не доходило, и его вряд ли обрадует, что Генрих нахрапом добился того, к чему сам Миллер вел Агату несколько лет. Она ведь качнулась в его сторону — Генрих это ощутил на кресте, и сам удивился, как резко в нем поднялась волна ревности. Казалось бы, какая ему тогда была разница, но все же почему-то захотелось хотя бы попытаться качнуть её в обратную сторону, подыграть сомнениям в угоду своим личным интересам, которые тогда еще казались такими неосуществимыми.
Сейчас она спит рядом — теплая, доверчивая, глупая. Ни секунды не задумывается о том, насколько опасно находиться рядом с ним.
— Я тебе доверяю… — шептала она вчера, а Генрих едва сдерживал на языке едкое «Зря». Он-то себя знал куда лучше. Не сказал, удержал в себе, побоялся напомнить о своей опасности, напугать эту юркую рыбку, что так легко могла ускользнуть из рук. Он не мог понять, что она нашла привлекательного в нем — воплощении понятия «грех», но видимо, что-то все-таки нашла. Это было так упоительно — раздувать в ней страсть из тех маленьких совершенно незаметных искорок, и Генрих, честно говоря, гордился проделанной работой, хотя и испытывал некие сомнения в том, что это было уместно при его возвращении к исправительным работам. Впрочем, в Чистилище, где собралось столько грешивших при жизни людей, стиралась некая граница приличий, и очень многие становились любовниками. Души в принципе были лишены многих форм получения удовольствия, возможность же наслаждаться любовными порывами им сохранили. Так что вряд ли его осудят за то, что позволено другим работникам. И все же, как удивительно вчера было распалять Агату, которая совершенно не ожидала от него подобной инициативы, да и от себя — такой взаимности. От силы её эмоций у него самого порой голова кругом шла, настолько сильным и будоражащим становился её запах, но при этом Агата не проявила ни одной серьезной попытки сопротивления, и это приятно пригревало самолюбие.
Генрих еще не один час бы провалялся в постели, дожидаясь, пока Агата откроет глаза, вот только когда в дверь постучали — тут демон и напрягся.
Доброе утро-ночь (2)
Силы нюха Генриха хватает на то, чтоб разбирать запахи, доносящиеся с улицы в приоткрытую оконную форточку, чует он и тех, кто бегает по коридору — под входной дверью тоже есть щель. Чувствуй он сейчас запах Миллера — не преминул бы выглянуть в коридор в одних только брюках, чтоб спокойное лицо серафима перекосило от ревнивой ярости. Но он не чует ничего. Значит, очень вероятно — пришли не к Агате, а к нему.
В дверь стучат еще раз. Агата сонно начинает ворочаться, и Генрих склоняется к её уху и, шепнув: «Не вставай», — осторожно сдвигает её руку со своего бедра, поднимается с постели сам. Находит брюки — чуть морщится из-за их состояния, но особо выбора нет — так что сойдут и мятые. Одевается он так торопливо, что боится нечаянным, слишком резким движением порвать рубашку.
Из всех божьих созданий ничем не пахнут для демонов только архангелы, те, кто, искупив свой долг перед Небесами, остались в Чистилище в качестве пастырей для бестолковых грешников. Больше того — демоны не могут заслышать архангела издалека, не увидят его, пока архангел сам того не захочет, не говоря уже о том, что эмоции Орудий Небес демонам совершенно никоим образом не ощутимы. Ничего удивительного в визите архангела к амнистированному исчадию ада нет, наверняка они навещают и демонов послабее. Так что шлепая босыми ногами ко входной двери через прихожую, Генрих раздумывает, кого ему предстоит увидеть. Если там его ждет Анджела, то не миновать разноса за непристойное поведение и искушение праведных душ — хотя вроде бы всеми силами он держал свою натуру в узде. Генриху везет — за дверью он видит Артура, невозмутимого главу ангелов-стражей. Генрих порой подозревал, что Артур выбрал это место неспроста, из сочувствия к распятым — ведь именно с его подачи на поля начали ходить ангелы из Лазарета. Но даже зная это, Генрих помнит о том, сколько сил некогда потратил Артур, когда ловили собственно Генриха. Хуже нет той ярости небес, когда против тебя бунтует даже земля, на которой ты стоишь. Пейтон — самое могучее Орудие Небес, и всякий раз, когда он прибегает к своим силам, в смертном мире содрогается земля, просыпаются вулканы. Именно поэтому Артур действует только в самых исключительных случаях. Например — в случае Генриха.
— Доброго утра, — произносит Пейтон, и Генрих только и успевает подставить руки, чтоб принять протянутую ему коробку. Артур впихивает Генриху в руки еще и вешалку со свежеотглаженным костюмом и расслабленно потягивается.
— Завтрак, — спокойно поясняет архангел. — И форма для тебя, вечером зайдешь на склад — возьмешь под себя нужное количество. Кстати, ты в курсе, что вы проспали?
Да, если верить солнцу — проспали они вполне себе практически до вечера.
— Ты должен отмечаться в штрафном отделе каждое утро, — сухо сообщает Артур, скрещивая руки на груди
— Извини, был не в курсе регламента, — виновато пожимает плечами демон. Он, прямо скажем, оглушен оказанным вниманием. Допустим, еду ему архангел действительно мог принести из беспокойства о судьбе оказавшейся рядом с голодным демоном Агаты. Но принести чистый экземпляр формы… Это уже из разряда «предупредительность», хотя в принципе, архангелы в своем великодушии зачастую показывают себя ничем не хуже эйд. И Генрих даже чувствует нечто похожее на благодарность.
— Теперь в курсе, — вздыхает Артур, оглядывает Генриха, чуть морщится. Видимо, видок у него не самый аккуратный. Впрочем, Генрих это и сам знает. В голове как будто щелкает мысль, что архангел может подозревать его в том, что Генрих уже употребил энергию души Агаты.
— Девушка в порядке, — торопливо сообщает он.
— Я видел твой счет пятнадцать минут назад, Хартман. Я знаю, что с девушкой все в порядке, — Артур слегка закатывает глаза, — я даже знаю, что ты вчера добился её согласия, иначе бы твой счет демонстрировал отрицательную динамику.
— И пришел бы ты в таком случае сюда не один? — Артур кивает. Впрочем, вчера Генри предполагал что-то подобное, именно поэтому упорно добивался от Агаты взаимности, прямо-таки заставлял её принимать решения. Рисковать столь неожиданно подаренной амнистией ему не хочется ни в коем случае.
— Кхатон сказал, где меня искать? — Генрих чувствует, что улыбается неуклюже, неловко, но все же сейчас, даже при том, что Артур смотрит на него весьма спокойно, ему все равно мерещится безмолвный укор, мол, мог не тащить в постель праведницу, мог потерпеть пару дней, но вчера казалось, что нет, не может он терпеть ни в коем случае. Голод стучал в виски, чтобы его приглушить нужны были срочные действия.
— Да, — это вполне очевидный ответ. В Департаменте Генрих старался сдерживаться и не давать архангелам лишний повод заподозрить Агату в легкомысленности. А то как бы это не поставило под удар его, Генриха, помилование.
— С едой будь аккуратнее, — милостиво советует Артур, — чередуй земную еду с нашей. В нашей — вкус, в земной — сытость. Временная, конечно, но на некоторое время хватит. Ну, если сильно прихватит — вызывай экзорциста через знак «омега».
— Спасибо, — искренне улыбается Генрих. Вчера ему в Департаменте нанесли несколько знаков на запястье невыводимыми чистилищными чернилами и даже, кажется, объяснили, какой знак за что отвечает, но он прослушал — уж очень хотелось уже уйти из душного кабинета, остаться с Агатой наедине, начать активное наступление на бастион её самоконтроля.
— В десять утра завтра не забудь отметиться, — Артур разворачивается, желая уйти, но Генрих ловит его за плечо свободной рукой. Нужно отдать должное — архангел не сбрасывает его руку, не шарахается в сторону, не призывает себе на помощь святое пламя, больше того — на его лице не расцветает брезгливая гримаса. Артур смотрит на Генриха с неожиданным интересом.
— Прости, — с усилием произносит Генрих, — я вам немало крови тогда попортил.
Ему по-прежнему тяжело произносить эти слова, тяжело признавать свою вину, но победа над собой никогда не бывает легкой. С чего-то нужно начинать.
Брови Артура удивленно вздрагивают. Впрочем, вряд ли он настолько глуп, чтобы довериться Генриху после подобной мелочи.
— Не сорвись снова, Хартман, — коротко просит Артур, глядя прямо Генриху в глаза. Можно подумать, что он на Генриха деньги поставил, но святоша Пейтон слишком чист для участия в подобных мероприятиях.
— Ага, — Генрих качает подбородком, — вы уже решили, к каким работам меня приставить? Если что, можно же меня в каком-нибудь архиве запереть на пару маленьких вечностей.
Работа в архивах была нудной и наименее эффективной с точки зрения закрытия греховного кредита, но Генрих не предается никаким иллюзиям — ему абсолютно без разницы, где отрабатывать его заоблачно большой кредит. Это все равно окажется настолько долго, что Агата вполне может успеть пару раз вернуться в Чистилище после перерождений. И всякий раз он будет встречать её — эта мысль даже самому Генриху показалась слегка наивной, но все же однозначно отбросить её он не смог. Звучит мило. Девчонка наверняка оценит подобное заявление.
— Архив обдумали уже, да, оставили как запасной вариант, — Артур кивает, — но вообще, пока что решили допустить тебя на равных к работе штрафников. Это будет полезно, как для бесов, так и для необращенных загрешившихся.
— Я там буду работать пугалом? — с иронией уточняет Генрих. — Рассказывать, как отстойно быть распятым?
— Ну да, — Артур кивнул, — вполне полезная работа. Плюс часто штрафников привлекают искать для Лазарета клочья душ или выслеживать активных контрактеров, сам понимаешь, ни одно чутье не должно пропасть бесследно. А ты — как исчадие там и вовсе будешь нарасхват, — подобных твоим возможностей нет ни у одного штрафника. Правда, риск большой, но первое время с тобой в человеческий мир будет ходить ангел-экзорцист.
— Вы хоть иногда спите, — ухмыляется Генрих, уже почти что на прощанье, Артур уже шагает к двери.
— Случается и такое, — Пейтон пожимает плечами, — передай мисс Виндроуз, чтобы завтра зашла ко мне перед началом своей смены.
— Зачем? — Генрих спрашивает, надеясь не показаться излишне назойливым. Но все же не может не спросить, уж больно удивительно внимание Триумвирата к простой сестре милосердия.
Артур оглядывает его вновь, видимо, раздумывая о степени демонического любопытства.
— Тебе пока рано знать, — он качает головой, — да и мы пока всего лишь наблюдаем за ней. Будет что сказать — скажем.
После этих слов Артур прощально кивает и окончательно уходит. Ногами. Он мог бы выйти на площадку для взлета, сэкономить время, но предпочитает использовать ноги. Это, наверное, аскеза такая…
Доброе утро-ночь (3)
Генрих возвращается в комнату, аккуратно устраивает костюм на стуле, чтобы не измялся, ставит коробку с завтраком на стол, оборачивается к кровати.
Агата, кажется, не изменила позы, но сердце у неё стучит чуть чаще, чем до того как Генрих встал. Похоже, что с Пейтоном он все-таки слишком громко болтал. Пальцы торопливо расстегивают пуговицы рубашки.
— Еще будешь спать? — шепчет Генрих, возвращаясь на кровать и скользнув к ней под одеяло. Нет, она не была какой-то совершенно безумной красавицей, от одного взгляда на которую хочется непременно её взять, но в её лице будто неведомый скульптор пытался выразить воплощение нежности, мягкости, и Генрих неожиданно для себя оказывается пленен ею настолько, что уже сейчас ощущает себя совершенным идиотом, но оторваться от Агаты не может совершенно. Руки, губы — все его существо так и тянется к её коже, и будь его воля — она бы не покинула этой постели еще пару дней, но акты страстных соитий никак не отражаются в статистике аннулирования кредита, а жаль!
Агата, сонная, растрепанная, улыбается, сладко зевает, прикрывая рот ладошкой, тянется к его губам за поцелуем. Такая теплая, нежная — её хочется ласкать и лелеять, не выпускать из объятий. Ему еще следует изучить её, он далек от того, чтобы понимать, что она за человек. Но сейчас — он целует её, и все остальное попросту может подождать. Он целует её осторожно, неспешно, боясь спугнуть, в конце концов, вчера он с ней совершенно не церемонился, исходил лишь из чувственной отдачи. Что-то мелькало на заднем плане её эмоций, что-то, что могло помешать ему вчера, если бы он позволил себе допустить хоть одну секунду сомнений. Но Генрих не испытывал такого рода сомнений, ему вообще кажется, что он вечность знаком именно с её телом, потому что ни одно из проделанных вчера действий не вызвало у девушки отторжения, она не выскочила из его хватки, не хлестнула его святым словом, никак не прибегла к силе. Она дрожала, трепетала, отвечала его ласкам.
— Нужно вставать, — шепчет Агата, уклоняясь от третьего по счету поцелуя.
— Ага, — Генрих медлит, специально дождавшись, когда она попыталась перебраться через него, и в нужный момент опуская ей ладони на талию, заставляя замереть. Сердце девушки снова начинает трепыхаться, как напуганная птичка. Её лицо всего в паре дюймов над его лицом, поэтому вовлечь её в поцелуй оказывается не сложно. Генрих чуть усиливает нажим на талию, и мягкий голый животик касается его кожи. У Агаты горят уши, с каждой секундой его желание вызывает в ней все большую взаимность.
— Нужно вставать, — смущенно повторяет она, и Генрих делает себе мысленную пометку давать ей более короткие перерывы на «перевести дыхание». Чтобы не успевала отвлекаться.
— Мы все равно слишком бессовестно проспали, чтобы куда-то торопиться, — он запускает пальцы в её волосы, снова притягивая её лицо к себе. Он целует её нарочито нежно, еще вчера заметил, что напористость её пока что впечатляет меньше. Она очевидно не очень-то искушена, и Генриху это, честно говоря, очень нравится. У него будет время приучить её к разнообразным формам удовлетворения страсти, сейчас нужды спешить нет совершенно. Он еще и сам никак не может распробовать вкуса её мягких губ, потому и приникает к ним снова и снова, проникает в глубь её рта языком, каждый раз находя кончик её язычка, заставляя её слабеть. Пальцы купаются в её волосах, честно говоря, Генрих уже и не помнит другой такой девушки с такими же безумно гладкими и густыми волосами. Наверное, они очень оттягивают кожу головы, поэтому вчера она расслабилась именно после того, как он распустил ей волосы.
Он позволяет ей отстраниться, впиваясь в её лицо взглядом, пытаясь врезать в память каждую его черточку. Да — у него есть время запомнить каждую её родинку, но все равно — это задача из тех, которые не хочется откладывать на завтра. Её по-прежнему смущают его взгляды, она даже попыталась робко спрятать лицо, но Генриха это совершенно не устраивает. Он ловит её за подбородок, заглядывает в глаза.
— Птичка, в чем дело?
Она пару секунд пытается изобразить недоумение, но Генриху даже не приходится говорить, чтобы сообщить о тщетности её спектакля, он лишь насмешливо поднимает брови. Как бы то ни было, но сейчас пара минут болтовни никакого вреда не нанесет. Он все равно добьется того, что ему нужно.
— Просто сейчас день, — Агата смешно морщит нос, она явно не может толком обосновать суть своих противоречий.
— И? — улыбается Генрих, поглаживая пальцами её подбородок, так близко к губам, он знал, что это её отвлекает, и немножко внутренне посмеивается тому, что на неё это действовало. Такая неопытная, такая наивная.
Судя по смущенной мордашке Агаты, повод действительно дурацкий.
— Неприли-и-ично, — наконец выдыхает она, и на этот раз ей удается спрятать лицо в ладонях.
Генрих не может сдержать смех. Перекатывается на бок, сбрасывая её с себя, обвивает руками нежное тело, прижимается к её спине, пробегается шаловливой щекоткой по животику, заставляя девушку захихикать.
— Что неприлично, птичка, — интересуется он, целуя её в плечо, — это? То, что я тебя целую?
— То, что после, — тихонько шепчет Агата, и Генри, все так же смеясь, проходится пальцами по полукружьям её груди. Девушка замирает, запрокидывая к нему голову, — ей нравятся его ласки, впрочем, он и не сомневается. Он чувствует, как в ней все дрожит от его касаний, ни единой протестующей нотки не слышно.
— Спорим, у тебя вообще никак не ухудшится счет, если я сейчас выкину с кровати одеяло, — он говорит это, а сам перекатывает между пальцами маленькие напряженные сосочки. По телу Агаты прокатывается дрожь, она даже сдавленно стонет, беспокойно виляя попкой. Чертовски жаль, что обращение в демона не дарует пару лишних рук, пожалуй, он бы сейчас прихватил её и за задницу. Но груди пока выигрывают, эти небольшие, мягкие, аппетитные грудки…
— Не надо, — умоляюще просит Агата.
— Птичка, — мурлычет Генрих прямо ей на ухо, — ну не обкрадывай меня, умоляю, я хочу видеть тебя всю, понимаешь?
Эффект его слова имеют странный — девушку вдруг начинает мелко трясти, и эта дрожь совершенно не похожа на страстную истому. Генрих ощущает, как поднимается в её теле прямо-таки волна ужаса, и стискивает руки, плотнее прижимая её к себе.
— Птичка, птичка, — успокаивающе шепчет он, — ну не пугайся, птичка, если не готова — я подожду, я даже обойтись могу вовсе.
Она замирает в его руках, судорожно пытаясь дышать спокойно. Генрих задумчиво прижимается к её шее губами. Именно в этот момент, чуя её растерянность, кажется, что своим неосторожным словом он взял и испортил все, что было возможно, и пока не очень-то понятно— продолжать ли «штурм», или отложить до вечера. Куда важнее сейчас, чтобы Агата успокоилась, чтобы страхи отпустили её. Генрих плохо помнит первые годы в Чистилище, он тогда даже пытался работать, но все равно грешная сущность не давала покоя, слишком многое из прошлого тянуло назад. Что тянет сейчас её — Генрих пока не знал.
— Все в порядке, малышка, — осторожно шепчет он, когда Агата поворачивается к нему. На щеках, кажется, следы слез. По логике вещей Генрих должен бы сейчас испытывать жалость. Он в принципе делает на это поправку, напоминает себе о необходимости возвращения к нормальным человеческим ценностям, а сам тем временем осторожно касается влажных девичьих щек пальцами, стирая с них остатки соленых капель.
Агата целует его сама, и от неё пахнет какой-то сложно объяснимой решимостью.
Не то чтобы Генрих ощущает в себе острое желание навязать свои условия, но если она сама решила довести дело до оргазма, то ему сопротивляться точно не выгодно.
Темп оказывается совсем другой, не тот что пытался задать он сам. Неопытность девушки чувствуется довольно остро, она попросту не знает, куда ей девать руки, как к нему прикоснуться. Впрочем, Генриха это не особенно беспокоит — главное, что она его целует, главное, что нежные пальцы пусть и бессистемно, но изучают его тело, давая вполне понятные разрешения. Впрочем, он тоже никуда не торопится — он медленно выцеловывал из неё эту странную боль, с каждым поцелуем добиваясь все больше трепета в ней самой, вырывая из её груди тихие стоны удовольствия. И каждый изданный ею звук отдается в нем гулким эхом. Она трепещет от всякого его движения, такая нежная, такая неискушенная, сложно не заразиться, не начать трепетать уже над ней, впрочем, он уже боготворит каждую её черту, каждый уголок тела. Наверняка существуют другие девушки, которые по каким-то причинам считаются более привлекательными, но Генриху здесь и сейчас не нужна ни одна из них. Ему нужны именно эти нежные холмики грудей, от одного прикосновения к которым Агата сама выгибается к нему навстречу, задыхаясь, как маленькая белая рыбка, выброшенная на сухой бархатистый песок. Генрих не может оторваться от них, покрывает их поцелуями снова и снова, плотно сжимает губами и играется языком с набухшими бусинками сосков, заставляя Агату скулить от переполнявшего её удовольствия.
Ему нужен сейчас именно этот мягкий животик, по которому так приятно спускаться вниз в своем поцелуйном путешествии, и только пальцы Агаты ему сейчас нужны в его волосах — тонкие, чуткие пальчики, лучше всего справлявшиеся с тем, чтобы сообщать о трепете своей хозяйке.
Ему не нужно других ножек, чтобы целовать их — от колена поднимаясь по внутренней стороне бедра. И она — она замирает, всякий раз, когда он поднимается чуть выше. Генри даже улыбается такой реакции, улыбается и целует дальше — все ближе к заветному треугольничку.
— Генри, — тихонько скулит она, и он поднимает к ней лицо, смотрит на раскрасневшиеся щечки, на припухшие губки, в глаза, потемневшие от переполнявшего ей желания.
— Может, не надо? — шепчет она, смущенно прикусывая губу, и ему хочется поцеловать её снова, и он целует. Прямиком туда — раздвигая языком нежные складочки, и все тело девушки содрогается, а она сама — задыхается от удовольствия. И нет на свете запаха слаще, чем сейчас её запах — её, распаленной, переполненной жгучим удовольствием, искренней, чувственной. И нет никакого вкуса сейчас, который он желал бы ощутить на языке вместо такого естественного, чуть солоноватого вкуса её тела. У Генриха вновь кружится голова, и он снова и снова целует чувствительные лепестки, вылизывает её глубоко и влажно, находит языком маленький красный бугорок, сжимает его губами, терзает в ритме пульса, заставляя Агату снова и снова выдыхать его имя, впиваться пальцами в измятую простынь.
— Генри! — кажется, в её голосе сейчас звучит максимум мольбы.
Он отстраняется, поднимает к ней лицо, поглаживая пальцами её подрагивающие бедра, отбрасывает с лица прилипшую прядь волос, слегка облизывает губы. Ему мало. В груди бушует самый беспощадный из пожаров, и его не утолить такой мелочью.
— Иди ко мне, — Агата тянется к нему, позабыв уже про чертово одеяло, про то, что за окном день (хотя он уже почти превратился в вечер), — пожалуйста…
— Ну раз ты вежливо просишь, — Генрих смеется и, нависая над ней, приникает к её губам, пальцами правой руки расстегивая брюки.
Она как и вчера вздрагивает, когда он касается тугой головкой её клитора, напрягается, а потом сама подается ему навстречу, а Генрих сдавленно стонет, погружаясь в неё. В его вселенной звезды взрываются именно сейчас, когда вокруг его члена смыкаются тесные стенки её лона.
— Птичка, — шепчет он, — сладкая птичка.
От сладости её тела сложно дышать. Сложно не кричать, но он не привык показывать свои чувства, привык давить их под корень. Сложно выдерживать этот чертов медленный ритм, хочется сорваться, хочется впиться в нежную кожу пальцами, вонзить свой член в её тело со всей возможной силой раз-другой-третий, но нет — сначала её удовольствие, потом уже — его очередь. Он же никуда не торопится. Ему же чертовски хорошо сейчас — засаживать в неё свой член, доставать до самого нежного донышка, ощущать, как впиваются в кожу спины острые ноготки — черт возьми, какие черти, оказывается, бегают в душе этой скромницы, кажется, на спине не останется ни единого живого места. Она кричит, она кричит так громко, что удивительно, как еще не сбежались соседи. Она выкрикивает его имя, и каждый раз это будто раззадоривает его еще сильнее. Так и должно быть — она должна думать только о нем. На её губах больше не должно быть никакого имени. И он заставит её больше ни о ком не думать. Не силой, нет, отнюдь не силой — он снова доводит её, практически швыряет беспомощную девушку в сладостные объятия оргазма, и только после этого дает волю себе. Он мог бы трахать её всю грядущую ночь, вот только не хочет измотать её так быстро. Все успеется. И этой ночью это еще не последний раз.
Когда взрывается его вселенная, все, что может Генрих, — это, накрыв её своим телом, судорожно дышать несколько минут, пытаясь заставить легкие усваивать воздух. Нежные ладони скользят по его спине, ласково поглаживают.
— Не продолжай, — шепчет он, — а то я же еще раз захочу, а ты вряд ли к этому готова.
Она напуганно замирает, а Генрих смеется, падает рядом, пытаясь собрать отдельные клочки мыслей в пару внятных слов.
— Ты — чудо, — сообщает он, когда миссия заканчивается успехом. Агата тихонько приподнимается, заглядывает в его лицо — наверняка видит там гримасу расслабленного и слишком счастливого идиота.
— Поцеловать-то можно? — ворчливо интересуется она.
— Ага, можно, — Генрих поднимает голову, подставляя губы под легкий поцелуй, — постараюсь сразу не возбуждаться.
— Да уж постарайся, — девушка с деланной угрозой хмурит бровки, — я есть хочу.
— Мне там еды принесли, кстати, — вспоминает Генрих и понимает, что и сам зверски проголодался. И не столько греховно, сколько физически.
Доброе утро-ночь (4)
Стоит расплести объятия, как банальные условности снова берут верх, и Агата слезает с кровати, укутавшись в простыню, и этаким кульком из ткани скрывается в соседней комнате. Генриху не хочется сползать с кровати. Он бы вообще прикрыл бы глаза и поспал бы пару часиков, но жрать хочется сильней. Приходится слезать с кровати и переодеваться в чистую рубашку и глаженные брюки.
Заглядывает к Агате, ловит мордой лица брошенное полотенце, но надежды тщетны, голой он её не застает. Она уже натянула тонкую зеленую кофточку и какие-то светло-голубые брючки. Кофточка замечательно облегает грудь, не будь сейчас в приоритете накормить Агату — Генрих бы изучил сей предмет одежды дотошней. И на ощупь.
— Женщины давно штаны носят? — ворчливо интересуется Генрих, разглядывая ноги девушки.
— Ты что, из девятнадцатого века? — саркастически уточняет Агата, а Генрих хмурится, припоминая год рождения.
— Из конца восемнадцатого, — пожимает плечами он. Агата открывает рот, а затем, видимо, сопоставляет даты его распятия с календарем и хлопает себя ладонью по лбу.
— Я ничего против не имею, — Генрих ухмыляется, — тебе идет. На наших женщинах было нереально много одежды, как я считаю.
— У меня с едой беда, — Агата вздыхает, — только печенье и всякая ерунда, сходим до столовой? Там ужин как раз должен бы быть.
— Ага, я только гадость возьму свою, безвкусную, — Генрих кивает. Честно говоря, он опасался, что Агата уйдет одна, не желая показываться на публике в компании демона. Нет, она не пытается скрыть связь с ним. Это хорошо.
— Откуда у тебя крылья, кстати? — спрашивает Агата, когда они выходят на площадку для взлета.
— Слишком много жрал, — мрачно улыбается Генрих, пытаясь на этом завязать дискуссию. Агате интересно, её любопытство прямо-таки колет ноздри, но она сдерживается с дальнейшими расспросами.
В столовой этого слоя не так и много народу, большинство уже поели, вот только… Встреча с Миллером, которой Генрих очень надеялся, что не суждено случиться в ближайшие несколько часов, все-таки происходит. Джон сидит в самом углу кафе, судя по двум пустым чашкам рядом, — уже довольно давно, читает книгу в коричневой обложке. Генрих может прочитать название этой книги, но нарочно не напрягает зрение. Миллер замечает их практически сразу и замирает на полпути к тому, чтобы встать из-за стола. Он смотрит на Генриха, открыв рот и резко белея лицом. Генрих выдерживает этот его взгляд, задирает к потолку запястье, обнажая цепочку с жетоном.
— Мне нужно с ним поговорить, — Агата морщится, пряча от Джона недовольную гримаску, — прости, я отлучусь.
Генрих пожимает плечами, и затем — осторожно позволяет себе коснуться её щеки, проходится пальцами по губам. Так, чтобы Миллер видел. И он видит, и зеленеет.
— Ну зачем? — шипит Агата, одаривая Генриха сердитым взглядом. Отодвигает его руку от своего лица, идет к Джону.
Зачем? Откуда бы ему знать, что она сказала бы этому своему «другу», что сегодня переспала с демоном.
Генрих берет первый попавшийся под руку круассан (он предпочел бы что-нибудь менее сладкое, но сейчас ему просто не хочется терять на выбор время) и чашку чая, забивается в угол зала — противоположный от Миллера и Агаты и пытается сосредоточиться на чае, пытается не слушать. Уши же вопреки его желанию пытаются вытянуться, слух будто нарочно усиливается, выхватывая обрывки фраз. Даже при учете, что эти двое говорят шепотом — Генриху же кажется, что они чуть ли не в голос орут.
— Стой, стой, — шипит Миллер, — как это, ты с ним?
— Джо, тебе в позициях объяснять? — Агата шепчет, смущенно оглядываясь, а Генрих прячет в губах усмешку — ему нравится эта её откровенность.
Миллер молчит, барабаня пальцами по столу, рвано дыша.
— Значит, со мной ты решила подумать, а с ним тебе думать не захотелось? — зло шепчет он.
Генрих вилкой отрывает от круассана маленький ломтик, засовывает его в рот, пытаясь вкусом отшибить слух и спрятать ухмылку. Ну, нельзя сказать, чтобы Агата вчера не пыталась думать… Вот только героем её дум был точно не Миллер.
— Джо, пожалуйста, давай обойдемся без сцен? — умоляюще шепчет Агата. — Я просто не хочу тебя обманывать.
— И ты веришь? Ему? — рычит Миллер, а под его пальцами рвется страница книги. Генрих откусывает от круассана практически половину, впиваясь зубами в мягкое тесто и заполняя рот шоколадной начинкой. Иных способов отключить свое восприятие он не знает, только этот. Это практически вкусовое затмение, вкусовые ощущения заполоняют все, заслоняют от звуков, от внешнего мира. Генрих приходит в себя лишь секунд через семьдесят и первое, что он видит — это разъяренную Агату, шагающую к нему, и Миллера, который стоит у своего стола как деревянный истукан и держится за щеку.
— Пошли, — выдыхает Агата, подлетая к столу. Спорить не хочется, по напуганной роже Миллера видно, что его торопливо нагоняет раскаяние, и как бы парниша не побежал умолять о прощении прямо сейчас, и как бы Агата не простила его сгоряча. Пусть позлится всласть, позже будет меньше рассматривать Миллера как вариант.
— Ты хотела поесть, — напоминает Генрих, залпом выпивая чай и забирая с тарелки остаток круассана.
— Обойдусь печеньем, — бурчит Агата. Она выглядит сбитой с толку, нахохлившейся. Что-то ей все-таки сказал Миллер, из-за чего она сейчас выглядит такой растерянной.
У общежития она тормозит, а затем взлетает, но не на семнадцатый этаж, нет, она летит на самую крышу, а он летит вслед за ней. Лишь там, оказавшись на самом верху здания, Агата останавливается, уставляется в небо.
— Это правда? — произносит она.
— Что? — уточняет Генрих, даже не притворяясь.
— Ты же все слышал, я видела, что ты смеялся! — сердито восклицает Агата, и кажется, сейчас он впервые видит её твердую сторону.
— Я не слышал, почему ты заехала Миллеру по роже, — Генрих пожал плечами, — устроил себе шоколадное затмение.
— Почему? — кажется, в её лице он впервые видит недоверчивость. Что такого сказал ей Миллер. Чем внезапно вызвал сомнения? Поразительный у Миллера талант — её подобные чувства во время молитвы не одолевали.
— Это ваше… Личное, — нехотя поясняет Генрих. — Мне было интересно, но в личное я не полезу, пока ты не разрешишь.
— Странно звучит от тебя, при том, что я для тебя эмоционально практически голая.
— Отличная метафора, — губы сами разъезжаются в улыбке, а Агата недовольно заливается краской.
— Правда, что ты со мной, просто потому что удовлетворение похоти частично утоляет греховный голод? — Агата тыкает демону в грудь пальцем, а Генрих молчит, пытаясь подобрать слова. Вот ведь… Миллер. Из всех возможных правд он резанул именно эту, самую неприятную.
— Отчасти, — осторожно произносит он и тут же ловит вспыхнувшую от обиды Агату за руки, — птичка, дослушай.
— Разве у завтрака просят выслушать? — едко интересуется Агата.
— Я тобой мог позавтракать по-настоящему, между прочим, — сухо сообщает Генри.
— Какая честь… — с каждой секундой она злится все сильнее. Приходится менять ключ беседы.
— Малышка, что бы ты сказала, если бы я тебе сейчас начал заливать про любовь? — насмешливо уточняет Генрих. — Поверила бы?
Она качает головой, отводя взгляд, но он разворачивает её лицо к себе за подбородок. Пусть смотрит в глаза. Пусть оценивает искренность.
— Нам пока рано еще о чувствах говорить, ты же понимаешь, да?
— Рано, — недовольно бурчит она, — хотя кувыркаться нам почему-то не рано.
— Ага, — Генри не удерживает на губах смешка, — кувыркаться нам не рано, потому что страсть до нас добежала первее.
— Ага, стра-а-асть, — Агата кривит губы, пытаясь изобразить брезгливость, но видно, что она практически плачет, — хороша страсть. Ты бы еще бонусом к амнистии потребовал — хочу, мол, спать с Агатой Виндроуз. Чтоб легче голод сносить.
— Похоть можно удовлетворить с кем хочешь, — терпеливо вздыхает Генри, ожидая, когда она уже наконец успокоится, — но я хочу лишь тебя. Понимаешь?
Она куксится. Кажется — понимает, кажется, её слегка отпускает, но все равно, наверное, хочется услышать чего-то другого, вовсе не «нам еще рано говорить о чувствах».
— Если уж ты тут развела всю эту болтовню, — Генрих осторожно её обнимает, гладит по волосам, слушает, как она тихонько хнычет, пряча лицо в его груди, — хочется вернуться к вопросу, что я толком тебе и спасибо-то не сказал.
— Мне, спасибо? — Агата удивленно глянула на него. — Генри, я всего лишь молилась, не я освободила тебя — такова была воля Небес.
— Но лишь по твоим словам Небеса обратили на меня внимание, — возразил демон, — я не знаю, что они там разглядели в моей душе, я не знаю, почему они мне дали этот шанс, но ты — ты обо мне молилась.
Говоря это, Генрих пытается откопать в себе искреннее чувство благодарности. Изобразить его он может легко, почувствовать по-настоящему — пусть даже слабым импульсом — совсем другое дело. В таких вещах важней всего искренность с самим собой. Сейчас он может сказать Агате про преждевременность разговоров о чувствах, но что он сможет сказать ей через месяц? Через два? Солгать? Даже малейшая ложь отразится на кредитном счете, даже за такую мельчайшую отрицательную динамику он поставит под удар свою судьбу? Нет. Возможно, этих пары месяцев ему не хватит, тогда от неё придется отказаться. Ему не удастся заставить себя потерять голову, он слишком много знает о женском вероломстве, он давно не верит в слово «любовь». Но одно он знает точно — Агата достойна искренней благодарности. За её честность, за её великодушие, за её взаимность. За эти теплые губы, что прижимаются сейчас к его губам.
Еще один раз (1)
Теплая вода сбегает вниз по телу, рисуя на белой коже невесомые узоры. Агата сейчас предпочла, чтобы он был ледяной — потому что раскаленный жар, казалось, готов разорвать её грудь изнутри. И теплая вода кажется практически кипятком и не приносит облегчения.
Генри совершенно не ведает жалости и не особенно умеет уступать самому себе. Он захотел её, когда Агата пошла в душ — и вот сейчас она стоит, упираясь ладонями в стенку, напряженная как струна, и пытается не умереть всякий раз, когда его раскаленный член проникает в её тело. В душевой тонкие стены, она частенько слышит по утрам, как поет сосед, поэтому сейчас Агата вновь и вновь прикусывает губу, подавляя в себе стоны. У Генри завязаны глаза — он сам предложил, потому что Агате по-прежнему тошно от мысли, что он увидит её голой — уж больно неприятным, как ей кажется, её тело может показаться стороннему зрителю. В иную секунду Агате мнится, что Генри жульничает и подглядывает, потому что он совершенно безошибочно нашел её в душевой комнатке. Хотя нет, вряд ли он жульничает, все-таки сам он сказал, что зрение — не его основной орган чувств. Черт возьми, как же сложно молчать! Агата смеется про себя, по-прежнему напоминая себе дурочку, уж больно легко она соглашается с его предложениями, слишком просто уступает его губам, слишком много теряет в самообладании от его ласк. Кажется, ему для того, чтобы её возбудить, нужно просто поцеловать её покрепче, и ткань трусиков уже начнет предательски влажнеть. Но разумеется, ему этого недостаточно, ему всякий раз нужно довести её до конвульсий, до забвения, до затмения, чтобы она забывала, как вообще возможно дышать, пока его чертовы пальцы терзают её тело.
— Генри, — шипит она, когда его палец касается её клитора. Это перебор. Она не выдержит. Она точно не выдержит. И он над ней издевается, пытаясь вырвать из её груди крик.
— Тише, — твердая ладонь ложится на её рот, — ты сама сказала — не болтать.
И это тоже издевка. Он снова и снова толкается в её лоно, всякий раз наполняя её раскаленным сладостным удовольствием, его пальцы играются с её клитором, и силы у неё становится все меньше с каждой секундой, Агата вообще не знает, как до сих пор держится на ногах, кажется — еще пара мгновений — и она растянется прямо тут, на белой мокрой плитке. Но она держится, сжимается еще сильней, и у самой перед глазами летят звезды, от такой остроты — она чувствует его член, весь его твердый член, каждую секунду, каждый миллиметр его проникновения в неё, и это невыносимое наслаждение, от которого хочется кричать так, чтобы чертов сосед по душевой приперся бы выяснять, кто тут кого убивает. Но нет, на губах — жесткие пальцы, при каждом толчке члена Генри в её тесное лоно под плотно сомкнутыми веками полыхают фейерверки невиданных цветов. Она хочет умереть еще раз — снова, теперь — от наслаждения, но с этим нельзя спешить, Генри явно хочет, чтоб перед этим она себя забыла окончательно.
— Прогнись сильнее, — от хриплого, срывающегося от крайнего удовольствия голоса Генри по коже бегут мурашки. Она не может с ним спорить, не сейчас — он, кажется, может свить из неё веревку и завязать её в морской узел. Да и в перспективе вряд ли Агата сможет внятно ему отказать. Генри знает, чего хочет, знает, как этого добиться. Такой неопытной дурочке, как Агата, остается лишь только слушаться и получать удовольствие. И какое удовольствие… Оргазм накатывает, вышибая дух, накрывает безжалостной белоснежной волной, от бессилия Агата даже впивается зубами в зажимающие её рот пальцы. Генри яростно рычит, отдергивает от её рта руку, стискивает её бедра, с силой насаживает её на свой член. Торопливей, быстрей, резче. Это происходит всякий раз после оргазма Агаты, он будто торопит самого себя побыстрей получить удовольствие. Агате нравится и это, в его силе таится что-то необузданное, дикое, ненасытное. Ощущать себя объектом его вожделения — как же это приятно. Ведь он — удивительный, страстный, восхитительный в каждом движении, и он дарует эту свою страсть не кому-нибудь — он дарует её Агате, только ей. Когда кончает он — его потряхивает, он и сам с трудом дышит, он просто зажимает Агату между своим телом и стеной, стискивает её тело сильными руками, прижимается губами к плечу. Сверху на них падает вода, смывая с их тел следы этой страсти. Агата поднимает голову, подставляет лицо теплым струям, едва удерживается от того, чтобы не открыть рот и не наглотаться теплой воды. Пить хочется нестерпимо.
Неожиданно становится больно — Генри впивается зубами в кожу на её плече, и Агата вскрикивает, больше от неожиданности, чем от боли.
— Квиты, — шепчет Генри и улыбается, выпрямляясь.
— Дурак, — Агата сердито шлепает его ладонью по заднице (мама бы за подобное словечко, пожалуй, треснула бы Агате линейкой по пальцам, но её рядом нет, и Агата отважно мысленно именует задницу Генри именно задницей, и пусть скажет спасибо, что она именует так только часть его тела, а не его самого — хотя он того стоит, по честному-то), а демон смеется и покидает душевую — чувство пространства у него потрясающее, даже с завязанными глазами он безошибочно находит выход.
— Вытереться не забудь, — восклицает Агата вслед закрывающейся двери, — полотенца в шкафу.
От зубов Генри на коже остается четкий круглый красный след, и он не исчезает до конца, сколько Агата не пытается его растереть. Хорошо хоть не на шее свою отметину оставил, у форменных платьев не высокий воротник, такое бы спрятать не удалось. Агата торопливо заканчивает мыться и вытирается. Ей выходить позже, чем Генри, но проводить его ей очень хочется.
Когда она выходит из душевой, вытирая волосы, в одном только мягком халате, Генри сидит на подоконнике и лопает свои безвкусные лепешки, запивая их черным, очень сладким кофе. Уже одетый, чертовски стильный в этом своем жилете. И смотреть на него сейчас втройне приятней, чем позавчера, когда между ними еще ничего не произошло. Но сейчас особенно сложно удержаться от того, чтобы не отрывать от него взгляда. Он по-прежнему никак не может перестать быть центром её поля зрения, и даже появись кто-нибудь рядом — Агата не заметит. Лишь эти рельефные плечи, на которых, пожалуй, стоит поставить отметину, аналогичную оставленной им. Лишь эти темные, почти что янтарные глаза, глядя в которые кажется, что смотришь прямиком в хищные глаза ночи. Лишь эти невозможные губы, такие горячие, такие пьянящие, что даже от взгляда на них кружится голова, а от прикосновения — весь мир растворяется в сизом тумане. Даже просто глядя на него, Агата ощущает, как щемит в груди. А ведь она знает его тело лучше, чем зрительно, каждый изгиб, каждый участок кожи, она прижималась губами к шраму на его плече, да что там — в душевой она видела его обнаженного, целиком, и черт возьми, она и не думала, что голая и подтянутая мужская задница может оказаться настолько привлекательной для взгляда.
— Не смотри на меня так, — улыбается Генри, — а то я не смогу уйти.
— Ты вообще когда-нибудь устаешь? — ворчит Агата, но на глаза попадается чашка с кофе. Надо же — и ей налил? Непривычная забота.
— Хочешь проверить? — Генри ухмыляется, склоняя голову набок. — Спорим ты сбежишь раньше, чем я устану?
— Не-не, — Агата протестующе болтает головой, — мне и нынешнего ритма многовато.
— Привыкнешь, — безжалостно улыбается Генри, и где-то под ложечкой неприятно покалывает — может, и вправду она для него всего лишь средство для того, чтобы не искушаться лишний раз? В конце концов, он у неё особенно ничего не спрашивает, а когда предлагает — у него такие интонации, что даже мысли поспорить не возникает.
— Иди сюда, — Генри манит её к себе, и Агата, несмотря на тяжелые мысли, подходит.
Он нежно её целует, заставляя слегка оттаять.
— Спасибо, — шепчет он, и их лбы соприкасаются, — спасибо, птичка, за все, что ты для меня делаешь.
Это трогательно. Действительно трогательно. Агата даже чувствует себя слегка виновато за то, что только что думала о нем плохо.
Генри обнимает её тепло, нежно, тихонечко поглаживает по спине, затем с видимой неохотой отстраняется.
— Ладно, — ворчливо вздыхает он, — я должен идти, а то опоздаю отметиться, и теперь уж точно за мной пришлют леди Свон, чего мне категорически не хочется.
Он притягивает к губам её руку, целует её, невесомо ласкает неровный белый шрам, который начинается почти что у самого сгиба локтя и сбегает вниз по запястью.
— Удачной смены, — улыбается Агата и нежно оставляет поцелуй в уголке его губ. Она ужасно боится вопросов про этот шрам. Наверняка рано или поздно речь обязательно о нем зайдет, но лучше бы не сейчас. Она еще не готова сталкивать Генри с неприятной своей частью.
— И это все? — с упреком вздыхает Генри, и его глаза смеются. Мол, могла поцеловать и покрепче.
— Как будто тебя можно обделить, — Агата даже показывает ему язык. Кажется, он чувствует её тревогу и чутко молчит, не желая поднимать неприятную тему. А может, ему просто это не особенно интересно. Если она ему нужна только для борьбы с голодом — то наверняка не интересно. Какая разница, что там в прошлом у девушки для соитий, да? Неприятная вязкая горечь снова растекается на языке. Теперь его внимательность кажется всего лишь раздражающим безразличием.
— Я встречу тебя вечером, ладно? — вот это серьезный вопрос, у него даже глаза напрягаются. Кажется, она действительно может отказаться. Что ж, хорошо, что он спрашивает, может, это ему действительно важно?
— Встречай, — улыбается Агата, — поужинаем вместе.
— Не забудь зайти к Пейтону, — напоминает Генри, уже выходя на площадку для взлетов.
Еще один раз (2)
Смена Агаты в Лазарете начинается после обеда, сегодня её очередь нести вахту при угасших душах, и практически закончился выходной, положенный на восстановление после посещения верхнего слоя.
От печенья уже малость подташнивает, да и Генри его практически доел вчера за вечер. Неохотно Агата идет в столовую. Вчерашний разговор с Джоном до сих пор портит настроение. Не ожидала она от него такой реакции, такой резкости. Вот тебе и «Миллер не захочет терять такого друга».
В кафешке Агата видит Рит и с удовольствием подсаживается к подруге. Рит — уже бывалая сестра милосердия, ходит на верхний слой три раза в неделю, вот и сейчас, кажется, только что пришла со смены, стол завален бумагами.
— Привет, Рози, — улыбается она, — я видела Найджела.
— И что он тебе сказал? — спрашивает Агата, покусывая ноготь. Она по-прежнему подозревает Найджела в подглядывании за чужими поцелуями. Хотя он вроде не болтун и не станет распространяться.
— Правда, что амнистировали Хартмана? — Рит произносит этот вопрос недоверчиво, будто какую-то сплетню.
— Да! — твердо отвечает Агата. — У него испытательный срок.
— С одной стороны обнадеживает, — Рит ежится, на её лице озабоченное выражение, — с другой стороны, лично мне — страшно, он тогда говорил настолько уверенно — аж мороз по коже. Так и кажется, что он придет ко мне… за этим!
— Не волнуйся, — Агата касается ладошки Рит, — Генри тебя не обидит.
«Ага, потому что в качестве объекта для удовлетворения собственной похоти он выбрал меня», — мелькает язвительная мысль. Даже слегка ревнивая, ведь Агата помнит, что Генри говорил о чувствах Рит к нему.
— Рози, мне иногда кажется, что ты блаженная, — Рит вздыхает, смотрит на подругу с сочувствием, — я вообще не представляю, почему Хартмана могли помиловать. Редкостный же козел.
— Нам нельзя осуждать, помнишь? — напоминает Агата, гася в себе раздражение. Никого нельзя осуждать. А подруг — и вовсе не стоит.
— Ага, помню, — Рит снова кривится, — просто вот конкретно с ним это просто сложно.
— Неважно с кем.
Интересно, как быстро станет известно, что Агата стала любовницей Генри? И как среагирует на это та же Рит? Сейчас особенно не хочется терять друзей, когда Джон из списка друзей исчез — хорошо бы если бы не навсегда.
— Черт, — Рит огорченно смотрит на таблицу посещений.
— Что-то случилось? — лицо у подруги действительно расстроенное. Она редко тревожится из-за ерунды.
— Да так и знала, что тогда, психанув, не дошла до еще одной девочки, — Рит огорченно вцепляется в волосы, — и спокойная девочка же, нет причин её без воды оставлять. И сегодня чертов последний день, когда воду до неё нужно донести.
— Что за девочка? — уточняет Агата, радуясь, что Рит перестала говорить о Генри.
— Анна Фриман, распятая 677543, с Плато Суккубов, — Рит прикусывает губу, — и самое паршивое — сегодня мне еще нельзя на поле, только вернулась, вчера чуть в обморок не прилегла, еще не восстановилась.
— Хочешь навещу её? — осторожно предлагает Агата. Ей еще не положены такие частые смены на Верхнем Слое, но она уже отдохнула, и от посещения одной суккубы хуже ей не станет. А так — может, у Рит улучшится настроение, и Агата сможет ей признаться в том, что сблизилась с Генри. Может, Рит её за это не убьет?
— А ты где сегодня? — Рит поднимает на Агату глаза.
— У угасших.
Рит не очень любит эти смены — они малорезультативны, да и вообще весьма скучны, в ходе них нужно молиться по несколько часов кряду. Но сейчас Рит больше переживает за девочку-суккуба, оставшуюся без воды, ну и за грозящее ей самой взыскание, конечно. От миссии милосердии не позволяется уклоняться.
— Хорошо, поменяемся, — кивает Рит, — отгуляю завтра. Спасибо, Рози.
— Да не за что, — облегченно улыбается Агата и подцепляя с тарелки кусочек блинчика, отправляет его в рот. Это оказывается очень не вовремя, потому что именно в этот момент в столовую заглядывает Джон, и Агата от неожиданности закашливается. Разумеется, не заметить её при этом чертовски сложно. Джон быстро шагает в её сторону, подходит к столу.
— Рит, можешь нас наедине оставить, — спрашивает он. Спрашивает с таким печальным видом, что ему, наверное, сейчас бы даже Генри отказать не смог.
Рита торопливо собирает бумаги, подвигает к Агате ордер на посещение Анны Фриман, они обмениваются кивками в знак подтверждения договоренности.
— Позволь мне сесть, — тихо просит Джон, пока Агата старательно избегает смотреть ему в лицо.
— Садись, — бурчит Агата. Ей неспокойно от мысли о ссоре. Сложно вообще вести себя с ним холодно — он же её лучший друг.
— Рози, — нерешительно заикается Джон.
Агата пытается выглядеть ледяной и неприступной, но долго не смотреть на него у неё не получается, а у Джона такой покаянный вид, что дальше злиться не выходит тоже.
— Я кретин, — виновато улыбается Джон, — может, врежешь мне еще раз и простишь меня?
— Так прощу, — хмуро бурчит Агата, выказывая обиду уже больше для проформы. Джон улыбается, кажется, что вместе с ним улыбается солнце.
— Прости, вчера повел себя… — Джон закатывает глаза, будто договаривая ими «ревнивый урод», — зря я на самом деле решил, что имеет смысл говорить об отношениях, так было бы проще.
— Забыли, — выдыхает Агата, улыбаясь — кажется, с её души свалился камень. Очень тяжелый камень. Вообще, все эти семь лет она строила свой мир с учетом наличия в нем Джона, и этот неожиданный разлад будто выбивает из-под неё опору.
— Хартман ведет себя прилично? — обеспокоенно спрашивает Джон, а Агата рассеянно пожимает плечами. Как можно описать Генри словом «прилично»? В слово «прилично» не укладывается ни одно из его действий в отношении Агаты, начиная с первого же поцелуя на Полях. Кажется, Джон это понимает, поэтому поправляется.
— Он тебя не обижает? — вообще Агата с трудом не краснеет при этом вопросе. Потому что мысли возвращаются к тому что делал с ней Генри утром…ночью…вечером… И спокойно думать об этом очень не просто, в груди волнительно сжимается сердце.
— Нет, не обижает, — качает она головой, надеясь, что её смятение не очень заметно, — правда, печенье все сожрал, кажется, придется запасаться им заново.
— Говорила с ним о том, что я сказал? — практически втягивая голову в плечи, интересуется Джон.
— Он не отрицает, — Агата пожала плечами, — говорит о преждевременности разговора о чувствах. Это хотя бы честно.
— Тебе достаточно честности? — этой фразой Джон ступает на опасную территорию. Агата и сама точно не знает — достаточно ей или нет.
— Я не думала об отношениях с мужчиной, так что пока достаточно, — отвечает она, отводя взгляд.
— Никогда не думал, что в подобных вещах ты будешь руководствоваться… страстью, — осторожность тона Джона граничит с осторожностью сапера, — это на тебя не похоже…
— На меня вообще не похоже влипать в какие бы то ни было отношения, — огрызается Агата, — я вообще не собиралась. Джо! Еще пара слов в том же духе, и я все-таки не удержусь от еще одной пощечины.
— Прости, я не хочу тебя задеть, — мирно пожимает плечами Джон, — но беспокоиться за друга я же могу?
— Можешь, — нервно отзывается Агата, — только давай ты пока ограничишься знанием, что у меня все нормально.
— Ладно-ладно, — Джон сдается, — хочешь, провожу тебя до Лазарета?
— Тут скорей я тебя провожу, — фырчит Агата, — мне нужно на ваш слой, к мистеру Пейтону.
— Ты-таки решила вернуться? — с легкой надеждой уточняет Джон.
— Нет, — Агата решительно качает головой. Вчера она не успела рассказать Джону про молитву, поэтому рассказывает сейчас — пока они, поднявшись на три слоя выше, вместе преодолевают те три парковых аллеи, что отделяют их от здания Департамента Святой Стражи.
Джон слушает её с недоверием, удивленно качая головой.
— Нет, сам случай амнистии Хартмана исключителен, но я даже не думал, что ты умудрилась этому поспособствовать, — Джо растерянно ерошит волосы, — и что, объяснили как тебе это удалось?
— Будет Триумвират что-то объяснять мне, — Агата махнула рукой. — Хотя может, они и хотят — зачем-то же меня мистер Пейтон вызвал.
— Зайдешь ко мне, расскажешь? — спрашивает Джон, когда приходит время расходиться.
— А ты не на смене сегодня?
— В ночь пойду, — Джон пожимает плечами, — бумаг накопилось, надо оформить.
— Тогда зайду.
Джон тепло улыбается и наконец оставляет Агату одну. Она бы не отказалась от компании по пути к кабинету Артура. Впрочем, в ДСС всегда такая суета, что толком проникнуться тревогой Агата не успевает. Сильви — секретарша Артура, радостно улыбается Агате, когда она входит в приемную.
— Заходи, дорогая, я позову мистера Пейтона, — девушка вскакивает на ноги.
— Может, мне тут подождать? — неловко улыбается Агата.
— Мистер Пейтон сказал, чтоб ты дождалась его в кабинете, — качает головой Сильви и упархивает в сторону допросных.
Ну, раз мистер Пейтон сказал…
Агата прошмыгивает в пустой кабинет в едва приоткрытую дверь, сама себе напомнив шаловливую мышь. Светочи под потолком тут же загораются, не приходится стоять в темноте. Кабинет у мистера Пейтона довольно большой, здесь есть не только письменный стол (на котором царит такой порядок, что Агате становится стыдно при воспоминании о том завале, что ждет её в их с Рит кабинетике) и кушетка для пострадавших, нет, здесь есть несколько кресел, полка с книгами — Джон даже рассказывал, что никак не осмелится взглянуть на корешки книг и заговорить с мистером Пейтоном о них. Агата хотела было сесть на кушетку — с неё лучше видно дверь в коридор, но едва не садится на раскрытый кожаный футляр.
В подобных футлярах обычно переносят музыкальные инструменты, Агата даже видела такой у отца когда-то — с дедовской скрипкой. Впрочем, в этом футляре на синем бархате лежит не скрипка, а рапира. Изящная, тонкая, вороненой стали, с красивой резной рукоятью.
Агата никогда не брала в руки шпаги или рапиры, хотя когда-то просила отца отдать её на фехтование, но он счел, что это слишком не женственное занятие. Но сейчас она восхищенно приседает на пол, уставившись на такое красивое и такое опасное в своей остроте оружие. На лезвии нет никакой гравировки, его красота — в его опасном сиянии. Пальцы сами тянутся к рукояти, но Агата не дает себе воли — так и трогает воздух в паре сантиметров от резной кости.
— Не трогайте, мисс Виндроуз, — раздается голос Артура, он входит не из коридора — из открытой двери с внешней стороны здания. Входит, и за его спиной еще видна белая дымка от только что рассеянных крыльев.
— Я не трогала, сэр, — без толики обиды замечает Агата, — простите мое любопытство.
— Отнюдь, — Артур подходит, берет с кушетки футляр, перекладывает его на стол, — я хотел увидеть вашу реакцию на эту вещицу, но трогать её вам еще рано.
— Пока, сэр? — непонимающе переспросила Агата.
— Вы знаете, что сегодня утром леди Свон и лорд Кхатон пытались сделать? — спрашивает Артур, уклоняясь от ответа на вопрос девушки.
— Нет, — Агата недоуменно пожимает плечами. У нее даже версий особых нет.
— Они пытались повторить ваш подвиг, — поясняет Артур и внимательно рассматривает Агату, будто видит на её месте какую-то необычную скульптуру.
— Подвиг? — кажется, речь идет о молитве о милосердии. Почему её именуют подвигом — Агате пока не ясно.
— Ну, да, подвиг, — Артур кивает, — видите ли, мисс Виндроуз, мы выявили, что теперь вы числитесь поручителем Генриха Хартмана и будете нести некую ответственность за его действия. В ад мы вас, разумеется, не отправим, и распятие вам не грозит, но обычная система взысканий будет работать в случаях его… ошибок.
— Ничего себе, — оглушенно выдыхает Агата. Неожиданно. И черт возьми, почему она узнает об этой детали сейчас? Постфактум. Хотя… Хватило же у неё мозгов молиться о смягчении приговора исчадия ада. Небеса же, наверное, имели право к ней прислушаться, но обязать её следить за отмоленным. А кому еще нести за него ответственность? Мистеру Пейтону?
— Вы не волнуйтесь, мисс Виндроуз, — успокаивает её Артур, — вам вряд ли грозит что-то серьезное, в конце концов, мы отдаем отчет в том, кем является Хартман, и понимаем, что у вас ничтожно мало рычагов воздействия на него.
— Ну, с чем есть — с тем попытаюсь работать, — осторожно произносит Агата, кажется, после этой фразы Артур оглядывает её с уважением.
— И как успехи у леди Свон? — осторожно спрашивает Агата, после того как некоторое время в комнате царит тишина.
— Никак, — коротко отвечает Артур и садится за стол, — их с Кхатоном опыт провалился.
— И что это значит, сэр?
— Мисс Виндроуз, это может значить что угодно, хоть даже и то, что в качестве объектов они выбрали попросту не тех распятых. Может быть, они выбрали не те слова или не смогли проникнуться полным сочувствием к тем, за кого просили, хотя я считаю, что это самая невозможная версия. Честно говоря, Генрих Хартман нам кажется наименее подходящим для амнистии, но нам приходится верить вам на слово насчет его небезнадежности. Но пока что основная наша версия, что по неким причинам Небеса прислушиваются к вам. Именно к вам, мисс Виндроуз, хоть нам и не ясны причины, потому что при вашем-то кредите ясно, что до чистоты помыслов, свойственной архангелам, вам далековато.
Агата вспыхивает, опускает глаза, жалея, что не может спрятать запылавшие щеки. Впрочем, Артур прав, ей действительно далеко до обнуления кредита. И праведница из неё действительно липовая.
— Я хочу вас попросить, мисс Виндроуз, — ровно произносит Артур, — не молитесь больше за демонов. Пока мы вам не скажем. Не молитесь. И не просите никого помолиться. Вам ясно?
У Агаты до этой секунды даже мысли такой не возникало. Возникла. И вряд ли это понравилось бы мистеру Пейтону.
— Вам ясно, мисс Виндроуз? — переспрашивает Артур, своим внимательным взглядом сверля Агате переносицу.
— Ясней некуда, сэр, — прохладно отвечает Агата. Сейчас нужно сдержать эмоции. В конце концов, никому от её откровенности лучше не станет, архангелы свою точку зрения не переменят, и как бы не вышло поставить парой нечаянных фраз под удар Генри. Именно он — аргумент Триумвирата в том, чтобы Агата не молилась за демонов. Сильный, ужасно опасный аргумент, но вот только что-то мнения о его опасности Агата пока не очень-то разделяет.
— Можете идти, юная леди, — сердечно улыбается Артур, и Агата торопливым шагом выходит на площадку для взлетов. Ей срочно нужно проветриться. Нет ничего такого в том, что ей напомнили о нечистой совести. Она — грешница, и она об этом прекрасно знает. Но то, что ей запрещают молиться за демонов, — от этого возмутительного запрета даже дыхание перехватывает. Какое дело Артура, да хоть даже всего Триумвирата о молитвах лично Агаты? Почему ей запрещают говорить с Небесами, почему запрещают сочувствие к тем, кто имеет на него право? Где в этом честность, милосердие, которыми по идее должны отличаться решения Небес, и их Орудий — архангелов? Почему Триумвират так боится доверится воле Небес, разве не она должна быть для них во главе угла?
Еще один раз (3)
Агате некуда торопиться, раз уж она сменилась с Рит, но сейчас она не особенно вспоминает про работу, она мечется по кабинету Джона, то и дело задевая то ту, то иную папку с документами и ругается. На Артура, на Анджелу, на Кхатона, на их идиотский запрет и какое-то совершенно немилосердное миропонимание.
Джон слушает эти сентенции с потрясенным выражением лица, но молчит — хотя Агату настолько разрывает на клочья от негодования, что она практически этого и не замечает, она говорит сама, говорит много и чрезвычайно эмоционально, поди-ка, попробуй, добавь к этому что-то.
— Мне кажется, они не правы! — тихонько замечает Джон, когда Агата прерывается, чтобы таки глотнуть воды.
— Кажется? — выдыхает Агата. — Они ни черта не правы, Джо! Там люди жарятся — пусть грешные, но люди, а они…
— Может, они думают о безопасности, Рози, — пытается возразить Джон, — сама подумай, сколь опасен Хартман?
— Я не верю, что Небеса настолько слепы, что освобождают кого попало, — Агата качает головой, — вот не верю и все тут. Генри держится ничуть не хуже, чем бесы.
— Ты этого точно не знаешь…
— Я еще жива, Джо! — рычит Агата. — Я спала с ним в одной постели, ему ничего не стоило выпить меня и свалить в смертный мир, но я жива — уже вторые сутки жива, несмотря на то, что не нашла достаточно мозгов, чтобы держаться от исчадия ада подальше.
Джон молчит и качает в руках чашку, затем вскакивает.
— Пошли, — он хватает Агату за руку и ловит пальцами жетон, переносясь на верхний слой. Сразу чувствуется более сухой, раскаленный воздух. Впереди маячит оцепление стражей. Здесь они сдают жетоны, здесь Агата показывает бумагу Рит на посещение Анны Фриман, а здесь они материализуют крылья и бросаются в широкие объятия белого неба. Кажется, что воздух, ветер приносит Агате облегчение, по крайней мере — тревога и раздражение будто притупляются, когда в лицо дышит воздушный простор. Джон чуть касается её плеча раскрытой ладонью, Агата оборачивается и видит его ободряющую улыбку. Он еще ничего не сказал, а на душе все равно тепло. Хорошо, что они помирились. Хорошо, что он — её друг.
— Ты попробуешь еще раз, — наконец безапелляционно произносит Джон, как будто Агата прямо-таки сопротивляется, — потому что ты права, и Небеса не настолько слепы и глупы, чтобы освобождать тех, кто не готов менять свою судьбу.
Слышать со стороны слова, которые вторят в такт собственным мыслям, чрезвычайно приятно. Агата чувствует себя уверенней в своем недовольстве волей Триумвирата. Она бы попыталась помолиться и так, без поддержки Джона, но с ним — гораздо легче.
— Смотри-ка, бесов прогревают, — замечает Джон, кивая вниз. Агата бросает взгляд и видит усевшихся в рядок неподалеку от первого ряда крестов полтора десятка демонов. Ей мерещится меж них ярко-рыжий затылок Генри, но пролетают они слишком быстро и слишком высоко, чтобы успеть разобрать точно. В первый же день на верхний слой? Хотя он исчадие, его сюда могли направить просто профилактически. И вообще это мог быть не он.
По плечу слегка задевает крыло Джона — Агата ловит его ободряющий взгляд, улыбается.
Сейчас не хочется думать о разносе, который произойдет, если у неё все получится, зато хочется подумать о каком-то демоне. О каком-то несчастном, приговоренном к вечным мукам.
Поля Распятых дышат в лицо безжалостным жаром и жалобными стонами. В этом месте страдания возводятся в бесконечность, кажется сама боль растеклась здесь в воздухе, и из-за этого становится невозможно глубоко дышать. На Плато Суккубов Агата приземляется — как минимум нужно навестить Анну Фриман, а уж потом пробовать помолиться за кого-нибудь.
— Мне побыть с тобой? — Джон оглядывается. Ему здесь не по себе, он редко спускается вниз, все больше оставаясь в небесах.
— Да нет, я бы предпочла остаться наедине, — Агата натянуто улыбается, а затем спохватывается, — слушай, Джо…
Джон оборачивается, и Агата смущенно прячет от него взгляд.
— Мистер Пейтон запрещал мне также и просить других помолиться за распятых…
— Ты хочешь, чтоб я попробовал?
— Из всех моих знакомых ты больше всех разделяешь со мной идеи сочувствия.
— Ты знаешь, ты мне сейчас даже честь оказала таким сравнением, — Джон вдруг выглядит действительно польщенным, — только объясни, что делать.
— Доверься Небесам, Джо, — говорит Агата, — пусть они приведут тебя к тому, кто достоин помилования, пусть сами подскажут тебе нужные слова. Я не читала конкретной молитвы, я просто просила за живого человека.
Джон кивает и уходит. Агата выжидает порядка десяти минут, пока он исчезнет среди крестов. Затем ищет Анну Фриман по номерам, выбитым на «спинах» распятий. Она шагает между крестов, наполняется стонами демонов, ощущает, как приливает к щекам стыд. Нет, она их не жалеет — нет. Здесь были лишь пропащие души, в которых не верил уже никто. Но все ли они действительно безнадежны? Она — она безнадежна. Она до сей поры не ощутила в себе раскаяния за совершенные ею преступления. Разве что за слабость души, позволившую ей оставить сестру в одиночестве. Агата находит Анну Фриман. Запоздало понимает, что в сумке не лежит ни воды, ни хлеба. Девушка на кресте глубоко в забытьи, выглядит измученной, ей бы не помешала поддержка.
У девушки по шее и рукам разбегаются стайками родинки. Как у Ханни.
Колени сами опускаются на землю, ладони сами встречаются друг с дружкой. Агата молится, даже не смахивая слез. Она не верит, что у неё получится. Архангелы совершенно зря считают её какой-то исключительной. У неё попросту не может получиться — в ней не было ни капли из тех чувств, что были вчера. Нет убежденности в собственных словах, нет уверенности, что суккуба может встать на правильный путь. Но девочка на кресте такая юная… Прямо как Ханни — такой, какой Агата её запомнила. Еще толком не осознавшая, где грех, а где преступление. Еще не нашедшая в себе силы противостоять соблазну.
В какой-то момент, когда истощенная мольбой и окружающим жаром Агата пошатывается, практически падая на землю, — она уже сорвалась с молитвы и уже просто в исступлении бормочет что-то, что и сама-то не особенно разбирает, забывая сразу же, как только слова срываются с губ. Не было ничего справедливого в том, что ей дали возможность искупления грехов, а этой легкомысленной девчонке — нет. Просто у неё не было никого, кто наставил бы её. Так может, сейчас… Может, Агата сможет? Может, это поможет и самой Агате? Пусть это сработает хотя бы раз. Еще один раз.
Сухим раскатом над Плато Суккубов гремит гром. Сверкает молния. Агата ощущает лишь уходящий в землю электрический разряд, и оглушенная им абсолютно бессильным кулем сваливается на выжженную землю — лишь краем сознания она слышит крик. Чужой крик. Высокий, женский.
Разлепить глаза оказывается сложно. Силой разомкнуть веки, заставить себя сесть — еще сложней. Практически невозможно. И тем не менее Агата встает. Её шатает, и в ушах звенит, будто кто-то ударил её по голове. Сосредоточившись, Агата глядит на крест — он черен, как уголь, но спокоен, и челюсти оков разжаты. Суккуба чувствует себя не лучше Агаты — слабо копошится у подножия тяжелого распятия.
Агата на своих неуверенных ногах шагает к помилованной. Нужно вывести её отсюда — там, за пределами Полей им обеим станет легче. Она касается плеча суккубы, пытаясь обратить на себя её внимание. Это у неё получается, девушка вздрагивает, широко распахивает глаза. Вот только глаза эти опасно светятся хищным янтарем, зрачки сужены в вертикальные щели.
Агату швыряет на землю тонкая, но такая сильная рука суккубы. Девушка вжимает Агату в раскаленный песок, нависает над ней, втягивает носом воздух.
— Сладко пахнешь, — выдыхает она.
Суккубы лишены острых зубов хищных исчадий ада и не могут впиваться в плоть бессмертных душ. Но один поцелуй суккуба — и яд скверны уже растекается по твоим венам, а по крови суккуба разливается бодрящая жизненная энергия. Твоя. Человек выживет после такого поцелуя, душа же из Чистилища на долгие месяцы отправится на возрождение внутреннего сияния в Лазарет.
Агата жмурится, избегая взгляда демоницы, потому что уж что-что есть у суккубов, так это способность гипнотизировать души. Агате не хочется безвольно сдаваться демонице, хотя она и понимает, что протянет недолго — тем более что свободной рукой противница уже передавливает ей горло.
Суккуба сдергивает с Агаты черная когтистая лапа. Сдергивает и швыряет прямиком в крест, врезаясь в который демоница яростно взвизгивает от боли и бросается обратно, но на её пути, между Агатой и распятием, уже стоит демон в боевой форме, сплошь в черной чешуе, с длиннющими когтистыми пальцами, поджарый, но опасный. Агате еще не доводилось видеть цельной боевой формы демона — все, кого она видела, могли превращаться лишь частично. Но этот экземпляр производит впечатление. В этих тонких искаженных пропорциях тела очень сложно увидеть человеческое, но этот демон совершенно точно знает, что делает. Никаких лишних движений, нет — он одним ударом вновь сбивает суккубу с ног, опрокидывает на спину. Она рычит, пытается и сама перейти в боевую форму, но у нее не получается. Агата прокашливается, пытается сосредоточиться, призывает на помощь меч святого огня. Экзорцист из неё паршивый, но кажется, сейчас нужно попытаться урезонить освобожденную.
Она не успевает — рядом приземляются серафимы, и в два голоса вычитывают экзорцизм, зажав демонов между двумя клинками святого пламени. Черный демон, выпускает из своей хватки суккубу, падает на землю, пряча глаза от сияния мечей серафимов, девушка-суккуб тоже перекатывается на живот, утыкаясь лицом в песок. Черный демон напрягается, сбрасывая боевую форму, рыжим ручьем текут по его спине волосы, длине которых позавидует любая лондонская красотка.
— Генри, — Агата бросается к нему, хватает за плечи. Все-таки это был он — внизу, и он почуял её, пришел на помощь.
— Ты дура? — шипит Генри прямо ей в ухо, чтоб серафимы не слышали. — Ты какого черта тут творишь.
— Молилась, — виновато шепчет Агата.
— Точно дура, — выдыхает Генри, — я ведь еле успел, понимаешь?
— Отойдите от демона, мисс, — раздается приказ одного из серафимов, и из этой боевой пары Агата не знает никого, лица слишком бесстрастные, сухие, вряд ли им удастся что-то объяснить.
— Он амнистированный, — пытается сказать Агата, но стражи не особенно обращают на это внимание.
— Многовато сегодня амнистированных, — качает головой один из них, а затем заставляет подняться суккубу. Демоница, непрерывно кашляющая, будто пытавшаяся выкашлять собственную сущность, пытается стоять ровно. После экзорцизма она выглядит бледной, но не опасной. С гладкими блестящими волосами и томными губами. Девушка глядит вокруг ошарашенно, будто не до конца понимая, кто она и где находится.
— Проваливай, — шипит Генри Агате, — сейчас же, крылья в зубы и лети отсюда, мне не с руки тащить тебя сегодня, при ней — слишком опасно. Очень вероятно, что эта дура кого-нибудь да ранит, и я не хочу, чтоб это оказалась ты.
Агата сдается, материализует крылья, взлетает. Ищет взглядом Джона, но не находит. Пытается призвать его по знаку, но треугольничек «дельты» покалывает в ответ. Джон не может сейчас прийти к ней. Хорошо бы он сейчас не влип, как она. Сейчас их затея уже кажется Агате самонадеянной, но поздно — она уже освободила еще одного демона, и хорошо, если Джону это не удалось. Хорошо, если он сейчас просто встретил какого-то приятеля из стражи и болтает с ним. Тогда Артуру Пейтону Агате придется каяться не в столь многих нарушениях.
Еще один раз (4)
— Садитесь, юная леди, — мистер Пейтон смотрит на Агату как на нашкодившего ребенка. Она же от одного этого взгляда чувствует себя как высеченная, ей совершенно не хочется сидеть.
Тем не менее Агата подчиняется и тихонечко оседает на кушетку. Артур подходит, заставляет Агату поднять голову, осматривает её шею — похоже, от пальцев суккубы остались кровоподтеки.
— Вас, наверное, саму приковать надо, чтобы вы не творили ерунды, да? — с иронией интересуется Артур, а его пальцы на шее Агаты наливаются исцеляющим теплом.
Агата молчит, ей сейчас сказать совершенно нечего. До нее запоздало доходит, что вообще-то демоны действительно опасны, просто ей с Генри каким-то образом повезло.
Артур барабанит пальцами по столу, смотрит на подавленную Агату.
— Рассказывайте уже, — наконец произносит он, — что натворили, кого освободили? После Хартмана мы уже, кажется, ко всему морально готовы, так что давайте, юная леди, рассказывайте.
— Я не думала, что у меня получится, сэр, — тихонько произносит Агата, — хотела только попробовать. И вообще была уверена, что вы не правы. Нельзя же запрещать молиться.
— И сочувствовать тоже нельзя запрещать, да, юная леди, в этом вы правы, — Артур согласно качает головой, — вот только, дорогая моя, вы, кажется, совершенно не понимаете, что в первую очередь мы пеклись о вашей безопасности.
— Теперь понимаю, — шепчет Агата, потирая шею пальцами. Вроде уже и не больно, а воспоминания неприятные никуда не делись.
— И что? — вкрадчиво улыбается мистер Пейтон. — Вот понимаете вы это, и что? Больше не пойдете на Поля? Больше не будете молиться?
— Пока не придумаю, как нейтрализовывать голод тех, за кого молюсь, — наверное, нет, — Агата отвечает гораздо быстрее, чем успевает прикусить язык. За такие слова, кажется, сам мистер Пейтон должен оторвать ей голову, но Артур смеется.
— Да. — фырчит он. — Именно этого мы от вас и ожидали. Ничего иного.
Агата непонимающе смотрит на него, и, кажется, архангел решает сжалиться.
— Вам даровано право защитного слова, мисс Виндроуз, — поясняет он. — Небеса слышат в ваших словах искренность, небеса берут их в расчет. Это великая честь, нужно заметить.
— Даже слишком, — произносит Агата оглушенно, — и что, за кого бы я ни попросила — всякого освободят?
— Вряд ли, — Артур качает головой, — безнадежных вам отмолить не удастся.
— Но та девушка… напала на меня.
— Вы кормили ей перед молитвой? Поили?
— Нет…
— И это было опрометчиво, — заключает Артур, — Хартману вы выпоили внеочередной кувшин воды. Поэтому он выдержал столкновение со своим голодом с блеском, а вот девушка была измучена, и у нее сил на борьбу не было.
— Да, мистер Пейтон, Генри там… вступился за меня. Дрался с суккубой. У него же не будет проблем?
— Я сейчас узнаю, — Артур встает и выходит из кабинета. Агате хочется съежиться в комок и зажмуриться. Небеса её слушают, небеса с ней считаются — это звучит настолько нереально, что пальцы поневоле тянутся к запястью, чтобы ущипнуть и проснуться. Усталость наваливается на неё с каждой секундой все сильнее, но она ждет — пять минут, шесть, семь. На десятой минуте Артур возвращается, вслед за ним шагает Генри. Он тоже выглядит утомленно, волосы растрепанные, неубранные, на рубашке видны пятна земли. Агата чувствует себя виноватой — вряд ли экзорцизм приятная процедура, вряд ли Генри избежал недовольства ангелов-стражей, наверняка же приняли его за сорванного, наверняка продержали в допросной под неприятным светом святого огня.
На Агату демон бросает сердитый взгляд и садится на другой край кушетки, растирая запястья — похоже его сковывали. Точно злится. Точно не доволен. Это пожалуй, расстраивает Агату сейчас куда сильнее, чем недовольство Артура и всего Триумвирата. Черт возьми, ни одно укоряющее слово Артура Пейтона не огорчает больше, чем эти сурово поджатые губы. Глядя на них, Агате почему-то хочется целовать их. Покрывать легкими невесомыми поцелуями, добиться, чтобы его губы расслабились, чтобы ответили на её поцелуй, что наверняка означало бы, что он слегка остыл.
— Ну что, Хартман, расскажи мне, что думаешь о действиях своего поручителя, — с очевидной иронией произносит Артур, усаживаясь в кресло.
— Её милосердие не помешало бы привести в согласие с инстинктами самосохранения, — Генри шумно выдыхает.
— А меж тем, благодаря её милосердию сегодня было амнистировано два демона, — замечает Артур, — со вторым суккубом, кстати, тоже возникли проблемы, как и мисс Фриман, он доставлен в камеру, где будет приведен в чувство…
Со вторым? У Агаты звенит в ушах. Значит, у Джона тоже получилось. И он тоже подвергся нападению демона.
— Джон не пострадал? — торопливо выдыхает она, перебивая мистера Пейтона.
— Да, мистер Миллер цел, в настоящее время заступил на дежурство, — кивает Артур, и, кажется, в его лице проступает сочувствие.
Агата тихонько выдыхает.
— И все же мисс Виндроуз, я просто обязан вам сказать — вы торопитесь, — Артур говорит с укоризной, барабаня пальцами по столу, по-прежнему пребывая в глубокой задумчивости, — мы еще не разобрались с одним помилованным исчадием, мы еще не видим его динамики, а вы уже подарили нам еще двоих суккубов. Вы осознаете степень опасности, которую хотите внести в нашу работу? Мы никогда не работали с демонами опаснее бесов. И у них, к вашему сведению, тридцать процентов помилованных сбегают в смертный мир, возвращаясь к грешной жизни.
— Там души страдают, сэр, — устало отзывается Агата, растирая переносицу пальцами, — ваше промедление — это их муки. Получается, лишние муки.
— Это демоны, — веско возражает Артур, — их никто не заставлял грешить, они свою судьбу выбрали сами, а мы должны сначала выработать политику работы с исключениями, разработать регламент…
— Пока вы все это делаете, тысячи демонов продолжает жарить заживо гнев небес, — ровно отвечает Агата.
Она знает, что не права, она знает, что её обоснования слишком слабы, а демоны очень опасны. Но оставить все как есть — оставить демонов наедине с их наказанием она почему-то не может. Не сейчас, когда знает, что их можно попытаться спасти.
— Мисс Виндроуз, это воля Триумвирата, воля Орудий Небес, — Артур повышает голос, — мы сначала посмотрим на прогресс Хартмана и сегодняшних амнистированных, а уж затем будем решать, что делать с Полями.
— Как будто вы мне оставляете выбор, — Агата кривит губы, роняя голову на ладони.
— Агата, посмотри на меня, — это голос Генри, и Агате приходится выпрямиться. — Ты серьезно, да? — глухо спрашивает он, впиваясь в её лицо глазами. — Ты хочешь молиться за всех подряд, чтобы освободить их от страданий.
— Какого черта меня об этом спрашиваешь ты? — вспыхивает Агата. — У тебя три кольца в печати грешника, я даже не помню, сколько нужно истощить душ, чтобы такое заслужить. Если помилования достоин ты, то почему его не достойны те, кто убивал меньше, или те, кто и после ада питался лишь суккубьим манером, но чьи счета превысили допустимые для милосердия уровни.
— Да в том и беда, что помиловали меня, — рычит Генри, вскакивая, и Агата вздрагивает, заметив, как темнеет его лицо.
Генрих выпрямляется и поднимает вверх руку, его пальцы вытягиваются, покрываются черной блестящей чешуей, ногти скрючиваются в уродливые когти.
— Я о себе все помню, — выдыхает Генри, опуская уродливую когтистую кисть на полированную столешницу, — и именно поэтому твоя идея дерьмовая. Одного меня Небеса еще как-нибудь сдержат. А десяток голодных, сильных тварей? Без установленного регламента действий, без четкого понимания какова должна быть частота экзорцизмов, и что вообще с нами делать можно, а чего нельзя — эта идея паршивая.
— Уймись, Хартман, девочка слегка права, — неожиданно произносит Артур, и Генри дергается, аж в лице переменяясь. — Ты же знаешь, что на кресте ты практически мертв, но умереть не можешь — зато все прекрасно чувствуешь. И твое все — это одна бесконечная боль. И между тем, боль та — не слабая, сильнейшая из всех возможных. Если есть на полях те, кто достойны помилования, разве не наш долг избавить их от лишних страданий?
— Ваш долг — отрабатывать свои долги и не ставить под удар чужие судьбы, — ровно произносит Генри и, поморщившись, возвращает руке её человеческую форму, — что будет, если меня при работе в поле сорвет? Если голод отшибет во мне все человеческое?
— Мы справились с тобой один раз… — произнес Артур.
— Вчетвером. Ты не находишь, что таскать на всякий мой выход весь Триумвират архангелов — какая-то нерациональная трата вашего ресурса? — Генри, кажется, вот-вот взорвется. — Вообще, если выбирать между альтернативой вернуться на крест и дать вам освобождать больше голодных ублюдков вроде меня, то я предпочту распятие.
Тут Генри замолкает, вновь забивается в угол дивана, обхватывает плечи руками, будто уже жалеет о своих словах.
— Хартман, ты разошелся, — тихо произносит Артур, — я же сказал, твоя душа получила помилование.
— Ты же знаешь, Арчи, моя душа не стоит и полпенни, — глядя в одну точку, безжизненно отзывается Генри, — но другие здесь работают. Хотят исправиться. Мечтают о перерождении. Нельзя их ставить под удар, — он задевает взглядом Агату, и она внезапно ощущает приступ озноба.
— Девушка не имела дела с твоими подвигами, — голос Артура звучал даже не твердо — несокрушаемо, — я имел. Я семь лет охотился за тобой по всей Англии, три раза ты меня чуть не отправил в Лазарет, и после того как я проследил за твоим распятием — смог с чувством выполненного долга уйти из отдела ангелов-защитников. И если бы мне сказал кто-нибудь, что ты сойдешь с креста и после этого будешь беспокоиться о судьбе тех, кого раньше считал не более чем своей кормовой базой — я бы, пожалуй, отправил такого человека в отпуск, потому что счел бы, что он очень сильно переработал.
— Ты не можешь мне верить, — губы Генри еле шевелятся, — это может быть ложь, я могу пудрить тебе мозги.
— Ты не вернешься на крест, Генри, — мягко произносит Артур, — без вновь совершенных грехов — не вернешься.
— Если таков твой ответ — я же могу и помочь тебе в принятии верного решения, — Генри вздыхает, — все-таки, может, лучше обойдемся без пострадавших?
— Ты спятил, да? — резко спрашивает Агата, и Генри вздрагивает, на его лице проступает боль — концентрированная, сильная. Сложно представить, какая горечь сейчас выжигает его душу.
Он открывает было рот, но Агата вскакивает на ноги.
— Ты можешь быть идиотом, — она встряхивает ладонями и шагает к нему, — но какого черта ты вообще смеешь тут просить возвращения на крест? Мне каково, по-твоему, это слушать?
— Ты забудешь, — шепчет Генри, — ты меня забудешь.
Ладони очень чешутся хлестнуть его по лицу, привести в чувство от накатившего внезапно суицидального приступа самобичевания, на Агата выдерживает этот прилив. Она не хочет его унижать. Она не знает о том, какие грехи стоят за его спиной — и это сейчас не столь важно. Но его осанка, мимика, выражение лица — во всем ощущался его внутренний стержень. Такие мужчины вовсе не прощают нанесенных оскорблений, задень один раз — вычеркнут из жизни навсегда.
— Я не забуду, — кратко возражает она, — не дождешься. Никогда не забуду, вплоть до перерождения, буду всякий раз ненавидеть себя за то, что позволила тебе снова отдаться небесным карам, но я не приду к тебе, Генри, ни разу не приду.
Сама того не ожидая, Агата нащупывает больную точку — лицо Генри резко бледнеет. Губы шевельнулись — Агата даже готова услышать вымученное «Пусть», окрашенное самоубийственным искусственным равнодушием, но Артур покашливает, вмешиваясь.
— Хартман, я очень высоко ценю вот этот весь драматизм, поверь, я знаю, что это все не фальшь, — на этом архангел задумчиво кивает и, выйдя из-за стола, подходит к окну, — но ты на крест сейчас вернуться не сможешь. Оковы просто не станут тебя держать. Твоя судьба определена небесами, ты должен попытаться встать на верный путь. И если ты сейчас назло мне и самому себе попытаешься кому-нибудь навредить — я лично проведу над тобой экзорцизм. Два-три — сколько потребуется, чтоб тебе стало тошно от мысли, что ты причинишь вред чужой душе.
Судя по виду Генри, тошно ему уже сейчас. Он роняет голову на руки, чуть раскачивается взад-вперед, так впиваясь пальцами в волосы, будто хочет их выдрать. Агата присаживает рядом, касается его колена. Его рука накрывает её пальцы таким резким движением, что сердце напуганно подпрыгивает.
— Не бойся, — умоляюще шепчет он и, прикрыв глаза, притягивает её ладонь к своей щеке, прижимается к коже губами.
Артур за спиной вежливо закашливается, напоминая о себе, заставляя Агату чуть покраснеть. Она выпрямляется, не отнимая у Генри своей руки, чуть оборачивается к Артуру.
— Идите отдохните, господа, — спокойно произносит Артур.
Усталость действительно нарочито покашливает за спиной, но Агата уже около часа не обращает на это внимание.
— Пусть вернут жетон, — недовольно произносит Генри, — я сам теперь за ним на Верхний Слой не поднимусь.
— Завтра занесу, — отмахивается от него Артур, — конец смены все-таки. Скоро мне принесут все невостребованные жетоны.
Никаких взысканий? Или никаких взысканий сегодня?
— Завтра, мисс Виндроуз, все наказания завтра, когда мы уже будем знать, как серьезно вы накосячили, — улыбается Артур на растерянный взгляд Агаты. — И вашу судьбу мы тоже обсудим завтра, защитница вы наша…
— Не все наказания завтра, — краем рта и еле слышно произносит Генри, и Агату бросает в жар. Она может сбежать — да, может. У него нет жетона, даже если поймает её за руку во время перехода, он с ней не перенесется, у него таки есть материальная в смертном мире оболочка, в отличие от неё — материальной лишь номинально. Вот только сбегать — самое последнее дело. Она ещё в смертной жизни приняла решение встречать проблемы лицом к лицу, и не жалеет о том решении. И потом, есть в ожидании его «расправы» — Агата догадывается, какого рода ей предстоит наказание — сладкое предвкушение. Ей богу, он может наказать её куда сильнее, если попросту пошлет её к себе, к той самой «холодной, пустой, постели», о которой сам недавно говорил. Кажется, он все-таки заразил Агату своей похотью, своей страстью, иначе почему сейчас её мысли совершенно не об ответственности за нарушение запрета Триумвирата?
— Пешком? — тихонько спрашивает Агата, когда Генри ловит её запястье и шагает в сторону двери. Через взлетную площадку было бы быстрее.
— Да, — отрывисто говорит он, — экзорцизм меня пока от крыльев отрезал. Так что пешком.
— Ладно-ладно, — Агата сейчас на все согласна, лишь бы он не злился.
Еще один раз (5)
— Я сегодня чуть не убил, понимаешь? — буднично интересуется Генри, когда они уже отдаляются на приличное расстояние от кабинета Артура.
— Извини, — Агата тихонько касается его руки, чуть выше локтя. Генри останавливается, тяжело выдыхает, затем обнимает Агату, крепко, выдавливая из легких воздух и сдавленный писк.
— Видимо, придется таскаться с тобой хвостом, — шепчет он, — раз ты так любишь влипать в неприятности.
— Ты меня почуял, да?
— Ну вообще-то не только тебя, — едко улыбается Генрих, и Агате вдруг становится неловко. Наверное, ему не очень-то приятно, что Агата была с Джоном — при том, что Генри не раз упоминал, что Джон питает к Агате совсем не дружеские чувства.
— Он извинился, — неловко оправдывается она, будто это как-то смягчает положение.
— Я догадываюсь, — в глазах Генри бушует яростное пламя. Нет, он не скажет ни слова, но кажется, что уже сейчас он готов разорвать кого-нибудь в клочья.
— Так ты пошел за мной… из ревности? — догадывается Агата, и Генри вздрагивает от неожиданности, явно не ожидая такого заявления.
— Да, — спустя секунду отвечает он, — нам не запрещали во время прогрева двигаться, поэтому я пошел за вами.
— А как же «это ваше личное»? — Агата не удерживается от шпильки. Ей вовсе не до глупых обид, в конце концов, сегодня Генри спас её. Но все-таки не подколоть сложно — сразу чувствует себя слегка отомщенной.
— Смешно, да, — от улыбки Генри хочется бежать. Он на секунду останавливается, затем прихватывает Агату за руку и тащит куда-то. В сторону, противоположную выходу.
— Куда ты… — Генри смотрит на неё так, что Агата замолкает на полуслове. В его взгляде четко читается «Еще одно слово, и я раздену тебя прямо в коридоре». Все-таки на такие уступки Агата не готова…
— Это же кабинет Джона, — шипит она, когда Генри наконец-то останавливается, и приседает, заглядывая в замочную скважину.
— Ага, кабинет — его, — Генри выпрямляется, шагает к Агате, выдергивает у неё из волос шпильку и спустя двадцать секунд вскрывает замок, — а ты моя, — шепчет он, втаскивая Агату в темную комнату.
— Ты с ума сошел, — охает Агата, а он впивается губами в её шею, и ноги подгибаются сами.
— Ты будешь думать только обо мне, — выдыхает Генри, — и даже здесь, когда впредь будешь бегать к своему дружку, ты будешь думать о том, как здесь мы с тобой трахались.
— Он может прийти! — тоненько взвизгивает Агата. За её спиной — твердая стена, на шее — раскаленные губы, на бедре — его крепкая ладонь. Кажется, что она насквозь одержима, потому что тело вспыхивает практически сразу.
— Не морочь мне голову, — у Генри даже тон насмешливый, даже в сумрачном, не освященном кабинете Джона ясно, что он ухмыляется, — я что, по-твоему, могу почуять тебя в небе над собой, но не почую Миллера на подходе?
— А вдруг не скажешь? — выдохнула Агата, захлебываясь дыханием, потому что его пальцы скользят по бедру, выше — неспешно, неторопливо, поглаживая кожу под тонким чулком.
— Я, конечно, хочу тебя наказать, — мурлыкнул Генри, — но если он нас застанет — после такого, думаю, наказывать будет впору меня.
С ним невозможно спорить. Только разлепишь губы, и в рот врывается беспощадный язык, не дает выдохнуть ни звука, выцеловывает каждый глоток воздуха, затапливает душу яростным жаром. Кажется, вот — увернулась, открыла было рот, а пальцы впиваются в клитор, сжимают, теребят, поглаживают, и в животе скручивается огненный шар, и кажется, что лишний раз шевельнешься и изжаришься изнутри, и все что можешь в эту секунду — лишь только дышать, вот только дышать не получается, воздух вдруг становится каким-то бесполезным, его мало, сколько не вдыхай.
Да и по честному-то возражения не очень-то рвутся с губ Агаты, почему-то ей и самой кажется волнительной эта его безумная мысль. Если что — он скажет, предупредит, и их точно никто не застукает — вытвори он такое, и ему действительно не сдобровать. Да — Джон её друг, и… это несколько не этично — заниматься этим в его кабинете, на его столе. Но черт возьми, до чего гулко бьется сердце, до чего будоражит Агату эта идея. У Генри совершенно непредсказуемая фантазия, поневоле следуя её выкрутасам, чувствуешь себя распутной девчонкой, но в кои-то веки от этого ощущения кровь не стынет в жилах.
— Так что? Согласна? — шепчет он, по-прежнему целуя её шею, практически рисуя на ней что-то языком — кажется, он уже понял, что от этого Агата хмелеет сильнее, чем от любой другой ласки. Целует, слегка прикусывает кожу — совсем чуть-чуть, и легкий привкус боли, кажется, обостряет восприятие, заставляя напрячься каждый нерв.
— Согласна, согласна, — сбивчиво шепчет Агата, и за это её согласие её награждают его пьянящие губы.
Генри торопится — видимо, тоже не хочет попасться, впрочем, сейчас Агате сполна долгие прелюдии заменяет адреналин. Он заставляет её кровь кипеть, заставляет непослушными пальцами расстегивать рубашку Генри. Да, некогда, да — не до особых ласк, но ей по-прежнему все так же хочется его голой кожи под своими руками.
Со стола Джона падает несколько папок, и рассыпаются по полу документы. Это свинство, это форменное свинство, да, Агата это понимает, но все, что она может сейчас, — это тихонечко постанывать, впиваясь пальцами в его плечи. Она пока сдерживается, хотя ей хочется прибегнуть к помощи ногтей.
— Быстрее, — шепчет она, силясь не прикусить ему мочку уха. Она знает, что его это провоцирует, что ему становится сложнее сдерживаться, но сейчас ей чертовски хочется именно необузданной, дикой, крышесносной страсти.
— Ага, сейчас, — вкрадчиво, растягивая гласные, отзывается Генри, и почему-то в его тоне Агате мерещится некая угроза. Услышав треск ткани, она беспокойно ахает, ей совсем не улыбается покидать ДСС голышом, но нет, Генри рвет не платье — но её трусики, торопливо запихивая их в свой карман.
— Ты спятил? Как я пойду без них? — возмущенно пищит Агата. Голые ягодицы прикасаются к холодной столешнице, охлаждая горячую кожу.
— Поправишь юбку, делов-то, — Генри, кажется, вообще не понимает сути проблемы. Действительно, юбка длинная, до колен, такое не разглядишь — особенно если пойдешь пешком. Никаких полетов однозначно сегодня Агате не светит. Хотя наверное, пройтись по улице вот так, без белья, будет весьма волнительно.
Подумать об этом Агата не успевает. Генри придвигает её бедра к себе.
— Давай-ка посмотрим, насколько ты готова, — шепчет он и его пальцы скользят по промежности девушки, касаются нежных, уже таких влажных складочек, осторожно их раздвигают. Агате кажется, что она сейчас взорвется от напряжения, от его шепота, что нежным бархатом ласкает кожу.
— Даже не думал, что праведницам так нравится быть дрянными девчонками, — он даже смеется так, что в груди сладко сжимается сердце. Какая она, к черту, праведница, скорей уж завзятая греховодница, совершенно потерявшая чувство меры. Агате хочется закрыть глаза, отдаться на волю его рук, но в таком случае они могут не закончить и к концу смены Джона, потому что Генри любит хорошенько помучить её ласками, прежде чем перейти собственно к соитию.
— Прости, мы сейчас чуть поторопимся, — ласково мурлычет Генри и сжимает пальцы на ягодицах Агаты.
В кабинете темно, светоч зажигается только в присутствии Джона, однако в окно подглядывает любопытная луна, именно поэтому глазам есть на что посмотреть — а именно на плавный рельеф мышц демона, его подтянутый живот. Кажется, Агата еще не целовала его живот, еще не осмеливалась на подобные нежности, нужно будет подумать об этом на досуге.
Генри снова оттягивает начало процесса, касаясь раскаленными поцелуями — кажется, каждый будто клеймо отпечатывается на её коже, лица Агаты и дразня её — уже в третий раз касаясь тугой головкой члена нежных половых губ, всякий раз задевая чувствительный вход, но уклоняясь от нее.
— Тебе не надоело издеваться? — наконец выдыхает Агата, когда он запечатлевает поцелуй на её подбородке и обламывает её в пятый раз.
— Не-е-ет, — протяжно выдыхает Генри, но наконец толкается членом внутрь — медленно, выбивая из груди Агаты протяжный вздох. Его ладони крепче смыкаются на заднице Агаты, ей от неожиданности хочется взвизгнуть, но все-таки она помнит, что за дверью, в коридоре, нет-нет, да и проходят серафимы-стражи, пришедшие со своих дежурств, а дверь — не заперта. Терпит. А Генри, кажется, совершенно забывает про границу «можно-нельзя», потому что его пальцы касаются и второй дырочки, слегка толкаются в неё. Агата прикусывает губу, силясь на закричать — ощущение внезапно сильное, хоть и противоречивое. От его твердых пальцев чуть щекотно, но из-за них острее чувствует его член, его движение в ней, и от этого удовольствие становится резче, острее, невыносимее, накрывая девушку своим шквалом. Агата захлебывается в восторге, придвигается ближе к Генри, вцепляется в плечи, обхватывает ногами. Она не хочет его выпускать сейчас, да что там — она не хочет его выпускать вовсе. Ни! Ко! Гда!
— Господи, — тихо выдыхает Генри, и кажется, это первое слово удовольствия, которое Агата от него слышит. Хочется еще, хочется, чтобы и он наконец забылся, перестал быть таким безмолвным, искушенным, закрытым. Чтобы можно было ощутить, что ему с ней хорошо не только по хриплым выдохам во время его оргазма.
Агата теряется в ощущениях, её удовольствие доходит до пика неожиданно быстро. А затем Генри отстраняется.
— А ты? — удивленно шепчет Агата. Она точно знает, что он еще до своего конца не дошел.
— Позже, — ухмыляется Генри, — одевайся, а то нас поймают.
Джон рядом. Эта мысль несколько приводит Агату в чувство. Генри торопливо застегивает рубашку, поправляет жилет, помогает Агате справиться с застежкой на платье.
— Зачем расстегивал вообще?
— Ты меня нарочно бесишь, да? — Генри изучающе смотрит на неё. — Хочешь с кровати сегодня вовсе не встать?
— Ты не очень страшно запугиваешь, — Агата и сама удивляется собственной дерзости. Почему-то дразнить его особенно приятно. Кажется, она заразилась этим от него же.
— Кажется, я все-таки сделаю из тебя распутницу, — пальцы Генри осторожно касаются её щек, — и я даже не уверен, что это хорошо.
Его голос звучит неуверенно, и эта его мысль — честная, не шуточная. Кажется, что-то за ней кроется, и Агата обещает себе, что подумает об этом позже.
— Нам можно выходить? — тихонько спрашивает она, а Генри качает головой.
— Там два каких-то придурка неподалеку болтают. Вот так вот взять и выйти из кабинета Миллера во время его ночной смены будет подозрительно, не так ли?
Да. Очень подозрительно. С учетом того, что Агату в ДСС знают — не все, но знают, это будет самый фееричный провал.
— Черт, — Генри морщится, и по коже Агаты бежит холодок.
— Что?
— Взлетел! — сквозь зубы шипит Генри. — Идея была дерьмовой, а я все-таки просчитался…
Агата обмирает. На то чтобы подняться сюда с земли нужно не так уж много времени. Секунд сорок.
— Не бойся, — тихонько шепчет Генри, — ну не убьет же он нас, да?
— А кто там болтает? — в надежде напороться на незнакомых спрашивает Агата. Впрочем, тщетно.
— Найджел, — ровно отвечает Генри и вздыхает. Сжимает руку Агаты. Вот теперь становится страшновато… По-настоящему.
Генри садится на краешек стола, заставляя Агату встать чуть позади себя, подальше от внешней двери, ведущей на взлетную площадку.
— Не бойся, — он кажется безмятежным, — все будет нормально.
Агата в этом не уверена. Ей хочется ругаться и чертыхаться, запоздало хочется рвать на голове волосы, от того, что она согласилась на эту затею. Но альтернативы у них очень спорные — либо выскочить в коридор прямо перед носом Найджела, который, разумеется, сразу же скажет Джону о его незваных гостях, либо встретить Джона лицом к лицу. Последний вариант кажется честнее. И страшнее.
Правда, когда в замке внешней двери поворачивается ключ — иных вариантов просто не остается.
Самый неудачный расклад (1)
— Какого черта?!
Когда под потолком вспыхивает светоч, становится очевиден масштаб бардака — пол вокруг стола обильно усыпан страницами из отчетов, по некоторым из них Агата и Генри даже прошлись… Кажется, что некоторые папки просто неожиданно решили взорваться.
Джон замирает в дверях, с каменным лицом обозревая комнату.
— Не ругайся, Миллер, это, кажется, тоже грешно, — насмешливо улыбается Генри. Почему-то Агате мерещится вызов в его голосе, да что там голосе — в выражении лица, в скрещенных на груди руках, в твердо развернутых плечах.
— Хартман, — Джон тяжело опирается на дверь, кажется, пытается дышать, но у него это не очень-то получается, — что вы тут вообще забыли?
— Какие твои гипотезы «друг» моей девушки? — ехидно спрашивает Генри, подчеркнуто с издевкой выговаривая слово «друг».
В эту секунду Агата замирает. Эта ситуация не выглядит как обычный разговор. Генри как будто ожидал его… Возможно, даже так, как будто, он сам его подстроил? Может ли быть такое, что Генри нарочно «не рассчитал» и почуял Джона раньше, только не сказал Агате об этом.
Ей хочется, чтобы Джон не понял, что тут было. Потому что если он поймет — он, разумеется, легко это все представит. И это выставит Агату той самой распущенной дурой, которой она сейчас себя и чувствует. Интересно, Найджел действительно есть в коридоре, или Генри солгал ей и об этом, желая разделаться с дружбой Агаты и Джона самым беспощадным образом?
— Твоей девушки? — презрительно переспрашивает Джон, и Агата понимает, что её надежды оказались тщетны, он все понял, — или твоей подстилки, Хартман?
Кажется, у Агаты звенит в ушах. Подстилка. Какое же мерзкое чувство юмора у её судьбы. Именно это слово она слышит в свой адрес. Снова. Чернота, которую она так старательно давила в сердце эти несколько дней, поднимает голову.
— Ты бы язык-то попридержал, святоша, — холодно советует Генри, и его плечи ощутимо напрягаются, будто в ожидании драки, — или что, завидно, что я залез ей под юбку первым?
Между дверью, у которой стоит Джон и письменного стола, на который опирается Генри, всего два шага. И это оказывается безумно мало, потому что Джон преодолевает это расстояние за один только Агатин вдох. Пока она выдыхает, Джон хорошо поставленным ударом в голову заставляет Генри пошатнуться. Демон не отбивается — очевидно, боится, что это спровоцирует приступ демонического голода, поэтому когда Джон заносит кулак для второго удара, Агата бросается наперерез, виснет на его руке.
— Не надо, Джо!!!
Джон разворачивается к ней, и в его бледном лице Агата видит ледяную, сосредоточенную ярость. И Немезида обращает свое внимание и на неё.
Хлоп… Хлесткая, резкая пощечина обжигает правую сторону лица, слепит болью. Агата отшатывается, хватаясь за вспыхнувшую щеку.
Джон встряхивает ладонь с брезгливым выражением лица.
— Во что ты превратилась? — с видимым отвращением спрашивает он. — Тебе настолько в удовольствие быть его подстилкой?
— Заткнись, — рычит Генри, под кожей его напряженной спины будто проходят волны, пыльцы левой руки дрожат и медленно вытягиваются.
— Заставь, — Джон выдыхает это с яростью, ударяя ладонями по пустой столешнице. Агата смотрит на его стол и пытается не думать, что Джон прав.
Она действительно будто потеряла себя. Ей хотелось забыться, избавиться от страхов, и это ей удалось, настолько, что забыла она даже какие-то минимальные понятия о правильном и неправильном. Но страхи никуда не делись. Лишь спрятались на время. Черт возьми, душа сейчас бьется в истерике, от отвращения к себе, стыда, боли. Но сейчас времени на все это нет. Генри свирепеет с каждой секундой — в его лице уже проступают черты его боевой формы, и Джон, кажется, тоже не собирается успокаиваться.
— Мне ты врезать вполне имел право, — рычит Генри, — девчонку не трожь.
— Какая, черт возьми, между вами разница? — яростно выдыхает Джон. — Она — твоя дешевая подстилка, для которой уже ничего святого не осталось.
Подстилка, подстилка, подстилка… Слово будто эхом отражается от стен, раз за разом ударяя Агату по лицу. И ведь так её называет лучший друг, не кто-нибудь другой. Воздух, которым дышит Агата, неожиданно становится горьким, невыносимым, противным.
— Идем, — Агата вцепляется в плечи Генри, практически силком толкает его к двери в коридор, — достаточно!
На самом деле ей хочется рыдать, самой надавать себе пощечин, да посильнее. Но сейчас нужно обезопасить Джона, увести Генри подальше от цели возможного срыва, добраться до дома и вот тогда уже будет можно заняться самобичеванием.
Генри неожиданно подчиняется. Позволяет вытолкать себя в коридор. Агата оглядывается, пытаясь понять, насколько Джон не в духе — вроде бы хочется сказать «Прости» на прощанье, но кажется, ему невыносимо тошно, он упал уже в кресло и обхватывает голову руками, и тихо едва слышно воет от сдавливающей сердце боли.
В коридоре Агату встречает пустота. Не понятно, то ли Найджел с собеседником так «вовремя» ушли, то ли их и вовсе не было.
Генри смотрит на неё и шумно дышит. Молча. Видимо, читает её эмоции, что ж — пусть читает. Пусть ощущает её к себе презрение. Не жалко.
Он шагает вперед, хочет прикоснуться к ней, обнять, но Агата отшатывается. Она и так чувствует себя оскверненной, грязной, никчемной, усугублять положение, вновь отдаваясь под влияние похоти, она не хочет. Здесь, в коридоре, Агате становится хуже — еще черней, еще тоскливей, чем было.
— Зачем? — выдыхает она, глядя на Генри, а он… Он пожимает плечами. Молча.
Он просто ревновал, иных объяснений быть не может. Это все-таки подстроено, и черт возьми, как же мерзко она себя ощущает. То, что еще полчаса назад казалось волнующей, немножко распутной, но интересной идеей, сейчас кажется отвратительным надругательством над чувствами её друга к ней. Она не должна была так с ним обращаться.
— Уходи, — с трудом произносят непослушные губы, — Генри, уходи.
— Ты хотела всего этого, — тихо произносит Генри, глядя в сторону, — всего. Каждый раз. И того, что было… Ты хотела.
Это правда. Подстилка же не думает о последствиях, о чувствах других людей. Подстилку хлебом не корми — дай подстелиться. Он прав. Она хотела. Вот только, кажется, пора уже научиться внятно отказываться от эмоциональных порывов.
— Больше не хочу… — из последних сил произносит Агата и, так как он не шевелится, бросается в сторону выхода сама. Её никто не преследует. Генри так и остается на месте, неподвижный, закаменевший, уставившийся в одну точку. Агате хочется вцепиться зубами в свои руки, изодрать их в кровь, может, тогда лицо не будет так пылать от стыда. Как она вообще до такого докатилась? Она!
Ноги несут торопливо, спешно, Агата оказывается в своем общежитии быстрее, чем успевает нацепить адекватное выражение лица. Впрочем, плевать, что подумает о подстилке демона дежурный консьерж, да?
Только здесь, в своей маленькой квартирке, забившись под одеяло, Агата позволяет себе захлебнуться в слезах.
У судьбы — самое отвратительное чувство такта. Кажется, именно сейчас она самым доходчивым образом объясняет Агате, что в её жизни сделано неправильно. И Генри вовсе не виноват, и мысли нет его упрекнуть. Да, ему пришла идиотская идея, да, он захотел раз и навсегда избавиться от соперника.
Она была виновата в этом всем сама. Она не объяснилась с Генри о роли Джона в её жизни, она, черт возьми, не отказалась от этой сумасбродной идеи. Ведь Генри прав — она хотела. Безумно хотела, безумно волновалась и была возбуждена из-за того, что их могли поймать. Голове не хватило мозгов подумать о том, что будет, если это произойдет. И судьба решила это ей «продемонстрировать». Что в итоге? В итоге…
От следующей мысли Агата рывком садится на кровати, сдергивая с головы одеяло и впиваясь в его уголок зубами, чтобы удержаться от приступа самоагрессии — хочется-то прикусить кожу, и до крови.
В итоге — она сбежала.
Сбежала от Генри. Оставила его в коридоре, у кабинета Джона. Что могло помешать демону вернуться и разделаться с серафимом? Хотя нет… Генри был в адекватном состоянии, в коридоре он уже выглядел спокойным, у него нет жетона, чтобы он позволил себе рассмотреть вероятность побега.
И все же эта мысль Агате не нравится. Сразу в голову лезет всякая пошлая чушь, что вообще-то демон удовлетворения не получил, и вполне мог и сорваться, тем более, кажется, именно Джон говорил про притупление их греховного голода путем утоления похоти.
Эмоции эмоциями — а именно Агата является поручителем Генри. Что-то это значит. Хоть какую-то ответственность. Она уже поступила безответственно, сбежав. Нужно хотя бы убедиться, что все в порядке.
Агата торопливо переодевается в черные свитер и брюки, мимоходом думая, что вряд ли завтра удастся надеть форменное платье Лазарета и избавиться от неприятных мыслей, но это её вина, и она с ней разберется. Завтра. Зачесывает волосы в хвост. Сейчас хочется хоть себе казаться чуточку скромнее.
Здания общежитий находятся примерно в одном и том же месте на каждом слое. Вообще, общежитий в Чистилище много. Их было бы больше, живи все грешники на одном слое, но таки многослойность измерений помогает избежать тотального загромождения пространства. Дома, в которых селят демонов на верхнем слое, находятся на отдалении от улиц серафимов-стражей. Это обосновывали соображениями безопасности, но Агате эти соображения не нравятся — приходится преодолевать большое расстояние. В общежитии Джона нет, это Агате не нравится еще сильнее. Он где-то пытается успокоиться, или его душа уже истощена?
У общежитий демонов строгая иерархия по заселению, но даже знающей это Агате не сразу удается найти дом, в который селят свежеосвобожденных.
Находит. Слышит от дежурного вахтера, что Генрих Хартман заселился десятью минутами ранее, переживает некую форму облегчения, спрашивает номер квартиры Генри. Демоны на неё оборачиваются — то ли в их обители редки серафимы, то ли кто-то узнает в ней сестру милосердия, то ли просто от неё действительно сильный запах. Эта мысль звучит странно, но Агата пытается примириться с тем, что ей не понять демонического восприятия.
Генри открывает дверь еще до того, как она успевает в неё постучать. Видимо, почуял её на подходе. Все-таки дело в запахе.
— Собираешься в монашки, отмаливать свое распутство? — насмешливо интересуется он, опираясь плечом на косяк и оглядывая Агату. От его взгляда даже в водолазке под горло она чувствует себя себя едва ли не стриптизершей.
— Хотела убедиться, что все в порядке, — тихо произносит Агата, а Генри пожимает плечами.
— Миллера я не сожрал, — саркастично замечает он, — спасибо за доверие.
— Дело не в этом…
— Не ври, — скучающе обрывает её Генри, и Агата замолкает — потому что он прав.
— Хорошо, — Агате ужасно сложно стоять здесь, выдерживать его взгляд, потому что, черт возьми, страшно. Страшно глядеть в его глаза, страшно думать, что не так уж и много ему нужно сделать, чтобы переломить её через колено. Что, возражения, сомнения? Долго ли они выдержат под натиском горячих губ? Если глядеть правде в глаза — не столь уж многое в Агате хочет сопротивления. Ей нравилось быть с ним. Каждую секунду.
— Мне повторять не нужно, — ровно произносит Генри, — ты больше от меня ничего не хочешь. Не хочешь — хорошо, больше я к тебе не прикоснусь вовсе.
Он нарочно смотрит мимо, хотя Агате кажется, что он смотрит чуть ли не в её душу, так чутко угадывая очередную её мысль.
— Значит, все в порядке? — осторожно спрашивает Агата.
— Как будто, — Генри улыбается. Натянуто.
Самый неудачный расклад (2)
— Я что?
В руках Агаты коробка с её вещами. В основном с карандашами и изрисованными листами бумаги. Еще в ней чашка и засохшее печенье, забытое с какого-то чаепития с Рит. Вещи уже собраны внимательной Рит и педантичным Кхатоном.
— Вы переведены, мисс Виндроуз.
Кхатон явился в Лазарет, чтобы сказать это лично. Наверное, это должно выглядеть особой честью, но… выглядит это будто бы наказанием. И слово «переведены» так похоже на «вы уволены» из смертной жизни…
Агата и так чувствует себя неважно, утром проснулась с лицом, опухшим от слез, и поднять настроение оказалось нечем, поплакать — не в кого. А по приходу на работу расстройства добавляет еще и встреча с главой Лазарета в их маленьком, никому не нужном кроме неё и Рит кабинетике.
— Почему, сэр? — устало спрашивает она.
— Триумвират решил, что вам будет не с руки выполнять ваши обязанности поручителя троих амнистированных, находясь на три слоя ниже, чем они, — миролюбиво сообщает Кхатон. Из-за его спины выглядывает непонимающая мордашка Рит.
— Это чтобы я не посещала Полей? — уже совсем для галочки спрашивает Агата.
— Мисс Виндроуз, вы так обиженно говорите, будто мы вас мороженого лишаем, — терпеливо улыбается Кхатон, — нет, вас не лишают возможности посещений. Но без нашего разрешения вам кордон теперь будет не пройти.
Это ограничение бесит, даже не взирая на то, что Агата понимает его правомерность. Но нет. Сейчас нет повода спорить, она прекрасно помнит, чем закончился её последний диспут с Триумвиратом в лице Артура и нарушение его распоряжения. Из Лазарета её убирают, чтобы не было возможности соваться к демонам с водой и хлебом. Ну а что — это же обезопасило бы Агату. Но не тех, кому потом с демонами придется работать.
Агата не спорит. Обнимает свою коробку, печально улыбается Рит, прощается с Кхатоном и покидает Лазарет. Тоскливо. И так было тоскливо и пусто этим утром, а сейчас внутренняя пустота как-то очень обострила свои костистые углы. Агате нравилась работа в Лазарете. Молитвы об истощенных душах, миссия милосердия, вся эта деятельность давала ей почувствовать себя причастной к чему-то важному. А чему она поможет будучи «поручителем» демонов?
На верхнем слое Агата не сразу идет в Штрафной Департамент.
Сначала нужно переговорить с Джоном. Возможно, сегодня он сможет хотя бы выслушать её извинения.
Коробку с вещами Агата опускает на пол у двери кабинета Джона. Вряд ли кому-то были нужны её карандаши.
Пальцы выстукивают по дереву незатейливый ритм. У них с Джоном вообще-то есть условный стук, но сейчас пользоваться им кажется кощунством. Она уже предала его дружбу, она не имеет права пользоваться чем-то, что с ней связано.
— Войдите, — ровно звучит голос Джона, и когда Агата заходит — он стоит у окна, убрав руки в карманы, глядя на плывущие облака. Поворачивается, бросает на неё взгляд и отворачивается снова.
— Я хотела помочь тебе разобрать бумаги, — тихо произносит Агата, — если ты, конечно, уже сам не разобрался.
— Дерзай, — Джон качает головой в сторону дивана. Здесь стопкой свалены папки и бумаги, больше, чем Генри скинул со стола вчера.
— Я вчера и сам психанул, — неохотно поясняет Джон, как будто у него требовали объяснений. Агата и так подумала, что он в раздражении сбил со стола стопку бумаг уже чисто для того, чтобы дать своему гневу выход. А утром просто сгреб это все на диван, не в силах разбираться в бумагах прямо сейчас. Видимо, и его душевное равновесие вчера было очень сильно нарушено.
Рассортировать отчеты обходов не так сложно, в конце концов, у страниц сквозная нумерация и на каждой проставлен серийный номер отчета. Хотя — в данном случае страниц было просто много. Работа не забирает много времени, дурацкие сорок минут, а потом Агата пару секунд сидит молча, держа в руках последнюю папку. Сложно сказать «Прости», она не уверена, что вообще имеет право просить о прощении за такое надругательство над его чувствами.
Так и не найдя сил на слова, встает, хочет подхватить стопку папок, чтобы перенести на стол.
— Оставь, — тихо произносит Джон. Агата останавливается, поворачивается к нему, встречает его прямой взгляд — опускает глаза. Сложно видеть такое его лицо, в нем та же боль, что и вчера. Никакими словами эту боль не утолить. Она его предала. Поддалась настроению, сиюминутной взбалмошной прихоти.
— Рози, постой, пожалуйста, — рука, уже сжавшая дверную ручку, останавливается. Она не смеет обернуться. Она ни в коем случае не достойна его прощения. Она не достойна этого умоляющего, усталого, будто слегка надтреснутого голоса, ласкового обращения.
Плеча касается твердая ладонь.
— Пожалуйста, не стой ко мне спиной, — у Джона настолько умоляющий голос, что кажется, что он стоит на коленях.
Агата поворачивается. Пытается выдержать его взгляд — это тяжело, страшно, мучительно. Просто душа наизнанку выворачивается, когда Агата видит его глаза — уставшие, больные, красные. Кажется, он не спал сегодня ночью. Его ладонь касается её правой щеки, Агата подается было назад, чтобы он не осквернил себя прикосновением к ней, но в выражении его лица проскальзывает такая боль, что она останавливается.
Его пальцы теплеют, как и всякий раз, когда он пользуется святым словом для исцеления. Слабая ноющая боль от его пощечины, такая незаметная при всех этих переживаниях, растворяется в небытии.
— Прости… — эти слова срываются с их губ одновременно, а затем крепкие руки Джона сгребают её в охапку, стискивают. Она не заслуживает этих объятий, его просьб о прощении, черт возьми, — она не заслуживает даже просто глядеть в его глаза, не то что как сейчас — захлебываться рыданиями, утыкаясь лицом в его плечо, стискивая пальцами его рубашку.
Кажется, что душа рвется в клочья, к чертовой матери.
— Прости меня, прости, прости, прости, — лепечет она, вцепляясь в него, обхватывая его руками.
— Ну тише, тише, Рози, — тихонько шепчет Джон, поглаживая её по спине. Его сердце бухает где-то рядом с её ладонями, в этом стуке Агата будто слушает поступь своего облегчения.
Можно ли чувствовать себя нормально? Он её простил? Нет, до конца она сама себя простить не может, но сейчас хотя бы нет ощущения, что она сама себе отрезала руку.
У Джона почти прозрачные, голубые как небесная лазурь глаза. Когда-то в школе Агаты был мальчик с такими глазами, и она по нему тайком вздыхала. Сейчас она замирает, встречаясь с ним взглядом, потому что кажется, что она тонет в этих голубых прозрачных озерах. Она редко когда оказывается зачарована привлекательностью Джона, в конце концов, на друзей с такими мыслями не смотрят, но сейчас — она будто впервые его видит. Это пройдет, такое уже случалось, это секундное очарование его лицом, привычка практикующего художника замирать при встрече с чем-то особенно эстетичным. Агата же замирает, глядя в его глаза. И Джон понимает её не так. Он чуть наклоняется вперед и нежно, невесомо касается её губ своими губами. Без толики напора, не выказывая страсти, не требуя взаимного ответа, мимолетно, практически мгновенно. Лишь пара секунд, его губы, нежность кончика языка. Затем он отстраняется, сам, виновато улыбается.
— Я не удержался, прости.
Агата силится сказать хоть слово, но она оглушена и онемела от неожиданности.
— Джо…
— Мне на краткий миг показалась в твоих глазах возможность взаимного чувства, — Джон говорит глухо и опустив глаза, — в конце концов, мы столько друг друга знаем, Рози, разве я должен отказаться от тебя из-за какого-то демона?
— Я с ним была… — тихо произносит Агата и бросает взгляд в небо за окном. В небо, которое пытается подражать цвету глаз Джона и проигрывает в яркости. Почему она сейчас чувствует такую горечь? Почему будто слышит насмешливый смешок Генри за спиной?
— Пусть. Пусть была, — отзывается Джон, — Рози, я это забуду. Я приму это как твою слабость — право слово, ты их себе совсем не позволяла столько лет. Я же знаю тебя, правда. Ты не предаешь тех, кто тебе близок. Если ты сделаешь выбор — то не предашь. Мне это очень важно, правда.
Не предает? Она? Ох, Джон, как же ты не прав. Речь даже не о смертной жизни, полной предательств разного масштаба, но сейчас, здесь, в посмертии, разве она не предает? Того же Генри. Он ведь прав — она хотела. Хотела его поцелуев, объятий, его желания, хотела касаться его тела, его волос, его лица. Он ни разу не принудил её, всегда предлагал выбор, разве он виноват в том, что она не смогла отказаться? Она его выбрала и предала его, сделала ровно то, что, как говорит Джон, ей не свойственно.
— Рози, — Джон касается её плеч, и Агата вздрагивает.
— Кажется, ты думаешь совсем не обо мне, — печально заключает Джон, и его хочется обнять, утешить, но сейчас он поймет её неправильно. Он достоин не жалости, он достоин настоящей, крепкой, верной любви, но Агата, кажется, вовсе не способна на подобное чувство.
— Прости, мне уже пора, — Агата виновато улыбается.
— Ты не дашь мне ответа? — Джон прикусывает губу. Агата не хочет, чтобы он даже таким невинным способом причинял себе боль. Только не из-за нее, она того не стоит.
— Джо, ты удивительно великодушен, великодушней тебя только Небеса, но я тебя не могу принять в свою жизнь так, как ты просишь, — чтобы сказать это, Агате приходится швырнуть себя на колени и выкрутить себе руки, до того ей не хочется делать ему больно, — ты заслуживаешь куда большего, не меня!
Джон прикрывает глаза, чуть поднимая подбородок. Кажется, по его щеке пробегает слеза, но он тут же отворачивает лицо, скрывая её. Агате хочется упасть перед ним на колени по-настоящему. Господи, да даже другом такого человека она не должна сметь называть. Не достойна.
— Иди, — он едва шевелит губами, это слово почти не слышно, но Агата до того хочет сбежать от этой эмоциональной пытки, что услышала бы сейчас это слово, даже произнеси он его мысленно.
Она выскальзывает из его кабинета как можно беззвучней, стремясь не вызвать лишнего всплеска в омуте чувств Джона.
Самый неудачный расклад (3)
Утро начинается с того, что от голода сводит желудок. Генрих некоторое время лежит на кровати вниз лицом, затем встает и ищет, куда вчера задевал просфору. Нюх Генриха обострился настолько, что кажется, что чует он не только тех, кто близко к нему на этом слое, но и на двух нижерасположенных. Руки мелко подрагивают, однако Генрих без особой жалости скручивает собственную сущность и заставляет себя есть медленно, растягивая процесс насыщения. Необходимая победа над собой и сколько их еще предстоит совершить — подумаешь, и от этой тоскливой перспективы хочется сбежать. Туда, в свободный смертный мир, где так легко потерять голову, где голод так легко утолить, но в памяти прекрасно живет воспоминание, что и то насыщение — недолговечно. Греха хочется неумолимо и успокоиться в этом голоде невозможно никакими средствами.
В голове проясняется медленно, во многом из-за чрезвычайно паршивого настроения. Он уже и забыл, что терпеть не может спать в одиночестве. Пустая постель ассоциировалась с торопливыми вечноголодными годами, когда он жил от ночи к ночи, от охоты к охоте, и тогда соседка в постели либо плохо кончала и не была особенно приятной, либо попросту не была достойна доверия. Не то чтобы его тяготит одиночество, но оно ощутимо портит настроение. Он был наедине с собой уже довольно долго, даже если не считать времени, проведенного не на распятии. С одной стороны, это не могло не воспитать в нем самодостаточность, с другой стороны… с другой стороны, именно предыдущие несколько дней были… опьяняюще теплыми. Он просыпался рядом с Агатой, он забывался в ней, утопал в её поцелуях, объятиях, чувствах, запахе. Это было нормально — для первого этапа отношений, когда кроме гормонов в крови ничего не было, да и тем более для Генриха, чья жизнь после амнистии еще не была заполнена ничем кроме этой девушки. Даже необходимость работы не особенно заботила его — лишь только она, её теплота, её улыбки, её время, которое она совершенно без сожалений отдала ему. Черт возьми, это даже напоминало то идиотское наивное счастье, в существование которого Генрих не особенно и верил в посмертии. И ведь надо же было это все так бездарно испортить…
Вчерашний вечер Генрих с удовольствием бы забыл, если бы не педантичная привычка отдавать себе отчет в своих действиях. Вчера он опасно близко оказался рядом с границей срыва, и если вдуматься о том, что подтолкнула его к этому сущая мелочь, получается эта граница и сейчас находилась всего в двух шагах за спиной. И стоило ли в таком состоянии находиться рядом с такой искусительно порядочной душой, как Агата?
Становилась ясна паранойя Триумвирата, весь этот учет, обязательные явки с проверкой состояния кредитного счета, добровольно-принудительные «прогревания» и экзорцизмы тех, чьи счета демонстрировали незначительную отрицательную динамику. Если явился отметиться — есть шанс, что закроют глаза на то, что ты вчера кому-то соврал… Но при этом вымолят в тебе демоническое дотла, до тошноты, до головокружения, без особой жалости или трепета. Бесы после экзорцизмов сидят за своими столами как побитые и пытаются удержать в пальцах хоть что-то. Многих отправляют после экзорцизмов во внеочередные отгулы, если, разумеется, трудоголизм не стучит в сердце пристыженного демона.
У Генриха вчера в сердце стучал совсем не трудоголизм… Ей богу, этот свой вчерашний выкрутас он бы понял, если бы был сопливым пацаном. Ну вот… Приспичило же… Ревность, кипучая, яростная, раздирала все швы на душе, даже при том, что экзорцизм так-то слегка притупил чувства.
К чему ревность? Казалось, не к чему. Но почему, почему Агата так легко простила Миллера? Почему так быстро остыла и даже бросилась с ним вместе на Поля?
Миллер по-прежнему был не дурак. Быстро опомнился, бросился извиняться сразу же — пока Агата не успела понять, насколько далеко его к ней отношение от визируемой дружбы, решил поддержать в сопротивлении запрету Триумвирата. Это было вполне нормально для человека, решившего сделать ответный ход в завоевании девушки, которую уже «осадил» другой. Миллер по праву «старого друга» мог заставить Агату усомниться в её выборе, в Генрихе. Обратить внимание на «несерьезность отношений», он уже резанул правду по живому, ткнув Агату в то, что она, мол, нужна Генриху для притупления чувства голода. И девушка это запомнила — Генрих чуял в ней эти горьковатые мыслишки, резко менявшие вкус её эмоций. И Генриха эти намерения Миллера подшатнули, заставили его ощутить неуверенность. Хотелось ответить ему чем-то… Чем-то аналогичным этой его «правде» о демонической инстинктах.
Ответил… В планах попадаться не было, в планах имелось оставить на месте преступления женские трусики и пару собственных волос. Миллера бы тряхнуло, он бы психанул… и отстал бы. Очень вероятно, что он бы так сделал. Куда уж доходчивей разъяснить выбор девушки… Но вышло по-другому. Трусы остались в кармане, Миллер вернулся раньше конца смены, появился гораздо ближе, чем ожидал Генрих, да еще трепачи эти не смогли себе выбрать другое местечко для сплетен, короче говоря, все условия сложились ужасно неудобно. Самой неудачной комбинацией карт из всех возможных.
И реакция Агаты на слова Миллера Генриху не понравилась. Она была слишком сильной, слишком эмоциональной. Даже слова близких друзей не воспринимают так близко к сердцу. А Агату практически трясло от каждого высказанного ей оскорбления, так, что Генрих поневоле напрягся. Может ли такое быть, что он недооценил степень её симпатии к Миллеру? Это подозрение оказывается очень неприятным. Ему необходимо выдохнуть, отойти, чуть-чуть подумать. Дать подумать ей наконец. Сейчас он для нее — виноватый. Инициатор. Подтолкнувший её к неправильному выбору. Нужно стать кем-то другим. Нужно, чтоб она увидела в нем что-то другое.
— Мистер Хартман, как так вышло, что с «прогрева» вы вернулись под конвоем?
Исполнительный инспектор Штрафного Департамента, Рон Уоллес — серафим-страж, от беспощадного экзорцизма которого можно не встать постели двое суток (бесы рассказывали, сам Генрих ещё не проверял), сегодня, по идее, проверять явившихся отметиться не должен был, значит, Генрих должен сам себе сказать спасибо за такую сомнительную честь. Рон не кажется особенно искренним, хотя он очень старается относиться к демонам вокруг себя спокойно, просто делает свою работу, пытаясь обеспечить своему отделу минимальную статистику срывов.
— Мой поручитель попал в опасную ситуацию, пришлось вмешаться, — вообще-то к докладной о конвое прилагалась и объяснительная Генриха, и жалоба от серафимов-стражей, и резолюция от Триумвирата о том, что карательных мер к Генриху принимать не нужно.
— «Опасная ситуация» сейчас сидит в моем кабинете, кстати, — замечает Рон, — составьте нам компанию, мистер Хартман. Раз уж у вас с «опасной ситуацией» один поручитель.
Особых причин отказываться нет, дел «со вчера» не осталось — вчерашний рабочий день Генрих благополучно закончил в камере, из которой его и забрал Артур.
— Анна Фриман, — Рон представляет суккубу практически сразу как входит. Девушка сидит прямо, как палка, но в сторону двери поворачивается. Красивая. Как картинка — темные гладкие волосы, томные яркие губы. Такие всегда становятся суккубами — пленницы собственных страстей, красоты и ветренности. В прошлой жизни Генрих был без ума от такого типажа, сейчас же у него не очень приятные ассоциации.
— Ну привет, — сухо улыбается Генрих, скрещивая руки на груди.
— Ты мне расскажешь, что происходит? — девушка смотрит на него из-под прямой челки. Пытается выглядеть слабой.
— Происходит? — Генрих пожимает плечами. — Странное. Я сам еще не понял.
— И никто ничего не понял, — бурчит Рон, а сам роется в стеллаже с личными делами. В углу уже стоит коробка с личным делом Генриха. Несколько папок даже грозят свалиться на пол.
— А третий где? — уточняет Генрих. Интересно же, кого отмолил Миллер. Еще одну девчонку?
— О, его экзорцизмом размазали, — улыбается Анна, — причем даже до прибытия стражей.
У Миллера тяжелая рука — даже на Полях Генрих не раз становился целью его Увещевающего Слова — после очередной жалобы. После них он неизбежно проваливался в забытье, в темный густой туман, и не приходил в себе по неделе, существуя где-то на грани восприятия, в тесных объятиях боли.
— Вечером прибудет и мистер Коллинз, — прагматично заявляет Рон.
Мистер? Странно, Плато Суккубов полнится смазливыми девицами, логично бы мужчине было отмаливать одну из них?.. Нет, Агата в расчет не берется, у неё свое, очень альтернативное, мышление. Стоит только вспомнить этот её порыв отмолить всех, кого удастся, лишь бы Чистилище не полнилось страданиями демонов.
— Мисс Фриман, по распорядку в первый день вы должны посетить Верхний слой, на прогрев от греховного голода.
— Хорошо, — односложно отзывается Анна, чуть опуская лицо. Даже сейчас инстинктивно она флиртует, то прикусит губу, то скользнет по ней кончиком языка. Генрих на это смотрит спокойно, а вот Рона, кажется, это выбивает из колеи.
— Хартман, а вы как? — Генрих встречает взгляд Рона, вопросительно поднимает брови. — Хотите на еще один прогрев? Голод не беспокоит?
— Не хочу, — Генрих морщится, вспоминая не очень-то приятные ощущения на Поле. Впрочем, он понимает, почему Рон это ему предлагает, очевидно же, что бесы от голода страдают слабее, чем исчадия. Но пару дней он точно перебьется.
— Смотрите, мистер Хартман, — деловито замечает Рон, — политика Штрафного Департамента в вашем добровольном сотрудничестве. Насильно вас по этому пути никто не поведет.
— Да и не вели никогда, — Генрих пожимает плечами.
В этот момент дверь кабинета открывается, и в нос ударяет запах Агаты. Генрих вздрагивает — да и Анна тоже, и от этого Генриху хочется впиться в её горло пальцами, выдавить из нее каждый вдох, который она позволила себе сделать, наслаждаясь запахом Агаты. Иррационально, Генрих не хочет, чтоб запах Агаты — эту искрящуюся свежесть — вдыхал хоть кто-то кроме него. Ревнует даже к этому.
— Мисс, вы у нас кто? — удивленно вопрошает Рон, который не очень-то привык к визитам серафимов, да еще и столь внезапным.
— Поручитель Генриха Хартмана и Анны Фриман, — устало рапортует Агата и опускает на стол Рона коробку с вещами.
— Что ты здесь делаешь? — тихо спрашивает Генрих, впиваясь в бледное осунувшееся лицо взглядом. Под глазами залегают темные круги — кажется, она мало спала сегодня ночью. Знать бы еще почему — из-за Миллера ли, или может, все-таки переживала из-за их с ней ссоры? На щеке нет красного пятна от пощечины Миллера, которое было еще вчера вечером. Сама исцелила? Или уже счастливо воссоединилась с этим своим «другом»? Тошно думать об этом, тошно думать о том, что Миллер мог себе позволить, пользуясь её виноватым настроением.
— Выперли меня из Лазарета, — Агата обиженно кривит губы, — боятся, что снова сунусь на поля и отмолю еще этак десяточек исчадий ада.
Рон смотрит на Агату как на дивное чудо, аж рот открыл. Генрих видит этот взгляд и пытается не хотеть никого убить. Может, и правда стоит сходить на прогревание?
— Большая честь, мисс Виндроуз, — наконец спохватывается инспектор, хватает Агату за руку и встряхивает её несколько раз.
— Тоже мне честь, — скептически улыбается Агата, — судя по всему, от меня одни проблемы, так что чести тут не много. К слову, я совершенно не знаю, что должна делать, мистер…
— Уоллес, Рональд Уоллес… Ох, не волнуйтесь, мисс, я вам все объясню…
— Я могу идти? — ровно спрашивает Анна. — Кажется, мне нужно на прогревания, да?
Её отпускают. Генрих остается. Пользуется тем, что про него позабыли, сидит на стуле у самого окна, смотрит туда — на пробегающие в небе облака и дышит, дышит Агатой. Конечно, это не то же, что дышать ею, уткнувшись в её кожу, запах на расстоянии сильно слабеет, рассеивается, и все же кажется, что от одного её присутствия воздух в комнате становится чище.
Самый неудачный расклад (4)
Работа прежде всего. Работа помогает на некоторое время сконцентрироваться, отключиться от чувств, одолевающих душу осадой. Триумвират своим решением зажимает Агату в угол, и Генриху её даже слегка жаль. Ей непросто сейчас разбираться с вещами в одном кабинете с ним. Он это чувствует — по слабому запаху смутной тревоги, что от неё исходит. Будто она, замерев, ждет, когда разразится буря. Он пытается её не беспокоить, утыкается взглядом в подробную инструкцию, расписывающую деятельность сотрудника-ищейки. Правда, он и сам оказывается в сложном положении. Есть логика в действиях Триумвирата — столкнуть Генриха с его личным искушением, заставить им дышать. Ему нужно смотреть на буквы и складывать их в слова, а с учетом того, что мысли с трудом сосредотачиваются на чем-то, кроме стоящей в нескольких шагах от него Агаты, — это практически невозможно.
— Ты не хочешь поговорить? — наконец спрашивает Генрих, откладывая инструкцию в сторону.
Агата отрывается от разбора коробки с его личным делом, смотрит на него. Прикусывает губу. Это она делает зря, потому что на Генриха накатывает. Хочется самому ощутить нежность её губ, хочется, чтобы сердце в груди волнительно сжалось, а она — тихонько вздохнула, подалась ему навстречу, прижалась к нему, коснулась своими тонкими пальчиками его лица. Сейчас это совершенно неуместные фантазии. И некоторое время они еще точно останутся ими.
— Я хочу поговорить, Генри, но пока не поняла, что хочу сказать, — Агата говорит осторожно, подбирая слова.
Губы сами разъезжаются в понимающей улыбке. Да, это именно те слова, что наиболее емко описывают сложившуюся ситуацию, он и сам не знает, что сейчас ей хочет сказать. Объяснить, что ему не нравится её реакция на слова Миллера? Но ведь сам же визировал, что оставит их общение без своего вмешательства. И уже нарушил это свое слово. Пару раз. Вообще, он не должен бы знать о её эмоциях, будь их отношения хоть капельку равными. И так-то будто подглядывает в её внутренний мир, странно даже, что её это до сих пор не напрягло. Кажется, сейчас жизненно необходимо сменить тему, тем более он и сам хотел дать себе время на подумать.
— Ты не читаешь? — Генрих замечает, что Агата вынула его папки из коробки, но так до сих пор и не открыла.
— Честно говоря, не знаю что с этим делать, — девушка облегченно улыбается, ей действительно не просто было касаться болезненной темы случившегося вчера.
— Не хочешь знать, что я творил? — у Генриха даже голос садится от неожиданного приступа паники. Черт возьми, он и сам не хочет, чтобы она знала. Ничего. Особенно самого первого страшного греха, им совершенного. Он не хочет видеть в её глазах страх. Что угодно — пусть даже обиду, злость, но не страх.
— Дело не в том, что не хочу, — Агата рассеянно водит пальцами по белым картонным обложкам пальцев, — так-то — надо бы. Чтобы лучше понимать тебя, выделить, что подталкивает тебя к греху, чтобы оценивать твою опасность трезво. Мне кажется, этого понимания очень не хватает.
Не очень радостные слова — если она сможет оценить его опасность, то уже вряд ли их близость когда-нибудь станет возможной. Сейчас между ними пролегла трещина. После того как она поймет — разверзнется пропасть.
— Но тогда в чем дело, милая? — последнее слово срывается с языка неосторожно, неосмотрительно, и Агата даже слегка вздрагивает из-за него, но кажется, решает его ему простить. Хороший знак. Если она не противится его вниманию — значит, не все потеряно. Вопрос только в том, только ли его вниманию она не противится. Или для Миллера все же сделано исключение?
— Дело в том, что я вроде бы отдавала себе отчет, когда за тебя молилась, что молюсь я не за кого-нибудь, но за Исчадие Ада, — Агата хмурится, произнося это. По-прежнему взвешивает каждое слово, прежде чем сказать его.
— Мне кажется, знание может мне навредить, — договаривает она, спустя пару секунд, — я перестану думать о тебе непредвзято.
— Непредвзятость — это важно… — ему и в самом деле так кажется. Хотя говоря это он все-таки в первую очередь хочет скрыть от неё свою сущность.
— Именно, — Агата качает головой, — нужно смотреть на настоящее, а не в прошлое. Как мне кажется.
Она отодвигает папки в сторону, а Генрих ощущает, как облегчение распускает в нем напряженный клубок тревоги. Пока пронесло. Надолго ли?
— Занятно, — тихонько произносит Агата, и Генрих снова отрывает взгляд от инструкции, в которой еле-еле смог переползти к третьему пункту. Если так пойдет и дальше — к вменяемой серьезной работе его так и не допустят. Может, когда их в этом кабинете будет четверо — станет легче сносить её присутствие? Возможно. Если удастся справиться с внутренним ревнивым идиотом, который ненавидит всякого, кто вдыхает её запах.
— Что? — спрашивает Генрих, когда девушка не поясняет свой комментарий.
— Ты вчера не врал, — Агата виновато морщит нос и поворачивает к Генриху изучаемый её лист. Это выписка состояния его греховного счета. Сегодняшняя. Есть незначительная отрицательная динамика, показатели пересчитаны из-за гордыни, срочно потребовавший жертвоприношения, но коэффициенты совершенно не те, что при сознательной лжи.
— А ты думала? — с легкой иронией уточняет Генрих. Нет, её сомнения его не задевают. В конце концов, он дал ей повод для подозрений. Не один.
— Казалось, что ты все подстроил, — Агата не знает, куда ей деть взгляд. Видимо, укоров своей совести ей более чем достаточно. Действительно, добавлять от себя не стоит. Разумеется, сыграть на чувстве вины можно, можно надавить, добиться своего, но все равно в уголке её подсознания останутся негативные впечатления. И он с ними будет связан. И это непременно рано или поздно сыграет против него. Нужно, чтобы то, что он делал, играло за него.
— То, что случилось — вышло ненарочно, — честно произносит Генрих, — но я действительно собирался оставить в кабинете Миллера достаточно улик, чтобы он догадался в том, что там были именно мы. И чем мы там занимались.
Агата вспыхивает, снова утыкается в бумаги. Чистосердечное признание смягчает вообще что-нибудь? Хотя он и не ожидал, что его искренность сыграет на него прямо сразу. Лишь после Агата будет помнить, что он был с ней честен.
— Злишься? — тихо спрашивает Генрих. Он знает, что злится. Он ощущает это по горьким ноткам её настроения.
— Имею на то причины, — кратко отрезает Агата. Иная женщина уже бы устроила скандал, но не она. Она переживает молча. Смертельно хочется подойти сейчас к ней, сжать пальцами этот упрямый острый подбородок, развернуть её лицом к себе, приложиться к нежным губам, сполна вкусить их сладость. Так, чтобы она вспыхнула чувствами, заколотила кулачками в его грудь, попыталась его отпихнуть, но он бы ей не дал этого сделать, потому что чуял бы в безумном букете её эмоций кипение и взаимность.
Нет. Сейчас он этого делать не будет. Потому что точно знает, чем бы это все закончил — раздразнил бы её настолько, что она бы согласилась уступить ему, отдалась бы ему прямо здесь, на этом столе. Это не сложно. Страсть не выдерешь из сердца за одну лишь ночь. Она бы уступила. Но он поставил себе цель стать для нее не только олицетворением похоти, у него нет цели сломать её, довести до того, чтобы она бездумно отдавалась во власть его вожделения. Нужно, чтобы она ему доверяла. На начальном этапе необходимо хотя бы поверхностно её узнать. Разумеется, у него нет в запасе семи лет знакомства, коими может козырнуть Миллер, но все-таки что-то он сейчас может и должен поработать над тем, чтобы углубить их отношения.
— Чувствую, такими темпами, отработаю я свой кредит этак через вечность, — раздраженно выдыхает Агата и откладывает свою инструкцию, — я не понимаю, что я должна делать. Вот есть вы. Вы будете работать.
— И это не пойми, когда случится, — замечает Генрих, — чертова тьма инструктажей намекает на то, что просто так к отработке и не приступишь. Сначала куча профилактических процедур, а потом уже…
— Вот! — Агата сердито морщится. — Именно. Я должна курировать вашу деятельность. Черт его знает, как это делать. Вот скажи, чем я остановлю тебя, если тебя сорвет.
— Если меня сорвет, очень вероятно, что первым делом я тебя и употреблю, — Генрих в общем-то понимает, в чем причины её беспокойства, — правда, я понимаю, почему столько препон. Благодаря чутью у меня потенциал ищейки, работа предполагается среди смертных. А смертный мир — это тебе не Чистилище, там ощущения куда сильнее, и голод острей, и запахи заманчивей. Если даже тут мне для срыва нужно немного, то без должной подготовки в смертном мире я выдержу минут пять…
— А тебе нужно немного для срыва? — обеспокоенно уточняет Агата, и Генрих качает подбородком. Откровенность во главе угла. В принципе, сейчас он бы ей все сам рассказал, будь у ней желание спрашивать, даже про свои грехи. Но она не спрашивает, и это пока-что облегчает жизнь.
Первое время штрафники работают с архивными документами. Им поступают личные дела от сборщиков душ, и они оформляют сводки по кредитым счетам к конкретной дате, заявленной в задании сборщиков. На работу с документами не требуется особая подготовка, но терпения нужно прилично, потому что работа довольно скучноватая. К третьему часу «отдыха от инструкций» у Генриха уже рябит в глазах.
— Ты как хочешь, а я обедать, — Агата откладывает папку с инструкциями — у неё их больше, чем у Генриха.
— Ты можешь взять у дежурного инспектора мне паек просфоры? Если, конечно, можно пообедать с тобой, — до конца листа осталась пара строчек. Хочется уже разделаться хотя бы с ним, хотя личное дело Мартина Райта не изучено еще даже на треть.
— Да, хорошо, — Агата кивает и выходит из кабинета. Радует, что она не противится попыткам сближения. Хотя им предстоит вместе работать, из враждебности и пустых обид ничего толкового не выйдет, и она наверняка это понимает.
Когда в дверь стучат, Генрих даже не принюхивается, чтобы опознать, кто там явился. Он еще практически никого в своем отделе не знает, так что это бесполезно.
— Войдите, — говорит он, не поднимая головы, но жалеет об этом практически сразу, как только открывается дверь.
Миллер. Приносит с собой не только свой навязчивый душноватый запах упертого в своих ценностях человека, но и две чашки кофе. Видит Генриха, раздраженно щурится.
— Где?..
— Сейчас будет, — Генрих утыкается взглядом в бумагу и пытается разобрать, что на ней написано. Самообладание демонстрирует постоянство дешевой пьяной проститутки. Секунд сорок уходит на то, чтобы взять себя в руки и подавить в себе желание впиться зубами в сущность Миллера. Вкус наверняка бы оказался недурен, все-таки в Чистилище Миллер практически не косячит.
— Не хочешь ли спереть мой кофе, а, Хартман, — насмешливо интересуется соперник, и Генрих поднимает глаза. Биться надо, глядя в лицо врагу.
— За чужой кофе получать по морде не так интересно, как за девушку, — улыбается Генрих как можно демоничнее и явственно видит, как лицо серафима дергается от злости.
— О, вижу с тобой она еще не помирилась, — ехидно ухмыляется Джон, и это действительно сильный удар. Болезненный. Генриху-то Агата так и не нашла, что сказать.
— Ну а с тобой-то она так и не переспала, — трагично вздыхает Генрих.
— Еще, — Миллер ощеривается, как хищный зверь, — а с тобой, похоже, уже и не переспит.
Туше. На это Генрих достойного ответа не находит. Нет, можно было брякнуть «Мы еще посмотрим», но это было как-то мелковато. Если бы они с Миллером были друзьями — сейчас было бы очень уместно пихнуть его по-приятельски в плечо, засчитывая выигрыш в «обмене любезностями». Друзьями они не были. Однако становится ясно, что у Миллера есть зубы, и он явно не собирается сдаваться. Война не была окончена, и легкой она не будет.
Воля Небес (1)
Когда Генри отказывается пойти обедать с Агатой и Джоном, с одной стороны, Агата испытывает облегчение. Она не могла не предложить — из вежливости, в конце концов, Джон пришел неожиданно, она вообще не думала, что он захочет её видеть так скоро, и с Генри она уже договорилась на тот момент. Но ей не хотелось испытывать судьбу и садиться с ними обоими за один стол. Её-то Джон, может, и простил, но на Генри он смотрит все с той же ледяной неприязнью. Сейчас в компании Джона Агате будет однозначно спокойнее, чем с Генри.
Но когда Генри принимал её извинения по поводу того, что она не составит ему компанию, он улыбался. Вкрадчиво так, опасно. Черт его знает, какими любезностями эти двое обменялись, пока Агаты не было, но Генри точно что-то задумал.
— Слов нет, как я не хочу, чтобы ты с этим мудаком мирилась, — тихо вздыхает Джон.
— Я с ним работаю теперь, — ворчит Агата, пытаясь найти смысл бытия в морковном супе, — сам понимаешь, я не могу конфликтовать с ним.
— Ага, это, по меньшей мере, опасно, — Джон раздраженно морщится, — но я все же не об этом.
Наверное, взгляд Агаты при этом стекленеет. По крайней мере ей на пару секунд становится трудно дышать.
— Джо, не надо сейчас об этом, — измученно шепчет она, — пожалуйста.
— Извини, — Джон бережно сжимает её пальцы, — я вчера много лишнего наговорил.
— Все ты правильно сказал, — болезненно отзывается Агата, — все это… слишком.
Слишком быстро, слишком безумно, слишком некрасиво. Будто под ногами разверзлась пропасть, и она в неё обрушилась.
У Джона теплые руки. У них уже давно такая доверительность в отношениях, что он легко позволяет себе растирать озябшие ладони Агаты. Наверное, именно поэтому про них и ходят сплетни. В Чистилище стараются не особенно сближаться друг с дружкой, потому что в любой момент счет твоего друга может обнулиться, и он исчезнет, оставив в твоей душе тоску. А где живет тоска — там таится греховная слабость. Да, на верхних слоях грешники поопытнее, но в большинстве своем и они предпочитают поддерживать друг с другом теплые, но всего лишь приятельские отношения. Чаще сближаются парочками, чем заводят друзей.
— Почему ты вообще со мной дружишь, Джо? — озадачивается Агата. Все-таки сегодня он очень великодушно простил её.
— На данный момент я с тобой не только дружу, если ты еще не поняла, — Джон ухмыляется.
— Я думала…
— Я тебя понял, — обрывает он её и ободряюще улыбается. — Но прости, Хартман вчера сделал достаточно, чтобы разбудить в моем сердце викинга. Я категорически не желаю оставлять все как есть.
— Викинг? — Агата задумчиво прищурилась. — А что, в таком образе я бы тебя нарисовала…
С длинными косами, в рогатом шлеме, с тяжелым мехом на плечах…
— Ты смотришь на меня так мечтательно, что Хартман может прямо сейчас сдохнуть от зависти, — от этой фразы Джона Агата вздрагивает и поворачивается в сторону входа в столовую. Генри действительно стоит рядом с дверьми. Оглядывается.
— Он смотрел на нас? — встревоженно уточняет Агата.
— Ага, — неожиданно весело отвечает Джон, — и черт возьми, мне понравилась его вытянутая рожа.
— Джо, ты ужасен, — Агата возмущенно смотрит на него, но он до того заразительно улыбается, что она смеется в ответ и кидает в него салфеткой.
— Ну, Хартман же не знает, что единственная твоя любовь — это остро наточенные карандаши, — Джон выглядит смертельно довольным, а затем округляет глаза и косится за спину Агаты.
— Что там? — Агата оборачивается и видит… Рит. Не сказать, чтоб подружка была редкой гостьей на этом слое, она водилась с Найджелом, и, кажется, он даже пытался за ней ухаживать, правда, особого успеха еще не добился.
И вот одинокая Рит сидит за дальним столиком и в настоящее время парализованным замершим зверьком наблюдает, как к ней, улыбаясь, шагает демон. Она может встать и уйти, никто тому не помеха, но видимо, паника не дает даже шевельнуться. Генри останавливается у её стола, что-то спросил, а Рит все с тем же с каменным лицом что-то отвечает. Видимо, по инерции разрешает ему присесть, и он-таки присаживается. А затем широко и открыто улыбаясь, заговаривает. Агата дорого бы заплатила, чтоб послушать эту речь. Но Генри говорит негромко, в столовой немало народу и они все болтают, так что ничего не слышно. Но говорится явно, что-то неожиданное. Кажется, у Рит отвисает челюсть.
— Он что, извинился? — недоверчиво уточняет Джон.
Да, очень на это похоже. Потому что скажи Генри Рит хоть что-то скабрезное — вряд ли бы она погнушалась влепить ему пощечину, Рит скора на расправу, и сейчас её не связывают правила миссии милосердия.
А дальше… дальше Генри продолжает что-то впаривать Рит с милой улыбкой, а она смотрит на него, смотрит, смотрит, смотрит… А затем оправляет волосы. Такой типичный, невинный жест девушки, которая думает о том, что её собеседник очень даже привлекателен. Всем дочерям Евы этот жест знаком. Они всегда чуть что — тянутся к прическе. Если мужчина, на которого они смотрят, хорош собой. А Генри… Генри — хорош. И даже слишком.
Кровь бросается в лицо Агате. Она понимает, что это провокация, и все-таки это слишком. Он же сам говорил о том, что Рит находит его привлекательным. И сейчас он говорит с ней? Флиртует? Из ряда вон. Как же быстро он решил переключиться.
А Рит — где её хваленая скромность, где все то, что заставляло её рыдать, будто её самым грубым образом лишили девственности? Как быстро она сообразила, что теперь-то презрение можно отложить в сторонку, он боле не распятый, а с амнистированным можно и пофлиртовать, да? Так не кстати вспомнились ехидные комментарии Генри, по поводу того, что Рит действительно засматривалась на него.
— Я же говорил, что Хартман думает лишь о том, чтобы кого-нибудь в койку затащить, — меланхолично замечает Джон.
— Ты мне на вопрос не ответил, — бурчит Агата и снова утыкается в тарелку. Уши горят, в груди раздраженно топает ногами сердце. Черт возьми, она сама не сказала Рит о себе и Генри. И почему сейчас ей думается о том, что Рит на редкость симпатичная? У неё изящный профиль и густая грива светлых волос, которые выглядят получше, чем растрепанные кудряшки Агаты. Черт! Она же еще утром хотела отказаться от связи с Генри совсем. Почему её вообще сейчас волнует, что он с кем-то говорит и кому-то улыбается. Разве это её дело? Разве её дело, о чем они там говорят?
— Почему мы с тобой дружим? — Джон поднимает брови, и Агата пытается сосредоточиться на нем, а не на обдумывании того, что так-то Рит ей фору даст и по соблазнительности фигуры, и по общей эстетике лица.
— Ты мою душу забирал, — Агата вздыхает, — и ты знаешь…
— Знаю, — задумчиво пожимает плечами Джон, — если честно, я об основе твоего кредита тоже знаю.
— И тебе плевать? — странно видеть озадаченное лицо Джона. Странно видеть, как его пальцы вдруг начинают беспокойно надрывать салфетку.
— Ты же понимаешь, что я не просто так на верхнем слое работаю? — Джон пытается выглядеть спокойным. — Ты же понимаешь, с кем имеешь дело?
— Без конкретики, — предостерегает его от излишних откровений Агата, — да, понимаю.
— Почему ты не интересовалась этим конкретно? — вдруг спрашивает Джон. Он откидывается на стуле, внимательно смотрит ей в глаза, не хочет упустить её реакции: — Мы знакомы семь лет, ты не спросила ни разу. Почему?
— Не хочу, чтоб это мне мешало, — пожимает плечами Агата.
— Мешало в чем? — Джон склоняет голову. — Я знаю о твоих грехах. Это мне не мешает. Это мне не мешает даже тебя любить.
Он впервые говорит об этом так прямо, и Агате становится очень не по себе.
— Ты чертовски мило краснеешь, — Джон осторожно касается её щеки, и в этом прикосновении неожиданно Агата и сама замечает нежность, пресекающую границы дружеских прикосновений. Внезапно ужасно хочется сбежать, провалиться на месте. Агата аккуратно, как можно незаметней отклоняется от его руки. Она не ожидала от Джона комплиментов, она не ожидала, что он возьмет и начнет за ней ухаживать.
— Когда закрываешь глаза на правду — нельзя говорить о своей непредвзятости, — поясняет Джон, не показывая, что он оказался как-то задет, и вновь возвращаясь к истязанию салфетки, — непредвзятость — это когда ты знаешь и при этом не судишь о человеке лишь по его прошлому. В конце концов, мы в посмертии. Прошлая жизнь действительно осталась в прошлом.
— Не думала об этом с такой точки зрения, — задуматься на предложенную тему — вот что удается с блеском, чтобы спастись от дурацкого смущения.
— Надумаешь — спроси, — отзывается Джон, — я расскажу. Гордиться мне нечем, но это и будет твое первое испытание на настоящую непредвзятость.
— Я ведь так и не спросила, как вчера все прошло, — спохватывается Агата, — ты вернулся раньше конца смены. И тебе удалось…
— Я верил тебе и Небесам, ничего странного, — Джон пожимает плечами, — а вернулся раньше… Слабость ощутил. Молитва тоже расходует силу души, а я еще и экзорцизм читал. Короче говоря, выдержал час и едва не рухнул во время полета.
— Тебя не хотят перевести? — встревоженно уточняет Агата. Она знала, что Джон очень ценит работу серафима-стража. Не хотелось бы, чтобы он её из-за Агаты лишился.
— Нет, — Джон качает головой, — поручителем мистера Коллинза все равно считаешься ты. Потому что ты дала мне право… Рози?
Мир вдруг резко становится стеклянным. Таким прозрачным, таким хрупким. У Агаты звенит в ушах. Не просто звенит — колокольным протяжным звоном, будто сообщая о безжалостной воле рока. Видимо, она еще и бледнеет, потому что иначе нельзя объяснить причину беспокойства Джона. Это же просто совпадение? Фамилия не самая редкая. Пусть отмолили суккуба, что вполне подходит ему по характеру. Это все еще может быть случайность.
— Как его зовут? — губы еле шевелятся, страх практически парализовал её, выхолодил до ледяной пустыни.
— Винсент… — во встревоженном голосе Джона Агата слышит голос грома, того самого, что знаменовал вчера волю Небес во время её молитвы. — Винсент Коллинз.
Сердце отказывается биться. Оно вспоминает, что все это иллюзия, что на самом деле её тело — это лишь привычка её души видеть себя в совершенно конкретной форме, и она хочет рассеяться в воздухе прямо сейчас. Но нет, на плечах тяжелый груз её грехов, ей далеко до освобождения.
— Посмертные шрамы, — она уже знает, что услышит в ответ, но надежда на простое совпадение все еще теплится в сердце, — ты видел у него посмертные шрамы? Над сердцем. Два. От пуль.
— Рози, ты его знаешь?
Мир теряет звуки окончательно. Все, что может сейчас Агата, — встать, с оглушенным видом сжать виски, на негнущихся ногах зашагать к двери. Ей нужен свежий воздух. Прямо сейчас.
Дойдя до дверей, Агата чувствует, как мир пошатывается. Опирается на дверь. Плеча Агаты касается ладонь. Она дергается резко, чудом не потеряв равновесия. Видит озабоченное лицо Генри. Она никогда так быстро не выдыхала Слова Защиты, как сейчас. И они действуют — впервые в её словах нет сомнения. Она не хочет сейчас прикосновений. Ничьих. Тем более демона.
Генри отшатывается, отдергивает от её плеча обожженные святым словом руки.
Агата же срывается с места. Страх будто впивается в её спину когтями, подгоняя, торопя. Она должна спрятаться.
Может, от этого урока Небес ей удастся укрыться?
Воля Небес (2)
— Что произошло?
У Миллера такой вид, будто его зажали в угол и жестоко пытают, чтобы выведать секретные разведсведения. У Генриха же настроение не ахти, святым словом ему опалило руки, и теперь ожоги на них неприятно пульсируют. Регенерация у него, конечно, выше, чем у простых душ, но все равно пару часов придется терпеть дискомфорт.
А серафим молчит, всем своим видом показывая, что ничего не скажет.
— Миллер!
— Не твое дело, — вспыхивает Миллер. Он растерян. Для этого не нужно даже принюхиваться, растерянность написана крупными буквами прямо поперек широкого лба. А если все-таки принюхаться?
Страх. Чужой страх будоражит охотничьи инстинкты голодной твари внутри, сейчас в Миллере недостаточно решимости для экзорцизма, Генрих вполне может успеть выдрать клок из этой души, насладиться вкусом чужого аскетизма, на много лет ставшего ритмом жизни.
— Миллер, — рычит Генрих, прикрывая глаза и швыряя собственный голод на колени. Это тяжело, это практически невыносимо.
— Хартман, — Миллер тяжело вздыхает и трет переносицу, — мы разберемся сами. Без тебя. Было бы неплохо, если бы ты уже завязал с этой своей вендеттой ко мне…
Генрих сухо растягивает губы в улыбке.
— Не весь мой мир вертится вокруг тебя, святоша, — выплевывает он.
— Да? — серафим иронично щурится. — И это просто совпадение, что обхаживаешь ты именно важную для меня женщину?
Ложь сказывается на кредитном счете. Ложь сразу увидят на выверке и скажут о ней Агате. Ложь сделает его голод на маленькую толику невыносимее. Крупица в чаше весов, но однажды этих крупиц скопится столько, что они перевесят. И в конце концов, не столь уж много нужно грехов, чтобы нарушить условия испытательного срока.
— Лишь отчасти, — произносит Генрих, глядя выше плеча Джона, — но вендетты нет. Я не могу это себе сейчас позволить.
Миллер скептически смотрит на демона, всем своим видом выражая недоверие.
— А ты-то ей сказал, а, «друг»? — ухмыляется Генрих, засовывая руки в карманы. — Или тоже молчишь?
— Ты хочешь, чтобы я выставил тебя в её глазах совершенным мудаком? — уточняет Миллер все с той же насмешливостью. — Отнюдь, Хартман, мне это делать незачем, я-то тебя не ненавижу.
Генрих хотел бы сказать, что это взаимно, но это все-таки будет ложь. Он загнал это чувство в самый угол, он старательно давил его как мог, но оно при этом никуда не делось. Нет. Не думать о причинах. Думать о настоящем. Он может выпить Миллера, но при этом можно сказать «до свидания» амнистии. Он не хочет обратно. Он не хочет снова оставаться наедине с самим собой. Не сейчас, когда в его жизни впервые за долгое время вновь началось движение.
— Что с Агатой? Что ты ей сказал? — спокойно произносит Генрих, по-прежнему глядя не на Миллера. — Я не чуял в ней такого сильного страха сколько её знаю.
— Страх? — Миллер, кажется, задумывается и не особенно торопится отвечать.
— Я тебя когда-нибудь выпью, — раздраженно сообщает Генрих, — когда-нибудь мое терпение кончится.
— Сомневаюсь, что ты считаешь это достойной тебя мести. — Отмахивается Миллер.
— Так что с Агатой.
— Я точно не знаю, — наконец отвечает серафим, — но за последние несколько дней она не единожды просила Небеса о милостях, возможно, они решили её проверить.
— Возможно?
— Скорее всего, — Миллер качает головой, — испытания — необходимая часть пути для таких, как она.
Испытания… Черт его знает, в чем они заключаются. Но страх… Страх Агаты был ужасающе сильным. Даже отрешаясь от того влечения, что Генри к ней чувствовал, он совершенно точно не хотел, чтобы своим заступничеством за него она столкнулась с чем-то, оказавшим на неё такой эффект.
Миллер касается запястья, находит пальцами черный треугольник «гаммы», недовольно морщится.
— Не отвечает?
— Хартман, — устало выдыхает Джон, — оставь меня, будь так любезен.
— Ладно, — Генрих пожимает плечами и отворачивается. От Миллера не будет толку. Он ничего не скажет, он ревностно оберегает свою территорию, пусть даже своей территорией он теперь считает Агату. Генрих может выследить Агату по запаху — она ушла достаточно недавно, чтобы её след сохранился в воздухе. Но все же интуиция подсказывает, что если даже компанию «лучшего друга» она сочла сейчас излишней, то и ему тоже не обрадуется.
Генрих возвращается к работе. Нужно сделать хотя бы что-то. Как и ожидалось, Агаты в их кабинете нет, зато есть Анна — сидит на его столе, болтая ногами.
— Это моя просфора и мой стол, — сдержанно улыбается Генрих, глядя прямо в глаза суккубе и искренне желая, чтобы она в его лице прочитала, что ему хочется с ней сделать. С грамотностью у девицы оказываются проблемы — хлеб она положила, но со стола слезать не спешит. Ну ясно…
— Ну, как прогрелась? — Генрих усаживается на стул, откидывается, нарочно глядя Анне именно в глаза и никуда иначе.
— Не пойму, что больше действует на бесов, — Анна очаровательно хлопает глазами, — обстановка или свет.
— Спрашивай у них, коли не понимаешь, — Генрих едва удержался от зевоты. Суккубы совершенно не меняли спектр своих приемов. Или ему попался какой-то очень неопытный экземпляр?
— Ох, какой же ты упертый, — вздыхает Анна и соскальзывает со стола. Чтобы приземлиться бедром Генриху на колено.
— Ну что ты, неужели откажешь девушке? Неужели не хочешь сбросить напряжение? — ладошки суккубы поглаживают Генриха по плечам, по бицепсам. От тела Анны так и несет жаром, да и пахнет она чем-то сладким, и когда только успела за благовониями сбегать. Губы её вдруг оказались у самого лица Генриха, опаляя его теплым дыханием. Ну мертвый же на такое не среагирует. Когда Генрих подхватывает её на руки и встает, девушка восторженно взвизгивает, крепче вцепляется в его плечи. Генрих шагает к свободному столу, опускает на него Анну, касается гладких волос на затылке… А потом сгребает волосы в горсть, заставляя девушку снова взвизгнуть — теперь уже от боли.
— Меня шлюхи не интересуют в принципе, — выдыхает Генрих прямо ей в губы, а затем отшатывается, брезгливо встряхивая ладони.
Анна, кажется, даже не обижается — хотя и чего обижаться на правду-то. Суккубы промышляют именно соблазнением.
— Да ладно, — хихикнула она, — ну ты же просто альфа в этой стае амнистированных придурков, я же могла попробовать, да?
— Скажи спасибо, что никто не пришел, — Генрих выразительно улыбается, — не дай бог, ты дала бы повод подумать, что я в тебе заинтересован…
— Ладно, ладно, спасибо, — весело отзывается Анна, — ну правда же, не злись.
— Делом займись, — Генрих раскрывает таки дело Мартина Райта, пытаясь вспомнить, на какой странице закончил. Пересчитывать не хотелось совершенно.
— Скучно.
— Весело по Лондону от патрулей носиться.
— Весело было бы перепихнуться, пока никто не видит, — вздыхает Анна, а Генрих закатывает глаза, от того насколько у суккубов все зациклено в мозгах именно на этом. Хотя… Утром у него тоже мелькали такие мысли. Когда дверь открывается, он очень хочет увидеть Агату, но видит снова Миллера.
— У тебя работа кончилась? — с ехидцей интересуется Генрих, впрочем, Миллер выглядит встревоженным. И рожа бледноватая, и пальцы беспокойно мечутся.
— Не вернулась еще? — риторически спрашивает Миллер и вопреки желанию Генриха не уходит. Остается. Даже не садится — меряет шагами кабинет.
— Бесишь, — отстраненно замечает Генрих, которому запах Миллера и так-то слишком искусителен, так еще и все это нервное мельтешение…
— Я просто хочу убедиться, что с ней все в норме, — огрызается Джон, — имею право.
— Ты передо мной оправдываешься? — Генрих даже отрывается от папки, хотя смотреть в рожу Миллера ему вовсе не хочется. Вообще бы её не видел. Но в честь такого случая не грех и посмотреть.
Миллер пыхтит, одаряет его недовольным взглядом.
— Что происходит? — почему-то сейчас кажется, что соперник ответит, возможно, потому что его смятение чувствуется сильнее, чем час назад в столовой.
— Небеса её проверяют, — устало отзывается Джон, — сталкивают её с собой. С ключом от её греха.
— Каким образом? — недоуменно уточняет Генрих.
— Вчера по моей молитве был амнистирован человек, которого она знает, — Джон вновь тяжело опирается на стол, шумно дышит. Его тревогой веет издалека.
— И?..
— И я не уверен, что этот демон вообще себя сможет взять под контроль! — рявкнул Джон. — Его отмаливают вторые сутки, и он все еще нападает на стражей всякий раз, когда приходит в себя. А она должна будет встретиться с ним. Одна!
— Почему? — первым порывом Генриха было вскочить и броситься куда-нибудь. Туда. Где она. И попытаться её спасти. Оттащить от неё опасную тварь.
— Так нужно, — Джон это практически выстонал, впиваясь пальцами в волосы, — Небеса не дают привилегий просто так.
— Почему он её ключ? — от Миллера несет сомнениями и тревогой, кажется, его разрывает на две части между чувством долга и волнением за друга. Хотя нет, Генрих не самообманывается. Джон не считает Агату просто своим другом.
— Я толком не знаю. Знаю лишь то, что она его убила…
Убила? Генрих пытается представить Агату, которая убивает человека, и пазл в его голове не складывается. Что такого мог сделать отмоленный Миллером парень, чтобы такой миролюбивый человек, как Агата, отважился на убийство. И только ли на убийство? Генрих вообще предполагал, что она отрабатывает долг за другое — уж больно немногозначным был посмертный шрам на её запястье.
Взгляд сфокусировался на личных делах, cложенных стопкой на столе Агаты. На папке с фамилией «Винсент Коллинз». Любопытство это же не грех, правда?
— Эй, тебе же не разрешено, — протестует Миллер, когда Генрих вытаскивает личное дело суккуба из стопки.
— Тебе тоже было многое не разрешено, тебе это не мешало, — бурчит Генрих под нос, — неплохо бы знать, насколько там все плохо, не находишь?
— Мы все равно не должны вмешиваться, — качает головой Миллер.
— Ты не должен вмешиваться, — поправляет Генрих, — а я за собой таких обязательств не помню.
Воля Небес (3)
Ветер сушит слезы, выхолаживает душу. За плечами — тяжесть крыльев, над головой солнце смертного мира, которое уже стало чужим.
A.W.
Отец не хотел, чтобы на её могильном камне стояла его фамилия, поэтому выбили только инициалы. Позже он об этом пожалел, но менять уже ничего не стали, впрочем, Агата не была в претензии. У отца были большие проблемы из-за неё, мать настояла на том, чтобы покинуть родовое гнездо, слишком многое там напоминало об Агате, сам отец много потерял в сане и в данный момент возглавлял монастырь на лондонской окраине.
Их семью обычно хоронили не тут, в семейном склепе, но Агата по особым обстоятельствам подобной чести удостоена не была. Мать добилась, чтобы её прах все-таки был захоронен — тут, на окраинном дешёвом кладбище, под простым гипсовым крестом, с двумя инициалами над датой. Скоро закончатся десять лет аренды участка, возможно, после этого прах все-таки перенесут. Хотя Агате это уже и неважно. Она примет любое решение свой семьи.
В вырезанных буквах виднеются следы желтой краски. Значит, миссис Коллинз уже наведалась в этом месяце. Так же как и Ханни — потому что краска смыта, а у самого креста лежит сухая увядшая роза. Жаль. Агате сейчас очень хочется увидеть сестру или мать. Ханни так выросла, так сложно в ней было узнавать ту растрепанную шаловливую девчонку, которая воровала у Агаты конфеты.
Но нет, на кладбище тихо, и внутренний голос становится хорошо слышно, здесь, в пустой ветреной пустоте.
«Тебе что, по-прежнему девятнадцать?»
У души нет возраста, в Чистилище она не стареет, внешне оставаясь где-то в промежутке между зрелостью и юностью, каждый для себя сам решает насколько. Она, кажется, не повзрослела вовсе. Агата редко когда покидает пределы кладбища. Она вообще редко посещает смертный мир, не хватает духу долго быть здесь, гулять по улицам, смотреть на людей — так делают многие, устающие от однообразия Чистилищных будней. Нет, Агата не хочет лишний раз резать по больному, смотреть на людей, торопящихся, куда-то бегущих, живущих. Без неё. Мир не остановился, когда она умерла. Мир даже не заметил. Она стала одной из миллиардов пылинок, упавших на дно песочных часов.
Никто и не вспомнит её сейчас, ну кроме, может, пары человек.
Хотя нет, помнит и третий человек — миссис Коллинз посещает её могилу с завидной регулярностью.
Впрочем, на неё Агата не таит зла. Миссис Коллинз действует в своем праве. Все-таки по вине Агаты двое детей Винсента остались без отца. И боль, чужая боль до сих пор служит Агате единственным напоминанием того, что она, возможно, совершила нечто действительно предосудительное.
Отец всегда воспитывал Агату с Ханной очень строго, да и что можно было взять с протестантского священника высокого сана. Нет, их с Ханной воспитание обходилось без особых порок и разной дикости, что частенько встречается в религиозных семьях. Хотя конечно, без воспитательной линейки дело не обходилось в их семье, но это Агата особо за ужас не считала. Если уж говорить о том, что считала Агата — то в ее воспитании родители совершенно зря не прибегали к розгам. Возможно, если бы их было больше, Агата бы в итоге не совершила ничего из того, что совершила…
Отец мечтал, чтобы Агата тоже посвятила себя богослужению, но в семинарию она так и не поступила. Она была настолько влюблена в живопись, скульптуру, что не хотела расставаться с ним всю жизнь. Ну и замахнулась ни много ни мало, но на поступление в Лондонский университет искусств. Для поступления было необходимо предоставить портфолио с работами, и Агата, убежденная, что её художественный уровень недостаточно высок, упросила отца найти ей художника-ментора.
Тогда-то в жизни восемнадцатилетней Агаты Виндроуз и появился именитый художник, искусствовед и преподаватель нескольких художественных курсов ведущих университетов Лондона Винсент Коллинз.
Двенадцать месяцев два раза в неделю Агата посещала занятия, на которых, как её отец думал, она повышала уровень своих художественных навыков. А на деле же одиннадцать месяцев из этих двенадцати Винсент Агату не учил, а насиловал.
Первый раз он просто подмешал Агате в чай какую-то дрянь, и девушка очнулась уже женщиной, на простыне с кровавым пятном, голая. Дорогой учитель разложил перед ней пасьянсом фотографии быстрой проявки, где Агата позировала обнаженной в катастрофически бесстыдных позах, и сказал, что эти фотографии пойдут в желтую прессу, если Агата не станет его любовницей.
— Подумай, что станет с именем твоего отца, когда станет известно, что его дочь такая грязная и распущенная шлюшка, — улыбался он. И перед глазами Агаты дрожал мир. Она любила отца, она знала, как много он видит в служении богу, и как сильно подкосит его подобный позор.
Она согласилась. Сложно было описать весь спектр унижений, через которые ей пришлось пройти. От одних только воспоминаний сейчас начинает трясти. И Винсент этим не обходился, нет. Он шептал, убеждал её, что на самом деле ей все это нравится, что на самом деле она и есть дешевая подстилка по своей натуре, и он все это в ней увидел сразу.
Подстилка.
Агата и сама поверила что это слово её характеризует. Ей тогда жутко хотелось покинуть собственное оскверненное тело. С каждым разом, с каждым чертовым днем — все сильнее. Все больше отвращения к самой себе наполняло её существо, все больше боли рвало на клочки её истерзанную душу. Когда её без особой причины затошнило как-то утром, мир зазвенел за спиной колоколами. Теперь уже скрыть подобное не казалось возможным. Будущее стало казаться беспросветно черным. Ну и зачем ей стоило жить дальше?
Пистолет Агата украла у отца — тот хранил его в доме на всякий случай, после нескольких нападений католических фанатиков, хотя никогда и не прикасался к нему. Она и до сих пор помнит, как шагала по улице с тяжелым оружием в кармане, сжимала его и вместе с ней сжимался мир, глохли все звуки, выцветали краски. Она ненавидела Винсента, она ненавидела его за всякий миг собственной боли, за то, что он с ней сделал и продолжал делать. За то, что у неё не было сил сопротивляться, за то, что он зажал её в угол между бесконечным унижением или прижизненным позором, между болью и болью, бедой и бедой.
Винсент умер в своей же мастерской, поймав сердцем две пули подряд, художественно забрызгав стену собственной кровью. Агата умерла чуть позже — в его ванной, после того как вскрыла вены на правой руке — как надо, длинным продольным разрезом прямо по венам, и написала собственной кровью на стене тринадцать раз «Подстилка» в три строки. Она бы написала это тысячу раз, исписала бы этим словом все стены, чтобы те, кто найдут, совершенно точно знали, кто она есть, но боясь боли, Агата на всякий случай наелась снотворного, украденного из материнской аптечки. Сильное оказалось снотворное. Подействовало быстро. Агата даже не попыталась побороться за свою жизнь в последний момент.
Лишь много позже Агата узнала, что у Винсента была семья. Да, он позорил свою жену, но его дети… Агата видела их, и они тяжело переживали смерть отца.
Лишь сейчас Агата понимает, что за семь лет так и не пережила все это. Так и чувствует себя оскверненной, грязной, до сих пор ненавидит собственное тело. Так и считает себя виноватой в том, что случилось, в собственной глупости, трусости, мешавшей все рассказать отцу. Наверное, стоило закусить губу и вскрыть этот огромный гнойник, сознаться, положиться на волю и разум отца, но как же тяжело, как же страшно было представлять его разочарование в ней. Она и так не особенно его радовала, так еще и это… Это бы надломило его.
«Чего ты вообще сейчас боишься?» — шепчет внутренний голос, и Агата ежится, плотнее обхватывая колени руками. Действительно, чего?
Огласки? Сейчас все бессмысленно, пусто, это все осталось в смертной жизни. У Чистилище все по-другому. Здесь нет рядом мамы и папы, которым можно показать компрометирующие фото, здесь даже если тебя в чем-то и обвинят, другим работникам вроде и дела нет до твоего позора. Того, что он снова заставит тебя делать тоже, что и тогда? Нет, сейчас в её жизни больше нет людей, которых можно бояться. Теперь она и сама может за себя постоять, и совершенно невозможно представить, что тот же Джон даст ее в обиду. А Генри — так и вовсе не даст Винсенту и шанса.
Боится ли Агата нападения? Разве она боялась Генри? Исчадия ада, чей яд может погасить твою душу на несколько лет? Почему она боится какого-то суккуба? Цена исцеления не столь и велика, суккубий яд слабый, душу, отравленную им, вымаливает всего несколько часов.
«А Винсента ли ты боишься?»
В первую очередь Винсент Коллинз был символом череды неправильных решений, принятых в смертной жизни Агаты. Отвагаи искаженной и отраженной в черном кривом зеркале. Собственной трусости. Того, в чем она так и не смогла раскаяться. Должна была, но не могла.
В Чистилище все обретает вес. От небес не скроешь свои грешные неправильные мысли. Если ты не раскаиваешься в содеянном тобой — это заметят.
Небеса слышат её молитвы. Почему? Почему именно она? Генри говорил, что, наверное, дело в её искренности, в силе чувств, но это вряд ли так — Артур уже сказал, у других архангелов ничего не выходит, хотя сила их чувств не подвергается сомнению. Значит, Небеса сделали сознательный выбор, даровав её право защитного слова. Но почему? Джон прав — она не может выступать мерилом непредвзятости, потому что ничего в этой непредвзятости не понимает. Закрывает глаза на правду, не в силах смотреть ей в лицо. До сих пор.
Уединение Агаты нарушает сейчас шорох гравия под человеческими ногами. И всякого она, оборачиваясь, ожидает увидеть у своей могилы, вот только не отца. Такого постаревшего неожиданно отца. За семь лет они с ним встречаются впервые.
Всякий раз оказываясь в смертном мире, сталкиваешься с болью собственной чуждости этой бьющей ключом жизни, но когда встречаешься с родным человеком — это практически как вонзить себе между ребер нож, повернуть и, выдернув его, наблюдать, как льется фонтаном кровь.
Души не могли прикасаться к смертным, показываться им. При желании могли причинить вред душе смертного, поглотить часть её энергии, которая, к слову, у смертных людей была неиссякаема, не то что у лишившихся смертности обитателей Чистилища, но прикоснуться — ощутить тепло близкого человека, дать ему понять, что ты его по-прежнему любишь — нет. Покуда ты не демон, разумеется. Чем больше энергии смертных душ похищает грешник, тем крепче становится его сущность, и он получает возможность на краткие мгновения становиться видимым, а после и материальным здесь — в смертном мире.
Когда отец подходит к кресту, тяжело опираясь на трость, из груди Агаты рвутся лишь хриплые рваные вдохи. Она знает, как она его разочаровала, какую боль принесла, насколько подвела. Теперь знает. Но уже ничего не может изменить. Господи, как ей хочется хоть толику материальности, чтобы смочь прижаться к его спине, чтобы он ощутил её объятия, чтобы услышал, как ей на самом деле жаль, что все это случилось, что она заставила его через это пройти.
Отец пришел без цветов, он всего лишь приседает у её креста, касается белого гипса ладонью, тихонько опускает голову. Седую голову. А ведь семь лет назад в этой шевелюре не было ни единого серебристого волоска.
— Я молюсь за твою душу до сих пор, Эви, — тихонько говорит отец. Он чуть склоняется к надгробию, касается его лбом, и от этого Агате становится еще горше. Еще один человек в её жизни, которого она в итоге оказалась недостойна. И все же в мыслях слегка светлеет. Непроизвольно, неожиданно — будто этими словами и жестом отец вдруг подарил ей лучик надежды.
Спокойствие настигает её слишком быстро. Она к нему не готова. Она не готова к тому, что капли на щеках высыхают, и новые перестают течь. Ей хочется, чтоб её продолжало трясти, ей по-прежнему хочется плакать и задыхаться от слез. Ей по-прежнему страшно. Но душа уже сжала этот страх с усилием гидравлического пресса, выжала из него всю воду и теперь взирает на сухой остаток её переживаний.
Плакать и прятаться в смертном мире можно безумно долго, можно бесконечно не оправдывать возложенных на тебя ожиданий, веры других людей в тебя и в твою силу. А можно уже выкрутить собственной истерике руки и попытаться подумать головой.
Воля Небес (4)
Генрих с самого освобождения не ощущал в себе такой ледяной ярости. В пальцах даже лопается и рассыпается осколками из-под чашка кофе, которой он пытался занять руки.
— Ты знал? — свистящим шепотом выдыхает он, пытаясь не дышать. Лишний раз вдохнешь запах серафима — лишний раз искусишься. При захлестывающем разум гневе всякое лишнее искушение — добивающая соломинка для спины верблюда.
Миллер бледно-зелененький, не то от страха, не то от шока, вызванного прочитанным. Трясет головой, но Генриху в этом мерещится фальшь. Нужны слова. Тогда он сможет почуять искренность. Все его существо приходит в движение, швыряет Джона к стене, прямо-таки впечатывает в неё.
— Ты знал? — рычит Генрих, а его сущность кипит, части тела преобразуются уже сами, не в его силах это остановить — лишь только замедлить.
— Нет, нет, — вскрикивает Миллер, и это честный ответ, он слегка успокаивает Генриха, однако демону это и не нравится. Ему хочется найти, на ком выместить свой гнев, и для этого ему даже не нужно искать особого повода.
— Ты отмолил его!
— Я не знал имени, — самое обидное, что Миллер сейчас не боится Генриха. Он расстроен осознанием ситуации, глубоко расстроен, но он не боится. А хочется, чтобы боялся.
— Сладкий, — раздается за спиной голос Анны, — мне вызвать инспектора?
— Не надо, — Генрих хищно скалится и следующим движением толкает Миллера в сторону двери, вышвыривая его в коридор. Толкает мышцами исчадия ада, и хорошо, что дверь открывается не внутрь кабинета. Генрих отчаянно хочет, чтобы у Джона появилась возможность хлестнуть его святым словом, и из кабинета демон выходит нарочно медленно.
— Он издевался над ней, — тихо говорит Генрих, покуда Джон поднимается и отряхивается, — ломал её… Садировал… И ты освободил его!
Демоны не могут убить бессмертные души. Лишь поглотить их энергию — насколько хватит силы, загасить внутренний свет души. Впрочем, сейчас все существо Генриха не хочет для Миллера смерти — лишь долгих и мучительных страданий. За то, что он вновь столкнул Агату с этой мерзостью.
Миллер не сопротивляется. Он по-прежнему не сопротивляется, хотя мог бы. Даже когда Генрих сжимает пальцы на его горле и поднимает своего давнего противника в воздух на одной лишь вытянутой руке — даже тогда серафим не прибегает к собственной силе.
Вокруг собираются бесы, собираются, но не рискуют соваться. Ни один из них святым словом не владеет. Что-то в душе Генриха страстно хочет, чтоб сейчас прибежал дежурный инспектор и четырьмя первыми словами экзорцизма хлестнул напряженную, голодную сущность исчадия ада. Заставил бы опомниться, отступить… Но нет инспектора — будто сгинул, исчез в такой нужный момент.
— Сладкий, отпусти его, — Анна отважно пытается вмешаться, — я же вижу, что ты не готов его убивать сейчас. Ты все еще можешь остановиться, слышишь?
Может? Генрих в этом не уверен. Это Миллер привел в жизнь Агаты это её мерзкое прошлое. Это Миллер вчера сознательно размазывал её именно тем оскорблением, к которому — теперь-то уж Генрих точно знает — она была особенно. Слова-триггеры существовали в душе каждого человека, каждому можно было сделать больно тем или иным образом, не вовремя сказав что-то, что ранило человека особенно глубоко. Возможно, Миллер отмолил врага Агаты случайно. Возможно, это Небеса шутили над глупой девчонкой столь изощренным образом — у них вообще было очень жестокое чувство юмора. Но совершенно точно Джон знал слабое место Агаты. Слово, которое надавило в ней на самое больное, на самое темное, на самое страшное. Из-за которого между ней и Генрихом пролегла трещина.
Лицо задыхающегося Миллера наливается кровью. Генриху это доставляет практически физическое наслаждение. Ему смертельно хочется угробить этого ублюдка, поглотить его душу — всю, до последнего глотка, чтобы ни одна маленькая часть не познала свет, пока сам Генрих не будет уничтожен. Чтобы он больше никогда не смел ходить под одними небесами с Агатой. Чтобы не бросал на неё своих липких взглядов, чтобы даже не смел касаться её, после всего, что сделал «для неё». Сейчас Миллер казался Генриху даже более мерзким, чем сам Винсент Коллинз, потому что именно благодаря Джону Агата вынуждена вновь пережить весь произошедший с ней при жизни ужас.
— Сладкий, отпусти его. Сейчас, — ровно произносит Анна, — твоя девушка вряд ли обрадуется твоему срыву.
Его девушка? Его ли? Сейчас, когда он оставил её наедине с этим, самоустранился, да еще и демонстративно тепло пообщался с её подругой. Действительно ли она все еще «его девушка»? Она ревновала — это Генрих чуял, но насколько сейчас она все еще хочет быть рядом с ним?
И все же Анна права. Агату не обрадует срыв Генриха. Её сейчас вообще вряд ли что-то может обрадовать, девочка наверняка напугана, расстроена, разбита. Но точно не готова, что её усилия по его адаптации в Чистилище пропадут впустую. Она не придет к нему. Она это обещала. И он готов был согласиться на это тогда, но совершенно не готов это все-таки принять сейчас. Не готов отнять её у самого себя.
Генрих закрывает глаза. Пытается опустошить внутренние запасы ярости. Это практически невозможно, все равно что пытаться наперстком вычерпать океан. И все же чуть-чуть выдохнуть удается. Генрих разжимает пальцы. Слышит глухой звук, судорожный кашель Миллера, делает два шага назад.
Все его существо придавлено к полу твердым коленом самоконтроля, он просто отсчитывает время, пока Миллер оклемается ровно настолько, чтобы прочитать экзорцизм.
Миллер сначала прокашливается, потом унимает рваное дыхание, но он молчит. Молчит!
Генрих никогда не думал, что чтобы открыть глаза, нужно приложить столько усилий, но все-таки он размыкает веки, встречает прямой взгляд Миллера. Спокойный, твердый, ожидающий. Все ясно. Миллер не желает принуждать Генриха к усмирению его пороков, не желает тащить его по пути раскаяния за волосы. Он и до этого просто давал ему шанс отказаться от расправы самому. Самопожертвование уровня «истинный святоша». Хотя вообще-то, вопреки внутреннему ехидству, Генриха это сейчас восхищает.
— Проведи мне экзорцизм, Миллер, — выдавливает Генрих с истинно демоническим усилием, а затем с ехидцей добавляет: — Пожалуйста.
От последнего слова Джон вполне ожидаемо морщится. Даже он понимает, что просить о таком — почти что то же, что просить ударить под дых. Только больнее.
— Идем, — он качает головой в сторону двери в кабинет. Генрих вновь жмурится. Он не может себе представить, что вообще шевельнется в своем нынешнем состоянии, да еще и вдохнет мимоходом запах праведника. От голода темнеет в глазах, все его существо трясется от греховной жажды в практически болезненных судорогах.
— Нет, здесь, сейчас же, — хрипит Генрих, и Джон удивленно поднимает брови, растирая пальцами шею.
— Все увидят, — произносит он.
— Плевать, — с усилием выдыхает Генрих. Плевать, что увидят сопляки-бесы, пусть видят, пусть знают, чем в итоге им аукнется лживый язык и нечистая рука. Пусть Генриха увидят в жалком состоянии, к черту, это будет его наказание за этот срыв. И он сам его для себя попросил. Принял его.
Ангелы не зря выбрали себе мечи в качестве оружия. Ведь меч — это крест, символ веры и верное средство, чтобы отпугнуть демона. Хотя для этой цели можно и просто из двух палочек крестик связать. Когда Генриха ловили, его загнали в церковь, зажали в угол крестами и три часа кряду четыре архангела хором читали полный текст ритуальной молитвы, выжигая в нем демонический голод, отрезая в нем возможности его грешной сущности, одна за одной. Это оказало лишь временный эффект, но за это время Генриха успели доставить в Чистилище и приковать к кресту. Это было самое торопливое распятие в истории, наверное.
Сейчас все было по-другому — сейчас текст был кратким. Миллер не достает меча, лишь просто складывает ладони. А Генрих стоит, скрестив руки на груди, не двигаясь с места, практически приказав себе этого не делать. Тогда голод был всей его сущностью, тогда светило верхнего слоя и раскаленный крест еще не выжег его до того человеческого, что в нем еще было живо.
Джон по неким причинам проявляет к Генриху милосердие. От первых слов его молитвы эффект проявляется медленно. Сначала просто начинает шуметь в ушах, казалось, что мерный голос Миллера становится единственным звуком в мире. Затем по телу растекается слабость — мир просто пошатывается, и вот уже под коленями и ладонями твердый пол, а над головой звучат все те же спокойные «Ergo draco maledicte». После этих слов приходит боль. Мерная, тихая, она начинается с ломки мелких мышц, а после скручивает в судорогах уже все тело. Ногти бессильно впиваются в кожу ладоней. Руки трясутся — все тело демона хочет свалиться на пол безвольным кульком, но Генриху хочется оставить при себе хоть крупицу гордости. Он и так не удерживается, и из груди все-таки вырывается несколько криков: глухих, сдавленных, кратких — лишь в минуту особенно острых судорог, но они вырываются. Ему казалось до этого, что после Полей его болевой порог этим не потревожишь, но тело расслабилось практически мгновенно. Тело уже свыклось с мыслью, что боли не будет, и оказывается не готово к её возвращению.
Когда Миллер замолкает, теперь уже Генрих задыхается, заходится судорожным кашлем.
Джон приближается к нему, опускается на колени — Генрих даже проникается тем, какая высочайшая ему этим оказывается честь, — кладет руку на плечо демона.
— Ты молодец, правда, — негромко произносит серафим, а Генрих судорожно пытается дышать. Сам он себя молодцом не чувствует. Мозги уже расчленили его кровожадность на составляющие, критически оценивать количество объективности, удручающее, кстати количество. Очень удручающее. Ладно бы, объектом вымещения его гнева стал сам Винсент Коллинз. Нет. Его гнев ударил по Миллеру, по его личной слабости, не по слабости Агаты.
На ладони капает — мелкие красные капли. Генрих проходится по губам языком, во рту сразу становится солоно. Усмехнувшись идиотской иронии судьбы «Хотел крови — на получи», демон запрокидывает голову, уставляясь в потолок. Кажется, пытаясь встать на правильный путь, ему еще предстоит стать мазохистом.
Война с Миллером не окончена, но на краткое время нынешний момент можно принять за перемирие. Некоторые сражения оказываются важнее их личного соперничества.
Сквозь себя (1)
После экзорцизма Миллера хочется только одного — немедленно удавиться. Отказывают все базовые демонические возможности, особенно пострадал нюх, и без него окружающая реальность кажется безвкусной и пресной. Даже плоской.
Генрих забивается в свою квартирку и долгое время сидит на полу у кровати, запрокинув на неё голову.
Есть у Миллера некая убедительность, после его Увещеваний реально что-то шевелится в душе. Совесть? Забавно. Триумвират, наверное, и не поверит, что у Генриха есть ее зачатки.
А сам Генрих с иронией думает о том, как всё-таки забавно, что именно так всё сложилось. Хотя прошлое в прошлом, Миллер приложил немало усилий, чтобы стать тем, кто он есть, а Генрих… Ему эта работа ещё предстоит. И конечно, результативность Миллера ему вряд ли светит.
Стук в дверь отвлекает Генриха от мыслей. Он по привычке принюхивается, но ничего не чует. Подниматься не хочется, он даже ничего не говорит. Если это соседи-бесы, пускай проваливают к дьяволу. Генрих им и так сегодня бесплатный цирк устроил. А если это она…
Дверь не заперта. Если захочет — войдёт.
— Генри? — тихий и усталый голос, скрип приоткрывшейся двери. Сердце начинает суетливо и нетерпеливо приплясывать.
Генрих прикрывает глаза, загадывает, что если она войдет — значит, эти отношения важны и для неё, а если нет — то с завтрашнего утра он будет адаптироваться в Чистилище без её особой помощи. Сам. И больше не будет на неё рассчитывать. И думать о ней тоже не будет. Это будет плохо получаться, но он постарается.
Дверь закрывается. В прихожей слышны лёгкие шаги. Генрих не двигается с места, не раскрывает глаз, ждёт. Он не ощущает ничего, никаких её эмоций, и от это особенно паршиво. Было бы легче, если бы он знал, что она сейчас чувствует.
Она снова в темной, закрытой одежде, точь-в-точь как в вечер их ссоры. Даже не подозревает, что эти брючки и тонкий свитерок плохо справляются с задачей скрыть фигуру. Отнюдь. К груди и стройным ногам они внимание вполне привлекают.
Волосы убраны, зачесаны в хвост, и Генриху хочется содрать с ее волос эту чёртову резинку, дать свободу ее кудрям, запустить в них пальцы, просто потому что на ощупь они как мягкий гладкий шелк.
— Ты чего на полу? — тихо спрашивает Агата. Она кажется бледной, но неожиданно решительной.
— Так захотелось, — едва слышно отвечает Генрих. Она должна подойти сама. Если сейчас она ощутит себя неуместной — значит, он действительно принимал за действительность слишком малое.
Агата подходит ближе. Генрих прикрывает глаза, слушая её осторожные шаги. Она садится на пол рядом с ним. Нежные ладони касаются его лица. Это уже можно считать за проявление приязни?
Генрих ощущает в кои-то веки, как замирает его сердце, а не чье-то другое. Все-таки чутье и прочие усиленные чувства основательно забивали в нем внутренние ощущения.
— Иди ко мне, — шепчет он, тянет её к себе, устраивает между расставленных колен, обвивает руками, опускает лицо к её волосам. Агата прижимается к его груди — теплая голубка, тихонько поглаживая его ладонями.
— Как ты? — тихонько спрашивает она. — Джон рассказал про экзорцизм.
— Прости, — шепчет Генрих, — недолго я продержался.
— Джо сказал, что ты молодец, — возражает Агата, — что сам попросил экзорцизм, что выдержал весь ритуал и не бросился на него.
Неожиданно для Миллера как соперника Генриха, но… не так уж удивительно для Миллера как того, кем он на самом деле является.
— Я почти придушил его, — бурчит Генрих, — влез в твои документы, кстати, тоже.
Агата замирает, и её сердечко гулко бьётся в ее груди, затем она вздыхает.
— Я не должна этого говорить, — задумчиво произносит она, — но спасибо.
— М? — недоверчиво переспрашивает Генри. — За что, за то, что удержался и не придушил Миллера?
— За это точно… — Агата вздыхает, — не знаю, чтобы со мной было, если бы ты не удержался.
— Почему? — внезапно сиплым голосом переспрашивает Генрих. Сейчас, после экзорцизма, когда демонические чувства отказывают ему, он был как слепой и глухой котенок — и приходится ответы на вопросы получать самым вульгарным образом — задавая вопросы ртом. Она может сейчас ответить, что не хотела потерять Миллера, или может соврать, и Генрих будет вынужден ей поверить. Хотя обычно она ему не врет, разве нет? Разве не это он ценил в ней еще там, на Полях?
— Страшно остаться без тебя, — Агата говорит осторожно, как будто пробирается по топкому болоту, — и я не хочу, чтобы ты вновь испытывал на себе гнев Небес.
В груди растекается что-то теплое, благодарное. Генрих осторожно тянет с её хвоста резинку, распуская волосы, забираясь в них пальцами. Как будто бы тихо, украдкой, но это первая снятая с неё вещь. Хорошо бы, если бы не последняя, но он точно сегодня сам Агату в постель не потащит. Слишком погано на душе, слишком устал, слишком уже хочется её взаимности, её инициативы. Чтобы не чуять это все, не додумывать самому, но ощущать, видеть, слышать…
— Я правильно понял, спасибо ты мне сказала не только за то, что «не сорвался»? — Генрих таки смог сформулировать этот вопрос. Интуиция у него была неплохой, но черт возьми, такой неуверенной без эмпатии-то.
— Я сегодня будто все это пережила заново, — голос Агаты чуть поблек, — страшно и противно, будто наяву встретила Винсента и снова все это… Знаешь, я не уверена, что смогла бы рассказать это тебе сама. И получается, что теперь не надо. Ты знаешь. И можешь сам решить, нужна ли я тебе… такая.
— Такая глупая? — Генрих смеется, беззвучно целуя её в висок. Кажется, между ними трепещет воздух. Какая такая? Из-за одного урода в её смертной жизни она теперь будет считать себя порченной абсолютно для всех?
Ему хочется сказать, что он будет стараться защитить её от всего — и от себя в том числе, но кажется, сейчас это не нужно. Агата находит его губы своими, касается их своим восхитительным язычком, заставив его сердце замереть посреди сложного кульбита. Он с подлинным наслаждением отвечает на её поцелуи, и ему кажется, что он пьет мелкими глотками солнце.
Он остается верен намерению прислушаться к ней, было интересно, насколько далеко она захочет зайти сама — в принципе, его бы устроило, если бы они сегодня обошлись поцелуями — их было вполне достаточно, он может целовать ее так хоть всю ночь. Но это была ненужная жертва — она уже тащит его рубашку из-под ремня. Было достаточно так мало, чтобы запылать самому, всего лишь её восхитительно нежных пальцев на его коже.
— Ай-яй-яй, соблазняют, — ухмыляется Генрих, ловя ее ладони, заставляя её замереть.
— Ты злишься? — тихо спрашивает Агата. Будто расстроенно…
— На себя разве что, — Генрих пожимает плечами, — слишком многое понял не так.
— И ты… — Агата смущённо заглядывает ему в лицо, — ты хочешь?
— Тебя-то? — Генрих касается пальцами её губ, — а что, есть сомнения?
Это был вообще не тот вопрос. Тот бы звучал «насколько сильно он ее хочет», и ответ бы включал не одно слово «очень». Так-то сдвинуть бы её ладонь пониже, чтобы ощутила, как уже прилила к его члену кровь, но нет, слишком быстро, слишком пошло, он может себе позволить не торопить её. В конце концов, она уже здесь и уходить не собирается.
— Ты вообще в порядке? — касаясь губами нежной кожи на ее скуле, медленно спускаясь поцелуями ниже, шепчет Генрих. Вдыхает её запах, дышит им — сейчас, после экзорцизма, когда мир поблек и истончился, даже легкий аромат её кожи уже будоражит его кровь.
Девушка беспокойно завозилась. Нет, до «в порядке» ей было явно не близко.
— Было страшновато спать одной, — тихо отзывается она, — да и сейчас тревожно, но с тобой спокойней.
Это кажется немалым достижением. В страшный момент она предпочла его Миллеру, хотя тот наверняка пробовал подставить свое «дружеское» плечо. Черт возьми, почему хочется улыбаться как довольному идиоту от одной банальной мысли, что спать Агата предпочитает в его, Генриха, постели.
— Я думал, тебе будет хуже, — тихонько замечает Генрих, потихонечку раскаляясь от её близости, от теплового медового запаха волос, от тонких пальцев на своем животе, — точно не ждал, что ты ко мне придешь, да еще и захочешь…
— Знаешь, я сама так думала. Что будет хуже, что не приду, что точно не захочу, — Агата тихонько вздыхает, и её пальцы сдвигаются чуть ниже, ближе к паху. Кажется, теперь уже она его дразнит. Испытывает на прочность.
— Но ты здесь… — задумчиво замечает Генрих, тоном намекая, что ему не ясно, почему это происходит. В конце концов, он уже понял, что конкретно её задело в словах Миллера, но это её «Не хочу» по-прежнему неприятно покалывало.
— Генри, — чуть возмущенно фыркает девушка. — Да! Я здесь. Я тебя хочу. Мне с тобой хорошо, а без тебя плохо. Доволен?
— Безумно, — что-что, а вербально Агата сегодня либидо Генриха удовлетворила сполна. Даже больше, чем удовлетворяло его чутье. Хотя кажется, сегодня и сама Агата неожиданно откровенна, все то, что обычно из неё приходится тянуть многими усилиями, многими ласками — сегодня она говорит сама, видимо, её чувства все еще не улеглись.
— Я все-равно не смогу относиться к нему… — Агата нарочно выделяет слово нажатием голоса, — так же, как к тебе. Я вообще ни к кому не смогу относиться так же, как к тебе.
— Черт, птичка, прекращай говорить мне такие вещи, — Генриху хочется сжать объятия еще сильнее, чтобы ей стало в них нестерпимо жарко, чтобы её желание поднялось в ней шквалом. Просто для того, чтобы её чувства сейчас соответствовали его душевной буре.
— Почему? — чуть обиженно бурчит она.
— Потому что я ужасно ревнивый поганец, а ты тешишь мою гордыню, — кажется, имеет место быть эволюция слепого и глухого котенка в довольного урчащего кота, по крайней мере Генрих сейчас сам понимает, что еще чуть-чуть и он начнет мурлыкать.
— Я переживу, — шепчет Агата, касаясь его лица невесомыми поцелуями, будто осыпая его лепестками своей нежности. Ему хочется смеяться, до того она трогательная в своей страстной порывистости.
— А что не переживешь? — Генрих ловит губами мочку её уха, и она захлебывается воздухом. Её так мало нужно, чтобы потерять голову. Ведь он даже её не раздел… Даже не залез под тонкий свитер, хотя хотелось, ужасно хотелось. И по-прежнему хочется. А еще лучше сдернуть этот свитер вовсе, податься вперед, опрокинуть её на спину, распластать прямо на этом тонком фиолетовом ковре. Нет. Сегодня нет. Она едва выпуталась из липких объятий страха, сейчас вся эта инициатива с его стороны вызовет совершенно ненужные ассоциации. Пусть задаст темп сама. Разницы нет совершенно.
— Никаких больше столов и кабинетов, — грозно заявляет она, пытаясь выглядеть непоколебимо.
— Давай больше никакого кабинета Миллера, — хмыкает Генрих, на краткий миг отрываясь от её шеи, — потому что с ним реально вышел перебор, но в нашем-то кабинете можем что хотим делать, нет?
— Там же еще Анна… — задыхаясь возражает Агата.
— Я её убедительно попрошу погулять, — смеется Генрих.
— Я против, — ворчит Агата, — но ты же переубедишь…
— Не поддавайся, — шепчет Генрих, — ни за что мне не поддавайся.
Ведь так интересно будет добиться её уступок, если она будет противиться его идеям, не сдастся ему легко и просто. Это будет иллюзия охоты, приятная и будоражащая.
Кажется, время для болтовни заканчивается — она уже не хочет ничего ему отвечать, но с большой охотой ловит губами его поцелуи.
Сквозь себя (2)
За окном темнеет, пока они болтали, в комнате уже сгустились сумерки. Еще чуть-чуть, и в комнате станет темно. И это… неожиданно раздражает, она хочет сегодня видеть. Его. И чтоб он видел её. Значит, надо поторопиться.
— Эй, куда!
По полу с веселым цоканьем раскатываются пуговицы. Рубашка очень раздражала… Оказывается, чтобы с ней разделаться нужно было дернуть не очень-то сильно.
— Насилуют! — весело выдыхает Генри, а Агате хочется рыкнуть на него, как дикой кошке. Еще пять минут простоя, и она уже сама сдернет с него штаны. Есть подозрение, что он этого и добивается.
У его губ терпкость и крепость шиповникового вина. И они прекрасно справляются с тем, чтобы рассеять тревожные мысли, вытеснить из груди неприятное щемление. Такие горячие. Такие жадные. Пьянящие.
Горячие у него не только губы. От всего его тела пышет жаром, сама себе Агата кажется ледышкой, когда касается его кожи. Черт, какой же он красивый… На самом деле она и до этого это понимала, но сейчас будто смотрит на него, избавившись от тумана перед глазами. От одних только его глаз цвета темного янтаря в принципе сложно оторвать взгляд, особенно сейчас, когда они слегка затуманились. А если совершить этот немыслимый подвиг — сразу и не поймешь, на что смотреть сначала — на сильную ли шею, на мускулистую ли грудь, клеймо грешника на которой почему-то совершенно не портит общей картины, или на этот подтянутый живот. И это только верхняя часть тела. Спереди. Спина, задница, ноги — в том же рельефно-поджаром состоянии. Его можно обливать маслом и ставить натурщиком для скульпторов. Приведи его к неопытным художницам первого курса какого-нибудь художественного университета — и девственниц среди них не останется вовсе, а самому Генри придется спасаться бегством. Даже несмотря на заявленную «неутомимость».
— Так нечестно, — возмущенно шипит Генри, когда Агата в который раз уклоняет лицо от его губ. Да, ей прекрасно известно, что будет дальше, сейчас он прижмется губами к её шее, выпишет на ней языком свои инициалы, и все, Агата будет скулить от нетерпения. Нет, сегодня Агате хочется безумно прочувствовать, что все действительно происходит по её решению. В общем и целом — ей и не нужно ничего, чтобы сейчас дрожать от нетерпения. Она уже дрожит. Все потому, что ужасно по нему скучала. И вчерашнюю ночь скучала, и весь этот длинный невыносимый день. Сложно представить, как обходиться без него более долгие периоды времени. Может быть, потом станет легче — но сейчас она сама чувствует себя голодной. Ужасно голодной. И насытить её может только он.
— Пойдем уже на кровать? — выдыхает Агата, отрывая губы от его скулы. Пальцы распускают узел на его галстуке. Она даже и не заметила утром этого галстука…
— Слушаюсь, моя госпожа, — ухмыляется демон. Ах, госпожа? Ну погоди же, Генри. До кровати совсем немного, но чтобы добраться — нужно встать. Это тяжело сделать, когда руки заняты обшариванием мужского тела, а губы — мужским же ртом, изучают его на предмет нахождения в нем языка. Находят, нужно сказать, с завидной регулярностью. Наконец встать на ноги и при этом не испытать тяжелейшего разочарования от расставания с его телом удается. Удается и пихнуть демона в грудь. Он поддается — сваливается на голубое покрывало.
Смотрит на неё, в глазах пляшут веселые черти. Агата устраивается на его бедрах. Сложно игнорировать его возбуждение, поэтому сдвигается чуть ниже.
— Давай сюда руки, — требует Агата, надеясь, что он не будет с ней спорить. Черт возьми, да у неё и опыта — всего ничего, а то, что она пробует сейчас, — она видела в какой-то мелодраме и никогда не проверяла на практике. И страшно налажать, страшно выглядеть глупой, страшно не оправдать его ожиданий. С ним всегда безумно хорошо, настолько, что кажется, что так и вовсе не бывает. Даже сейчас её будто окутывает его внутренняя сила, и от одного этого ощущения её бросает в дрожь. Она в безопасности, с ним — в безопасности.
Генри садится, Агате на миг кажется, что он решил не идти у неё на поводу, но он сбрасывает с плеч рубашку, вытягивает руки вверх.
— Так удобней, — шепчет он прямо ей в губы, и Агата нервно хихикает и тянется к его запястьям с галстуком. Руки даже подрагивают от волнения, пока она затягивает узел. Он смотрит на неё снизу вверх, как на дивное чудо, дышит — и от его дыхания, прогревающего тонкую ткань водолазки, по коже будто растекаются во все стороны крохотные искорки, а внизу живота снова скручивается сладкий спазм. Как же мало ей надо для того, чтобы растерять из головы все мысли, если рядом оказывается он.
— Привязать не хочешь? — Генри по-прежнему улыбается, кажется даже сейчас чертовым хозяином положения. Так оно и есть, да. Он просто позволяет ей играть по своим правилам. Но они есть — её правила. И это замечательно. И сейчас, раз уж ей так хочется быть амазонкой и «делать все самой» — она будет.
Агате кажется, что в её голове играет какая-то нетерпеливая дикая музыка. Будто скрипку выпустили на волю. Его предложение приходится отвергнуть, хвосты у галстука оставлены слишком короткие. Зато крепко.
Агата раздевается. Торопливо, пока не успела передумать, чувствуя, как подступает паника, сбрасывает на пол водолазку, брюки, даже трусики — и те сдирает с тела, не желая оставлять своим страхам ни клочка в душе, и на краткий миг замирает, ловя взгляд Генри. Зачарованный взгляд.
— Ты такая красивая, — разумеется, наверняка он говорил это всякой девушке, с которой спал, но сейчас он говорит это ей, никому иному. Этот совершенно невозможный мужчина сейчас считает красивой её. Черт, даже это трогает её до глубины души.
— Ну, до тебя мне далеко, — наконец соображает сказать Агата, справляясь со смущением.
— Больше дела, птичка, — ухмыляется демон, — давай уже. Задай мне жару.
Ему легко говорить — при его-то опыте. А она даже не знает, с чего начать. Впрочем, ладно, умирать так с музыкой. Позориться — так хоть не бездействием.
Агата целует его в живот. Вслушивается в дыхание, ловит тихий, едва слышный вздох, улыбается. Спускается ниже. Кожа на его животе такая гладкая, он вздрагивает, напрягается — и под кожей из-за этого ходят мышцы.
Доцеловав до ремня, Агата выпрямляется. Расстегивает ему брюки, спускает вниз резинку трусов. Смотрит на их содержимое.
Паника требует срочно закрыть глаза. И пошла бы эта паника куда подальше. Он уже не раз засаживал свой член в её тело, но всякий раз она стыдливо прятала от этой части тела взгляд, будто девчонка-малолетка.
— Ужас, скажи же, ты же в обморок хочешь упасть, да? — этот паразит еще и издевается. Агата смотрит ему в лицо и мстительно прикусывает губу. Все, что происходит дальше, — происходит только благодаря тому, что до Винсента Агата читала немало эротической литературы, и там героини это делали, да. Да — сжимали головку мужского члена губами. Скользили языком по напряженной мужской плоти. И делали это обязательно ритмично, хотя, честно говоря, у Агаты выдерживать темпп получается не сразу. Она страшно боится задеть чувствительную плоть зубами, в тех же порнушных романах писали, что это весьма неприятно.
— Твою ж… — Генри там выше давится воздухом. Хорошо. Значит, все нормально. Получается. Агату слегка потряхивает от того, что она сейчас вытворяет. Даже не слегка. Просто бежать уже некуда. И если не с ним все это себе позволять в чертовой закрытой комнате — то с кем? Он же вряд ли понимает, что для нее делает, просто находясь рядом. И для него — для него не жалко. Ни губ, ни тела, ни слов — ничего.
Агата никогда не делала этого с мужчиной добровольно, то, что было с Винсентом, не в счет, тогда она думала вообще не о том. Сейчас её не тошнит, и весь мир, кажется, затаился, оставив для нее лишь симфонию хриплых мужских вдохов. У него слегка солоноватый вкус, и кожица под языком тонкая, нежная, под ней самые тонкие венки кажутся рельефными.
— Агата, — судорожно выдыхает Генри и, кажется, пора…
— Так дела тебе достаточно? — с легкой издевкой шепчет она, выпрямляясь, а он смотрит на неё так, будто действительно хочет её съесть. От этого взгляда в груди Агаты скручивается раскаленное торнадо. Все, она и сама уже ждать не может, больше ни одной чертовой секунды.
Генри замирает, когда Агата нависает над ним. Касается пальцами члена. Осторожно опускает бедра к его паху, сама вставляет член в лоно.
Горячо. Безумно горячо. От удовольствия шумит в ушах, кажется, что за окном бушует гроза. Так невыносимо прекрасно двигать бедрами, насаживаясь на его член, снова, снова… И снова…
Выбивать из него рваные, хриплые вздохи всяким своим движением ему навстречу. И самой каждый раз задыхаться от восторга, сладостного, острого, жаркого. Когда четырех движений достаточно, чтобы перед глазами все плыло, чтобы тело слабело с каждой секундой, отдаваясь происходящему все с большим неистовством.
Она двигается резче, вырывает из его груди стон удовольствия, и это лучшая из возможных оценок. Его плоть пульсирует там, внутри неё, и чем дальше, тем невыносимее становится эта истома. Его стоны ласкают её уши ничуть не хуже его рук. Почему-то это кажется особенно важным — что ему тоже с ней хорошо. Настолько хорошо, что он ослабляет вожжи самоконтроля. И всякий звук с его стороны отдается в её душе сладким эхом. И она двигается сама, насаживается на его член сама, и все ярче становится мир за зажмуренными от наслаждения веками. Она думала, что лучшая оценка — это стон его удовольствия? Нет. Лучшая — это когда он кончает раньше неё! Она смогла, она этого добилась. Агата замирает, тяжело дыша, глядя на Генри. Он кажется оглушенным, долгую пару секунд, а затем сбрасывает её на кровать.
— Узлы ты вязать совершенно не умеешь, — насмешливо выдыхает он, так легко высвобождая руки, что аж становится обидно.
— Генри, не нужно больше, — заикается было Агата, потому что и вправду — она вполне может обойтись этой ночью так, как есть сейчас. Без разрядки. Но он пропускает эти её слова мимо ушей.
— Ты меня сегодня ужасно удивила, птичка, — хищно улыбается Генри и, поймав Агату за запястья, сводит их за спиной, — только позволь я тебе покажу, как это все-таки делается.
Сквозь себя (3)
Господи…
Наверное, Небеса сейчас запишут ему в выписку «поминание Господа всуе». Хотя нет, наверное, никогда в жизни Генрих не был готов настолько громко взывать к Небесам как сейчас. Если делить с ними горести, но почему не стоит разделить и чувство полнейшего, абсолютного восторга. У него у самого уже подрагивают руки, и даже слегка ноет спина, но голова по-прежнему не желает соображать и сообщать телу, что пора бы остановиться.
Малышка…
Агата уже устала, это видно, но она мужественно терпит эту усталость. Не протестует против того, что он снова начинает играть с её телом. В следующий раз он сможет остановиться, сможет не выматывать её настолько сильно, но не сегодня. Именно эта их ночь становится особенной, уникальной, ведь именно сегодня она отдалась ему до конца. Отказалась от сомнений. Доверилась.
Доверие… Её доверие волнует его куда-сильнее, чем что-либо другое. Он знает, кто он. Она — тоже знает. И здесь, сейчас — она рядом с ним. Вопреки тому, какую опасность он для нее представляет.
Темные кудри, что пропахли медом, растрепаны. Нежные губы припухли от его поцелуев — сколько раз он сегодня приникал к ним, выцеловывал из них стоны, он даже позволял себе их прикусывать, чтобы освежить уровень её ощущений. И как восхитительно Агата в эти секунды вздрагивала, впивалась ноготками в кожу на его предплечьях.
Кожа. Её кожа. Нежная, гладкая, атласная. Кажется, сегодня он покрывал поцелуями все тело этой удивительной девушки. Эту спинку, гибкую, чувствительную, подрагивающую от всякого его прикосновения. Этот живот — мягкий, нежный, практически впалый. Каждый сантиметр лица — по нескольку раз. Шею — обязательно, он и раньше замечал, что Агата совершенно теряет голову, стоит только коснуться губами кожи на под ухом и ниже. Руки — он целовал эти запястья, когда растягивал на них узел галстука. Когда она, постанывала, дрожала на простыни, обессиленная оргазмом. Первым оргазмом. Ноги — и те целовал, от кончиков пальчиков до бедра, изучая губами каждый изгиб, каждую косточку, стоя перед ней на коленях. Не говоря уже о нежном девичьем треугольничке. Весь исцеловал, весь исследовал, и языком, и губами, каждую нежную складку, от клитора и до нежного входа, вылизал каждый чувствительный уголочек, слушая, как она задыхается от удовольствия, ощущая, как впиваются в волосы тонкие пальцы. И от этой боли — сладкой, тянущей, слабой боли — вся его сущность вставала на дыбы, требовала довести её до пика снова. Снова заставить его птичку кричать.
Птичка…
Почему он зовет её птичкой, кстати? Потому ли, что их знакомство началось с того, как она свалилась на его голову с небес? Нет, вовсе нет, просто эти её стоны — сладкая песня, сладкая музыка, свидетельство её наслаждения, и слушать эту песню, заставлять Агату «петь» — занятие, в котором так сложно остановиться. Есть ли конец у этой песни? Или она может быть бесконечной, лишь только не отпускай рук, лишь только не разрывай губ?
Вот и сейчас — она лежит, прижавшись к нему спиной, а Генрих скользит ладонями по её телу. Каждый нерв в теле напряжен, он ловит каждый тихий вздох, подгадывая, когда она наберется силы для еще одного захода.
— Ну что, отдохнула, — шепчет Генрих ей на ухо, а девушка облизывает пересохшие губы. Такая нежная, такая страстная… Сможет ли он вообще ею насытиться? Эйфория заставляет кровь кипеть. Она пришла к нему. Она выбрала его. Она… его поимела. Это было забавно. И честно говоря — Генриху это понравилось. Понравилось, что она наконец дала себе волю, взглянула себе в лицо без страха. Больше ничего не стоит между ними. Хотя нет. Кое-что все же стоит. И нужно будет поговорить об этом наконец, вот только не сейчас — попозже.
— Еще чуть-чуть, и я точно умру, — тихонько выдыхает Агата, и Генрих её целует, в шею. Да, этот прием практически противозаконен, но как же сложно удержаться и не заставить её охнуть от удовольствия, снова.
— Последний раз, сладкая моя, — умоляюще шепчет он. Она не откажется. Пусть у него еще нет чутья — оно только-только возвращается, но ему оно вовсе не нужно, чтобы понимать Агату. Чтобы чувствовать в ней всю это чувственную дрожь. Чтобы знать — сейчас она хочет его не меньше, чем он её. Именно его она хочет. Не Миллера, и никого больше.
— Ну если последний… — она томно вздыхает, будто уступая, а сама уже в предвкушении прикусывает губу.
Маленькая шельма. Она, может, еще не поняла, но характер-то у неё не менее задиристый, чем у него. Просто подавленный. Сломанный. И она с этим боролась, так самоотверженно, так отчаянно… Ради него? И Генри пылал, наблюдая это, думая об этом. Кажется, что он уже побывал в аду — в том самом библейском аду, и сам стал вечно пылающей головней, которая никак не может сгореть. Не хотел сгорать. Не хотел останавливаться.
И к черту все. Даже самое нерешительное, несмелое её касание уже распаляет, заставляет пылать. Она так отважно пыталась быть решительной, доставлять удовольствие ему, так беспокоилась о результате, что дорого стоил сам факт, а научить он её еще всему успеет. И все же от одного только воспоминания нежных губ на члене тело будто снова переживает это нереальное ощущение невесомости, и снова, снова хочется стиснуть её в объятиях, затопить в нежности, а к паху в это время вновь приливает кровь.
— Сильно устала? — тихо спрашивает Генрих, скользя пальцами по темным кудрям внизу её живота. Обычно он обращается с ней жестче, в ней чувствуется потребность слышать уверенный командный голос, но до этого он еще ни разу не добивался от неё четырех оргазмов за ночь и не пытался организовать пятый. Сейчас можно и примерить роль ласкового и нежного любовника.
— Ну так, — Агата пытается выглядеть бодрой и чуть-чуть подрагивает — Генрих тем временем добирается пальцем до клитора, обводит его пальцами, осторожно растирая, вверх-вниз, в медленном ритме, чтобы она раскалялась медленно. И она раскаляется, влажнеет с каждой секундой все сильнее. И вот уже она не просто прикусывает губу, а умоляюще стонет.
— Генри…
Маленькая нахалка елозит бедрами, нетерпеливо, будто нашаривая его член. А у Генриха от этого мутится в глазах, и срывает последние гаечки со сдержанности.
— Давай-ка сюда, — в тоне больше никакой просьбы, Генрих уже попросил один раз, ни к чему делать это снова. Сам притягивает её бедра к своим, член упирается в круглую ягодицу. Агата смущенно ахает, правда, это лишь слегка трогает Генриха. Глупышку до сих пугают новые ощущения. Сложно отказаться от искушения брать её по-новому, хотя не только в разнообразии поз и заключается широта возможностей плотского удовольствия. Но пока у него есть новые, незнакомые ей позиции — он будет прибегать к ним, как к козырным картам. Выкладывать «на стол» по очереди, не торопясь, в нужные моменты.
— Прогибайся, — Генрих надавливает ладонью на талию. Любуется выставленной попкой. Ладонью заставляет её раскрыть плотно сведенные бедра. Пальцем скользит по мокрым нижним губкам, быстрыми пульсирующими движениями пальцев стимулирует чувствительный вход в лоно. Агата скулит, пытается снова свести ноги.
— Рано, — Генрих слегка шлепает её по бедру.
— Пожалуйста, — тихонько стонет девушка, прямо-таки выгибаясь ему навстречу. Просит…
— Нетерпеливая какая, — смеется Генрих. Он хотел подразнить её дольше, ему безумно нравится доводить её до исступления, так, чтобы она и сама забывалась, сама двигалась ему навстречу, но кажется… кажется, сегодня он уже это делал. Можно её и пощадить. Сейчас.
Всякий раз касаясь головкой члена нежной девичьей щелки, он замирает в предвкушении. А потом толкается внутрь. Тесно. Влажно. Горячо. Упоительно сладко. Хочется сжать пальцы на её коже сильнее, убедиться, что она все еще тут, что она реальна, потому что это наслаждение — оно как будто из-за грани неведомых удовольствий. Будто никогда ничего подобного не испытывал, пусть даже это и не первый его раз, и даже не первая его женщина.
Генрих двигается неторопливо, растягивая, смакуя это удовольствие. Он бы вообще не стал останавливаться, но есть пределы и у его организма, а уж Агата наверняка уже на грани изнеможения.
Стонет. Глухо. Самозабвенно. Закусывает уголок подушки зубами. Руки напряжены, впиваются пальцами в простынь, сминают её.
Генрих не может видеть её лица. К сожалению — сейчас только волосы. Зато положить ладонь на лобок и сжать пальцами клитор, усиливая для неё удовольствие — это он может. Может катать в пальцах эту набухшую чувствительную «бусинку», вколачиваться в её тело, а пальцами свободной руки ласкать её губы. Она тянется к его пальцам, пытается их поймать ртом, задевает языком. Даже сейчас она хочет больше его прикосновений, больше его тела. Больше его. Жадная. Голодная. Удивительная.
Просто не передать словами, насколько ему нравится эта её алчность. Настолько, что он ускоряется сейчас, предчувствуя её разрядку, чтобы кончить вместе с ней. Чтобы их небо обрушилось в одно и то же мгновение. Обрушилось, раскололось, а затем вновь взглянуло им в глаза своей обновившейся лазурной свежестью.
После — не хочется даже шевелиться. Ему хорошо и так, с ней, мелко дрожащей, вновь оглушенной сильнейшей волной удовольствия. Ладонью он поглаживает её по бедру. Притягивает её к себе — преодолевая нежелание двигаться. Все-таки спать прямо так, не прижимая её к себе, кажется не очень-то правильным. Хочется её тепла рядом, её дыхания на своей коже, её волос у своего лица.
— Спокойных снов, милая, — шепчет Генрих, правда, сил, чтобы поднять голову у него уже нет.
— И тебе, Генри, — тихонько отзывается она и касается губами его бицепса. Кажется, её стремление к нежностям неисчерпаема.
Сон настигает Генриха так неожиданно, как он сам когда-то настигал чью-то неосторожную душу. Настигает, оглушает, сваливает, заволакивает разум чернотой. Впрочем, это не страшно, главное же, что, засыпая, он чувствует, как Агаты дышит, устроив голову на его плече.
Сквозь себя (4)
Душа Маргарет Уорд вполне обоснованно привлекает демонов, эта почтенная леди вела весьма добропорядочный образ жизни. Бесы являются на её запах, впрочем, они не мешают собирать сияние души в стеклянный шар. Так, таятся по углам, да раздраженно, хищно щерятся, но соваться к серафиму с сияющими крыльями не рискуют.
Джон заканчивает молитву за упокой души, опускает шар с душой в сумку. Он не очень в форме, чтобы заступать в караул, особенно после стычки с Генрихом, поэтому сегодня вышел на смену сборщиком душ. Ночной Лондон кажется слегка притихшим зверем, который смотрит на свою жертву исподлобья своими светящимися глазами. Джон питает пагубную слабость к этим ночным пейзажам. Город постоянно меняется, за последние десятилетия он преобразовался настолько, что Джон уже с трудом помнит, каким Лондон был в его годы. Люди спешат, сумка на бедре потихоньку тяжелеет, над головой усеянное звездами небо, на плечах крылья.
Хочется ли сейчас Джону думать об Агате? Да нет, не особенно. Он примерно представляет, где она, чем она занимается и с кем. Так должно быть. Иногда стоит просто самоустраниться, тем более девушка упорно смотрит мимо него. В этом заключается болезненная ирония, но это явно одно из тех испытаний, с которыми Джону еще предстоит справиться. Просто сейчас он еще не справился.
Следующая душа находится в трех кварталах. Люди умирают бессистемно, ангелы-сборщики мечутся между ними, чудом не сталкиваясь лбами. Джон всегда берет самые тяжелые случаи, тех, к кому наиболее вероятно явятся демоны, привлеченные запахом бессильной, относительно безгрешной души. Вот как сейчас два суккуба сцепляются над телом усопшего за право первому осквернить душу своим ядом.
Джон поднимает ладонь, и мелкие комочки белого святого огня окружают душу, отгоняя от неё демонов. Тело смертного брошено у каменной стены, и потихоньку на тротуар стекает кровь. К утру её здесь натечет целая лужа. Очередная преждевременная смерть, будь она неладна.
Будь здесь серафимы защитники, они бы не обратили внимания на душу, они бы бросились в погоню, их дело — ловля демонов, а дело Джона сейчас — сбор душ. Поэтому он пользуется силой исключительно для защиты.
Склоняется над телом, опускает ему на сердце очередной шар, и нити души тут же впиваются в гладкое стекло, концентрируясь в одном месте. Только после этого Джон складывает ладони и опускает голову, отдавая дань уважения угасшей смертной жизни.
Ангелы-сборщики ходят по парам. Для безопасности. Один читает молитву, второй прикрывает спину. Джон ходит один. И не потому, что так не любит других сборщиков, и не потому, что очень ценит уединение, просто совершенно неэффективно отвлекать другого работника, когда он может защитить себя самостоятельно.
Не всех демонов можно отпугнуть простым сиянием крыльев. Когда из тени позади Джона выскальзывает очередное рогатое отродье — серафим даже не прерывает молитву. Нельзя проявлять такое неуважение к человеческой душе перед тем, как она окажется в Чистилище.
Демон кажется неопытным и зеленым, что даже удивительно — при его-то количестве демонических атрибутов — и зубы хищника при нем, и пальцы уже вытянулись до демонических, практически птичьих когтистых лап. Отродий при распятии селят на окраине Холма Исчадий. Тем удивительней, что такой сильный демон не знает Джона и сейчас не улепетывает без оглядки. Впрочем, в отличие от обитателей Чистилища, демоны в своих передвижениях не ограничиваются и в принципе — часто мигрируют. Вот нет бы Хартману в свое время мигрировать. И был бы он головной болью совершенно других Орудий Небес, других серафимов. Но скорей всего… не получил бы помилования. Лондонский исправительный конфедерат славится своими очень вольными взглядами и мягкими нравами. Миссию милосердия — и ту поддерживали не все английские конфедераты. Многие считали, что облегчать демонам долю противоречит воле Небес, обрушивающих на их головы свое недовольство их грехами.
Отродье крадется из Тени медленно, думает, что его не слышат. Джон слышит. Он сосредоточен настолько, что сейчас слышит даже как ворочает головой сова на ветвях ивы, будто в рыданиях склонившейся над убитым. Когда демон наконец отваживается на прыжок — он же не должен дотянуть с нападением до конца молитвы, — Джон окутывает крыло белым огнем и хлещет им демона наотмашь. Кстати, вполне действенный метод самообороны ангела — даже без призыва святого огня, но у Джона по объективным причинам эффективно получается только с ним.
Демона отбрасывает в сторону, оглушает обжигающей болью святого пламени. Пока его противник пытается подняться — тщетно, количество ожогов очень велико, — Джон успевает закончить молитву. Встает на ноги, поднимая с груди погибшего шар с его душой, поворачивается к отродью.
— Новенький? — спокойно интересуется Джон, пока демон, скуля, пытается оклематься. — Давно в городе?
Отродье рычит, не желая отвечать. Ну, что ж…
Джон вычитывает экзорцизм, окружив демона кольцом святого огня, без особой душевной дрожи наблюдая, как тот пытается вырваться из плена пламени, но вновь и вновь, обжигаясь, падает на землю.
Для демонов такого рода экзорцизм кажется наказанием. Насмешкой. Ведь сейчас Джон сознательно ослабляет демона, и в ближайшие несколько дней это конкретное отродье скорей всего будет проигрывать другим демонам в драках за души. На деле же это рука помощи, вычерпывающая из души несколько ковшей греховного голода. Блокирующая искушающие обостренные чувства. На время прижигающая раны, оставленные на человеческой душе.
Джон часто сочувствует демонам. Ему даже слишком знакомо ощущение жажды, жажды преступления запрета, упоительное ощущение свободы, когда даешь себе волю. Слишком жестоко давать людям бессмертие, пусть даже в Чистилище, оставляя при них их прошлое. Память, горькая память становится душевной пустотой, а пустоту всегда нестерпимо хочется заполнить.
Триумвират регулярно напоминает Джону, что он не прав, что в первую очередь демонам всегда дается шанс — многие шансы, до того как демонических меток на грешной душе становится слишком много, у неё всегда есть шанс спохватиться. Демоны становятся врагами небес лишь тогда, когда сами покидают чистилище, бросаются в смертный мир в поисках силы, охоты и сильных чувств. Когда сознательно отказываются бороться с собой.
Когда Джон возвращается в Чистилище, все проходит довольно рутинно. Сдает шары с душами дежурному инструктору, и тот уносит их в отдел материализации. Там души выпустят из шаров, и они оформятся телесно. Джон часто делает это сам, ему нравится наблюдать за тем, как души из тонких сияющих белых нитей материализуют для Чистилища форму своего тела, но сегодня он чувствует себя слишком уставшим для этого. Два экзорцизма за одни сутки сказываются, все-таки взывать к человеческому в душах довольно сложно. Однако в кабинете на столе — чертов Хартман, теперь, кажется, нужно стол менять — лежит одна четвертинка белого листа, и изящным почерком Артура Пейтона на ней выведено «Зайди ко мне». Артуру даже подписываться не надо.
Могли бы вызвать через знак, но решили не отвлекать и попросту дождаться.
В кабинете Артура не только он сам, здесь собрался весь Триумвират. Анджела что-то читает, устроившись в кресле у книжной полки, Кхатон устало дремлет на кушетке, такая вполне привычная картина. Так Триумвират обычно и дожидается тех, кто ему нужен. Джону хочется развернуть плечи, чтобы выглядеть чуточку бодрее, но он напоминает себе, что это необязательно. Необязательно казаться кому-то кем-то, тем более Триумвирату. Они слишком давно знакомы, чтобы им было важно — кажется ли Джон сейчас бравым оловянным солдатиком, или все, что он хочет, — это наконец поужинать и заблудиться в одеяле.
— У меня была ночная смена, — устало произносит Джон, — поэтому если можно, господа, давайте разрешим ваши вопросы скорее.
— Да, разумеется, — Анджела откладывает книгу, выпрямляется, перетекая из домашней уютной позы в деловую. Она делает это плавно, в отличие от того же Кхатона, который садится весьма резко. Интересно, Кхатон вообще умеет расслабляться? Или так и существует — забываясь в полудреме, вечно напряженный как струна.
— Как там Хартман? — без личных предисловий интересуется Артур. На его столе — выписка о текущем состоянии счета Хартмана, там наверняка отражен сегодняшний экзорцизм.
— Общая динамика лично меня обнадеживает, — Джон пожимает плечами, проходит, садится рядом с Кхатоном. Можно было бы дождаться приглашения, но эта черта стерта давно. Он здесь свой. Практически свой.
— Я бы сказала — напротив, — замечает Анджела, — ежедневные экзорцизмы… Частые греховные порывы. Даже после прогрева на верхнем слое. Джонни, ты не заметил разве, что сегодняшнее Увещевание даже возымело эффект не сразу.
— Заметил, — нехотя признает Джон. Бесполезно обманывать Триумвират, статистика, которую им сообщают Небеса, весьма честна.
— Он набирает силу, — емко подводит черту Кхатон, — с каждым днем.
— Он не грешит, — возражает Джон.
— Отрицательная динамика есть, — спокойно замечает Артур, — просто она минимальна.
— Я бы сказал, что она ерундовая, — ужасно хочется вспылить. Нет, Триумвират имеет право на свои подозрения, но ей богу. Пусть Хартман ведет себя как мальчишка, это ни в какое сравнение не идет с тем его состоянием, в котором его распинали. Тогда он смог разделаться с пятым Орудием Небес, и Джону пришлось уйти из Триумвирата, чтобы не возникало спорных ситуаций при общем равенстве голосов. Практически, сейчас чаще всего решения принимаются Анджелой и Кхатоном, у них примерно одинаковое видение ситуаций.
— К сожалению, в нашем случае ожидания… не то, что мы себе можем позволить, — осторожно говорит Анджела, — ты же знаешь, друг мой, если Хартман сорвется после того, как его силы к нему вернутся… У нас еще нет пятого Орудия, мы не сможем справиться с ним снова.
— Мы не можем предполагать, что его сорвет, — Джону кажется, что спор бесполезен. Кажется, эти трое уже все обсудили до него и все решили, но просто невозможно не попытаться их переубедить. И как, черт возьми им не хватает пятого.
— Значит, нужно его испытать, — пожимает плечами Анджела, — если он действительно заинтересован в исправлении — удержится. Если нет — значит, справимся с ним сейчас, пока он еще слаб.
— Сам подумай, Джон, — отстраненно произносит Артур, — кто пострадает, если Хартмана сорвет внезапно? И можем ли мы сейчас рисковать душой Орудия, которое еще даже не раскрыло своей силы?
Артур не выглядит очень уж довольным, тем что он говорит. Скорей всего, он вновь остался в одиночестве против Кхатона и Анджелы. Как же им сейчас не хватает Сесиль… В ней удивительным образом балансировало и здравомыслие, и сочувствие. Но нет, душа Сесиль — прямое доказательство того, какую на самом деле опасность представляет Генрих. Он не только отравил её, он еще и растерзал её на клочки, на ниточки, и её возрождение затянулось на долгие десятилетия. Обретя же форму, Сесиль оставила Чистилище, пожелав избавиться от воспоминаний о нем. Начать с чистого листа новую смертную жизнь. Её никто не осуждал. Но Артур и Джон — регулярно вспоминали.
Дело сейчас даже не в душе Орудия, не в том, что Небеса могут вновь лишиться инструмента своего волеизъявления. Дело в том, что под ударом окажется друг Джона. Близкий друг. Девушка с сильной душой. Та, которая ни разу в Чистилище не искусилась на новые грехи. Что умудрялась сочувствовать умиравшим смертным, голодным демонам на лондонских улицам и конченным распятым грешникам. Тем, кому уже никто не сочувствовал. Она была так похожа на Сесиль в этом своем милосердии, что невозможно было не опасаться что и её постигнет та же судьба.
— Что вы хотите от меня? — он пожалеет о том, что согласился. Уже через несколько минут. Но если выбирать между душой Хартмана и Агаты — то никаких колебаний быть не может. Все, на что надеется Джон — то, что Хартман все-таки выдержит…
И даже слишком (1)
— Ты выглядишь не выспавшейся! Хоть чуть-чуть спала этой ночью?
— Ага.
— И голос севший — сорвала?
Агата раздраженно глядит на Анну. Суккуба смотрит на неё весело и крутит в пальцах ручку. Да уж, она-то выглядит такой свежей, выспавшейся, что аж завидно слегка.
— Тебе заняться нечем? — сердито бурчит Агата. — Инструктаж читай!
— Ой-ой, — Анна хитро улыбается, — не дуйся, я просто смертельно завидую. Меня бы кто так… Всю ночь… Да еще и чтоб я столько орала…
— Целое общежитие парней, а ты никого на ночь не нашла? — с иронией уточнила Агата.
— Бесы… — брезгливо морщится Анна. — Это же все равно, что с девственниками…
Агата чувствует, как стекленеет её взгляд. Пытается не думать, что у Генри могут быть похожие мысли. Ему это не важно. Не важно же?
— Не напрягайся так, — фыркает Анна, — ему-то точно плевать, сколько ты умеешь в постели.
— Это ты с чего вообще взяла? — огрызается Агата. Почему-то не так бесит, что Генри легко понимает, о чем она думает.
— Ну, вообще он сам сказал, — ухмыляется Анна, — вчера, когда я ему предлагала покувыркаться. Сказал, что шлюхи его не интересуют.
Агата почти не слышит окончание фразы. Будто сквозь вату. Лишь спустя минуту доносит до мозга информацию. Он отказался… Можно выдохнуть.
— С ума сойти, какая сила чувств, — восторженно ахает Анна, — черт возьми, я ему даже теперь завидую.
Агата смотрит в одну точку и пытается выдохнуть. Это суккуба. Похоть у них — основной компонент греховного голода. Для них подобные вещи в норме вещей… Как там Генри про них утром говорил? Только и умеют, что ноги раздвигать за клок души? Грубо. Но сейчас, кажется, именно этого цинизма Агате не хватает, чтобы относиться к словам суккубы спокойно. Все равно мысли о том, что, в отличие от неё, Анна вряд ли в постели настолько бестолковая. Агата — этакая просроченная девственница, у которой нет ни девственности, ни мало-мальской сноровки. И да, Анна — красивая. Нереально красивая. Саму себя Агата может, в принципе, охарактеризовать симпатичной, но не более.
— Расслабься, малышка, — ласково улыбается Анна, — правда. Я тебе не соперница, у него и в мыслях нет никого кроме тебя.
В это хочется верить. Ужасно хочется верить. Так, почему она вообще отвлекалась? Немедленно читать! Права Поручителя демонов… «Поручитель имеет право выступать сопровождающим курируемого им работника штрафного отдела в смертный мир, даже в случае, если вышеупомянутый сотрудник не получил разрешения на подобную деятельность. Ответственность за то, что вверенный под попечение Попечителя работник окажется перед лицом искушений смертного мира, а также возможная опасность возлагается…»
— Почему я, а? — вдруг спрашивает Анна. Агата поднимает на неё взгляд.
— Я понимаю, почему он, — Анна тыкает пальцем в сторону пустого стола Генри, — он тебе нравился…
— Тогда дело было не в этом, — обрывает Агата, — я не думала о нем с такой стороны тогда.
— Совсем? — с сомнением уточняет Анна.
— Да, — наверное, это даже правда. Агата сейчас уже не очень и уверена. Хотя просто находить мужчину привлекательным же не одно и то же, что видеть в нем любовника.
— Ладно. Допустим. Хотя… Вы же были знакомы, да?
— Ну да, — Агата кивает.
— Меня ты совсем не знала, — Анна барабанит пальцами по столу, — совсем. Но молилась. Почему за меня?
— Ты похожа на мою сестру, — без особой охоты отвечает Агата.
— Твоя сестра тоже любит пользоваться вниманием мальчиков?
— Нет. Она сейчас примерно того же возраста, что и ты, — Агата не хочет говорить о Ханне, — ну и так… родинок у неё тоже много…
— Родинки… — Анна хмыкает. — Тебя чуть не сожрали эти родинки…
— Да брось, суккубий яд вымолят за четверть дня, — отмахнулась Агата.
— Ты блаженная, — Анна с осуждением качает головой, — у суккубьего яда много побочных действий. И мы, к слову, не распространяемся — каких именно… Так что в следующий раз, пожалуйста, не суйся на Поле без хлеба и нательного креста. А то не будет у меня перед глазами такого чокнутого примера для подражания.
Агата не успевает возразить, что из неё не выйдет пример для подражания, не успевает сказать, что наверняка следующий раз на Поле у неё произойдет не скоро, не успевает и спросить про побочные действия яда суккубов, потому что именно в момент, когда она открывает рот, — в кабинет заходит Генри, и становится уже не до таких дурацких вопросов. Есть и важнее дела.
— Ну как? — осторожно спрашивает Агата, пытаясь прочитать что-нибудь на лице Генри.
— Получил допуск, — демон пожал плечами, будто и не зубрил лихорадочно инструктаж ищейки прямо за столиком во время завтрака, и не ворчал, что после бессонной ночи запоминается хуже.
— Это нужно обмыть, — улыбается Агата и выбирается из-за стола, — я схожу за кофе…
Кофе можно взять у дежурного секретаря. Когда Агата возвращается — Анны уже в кабинете нет, а Генри сидит за своим столом и, коварно улыбаясь, покусывает карандаш.
— Где Анна?
— Вышла погулять, — непроницаемо улыбается демон. Прямо вот совершенно невинная у него физиономия, даже не верить стыдно.
— На кой черт я тащила три чашки? — возмущенно уточняет Агата.
— Ты запасливая? — ухмыляется Генри.
— Я тебе вчера сказала — нет, — недовольно бурчит Агата, — я не буду в кабинете…
— Что не будешь? — Генри строит ничего не понимающую физиономию. — Ты не разрешишь мне тебя поцеловать, да? Неужели ты этого боишься?
Это ловушка. Провокация. Причем настолько неприкрытая, что аж стыдно в неё попадаться. Но сложно не ответить на этот вызов. Потому что уж что-что, а поцелуев она не боится. Неужели она не сумеет сказать «нет», если он вдруг начнет её раздевать? Разве это ей не по силам?
Агата оставляет кружку Анны на её столе.
— Ты вообще кофе будешь? — уточняет она. — А то я могу и сама твой выпить…
— Это что еще за бунт такой, женщина? — демон ухмыляется, будто угрожающе скрещивая руки на груди. — Разумеется, я хочу кофе, сейчас же. И не вздумай его от меня унести, если еще хочешь, чтоб я не употребил тебя на закуску.
— Стра-а-ашно, — Агата округляет глаза, дурачась, подходит к его столу, — сжалься, о демон.
— Иди сюда, тогда, может, и сжалюсь, — Генри тянет её к себе, и совершенно ясно, что он хочет совсем не кофе. Он утыкается носом в её живот и молча дышит, будто пытаясь запастись её запахом впрок. Агата аккуратно ставит чашки на стол, нежно касается пальцами его волос. Он стягивает их довольно плотно, зарыться пальцами в них не получается, но даже просто гладить его по голове — уже безумно приятно.
— Было сложно? — спрашивает Агата вполголоса, и Генри, не отрывая лица от её кожи, выдает сдавленное «Угу». А от его горячего дыхания по телу девушки медленно, но верно растекаются искры. Чертов провокатор. Ничего, она выдержит.
Генри заставляет её усесться к нему на колени. Опускает ладони на спину — на прогиб талии.
— Ну что, поцелуешь? — тихо шепчет он. Сложно ему отказать, когда он такой — трогательно-спокойный. Просящий. И Агата целует. Невесомо, легко, как можно нежней.
Честно говоря, она еще не отошла после этой ночи и не чувствует себя готовой к бурной страсти, но эти нежные, томительные мгновения между мимолетными быстрыми поцелуями кружат голову будто игривые пузырьки шампанского.
И все же, приходится оторваться от Генри, когда дверь кабинета открывается — неожиданно. Наверное, стоило её запереть. Агата соскальзывает с коленей Генри, понимает, что делает это слишком поздно, но все же поворачивается к двери, отчаянно краснея. Увидела вошедшего, вспыхивает еще сильнее.
— Я помешал, да? — невозмутимо уточняет Джон.
— Нет! — нервно восклицает Агата.
— Да, — спокойно замечает Генри. Агата бросает на него сердитый взгляд, и демон жмет плечами.
— Мне врать нельзя, птичка, испытательный срок, все-таки, — да уж, даже факты против Агаты.
— Нужен ищейка. Ты же сдал инструктаж?
— Миллер, ты можешь зайти через полчаса, а? — глядя куда-то в сторону, произносит Генри.
— Хартман, твоя отработка заключается в просиживании штанов в кабинете? — Джона тяжело сбить с толку, если он пришел по делу. — Нужно собрать разорванную душу. Для этого нужен ищейка. Мне сказали, что на данный момент ты можешь оказаться максимально эффективным. Нет, если хочешь, я могу поискать кого-то тебе на замену…
— Миллер, ты такой злой, будто это ты, а не я не выспался, — Генри встает, залпом опустошает чашку с кофе. — Надолго там?
— Там шайка демонов работала, — нехотя поясняет Джон, — душа в мелкие клочья, скорей всего, до вечера провозимся.
— Ты — сопровождающий экзорцист? — уточняет Генри.
— Ты против?
— О нет, — Генри отмахивается, — даже наоборот. Ты меня эффективнее размажешь, если что.
Агата чувствует себя немного лишней. Они говорят о делах, а она так и стоит — растерянная, не в силах даже вмешаться в этот диалог. Как будто между ними и ничего не стояло, будто еще позавчера назад они и не подрались — из-за неё.
— Птичка, — окликает её Генри, и Агата, вздрагивая, понимает, что слишком глубоко ушла в себя.
— Вечером вызову тебя через знак, — Генри осторожно шагает к ней, сжимает пальцы, — романтично попялимся на звезды, или что там еще на свиданиях делают?
Свидание? Он приглашает её? Честно говоря, это безумно неожиданно, ей казалось, что его не особенно интересует эта сторона их отношений, а нет же. Это было очень приятно, даже слишком. Агата даже не сразу замечает, что он смотрит на неё в ожидании, явно желая услышать её ответ.
— Да, я буду безумно рада, — смущенно улыбается Агата.
— Тогда до вечера, — Генри притягивает её ладонь к своим губам, касается ими пальцев. — Я там буду по тебе скучать.
— Хартман, ощущение, что тебе шестнадцать, правда, — утомленным голосом торопит Генри Джон.
— Миллер, какой же ты невыносимый зануда, — вздыхает Генри, — ты это брось, посмотри, ты такой совершенно перестал нравиться женщинам…
Их перепалка начинает казаться странной. Будто они уже друг друга знают, причем несколько больше, чем кажется Агате.
— Рози, — окликает Агату Джон, и, ловя его взгляд, она отмечает, что он действительно выглядит вымотанным — будто выходил в ночную смену. Но если это так, почему он сейчас не отсыпается. — Зайди к мистеру Пейтону, ладно?
— Зачем?
— Пусть он расскажет, мне уже пора, — Джон устало пожимает плечами, — обещай, что мы увидимся. Хотя бы завтра…
— Завтра можно, да.
Джон тепло улыбается, и уже через минуту в кабинете кроме Агаты и остывающих чашек кофе уже никого нет.
И даже слишком (2)
Честно говоря, к Артуру Агата идти не хочет. Она догадывается, что речь пойдет о Винсенте. И пусть она вчера вроде бы уже примирилась с перспективой совместной работы в компании Коллинза. Все равно оказываясь вплотную к этому — её начинает потряхивать. Но страх страхом, а долго так отворачиваться от проблем невозможно. И чем быстрее она зашагает навстречу этой проблеме, тем быстрее сможет её решить.
Сильви вскакивает при виде Агаты, Агата кивает, но торопливым шагом проходит мимо. Сильви её не останавливает, значит, Артур здесь. При виде Агаты он поднимает голову от бумаг и приветливо.
— Доброе утро, мисс Виндроуз.
— Доброе, — едва шевелятся её губы. Она сейчас ощущает себя тенью, прозрачной невесомой тенью, без толики внутреннего содержания.
«Хватит трястись как побитая дворняжка!»
— Честно говоря, надеялся увидеть вас еще вчера, юная леди, — улыбается Артур. Впрочем, без особой укоризны. Да, вчера Агата сталкиваться с проблемой лицом к лицу не захотела. И она спряталась.
— Мистер Пейтон, расскажите мне, что происходит, — у Агаты нет сил для того, чтобы наполнить эти слова эмоциями, поэтому они звучат как есть — глухо, пусто, чуждо.
Артур смотрит на неё, изучая, пытаясь что-то в ней увидеть.
— Вы и сами все знаете, Агата, — мирно произносит Артур, поднимаясь из-за стола. — Вы и сами понимаете, что происходит и почему оно происходит.
Да. Не нужно никаких пояснений, что Небеса её испытывают. Значит, девочка, говоришь, нужно относиться к прошлому демонов терпимо? А сможешь ли ты так относиться к тому, из-за кого некогда твоя жизнь была отравлена?
— Мне кажется, я не смогу, — Агата прикрывает лицо руками. Внезапно хочется плакать, но сил и эмоций не хватает. Артур подходит, садится рядом, ободряюще улыбается, треплет по плечу.
— Небеса не дают тех испытаний, которые вы не можете вынести, юная леди.
Субординация идет к черту. Агата просто утыкается в плечо Артура и измученно колотит кулаком по собственному бедру. Плакать по-прежнему не получается, но трясет Агату так, будто она бьется в истерических рыданиях.
— Ну-ну, — успокаивающе приговаривает Артур, осторожно поглаживая Агату по спине, — успокойтесь. Ведь в конце концов, именно вы наш ориентир в отношении к демонам, мисс Виндроуз. Покажите нам пример, прошу вас.
Агата выпрямляется. Усилием воли заставляет себя перестать стучать зубами.
— До этого вы говорили со мной более снисходительно, — негромко произносит она.
— Вы внимательны, — Артур чуть улыбается, — просто я вижу, что вы справляетесь. В вас есть необходимая сила.
— Необходимая для чего?
— Мне кажется, еще рано говорить об этом.
— Я могу стать Орудием? — это срывается с языка само. Агата об этом не думала, и это озарение совсем не пронзает её, как полагается подобным мыслям. Как будто она об этом догадывалась, только почему-то даже не думала осознать эту мысль.
— Тут даже не так стоит формулировать вопрос, — Артур хмыкает, — вы бесспорно станете Орудием Небес, мисс Виндроуз, вопрос лишь в том, сколько времени на это понадобится.
— А в чем сложности? — не то чтобы Агате не терпелось обрести силу Орудия, особенно припоминая об прилагающейся куче ответственности, но хочется же понимать, с каким количеством проблем ей предстоит иметь дело.
— В вас, юная леди, только в вас, — вообще-то это звучит слегка оскорбительно, но Агата не перебивает, ждет, что мистер Пейтон закончит мысль, и он продолжает, — силу Орудия вы должны осознать сами. Только вы можете понять, за что вы хотите бороться. Какую проблему хотите решать, и что вам для этого нужно. Когда ваша воля окрепнет достаточно, что Небеса вложат в ваши руки свою силу — тогда вы войдете в Триумвират как полноценное Орудие.
— А как было у вас, сэр? — осторожно спрашивает Агата. — Если, разумеется, в этом нет никакого секрета.
— Я хотел, чтобы появилась возможность сдержать демонов, в этом нет тайны. Мисс Блан — искала самый эффективный метод борьбы с демонами. Кхатон — искал способ облегчить распятым их долю. Мистер Миллер…
— Джон тоже Орудие? — у Агаты даже голова идет кругом от неожиданности.
— А он не рассказывал вам об этом?
Агата качает головой из стороны в сторону.
— Ну… — Артур запинается. — Наверное, зря я об этом заговорил. Просто для него быть Орудием довольно болезненно.
Эти слова вызывают любопытство. Хотя объективно Агата действительно мало лезла в жизнь Джона. Предполагала, что он сам расскажет ей все, что нужно, а он, похоже, не спешил загружать её своими слабостями.
Так. Это все, конечно, замечательно, но кажется, Агата собиралась здесь говорить о некоем суккубе, которого до сих пор держат в камере.
— Как дела у Винсента? Джон говорил, у него проблемы с самоконтролем?
— Ерунда, — отмахивается Артур, поднимаясь, — четыре экзорцизма, и еда… У него был шестой день без посещения — голод был очень обострен.
Так. Это уже хорошая новость.
— Я могу с ним встретиться? — спрашивает она у Артура, и тот, помедлив, кивает. А вот это уже… страшновато. Теперь от встречи сложно отвертеться. Она же Поручитель. С большой буквы, мать её.
Каждый шаг по коридору в сторону блока камер Агате дается с трудом. И все же — она шагает. Можно забиться в своей комнате под одеяло, можно рыдать, можно трястись от страха — но это все не к лицу именно ей, как защитнику демонов. Если она будет вести себя так необдуманно, слабо, бесхарактерно, как вела себя до этого, то о каком уважении вообще следует вести речь? Триумвират и дальше будет относиться к ней как к маленькой девочке, которая только и может, что делать глупости.
Винсент лежит на кушетке, положив на глаза руку, защищаясь от сияния светоча. Вскакивает, как только открывает дверь. Белая рубашка прячет от глаз Агаты его печать на груди, его посмертные шрамы. Черные волосы зачесаны назад. Не такие длинные, как у Генри, но их достаточно, чтобы зачесать в хвост. Не такой и страшный, как ей думалось, даже рога у него небольшие, в три раза меньше, чем у Генри.
Вообще, сейчас, глядя Коллинзу в лицо, Агата по-прежнему ничего не понимает. Он в смертной жизни был разве что на семнадцать лет старше, чем выглядит сейчас его душа. Но в общем и целом — в его внешности не находилось особых изъянов, даже наоборот — он наверняка пользовался вниманием женщин. Зачем бы ему вообще понадобилось принуждать к чему-то простую девчонку? Из возможных ответов, оставался только «так просто, захотелось». Просто захотелось кого-то сломать, раздавить унижением и болью. И только думая об этом, Агата, не может оттеснить на задний план эмоций лютующую колючую неприязнь.
— Ты? — Винсент выдыхает это, глядя на Агату широко распахнутыми глазами. Они не пересекались до этого, хотя и умерли в один день. Их развели по разным слоям, и Агата очень старательно игнорировала слой серафимов-воинов, как только узнала, куда был направлен Коллинз. Да, закрыла глаза и надеялась никогда не столкнуться. Благо в Чистилище было полно места и полно народу.
— Ваш поручитель, мистер Коллинз, — замечает Артур. Когда за спиной стоит Орудие Небес — не так уж и страшно. Шевельнись Винсент сейчас — и его скуют оковы святой стали, что подчиняются воле Артура.
— Почему не тот, другой? — глухо спрашивает Винсент, не спуская взгляда с Агаты. Тяжелый взгляд. Ну естественно. С людьми, которые тебя убили, не так уж приятно встречаться, даже демону.
— Он говорил от моего лица, — Агата отвечает сама. Если бы у её платья были карманы, она бы сейчас спрятала в них руки. Пальцы все еще подрагивают. Самая нервная и слабая часть тела.
Как так вышло? За те семь лет, что она здесь, Винсент успел сорваться настолько, что заслужил распятие.
— Сколько он был распят? — Агата оборачивается к Артуру.
— Чуть меньше полутора лет, мисс Виндроуз, — у мистера Пейтона официальный тон. Будто напоминает, как сейчас нужно держаться.
— И что со мной будет? — Винсент щурится. — Меня отправят обратно?
— Окончательного решения… — начинает Артур, но Агата его обрывает.
— Нет, — сухо говорит она, — будешь работать.
— А если не буду? — Винсент кривит губы, явно пытаясь показаться опаснее, чем он есть. А похож на себя смертного, сверх меры наглого. В груди шевелится неприязнь, но нет, Агата сейчас не даст ей волю. Вообще не даст.
— Отказ от работы грехом не является, — Агата пожимает плечами, — а вот грешить — лучше и не начинай…
— И ты не боишься? — с легкой угрозой спрашивает Винсент. Какой-то риторический вопрос, при учете чутья и он однозначно знает, что её действительно практически трясет. Впрочем, позволять ему себя запугивать Агата не собирается.
— Ты хочешь назад?
Винсент вздрагивает, меняясь в лице. Нет. Не хочет.
— Значит, пошли со мной, — твердо произносит Агата.
Она забирает Винсента в отдел. И Артур с ней не спорит, не возражает ни словом. Кажется, он удивлен той твердостью, с которой Агата принимает решения, даже сама она слегка этому удивлена, но невозможно прятаться от самой себя вечно.
— Забавно, — замечает Винсент, когда они уже заходят в штрафной отдел, — забавно видеть тебя в серафимах, малышка.
— Агата. Можешь звать меня по имени, — ей бы хотелось бы вместо этого рассмеяться ему в лицо, сказать, что она чувствует то же самое, наблюдая его в помилованных, но это низко. Она — его поручитель. Мелочным ссорам тут не место. Он мог бы снова взъесться с этим своим «а если не буду», но молчит, раздраженно кривя губы.
— Ты думал, меня сорвет? — спрашивает Агата.
— Ну, вряд ли как меня, — развязно ухмыляется Винсент, — но отродье из тебя могло выйти неплохое. В большинстве своем они все сломанные и трусливые твари…
— Не вышло, — Агата с трудом не закатывает глаза. Странно, а сейчас он почему-то кажется таким… нестрашным. Будто беззубым. Впрочем, он-таки добивается, чтобы у неё испуганно подпрыгнуло сердце — уже в кабинете, стоит только закрыть дверь, как Винсент резким толчком вжимает Агату в стену, вышибая из груди напуганный вскрик.
Кажется, что он должен что-то сказать, но он молчит и тяжело дышит. Его пальцы лежат на шее Агаты. Да, похоже, не одна миссис Коллинз до сих пор не простила Агате смерти Винсента. Он сам тоже не простил. И кажется, его это бесит даже сильнее, чем кого-либо другого.
— Убери руки, — спокойно произносит Агата, глядя ему в глаза, — я считаю до трех, Коллинз, после этого — читаю защитную молитву.
— Не успеешь, — тихо шипит он и слегка усиливает давление пальцев на горло.
— Раз…
На самом деле Агата страшно лажает — она смотрит в глаза суккубу. Вот прямо сейчас он может просто провернуть зрачки в глазах, и она замолчит, замрет, зачарованная гипнозом. Но именно в этом и смысл. Она не боится. Максимум, который ей грозит — несколько часов в Лазарете.
— Два!
Винсент делает шаг назад, опускает глаза. Агата выдыхает. Где-то сбоку окна удивленно позволяет себе закашляться подавившаяся Анна.
— Сладкий, — тихонько вздыхает она, — ты бы поаккуратнее. За такой книксен тебя её любовник сначала уроет — потом вспомнит про испытательный срок. Тебе очень повезло, что его тут нет сейчас, кстати.
У Винсента, смотрящего на Агату, сужаются глаза.
— Любовник? — выдыхает он. — У тебя?
— Не твое дело, — Агата с трудом удерживается от неприличного жеста.
— Любовник, любовник, — безжалостно вмешивается Анна, — и можешь мне на слово поверить, сладкий, с этим парнем шутить не надо. Он с Холма Исчадий. Мы с тобой — щенки. В сравнении.
— Ладно, — кажется, Винсент пытается дистанцироваться от этих мыслей. Агата даже впервые задумывается о том, что скорей всего ему тоже придется не просто. В конце концов, он оказался в Чистилище раньше своего срока. Он был в этом отчасти виноват сам, но Коллинз был из тех, кто однозначно дорожил смертной жизнью, в ней он был успешен, в ней он ни в чем себе не отказывал. А Агата отправила его в Чистилище, где подобные вещи не только не поощрялись, но и быстро вылезали в виде демонических меток. Ведь жил бы и жил, трахал бы смазливых студенточек, наслаждался бы высоким положением. Но её рука даже не дрогнула, нажимая на курок. И нет больше его спокойной жизни. Есть только её последствия. Нужно бы попытаться проникнуться к нему сочувствием, но пока что получается просто на него не смотреть и сдерживать порыв швырнуть в суккуба стулом.
— Что нужно делать? — тихо спрашивает Винсент. У Анны.
— Успокоиться, — хмыкает она, — вон тот стол — твой, занимай. Ты как? Держишься? Или может, экзорциста?
— Утром отчитывали, — устало отзывается Винсент, — просто перекрыло.
— Ох, я понимаю, — кажется, Анна пытается флиртовать, по крайней мере голос у неё томный, — у неё еще и запах нереальный. Как её с ним еще не сожрали — ума не приложу.
И даже слишком (3)
Пару первых секунд в смертном мире Генрих просто замирает, боясь вдохнуть. Здесь слишком много ярких запахов, сильных душ. Так просто с приступом голода так сразу не справиться. Миллер вытряхивает из сумки кусок просфоры, сует Генриху под нос. Демона уговаривать не нужно, нужно уговорить себя не глотать еду целиком, чтобы голод все-таки оказался утолен.
Мир оказывается оглушителен. Он чудовищно изменился за те восемьдесят лет, что Генрих его не видел, стал каким-то нереально ярким, громадным, стремительным… Запахов, искусительных запахов будто стало в три раза больше, и даже терпеливо прожевывая пресную лепешку, Генрих ощущает, как скручивает в голодных спазмах всю его сущность. Это фальшивое ощущение — он это уже знает, для утоления голода достаточно Чистилищной еды, но инстинкты хором утверждают обратное, требуют втянуть воздух поглубже и сорваться с места — туда, на забитые людьми, потенциальными жертвами, улицы.
— Ты готов? — ровно спрашивает Джон, и когда Генрих, подтверждая свою готовность, качает подбородком, протягивает ему стеклянный шар.
Если прикрыть глаза, запахи становятся объемными, практически цветными. Сложно вообще понять, зачем нужны глаза, когда есть чутье, куда более честное, точное, чем прочие чувства.
Свои запахи есть у всего. Даже у фонаря, которых полно на улице. Правда, вот беда — когда идешь по следу, с трудом ориентируешься географически. Существует лево, существует право, и на этом все переменные заканчиваются. Шар Генрих держит в вытянутой вперед руке, принюхиваясь в поисках каждой мелкой крошки.
Душа разорвана действительно очень сильно. На мелкие клочья, разнесена лишенными силы обрывками светящихся нитей по целой улице.
— Кто хоть так охотится вообще, — ворчит Генрих сам себе под нос, просто потому, что молчать особо не охота.
— Ну, вообще — твоя манера, — отрывисто бросает Миллер, настолько неожиданно, что Генрих даже вздрагивает, — ты же обычно высасывал основную часть души, а остаток отдавал мелким шестеркам твоей стаи, так?
— Ты дерганый сегодня, Миллер, — замечает Генрих, не раскрывая глаз, — ты мне снова по морде съездить хочешь?
— Это пустое, — тон Миллера торопливо холодеет, выпуская лишние эмоции. А вот из запаха раздражение никуда не делось.
— Я вот все понимаю, правда, Миллер, вот всю вот эту твою злость, но разве не ты вчера ей про меня рассказал? Ты не предполагал, разумеется, что она ко мне пойдет? И наверное, предполагал, что мы с ней за ручки подержимся, а еще лучше — вообще решим никогда в жизни не разговаривать?
— Повторюсь: мои чувства вторичны, — тихо отзывается серафим, — у меня есть долг…
— Долг… — задумчиво повторяет Генрих. — Кстати об этом, Джонни. Почему ты все еще в Чистилище? Или я неправильно оценивал количество твоих грешков, что ты их столько времени отработать не можешь?
Миллер молчит. Генрих даже отвлекается и открывает глаза, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось. Физиономия у Миллера красноречиво мрачная, и Генрих старается — очень старается не испытывать при наблюдении этого зрелища злорадное удовольствие. И все же, получается, он прав — долг Миллера отработан. И почему Джон все еще в Чистилище — по-прежнему интересно.
— Да ладно, — фыркает демон, — ты же не проникся моей болтовней, да?
— Ты столько болтаешь, что я даже не могу понять, о каких конкретно словах ты ведешь речь, Хартман, — Миллер цедит эти слова сквозь зубы.
— Джонни, врать нехорошо. Или святошам с плюсовым кредитом это разрешается? — Генрих и хотел бы говорить не ехидно, но не получается. Хотя по идее, гордиться нечем — если Миллера проняло теми обвинениями, что высказал ему Генрих уже после своего распятия, когда серафим первый раз пришел читать Увещевание, — то это хорошо только для самолюбия. Для самоосознания себя на пути исправления в этом нет ничего хорошего.
— Ты будешь работать или нет? — Джон устало кривит губы. Неприязнь никуда не делась, пусть он и пытается не обращать на неё внимание. И ему это чаще всего удается. Генрих пожимает плечами. Подолгу опираться только на нюх сложно — мир слишком сужается, слишком обостряются голодные демонические инстинкты. Поэтому отвлекаться все равно приходится. Сам Генрих не испытывает от отношения Миллера никакого дискомфорта, но скорей всего должен бы. Если бы не был демоном.
— Тебе не вечность же расплачиваться за то, что я стал тем, кем стал, — эти слова произносить сложно. Генрих это даже делает не сразу, после того как понимает, что именно может сейчас сказать, чтобы не досадить Джону, а не наоборот.
Миллер некоторое время молчит, будто переваривая услышанное. На самом деле вряд ли он уж так не ожидал этих слов, просто, возможно, не сейчас.
— Я это знаю, — наконец отвечает он, глядя куда-то мимо, — хотя некая символика в твоем помиловании все же есть. Возможно, это действительно мне знак, что я уже могу быть свободен. Но пока не увижу твою динамику — не могу считать этот знак уж слишком красноречивым.
— И сколько ты будешь её ждать? — иронично переспрашивает Генри, вновь прикрывая глаза и ловя клочок маленькой нити в стеклянный шар. — Какая должна быть динамика у меня? Если уж трезво смотреть на вещи, даже десятилетнего испытательного срока для меня мало.
— Десять лет это не много, — отзывается Миллер, и Генрих чудом не вздыхает. Святоша. Вот святоша и иным словом не опишешь. Когда-то в прошлой жизни Генриху не нужно было никаких десяти лет, чтобы сорваться. Он, кажется, не выдержал и года под начальством Миллера. Слишком много ненависти тогда кипело в его крови. Да еще и перед глазами постоянно находилось напоминание о прошлой жизни. Ему казалось тогда, что Небеса над ним смеются, и он практически не сопротивлялся. Грешить оказалось приятно. Казалось, что каждый клок чужой души заполняет дыру в собственной. Это потом потребность истощать чужие души переросла в тот голод, который сейчас его терзает. Поначалу было легче. И Генрих сейчас много бы отдал, чтобы оказаться в том своем состоянии.
— Почему ушел из Триумвирата? — когда в ушах снова начинает звенеть от напряжения, интересуется Генрих. Снова попадает на неудачную тему для разговора — Джон морщится.
— Вот будто целишься в больное, — меланхолично замечает он.
— Ну, если верно помню ваши правила, то уйти должен был Кхатон, как младший в вашей праведной компашке.
— Это если добровольно отказаться от полномочий никто не пожелает, — глаза Миллера внезапно становятся печальными, — я пожелал.
— Из-за Сесиль?
Эта пауза — самая длинная, что повисает между ними за сегодняшний разговор. На скулах Миллера играют желваки, будто в его душе происходит некая внутренняя борьба.
— Да, — наконец резко отвечает серафим, — из-за неё. Доволен?
— Я не могу сказать «да», — Генрих пожимает плечами, — будь я распят вчера — да, я был бы доволен. Но сейчас…
— А что поменялось сейчас? — вопрос кажется издевательским, будто Миллер сомневается, что что-то вообще изменилось, хотя… Хотя Миллер может это спрашивать, раз уж у них заходит разговор о старых топорах их войны.
— Сейчас я не хочу обратно, — твердо улыбается Генрих, — сейчас мне есть от чего уходить.
— И тогда было, — тихо, едва слышно произносит Миллер. Он вряд ли хочет, чтобы Генрих на это отвечал, но тот все-таки отвечает.
— Было, разумеется. Еще бы я это тогда понимал.
Наверное, попадай человек в Чистилище без памяти — было бы проще. Тогда за ним бы не тянулось его боли, его обид, его злости. Но забвение было наградой. В Чистилище грешник в первую очередь сталкивался с самим собой, со своими недостатками, комплексами, всем, что его грызло. И именно в Чистилище ему давалась осознанная возможность преодоления всего этого. Он должен был помнить, должен был… раскаяться. В этом и заключалась цель. Правда, работало часто наоборот — прошлое тянуло назад. Заставляло грешить. Поддаваться своим порокам.
— Не хочешь сказать там что-то вроде, что тебе жаль? — вдруг вырывается изо рта Миллера. И горечь в голосе такая, будто серафим клюквы пережрал.
— Тут не эти слова нужны, — Генрих даже прерывает работу, чтобы повернуться и оказаться к Джону лицом. Такие вещи нельзя говорить не в глаза.
— А какие нужны? — ехидно выдыхает Джон.
— Не знаю, — Генрих разводит руками, — но «мне жаль» это мало. Чудовищно мало.
— Ух ты, — насмешливо фыркает Джон, — мне стоит поверить, что Рози действительно в тебе не ошибается?
— Очень ошибается, — честно отзывается Генрих, — но это не значит, что я не хочу быть таким, каким она меня видит.
Джон недоверчиво передергивает плечами, отводит взгляд. Пауза окончена, время продолжать работу. Самый раздражающий фактор сейчас в том, что душа разорвана очень мелко. На её возрождение уйдет время. Долгое время.
Уловив эту мысль, Генрих даже слегка удивляется. Тщательное следование образу мысли старательного работника все-таки дает всходы. Он уже действительно думает об этом. Хочет видеть результаты своей работы не только в виде положительных списаний на выписке с кредитного счета.
Несколько передышек Генрих проводит в тишине. Кажется, из Миллера он уже сегодня слишком много вытянул. Вот только позже он об этом жалеет. Потому что наконец собрав клочья душ с одного участка улицы, он оборачивается к Миллеру, чтобы его окликнуть и перейти на другой, вот только Джон, когда его окликают по фамилии, не отзывается. Он вообще какой-то задеревеневший, стоит как будто проглотил кол.
Гипноз. Причем суккубе, которая его накладывала, не нужен зрительный контакт. Значит, стерва довольно сильная, старая. Такие не приближаются сразу, сначала проберутся глубоко в голову жертве.
Генрих оглядывается. Прохожих на улице много, запахов греха настолько много, что вынюхать конкретного демона сложно. Так, неподвижная цель, ей нужно сосредоточиться, чтобы зацепить жертву, поэтому ни один из тех, кто шагает, не подходит.
Генрих отключается от чутья, пытается сосредоточиться на аурах сияния душ. Нужна померкшая душа. Очень сильно померкшая. Господи, сколько же вокруг народу… Взгляд мечется по головам и наконец выхватывает нужный типаж. Короткое фиолетовое платье. Копна густых, медных волос практически пылает на солнце ярким цветом. Стоит спиной к Миллеру — смотрит в витрину какого-то магазина. Действительно сильная — между ней и Миллером с десяток метров. Аура практически бесцветная.
В боевую форму Генрих переходит уже на бегу. Сгребает девицу за волосы, прихватывает за плечо, разворачивает к себе.
И во рту резко пересыхает.
— Джули?
Прошлое смотрит в лицо Генриха зеленовато-рыжими огромными от удивления глазищами.
Джули смотрит на него, открыв рот.
— Это и вправду ты, Генри? — она наконец находит в себе силы заговорить. Он просто безмолвно протягивает к ней ладонь, подняв её на уровень лица. Её дрожащие пальцы касаются его кожи. Девушка нервно всхлипывает, а затем бросается к нему на шею.
И даже слишком (4)
В своей жизни, как смертной, так и демонической, Генрих очень долгое время женщинам не доверял. Не доверял он и Джули Эберт, но именно она в свое время смогла стать кем-то вроде его привычки. Сильнейшая суккуба в Лондоне, вместе они собрали целую стаю демонов, чтобы эффективнее отбиваться от серафимов. Она зависела от его силы, как исчадия, он — от её податливости и легкого характера. Она быстро поняла, насколько он резко относится к женской неверности, и свела на нет отношения с другими своими любовниками.
С некоторой очень извращенной точки зрения их отношения даже походили на семью. Он, она и кучка слабеньких суккубов в качестве «детей». Вся их жизнь была построена вокруг охоты, побегов и адреналина. Безумное кружащее голову увлечение, продлившееся ни много ни мало — но пять лет. Пожалуй, в его жизни как демона это были самые стойкие отношения. С Джули он даже мог себе позволить не притворяться. Правда, когда Небеса обрушили на их голову силу сразу пяти своих Орудий, и облав серафимов стало в три раза больше, Генрих сам решил отказаться от этой связи. В то время он уже понимал, что с его греховным кредитом вряд ли удастся долго скрываться. У неё все было не настолько запущено, поэтому Генрих и покинул её. Зажал в угол Сесиль, самое неопасное из всех Орудий, выпил её и бросился прочь, уводя одержимых местью архангелов подальше от их с Джули убежища.
Девушка тихонько всхлипывает, уткнувшись лицом в его рубашку. Генрих осторожно гладит её по волосам.
— Где ты был столько лет, — наконец резко произносит она, ударяя его кулачком в грудь. Не больно. Даже смешно. Она думает, что он просто скрывался где-то вне Лондона, а сейчас решил вернуться? Это всё объяснить настолько сложно, что Генрих предпочитает расстегнуть рубашку, чтобы сразу показать клеймо распятого. Самое эффективное доказательство того, где он действительно был.
Джули раскрывает рот, касается пальцами черной печати из сотен мелких точек, каждая из которых — олицетворение энергии одной души, которые когда-то поглотил демон. Тут не все души учтены. Как уже говорил Артур — часть грехов в клейме Генриха решили попросту не указывать.
— Как такое вообще… — нервно выдыхает девушка.
— Ну вот, — Генрих разводит руками, — возможно. Как — ещё сам не понял…
Джули отстраняется, окидывает его цепким взглядом. Она не может чуять его эмоций — но ей не нужно, она знает его даже слишком хорошо.
— И ты… Работаешь?
Никакого презрения в тоне, Джул прекрасно знает, что где угодно лучше, чем на кресте. Только в теории, слава богу.
— Испытательный срок, — Генрих неловко пожимает плечами. Странно он сейчас себя чувствует. Он не вспомнил о Джул ни разу за эту неделю. Возможно, потому, что это было практически не эффективно, возможно, потому, что он концентрировался на одной лишь Агате.
— Какая она? — вдруг насмешливо уточняет Джул и смеётся, заметив, как удивлённо вздрагивают его брови.
— Брось, я же знаю, как ты выглядишь после хорошей ночи. Так что там твоя девушка? Какая она?
— Нереальная, — Генрих неожиданно для себя очень светло улыбается, — такую и описать сложно.
— Ты счастлив? — Джули не сводит взгляда с его лица. Генриху не хочется даже говорить об этом — слова кажутся слишком недостаточными для описания его самоощущения, он просто кивает.
— Ты заслуживаешь, — Джули трогательно морщится носик и улыбается тоже. Она знает его историю. И она знает, почему он тогда от нее ушёл. Точнее, наверное, догадывается. Он же так и не смог ей сказать о своих чувствах… Они были слабостью, которую демон себе позволить не мог.
— Спасибо, — тихо отзывается Генрих.
— Так все-таки как? — переспрашивает Джули. — Разве такие, как мы, могут получить амнистию.
— За меня попросили, — поясняет Генрих, — та девушка.
— Попросили? — недоверчиво повторяет Джули. — Почему? Ты ее искушал? Она влюбилась?
— Нет, — Генрих усмехнулся, — практически нет. Я там всех сестер милосердия искушал больше, чем Агату. Искушал, раздражал…
— Даже на кресте развлекался? — Джули сначала укоризненно хмурится, а затем заливисто хохочет, сбрасывая маску фальшивой праведности с лица. Практически не изменилась.
— Там было страшно скучно, если забыть о том, что ещё и нереально больно, — скупо улыбается Генрих.
— Так что она в тебе увидела? — продолжает допытываться Джул.
— А что во мне можно увидеть? — иронично уточняет Генрих. — Ничего ж не поменялось, я даже сейчас все время думаю, каким должен быть адекватный грешник, думаю, но не чувствую себя таковым.
— И все же она почему-то попросила, — ровно замечает Джули.
— Она очень сочувствует распятым.
Звучит это очень нереально. Впрочем, если Джул не поверит — это ж будет ее беда.
О Миллере Генрих вспоминает неожиданно поздно.
Оборачивается — тот так и стоит истуканчиком у фонаря. Сквозь него, ничего не замечая, проходят люди.
— Отпусти его, Джул, — осторожно просит Генрих.
— Вы с ним теперь друзья? — удивлённо уточняет суккуба. Кажется, это предположение шокирует её даже больше, чем появление перед ней Генриха, о котором она уже и не думала иначе как о практически мертвом. Действительно, друзья Миллер и Хартман… Звучит совершенно невозможно.
— Ох нет, — Генрих смеётся, — от этого я избавлен, слава небесам. Так. Иногда коллеги. Но девчонку я у него увел.
Сказал и пожалел об этих словах. По губам Джули расползается «понимающая» улыбка, будто она вслух говорит: «Вот оно что», — и это безумно нечестно по отношению к Агате. Он с ней не для того, чтобы досадить Миллеру. Почти не для того.
— Я выслеживала этого мудака ради тебя, между прочим, — вдруг произносит Джули, — просто в память о тебе хотела уже пустить его на корм банде. И пусть бы его душу лет пять сшивали после этого…
Восемьдесят лет хотела? Хотя… Генриху приходится себе напоминать, что у Джули совсем другие возможности. Миллер слишком сильный противник, такого пусть даже и сильной суккубе можно и больший период времени караулить.
— Давно освоила гипноз без зрительного контакта? — интересуется Генрих.
— Лет пять, — Джули улыбается раскованно, действительно флиртуя, — и это еще не все, чему я научилась, пока тебя не было, милый.
Нет, точно, слова про перехваченную у Миллера девушку она поняла не так, как нужно, и сейчас Генрих все сильнее понимает, что должен бы чувствовать себя виноватым. Черт, как же сложно вытягивать из себя эмоции, которые уже давно задавлены в самый угол сущности.
— Отпусти его, пожалуйста, — терпеливо повторяет Генрих. В конце концов, он намерен вернуться в Чистилище. И вряд ли его пассивность во время расправы над одним из архангелов отразится на кредитном счете положительно.
— Какой ты вежливый, — фыркает Джули и идет к Джону. Покачивая бедрами, цокая тонкими каблучками. По-прежнему убийственно хороша, ничего не скажешь. Зачем ей подходить особенно не ясно — нити своей воли, опутавшие душу Миллера, она может распутать и так — не приближаясь. Но, кажется, цель именно в демонстрации тела. Что-то хищное в груди Генриха и правда шевелится, когда взгляд скользит по плавным изгибам, по длинным обнаженным ногам в туфлях на высоких тонких каблуках. А что шевелится в груди, когда Джули касается пальцами лица Джона… Хочется закрыть глаза, чтоб не видеть, насколько чувственно девушка касается кожи Миллера, рисует невидимый узор по пути от виска к губа. Все-таки нужно закрыть глаза. Представить Агату. Вытеснить хаос, творящийся в голове. Все это — темная сторона. Его алчность. Привычка. Та, которая сейчас может потянуть его обратно во тьму. Все, что было в нем к Джули, — все уже сгорело. Поэтому он не вспоминал о ней все эти дни. Потому что она действительно для него практически ничего не значит.
— Просыпайтесь, преподобный, — ласково улыбается Джули, щелкая пальцами перед носом Миллера.
Тот вздрагивает. Осознает происходящее.
Вообще-то, насколько Генрих знал Миллера — тот никогда не превышал своих полномочий, выбранных для какого-то момента его жизни. Если вышел на смену сборщиком душ — не отвлекается на бегающее вокруг демонье. Вышел охотником — не отвлекается на души. Но, кажется, к Джули у него есть ряд претензий, а сам факт того, что она его загипнотизировала — явно Миллера пугает.
От вспышки белого огня, направленного Джули в лицо, Генрих успевает её отшвырнуть. Святой огонь ударяет ему в грудь, взрывается, ослепляет обжигающей болью и белым светом. Генриха швыряет на брусчатку улицы. Он только нюхом ощущает, что Джули еще рядом.
— Уходи, живо, — рычит Генрих, оборачиваясь к упавшей навзничь девушке, не увидев, но почуяв, как она вскакивает и, не теряя зря времени, переходит в боевую форму, срываясь с места.
— Идиот, она в горячем списке розыска, — рычит Миллер. Да. В это Генрих легко может поверить. Такую цель Триумвират действительно может преследовать особенно прицельно — в конце концов, она и раньше была опасна, а сейчас — и того сильнее. Но восемьдесят лет на кресте… Он думал, что хотя бы она смогла избежать этого. Её свобода казалась приемлемой ценой за то, что он оказался на кресте сам.
Пусть сейчас она ему никто, так, знакомая из прошлого, но в прошлом Генрих уважал Джули. Она была сильной, а с ним лично — еще и честной. Она уважала его правила и соблюдала их. И если это ничего не стоит, то что вообще стоит?
— Вставай, — Миллер прихватывает демона за грудки, дергает вверх, заставляя встать на ноги. Теплое прикосновение ладоней к лицу возвращает способность видеть.
— Догоняй, — сухо требует Миллер, кивая в сторону, — веди, мы должны её поймать.
— Да пошел ты, — глухо отрезает Генрих, выпрямляясь, убирая руки в карманы.
Последствия. Последствия будут обязательно. И кажется, уже сейчас он жалеет о таком проявлении характера. Но если он сейчас сам поможет поймать Джули — кажется, он предаст самого себя. Того себя, каким он был когда-то.
Миллер делает шаг назад, практически окутывая всего себя святым огнем. Будто собирается с силами для атаки.
— Я не нападу, — устало произносит Генрих. — Ты, конечно, можешь прожарить меня экзорцизмом, но предательство — не мой профиль. Она добровольно сняла с тебя гипноз. По моей просьбе. Я должен после этого лично помочь отправить её на крест?
— Должен, — отрезает Миллер, — условие твоего испытательного срока — в смертном мире выполнять те поручения, которые тебе даются.
— Плохое условие.
— Плохой из тебя работник, честно скажем, — разочарованно пожимает плечами Миллер, — и даже очень.
Генриху нечего на это ответить. Внутренних сил хватает только промолчать. В кармане будто наливается тяжестью стеклянный шар с собранной душой.
Вопрос доверия (1)
Ну вот и допрыгался Генрих Хартман до камеры. Такой светлой чистилищной камеры, чистой, с серыми стенами. Светоч под потолком выжигает глаза — кажется, для создания именно этого клочка огня Миллер призвал всю свою к Генриху неприязнь. Генрих пытается забыться и задремать, к сожалению, в камере полноценно заснуть не получается. Светоч не гасят, чтоб греховный голод ослабить. Не то чтобы Генрих сейчас испытывал в этом потребность. Сейчас обходится без экзорцизма — в конце концов, Генрих даже в камеру зашел самостоятельно, без оков, и ни на кого не бросился. Даже довел сбор души до конца, кстати.
Дурацкое стечение обстоятельств. Почему вот в первый свой выход он встретил именно Джули, с которой его столько связывало. О перспективах нарушения условий испытательного срока думать не очень хочется. И ведь в первый же раз, черт возьми… разумеется, это учтут при разрешении его судьбы. С одной стороны, вроде как проступок-то не такой и значительный, ну подумаешь — не подчинился, с другой — позавчера подмахнул гордыне, вчера — вспышке ревнивой ярости, мелкие срывы происходят чуть ли не ежедневно и не спешат становиться менее слабыми.
И да. Агата обязательно узнает о случившемся. Узнает и о Джули. Хорошо, если Миллер ей не расписал в красках, как Генрих в свое время в компании Джули терроризировал Лондон, еще мог и от себя добавить про их страстные отношения. Было что добавлять, много чего было, хорошо, что Миллер далеко не обо всем в курсе. В общем и целом, чего бы Генрих точно не хотел — так это распространяться о своем количестве женщин перед той, с которой он строил отношения сейчас. И таки девчонка наверняка заподозрит, что у Генриха к Джули что-то всколыхнулось, что, конечно, правда — очень-очень слабенькая, но правда. А ничего болезненней для женщин нет, чем соперница-бывшая. Как будто обесценивает это в их глазах текущие отношения. И пускай ни о каком соперничестве речь не идет, Генрих не собирается менять Агату на Джули, но все-таки самолюбию девушки это наверняка удастся объяснить не сразу.
Дверь лязгает, открываясь. Где-то там приходят в движение замки из освященной стали.
Первым в комнату входит Артур, за ним Агата — быстрая, легкая, стремительная. Генрих ощущает себя предателем, когда она его обнимает. Он сегодня думал не о ней. И чем он особенно лучше всех тех, кого презирал и ненавидел?
И все же она его обнимает, окунает в собственное тепло. Прижимается к нему всем телом, отпускать её категорически не хочется, но приходится.
— Рассказывай, — требует Агата. Чтобы рассказать, Генрих смотрит не ей в лицо, находит точку за плечом.
— Что ты знаешь? — тихо спрашивает он.
— Про неподчинение приказу, — Агата морщится, явно недовольная таким ничтожным количеством информации, — Джон хотел, чтобы ты поймал суккубу, опасную суккубу — как вопит Анджела, — а ты отказался.
— Я просто её знал, — Генрих устало вздыхает, — обычно в нашей среде друзей не бывает вообще, ну а с ней… С ней я провел пять лет.
— Вы дружили? — негромко произносит Агата. Она уже все поняла — это ощущается по запаху.
— Нет. Мы были любовниками, — Генрих выговаривает это на едином вдохе, потому что еще чуть-чуть, и он соврет. Прошлое в отношения тащить не нужно ни в коем случае, но сейчас уже, похоже, от этого не спасешься, — пять лет мы жили как чертова супружеская пара. Потом я ушел, когда Небеса начали на меня активную охоту. Не хотел ставить под удар её. Это только в сказках хорошо, когда «умерли в один день».
— Ты любил её? — в выражении лица девчонки проступает нечто жестокое. Кажется, именно сейчас она расправляется со всем своим нежным отношением к нему. Он не может чувствовать её душевную боль, зато он чувствует, как холодеет от неё запах Агаты. Спасет ли ложь положение? Стоит ли усугублять положение еще и ею?
— Тогда. Я любил её тогда, — Генрих пытается найти в себе силы поднять глаза. Он даже очень хочет, чтобы она спросила про то, что сейчас, хотя… что сейчас он вообще может ей сказать? Чтобы она ему поверила. Нет в жизни никого безжалостней ревнующей женщины, тем более переживающей свой чувственный дебют. Даже правда сейчас будет обесценена, признана не годной, фальшивой, вырванной. Агата достойна, чтобы он сказал ей о этом не в камере изолятора. Будет ли еще возможность сказать позже?
Как же все некрасиво сложилось. Черт, он еще утром был в безумно хорошем настроении и, кажется, даже порывался на романтические свершения, а сейчас, кажется, он своими руками положил эти отношения на рельсы, и невдалеке уже грохочет поезд.
Ему хочется сейчас шагнуть к ней, спрятать в своих руках, прижать в груди, в которой колотится сердце. Но он же знает, как она среагирует, когда так ушла в себя. И только ожогов от защитной молитвы ему сейчас не хватает.
— Мисс Виндроуз, — окликает Агату Артур, потому что тишина затягивается на несколько минут, и девушка вздрагивает. Встряхивает головой. Оборачивается к Пейтону.
— Вы закончили? — уточняет Артур. — Нас ждут.
— Нет, — Агата сужает глаза, прикусывает губу, — не закончила.
Она просто шагает к Генриху, сжимает его ладони… и опускается на колени. Тянет Генриха за собой. Это настолько неожиданно, что Генрих даже не пытается сопротивляться.
— Помолись со мной, — кротко улыбается она. Демон открывает было рот, но встречает прямой взгляд и понимает… Агату сейчас ведет наитие. То самое наитие, по которому она отмолила сначала его самого, а затем Анну. И… ладно. Плевать, что святое слово Генриха ослабляет, ослабит оно и голод внутри.
— Какую молитву читать?
— Искреннюю, — пожимает плечами Агата и опускает голову, закрывая глаза.
Генрих давненько не молился. В последние дни он даже несколько раз поминал бога без толики иронии, но мысль обратиться самому к Небесам ему в голову не забрела.
Он толком не понимает смысла молитвы. Просить о чем-то? Вообще, это кажется решением слабака — просить о том, что можешь сделать сам. Себя победить он должен сам. Небеса ему уже помогли — выжгли в нем немалую толику демонических порывов. Пусть безжалостной болью, пусть не до конца, пусть ежедневно Генриху приходится снова и снова бороться с собой, но все равно сейчас он чувствует себя куда более правильным человеком, чем до распятия.
Ничего он не будет просить. Разве что прощения? Необязательно, чтоб прощали, обязательно попросить… Генрих не знает толком молитв, все уже истерлись из памяти, лишь «Отче наш», который когда-то читал вместе с матерью, приходит на ум. Читает. Тихо, чуть громче чем вслух.
Агата не выпускает его рук из своих теплых ладоней, и в какой-то момент их склоненные головы соприкасаются. Нет, она не отклоняется, кажется, и вовсе не замечает. Генриху хочется открыть глаза, заглянуть в её спокойное лицо, но он пытается сосредоточиться на молитве. И тягостные мысли потихоньку распутываются. Самое главное — сохранять спокойствие. Это сложно, но именно в положении эмоционального нуля легче всего удержаться от слишком резких реакций. Не будь он сегодня в таком приподнятом настроении, куда обдуманней среагировал бы на Джули.
— Вы продолжаете удивлять, мисс Виндроуз, — раздается над головой голос Артура, когда Генрих заканчивает молитву. Не очень понимая, к чему это, демон раскрывает глаза, а потом торопливо закрывает их ладонью. От кожи Агаты исходит сияние. Чистый белый свет, как от чистилищного светила. Во время молитвы Генрих его не замечал, но сейчас, уже раз увидев, свет уже невозможно игнорировать. Впрочем, когда Агата замолкает, сияние начинает меркнуть, пока она молча глядит на свою сияющую руку. Сияние меркнет, возвращается запах Агаты, который, оказывается, практически исчез во время молитвы. Все-таки сила Орудия в ней проснулась…
— Запомнили чувство? — голос Артура, к неожиданности Генриха, подрагивает от волнения. — Сможете добиться его снова?
— Да, думаю, да, — Агата отрешенно кивает головой.
— Хорошо. Юная леди, теперь вы же закончили?
— Да.
Тихая. Спокойная. Что-то для себя решившая. Чужие не озвученные решения не могут не вызывать тревогу. Однако сейчас не время для сцен, не хватать же Генриху сейчас Агату и не требовать от неё разъяснений.
— Тогда не могли бы вы оставить нас на пару минут? — учтиво просит Агату Артур, и та — с удивлением на лице — вновь согласно качает подбородком и выходит из камеры.
— Вот странный ты человек, Хартман, — вздыхает Артур, — вот вроде все делаешь правильно, комар носа не подточит, но что ни день — то лишняя причина для беспокойства. То экзорцизм тебе нужен лишний, то подерешься с кем-то, сегодня заканчиваешь рабочий день в изоляторе. Ты что, не можешь спокойно?
— Ты тоже будешь мне впаривать про правильность предательства, да, Арчи? — огрызается Генрих. Говорить об этом не хочется. Вроде и понимает, что ошибся, но признать это не получается никак. Спасти когда-то близкого человека от боли — разве не правильно?
— Давай ты наконец подумаешь головой, Хартман, — спокойно улыбается Артур, — ты спасал мисс Эберт от распятия, потому что для тебя это в первую очередь — боль, вне всяких сомнений, ты её никому не желаешь. Но ты же понимаешь, что только Гнев Небес помогает вам победить вашу демоническую натуру. Понимаешь же?
Генрих неохотно кивает.
— До распятия, когда мы начали на тебя охотиться, грех захлестнул тебя с головой. Ты и помыслить не мог ни о чем, кроме него. Облава на тебя началась после того, как ты совершенно потерял всякие вожжи. Чем дальше — тем крепче становился твой яд. В результате ты уничтожил одно из Орудий. Сейчас, ты хоть и напоминаешь нам всем непослушного ребенка, но все-таки справляешься с эмоциональными вспышками, голодом, даже иногда напоминаешь сознательного человека. Ты — здесь. А мисс Эберт охотится.
— К чему ты клонишь, Пейтон?
— К тому я клоню, Генри, что будь у нас возможность, мы бы ловили всех демонов еще бесами, потому что у них есть возможность повернуть назад. Есть возможность амнистии. Безусловная. Теперь есть она и у вас, хоть и с условиями, но Хартман, своим бунтом ты портишь перспективы не только себе. Но и той же своей приятельнице, которая с каждым днем становится все опаснее. Чем она опаснее — тем дальше от неё отодвигается перспектива амнистии, понял? Крест просто не сможет быстро выжечь в ней демоническое. Или ты до сих пор считаешь, что самая правильная жизнь — это демоном? Скучаешь по свободе, а?
— Скучаю, — глухо отвечает Генрих, — но возвращаться к той жизни не хочу…
— Сегодня ты сделал своей подружке хуже, — ровно произносит Артур, — она будет ближе к центру Полей, и её крест будет раскален сильнее. Ты же помнишь, как укорял Миллера в своем грехопадении? А у нее будет возможность укорять тебя. Потому что ты мог её остановить и не остановил. Да, разумеется, грешить она будет сама. Но ты отказался ей помогать победить внутреннего демона. Да, Гнев Небес — это больно. Но больно и тем, чьи души вы отравили. Вам попросту возвращают эту боль. Мы бы и рады отвращать вас от пороков другими путями, но нет других путей. И каждый из вас через это должен пройти, коль скоро вы позволяли себе истощать чужие души.
— Я понял.
Самое печальное, что умом Генрих понимает, что Артур прав. Действительно, желай от Джули действительно правильных вещей — помог бы её поймать. Глядишь, через пару лет Агата бы и её отмолила.
— Артур, — Генрих окликает архангела, когда тот, качнув головой, шагает к двери камеры. Тот оборачивается, всем своим лицом выражая заинтересованность.
— Ты все это мне сейчас говоришь почему? — произносит демон, пытливо глядя в лицо собеседнику. На самом деле хочется все-таки услышать, что не все еще потеряно.
— Твоя судьба еще не решена, если ты об этом, — Пейтон расправляется с надеждами без особой жалости, — тебе повезло, что мисс Виндроуз проявила силу Орудия сейчас. Значит, мы можем провести совещание в расширенном составе. А говорю я все это тебе, Хартман… потому лишь, что отчасти тебя понимаю.
Генрих недоверчиво уставился на Артура, ожидая, что он пояснит это заявление, но тот махнул ему рукой и вышел из камеры, оставляя демона наедине с собой.
Вопрос доверия (2)
— Где Анджела? — спрашивает Артур, сразу как заходит в кабинет.
— Отлучилась, у них там какое-то ЧП, — кратко отзывается Кхатон. Он то ли развлекается, то ли тренируется, над его ладонями кружат, меняют свою форму и сталкиваются маленькие сферы из темной воды.
Джон дремлет в углу на диванчике. По идее, в кабинете Артура есть несколько кресел, можно даже устроиться на подоконнике — если набраться решимости.
Агата садится рядом с Джоном. Он приоткрывает один глаз, устало ей улыбается.
— Сильно устал? — тихо спрашивает Агата. Джон неопределенно пожимает плечами.
— Сложно сказать, — отвечает, снова прикрывая глаза, — просто настроение ни к черту. Ну и две смены на ногах… Устал, да.
— Ты не говорил, что был в Триумвирате, — шепотом замечает Агата.
— А ты спрашивала? — Джон слегка ухмыляется, поглядывая на неё сквозь ресницы. — Как же не задевать прошлого, не терять непредвзятости?
— Если ты хочешь услышать, что ты прав, — да, ты прав, Джо, — Агата терпеливо растягивает губы в улыбке.
— Пойдем-ка, — Джон встает на ноги, прихватывает Агату за руку, выводит на взлетную площадку. Поздно. Уже чертовски поздно. Небо уже засеяно звездами. Прохлада окутывает Агату будто шелковое одеяло.
— Иди сюда, — Джон свешивает ноги с края площадки, тянет Агату к себе.
— Я высоты боюсь, — Агата боязливо поглядывает вниз — кабинет Артура находится на просто чудовищной высоте девяносто четырех этажей. Высотки в Чистилище не редкость, в конце концов, именно благодаря им при высокой плотности населения чистилищным работникам удается работать, не сидя на головах друг у друга. Многослойность измерений решает далеко не все проблемы.
— А я дам тебе упасть, да? — фыркает Джон, и Агата сдается. Присаживается рядом, и Джон приобнимает её за плечи, явно согревая. Уровень внимательности у него высочайший.
— Ты выглядишь расстроенной, — замечает Джон, и Агата пожимает плечами. Ей не хочется разъяснять свои чувства, для этого их придется вытаскивать наружу, а сейчас в темном уголочке души они хотя бы доставляют минимум неприятных ощущений.
— Лучше ты расскажи, почему у тебя настроение ни к черту, — удачный повод уклониться от объяснений находится довольно легко.
Джон характерно мрачнеет, недовольно вздыхает:
— Вообще, я не очень об этом хочу распространяться.
— Почему?
Джон молчит пару минут, затем снимает свою руку с плеча Агаты и ежится, будто замерз сам.
— Я не хочу каким-то образом вмешиваться в твои отношения… с Хартманом, — наконец произносит он, — мне кажется, это с моей стороны будет и нечестно, и очень субъективно.
— Нечестно? — удивленно переспрашивает Агата. — Почему?
— Рози, я не хочу играть на таком поле, — с отчаянием в голосе отрезает Джон, — просто не хочу, это и тебе причинит боль, и я при этом окажусь… Нет, это нечестная игра, я так не буду…
— Так, стоп, — Агата ловит его за ладони, пытаясь успокоить, — вот сейчас по порядку, мистер Миллер, потому что я уже вообще перестала понимать, о чем вы. Ты знаешь что-то, что меня может ранить?
Джон прячет глаза, передергивая плечами.
— Очень вероятно, — тихо отзывается он.
— И это повлияет на мои отношения с Генри? — уточняет Агата. Никаких комментариев, что сейчас она сомневается в самой правильности этих отношений. Ничего она сейчас решать не будет, пока ничего не обдумала. Но сейчас, кажется, нужно уже трезво взглянуть на вещи. Без розовых очков влечения на глазах.
Джон выглядит несчастным, будто его зажали в угол. Просто кивает, ничего не говоря.
— Знаешь, если непредвзятость ничего не стоит без знания о том, с кем имеешь дело, то чего стоят отношения, если в них есть какие-то иллюзии и недомолвки? — тихо спрашивает Агата.
Джон вновь пожимает плечами.
— Я тебя говорить никак не заставлю. Но если ты скажешь, я буду ощущать себя более объективной.
— Не надо было вообще об этом заговаривать, — бормочет Джон, высвобождая из пальцев Агаты одну свою ладонь и прикрывая ею глаза, будто собираясь с мыслями.
— Но ты уже сказал, — Агата улыбается.
— Я тебе скажу, — будто решая для себя что-то, произносит Джон, — но только после того, как ты мне скажешь, почему расстроена ты. Потому что потом ты со мной говорить, наверное, уже не захочешь.
— Джон, ты какой-то пессимист, — Агата качает головой, но по выражению лица Джона понимает, что он абсолютно серьезен. Теперь её очередь ежиться и скрещивать на груди руки в попытке защититься от самой себя.
— Этот вечер должен был закончиться не так, — отстраненно замечает она, — да — под звездами, но… не с тобой, прости, Джо.
— Я помню, — Джон невозмутимо пожимает плечами, — понимаю, да. Разочарована?
— Да, — честно отвечает Агата, — но не тем, что я тут с тобой, правда. А тем, что ради бывшей любовницы он довольно легко распрощался с нашими с ним планами. Это так эгоистично сейчас об этом думать, когда у него столько неприятностей, но… но он поступился испытательным сроком. Ради другой женщины. Стоят ли наши отношения хоть жалкий пени после этого?
— Мда, — Джон растерянно смотрит на Агату, — знаешь, можно я все-таки ничего не скажу, а? Кажется, это сейчас может оказаться последней каплей, а я не хочу становиться причиной…
— Джо, ты обещал, — сердито хмурится Агата, — я сейчас хочу принять максимально правильное решение. О какой правильности речь, если я чего-то не знаю.
Сейчас, когда она снова растравила этот вопрос для себя, когда внутри будто по сообщающимся сосудам переливается горечь, особенно обидно будет, если её искренность окажется не взаимной.
— Тут долгий разговор, на самом деле, — судя по тону, Джон по-прежнему надеется уклониться от беседы.
— Я не вижу Анджелы на горизонте, так что, думаю, мы можем потратить некоторое время.
Последний путь для отступления перекрыт. Что дальше, Джо?
— Ох, — Джон вздыхает и переплетает на коленях пальцы, явно пытаясь сосредоточиться, — ладно. Слушай. Дело, в общем, в том, что некогда я соблазнил жену Хартмана.
— Ты? — Агата пытается составить в своем понимании мира Джона — который за семь лет их знакомства ни разу не был замечен в компании девушки иначе чем по работе, — и образ соблазнителя чужих жен. И потом, сколько в таком случае Джону лет вообще?
— Не перебивай, я не особо хочу это все рассказывать, — недовольно морщится Джон и, когда Агата виновато кивает, продолжает, — я был священником в смертной жизни. Довольно паршивым священником, чтоб ты понимала. Имел пагубную слабость к женщинам, соблазнял всякую симпатичную леди из моего прихода, замужнюю или нет. Мне особенно даже напрягаться не приходилось.
В это было легко поверить. Многие ли женщины смотрели на эти губы или в эти хрустально-прозрачные глаза и испытывали исключительно эстетическое восхищение, которое чувствовала Агата? Многие ли думали схватиться за карандаши? Вполне вероятно у других женщин были более здравые желания.
— Так вот. Жена Хартмана тоже была одной из тех женщин, которых я затащил в постель, — продолжает Джон, и его лицо будто закаменело, — его частенько не было дома, а жена дома была… И в один прекрасный раз он нас поймал.
В этот момент Джон замолчал на несколько секунд, собираясь с мыслями.
— В общем, умер я, не успев даже слезть с постели. Хартман проломил мне голову кочергой. Придушил жену. После этого у него помутился рассудок, и он почти год в Лондоне соблазнял замужних женщин, а потом убивал их — за неверность. Его поймали — повесили. Вот тут мы с ним и встретились снова.
— Ты тоже грешил? — тихо спрашивает Агата, пользуясь его паузой, и Джон качает головой.
— Нет. В Чистилище я по-новому взглянул на вещи. Я тогда вообще воздерживался от близости с женщинами. Работал сборщиком душ. Ну и Хартман оказался в моем отделе.
— Он не забыл тебе, да?
— О нет, — Джон задумчиво вздохнул, — совсем не забыл. Он пытался портить мне статистику, но когда понял, что на мой кредит это не влияет — сорвался сам. Демоном стал уже через год и проявил просто удивительную верткость, потому что мы бы его и не поймали впоследствии, если бы не появилось два дополнительных Орудия.
— Ты?
— Ага. Я и Кхатон, — Джон кивнул, — была еще Сесиль, от её света души начинали сиять ярче, но…
— Её не стало, да?
— Да, — осипшим голосом выдохнул Джон, — честно говоря, мне до сих пор кажется, что Хартман отравил её душу, угасил на столько лет, заставил уйти в перерождение, лишь бы ранить меня побольнее.
— Вы дружили? — осторожно выдохнула Агата, а Джон качнул подбородком.
— Я её любил, — поясняет он, — она была самым светлым человеком, которого я только видел. И я был в неё влюблен уже спустя первые полгода в Чистилище. Во многом я стал лучше только благодаря ей.
— И Генри знал?
— Конечно знал, — Джон болезненно поморщился, — даже пытался сам её очаровать, но Сесиль его отвергла. После этого он, кстати, и сбежал.
— Так, — у Агаты даже голова кругом пошла от количества информации, — и сегодня это тебе настроение испортило, потому что?
— Сегодняшний выход Хартмана был проверкой, — разъясняет Джон, — его бывшая пассия давно на меня охотилась, так сказать, приняла флаг мести Хартмана. Мы нашли последнюю душу, которая стала жертвой её банды, я выбрался с Хартманом в смертный мир — меня страховал Артур. Я позволил ей себя загипнотизировать, но понимаешь… Я же Орудие… Демонические штучки на нас срабатывают лишь только если мы сами разрешим, и то не до конца. Я все равно слышал, о чем они говорили. Да, Хартман сам попросил снять с меня гипноз. Но при этом, перед этим похвастался, как ловко он все-таки увел у меня девушку.
Кровь бросилась Агате в лицо. Захотелось срочно вскочить и рухнуть вниз с площадки, материализовывая крылья уже в падении, и все это лишь бы остудить пылающие щеки ледяным воздухом, летящим навстречу. Трофей? Она просто трофей?
— Увел?
— Да, — мрачно подтвердил Джон, — прости.
— Джо, не ты мне голову дурил лишь из тупой вендетты, — выдохнув это, Агата впилась зубами в кожу на тыльной стороне ладони. Больно. Лишь бы не расплакаться. Не так больно, как сейчас в душе. Дура, какая же дура. И чему она сейчас удивляется? Ведь говорили же, говорили, что ему от неё нужно только одно, почему думала о другом? Он же ничего ей не говорил, никаких признаний не было, даже в запале, конечно, ведь врать ему нельзя, так? И все это, все — даже случай с кабинетом — вовсе не из ревности к Джону, вовсе не из-за того, что Агата не смогла убедить Генри, что Джон ей только друг, нет. Это все, чтобы уязвить самого Джона, да побольнее, поглубже…
— Рози, — Джон притягивает Агату к себе, и она понимает, что слезы все равно бегут по щекам. Злые, досадливые, горькие слезы. Выдыхает, собирается с мыслями. Там за стенкой Триумвират, и хорошо же будет, если она, новое Орудие Небес, заявится на первое в своей жизни совещание зареванная и в слезах.
— Ты в порядке? — тихо спрашивает Джон, когда Агата отстраняется, и она кивает, стирая с щек остатки слез.
— Я правда не хотел тебе больно делать, — виновато произносит Джон, — простишь?
— Ох, Джо, — Агата утыкается лбом в его плечо. Ну и почему она такая дура, и увлеклась не вот этим вот супернадежным человеком?
Вопрос доверия (3)
Агата зря переживает. Она успевает не только успокоиться до появления Анджелы, но и замерзнуть, и, вернувшись в кабинет Артура, напиться горячего чаю. От нечего делать Артур её донимает и требует сконцентрироваться и «засветиться» еще несколько раз. Получается. Это несложно. Вопрос только в возможности отрешения от собственных суетных мыслей.
— И все-таки свет, — хмыкает Кхатон, наблюдая это.
— Свет важен, — отмахивается Артур, будто у них с Кхатоном начинается очередной виток давно поднадоевшего спора.
— Свет слаб, — возражает Кхатон, — ей работать с демонами, чем ей отбиваться? Сесиль свет совсем не помог.
— Помогал, — недовольно бормочет Джон, — просто Хартмана на пике одно Орудие нейтрализовать не могло.
— Именно поэтому нужно вернуть его обратно именно сейчас, не дожидаясь пика, — отрезает Кхатон.
Агата напрягается. Пусть у неё есть личные вопросы к Генри, но это не означает, что она ему желает возвращения на крест.
— У нас есть время, — успокаивающе замечает Артур, — и крайние средства тоже есть, так что не дави.
Кхатон молчит. Он вообще не особенно болтлив.
— А вот и я, — наконец-то раскрывается дверь, и в кабинете Артура появляется Анджела. Выражение её лица в принципе редко бывало довольным, но сейчас она была не в духе совершенно.
— Я не одна, — раздраженно заявляет она и прикрикивает: — Эберт, шагай уже вперед.
Джон удивленно оборачивается к двери, Артур и Кхатон — тоже. Одна Агата не знает вошедшую демоницу, и ей не очень-то нравится эта непосвященность. Девушка, кстати, оказывается на редкость красивая, стройная, соблазнительно выпуклая во всех нужных местах, с густой длинной гривой рыжих волос.
— Знакомьтесь, леди Виндроуз, — насмешливо усмехается Анджела, заметив растерянность на лице Агаты, — это Джули Мария Эберт, современная заноза в заднице моего департамента. Кстати, подельница Хартмана, если вы еще не поняли.
— Бывшая подельница, — улыбается суккуба, оглядывая собравшихся по очереди, — и жаль вы не упомянули, что я сама сдалась, мисс Свон, я так надеялась, что это имеет хоть какое-то значение.
Глаза Джона становятся похожи на плошки.
— Сама? — уточняет он.
— Да, — нехотя отзывается Анджела, — сдалась патрулю. Мне пришлось отмаливать её три с лишним часа, чтобы смочь протащить её к нам. Обросла ты грехами, да, мисс Эберт?
— Во всем вы правы, мисс Свон, — тон у суккубы слегка насмешливый. А взгляд остановился на Агате. На самом деле это раздражает — тем более что наблюдать возлюбленную Генри воочию приходится принудительно. Бывшую возлюбленную. Хотя какая вообще к черту разница, бывшая она ему или нет? После всего-то сказанного. Меньше всего Агата хочет быть трофеем в многолетней войне.
— Энджи, сюда-то ты её зачем притащила? — мягко спрашивает Кхатон.
Анджела раздраженно передергивает плечами. У неё безумно усталое лицо, даже более измученное, чем у Джона.
— Во-первых, прецедент. Демоны её уровня добровольно не сдаются. Разве что бесы, которые толком ничего и натворить не успели, и спохватились. Во-вторых, наша дорогая мисс Эберт настаивала на том, чтобы мы проявили терпимость к Хартману. Мол, у него не было особенно много времени, чтобы подумать. И вообще он, мол, был под аурой одержания, поэтому и не стал её ловить.
— Не был он под аурой одержания, — отрезал Джон, — они просто разговаривали. И все, что он делал, — делал сам. Может, подумать о последствиях особо и не успел…
— Хартману это в принципе не свойственно, — ядовито вполголоса заметила Анджела.
— Но не был Хартман под одержанием, — закончил мысль Джон, проигнорировав слова Анджелы.
— Ты же поддался, да? — вдруг требовательно интересуется суккуба, впиваясь глазами Джону в лицо. — Ты поддался, потому что я сейчас тебя прощупать, глядя в глаза, не могу, а там просто стоял с раскрытой душой, только заходи и подчиняй.
Джон ничего не отвечает, просто улыбается с легкой смешинкой в глазах. Мол, молодец, сама догадалась.
— Вам вообще не стыдно, святоши? — обвиняющим тоном заявляет суккуба. — На кой черт вообще вы все это затеяли? Ему же и так сложно среди вас ходить, вами дышать и при этом вас не жрать. Вы понимаете?
— Это дело Триумвирата, мисс Эберт.
— А ты, — зеленые глаза суккубы уставились на Агату, — ты тоже считаешь, что проверять инстинкты демона на прочность — очень хорошая идея. Тоже думаешь, что нужно искушать его лишний раз просто так, для одной лишь проверки?
Стоит ли отвечать «нет»? Разве у Триумвирата не было причин подозревать Генри в срыве? Знали ли они о привязанности Джона к Агате, делали ли выводы о его мотивах? Если даже спустя столько лет он не может расстаться с прошлым, не может его отпустить — стоит ли ему доверять так безотлагательно и слепо, как доверяла она?
Суккуба стоит и ждет ответа, требовательно глядя на Агату.
— Искушения будут всегда, — Агата пожала плечами, — раньше, позже, никакой разницы.
— Неважный ответ, — суккуба презрительно кривит губы, — хорошо, тогда ответь честно на другой мой вопрос. Как ты думаешь, если исчадие ада может быть помиловано после распятия, может ли суккуб быть помилован до распятия? Если он действительно хочет исправиться, раскаяться, и так далее?
— Я не могу такие вещи решать одна.
— А ты и не решай, — суккуба равнодушно улыбнулась, — скажи. Если твои коллеги по Триумвирату решат поспорить — они же скажут, ты не волнуйся.
Агата мазнула взглядом по лицам Артура и Джона. Они действительно смотрели на неё, выжидая. Это она их пример в отношении с демонами. И как же действительно сложно быть первой и не знать, как себя вести.
— Испытательный срок предполагает некие ограничения, — осторожно пожала плечами Агата, — я бы попробовала поработать с демоном, который хочет попытаться вернуться к правильному пути.
— Бред, — шипит Анджела, встряхивая головой, — если Хартман — автомат с предохранителем, то Эберт — пистолет без предохранителя и прицела. Шмальнуть может в любой момент, даже в руке.
— Подобные вещи сложно обсуждать без выяснения точки зрения Небес, — в сомнении замечает Джон.
— И как ты предлагаешь выяснить? — вскидывается Анджела. — Пустить мисс Виндроуз на поле? Позволить ей молиться за Эберт? Скольких еще штрафников она приведет? Сколько из них вообще будут поддаваться контролю?
— Пока мои подопечные вполне управляемы все, — вспыхивает Агата.
— И только Хартман ежедневно на экзорцизмах, — Анджела презрительно кривит губы. Она уже основательно поднадоела Агате этим своим предвзятым отношением к демонам.
— Если ему нужны экзорцизмы — пусть ходит хоть два раза в день, — отрезает Агата, — иначе на кой черт у нас целый департамент экзорцистов? Бумажки перебирать? Вокруг поля кордоном стоять, да в небе без особого толку болтаться?
Анджела со свистом втягивает воздух для того, чтобы разразиться гневной тирадой, но Артур кашляет, её прерывая.
— Вы хотели помилования, когда сдавались, мисс Эберт, — интересуется он.
— Нет, — суккуба качает головой, — я сдавалась, потому что до меня дошло, что Генри со мной подставился под неприятности. Он уже однажды отвлек от меня внимание Небес, еще раз — как-то перебор.
— Какое благородство, — ядовито замечает Анджела.
Джули Эберт пожимает плечами, показывая, что ей абсолютно все равно, что о ней думает конкретно Анджела.
— Пат, — хмыкает Артур, — и Хартман повел себя не так, как мы ожидали, и мисс Эберт внезапно решила сдаться, чтобы выгородить Хартмана, да еще и просит помилование.
— Чем дальше, тем сюрреалистичней становится вся эта картина, — от окна отзывается до того молчащий Кхатон, — скоро мы будем водить паломнические экскурсии демонов по разным слоям.
— На мой взгляд, нужно дать Небесам возможность распорядиться судьбой мисс Эберт, — повторяет Джон, — пусть на распятии присутствует Агата, пусть попробует прочитать молитву. Если Небеса увидят в мисс Эберт перспективы исправления — крест её не примет. Если нет — то об амнистии будем говорить позже.
— Звучит довольно здраво, — соглашается Артур. Агата кивает этому, потому что спорить с настолько логичным и вполне милосердным предложением сложно. У Анджелы недовольное лицо — кажется, она не привыкла быть в Триумвирате голосом оппозиции. Агата чувствует удовлетворение, в конце концов, приятно, что твои идеи не такие уж и бредовые, как тебе кажутся.
— А что с Хартманом? — наконец интересуется Кхатон. — Мы вообще-то из-за него собрались.
— Давайте его позовем, а? — устало предлагает Артур. — Решим при нем.
— Он же будет раздражать своими возражениями, — недовольно замечает Анджела.
— Значит, ему же хуже, — отрезает Артур, — мисс Эберт пора в изолятор, я считаю.
Артур уходит, уводя с собой суккубу, появляется уже в компании Генри. Вопреки ожиданиям, демон не выглядит вызывающе, отнюдь, даже как-то надломленно. Агата встречается с ним взглядом и тут же уклоняется. Сейчас нужно максимально сосредоточиться именно на положении дел. Не на личных задетых чувствах.
— Что нам скажешь, Хартман? — мягко интересуется Артур.
— Я не хочу на крест, — тихо отвечает Генри. — Что мне еще сказать, чтобы вас убедить?
— Этого, в принципе, достаточно, — Артур кивает.
— Неподчинение это не очень сильная ошибка, я думаю, — Агате даже приходится слегка прокашляться, чтобы произнести это в повисшей тишине, — в конце концов, он же не напал на Джона.
— Да уж, на этом спасибо, — недовольно с легким сарказмом бурчит Джон, и Агата бросает на него умоляющий взгляд, прося поддержки.
— Мелкая ошибка, крупная ошибка, — Анджела несогласно качает головой, — нет разницы. Есть испытательный срок. Его правила едины для всех штрафников. Просчет — возвращение на крест.
— Мне кажется, предельно некорректно сравнивать условия испытательного срока для Хартмана и для бесов из штрафного отдела, — возражает Артур, — у Хартмана совершенно другой характер греховного голода, куда более интенсивный, и подобные… шероховатости еще можно спустить, как я думаю.
Артур на стороне Агаты. Конечно, еще рано ликовать, но черт возьми — приятно же, приятно, когда тебя поддерживает куда более умудренный жизненным опытом человек. Да еще и архангел. В душе подпрыгивают солнечные зайчики.
— Если это голосование, то я на стороне Энджи, — сообщает Кхатон. И все. Обоснований своей позиции он не дает. Кажется, так и принято.
Агата косится на Джона, от которого, судя по всему, и зависит решение судьбы Генри. А Джон молчит, переплетая пальцы. Лицо Генри на диво красноречиво. Кажется, он не ожидает от Джона никакой пощады. Наконец Джон поднимает глаза, глядит прямо на Генри.
— Последний раз, — отрывисто произносит он, — я подаю тебе руку в последний раз. Не встанешь — значит, не встанешь. Следующий разговор у нас с тобой будет очень короткий.
Вопрос доверия (4)
Агата и не знала, что на распятии в обязательном порядке присутствует весь Триумвират. Теперь, однако, знает. Джули Эберт из тех девиц, которые даже в мешковатом, сером платье, с заплетенными волосами и кандалами святой стали на запястьях совершенно нелогично умудряются выглядеть сногсшибательно. Она кажется внешне такой мягкой, практически невинной. Это, разумеется, обманчивое ощущение, у неё заоблачный кредит, невинной её назвать невозможно. Тем не менее даже при том, что Агата утром проглядела личное дело Джули, и волосы на шее местами шевелились от увиденных там цифр, все равно не получается проникнуться конкретным ужасом и отвращением к этой суккубе. Да, кредит — огромный. Да — бывшая любовница Генри. Но нет в этом ровным счетом никакого смысла. Она хочет исправиться. Раскаивается. Искреннее желание в таких вещах — самое важное обстоятельство, которое стоит брать в расчет. Уже следом идет соответствие намерения действиям.
Агата чувствует себя ужасно разбитой. Ночью поспать толком и не удалось, все сидела, думала, перетряхивала рассказ Джона по словечку, по винтику, пытаясь отказаться от надумывания себе лишнего, но и попытаться мысленно не оправдывать Генри. Интуиция шептала, что вряд ли Генри вообще доверяет женщинам. Вряд ли стоит обижаться на него за его сдержанность, но черт возьми — она сама не доверяет мужчинам. Она их больше того — боится. Даже сейчас. Она столько времени игнорировала саму мысль о существовании романтических отношений, считая, что это не для неё, что она слишком обожглась этим в смертной жизни, что бессмертие можно провести и без того, чтобы с кем-то сближаться, да еще и делить постель. Но нет, вскружил же ей голову этот рыжий вулкан чуть ли не первым же своим поцелуем. Вытянул из души даже слишком много эмоций, что там хранились. Он ей верит, во многом благодаря его чутью, но достаточно ли этого, чтобы он смог перешагнуть через старые раны и пойти дальше? А Джули? Сколько она для него значила? Сколько значит сейчас?
Чертовски сложно пытаться быть объективной, чертовски сложно не примешивать к фактам своих домыслов, своих подсознательных желаний и страхов. Хочется поговорить с Генри. Хочется услышать его ответы, слегка насмешливые, наверняка все объясняющие. Умом же Агата понимает — ответы будут всегда. Именно те, которые его оправдают. В которые ей наверняка захочется поверить, и она поверит. Но будут ли его честные ответы — действительно искренними? И правильно ли ей будет брать их в расчет? И стоит ли ей вообще думать об объяснениях с Генри? Может, ему они уже и не нужны. Вчера он как будто решил уклониться от них, просто молча ушел, даже не попрощавшись. Не задев Агату и взглядом, будто она вдруг потеряла всякую важность в его глазах.
В таком состоянии сложно сосредоточиться на предстоящем мероприятии. Вообще, сам факт того, что Агате предстоит помолиться за бывшую Генри — довольно неприятен. Агата даже и сама не ожидала, что её это так будет раздражать. Ей не хочется молиться о милосердии к душе Джули Эберт. Хочется, чтобы Джули все-таки отправили на крест. Подсознание само подбрасывает тому оправдания, само намекает, что наличие Джули в горячем списке розыска означает, что она — опасная грешница, которая должна быть распята, и о каком помиловании может вестись речь?
И это на самом деле чудовищные мысли. Неприемлемые для того, кому оказали честь стать Орудием Небес. Если сейчас Агата даст этой болезненной, такой сильной, нестерпимой ревности волю, если позволит ей застить глаза, то разве достойна она быть защитником демонов, разве достойна на равных обсуждать вопросы с Триумвиратом? Разве не её долг относиться ко всем максимально непредвзято? Об этом говорят ей Небеса. Смотреть на настоящее, не на прошлое. Смотреть на то, что Генри не бросается на всякого мимопроходящего, Анна — флиртует без использования суккубьего гипноза, Винсент отпустил Агату даже без экзорцизма, а Джули ни много ни мало сама сдалась серафимам. Согласилась оказаться распятой, лишь бы получить возможность заступиться за Генри. Разве все это ничего не стоит? Разве это не свидетельства того, что Агата не ошибается в своих мыслях, и Небеса не ошибаются, прислушиваясь к ней? Пусть Кхатон и Анджела не доверяют демонам, пусть опасаются, но в душах даже истых грешников есть место хорошему. Нет, если сейчас она поддастся этому настроению, то она и вправду та глупая девчонка, которую в ней видит Анджела. Глупая, непостоянная, ненадежная.
Оказываясь у креста, Джули замирает. Смотрит на черную древесину, и Агата замечает, что девушка дрожит. Наверное, это страшно — оказаться лицом к лицу со своим наказанием. Гнев Небес — жесток, во многом потому, что не существует иных способов справиться с демонами, лишь только эта боль, это Поле, эти кресты и иссушающее светило над головой. Джули молчит, не говорит ни слова, но оборачивается к Агате, и в её глазах паника. Будто немой вопрос «Ты мне и вправду поможешь?», который она смертельно боится задать. А ведь она наверняка понимает, что испытывает сейчас Агата. У неё тоже чутье, как и у Генри, и эту душную ревность, которую Агата никак не может подавить, Джули наверняка уже учуяла. Уже поняла, от кого зависит её судьба. Верит ли она, что Агата будет что-то для неё делать? Или чует и раздирающие душу соперницы противоречия.
Соперницы? Нет. Агата не хочет сейчас воспринимать Джули как соперницу. Либо все у них с Генри в прошлом, либо нет — и Агата здесь мешать не будет. Если она для Генри не просто переходящий приз в давней войне, то пусть он сам ей это покажет. Поэтому нет, не сопернице. Нужно думать о Джули как о человеке. Видеть в ней достоинства, благо вроде есть, что видеть.
— Не бойся, — тихо произносит Агата, — я сделаю все, что смогу.
Джули смотрит на неё и молча кивает. В её взгляде Агата видит то сомнение, которое и ожидала увидеть. Да, суккуба и вправду все знает, все чует и сейчас может испытывать к Агате только недоверие, потому что чует истинное направление её мыслей. Но Джули не произносит его вслух, лишь опускает взгляд, пытается улыбнуться сквозь свой страх. Пытается показать Агате, что надеется на неё. Хоть даже этим надеждам и дано так мало шансов быть услышанными.
Артуру не надо никаких жестов, чтобы прибегнуть к его дару, он просто бросает взгляд на Джули, и сталь кандалов на её запястьях мнется, ползет, меняет форму и расположение. Стальные браслеты, широкие оказываются на запястьях, на сгибах локтей, на шее, на лодыжках суккубы. Именно с помощью браслетов Джули поднимают к кресту, и здесь сталь принимает свою окончательную форму, обвиваясь вокруг дерева, замирает, сформировавшись в замки оков, похожих на сжатые челюсти. Когда тело Джули соприкасается с крестом, девушка вскрикивает от боли, и душа Агаты невольно содрогается. Она помнит. Помнит всякий раз, как отмечала боль Генри. Всякий раз эта боль отдавалась эхом в её душе. Всякий раз хотелось помочь ему хоть чем-то, сделать хоть чуточку менее невыносимой кару, которую на его голову обрушили Небеса. И нет никакой разницы в том, кто испытывает эту боль. Душа за распятого вздрагивает и сейчас.
— Мисс Виндроуз, нам вас оставить? — тихо спрашивает Артур, но Агата даже слышит его не сразу. Она больше оглушена осознанием собственного лицемерия, которому предавалась все это время. Она серьезно думала о том, как бы так увернуться от молитвы, лишь бы Джули осталась на кресте? Уединение. Они предлагают ей уединение. Нет. Она его не заслуживает. Оставаться наедине с собой стоит, если ты хоть что-то из себя представляешь. Агата же… Чувствует себя сейчас как никогда — недостойной чести быть голосом, который слушают Небеса.
— Не нужно, — пересохшими губами отзывается она, глядя на прикушенную губу дрожащей на распятии Джули Эберт, — просто помолчите.
На самом деле ей действительно нет никакой необходимости в том, чтобы архангелы ушли. В первый раз она молилась не в уединении, Генри был в сознании и выступал в роли наблюдателя. Во второй раз свидетелей у Агаты не было, зато она чувствовала себя нарушительницей запретов. Сегодня — ничего подобного она не чувствует. Нет ничего страшного в том, что кто-то увидит её стоящей на коленях. Страх заключается в том, что Небеса хоть на секунду обратят внимание, кому они доверились. К кому прислушались. И заметят в ней эту мелочность. И по вине Агаты Джули своего помилования не получит.
Отрешение. Отрешение опустошает разум, как только Агата складывает ладони у груди. Она заставляет себя не закрывать глаза. Она заставляет себя видеть лицо Джули, искаженное в болезненной гримасе. Тело, вздрагивающее от боли. Она не закроет глаза на чужие страдания. Не позволит своим мелочным чувствам возыметь верх над её долгом.
Молитва. Агата в который раз испытывает неловкость от того, что так и не удосужилась обеспокоиться конкретной молитвой о прощении грехов и в который раз доверяет наитию. Простым словам, которые сами ложатся на её язык. Словам о том, почему душа Джули Эберт достойна милосердия, о её стремлении к раскаянию, об отваге и жертвенности. Словам, в которые сама Агата верит куда больше, чем в себя. В душе той же суккубы есть место благородным жертвам. В душе самой Агаты до сей поры живет слишком много пороков, и это ни в коем случае не должно повлиять на решение Небес. Именно поэтому Агата сейчас и просит — просит, отчаянно желая звучать искренне и быть искренней. Пусть её голос не содрогнется от сомнений. Пусть личность демона не будет иметь никакого значения — лишь только его душа, его порывы.
Небеса слушают Агату. Будто глядят в самое её сердце. Отзываются сердитым глухим рокотом грома, словно упрекая в малодушных сомнениях. Молния разрезает небеса. Молния ударяет в крест, и тело Джули Эберт выгибается от невыносимой муки. А затем оковы размыкаются.
Когда это происходит, весь мир Агаты замирает. Неужели у неё получилось? Не могло получиться!
Джули поднимается не сразу — и не без помощи Кхатона. Практически виснет на его плече, не в силах стоять на ногах твердо. Её лицо не сразу приобретает осмысленное выражение, кажется, ей было сложно сфокусировать взгляд на лице Агаты.
— Он был прав, — выдыхает Джули, — ты и в правду нереальная…
Затмение (1)
— Вы опоздали отметиться, мистер Хартман.
— Я предупредил, — сухо отзывается Генрих, — предупредил же?
Рон недовольно хмурится, качает головой.
— Ваше личное дело что ни день — полнится жалобой, — скептически замечает он, — да еще и установленный распорядок вы пытаетесь игнорировать.
— Рон, выдай мне уже работу, — устало отзывается Генрих, — и поставь галочку, что у меня рабочий день сегодня. Так-то выходной по графику, но он мне ни за чем ни сдался.
— Экзорцизм нужен? — практично интересуется Рон, проставляя галочки в явочном листе.
— Утром был, — нехотя бурчит Генрих. Рон поднимает брови.
— И вы готовы к работе? — удивленно переспрашивает Рон.
Генрих смотрит на него в упор. Как бы повежливей объяснить идиоту, что как бы Генриху сейчас паршиво ни было после экзорцизма — хотя не очень-то и сильно, если уж так задуматься, с Миллером штатному экзорцисту штрафного отдела не сравниться, даже чутье не отшибло — но все равно слишком тягостно сейчас тащиться в общежитие и тоскливо пялиться там в потолок. Паузу, надо выдержать паузу. Понять, что он вообще может сделать такого, что снова вернет Агату на его орбиту. Опять же с самоконтролем по-прежнему грандиозные проблемы, он действительно до сих пор допускает огрехи. Большие огрехи.
Рон, кажется, понимает.
— Ищейкой пойдешь сегодня? — куда более мирным тоном интересуется он, утыкаясь в наряды. — Есть пара порванных душ, ни за кем не закрепленных.
— Нет, — с сожалением отказывается Генрих, — разве что после прогрева, но все-таки лучше не сегодня, и не завтра.
Смертный мир слишком ярок, слишком объемен, слишком упоителен. И любому демону прекрасно известно, что уровень ощущений в смертном мире куда более сильный. От любой земной пищи удовольствия в три раза больше, не говоря уж о других вещах. Генрих мог находиться в смертном мире очень подолгу, причем именно как человек, как смертный, количество поглощенной энергии ему это позволяло. Смертный мир напоминал наркотик, каждый миг в нем будоражил, наполнял эйфорией бурлящей жизни, даже если ты просто дышал его воздухом. Любой миг наслаждения в смертном мире ощущался в несколько раз острее.
Вчерашний выход подчеркнул этот факт особенно сильно. Не будь это полезно для самоконтроля — Генрих бы, пожалуй, все-таки настоял бы на своей сугубо архивной работе. Однако сегодня души, снующие вокруг, куда меньше волновали голод, и это было очень неплохо.
От Рона Генрих уходит с коробкой картонных папок. Кажется, Джек Морган в потенциале является работником Штрафного отдела, но Департамент Учета Грехов интересуют конкретные цифры, а не теоретическое суждение.
В кабинете нет Агаты. Это, с одной стороны, хорошо, с другой — неважно. Генрих был бы рад её сейчас увидеть, скорей всего её сосредоточенная мордашка успокоила бы бурю и в его душе, но вероятно в её глазах плескалась бы обида, и он бы острее ощущал собственную вину.
Анна сидит и зубрит инструкцию ищейки, за угловым столом ссутулится и раздраженно косится на светоч не кто иной, как Винсент Коллинз. Винсент, разумеется, бросает взгляд на дверь, разумеется, встречается взглядом с Генрихом и тут же трусливо утыкается взглядом в бумажки перед собой. Глядя на него, Генрих испытывает неприятную брезгливость, хочется раздавить его, как омерзительное насекомое.
Генрих сгружает коробку на свой стол, поворачивается к столу суккуба.
— Коллинз, — от его резкого тона Винсент напуганно вздрагивает, глядит на Генриха исподлобья.
— Мне тебе подробно рассказывать, что с тобой будет, если ты обидишь её, или у тебя своя фантазия богатая? — вкрадчиво улыбается Генрих. Никаких пояснений. По лицу этого трусливого таракана видно, что он в курсе и о ком Генрих говорит, и о мотивах этого разговора. Не будь с утра экзорцизма, Коллинз уже бы поймал по морде, но экзорцизм был, кулаки при себе сдержать легче.
— Не надо рассказывать, — тихо отзывается Винсент и снова прячет взгляд.
— Сладкий, — успокаивающе щебечет Анна, — не наседай. Мы же тут все на испытательном сроке, не только ты.
— Не лезь, женщина, — Генрих бросает на суккубу резкий взгляд, и та изображает на своем лице панику, а затем хихикает, прикрывая лицо серой папкой из плотного картона. Губы сами складываются в легкую усмешку.
Да уж, действительно, можно и наседать, прошлое стоит оставить в прошлом. У Генриха побольше грехов, чем у того же Коллиза, даже если судить по смертной жизни, а сколько душ отравлено уже в бытность демоном? Отравлено, высосано, растерзано на мелкие клочья. Но здесь сейчас, когда позади стоит распятие, на которое ты можешь вернуться любой момент, они все равны — и Генрих, и Анна, и Винсент. И у каждого есть в прошлом свои ключи, свои ошибки, все то, что может потянуть обратно, все то, что может вернуть их на Поле Распятий. Вот только пусть оно и останется в прошлом.
Агата приходит после обеда. Уже практически под конец рабочего дня. Осунувшаяся, бледная, пошатывающаяся. В такой компании, что у Генриха перед глазами будто солнце взрывается.
Джули. Джули обнимается с картонной коробкой с собственным личным делом, будто пытается за неё спрятаться.
— Знакомьтесь, Джули Эберт, наша новая сотрудница, — измученным голосом сообщает Агата и стекает за свой стол.
Это из разряда вон. Таких подвывертов судьбы Генрих точно никогда не ожидал.
— Ты была на Поле? — сипло спрашивает он, и обе девушки синхронно кивают.
— Она сдалась сама, — у Агаты подчеркнуто нейтральный тон, и от взгляда Генриха она нарочно уклоняется. Мда, в текущих обстоятельствах примирение будет даже более затруднено, чем ему вообще казалось. Кажется, Агата сама себе навыдумывала гораздо больше, чем имело место быть.
— Зачем? — Генрих смотрит на Джули, а та, прикусывая губу, опускает взгляд.
— Затем, — тихо отзывается она.
Пальцы сами барабанят по столу недоверчивый, рваный ритм. Ради него? Она сдалась ради него? Это, черт возьми, очень неожиданный ход. Генрих ни за что бы не предположил, что Джули была к нему настолько привязана. Но… если уж охотилась на Миллера столько времени, может… может, питала к нему какие-то взаимные чувства. Когда-то взаимные, торопливо подчеркивает подсознание.
Миллер легок на помине, вваливается в кабинет, окончательно превращая его в проходной двор. Отдает Агате кофе, обводит взглядом кабинет.
— Должны влезть сюда еще два стола, — замечает он, и в пальцах Генриха от неожиданности ломается карандаш. Два?
— Допустим один для неё, — Генрих кивает на замершую у двери Джули, — а второй?
— А второй для меня, — ехидная улыбка Миллера — практически вероломный нож, подрезающий сухожилие опорной ноги, — Триумвират решил, что вас слишком много на голову одного серафима, и я вызвался стать экзорцистом специально для подопечных мисс Виндроуз.
Вызвался он, ага. Разумеется, при этом он не попытается сблизиться с Агатой, как же. Генрих раздраженно смотрит, как Миллер придвигает себе стул и садится рядом с Агатой. Ему такое позволено, к сожалению, поэтому приходится терпеть, глядя, как эти двое соприкасаются локтями и пьют свой кофе.
— Её тоже в ищейки? — заинтересованно спрашивает Анна, изучая взглядом Джули.
— Нет, — Джон отрывается от своей чашки, — мисс Эберт практически не прижжена, допущена только до архивной работы, и у нее не будет ключ-жетона.
Вот оно как. То есть Генриху, как прожженому Гневом Небес, доверяют больше, раз выдали ему ключ между измерениями и к смертному миру. Джули же ограничена в своих передвижениях только верхним слоем. Генрих бросает вопросительный взгляд на Джули, и она пожимает плечами. Мол, нету мне разницы, главное, что не на кресте… Правильно. Очень правильная позиция.
— Так, даже не трогай… — Миллер перехватывает ладони Агаты, потянувшиеся к папке на столе, и Генриху хочется отгрызть ему руки. Лишь бы не прикасался к этим тонким пальцам.
— Мы с тобой договаривались, — тем временем бубнит Миллер, — никакой работы сегодня. Пришла? Посмотрела? Они на месте? Все. Ты идешь спать.
Агата смотрит на него волком. Неважно, как она смотрит. Агата. Смотрит. На Миллера. Сейчас Генрих вполне может сломать не то что карандаш, но и ножку стула, попадись она к нему в руки.
— Ладно, — нехотя отзывается Агата и встает из-за стола. Бросает взгляд на Джули.
— Ты тоже отдохни, — вполне доброжелательно улыбается она, — документы оставь на моем столе. До завтра.
— До завтра, — кивает Джули. Агата уходит. С Миллером. Генрих долго смотрит на закрывшуюся за ними дверь, пытаясь прожечь её взглядом.
— Не покажешь мне общежитие? — спрашивает Джули, и Генриху приходится очнуться.
— Да, — он встает из-за стола. Рабочий день почти закончился, с Джеком Морганом ему еще предстоит поработать завтра, а находиться сейчас в четырех стенах кажется особенно невыносимо.
Джули идет рядом молча, по крайней мере поначалу. Потом она не выдерживает.
— Это был кошмар, — восклицает она. В эмоциях её голоса можно захлебнуться.
— Распятие? — уточняет Генрих, и девушка кивает.
— И эта девчонка. Я думала, она не сможет. Она же жутко бесилась. Но потом… Потом её как отключило. И молния… И я уже не на кресте… Генри, я до сих пор не могу поверить.
Да. Он тоже не мог. Каждое чертово утро, открывая глаза, он не мог поверить, что больше не распят, что на запястье болтается ключ-жетон, что он может пойти куда захочет, и что боли больше нет.
В общежитии Генрих дожидается, пока Джули выдадут ключ от её квартирки, даже поднимается вместе с ней. Но доходя до свой квартирки, останавливается, и Джул — тоже. Замирает, а после шагает к нему, обвивает руками, прижимается к его груди. Он с головой окунается в её запах, горьковатый, терпкий, с легкими нотками вишни.
— Я так рада, что могу быть с тобой рядом, — произносит Джули.
Вдох.
Выдох.
Генрих прикрывает глаза, а затем осторожно отстраняется. Нужно было отказаться сейчас, потому что позже это будет сделать гораздо сложнее.
— Джул, — осторожно начинает он, — не надо.
Она смотрит на него с легкой обидой.
— Ей знать не обязательно, — через пару минут наконец говорит Джули, и это… это большая уступка с её стороны. Когда-то их союз был возможен при выполнении взаимных обязательств. Никаких связей на стороне. Генрих качает головой.
— Дело не в этом, Джул. Я буду знать. И уважать себя не буду.
— Я думала, ты с ней только из-за Миллера, — кажется, Джул нешуточно задета. И Генрих не очень-то представляет, как возможно смягчить ситуацию.
— Джул, — Генрих устало выдыхает, силясь объяснить и понятно, и не очень-то бесцеремонно, — как можно быть с ней только из-за Миллера? Да и с Миллером — это так. Ребячество. Несерьезно.
— С ней, значит, серьезно? — тихо спрашивает Джули, и Генрих, помедлив, кивает.
— Без обид, ладно? — на всякий случай уточняет демон. — Я рад, что ты здесь, я рад, что ты можешь начать работу.
Джул смотрит на него, пристально, с горечью, покусывая губу. Генрих успевает уже напрячься, когда она наконец милосердно улыбается.
— Да уж какие обиды, — мягко произносит она. — Нужно же ради себя исправляться, не ради кого-то другого, правильно? Я понимаю. Столько лет прошло.
— Спасибо. — Генрих с облегчением выдыхает. Все-таки Джули — для него важна. Хорошо, что у неё теперь тоже есть шанс изменить свою жизнь. Хорошо, что не придется за ней охотиться по воле Триумвирата.
Затмение (2)
Просыпается Агата ни поздно, ни рано — но накануне обеда. Кажется, Джон решил превзойти её в этом, потому что вызвать по знаку его не получается. Приходится идти на обед в компании одного лишь скетчбука и пары карандашей. Ночует Агата по-прежнему на слое Лазарета, слишком много вещей надо было перетаскивать в случае, если она дозреет на переезд. Даже не столько вещей, сколько картин.
Как она раньше просыпалась в одиночестве? Оказывается, практически невыносимо валяться в неожиданно просторной кровати и при этом не находить рядом соседа — теплого, болтливого, неуемного. Как-то так выходит, что когда рядом с Агатой вдруг появляется Генри, жизнь всякий раз становится безумно насыщенной, наполненной. Такой, что хочется не отпускать от себя каждой чертовой секунды. Но стоит ему исчезнуть — хоть на день, хоть на ночь, — и за спиной начинает покашливать сероглазая пустота. Будто сама Агата ничего из себя не представляет, будто ей нечем занять свое время, будто нет у неё хоть каких-то мало-мальски хороших людей, с которыми она могла бы скоротать вечер
Нет, дело вовсе не в этом. Есть и друзья, есть незаконченные рисунки, недочитанные книги, множество минут, которые раньше были чем-то заняты, хоть даже и бесцельными прогулками по скверикам. Дело заключается как раз в том, что никем и ничем Агата сейчас время занимать не хочет. Ей хочется оказаться именно рядом с Генри, обедать в его компании, заканчивать именно скетч с его профилем. Никто другой этой пустоты заполнить не сможет. Никто другой не вызывает у Агаты ощущения, что она становится будто более осязаемой, просто лишь находясь с ним рядом. Что оказывается особенно нестерпимо, так это осознание, что Агата находится в такой зависимости от мужчины, которому она на самом деле — очень вероятно — не так уж и нужна. Черт возьми, кому вообще нужна эта её влюбленность, он наверняка, услышав об этом, лишь насмешливо улыбнется. Зачем? Зачем нужна Агата, когда рядом есть Джули? Яркая, самоотверженная Джули, к которой у него когда были настолько сильные чувства. Та, которая поступилась свободой, лишь бы вновь с ним воссоединиться.
Эти мысли жалят, уязвляют сердце, будто крохотные злые огненные искры. Уже устроившись в кафешке, с каким-то крем-супом, Агата толком и не ест, и не рисует, просто бессистемно черкая карандашом по бумаге. Что-то осмысленное делать тошно. Генри не хочет появляться в поле её зрения, не хочет её видеть, не хочет с ней мириться. Генри её попросту — не хочет. И чем дальше Агата об этом думает, тем грустнее ей становится. Похоже, сейчас, когда в такой близости оказалась прежняя любовь, он наконец столкнулся с мыслью, что совсем необязательно соглашаться на кого попало в постели, лишь бы досадить посильнее Джону. Мысли каким-то совершено безжалостным по отношению к своей хозяйке образом неутомимо сворачивают в сторону того, чем сейчас Генри может заниматься, вышел ли он снова на смену, встретился ли там с Джули, оставались ли они уже наедине? Скептическая придирчивость отмечает, что вообще-то эти двое могли и не расходиться на ночь, а страстно воссоединиться, нагоняя упущенное за столько лет.
Собственное уныние Агату безмерно раздражает. Сколько лет она уже так не пасовала перед трудностями? Черт возьми, она же даже пыталась быть экзорцистом, пусть и получалось из рук вон плохо. А сейчас сидит и молча страдает, вместо того, чтобы пойти и начать решать эту проблему.
А что сделать? Что тут вообще можно сделать? Если он сам решил выбрать Джули, то что Агата в силах изменить? Что может ему предложить? У Джули и Генри — пять лет отношений, у Агаты и Генри — не наберется и пары недель. Пусть она в него влюбилась как распоследняя школьница, вряд ли ему это в новинку, с его-то внешностью и обаянием. Джули питает к нему куда более глубокие чувства. Спустя столько лет очертя бросилась на его защиту. И у кого козыри в этой игре?
Над головой кто-то покашливает. Агата поднимает взгляд, и сердце напуганно подскакивает.
— Привет, — Винсент Коллинз растягивает губы в улыбке. Нет, не угрожающей, не натянутой, кажется, это попытка примерить доброжелательную физиономию. Не очень удачная, но на это можно прикрыть глаза. Что ему может понадобиться здесь?
— Привет, — осторожно отзывается Агата, глядя на суккуба снизу вверх.
— Позволишь присесть? — интересуется Винсент.
— Я жду подругу…
— Ты врешь, — спокойно обрубает Винсент и невозмутимо смотрит на Агату. Ей-богу, демоническое чутье Агату уже скоро будет раздражать. Черт, почему она и вправду не позвала вместе пообедать Рит?
— Да, вру, — Агата кивает головой, — потому что на кой черт мне твоя компания, Коллинз?
— На тот черт, что нам вместе работать еще много времени, — Винсент пожимает плечами, — не помешало бы наладить мосты, как ты думаешь?
— Было бы что налаживать, — Агата едко улыбается.
— Чего ты сейчас боишься? — вкрадчиво улыбается Винсент. — Тебе что, по-прежнему восемнадцать? И ты не умеешь за себя постоять? Боишься сказать папочке, что злой дядя тебя обижает?
— Садись, — если он преследовал цель разозлить Агату, то у него вполне получилось. Раздражение прямо переполняет все положенные ему сосуды. Что ж, если она взорвется — кому-то прилетит экзорцизмом. Специально ради Коллинза она готова перешагнуть через собственную мягкость.
— Ты все еще рисуешь? — задумчиво интересуется Винсент, зацепляя пальцами блокнот с набросками. Агата отодвигает от ладоней суккуба скетчбук, прикоснись Винсент к нему чуть дольше, и скорей всего продолжать работу придется уже в другом блокноте. Этот будет и тронуть неприятно.
— Не все в моей жизни тебе удалось осквернить, — отрезает Агата.
— А что удалось? — насмешливо уточняет Винсент, и Агата чувствует, как стекленеют её глаза. Да уж. Дипломат из Коллинза, прямо скажем, паршивый. Вроде пришел «мосты наладить», а что ни скажет — от того только хуже становится. Хотя, если уж объективно, она сама даже не дает ему шанса. Огрызается даже на вполне невинные фразочки. Непредвзятость не дается легко.
— Да, я рисую, — выдыхая раздражение, произносит Агата, — еще вопросы?
— Часто?
— Очень.
— Можешь одолжить листок?
Непонятно, чего Винсент добивается, но Агата пожимает плечами и выдирает из блокнота чистую, нетронутую страницу. Винсент неуверенно тянется к карандашу, и Агата кивает, переводя взгляд. Ей по-прежнему неприятно его присутствие. Но объективно нужно просто помнить, кто она. Его поручитель. Он — демон. На испытательном сроке. Серьезный просчет, и кто-то отправится на поле вновь.
— Когда перестаешь трусить, у тебя аж плечи разворачиваются, — вскользь замечает Коллинз.
— Чему я вообще обязана счастью тебя лицезреть? — меланхолично интересуется Агата.
— Ну вообще, своему рыжему дружку, — отзывается Винсент, — и его подружке. Кажется, им приспичило побыть наедине, попросили час не отсвечивать в кабинете. Не то чтобы я прям очень беспокоился о твоей запятнаной чести, но кто-то позавчера говорил, что рыжий — твой любовник.
— Слишком много в моей жизни может измениться за один лишь чертов день, — слова Винсента будто безжалостный огненный шквал обрушиваются на те остатки живой надежды, что еще теплилась в душе Агаты. Все-таки предпочел. Выбрал.
— Извини, если расстроил, — в голосе Винсента звучит неожиданное сочувствие, и удивленная этим Агата бросает на суккуба взгляд. Он полностью сосредоточен на рисовании, поэтому глаза сами сползают к лист бумаги, по которому танцует карандаш.
— Ты издеваешься, да? — свирепо спрашивает Агата, глядя на эскиз собственного портрета. Черновой, с одним лишь овалом лица, еще практически едва обозначенными чертами, но достаточно прорисованный, чтобы опознать.
— Издевался бы — нарисовал бы голой, — бурчит Винсент, — со всеми твоими родинками на заднице.
Агата хватает ртом воздух. На глаза попадается чашка, и только чудом внезапно спохватившейся сдержанности несчастная посудина не летит в голову суккуба.
— Это всего лишь портрет, чего так психовать? — Винсент поднимает глаза на Агату. — Или что, что-то поменялось, и ты вдруг резко перестала быть на редкость смазливой девицей?
Это был комплимент. Грубый, но комплимент. Вот теперь запасы терпения кончаются.
— Карандаш можешь не возвращать, — Агата встает из-за стола, но Винсент ловит её за запястье. Быстрый. Черт его возьми.
— Мне начать считать? — Агата щурится.
— Просто сядь, — спокойно предлагает Винсент. Агата качает головой. Сейчас её уже не обманешь спокойствием. Приручение обычно начинается с подобных вещей. Сначала тебе так предлагают нормальные вещи, чуть позже граница нормальности смазывается, а нормальный тон остается.
— Коллинз, ты как-то совсем идиотично себя ведешь, — тщательно проговаривая каждое слово, пропуская его через себя для большей убедительности, говорит Агата. — Даже если Генри сейчас с другой, то знаешь, Винсент, ты самый распоследний вариант, который я вообще рассмотрю в качестве своего любовника.
— Никто же не предлагает повторять то, что тогда было, — нехотя возражает Винсент, — я же могу по-другому, правда.
— Ни как тогда, ни по-другому я с тобой спать не буду, Коллинз. — повторяет Агата. — И мне не нужна защита Генри, чтобы послать тебя к черту. Меня трясет от одной лишь твоей физиономии, я должна ежесекундно помнить, что все вы равны перед Небесами.
— Все равны, а он равнее? — ядовито ухмыляется Коллинз.
— Это уже мое дело, — Агата резко тянет к себе руку, пытаясь высвободить запястье. Суккуб не только не выпускает её из своей хватки, но и быстрым плавным движением вскакивает на ноги и пальцами впивается в её подбородок, заставляя встретиться с ним глазами.
— А теперь замри, крошка, — звучит его голос в подсознании. Кажется, что Агата падает куда-то в темноту, растворяется, тает, истончается. И лучше бы она потеряла его чуть раньше, может, тогда не врезался бы в память омерзительный момент, когда язык Винсента скользит по её губам.
Затмение (3)
Проводив Агату до общежития, Джон продержался ровно столько, сколько было необходимо, чтобы дойти до своей постели и упасть в неё вниз лицом. Одежду он с себя стягивал, уже уткнувшись носом в подушку и практически провалившись в дремоту.
Нужно бы иногда вспоминать о том, что работа никогда не заканчивается. Нужно завязывать с привычкой не спать по трое суток. К третьему утру окружающий мир становится похож на мультфильм — такой весь из себя нереальный, кажется, протяни вперед пальцы и поймешь, что снующие вокруг тебя люди — всего лишь плоские картинки на белом экране.
Нет, распятие Джули Эберт сложно не запомнить. Джон впервые оказывается свидетелем того, как Агата молится за демона, и честно говоря — это оказывается настолько вдохновляющее зрелище, что даже молчаливый Кхатон изводил Агату вопросами битый час, пока Артур оформлял для Джули документы. Потом Агате и Джону удалось сбежать.
Сон накрывает Джона тяжелым, темным крылом. Когда хватает силы проснуться, в комнате уже кромешная темень. Вряд ли он проспал пару часов — слишком бодро себя чувствует. Значит — примерно сутки. Некоторое время Джон пытается сообразить, почему вообще проснулся, а затем слышит стук со стороны внешней двери.
Кто вообще может прийти к нему посреди ночи? Артур или Анджела? Нет, они не приходят сами, у них для срочных вызовов есть знаки. Джон торопливо одевается, открывает дверь уже практически застегнув рубашку до горла.
Агата бросается к нему, торопливо всхлипывая, вцепляется в рубашку. От её волос пахнет холодным ночным воздухом. Сказать, что это неожиданный визит — ничего не сказать.
— Рози, — оглушенно выдыхает Джон, опуская ладони на её спину. Девушка напугана, дрожит, плечи трясутся. — Что-то случилось? — Агата вцепляется в него еще крепче, будто боясь отвечать. Если бы еще мир не вспыхивал в пламени от горизонта до горизонта, всякий раз, когда она это делает. Если бы еще было легко держать свои руки выше «ватерлинии» талии. Чертовски сложно не быть Хартманом, не срываться в пропасть чувств, когда рядом именно тот человек, который только и имеет значение. С ней рядом и дышать-то спокойно сложно.
— Рассказывай, — осторожно требует Джон, когда всхлипы становятся чуточку тише. Касается раскрытой ладонью кудрявого затылка, успокаивающе гладит Агату по волосам.
Агата затихает, втягивает воздух.
— Коллинз, — через силу произносит она. Джон прикрывает глаза. Черт. Вот ведь. Вот ведь повезло отмолить именно этого суккуба.
— Что он сделал? — тихо спрашивает Джон Миллер, пытаясь напомнить себе, что он вроде бы архангел, Орудие Небес, и методы кровавых расправ ему обдумывать не должно. Обычно этот метод срабатывает. Ну, когда Агата не прибегает к нему в слезах. Не так уж часто она вообще прибегает к нему в такие моменты.
— Я только с Лазарета, — Агата отстраняется, ежится, будто спохватившись, что пресекла какие-то границы.
— Отравил? — в душе холодеет. Бессмертные души часто оказываются отравлены демоническим ядом, тот же Джон уже даже не один раз оказывался в Лазарете, где его душе вновь придавали форму. И честно говоря, это были неприятные воспоминания. Это было не просто забвение. Отравленная душа будто оказывалась в плену своих худших кошмаров, отразившихся в очень кривом зеркале.
— Господи, — Агата обхватывает себя за плечи, — как же мерзко это все.
Джон пытается не представлять, что могло одолевать в кошмарах её. К сожалению, именно это он представляет особенно ярко — слишком уж много о ней знает. Она похожа на маленького напуганного птенца, и смотреть на неё сейчас и не чувствовать нежного сочувствия невозможно. Джон притягивает Агату к себе, пытаясь спрятать в своих руках от страхов.
Пальцы девушки нервно скользят по его рубашке. Кажется, страхи на краткий миг отхлынули, но настроение Агаты выравниваться не торопится.
— Я тебя разбудила? — тихо спрашивает она, и Джон фыркает.
— Ты еще извинись за это, — со всей иронией, что сейчас наскреблась по сусекам, замечает он, — давай, вслух — прости Джонни, что приперлась порыдать тебе в рубашку, тебе это было невыносимо сложно.
— А может, и вправду сложно, — Агата опускает взгляд. Джон осторожно скользит пальцами по её подбородку. Он любит смотреть в её глаза. Такие светлые, ясные, яркие.
— Хорош бы я был в таком случае, — шепчет Джон. Ему хочется спохватиться, хочется чуть ослабить объятия, но… но нет. На самом деле, не так уж и хочется. Агата замирает, как напуганный зверек, не отводя от него взгляда. Нет. Нет-нет.
Джон и сам понимает, что не удержится. Нужно — ведь черт возьми, это совершенно не по-дружески, это так неуместно сейчас, когда она напугана, только-только отошла после нападения суккуба, но…
Но он смотрит в её глаза, прижимает к себе и понимает, что еще секунда, и он уже не сможет отступить. Дает себе последние секунды спохватиться, опомниться. Три последних удара сердца до падения.
Раз.
Два…
Агата целует его сама, и это самое оглушительное событие в жизни Джона за последние несколько лет. Все, что он сдерживал столько времени, откладывал на потом, отодвигал в темный уголок души, сейчас скручивается в груди, поднимается в ураган.
Мир начинает измеряться лишь секундами соприкосновения губ, и в каждое новое мгновение дышать и не задыхаться становится все тяжелей. Что это? Затмение? Она напугана настолько, что готова на все, лишь бы забыться? Нет. Нет. Не она. Она не такая. Она куда сильнее, чем может показаться.
Опомниться? Нужно опомниться? Нужно? Сейчас? Джон замирает на краткий миг, замечая лишь, как мало времени ему понадобилось, чтобы уложить Агату на сбитое одеяло, накрыть её собственным тяжелым телом. Нет, никуда не делся душевный повеса Джона Миллера. Никуда. И ему нужно столь немногое, чтобы дать о себе знать. Единственное, что сейчас кажется играет против Джона — светоч, и Джон гасит его, укутывая и себя, и Агату в темноту. Ему не обязателен свет. Он и так знает, что она восхитительно хороша.
— Скажи, что мне надо остановиться, — тихо шепчет Джон в её полураскрытые губы. Дает ей последний шанс. Последний шанс на то, чтобы отступить. Сам он отступить уже не сможет.
Агата молчит, тихонько мотает головой, а потом снова тянется к его губам, снова заставляя мир содрогнуться. Гася каждым своим поцелуем очередную звезду. И чем темнее в душе Джона — тем сильнее он раскаляется. Он ждал этого, столько лет ждал…
— Рози, моя Рози, — чем дальше Джон падает в пропасть собственных чувств, тем больше забывает себя. Он и сам не верит, что сейчас расстегивает пуговички именно на её платье, что именно её руки скользят по коже его спины под рубашкой.
Жарко, так, что кажется, от её касаний слезет кожа. И с каждым поцелуем сердце в груди скручивается во все более заковыристый узел сладкого желе. Хрупкое, нежное тело. Кожа бархатистая как цветочные лепестки. Она и вправду похожа на свежую розу. Сколько раз его пальцы наталкивались на её шипы, и неужели наконец-то она ему поддается?
— Джо…
От собственного имени из её уст душа будто обливается медом. Лишь она его так зовет. Лишь она. И больше никого ему не нужно. Он смертельно боится услышать «не надо», тогда ему придется — придется соскребать со стенок души остатки джентльмена и отрываться от неё. От этого безумно нежного тела, от восхитительных губ.
Нет. Она не говорит. Он не слышит. Тишина вокруг вибрирует, дрожит, будто подчеркивая таинство происходящего.
Невозможно забыть, как ласкать женщину. Невозможно истереть это из памяти, хотя Джон не особенно и пытался, тем более что он отчасти и гордится этим опытом. Агата пытается сдержаться, пытается не выглядеть распущенной, вот только Джона это скорее забавляет. Она прямо-таки дрожит, когда он касается её тела, скользит пальцами по гладким бедрам. Дрожит, пытается сжаться, но Джон накрывает её рот губами, снова заставляя её ослабнуть. Нет, милая, сейчас ты уже не сбежишь. Раз ты здесь, раз ты сама этого захотела — игру нужно доиграть до конца.
Последний раз Джон замирает за секунду до того, как толкнуться в нежное лоно. Она обхватывает его ногами, он придерживает её ладонями под бедрами. От первого же мгновения внутри неё изо рта вырывается хриплый вдох.
— Рози!
Она выгибается ему навстречу. Губа прикушена, будто она держит при себе крик.
Черт возьми, как же хочется заставить её кричать. И он заставит. Джон двигается в ней медленно, во многом сберегая ощущения. Не так и сложно получить удовольствие самому, но каждый миг обладания ею хочется растянуть на вечность. Сладкую, кипящую вечность.
От подобных ощущений легко обезуметь. По крайней мере Джон себя сейчас чувствует абсолютно выжившим из ума. Ну же, Агата, хоть один стон. Пожалуйста, хоть намекни, что тебе хорошо.
Она держится, она молчит. Будто нарочно. Жмурится, подается ему навстречу, чтобы он проник в неё еще глубже, еще теснее сжимается, чтобы усилить удовольствие, но молчит, молчит. Джон приникает к её губам, не давая её вновь прикусывать их и гасить в себе звуки. И да, он слышит их — тихие стоны, приглушенные их губами, звучащие всякий раз, когда он снова толкается в её нежную глубь. Ей хорошо! Хорошо!
Он готов трепетать над ней сам, он готов шептать о своей любви, каждый миг, каждую секунду этой ночи. Никого нет в мире, лишь она. Ласковая, чувственная. Голову кружит упоением. Столько времени Джон её не торопил, столько раз отстранялся, отпускал, позволял ей делать ошибки. Все ради этого, ради того, чтобы она сама, сама пришла к нему, сама согласилась, сама прижалась к нему.
— Маленькая моя.
Она проигрывает. Он вырывает из её губ стон за стоном. С каждым разом все более сильные, с каждым толчком в её жаркое тело. Она пытается сражаться, она даже прикусывает его губу, заставляя мир перед глазами Джона полыхнуть фейерверком, но её поражение слишком очевидно.
Джон ускоряется, ощущая, что не так уж много ей осталось — с каждой секундой она подается к нему все с большим порывом, её крики становятся глуше, сильнее, пальцы все безжалостней впиваются в его спину. С каждым мгновением забвение становится все сильнее, все острее сжимает его разум в свои сладкие тиски.
— Рози!!!
У него нет сил шевельнуться, он так и замирает, чувствуя, как в сладких спазмах удовольствия корчится вся его душа. Он так и накрывает тело Агаты своим, лежит на ней, уткнувшись губами в шею под её ухом. Она тихонько дрожит под ним, выдыхая после собственной разрядки. Теплая.
Джон не хочет думать. Ни единой мысли. Ни о завтра, ни о потом. Ни слова. О завтра он будет думать завтра. Сколько времени прошло? Толком и не ясно, за окном как была темнота, так и осталась. Но усталость, вроде бы отступившая, вновь наваливается на тело, вновь напоминает о себе.
— Приятных снов, милая, — тихо шепчет Джон, притягивая Агату к себе. Кажется, он слышит её тихий всхлип перед тем как забыться. И это ему не нравится.
Затмение (4)
Когда посреди ночи Генриха вдруг выбрасывает из сна голод — он не удивляется.
Он вынес день без экзорцизма и прогрева, ни с кем не сцепился, не искусился затащить Джул в постель и на момент воссоединения с этой самой пустой постелью был собой доволен.
Вот только этот день оказался невыносимо скучен. Отчаянно хотелось хоть чего-нибудь яркого. К примеру, обменяться колкостями с тем же Миллером. Не бог весть какое развлечение, но среди унылости этого дня сошло бы и оно. Но нет, Миллера нет, Агаты нет. После обеда не появляется на работе даже Винсент. Генрих не узнает почему — если суккубу понадобился срочный прогрев или экзорцизм, то не Генриху о том беспокоиться. Джули казалась невозмутимой в течение дня, спокойно разбиралась с работой, больше не предпринимая попыток сближения. Генрих ей за это был очень благодарен.
От голода сводит сущность. Наверное, стоило сожрать в течение дня что-то кроме просфоры, но сегодня Генрих держал себя практически на эмоциональном посту. Завтра — прогрев и экзорцизм. Прямо с утра. По отношению к себе это довольно жестоко, но демону не должно давать лишний шанс поднять голову.
Но сейчас — еще не утро, а все тело будто сводит от голодного нетерпения, будто боевая форма демона сама рвется в бой, на охоту, на жатву… Приходится отступить от сегодняшних правил на шажок. Два сандвича голод не успокаивают, ему нужны не эмоциональное утоление, но материальное. Просфора, как это ни печально, кончилась.
По идее, у штрафников должен быть на месте дежурный экзорцист, но Генрих отодвигает эту мысль до утра. Хочется дотерпеть. Обойтись без экзорцизма хотя бы сутки.
Что делать? Что бы сделала Агата? Что бы посоветовала?
Мысли об Агате уводят в ненужную сторону, отвлекают. Генрих ощущает, что он смертельно соскучился по ней. Просто даже по тому, чтобы её видеть, не говоря уже о чем-то большем. Интересно, а сейчас успокоился бы голод, явись Генрих к Агате…
Мысль заманчива. Очень заманчива. Генрих даже представляет, как она заспанная, растрепанная, открывает ему дверь, в сбившейся на одно плечо ночной рубашке, а он приникает к её нежным губам. Да. Уже от этого по телу растекается жар. Он по ней изголодался. Не так уж много времени ему для этого нужно. Пары часов и тех достаточно, чтобы ощутить острую потребность сорвать с её губ пару лишних поцелуев. Ничего. Генрих улыбается этим мыслям. Завтра стоит уже наконец вспомнить про сорванное свидание. Причем не позволить абсолютно ничему вмешаться в их планы. Генриху хочется побыть с Агатой наедине, подольше, чтоб было не на кого раздражаться, отвлекаться. Чтоб только он и она, и все то несказанное, что он до сих пор не сказал ей. Про Джона, про прошлую жизнь, про то, что без Агаты Генрих сейчас уже не может.
Нет, мысли об Агате слишком искусительны. Торопиться с ней нельзя. Следует следовать плану. Итак, чем можно занять мысли, если не девушкой? Дорогой девушкой… Черт, а ведь эти мысли в демонической жизни он бы счел слабостью. Ну где это видано, зацикливаться на девице, с которой не так уж и долго и глубоко знаком. Хотя объективно, ему порой кажется, что с ней он знаком даже лучше, чем с собой. Почему-то еще ни разу не возникало ситуации, в которой он не мог бы её понять, она реагировала на происходящее вполне логичным, понятным образом.
Мысли опять свернули к Агате. Вот сложно, чудовищно сложно о ней не думать. Совсем невозможно смотреть на собственные переживания и не смеяться. Ей-богу, как влюбленный пацан…
Влюбленный?
Генрих замирает, оказавшись лицом к лицу с этим словом. Он уже целую вечность избегал слов о любви, если речь шла об отношениях в настоящем времени. Влечение, симпатия, страсть — эти слова его устраивали, во многом потому, что значили не так и много, но почему-то сейчас по отношению к Агате это кажется каким-то никчемным, неподходящим, слабым. Его влечет к ней? Она ему нравится? Если он может описать свои чувства к ней только этими словами, то ему рядом с ней делать попросту нечего. Она достойна большего.
Впрочем нет. Себе об этом говорить бессмысленно. Нужно сказать ей. Её же задели слова про Джули, просто по живому резанули. Ей-то он ничего подобного не сказал…
Голод впивается в тело с новой силой. Генрих упрямо сжимает зубы. Что делать?
Почему-то в голову приходит воспоминание о теплых ладонях, сжимающих его руки, о собственном шепоте, тихом, обращенном Небесам.
Отче Наш… Генриху не хочется сейчас просить помощи, хочется просто занять мозги чем-то, кроме мыслей о чужих душах, чьи силы сейчас могут ему помочь… Сейчас не должно просить помощи, он грешил сам, зверел и дичал самостоятельно, и побеждать себя ему тоже нужно собственными руками. Молитва — это не для помощи. Молитва это для обозначения направления, в котором ему нужно двигаться. Молиться — молись, а свою жизнь меняй самостоятельно.
Когда левую руку сводит судорогой — Генрих еще не дочитал молитвы. Боль сильная, на диво знакомая, на кресте она была именно такой. Слепящей, безжалостной, яростной.
Что это? Реакция сущности на молитву? Реакция Небес? Но ведь с Агатой так не было. С Агатой все было спокойно.
«Возможно, к её молитвам Небеса и вправду более терпимы», — мелькает скептическая мысль, но Генрих все равно заканчивает молитву. Порядок прежде всего. Подумаешь, свело руку, на кресте сводило все тело, от соприкосновения с самим распятием кожу немилосердно жгло, будто раскаленным маслом поливали, и Генрих при этом даже умудрялся оставаться в сознании и доставал сестер милосердия.
Заканчивает молитву, прислушивается к себе. Боль вроде бы притихает, будто втягивается в панцирь, но по-прежнему ощущается. Практически физически. Будто какой-то комок мелких колючих нитей. Кажется, прикоснись к руке — и нащупаешь этот мелкий шарик. Генрих пытается сосредоточиться на этом клубке, тянет его из руки, и неожиданно у него получается. Вот только лучше бы не получалось — боль распутавшимися нитями растекается по всему телу. Она гаснет, практически мгновенно, но, находясь не на распятии, переживать подобные ощущения все равно нереально болезненно.
Нет, что-то не то. Совсем не то. И кажется, в одиночку с этим не разберешься. И с кем из Орудий Небес можно посоветоваться? С Артуром? С Миллером? Последний вариант кажется чуть менее наглым. Все-таки Артура Пейтона Генриху отвлекать своими ерундовыми вопросами не очень хочется. В Триумвирате этот архангел самый древний, кажется, ему даже в голову не приходит мысль о перерождении. Миллер вполне сойдет. С учетом их многолетних «отношений» старый соперник воспринимается гораздо более спокойно. Бояться побеспокоить Миллера? Ну, вообще, должна же быть от него практическая польза не только в экзорцизмах, да? И те, кстати, нужны так часто именно потому, что Джон неумолимо крутится именно вокруг женщины Генриха.
Что становится настоящей неожиданностью, так это нежелание крыльев обретать плоть. Генрих пытается материализовать их снова и снова, но когда с седьмого раза не получается, мысль о том, что «что-то не так», обретает куда более четкие очертания.
Придется идти пешком. Правда, это утро удивляет Генриха чем дальше, тем сильнее, потому что уже выходя из квартиры, он натыкается на подходящую к его двери Джули. Будто невыспавшуюся. У неё тоже что-то случилось?
— Ты куда так рано? — Джули удивленно поднимает тонкие бровки. Стоит ли ей говорить об этой странной боли? О неотзывающихся крыльях? Нет, наверное, нет. Сейчас еще не хватает выказывать слабость, опять поймет не так, опять попробует сблизиться.
— Мне нужен экзорцизм Миллера, — кратко отвечает Генрих, — обостряюсь.
— О, — Джули аж в лице вытянулась, — ничего себе, какой ты сознательный…
— Я просто на крест больше не хочу, — вымученно улыбается Генрих, пока левую руку сводит болью, — ты ко мне?
— Я? — Джули спохватывается. — Ну, да, но ладно, это ждет, раз у тебя такие проблемы. Увидимся на работе?
— Ага, — кивает Генрих и торопливо спускается по лестнице.
Крылья по-прежнему не материализуются, и не очень понятно, что тому причиной. Еще попади сегодня Генрих под экзорцизм — можно было бы понять, он срезает демонические возможности, и чем безжалостней по отношению к порокам демона экзорцист, тем эффективней срабатывает молитва, но нет. Не было экзорцизма. Крылья не материализуются сейчас, после того, как Генрих шевельнул в себе этот странный, непонятный клубок боли. И как же это некстати, потому что пешком до Миллера добираться приходится практически полчаса. По стылому предутреннему воздуху. Среди торопливых ночных работников, которых ничуть не меньше, чем их дневных сменщиков.
Однако, это все радует — отвлекаясь сейчас на людей вокруг, на неприятную боль, что скрутила руку от кисти до локтя, на прохладу воздуха, без особых трудностей получается не зацикливаться на голоде.
Чуть позже, уже когда Генрих стоит у двери Джона и глядит в его глаза, он понимает, что это очень хорошо — что получилось отвлечься от сводящего сущность алчного голода. Потому что иначе на Поле Генрих бы вернулся именно сегодня. Если бы его догнали, конечно.
Генрих впервые за много лет видит на лице Миллера страх. Много разного между ними было, много эмоций мог испытывать Джон при виде Генриха, но страх — нет, это так на него не похоже. Чужой страх — тем более страх Миллера — заставляет хищника внутри Генриха поднять голову. Жадно втянуть в себя воздух. Уже через секунду Генрих об этом жалеет, вот только воздух из себя уже выталкивать поздно. Но обоняние не обманешь. Пусть запах слабый, едва уловимый, но слишком уникальный, чтобы его не опознать. Агата. Агата здесь.
Тело соображает быстрее, чем мозги. Пока голова «складывает два и два», страх Миллера, его пальцы, торопливо застегивающие рубашку, и наличие Агаты в его комнате, и делает нужный вывод о том, в какой именно части комнаты сейчас находится девушка и чем эти двое занимались ночью, вот в это самое время ноги торопливо заставляют Генриха отступать от Миллера подальше. Тело-то знает, что от самого себя можно ожидать. Перед глазами дрожит мир, в кожу ладоней впиваются рвущиеся в боевую форму когти.
— Опять, да, Миллер? — Генрих глядит в глаза соперника, с трудом удерживаясь на месте. Демон внутри рвется наружу, раз за разом пытается швырнуть тело вперед, ударить, протянуть когтями по лицу врагу, вцепиться зубами в горло… Генрих торопливо тянет из клубка боли клочья нитей, впивает их в собственную сущность. Пусть он еще не понимает, что это такое, но это помогает швырять озверевшего внутреннего демона на колени.
Миллер молчит. Ну еще бы. Слишком высокомерен, чтобы оправдываться. Получись тогда все с Сесиль — Генрих бы тоже оправдываться не стал. Но нет. Не получилось. Ни тогда. Ни сейчас. Дежавю. Острое, ужасное, подлое. Спасибо, что хоть не в постели застукал… И хочется сказать Миллеру, что он сволочь, но… Но в отличие от Генриха, Миллер просто никого не ждал. Ничего не ждал.
В глазах Генриха выцветает свет. Черт возьми, как, оказывается, мало нужно, чтобы почувствовать себя настолько чужим этому миру. Даже белое сияние светочей под потолком коридора кажется сейчас невыносимо тусклым, серым.
Нет.
Нужно уйти.
С каждой секундой ярость в груди скручивается все в более тугой клубок. И внутренний источник боли с ним скоро перестанет справляться. Уже с минуты на минуту. Вспышка будет жестокой, лютой, очень вероятно, что из этой сладкой парочки целым никто не уйдет. Миллер, может, и хороший экзорцист, но у Генриха толстая шкура. В боевой форме ему не сложно игнорировать святой огонь Миллера, не то что силу слабенького, неокрепшего Орудия Агаты Виндроуз. Она еще слишком слаба, чтобы оказать достойное сопротивление именно Генриху.
Хочется сказать что-то на прощанье. Ей. Все, о чем так и не получилось ей сказать. Все, что сейчас уже теряет всякий смысл. Но не она смотрит сейчас в глаза Генриху, не она стоит в открытой двери, напряженная как струна.
Пальцы сжимают ключ-жетон. Генрих прикрывает глаза, проваливаясь сквозь измерения, будто погружаясь в кисель. Смертный мир бьет в лицо потоком холодного воздуха. Это не помогает, не отвлекает, не побеждает бушующий в душе пожар. Кажется, что Генриха освежевали, содрали кожу и вышвырнули подыхать в таком состоянии.
«Я ни к кому не смогу относиться так же, как к тебе»
Какая же это, оказывается, восхитительная ложь.
Она его предала. Агата его предала…
Почему? Почему она это сделала? Что вообще случилось такого? Как Миллер добился своего? Много ли нужно было сделать? Она уже пошатывалась в его сторону. Теперь — упала окончательно. Значит… Значит, Генрих ей и не был нужен. Она казалась такой близкой еще час назад, сейчас их разделяет целая вселенная.
Стальной ключ-жетон благодаря демоническим мускулам рвется пополам будто бумажный. Все. Он не сможет вернуться и кому-то навредить. Ей навредить не сможет. Пути назад тоже нет. Осталось только понять, какие пути остались.
Осколки (1)
Когда начинает покалывать знак «альфа» на запястье, Агата стоит под горячим душем, надеясь, что раскаленные струи воды смоют не только слезы, текущие по её лицу, но и её саму, состоящую из какой-то совсем непотребной грязи.
Она помнит каждую секунду вчерашнего вечера. Каждый чертов поцелуй. Каждое чертово прикосновение рук Джона — нежных, ласковых рук, она помнит все это даже слишком хорошо, и от этого хочется выть особенно надсадно. И объяснений произошедшему у неё так и не появилось.
После того как спустя семь часов после отравления её душу очистили от яда Винсента, после того как она вновь обрела форму, вновь глотнула воздуха, когда боль, выворачивающая душу наизнанку, отступила, и страхи, захлестывающие безжалостными волнами, перестали казаться настолько правдивыми — тогда было слишком страшно оставаться одной.
Почему она не пошла к Генри? Ведь это как раз было самым понятным и объяснимым действием. Ведь именно рядом с ним она всегда чувствовала себя в абсолютной безопасности. Сейчас Агата понимает, что вряд ли стоило верить на слово Винсенту, который наплел ей про Генри и Джули. Почему она понимает это только сейчас? Почему не поняла вчера? Почему она, тысяча чертей её дери, пошла и переспала с лучшим другом?
Это бы и хотелось списать на яд суккуба, на какое-то нетрезвое состояние ума, но нет, не было никакого тумана в голове. Агата даже слишком четко помнит, как сама потянулась к губам Джона, как сама отказалась останавливаться, когда он ей таковой шанс предоставил. И от того становилось еще более мерзко на душе. Так ли уж неправ был Винсент, именуя её «подстилкой»? Подстилка и есть, раз в голове так ничтожно мало зацепок для принципов.
Что ей делать — Агата пока не очень представляет. Все, на что ей пока хватило решимости, — это признаться Джону, черт возьми, теплому, искреннему Джону, что она вчера думала не головой… И нет, Джо, так не надо было, это не знак судьбы. Сложно описать, насколько кипучие, разочарованные глаза были в этот момент у Джона. И все, на что хватило Агаты, — сбежать от этой его обиды, выдавив напоследок жалкое «Прости». Будто был в этой просьбе о прощении хоть какой-то прок. Будто могла она хоть на каплю скрасить его боль. Была в этом побеге особенная подлость — ударить, ранить в самую душу, а затем покинуть место преступления, чтобы раненый справлялся сам. Но как она могла исправить ситуацию? Она не могла ответить Джону взаимностью, не могла ему лгать. Черт возьми, она сегодня даже не посмела к нему прикоснуться, тронуть за плечо, до того пусто и холодно стало между ними. И да, все было понятно. Потому что так вышло, что Агата прошедшей ночью Джона жестоко обманула. Дала тот аванс, который давать ни в коем случае не стоило.
— Я не думал, что ты можешь вот так… — тихо сказал Джон напоследок, и все, что хотелось Агате, — отхлестать саму себя по щекам. Возможно, от пары пощечин ненависти к себе в её душе поубавилось бы. Но нет. Никто не спешил марать об неё руки, никто не спешил облегчать ей судьбу. И правильно. Это было жестоко и справедливо — швырнуть Агату в черные, удушливые объятия презрения к самой себе. Если бы она была суккубом, если бы Джон был хоть чуточку менее серьезен в своем к ней отношении — наверное, было бы проще. В принципе, существовать без каких-то моральных ограничений просто. И единственное, что хоть как-то сейчас утешало — так это осознание того, что если Агата сейчас понимает всю омерзительность собственного поведения, значит, не все еще потеряно, и когда-нибудь она может и сможет называться достойным человеком. Правда, сейчас кажется, что вряд ли это вообще когда-нибудь наступит.
От дресс-кода сегодня придется отклониться, вместо блузки Агата надевает плотную темную водолазку с длинными рукавами. Хотя скрыть следы от собственных зубов на тыльной стороне запястья это все равно не помогает. Синяками изукрашена вся рука, на ней не было ни единого живого места. Это помогло сдержать в себе большую часть рыданий, удержало от того, чтобы стечь в жалкую кучку соплей от удушающей выматывающей истерики. Как ни крути, а натура у Агаты просто восхитительно жалкая, чуть что — принимается рыдать. Даже когда не хочешь плакать, не хочешь быть слабой — никак не можешь повлиять на ситуацию, приходится вытаскивать себя из этого слезливого болота.
Чтобы подняться на два слоя выше, Агате приходится спуститься к дежурному вахтеру. Её жетон при сборе её души не нашли, а новый нужно брать у Артура, раз уж Агата сейчас числится закрепленной за штрафным отделом. Зачем её жетон понадобился Винсенту, было не очень понятно, у него был свой, но факт оставался фактом. Вчера на слой стражей Агата поднялась при помощи Кхатона.
На людях держать себя в руках проще. Душа выстывает, откладывая самоуничижение на второй план. Поэтому, заходя в кабинет Артура Пейтона, Агата даже не вздрагивает, замечая Джона. Тот на неё тоже не реагирует. Не бросает даже скользящего взгляда, и лицо его совершенно неподвижно. Сердце снова болезненно сводит чувством вины, снова щиплет в глазах, поэтому Агата торопливо отводит от Джона взгляд.
— Что случилось? — осторожно спрашивает она.
— У ваших подопечных три неявки из четырех, — Артур приподнимает голову, отрываясь от бумаг, — и на знаки они не отвечают.
Мир продолжает рассыпаться, растекаться, рушиться будто песочный замок под морскими волнами. Вся её работа вдруг оказывается какой-то хрупкой, бессмысленной, и сама Агата чувствует себя на грани сознания, тихонько сползая в кресло у стола мистера Пейтона.
— Кто? — произносят пересохшие от волнения губы. Только бы не…
— Коллинз, Хартман и Эберт…
Агата с трудом слышит что-то после фамилии Генри. Он сбежал. Он все-таки сбежал…
— Что-то уже известно? — Агата пытается говорить не измученным тоном. Получается. Плохо, но получается — голос все равно подрагивает, но хоть не срывается так, как мог бы.
— У Хартмана отрицательная динамика, — голос Артура практически стерилен, — но я в ней разбираюсь, динамика странная.
— Как может быть странной отрицательная динамика, — с легким раздражением интересуется Джон. Агата не хочет подозревать его в предвзятости, не хочет, но… Нет, он просто опасается. Имеет обоснования. Имеет же?
— Может, — рассеянно отзывается Артур, — я вижу смягчающие коэффициенты. И факты.
— Какие к черту факты, — вспыхивает Джон, — он сбежал. Сорвался. Чего ты тянешь, Артур, если пора начинать на него облаву.
Паника накрывает Агату черной пеленой. Облава. Для Генри это значит только одно — его вернут на Поле, а в случае оказанного сопротивления — Орудия могут отправить его в ад. Если им только покажется, что задержание Генри невозможно. И все это… Все это с ним из-за неё…
Все это утро от мыслей о Генри было даже слишком черно на душе. Степень вины перед ним, перед чувством к нему не измерялась никакими рамками. Именно из-за вины перед Генри Агата приводила себя в чувство болью. Потому что это было, пожалуй, самое страшное предательство в её жизни. С учетом того, как Генри и Джон вообще взаимоотносятся друг к другу — еще и подло бьющее по больному месту. Возможно, не стоит самообманываться, но, судя по реакции Генри на произошедшее, — он ей все-таки дорожил. Видимо, очень сильно, раз покинул Чистилища после произошедшего. И это делает вину Агаты еще более невыносимой.
— Анджела тоже требовала начать облаву, — спокойно замечает Артур, не отрываясь от бумаг, продолжая что-то в них высчитывать, — я наложил вето.
— И какое же у тебя обоснование? — свистящим шепотом интересуется Джон. — Почему ты решил, что с Хартманом стоит ждать?
— Джон, я вообще могу ничего не объяснять, — Артур пожимает плечами, — ты знаешь, что это право у меня есть. Ты знаешь, насколько редко я к нему прибегаю. Анджела тоже была недовольна, но как видишь — согласилась.
— Я вижу, что её тут нет, — устало отвечает Джон, кажется, испытывая желание уже окончить бессмысленный спор, — но все-таки я хочу знать причины. Ты запретил начать розыск и Эберт? И Коллинза?
— Нет, — Артур качает головой. — Коллинз сбежал вчера, да еще и отравил душу Орудия Небес, у Эберт вообще куда более сложная ситуация, и она украла чужой жетон для побега. Здесь я не буду спорить с розыском. Пусть Анджела хоть всех ищеек по следу пускает.
— Вето предполагает, что как минимум неделю мы не будем поднимать вопрос Хартмана, — продолжает Джон, — но разве через неделю он по прогнозам не окажется слишком силен, чтоб мы смогли с ним совладать?
— Пять Орудий? — скептически уточняет Артур. — Вчетвером когда-то совладали, а впятером не совладаем?
— Я не уверен, что она нам поможет, — сердито произносит Джон, бросая взгляд на Агату, и от его резкости Агату накрывает еще сильнее, — её сила еще совершенно не раскрыта. Её отравил суккуб. Она слишком уязвима, а к Хартману — еще и предвзята.
— Значит, наша задача — раскрыть потенциал мисс Виндроуз, — невозмутимо отзывается Артур, — и чтоб ты понимал, Джон, прогнозы ошибаются. Хартман уже практически на пике своей демонической формы. День-два ничего не изменят.
— Кроме количества пострадавших душ, — Джон несогласно качает головой. — Разве они у нас не в приоритете?
— К твоему сведению, — сухо замечает Артур, — Хартман с момента побега не отравил ни единой жертвы.
— Времени у него было немного.
— У него было достаточно времени, — отрезает Артур, — достаточно для того, чтобы уничтожить ключ-жетон, сцепиться с бандой бесов, отделать их до такого состояния, что защитники мисс Свон даже спустя некоторое время смогли арестовать их без сопротивления.
— Мне мерещится «но» в твоих словах, — в тоне Джона сквозит усталый интерес.
— Но при этом Хартман не тронул ни душу, из-за которой сцепились бесы, ни сборщика, который эту душу должен был забрать, — кажется, Артур уже устал что-то объяснять, — вот как хочешь, Джон, но вето вы можете оспорить только в случае, если появятся жертвы.
— Ты что-то недоговариваешь, — Джон раздраженно отмахивается, будто понимая всю бессмысленность происходящей беседы, — но раз уж ты все решил, позволишь мне уже заняться работой?
— Да, разумеется, иди, — Артур кивает, — и извини, что задержал.
Агата шевелится, ловит взгляд Артура и замечает, как он качает головой. Ей уходить пока не стоит.
Когда Джон уходит — в кабинете Артура становится тише. И спокойнее.
— Не могу не заметить, что вы на себя не похожи, мисс Виндроуз, — Артур смотрит на Агату пристально, изучающе, — и не все объяснимо последствиями отравления. Вы совершенно не спорили с мистером Миллером, а ведь могли бы. Я же знаю, что за своих подопечных вы очень сильно переживаете.
— Я… — Агата едва находит в себе силы заговорить, — я сейчас не уверена, что могу быть объективна.
— Мисс Виндроуз, объективность — это иллюзия и самообман, — мягко улыбается Артур, — но защитник демонов — вы, не я. Если бы у меня не было причин защищать свободу Хартмана — кто бы его защитил, если вы сдались без боя?
Агата виновато опускает взгляд. Да, ей действительно стоило найти в себе силы спорить с Джоном. Защищать Генри. Потому что дело же не только в том, что он для неё безумно дорог, дело и в том, что он действительно изо всех сил пытается победить в борьбе с самим собой. Но нет. Не спорила. Боялась услышать обвинение в предвзятости. Боялась снова обидеть Джона. И предала Генри еще раз.
— У вас померкшая аура, — Артур произносит это, будто медицинский диагноз, — возьмите отгул, юная леди, и желательно вам сегодня молиться исключительно о себе. Яд суккуба очень токсичен. Душу после него восстановить в её форме легче, но окончательное исцеление занимает время.
— Не уверена, что смогу сегодня находиться в одиночестве, мистер Пейтон, — устало возражает Агата, — мне бы лучше заняться работой, потому что…
— Вы мне можете не объяснять, — осторожно замечает Артур, — изменения в счете Хартмана связаны с вами. Я уже изучал и вашу кредитную статистику, и статистику мистера Миллера.
У Агаты вспыхивают щеки. Хотя нет. У Агаты вспыхивает все. От стыда хочется немедленно сгореть, желательно до пепла.
— Я вам настойчиво советую, мисс Виндроуз, — аккуратно произносит Артур, — просмотреть статистику мистера Коллинза внимательно. Обратить внимание на коэффициенты.
— При чем тут это, — Агата удивленно поднимает глаза.
— Вопреки всему моему опыту, — медленно отвечает Артур, — я не очень сведущ в вопросах побочных действий суккубьего яда. Я знаю о их наличии, но не о действии. Сами понимаете, сколько у нас было суккубов, готовых к сотрудничеству. У мистера Коллинза в записи об отравлении вас указаны дополнительные отягчающие коэффициенты. Небеса не дают мне пояснений, почему они видят в этом преступление. Но видел я и то, что ваша… легкомысленность… была в ноль сведена другим коэффициентом. Небеса убеждены, что выбор, сделанный вами, — не был вашим.
Наверное, Агате должно быть от этой мысли легче. Так хочется уцепиться за неё, оправдать себя, сбросить с плеч невыносимый груз вины. Но слабовольно этим оправдываться. И в любом случае последствий не отменит, даже если окажется, что Артур прав.
— Вы за этим просили меня остаться, мистер Пейтон? — вымученно Агата пытается улыбнуться и вернуться к деловой стороне вопроса.
— Нет, — Артур качает головой, — не за этим.
Так она и думала…
Осколки (2)
— Вам помочь?
Генрих чуть приподнимает голову, поворачивается к монашке, которая на него смотрит. Пожилой, благообразной монашке с потрясающе сильным запахом, который не перебивают даже ароматы церковных масел.
— Нет, спасибо, сестра, — механически улыбаются его губы, и он снова затихает, утыкаясь лбом в спинку стоящего впереди кресла. В конце концов, чтобы слушать гимн, ведь совершенно не обязательно сидеть прямо, да? Генрих немыслимой силой игнорирует чутье и вообще дышит ртом, лишь бы не вдыхать лишний раз человеческих запахов. В церкви легче, тут со всех сторон святые символы, они давят голод. Тут все пропахло благовониями, толком и не разберешь, где на самом деле запахи душ. Вечером придется уйти, оказаться на темной улице, перекинуться в боевую форму, потому что чертово тело в смертном мире испытывает дискомфорт от холода и голода. Идиотские условности. Ладно. Ночь он перетерпит. А потом снова найдет какую-нибудь церковь, будет плавиться мозгом, слушая гимны и проповеди, и пытаться обмануть чутье. Как там говорил Кхатон?
«Голод — есть ощущение смертной оболочки. Его возможно игнорировать»
Хорошо ему, наверное, бросаться такими громкими заявлениями. Даже если допустить, что эти ощущения «фантомные», чувствуются они вполне себе по-настоящему. Да, Генрих в курсе, что не должен испытывать голод физическим телом, просто потому что телом он уже умер и, по идее, должен бы не зависеть от физиологии. Но души в Чистилище тоже питаются, тоже не могут пойти против своей природы, привыкшей к системе. И это души, у которых нет демонических меток, демонических особенностей, и голода демонического у них нет. А что делать Генриху, как ему отрешиться от материальной оболочки, в то время как это вполне себе часть его сущности?
Над ухом снова покашливают. Кажется, он все-таки напрягает монашек. Пора уходить. Генрих выпрямляется, вновь оборачивается в сторону собеседника и видит перед собой Артура Пейтона. В опущенной руке архангела — рапира, и Генрих прекрасно знает, что это такое и зачем оно вообще нужно.
— Пойдем поговорим, — Артур кивает в сторону выхода из храма. Что ж… Генрих не обманывался. Скрываться вряд ли удалось бы долго. Однако, вопреки его ожиданиям на улице его не встречает Триумвират во всем его Орудийном блеске. Лишь только люди с их чертовыми запахами, так обостряющими чувство голода.
— Пойдем-ка туда, присядем, — Артур шагает к летней веранде какого-то кафе. В Лондоне сейчас вполне себе май, и Генрих находит это неплохим стечением обстоятельств, в конце концов, окажись на улице декабрь, пришлось бы дольше гулять в боевой, неуязвимой к холоду, но вечно голодной, куда более зависимой от инстинктов форме.
Артур опускает рапиру прямо на стол, бросая рядом и небольшой тканевый сверток.
— Вопрос — что мешает мне отправить тебя в ад прямо сейчас, если достаточно одной царапины этой дрянью, и плевать, что ты архангел? — скептически интересуется Генрих, разглядывая резьбу на костяной рукояти. Ведь и правда ничего не стоит, один лишь небольшой рывок, и ключ от ада в руках Генриха. Когда-то он даже фехтовал. Вечность назад.
— А вот на этот вопрос ты мне ответь, Генри, — мягко улыбается Артур, — что тебе мешает, а?
Идиотский вопрос. С идиотским ответом, который Генрих уже говорил для Триумвирата. Он не хочет на поле больше. Именно эта мысль заставляет его держаться, именно ею он руководствуется сейчас, когда нужно изобрести альтернативные экзорцизму методы контроля голода.
— Тебя кто-то страхует? — скептически спрашивает Генрих, окидывая взглядом улицу. — Миллер сидит где-нибудь на крыше и ждет лишней возможности меня поджарить?
— Нет, — Артур практически смеется, — я вообще не предупреждал Триумвират об этой встрече.
Вообще-то он может лгать. Очень даже легко. У него нет запаха, да и по спокойной непроницаемой физиономии сложно считать больше, чем Артур хочет, чтобы с него считывали. Но почему-то Генрих не сомневается в искренности Артура. Он здесь действительно один. И почему-то его действительно не волнует, что Генрих может рискнуть и завладеть самым опасным оружием, данным Небесами архангелам. Демон с ключом от ада… Вообще, это довольно жутковатая картинка, ведь при помощи этой рапиры путевки в ад выписываются мгновенно, без суда и следствия. И никаких апелляций, одна царапина — и до свидания.
— Ты что-то хочешь, Пейтон?
— Это тебе, — Артур пододвигает сверток к Генриху.
— У меня вроде не день рождения, — Генрих морщится, но разворачивает. Просфора. Чертова куча просфоры.
Практически сутки голодовки сказываются, первые две лепешки Генрих глотает, практически не жуя. Спасибо Пейтону, что не пялится на демона во время еды, Генрих мог и подавиться от косого взгляда.
— У меня цифры не сошлись, — задумчиво произносит Пейтон, глядя на торопящихся мимо людей.
Генрих молча жует, ожидая продолжения. Медленнее, медленнее, еще медленней!
— Анджела принесла мне семь ордеров на задержанных бесов, — Артур действительно продолжает, — но по твоей кредитной сводке от твоих рук пострадали трое. Причем один из них сбежал, потому что его фамилии в ордерах нет. Получается, всего их было восемь. Как ты обезвредил пятерых? Да так, что они скулили и не могли шевелиться аж до появления патрульных.
Сложный вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нужно вспомнить первый час в смертном мире, когда демон рванулся изнутри, будто взведенная пружина. Когда всю сущность Генриха наизнанку выворачивало от боли и ярости. Стоп. Не думать о причинах. Так проще. Вечно, конечно, игнорировать этот вопрос не удастся, но кажется, говорят, что время лечит. Вроде правду говорят, кому как не Генриху знать об этом.
— Так как, Хартман, — деловито повторяет Артур, — и почему с прошлой ночи у тебя пассивный коэффициент уменьшения кредита появился? Что с тобой произошло ночью?
Объяснить сложно. Генрих действительно не знает, как это объяснить. Проще показать. Впрочем, он не уверен, что у него получится.
Клубок боли по-прежнему легко ощущается, только теперь не в руке — в груди, на уровне сердца. Постоянного беспокойства он не причиняет, лишь если о нем вспомнить, обратить внимание. Генрих тянет изнутри клубка тонкий клок, самый маленький, слабый — в конце концов, это не просто боль, это боль распятия, а Артуру вроде как и чувствовать-то её не за что, а затем демон касается раскрытой ладони Пейтона одним пальцем, через который и проводит линию боли.
Артур аж вздрагивает, отдергивает ладонь. Нет, не ошибка. Он это чувствует.
— Что это? — тихо спрашивает он, растирая руку.
— Не знаю, — Генрих пожимает плечами, — во время драки я этим… взорвался. Безумно злился на идиотов, которые совершенно не понимают, что их ждет за их грехи. Хотел донести до них эту прекрасную истину. В наивной надежде, что это их урезонит.
Генрих не добавляет, что после этого «взрыва» и его тело оказалось скручено болью. Просто для него она была привычна и не ослабила настолько сильно. Зато в душе после вспышки стало блаженно пусто — гнев будто притух, прогорев до пепла. Артур смотрит на Генриха как на произведение искусства.
— Потрясающе, — он недоверчиво качает головой, — и ты это… чувствуешь? Постоянно?
— Не постоянно, слава небесам, а то уже озверел бы, — Генрих снова отстраняется от ощущения «клубка», и боль действительно исчезает.
— Вы готовы сделать заказ? — сбоку подходит девушка. Генрих практически принудительно заставляет себя не смотреть ни на голые ноги, ни на откровенный вырез блузки. Это слишком для того, чтобы демон внутри не начинал заинтересованно шевелиться. Ублюдская сущность. Даже когда тошно задумываться о подобных вещах, она все равно норовит задуматься.
— Спасибо, нет, юная леди, — отмахивается от официантки Артур… И девушка отходит.
— Она тебя видит? — Генрих поднимает взгляд. Артур равнодушно пожимает плечами.
То, что официантка видит Генриха — нормально. У него достаточно сил, чтобы неделями шляться по смертному миру в материальной форме. То, что официантка видит Артура — не может не вызывать вопросы. Этим приятно занять мысли. Хоть чем-то, лишь бы вытеснить эту опостылевшую тоску.
Душа по-прежнему опустошена и будто бы надсадно ноет, требуя, чтоб её чем-то заполнили. Нет уж. Не будет он потакать этому желанию сейчас. Уж лучше пустота, чернота, холод.
— Занятно, — Генрих задумчиво ломает зубочистку, — к слову, Арчи, а почему ты единственный архангел, чей дар воздействует на смертный мир?
— Тебе насколько еды хватит? — Артур слегка ухмыляется, но на вопрос отвечать явно не собирается.
— Ты не потащишь меня обратно? — удивленно уточняет Генрих. На самом деле он долго ждал, когда поднимется этот вопрос, потому что именно в тот момент пришлось бы делать ноги. Обратно Генрих не хочет.
— Зачем? — Артур пристально смотрит на Генриха. — Ты же знаешь нашу политику — мы ни к чему не принуждаем. Наша задача при работе с демонами — помогать справляться с голодом. А работать или нет — вы решаете сами. И где работать — тоже сами решаете.
— Разве я не нарушил испытательный срок? — скептически замечает Генрих. — Не пришел на явку, подрался, все такое…
— Генри, — Артур вздыхает и смотрит на демона, как на первоклассника, — я писал условия испытательного срока для бесов. Не для исчадий ада. Бесы гораздо более управляемы, им не сложно выдерживать прописанное расписание. Для исчадий ада, я уже говорил, регламент следует скорректировать.
— И ты хочешь… скорректировать? — Генрих даже не удержался от улыбки.
— Насколько тебе хватит просфоры? — повторяет Артур деловито. — День? Два?
— Чуть больше суток, — Генрих щурится, прикидывая примерную частоту перекусов.
— Хорошо, — Артур кивает и встает из-за стола, — значит, завтра вечером встречаемся.
— Какое романтичное предложение, Пейтон, — отстраненно фыркает Генри, а в душе снова тоскливо что-то выворачивается, — где?
— Я тебя найду, — туманно отвечает Артур, — за это можешь не волноваться.
После такого невнятного ответа Генрих озадачивается и вопросом — а как, собственно, Пейтон нашел его сейчас. Один. Без демона-ищейки, который бы мог провести его по следу Генриха до церкви. Да и Генрих не дурак, от места драки порядком попетлял и вообще в церквушку приперся в другом районе Лондона. Нет, сам он, разумеется, смог пройти даже по такому слабому и сложному следу, но на службе у Чистилища не было демонов с аналогичными возможностями чутья. И ведь не грешил же, в храме, отследить его через кредитную сводку точно не получилось бы. Загадка. Кажется, сегодня Пейтон решил поразвлечься и устроить Генриху викторину.
— Артур, — окликает Генрих, и архангел, уже сунувший руку в карман в поисках жетона, вопросительно смотрит на него, — почему ты мне помогаешь?
— Ты поймешь, — Артур пожимает плечами, — сам поймешь, когда придет время.
Хотелось бы понять сейчас. Это бы придало миру хоть какую-то четкость.
— И что мне делать дальше? — устало спрашивает Генрих, перекатывая в руках круглый хлебец.
— Откуда же мне знать? — Артур разводит руками и исчезает.
Осколки (3)
Ночлежки для демонов довольно легко найти. Для тех, у кого было демоническое обоняние, разумеется. Демоны частенько оккупировали пустые, заброшенные дома, склепы, мемориалы, любое в общем-то место, в котором можно было спрятаться от дождя и развести костерок, чтобы погреться. Как ни крути, но если удовлетворяешь демонический голод — начинаешь страдать от холода смертного мира. Люди демонов видели редко, лишь когда те решали материализовать свою сущность, обычно это бывало перед охотой, не многие могли, как Генрих, шляться по смертному миру в материальном обличии часами и даже днями. Многие тусовались вблизи бездомных людей, у них можно было и у огня погреться, и клоком души поживиться без особого сопротивления.
Когда-то Генрих и Джули заняли для своей «базы» самое удобное место — мавзолеи Хайгетского кладбища. Сейчас Генрих обходит этот притон издалека, судя по концентрированности демонического запаха, кажется, там собираются самые отъявленные лондонские ублюдки. Впрочем, и тогда так было. Просто Генрих занимал в той иерархии ведущее положение. Сейчас по некоторым маркерам запаха — есть там кто-то посильнее. Знакомиться с новым «альфой» не хочется совсем.
Нет, ему подойдет местечко попроще, с какими-нибудь слабаками, которым хватит ума не бросать ему вызов. Ночь без драки — утро без лишней мигрени и голодного приступа.
Далеко не все демоны были откровенными хищниками. Многие грешить не торопились, хотя и любили. Ведь если меньше грешишь — о тебе меньше знают, меньше шепчутся, ты не привлекаешь взора неуёмных чистилищных работников, кредитные сводки реже сообщают о месте твоих греховных телодвижений, найти тебя голодного гораздо сложнее, чем сытого. Такие демоны практически постятся, перехватывая клочки смертных душ как можно реже, зато практически не попадают в сводки горячего розыска серафимов-хранителей. Возможно, подобным экземплярам тоже следовало бы давать шанс вернуться к работе Чистилища, но слишком многие из них были суккубами, отродьями — и даже исчадиями. Те, кто Чистилищем считался слишком опасным для ведения переговоров. Души не падшие Чистилищем ценились гораздо выше, чем павшие, пусть даже в своих дурных привычках пытающиеся знать меру.
У Небес очень своеобразное чувство юмора. По слабым запахам бесовских маршрутов Генрих находит одну ночлежку в кладбищенской заброшенной сторожке, и тут же он натыкается на беса, которому самолично прошлым вечером съездил по морде. Дело даже не в том, что Генрих помнит этого пацана в лицо, а в том, как он зеленеет при виде Генриха. Он-то запомнил — не лицо, но запах… Генрих принюхивается, прикидывает, справится ли, если что, с собравшимся контингентом, а затем, не обращая внимания на перекошенную морду «знакомца», заходит в дом. Опасаться некого. Два беса, одна слабенькая суккуба сидят, разведя огонь в маленькой железной печурке. При виде Генриха пытаются отползти к дальней стенке и вообще попрятаться друз за дружкой. Мебели в сторожке немного — пара табуретов, спят местные обитатели на ворованных матрасах и одеялах. Сойдет. Завтра можно поискать пустой дом поприличней, благо в Лондоне всегда было полно состоятельных бездельников, которые частенько оставляют свои дома пустыми. Сегодня — сойдет и это местечко. Ночевал и в условиях похуже.
Мелькает в голове искусительная мысль на завтра найти какой-нибудь притон и посмотреть, как Артур туда заявится. Хотя с Артура станется разобрать какой-нибудь склеп по кирпичику, а смертные будут уверены, что это произошло из-за какого-то строительного дефекта здания. Да и потом, дурак тот лондонский демон, который попытается броситься на Артура Пейтона. Можно отбиться от Кхатона, Миллера, даже от Анджелы, чьи молнии безжалостней и болезненней всех прочих Орудийных сил, но Артур Пейтон слишком опасен. Он редко прибегает к своему дару вне Чистилища, но никто не хочет стать тем идиотом, к которому Артур будет вынужден применить силу.
— Дышите, щенки, — тихо произносит Генрих, замечая слишком напуганные физиономии соседей по ночлежке, и занимает матрас у стены. Оспорить его маневры никто не пытается, да и у стены стоят еще пара скатанных матрасов, видимо, ночует здесь временами больше народу. В комнатушке пахнет дымом, печка отчаянно чадит, но здесь хотя бы тепло.
Бесов от его соседства явно потряхивает, они даже предлагают Генриху часть своего ужина — наворованную еду смертных, но Генрих отказывается. Лишний раз вкусовые рецепторы раздражать не хочется, это действует даже слишком дразняще.
— Даже не вздумай, — раздраженно шипит Генрих, когда к нему начинает льнуть суккуба, и девушка смотрит на него с недоумением. Действительно, кто ж отказывается от дармового перепиха, да? Вот только эта дуреха и не понимает, какие воспоминания будит в Генрихе лишь пара её прикосновений. Совсем другая девушка. Совсем другое тело. Раскаленные, восхитительные часы… И чертовски жаль, что категорически не хочется этого перепиха. Лучше бы он хотел эту девицу, чем понимал, что хочет-то только Агату. Никого больше.
Бессмысленно об этом думать. Она сейчас уже не его женщина. И он сам решил по этому поводу ничего не предпринимать. Один раз уже предпринял, черт возьми, и какой в этом итог? Если бы и существовал способ угробить Миллера окончательно, бесповоротно, чтоб он больше никогда не оказывался у Генриха на пути — даже тогда Генрих бы свободой не рискнул. Пожалуй, именно свобода и была тем стержнем, вокруг которого Генрих пытался себя выстроить. Не Агата, не работа, именно свобода — от боли, от креста, от бессмысленных, одиноких дней наедине с собой.
Чтобы урезонить собственную сущность, Генрих заставляет вытянуться из клубка боли одну нить, жалит самого себя, будто колючий шип вгоняя под колено. Да. Один в один боль от распятия. Забавно. Жесткий инструмент Небеса ему подарили для контроля голода. Хотя другого-то он толком и не заслуживает. Сгодится и этот, он весьма эффективен. Генрих зажевывает сухость во рту от накатившей боли просфорой. Заботливый Артур даже приложил к еде фляжку с благословенной водой. Как нельзя кстати, потому что, кажется, Генрих перестарался, и боли все-таки оказывается слишком много.
— Что делаете, мистер? — с опаской интересуется побитый, и Генрих впервые обращает на своих соседей пристальное внимание. Разглядывать их раньше не особенно и хотелось, не собирался даже особо болтать, просто погреться, проспаться и исчезнуть из их жизни утром. Все лучше, чем черной голодной тенью блуждать по улицам. Собеседник явно ирландских кровей, мало того, что у него специфический выговор, так он еще и рыж практически так же, как и сам Генрих, волосы растрепаны, физиономия конопатая. Девушка — обычная девушка, без особых изысков и дефектов внешности, простенькая, волосы светло-каштановые, чуть волнистые. Третий — чернявый молчаливый парень цыганской наружности, с родинкой над левой бровью. Ничего так компашка, не отталкивающая.
— Что конкретно тебе интересно? — медленно произносит Генрих, размышляя о том, стоит ли ему вообще вести эту беседу или сразу лечь спать, тем более что отоспаться бы не помешало, прошлая ночь чем не могла похвастаться, так это количеством сна.
— Зачем вы это едите, безвкусная же дрянь, — бес кивает на надкусанный Генрихом хлебец.
— Зато не обостряюсь, — Генрих пожимает плечами.
— А разве вы боитесь, что вас поймают? — с удивленной рожей уточняет парень. Он-то, видимо, помнит боевую форму Генриха.
— Даже со мной можно справиться, тем более что в лондонском конфедерате больше всего Орудий, — Генрих не добавляет, что вообще-то однажды с ним уже справились.
Рожи у соседей аж потрясенные. Вроде как, если исчадие ада боится поимки, то что делать им.
Хотя из них какие-то серьезные меры грозят только девчонке, она уже нахватала слишком много, уже наверняка зачаровывала смертных парней гипнозом.
— Вы хотите на Поля, ребята, — вкрадчиво уточняет Генрих, чуть покачиваясь вперед. А дальше — его несет. Ему, разумеется, повезло, что его собеседниками выступают молодые да зеленые, еще такие неопытные в их промысле демоны, практически демонята. Кто-то более зрелый нашел бы, что возразить, как поспорить, да и попросту уклонился бы от скользкой темы.
«А что Поля? Все там будем, рано или поздно, пускай поймают сначала»
Нет, эти явно боятся ареста, их смелости и отваги хватает только на воровство еды, да на редкие нападения на сборщиков душ.
Болтать легко. Легко говорить о паршивости распятия. В это время думать больше ни о чем не хочется, не получается. Генрих удовлетворяется разинутыми ртами слушателей, их потрясенными лицами, когда в ответ на «откуда ты все это знаешь» он демонстрирует клеймо грешника.
Вопросов становится больше. Как распяли? Сколько был распят? Как освободили? Как сбежал? Почему сбежал? От многих ответов приходится уклоняться, потому что по-прежнему сложно думать об Агате — в груди начинает копошиться болезненная горечь, но как уклонить от разговоров о человеке и ставшем причиной амнистии — Генрих не знает. Приходится расписывать общими словами. Зачем он все это рассказывает кому попало, Генрих плохо понимает, возможно, ему просто надо с кем-то поговорить, возможно, попросту так он пытается увернуться от подступающей с тыла тоске, но в общем и целом — он удовлетворен оказанным эффектом. Кажется, подобными вещами он должен был заниматься в штрафном отделе, но так до этого дело и не дошло.
— Но получается, ты держишься, да? — с любопытством спрашивает Майк, тот самый бес, который прошлой ночью смог свалить с места драки с Генрихом.
— Условно. Пока — да, — Генрих пожимает плечами, — очень не хочу загадывать на будущее, но я работаю над этим.
— А как? — с лихорадочно блестящими глазами уточняет Майк. Генрих запоздало вспоминает, что вообще-то думал поспать. Обводит взглядом собеседников, которые почему-то ну никаким образом не желают обвинять его в несении чуши, противоестественной демонической природе, и понимает — нет, сегодня выспаться, кажется, тоже не судьба.
Осколки (4)
Чтобы разжечь в отравленной душе свет, нужно искренне желать ей исцеления. Как и любая эмоция, сопереживание вытягивает силы. Сопереживание, обращенное в инструмент Орудия Небес, тянет силы в семь раз быстрее, чем простая эмоция. Будто вынимают из души, обращенной к Небесам, все её силы, зато стеклянный шар, сжатый в мерзнущих ладонях, наливается сиянием. Медленно, верно, но наливается.
Когда у Агаты начинает кружиться голова — она прерывается. Выдыхает, открывает глаза, встает с колен на ноги, заставляет кожу перестать светиться. Опускает стеклянный шар с душой на его место на полке. Обидно, конечно, что не получилось разжечь эту душу до конца, но за сегодняшний день это все-таки уже третья душа. Кхатон говорил — ничего страшного, если душа разгорится не сегодня. Вроде как отравлено на несколько лет, один день погоды не сделает.
— Агата, вы в порядке? — чего не отнять у Лазарета, так это того, что здесь не скрипит ни одна дверь, поэтому Кхатона, тихонько заглянувшего в комнату, Агата слышит только, когда он заговаривает.
— Да, да, — Агата качает гудящей головой, — я закончила на сегодня.
— Не переутомляйтесь, — Кхатон вглядывается в её лицо, пытаясь увидеть в нем признаки слабости.
— Мистер Пейтон сказал, это поможет усилить силу моего сияния, — устало отзывается Агата и выходит в коридор.
Практика. Артур требовал, чтобы Агата практиковалась. Ежедневно. Постоянно. И отчитывалась в динамике через день. Было чрезвычайно необходимо, чтобы её дар окреп, чтобы её свет мог и защитить её, и пригодиться на службе Небес.
— Кто спорит, но ваши обмороки нам совсем ни к чему, — мягко улыбается Кхатон, — нет, я правда очень благодарен, что вы вызвались, Агата, даже две воссиявшие души за день — это уже замечательно.
Вызвалась… Она не знала, чем себя занять, где спрятаться от пустого, пронизывающего взгляда Джона всякий раз, когда он выходил на смену именно как экзорцист для группы под попечительством Агаты. А он по-прежнему выходил, пусть даже от этой группы и осталась одна Анна. Нет, больше он не огрызался, после того как Агата заставила Анну рассказать про возможности суккубов, которые им дает гипноз вкупе с отравлением, Джон больше ни разу не выказал Агате своего раздражения, ни словом, ни взглядом, ни жестом. Он вообще больше на неё не глядел, за эти две недели максимумом их общения был обмен приветствиями по утрам. И всякий раз, когда Агата смела коснуться взглядом его лица, казалось, что пустота пожирает Джона заживо.
Агата приходит в штрафной отдел под конец смены — проверить статистику Анны и Генри, потому что не дай бог завтра на неё снова налетит Анджела с жалобами, что Хартман, мол, вновь налетел на банду демонов и оставил Анджеле слишком много работы. Придется тыкать в лицо положительной динамикой — удивительной положительной динамикой, которая почему-то имеет место быть.
Артур запретил Агате искать Генри. Артур вообще потребовал, чтобы Агата из Чистилища не высовывалась и не спешила рассказывать Генри про побочное действие отравления. Мол, когда придет время, если ситуация не изменится, Артур расскажет Генри сам, сам вернет его к работе, но сейчас — сейчас все должно было оставаться как есть.
Он был там — в смертном мире — уже вторую неделю, и каждую секунду там он забывал её сильнее. Там перед глазами суккубы и смертные, всех мастей, и, в отличие от Агаты, к ним у Генри претензий нет. Сколько времени нужно ждать? Месяц? Два? Скоро необходимость хоть каких-то объяснениях отпадет. Он просто выбросит её из головы навсегда, забудет как горький неприятный сон.
Нет. Не думать о Генри. Слишком больно впиваются в душу осколки произошедшего, слишком глубоко. Она — Орудие Небес. Член Триумвирата. Она должна думать не о своих суетных чувствах, а о благе для самого Генри. А ему будет лучше там, отдельно от неё, там, где он держится, добивается положительной динамики по кредиту — и все это без её помощи. Она ему не нужна. Она препятствует его развитию. Эти мысли следует убрать. Подальше. Поглубже. Именно из-за них особенно больно, невыносимо трудно дышать. Слишком одиноко, слишком… Давно не было так.
Рон приветственно улыбается Агате, значит, сегодня смена прошла спокойно, и Анна не довела своим кокетством до ручки ни одного работника.
— Привет, — безмятежно улыбается Анна, когда Агата появляется в дверях. Ей явно наскучило высчитывать очередной кредитный итог, поэтому она чертовски рада поболтать.
— А где… — Агата оборачивается. Нет, Джона и вправду нет. Положение папок на его столе переменилось, значит, он был.
— Ушел, с час назад, — пожимает плечами Анна, — что, я считаю, не удивительно, потому что вы уже вторую неделю морозитесь.
— Не морозимся, — тихо бурчит Агата и пытается не смотреть сквозь бумагу, взятую со стола. Ушел. По-прежнему избегает. Ей-богу, если ей придется отмаливать Винсента второй раз — то это будет чертовски сложно сделать. Одним лишь легким телодвижением он разрушил отношения сразу с двумя ключевыми людьми в её жизни.
На душе холодно и пусто, как в ледяной пустыне. И страшно. Страшно, что все так и останется, что она так и не сможет вернуть ничего из того, что ей было важно. Дружбу Джона. Генри. Всего Генри — ей жадно не хочется ограничиваться лишь каким-то его чувством. Вопрос лишь в том, что сейчас, кажется, вернуться к прежнему положению вещей уже не получится. Кажется, именно сейчас она не нужна никому и никаким образом.
— Слушай, — задумчиво произносит Анна, отвлекая Агату от мыслей. Агата бросает на суккубу заинтересованный взгляд. Нет, Анна в принципе болтлива, но сейчас она кажется непривычно серьезной.
— Ты в курсе же, что он, — девушка тыкает тонким пальчиком в стол Джона, — прям ужасно сильно переживает?
— Переживает? — тихо повторяет Агата.
— Да, — Анна кивает, — он, наверное, забывает, что я чую, эмоции придерживает не всегда, но когда не держит — я чую, что его ужасно кроет.
— Ну, ясно, — Агата прикусывает губу. Она знала. Знала, что это слишком для кого угодно. Никому не приятно на регулярной основе получать отказы, а если тебя еще и втянут в суккубью интригу — ощущения и того хуже. Что можно ему сказать? Как хоть как-то умалить его боль?
— Ты не понимаешь, — Анна мотает головой, — я чую, что ты не понимаешь. Его кроет из-за тебя. До черноты. Всякий раз, когда ты приходишь и не знаешь, как с ним поздороваться.
Джо… Переживает за неё. За неё. При том, что он-то как раз в произошедшем не виноват ни на пол пальца. Заплакать от стыда хочется так, что аж в глазах дерет. Но почему, черт возьми, почему он вообще находит силы думать о ней? О ней, которая самым безжалостным образом обошлась с его чувствами.
Это самый сумбурный день Агаты, и статистику она оставляет на утро. Найдет, как отбиться от Анджелы. В голове безумно пусто. Нужно поговорить с ним. Хотя бы с ним. Она не может все вернуть на круги своя, но поговорить с ним — уже наконец может. Должна. Обязана. Черт возьми, все это время пыталась хоть как-то не попадаться ему на глаза, не растравливать душу, не усугублять положение, а он… он переживал за неё.
Что сказать? Что сделать? Сразу хвататься за знак страшно. Страшно снова видеть его лицо таким опустошенным, усталым, угасшим, каким он выглядел эти две недели. Она дает себе передышку. Спускается на слой Лазарета, бредет по старому парку за крайним корпусом блока зданий Лазарета, пытается успокоиться, собраться с мыслями. Здесь мало кто бродит, парк мрачноват и пуст, в его глуши прячется заросший ряской старый пруд с нависшей над его мутной водой старой сутулой ивой.
Всякий раз, когда было нужно набраться решимости, будь то перевод из одного отдела в другой, или попросту сложный разговор с кем-то, — Агата приходила сюда. Стояла несколько минут, уперевшись лбом в теплую ивовую кору, выдыхала из себя страх и, развернув плечи, шагала навстречу проблеме. Даже если она не успеет придумать, что ей сказать, плевать — что-то да скажет.
У парка совершенно коварные дорожки, поэтому, выворачивая к пруду, Агата видит замершего у пруда, под самой ивой, Джона слишком поздно, чтобы успеть испугаться и повернуть назад до того, как он её заметит.
Разумеется, он об этом месте знает. За семь лет на скамейке у черной ивы было прочитано немало книг, и не меньше было сделано набросков. Просто безумно неожиданно сталкиваться с ним здесь, сейчас, кажется, что сама судьба решает их столкнуть, лишить её способа оттянуть момент, уклониться, струсить. То ли Агата слишком шумно шагала, то ли у Джона попросту хороший слух, потому что он оборачивается и, кажется, столбенеет при виде её. Так и замирает — стоя вполоборота, с руками, убранными в карманы.
— Привет, — непослушными губами пытается улыбнуться Агата.
— Привет, — отзывается Джон, надтреснуто, тихо, — я сейчас уйду…
— Нет, — торопливо восклицает Агата, — не уходи. Ни в коем случае.
Джон прикрывает глаза и с видимым усилием вновь поворачивается к пруду. Приближаться к нему страшно, но уходить — того страшней. Кажется, что все нити, что их связывают, напряжены и дрожат. Дернешься — и они станут друг дружке даже хуже, чем чужие люди.
Когда она обнимает его, касается лбом напряженных лопаток, Джон даже вздрагивает от неожиданности, а затем безмолвно накрывает её ладони, сцепившиеся на его животе, своими теплыми пальцами.
— Почему ты вообще дружишь с такой дурой, как я?
— Если б с дурой, — смешок, вырвавшийся из груди Джо, надсадный, тяжелый, горький, — если б ты была дурой. Мне было бы гораздо проще жить.
— В любом случае я твоего отношения не достойна, — бурчит Агата, вцепляясь в него еще крепче, будто пытаясь растопить кусок льда, в который превратилось сердце.
— Ты это мне говоришь, да? — тихо спрашивает Джон. — Мне? Я вымолил у Небес помилование этого ублюдка. Который тебя под меня подложил? Который тебя опять сломал?
— Джонни… — едва слышно выдыхает Агата, крепче прижимая лицо к его спине. В душе все вибрирует. Господи, иногда даже эта светлая голова начинает пороть чушь. Остается только стиснуть объятия еще крепче, чтобы у него не осталось воздуха для того, чтобы производить на свет эти глупости.
— Еще скажи, что я не прав, — измученно выдыхает Джон, запрокидывая голову.
— Не прав, — твердо отрезает Агата, — выбор делали Небеса. Это они хотели дать мне урок непредвзятости.
— Небеса не устают давать нам всем уроки, — с горечью замечает Джон, — вот только, кажется, этот урок неплохо, чтоб они выучили сами.
— Не Небеса меня травили, а Винсент, — Агата качает головой, — и ты тут не при чем, совсем.
— Нельзя хотеть возмездия, но я хочу, — еле слышно шепчет Джон, — черт возьми, как же я этого хочу, Рози — выжечь в этом куске дерьма весь грех, что есть, дотла, до пепла.
— Прости, — снова шепчет Агата, не расплетая пальцев, пытаясь сама себя простить за то, что она его бросила одного, с растоптанным сердцем, с этой болью, с виной, которую он себе надумал от тоски. Хорошо стоять вот так, вцепившись в него, как в якорь. Надежный якорь посреди бушующего, безумного, беспорядочного мира. Господи, как же она боялась. Как же боялась снова увидеть в его лице разочарование, горькое, болезненное пронзительное — как в то утро, которое ужасно хотелось бы забыть.
— Ей-богу, это кажется каким-то сном, — отстраненно замечает Джон, — мне даже снилась пару раз эта сцена. Только не у пруда.
— Ты со мной даже не говорил…
— Как мне тебе было сказать, ты на меня и смотреть-то не хотела?
Да уж. Вот оно как со стороны выглядело.
В душе потихонечку теплеет, неуверенно, несмело. Все-таки она очень боялась, что эта ссора в их дружбе — фатальная, что уж теперь-то она его навсегда потеряла. Должна была потерять. Потому что таких друзей в её жизни не было, и ясно, почему — она их совершенно не заслуживает.
Видимо, даже Джон не знает, что ей сказать. Хотя это сейчас совсем не нужно. Тишина между ними — важнее всего. Она будто дрожит, обнимая их, восстанавливая частично утраченное тепло их отношений. Из парка они бредут уже вместе, сцепившись мизинцами, практически молча, лишь изредка переглядываясь, будто не до конца доверяясь происходящему, будто сомневаясь, что они действительно рядом друг с дружкой, и действительно никого не одолевает душевная стужа.
Между ними по-прежнему тихо и пустовато. Просто потому что вещи, уже сломанные, разбитые, нельзя починить накрепко, до первозданного состояния, но можно склеить из осколков самое дорогое и впредь трепетать над его хрупкостью.
Движение навстречу (1)
— Я на это не подписывался, — бубнит Пейтон, оглядывая взглядом собравшуюся вокруг него компанию.
— Арчи, хватит уже ломаться, — раздраженно замечает Генрих, — какая разница?
— Разница в том, что мы в жилом районе, — педантично возражает Артур, — и, отбиваясь от такого количества демонов, я могу навредить людям.
— Тебе не придется отбиваться, — Генрих качает головой, — мы же договорились. Я тебе пообещал.
— Ох, Хартман, — Артур качает головой, — я же знаю, что о договоре тебе будет вспомнить непросто.
Генрих не успевает ничего сказать в ответ, потому что Артур расправляет плечи и выпускает свой запах на волю.
Да… Есть от чего потерять голову. Праведник. Чистый, сильный душой праведник, много — действительно много лет не соприкасающийся с грехом в принципе.
Четырнадцать демонов. Генрих — пятнадцатый. В какой момент трое «учеников» превратились в четырнадцать, он как-то упустил, просто в какой-то момент в их ночлежке перестало хватать места и матрасов. В какой-то момент Артур начал приносить им еду буквально мешками. И кажется, его это не напрягало.
Они приходили сами, взбудораженные, растерянные, лишь только услышав про то, что кто-то учит как победить голод. На самом деле любой из них мог победить себя и сам, но как это часто бывает с людьми — легче всего не искать свой путь на ощупь, а подождать, пока найдется тот, кто этот путь найдет. Так легко безвольно забываться, бездумно жрать, вечно откладывая работу над собой на потом, на послезавтра, в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь тебя научит, как этого не делать.
Генриху было в общем-то плевать. Он, правда, испытывал некоторое подозрение, что ему рановато чему-то кого-то учить, он сам просыпался по утрам и не по одной минуте выкручивал голоду руки, но… Но раз попросили показать, раз они хотят попытаться — пусть, ему не сложно рассказать, что он делает сам, тем более что всего он за них сделать не мог.
И все-таки они приходили. Это был самый удивительный факт, с которым столкнулся Генрих за эти дни. Впрочем, если вспомнить — он и сам стал тем, кем стал далеко не сразу. Долгое время и его сопровождали сомнения, долгое время и у него подрагивали поджилки, прежде чем он осмеливался налететь на умершего смертного и выпить силу его души до прибытия сборщиков. Возможно, скажи ему кто-нибудь тогда, что есть демон, который учит сдерживать голод, — может, и не было бы тех восьмидесяти двух лет на кресте.
Они старались меньше жрать. Хотя с непривычки ограничивать себя было непросто, с непривычки все было не просто. Генрих смотрел на своих подопечных, заглатывающих просфору едва ли не целиком, и где-то на задворках памяти шевелились воспоминаниях о том, как тяжело приходилось во время нехватки продовольствия на военных кораблях. Тяжело. Спасался тогда думами о жене, что дожидается дома, вот только лучше бы и не знал, как она его дожидается…
Демоны скулили, кто-то, попробовав пресной просфоры, сбегал, но держать их Генрих не собирался. Политика Чистилища была разумной. Нельзя спасти тех, кто не хочет спасения.
Сейчас они пытаются освоить сдержанность. Навык ощущать запах вкусной души и не бросаться на не неё при этом, оскалившись демоническими клыками. Генрих так тоже развлекался, благо запах Агаты был до одури соблазнительным. Черт, а ведь запрещал себе думать о ней. Знает же, насколько болезненно впиваются в душу когти демона.
Кхатон ни разу не прав. Голод — это не ощущение только лишь смертной оболочки. Голод — это порыв всей сущности.
От запаха Артура Генриха ведет. Даже сильнее прочих, просто на первый взгляд кажется, что держится он крепче. Архангел. Праведник. Орудие Небес… Стоит тут с распахнутой душой… Генрих помнит вкус души Орудия как сейчас, помнит, как бурлила энергией демоническая сущность, именно после этого он смог впервые раскрыть темные крылья за спиной. Получил одну из редчайших демонических меток.
Интересно, какую силу бы он получил, поглоти он душу Артура…
Когда Майк бросается вперед, Генрих жалит его нитью боли на излете. Достаточно, чтобы демон сбился в прыжке, упал на землю, заскулил, съежился, пытаясь справиться с мукой.
Это движение приводит в чувство и самого Генриха, у которого уже зашумело в ушах. Он понимает, что и стоял-то слишком напряженно, будто балансируя на края пропасти. Это всего лишь запах. Всего лишь.
Срывается с места Уолли, его Генрих не торопится остужать распятной болью, нет, можно просто поймать за шкирку и швырнуть на место. Уолли самый слабый бес в группе, а боль, которой пользуется Генрих, — кара для исчадий ада. Её довольно жестоко использовать для воздействия на слабых демонов, но так как особого выбора у Генриха нет — он старается об этом не думать. Просто при урезонивании бесов возможностями клубка боли он не пользуется. Старается не пользоваться.
За планируемый час «испытания» жалящей распятной болью Генрих успевает приложить всех и каждого собравшегося, а новичка-отродье даже трижды — на раз больше, чем самого себя. Артур вбирает в себя запах со вдохом, в несколько минут после этого Генрих ощущает лютую пустоту внутри, будто у него что-то украли, будто этот чистый свежий запах уже принадлежал ему.
— Неплохо, — Артур одобрительно улыбается, — ты хорошо с этим управляешься, что бы это ни было.
— Арчи, скажи мне, что мои догадки — это бред, — вполголоса просит Генрих, наблюдая, как разбредаются «прихожане» его маленькой секты, — ну это же абсурд…
— Я не могу подтвердить абсурдность твоих мыслей, пока ты их вслух не произнесешь, — ухмыляется Артур.
— Небеса меня сделали Орудием? — шепотом, потому что мысль ужасно еретична, произносит Генрих.
— Ну, — Артур оглядывается, — да, похоже на то, Генри.
— Но это же бред, я? Орудие? Исчадие ада? Почему?
— Генри, — терпеливо вздыхает Артур, — если так оно и есть — значит, есть почему. Вопрос только в том — зачем Небесам сейчас демон-Орудие.
— Зачем? — повторяет Генрих. — А что, для этого нужны цели?
— Разумеется, — Артур кивает, — быть Орудием — большая ответственность, Небеса не возлагают её на плечи всем и каждому. Лишь когда приближается необходимость.
— Какого рода необходимость?
— Например — ты, — Артур смотрит на Генриха в упор, — когда ты выпил Сесиль, в тот же день сила нашла Кхатона. Более активная, более сильная, более опасная. Орудий всегда столько, сколько необходимо, чтобы обеспечивать безопасность душам смертных и Чистилища.
— Стоп, — отстраненно произносит Генрих, — получается и она.. тоже? Из-за появившейся необходимости?
— Смотря, что, — Артур пожимает плечами, — я не уверен, что дар защитного слова леди Виндроуз вообще касается её силы как Орудия. До некоторого времени мы вообще сомневались, что дело дойдет дальше отмаливания безнадежных. Но нет. Зашло. Сила Сесиль нашла перерождение. Теперь и ты демонстрируешь… необъяснимые возможности.
— Может, это побочные возможности меня как исчадия? — на всякий случай переспрашивает Генрих, но Артур качает головой.
— Этого не было при твоем задержании, — замечает он, — и появилось это… недавно же, да?
— Да.
Так, кстати, появилось, к слову… Генрих уже даже пару раз задумывался, случайно ли так совпало, что возможность самому прижигать демоническую сущность у него появилась именно тогда, когда он ближе всего стоял к краю. Верилось в это с трудом. Так уж совпало, молитва и это.
— В общем, грядет задница, Хартман, — деловито сообщает Артур, совершая своим ругательством жесткое изнасилование шаблонов Генриха, — и было бы неплохо, чтоб к этой заднице ты уже со своим даром освоился. Не то придется, как Кхатона, — обучать на ходу.
Генрих растерянно поигрывает желваками. Ему очень хотелось, чтобы Артур его догадку опроверг, потому что одно дело быть этаким «внештатным работником» Чистилища, нести в массы неконченных ублюдков волнения и сомнения, бороться с собой — да еще и не в одиночку, да еще и чувствуя моральное удовлетворение, когда тебе говорят спасибо за такие вроде как несложные действия.
Другое дело — вопрос ответственности Орудий Небес.
И дело же не в том, что Генрих этой ответственности боится, но… Но что будет, если он не выдержит? Сломается? Что, к примеру, будет, если он встретится на улицах Лондона с Миллером, который частенько выходит на смены в качестве сборщика душ. Он удержался тогда, но удержится ли сейчас? Сейчас ведь хуже, сейчас ведь приходится ежедневно, еженощно выдерживать приступы тоски. И что будет, если он сорвется? Что будет, если сила Орудия Небес будет обращена против самих Небес?
— Ну до завтра, Хартман, — Артур хлопает Генри по плечу, — тебя ждут, кстати.
Да, ждут. Моника, Майкл, Уолли. Три самых первых «последователя» Генриха, распускающих о нем слухи по Лондону.
— Я нашла отличное место для ночлега, — возвещает Моника, радостно улыбаясь.
— Я надеюсь, туда половина Лондона на проповедь не припрется, — ухмыляется Генрих.
Место и вправду отличное — пустой, но вполне жилой дом. Можно даже душ принять, правда, перед этим поймать Монику за воротник платьица и напомнить, что Генрих не любит, когда нарушают личное пространство. И когда заявляются голышом во время его мытья — тоже не любит. Ты же помнишь, Моника?
Моника помнит, обиженно дуется, но ей хватает ума не повторять фортель недельной давности. Все-таки даже суккуб, вроде как желающий встать на путь искупления, не может не думать о сексе.
Дом пустой, судя по вороху почты, принадлежал какой-то недавно почившей паре, и наследник не спешит вступать в наследство. В таких домах можно ночевать — Генрих уточнял у Артура, — и никаких последствий для кредитного счета не будет, если, разумеется, тебе не вздумается что-то украсть «на память».
Артур вообще по-прежнему настолько внимателен, что впору на нем жениться. К очередной партии просфоры прилагалась сумка со свежим комплектом формы, и их Артур Генриху три раза в неделю таскает.
Генрих устал. Чрезвычайно сильно. Дар, если его можно так назвать, выматывает. В течение дня, когда никто не просит с ним поговорить, выслушать, — он отбивал нитями боли демонов-охотников от смертных душ. Пропускал боль через себя. Да, ему доставалось меньшее, но слабым эхом все-таки эта мука отдавалось в нем самом. Хотя, чем дальше, тем меньше на это хватало времени. Ему кажется, что скоро к нему будут ходить как к бродячему философу, и не столько послушать, сколько потыкать пальцем. Исчадие ада-проповедник, ну надо же. Лопнуть от смеха можно.
Вообще, сейчас Генрих священникам не завидует. У него нет обязанности молиться или вести ритуалы, но внезапно вылезло, что к нему кто-то может прибежать чтобы порефлексировать до или после греха. И если Генрих Хартман до распятия, скорей всего, бы дал скулящему от совести отродью пинка, то после распятия ему приходится вести себя иначе. Это малое, что он может сделать для искупления. Тем более что пока он занят болтовней — он не занят собственными искушениями, он не думает, он не вспоминает. Её — не вспоминает. Она — будто тень, замершая позади него. Наверное, она довольна его динамикой, радуется ей, как будто хорошему поведению своего ученика. Нужно думать о ней только как о наставнике — так легче. Она видела в людях — в демонах — хорошее. Это важно. Все остальное — пыль. Причем пыль, им самим созданная. Он потащил её в постель. Он хотел отомстить Миллеру. Отомстил. И Миллер вернул долг сторицей. Не нужно было мстить, да?
Генрих старается не слушать самого себя, старается игнорировать возражения, что Агата ему нравилась изначально, еще пока он был распят, что дело было не только в мести. Эти мысли утяжеляют жизнь, когти искушения всякий раз болезненнее впиваются в душу, грозя разорвать её изнутри и захлестнуть Генриха.
Именно поэтому — черта. Она — наставник. Ничего больше.
Усталость наваливается на тело тяжелой колодой, когда Генрих, вытирая волосы, ищет по дому еще не занятую кровать. Подопечные обнаглели, поняв, что в завязке Генрих им даже пинка без повода не даст, поэтому уступать «наставнику» койкоместо никто не торопится. В гостиной находится старый скрипучий диван и даже одеяло. Сойдет. Генрих оставляет на диване полотенце, чтобы «пометить территорию» — не дай бог кто припрется и решит, что тут не занято… Ну а если не поймут, уберут полотенце и сделают вид, что здесь ничего не лежало, — значит, это будет тот самый повод для применения силы, который Генрих уже который день ожидает.
Впрочем, скорей всего, удастся изгнать потенциального конкурента со своей «территории» банально сощурившись, но в мыслях можно подумать о кровопролитии, правда же?
На Анну Генрих наталкивается, когда выходит на веранду дома, чтобы вдохнуть свежего воздуха.
Растрепанную. Напуганную. Запыхавшуюся. Торопливо перекидывающуюся из боевой формы. Её обычная манерная шелуха завзятой кокетки будто потерялась по дороге сюда.
— Генри…Там Агата, — выдыхает Анна отрывисто, — и она влипла.
Движение навстречу (2)
Это была идиотская затея. От начала и до конца. И вообще, находись Джон в здравом уме, — он, наверное, отговорил бы Агату от этого дерьма. Но Джон в здравом уме не был. Джон отчаянно хотел достать Винсента и проследить за его водворением на крест. И, пролистывая отчет по ухудшению кредитного счета, Джон умудрился заметить, что обнаглевший Винсент и не думает скрываться, и соблазняет уже третью смертную в одном и том же ночном клубе и таскает их в один и тот же мотель.
С одной стороны, Артур запретил соваться в смертный мир. С другой стороны, Агата не шла на поиски Генри, да и как его особо найдешь-то… Кредитной регрессии у него по счету не было, а положительные изменения на счету выдавались в подробном отчете только при разрешении Артура Пейтона. Формально Агата запрет преступает не очень сильно, никто не мешает ей очень надеяться, что в Лондоне она на Генри наткнется случайно — вдруг их судьба столкнет… Ведь свело же когда-то её крыло именно над его крестом.
Путь от клуба они прошли в компании Анны, которая и посоветовала Агате «распустить запах», чтобы выманить Винсента. Джон был недоволен. Целый день потратить на то, чтобы научить Агату его «подбирать», чтобы скрываться от демонов, чтоб сейчас так не завуалировано сообщить, что она здесь. Будто ждет возможности стать жертвой Винсента. Анна пожимает плечами и говорит, что вряд ли Винсента выманит из тени что-то еще. Агата к ней прислушивается. Дает себя увидеть, почуять, услышать.
Не так и много времени нужно, чтобы Винсент появился — хищно улыбающийся, с мерзко блестящими глазенками. Вот тогда проявляется рядом с Агатой Джон, и лицо Винсента выцветает. Демон бросается наутек.
Так выходит в ходе погони, что Агата и Анна от Джона и Винсента отстают, теряют из виду. Пока Анна пытается вынюхать их след, даже исчезает из виду, а Агата терпеливо ждет. Не сразу замечает, что её окружают.
Когда замечает, спохватывается, пытается схватиться за жетон, но один из суккубов налетает на неё со спины, срывает с шеи цепочку жетона.
Не то чтобы Агате страшно. Хотя нет — все-таки страшно. Просто она теряет понимание реальности, когда вместо того, чтобы сразу попытаться её отравить — и тогда бы Агата полыхнула бы светом, — суккубы стягивают её руки за спиной какой-то обжигающей дрянью и волокут её в тот самый мотель, в который Винсент водил своих девок.
То, что она по уши в беде, Агата осознает без подсказок. Впрочем… впрочем, не так уж она и боится. К силе Орудия она не прибегает сознательно, она почти сразу поняла, что суккубы, на неё напавшие, — подельники Винсента.
Оговорки у них были странные.
Так, например, когда один, обшарив Агату взглядом, предложил «занять её делом прямо сейчас», второй возразил, что без «шефа» начинать нельзя, иначе будут неприятности.
Они рассчитывают, что Коллинз уйдет от Джона? Или у них какой-то другой «шеф»? В любом случае у дара Агаты были ограничения. Она могла ослепить лишь тех, кто был вблизи неё. Имело смысл дождаться «шефа», парализовать их вспышкой света и вот тогда уже уходить, выудив из кармана одного из демонов свой жетон, и вызвать сюда отряд серафимов. Еще напади на Агату отродья, было бы страшно, но это просто суккубы, на них её дара вполне хватит. Анну удавалось удерживать с легкостью.
Ждать приходится целый чертов час. Сидя на кровати, в компании трех практически облизывающихся при взгляде на неё демонов.
А потом появляется «шеф» — все-таки Винсент. С омерзительно довольной рожей. В человеческом обличье, прокручивая ключ от номера мотеля на пальце. Кажется, он себе ни в каких грехах не отказывает и деньги приворовывает в том числе.
— Ну, вот и все, — деловито сообщает он напарникам, — сделано. А теперь пойдите вон.
— Так не договаривались, — ворчит один из суккубов.
— Я поделюсь, не переживай, — от широкой улыбки этого «рубахи-парня» Агату даже подташнивает, — но у меня же право первого, нет?
Видимо, это право у него все-таки есть. С одной стороны, нужно бы вспыхнуть именно сейчас, когда все они тут, с другой — Агате тревожно. Что сделано? Почему-то кажется, что Джон вряд ли бы упустил Коллинза, так не случилось ли что-то с самим Джоном? Может, удастся что-то выведать?
— Давно не виделись, крошка, — ухмыляется Винсент, закатывая рукава, — честно скажем, я скучал.
Агата молча приподнимает бровь, выказывая максимально возможную степень отвращения.
— Вот и белобрысый твой, такой же был невежливый, — ядовито ухмыляется Коллинз, — даже спасибо мне не сказал, а ведь я ему помог с тобой воссоединиться. Никто не ценит труд честного сводника.
— Ты льстишь себе, называя свою мерзость трудом, — брезгливо замечает Агата, — и дважды про честность за две минуты говорят только насквозь лживые мудаки.
— Но-но, повежливей, — Винсент угрожающе щурится, — а то же я могу вернуть ребят, и мы пустим тебя по кругу. Как ты хочешь, а, подстилочка?
— Пошел ты, — четко выговаривает Агата. К сожалению, дрянь, которой ей связали руки, каким-то образом и потусторонняя, и материальная разом. Мало того что от соприкосновения с ней щиплет кожу, так еще не удастся воспользоваться собственной нематериальностью для смертного мира, пройти сквозь ту же стену — веревка удержит, застрянет. Нет. Нужно парализовать Винсента, а уж потом бежать. Правда, перед этим неплохо бы узнать, что случилось с Джоном.
Агате по-прежнему не страшно. Винсент даже не подозревает, что она Орудие.
— Что с Джоном? — ровно спрашивает она, глядя прямо в глаза Коллинзу. С каким удовольствием бы она сейчас ему врезала. Даже жаль, что её свет — не пламя Джона. Слепит, парализует, но не наносит никакого урона.
— Мы его неделю выманивали, — довольно скалится Коллинз, будто рассказывая об удачно провернутом дельце, — наконец-то вышло.
— Что с ним? — мертвея, переспрашивает Агата. Он в опасности, это совершенно очевидно. Только бы еще не выпит, только бы не…
— Пока еще жив твой Джон, — насмешливо сообщает Винсент, — у нас на него планы, знаешь ли.
— Какие, к черту, планы, — шипит Агата.
— Большие, — Винсент шагает вперед, впиваясь ногтями в подбородок Агаты. Пальцы суккуба касаются её губ, и Агата с огромным наслаждением впивается в один из пальцев зубами. Сильно. Винсент аж рычит от боли, хлещет её по лицу.
Кажется, сейчас… Пора… Агата опустошает душу, тянет наружу дар…
Дверь номера открывается с такой силой, что ясно, что открывали её с ноги.
Черная хищная тварь сбивает Винсента с ног одним лишь взмахом когтистой лапы. Рык, которым отвечает суккуб, высокий, больше похож на визг.
— Назад, — предостерегающе выдыхает Генри, перетекая в свой человеческий вид. Он умудряется выглядеть угрожающим даже таким — в едва ли не отутюженной форме Чистилищного работника, кажется даже более опасным, чем в виде демона. Может, Агате так кажется, потому что сейчас только она понимает — ей страшновато от этой встречи.
Винсент не понимает, Винсент бросается на Генри, замахиваясь на него когтистой, обращенной в лапу рукой, но с воплем падает, не сделав и двух шагов. Генри при этом так и стоит, не шевелясь, опустив руки вдоль тела, не отрывая от содрогающегося тела Винсента взгляда.
В приоткрытую дверь шмыгает Анна, с бледным, практически выхолощенным лицом. Бросается к Агате, хватает за плечи.
— Ты совсем спятила? — вот чего Агата не ожидала, так это того, что на неё будет яростно шипеть суккуба. — Почему позволила себя увести, ты же могла отбиться, ты же могла уйти.
— Жетон выбили, — кратко отзывается Агата. — Они говорили, что кого-то ждут, хотела нейтрализовать всех сразу.
— Дура, дура, дура, — Анна лупит ладонями по коленям Агаты, — он же мог… мог… Я же и твой след потеряла! Повезло, что почуяла Генри…
— Ты нашла Джона? — ровно спрашивает Агата, пытаясь успокоить истерику Анну. Анна мотает головой, виновато опуская глаза. Черт. Черт-черт-черт!
Плеча Анны касается ладонь Генри.
— Сходи-ка, погуляй, детка, — неестественно улыбается он, — и да, пригляди за ублюдком…
В груди Агаты неприятно холодеет от страха. В каждом жесте, в каждом движении Генри ей мерещится угроза. Пока он вытаскивает скулящего Винсента в коридор, Агата успевает встать с кровати, на которой сидела. Хочется попытаться сбежать, но… Но во-первых, у неё нет на это действительно веского повода, кроме собственной паники. А во-вторых, руки по-прежнему связаны за спиной, выйти через балкон, открыв дверь связанными руками, быстро не получится, уж куда быстрее Генри вернется. Так уж лучше не показывать, что ты хотела уклониться от разговора.
От разговора… Он ведь еще не знает про отравление и его побочное действие. И… Артур просил не говорить. Настаивал на том, что Генри должен выдержать некоторое время в смертном мире, убежденный, что в Чистилище его никто не ждет.
Это больно. Больно видеть, как он возвращается в номер, медленно закрывает дверь и поворачивается к ней, и при этом… не иметь права на оправдание. Если она скажет… Он может вернуться. И его работа в Лондоне пойдет коту под хвост. Его искупление куда важнее, чем чувство самой Агаты. Она ему мешает. Она должна промолчать.
От его убийственного взгляда хочется раствориться без следа, но не получается.
— Повернись, — ровно произносит демон, и уже на полуразвороте Агата понимает, что могла бы и не слушаться. Зачем? Она ему сейчас чужая. Но слышать его голос сейчас и пытаться спорить с ним — невозможно. Тоска внутри неё выжимает из души последние капли выдержки.
Его пальцы начинают распускать узлы на её запястьях. Медленно. Беззвучно. И сам он молчит, не говоря ни слова, а у Агаты лишь от того, что его пальцы пару раз соскальзывают на её кожу, случается чувственный шок. Затмение. Так он называл когда-то чувство, когда весь мир сосредотачивался на одной лишь форме восприятия.
Из головы торопливо дезертируют все мысли, Агата держится лишь за тревогу о Джоне. Это нельзя терять из головы, это важное. А вот эти вот все раскаленные, расплывчатые, но волнующие образы — нет. Все равно этому не суждено претвориться в жизнь. Сейчас он как-нибудь выкажет ей свое в ней разочарование. Она промолчит. И он уйдет. И больше… больше они не…
Твердые пальцы демона сжимаются на её плечах, разворачивают Агату к нему лицом. Поднять глаза страшно. Как всегда, когда приходится сталкиваться с проблемами лицом к лицу.
— Смотри на меня, — беспощадно требует Генри и одним только голосом заставляет душу плавиться. А ведь он чует. Чует все эти её трепыхания.
Он не желает терпеть, ждать пока она наберется смелости. Сжимает пальцами её подбородок, заставляет поднять лицо.
— Смотри! На! Меня! — яростно выдыхает Генри, и его слова будто раскаленной плетью хлещут по душе.
Агата поднимает глаза. Встречается с ним взглядом. Холодеет от паники.
Потому что смотрит на неё Генри сузившимися вертикальными зрачками исчадия ада.
Движение навстречу (3)
Генрих мог бы сдержать сейчас демона. Мог бы. Он чувствует это. Мог бы даже обойтись без использования дара Небес, данного ему для контроля. Просто скрутить себя в узел, сделать шаг назад, отстраниться.
Нет. Иная боль поднимается из глубин души. Она здесь. Она. Здесь. Лишь увидев Анну, лишь услышав её имя, все, что он выстраивал в одну четкую линию, закручивается в беспощадный вихрь. Вся та тоска, что им отодвигалась на задний план, его голод — не по любому греху, лишь только по ней, — просыпается, поднимается, заволакивает душу непроглядным туманом.
Генрих боится за неё. Он должен бы злиться на неё, должен бы равнодушно отвернуться, оставить саму разбираться с опасностями, но… Но какой прок от её дара? Что она может? Ни одному демону толком не воспротивится. Нельзя бросить её в беде, все-таки именно она его отмолила, именно благодаря ей он ходит по земле, а не прикован к раскаленной святыне.
Генрих несется вперед в боевой же форме по следу Агаты и пытается придумать себе ограничения. Он не будет задерживаться. Он не будет с ней разговаривать. Он даже на неё не взглянет. Только выручит и уйдет. Быстро.
Выручил. Не ушел. Никак. Ни быстро, ни медленно. Стоял, смотрел, как корчится Коллинз от распятной боли, которой Генрих в него от щедроты плеснул даже слишком много, и дышал. Дышал ею. И никак не мог надышаться. Почему запах Пейтона он смог отпустить легко, хотя он был чище, заманчивее, сильнее?
«Потому что в Пейтона ты не был по уши влюблен», — язвительно замечает внутренний демон.
Она делает ему одолжение — никак не пытается с ним заговорить. Попробуй она сказать хоть слово — и уйти было бы еще тяжелее, чем сейчас.
Гаечки с самоконтроля срываются, когда он слышит имя Джона. Будто в лицо запустили грязной перчаткой — смотри, парень, твоя женщина думает совсем не о тебе.
Генрих это знал. Знал. Каждую чертову секунду своего пребывания в смертном мире. Знал и неизбывно себе напоминал это ежедневно. Знал, что она больше не «его женщина». Вот только все равно даже имя соперника от неё слышать больно. Ему — не сказала ни слова. Ни даже жалкого «спасибо», хотя он здесь вроде как и не ради него оказался. Он оказал ей одолжение. Он оставил её с её выбором, не став им препятствовать, не став им мстить. Он спас её — сейчас. Потому что только благодаря ей он был свободен. Потому что… Потому что она-то для него была важна, настолько, что он готов был лелеять её образ в своей памяти, даже с обозначенным изъяном.
Это возмущение — человеческое. Демону внутри на него плевать. Демон лихорадочно принюхивается, вбирает в себя каждую отдельную эмоцию, будто нарочно тыкает ею Генриху в лицо. Смотри, она вздрагивает, когда ты соскальзываешь пальцами на её запястья. Слышишь, как бьется сердце — она волнуется.
Что это значит? Почему она до сих пор так реагирует. Казалось бы, есть же любовник под боком, все есть у вас и дружба, и нежность, что же тебе нужно, а, Агата?
Демону плевать на мотивы. Он почуял возможность и намерен ею воспользоваться.
Еще никогда Генрих не испытывал большей ненависти к собственным инстинктам, нежели сейчас. Все было так легко, когда дело касалось Моники или Джули, но стоило рядом оказаться Агате — и остановиться, отказаться от неё было невыносимо сложно.
Лишь бы она дала повод. Веский повод поверить, что не на что надеяться, не за что бороться.
Генрих никогда не желал бороться за чужих женщин, всегда хотел быть единственным, центром вселенной, но вот надо же — сейчас хочется сделать все, чтобы вернуть её. Стать центром её вселенной — снова. Дай Агата ему повод подумать, что его попытки тщетны, он бы нашел в себе силы урезонить разошедшегося, распаленного демона. Не дает. Стоит потупившись, не желает говорить. А демону не нужны её слова, он все и так чует. Чует дрожь, чует лихорадочно стучащее сердце, даже легкое волнительное покалывание в пальцах.
— Смотри на меня!
Не смотрит. Это можно было бы принять за равнодушие, но нет, он чует, что у неё даже ноги слабеют. Демон внутри, кажется, пустил в ход все боевые инстинкты, выжимает из них максимум возможностей, потому что, честно говоря, даже в боевой форме, даже в сражении за душу он не помнит такого уровня восприимчивости. Лучше бы она говорила.
— Смотри! На! Меня!
Демон скользит пальцами по подбородку, заставляет её поднять лицо. Заглядывает в глаза. Пытается найти повод. Паника. Он чует панику — легкую, невесомую. Несущественную. Это не полноценный страх, который мог бы его остановить.
Зато волнуется она все сильнее. Нет пути назад. Она сама больше шаг ему навстречу не сделает… Только раз поцеловать… Только раз и все… Генрих склоняется к её губам, впивается в них с такой жадностью, будто это может его насытить. Может. Но не только это.
Её чувства вспыхивают безумным, оглушительным фейерверком, расправляясь с последними останками решимости. Демон уже не может остановиться, он обрушивается в объятия собственной одержимости, так, будто его ничего и не держало.
Генрих себе врет.
Он врет, что сейчас, подталкивая её к так кстати близкой постели, он идет только у неё на поводу. Нет. Просто сам он её хочет прямо здесь, прямо сейчас. И именно сейчас ему хочется отполировать ладонями её чертово обожаемое, восхитительное, любимое тело, поставить на каждом его сантиметре свой след, свою метку. На краткий миг забыть про весь мир вокруг, раз уж её душа тянется к нему. Он подумает про все остальное позже, сейчас — только она. Только её губы, безумно мягкие, пьянящие, такие теплые, и такие голодные, что невозможно оторваться.
Господи, до чего же сложно заткнуть в себе влюбленного идиота. Влюбленного, истосковавшегося, изголодавшегося. Ему нельзя, нельзя ничего ей говорить. Рано, слишком рано. Может быть, после. Может быть — если она выберет его. Позже. Позже. Эти мысли тоже надо думать позже. Не сейчас, когда в мозгах не помещается полноценного предложения больше, чем из трех слов.
Он даже не замечает, что за одежду с неё торопливо сдирает. Некогда. Только бы не… Только бы не передумала. Все, что он сейчас делает, с алчной спешкой торопясь добраться до голой кожи, все зиждется лишь на том, как Агата на него реагирует. Как она задыхается, как постанывает от его прикосновений, как льнет к его телу, как впивается жадными пальцами в его рубашку, руки, плечи, волосы. Будто не может определиться с тем, чего касаться хочет больше.
Нет, сегодня никаких долгих ласк. Нет на это ни выдержки, ни желания. В нем плещется боль, по-прежнему плещется, и то, что он сейчас прикрыл на неё глаза, — это все не значит, что дав чувствам волю, он не вспомнит ни о чем.
Кажется, ей сегодня совершенно не нужны прелюдии, она будто сама спешит, боясь опомниться, льнет, выгибается под ним, нетерпеливо прикусывая его губы.
Как скажешь, Агата. Генрих и сам не испытывает никакого желания ждать.
Он уже раскалил её тело, он чувствует её нетерпение.
— Генри, — задыхаясь, шепотом, впиваясь в его плечо. Даже этого достаточно, чтобы раскаленный мир будто вывернуло наизнанку.
— Птичка, — неосторожно срывается с губ. И хотел бы удержаться, и хотел бы не позволять слабости, но нет, не может, нет никаких сил на это.
Она будто боится к нему прикасаться. Будто не смеет спускаться ниже пояса, ни взглядом, ни пальцами. Впрочем, плевать. Сейчас все теряет всякую значимость, с каждым нетерпеливым движением его члена внутрь неё. Удовольствие накатывает сладкими спазмами. Пальцы крепко прихватывают нежную кожу девичьих бедер, так, что Агата не выдерживает — вскрикивает.
Да, вот так. Ты будешь кричать, Агата. К черту, плевать на всех, кто её слышит. Сейчас и здесь — она принадлежит Генриху. И никто это право сейчас не оспорит.
Бывают моменты, когда оргазм — не только невыносимое сладостное удовольствие, которое сотрясает твой мир, но безжалостный гром, с которым оглушительная реальность стучится в твою дверь.
Генрих все еще прижимает Агату к постели под собой, тяжело дышит, уткнувшись в её шею, но чувства, которые так старательно перекрывались гормональной бурей, берут новые рубежи. Генрих скатывается на простынь, а затем и вовсе садится, пытаясь взять себя в руки. Нет. Похоть нужно взять под контроль. Иначе вся чертова работа над собой была насмарку. Иначе чего он вообще стоит, если не может никак взять себя в руки.
Ладно. Произошедшего не изменишь. Не отменишь того, что он уже себе уступил. Но можно не уступать больше.
Но какой же оглушительно сильный был вихрь её эмоций, яркий, будоражащий. Как же хочется пережить этот шквал еще раз. Еще раз притянуть к себе это гибкое тело и еще раз швырнуть его на простыни. Она уступит — нет никаких сомнений. Он практически физически ощущал то, что она истосковалась именно по нему. Но нет, сам факт того, что она так легко прыгнула в постель к Миллеру, обесценивает эту её тоску. Да, может, она и привязана к Генриху, но не готова соблюдать какие-то правила, не может отнестись к нему серьезно, с уважением. Не так уж он ей и важен, раз отдалась Миллеру. Боль… Срочно нужна боль. Генрих ищет её в себе, ищет в тщательно убранных воспоминаниях, находит, будит. Боль скручивает левую ногу сильной судорогой, отодвигая все эти плотские позывы на второй план.
Лопатки касается теплая ладонь, и Генрих тут же её сбрасывает и вскакивает, прихрамывая, отходя к окну. Никакой близости он себе не позволит. Близость искрит, плавит мозг противоречиями, обостряет искушения. Такие противоречивые, разные, но одинаково неверные искушения. Лучше пусть их разделяет несколько шагов. Так можно и повернуться, и взглянуть на неё.
Агата выглядит расстроенной, подавленной. Ну еще бы. Вряд ли она сама от себя ожидала, что практически набросится на бывшего любовника. Растерянная, беззащитная, натягивает на голое тело простыню, будто пытаясь спастись от глаз смотрящего на неё мужчины. В иной раз он подшутил бы над ней, что, мол, поздно спохватилась, сейчас хочется натянуть эту простыню на неё с головой, лишь бы вовсе не видеть.
— Одевайся, — тихо произносит Генрих, — тебе пора. К Джону.
Она вскидывает глаза, такие отчаянные, такие умоляющие, что хочется выть. Он не должен позволять себе быть таким. У него сейчас есть долг, и это даже слишком важно.
На самом деле все решится одним только словом. Одним только «Прости». Скажи она его — и… он не выдержит. Гордость не выдержит. Если она признает, что он для неё что-то значит, если признает, что с Миллером она ошиблась. Да, он знает, что это слабость с его стороны… Но скажи она это сейчас, и он не удержится, он её простит, просто потому что без неё эти чертовы две недели было невыносимо даже дышать. Будто весь воздух, что он вдыхал, был колючим, неприятным, тяжелым.
Не так и много ему надо. А она молчит. Молчит и, не говоря ни слова, одевается. Значит… Значит, ошиблась она не с Миллером. А с Генрихом. И сейчас — тоже. В глазах от этой мысли темнеет еще сильнее.
— Не попадайся мне больше, — умоляюще произносит Генрих. — Пожалуйста.
Сил смотреть на неё больше нет, слишком много боли в её глазах, слишком эта боль резонирует с тем, что пульсирует сейчас в груди Генриха. Если посмотрит на неё хоть еще секунду — не удержится, вновь отдаст свой разум в теплый нежный плен её тела, её чувств, будет сжимать в объятиях, сцеловывать со щек соленые слезы. Еще чуть-чуть — и он простит её просто так.
Движение навстречу (4)
Генрих торопливо подбирает сброшенные рубашку и жилет, одевается, выходит из комнаты через балкон, раскрывает крылья. Лишь бы не видеть, не думать, не знать, что она делает. Не думать получается особенно плохо.
Самочувствие настолько паршивое, что безумно жаль, что после смерти с собой покончить нельзя. Внутри вновь стучится гнев, голод, тоска… Почему все правильные эмоции из себя тащить приходится ценой немыслимых усилий, а все болезненное — оно вот тут, на поверхности, сверлит, точит, гложет?
Средство унять порывы и достучаться до совести у Генриха есть. Козырный туз в борьбе с собственной тьмой. Как, кстати, совпало, что до Того Места. Слишком от мотеля безумно близко, всего лишь двадцать минут полета. Хотя неважно, сколько бы разделяло расстояния. Позволять себе забыть этот свой грех нельзя было позволять ни в коем случае. Ни один из них, но этот — особенно.
Церковь Святого Августа встречает Генриха тишиной и запустением. Что верно, то верно, окраинные храмы не спешили восстанавливать. Вот этот сгорел уже девяносто лет назад, и до сих пор его так и не отстроили заново.
У входа в церковь — кривое черное обгоревшее дерево. Темное ночное беззвездное, затянутое наглухо тучами, небо. Картинка складывается очень зловещая, и это отлично играет в унисон настроению Генриха.
В этом храме когда-то служил Миллер. Этим храмом управлял. Когда несколько лет тщетной охоты на врага оказались безрезультатными, демон Генриха Хартмана решил обратиться к тому, откуда его враг к нему явился. Тогда это казалось таким логичным. У него уже было достаточно сил, чтобы материализоваться в смертном мире и устроить заварушку. К этой затее он готовился несколько недель — заваливал подземные ходы из храма, лишая его тогдашних обитателей путей к отступлению заранее. А после — поджег, тщательно заблокировав двери. Ночью — хотя Джул предлагала в воскресенье, но Генрих знал, утром в воскресенье жертв, конечно, будет больше, и уничтожение «рассадника распутства» даст большую результативность — если все пройдет идеально, и никто не спасет запертых в храме людей. В Лондоне девятнадцатого века это бы еще могло получиться, в Лондоне века двадцатого с пожаротушением было гораздо лучше…
Мир горел перед его глазами, когда он смотрел на пылающий храм. Казалось, что мстительное удовлетворение разливается по его венам. Сейчас же хочется разбить себе из того времени лицо, а можно — и сломать руки. Здесь были люди. Живые люди. Сколько жизней унес этот пожар? Тридцать две? Кажется, так. До сих пор люди обходят эту церковь как проклятую, а на черном обгоревшем дереве у входа на тонких лесках болтаются деревянные дощечки с именами. Погибших — так думают смертные. Убитых — знает Генрих. Лески обрываются — но их обновляют, дощечки чернеют, но их заменяют. Память никуда не уходит.
Он до того погружен в собственные мысли, до того увлекся процессом отвешивания оплеух собственному «я», что когда чьи-то руки обнимают его со спины — демон реагирует резче, чем мог бы, и резким прыжком разворачивается, сгребает противника в охапку и швыряет его к стене. Генрих не сразу успевает сообщить самому себе, что это, возможно, Агата, но после глаза запоздало видят, что нет — это не Агата. К сожалению — с досадой ощущает Генрих. Все-таки он смертельно хочет её видеть.
— Это я, я, — выдыхает Джули. Генрих смотрит на неё долгую минуту, чтобы созреть с вопросами.
— Что ты здесь делаешь? — спрашивает глухо, хрипло, практически угрожающе.
— Караулю тебя, — девушка, будто не замечая локтя, что прижимает её шею к стене, поднимает руку, невесомо касается подбородка Генриха.
— Что ты делаешь здесь, — недовольно морщась от её непонимания, уточняет Генрих, не спеша разжимать хватку.
Она должна быть в Чистилище. И у неё не было жетона, она не могла его покинуть.
В лице Джули проскальзывает паника. Быстро, едва уловимо, но Генрих успевает её заметить. Джули всегда отлично врала, вряд ли ей будет сложно солгать сейчас.
— Сбежала, — отчаянно огрызается Джул. Ну что ж, это очевидно. Это не тот факт, который стоит скрывать.
— У кого жетон украла? — настойчиво продолжает Генрих.
— Не знаю, — врет Джули. Врет. Это видно не по запаху, но по глазам. В чем же она может бояться признаться. Догадаться не так и сложно.
— У Агаты украла? — Джули сужает глаза. Её раздражает его догадливость. Но видимо, отступать ей некуда.
— Да, — нехотя выдавливает она.
Сам по себе факт кражи не был особенным поводом для беспокойства. Если, разумеется, побег Джули произошел после побега Генриха. Но если нет? Агата с некоторых пор — по совету Генри же — сняла жетон с запястья, стала прятать его под одеждой. Значит, Джул не могла его украсть, попросту сорвав. А если забирала не так — значит, забирала с дематериализующейся отравленной души.
— Ты её отравила? — рычит Генрих, крепче вжимая Джули в стену.
— Безумно нравится, когда ты такой дикий, — её руки скользят по его телу.
Кажется, от неё будет мало проку, если её не остудить. Генрих глядит в её глаза. Долго. Пристально. Пробуждая боль внутри и направляя её вдоль по невидимым нитям, протянутой между его зрачками и зрачками суккубы. Тело Джули вздрагивает, рот распахивается, суккуба взвизгивает от боли. Генрих боль дозирует. Да — демон Джули сильный, но на Холме Исчадий многие были сильными, и мало кто находился в сознании. Он не хочет сейчас размазать Джул до бесчувственности, ему нужны ответы.
Боль отпускает Джули не сразу, но когда отпускает — суккуба с трудом ворочает языком первые секунд сорок.
— Что это? — выдыхает она.
— Ты её отравила? — спокойно переспрашивает Генрих.
— Нет, не я! — выкрикивает Джули ему в лицо. — Коллинз. Ясно?
Да, действительно. Это было легко предположить. Если подловили Агату на слое, где селили сестер милосердия, у Джули не было жетона, чтобы туда спуститься. У Коллинза был. Но зачем бы такие сложности, зачем жетон именно Агаты? Зачем можно захотеть травить именно её. Тревожное предчувствие шевелится в груди. Было у яда суккубов одно подходящее под условия задачи неприятное особое свойство.
— Он отдавал ей сущностные приказы?
— Почем мне знать? — огрызается Джули. Нет, она врет. По-прежнему не ясно, чего она боялась. Коллинз принес жетон Джул, значит, Джул эту затею придумала. Она подчинила Коллинза? Или ему в принципе было достаточно только предложить еще раз сломать Агату?
— Ладно, — улыбается Генрих и снова тянет изнутри нить боли, сужая зрачки.
— Да-да, отдавал, — взвизгивает Джули.
Сущностный приказ — особый подвид одержимости. Отпечатывался где-то в подкорке сущности и заставлял жертву делать только так, как ей сказано. Ей казалось, что она сама этого хочет. Только этого и ничего больше.
Можно спросить, что это был за приказ. Но не нужно. До Генриха это доходит даже слишком быстро. Агате вложили в голову желание переспать с Миллером. Пойти к нему, именно к нему. Генрих знал, как это работает… Ничто, никакой самоконтроль победить это не мог. Это было как неуемное желание, единственное, о чем получалось думать, то, что душа воспринимала как истинно свою мысль. У Агаты не было никаких шансов.
Ярость в груди поднимается шквалом, и вместо одной нити вырывается сразу несколько. Тянутся, впиваются в зрачки Джули, и она кричит. В голос, надсадно. Генрих спохватывается, разжимает пальцы, разрывает зрительный контакт, и девушка, всхлипывая, оседает на землю.
— Интересно, если я назову тебя тварью — у меня будет минус по кредиту? — тихо выдыхает Генрих.
— Я хотела тебя вернуть, — всхлипывает Джули, и, кажется, по её щекам текут настоящие слезы, — я хотела все вернуть.
— Ты хотела… — едко усмехается Генрих, — ты, ты, ты, Джул. Я не хочу возвращаться. Я не хочу к тебе, я не хочу снова жить от охоты к охоте и ждать, когда уже по мою душу придут архангелы.
Но как же все это закручено. Джули знает о Генрихе действительно даже слишком многое. Это же был двойной удар, в одно и то же место. Окажись Агата в постели кого другого — это бы его удивило. Это было бы неожиданно. К этому бы возникли вопросы. Он же её знает. Знает степень её неискушенности и какую-то абсолютную холодность к мужчинам. Да, есть у неё привычка мечтательно скользить по лицам окружающих, чтобы, зацепив чей-то интересный профиль, склониться над скетчбуком, торопливо фиксируя на бумаге увиденного человека, но не более. Для Генриха было сделано исключение. Проблема была в том, что нашлась Агата в постели не кого-нибудь — а Миллера. Единственного мужчины, с которым она в принципе была очень близка, о чьих чувствах к себе знала. И так уж вышло — ключевого персонажа в греховном прошлом Генриха. Миллер долгое время считался в системе ценностей Генриха врагом, после амнистии его удалось переписать просто в соперники, но ведь именно соперничество за женщину вечно эскалировало их конфликты. Поэтому и не хотелось слушать Агату. Потому что она была с Миллером, не с кем-то еще. В их внезапно всколыхнувшиеся чувства Генриху было особенно легко и даже слишком невыносимо верить.
И все же до чего легко сложился этот паззл. Просто позор, что Генрих не допустил этой мысли ранее. И как мерзко он с обошёлся с Агатой. Но почему, почему она не сказала сама? Не знала?
— Вставай, — Генрих поворачивается к Джули, а та криво ухмыляется.
— Что, милый, сдашь меня?
— Сдам, — бесстрастно кивает Генрих. Джул в горячем списке розыска — демонов с критично огромным кредитом, её бесконтактный гипноз — редкостная дрянь. И как до него тогда еще не дошло, что вообще-то это значит, что она может с легкостью гипнотизировать обычных чистилищных работников. Сборщиков душ, серафимов-стражей. Понятно, почему Миллер даже сам под неё подставился — не-Орудие ей сопротивляться не смогло бы. Не-демон её бы не задержал.
— Прости, милый, — Джули неторопливо поднимается, и кажется, будто с её лица сползает маска, — но я тебе не дамся.
Причины её внезапной самоуверенности не ясны, но быстро проясняются. Инстинкты швыряют Генриха влево до того, как он успевает пропустить удар. Он не успевает почуять нападающего вовремя, только в последний момент ему удается увернуться. Сильный удар — когти врага успевают задеть спину и рассечь-таки кожу на лопатке.
Боль? Прибегнуть к ней? Нет. Два врага сразу. Он не сможет пользоваться нитями в полную силу, не захлебываясь отдачи.
Боевая форма сильней, быстрей, стремительней.
Вот только уворачиваясь от удара второй раз и наконец прыжком разворачиваясь к врагу — быстрому, очень быстрому врагу, — Генрих понимает, что вряд ли сейчас демоническая сила ему поможет. Кажется, именно сейчас он понимает, о какой конкретной заднице говорил Артур.
Этот демон в два раз больше, чем демон Генриха, и у него гораздо больше демонических меток. Черная чешуя кажется толще и темнее. Голову венчают аж две пары рогов.
— Ты долго, — капризно замечает Джули, и черная клыкастая тварь оборачивается к ней, подставляя уродливую башку под её ладонь.
Генрих пытается воспользоваться моментом, бросается вперед, метя когтями в шею врага, но тот по-прежнему быстрее, и громадная лапа отшвыривает Генриха назад. Давненько в боевой форме Генрих не испытывал сразу столько острых ощущений. Вскакивает, но тут же пропускает еще один удар.
Противник чудовищно силен. От одного удара в височную кость у Генриха начинает шуметь в голове. Ничего, бой не закончен, бой не…
Шею сжимает когтистая лапа, и Генрих вдруг понимает, что его — исчадие ада в боевой форме — держат над землей будто куклу — на вытянутой руке. Когти врага впиваются в чешую. Сразу они её не пробивают, но… Кажется, до этого недолго.
— Все-все, стоп, Реджи, — восклицает Джули, и черная тварь разворачивается к ней, и Генрих внезапно оказывается на земле у ног Джули, придавленный к этой же земле тяжелой лапой врага.
Джули склоняется к нему.
— Ну почему ты такой упрямый, милый, — устало интересуется она, — вот правда? Ты — демон. Против природы не пойдешь.
— Этим ты себя оправдываешь? — хрипло выдавливает Генрих, заставляя боевую форму сползти с его сущности.
— Никаких оправданий, милый, — Джули касается пальцами лба Генриха, — я — грешница. Мне нравится ей быть. И тебе — тебе тоже нравится. Зачем же ты себя обманываешь?
— Я могу стать другим… — в голове до сих пор гудит из-за пропущенного удара, перед глазами плывут цветные круги. Всякий раз после подобной драки обостряется голод.
— Потому что маленькая глупая девочка за тебя помолилась? — насмешливо смеется Джули. — Да брось, милый, ты у меня уже такой взрослый, а все еще пытаешься верить в сказки?
Можно было бы рвануться, попытаться вывернуться, но нога черной твари нажимает на грудь с силой кузнечного пресса, кажется, вот-вот затрещат ребра, воздух в легкие уже втягивать тяжело.
— Не у тебя, — Генрих кривит губы, — не у тебя, Джул.
— Не расстраивайся, — Джули благостно улыбается, — это ненадолго. Совсем ненадолго.
— Ты меня насильно грешить не заставишь, — Генрих смотрит в зеленые глаза Джули и улыбается.
— Ты уверен, милый? — нежно переспрашивает Джули. — Ты ж сейчас голоден, да?
Она знает… Ну еще бы она не знала, это же базовый инстинкт: потратил силы — восстанови их.
— Ты голоден, — уверенно улыбается Джули, — ну, а если я тебя отравлю — голод станет еще сильнее.
Генрих дергается. Нет, нельзя этого позволить. Яд суккуба, может, не парализует его, не лишит душу формы — у демонов она устойчивей, — но яд суккубов оказывает эффект дополнительного искушения. Усиливающего иссушающий голод. Ни один усилитель сейчас явно не нужен. Генрих торопливо тянет изнутри струну боли, но Джули дальновидно выходит из поля его зрения. Генрих отправляет эту боль исчадию-врагу в надежде ослабить его хватку, но тот лишь сильнее давит ему на грудь, раздраженно рыча. Мало, слишком мало.
— Реджи, переложи его лицом вниз, — командует Джули. Тварь подчиняется, Генриха вжимают щекой в жахлую траву.
— Ты так кстати появился именно тут, милый, — шепчет Джули, склоняясь к его уху, — я думала, тебя придется долго искать, а надо же — сам пришел. Именно сюда… Это просто судьба, и никак иначе.
— К черту такие судьбы…
— Ты вообще должен оценить тот подарок, который я тебе делаю, — будто милостиво замечает Джули, игнорируя его тон, — я собиралась скормить Миллера Реджи, но ради тебя — уговорила его потерпеть. Ему мы найдем другое Орудие. Когда ты ко мне вернешься.
— Я до тебя доберусь, — яростно шипит Генрих, пытаясь дернуться. Тщетно.
— Я буду этого с нетерпением ждать, милый, — шепчет Джули, а потом когтем рассекает кожу на шее Генриха и прижимается к ране губами, отравляя её.
Орудия Небес(1)
— Нашли, черт вас возьми, время, — тихо шипит Анна, пока Агата оправляет манжеты блузки, которые кажутся измятыми. Она будто оглушена, и в голове ни единой мысли, а на душе пусто, будто Генри всё-таки выпил её досуха перед уходом, забрал с собой все чувства, что бились в сердце. Будто выжгло все безжалостной волной пламени, и сухой ветер лишь гонял пепел. Не думать. Не давать чувствам ни шагу в душу, ни мысли в голове. У неё есть дела. Очень срочные дела.
— Ты все равно потеряла след Джона, — ровно замечает Агата и оглядывает коридор мотеля. Четыре демона. Чем их размазал Генри, не очень ясно, но от этого демоны будто одуревшие. Еле шевелятся, тихо скулящие, будто… будто распятые в забытьи…
— Отличное оправдание. — Ехидно отрезает Анна.
— Коллинз, — Агата склоняется к Винсенту. У суккуба настолько жалкий и измученный вид, что Агата даже проникается к нему очень неуверенным, но все-таки — сочувствием. Винсент не приходит в себя, даже после пары пощечин.
— Он бесполезен, — Анна морщится, на её личике это выглядит как брезгливость. Такая высокомерная брезгливость утонченной леди, которая впервые в своей жизни увидела таракана, и не знает, как бы эту гадость поскорее раздавить.
— Он должен знать, где Джон, — Агата оглядывается, фокусируясь на смертном мире. По коридору плетется один из постояльцев мотеля. Пошатывается, регулярно облокачивается на стены, то и дело спотыкается о собственные ноги. Он не видит демонов, он шагает сквозь них, валяющихся на полу. Ни грамма физической плотности. И правда — будто прижжены крестом, придавлены и лишены сил небесным гневом.
Агата вскакивает на ноги и бежит в номер. Нет, чашки в номере нет, зато находится пластиковый стаканчик, предположительно для зубной щетки. Сойдет. И вода из-под крана для Винсента тоже вполне сойдет.
Касается пальцами воды, на краткий миг заставляет их засветиться. Прикосновение силы Орудия Небес должно освятить воду, а святая вода должна помочь справиться с распятной болью. Вновь бежит в коридор. Влить в Винсента два глотка воды оказывается трудно, но оставшуюся четверть стакана он опорожняет самостоятельно. Кашляет, с трудом, но все-таки начинает ворочать лицом. Глаза его фокусироваться отказываются.
— Т-ты? — шепчет он, глядя пустыми глазами на Агату.
— Я, я, — раздраженно отзывается она, — где Джон?
— Д-джон? — рассеянно повторяет суккуб. — Б-блондинчик-святоша?
— Да-да, — Агата торопливо кивает, — где он?
— Я… я должен был увести его к церкви, — Коллинз бубнит невнятно, чтобы разобрать, приходится вслушиваться. Кажется, сознание от него уплывает.
— К какой церкви, — Агата встряхивает его за плечо, пытаясь привести в чувство, — можешь показать?
Коллинз пытается подняться. Это у него плохо получается, он даже кажется не менее пьяным, чем тот постоялец, что брел по коридору и только-только справился с тем, чтобы открыть собственную дверь.
— Это будет долго, — саркастично качает головой Анна, наблюдая его потуги, — и вот скажи, почему мы ему доверяем?
— Не доверяем, — вообще сложно представить, в каком положении Агата взяла и полностью доверилась бы Коллинзу, — он сейчас прижжен и после освященной воды, по идее, должен идти на сотрудничество.
— Туфта, — Анна щурится, всем своим видом показывая что слова Агаты её не убеждают, — ладно, дорогая, это все из-за мистера Миллера, я бы это просто так ни за что…
До того как Агата успевает, уточнить, о чем она, Анна наклоняется к Колллинзу и крепко его целует.
К горлу Агаты подкатывает тошнота, впрочем, не ей пришлось это делать, и на том спасибо. У Анны вроде нет столько долгосрочного отвращения к Коллинзу, сколько есть у Агаты.
— Как это нам поможет?
Анна деловито отмахивается, заглядывает в глаза Винсента, и он замирает, аж в струнку вытягивается.
— Прикидывался, — со знанием дела констатирует Анна, — хотел еще воды у тебя выцыганить.
— Ты что сделала?
— Отравила и загипнотизировала! — Анна пожимает плечами. — Демона я могу подчинить, только отравив. Ну, если демон меня слабее, разумеется.
— Будут проблемы, — и это даже слабо сказано. Анджела сожрет Агату заживо, за то, что в её присутствии демон отравил душу. Пусть даже демона, пусть даже конченного мудака, который так мало выдержал по амнистии.
— К черту проблемы, — Анна встряхивает волосами и уставляется на Винсента, — веди.
Агата заставляет себя сконцентрироваться, истончается сущностью, исчезая от демонического взгляда и чутья, оставаясь видимой только для Анны. Это сложно. Артур потратил на обучение этому навыку целый день. Впрочем, сейчас это очень пригождается, потому что стоит только вывернуть к церкви — старой, заброшенной, покосившейся, погибшей в огне, — и тут же приходится нырять за угол вместе с Анной.
На траве перед церковью — демон такого страшного вида, что даже Анна удивленно ахает. Демон там не один — рядом горит рыжим огнем затылок, уж больно похожий на Джули Эберт, такую миниатюрную на фоне этого громадного чудовища. А у ног Джули к земле прижат тяжелой лапой Генри. Брыкается. И что-то в груди болезненно впивается колючими шипами в душу.
— А Хартман-то что тут забыл? — недоумевающе интересуется Анна, и Агата, прикусывая губу, пожимает плечами. Вообще не очень понятно, что здесь произошло? Не очень-то похоже на свидание, но как-то же Джули и Генри встретились?
Яснее ясного, что она одна тут не справится. Пальцы касаются знака «альфа» на запястье. Артура приходится ждать. Долгие десять минут, в течение которых Генри сбрасывают в колодец, притулившийся у церковной ограды, и наваливают на него сверху бетонную плиту.
— Паршиво, — замечает Анна, — земля по бокам, земля сверху… Выбраться ему самому не удастся. Отравлен суккубьим ядом…
За спиной покашливает невозмутимый Артур.
— Вы звали, мисс Виндроуз? — интересуется он, поправляя на шее галстук.
— Сами взгляните, сэр, — Агата не находит слов, чтобы описать ситуацию.
Артур смотрит. На огромного демона, расхаживающего перед церковью. На Джули Эберт, усевшуюся на бетонную плиту. Несколько раз шумно втягивает воздух.
— Паршиво, — сквозь зубы выдыхает он, — вот, значит, кто в Лондон заявился…
— Вы знаете… это?
— Реджинальда Фокса? — уточняет Артур. — Да, знаю. Легендарный демон среди европейский конфедератов Чистилища. Поглотил два Орудия Небес. Обычно шляется по провинциям, где Орудий очень мало, постоянно кочует, чтобы Небеса его не успели догнать. В Лондоне еще не пробыл и месяца.
— Кажется, он решил здесь осесть…
— Мисс Фриман, — Артур не дает суккубе даже договорить, — я был бы очень благодарен, если бы вы вернулись в Чистилище.
— Но как же… — суккуба бросает взгляд в сторону церкви, — там же…
— Мистер Миллер? — уточняет Артур. — Да, я знаю, мисс Фриман. В колодце, вместе с мистером Хартманом, да. Именно поэтому — пожалуйста, уйдите. Вам не должно оказываться в поле действия сил Орудий Небес.
— Откуда вы знаете? — изумленно восклицает Анна. — Я не говорила про мистера Миллера.
— Вы не говорили и про колодец, да, мисс Фриман, — терпеливо кивает Артур, — я даже догадываюсь, что вы не знали о колодце, ведь вы Джона учуять не можете. Но объясняться мне некогда. С удовольствием выслушаю ваши догадки по возвращении. А теперь идите. Я бы не хотел рисковать душой мистера Миллера напрасно.
Кажется, последний аргумент на Анну все-таки действует, и она, сжав жетон пальцами, исчезает.
Артур же снова задумывается.
— Что нам делать, мистер Пейтон? — тихо спрашивает Агата.
— У нас две задачи, — Артур кивает, поднимая ладонь и к нему начинает медленно слетаться весь ненужный металлический мусор, что вообще есть на этой улице, — во-первых, нужно освободить мистера Хартмана и мистера Миллера до того, как у нас станет одним Орудием меньше. Во-вторых, нужно увести Фокса в менее людное и менее заселенное место. Идеи?
— С освобождением вам разбираться, мистер Пейтон, — Агата повела плечами, сбрасывая с плеч напряжение, — я вас умоляю — только не задерживайтесь.
Она не ждет разрешения Артура. Сейчас ей не нужны никакие разрешения. О том, что делать ей, не нужно никаких указаний, все ясно и так.
Выпустить на волю запах. Раскрыть за спиной крылья. Взмыть в небо. Невысоко, так, чтобы быстрая тварь в случае чего не смогла поймать её в прыжке. Зависнуть в небе, рядом с высоким куполом церкви, полыхнуть белым светом, привлекая внимание.
Что в душе? Пустота. Ничего нет в душе, и так проще. Ни о чем не думаешь, ничто не страшно. Фокс реагирует однозначно — срывается с места, вопреки возмущенному воплю Джули.
Он голоден. Если что Агата и успела понять о демонах, так это то, что голод — это их постоянное и очень естественное состояние. Если Джон здесь… Если он цел — значит, из-под носа Фокса увели сильную душу, которая могла утолить голод на некоторое время. Искусится ли он душой Орудия Небес? Одинокого Орудия Небес, при кажущейся слабости? А Орудия Небес с запахом, за который «даже удивительно, что её еще не сожрали»?
Фокс искушается. Фокс срывается с места и несется за Агатой по улицам. Затем, видимо, заколебавшись вписываться в повороты, останавливается, и за его спиной разворачиваются черные крылья. Две пары огромных, черных крыльев. С учетом его скорости новость о том, что он может летать — не самая обнадеживающая.
Впрочем, у всего на свете есть цена. Есть цена у дара Небес. Есть долг, которому надлежит следовать. Нужно беречь смертных от опасностей вроде Реджи Фокса. И если так выйдет, что Небеса в Агате ошиблись, — значит, они выберут кого-то другого. Того, кто справится. А сейчас — попробует справиться она.
Для силы Артура необходимо открытое пространство, просто потому что даже при том, что он с ней очень осторожен, — даже от малейшего перенапряжения могут пострадать люди. Поэтому вокруг не должно быть жилых зданий. Это главное условие. Старый пустой парк с покосившимися качелями вполне пойдет. В такой час здесь никого нет, даже случайные гуляющие обходят стороной — в парке не густо с фонарями, и это очень кстати.
Агата успевает приземлиться, увернувшись от спикировавшего на неё Реджи Фокса. Приземляется, а затем полыхает светом так, что имей смертные возможность видеть её свет — решили бы, что взорвалась звезда и затопила все белым, неподвижным, таким неживым светом.
Реджи Фокс сваливается на землю кулем, он парализован — но рано радоваться. Демоны такого уровня должны избавляться из-под действия силы Орудия Небес — одиночного — за очень короткий период времени, так что у Агаты не так и много времени, чтобы призвать остальных.
Для этого нужно не так уж много: сложить ладони у груди, склониться к ним лбом.
Губы сами вычитывают формулу призыва.
«Fratres in armis»
«Fratres in armis»
«Fratres in armis»
Орудия Небес (2)
— Опаздываешь на свидания, Хартман? — скептически замечает Джон, когда ему практически на голову сваливается демон. Хартман перекинулся частично, наверное, именно потому, что успел превратить ноги в демонические лапы, приземляется он практически удачно.
Сверху на колодец опускают бетонную плиту. Сразу становится невыносимо темно, и Джон зажигает в воздухе несколько клочков святого огня.
Хартман стоит так близко, между ними нет и полуметра, но демон отчаянно вжимается в стену, стремясь сделать это расстояние еще больше. Даже живот втянул. Хотя ладно. Нечего ему втягивать, что уж там.
— Вижу, ты тоже познакомился с новым парнем своей бывшей, — Джон глядит прямо в расширенные зрачки Генриха. — Как, ощутил, что ты её недостоин?
— Заткнись, — шепчет Хартман, — пожалуйста, заткнись.
Им повезло. Старый церковный колодец никто не чистил все эти годы, он заилился и обмелел. Воды в нем нет. Стой они по пояс — да хоть даже по колено в ледяной воде, — было бы хуже. Вода, простая, не освященная прикосновением дара Орудия, ослабляет демонов. Слабость — обостряет голод. Голода сейчас Хартману и так достаточно.
— Почему от тебя несет кровью? — рвано выдыхает Генрих.
— Потому что твоя подружка знает, как тебя возбудить? — насмешливо уточняет Джон. — Мной чуть стену не проломили. Голова слегка пробита, знаешь ли, в отличие от некоторых, она у меня не дубовая.
— Ты же мог исцелить… — Хартман будто задыхается, его так сильно трясет, что это явление даже сложно назвать дрожью. Кажется, жить осталось даже еще меньше, чем Джон вообще предполагал.
Тем не менее, поясняя непосвященным, вопрос собственной «недогадливости», Джон молча поворачивается и демонстрирует связанные за спиной руки.
— Веревка из чистилищных тряпок, и яд исчадия ада, — сообщает он, — кожу жжет — это не страшно. Но без рук — руки не наложишь. Логично, да? Ты же умеешь в логику?
Возможно, с хамством он перегибает. Но вопрос был идиотский. Неужели Джон бы сам не догадался исцелиться, будь у него такая возможность?
— Тебе явно жить надоело, — тихо произносит Хартман и жмурится. Кажется, ему сложно даже смотреть на собеседника. В душе же Джона Миллера во все горло орут боевой клич волынки.
— Ага, обратный отсчет своих последних секунд уже третий раз начал, — Джон пожимает плечами. Ситуация не радует. Орудие Небес зажато в чертовой земляной клетке в компании демона, помешанного на мести, отравленного и побитого. И Джон знает, что прожарить Хартмана хоть мало-мальски ощутимо он не сможет — уж больно Генрих отрастил себе толстую шкуру. Трястись за жизнь как-то поздновато. Подыхать — так с гордой, непокорной песней.
— Больно ты мне нужен, — тихо выдыхает Хартман, и по его лицу пробегает явственная гримаса боли, слишком отчетливая, чтобы её упустить. Он тихо сползает вниз, на корточки, прижимая к груди левую руку.
Это довольно сюрреалистичная картина. Вот только что Хартман выглядел исключительно как демон, который вот-вот сорвется — и глаза с суженными зрачками наливались опасным кровавым свечением, и под кожей будто ходили мышцы непробужденной боевой формы, а сейчас…
— Ты в порядке?
— Еще нет, — в голосе Хартмана явная боль, — давай сюда руки, Миллер.
Поворачиваться спиной к исчадию ада опасно. Да куда там опаснее, они заперты в тесной земляной яме, тут как не повернись — все опасно. Пальцы Хартмана дрожат, и с узлами возятся долго. Впрочем, с чем с чем, а с узлами Эберт не помелочилась, опутала каждый палец Джона, чтобы вообще никак не мог высвободиться.
Пальцы успели онеметь, приходится их растирать.
— Экзорцизм? — тихо предлагает Джон. Не может он сейчас провести ритуал сам, все-таки Хартман тут демонстрирует невиданные чудеса сознательности. Выжигать его Увещеванием вот так, в лоб, без просьбы кажется слишком… невежливо?
— Исцеляйся, придурок, — измученно шипит Генрих, — у меня от запаха крови желудок кровью выворачивается.
— Но ты держишься, — недоверчиво произносит Джон, — с учетом обстоятельств — крови, яда, фоновой ослабленности и нашей с тобой горячей любви друг к дружке — ты не должен был выдержать больше, чем секунд десять, но прошло уже больше времени…
— Сколько раз мне нужно сказать, что я не хочу на крест, чтоб ты понял, что я не шучу? — устало интересуется Генрих, и кажется — его отпустило. Не встает — остается сидеть на земле, глядя на Джона снизу вверх. Тело мелко подрагивает — это удается отметить в неверном слабом свете белых искр.
— Ну… — Джон пожимает плечами, — скажем по-честному, говоришь ты это не очень убедительно.
Если брать в расчет все закидоны Хартмана с момента амнистии…
— Ты еще своими ногами ходишь, Джонни, это самый убедительный аргумент, на который я в принципе способен, — Хартман пожимает плечами. Действительно, какие еще могут быть доказательства, да?
— Что ты вообще делал в Лондоне? — наконец спрашивает Джон. Положительная динамика Хартмана удивляла две недели. Две недели Триумвират пытался допытаться у Артура, чем занят Генрих, а Пейтон лишь меланхолично отзывался: «Работает», — и завязывал на этом дискуссию.
— Не поверишь, — Генрих ухмыльнулся, запрокидывая голову, задевает рогами стену, — проповедовал.
Джон даже давится воздухом и зажигает еще два клочка святого огня, чтобы получше рассмотреть лицо Хартмана.
— Серьезно?
— Да, преподобный, пытался присвоить ваш хлеб…
— Преподобный из меня был дерьмовый, — отстраненно замечает Джон.
— Ну отчего, — Хартман пожимает плечами, — столь много благочестивых леди ходили к вам на исповеди, преподобный… Их желание покаяться не может не заставить восхищаться глубиной проделываемой вами работы…
Вот по этой реплике можно узнать Хартмана, которого знает Джон Миллер. Кажется, демон говорит спокойно. Но нет, каждое слово звучит с красноречивым намеком, каждое нацелено, чтобы уязвить Джона, напомнить ему о его грешной жизни. Хотя… Забывал ли он? Даже ликвидированная задолженность по кредиту не является поводом для забвения. А губы все равно расплываются в легкой улыбке. Раскаяние раскаянием, а гордость еще никто не отменял.
И все же спокойствие Генриха слишком подозрительно, с учетом обстоятельств, до Джона даже не сразу доходит возможная причина его спокойствия.
— Ты знаешь? Про Агату? — тихо спрашивает он, и сам приседая на корточки.
— Я немного знаю про Агату, — хмыкает Генрих, а затем его лицо снова дергается от боли, — но про то, как вы на самом деле переспали — в курсе.
Мир перед глазами Джона на краткий миг перестает шевелиться. Лишнее напоминание будто болезненно нажимает на едва подзажившую душевную рану. Может, Агата к нему пришла и не сама. Но он-то хотел произошедшего искренне. И сам факт того, что дорогая ему девушка к нему пришла не своими ногами, и по своему желание — вот он ранил наиболее глубоко.
А ведь Коллинз посмел смеяться ему в лицо «я же тебе помог, скажи спасибо». Как будто Джон просил той помощи… Тем не менее до того, как появилось исчадие, — Джон успел сказать Винсенту спасибо. Горячее спасибо, прожигающее до костей. Мелочно. Придется провести пару часов в исповедальне и брать чуть больше работы в ближайшие несколько недель. Придется напоминать себе о собственной мелочности впредь. Если он, конечно, доберется до Чистилища.
— Я тут подумал… — ровно произносит Джон, — может, ты меня все-таки сожрешь?
Генрих отвечает заковыристым ругательством. Явно давно не вспоминал, а тут так хорошо подошло.
— Я уже говорил, на Поле не вернусь, — добавляет он напоследок, — ты вообще человеческую речь понимаешь?
— Ну, — Джон отводит взгляд, потому что пояснения у него самые что ни на есть неважные, — оспоришь приговор. Ситуация сложная.
— Иди к черту, — рычит Генрих.
— Да я уже с ним, — хмыкает Джон, и, судя по выражению лица Хартмана, он очень хочет Джону врезать.
— Я просто не хочу, чтоб меня сожрала та тварь, — тихо объясняет Джон, — да еще и душу чтобы рвали. Но ты можешь собрать остаток моей души в шар, доставить в Чистилище. После тебя я восстановлюсь быстрее.
Запасной шар для такой цели у Джона есть. Всегда лежит в кармане.
— Двенадцать лет — это быстрее? — скептически уточняет Генрих.
— Быстрее, чем тридцать. А меньшим сроком с той тварью вряд ли обойдешься…
— Ага, а через двенадцать лет ты сразу прибежишь ко мне на поле меня оправдывать, да? Мне, разумеется, полегчает.
Джон замолкает, снова растирая пальцы. Ему двенадцать отравленных страшных лет, Генриху — двенадцать раскаленных на кресте. Такая себе перспективка.
— Дай еще огня.
Мелких огоньков становится больше. Генрих подставляет ладонь одному из них, огонек впивается в его кожу, и демон шипит от боли.
— Ты как маленький, — Джон качает головой и нарочито ласково продолжает: — Горячо, Генри, не трогай пальчиком!
— Ты б лучше запах подобрал, — мирно замечает Генрих, — и вот честно, не жгучая твоя дрянь, эту боль игнорировать легче.
— Легче, чем что? — загадочная сдержанность Хартмана не может не шевелить любопытства. Такое ощущение, что сорваться он мог только поначалу, а потом весь его интерес к Джону вдруг угас. Хартман к нему охладел. Какая трагедия…
— Лучше подумай, как нам выбраться, Джонни, — Генрих дергает плечом, — я не смогу купировать сам себя вечно, у меня есть чисто физические пределы.
Есть же знаки. Джон запоздало спохватывается, что раз уж пальцы освобождены, — можно и воспользоваться ими. Надеется только, что связи Чистилища не ослабляются, если находишься под землей. «Альфа» Артура сначала не отзывается, а потом сильно колет в ответ. Будто он находится рядом. Именно в этот момент бетонная плита, которой был перекрыт колодец, начинает осыпаться вниз сухой палью и мелким щебнем. Артур, черт его возьми, мог же не просто лишить плиту формы, но и песок поднять… Как выбираться — ясно не очень, в такой тесноте крылья не развернешь.
— Потанцуем, Миллер? — Хартман оказывается на ногах даже слишком быстро, плавным, опасным движением. Именно эти его демонические повадки и напрягали больше всего.
Оказываться лицом к лицу с исчадием ада в его боевой форме — тревожно. Даже для Джона, особенно с учетом, что за демон рядом с ним.
И все-таки… и все-таки Хартман не перестает удивлять. Довольно бережно подцепив соседа по земляной темнице подмышками, даже когти подобрав при этом, он единым прыжком покидает колодец.
— Доброй ночи, господа, — иногда Артур даже слишком спокоен. Вот сейчас стоит, возмутительно невозмутимый, вытянув руку в сторону, и управляет скованным телом Джули Эберт. Руками Артур пользуется исключительно для внутренних ограничений, мысленно подчинять все, что связано с землей и металлом, у него получается с большей силой и меньшей возможностью контроля.
— Генри, будь любезен, нейтрализуй эту леди до прихода патруля, — мягко улыбается Артур, и Хартман уже вновь в человеческой форме бросает на Эберт мимолетный взгляд. От судороги, прошедшей по телу суккубы, Джон отводит взгляд. Он в принципе никогда не находил в подобных зрелищах удовольствия. Так. Артур в курсе каких-то дополнительных возможностей Хартмана. Это уже о многом говорит.
— Спасибо, — Артур кивает, глядя на потерявшую сознание Джули, — а теперь поторопимся, господа.
Поторопимся? Да, где та черная тварь, благодаря которой Джон пытался освоить полет без крыльев?
Когда в парке неподалеку полыхает ярким белым светом, в груди Джона все замирает. Свет Орудия Небес — перерожденный свет Сесиль он узнал бы даже спустя триста лет. Там Агата? Одна? С тем демоном? Может, Джон и смирился, практически смирился с тем, что Агата ему взаимностью не ответит, но сейчас на него накатывает тревога. Острая, пронзительная. Он уже потерял Сесиль, позволил исчадию ада уничтожить её свет. Он не может допустить, чтобы это случилось снова.
Будто отвечая его мыслям, сущность Джона начинает истончаться и растворяться, чтоб появиться в другом месте.
Как давно он этого чувства не испытывал — когда другое Орудие Небес призывает на помощь своих братьев по оружию.
Орудия Небес (3)
Чего не отнять у Миллера и у Свон — так это их умения являться с помпой. Ну правда. Когда они являются — первый в ореоле белого святого огня, вторая — с ударом молнии, окутанная маленькими шаровыми электрическими разрядами, впору торжественно бить в барабаны и восхищенно давиться воздухом, и сложно заметить темный вихрь мелких водных капель, сопровождающих Кхатона. Артур же вообще делает вид, что у него в этой песочнице самый маленький и неопасный совочек, осознанно не демонстрируя свой дар сразу же, как его душа — душа Орудия, призванная для битвы, — обретает форму. Впрочем, Генрих помнит, как гудит под ногами Пейтона, сосредоточенного на силе, земля, когда его ноги её касаются. Будто вздрагивая от каждого его шага.
Артур и сейчас занят делом — собирает с округи мелкий металлический мусор и создает из него оковы для Фокса. Мусора мало, материала для цепей нужно огромное количество — работа идет не скорым темпом.
— Хартман, в сторону! — приходится шарахнуться в сторону от молнии, которая ударяет в морду прижатого к земле демона. С чем у Анджелы проблемы — так это с меткостью. Протягивая пути для своих молний, она уже третий раз прокладывает траекторию слишком близко к Генриху. Вроде как подозревать Анджелу в предвзятости повода не было, видимо, так просто получается.
К чему Генрих не был готов, так это к тому, что во время сражения с демоном Орудия слышат мысли друг друга. «Для большей координации», — так сказал Артур, когда Генрих выругался, впервые услышав мысленные непечатные «восторги» Кхатона от визуального знакомства с Реджинальдом Фоксом. «Для того, чтобы на вопли не отвлекаться от молитвы», — куда более скептичней заметил Миллер. Нет, мысли у них общие не все, лишь те, которые нужно адресовать соратникам, чтобы они тебя поняли и среагировали вовремя.
Координация у Орудий очень хороша. До Генриха сейчас доходит, почему в свое время Триумвират его все-таки одолел, демонстрируя удивительную скорость реакции. Естественно, они ж вчетвером практически единым разумом работали.
Чтобы одолеть демона — демона надо зафиксировать на месте. В ход идут более пассивные способности того же Артура и Кхатона с их стальными и водными путами, и Агата с её парализующим светом. Чтобы демон не мог передвигаться, рвать оковы и препятствовать вычитке экзорцизма, его в прямом смысле «прожаривают» Анджела и Миллер. Ну и Генрих раскручивает боль нить за нитью, черпает горсть за горстью, «поит» ею демона.
— Агата, вспыхни… — хриплая мысль Кхатона.
Полыхает белое зарево.
Когда Генрих подловил Сесиль, он точно знал, кем она является для Орудий. Катализатор. Свет, который заставлял души сиять ярче. Слабая один на один, необходимая для всей совокупности Орудий в минуты, когда их души ослабевали. Поэтому он выпил её тогда, чтобы подкосить Триумвират. Вот только Небеса дали Триумвирату даже сильный дар Кхатона.
После вспышек Агаты сил прибывает, а эхо боли, которое отдается в теле Генриха, — слабеет. Будто от глотка освященной Кхатоном воды. И можно вытянуть из памяти еще пригоршню острых ощущений, можно утолщить те невидимые щупальца боли, которыми Генрих впивается в тело Реджинальда Фокса.
Фокс прижат к земле, серафимы же парят над ним, этаким пятиугольником вокруг демона. Генрих тоже в воздухе, но не в общем ряду, чуть поодаль. У него потемнело в глазах, когда он услышал экзорцизм, вычитываемый в пять голосов. Было решено, что он парит слегка за спинами, над Фоксом, и не лезет в поле действия Увещевания.
— Джон, твой удар!
На Миллера невозможно смотреть, когда он призывает себе на помощь столько пламени, — окутанный огнем с головы до ног, он очень похож на ангела возмездия со средневековых гравюр. Подглядывать за его действиями получается только сквозь прикрытые веки.
— Сейчас, — усталый голос Джона.
— Пейтон, наш пациент снова рвет твои цепи.
— Спасибо, Генри…
Проблема в том, что предел возможностей демона раскрывается не сразу. Как Генрих смог уравновесить свою демоническую сущность и Дар Небес, как смог после обращения к источнику боли внутри себя пользоваться крыльями, так и Реджи Фокс потихоньку адаптировался к боли.
Именно поэтому когда-то Генрих смог выдержать четыре часа под прессом их сил. Тогда он за себя боролся. Борется и Фокс. И его возможности побольше Генриховых.
— Миллер, уплотни сеть.
Джон не отвечает, но огненная паутина, накрывающая Фокса сверху и не дающая развернуть крылья, все-таки становится толще.
— Рози, вспышку…
Орудия все быстрей истощаются, все быстрее просят Агату о «перезарядке», потому что сдерживать Фокса становится сложнее. А ведь Агата тоже слабеет. Паралитический эффект её света медленно, но верно теряет в долговременности, с каждым разом. Всякий раз она использует свет собственной души, а у него есть пределы. А предел выносливости Фокса в это время растет…
— Что-то не так, — замечает Артур.
Фокс настойчиво пытается проползти через огненный барьер Миллера, у него на это хватает сил, даже несмотря на молнии, бьющие его раз за разом и роняющие его на землю, несмотря на вихрь мелких водных капель и мелких частичек песка, ставших святыми только от соприкосновения с даром Орудий. Этот вихрь бушует внутри кольца, демон им дышит, вдыхает в себя святость, святость жжет его изнутри. Это поганое чувство, когда хочется выплюнуть собственную душу, Генрих помнит очень, очень ярко. Да, сейчас Фокс не должен шевелиться столь активно, не должен пытаться выйти из круга святого огня, он уже должен быть к этому хоть как-то чувствителен.
— Генри, ты можешь сильнее?
Сложно сказать. Откат уже довольно сильный, еще три-четыре щупальца боли — и держаться в воздухе Генрих уже не сможет.
— Я попробую…
— Мне кажется, мы не дожимаем по стратегии, — замечает Миллер, — легкое усиление давления нам не поможет, Фокс еще даже не начал сопротивляться. Нужно что-то очень сильное. Взрыв.
Взрыв?
— Так взорви уже его, Джонни, — Анджела тянет с небес еще одну свою «стрелу». Она толком не понимает. Хотя понимает ли кто-то, кроме Артура?
Взрыв… Тот взрыв, который единым разом выжег в Генрихе дотла выкипающую демоническую ярость. Тот взрыв, что размазал пятерых демонов до состояния распятного забвения… Тогда импульсы боли были толще, чем нити, сильнее, чем сегодняшние щупальца. Тогда из боли на краткий миг состоял весь мир.
Вот только… Хватит ли сил сейчас?
— Птичка.
Он впервые обращается к Агате с начала боя, впрочем, и она за все это время не сказала ни слова. Лишь только вспыхивала всякий раз, когда её просят. Он не просил. Обходился тем, что есть. Спасибо хоть, что его, как Орудие, от паралитического эффекта её света Небеса защитили.
— Да? — негромко говорит, будто замерла от его обращения.
— Полыхнешь для меня от всей души? — Генрих очень надеется, что эту мысль ему получилось сказать с теплой улыбкой.
— Сейчас?
— Чуть позже.
По-прежнему избегая нарушения границы территории, на которой действуют слова Увещевания, Генрих взлетает над полем.
— Миллер, мне нужна будет нора.
— Генри, ты выгоришь, — спокойно замечает Артур. — Пять Орудий — ровно на одно больше, чем может выдержать твоя демоническая оболочка. Да еще и твой собственный откат добьет тебя окончательно.
— Ни за что не поверю, что душа может выгореть.
— Душа — не может, демон — может, — голос Артура звучит очень твердо, — именно поэтому Небеса никогда не дают силы новым Орудиям без повода.
— Арчи, глянь вниз, твой повод снова рвет оковы.
— Оковы я восстановлю. А вот выгоревшую оболочку демона…
Это было бессмысленно. Можно было потратить время на спор, и Реджи Фокс выскользнул бы из клещей Орудий Небес. Артур, конечно, говорил жутковатые вещи, но… но Генрих не особенно сейчас верил, что Небеса освободили его для чего-то иного. Вряд ли его душе суждено стать угасшей искрой, которую можно вымаливать и наполнять светом не один десяток лет. Угасание души — великое горе на Небесах. Хотя даже если он и угаснет — скорее всего, так и надо. Небеса дали ему свободу, дали ему дар, и сейчас пришло его время заплатить за эту цену. Малая цена за шанс искупления, в общем-то.
— Птичка!
— Да, Генри, — её голос подрагивает, но… Но как и прочие, она его не отговаривает. Она даже не знает, о чем они с Артуром ведут речь, только знает о теоретически последствиях. С истинными последствиями своего решения иметь дело ему. Наверняка его никто не устыдит, если он откажется, ведь решится на подобное — сложно.
— Я тебя два раза на свидания звал, помнишь?
— Помню, — почти шепчет Агата, — все помню, Генри.
Помнит она наверняка, что оба раза не получили должной реализации, забылись за чередой неприятностей. Ужин после работы — спрятался за освобождением Анны и кабинетом Миллера, вечер под звездами был расстроен появлением Джули. Впрочем, что греха таить, оба раза сам Генрих немало поспособствовал срыву этих их рандеву. А вроде предвкушал же их, как мальчишка.
— Попробуем в третий раз, когда я очнусь?
Это неподходящий момент. Очень неподходящий. И сейчас их, черт возьми, слышат еще четверо Орудий. И вообще-то, после того, как он с ней обошелся, — у неё есть все поводы его послать к дьяволу на поиски морских огурцов. А может, она просто не понимает, с чего это он вдруг переменился в настроении. Но сейчас нужно от чего-то оттолкнуть.
— Конечно, Генри, попробуем, — тихо отзывается Агата, — и не вздумай не очнуться.
Он многое бы отдал, чтобы хотя бы обнять её сейчас, ощутить её тепло на краткий миг. Сердце бы, и то — прижалось бы к ребрам, лишь бы оказаться к ней на дюйм ближе. Но на это нет времени, Фокс под огненной сетью Миллера вовсю пытается раскрыть крылья.
— Полыхай, птичка! — Генрих шепчет это мысленно, а губы улыбаются.
Он складывает свои крылья, рассеивая их, и камнем падает вниз, на лету переходя в боевую форму демона, вытягивая вперед когтистые лапы. Он впитывает каждую частичку её света, заставляя свою душу разгореться еще сильнее, скручивает клубок боли в груди в тугой, громадный шар, который с каждой секундой все невыносимее держать в своем теле.
— Миллер!
Огненный барьер мигает, угасая целиком, а затем вспыхивает снова, накрывая Генриха раскаленным жаром. Под куполом ещё хуже, пусть Орудия и медлят наносить новые свои удары, здесь воздух весь пропитан святостью — в каплях воды, в частица пыли, в маленьких искрах и крохотных шаровых молниях. В глазах темнеет от того, насколько здесь сложно дышать, кажется, что каждый вздох проходится по лёгким наждаком. Да, действительно, долго он здесь не выдержит. Его задержание — без катализатора было более мягким. Генрих падает на спину Реджи Фокса, вгоняет когти ему под ребра, впиваясь в чешую, с усилием её продирая.
А затем он заставляет себя взорваться…
Он не черпает из себя боль сейчас. Не нужно черпать из моря. Нужно просто выпустить море наружу. Затопить им весь видимый мир.
И позволить себе опуститься на темное дно забвения.
Эпилог (1)
— Знаешь, это напоминает издевку, — Джули Эберт смотрит на Агату, неприязненно сощурившись. Впрочем, это всего лишь второй раз, когда Агата её навещает. Джули еще даже толком не прожгло, она кажется бодрой, будто бы легко сносит свое наказание, не проваливается в забытье.
— Что конкретно тебе это напоминает? — негромко уточняет Агата, смачивая полотенце. Она уже покормила Джули, осталось лишь умыть, заплести и напоить. Всего лишь…
— То, что ты приходишь, конечно, — раздраженно отрезает Джули, — такая правильная, такая вся из себя благородная, что аж тошнит.
— Кто-то должен к тебе приходить, — Агата пожимает плечами. У неё нет особого желания спорить и что-то доказывать суккубе. Джон находит, что эта её зацикленность на посещении Джули — довольно самоагрессивна, по сути. Хотя Агата не согласна. В первую очередь, это её напоминание о цене непредвзятости, которую следует платить. Возможно, когда-нибудь она сможет со спокойной душой посещать и Коллинза, однако сейчас её от этой мысли все равно передергивает. Просто сейчас гораздо проще сфокусироваться на обязанностях и долге, чем на прочем содержимом собственной жизни.
Агата устала. Вообще, сегодня это уже шестое посещение, и сейчас уже она чувствует себя эмоционально истощенной. С каждым демоном приходится прислушиваться к голосу интуиции, задаваться вопросом — готов ли распятый к освобождению? Что видят в нем Небеса? Больше никаких молитв без этого она не читает. Хотя еще двоих за эти одиннадцать дней она отмолила. Отродье и суккуб. Не так и мало, с учетом общего количества человек под её ответсвенностью.
— Ну что, не помолишься обо мне сегодня? — ехидно интересуется Джули.
— Сегодня — нет, — ровно замечает Агата.
— Тогда во мне было ничуть не меньше раскаяния, чем сейчас, — суккуба смотрит на Агату пристально, будто пытаясь заставить её сомневаться, — почему тогда сработало? Почему тогда ты молилась?
— Перед лицом ответственности раскаиваться может любой, — косы демонице Агата заплетает аккуратно, очень стараясь не дергать за волосы, — вот только не столь уж многие готовы думать об искуплении уже после того, как наказание перестанет угрожать.
Почему она тогда молилась? Потому что чувствовала острую необходимость проверить, обязательно ли Небесам для милосердия, чтобы демон был распят. Нет, не обязательно. Было важно раскаяние, и в подавляющем большинстве случаев демон, оказавшись на кресте, действительно раскаивался. Вопрос был в том лишь, готовы ли они были держаться вопреки собственной натуре.
— Я была не готова? — едко интересуется Джули.
— Наверное, — Агата тихо вздыхает. Джули упорно хочет, чтобы Агата её осуждала, а ведь это запрещено для всех, кто ходит в миссию милосердия. Вопреки всему произошедшему, ей сложно ненавидеть Джули. Чертовски сложно. Да и не нужно это вовсе. Сейчас все, что она испытывает — это сочувствие. Все-таки на кресте не сладко. Даже имея к Джули личные счеты, Агата все равно ей сочувствует. Другое дело, что будь у Чистилища иной выбор, иные возможности приводить демонов в чувство, — они бы ею воспользовались.
— Как он? — торопливо интересуется Джули, пока Агата пытается найти в сумке полную фляжку. Видимо, боится, что уйдет Агата раньше. На душе и так пусто, будто в пустыне, а сейчас — еще и пронзительно холодно, как в ледяную пустынную ночь.
— Ясно, — тихо шепчет Джули и опускает глаза.
Как и предсказывал Артур, сущность Генри, оказавшись в зоне действия сразу пяти Орудий, очень сильно пострадала. Демонические метки осыпались с него сухим пеплом, и в его неподвижном лице не было ничего, что намекало бы, что его душа еще может быть возрождена. Если бы его душа просто потеряла форму, её бы собрали в шар-концентратор, доставили бы в Чистилище, и здесь Агата заставила бы её разгореться, наполнила бы её собственным светом. Но душа его была тесно сплетена с энергией чужих душ, им когда-то поглощенных, глубоко пряталась в ней, будто в физическом теле, и извлечь её не представлялось возможным. Агата пыталась подпитывать всю сущность Генри как таковую, надеясь, что если в каком-то месте прибудет полезный ресурс, — система его организма уже сама направит, куда нужно, но видимо, энергии пока было мало. Или… Или попросту душу Генри уже было не разжечь. Об этом Агате никто не говорил. Об этом ей все красноречиво молчали.
— Он очнется, — упрямо качает головой Агата, — очнется!
Джули смотрит в лицо Агате долгим грустным взглядом. В эту минуту их, кажется, одолевают очень похожие чувства.
— Я ему такого не хотела, — чуть растерянно произносит Джули. Она говорит это уже во второй раз. Второй раз Агата сухо улыбается и наконец подносит ко рту суккубы фляжку.
Да, Джули такого для Генри не хотела. Она хотела, чтобы Генри сорвался, хотела ему ничуть не лучшего — возвращения на Поле. Да. Пусть не сейчас. Пусть не сразу. Пусть после пары лет демонической охоты, но рано или поздно попадется даже самый удачливый демон.
— До следующего вторника, Джули, — гася в себе раздражение, Агата прощается с суккубой. Та в ответ презрительно щурится, ей мерещится издевка и в этих словах Агаты. Впрочем, Агата не подавляла запах, Джули может принюхаться и почуять, что конкретно Агата испытывает и хочет ли как-то её задеть.
Все. Можно материализовать крылья, толкнуться навстречу небесам.
Время возвращаться к работе поручителя. К работе — довольно громко сказано. Все-таки основной деятельностью оставили посещение распятых, без прочей работы в Лазарете.
Но ежедневно проверять счета подопечных, направлять их на экзорцизмы при обнаружении отрицательной динамики и отчитываться перед Артуром — лично, каждый вечер, за исключением выходных, Агата обязана. Только и успевай составлять отчеты.
Впрочем, сегодня обошлось без эксцессов, отчет на диво приличен, не приходится краснеть из-за того, что вышедшая в смертный мир, как ищейка, Анна стащила из кондитерской пирожное, или что подопечное отродье чуть не подрался с дежурным экзорцистом. Вспыльчивый был паренек, ничего не скажешь. Хотя он позавчера практически сразу опомнился, принялся извиняться, и все обошлось только одним разбитым носом одного отходчивого серафима.
— Мистер Пейтон, мне можно сегодня?.. — Агата не договаривает, а Артур задумчиво смотрит на неё, будто изучая.
— Нет, не стоит, — он качает головой, — завтра утром попробуйте, я думаю, вы сможете восстановиться в должной мере для еще одной попытки.
Ей не дают вливать в Генри силы слишком много и слишком часто. То ли чтобы она сама не надорвалась и не иссякла, то ли потому что его сущность не сможет справиться с таким количеством донорской энергии.
На самом деле так отчасти легче. Она не пойдет к нему — она не будет касаться ледяных, неподвижных пальцев, она не будет видеть бледного лица, которое в своей неподвижности так походит на лицо мертвеца, она не будет ловить бегущие по щекам молчаливые слезы.
Но очнется ли он без её помощи? Что если сегодня её слабость отодвинула его пробуждение. Хоть на сколько. На целый бесконечный день. Да хоть бы даже на час. Неважно.
Если бы у Агаты была возможность отдать ему часть своей бессмертной жизни, лишь ради того, чтобы он снова задышал, снова улыбнулся, она бы сделала это, не задумываясь ни на единую секунду. Даже если ей и было бы не на что рассчитывать, даже если бы он и отказался от свидания, предложенного им за пять минут до того, как он практически покончил с собой…
Нет. Не думать так. Пусть так думает Анджела, да хоть весь Триумвират, Агата же уверена — Генри справится. Вернется. Придет в себя. Души редко угасают навсегда. Но все же иногда…
Слабой стороне Агаты хочется покоя, уединения, лишней возможности самоистязания, но ей волю давать не хочется. В конце концов, никому нет прока от того, сколько лишних слез она прольет, переживая. Генри это никак не поможет. Агата навещает Анну, весь вечер они болтают о какой-то не такой и важной ерунде. Кто кому нравится в штрафном отделе, что Анна сегодня снова наткнулась на Анджелу и получила от неё нагоняй, и даже не затеяла свару.
У Анны чуткие глаза. Агата, к своему стыду, это заметила не сразу, лишь недавно, когда обратила внимание, что суккуба упорно не дает ей остаться наедине с переживаниями. В первый же вечер после распятия Реджанальда Фокса Анна притащилась к Агате и даже ночевала у неё. Об этом своем подвиге она сообщила и двоим новеньким подопечным Агаты, и те не преминули воспользоваться дурацкой идеей — заявляться к своему поручителю в случае, если голод стучался в виски. Пришлось завести большую коробку с печеньем и просфорой и разжиться тремя лишними матрасами, потому что как-то раз заявились все трое разом.
В жизни Агаты будто настал сезон пижамных вечеринок, и ему не было видно конца и края. Демоны бесконечно много болтали с Агатой и друг с дружкой, допоздна не давая уснуть, истребляя запасы чая и сладкого с умопомрачительной скоростью. И это помогало — самой Агате. Помогало держать глаза сухими, мысли — пустыми, а душу — спокойной.
— Не работает, да? — замечает Анна, и Агата понимает, что подруга уже три минуты как закончила рассказ о беседе с Анджелой и теперь внимательно смотрит на собеседницу. Агата же, в прострации просидевшая, прослушала окончание этой прекрасной сцены, рассеянным взглядом буравя собственное запястье с черными знаками.
Агата качает головой. Не колет. Ни один знак. И уж тем более знак «альфа» или «омега». Кто сегодня на дежурстве, кто молится за душу Генри. Артур? Анджела? Джон? Возможно, Триумвират не очень-то верит, что Генри очнется в скором времени. Но упрекнуть их не в чем, они делают все, что могут, для того, чтобы душа Генри снова наполнилась силой. Просто этого оказывается недостаточно.
— Все образуется, — тихо произносит Анна, сжимая пальцы Агаты, и та слабо улыбается. Хорошо бы. Хорошо бы все образовалось.
Хорошо бы в этой кромешной пустоте снова что-то появилось.
Эпилог (2)
Первые пятнадцать секунд в сознании кажется, что кожа была сожжена дотла и наросла заново, но все равно даже к прохладным ситцевым простыням ею прикасаться больно. Впрочем, это ощущение быстро отступает, практически без следа.
Обоняние и слух наваливаются сразу после осязания, и от этого хочется вернуться в забытье. И это он еще не посмел разжать глаза. Свыкается медленно, заставляя себя расслабиться, слышать и чуять меньше. Хотя на данный момент самый тяжелый и невыносимо непонятный процесс — дыхание. Зачем оно? Хотя нет. Нужно. Тело отказывается не дышать, тело хочет воздуха, тело хочет обонять мир. Ощупывать его чутьем.
Он лежит в прямоугольной комнате. Одно окно, две двери. Одна наружу здания, вторая — ведет в коридор, по которому только что прошла неторопливым шагом девушка в длинной, шуршащей при ходьбе юбке.
В комнате он не один. Обоняние нащупывает расположенное кресло, в нем сидящего человека. Мужчину. Его руки сложены, его глаза прикрыты, губы шевелятся, что-то неясно шепча. Если напрячь слух, можно услышать — что конкретно.
Назло себе решает открыть глаза. Нечего подслушивать. Первое время он не видит толком ничего, а затем зрачки начинают свыкаться с царящей в комнате темнотой. Что в комнате темнота, он понимает после того, как с трудом поднимает перед собой руку и с трудом различает её очертания. Руку поднять тяжело. Да что там, даже губы облизнуть тяжеловато, кажется, что его жестко избили, потому что болит абсолютно все.
— Хартман?!
Вспыхивает белым огнем светоч под потолком, впивается в глаза, демон рывком перекатывается на живот, пряча глаза в подушке. Тяжело дышит, успокаиваясь. Почему глаза такие чувствительные? Да, святой огонь раздражал и раньше, но сейчас в глаза будто кислотой плеснули.
Эффект, впрочем, не стоек. Боль, резанувшая по глазам, истончается, отступает. Так, что там было знакомое сказано? Хартман? Да. Хартман. Генрих Хартман. Это его имя.
— Свет убрать? — обеспокоенный голос. Знакомый голос. Голос не самого приятного человека.
Убрать ли свет? Стоит ли позволять собственной боли взять верх?
— Нет, не надо, — демон медленно отрывает лицо от подушки. Медленно приоткрывает веки, отвоевывая у самого себя каждый миллиметр поля зрения. Дышать. Смотреть. Думать.
— Ты вообще как?
Сложный вопрос. Генрих скользит взглядом по стенам. Осознание того, что вокруг него находится, приходит раньше, чем осознание всего вокруг происходящего. Как он? Как он должен быть? В памяти начинают шевелиться какие-то смутные образы.
Демону хочется сесть, но сил на это нет, шевелиться по-прежнему больно, поэтому он просто переворачивается на бок, нашаривая взглядом того, кто занимает ему голову болтовней, не давая даже толком осознать и вникнуть в происходящее.
Глаза едва успевают коснуться белокурых, будто выгоревших волос болтуна, и память тут же услужливо подталкивает на поверхность сознания «Миллер. Джон Миллер». Длинным хвостом за именем тянутся воспоминания, эмоции, связанные именно с этим святошей, и ожидая, пока они улягутся, давая самому себе разобраться, Генрих молчит.
— Ну, с добрым утром, спящая красавица, — лицо у Миллера недоверчивое, слегка обеспокоенное.
— Надеюсь, поцелуем меня будил не ты, прекрасный принц? — слабо улыбается Генрих, пытаясь разобраться с воспоминаниями дальше, припоминая все, что может вспомнить. Мучительный жар святых орудий. Измученный хрип Реджинальда Фокса.
— Я не представляю, сколько в меня нужно влить спиртного, чтобы я на этот подвиг созрел, — Миллер ухмыляется. Нет, не так. Джон ухмыляется. Нужно закопать уже в землю все имеющиеся в арсенале орудия войны, включая пресловутую кочергу.
— Все получилось? — спрашивает Генрих. Не хотелось бы узнать, что вот это его состояние, когда больно совершить всякое лишнее движение является результатом проигранного сражения.
— Что получилось? — переспрашивает Джон с несколько растерянным видом.
— Фокса поймали?
— А, это! — Джон кивает. — Да, прости, так сразу и не понял, о чем ты. Да, поймали. Распяли.
Сразу не понял? Так. Очень интересно. Опять же интересно, почему здесь Генрих видит Джона, а не Агату. Не то чтобы она должна была дежурить здесь сутками, но наверное, все же её-то встретить здесь было наиболее вероятно? Если, конечно, Генрих не ошибался, считая, что он ей дорог.
— И сколько времени заняло мое восстановление?
— Семь лет.
— Что?
Серафим разводит руками. Генрих опустошенно смотрит в потолок, пытаясь найти на нем хоть что-то интересное. Семь лет. Сколько всего могло произойти за это время.
— Что с Агатой? — обессиленно спрашивает он. Джон некоторое время молчит, затем тихо вздыхает.
— Она ушла, Генри.
— Куда ушла? — спрашивают губы, потому что разум это принимать как факт не готов.
— В перерождение ушла, — спокойно поясняет Джон, безжалостно четвертуя надежды Генриха.
— Почему? — не нужный вопрос. Риторический. Ушла и ушла. Ни к чему знать почему. Но хочется же. Вдруг он знает.
— Ну… — отрывисто говорит Джон, — если уж честно… Из-за тебя, конечно. Не вынесла ожидания. Даже я не смог её утешить. Хотя я старался, Генри, очень старался.
Миллер! Его спасает сейчас исключительно то, что рвануться через боль и придушить этого неуемного «утешителя» не получается. Получается только считать перед глазами звезды, заполнившие мир после одного только резкого рывка. Хорошо хоть с кровати не свалился.
Так. Стоп.
Запах.
Где запах святоши?
Он за свои чертовы триста лет не привык держать запах под контролем ежеминутно, а тут вдруг за семь лет научился? Генрих точно помнит — как только он пришел в себя, запах был. Нейтрализовал его Миллер только что.
Генрих переворачивается набок снова, смотрит на Джона в упор.
— Я не знаю, можно ли проломить твой череп подушкой, — медленно наполняя тон угрозой, говорит демон, — и мне очень хочется эту идею проверить. Но ты же меня разводишь, не так ли, преподобный?
Непроницаемая мина держится на лице Джона целую долгую минуту, а затем его рот все-таки расплывается в ехидной улыбке.
— Ты поверил! — насмешливо замечает он.
— Ты настойчиво хочешь, чтобы меня вернули на поле, — ворчливо отзывается Генрих, — даже своей головы ради этого не жалко, да?
— Ну вообще, ты не прав, — чуть более серьезно отвечает Джон, барабаня по колену пальцами, — с некоторых пор ты — просто мой дипломный проект на пути к искуплению.
— Я — свой собственный проект, — недовольно морщится Генрих, — ну может, слегка общественный, но уж точно не лично твой.
— Куда уж нам, — ехидно хмыкает Джон.
— Так сколько я валялся? — переспрашивает демон, уже усомнившись в семи годах спячки. Кажется, Миллер свой коварный план от нечего делать на скучных дежурствах продумывал.
— Пятнадцать дней, — педантично и на этот раз, кажется, честно, произносит Джон.
— Ну хоть какие-то хорошие новости.
— А какие новости у тебя плохие? — Джон с искренним интересом поднимает брови. — Ты ж на редкость живучая тварь, это разве плохо.
— На меня, кажется, луна целиком упала, — шпильку про «тварь» Генрих пропускает мимо ушей, тем более, что это не оскорбление, а физическая характеристика его демонической сущности, — и не только упала, но и покаталась. Да еще и тебя лицезреть приходится, преподобный.
— Нет, если ты хочешь, я могу вызвать Анджелу, — вкрадчиво предлагает Джон, — я ведь с ней сегодня сменами поменялся.
— Зачем поменялся? — Генрих удивленно уставляется в глаза Миллеру, и тот закатывает глаза. Ну что поделать, Генрих сам понять сей жест доброй воли никак не может.
— Естественно, из-за великой любви, — вздыхает Джон, — Хартман, ну Рози же! Попросила! Анджела бы её не вызвала по твоему пробуждению.
— А ты вызвал? — Генрих резко садится в постели, в глазах даже темнеет.
— Ну, вроде бы да… — ухмылка просто не сходит с лица Джона, ему, кажется, безумно весело, — что, боишься, что девушка увидит тебя в пижаме и расхочет? Отличный, кстати, вариант, я обязательно утешу её разочарование.
Подушкой можно швырнуть несильно. Но на кой черт нужны вообще мышцы исчадия ада? Поэтому Джону в лицо снаряд посылается со всей максимально возможной «нежностью». Ему, кажется, это нипочем, потому что смеяться он не прекращает и даже подушку бросает прямо в руки.
Не то чтобы Генрих боялся, что его увидят в пижаме, но показаться перед Агатой развалиной, которая охает от каждого лишнего движения, не хочется совершенно. Пресловутая высокая регенерация демонов, где же ты? Да и как, как вообще с Агатой заговорить? Все так запуталось, столько всего случилось…
В задумчивости Генрих ерошит волосы и проходится по ним пальцами от виска до затылка и… замирает…
Поворачивается к Джону. Кажется, выглядит он чрезвычайно опешившим, потому что серафим снова фыркает.
— Я уж думал, ты не заметишь, — улыбается он.
— Давно это?
— Они рассыпались пеплом во время того, как мы перетаскивали тебя в Лазарет. Хочешь, я тебя поздравлю, что ты теперь внешне — не рогоносец?
Джона хочется пришибить. Не до конца. Дать ему оправиться и пришибить еще раз.
И все же факт того, что рога — самая первая демоническая метка, которую получает злоупотребляющий грешник, — теперь на голове Генриха отсутствуют — довольно непривычен. Только сейчас Генрих понимает, что да, дышится и вправду легче, запахи по-прежнему сильные, но искушают меньше. Чуть меньше. Просто он не обратил на это внимание. Так, а другие метки?
Нет, боевая форма отзывается, материализуется чешуя на коже, вытягиваются и набухают мышцы, растут, утолщаются и кривятся когти.
К слову, в демонической форме рога по-прежнему присутствуют, но их удается рассеять.
— Это все какой-то сюрреализм, — отстраненно произносит Генрих, пытаясь на чем-то сфокусироваться.
— Сюрреализм, это демон-Орудие, — пожимает плечами Джон, — после этого выгорание меток — самое неудивительное событие в мире, как я думаю. Тем более всего одной метки…
Агата влетает в комнату как вихрь, неожиданно, едва ли не врезавшись всем телом в дверь с внешней стороны, даже не рассеяв крылья. Влетает и замирает, вцепившись в дверную ручку, а с улицы несет холодным ночным воздухом. Впрочем, это неважно. Вряд ли сейчас вообще что-то в мире имеет хоть какое-нибудь значение. Заметить хоть что-то, кроме Агаты, Генрих сейчас не в силах.
Эпилог (3)
Мир боится лишний раз вдохнуть, чтобы не разрушить этот душераздирающий момент. Очнулся! Генри очнулся! Это действительно правда. Не шутка. Хотя вряд ли бы Джон так жестоко над ней подшутил Агате хочется молнией броситься к Генри, хочется вцепиться в его плечи, лишь бы убедиться, что он — не мираж, не сон, подкинутый измученным сознанием.
Чьи-то руки подталкивают её в спину к постели Генри. Агата торопливо оборачивается и встречается взглядом с Джоном. Удивительно невозмутимым, даже слегка снисходительным. Он ничего не говорит, лишь молча улыбается, а затем выходит на взлетную площадку, закрывая за собой дверь.
— Ты не хочешь подойти? — Генри не дает тишине их опутать в свою липкую паутину нерешительности. Улыбается. Широко, открыто. Так, что душа Агаты радостно подпрыгивает, потому что до этого долгие недели она видела это лицо таким неживым, таким пустым… Кажется, что вокруг была лишь кромешная серая мгла, и вот она торопливо отступает от одной лишь его улыбки.
— Хочу, — едва слышно произносит Агата. Да. И хочется — и страшно, что сделав хоть один шаг, она нарушит этот странный, но такой потрясающий сон. Ужасно сложно поверить, что он все-таки тут, что не нужно терпеть бесконечную вечность, чтобы дождаться его пробуждения.
— Тогда… — Генри красноречиво касается ладонью края постели, и кажется, даже приглашение на бал в высшем свете не стало бы для Агаты большей честью. За последние недели она немало наслушалась речей про его самопожертвование, его вклад в победу над Фоксом. Артур выговаривал это все Анджеле, будто пытаясь донести до неё что-то, но налипало и на Агату. Раньше Генри был просто до невозможности несносным, умопомрачительным мужчиной, у которого без особого труда получилось вскружить Агате голову. Сейчас же он стал еще и Орудием Небес, да еще и с боевыми заслугами, едва ли не героем… Нет, однозначно — героем. Какие тут вообще могут быть сомнения?
Она думает не о том. Совершенно не о том. Генри хочет, чтобы Агата села с ним рядом. И ей нужно пересечь комнату и сделать уже то, что он хочет — потому что она этого хочет ничуть не меньше. Кажется, душа не может замирать сильнее, но с каждым сделанным Агатой шагом её чувства все сильнее перехватывают дыхание, намекая, что оно как раз лишнее, сейчас дышать так не к месту…
Что ей ему сказать? Стоит ли говорить о том, что каждый час без него казался насквозь мертвым, невыносимым настолько, что покуда он там, в смертном мире, занимался делом, ей хотелось сорваться, провалиться в грех, одемонеть самой — найти его и быть с ним уже как демон. Пусть не на равных, пусть не шло бы никакой речи о чувствах, лишь о похоти, но Агта была бы рядом с Генри.
Первое, что делает Генри, когда она садится рядом, — сжимает её ладонь, подается Агате навстречу, сводя расстояние между ними на нет. Нет, он не делает ничего больше, лишь только соприкасается с её лбом своим, пристально смотрит ей в глаза и молчит, а Агата чувствует, как тает, стремительно тает от одного только его негромкого дыхания, от этой совершенно недвусмысленной близости, от возможности глядеть в его янтарные глаза и даже видеть в их глубине однозначную теплоту.
— Генри…
Он останавливает попытку заговорить в самом её начале одним лишь выражением глаз.
— Сначала я, — произносит он, чуть отстраняясь. Впрочем, сам Генри говорить не торопится, лишь смотрит на неё, и кажется, будто своим взглядом он нежно касается даже не кожи Агаты, а её скрутившейся в узел души. И душа вздрагивает и льнет, тянется к нему навстречу.
— Глупо вышло, да? — тихо спрашивает Генри, и Агата чуть вздрагивает. Да, Джон говорил, что Генри в курсе, и тем не менее лицо сразу вспыхивает, покрывается красными пятнами. До сих пор сложно принять, что она не виновата в случившемся. Кажется, что виновата. Ужасно виновата.
— Тише, тише, птичка, — Генри осторожно тянет её к себе, и Агата смущенно опускает глаза, поняв, что, кажется, он снова чует, как её кроет.
— Прости меня, — наскрести смелости на эту фразу было сложно. Но все же Агата её произносит, прижимаясь щекой к груди Генри, к его гулко стучащему сердцу. И ей становится чуточку легче от того, что она это все-таки сказала.
— За что хоть? — Генри, кажется, улыбается. — За то, что я втянул тебя в грязную игру Джул? Потрясающее преступление, даже не думал, что ты на такое способна.
— Все равно, — Агата нервно дергает плечом, изо всех сил надеясь, что он не перестанет её обнимать. Сейчас она наконец чувствует себя цельной, но что будет, если он разомкнет руки и отодвинется? Не хочется отстраняться от него ни на дюйм, не хочется расставаться с его теплом — и всем ним, полностью.
— Вообще просить прощения нужно мне, — твердо произносит Генри. — Я в тебе усомнился. Я даже не попробовал с тобой объясниться. Да что там — я не подумал за тебя побороться. Я не думал головой. Пошел на поводу у эмоций. Я виноват. А ты… Птичка, тебе рано тягаться с демонами, особенно уровня Джул.
— Но я же тоже сомневалась, — отрешенно замечает Агата, — раз ты говоришь, что виноват в сомнениях, то я тоже виновата. Я до сих пор не знаю, что ты во мне нашел. Что вообще во мне можно найти такого, чтобы выбрать не Джули, а меня.
Виновата она еще во многом. В том, что поддалась сомнениям. В том, что позволила себе быть ведомой — да, ведомой Артуром, но почему-то сейчас кажется, что лучше было ему все рассказать при встрече. Если бы она только нашла в себе каплю отваги нарушить данное Артуру слово…
— А что можно найти в Джули? — Генри заставляет Агату взглянуть себе в лицо, и она видит в нем искреннее удивление. — Ей было на меня плевать, она искала себе пешку, парня, которого можно будет трахать и использовать для охоты. Что в ней вообще есть такого, что заставляет тебя в себе сомневаться?
— Она могла бы здесь остаться, если бы ты…
— Милая, в Чистилище остаться нужно не ради кого-то, — Генри твердо качает головой, — разве что ради себя. Я остался ради этого. Потому что не хочу больше на кресте провести ни единой своей секунды. Да, небеса мне подарили тебя, но это же не может быть основой моего искупления, правда?
Милая… Подарок небес. От этих слов, сказанных с удивительной нежностью, душа начинает вибрировать. Может, ей кажется? Может, она себя обманывает, слыша в его голосе эту мягкость? Но даже если и так, он говорит именно эти слова, совершенно точно зная, что имеет в виду. И это наполняет душу лихорадочным ликованием.
— Так что, — с улыбкой продолжает Генри, невесомо лаская пальцами её подбородок, — что я там должен был увидеть в Джул, чего у тебя нету?
Кажется, невозможно зайтись краской сильнее, чем Агата краснеет сейчас. Но нет, не дает спрятать лицо, даже просто прикрыть глаза кажется кощунственной затеей. Она должна смотреть на него. Она не хочет смотреть не на него.
— Ну, она красивая, — Агата видит, как в его глазах начинают плясать веселые черти, — и ты говорил, что любишь её.
— Любил, — поправляет Генри, — сто лет назад и это практически не преувеличение. И если, конечно, меня в том моем состоянии можно было считать на любовь способным. Хотя нет, я не думаю, что это все таки было что-то серьезное.
— Почему? — Агате хочется перестать дышать, может, тогда из её рта не будут вылетать глупые вопросы.
— Потому что, — Генри пожимает плечами, — я от неё ушел. Не готов был с ней оставаться до конца. Ну и не сказал в итоге, что люблю. Так что нет, не считается.
Он скорей всего говорит это нарочно, чтобы чуть-чуть улучшить настроение Агаты, и у него получается. Чем дальше, тем больше она чувствует, как распускается тесная петля тревоги, сжимавшая сердце. Чем дальше — тем сильнее ей хочется быть кошкой, чтобы подставляться под его ладони и мурлыкать.
— А что насчет красоты… — Генри задумчиво скользит пальцами по губам Агаты, и она с трудом не жмурится. — Я все никак не пойму. Тебя неутомимо пытался поиметь Коллинз. Тебя хотел Миллер. Тебя люблю я. Нет, разумеется, не только за внешность, но ты серьезно думаешь, что это все вопреки тому, что ты некрасивая?
Агата практически не слышит его вопроса, потому что предшествующим ему предложением Генри выбивает страйк. Любит? Он? Её? Её?!!
— Генри, — едва слышно вырывается на вдохе, а он смотрит на неё так, что она невольно ощущает себя центром мироздания. Генри кивает, осторожно касается её губ пальцами, не давая говорить. Снова.
— Да, я тебя люблю, Агата Виндроуз, — повторяет он, и у Агаты от каждого слова этой фразы кружится голова, — я тебя люблю, птичка, и знаешь, если бы это была смертная жизнь, я бы уже тащил тебя в церковь и решал бы, как мы назовем наших детей. Потому что если не ты — моя судьба, то её попросту нет на свете.
Не то чтобы Агата сомневалась, но если он задавался целью оглушить её, взорвать её внутренний мир окончательно, то он определенно справился с этим. И если можно рассыпаться в восторженную, счастливую пыль, — с этим справляется уже душа Агаты. Он говорит ей Нужно как-то ему сказать о любви! Не кто-нибудь — он. Генри — тот самый мужчина, который в принципе похож на сон, до того удивительным образом в нем переплетаются и чуткость, и твердость. Рыжее чудовище — её чудовище, который сам по себе напоминает огненный вихрь, во всей его безжалостной, неукратимой притягательной яркости. У него, черт возьми, есть выбор — да какой, только плечи расправь, но он любит её — Агату, и это удивительно, непонятно, но как же это потрясающе. Вот только почему сейчас она не может ничего даже вымолвить в ответ. Это попросту нечестно. Сказать бы насколько сильно для неё важен. Еще бы она сама себе сейчас не казалась невыносимо недостойной его любви.
— А ты поэт, — тихо замечает она, собирая мысли по пылинке, по осколочку. Пытаясь сформулировать свои чувства так, чтобы и они звучали хоть капельку так же красиво, искренне, как и его слова.
— Ну если для тебя — то можно и побыть поэтом, — ухмыляется Генри, а затем сдвигается к стене и ложится. Тут только Агата вспоминает, что он вообще-то только что очнулся и может себя неважно чувствовать. Становится стыдно.
— Иди уже сюда, — Генри кивает на пустующую половину кровати. И перед этим предложением устоять невозможно. Сбросить с ног туфли и улечься рядом с ним поверх одеяла — дело пары секунд. В душе так тепло, что хочется обниматься с Небесами, пусть даже наверняка это и было бы принято за возмутительную вольность.
Генри лежит молча, подперев голову, не отрывая от её лица взгляда, опустив тяжелую руку на её талию. Кажется, сейчас он её останавливать не будет. Хорошо, значит, можно себя подтолкнуть. Еще бы найти подходящие слова. Они почему-то никак не желают находиться.
— Ты совершенно невозможен, знаешь?
— Я требую обоснования этому обвинению, — ухмыляется Генри.
— Мне сложно обосновать, — Агата смущенно покусывает губу, — просто ты…
— Ты меня любишь? — он спрашивает тихо, он спрашивает прямо, он спрашивает, пристально глядя в глаза Агаты, и сердце в её груди задыхается на полувдохе, захлебывается сладостью этого момента.
— Безумно, — торопливо рвется с губ, и она не жалеет о сказанном ни секунды. Хотя одного этого слова и кажется чертовски мало. Но Генри — её невозможный Генри — вопреки этому прижимает её к себе настолько крепко, что ей почти что больно, и утыкается в её шею горячими губами.
Эпилог (4)
Когда Генри возвращается со смены в смертном мире, вся её маленькая квартирка уже пропахла растворителем и масляными красками. Впрочем, это ничего, не в первый раз, он уже привык. Он частенько возвращается позже неё, а когда делишь бессмертие с художницей — к таким мелочам, как запахи красок, привыкаешь. Спасибо, что карандаши в постели не находятся.
Агата его не слышит. Сидит себе у мольберта и ткет картину из лоскутков пятнышек масла. Волосы подобраны в узел, она всегда так делает, когда возится с красками. Открытая, заманчивая, красивая шея так и манит подкрасться к Агате со спины, опустить тяжелые руки на плечи, уткнуться носом в нежную кожу. Генри обожает такие моменты. От её кожи пахнет все тем же, таким привычным липовым медом, сладко, настолько, что язык пытается прилипнуть к небу.
— Генри… — с легким недовольством вздыхает Агата — он подтолкнул её руку, и мазок краски лег не туда.
— М? — сколько дней они вместе? Сколько месяцев? Там, на кресте, он считал едва ли не секунды, сейчас — забывает, какой месяц на дворе, и о смене сезонов догадывается лишь потому, что меняются места встречи с «паствой». Неважно, который это день, главное, что он вновь пришел домой, и здесь есть она.
Агата оставляет тщетные попытки поправить огрех — поди-ка сосредоточься, пока по коже шеи скользят его губы, оставляя на ней поцелуи как невидимые подписи. Поворачивается, подставляется под его губы.
Черт его знает, какой это поцелуй. Тысячный, десятитысячный, миллионный? Не важно. Каждый раз он целует её как в первый, жадно, смакуя, наслаждаясь сладостью её губ будто по-новому. И сходит с ума от одного лишь её трепета, от нежности, с которой она ему отвечает. Он боится дышать лишний раз, лишь бы не уловить лишней эмоции, сперва пытается угадать, что она чувствует, лишь потом вдыхает и сравнивает ответы.
Когда она рисует, она часто надевает просторный джемпер, и Генри это тоже очень нравится, потому что именно этот предмет одежды легко спустить с плеча и нежно рисовать узоры на ключицах самыми кончиками пальцев, пока его губы невесомо целуют её щеки, веки с дрожащими как крылья бабочки ресницами, улыбающиеся губы. Она разрешает ему себя целовать, он — разрешает ей себя касаться.
Жадные пальцы расстегивают уже последнюю пуговицу на его рубашке. Еще чуть-чуть, и его кожа будет пылать от её прикосновений. Еще чуть-чуть, и мир закружится в карусели невыносимо яркого удовольствия.
В Агате заключена какая-то необыкновенная магия, потому что да, уже минуло множество дней, кажется, они уже даже сложились в сумме в очень приличный срок, но упоения ею в нем не убавилось ни на грамм. Мир по-прежнему истаивает, стоит только прикоснуться к её губам, мир по-прежнему плавится, стоит только её пальцам впиться в его спину. Нет ни одной больше женщины в его мире, нет для неё других мужчин.
Её стол для рисования — священный алтарь искусства. Использовать его для «страстных» целей строго запрещено, хотя и регулярно Генри этим искушается. Наверное, настанет миг, когда она согласится, когда он упросит её разрешить ему прикоснуться к её краскам и расписать её тело цветными узорами. Нет, не для красоты, ей это не нужно, она и так восхитительна, но идея кажется весьма интересной. Он бы примерил на неё этот «наряд». Впрочем, ладно, сегодня они обойдутся без красок. И без стола.
Агата лишь сдавленно ахает, когда Генри прижимает её к стене, запуская руку в расстегнутые брючки.
Она не остывает. Будто бы вовсе не устает, всегда заходится от его желания или заражает его своим собственным, будто бы она настроена специально для него, будто и не может быть иначе.
— Я соскучился, — тихо шепчет Генри, погружаясь пальцами в её влажный жар, а Агата тихонько покусывает губы.
— Да я вижу, — выдыхает она. Ей не хватает дыхания. Ну еще бы — он же знает, что делает, он же знает, как доставить ей максимальное удовольствие. Он все её тело, кажется, выучил, каждую чувствительную точку.
Сегодня в принципе удачный вечер — сегодня никто из её подопечных, которых стало еще больше, чем было, не явился, чтобы выговориться, чтобы компанией и болтовней его удержали на краешке. Такие случаи, увы, не редкие. Хотя и в них Генри находит не меньшее удовольствие, чем сейчас, надавливая пальцем на клитор Агаты, ритмично, в ритме её пульса, испытывая острое удовлетворение от того, как она захлебывается от острого наслаждения. Он, пожалуй, никогда не отвыкнет подобным образом удовлетворять самолюбие. Он чертовски доволен, что может заставить её корчиться от удовольствия столь нехитрыми методами.
Когда они успевают преодолеть несколько шагов, что отделяли их от постели? Казалось, вот только что не расплетали объятий, не размыкали губ, будто кружились в страстном, слишком откровенном вальсе, — и вот уже простыни подставляют для Генриха и Агаты свои нежные объятия.
У Генри появилось много вредных привычек за все это время.
Самая вредная — по утрам притворяться спящим, давая Агате возможность его разбудить осторожными касаниями. Она любит целовать оставленные собственными же ногтями почти зажившие царапины на его спине. А от тонких пальцев, что выводили на его животе спирали и спускались все ниже и ниже, к паху, мурашки по коже блуждали огромными стаями, и от того еще прекрасней было расслабленно мычать и изображать себя невыспавшимся и «ненастроенным». Агата этому представлению уже давно не верит, это видно всякий раз в её лукавых глазищах цвета вошедшей в самый сок весны. Но ей эта игра нравится и самой.
Под тонким джемпером — ничего, лишь её голая кожа, от прикосновения к которой пальцы покалывает от удовольствия. Животик, нежный, мягкий. Маленькие розовые жемчужины сосков, к которым так и тянутся губы и язык. Он любит доводить её до исступления, просто обожает, когда она выкипает в нетерпеливой жажде по нему. Когда и она чувствует степень его голода по ней.
— Генри, — тихонько шепчет она. Его имя — как мольба, исступленная, измученная, которой невозможно отказать. Его имя — как крик её удовольствия, подлинное доказательство, что у неё нет в мыслях больше никого другого. Её оружие — его имя на её же губах. До чего упоительно быть не Генрихом, не Хартманом, не Орудием Небес, — а именно Генри, именно для неё. Пусть так его сейчас зовут многие. Все равно только она зовет его по-особенному, как никто другой. И относится она к нему — особенно.
И дело даже не в том, насколько она забывается в его объятиях, как часто страсть захлестывает их с головой, вот как сейчас, заставляя Генри чувствовать себя будто парящим в воздухе, потерявшим вес.
Да, черт возьми, он любит с ней трахаться. Он любит видеть её обнаженной, любит засаживать свой член в неё — тугую, тесную, — любит ощущать на языке горьковато-медовый вкус её «бутона», любит сжимать пальцами кожу на гладких бедрах. Любит, когда она, прижата к смятым простыням его телом, вот как сейчас, и исступленно стонет, подаваясь ему навстречу. Любит доводить её до оргазма, раз за разом, засчитывая каждый из них, как очередную личную победу. Можно много чего еще перечислить, что Генри любит делать с Агатой в постели, вот только этим их отношения исчерпать нельзя.
Это, конечно, есть в их жизни. Но есть и иное. Уже который год в день, в который когда-то крыло Агаты свело над крестом Генри, ни её, ни Генри на работе не найти. Зато можно найти одну очень глупо улыбающуюся парочку, не расцепляющую рук, гуляющую по всем аллеям и улочкам подряд. Они даже не целуются в этот день, просто отдают дань благодарности Небесам, когда-то просто столкнувших их друг с другом. Да, у Небес была и другая цель, но в случайное совпадение никто из Триумвирата не верит, а уж Генри с Агатой и подавно.
Генри верит собственным словам, искренне считая Агату своей судьбой. Да, пусть с ней он встретился спустя несколько столетий от рождения, но все же — он её встретил. Он влюбился в неё без памяти за считанные дни, и его чувства лишь крепнут изо дня в день. И что безумно важно — его любовь самым полным образом взаимна.
Агата его любит. И немыслимо балует его. Она говорит о своей любви к нему каждый день. Утром — когда они расходятся на работу, она — в Лазарет, а после к своим штрафникам, а Генри — в Лондон, отбивать демонов от душ, искать свою «паству». Ничего не было более неожиданного для Анджелы Свон, чем его заявка на получение квалификации паладина — хранителя. Пусть он не владел святым словом, ему это было не очень-то и нужно.
Агата шепчет «Я тебя люблю» и по вечерам, перед сном, едва слышно, уткнувшись носом в его лопатку. Она по-прежнему его любит. Его милосердный, нежный ангел. Больше ничего не нужно. Лишь она. До конца. И после него.
Он не очень рассчитывал, что она так решит, но она решила. Просто однажды утром сказала ему, что хочет переродиться с ним вместе. Хочет, чтобы их судьбы оказались связаны в новой жизни. И пожалуй, это и было для Генри самым невозможным из всех невозможных событий. Слишком хорошим, чтобы поверить в него с первого раза, и не попросить Агату повторить сказанное.
Для неё это значило, что в Чистилище ей придется дожидаться его очень долго.
Для него — то что расставаться ему с ней не придется. Они будут вместе. Больше, чем «сейчас».
Всегда.
И даже дольше.
А кому понравилась эта история — тот не жалеет коммента и рекомендации, чтобы автор где-то там у монитора попрыгал от радости
КОНЕЦ
Страница произведения:




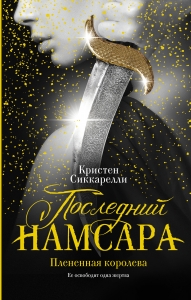









Комментарии к книге «Дьявол на испытательном сроке», Джина Шэй
Всего 0 комментариев