Карина Демина ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА
ГЛАВА 1 Подорожная
Грукали[1] колеса, прыгаючи по камням. А чем далей, тем больше оных каменьев встречалось. Ох и неровная ныне дороженька — то ямина, то ухабина, этак, глядишь, до Выжаток и не доползем засветло. Я поводья подобрала и цокнула языком, поторапливаючи коняшку. Надо сказать, что скотина нам досталась на диво спокойная, сонная, идеть-бредеть, головой киваеть, сама себя убаюкиваючи. И не пужають ее ни добры молодцы в броне да при оружии, ни ельник темнющий, ни даже сова, которая, на день не поглядевши, перед самой конской мордой проскользнула. Я и то охнула, семки рассыпавши, а кобылка наша только вздохнула тяжко, дескать, никаких условий для жизни.
Я поерзала.
Притомилась, честное слово, сидючи.
Оно-то, может, и полегше, чем в седле да на тряской конской спине, а все одно… С утра едем, в полдень только над речкой остановились, коням роздыху дать, да и люди не из железа, чай, кованы. Вона, упрели в своих кольчугах. Лойко Жучень красен сделался, что рак вареный. Ильюшка пот рукавом обтирает. Еська и тот примолк.
Молчит да на телегу нашу поглядывает.
На меня, стало быть.
И на девок, которым вроде бы как и делать тут нечего, а они на Еську пялятся круглыми глазищами. Ресницами хлопают, губешки поджимают, носы деруть. Конечно, боярыни, не чета мне.
— Эй ты! — Молодшенькая бойкой была, всю телегу облазила, а старшая-то хворала, в платки пуховые укуталась, только нос наружу торчит. Как не сопрела?
— Слышишь, девка? Моя сестрица желает знать, когда мы наконец приедем?
Я глазом на боярыню покосилась.
А хороша.
Юна, конечно, но Люциана Береславовна сказывала, что в стародавние времена и в десять годков выдать замуж могли, да и поныне, бывало, только дитя народится, а его ужо и сговорили.
— Что молчишь? Тупа слишком, чтобы понять? — Боярынька хлопнула себя по сапожку кнутом.
Все-то ей неймется…
А я голову опустила.
Дурновата? Может, и верно, что дурновата. Иная б за косу темную ухватила да дернула, на боярское звание не поглядевши. А я терплю что невестушку Арееву хворую, что сестрицу ейную… Как же, Ильюшка просил… Он за ними что за малыми ходит.
— Божиня помилуй. — Боярынька воздела очи к небесам, будто и вправду Божиню узреть чаяла.
Я тож глянула. Ан нет, нету Божини… Вона, нетопырек пронесся только. Вечереет, стало быть. Под вечер нетопыри вылазют, мошек ловят.
Рухавые[2] они.
И до белого страсть охочие. У нас, в Барсуках, одной раскрасавице в волосья, помнится, вбился, вот крику-то было. Я представила, как оно б, ежели б нетопырь — и в боярские косы. И так мне смешно стало, что не удержалась, хихикнула. А с того боярыньку прям перекосило всю.
— Ты еще пожалеешь! — зашипела она и кулачком своим худлявым мне погрозила.
А тут аккурат телега на очередную колдобину наскочила и так тряхнулась, что не усидела боярыня, плюхнулась поверх мешков не то с мукой, не то с гречей, но одно — пропыленных, грязных, о боярском достоинстве не ведающих.
Ох и зашипела!
Кошкой ошпаренной вскочила — и шусь в конец телеги, в закуток, в котором ее сестрица не то дремала, не то вовсе помирала. Пожалеть бы ее, да… не столь уж добра я, чтоб девку, на чужого жениха позарившуюсь, жалеть. И вот вроде ж разумом понимаю, не ее то вина и не Ареева, а сердце разума не желает слухать. Сердцу-то едино, кто виновен, вот и невзлюбило что красавицу Любляну, что сестрицу ее молодшую.
Оно-то невзлюбило, а я ничего.
Терплю.
Сижу вот. Вожжи в руках держу, семки лузгаю да понять пытаюсь, как оно так вышло, как вышло?
Весна была.
Пришла духмяной волной первоцветов, а следом за ними — покрывалом цветастым, где каждая ниточка — наособицу. Вспыхнула, сыпанула на землю щедрым теплом, дождями пролилась… да и ушла.
Изок, первый летний месяц, стрекотом кузнечиков полный, сессию принес, которую я, к превеликому диву своему, сдала. И не сказать, что сие далось столь уж тяжко. Нет, над книгами пришлось посидеть, да привыкла я к тому, видать, что головой, что задницей… посидела.
Ноченек не поспала пару.
И сподобилась.
И главное ж, супротив опасениев, никто не лютовал. Фрол Аксютович был мягок, Марьяна Ивановна — добра, Лойко и того простила с евонными зельями, которыми только ворогов травить. Люциана Береславовна, конечно, вопросами меня закидала, что навозную яму прелой листвой, да сама ж меня и готовила, а потому нестрашны оказались мне те вопросы. Ответила, сама только диву давалась, как оно выходило-то, что и то знаю, и еще это, и даже то, про которое вроде краем уха слышала, да чего услышала, то и припомнила.
Ага…
Сдала, стало быть.
К огроменному бабкиному неудовольствию. Она-то, уставши на перинах леживать — никогда-то за всю жизню столько не лежала, как за эти два месячика, — с новой силой взялась меня вразумлять. Мол, чего учиться? Этак и до седых волос в Акадэмии застряти можно, а жизня, она идет-то…
Бежит, прискакиваючи.
И в первый день червеня усадила я таки бабку на подводу. Ох и мрачна она была, что сыч поутряни. Губенки поджала. В шубейку, Киреем даренную, укуталась, золотом обвешалась, как только силенок хватило с обручьями да перстеньками сладить. Станька при ней. И жаль ее, поелику ведаю, что вся бабкина обида на Станькину безвинную головушку выплеснется, а оставить в столице… и бабку без пригляду…
— Ты не думай, — Станька меня по руке погладила, — я все понимаю. Захворала она, а поправится — и прежней станет.
Я только вздохнула. Может, конечно, и станет, да… Чем дальше, тем меньше в то веры. Но что уж тут поделаешь? Не отказываться же? Пусть и крепко переменилась моя Ефросинья Аникеевна, а все одно родная, и не бросишь ее, не выставишь за ворота, сказав людям, будто ведать не ведаешь, знать не знаешь…
— Ты ее до тетки Алевтины довези. Она, глядишь, и сподмогнет.
— Ишь, шушукаются, — не удержалась бабка, на мешках с шерстью ерзаючи. — Что, сговорились? Иль, лядащие… бабку спровадят, а сами блудить… За вами глаз да глаз нужон…
И пальчиком погрозила.
А на том пальчике перстней ажно семеро. Царской теще меньше носить невместно.
— Ох, не те ныне времена пошли, не те… — Бабка головой покачала. — Пороть вас некому… Был бы жив твой, Зослава, батюшка, он бы за розгу взялся…
Поцеловала я бабку в напудренную щеку — без пудры она, как и без украшениев, ныне на люди не казалась, а я и не спорила, пущай, если ей с того легше, и сказала так:
— Свидимся еще… я летом приеду.
— Кому ты там нужна? — ответила она и отвернулась.
Обидно?
Обидно. И горько. И от этой горечи душа кривится, корежится, что дерево, в которое молния ударила. Ничего, не перекорежится, верить надобно. В то, что сыщется у тетки Алевтины средь трав проклятых тайное средство, которое бабке моей разум вернет и душу залечит. В то, что станет она, как прежде, мудра и к людям добра. Что не забидит Станьку, которая сирота и деваться ей некуда. Что нонче же летом возвернуся я в родные Барсуки… и что не одна.
Муж?
Я сжала половинку монетки, которую ныне носила в мешочке, а мешочек — на веревочке. Веревочкой этой руку обкрутила да слово особое сказала, чтоб не развязалась она, не рассыпалась. Ведаю, что монетка заклятая, захочешь — не потеряешь, а все одно…
А в другом мешочке корень, теткой Алевтиной даденный.
И знаю, что поможет этот корень, надо лишь…
Кому?
Еське, который бабку провожать явился и пряников принес в промасленном кульке? Евстигнею? Он по-прежнему дичится. Лису? Глаза его сделались желты, и знаю я, чую, что треснуло кольцо заклятья. И надобно бы сказать о том, но молчу.
Не может такого быть, чтобы только я сие увидала. Вона, Архип Полуэктович тоже на Елисея поглядывает так, с хитрецой, а ничего не сказывает… так и мне не след.
Братец евонный, напротив, сделался мрачен и задумчив. Он ли?
Емелька тишайший?
Егор?
Лойко? Ильюшка Задуменный?
Кто приходил ко мне? Я ж помню разговор, каждое слово. И горечь. И обиду. И за себя, и за него, хотя, казалось, что нелюдя жалеть, а вот… Знаю, что из них кто-то, а кто…
Бабку провожала до самых ворот столичных, слезы держала, да только, как подвода скрылась за холмом ближайшим, разрыдалась. И Кирей, меня приобнявши, молвил так:
— Все переменится, Зослава. И надобно верить, что к лучшему…
Ох, где бы веры этой прибрать?
Второй день.
И терем мой опустевший.
Щучка сгинувшая. Куда и когда? Кто ж ведает?.. Просто вышла одного дня за ворота и не возвернулась. Еське я об том сказала, а он тихо выругнулся.
— Вот ведь… сколько волка ни корми, а…
Но знаю, что искал. Сама ему волосья рыжие из гребешка выбирала, сама приносила рубаху ношеную да простынку, на которой Щучка давече леживала. Только не справилось заклятье.
— Закрылась, дура стоеросовая! — Еська только сплюнул. — Ну и ладно… Я ее не обижал. Сама виновата.
И вновь с того грустно сделалось.
А на третий день терем мой вновь ожил. Сперва Кирей явился — с дарами и такой любезный-прелюбезный, что сразу я неладное заподозрила. Он мне шелками азарскими коридор выстилает, а я только и гадаю, чего ж этакого он удумал.
— Вот смотри, тебе зеленое к лицу. — Он накинул на меня шальку, из шелковой нити плетенную, да не просто — кружевом. — Настоящая княгиня.
А сам уже ларчик раскрывает, вытаскивает серьги тяжеленные бурштыновые.[3]
— Ты, — говорю, — не юли…
Сама ж шальку снимаю.
Тонюсенькую.
Легонькую.
А греет-то… Без магии не обошлось. И вижу серед нитей обыкновенных — особые, заклятья…
— Говори прямо…
Серьги и мерить не стала, как и браслеты с красными каменьями. Кирей же вздохнул и почесал затылок.
— Ситуация, — сказал он, на стульчик усаживаясь. Ноги выпростал на половину комнаты. — Неоднозначная. Я бы сказал, парадоксальная.
— Чего? — Но тут вспомнила, как за слово энто ругана была не единожды наставницей, и поправилась: — Что?
— Парадоксальная, — повторил Кирей, будто со второго разу понятней станет. — Такая, что… люди не поймут. Про невесту моего родственничка ты знаешь, так?
Кивнула.
Как тут не узнаешь, если про эту невесту и тараканы по углам шепчутся, да ладно бы тараканы — но и боярыни наши, которые тараканов не в пример зловредней. И главное, шепчутся так громко, чтоб услыхала я, до чего боярыня Любляна собой хороша.
И молода.
И родовита.
И вовсе кругом прекрасна, каковой мне, хоть ты семь шкур сыми, в жизни не стать.
— Вот… — Кирей правый рог поскреб. А оный рожек у него кривоватенький, самую-самую малость, а все одно. — И раз уж такое дело… у Любляны брат ведь имеется, это ты тоже знаешь.
Кивнула.
Давеча с ним битый час рисунки рисовали, щит новый составляючи.
— А раз так, то… неприлично девку при живом-то старшем родиче замуж из царского терема отдавать. — Кирей поерзал. И на всяк случай шкатулку свою от меня отодвинул. — Да и Илья челобитные пишет, просит дозволения с сестрами свидеться, а лучше передать их под опеку ему…
И поднос убрал.
А чего? Я только булочку взять хотела. Мне с булочкой сердешные горести легче переживаются.
— И вот матушка решила… — Кирей замолчал и огляделся.
— Говори. — Чую, ничего хорошего с решения евонной матушки мне ждать не след.
— А драться не станешь?
— Не стану, — пообещала я и рученьки за спину спрятала.
— Хорошо… В общем, дело даже не в челобитных. Он о том еще в прошлом году писал, а теперь… и не в приличиях. Плевать ей, честно говоря, на приличия. Но девчонки эти странноватые. И надо бы их из дворца убрать.
Левый рог он тоже поскреб и пожаловался:
— По весне всегда чешутся… подрастают… Еще пара лет, и подпиливать придется.
Я покивала, мол, сочувствую.
— И вот… если их отпустить, то куда? У Ильи своего дома нет. Когда батюшку его обвинили в измене, то и имущества он лишился. С одной стороны, конечно, матушка может волей своей вернуть Илье дом, но там уж пару лет как пожар приключился…
Ох, мнится мне, что не сам собой приключился.
— Одни уголья и остались. — Кирей сел ровно. — А на тех угольях… я был там… еще лет сто, если не двести, жить нельзя. Не будет добра тем, кто поселится. Вот… Другое поместье дать? Не так их много, свободных, чтоб в столице… И ко всему, ей бы хотелось, чтобы ты с боярынями подружилась.
И вздохнул тяжко-претяжко.
Руками развел.
А я только рот открыла… Она сначала моего жениха этой самой Любляне отдала, а теперь желает, чтоб я задружилась?
— Я ей сразу сказал, что дружбы у вас точно не выйдет, — оправдываясь, произнес Кирей. И отодвинулся. Верно, хоть и обещалась я не биться, да глядела не по-доброму. — Но матушка… порой ее сложно переубедить… и завтра она их отпустит. Формально — передаст под опеку брату. До свадьбы, которая состоится в первый месяц осени.
Тихо стало.
Слышно, как гудит под потолком одинокая муха. И молчали мы, друг на дружку глядючи, думали… Об чем Кирей — не ведаю. А я все про свадьбу, которая…
Будет ли?
Первый месяц осени.
До него еще б дожить. Лето только-только началось.
— Зослава, — Кирей пальчиком ткнул меня в плечо, — ты живая?
— Живая, — вздохнула я.
— Согласная?
— А вам откажешь?
— Да как тебе сказать, в теории, конечно, можно, но… матушка…
Ага, которая царица, с ейными планами… супротив их идти, что граблями ветер чесать. Вроде бы и можне, а поди попробуй, прослывешь дурнем, ежель вовсе ветер грабли оные из рук не вывернет да по лбу не приложит.
Я рученькой и махнула.
Мол, пущай едут.
— А чего ты пришел, а не Ильюшка?
Уж кому бы за сестер просить, так ему. Кирей плечами пожал и ответил:
— Меня матушка попросила, а он… может, неудобно?
Неудобно на чужой лавке спать: все плечи смулишь.
Вот так и вышло, что через пару деньков гостей я встречала. Раньше? А не вышло раньше. Терем же к этакому визиту сготовить надобно. Там оконца помыть, стены поскресть, дорожки от пыли выбить да из зевов печных пепел повыгребсти.
А заодно уж украсить что стены, что полы плетениями рисованными.
Ох, не прошла мимо меня наука Люцианы Береславовны, даже по нраву пришлась, как распробовала. Вроде ж и силы не берет, да и вовсе немашечки магии в линиях черченных, а на многое они способны. И гостюшки мои меня в том лишь убедили.
Подкатил к воротам возок царский.
Коней тройка. Ногами тонкими перебирают, шеи гнут, красуются. На дуге у заводного бубенцы сладкоголосые звенят-перезваниваются. В гривах пристяжных ленты атласные. Сбруя позолочена.
Возок… ну возок и вовсе золотым мнится.
Задние колеса огроменные. Передние махонькие. А меж ними желудем — сам возочек. Оконца круглые, за цветными стеклышками не видать, что внутрях. На дверцах корона.
На крыше будто прыщ, из которого пук перьев золоченых торчит.
От этакой красоты я и обмерла, дар речи утратимши.
Но Кирей меня локотком подпихнул. И, на мрачнющего Арея взгляд бросимши, приобнял. Тот от злости ажно зубами заскрежетал, с лица сбледнул крепко, но что тут сделаешь? Не евонная я невеста…
Он к возку шагнул и дверцу открыл. Отступил, позволяя холопу скамеечку-приступку поставить. Руку подал. Я и застыла, дышать позабывши, когда этой руки другая коснулась. Пальцы белехоньки, прозрачны почти. Ноготки жемчугами.
И жемчугами же рукавчик длинный расшит.
Выплыла боярыня Любляна Батош-Жиневская лебедушкой белой. Глазки потупила. Бледна. Бела… и болезна? А за нею сестрица выпорхнула. Этой-то подмога без нужды. Только шубку, горностаем отороченную, поправила и дом мой окинула взглядом презрительным.
— Вот, значится, где нам обретаться ныне судьба… — Блеснула в глазу слезинка, но не для меня сие, для Ильюшки, который стоял столпом соляным, на сестер глядючи.
От радости ль?
— Доброго дня, — девица чернявая ко мне повернулась, — от имени моей сестры я приветствую гостеприимную хозяйку…
— Зославу, — подсказал Кирей и внове по плечику меня погладил. А сам-то не на боярынь глядел, на Арея. Левым глазом.
Правым — на Ильюшку.
Этак и окосеть недолго… надобен он будет Велимире, мало что рогастый, так еще и окосевший?
— Зославу, — молвила девица, меня разглядывая.
А взгляд-то нехороший.
Глаза темны, но не разобрать, зеленые, аль серые, аль еще какие. Но главное, что от глазу подобного младенчики крикавицу хватают. Бывает, глянет кто, даже краешком самым, а после дитё кричит, заходится, и не спасти его ни сиськой, ни люлькой, ни даже маковым отваром, который детям давать — дело распоследнее. Бабка моя крикавицу лечить умела, да и не хитра наука — под столом дитятко трижды прокатить.
Эта ж уставилась.
И видно… а все и видно в глазах ейных. Что, мол, боярыня она, да не из простых, с кровью царской благословенная, а я — холопка давешняя. И мне б кланяться.
Дорожку красную катить.
Молить о милости.
А я тут стою…
— Что ж, Зослава, — губы дрогнули, в улыбке складываясь, — мы с сестрицей с дороги притомились…
И вновь глядит.
А недовольная… с чего б? И куда им томиться, когда той дороги — от царских палат до терема моего — тихой ходьбы час. Они ж не ножками, на возку ехали.
Кирей рученьку сжал.
Боярынька вовсе перекривилась.
— Дозволено ли, — голос ее сделался сух и скрипуч, — будет нам войти и отдохнуть в доме твоем?
А сама на притолоку глядит, где я нонешней ночью узор малевала. Хороший такой узор из заветного альбома Люцианы Береславовны.
Ильюшка тоже к дому повернулся.
И к сестрице.
Открыл рот, желая сказать что-то. Кирей же плечико мое сдавил сильней. Не молчи, Зослава. А я чего? Улыбнулась, как сумела.
— Будьте в доме моем гостями желанными…
Ох, полыхнули глаза боярыни гневом.
— Значит, приглашаешь войти?
— Приглашаю… войти…
— Меня и сестрицу мою?
— Тебя и сестрицу твою…
Она юбки-то подобрала и ко мне спиной повернулась. По ступеням не взошла — взлетела, дверью только хлопнула, ключницу мою, женщину степенную, Киреем мне в подмогу приведенную, напужавши.
— Простите мою сестру, — прошелестела Любляна голоском слабым. И на Ареевой руке повисла, белым-бела, глядишь на нее и знать не знаешь, проживет ли боярыня еще денечек.
Мнится, и денечек.
И другой.
И третий… и до осени дотянет, до самой свадебки… И пусть говорят мне, что приневолили ее, да вижу я, как она на Арея глядит. От этого взгляда злость во мне появляется, и такая, что просто силов никаких нету терпеть.
— Спокойно, Зось. — Кирей к самому уху наклонился. — Улыбайся шире… Чем оно поганей, тем улыбка шире.
— А щеки не треснут? — тихо же спросила я.
Но куда деваться? В дом пошла. К гостям дорогим. За стол звать, беседу беседовать. Ну, за стол-то я усадила, и мнится, что стол этот был мало царского хуже.
Были тут и гуси с капустой квашеной печеные.
И вепрячье колено. И караси жареные, и белорыбица рассыпчатая с подливой клюквенной. И пироги всяко-разные. И даже цельный порось молочный с яблоком в пасти.
Клецки в молоке.
Сливки коровьи с сахаром топленые.
Ягоды вываренные, в тонюсенькие лепешки уложенные да скатанные трубочками…
Иного я сама не едала. Да только за столом энтим кусок в горло не лез.
Сидят боярыни, старшая подушками обложена, потому как зело слабая. Младшая пряменька, по правую руку сестрицы устроилась. Эта ест так, будто в тереме царском впроголодь их держали, а старшей знай кусочки махонькие подкладывает.
Любляна то клюковку в рот положит и скривится.
То от крыла лебяжьего отщипнет и вздохнет тяжко-претяжко.
То лизнет шляпку груздя соленого и вовсе слезу пустит, будто бы жаль премного ей этого груздя… А младшая шляпку с вилки снимет и в рот сунет, куриную ляжку закусывая. И кусок свинины положит. И репы печеной с пряными травами. И горку из яиц перепелиных копченых. И жует, главное, сосредоченно, будто не было дела важнее.
— Растет она. — Любляна платочком слезинку поймала. — И нервы… С нервов Маленка ест, как не в себя… после мается…
Арей кивнул:
— А у меня наоборот. Надо бы есть, но не могу. Чуть поем, и живот крутит.
— Льняное семя пить надобно. — Мне это молчание поперек горла было, на похоронах и тех веселей. — А еще я отвар сделаю…
— Царские целители уже делали…
— Я не царского, но от глистов. — И Маленкин взгляд недобрый выдержала. Не младенец, чтоб криком зайтись.
— С чего ты, девка, решила, будто у моей сестрицы глисты? — У Маленки ажно кусок хлеба изо рта вывалился.
— И не только у нее. Это ж признак первейший, когда один ест и наесться не способен, значит, внутри у него черви сидят, которые на этой еде жиреют. А если червяков много плодится, то набиваются они в живот, и еда в него уже не лезет.
— Ужас… — Любляна глазки прикрыла.
— Не слушай эту дуру. — Маленка сестрицу по руке погладила и к Арею повернулась: — Разве ты не видишь, что эти разговоры не для стола? Она и так ничего не ест…
— Может, — Арей криво усмехнулся, — и вправду стоит отвару какого выпить?
Любляна всхлипнула, и по щеке ее скользнула хрустальная слеза. Только, может, и черства у меня душенька, а не поверила я оной слезинке. Помнится, сказывала как-то тетка Алевтина, конечно, не мне, но бабке моей, про то, как ее в Конюхи позвали к женщине одной, которая все помирала и помирала. Мол, и есть ничего не ест, и пить не пьет, росинкой маковой за целый день живая, и не понять, в чем душенька держится. И что мучают ее боли страшенные, нутряные, цельными днями только лежит и стогнет жалостливо.
Тетка-то Алевтина поехала.
Не может отказать она человеку, когда оный головой о порожек бьет, умоляючи. Собралась. Травки свои прихватила. Оно-то, может, смерть и незваная гостьюшка в доме, да только порой долгожданная. Потому как коль и вправду хвороба нутряная, канцером в Акадэмии именуемая, приключилась, то спасения от нее нетушки, одно в силе Алевтининой — помочь по-своему, от боли и мук избавивши. Но не о том же ж… Приехала она и глядить, что женщина та вроде б и лицом бела, болезна, да только телом уж обильно зело. С голоду так не опухнешь.
Да и жаловаться жалуется голоском слабеньким, а зятя своего шпынять — так сразу голос и прорезается. А после спохватится и стонет, стонет, ажно заходится. Тетка-то Алевтина сразу скумекала, что дело-то непростое. Велела она всем уйти, мол, вселился в болезную дух зловредный и тетка Алевтина будет его выманьвать и караулить. И главное, что неможно никому, окромя болезной и самой Алевтины, в доме быть, потому как уж больно хитер дух. Выскочит из болезной и кинется в кого другого. Выставила, значится, что мужичка измученного, что жену евонную, что деток малых. А сама села с больной духа караулить. Та-то глазоньки прикрыла, рученьки на грудях сложила и охает, мол, тяжко. Тетка слухала-слухала да и придремала будто бы. Тогда-то больная и перестала помирать.
Один глаз открыла.
Другой.
Глядит, что спит знахарка приглашенная, и сама-то с полатей сползла да к печи, где щи вчерашние остались. Встала и ложкой наяривает, ажно похрюкивая, да колбаской закусывает. За колбасу эту, сгинувшую из погреба, кот был битый еще.
Ну а как тетка-то за руку болезную, которая не болезная вовсе, схватила, так и стала та плакаться, что, мол, смертушку свою чует, вот и решила в последний раз щец откушать. Ага… тетка-то ей разом объяснила, кто такова. И что не лечить прибыла, лечить-то она не обученная, но страдания облегчить.
А ежель не покается обманщица, то и облегчит.
Не ей, вестимо, родным ейным, которые вокруг болезной мало что хороводы не водили.
Там-то все просто… Сперва взаправду приболела, спину скрутило крепко. А после отошла, да понравилось ей болеть. Лежишь на печи, пока все по хозяйству колотятся… Красотень.
У боярыни из всех хлопот хозяйских — жемчугам пересчет весть да ноготки тряпочкой выглаживать, чтоб ровны были да хороши.
— Мне жаль, дорогая сестрица, — Маленка губы поджала и на меня зыркнула, — что тебе приходится выносить все это…
Любляна всхлипнула.
И вновь платочек к глазу прижала. К левому. А правым на меня глядит, и глаз этот что из стекла сделанный, не живой. И я гляжу, гляжу… а ничегошеньки выглядеть не могу. Уж и так, и этак…
Посидели мы за столом.
А после гостьюшек в покои их я проводила.
Хороши покои.
Ковров в них привезли шелковых, и полы укрыли, и стены, вроде как для теплоты, а что уж там за коврами этими, то… Да, может, оно и нехорошо, но вот не было у меня им веры. И гляжу на сестриц, ажно побелели обе. Старшая пальчики к вискам прижала, глазоньки закатила, того и гляди сомлеет. Младшая хлопочет да на меня позыркивает.
Она-то и не выдержала.
— Что за дом этот? И комнаты… никак самые худшие выбрали. Конечно, кому мы, сироты горькие, нужны? А ты, жених, скажи, чтоб в другие переселили…
— А чем эти нехороши? — подал голос Илья, порог переступивши.
Значит ли, что не он это? Если сумел? Или… В начертательной магии собственно магии капля, оттого и ненадежной она считается. Да и не полный узор я рисовала, а так… набросок махонький…
— Душно здесь! — Маленка ноженькой топнула.
— Окошко открой.
— Тогда холодно будет!
— Шубу вздень.
— Сквозняки…
— Перестань, — Илья к сестрице подошел, — раньше ты не была такой капризной.
— Раньше и ты не был таким равнодушным.
А у самой губы-то дрожат, того и гляди расплачется. Но нет, поджала, закусила едва ли не до крови и к сестрице своей болезной кинулась, обняла за плечи, зашептала, но громко так, чтоб слышали все:
— Ничего, дорогая… Вот посмотришь, все еще переменится. Потерпеть надобно… самую малость потерпеть.
Вот с того дня они в моем тереме и терпели, девок дворовых капризами изводя. То, волосы расчесывая, дернут гребешком. То летник мятый поднесут… иль не мятый, а иного цвету, чем боярыня просила. И все-то им неладно было. Вода для умывания холодна, для питья — горяча. Мед несладок, яблоки кислы, а еда и вовсе несъедобна. И со мной… В первый-то день еще держались, а после Маленка в глаза заявила, что, дескать, сама я холопка, а если и не холопка, все одно звания низкого, недостойная и лицезреть боярынь, не то что за столом одним с ними сиживать и разговорами глупыми докучать.
А я что?
Хотела ответить, да стерпела.
Не из-за страху перед матушкой-царицей, а потому как Кирей просил. И Ильюшка — хоть он-то просить не приучен — явился в первый же день, встал, глядит так… А глаза больные-пребольные. Да и не утерпела я.
— Что ж ты, — говорю, — добрый молодец и закручинился?
А самой не то смеяться охота, хохотать во все горло, не то слезами дурными зайтись.
— Неужто беда приключилась какая?
— Приключилась, — молвил Ильюшка в ответ и щеку потер. — Ты сама эту беду видывала.
— А мне мнилось, что не беда это, а сестрицы твои родные, которых тебе возвернули.
Он же ж тяжко вздохнул. Огляделся. И спросил:
— Верно, что ты заглянуть в человека способна? В прошлое его? Я… Не всегда и все сказать разрешено… а коль увидишь, то вины в том, в кого глядишься, навроде и нету.
— Так ты…
Он голову вздернул, что жеребчик, который того и гляди на дыбки подымется, и сказал:
— Гляди, Зослава…
ГЛАВА 2 О кручинах молодца доброго
Глянула я. Чего ж не глянуть, когда человек сам того просит? Я-то к тайнам чужим попривыкла, а дар тренировать надобно, так мне все говорят. Только как его тренировать? На ком?
На Ильюшке вон.
Сел напротив меня. И вперился взглядом. Глаза пучит, разве что не трескается от натуги, будто бы с того память его наружу полезет.
— Погодь. — Я рученькой махнула. — Ты сперва скажи… ты ж сам писал, чтоб их тебе отдали.
— Писал, — кивнул Илья.
— А теперь будто и не радый?
— Твоя правда, не радый.
— Почему?
Тяжко мне с ними, с боярами. Вот у простых людей и в жизни просто. А тут напридумывают себе — в три дня не разгребешься.
— Потому что не знаю, что мне с ними делать. Я давно не знаю, что мне делать… — Илья потер глаза, покрасневшие, будто пропыленные. — Мой отец… он был младшим, понимаешь? Есть царь… я его как родню воспринять не способен. Есть дядька Миша, который в Акадэмии ректором целым. А есть мой отец, вроде и маг, а не маг… и ни туда, ни сюда… К государевой службе он не пригодный. Пытался, а ничего не вышло. Нет способностей. Полководец? Тоже никакой. Куда ни сунься, а все одно без таланта… как назло.
Память-ледок?
Не ледок — лед старый, сизоватый, огрубевший. Такой и по весне до последнего держится, исходит слезой водянистой, грязной, а все одно не спешит отступать.
Опасный.
В нем, износившемся за зиму, трещины рождаются внутри. С тихим вздохом, со скрипом, человеческому уху не слышным. Только и успеешь, что подивиться, а он уже расползается.
Лед-ледок.
Холод ледника, в котором девка дворовая лежит, ногу подогнувши. Задрался подол, и нога эта, белесая, в синих жилочках, видна.
А еще коса растрепанная.
— Вторая уже, — голос отца доносится словно сквозь вату, Илья не способен отвести взгляда от ноги.
Или косы?
Или лица девичьего, ужасом искаженного? Он ведь знает ее. Авдотья… Хохотушка… Рыжевата, конопата… всегда с улыбкой, всегда готова угодить, не потому как он боярин, а просто.
— Споткнулась, наверное. — Отец повернулся спиной. — Вели, чтоб убрали. И сегодня я жду тебя, Илья. Есть к тебе серьезный разговор.
Авдотью выносили хмурые мужики. При доме они появились недавно и были мрачны, неразговорчивы. Девки, вот те шептались, хватались за простенькие амулетики.
— Не ходи, боярин. — Это Малушка, Авдотьина подруженька задушевная.
Одногодки.
Из одного села в дом взяты были. Матушке служили, да как захворала матушка, к ней другую девку поставили, белую и смурную, но отец уверял, что знахарка она, ученая.
— Неладно в доме. — Малушка глаза отводит, а те красны. — Не ходи к нему. Боярыня-матушка ушла и не вернулась. Сестрицы твои… это они…
— Что ты говоришь?
Малушка на конюшне его выловила. Конюшни отцовы Илья всегда любил. Пахло здесь хорошо. Да и тихо было. Кони всхрапывают, голуби курлычут. На сердце покой. Вот и пришел успокоиться.
— То и говорю. — Малушка носом красным шмыгнула. — Что неспроста Авдотья сгинула. Они это… Сначала он подвалы закрыл. С чего? Всегда мы убирались, не самому же рученьки марать… Потом в доме стало неспокойно… Хозяин больше молоко не берет, хотя ж самое свежее оставляем. — Она всхлипнула и не удержалась. — Авдя сказывала, что боярыни переменились… что как вниз сходили… силу тянут… она им волосы чешет и слабнет, слабнет… перед глазами мушки скачут… а они говорят…
— Может, заболела твоя Авдотья.
Разговор был неприятен.
— Всегда здоровая была.
— Прекрати.
Следовало бы прикрикнуть на девку, чтоб перестала языком попусту молоть. А он слушал.
— Здоровая, мне ль не знать. — Малушка всхлипнула тоненько. — Я ж при ней была… волосья чесала. Красивые были. Мягкие да гладкие. А волосья у бабы — первое дело. Когда волос тусклый, то хворь внутрях сидит. У нее ж гладенький…
Зашелестело что-то, и стихли голуби, а старый отцов жеребец, которого в доме держали из памяти о славных его конских годах, всхрапнул, вскинулся, застучал копытами по настилу.
И холодком потянуло.
Жутью.
— Она мне жаловалась, что батюшка ваш переменился. Вы-то за книгами его не видите, а он иным стал. Молчит…
Отец никогда особой разговорчивостью не отличался. А что изменился, так все меняются. Отец же с братьями рассорился, хотя и не говорил о том Илье, да Ильюшка не слеп и не глух, знает, что в мире делается. Не по нраву отцу царева женитьба, и жена его, и то, что в тереме творится.
— …А глянет, так прямо душа наизнанку. — Малушка плакала, уже не чинясь, и слезы по лицу растирала с соплями вместе. — Ваша матушка сказывала, что про нее вовсе забыл, а прежде любил крепко… теперь и не кажется, а глянет — и перекривится весь…
Бывает.
Да, отец матушку любил, пусть и не ровня они, пусть и глуповата, всполошна, склонна к пустым истерикам, но любил ведь.
— Кошка наша сгинула, и куры черные повывелись все. А на птичьем дворе их не одна дюжина была. Повадился шашок[4] таскать… Только никакой не шашок это. Шашку что белая, что рябая, что черная — едино, этот же только черных и перебирал. Козла батюшка ваш прикупил. А после тот козел и сгинул.
Она лепетала всякую чушь, и от этого лепета начинала болеть голова.
— Матушку вашу вниз повел. И она пошла. Своими ногами пошла. Была здорова и весела. Волосы я ей заплела на две косы, на особую манеру. Ленты выбирали вместе. Зеленые. В цвет летника и каменьев, которые в заушницах. А вниз пошла — и не вернулась. Меня к ней не пустили, будто бы я за боярыней плохо ходить бы стала. Я ее любила, как мамку родную. Она ж ласковая, не злобливая. А когда и прикрикнет, так после повинится. И летники свои, которые поплоше, отдавала… и еще ленты. А они говорят, заболела… Вы ее не видели, верно?
И глаза строгие, с упреком.
Оттого, что упрек этот в самое сердце попал, не по себе становится. А ведь и вправду, не видел он матушку. Сначала отец отослал в загороднее поместье, проверять счетные книги. И ведь как чуял — отыскал Ильюшка недостачу, да солидную. Потом за конями отправил на Вяжницкую ярмарку, тоже неближний путь, но и то верно, что там жеребчики самые лучшие. А потом…
— Что, вспоминаете, отчего вы к матушке не заглянули ни разочку? — Малушка вытерла слезы рукавом. — А и не только вы! Про нее туточки будто запамятовали все. Я сама, бывало, весь день кручусь-верчусь, а попадет в руки вещица ее, так и вспомню, что есть у меня боярыня. Болеет… Остальных поспрошайте.
— Поспрошаю… тьфу на тебя, расспрошу. — Илья потер лоб.
А ведь и вправду.
Третий день как он вернулся, про матушку же… спрашивал, конечно, спрашивал. Когда приехал. И отец что-то такое говорил… Про болезнь говорил? Или про то, что беспокоить ее не надо? Или… она спала? Утомилась? Не желала видеть?
Ведь собирался же идти.
Гостинцев привез.
И еще книжицу, из тех, пустых, которые про великую любовь сказывают. Матушка до чужих любовей очень охоча была… А не понес. Куда подевались?
— Вот, — Малушка пригладила встрепанные волосья, — и сестрицы ваши про нее забыли. Но сами переменились… Из девок силы тянут, улыбаются, в глаза глядят и тянут… Меня к ним пошлют. Сначала Кажинка ходила, которую ваша матушка ключницей ставила, потом Агнешка. А теперь и мой черед. Страшно-то как… — Она часто-часто заморгала, силясь управиться со слезами. — Не ходите вниз, боярин. Ваша матушка, когда моя захворала, дала денюжку на лекаря и еще после пожаловала. И сестрице моей приданое справила… три отреза. Она добрая была… и добром за добро… Мне жизни не будет, всех он извел, так хоть вы… уходите. Скажите, что дело какое есть. Вы же ж магик, а не просто так…
Ильюшка кивнул.
Магик.
И в Акадэмию все ж поступит, хотя батюшка о том слышать не желает, только и твердит, что дар слабый, что нечего время за книгами терять.
Потом.
Сейчас надобно разобраться, что в доме происходит.
Куры. Козлы.
Матушка больная.
Вот с матушки он и начнет.
— Все будет хорошо, — пообещал Илья и в лоб Малушку поцеловал. А после уж подумал, что так только покойников целуют. И повторил, отгоняя недоброе: — Все будет хорошо…
Память-лед трещит, расползается, и в трещины сочатся запахи. Сытный дух печева, пирогов, которые расчиняли спозаранку, а пекли ближе к полудню, что с дичиной, что с рыбой, с грибами тоже. Или с творогом, вишней.
Большими и маленькими.
Темными. Или только малость самую подрумяненными. Украшали косицами плетеными, бисеринами из сахару да клюквой вяленой. Порой целые узоры вывязывали.
Щука на огромном блюде развалилась, раззявила зубастую пасть, в которую вставили яблоко моченое. Щучьи бока сметаной мазаны, а под брюхом греча рассыпана.
Отец почти ничего не ест. Ковыряет в тарелке Любляна, которая ныне бледна и сторонится окна открытого. В конце концов не выдерживает:
— Закройте уже! Сквозит… Так и заболеть недолго. — Ее личико недовольно кривится, а меж бровок складка появляется. — Нормально закройте, ставнями!
Младшая сестрица ест, не глядя по сторонам, хватает кусок за куском и глотает, почти не пережевывая. И это на нее не похоже. Уж она-то была разборчива в еде, порой и чрезмерно. А от рыбы всегда носик свой прехорошенький воротила, мол, тиной ей пахнет…
Ест.
И глотает.
— Набегалась за день. — Она заметила его взгляд и улыбнулась так кривоватенько. — Вся в хлопотах…
— Какие у тебя хлопоты? — кривится Любляна.
Они друг дружку не то чтоб вовсе не любили. Любили. Сестры как-никак, а вот… была ревность… и капля зависти. Были ленты краденые и слезы литые, когда мнилось, что кого-то обижают. Но все это было тихо, по-родственному.
А сейчас неспокойно за столом.
И мыши шубуршатся.
— А куда наша кошка подевалась? — поинтересовался Илья, подцепляя на серебряную вилку грибочек.
И заметил, что приборы-то у батюшки простые, из железа деланные, пусть и украшены хитро, а куда серебро подевалось? Он свою вилку берег. При себе носил. Сказывал, что дарена она ему отцом была, на счастье. Потерял?
Тогда весь терем до досочки перебрали бы.
— Кошка? — Отец хмурится. — Понятия не имею.
— Сбежала, наверное, — дернула плечом Маленка.
И Любляна добавила:
— Стара уж была. Время ей пришло подыхать, вот и ушла из дому. С кошками оно всегда так.
— А с курами что?
— С курами? — Светлые бровки вверх взметнулись. И на лице такое недоумение искреннее, что невольно стыд берет за глупые вопросы свои. — А что с курами? Нестись перестали?
— Все черные куда-то делись.
— Да? — И ротик приоткрылся.
Хороша Любляна. В матушку пошла хрупкой воздушной красотой. И недаром женихов она с малых лет перебирает…
— Что с матушкой? — Он отложил вилку, понимая, что не полезет кусок в рот.
— Так болеет, — равнодушно ответила Маленка. — Давно болеет…
— Чем?
— Я откуда знаю? Болезнью.
Отец смотрит пристально и губу жует. И глаза… чужие глаза. Незнакомые.
— Я навестить ее хотел бы…
— Навестишь.
— Сегодня.
— Конечно, сегодня. — И тише добавил: — Чего тянуть-то?
Память.
Не только запахи ее рушат, но и звуки. Тихий скрип половиц, будто идет кто-то. Вздох за спиной, такой муки преисполненный, что поневоле становится страшно. Обмирает сердце. И вновь колотится о ребра. Чего бояться?
Вот он, дом родной.
Здесь Илья на свет появился, здесь вырос. Каждый закоулок ему знаком.
И что не по себе?.. А просто окна позакрывали. Дует им. Или от солнечного света сторонятся? Нехорошая мыслишка. Подлая. Из дому уйти, как Малушка советовала. Да прямо в царский терем. Сказать… пусть разбираются.
Пусть.
— От солнца мигрени у них. — Отец нес в руке железную рогатину с парой восковых свечей. Света мало, а душно. Так душно, что каждый вдох что через меховую рогожу. — Боюсь, как бы следом за матушкой твоей не расхворались. Говорил я ей, нечего привечать всяких… А тут то нищие, то убогие… то норманны… Им в нашем дворе делать нечего. Вот думаю, может, отравили?
И сказано это было… равнодушно?
Раньше, случись матушке прихворнуть, отец от ее постели не отходил. Всех целителей, какие только в городе были, созывал.
Вниз ведет.
— Что…
— Там она, в лаборатории. — Отец остановился, Илью вперед пропуская. Боится, что сбежит? — И не смотри на меня так. Зараза это… Сначала-то я целителей приглашал, а что один, что другой, что третий руками разводят. Нет на ней ни проклятья, ни хворей не видать, а она все равно тает день ото дня… И давно бы отошла… Свет дневной ей ярок, а каждый звук муку доставляет. Ты вот на сестер ныне криво смотрел. А они каждый день жизненной силой своей с матушкой делятся, да…
— А я?
Если все и вправду так, что ж молчали?
Что таились?
— А ты… ты мужчина, Илья.
И это прозвучало почти обвинением.
А лестница меж тем закончилась, уперлась в дверь дубовую, коваными полосами перекрещенную. Висит та дверь на петлях массивных. И замком заперта таким, который с ходу не откроешь.
— Ты ее под замком держишь?!
— Погоди. Сейчас сам увидишь… — Отец протянул ключ. — Я был бы рад выпустить, да…
Память.
Лед.
И острый смрад гнилого тела. Темень, которую едва-едва разгоняют свечи. Существо, запертое в клетке. Прутья толсты, но существо трясет их с нечеловеческой силой, и воет, и скулит. А после замирает вдруг и ласково, матушкиным голосом просит:
— Спаси меня, Ильюшечка… спаси…
И лицо искаженное прижимается к решетке, прутья в самые щеки впиваются. А глаза — не глаза, провалы черным-черны…
— Спаси, Ильюшечка…
Память.
Запах дыма. Кисти в склянке. Резец. И узкий нож с кривым клинком, который вспарывает кожу на запястье. Кровь льется, и существо — думать о ней как о матери у Ильи не выходит — замирает. Оно то вздыхает, то приплясывает, то пускает слюни.
— Это не она. — Отец спокоен. — Это уже не она… Но мы с тобой можем попробовать одно средство…
— Хорошо.
— Даже не выслушаешь, что за средство?
— Я согласен. Когда?
— Завтра.
Отец потер руки.
— Почему только завтра?
— Луна войдет в полную силу. Ты удачно вернулся, Ильюша. И если у нас все получится…
Тварь захохотала.
И снова память. На сей раз хрупкая, как древний пергамент. С легким ароматом пыли и душистых трав, которые клали под матрац, чтобы спалось легче. Но не спалось.
Никак.
И Илья, проворочавшись до рассвета, встал.
Он должен спуститься сам. Он должен увидеть.
Проверить.
Лестница не исчезла. И света одинокой свечи хватило, чтобы разогнать мрак. Дверь. Ключ… он забыл про ключ. И что теперь? Возвращаться? Будить отца?
Дверь открылась сама.
— Проходи, — раздался тихий голос. — Не стесняйся. Чувствуй себя как дома.
Тварь больше не бесновалась, да и из клетки она вышла, села в пентаграмму, ноги скрестив, и теперь задумчиво скребла длинными когтями коленку.
— Я надеялся, что ты придешь. — Она смотрела на Илью снизу вверх, и во взгляде ее не было больше безумия, лишь интерес.
— Я пришел.
Первой мыслью было — бежать.
Немедля.
Будить отца. Сказать, что выбралась она, что…
— Я тебя не трону. — Тварь махнула рукой. — Присядь. Поговорим, пока этот горе-маг не явился… Занудный он у тебя. Казалось бы, получил в руки источник древней мудрости, так сиди и радуйся, а он только и умеет, что бубнеть да вздыхать. И все мало, мало… но тут понимаю. Сам был таким.
— Кто ты?
— Кто я? Интересный вопрос, правда? — Голова матери перекатилась с плеча на плечо. Рот приоткрылся, и из него выглянул кончик языка. — Тело ты узнал… Кстати, не слишком-то приятное вместилище. Женщин я в принципе не люблю. Вечно у них то одно, то другое… У этой вот печень увеличена. Сердце пошаливает. Да… и с желудком беда. Еще полгодика, и целители будут бессильны.
— Кто ты? — повторил Илья вопрос.
— Я не она, это ты правильно думаешь. Я — дух, который тихо-мирно дремал себе, пока одной дуре не вздумалось искать справедливости. Запомни, Ильюшка, самые большие глупости в этом мире делаются ради абстракции. Любовь. Честь. Справедливость опять же… Выпустила, да… А изгнать силенок не хватило. Этот же возомнил себя некромантом. Будто для того, чтобы им стать, хватит одной книжицы. Нет, книжица, не спорю, прелестная, и в мои темные времена за такую душу отдавали, но вот… голова на плечах быть должна… должна, да…
Существо тяжко вздохнуло.
— Он призвал меня. И заключил в это тело. А чего хочет, и сам не знает.
— Он?
— Ильюшка, — тварь погрозила пальцем, — не притворяйся большим дураком, чем ты есть на самом деле. Ты ведь все прекрасно понял. Кстати, девушку жаль, но зря она языком молола. Могла бы еще и пожить… недельку-другую. Что ты смотришь так, с укоризной? Мне тоже питаться надо. Ты же не думаешь о том, что чувствовала свинья, которую ты давече вкушать изволил?
Тварь засмеялась.
А смех у нее неприятный, дребезжащий и нисколько не похож на матушкин.
— Что здесь происходит?
— Интересный вопрос, — ответила она. — Поверь, я и сам не отказался бы понять… Происходит то, что в руки твоему папочке попала одна вещь, которую защищали от многого, но, увы, защиты от дураков так и не придумали. Он прочел. Кое-что выписал. И возомнил себя великим магом. Задумал ни много ни мало — составить заклинание, которое бы духов подчиняло, таких вот…
Он развел руки и хлопнул себя по щекам, сильно хлопнул, так, что на щеках остались красные следы.
— Нет бы чем попроще заняться… Но ему же славы охота, желательно мировой… Да ты присядь, Ильюшка, присядь… Спит твой папаша. И видится ему во сне признание… А что до работы его, то теория теорией… теоретик он знатный, тебе ли не знать. Когда ж до практики дело дошло, то и выяснилось, что по ту сторону не только духи водятся.
Глаза матери налились слезами.
— Ишь, мечется… душонка махонькая, что воробей, а не успокоится никак.
— Ты…
— Не я. Он меня призвал. И в это тело заключил. Как я понял, твоя матушка слишком много вопросов задавать стала. А это уже пришлось не по нраву твоему батюшке. Вот он и позвал ее… на опыт поглядеть.
Смех был хриплым, больным. А изо рта матушки хлынула черная кровь, которую дух отер рукавом хламиды.
— Повелитель… чтоб ему…
— Зачем сегодня он тогда…
— А что ему тебе, любопытному, ответить было? Что он матушку одержимой сделал? Или что сестрицы твои ныне уже не люди вовсе? Не пожалел дочек родных…
— Кто они?
— В вашем языке такого слова нет. Они не отсюда — из древней страны, которая давным-давно сгинула… таа-кхеми. Шакалы пустыни. Твари, в сущности, не самые сильные. Ты бы с ними справился. Но хитры. И всегда парой работают. Одна жертву морочит, другая силу тянет. Только и горазды, что жрать в три горла, а пользы от них… В пустыне могут дорогу закружить, особенно если случится буре быть. Там, в песках, и караванам пропасть случалось. А здесь… вот уж не знаю, куда и зачем их… он думает, подчинил.
— А на самом деле?
Илья старался говорить спокойно, хотя и подозревал, что тварь не слова слушает, а его, Ильи, сердце то обмирало, то пускалось галопом. И во рту пересохло. И душа свернулась комком дрожащим.
— А на самом деле они позволяют думать, что подчинил… хитрые, говорю же. Я вот в подвале заперт словом хозяйским. Довольствуюсь крохами. Эти же… тьфу…
— Зачем ты мне все это рассказываешь?
Бежать.
Подняться. Тварь не станет удерживать. Кинет в спину пару слов язвительных, но задерживать не станет. Во двор. На конюшню. Жеребца заседлать или… на незаседланном можно. А то и вовсе пешком. Чай, столица…
Кричать.
Поднимать всех, кто есть.
Есть же магики. И знахари со знахарками. И ученые. И книги, пусть частью запертые, да неужто не сыщется в них заклятья какого, чтобы унять проклятого духа?
— Бежать думаешь? — поинтересовался тот. — Хорошее дело. У тебя, быть может, и получилось бы. Но вот… приведешь помощь? Спасать станешь? Не спасешь. Мне ей голову свернуть — одно мгновенье…
И шея изогнулась, захрустела.
— Прекрати!
— А девок… их и обнюхают если с головы до пят, ничего не увидят. Твари-то древние. Прятаться привыкшие. Их и дети бога не всегда увидеть способны были.
— Чего ты хочешь?
— Вот, другой разговор. — Он ослабил хватку, и матушка застонала. — А хочу я, Ильюша, того же, что и ты. Прекратить это безобразие. Уж извини, не люблю дураков, особенно самоуверенных. Очень жить мешают. Вот взять твоего папочку… Чего ему не хватало? Богат. Родовит. При жене любимой. Детки опять же… Нет, восхотелось курице орлом стать. Тьфу. — Слюна с кровью плюхнулась на границу круга. — И призвал меня… А дальше что делать — сам не знает. Изгнать не способен. Отпустить — не желает. Вот и маемся друг с другом. Там его книга, — он указал на стол. — В верхнем ящичке. От меня он защиту поставил. А вот о тебе не думал… для тебя у него иной план. Ты для него не родной сынок, кровь и надежда, а подходящее вместилище для еще одной древней твари. Не веришь?
Сложно не поверить, когда все… так.
Странно?
— Вон, видишь, на полочке… Да, тот сосуд с крышкой в виде львиной головы. Там заперт дух существа, которому… скажем так, в этом мире будут не рады.
Глиняный сосуд.
Старинный.
Древний даже. И древностью от него веет, как и силой. Рука сама потянулась было, но Илья не позволил себе коснуться. Одернул. Напомнил, что к иным вещам только в перчатке заговоренной прикасаться и можно. А лучше и вовсе не прикасаться.
— Молодец. — Тварь наблюдала за ним, не скрывая своего жадного интереса. — А вот твой папаша бестолочь, уж прости за откровенность, вечно лапает, что не нужно. Ты книгу возьми. Открой. Там есть заклятие… несложное. Обряд… разделить неразделимое… ты сумеешь.
Память.
И тьма, которая казалась густой, расползлась рваными лапами тумана, разлетелась клочьями. И вот уже он, Илья, листает ломкие страницы, удивляясь тому, сколь всего таит в себе невзрачная серая книжица. Она сама сокровище, и неудивительно, что отец не спешит этим сокровищем делиться.
Нет.
Илья возьмет книжицу. Ее нельзя оставлять здесь. Дух прав. Отец слишком безответственен, чтобы позволять ему играть с подобным. А вот сам Илья — другое дело.
Он исследует каждую страницу.
Каждое заклятье.
Обдумает.
Опробует? Быть может, некоторые… самые безобидные…
И смех твари отрезвляет.
— Что, от свиньи гусь не родится? — спросила она. — Ты учти, времени у нас не осталось. Будешь и дальше восхищаться или опробуешь кое-что? Сам смотри, матушка ведь твоя… Мне в этом теле, конечно, не слишком уютно, но ей, поверь, еще хуже.
Обряд.
Мел, который крошится.
И простенький рисунок, что выглядит недостаточно совершенным, хотя тварь и уверяет, будто нет нужды в совершенстве. Главное — основные узлы для привязки силы наметить.
Нож.
Жертвенная кровь. Собственная, Ильи, кровь, которая льется в чашу. И тварь замирает… В книге сказано, что кровь должна быть жертвенной. Неужели он это понял неверно?
— Обычно, — тварь вскинула взгляд, — под жертвенной кровью иное понимают. Твой папаша петухов безвинных резал…
— Мало этого? — Илья перехватил запястье платком.
И кольнуло, что матушка его вышивала.
— Да нет, сам факт жертвы важен… говори. — Тварь закрыла глаза. — Если бы ты знал, как мне все здесь… надоело.
Древнее заклятье. Ни слова не понятно, но меж тем Илья внутренним чутьем понимает, что говорит верно. Да и как их иначе произнести-то можно? Не заклятье — песня.
Вязь слов.
И силы, которая поднимается от пола… на крови.
— Что ты делаешь? — Любляна замирает на пороге. Простоволоса, боса, в белой рубашке. И вихрь силы накрывает ее.
— Что ты… — Маленка воет, падая на четвереньки, изгибаясь. — Что ты…
— Цыц, твари!
Мать изогнулась.
И упала.
Тело ее, будто объятое призрачным пламенем, сотрясали судороги.
— Останови! — Обе сестры, точнее, уже не они — в фигурах их не осталось ничего человеческого — скребутся, не способные пересечь порог. — Останови это!
Илья и рад был бы, но заклятье разворачивалось и не в силах человеческих было вернуть его.
Он только и мог, что смотреть.
Вот мать замерла.
И сестры, упав на пол, заколотились… Маленка билась затылком о пол, и под головой ее расползалась лужа крови. Любляна вцепилась пальцами в лицо и выла, выла…
А потом стало темно.
И темнота длилась…
Прерывалась скрипом двери.
Звуками шагов.
Холодной ладонью на голове.
— Отойдет ли? — В этом голосе слышалась забота. И он приносил спасительную прохладу.
— Должен. Молодой еще. Повезло… свою кровь…
Кровью в темноте пахло, терпко и сладко, и запах этот вызывал странное желание в него завернуться, словно в пушистую старую шаль.
Кровью и поили.
С ложечки.
Не человеческой, само собой, а бычьей.
— А что девчонки? С ними… как?
— Кто ж знает, матушка. — Второй голос сух и неприятен, колюч. — Магии в них нет. И вообще… А что норов скверный, так у кого из дочек боярских он сахар?
— Ты мне скажи лучше, что с ними делать?
Тишина — звонкая, что зимний лед. И длится она долго, Илья почти успевает очнуться, прикоснуться к этой самой благословенной тишине, когда скрипучий голос вновь ее нарушает.
— Вы знаете, что делать.
— Дети же горькие…
— Может, еще да… А может, уже нет. Божиня не осудит…
— А люди?
— Вам ли людей страшиться? Поймите, оставите их, и что потом? Мы не знаем, удалось ли мальчишке полностью изгнать тварей. А если нет? Если они затаятся? На год? На два? А потом?
Вздох.
И снова тишина. Темнота отступает. Прорезают ее розовые сполохи грядущего рассвета. Белизна потолка. И робкое пламя свечей. Когда Илья открывает глаза — а веки тяжелы, что свинцом запечатаны, — он сначала не видит ничего, кроме этого пламени, которое само по себе прекрасно.
— Здраве будь, племянничек… — Дядя Михаил сидел у постели, в креслице низком. — Выжил-таки.
— Выжил. А…
— И матушка твоя жива. В обители она.
И замолчал.
Стар он стал. Иссох весь. А ведь маг. Маги старятся медленней обычных смертных.
— Она…
В обители. И в какой — не скажут. Илья не ребенок, понимает, что коль ушла от мира, то и от него, Ильи, ушла.
— Таково было ее собственное желание, Ильюша. И не мне ее останавливать. Душа ее крепко измучена. Кровит вся. И покой ей надобен едва не больше, чем тебе.
— А…
— И сестриц бы твоих в монастырь отправить.
— Или сразу в могилу?
— Слышал, значит? — Дядюшка не стал притворяться, будто бы не понимает, о чем речь. — Хорошо. Значит, не придется врать, очень я этого не люблю. Что ж, самое бы верное было их в могилу отправить. Оно, может, и жестоко, да порой и жестокость — милосердие. Твари, которые в них вселились, с душой сливаются, под себя ее меняя. А когда переменят, то рождается еще одна тварь, которая новое тело ищет.
— Я их…
— Изгнал? Может, и так. А может, и нет.
В дядиной руке появились нефритовые четки. Илья хорошо их знал, из белого камня резанные, они были с дядюшкой всегда. Задумавшись, он перебирал бусины, когда осторожно, так, чтоб одна другой не коснулась, а когда и быстро, и тогда бусины сталкивались, издавая сухой неприятный звук.
— Видишь ли, Ильюша… если твари ушли, то сестры твои все одно останутся ущербными. Сколько они душожорок носили? Не один день. Да и не один месяц. После такого никто прежним не останется.
— И что?
Сухо было во рту.
— А то, что не одну, так другую гадость подцепят. Вот… а если не ушли, если затаились? Ты готов взять на себя ответственность не за сестер, а за других людей, которых они изведут?
— Готов!
Илья с трудом, но сел.
Огляделся.
Махонькая комнатка, не комнатка даже — иная конура просторней будет. Окон нет. Потолок низенький. На полу шкура запыленная медвежья кинута, у самое кровати. Вот кровать хороша, из дуба резана, перин навалено — утонуть недолго.
— Не горячись. Решение принято, и каким бы ни было…
Он слегка поморщился.
— Она тоже жалостлива сделалась. А может, свой резон имеется? Оставят их. Здесь, в тереме царском, оставят. Под ее присмотром. Объявлено пока, что приболели девушки.
— Отец?
Дядька убрал четки.
И вздохнул.
— Умер он… Его живым взяли… когда ты заклятье прочел, то силу выпустил немалую. Всплеск таков был, что сторожа по всей столице всполошились. К дому вашему… а в доме, уж прости, Ильюшка, только вы пятеро из живых остались. Да и то… Матушка твоя стонет и плачется. Сестрицы лежат без памяти. Ты сам едва-едва дышишь, а братец мой только и стенает, что ты его работу порушил.
— А люди?
Была же дворня.
Та Малушка.
И кухарка с помогатыми. И отцов старый дядька, поставленный вещи блюсти. Девки, которые сестрицам прислуживали, дом мели да глядели… Что с ними?
Дядька Миша головой покачал:
— Не вини себя. Духи — твари коварные, а уж этот-то… Будет мне наука… То, что я скажу… в Акадэмии многое есть из того, чему не надобно на белом свете быть. Книги. Вещи вот… К примеру, фиал с духом одного некроманта, который искал вечной жизни. До дня вчерашнего я думал, что фиал этот находится там, где ему и положено: в шкатулке, опечатанной семью печатями, еще прежним ректором заговоренной. Но нет, пуста шкатулка, взломаны печати. И так аккуратно, что не скажу даже когда…
— Давно.
— Это я и без тебя знаю, что давно, — отмахнулся дядька, и четки в его руке раздраженно защелкали. — Пылищи на ней собралось с два пальца. Не в этот год взяли и не в прошлый. Ладно, что было, то было… Главное, твой отец умудрился эту тварь призвать. Связал с телом… и никуда эта погань от нас не делась бы…
— А матушка… он ее убить грозился!
— И самому умереть? Нет, дорогой, на это он не согласен. Но, повторюсь, не тебе с духом тягаться. А твой отец… он ничего не скрывал, разве что от кого ту книгу проклятую получил, но и на этот вопрос ответил бы, никуда не делся. Заплечных дел мастера хорошо свою работу ведают.
И это упоминание о пытках покоробило. Неужели бы отдал родного брата?..
— Отдал бы, Ильюша… Если бы мог отдать, отдал бы. Но тварь раньше до него добралась. Сирота ты теперь.
Помолчал, позволяя осмыслить. А чего осмысливать? Все одно не оставили бы в живых.
— Если бы по-тихому, тогда… но, видишь ли, твой выплеск все слыхивали. Многие к подворью стянулись. А там стрельцы. Пришлось сказать, что батюшка твой смуту затеял. Сговорился с Гервишцами и Натош-Одинскими… Они ей давно поперек горла были, да…
— Смуту?
Отец и смута. Глупость какая. И никто в это не поверит. Определенно никто не поверит, но…
— Дело такое, Ильюша. — Бусины на четках замелькали быстро-быстро, отстукивая мгновенья прошлой своей жизни. — В смутьяны записали — это, конечно, нехорошо… это суд… и земли ваши…
Меньше всего Илья о землях думал.
— И пятно на тебе, но лучше пусть отца твоего смутьяном запомнят, чем тем, кто по глупости с темными силами связался. Сам знаешь, что закон про таких говорит.
Илья знал.
Выжигать.
Костры и железо каленое. И семя зловредное выкорчевывать.
— Ты ведь тоже коснулся той книги. И начнись разбирательство, тебя не пощадили бы… Из благих ли побуждений, из глупости или просто случайно, но ты открыл ее. Читал. И провел обряд.
Илья опустил голову.
И пол ушел из-под ног…
Память. Ее почти уже не осталось. Мягкая ветошь, которую пихала нянька в купленные на вырост сапоги. Пуховое одеяло, которым Илья накрывается с головой, мечтая об одном — раствориться в этой душной темноте. И еще немного — стыд, заставляющий дышать.
Трусость.
Был бы храбрым, нашел бы способ прервать никчемную свою жизнь.
— Ты не дури! — Одеяло слетает, сдернутое сильной рукой дяди Миши. — Ишь, вздумалось…
— Я виноват…
— В чем, бестолочь? В том, что твой отец завязался с силами, с которыми справиться не сумел? Или в том, что пытался спасти близкого человека?
— Но…
Глаза слезятся.
И белизна потолка причиняет боль.
— Вставай! — Дядька Миша за плечо стаскивает Илью на пол. — Вставай и подбери сопли. Потом себя жалеть станешь.
— Я не могу.
— Можешь. В первый день поднялся ведь, а теперь…
— Плохо мне.
Тело не слушается, и Илья возится на полу, что таракан. Встать надо, хотя бы чтоб в дядькины глаза посмотреть, а то перед носом лишь сапоги его с заломами.
— Всем плохо бывает. Думаешь, мне хорошо? Я за тебя ей обещался…
— Это она. — Илье удается вцепиться в край кровати. — Это ее книга… отец говорил, что ее…
— Может, и так. — Дядька лишь наблюдает за его мучениями, не делая попытки помочь. Да и не принял бы Илья его помощь. Гордость — единственное, что у него осталось. А еще чувство вины.
Надо было уйти.
Позвать кого… Хотя бы его вот… Дядька Михайло никогда не отказывал в помощи. И маг он… целый ректор. Неужели не сумел бы?.. Ведь говорит, что сумел… и тогда все иначе было бы.
Дух вернулся б в тюрьму свою.
Мама.
Сестры.
Отец. Дядька Михайло нашел бы способ вразумить отца. И тогда… тогда не объявляли бы его смутьяном. Не палили бы подворье, пытаясь скрыть смерть всех, кому судьба выпала в тот день остаться. И сам Илья, и его судьба иначе повернулась бы.
— Вставай-вставай! — Дядька в креслице свое сел и четки достал. — И слушай, глядишь, услышан будешь. От чувства вины я тебя не избавлю. Это, дорогой, твое дело. И твоя совесть. Научись с нею ладить. Сестры твои живы, и она за ними приглядит. Не даст разгуляться…
— А я?
— А что ты? Ты живой. Целый. А что слабость, так пройдет… Конечно, теперь ты у нас сын смутьяна, но, знаешь, даже странно, что она тебя пощадила. Бояр забоялась, что ли? Все ж наследник, и прямой. У нашего, сам знаешь, с этим делом туго. И пусть говорит она, будто бы жив сын его, да… если и жив, то кто знает, что завтра случится? Ты ей нужен. Каждый день справляется. И гневаться изволит крепко на твою блажь. Не заставляй ее саму…
— Это ее книга! Ты не слышишь?!
— Слышу, дорогой племянник, еще как слышу. И говорю, что, может, оно и так, да только поди докажи. Подворье моего братца тьмою пропахло. Кровью пропиталось. Там и без всякой магии понятно было, что хозяева не Божинин храм возводили. А она… вот выйдешь ты завтра из палат этих и станешь говорить глупости. Думаешь, послушают? Были бы у тебя доказательства, многие б обрадовались. Это ж какой предлог, чтоб ее сместить… И царицы Правде подсудны. А вот без доказательств получается, что ты, Ильюша, по злобе душевной на спасительницу и заступницу свою клевещешь.
Память рассыпалась.
И я вновь стала собой.
Сидим. Молчим.
А чего сказать? Что если б Ильюшка не сглупил тогда, все б иначе повернулось? И бабка моя… Нет, бабка сказывала, что знал бы наперед, где упадешь, соломки кинул бы.
Да и неужто я сама, случись с моими беда такая, упустила б шанс?
Знаю ответ.
— Теперь понимаешь, что с ними надо осторожней быть. — Илья вытянул дрожащую руку над свечой. — Несколько лет… за ними наблюдали пристально. Люди приставлены были. В покоях — амулеты, и проверяли постоянно… Ничего не находили.
Может, и так, только девки, к сестрицам Ильюшкиным поставленные, бледны да пужливы сделались, хотя всего-то два денечка при боярыньках пробыли.
— И если так, то у меня получилось? — Он улыбнулся виноватой кривой улыбкой. — Я себя убеждаю, что получилось, что не могло не получиться, потому как тогда выходит, что все зря, что я…
Я Ильюшку по руке погладила. Утешить бы, да со словами я не больно управляюсь. Не найду таких, которые взаправду утешат, а то еще и глупость какую ляпну. У него ж душа обесшкурена, такую тронь — и закровит.
— Тогда почему я их боюсь? Он еще тогда сказал, что теперь я в ответе, если не хочу отослать… что она их держит ради меня… чтобы привязать покрепче. Куда уж крепче? А еще капитал политический…
Я кивнула важно.
Про капиталы всяческие мне Люциана Береславовна расповедывала давече — что про те, которые в крынках хранят, на заднем дворе оные крынки прикопавши, что про иного всякого свойства. И тогда было удивительно, как это голова моя капиталом служить способная. Одно дело, когда голову этую из золота отльют аль из серебра, и другое, когда на плечах она и знаниями набитая.
Сестрицы ж Ильюшкины тоже товар.
Вот, замуж отдать можно, милость кому оказавши. Хотя, на этих невестушек поглядевши, жалею я женихов их, потому как с такой милости и окочуриться недолго.
— И что рано или поздно, но именно мне придется решать, как с ними быть. Я все думал, что этот момент если и настанет, то не скоро. — Ильюшка поднялся, одежку одернул. — А оно вот как вышло. Приехали… встречай… И куда дальше?
— Не знаю.
ГЛАВА 3 Об любовях и нелюбовях
День четвертый лета.
И солнце, которое с самого утречка полыхнуло жаром, окатило — что крыши красные, черепичные, что улочки узенькие, что сады да крылечки.
Сгинул с крылечка оного кошак старый.
Кобели в буды попрятались, полегли, языки выкативши, только вздыхают горестно. Куры в грязи и те копошкаются лениво, даже не квохчут. Я на кур из окошка поглядваю да семки лузгаю.
А в голове одно крутится.
Как бы до осени дотянуть и… и если выпадет все сделать верно, то взаправду сбежим с Ареем. Станька за бабкой приглядит. Деньгов ей отправлю, чтоб было за что век доживать. Не станет царица-матушка старуху из деревни выколупывать, чай, не царское сие дело.
А мы уедем.
На самый край мира, хотя ж Люциана Береславовна и утверждает, будто бы краю оного вовсе не существует, что сие — исключительно оптическая иллюзия, а на деле землица наша что шар, вроде мячика дитячего. И что если все время в одну сторону идти, то с другой выйдешь, правда, конечно, как в сказках тех, и сапоги железные, ходючи, истопчешь, и караваи медные изгрызешь, и сам, может статься, сгинешь на чужбине.
Сказывала.
И показывала.
Что карты. Что шар, картами размалеванный, голобусом величаемый. И вроде глядела я, верила, а душой не понимала, как же так, чтоб землица наша круглой была? И как с оной землицы тогда мы не падаем? Нет, это она тоже объясняла, правда, вздыхала и пеняла меня за дремучесть, а заодно уж книжиц дала цельный короб на внеклассное, как сама сказала, чтение, чтоб мою дремучесть побороть и политесности во мне прибавить.
Вот книжицу я и читала.
Пыталась.
Жаркотень… На такой жаре буквы сами собой расползаются. А еще мысли мои что масло растекаются. Точно, уедем. Чтоб как в сказке… подхватит меня добрый молодец в седло и увезет за горы далекие, моря соленые.
За моря, пожалуй что, не надобно. За морями теми земли лежат, где люди черны, а звери предивны. Ладно, к зверям-то я привыкла б, а вот серед черных людей зело выделяться станем…
— Посмотри, сестрица, — голос Маленкин перебил мои размышления, а я аккурат меж свеями и саксонами выбирала, прикидываючи, где нам с Ареем больше рады будут. Выходило-то, что нигде. — Неужели ныне и холопок грамоте учат? Что читаешь?
Маленка села рядышком и острым локотком меня в бок пихнула. И вроде сама мала, ведром накрыть можно, и силушки в ней — на слезу кошачью, а локоток остер, ажно дыхание перехватило.
А она книжку цапнула.
— «Описание земель дальних»… Скукотень. Зачем тебе это, девка?
— Меня Зославой кличут, — буркнула я и за книжкой потянулась.
Боярыня ее за спину упрятала и язык показала, мол, попробуй отбери, коль сумеешь. Я ж только рученькой махнула, небось книжка не из самых дорогих, и если збиедает[5] ее сия стервядь, а она может исключительно из редкостного паскудства своей натуры, то заплачу Люциане Береславовне.
— Буду я всяких там имена запоминать.
И сама сидит.
Глядит.
Выглядывает, злюсь ли я.
Не злюсь. На больных и блажных не обижаются, а она… вот, может, и выглядывали ее что жрецы, что магики царевы и не углядели зла, да только и добра в Маленке ни на ноготочек. Человек ли она? Не ведаю. Может, и да, есть же такие люди, которые, иным жизни не попортивши, счастья не ведают.
— Эй ты, моя сестрица знать желает, когда жених ее явится. — Она поднялась и книжицей меня по голове стукнула. Точней, попыталась стукнуть, да я уклонилась и книжицу перехватила, дернула легонько да с выкрутом, как Архип Полуэктович показывал, она и не удержала. — Да ты еще пожалеешь, что на свет родилась!
Маленка аж побелела от злости. И ноженькой топнула. Ну да меня топотом не больно напугаешь.
— Жених, — говорю, в глаза глядючи, — так откудова мне ведать? Пущай письмецо ему напишет… передам, так уж и быть.
Говорю, а сама… лед-ледок… нету льда, не ложится он на пересохшее русло. И видится мне Маленка не девкой, а рекой, из которой вода ушла, на самом дне разве что пара мерзлых лужиц осталась. В такие не провалишься.
— Ты, девка, — она уже шипит, слюной брызжет, что сковородка жиром, — говори, да не заговаривайся. Делай, что велено!
— Кем велено?
— Мной!
— Когда велено? — И гляжу так ясненько.
— Сейчас!
— Да?!
Была у нашей боярыни серед дворни девка одна, за редкую красоту взятая. Волос золотой, глаз синий, личико чистое. И сама-то она, что лучик солнечный, завсегда ясна и приветлива. Вот и позвали в усадьбе служить. Только ж оказалось, что все у нее в красоту ушло. В голове ж пустотень… Начнут ей поручения давать, она глядит, глазищами хлопает и улыбается.
Что она мне вспомнилась?
— Ты… — Маленка ажно дар речи потеряла. — Ты… тут не шути мне!
— С кем?
— Думаешь, самая умная? — Маленка вцепилась мне в руку и пальцы сжала, выкрутила. Вот же ж, боярыня, солидность иметь должна урожденную, а она щиплется, как гусак паскудный. — Ничего, дорогая, скоро поймешь, с кем связалась. Все вы поймете…
И сгинула.
Чего хотела? Я книжицу-то отряхнула, положила на тряпицу чистенькую да возвернулась. Как там Люциана Береславовна сказывала? Самообразование — ключ к успеху. Вот и будем оный ключ ковать, капиталу головную множить.
Пригодится, чай.
Нет, к свеям не поедем. У них бабы уж больно хороши, если описаниям верить. Лицом белявые, волосами пышные… Баб мне и ноне хватает. Может, к морю?
Арей объявился ближе к полудню, когда я до страны Кибушар дочитала. Про нее нам, помнится, Милослава сказывала, да как-то коротенько. В книжице-то про эту страну добре расписано было, что, мол, лежит она на песках, а в тех песках родники живые, и на каждом роднике свой царь сидит. И у него жен столько, сколько прокормить он способный. У одних — дюжина, у других — ажно и пять дюжин.
Туда мы тоже не поедем жить, а то мало ли…
Вот отчего так — что у азар, что у кибушаров, что у иных многих народов одному мужику много жен позволено брать? Но нигде нет такого, чтоб одной бабе двух аль трех мужей прибрать можно? Иль с того сие, что ни у одной бабы в здравом розуме на двоих мужиков нервической силы не достанет?
— Здравствуй, Зослава. — Арей сел рядышком и протянул леденца на палочке. Простенького такого петушка, которого из сахару варят да с соками разными. И соки леденцы в разные колеры красят. Нынешний был золотым, полупрозрачным и до того сладким с виду, что рот слюной наполнился.
— Спасибо.
Петушок был духмяным. И значится, не только сахару, но и меду не пожалели.
— Что у вас за беда приключилась?
— Где?
Арей тяжко вздохнул.
— Прислали мне нарочного с письмом, что тут мою невестушку обижают. Вот думаю, которую…
Я петушка и отложила.
Разом и цвет утратил, и запах, и… и тошно стало. Я тут сижу, мечтания мечтаю об том, как жить станем, пусть и на краю мира. Может, получится до того краю добраться и с него плюнуть.
— Не меня, если…
Если считает он меня своей невестою.
— Да я так и подумал. Тебя обидеть можно, конечно, но жаловаться ты непривычная. Она и царице отписалась.
— Которая из них?
— Тоже заметила? — Он руку мою нашел и погладил осторожно. — Вернись в общежитие…
Я б с превеликой радостью. Пусть и велик терем, мне даренный, пусть и богат, полны сундуки добра, а все одно неуютно мне в нем.
Дом?
Нет, не дом. Не тот, об котором мечталось. Да только как оставишь гостей, пусть и незваных, да званием немалых?
— Плевать. — Арей тряхнул головой. — Я только и думаю, как бы они тебя… как бы не случилось чего… не знаю… Меня с вами отправляют. А их — со мной, то есть формально — с братом, который безмужних сестер в городе оставить боится.
— А он боится?
Ильюшка в гости каждый день заглядывал. Только гости были престранны. Он являлся и садился за стол, сестрицы усаживались напротив. Да так и сидели молча, глазея друг на дружку. Высиживали когда час, когда и два, а после расходились.
— Останься, — попросил Арей. — Никто не заставит тебя ехать. Скажи Люциане, она тебе мигом дело отыщет, где подальше… или вовсе больной скажись. Поверят.
— А практика?
— Зачтут. Найдут способ. Зослава…
Что сказать? Не он первый говорит об этаком. Мол, всего-то надо, что захотеть, и сподмогнут добрые люди, сумею отвод дать, чтоб не ехала я в земли дальние, не искала приключениев на зад свой, который ноне вовсе не так уж и широк. Да только… вот как мне их всех бросить?
Царевичей бедолажных.
И Кирея, который чем дальше, тем беспокойней делался, будто грызло изнутри его то самое азарское пламя, с коим не всякому совладать выйдет. Ильюшку… Лойко… Невестушку свою названую утративши, он сделался смурен и молчалив. Наособицу держится, а тронешь — вспыхивает злостью непонятной, только и отгорает быстро, сам винится.
Куда они одни?
Да и… есть же и слово даденое, и монета клятая, и жених, который, даст Божиня, женихом и уйдет… Есть сон мой и книга серая, которую Хозяину вод возвернуть надобно, пока иных каких бед она не натворила. Есть… многое за мною есть.
Не останусь.
А захочу, то, мнится, и не оставят.
— Нет, значит. — Арей понял все без слов. Обнял. Коснулся сухими губами лба. — Извини…
— За что?
Он-то в чем виноватый?
— За все. За то, что вышло так, неудачно… за то, что сам я…
— Обнимаетесь? — Маленкин визгливый голос едва ль не заставил подскочить. Еле на лавке усидела, честное слово. — Ты погляди, Любляна, на это безобразие!
Стоит боярынька наша, руки в бока уперла, глазьями зыркает гневно, значится, ноженькой притопывает… Ох и грозна, как мышь, на кота войной пошедшая.
— Погляди, погляди. При живой-то жене…
— Пока не жене. — Арей руку свою не убрал. И чуяла я, злится. Внутри закипает дикое азарское пламя, а Маленке то в радость. Ажно засветилась.
— Невесте, царским словом даренной! Тебе, ублюдку, милость великую оказали…
— Цыц! — рявкнула я.
И как-то так рявкнула, хотя от жизни не крикучая, что Маленка присела. Правда, скоренько спохватилась и айда в крик.
— А что тут делается! — Визгучий голос ее всполошил курей, развалившихся было на солнцепеке, и те с квохтанием брызнули в стороны, только пыл поднялся. — А, люди добрые…
Ох, и верещала она! Вороны и те слухали-заслухивались, до того красиво выходило. Этак не каждая торговка сумеет, не то что боярыня родовитая.
Я прям рот и открыла.
После-то вспомнила, что Люциана Береславовна за этот рот раззявленный, которым только мух ловить, ругивала крепко, и закрыла. Подперла кулачком щеку, на Маленку уставилась. Ну и гляжу, значится, жду, когда человек проорется. Она же ж, знай себе, по чести идет, что по мне, что по Арею и евонной матушке… что по моим родителям… Выдохлась наконец.
— Пересохло в горле? — молвила я найлюбезнейшим тоном. — Может, кваску подать?
Маленка только запыхкала, что твой еж, и выскочила с горницы, только дверью ляснула так, что мало терем не развалился.
— Кваску, значит? — Арей бровку поднял.
— Кваску… а то мало ли, может, всего не досказала.
Глянули друг на друга и прыснули смехом. Вот же ж, люди добрые…
И недобрые.
— Знаешь, Зослава, а с тобой весело. — Арей отер слезящиеся глаза. — Даже когда причин для веселья вроде бы и нет.
— Царице жаловаться станет?
— Разве что для порядку. А так ее никто слушать не будет, и она это знает распрекрасно. Нет, здесь другое. Пройдемся? — Он встал и руку подал.
А я что? Приняла. Как оно там осенью будет, еще вилами на воде писано. Может, и не доживем мы до той осени, так чего время на глупости тратить?
Выплыли мы со двора, лебедь с лебедушкой. Ну, хотелось мне лебедушкой хоть когда побыть, правда, чуяла всей сутью своей, что не лебедушка я, но как есть гусыня обыкновенная. А и пускай себе, тоже птица хорошая, строгая.
К воротам дошли.
И за ворота.
Город задыхался от жары. Солнце пекло немилосердно.
Пыльно.
Духотень. И по этой духотени собаки и те попрятались, что уж про людей говорить. Дремали в теньке нищие. Страдали лоточники. И ни пирогов никому не хотелось, ни пряников, ни орехов каленых. Арей, правда, купил кулек, но больше для порядку.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил он.
А я плечами пожала.
Обыкновенственно.
Лениво разве что. Экзаменации сдала, до практики еще неделя цельная, а я, заместо того, чтоб делом заняться, бока на перинах вылеживаю. Отдыхаю.
— Не болит голова? Слабость непонятная или вот кружится…
Он и рукой крутанул, показываючи, как кружится. А никак она не кружится. Я только рученьками и развела, мол, не чую за собой этаких приличественных слабостей, и значится, нетушки причин в столицах оставаться.
— Я не к тому, Зослава. — Арей мысли мои нехитрые прочел и усмехнулся. А ведь ныне он глядится если не как боярин, то всяко не голодранцем. Вон, штаны новые, и рубашка из ткани легкой, и камзол тонюсенький, самое оно на летнюю пору. Вроде и прост, а пуговицы с перламутровым глазом да каймой золотой. И сапоги яловые, желтого колеру, на каблуках звонких. Идет Арей, и каждому слышно.
К новой одежде и новую невесту…
Кольнула подлая мыслишка да и отпустила. Не станет он так поступать, не со мною.
— Мне кажется, что эта красавица неспроста ныне завелась… Я кое-кого в тереме порасспрашивал, раз уж ныне меня там гостем дорогим зовут, — и внове усмехается, только кривенько так, мол, мы с тобой-то ведаем цену взаправдошнюю этому гостеванию. — До смерти они там никого не довели, это правда. Прищемили хвосты поганкам. Но вот что девки дворовые на них жаловались — то сущая правда. И вроде бы не сказать, что боярыни капризны сильно были… вовсе-то некапризных нет. Однако же силу тянут… Одна все вздыхает да помирает, а другая за любую мало-мальскую ошибку отчитывает, и так, что поневоле злость пробирает.
— Как тут?
— Именно. — Он меня к скамеечке подвел.
Это ж мы гуляли-гуляли и аккурат к площади выгуляли рыночной, которая и по нынешнему летнему часу жила, хотя ж и ленивой жизнью. Гудели торговые ряды, вились над мясными мухи, орали на рыбных что коты, что торговки одинаково мерзотными голосами, сияло на солнышке серебро и золото богатых лавок…
Дремал у столба позорного пьянчужка, стаей псов бродячих окруженный.
А над скамеечкой нашей растопырил лапы кованый цмок-змей виду предивного. Под оным и табличка имелась, что сделанный он был мастером Ульгваром Леворуким по заказу гильдии кузнецов, чтобы мастерство свое перед иными людями и купцами показать.
— И вот подумалось мне, что неспроста это. Тварь если есть какая, то голодна. А как голод утолить? Силой жизненной. Откуда взять? Вытянуть. Да так, будто бы сами жертвы эту силу и отдали. Вот одна гнев вызывает, а другая — на жалость работает. Человек-то, когда гневается, открытый… Вы это позже проходить станете. Самое поганое, что не один я такой умный. — Арей присел рядышком и ноги вытянул, на сапоги свои уставился во все глаза. И я поглядела. Хорошие сапоги, правда, необмятые и, значится, трут. Надобно кожу маслицем постным вымазать и в тряпицы закрутить на ночь, тогда она помягчеет. Батька мой еще так делал. — В жизни не поверю, чтобы в тереме царском никто не обратил внимания на этот… нюанс.
Голуби курлычут.
Слышала, что ноне в столице новая мода, чтоб молодые голубей в небо отпускали. Ему, значится, сизаря суют, а невесте — голубку белоснежную.
Красиво, должно быть.
А с другой стороны, оно-то глядеть красиво, но с птицей пойди-ка договорись. Взлетит и обгадит. И пущай сие к деньгам — верная примета, — но навряд ли невестушка, которой такое приметится, рада будет. Тут же ж голуби к ногам нашим слетелись, пихают один одного, что бояре думские, да кланяются, жалятся на судьбу.
— Но предупредить нас не сочли нужным. — Арей кулаки стиснул. — Кинули гадюк пару, и думай теперь, чего с ними делать. Избавиться? Это если доказать выйдет, что они уже не люди. А так… Нервы треплют? Это не преступление. Но держись от них подальше.
— Кирей…
— И от него тоже. Мутит он что-то, а что — не пойму. — Арей поскреб лоб и пожаловался: — Рога лезут… все не вылезут никак. И болит, и свербит.
— Почесать?
— А и почеши. — И голову наклонил, чтоб, стало быть, чесать сподручней было.
Я и поскребла. Надо же, два махоньких пятнышка на лбу проступили, красные, навроде лишайных, только еще припухлые. А под припухлостью этой тверденькое чуется.
Вот же ж, не один, так другой… Видать, на роду мне писано было мужа рогатого заиметь.
— Хорошо… — Арей еще ладонью раскрытой лоб погладил. — Чувствую себя знатным козлом…
Я перечить не стала. Коль чувствуется человеку, то отчего б и нет?
— Когда поедем… вот. — Он вытащил из кармана колечко медное, золотой проволокой обернутое. — Я, конечно, не мастер, да только эти годы не зря хлеб ел. Понимал, что только руками своими жив и буду. Вот и делал кое-что на заказ. А это и для себя… для тебя.
И сам колечко на палец нацепил.
А в проволоке камушки крохотные стеклянными осколочками блестят. Или не осколки, но роса будто бы? И сама проволока, в медь вплавленная, узором идет предивным, словно одна руна в другую перетекает. Гляжу, и… и узор плывет, меняется.
Вот руна старшая Хааль, которая есть защита и основа. Вот троица младших… Или привиделись лишь? Мелькнули и исчезли в золотых волнах.
— Защита. В том числе ментальная. Пока ты носишь, ни одна нелюдь к тебе и близко не подойдет. Ты, конечно, сама справляешься прекрасно, только… мне спокойней будет. Ладно?
Раз так… да и не только спокойствия ради. Колечко — это дар особый. Сестрам кольца не дарят.
— Спасибо.
Я колечко примерила.
Со страхом — а ну как не в руку придется? Случается такое, а это верная примета, что не будет в семье ладу, мол, сама Божиня знак дает, что не по себе невесту берешь. Аль жениха.
Нет, скользнуло колечко на мизинец, обняло теплом ласковым.
— Пожалуйста. — Арей улыбнулся так… открыто. — Я все сделаю, чтобы тебя уберечь.
ГЛАВА 4 Где еще сборы ладятся
День пятый.
Дорогая моя Ефросинья Аникеевна, пишет тебе внучка твоя, надеюсь, еще любимая, но всяко единственная. Челом бьет и справляется о твоем здоровьице. Ладно ль доехали? Легка ли была дорога? Мягки перины? Крепок ли возок? Мне-то добрые люди сказывали, что, мол, на Выжнецах вы трактир изволили покинуть, поелику собака трактирщикова вас облаяла матерно, с того и оскорбились и в чистом поле ночевали. А сие для вашего здоровья нынешнего не есть пользительно.
Я перышком нос почесала, мысля, как дальше письмо писать. Третье уже… Не знаю, что бабка моя с первыми двумя сделала и дошли ли они вовсе до Барсуков, но вот… пишу.
И надеюсь, что очуняет[6] она.
Одумается.
И сама ж над собой, столичной особой, посмеется еще. А я, коль буде милостива жизнь, посмеюсь разом с ней. Со смеха, говорят, годков прибавляется.
Я ж так мыслю, что псина оная не со зла пасть раскрыла, а исключительно от неведения. Собачий розум куцый, где ж ему, кобелю трактирному, уразуметь было, кто на двор евонный ступить изволил, милость оказавши. Вы б ему сперва разъяснили, тогда б, глядишь, устыдился бы, поганый.
Доехали.
Пусть и ругалась бабка крепко на провожатых. И требовала немедля повернуть, дескать, дела у ней в столице преважные, не холопьего разумения, но боярской руки требующие да пригляду. Карами грозилась. И плакала. И хворой сказывалась. Станька о том весточку передала.
Тяжко ей.
Бабка как уразумела, что не боятся провожатые гневу ейного, то капризной сделалась, что дитя малое. То ей сквозило, то грело, то прело, то перина комковата, то одеяла тяжелы…
Нонече и мы в дорогу собираемся, поедем, а куда — мне сие неизвестно. Да и не только мне. По Акадэмии слухи самые разные ходют. Одные бают, что отправят нас к Верхним Бережкам, которые есть село славное, не раз студиозусов привечавшее, там, дескать, каждый год первый курс практику проходит. И местная нежить к сему привычная. Другие ж увереныя, будто бы до Бережков мы не пойдем, поелику нонешним годом там будуть ждать люди, и сплошь недобрые, которые восхочут царевичей смерти лютое предать, а заодно уж всех, кто с ими буде, а потому поедем мы в Броды. Я ж мыслю так, что не будет нам ни Бродов, ни Бережков, а выберут иное место какое, из тех, которые известны мало.
Писать ли про то, что слухи эти нарочно пущены? Чтоб, значится, ворог гадал, где ж нас встречать хлебом и солью, да метался меж Бережками злополучными да Бродами, которые тоже деревенька немалая, а ныне, чуется, и больше прежнего стала, приветивши сотню-другую стрельцов.
Нет, не буду.
Бабке оно без надобности, а попадись письмецо в чьи руки, так с меня ж за длинный язык и спрошено будет.
Ехать нам ужо через три денечка. Сперва-то разом пойдем, с целительницами, стихийниками и некромантусами нашими, которые заради этакой оказии из подвалов своих повыползли, ходют, бродют, бледнющие, что упыри на полную луну. Кривятся. Отвыкли они за учебу от солнца ясного.
Зевают во всю ширь и норовят на ходу придремать. Один и вовсе брел, брел, на стенку набрел, лбом в нее уткнулся и придремал, сердешный. Целительницы-то сперва его обходили, а после одна, зело сердобольная, шальку свою на плечи набросила.
Суета вокруг стоит, аккурат как у нас перед ярмаркой. Люд туды-сюды шастает, подводы грузятся…
Архип Полуэктович матюкается предивно, но больше не на нас, а на человечка лысоватого и хмурого. Эконом Акадэмии, как и многие прочие, был скуповат и хитроват. Мнится мне, что без этаких свойств из человека вовсе эконома не сделать.
Он хмурился.
И причитал, что мы, сиречь студиозусы, вводим его и всю Акадэмию в немыслимое разорение, еще немного — и вовсе по миру пустим со своими практиками.
И лошадь нам выдай.
И круп всяко-разных. Ведро. Котелок. Утвари по списку, Архипом Полуэктовичем всученному. А главное, выдали оный список мне, велевши все стрясти в точности. Я и трясла, как умела. Эконом же вздыхал и слезу пустил однажды, подсовывая мне вилки кривоватые, дескать, других нетушки и вовсе не в прямоте счастье. А ложки и вовсе сверленые, чтоб, значится, не крали. Как же этими сверлеными суп есть, он не сказал, верно, вовсе был против того, чтоб студиозусы ели и продукты казенные тем переводили.
Вот и сражались мы за каждый мешок.
А главное, что по норову своему паскудой редкостной будучи, эконом все обмануть норовил. То гречи недосыпет. То пшенку подсунет позапрошлогоднюю, которая уже и с запахом прели, и мышами поетая крепко. То сальце с прозеленью, которую всего-то и надобно, что тряпицей отереть. Котлы битые, а то и колотые, одеяла — драные… Но я науку вашу, сердешная моя Ефросинья Аникеевна, памятуючи, каждое одеяльце пощупала, не поленилась в мешки заглянуть, перевесить и крупы перетрясти с тем, чтоб вовсе негодные в Акадэмии оставить.
Эконома местечкового этакая прыть моя вовсе не радовала. Он кривился. Хмурился. Кричать на меня принимался, что, дескать, возюкаюсь и его от дел важных отрываю, что окромя нас на нем еще семеро групп, серед которых некромантусы, а им, помимо одеял и крупов, еще надобно всякого прочего выдать.
Ножей там жертвенных.
Свечей сальных, катаных. Волосьев девичьих. Кровей…
Думал, напугает. Не на ту напал. И некромантусы, которые за спиной моей стояли печальные да тихие, меня нисколечки не пугали. Ждут? Так и подождут. Вона, им ожидание не в тягость, стоят и дремлют, что кони, на ногах… Чему их там такому учат, что с этой учебы они на ходу спят-то?
Два дня я, Ефросинья Аникеевна, с этим экономом мучилась, пока он, закричавши голосом дурным, что, стало быть, я есть ему от самой Божини наказание за грехи прошлые, в волосья себе не вцепился. А тех волосьев у него не так чтобы много осталось. И не от Божини я, но от наставника нашего с поручением. Так я ему и ответствовала. А что заставила заячьи хвосты в том меху пересчитать, так он же ж у меня их взад не мешком принимать станет, а поштучно. И ежель пары-другой недосчитается, то не простит. Нет уж, все по списку мы с ним вместе проверили и перепроверили.
И ложки у него нормальные сыскались.
И одеяла.
И котелки с прочей утварью. От устатку он мне еще соли с полпуда отсыпал, и хорошей такой, крупного помолу, зерняной. Она на рынке по три серебряных за пуд идет.
Перышко я отложила.
Вот же диво. Вроде и привыкла ужо писать — что лекции, что рефераты, а все одно пальцы негнуткие, упрямые. Попишешь — и надобно шевелить, чтоб кровь по ним пошла. А письмо… Не о том бы мне писать, не об экономе и соли. Если по правде, то в тереме моем хватило б и котелков, и одеял, и круп всяких. А чего не хватило — рынок близехонько, там и сыскалось бы. Чай, не сбеднели б мы, сами себе припасы справивши, но…
Написать бы, что скучаю зело.
По дому нашему. По яблонькам, которые перецвели. По Пеструхе и двору… Косили ль траву? Косили, верно, да… Все одно не каждую неделю, а стало быть, поднялась она, забуяла, особливо крапива у дальней межи. Эту крапиву бабка специательно не выводила, чтоб было с чего щец наварить. С крапивы-то они хорошими выходили и пользительными. Малина, мыслю, тоже разрослась, недраная. А забор чинить надобно было еще прошлым годом. Огород… кто его садил?
Хата за зиму отсырела, обиделась, что бросили без пригляду. Она и так без крепкой мужской руки едва-едва держалась. Арей забор поставил бы. И наличники подтянул бы провисшие. С полом сладил бы скрипучим. А еще крышу перестлать бы…
Вернусь ли я когда?
Увижу ль бабку, которая, мнится мне, краску с лица поистерши, постареет… Я без нее скучаю. А она как? Вспоминает ли меня? Чтоб не словом гневливым, как сославшую ее, боярыню, в Барсуки какие-то, но как свою Зославушку, которую на коленях баюкала да от болячек детских выхаживала?
Ох, боюсь…
А еще, любезная моя Ефросинья Аникеевна, надеюсь я, что свидимся мы вскорости. Практика наша хоть и положена, а длится все одно три седмицы, после ж нас всех по домам отпустят, чему я премного рада. Надеюсь, что тогда-то и перемолвимся мы словом, поплачемся обо всем, по-своему, по-бабьи, да и обнимемся, друг друга простим за все…
Всхлипнула я.
И платочком глаза отерла.
А после сыпанула на пергамент песочку мелкого, чтоб скорей, значит, просохли чернила, да бумагу эту стряхнула. Запечатаю сургучом, колечком приложу, оттиск оставляючи, и хоть не родовое у меня колечко, не намагиченное, которое печать неразламываемой сделает, а все красивше.
Выехали мы на семый день.
А уж как выезжали… Небось вся столица сбеглась на этакое диво поглазеть. Про царевичей-то ведали, что учились они и цельный год проучились, помудрели…
Ну, как помудрели. Еська небось ежели чудом каким и доживет до седых волос, да при том мудрости навряд ли прибавит. Но народу о том говорить неможно.
Неполитично сие.
Значится, сперва загудели трубы медные числом с две дюжины. Под воротами загудели, воронье окрестное пужая. И взвились черные стаи, закружили с карканьем. В толпе-то, мыслится, разом сыскались бабки, которые в том дурной знак узрели. Да только какая ворона, себя уважающая, на месте при этаком гвалте останется?
Выстроились перед воротами трубачи в одежах алых.
Щеки пучат, дуют в рога кривые, медью окованные.
Барабанщики стучат.
Певчие песню затягивают, царя-батюшку славят.
Тут же и знаменщики со знаменами. И ветерок полощет полотнища шелковые, отчего орлы на них кривятся да народу подмигивают будто бы. Вот вышел глашатай в шапке высокой, чтоб, значится, отовсюду его видать было, а для надежности на плечи рынды всперся. И уж оттуда волю царскую и зачитал. Дескать, словом и делом будет служить царевич всему народу, а для того отправляется ныне укрепляться в знаниях не куда-нибудь, а в Чернолужье.
Там, значится, нежить расплодилась.
А я хмурюсь, силясь вспомнить, где это самое Чернолужье искать. Уж не то ли Чернолужье, которое под Тульиным стоит? Да на семи озерах? Нежити всякой там и вправду изрядно, озера стоялые да болота — для ней самое милое место.
Глашатай же продолжал кричать, рассказываючи, какие подвиги совершит царевич во славу царствия Росского и зачета по практике ради. Ажно я заслушалась… Это ж сколько нам нежити известь придется? Вон, и виверну помянули… Архип Полуэктович только нахмурился.
А мне подумалось, что как ни крути, но виверна ему родич.
Только крылатый и безголовый.
Вот глашатай и смолк.
Внове загудели рога. И трубы заорали. Застучали в барабаны барабанщики. Что-то громыхнуло. Лязгнуло. И ворота Акадэмии отворились, первую подводу пропускаючи.
Стрельцы.
Рынды.
— Нам бы еще скоморохов, — пробурчал Архип Полуэктович, в седло взбираясь. И парасольку свою открыл, на сей раз шелковую, расписанную цмоками предивными.
— Зачем скоморох?
Меня уже в Акадэмии посадили на вожжи, я их и подобрала, сжала покрепше: ну как испужается лошадка труб с рогами? Где потом ловить? У меня ж на телеге подотчетной утвари двести сорок пять единиц. Растрясет — эконом после душу из меня выколупает той самой дырявой ложкой.
— А без них не веселою. — Архип Полуэктович лошадку свою, махонькую да косматую, больше на здоровущего кобеля похожую, чем на коня, пятками тронул. — Не зевай, Зось, наш выход… Народ жаждет зрелищ.
Вот тут-то я согласна была. До зрелищев наш люд зело охочий. И тут уж немашечки разницы — зреть ли, как смутьяна казнят, на ярмарочных скоморохов аль на выезд царевичев.
Поехали.
Сперва целительницы, коих ажно три телеги набралось. Да те телеги они покрывалами расшитыми прикрыли для красоты. Коням в гривы ленты заплели, на дугу бубенцов повесили гроздьями, сами разоделись, кто во что гораздый. Сидят пряменько. Спины держат.
И выходит же ж! Пусть телеги для таких выездов и не предназначенные…
За ними уж стихийники, которые больше верхами. А поелику из боярских детей они, то и кони были хороши, и сбруя. Ветерку намагичили, что по-над толпою пронесся, сыпанул серебристыми звездами, а оные звезды на землю посыпались монетами полновесными.
Загудел люд.
Иные, особо доверчивые, и кинулись магическое золото подбирать. Сие, конечно, зря… Эти монеты — иллюзия. Коснись — и распадется, обожжет пальцы холодком.
Нам Архип Полуэктович так объяснял.
За стихийниками некроманты выезжали.
Телега черная. Кобыла… Чуется, не особо живая кобыла, если и кобыла вовсе. Тварюка огроменная, на которой разве что горы пахать. Бухает тяжко копытами, от каждого шагу площадь вздрагивает. Махнет тварюка хвостом, и люди шарахаются. Глянет красным глазом, и вовсе пятятся.
Некроманты знай себе подремывают на солнышке, в плащи закрутились, что наружу только макушки и торчат. Не люди — нетопыри. А там ужо и мы тихой сапой. Кобылка наша даром что неказиста с виду, а ходка. Телегу тянет, головой только потрясывает…
Царевичи-то оружными ехали.
И как-то вот видела я их, видела… После раз, и попрятались промеж стрельцов, поди-ка различи, где особа важная, а где обыкновенный служивый человек. Архип Полуэктович со своей парасолькой — вот уж кого и в дурном сне не попутаешь — и тот куда-то подевался. А из ворот Акадэмии экипаж выкатил, значится, в четверик запряженный. Люд простой только и ахнул. Кони-то чудесные, с шеями лебяжьими, сами белы, копыта серебряны. На облучке карла сидит в шапке высокой. Кафтан зеленый с рукавами длиннющими, что мало земли не касаются. А в экипаже, стало быть, Марьяна Ивановна наша восседает, в мехах да при шапке высокой, жемчугом шитой. И полной горстью медь звонкую людям кидает.
Настоящую, не чета зачарованной.
Я сама на этакое диво загляделась, рот раскрыла, позабывши и про приличественность, и про мух, которых летним часом проглотить недолго.
Да только диво на этом не закончилось. Не успел возок отъехать, как из ворот раззявленных показался витязь, и такой, про каких сказки сказывают. На коне гнедом, и конь этот — гора горой, сам в броню закованный, только грива пшеничная до копыт стелется, а в гриве той золотые ленты привязаны. Попона алая, до самых до копыт. И витязь восседает видом грозный. Плечами широк, руками могуч. В левой — секира, которой, верно, цельный дом от крыши до погребу перерубить можно, в правой — копьецо из дуба молодого. Вот глядишь, так и верится, что махнет секирой — и опустеет улица, копье в полет пустит — и переулочки сгинут… то есть не сами переулочки, к чему их бить, а вороги, которые в них прячутся.
Ежели прячутся.
По-за этого витязя, который лицо свое за кованой личиной прятал, народ сразу и попритих, про медь звонкую и то забыли. Зато внове трубы грянули…
— Зославушка, правь правей, вон на ту улочку. — Архип Полуэктович с конька своего на телегу перемахнул. И парасольку на мешки кинул. Вот, теперечи еще и за ней следить! Вожжи, главное, перехватил и коняшке цыкнул, чтоб ходу прибавила. И еще одно диво. Были перед нами стрельцы и не стало, куда сгинули? Того не ведаю… Только и через них, и через рынд, и через люд честной проехала телега на тихую улочку, которую туточки Бочкаревой прозывали.
Одна телега проехала, а другая в хвосте осталась, плелась за некромантовой, что привязанная. То есть аккурат и привязанная, как приличной иллюзии сие подобает.
— А…
— Позже появятся. Ты едь, внученька, едь, а то ж опоздаем к воротам. Ишь, окаянные! — На месте Архипа Полуэктовича дед сидел, старый и сухонький. Из-под картуза волосья клочьями выбиваются, борода взъерошена, лицо у деда приплюснуто да прикривлено, губы сухонькие поджаты, а к нижней папироска приклеилась. И дед этот папироску жует. — Развели балаган, ироды! Честным людям ни пройти ни проехать!
И клюкой грозится непонятно кому.
Глянула я назад и обомлела. Стоят на телеге бочки — что огроменные, ободами железными перетянутые, что махонькие, с два кулака.
— Езжай, внученька, езжай. — И дедова клюка в бок мне ткнулась. — После на чудеса столичные дивиться станешь. Ишь, учудили… развели… народ глазеет…
А глазеть было на что.
За витязем, в коем мне виделся Фрол Аксютович — вот на другого кого этакая броня не взлезла б, а когда б и всперли всем миром, небось не усидел бы в ней живой человек, — и моя наставница показалась. Тоже при полном, так сказать, параде.
Коней тройка.
Черны-смоляны. Гривы подобраны и скручены бубинками, а каждая бубинка алою ленточкой перевязана. Попоны золочены. Упряжной под дугой идет, ноги выкидывая, что танцор, пристяжные к нему ластятся. Повозка на двух колесах, каждое с мой рост будет, стоит. Катятся колеса, сверкают каменьями драгоценными. А по колеинам за ними трава прорастает, да не просто трава — ружы белые…
— Вновь иллюзией балуется… — Архип Полуэктович головой покачал. — Вот скажи, Зослава, отчего люди в короткой жизни своей не ценят, чего имеют? И даже когда потеряют, то, обретши вновь, снова забывают, что еще недавно готовы были все отдать, чтоб вернуть…
Люциана Береславовна в повозке сей — царица царицей.
В шелках азарских.
Синий.
И бирюзовый.
И серебристый.
Ветерок эти шелка тревожит, растягивает иные полотнищем, узор за узором раскрывая, а боярыня сидит бездвижна, не человек — кукла парпоровая. Лицо набеленное. Волосы башней, в коию воткнуты цианьские спицы с бубенцами да висюльками золотыми.
И хороша она.
До того хороша, что вздыхаю я… Знаю, для кого рядилась. И знаю, что зазря.
А потому цокаю нашей лошадушке, чтоб шагу прибавила. До заходних[7] ворот нам полгорода объехать надобно. Да через торговую слободу, где своих телег полно.
Проехали.
Протиснулись — когда сами, когда криком и грозьбой. И грозилась не я, но дед Михей, который зело руглив был. Ох и матюкался ж он! Люд честный ажно рот раскрывал, слухаючи. Я и то пару словесей запомнила и про себя повторила. В жизни-то всякая наука пригодится…
За то и получила клюкой по хребту.
— Ишь, набралась, внученька! — Дед Михей сопел грозно. — Где ж это видано такое, чтоб девка ругалась? Выкинь дурь из башки своей!
И по голове уж клюкой.
— Деда! — возопила я, а стражники знай хохочут. Это мы аккурат к воротам подъехали, стало быть. — Этак ты мне весь розум выбьешь!
— Было б чего выбивать! Бабе розум что шальному коню свобода… и себе во вред, и другим не на пользу. А вы чего встали? Не видите, человек домой спешит!
И ужо страже грозится.
Ох, и языкаст он был, всем досталось, окромя царя… Но ничего, пропустили и даже дороги мне пожелали доброй. Чего на сие пожелание дед Михей ответил:
— Не кривись, Зославушка… — Дед Михей по бочке постучал. — Он ведь и в самом деле существует, дед Михей из деревни Корвзята, и внучка его, Михалина, младшая и самая спокойная, иные-то с Михеем не ладят. Вот и отрядила ее родня с дедом торговать, потому как бочкарь он славный, на все царство Росское известный, только не с норовом его на рынке стоять, всех покупателей ославляет, а Михалина — девушка тихая…
И неказистая. Невысока, полновата, конопата. Глянула я на себя в зеркальце украдкой. Вот девка, этаких на дюжину десяток.
— И каждый третий четверг дед Михей привозит свой товар на продажу. Останавливается в «Веселой курице», у сродственника, который один готов терпеть его придирки и сквернословие, потому как сам таков. К приезду Михееву вытаскивает он флягу сливянки, которой дня на три отдыха хватает, аккурат чтоб Михалина распродалась… После вот Михей с опохмелу злой, злей обычного, садится на телегу… На этой седмице не свезло. Привез Михей товар для одного купца, но тот торговаться вздумал, вот Михей и уперся.
Бочки я потрогала. Надо же, будто настоящие.
Гладенькие.
Хорошие.
— Да и сродственник Михеев приболел, вот и не заладилась поездка.
— А…
— Настоящий Михей ногу подвернул, а одну Михалину отпускать отказался, как и прочих сродственников своих, которых за дураков держит. Сам бочки повезет, когда отойдет малость.
Я только и нашлась сказать:
— Это удачно вышло.
А дед Михей усмехнулся так кривенько:
— Удача подготовку любит… А Михей — свою внучку, которую единственную толковой считает. Вот и припрятывает для нее когда медяшку, когда две, а когда… приданое собирает, чтоб выдать за хорошего человека…
Я кивнула.
Вот же… не чаяла того, а все одно в чужую жизнь заглянула.
Ехали мы до Полушек, которые аккурат перед столицей раскинулись, мимо дворов постоялых, мимо кабаков и трактиров. Выехали за поля пшеничные и через лесок сосновый, где нас и ждали.
— Это что деется-то? Что деется? — громогласно возмутился дед Михей, поскребываючи лысоватую маковку. — Здоровущие лбы, да без дела маются!
Сказано сие было верно.
Как есть маялись.
Кони расседланы.
Костерок на поляне горит. Над костерком — рогатина, на рогатине — котелок, да из новых, неучтенных, поблескивает неопаленным боком. В котелке булькает ушица, и рыбный сладкий дух по всей поляне расползается.
У меня сразу в животе заурчало.
Над котелком Кирей сидит с длинной ложкой деревянной. За его плечами — Еська с Елисеем, без ложек, зато, надо думать, с советами премудрыми, потому как на веку своем я усвоила, что без премудростей ушицу не сварить, выйдет обыкновенный рыбный суп.
Егор на лапнике прилег, под голову седло сунул, в небо пялится.
Думу думает, и по лицу евонному понятно, что дума сия про судьбу всегойнего мира, не иначе.
Емелька ложечку стругает. И во всем этом пейзаже такая благость, что ажно слеза навернулась. Сидят, родненькие, нас ждут.
— Дядько, — Егор глаз приоткрыл, из дум выползаючи, — ехали б вы, куда ехали.
— Ишь, разговорился! — Дед Михей кобылку-то придержал и с телеги соскочил с нестарческой прытью. — А тут, за между прочим, мое место! Мы тут с внученькой завсегда останавливаемся, когда из городу едем.
— И что? — Егор открыл второй глаз и, узревши перед собой сухонького да лядащего старичка в дрянном одеянии, оные глаза и прикрыл.
— Траву потоптали! — взвизгнул дед Михей, клюку перехватываючи.
— Дед… — Егор поморщился. А то! Голос у деда был пренеприятственный. — Ехал бы ты… говорю…
— А то что?
Кирей от ушицы взгляд поднял.
И усмехнулся.
Узнал?
А если так, то Егору не подскажет, ложку свою переложил из правой руки в левую да помешал варево, на что Елисей с Еськой зашипели в один голос. То ли рано мешал, то ли посолонь, когда наоборот надобно. А может, быстро аль медленно, кто ж их, мужиков, с рыбацкими их секретами поймет?
— Костер жжете! За конями не ходите! Ишь, развалился, простому человеку ни пройти ни проехать…
— Дед, — Егор привстал, — ты бы сумел, а? А то ж не погляжу, что старый…
— А ты и не гляди! — Дед Михей подскочил к Егору и по ногам клюкой перетянул. — Не гляди, что я старый! Небось силенок хватит, чтобы бестолочь этакую жизни поучить…
Этакого оскорбления Егор терпеть не стал. Ох, и взвился он, что кошак, которому под хвост хрену плеснули. И на деда кинулся. Да только того деда-то… оно ж лишь мнится, что соплей перешибить можно.
— Старых забижать?
Дед в стороночку отступил и Егору по плечам клюкой вдарил.
И по заднице.
И после… Я только вздыхала, на царевича глядючи. Гонял его дед Михей по всей поляне, а Егор злился. Пыхал. Матюкался… по-простому матюкался, без изысков. А добраться до деда не умел… Когда ж, вовсе озверевши, сотворил на руке огневика, дед головой покачал:
— Учишь вас, учишь, а без толку…
И бровкой вот так повел, отчего огневик прямо на руке и развалился, жаром шкуру царевичеву опаливши. Ох, и заорал Егор! Все окрестные птахи над рощицей взвились.
— Не ори, — сказал дед Михей голосом не своим, а Архипа Полуэктовича, и дланью могучей сказанное подкрепил. Оно и верно, с дланью как-то надежнее будет. — Сам влез, так что терпи…
Я только лицо за руками спрятала.
И жалко было мне царевича, которого и в листьях прошлогодних изваляли изрядно, и в грязи, а после своим же огневиком подпалили, и смех разбирал. Уж больно лицо Егорово сделалось обиженным.
— Но…
Он руку свою к груди прижал.
Опалило, но не сказать, чтоб сильно. Шкура красная, да без пузырей и не облазит. Болюче, правда.
— Помоги этому олуху, внученька, — передразнил деда Михея наставник, исконный облик свой принимаючи. — А ты, дурень, другим разом не гордостью боярской, а головой подумай. Ишь… решил, раз дедок, то и обидеть можно?
— Вас обидишь, — пробурчал Егор и головой потряс, пытаясь от листа осинового, в кудри вбившегося, избавиться. — Если б я знал…
— А ты не знал? А вы?
— Ну… — Кирей ложку свою Еське передал. — Я сигналки ставил. Ни одна не сработала, хотя должна была бы… Значит, если это и телега, то не простая… а на непростых гостей лучше поглядеть для начала…
Евстигней кивнул и молча показал пару ножей, которые в ножны отправил.
— Запах прежний, — дернул носом Елисей.
А Ерема только кивнул, мол, прежний.
— И ведро на телеге с моей меткой, — добавил Еська и отступил на всяк случай. — А что? А вдруг бы потерялись? Да я ж свою метку… ее обыкновенному человеку не видно!
— Ишь, умник. — Архип Полуэктович к котелку подошел. — Рыбу где брали?
— Так Лойко еще вчерашнего дня наловил. Всю ночь просидел, а теперь вон… — Еська указал на кучу листвы, в которую боярин и закопался по самую маковку. Спит, стало быть?
И что это за сон, если его даже вопли Егоровы да ругань деда Михея не перебили? Уж не тот ли, не мертвый?.. Или просто полог тишины поставил? Полезная штука, когда выспаться надобно. От комаров опять же спасает.
— Понятно. А ты, внученька, не сиди сиднем, помоги этому…
Егор руку протянул и отвернулся, только щеки запунцовели. Стыдно ему было? За что? За то, что наставника не распознал? Аль за то, что его, боярина, дед какой-то по поляне гонял?
Руку я мазью обмазала да словом заговорила, к утру пройдет.
— Ты… спасибо, — сказал Егор и отвернулся.
Подбородок вздернул.
Ага, гордость очнулась, значится, жить будет.
Я в стороночку отошла, подальше от Егора, поближе к телеге. И вправду делов ныне хватит. Вона, надобно миски отыскать, скатерочку какую-никакую. Хлеба порезать, сальца. Были в телеге и огурчики соленые, капусточка, да и пирогов мне Хозяин в дорогу собрал цельную корзину, чтоб, значится, не оголодала.
— Думаете, не поняли… — Еська, бестолочь этакая, пирожок с лету ухватил да, разломивши пополам, обе половины в рот и сунул.
— Думаю, что есть шанс. — Архип Полуэктович на седло сел, ноженьки перекрестил, руки, на колени положил. — Пока мы с вами едем… А там будет видно.
И от пирожка кусочек отщипнул.
Потянул носом.
— Переварите, ироды… Кто ж ершей столько вываривает? Никакого умения, — пробурчал и ложку отобрал. — И тмином попортили. Нельзя в уху тмин сыпать!
Вскорости сидели мы тесным кругом, ушицу пробуя.
Ой, хороша была…
А к утрецу еще один экипаж прибыл. Как экипаж — телега обыкновенная, не самая новая, однако крепкая еще. Тянула телегу кобылка соловая, а правил ею паренек вихрастый с конопатым носом. Промеж же мешков — может, с пшеницею, может, с шерстью, а может, еще с чем — две девки сидели: одна носатая да косоватая, другая рябая, что яйцо перепелиное. И обе жизнью крепко недовольные.
За телегою ж мужичок брел, лысоватый, в мятой одежонке.
— Долго ходите. — Архип Полуэктович над костром рукой провел, и притихло пламя, ушло в угли, а угли в землицу.
Выпрямилась измятая трава.
Распрямились ветки.
— Да уж. — Мужичонка сплюнул. — Кому-то собраться…
— Не понимаю, — рябая девка юбки подобрала да на землю спрыгнула, — почему мы должны куда-то там ехать? В конце концов, это просто-напросто неприлично! Одни, среди мужчин… Что будет с нашей репутацией?
— Не одни, — возразил паренек и ладонями по лицу провел, морок стряхиваючи. — Здесь Зослава.
— О да, целая холопка…
Маленка скривилась.
Вот же… а под личиной она краше была.
— Зослава не холопка, — устало произнес Илья, второй сестрице руку подавая. Та, по обыкновению своему, была бледна и печальна. И с телеги не сошла, почитай, сползла, охаючи да ахаючи. На землицу ступила, покачнулась и едва не упала.
— Ага, княжна… Слышали… — Маленка фыркнула и огляделась. — Ты-то и рад будешь нас уморить.
— Прекрати…
А она взяла и послушала.
Вот с того дня мы и ехали. На первой телеге Архип Полуэктович со скарбом казенным, коий я ему только доверить могла, а на второй — мы, стало быть, женской компанией, которая была тесна и тепла, что кубло гадючье.
Следом царевичи, Кирей с Ареем, который невестушку свою, царицей жалованную, седьмой дорогой обходить силился, да Ильюшка, родственной любовью вконец измученный. День так ехали, другой и третий уж разменяли, и верст не один десяток, а сил моих душевных и вовсе безмерно. И вот чуялось мне, что не за просто так те силы из меня тянули.
Грелось колечко.
Камушки порой так и вовсе вспыхивали гневно, и тогда кривилась Маленка, отступалась и, зарывшись в одеяла, кои вытащили для хворой ейной сестрицы, оттудова уже принималась стонать громко. Ныне же, в нору свою нырнувши, она нос высунула и громко, чтоб, значит, я наверняка услышала, сказала:
— А платье тебе на свадьбу справим шелковое… Видывала я такую ткань, Люблянушка, не ткань — а загляденье. На алом шелку цветы багряные будто бы. И жемчуг россыпью… Венчик из каменьев самоцветных, чтоб все видели, не холопку какую в жены берут…
Сказывает и на меня поглядывает.
А я что?
Молчу. Держу вожжи да мыслю об одном: когда-то ж должны мы до деревеньки той добраться, где меня от этой компании избавят.
Надеюсь.
Ибо иначе за себя не поручусь. Забить не забью, а вот косы повыдирать — сие самое честное дело…
А дорожка влево свернула.
И вправо.
И стала такой… Мы-то и прежде не по тракту цареву ехали, но ехали же. А тут… Все тесней смыкались колючие стены. Все ниже спускались тяжелые ветви лещины, так и норовя по лицу зеленой плетью хлестануть. Сныть разрослась, а крапивы, той и не видать. Зато расстилаются поля дымянки, хоть ты телегу останавливай и собирай вдоволь. Дымянка — трава полезная. От желудочных хворей да нутра больного, а рядом и толокнянка, и женская трава, которую не в каждом лесу встретишь…
Архип Полуэктович конька своего тронул да вперед выехал.
Принюхался.
— Скоро уже, — сказал он странным голосом. — И вправду, похоже, поехали туда, не знамо куда, да прибудем…
Кирей дивного коня своего по гриве потрепал да, будто прислушавшись к чему-то, сказал так:
— Вода рядом. Заклятая… И магия это древняя, не чета нашей.
— Значится, — Архип Полуэктович парасольку сложил, — куда бы ни приехали, а к месту…
ГЛАВА 5 Братовая
Елисей слушал лес.
А лес молчал.
Не бывало такого, чтобы живой лес да молчал. Всегда что-то да есть. То ли шелест листвы, в которой возился еж, то ли хруст ветки под лисьей лапой. Вздохи оленей, которые сутью своей чуяли близость волка. И это если птиц не слушать.
Птицы в лесу были всегда.
Или комары.
Егор хлопнул по шее. Нет, комары в этом лесу имелись, но легче от того не становилось. Елисей с трудом сдержал рык: лошадь под ним и так нервничала, не хватало, чтоб понесла.
— Неладно? — Ерема подъехал ближе.
Он смотрел так… виновато, что сердце в груди кольнуло.
Ссора? Не было ссоры. А все равно будто сломалось что-то важное, и как починить?
— Неладно, — согласился Елисей, разглядывая брата искоса.
Прежний он.
Только похудел. И в последние дни почти не ест. Говорит — не хочется. Переживает. Сессия ведь, экзамены… Можно подумать, его из-за несданного экзамена отчислят. А ночью стонет. Тронешь — просыпается сразу, садится с глазами раскрытыми, а в них — пустота.
Спрашиваешь, что снилось.
Ничего.
И не лжет.
— Мерзнешь? — Елисей коснулся холодной руки брата.
— Что? А… нет… не знаю. Лис… — Ерема придержал коня, позволяя Лойко себя обойти. И Емельке, который привычно держался позади. Ехал и по сторонам головой крутил.
Илья.
Телега с девушками, которые Елисею сразу не понравились. Пахло от них болотом.
Арей.
Кирей на дивном коне.
— Что? — Евстигней придержал коня, но Лис покачал головой. И Евстя понял. Тронул бока злющего жеребца, с которым никто, кроме Евсти, сладить не умел. Конь оскалился и попытался было тяпнуть кобылку Еремы, но та привычно отступила в сторону.
— Лис… ты меня простишь? — Ерема вытер пот. А ведь выглядит он совсем худо. Белый. Под глазами мешки темные. И дрожит мелко, точно в ознобе.
— За что?
— За все. — Он облизал губы. — Я дураком был, и… кажется, лучше мне сейчас… потеряться.
— Чего?
Вот уж точно терять брата Елисей не собирался. Но тот перехватил руку и заговорил быстро, захлебываясь:
— Я дураком был. Подумал… тебе было плохо. И мне плохо. Нас связали, не сказавши толком, чем это грозит. А он подошел… предложил… я взял клятву крови, что он… проведет обряд. Разделения.
Елисей вздохнул.
И прислушался.
Качнулись ветви, будто слетела с них невидимая птица… Сорока? Юркий королек, в котором весу на два пера? Или не птица вовсе?
— Он провел… сначала все было хорошо. Тебе ведь стало легче?
И Ерема с такой надеждой смотрел, что Елисей кивнул.
Стало.
Луна пришла.
И позвала. И он, услышав голос ее, не стал противиться зову.
Он очнулся незадолго до рассвета, уже за Акадэмией, из которой выбрался, а как — не помнил.
Он лежал на берегу пруда. И пил воду. И слизывал с лап свежую кровь. Оленью. Растерзанный зверь лежал здесь же, и Елисей мысленно попросил у него прощения. А потом вновь обернулся, на сей раз полностью сохраняя разум и память. Он вернулся по своему следу тайным путем. И никто, кроме Еремы, ничего не понял.
— А потом… я не знаю, что происходит… все время хочется спать. И было несколько раз, что я терялся. Засыпал, но открывал глаза и понимал, что нахожусь где-то… не там нахожусь. Понимаешь?
Елисей покачал головой.
— Я больше не доверяю себе. Я не знаю, что еще он со мной сделал. Не только обряд ведь… И значит, мне нельзя с вами.
— Почему раньше не сказал?
— Потому. — Ерема вытер испарину рукавом. — Сам не понимаешь?! Меня бы не выпустили… заперли… лечить… а там и залечили бы… Я не хочу умирать. Я дурак, но умирать не хочу. Отпустить нас не отпустят. Слишком много знаем… И надо уходить. Сейчас, пока есть еще шанс, пока… Смотри.
Он тронул кафтан.
Обыкновенный, из добротного сукна шитый.
— Рыжих в царстве хватает… А сейчас я на царевича похож не больше, чем ты… чем мы все… Денег есть немного. Доберусь… куда-нибудь доберусь, а там и дальше. Я подумал, что к степям поеду. Там хватает всякого… люду. Затеряться будет легче, чем здесь.
— Уходишь, значит?
Эта мысль Елисею не понравилась. Настолько не понравилась, что не удержал он волчью недовольную натуру, отозвалась она раздраженным рыком.
— Ухожу. Прости… И тебе уйти советую. Пока никто не понял, кем ты стал, но это ведь дело времени. До новой луны пара дней осталась. И ты ее уже слышишь.
Елисей кивнул.
Слышит.
Как не услышать, когда она рядом, белая госпожа, легкая шагом своим, прикосновением близкая. Того и гляди скользнет по загривку прозрачная длань лунного света и ухватится крепко, вытащит волчью подлую суть людям на кровавую потеху.
— Обернешься, и… не посмотрят, что из одной миски ели. — Ерема рванул воротник. — Не отпустят. Поднимут на колья. Скажут, если и не убивал, то убьешь… Сам знаешь, с такими, как мы, разговор короткий.
— Не доедешь. — Елисей протянул руку, но прикоснуться к себе брат не позволил, отпрянул, и лицо исказилось.
— Не надо!
— Ты болен.
Этак он далеко не отъедет. Упадет в кусты да и сгинет.
— Без тебя знаю. — Ерема потряс головой. — Шумит… шепчет, что нельзя уезжать. Что я с вами должен… за тобой приглядывать должен… А значит, самое верное — уехать. Нельзя его слушать.
Он зажал уши руками.
— Нельзя. Он меня отпустит, когда поймет, что я не с вами, что ушел… что…
Ерема дернул за поводья, заставляя кобылку пятиться. И та недовольно мотала башкой, грызла удила да всхрапывала.
— Успокойся. — Елисей повернулся к дороге.
А телега далековато уползла.
И остальные. И знают ли, что Ерема задумал? Догадываются… И как быть? Задержать? Не позволит. Он для себя все решил. И значит, только силой.
— Не получится. — Ерема слишком хорошо знал брата. И, привставши на стременах, шлепнул кобылку по шее, за повод дернул. — Не надо, Елисей… Если все будет хорошо, я тебя найду. Обещаю, что я тебя найду, слышишь?
— Слышу.
— Или ты меня… мы еще свидимся. Оба выживем и свидимся. Но если вдруг случится, что я… что вернусь к вам… и стану говорить, что передумал, не верь. — Ерема сглотнул. — Я не передумаю. А он… заберет мою шкуру… оборотни ведь разными бывают, помнишь?
— Помню.
— И ты узнаешь, когда я — это не я… А если и не узнаешь… я не собираюсь возвращаться. Поэтому если… если вдруг… бей, не жалея. Живым я ему себя не уступлю. А потому если придет, то меня уже нет…
— Дурак.
Елисей руки положил на луку седла.
Не станет он задерживать брата.
И уговаривать.
И…
Доберется до деревни, тут уж недалеко — ветер несет запах дыма и съестного, и значит, скоро встанут… А там ночь. И луна близкая. Поможет пасынку. След, глядишь, не растает, а волк на ногу легок. Догонит этого, бестолкового… И там уже видно будет, что и как.
— Я… тоже тебя люблю, Вересень…
Этого имени Елисей не слышал давно, так давно, что и отвыкнуть успел уже. А брат, кривовато усмехнувшись, добавил:
— Прости за все… и не забывай, кто ты есть. Не позволяй ей надеть на тебя ошейник. Ты волк, Верес, а не шавка домашняя.
— Как и ты, Варей.
Он развернул кобылку и подхлестнул лозиной.
Елисей вздохнул и, дождавшись, когда брат скроется за поворотом — лес словно проглотил его, — спешился. Он встал на четвереньки и вдохнул тяжеловатый конский запах.
Фыркнул.
Закрыл глаза, запоминая.
Да, определенно… вечером… Он догонит Варея вечером… и дальше решит, что им делать.
Деревенька стояла в низине. Вот дивно! Люди обычно поверху селятся. Оно и верно. По весне низины водами талыми полнятся, по осени — дождевыми. И небось туточки все погреба плавают… Нет, я слыхала, что есть такие деревеньки, где дома вовсе на воде ставят, на сваях, а заместо телег лодки пользуют, но туточки ж вона, лес кругом…
Дорога сбегала в низину.
Поля?
Не было полей.
И скотины. Время-то самое летнее, травица сочна, мягка, а меж тем ни одной коровы. На дальние луга выгнали? А собаки? Отчего ни одной, самой захудалой шавки навстречу не выскочило? Ограда? Стоит частокол, да только видно, что погнивший, вона, два бревна и вовсе вывалились.
— Божиня милосердная, — вздохнула Маленка, и я с нею мысленно согласилась. Вот не по нраву мне было сие место.
Ворота распахнуты.
А на воротах тех ворон сидит, черный, страшный. Нас увидел и раззявился, захохотал человеческим голосом. Впору крестом Божининым себя осенить.
— Цыц, — велел ворону Архип Полуэктович. — Хозяйка где?
Птах, тяжко хлопнув крыльями, поднялся.
Еще и говорит.
— Зось, рот закрой. — Архип Полуэктович огляделся, нахмурился, пересчитав не то телеги, не то царевичей. — Ерема где?
— Там, — Елисей честно указал на лес.
— Сбежать задумал?
Елисей плечами пожал, мол, может, и задумал, да мне не сказал.
— Ничего. — Наставник не озлился, усмехнулся так кривовато. — Отсюда и захочешь — не убежишь. Что ж, господа студиозусы, добро пожаловать… к месту прохождения летней полевой практики.
И еще пару слов добавил.
Замысловатых.
Небось на своем, виверньем. А может, и матюкался по заморскому. Я запомнила. На всяк случай.
В ворота первым Лойко въехал.
Огляделся.
— А тихо тут, — сказал вроде и вполголоса, однако же услыхали все. — Мертво, я бы сказал. Архип Полуэктович, не подумайте дурного, но мнится мне, что место это — не совсем то, где оказаться мечтают.
Тиха деревенька, как погост в полночь.
Стоят дома темные. Стоят дворы пустые, забуявшие. Сныть поднялась стеной, крапива колючие листья распушила. Малина шипами ощетинилась.
Ни людей.
Ни скотины.
Ни даже куры захудалой какой…
Ползем по улице. Хлопцы сами собой за оружие схватились, плотней один к одному подобрались, заслонили нас от деревни этой. Маленка притихла. Даже Любляна уже не стонет, выползла из одеял да головой крутит всполошенно, а в глазищах страх плещется.
Но едем.
По улице широкой… а дорога-то мощенная крупными камнями. И видится вдали подгнивший крест Божинин, почти обвалившийся. Под ним же на лавочке старушка сидит да рукодельничает. Спицы в руках мелькают, пляшет клубок шерстяной, на юбку положенный.
— Что-то вы, соколики, долго добирались, — молвила старушка сладеньким голосочком, от которого у меня и жилочки задрожали, и поджилки затряслись. — Я уж и баньку истопила, и стол накрыла…
— А я вот всегда знал, — молвил Еська, на телегу перебираясь, — что она ведьма.
Марьяна Ивановна улыбнулась этак с укоризной.
Услышала, стало быть.
ГЛАВА 6 О девичьих радостях и горестях
А банька туточки хороша была, хотя и не пользовались ею годами, а то и десятками лет, а все одно не развалилась, не раскрыла щели, через которые честный пар уходил бы. И протопилась, прогрела старые кости. Когда ж плеснули на камни кваском, наполнилась баня честным хлебным духом, который вытеснил легкий запашок прели.
Первыми пустили нас.
Да вот отказалась Маленка париться. И сестрицу не пустила.
— Последний разум потерял? — возмутилась она, когда Ильюшка предложил помыться с дороги. — Или хочешь, чтобы мы с ней угорели?
— Хочу, чтобы вы вымылись. — Ильюшка не выдержал. — Воняете уже неблагородно!
Любляна мигом разразилась слезами.
Маленка руки в бока уперла и закричала визгливо:
— Воняем? Мы воняем? А мы просили тебя нас сюда тащить? На телеге! С этой вот… — она пальчиком на меня указала. — Потянул, не посмотрел, что Любляна еле жива. Уморить захотел! А когда не вышло… в баню… с этой…
— С этой, с той, — меланхолично отозвался Кирей, — но от тебя действительно пахнет, женщина.
И спиной повернулся, не видючи, как раскрылся от возмущения Маленкин рот. Ох, сказала бы она, да только сестрица ейная, помирать временно передумавши, за рукав дернула.
— Мне бы и вправду… пыль омыть… немного, — сказала она шепотом. — А Зослава нам поможет…
И взгляд такой, что впору с тоски вешаться.
Помогу.
Глядишь, и не утоплю в корыте.
— Божиня, — только и простонала Маленка, глаза к небу поднимая.
А что небо? Обыкновенное. Серое. В перинах облаков. И месячик показался, верней, уже и не месячик, а луна полновесная, которой ночь-другая до полной силы осталась.
Так и пошли мы в баню, я да боярыни.
Они в предбаннике остались, только дверцу приоткрыли и друг с дружкой переглянулись.
— Жарко, — сказала Маленка.
И Любляна кивнула, добавивши:
— Сомлею… водицы бы… горячей.
И на меня внове глядит. Ну да, не боярское дело это — воду гретую таскать. Что ж, мне не тяжко. Вытащила и бадью, и ведро, и ковшик резной на потемневшей ручке.
— А полить…
— Сами поливайтесь.
Пущай и сказывал Архип Полуэктович, что берендеи терпеливы, да все ж любому терпению конец приходит. Вот и я поняла, что еще немного — и с собой не сдюжу. Маленка же губенки поджала.
Любляна на лавку села, рученьки на коленях сложила.
Глядит на меня препечальственно.
А мне что с той печали? Я им не холопка крепостная, которая помогать обязана. Как-никак вдвоем с мытьем сдюжут, а нет, то пускай ходят грязными. Я спиной повернулась и одежу скинула скоренько, сложила на полку да и шагнула в парную.
И там-то ужо вдохнула полной грудью.
Хорошо.
Жар стоит правильный, легкий да звонкий, самая от того жару телу польза идет. Пахнет хлебом. Еще бы липового взвару, медом разбавленного… но чего нет, того нет. Диво, что вовсе баня устояла, продержалась годы без людского догляду. И я, оглядевшись, поклонилась в пояс.
— Спасибо, — говорю, — тебе, Хозяин, за ласку да прием. Позволишь попариться?
И затрещали каменья, загудело пламя в печурке — согласен, стало быть. Надо будет после, как отгорят уголья, занести в баню хлебушка краюху.
Я-то на полку легла и лежала… долгехонько лежала, позволяя жару забрать и усталость, и злость, и иные обиды. А после, когда уж от жара в голове загудело, то и поднялась.
Баня хороша, да всему меру знать надобно.
Вот сейчас самое время выйти да вылить на раскаленную докрасна шкуру водицы колодезной, чтоб опалила холодом, а после и жаром окатило, но не снаружи, изнутри. От этого ни одна самая лютая хвороба не удержится.
Да только дверь не поддалась.
Я толкнула посильней.
Мало ли, может, доски, которые за годы иссохли, ныне напитались влагой, раздулись, вот и села дверь в проеме крепко, что пробка в бочке.
И еще сильней, и…
— Эй, вы там! — кликнула я, а после… вот как-то понятно сделалось, что не виноватые доски и не банник сие шутит, он мне париться дозволил, а я ничем бани его не оскорбила… и значится, одна причина — подперли дверь с той стороны.
Чем?
Не ведаю.
И для чего? Неужто и вправду думали, что сомлею да сгину? А после как? Что говорить бы стали? Иль о том они не думали? И такая злость меня взяла… вот прямо изнутри поднялась дурной волной.
— Прости, — сказала я, — батюшка банник, что так отплачу тебе, да сам разумеешь, выхода у меня иного нет.
И огневика на ладони сотворила.
Хорошего.
Толстого да желтого. Зашипел он, тяжко огню серед воды, едва ль не погас, но я не позволила. Кинула в дверь, силой напитавши. И оскорбленное пламя вгрызлось в дубовые доски. Насквозь прошло, а дыра получилась ладной, аккурат под руку. Я руку и сунула. Пошарила, нащупала прута, который в ручки всунули, да и вытянула.
Вышла…
Пуст предбанничек.
Только дверь приоткрытая на ветру ходит, поскрипывает.
А одежа моя на пол брошена да сверху золою присыпана. Вот кошки лядащие! А еще боярского звания, крови царской. Иная холопка побрезгует этак пакостить! Ну ничего, вразумлю… так вразумлю, что мало не покажется.
И, простыночкой обернувшись, благо сыскались и простыночки, заботливой Марьяной Ивановной приготовленные, я из бани вышла. Далече идти не пришлось, оно и к лучшему. Когда б искала боярынек моих по всей-то веске,[8] глядишь, и поостыла б, а тут…
Сидят на лавочке курочками распрекрасными. И Егор-петух перья перед ними пушит, ногой скребет, квохчет чегой-то изящественное.
Маленка цветочки перебирает.
Щечки румянятся.
Глазки опущены.
А сквозь ресницы нет-нет, но на Егора поглядывает. Тот и рад стараться, только пуще расходится, руками машет… Что, про житие свое расповедывает? Или подвиги былые?
Я губы поджала, прут, с которым вышла, перехватила поудобней и к лавочке направилась бодрым шагом. Девки-то, меня завидевши, обомлели.
А после заголосили.
Маленка, юбки подобравши, на лавку вскочила.
Любляна сомлела… почти сомлела и на лавку эту упала, растянулась, рученьку уронивши.
— Зослава, ты что? — Егор перед лавкой встал, плечи расправил, защищать, стало быть, собирается. Мыслю, до последней капли крови. Ага, нашел ворога.
— Я ничего, — ответила и, прута в колечко согнувши, Егора рученькой-то отодвинула. Может, и воин он, и царевич, и магик, и всяко мужик, хоть не матерый, да немалый, но больно уж злая я была, чтоб возюкаться.
— Ты не посмеешь! — взвизгнула Маленка.
Посмею? Не посмею? Поглядим еще. Прута этого, кольцом гнутого, я ей на шею воздела.
— Еще раз удумаешь так пакостить, то и затяну, — пообещала я, в глаза глядючи. Уж не ведаю, поверила она мне аль нет, но глаза эти нехорошо так блеснули.
— Зослава, что ты себе позволяешь!
Егор подскочил и в руку вцепился, дернул, силясь меня с места сдвинуть, да силы у него не те, вот у наставника, может, и вышло б…
— Зослава!
А мы с Маленкой стоим.
Глядим друг на друга.
— Совсем ваша холопка распустилась, — с кривоватой усмешечкой сказала она. — На людей кидается. А если в другой раз она этим прутом мне голову раскроит? Или Любляне, которая…
…застонала жалобно, да только за дорогу я к этим стонам попривыкла маленько, потому и не трогали больше они душеньку. Любляна глаза приоткрыла. Рученьку ко лбу прижала, точно проверяя, не укатилась ли куда головушка ейная.
Села.
— Зослава, немедленно извинись!
— Чего? — Я на Егора поглядела, он всерьез это? Стоит, руки в боки, глядит исподлобья, хмур да зол… Выходит, что всерьез.
Значится, как зелье за него варить да расписывать в работе пользительные свойства трав, то тут я мила, а как перед боярыней хвост пушить, так Зослава ворог?
— Это невыносимо…
Глаза Любляны слезами наполнились.
— За что нам это?
— Не волнуйся, дорогая… Наберись терпения. — Маленка с лавки соскочила, сестрицу за плечики приобняла, гладить стала да успокаивать, но так, чтоб Егор слышал. — Мы выдержим. Не такое выносить приходилось. А тут… ничего страшного. Подумаешь, девка… это ж не беда.
— Зослава… — Егор брови насупил.
— Я уже двадцать годочков скоро как Зослава! — Меня насупленными бровями не проймешь. Даже смешно становится. Неужто не видит он, что сии причитания — для его особы?
— Простите мою сестру. Она натерпелась, только решила, что… все позади, а тут снова. — Маленка на Егора глядит, да не прямо, будто бы искоса. Ресницы порхают, что крылья у бабочки.
На щечках румянец.
— Мы только-только обживаться начали…
В моем, за между прочим, доме.
— …Как тут Илья требует, чтобы мы, все бросив, с ним отправлялись… и куда? Разве здесь место для девушки благородного рождения?
И рученькой так обвела.
А что? Деревня, она деревня и есть, хоть и запустелая. Дворы вот. Плоты покосившиеся. Дома темные. В иных и крыша провалами. Лебеда да бурьян. Оно, конечно, не терем, а все крыша над головой будет.
— Привез. Бросил… Сказал, обустраивайтесь. — Маленка это слово выплюнула и на слезиночку расщедрилась. Я прям залюбовалась этаким скоморошеством, того и гляди сама поверю, что жизнь у них с сестрицей вовсе невыносимая. — А в доме-то грязища…
— Зось…
Егор на меня уставился. А чего я? Я за боярынями ходить не нанималась. Об том и сказала.
— Коль не по нраву, пусть приберутся. — И тоже на него уставилась.
— Они ж не могут сами!
— Отчего? Неужто руками Божиня обидела?
— Видишь? — Маленка поближе к Егору подступила, за рученьку взяла, к плечику притулилась, что вьюнок к стене. — И что нам делать?
Я хмыкнула.
Стоит царевич, столп столпом, только башкой крутит. Ведь разумеет, поганец, что не в его силах меня прибираться заставить, ибо не имеет он надо мною власти, но и боярыням сего сказать, значится, в своем бессилии расписаться. А ему ж охота покрасоваться.
Защитником побыть.
Ага…
— Сперва пылюку вытрите, — сказала я, простынку поправляючи, — после влажной тряпицей протрите. Окна, коль свету охота, тоже помойте. Столы поскребите, лавки там… После уж пол месть надобно. И помыть… Воду вам Егор принесет, верно?
Тот, дубина стоеросовая, и кивнул. Мол, конечно, принесу… После-то спохватился:
— Зослава!
— Чего? — Я на него гляжу и тоже ресницами хлопаю. Я ж не со зла, я ж советы даю.
За советы людей благодарить надобно, а у него прям-таки желваки ходят. Надобно чего-то сказать, а чего — он не ведает.
— Теперь ты видишь? — Зато Маленка за словесями в карман не лезла. — Она совсем страх потеряла… и совесть. Глумится над нами, над сестрицей моей, а той и без этой девки невыносимо… Она же… она…
И вновь зарыдала.
— Что за вода на ровном месте? — Откуда взялась Марьяна Ивановна, я не увидела. И не только я, потому как подскочили девки и Егор за шабельку схватился. — Скор ты, царевич… Аккуратней, а то порежешься еще. Лечи тебя потом.
Стоит старушка в летнике зеленом. Волосы седые платочком прикрыла, да хитро, концы платка надо лбом вывела, узелком завязала, а в узелок тот перо вставила птицы заморской, павлина сиречь.
На плечах шалька.
В руках спицы.
И те спицы скоренько так мелькают, накидывают петельку за петелькой, меняя лицевые с изнанкой. Ох и любопытственно мне стало, что за узор такой она сотворит, поглядеть бы на него хоть глазочком.
— Так о чем рыдаете, боярыньки? — молвила Марьяна Ивановна, впрочем, безо всякоего почтения. — И ты, Зославушка, сказывай, что в виде этаком непотребном по деревне разгуливаешь, мужиков в смущение вводишь…
Вот тут-то и я, и Егор про простыночку мою вспомнили да разом зарделись.
— Имущество, опять же, портишь. — Марьяна Ивановна спицей в прут мой, колесом гнутый, ткнула. — Кто ж тебя, сердечную, довел до страстей этаких?
— Они и довели…
— Врет! — поспешила откреститься Маленка.
— Они меня в парной заперли. — Я не стала выдумывать, не горазда я на фантазии. — Вот и осерчала немного.
— Хорошо, что немного, — закивала Марьяна Ивановна и на девок взгляд перевела. — Значит, в парной…
— Это не мы! — ожила Любляна, за сестрицу хватаясь. — Мы там и минутки не пробыли. Она… она…
— А вы иль не вы, это легко проверить. Сейчас кликнем Архипушку, чай, не откажется дознание провести, кто там чего творил. Сымет слепок, времени-то прошло немного…
— Она сама виновата! — Маленка сестрицыну руку стряхнула.
— Неужто? Сама себя заперла? — Спицы остановились.
— Нет, это глупо. Но мы озлились… Хамила она… все время хамила…
— И за хамство вы ее убить решили?
— Баней? — фыркнула Маленка. — Когда это магичку баней убить можно было? Мы же знали, что она выберется, так… признаю, глупо, но мне за сестру обидно! Она страдает…
И Любляна послушно захлюпала носом, страдание, значится, выказывая. Слезы потекли по щекам, иные ручьи весной помельче будут. Егор налился краснотой, больно, стало быть, на слезы эти глядеть. Оно и верно, еще бабка моя сказывала, будто бы мужики до слез бабьих зело пужливые. Не все, но некоторые. Выходит, Егор из них.
— Ваша… Зослава, — а имя мое произнесла, что выплюнула, — ее жениха приворожила!
— Чего? — Вот тут уж я озлилась. Приворот — это ж не забава, а волшба запретная, пущай и не на крови, а все одно жизнь поломать способная.
И меня в том обвинять!
— А что, скажешь, не приворожила? Посмотрите, Любляна всем хороша! Да любой рад был бы ее женой назвать. Красива, умна, скромна… Роду хорошего. Царской крови! — Это она сказала громко, что наверняка все услышали, даже ворона старая, на крыше примостившаяся. — А этот… рабынич на нее не смотрит!
Вот и разобрались, чего им надобно. Хорош им Арей или плох? Ежель плох и недостойный царской крови, то чего страдать, что не смотрит? Вон, Егор смотрит, ажно заглядывается…
— Понятно. — Марьяна Ивановна спицы прибрала и на меня поглядела не то с насмешечкой, не то с жалостью. — Что ж вы, Зослава, чужих женихов привораживаете?
— Да я…
— А может, и правильно. Больше — не меньше. Устроите конкурс, будет из кого выбирать.
Смеется она? Нет, конечно, не всерьез так…
— И вы ничего не предпримете? — возмутилась Маленка.
— Думаю, не предприму, хотя, конечно, докладную составить следовало бы. Все же покушение на убийство…
И мне подмигнула.
— Да она издевается! — Маленка вцепилась в Егорову руку. — Ты-то понимаешь… Что нам делать?
И бровушки подняла.
— С женихом? — уточнила Марьяна Ивановна.
— С домом. — Маленка процедила это сквозь зубы. — Там грязно…
— Так уберитесь.
— Они же боярыни! — Егор на меня уставился, а я чего? Пущай глядит, авось дыры и не выглядит. — Они не могут…
— Раз не могут, пусть в грязи живут.
— Но Зослава…
Ага, как в бане палить, то меня, и как убираться, тоже меня… Нет уж, пущай сами.
— При чем тут Зослава? — Марьяна Ивановна спицами в Егора ткнула. — Если тебе так девок этих бестолковых жаль, то помоги.
Ведать не ведаю, мыл ли Егор полы, а вот ведра с водой таскал исправно.
ГЛАВА 7 Волчья ночная
Елисей с трудом дождался ночи.
— Ты… осторожней. — Еська присел рядышком. — Если собираешься за дурнем этим идти, то не один.
— Не собираюсь.
— Ну да…
Еська усмехнулся, дескать, так я и поверил. Но Елисею до веры его дела не было, снедало душу беспокойство. И главное, что собственный план там, на дороге, казавшийся донельзя разумным, теперь выглядел глупостью неимоверной.
Нельзя было отпускать Ерему.
Он же… он человек.
Обыкновенный человек. А значит, слаб, как все люди, и… и что-то случилось. Ему помощь нужна была, а Елисей опять думал о себе.
Он тряхнул головой, избавляясь от мерзковатого шепоточка, который твердил, что Ерема сам уйти захотел. И дорогу выбрал. И Елисей ему на этой дороге не нужен. А если так, то стоит ли мешать? Нет, пусть уж уходит. Пусть затеряется на просторах Росского царства. Небось не пропадет.
Елисей забрался в душистую копну сена, и мыши, копошившиеся где-то внутри, затихли. Он закрыл глаза, зная, что не уснет. Он и не собирался спать.
Он ждал.
И другие тоже.
Вот Еська устроился на лавке под яблоней. Лег, небось руки за голову закинул, в зубы веточку сунул или травинку, грызет. Думает о своем, а о чем — поди-ка пойми. Да и неохота понимать, чужие мысли Елисея не занимали. Он лишь отметил запах Еськин, обеспокоенный, полынный.
А вот Егор хмур.
Бродит вдоль провисшего забора. Место не нравится? Здесь нехорошо, это верно, да, пожалуй, иного подходящего во всем царстве Росском не сыскать. Чужой сюда не попадет, а значит…
Надо бы до рассвета вернуться.
Елисей лишь убедится, что с бестолочью этой, братом кровным, ничего не произошло, что чутье его, то ли уже волкодлачье, то ли еще человеческое, обманывает.
Егор присел.
Затих?
Нет, рано еще. Сторожит? Елисея? Или боярынь? Нехорошие девки, падалью от них тянет, но, как ни приглядывался Елисей что своими глазами, что волчьими, дурного не увидел.
— Спишь? — поинтересовался Кирей, заползая в сено.
— Сплю.
— За Еремой пойдешь?
— Нет.
— Врешь. — Азарин вытянулся рядом, долговязый и пахнущий дымом. — Пойдешь… Не бойся, отговаривать не стану. И следом не попрошусь.
— Тогда зачем?
Елисей открыл левый глаз. Лежит азарин. Пялится в небо.
— Ишь, темное какое. Тут рядом болото… Может, сделаешь крюка, глянешь?
— А сам?
— Я воду не люблю.
— Егора попроси, он с водой ладит.
Кирей плечами пожал.
— Егор… он слабый.
— С чего это?
Егор был заносчив. И зануден по-своему. Но слаб…
— Слишком цепляется за свою родовитость. И… не знаю, если хочешь, считай это предчувствием… Егору недолго осталось.
— А тебе? — Елисей открыл и второй глаз. Азарин выглядел задумчивым.
— И мне немного. Плакать станешь?
Елисей пожал плечами. Что плакать о мертвых? От слез живее не станут.
— Так что загляни на болота, будь ласков, — повторил просьбу Кирей и со стога сполз.
Ночь пришла с востока.
Потянуло ветром холодным, который развеял мушиные тучи и принес гниловатый запах стоялой воды. Небо потемнело. Прорезались редкие звезды, отсюда мелкие и лишенные всякой красоты.
— Ужинать… — Зославин голос разнесся по деревне.
И Еська встал. Оглянулся на стог.
— Пойдешь?
Елисей не ответил. Если уж притворяться спящим, то до конца. Еська постоял и громко произнес:
— Как хочешь. А на сытый желудок бегать проще.
Это смотря кому. Есть вот не хотелось совершенно, скорее уж тело замерло в предчувствии чуда. Уже недолго осталось. Час? Два?
Человеческое понятие. Волки видят время иначе. Есть сейчас и есть потом.
Потом будет дорога.
Широкая, некогда наезженная, но давным-давно забытая людьми. Она, если прислушаться, сохранила какие-то запахи, лошадей ли, дерева или тех, кто жил здесь.
Песню завели боярыни, и голоса вроде бы ладные, спетые, а все одно дрожь пробирала. Вот присоединился к ним Егоров тяжеловатый бас, полетели по-над мертвыми домами. И человеческая часть Елисея сжалась от недоброго предчувствия, а волк внутри оскалился.
Небо темным-темно стало, звезды не сделались ярче, а ветерок ослаб, будто запутался меж брошенных дворов.
Елисей выбрался.
И, сняв рубаху, аккуратно сложил ее. Поставил сапоги. Завозился со штанами. Руки дрожали не то со страху, не то от предвкушения. Вот бы вовсе остаться в волчьей шкуре. Простая и понятная жизнь, но…
Дед говорил, что нельзя так. Разум утратишь.
Елисей снял нить-заговорку, повязанную братом, еще когда они оба верили, что простенький заговор и вправду от чего-то защитить способен.
А голоса стихли.
И зазвенело разбереженное явлением людей комарье.
Оборот получился легко. Елисей потянулся, отряхнулся и… вывернулся наизнанку, словно шуба. Зверь встал, настороженно прислушиваясь ко всему.
Шорохи.
Шепот.
Вздохи.
Запахи такие яркие, резкие даже.
Огромный, с теленка размером, волк черной масти скользнул во тьму. Он шел не то чтобы таясь, скорее, по привычке давней, дедом вбитой еще, держась в тени разваленных заборов. Благо и заборов, и теней в поселке было множество.
— Егорушка… ты такой… — Томный вздох заставил зверя замереть. И шерсть на загривке поднялась дыбом. — Ты единственный здесь, кому есть до нас дело.
От женщины пахло…
Падальщики… мерзкие твари, которые вьются по следу, норовя лишить честной добычи. Слишком трусливые, чтобы решиться на честный бой. Слишком быстрые, верткие, чтобы поймать.
— Тебе лишь кажется…
— Кажется? — Ныне в голосе ее слышалось что-то, заставившее волка отступить. — Разве кажется мне, что нас с сестрой вытащили из терема, не спрось, желаем ли мы того? Закинули в какую-то телегу… А она больна! Она с трудом перенесла дорогу! И вот нас поселили… и где? Убогий грязный дом. Ты же видел.
— Ну…
Волк оскалился и отступил, не желая и дальше слушать чужие глупости. Он замер, ухватив новые запахи.
Еська. Сидит на лавочке, строгает что-то.
Евстигней ножи в старый забор метает, значит, и ему неспокойно. Спросить бы, в чем причина этого беспокойства, да…
— Погоди. — Емельян выступил из темноты. Он глядел на зверя без страха, и это было удивительно. — Вот, смотри. Я сделал… д-давно уже сделал.
Емельян заикался, как обычно, когда беспокоился, но сейчас Елисей не мог понять причины беспокойства. Он склонил голову и тихонько зарычал.
— Не пугай. Я знаю, что ты меня не тронешь.
Дед бы посмеялся.
Не тронет. Люди всегда были добычей. Легкой. Сладкой. И… и рот наполнился слюной, а Елисей с трудом избавился от желания вцепиться в белое близкое горло.
Он бы не успел закричать.
Он бы ничего не успел, доверчивый Емелька, который на мир глядел как на место чудесное, а никаких таких чудес в нем не было.
— Ты — это ты… и пусть они говорят что угодно, но я знаю, ты не такой, чтобы людей жрать. — Емелька протянул руку. И рык его не остановил. Белые пальцы коснулись морды.
И замерли, перехваченные зубами.
— Конечно, это ты, — с убеждением произнес Елисей. — И я хочу, чтобы ты собой остался. Я в одной книге прочел, что разум можно удержать… не позволить звериной натуре возобладать, да… Пояс княжича Всеслава…
Он протянул вторую руку.
— Он всегда его носил. А все знали, что княжич — волкодлак… Ему сделали пояс особый… и я узор перерисовал. Руны… старые руны…
Емелька говорил медленно, словно сомневаясь, будет ли понят. Елисей понимал. Про пояс. А про то, зачем ему этот пояс, так не очень. Он ведь свой разум не утратил.
Пока.
— Я понимаю, что тебе, м-может, это и не нужно… и еще, что у м-меня м-могло не п-получиться… я ведь только читал, но… возьми, пожалуйста. — Белая лента развернулась. И змеиным узором полыхнули на ней руны. — Правда, я не шил, а кровью рисовал, но… позволишь?
Елисей разжал зубы и наклонил голову, подставляя шею. Ошейник?
Дед бы расхохотался. А потом порвал бы горло наглецу, вздумавшему накинуть ошейник на волкодлака. А Елисей… он просто стоял, позволяя названому брату завязывать ленту узлом. Тот же все возился.
— И возвращайся. Наши спорят, вернешься или нет… и можно ли тебе возвращаться. Но мне так думается… Надо, чтобы мы здесь вместе… Что грядет — не знаю. И никто не знает. Даже маги. Они меж собой разобраться не способны. А мы вот… мы поодиночке погибнем все. А если вместе будем, то шанс есть. Потом уже… потом уйдете, я не стану задерживать, и остальные не будут.
Теплые пальцы провели по загривку.
— Береги себя, Лис, — попросил Емелька, отступая в темень. — А я пока за остальными. С Егором вот неладно. Только он и слушать об этом не хочет, ты же понимаешь.
Елисей кивнул.
Лента на шее… Она не удерживала в разуме, она скорее обострила двойственность. Теперь Елисей четче, чем когда бы то ни было раньше, чувствовал себя человеком.
И волком.
И все-таки человеком, только в волчьем обличье. И это обличье желало бега.
Больше его никто не задерживал. Дорога была. Широка.
Плотна.
Заросла. Задичала. А все одно травам не скрыть ковра старых запахов. Вот железо и конский терпкий пот. Дерево. Старое. И свежее, роняющее редкие капли живицы. Тут сгружали сосновые стволы. А вот под ковром травяным клеймо старого кострища.
Нет, не эти запахи Елисею нужны.
Другие.
Вот он идет по следу. По своему следу… и не только по своему. Лошади и люди, каждый свою метку на дороге оставляет, да ей не впервой, ей даже в радость, что прошли они. Дороги для того и созданы… А вот и развилка, на которой он, Елисей, человеком будучи, попрощался с братом.
Вот след Еремин.
Коня гнал, не жалел… Зря, так далеко не уйти, падет конь, и тогда что? Поберег бы… Вот и перевел на широкую рысь. А мили через две и шагом идти позволил. От коня пахло усталостью, от Еремы… от Еремы плохо.
И волчья часть заскулила, не желая идти по следу.
Но разве Елисей мог себе позволить отступить? Он постоял над следом сапога, четким и ясным, будто нарочно оставленным в мокрой глине, раздумывая, как поступить.
Вернуться?
Рассказать Архипу Полуэктовичу?
Все одно тайны вскоре перестанут тайнами быть, так для чего маяться?
— А я уж заждался, братец дорогой. — Ерема сидел на поваленной березе. Левую ногу согнул, правую свесил. Покачивает. В руке — ветка-хлыст, которой Ерема по голенищу сапога, в глине измазанного, хлопает. — Ну здравствуй, что ли. Обниматься не стану, извини. Может, обернешься? С человеком как-то проще разговаривать.
Елисей покачал головой.
Может, и проще.
Да только и обмануть человека легче, чем волка.
— Экий ты, братец, неподатливый. — Ерема укоризненно поцокал языком.
Не Ерема.
Тело его.
Обличье.
А вот запах изменился, едва уловимо, но…
— Не поверил, значит? — Оно и не думало скрываться, голову наклонило, уставилось чужими равнодушными глазами. — Знаешь, как-то в прежней жизни не получалось у меня сталкиваться с волкодлаками… живьем чтобы… Дохлых-то привозили. Мне они представлялись тварями, разумом не обремененными. Да, живучие, хитрые… Но в конечном счете тупые… Может, просто умные на вилы не попадались, а?
Елисей заворчал глухо.
— Да, да… понимаю, беседа получается несколько односторонней, хотя вопросов у тебя много накопилось. Например, чем вы заслужили такое? Ничем. Увы, ситуация такова, что сам я являюсь ее заложником.
Веточка хлестанула по ладони, сбивая комара.
— Я делал то, что было велено. А кем велено, о том сказать не могу, хотя, поверь, с превеликим удовольствием снял бы с этого человека шкуру. Может, все-таки обернешься? Клянусь, не трону…
Елисей ответил коротким рыком.
— Да, да… братцу твоему я тоже клялся. И заметь, клятву исполнил! Я провел обряд… да, провел, в точности как было писано. Интересная магия, соединяет в себе и традиционные практики, и слегка — рунопись, и кое-что иное. Главное — обряд удался, верно?
Ерема спрыгнул.
И двигался он иначе. Легче. Мягче.
— Не переживай, он жив. Я просто поставил на нем метку, которая позволила мне занять это тело. Ты бы знал, до чего неудобно это. Пока приспособишься, обживешь… Новое тело натирает, куда там сапогам. И еще душенька вечно недовольна. Вот братца твоего взять. Сам дурак. А мечется. Страдает… И кому это надобно? Точно не мне. И назад возвращаться — не вариант. Не один он такой умный. Ты присядь, Елисеюшка… или как тебя звать? Не говорит… Вцепился, будто те имена и вправду хоть что-то да значат. Раскрою тебе, это всего-навсего поверье дурное, что, зная имя, матерью данное, можно вред причинить.
Он оскалился.
Ерема никогда не улыбался вот так, чтобы улыбка была страшной. И ветка в руке хрустнула, переламываясь.
— Вред можно и без имени причинить. Это дело недолгое… Присядь, сказал.
И Елисей сел.
Он и сидя в горло вцепится.
Или нет? Это ведь Еремино горло тоже.
— Сообразил? Вот так-то лучше. — Ерема остановился и наклонился, упираясь руками в колени. Он дыхнул в лицо жеваной мятой и слюну отер ладонью. — Хочешь получить братца живым? Или все-таки не так сильны в тебе родственные чувства, чтобы рисковать?
Глядит.
И Елисей на него.
В него.
В черноту чужих зрачков, в которых прячется чужая же душа. Брат, бестолочь, что же ты натворил-то? Почему не подошел? Почему не поделился? Знал, что Лис не согласится на этакий обмен? Или боялся, что не согласится? Ему ведь тоже нелегко приходилось, человеку волком себя чувствовать.
— А ведь он на это ради тебя пошел. Неужели бросишь?
Елисей оскалился.
— Вот и я думаю, что не бросишь. В этом была ее ошибка. Оставила вас вдвоем, решила, верно, что будете держаться друг друга. Только забыла, что не она одна этим крючком воспользоваться способна, да… — Он щелкнул зверя по носу. — Итак, дорогой, братец твой мне без надобности. В нем, конечно, весело, но я предпочитаю кого-то более… покорного? А то неудобно и тело держать, и душу. Да… Так что отпущу, если сделаешь кое-что. Извини, обещать, что это не причинит вреда, — тварь явно передразнила Ерему, — я не смогу. Причинит… но у тебя есть выбор.
От нее пахло холодом.
— Поэтому подумай, кто тебе дороже, родной брат или… те? Торопить не стану.
Елисей зарычал.
— А что ты должен будешь сделать? Все просто. — Ерема вытащил из кармана тоненький шнурок с привязанным к нему сушеным птичьим крылом. — Отнести и положить у ограды.
Ночью болото дышало туманом.
Влажный, он поднимался над осоками, над обманчиво зеленой гладью топи, которую кое-где прорывали черные дыры озерец. И здесь, в тумане, было как-то… спокойно?
Зверь лег, пусть просохший за день мох под тяжестью огромного тела его и опустился, пропитываясь холодной водой. Елисей прислушался.
Снова тишина.
Комарье вот звенит, но… пусто.
Нет кабаньих троп, хотя и болото это выглядит не столь уж топким. Ни следов лосиных, ни даже заячьих легких, а заяц — зверь такой, который и по болоту пройдет, что посуху. И птиц не слыхать.
Странно это.
Но не пугает странность, скорее уж… здесь было спокойно.
И думалось хорошо.
ГЛАВА 8 О страстях ночных
Спалось мне на новом месте неспокойно.
Куда уж тут на женихов гадать? Я и не собиралась, да только все одно снились. Сперва Арей с боярынькой своей под руку. Сам-то важный, в кафтане парчовом, широким поясом перехваченном. На голове шапка каракулевая, а из нее — рога торчат, да такие, что и бык позавидует. Любляна же за рог держится так и перед Ареевым лицом колокольчиком потрясывает, аккурат таким, которые скотине на шею вешают, чтоб не заблукала и хвори не ухватила.
Глянула она на меня этак с прищуром и молвила сладенько:
— Все одно моим будет. Видишь, привязала… — И колокольчик свой на шею Арееву закинула.
Я ей кулаком погрозила, а она только рассмеялась.
Да и сгинула, пылом[9] стала.
Арей же оземь ударился, обернувшись не быком, но матерущим козлом с бородой до копыт. И скотина этая ко мне губы тянет. Дескать, поцелуй, и вновь в молодца оборочуся. Я ж стою, на этое непотребство глядючи, да и думаю: как же ж я с козлом целоваться стану? А если люди прознают? Вовек же ж не отмоюсь!
Глаза открыла.
Увидала над собой потолок грязный — не хватило часу его отскоблить — и свои рисунки, мелом малеванные, больше на каракули похожие, да и успокоилась.
Сон это.
Дурной.
Бывает со всеми. Повернулась на другой бок, одеяльце казенное, тонкое, натянула, да и внове заснула. На сей раз предстал предо мною Кирей, правда, с головою отрезанной, которую он под рукой держал. И говорит та голова:
— Приставь меня к шее да мертвой водой полей…
Я ж ей и отвечаю:
— Приставить недолго, да только воды у меня ни капелюшечки не осталось. Давече борщ варила и всю-то извела.
Кирей же хмурится:
— Как ты, сущеглупая, додумалась на мертвой воде борщи варить? Погляди только, чего натворила!
Я обернулась.
Ох, и вправду, страх страшный! Стол дубовый, широченный. Казанок с борщом моим. Миски… И люди, над мисками застывшие. Вон Архип Полуэктович голову на стол уронил, на руки сцепленные, бел собой и нежив. Еська лежит и не шевелится. Лойко…
— Это все ты виновата! — Киреева голова скривилась да и плюнула на меня кровавою слюной.
Я и подскочила.
Нету ничегошеньки… пуста хата старая.
Крайнюю выбрала, благо было из чего. Полдня мыла-выметала, а все одно запустелым жильем пахнет. И свет лунный сквозь бычий пузырь пробивается, разливается по столу… пустой стол.
И казанок, в печи найденный, на нем стоит.
И никаких-то борщей, ни на мертвой воде варенных, ни обыкновенных.
Вздохнула я, пот отерла — надо же, вся взопрела, будто бы не спала, а воевала… и вновь под одеяльце сховалась. Оно-то ныне сон навряд придет, место дурное, да хоть полежу вот, подумаю о своем. Завтра надо будет походить по округе, глядишь, и сыщется сон-трава, пары стебелечков под подушку хватит, чтоб отступили страсти всякие…
…и бабке отписаться.
Оно-то, конечно, письмецо этое я не скоро отправлю, туточки почтарей нема, а все легче. Напишу бумаге, чего думаю, и как-то оно попускает…
Смежила глаза.
…нет Кирея. Нет Арея.
Но стоит предо мной дед давешний, из староверов, да глядит во все глаза. А у самого-то слепые, бельмяные, однако ж все одно ведаю, что видит он меня, неглядючи на слепоту.
От стоим мы.
И стоим.
Первою я не сдюжила. Поклонилась до земли и молвила:
— Здраве будь, дедушка.
— Какой я тебе дедушка, — ответил он, скривившись. — От же ж… бабье глупое племя. Все от вас горести.
Зазря он так про баб. Небось не мужиком на свет рожден был. Да и Божиня — женщина она, хоть и божественной сути.
— А за такие мысли тебя б… — Он посохом своим по земле стукнул, да и содрогнулась землица. Глаза ж бельмяные вспыхнули ярко, но и погасли. Закачался дед.
Застонал тяжко.
И упал бы, когда б не подхватила. А и тяжек-то дедок оказался! Даром, что глядится так, будто бы ветер унесть его способный. Но с трудом удержала. Он же в мои руки вцепился, будто тонул, и, в глаза глядючи, заговорил:
— Не верь, девка, посулам сладким.
— Не верю, — отвечаю, — дедушка.
— Золото давать станут — откажись.
— Откажусь.
— Славу сулить…
— И от славы откажусь. Надобна она мне, что корове летник…
Усмехнулся он и руки стиснул, да так, что больно стало.
— Пугать будут…
— Пуганая ужо.
Кивнул.
И ладонь, раскрывши, ко лбу прижал. И от того горячо сделалось, страсть. Стою, не дыхаю. А голова-то моя вся огнем пыхает.
— Терпи. — Дед же усмехается, и не дед вовсе, а мертвец живой. Стоит, костью за кость цепляется. Волос — пакля, кожа — тлен… и мертвечиной от него тянет. — Не бойся, девка, не трону, — оскалился он, да не отпустил меня. — Надобно так, чтобы уйти… я им соврал… сказал, что не было меня… был… был и видел… как вернулось зло и забрало всех.
Губы его — разверстая земля, из которой торчат белесые коренья зубов.
И до того мне страшно, что стою, шелохнуться неспособная. Он же говорит:
— Отступился я… отпустил одну… вот и вернулось… по вере воздалось, за малый грех — большим.
Я вспыхнула.
Я стояла и глядела на себя будто бы со стороны. И удивлялась, что горю, а боли нема. И что не боюсь вовсе сгореть. И что мертвяк, который пеплом рассыпаться стал, тоже не пужает. Напротив, жалко мне его, бедолажного.
Видать, ту жалость почуявши, дедок поднялся.
Отряхнулся.
Посбивал пыль с себя да и, воззарившись хмуро, посохом по землице стукнул, и так, что загудела землица медным тазом.
— Не дури, девка! — сказал он, бровь сурово хмуря. — Всех не нажалеешься.
А я ж не всех, я ж только тех, про кого ведаю.
Елисея вот.
И братца его бестолкового, который сбегчи вздумал и с того прочих в беспокойствие ввел. Кирея и нареченную евонную. Арея… Фрола Аксютовича с Люцианой Береславовной.
Себя тоже, хотя ж чего жалеть? Искала женихов… и нашла на голову свою. Чего мне с ними делать? Не со всеми, а с тем, который…
— Отпустить. — Дед ныне глядел строго. — Каждому Божиней свой срок отведен. И его вышел давно. А с того, что задержался он на этое земле, никому добра нету.
Может, оно и так, но…
— Нет, девка, не о том думаешь. Душа, что птаха, после смерти в ирий летит, а там ей Божиня новое тело, новую судьбу вяжет. Привяжи птаху к дереву, к гнезду ее на зиму, и сгинет она от холода, от голода. Так и душа. Тело мертво, пусть бы трижды тридесять раз его подымали и чужою кровью поили. Но смерть — не собака, пинком не отгонишь. Все одно свое возьмет. И уже взяла.
Я разумела, что прав он, бельмоглазый дед, который ведал, об чем говорил.
И тот, который приходил ко мне, он ведь тоже желал лишь свободы.
И я обещалась.
Монету приняла. Слово дала. Только… как понять, кому эту свободу дать? И как?
— Корень-то у тебя проклятый есть? — вздохнул дед. — Тот, который черною жрицей даден был?
От же какие сны у меня премудрые. Есть, конечно. Все-то я с собой взяла. Иголки. Нитки шелковые, мало ли, что чинить придется — рубаху аль шкуру чью, все лучше шелка нету для этого дела. И ножнички махонькие, острющие.
И булавок.
И корешок тот, теткой Алевтиной даденный.
— Ему он не помеха. Мертвого тяжело убить. — Дед все ж отпустил меня и сам сел на лавочку. Огляделась я. От диво, только что были мы… а где-то были, где ничего, окромя нас самих, и не было, ныне ж глазом моргнул, и все переменилось.
Стоим…
Во дворе стоим.
Забор из ивовых прутьев плетен, низехонек, за таким только гусаков держать, да и то перемахнут, не запарятся. Травкой двор порос мелкой. Вон, малинник вдоль забора растянул колючие лапы.
— Тут я жил. — Дед по лавке рукой провел, нежно, будто живого кого гладил. — Сто годков… и еще столько ж… Божиня отмерила.
Он коснулся щепотью лба.
— А ты постой, девка, чай, ноги молодые…
Постою. Мне не в тягость.
Поглазею вот… на траву, в которой одуванчики рассыпаны щедро. Еще немного — и зацветут, выкинул белые шары детям на радость. Помнится, самое милое дело было — дуть, гадаючи, дед аль баба… я всегда дедов выдувала, то ли дула сильно, то ли попадалось так, что лысыми оставались головки одуванчиковые.
Вспомнила.
Вздохнула.
На деда поглядела.
На хатку его со стенами белеными, гладенькими, с крышею, дранкой крытою. И стоит та хата, нарядна, светла оконцами. Ставенки резные. Крылечко горбатенько. У крылечка псинка свернулась махонькая, из тех, которых пустолайками величают.
Рыжевата.
Ушко драное, хвост бубличком.
Будто бы дремлет, да сон собачий чуток. Тронь — и очнется, зазвенит, хозяина о госте предупреждая.
— Хорошая у меня была жизнь, — сказал дед, на собачку глядючи с улыбкой. — Если и жалею о чем, то о слабости своей, которая всех сгубила… дитя невинное пожалел… да только предки наши не дураками были, небось тоже детей было жаль, да… она не пожалела, все жизни собрала. Гляди.
И увидела я деревню.
Большую деревню, аккурат, что Барсуки.
Тын, который от леса ее защищал. Дома. И побогаче, и победней. Дворы, снегом занесенные. Людей. Копошкались, у каждого дело свое… детвора бегает, ей холод нипочем. Собаки по будам попрятались. Кошка вот на плот забралась и сверху на людей поглядывает, да с усмешкой…
Я почуяла, как холодно стало вдруг, будто на солнце туча набежала.
И застыло оно.
Кошка только и успела, что глаза открыть, спину выгнуть с шипением, а после и упала замертво. Она шла по улице, простоволосая и босая, страшная, как сама Морана, вздумайся ей до людей сойти. Она протягивала руку и срывала жизнь за жизнью, не различая, чью берет, скотины аль человеческую.
Встал перед ней старик, посох поднял, да только она того и не заметила. Руку протянула, пальцы сжала, будто обнимая хрупкий стебелек травяной. Дернула.
И упал он.
Как попадали прочие…
— Моя в том вина, — сказал дед, взмахом руки стирая деревню. И дом его сгинул. И вновь мы оказались в старой хате, где я ночевать поставлена была. — И нету мне пути в ирий. Отказано мне в посмертии, пока не исправлю то, чего натворил. А сам я на то неспособный… поэтому слушай, девка, внимательно. Дважды повторять не стану.
Говорил он…
Хорошо говорил и меня заставлял повторять, чтоб, значится, каждое слово запомнила. Я-то во сне старалась, благо голова моя уже приспособилась всякую книжную премудрость ловить, а тут не то заклинание, не то молитва, а может, и одно и другое…
Глаза я разлупила с того сна, когда солнце уже через порог перебралось.
— Горазда ты, Зосенька, спать, — напротив лавки сидел Кирей и орешки перебирал. — Архип Полуэктович прям изволновался весь, где ж это Зослава наша.
— Здесь, — пробурчала я.
От неготовая я была к гостям, чтоб прямо и спозаранку. Сижу в одное рубахе, взопревшая от ночных страстей, лохматая, страшенная, как мара-призрак, которая к душегубам для усовестления оных является. Мыслею, что, ежель бы явилась к кому, точне усовестился б человек, душегубец он аль так, курей крал.
— Я вижу, что здесь. — Кирей орешек пальцами сдавил, чтоб шкарлупка треснула, и ее на пол кинул, иродище рогастое. Даром, что ль, я накануне полы эти мела-выметывала?
Я Кирею кулака показала, только он не усовестился, плечиком повел саженным да орешек в рот кинул.
— Лежишь, ни жива ни мертва… бужу — добудиться не могу. Даже целовать пытался.
— Тьфу на тебя!
От негоже честной девке да с утреца этакие ужасти сказывать!
— Не помогло…
Совести у Кирея было меньше, чем в свинье боярского гонору. Другая шкарлупка на пол полетела. И этакого непотребства я вынести не могла.
Встала.
Руки в боки вперла.
— Веник, — говорю, — там. — И в сторону печки пальцем указала. — Намусорил — подметай.
Кирей за пальцем моим головушку повернул, бровку приподнял. Еще б рогу поскреб, притворяючись, что не разумеет, об чем я туточки. Ага, как тайны и заговоры, так он поперед иных прется, а как пол месть, то и разом понимания лишается.
— И вот я подумал сперва, что надо бы кого на помощь кликнуть… а потом подумал, что, может, и лишнее это будет. — Кирей орехи в кошель ссыпал. — Что полежит Зослава и сама вернется. Чай, не трепетная она барышня, которая во снах заблудиться способна.
— Надобно тебе чего?
Я веника взяла и самолично Кирею поднесла. С поклоном протянула. Он вздумал было от этакое чести отказываться, да у меня не забалуешь.
Пришел.
Натоптал.
Орехов налузгал, пока я тут по снам гуляла, так будь добр хату до порядку довести.
— Надобно… — Кирей веник взял двумя пальцами с видом таким, что впору мне, девке сущеглупой, усовеститься крепко.
Не усовестилась.
Он встал.
Вздохнул.
— Надобно переговорить… только не здесь… и еще, Зослава… скажи, как тебе спалось на новом месте? Чего снила?
— Тебя, — не стала я душою кривить. — С головой отрезанной… прочих мертвыми… или вот Арея с боярынькой этой…
Нахмурилась. Вот как бы не в руку сон этот случился.
— Ревнуешь? — поинтересовался Кирей и веничком по полу мазнул. Этак легонько, гладючи. Кто ж так метет-то? Пылюку одно гоняет.
— С чегой мне ревновать?
А сама-то хмурюсь, сон вспоминаючи. Не про первый бы мне думать, который одно глупство, но про второй, в коем упреждение видится. Не справлюсь, и все сгинуть.
— Не знаю…
— Ты мети-мети…
— Злая ты, Зослава… еще не поженились, а уже помыкаешь. Что ж после свадьбы-то будет? Даже сочувствую я племянничку…
И шась веником влево.
После вправо.
И вновь влево.
— А мы тут все сны видели… интересные… Елисей — как своим братьям горло рвет и в крови валяется… Емелька — что горит заживо… Евстя — медведя… и вот интересно мне стало, с какой такой напасти эти массовые кошмары приключились. Прежде я как-то особо чувствительным не был, а тут…
Спрашивать, чего ему снилось, я не стала.
Не расскажет.
— И вот подумалось, что неспроста это… я без сил. Емелька еле ноги тягает… а девицы наши, раскрасавицы, с утра похорошели, порозовели… вьются вокруг Егора.
Веником Кирей махал, что саблей, старательно да с оттягом, но чище с этое работы в хате не становилось. Я же косу переплетала.
В лицо водой студеною плеснула, которая найпервейшее средство от всяких бед и снов дурных. Рушником накрахмаленным да с шитьем узорчатым отерлась.
И так ответила:
— Может, конечно, оно все и так. — Я отошла за печь, на которую вчерась еще занавесточку примостила, аккурат для этакого случаю. Рубаху пропотевшую скинула, другую надела, чистую. Заместо летника — костюм еще тот, Киреем даренный, крепкий он и легкий, самое оно для лета. А что в портках, так я попривыкла. Небось коль и вправду будем нежить местную воевать, в портках всяко сподручней будет. — Только… недоказуемо.
Кирей разогнулся и пот со лба смахнул. То есть вид сделал, будто смахивает и притомился крепко. Огляделся.
Нахмурился.
А что он думал? Небось пол месть — не царствием править, тут сноровка нужна. Он же ж шкарлупки свои по всей хате раскинул. Матюкнулся и принялся руками собирать. Понял, что с хаты не выйдем, пока чисто не станет.
— Это верно, Зослава, но… вот вспомнилось мне, что в доме у тебя никто на дурные сны не жаловался.
— А ты откудова знаешь?
— Оттудова. — Шкарлупки он в ведро ссыпал. — Зосенька, душенька моя ненаглядная. Неужто ты и вправду решила, что я тебя без пригляду оставлю?
— Из дворни кто наушничал?
А кто ж еще… он же ж привел и ключницу, и девок в услужение боярынькам… и глупо было думать, что девки сии только служили. Но странное дело, обиды на Кирея не было. Знала, что не во зло он, а от беспокойствия. Хоть и строит рожу, дескать, царевич и над всеми властвовать будет, а живой человек.
— И вот думать я стал, почему так? Боялись они в городе разворачиваться? Сомнительно… твой терем — не царский, там за каждым вздохом не следят. А если и следят, то не те люди, которых опасаться стоит. И значит, в другом дело… скажем, в комнате, из которой твои гостьюшки дорогие носу высовывать не желали… или еще в узорах, которыми ты эту комнату размалевала, а поверху коврами прикрыла…
— И что?
Насупилась.
Дом-то мой, пущай и живут в нем кому ни попадя, что воровки, что боярыни опальные. А раз мой, то и имею полное право рисовать на стенах его хоть узоры, хоть дули с маком.
— Ничего. — Кирей поднял последнюю скорлупку. — Но может, ты и тут чего нарисуешь?
— Сбегут.
Это в столице им идти некуда было, хоть и ныли каждый день братцу своему, как тяжко им без родного дому да в гостях у хозяйки неприветливое. Туточки домов — десятку два, бери любой. Не все ж мне размалевывать.
— Это верно. — Скорлупку азарин подбросил да и в кошель уронил. — А ты не им рисуй. Ты нам рисуй. Вот честное слово, сбегать не станем…
— Вам?
— Нам… и тебе тоже. — Он обвел комнату взглядом. — Хорошо тут у тебя, Зослава, только… ты же сама понимаешь, что последнее это дело, без присмотра тебя оставлять. Когда один человек, то всякое произойти может, особенно в таком неспокойном месте… присядь.
И на всяк случай ухват от меня отодвинул.
А ухват хороший, крепкий еще. Я вчерась отыскала, и котелков пяток, и даже погреба малого, в котором капуста квашеная осталась. Забродила, правда.
— То, что ты сегодня одна ночевала, это не просто плохо, это… — Кирей по столу ладонью ляснул, да так, что стол загудел. — Это как нарочно выставить тебя… приманкой.
Сплюнул и ногой растер.
— Архип вчера на Марьяну так шипел, что весь мало не исшипелся… не хотел, чтобы ты одна… а она ему ответила. Дескать, не твоего ума это дело… ты девок раздраконила, и если и вправду с ними не так что, то самое время вылезти поганой их натуре.
Вот оно как, значится, а я уж думала вчера грешным делом, что уговаривать станут, чтоб, значится, в одное хате с боярынями поселилась. Никто ж и словечка не сказал.
— Еще сказала, что ты не так проста. Что Люциана тебя не зря учила… и если чему-нибудь научила, то не войдут в дом.
— И не вошли.
Кирей руку протянул.
— Идем, — сказал.
Я и вложила свою. Пальцы у него твердые, что каменные. И рука горяча. Повел меня… повел за порог. И за хату. По двору, крапивой да полынью заросшему, сквозь заросли малины, которая ныне буяла и, цветом белым убранная, манила пчел.
Дома манила, ажно гудела вся, а над здешней только мошкара и вилась.
Кирей сквозь колючие кусты проскользнул, будто и не были они преградой. И меня провел.
— Гляди, — указал он на оконце махонькое.
Этакое по ночному часу ставнями задвигают, закрываючи и тот малый свет, который оно пропустить способное. Махонькое окошко.
И крепко в раме сидит.
Пусть потемнело дерево, да все одно крепко. И на нем, потемневшем, черном почитай, видны хорошо длинные царапины-раны.
— Будто кошка скреблась. — Я такую царапину пальцем потрогала.
— Если и так, то крупная кошка.
Кирей руку мою выпустил и, пальцы растопыривши, на следы ее приложил. Мол, сама гляди, каковы туточки кошки. А я чего? Я ж, может, и не крепко ученая, а вижу, что у кошки этое лапа поширше Киреевой руки.
— Может, Елисей? — с робкой надеждой спросила я.
От и не по себе сделалось.
Что за тварь туточки ночью гуливала? И ведь не скажешь, будто не нынешней, вона, свежи царапины, бело дерево. А я ничегошеньки и не слыхала.
Спала.
— Ага, решил в гости заглянуть, да дверь потерял, — хмыкнул Кирей. — Нет, Зослава, тут другой зверь ходил… и что-то подсказывает мне, что повезло тебе крепко, что зверь этот двери не отыскал.
Я запиралась.
На засов.
А после, присевши, на полу мелом знак один начертила, про который мне Люциана Береславовна сказывала, будто бы запирает он почище засовов, и что с оным знаком гость незваный не войдет.
Не вошел…
…этою ночью. А другою, глядишь, и высадит оконце, коль уж дверь закрыта.
Кирей, видать, о том же подумал.
— Вернется он. Или она. Или они. Чем бы ни были, а все равно. — Он тряхнул головой. — И мне вот что странно, почему это я сюда явился, а не племянничек мой, которому бы у порога спать надлежало бы, покой твой стеречь…
Уши мои полыхнули.
А ведь и вправду… солнце ныне высоко. И где Арей? Отчего не обеспокоился? Вот Архип Полуэктович Кирея прислал, а мой нареченный…
— Нет, Зослава, может, оно, конечно, и не положено так, но сегодня ты ночуешь с нами. Так оно мне спокойней будет, — молвил азарин и в дыру палец сунул.
ГЛАВА 9 О снах предивных
…Звенели медные браслеты на руках.
Плыли шелка, меняясь. Вот алый растянулся, огненный, вот скрылся под зеленою волной, а ту, в свою очередь, золотом припорошило.
Замерла дева.
Опали покрывала.
Встала она, прекрасная в своей наготе.
Бела.
Точена.
Мягка каждой чертой. И диво, что сколько ни глядел Арей, а разглядеть лица не был способен.
— Нравлюсь! — Дева изогнулась, провела ладонями по животу плоскому, по бедрам. И рассмеялась звонко. — Нравлюсь!
— Нет.
— Себе-то не лги. — Она крутанулась на носочках, качнула широкими бедрами, и узел волос на голове распался. Рассыпались они драгоценным покрывалом, легли на покатые плечи, прикрыли тяжелую грудь. — Смотри. — Дева голову запрокинула. — За погляд денег не беру.
— Было бы на что…
Арей огляделся.
Где он?
В хате… выбрали самую большую после Старостиной, где Архип Полуэктович остановился да Марьяна Ивановна, которая уже хату эту обжила. Занавесочки повесила, половички на полу разложила, пучки трав заговоренных развесила по четырем углам да подкову на притолоку.
Не обычную, само собой.
А студентам досталась хата попроще. Царевичи своим тесным кругом. Кирей, родственничек заклятый, с ними. Арею ж в компанию двое бояр самых что ни на есть родовитых. Вон, спят. Вытянулся на лавке Лойко, сон его беспокойный, вот и крутится, этак поутру и на пол сверзнется, может, там и поутихнет. А вот Ильюшка лег прямо, на спину…
— Будто покойник. — Дева подошла к нему и ладонь на голову положила. — А меж вас и вправду покойник имеется…
— Кто?
— Так я тебе и сказала! — Она рассмеялась звонко. — Поцелуй…
— Обойдешься.
— Грубый ты, добрый молодец… ко мне в дом пришел, а хамишь…
— Извини, завтра другой найду.
— Ты не понял. — Она тряхнула тяжкой гривой волос, и с них посыпались на пол золотые монеты. — Все тут мой дом, куда бы ни пошел.
— Кто ты?
Она пожала плечами и рученькой повела.
Исчез Лойко, который вновь пытался повернуться, да в стену коленями уперся. Сгинул бледный Илья, в позе этой, со сцепленными на груди руками, вправду на покойника похожий. Сама хата, пусть кое-как прибранная, но необжитая.
— Так мне больше нравится, — сказала девица.
Лежат ковры, золотыми узорами шиты. И подушки на них горами навалены, хоть махонькие, на которые разве что вишню спелую положить можно, хоть огромные. Стоят подносы кованые. На подносах тех — вазы, что с фруктами всякими, иные Арей только в книгах и видывал, а про других вовсе не слыхивал, что есть.
Музыка играет.
А музыкантов не видать.
Трогает незримый ветер тонкие занавеси…
— Хочешь? — Девица, вновь в шелка обрядившаяся, правда, отчего-то выглядела она еще больше голой, чем была, — отщипнула виноградинку. Арей головой покачал — не станет он ничего есть в этом месте, которое то ли было, то ли не было. — Или, может, вина?
— Спасибо, воздержусь.
— Это же сон. — Она хитро прищурилась. — Всего-навсего сон…
— Тогда тем более смысла нет. — Арей сел на пухлую подушку и ноги скрестил, удивился тому, что сам он в прежней своей одежде.
— Если не по нраву…
Она щелкнула пальцами, и исчезли сапоги, а с ними и кафтан, и штаны, зато лег на плечи халат, змеями зелеными расшитый, пояс золоченый на животе затянулся, а на ноги сели сапоги из яловой кожи.
— Так лучше?
— Верни, как было. — Арей нахмурился. Все же меньше всего это на сон походило, а значит…
Кто она?
Ялуша, которая горазда к спящим подбираться? Прикинется старой кошкой с глазами разноцветными, шмыгнет в постель, пристроится у груди и будет глядеть-выглядывать, вытягивать из спящего силы вместе с дыханием его? Нет, ялуши все больше кошмары приносят.
Сонница?
Эти любят девами прекрасными предстать. И сны навевают особого свойства. О таких снах целителям не сказывают, стесняются. Да и не только в стеснении дело. Сонницы головы так заморочить горазды, что иные и просыпаться не желают.
— Погоди, маг. — Дева нахмурилась, когда Арей руки поднял. — Не спеши… я тебе пригожусь.
— Это навряд ли.
С сонницей Арей справится, не та у нее сила, чтобы против мага выстоять. И видать, совсем с голоду одурела, если решилась.
— Твоя правда. — Сгинули шелка и ковры, подушки, музыка. — Голодно мне… силы бы чутка, капельку… я ж никому зла не чинила.
Она ухватилась за руки, сжала их с нечеловеческой силой. И полыхнули черным глаза.
— Я пригожусь! Поверь, маг… пригожусь.
Волосы заклубились дымом.
Изо рта гнилью потянуло.
— Тут страшно, боярин… всем страшно… людей нет… Хозяева… не ушли они, а кем стали, то… дай мне силы капельку… Всего одну капельку! С тебя не убудет. В тебе огонь, я слышу… я вам помогу… подумай, маг… я ведь никому вреда не чинила.
Разве что высасывала досуха. Слышал Арей, что нередко случалось соннице из здорового мужика силы выпить, да за пару ночей.
— Так то сами… тебе вот мои прелести не по нраву пришлись… или, может, тебе белявые нравятся? — Она крутанулась и встала девкой пышнотелой, с волосом светлым, мягким. — Или чернявые… или рыжие?
— Прекрати, а то изгоню.
Арей сложил пальцы знаком.
— Здесь не изгонишь, — спокойно ответила сонница. — Сны — мое место.
— Ни один сон не длится вечно.
— Если не наведенный. — Сонница приняла обличье Любляны. — Или тебе другая по нраву? Наверное, удобно две невесты иметь… или не очень? Поди, грызутся меж собой? То ли дело мы с сестрами… когда живы они были, мы всегда всем делились. И мужчины были только рады. Почему ваши женщины так не могут?
Она села на грязный пол, скрестивши ноги. И смотрела снизу вверх с такой страстью, что у Арея поневоле горло перехватило. Этак… этак он и поддаться готов.
Сонница рассмеялась звонко.
— А вспомни, маг, ты ведь иной крови… не местный… и в вашем обычае не одну жену иметь. Так и клятву исполнишь, и отказываться ни от чего не надо.
— Погоди. — Арей тоже сел. Смотреть на нагую Любляну было… да, пожалуй, приятно. Себе он врать не привык. — Не спеши, рожденная лунным светом. И прими какое-нибудь другое обличье, иначе беседы у нас не выйдет.
Думал, сонница возражать станет.
Но она кивнула.
И провела ладонями по лицу, его стирая. А следом и прочее тело поплыло, и сгинула Любляна, а на месте ее девочка оказалась, худенькая, что тростинка, с глазами белесыми, лунного света полными.
— Когда-то давно здесь жили люди, — сказала сонница, а Арею подумалось, что не каждому выпадает увидеть истинное ее обличье. И радоваться он должен бы этакой чести. — А с ними рядом и Хозяева… и овинники, банники… прочий малый народ, который вы нечистью именуете, хотя иные из нас почище людей будут.
— И ты жила?
— Мы с сестрами. — Она скривилась, будто вот-вот заплачет. Из лунного глаза и вправду вытекла слеза, крупная, перламутровая, что жемчужина. Она упала на ладонь сонницы и жемчужиною стала. — Вот, возьми подарок.
Сонница протянула жемчужину.
— Она забрала и моих сестер… мы… баловались… с женщинами… с мужчинами… ты говоришь, что иных досуха выпивали, но это когда голод мучает. Нас не мучил. Мы брали сил, а взамен… мы ведь сны приносим не только те, от которых ты краснеешь. Снов много… мы дарили детям сказки… и отгоняли ягнуш с их темными кошмарами… сладкий сон младенцам. Невестам грезы. Мужчинам… у всех свои мечты. И мы исполняли их, взамен брали немного силы, немного тепла… если бы ты знал, как я замерзла.
Она задрожала.
— Помоги, маг… мои сестры сгинули… ночь за ночью мы были… держались друг за друга, но однажды старшая наша стала лунным светом, чтобы отдать нам свою силу… и потом еще одна… я самая младшая… они оживут, если позволить…
— Что здесь случилось?
Треугольное лицо сонницы исказила мука.
— Она пришла… зимой… ночи долгие… темные… сны сладкие… людям тепло, и мы рассказываем им о весне. Детям… у детей сны светлы… а она их забрала. Всех до одного. Вошла… и ворота не остановили.
Она больше не плакала, но худенькая фигурка ее истончалась, и Арей протянул руку. Было, конечно, глупо кормить нежить собственной силой, однако…
— Спасибо.
Сонница коснулась пальцев, и Арей ощутил явственный холод.
— Я просто голодна… она срезала жизнь за жизнью, и злой старик, к которому мы не решались подойти, а потому он давно не видел снов, ничего не сделал. Он поднял посох… мы очень боялись его посоха, но она лишь рассмеялась.
Острый язычок скользнул по губам.
— Потом сюда заглянули волки… и они говорили о сытой зиме, о мертвецах, которых им оставили на ближней поляне… о том, что не все мертвые остались мертвы.
Она задрожала, готовая рассыпаться лунным светом, но Арей протянул вторую руку.
— Мы же оказались заперты здесь… у нас нет ног. Или крыльев. А волкам не снятся сны, такие, чтобы мы могли спрятаться в них… мы лишь слушали, что говорят они.
— И что же говорят?
Силу она пила жадно.
И Арей чувствовал, как слабеет.
— Я… покажу тебе… я пыталась уйти и видела их глазами… я покажу… — шелестом листьев в ушах звучал голос сонницы. — Не противься… клянусь матерью-луной, что не причиню тебе вреда. Только и ты пообещай, что заберешь меня.
— Куда?
— Туда, где много людей.
Что ж, в столице людей много, глядишь, сыщется местечко и для сонницы.
— Хорошо… позволь теперь…
Она встала.
Прижалась. И во сне Арей ощутил горячее тонкое тело ее. Сонница же приложила раскрытые ладошки к вискам его. Поднялась на цыпочки. И заглянула в глаза.
— Смотри, маг… и постарайся выжить.
Постарается…
Он проснулся с тяжелой головой и, лежа на жесткой лавке, долго не мог понять, где же находится. После вспомнил.
Дом.
И сонницу. И круг из древних камней, в котором ничего не росло, да что расти — и снег зимою в этот круг ложился неохотно.
Запах тлена.
Кровь.
И волчий звериный страх, от которого шерсть на загривке поднималась дыбом. Арей провел рукой по шее, убеждаясь, что за ночь шерсти там, вздыбленной аль нет, не выросло. Мотнул головой, избавляясь от наваждения. Поднялся… ухватился руками за лавку, потому как пол в избе вдруг покачнулся, готовый подняться, принять отяжелевшее вдруг тело.
Вот же… верь нежити.
— Плохо тебе? — раздался ласковый голосочек.
Арей вздрогнул и для верности себя за руку ущипнул. Боль от щипка была короткой, но и ее хватило бы, чтобы морок разрушить. А поскольку Любляна не исчезла, то следовало признать, мороком она не была. Дареная невестушка, чтоб ее, сидела на лавке, сложивши белы рученьки на коленях. Сидела смирнехонько, глазки потупивши, зарумянившись — не девка, яблоко наливное. Только Арей подозревал, что с этого яблока у него скоро оскомина будет.
— Утра доброго, суженый, — ласковым голосочком пропела она и глазками стрельнула.
— И тебе… утра… доброго. — Арей голову потер.
Болела.
— Славно ли тебе спалось? — Любляна пальчиком по шитью провела, по дорожкам серебряным, по жемчужным островкам.
И кольнуло что-то в руке холодом.
Надо же… а думал — приблажилось. Или, верней, что сонницы нематериальны. А выходит… выходит, мало он пока знает. Пусть ныне и маг полновесный, но все одно гордиться нечем.
— Славно. Спасибо.
Арей кулак сжал. Что ему от этой жемчужины? Может, и ничего, может, пустое она, как все обещания нежити, а может, и пригодится.
— Что это у тебя там? — поинтересовалась Любляна и шею вытянула, силясь разглядеть.
— Ничего.
— Что-то есть? — Она соскочила с лавки. — Не хочешь показывать? Дело твое… я привыкла, что никому-то не нужна.
— Хватит. — Арей был не в том настроении, чтобы нытье слушать и уж тем более силой делиться. У самого почти не осталось.
— И кричишь… и не замечаешь…
— Ты уж определись, — хмыкнул он, — или кричу, или не замечаю.
Любляна губки поджала. Побледнела. И губу отставила, обиду выражая. Затрепетали ресницы, но к этим слезам Арей привык. Душою очерствел он, что ли? И Любляна поняла. А может, не она, но тварь, в ней сидящая, почуяла, что не будет поживы.
И если так, то зачем тратиться.
Любляна подошла к ведру, зачерпнула водицы ковшом и Арею поднесла:
— Испей. Полегчает. Батюшка наш, когда перебрать случалось, говаривал, что ничего нет лучше водицы колодезной.
И пить вдруг захотелось так, что зубы заломило. Только желание это было не его, не Ареево. И жемчужина в руке холодом опалила, упреждая о том.
— Спасибо, — сказал Арей не невестушке, которая на него глядела, что голодный на пряник, но соннице. За такое и силой поделиться не жаль, тем паче что сила вернется.
— Не за что… я готова о тебе заботиться.
Арей жемчужину в кошель опустил.
А ковшик с водицей на стол поставил. Подумал, что стоило бы вовсе вылить и ковшик, и ведро, из которого эту воду брали, но не стал.
— Послушай, Любляна…
Она вновь на лавку села, рученьки сложила, глядит… вот нехорошо так глядит, вроде и спокойно, а чуется за этим спокойствием гнев, который скрывают, да только сил нет вовсе упрятать.
— Не мила тебе, — усмехнулась она. — Ничего не говори. Не мила. И знаю, что девке этой обещался. Что ты в ней нашел? Ладно братец мой… его всегда отличала любовь к таким вот…
Она хлопнула себя по бокам.
— Чтобы тела побольше… сиськи…
— Прекрати.
Арей потер глаза.
— Не хочу. — Любляна глядела прямо, и теперь гнев ее, старый, что гной в ране, чувствовался. — Почему я должна прекращать? Почему я должна молчать? Смиряться? Позволять всем вокруг решать, что для меня лучше будет? Там, в тереме царском, кланяться беспрестанно, благодарить за милость, хотя какая это милость… жить, не зная, позволено ли тебе будет следующий рассвет увидеть.
— Рассвет? Или закат тебе милей?
Любляна оскалилась улыбкой. И черты лица ее исказились, почудилось, выглянуло из нее нечто… нечеловеческого свойства явно.
— Доложила? Или Ильюшка, братец наш разлюбезный? И теперь ты думаешь, что я — не человек, а тварь неведомая, в человеческом теле обосновавшаяся?
Арей сел за стол.
И руки на стол положил. Раскрыл ладони, чтоб видела она, что не станет чаровать. Раз уж выпало беседовать, то Арей побеседует. Глядишь, и договорится до чего-нибудь.
— Никто не знает, как было.
— Так расскажи.
— Тебе?
— А хоть бы и мне, — сказал он, разглядывая невестушку иным взглядом. Смешно было думать, что прочие не глядели. Глядели. И взглядом. И камнем. И словом Божининым. Но не выглядели, иначе б… или… если б и выглядели, если б сочла царица, что надобно ей нелюдь в тереме, то и нелюдь пригрели б.
— Что, понимаешь? — Любляна голову набок склонила. — Она больше не кажется доброй и милосердной?
— Добрых и милосердных царей не бывает. Как и цариц.
— Хорошо, что ты это понял. А говорить… почему б и нет… да, я тебе неправду сказала… верней, не всю правду сказала… понадеялась, глупая, что ты мне поможешь… что вытащишь… я ж не знала, что эта девка тебе взаправду дорога. Скажи, случится с ней что, горевать сильно будешь?
— Голову тебе сверну.
— Не пугай. — Любляна пальчиком по щечке провела, а по следу алому, пальчиком этим оставленному, и слезинка скользнула хрустальная. — Всяк желает бедную девушку застращать… некому заступиться, некому…
— Или говори, или уходи.
Она слезинку смахнула.
— Первый год при нас жрец находился неотлучно. И пяток старух, которых блаженными почитают. Как по мне, обыкновенные, просто умом двинулись… ты не знаешь, каково это… Одна постоянно бормочет. Другая песни поет. Все воняют, потому что мыться — святость смывать. И молишься, молишься, а им все мало, все поверить не способны, что нет от нас с сестрицею вреда… а главное, случится в тереме беда какая… не важно, к слову, хоть чирь на заднице, а все мы виноваты.
— Жалуешься?
Арей все же флягу отыскал среди вещей. И, воды на полотенце плеснув, отер лицо. Полегчало.
— Брат твой где?
— Я ему не сторож… пришла, тут никого нет уже… только ты вот спишь сном беспробудным. Я тебя уже и звала, и за плечо трясла, а ты никак… вот и решила посидеть, поглядеть, что за беда… вдруг бы тебе помощь понадобилась.
Ишь, заботливая какая.
А все одно странно, что и Лойко, и Илья ушли, никому и слова не сказавши.
— Отец хотел, чтобы мы стали сильней… он знал, что она не оставит нас в покое. Как же, царская кровь, благословенная… проклятая, как по мне. — Любляна пальцами по косе провела, распуская. — Я бы отказалась, если б можно было… но кто ж меня спрашивал, где родиться?
— Опять жалуешься.
— Привычка. — Она не смутилась. — Я не нелюдь, Арей. Я просто не совсем уже и человек. Помню, отец позвал меня вниз. Помню, как лежала на полу и плакала, умоляя меня отпустить… а потом стало холодно, и так холодно, что… я думала, насмерть замерзну. Потом… потом что-то было, но все как в тумане. Знаю, я делала не самые приятные вещи… или не я, но то, что в меня вселилось.
Она вздохнула.
— Отец как обезумел… или и вправду обезумел? Но все закончилось в один день. Я очнулась от боли, страшной боли, будто меня раздирали изнутри на мелкие клочки… потом жар… и холод… я едва не умерла, но очнулась. Кем? Сама не знаю. Знаю, что ее, той твари, больше нет… и что не будет… что я одна… почти одна, только вот Маленка, она способна понять, что я чувствую, но лишь потому, что чувствует то же самое… мы вдвоем остались друг у друга, а все вокруг только и ждут повода, чтобы от нас избавиться.
Холод жемчуга Арей ощущал и сквозь ткань. Холод этот разбивал слезливый морок слов.
— От меня тебе что надо?
— Уж не жалости… а и вправду, скажи, чем она лучше меня? — Любляна поднялась, тряхнула головой, и волосы ее, медвяно-золотые, тяжелые, рассыпались по плечам. Летник вдруг соскользнул, и осталась боярыня в одной рубашке тончайшего полотна. — Неужели вовсе не по нраву?
— Оденься. — Арей наклонился и летник подобрал.
Хмыкнул.
Тяжелый, что панцирь жучиный.
— Я ведь и вправду царской крови… и многое умею… мы бы хорошо зажили.
— Пока бы ты меня не сожрала.
— Надо же какой трусливый… — Любляна плечиком повела, и рубашка с плечика этого соскользнула. А Арею вдруг смешно стало: экий он манкий для нечисти, то одна выплясывала всю ночь, то другая утречком продолжила. Неужто иной заботы нету, кроме как честного мужика в соблазн вводить? — Да не трону я тебя… не трону… и сестрица моя… да, нам силы нужны, но разве мы кого до смерти извели?
— Это ты мне скажи.
А рубашка и ниже съехала.
Арей покачал головой и, летник протянувши, сказал:
— На вот, прикройся, а то застудишь чего…
— Людям обыкновенным с нами неуютно, твоя правда… а ты и не заметишь… я малость возьму…
— Одна уже взяла.
— Маленка? — Очи Любляны полыхнули. — Вот стервь! А обещала…
— Оденься уже.
Арей повернулся спиной и, кинувши летник — боярыня его не взяла — на лавку, вышел. Он успел спуститься с крылечка, вдохнуть горячий воздух — ветер-суховей принес с восхода терпкий травяный запах — и потянуться. Захрустели кости, потянуло спину…
— Помогите! — Тонкий женский крик всколыхнул полуденное марево.
А ведь солнце и вправду высоко поднялось.
Что-то заспался он.
Закружился с сонницей.
— Помогите! — Любляна вылетела на крылечко, сжимая кулачком полы разодранной рубахи. Белые полы разлетались. — Помогите! Кто-нибудь…
Волосы встрепаны.
Губы искусаны в кровь.
Из глаз слезы льются ручьями… и странно, что плачущая боярыня остается красивой.
— Помогите, — всхлипнула она, падая в пыль.
— И чем же тебе помочь, милая? — поинтересовалась Марьяна Ивановна, из малинника выбираясь.
Любляна ручку вытянула, на Арея указывая:
— Он… он… он меня…
И зашлась в рыданиях. Арей же почувствовал себя дураком.
ГЛАВА 10 Облыжная
— Я… — Любляна сидела на лавке, закутавшись в лоскутное старое покрывало. — Я решила зайти… словом перемолвиться… я думала… я верила…
Круглое личико.
Носик востренький.
Бровки светленьки. Кожа что парпор, ажно светится изнутри. И главное, слезы-то ее не портют. Я от, если пореветь вздумается, разом становлюсь страшна, что чудище из бестиарию. Нос пухнет и краснеет, глаза заплывают.
А эта…
Маленка сидит и сестрицу по плечику гладит. Да на Арея глядит так… вот как на насильника глядит.
— Он ведь… а он… — Любляна дрожащею ручкой слезу смахнула.
Егор нахмурился.
И к шабельке потянулся.
— Охолони. — Архип Полуэктович царевичу на плечико рученьку положил, да так, что плечико этое и прогнулось с Егором разом.
— Да как он…
— Вот и мне интересно, как он… — Марьяна Ивановна в уголочке устроилась со своим вязаньем. Спицы скачут, петлю за петлей сотворяя, и так ловко перекидвают, что я ажно и загляделась. — Средь бела дня… людей не побоялся.
И на Арея глянула.
Тот стоит.
Молчит.
Лицом закаменел. Оно и понятно, небось в таком обвинить — девку снасильничать — не косу у соседа попортить.
— Ничего сказать не хочешь? — Марьяна Ивановна клубочек с колена на колено переложила. А шерсть-то крашена в алый, да хитро так, с одной стороны ярко, а с другой — блекленько. Вот и выходит вязание ейное рябеньким…
— Врет она, — процедил Арей сквозь зубы.
И Любляна слезами зашлась.
— Да как ты смеешь! — Зато Маленка молчать не стала. Подскочила и на Арея кинулась, застучала кулачками по евонной груди. — Сволочь! Скотина!
— Цыц! — Архип Полуэктович царевну за шкирку ухватил да поднял, тряхнул легонько. — Значится, будем разбирательство учинять? Обвинение-то серьезное…
И на Любляну глядит. А та только слезы смахнула и кивнула, мол, разбирайтеся.
— Если он и вправду…
— Пусть женится, — сказала Маленка, из-под руки наставника выворачиваясь. — Опозорил сестру, пусть теперь…
— Женится, значит? — Архип Полуэктович этак бровку приподнял, удивление выражаючи. — И вы не против того, чтобы сестру родную в жены насильнику отдать?
— А кому она теперь, опозоренная, нужна? — Маленка села рядышком с Любляной и приобняла. — Не переживай, дорогая… все будет хорошо.
У кого, интересно знать? Я Кирееву руку — придерживал меня, болезный, опасаючись, что сотворю чего неладного, — с плечика-то скинула и к Арею подошла. Взяла за руку.
— Не ведаю, — сказала, на Маленку глядючи, — чего ты с сестрицею задумала, да только Арея обвинять облыжно не позволю.
— Тише, Зославушка. — Марьяна Ивановна спицы собрала да в клубочек воткнула. Этак воткнула, что ажно Архип Полуэктович подскочил и на шажок отодвинулся. — Мы пока никого не обвиняем… мы попытаемся разобраться, что же произошло. Это не так сложно, думаю, будет. Слепок…
— Не получится. — Любляна из складок одеяла руку выпростала, ладошку раскрыла, а в ней камушек блеснул рыбьим желтым глазом. — Он сделал так, что…
— Ничего не делал…
Арей шагнул бы к невестушке, чую, что едва держится, чтоб не полыхнуть. И я за руку вцепилась. А с другого боку Еська стал да Арея приобнял, будто друга дорогого найпервейшего. Кирей ближей пододвинулся.
Егор вот в сторонку отошел.
Илья на сестриц глядит и хмурится, однако же как встал у дверей, так и стоит, шелохнуться боится. И главное, что мнится мне, будто бы были мы вместе, а ныне пусть еще не порознь, но близко к тому.
— Значит, слепки подтерли… — Марьяна Ивановна спицы погладила. — Разумная предосторожность… только, полагаю, они нам без надобности. Скажи, красавица, отчего ты на помощь не звала?
Вспыхнули щеки Любляны.
И побледнели.
— Звала, — ответила за сестрицу Маленка. — Но не дозвалась. Он купол поставил.
— Купол… интересно… вот, погляди, Архипушка, ты намедни жаловался, что студиозус не тот пошел, а выпускникам до нас далече… но вспомню тебя… сумел бы ты полог поставить, да и вовсе чаровать так, чтоб ни одну ниточку охранной сети не задеть?
— Я и сейчас так навряд ли смогу… — Архип Полуэктович на боярынек наших взирал сверху вниз. И ведаю я, что умеет он глядеть, да так, что от этого погляду из шкуры выскочить охота.
Поежилась Любляна.
И Маленка насупилась.
— Вы все заодно!
— За одно, за другое. — Марьяна Ивановна поднялась и огладила передничек белый, поверх летнику нарядного накинутый. — Не в том дело, деточка… пойдем-ка, осмотрим сестрицу твою… она, чай, отбивалась?
Любляна кивнула, но неуверенно.
— И значит, следы остались бы… скажем, покажи-ка, милая, рученьки свои… кожа-то у тебя нежная, белая… такую тронь, и враз синец вскочит… а у меня мазь есть свинцовая, разом снимет… если есть, что снимать.
Любляна в покрывало укуталась.
А ведь чистые у нее рученьки. Я видела. И… и хоть ни на мгновенье не поверила, будто Арей на этакое способный, но все одно легче стало, камень с души упал. Я-то верю, да тут не только я… вона, Егор взгляд переводит от Арея до Любляны, не зная, кому верить.
— Он… он… сделал так, что…
Любляна запнулась, не знаючи, что сказать.
— Значит, вылечил?
— Исцелил…
— Экий он добрый… и прыткий… а главное, талантливый. Архипушка, я ж тебе говорила, недооцениваешь ты молодежь… и сеть тревожную не тронул, и исцелил во мгновение ока… я уж сколько живу, а все одно… нет, можно, конечно, синец за четверть часу свести, но сил на то уйдет немерено.
Марьяна Ивановна головой покачала.
А после спросила:
— Может, хоть кровь осталась?
— К-какая? — Любляна лицом побурела.
— Та, которую девка честная на брачном ложе оставляет… или ее он тоже застирал? Магическим образом? — Марьяна Ивановна не сдержалась, хихикнула. — А простыню и высушил опосля… хозяйственный…
А мне вот вовсе не весело было. Вцепилась, подлюга, в моего жениха да знать не желает, что не мила она ему. Не мытьем, так катаньем своего добивается. Вона, не постыдилась на весь мир опозорить…
— Ничего сказать не хотите? — прогудел Архип Полуэктович, и так недобро, что хоть и была я невиновная кругом, а присела да подумала, что нынешним часом у меня всяко-разных дел имеется, окромя того, чтоб туточки стоять да пустые разговоры слушать.
— Вы все заодно! — вскинулась Маленка. — Моя сестра теперь… как ей жить? Опозоренной. Брошенной.
— Хватит. — Ильюшка от стеночки отлип. — Это вы меня позорите… два дня и две глупые выходки. Я не понимаю, чем вы думали… как вы думали… вы же…
Он рукой махнул и к наставнику повернулся:
— Архип Полуэктович, возможно ли запереть их? В противном случае подозреваю, что все мы здесь увязнем в пустых разбирательствах. Я не представляю, зачем им это надо.
— Силы, дорогой. — Марьяна Ивановна обошла боярынек и, рученьки подняв, тряхнула. — Силы и эмоции… они у тебя до чужих эмоций жадные. Вот Арейка весь извелся, того и гляди полыхнет. Ему-то с этого обвинения радости немного. Егорушка злится… только сам понять не способный, на кого ж он зол. Еська беспокоен. Зослава в косы этой, прости Божиня, невестушке вцепиться готовая. Это живые эмоции. Сладкие. Так, девоньки?
Любляна мигом слезоньки вытерла.
Губоньки поджала в куриную гузку.
— В тереме у них развлечений было, что служанок из себя выводить. Да и народец тамошний к капризам привычный, с них много не возьмешь. То ли дело вы, поле непаханое…
— Заодно. — Маленка за сестрицыной спиной встала и рученьки на плечи той возложила. — Все вы заодно… готовы придумать что угодно.
— Запереть их можно, конечно… и хорошо бы так, чтобы не на один засов… а то мало ли, вдруг да сыщется благородный дурень, который несчастных дев спасти возжелает. На свою-то голову…
Егор вышел, и только дверь хлопнула, громко так.
Обиженно.
На заднем дворе цвела белокрыльница, по-научному — таволга. Хорошая трава. Пользительная. Кровь разжижает. Сердце укрепляет. Да и супротив кашлев всяческих и хворей грудных — найпервейшее дело. Водицею горячею таволгин цвет запарь и настояться позволь, а после ложечку меду добавь и, смешавши, теплым выпей. И самый сухой тяжкий кашель присмиреет.
Хорошая трава, только собирать ее муторно. Махонькие лепесточки, чуть тронь — и осыпаются.
И туточки сыплются больше, чем где прежде. Или пальцы мои сделались неловки? Сижу серед белокрыльницы, вся лепестками духмяными обсыпанная, чисто дура дурой… разве что носом не шмыгаю, и то потому, как причины немашечки.
— Злишься? — Арея я увидела издалече.
Вышел из хаты.
Обошел заросшею тропой, что вела к овину. И встал. Глядел… молчал… и я молчала, траву собираючи. По зиме, чай, пригодится.
— Злюсь, — со вздохом призналась я, со лба белые лепесточки смахивая.
— На меня?
— Не знаю. — Я мешочек с собранным добром — щепоти две от силы — на ладонь положила. — Злюсь и… просто вот…
Как словами описать, что меня изнутри распирало? Недоброе. Темное. Не мое. Будто гной, который не на теле, как оно бывает, когда занозу в палец засадишь, да не всю вытянешь, но на душе.
— Спасибо тебе. — Арей подошел и рядышком сел.
Ветерок пробежался, качнул высоченные метелки, перебрал листочки резные. Сыпанул на нас лепестками-скороспелками.
— За что?
— За то, что не поверила.
Я только плечами пожала: вот чудак-человек, с чего б мне было боярыньке этой верить, которую я с месяц тому увидела и радости с того не испытала. Хороша б была жена, которая любому навету на мужа поверить готова.
— Все равно спасибо. — Он аккуратно провел пальцами по метелке и, снявши белый пух, ссыпал его в мой мешок. — Иные и не сомневались.
— И я не сомневалась.
— Я не про те сомнения. Егор…
— Дурень. — Я головой покачала. А у Арея ладно выходить, вон, одну метелку за другою обскубывает, и так споро, будто всю жизню иного занятия не ведал.
— Скорее, идеалист…
Ну, дурня по-разному назвать можно, только ума у него от этого не прибавится.
— Во всей этой ситуации есть один большой плюс. — Арей сорвал ромашку. Обыкновенная растень, белые лепесточки, желтая середка… и полезная, да… пусть и невзрачная с виду, да только не слыхала я, чтоб боярские ружи чего лечили. А ромашковый чай и сердце успокоит, и душеньку, и сон младенчику возвернет, и от сухотки подсобит. Ежели кожу протирать, то станет она бела. Волос прополощи — забудешь об том, что сечется. Хорошая растень.
— Это ж какой?
Ромашку я приняла. И за ухо заложила… а он мне уже другую протягивает. И василька, и еще одного… Букет?
Нет, венок сплету.
Даром, что ль, малою баловалась, все думала, как гадать буду на суженого, пущу по реке да со свечами. И понесет его водица, закружит и прибьет к берегу, а там молодец распрекрасный, который все земли изъездил, исходил, меня одну шукаючи.
Узрит веночек и мигом возлюбит.
Найдет по воде, в седло подсадит и унесет в светозарные дали, в терем хрустальный. Заживем мы с ним…
— Подобное обвинение весьма серьезно. — Арей глядел, как я плету, траву с травою увязывая. Тут тебе и вейник с пышным хвостом, и Тимофеева травка, которую запаривают от шпоры пяточной, и тысячелистник, и вьюнок… — Тем более при свидетелях сделанное. Теперь я могу отказаться от такой невесты. Никто не осудит. Теоретически.
Это хорошо.
Только от про теорию мне непонятственно.
— А практически?
— Свидетели, Зослава… если дойдет дело до разбирательства, то… сама понимаешь… царевичи скажут то, что матушке их выгодно. Кирей…
Кирей до разбирательства и не дотягнет. Вона, разве что копытом не бьеть, как чудо-конь евонный, только тронь — и пустится в бег, полетит по-над полями, по-над лесами в сторону неведомую. И буде там счастлив.
Я так думаю.
— Илья вряд ли захочет марать сестрино имя. Остаются наши. Скорее всего помогут, но тихо, без огласки. Понимаешь?
Куда уж не понять.
Вздохнула да венок недовязанный на голову Арееву кинула. Маловат будет… плесть и плесть… а ведь хорош получается.
Арей охапку травы протянул и лег, голову на коленях у меня устроил привычно.
— Давай сбежим? — предложил. И не понять, всурьез или так, баловства ради.
— Куда, — говорю, — бежать нам?
— Твоя правда, что некуда…
А небо высокое.
Облака с кудельками. Солнце разлилось-разогрелось.
— А если бы было куда? — Арей снял недовязанный венок, который в евонных руках рассыпаться стал. Аккурат, что жизнь моя ныне.
— Если бы было, — я вздохнула и поднялась, — сбегла б…
ГЛАВА 11 Про болота и тварей, на них обретающихся
Над болотом туман подымался.
Белесый, драный, что старая, залеженная до дыр простыня, которую стирали и не отстирали, но так, грязною, волглою, кинули поверх мохового ковру.
Пахло тут…
А болотом и пахло.
Водой кислою. Землею сырою. Багною, что под ногами таилась. Ступи неосторожно — и сгинешь, будто бы и не было.
Архип Полуэктович ступал осторожно, крадучись. Ногу босую на мхи поставит. Прислушается. И после шагнет. Ну и мы за ним. Не по следам — следы болотные таковы, что, по ним идучи, скорей провалишься, но рядышком.
Идем.
Ноги волочем.
Солнце сверху припекаеть даже сквозь лопух, мною выдранный аккурат для этакого случаю. Я оный лопух на темечко положила да шпилькой рогатой к косе приколола. Может, оно и смешно, боярыньки только пофыркивали да пальцами тыкали, зато в маковку не напечет.
Они-то в селении остались.
Страдать.
Слезу там лить, жалиться Марьяне Ивановне на тяготы нонешнего бытия… только, мыслию, не больно-то она слушать станет. Прикрикнет, и пойдут боярыньки моркву чистить да репу мыть, а Емелька, на кашеварстве оставленный, помогать будет.
— Проклятье! — Кирей, шедший рядом, провалился по колени, хотя ж ступил и на плотный с виду мох. Он замер, прислушиваясь к болоту. Осторожно вытянул руки, вцепился в протянутый Еськой дрын.
Нет, этое болото мне было не по нраву.
Не из тех оно, которые, подбираясь к веске, раскидывают клюквяные ковры, зарастают по краям высокими кустами голубики, манят что зверье, что люд… нет, на этакое болото доброю волей не сунешься.
Архип Полуэктович остановился и руку поднял.
Прислушался вновь.
И я прислушалась.
Тишина. Только комарье звенит-вызванивает… вона, Егор по шее шлепнул ладонью, растер красную полосу. Это он зазря, так только приманит, и горше будет. Надобно было мушиной травы у Марьяны Ивановны испросить. Мыслю, отыскалась бы в сумке ейной. Пусть сия трава и вонюча зело, но и комаров, и мошку отпугнет.
— Ну что, господа студиозусы, — молвил Архип Полуэктович, посох в болото втыкая. И почудилось — качнулись моховые ковры. — Как вам?
— Мерзко. — Кирей присел на моховую кочку, белую, солнцем выжженную, да сапог стянул, перевернул, воду выливая. — Вода кругом.
Его ажно передернуло.
— Вода… а ты что скажешь, выпускничок? Или только горазд, что девок портить?
Это уже Арею было сказано. А он стоит.
Мрачен.
Губы поджаты.
Брови сцеплены. И глядит на болото, будто бы оно единственное во всех бедах виноватое.
— Вода, — промолвил и он, поморщившись. — Неуютно здесь…
— А от можно подумать, я тут мечтаю дом поставить да жить поселиться. — Архип Полуэктович из болота ногу-то вытянул, а оно, хлюпнувши смачно, отпустило. — И про воду прав, но учись… а то ишь, гений недоделанный…
И добавил словцо покрепче, очерчаючи, значится, где именно его не доделали. От этого словца у меня уши покраснели-то изрядно.
Арей же только хмыкнул и усмехнулся.
— Вода — хороший естественный барьер, который способен накапливать особый вид статической магической энергии, — произнес он голосом ровненьким. А я кивнула, дескать, от именно так и думала. — Свойство это проявляется лишь на больших массивах вроде озера и болота. И изрядно затрудняет работу со стихией, придавая ей высокую инерционность.
— От, учитесь, бестолочи. — Архип Полуэктович парасолю над лысиной раскрыл. — Шпарит как по писаному… может, еще и растолкует вам, чего сказал, пока у вас мозги узлом не завязались.
— А что, могут? — Еська поежился.
— У тебя — нет, — ответил Архип Полуэктович. — У тебя, братец-хитрован, на такие узлы мозгов не хватит, все в руки ушло. Еще раз к моим вещам протянешь, то и без них останешься.
— Так я случайно!
— Без мозгов иные люди всю жизнь живут и не печалятся, а вот без рук сложно будет. А ты не молчи… растолковывай людям. Зря, что ли, пришли?
Арей отер лицо рукавом. А лоб-то покраснел, и щеки, и стало быть, погорел он, как и прочие. Ох, буде вечером у Марьяны Ивановны работы, носы облупленные мазать и уши, ибо на немазаных шкура облазить станет.
— Если просто… магическое плетение вода стирает, размывает, и управиться с ней на болоте этом способен только сильный стихийник. С другой стороны, саму энергию, которая в плетения вложена, вода поглощает и хранит.
Архип Полуэктович кивнул и следующий вопрос задал, внове с заковыкой:
— Какую энергию?
— Да… какую получится.
— Я тебя, охальник, про конкретное болото спрашиваю, по которому мы, что гусь по курятнику, топчемся.
— Это как? — не утерпел Еська, шею поскребываючи, то ли напекло, то ли гнус местечковый одолел крепко.
— Это громко и без толку.
— Здесь… — Арей глаза закрыл. Руки распростал, пальцами шевелить. Если просто глядеть, то смех один. Стоит мужик и с видом пресурьезным воздух мацает. А коль так, как учили, силу свою пользуючи, то красиво выходило. Будто бы из пальцев Ареевых нити выходили, тонюсенькие, да на нити ж рассыпались, а там свивались меж собой узором бело-синим. — Здесь… некротика.
Арей поморщился, но нити не отпустил, хотя ж ушли они в самую глубину болота. И уж там с толщею воды сроднились. Я ж почуяла, как заходило болото.
— Аккуратней, выпускничок. — Архип Полуэктович парасолю сложил и за спину сунул. — Не подними тут… а вы что стали идолищами? Помогайте… Еська, ты рот прикрой, муха залетит. Наесться не наешься, а крику будет… и ты, книжник наш, бери левый край. Лойко, подмогни ему, силы у тебя хватает… да не напрямую. Егор, а ты чего?
— Я… — Егор на Арея поглядел. — Я не стану с… ним… силой делиться, — процедил сквозь зубы.
— Эх… — Архип Полуэктович смахнул с шеи слепня жирного. — Знал я, что все зло от баб, но не знал, что у тебя этим злом последние мозги отбило.
— Он относится к бедной девушке без должного уважения. — Егор набычился.
А следующею минутой полетел в болото.
Как полетел… пропахал широкую колеину, которая мигом темною болотной водой наполнилась до самых краев.
Архип же Полуэктович рученьки отряхнул. А ведь к Егору он и пальчиком не прикоснулся.
— Вставай, — молвил, — бестолочь. И рожу вытри, а то весь гонор размазало.
Егор не встал.
Взлетел.
Кулаки стиснул, того и гляди кинется воевать, да, видно, розум все ж в голове был, хоть маленечко. От боярин рученьки-то за спину спрятал. Взгляд не отвел. Глаза горят, что у коня шалого.
— Ну? — Архип Полуэктович тоже не отвернулся. — Понял за что?
— Нет.
— Значит, мало… — и на болото глянул, будто выбираючи, в какую ямину Егора макать сподручней будет. Тот же поежился и отступил.
— Не понимаю! — А голос тоненький, будто с переполоху.
— Чего не понимаешь?
— Он ее довел!
— Твоя девка сама кого хочешь доведет… и заведет. — Архип Полуэктович подошел. Шел он тяжко. Мхи под немалым его весом проседали, прыскали водой, хлюпали, ноги отпускаючи.
Диво, что Егор не побег.
— Ему повезло, — он плечи распрямил да в глаза глянул, — что ему отдали такую девушку… хорошего рода, царской крови… им пришлось тяжело в жизни, а теперь они вынуждены испытывать такие унижения.
— Какие? — спросил Архип Полуэктович. — Кто ж их, сердешных, тут обижает? Пальчиком покажи.
Я б, если б и знала, не показала б. Пальцы, они, чай, не лишними будут.
И Егор смутился.
Знать не знал? Аль тоже за пальцы беспокойствие взяло?
— Зослава вчера… они вынуждены были сами… царевны — и полы мыть? Мести? Тряпки грязные…
Архип Полуэктович головою покачал, а после взял и вцепился в Егорово ухо.
— Дурень, — сказал ласково. — Тебе поют, а ты уши и развесил… оторвать их, глядишь, с глухотой и ума прибудет… у нас туточки, ежель ты не заметил, холопов нет. Все вчера сами убирались. И ты, и братья твои, тоже, к слову, не простого происхождения. Оно, может, конечно, тебе Емелька сапоги чистит…
— Нет!
— Не чистит? Или вон Еська перины стелет? Тоже не стелет? Правильно, я б ему этакое важное дело в жизни не доверил бы… но я ж не о том… слуг у тебя тут немашечки. И у меня. И у Марьяны Ивановны, заметь, хотя уж она-то с собой могла подводу холопов притянуть, никто б словом не обмолвился. Так вот, с чего бы для твоей зазнобы исключение делать?
Егор молчал.
Сопел.
Хмурился. Но молчал.
— А Зослава…
— А что Зослава? Она не нянька твоим, а студиозус, как ты… и оно, конечно, можно было б попросить о помощи… попросить, Егорушка, а не потребовать, коль разницу знаешь. Да вот сомневаюсь, что ей помогать восхочется людям, которые едва ее в бане не уморили.
— Это… это шутка была.
— Не смешная. — Архип Полуэктович перехватил парасольку и ею, сложенною, Егора в бок ткнул. — А сегодня утречком она, стало быть, тоже шутила?
Егор отодвинулся и бок потер.
— Она сказала правду!
— Вот же ж… иную дурь только с головою и снимать. Сдается мне, что сегодня мы все выяснили, как и чего кто говорил… аль ты вправду подозреваешь, что я этакое дело, случись оно, замять бы позволил?
Еська хмыкнул.
И братца по плечу похлопал.
— Ты, — сказал он, — меньше перед ними хвостом крути, чай, не последние боярыни в столице.
Егор только руку смахнул братову и упрямо повторил:
— Все равно…
— Пшел отсюдова, — беззлобно произнес Архип Полуэктович.
— К-куда?
— А куда хочешь. Мне за спиной не надобен человек, который по глупости или наговору готов в эту спину товарища и ударить. Потому, раз тебе дороги девки эти, на выдумку дурную гораздые, иди-ка ты, братец, к ним…
— И вы… — Егор обвел взглядом всех, за меня зацепился. — И ты… что тебе… они ведь сироты!
— Все мы тут сироты, — задумчиво ответил Евстигней. — И все жизнью обижены. Только с этого никто на другого не кидается. И не говори, что они-де девки слабые…
Верно, Егор хотел сказать что-то этакое, да только рукой махнул.
Развернулся.
И зашагал прочь.
Архип Полуэктович, взглядом его проводивши, только покачал головою. А после повернулся к нам:
— Ну, чего стали? Работаем! Ты, Лойко, встань с краю… видишь? Вот и цепляйся, только не напрямую… на подкачку давай.
Про Егора только к вечеру и вспомнили, когда вытянули из багны с полдюжины мертвяков, и таких страшенных, что я мало не взвизгивала, когда появились они. Темные, скукоженные, а все одно целые, будто не сотню лет тому сгинувшие, а потопшие на днях…
Вспомнили и…
— Ничего… — Еська отер грязною рукой пот со лба. — Образумится… он же ж у нас идеалист.
Вот и я думаю, что дурень.
ГЛАВА 12 О справедливости несправедливой
Егор был зол.
Нет, не просто зол. Душила обида. И непонимание.
Сговорились?
Не иначе… иначе бы получалось, что они все, даже Еська, видели что-то, самим Егором упущенное. А он… он шел, и ковер болотных мхов ходил под ногами.
С каждым шагом раздражение крепло.
Что они все понимают?
На краю болота, поросшего низким полупрозрачным осинником, Егор остановился. Он выругался, пусть и особе благородной крови неприлично выражаться, но стало немного легче.
Ошибка.
Страшная ошибка… и пусть Любляна поступила некрасиво, но на этот шаг ее толкнуло отчаяние.
Конечно.
Присев на валун, Егор стянул сапоги. Мокрые ноги раздражали. Да и не только ноги. Все раздражало. Мошкара, которая вилась над поляной, не отказывая себе в удовольствии прилепиться к потной коже, а то и опалить укусом. Зуд. Обгоревшая шея. Вонь, исходящая от воды. Грязь…
Мама не одобрила бы.
Разве такой жизни она желала единственному сыну? Судьбы, которая…
— Страдаешь? — Ерема выбрался из бурелома. — Привет… братец.
Кривоватая усмешка. Левый глаз прищурен, правый — дергается. Рука прижата к груди, словно судорогой свело ее. И палец подергивается.
— Так бывает, когда упрямая душонка не желает признать поражение, — сказал Ерема, и изо рта поползла нить слюны, которую он неловко смахнул левой рукой. — В войнах всегда больше всего страдает поле сражения.
— Ты кто?
— Можешь называть меня Мором, — сказало существо, перебираясь через гнилой пень, по бокам которого проклюнулись молодые шляпки вешенок.
— Это ты приходил… тогда?
— Тогда — я. И теперь я, даже если не я… — Он рассмеялся хрипловатым клокочущим смехом, от которого у Егора по спине мурашки побежали. — А ты, царевич, еще ты?
— Зачем явился?
— Зачем… сложный вопрос. — Из носа Еремы выкатилась темная капля крови. — От неугомонный… да не собираюсь я ему вреда чинить. Хотя мог бы… мог… вот, к примеру, придушить бы мог, что кутенка…
И невидимая рука сдавила горло.
Егор попытался было вывернуться из захвата, но рука сжалась, выдавливая остатки воздуха. Перед глазами все потемнело, поплыло, Егор, кажется, закричал.
Засипел.
Выплеснул силу.
…Он очнулся, лежа на спине. Над головой высилось ярко-голубое небо с парой драных облаков.
— Живой? — небрежно поинтересовался Ерема, который никуда не делся. Сел на камень, ноги растопырил, ветку в руки взял, покачивал ею, мошкару отгоняя. — Живой… что тебе сделается? Ничего, пока я не решу.
Егор сел.
Руки дрожали.
Горло… он ощупал его. Целое вроде бы. Только саднит, как тогда, когда он ноги промочил и застудился. Седмицу ни есть толком не мог, ни пить. Язык будто разбух. И каждый вдох отдавался тянущей болью.
— Ты… — Голос был сиплым.
— Я. — Ерема веткой качнул. — Это чтоб ты понимал, что никчемная твоя жизнь мне без надобности, что я в любой момент могу ее забрать. И не только твою… взять хотя бы волкодлака вашего бестолкового… бегает сам по себе, куда забежит, зачем…
— Что тебе нужно?
— Вот это другой вопрос. — Ерема поднял взгляд, при том левый глаз его вовсе закрылся, а правый, напротив, выпучился, того и гляди из глазницы выскочит. — Чего мне нужно… видишь ли, лично мне все ваши игрища мало интересны. Я, исключительно сам по себе, желаю свободы. А уж как я буду ее использовать, это, дорогой царевич, не твоего ума дело. Ты вставай, вставай, на болоте лежать вредно. Этак и спину застудить недолго. А ты, дорогой мой, должен быть здоровым… относительно.
Егор поднялся.
Ноги держали.
Дрожали, но держали… он вцепился в тонкий хлыст осинки, которая покачнулась, а устояла.
— А вот чтобы я получил свободу, надо, чтоб ты кое-что сделал.
— Нет.
— Даже если убью? — поинтересовалась тварь.
— Даже если убьешь. — Егор провел ладонью по лицу, стирая трусоватую слабость. Умирать не хотелось. А хотелось вернуться… куда? Не важно, хоть бы и на болото, к братьям. Или в деревню. Там Марьяна Ивановна… с нею, конечно, у Егора отношения как-то и не заладились. Но он же не виноват, что природой для зельеварения не создан. Но сейчас, если выпадет случай вернуться, выжить, он себя пересилит.
Вникнет в хитрую науку.
— Гляди-ка, какой смелый, аплодирую. — И Ерема вяло хлопнул в ладоши. — Прямо на слезу пробивает от этакой отчаянной храбрости… ладно, не трясись, что хвост заячий. Убивать тебя я не стану… другие охотники найдутся. Спросить хочу.
— О чем?
Как ни стыдно было, но вот… известие о том, что убивать не станут, обрадовало. И радость эта показалась Егору… неправильной?
— Сорока на хвосте принесла, что живы мои подруженьки старые… и не только живы. Чую я их… передашь записочку?
— А если…
Не было удавки.
Но тело вдруг отказалось слушаться. Егор был… и его не было. Он вдруг оказался заперт внутри себя. Он смотрел, как корчится у ног Ерема, заходясь кровавым кашлем, и как поднимаются мхи, опутывают тело его. Как расползается болото, принимая новый дар.
— Нет так нет, — ответил Егор себе же и рассмеялся. — Мое дело было спросить. А ты, боярин, уж извини, послабже будешь. Все-таки волки — на редкость неудобный материал.
Он стоял, глядя на то, как болото затягивает Ерему, и кричал, звал на помощь, вот только услышан не был, ибо тот, кто поселился в его, Егора, теле, не собирался рисковать.
— Помощь? — Он все же снизошел до ответа. — Какая, помилуй, помощь? От кого? Вас тут посадили, что пескаря, на которого щуку ловят… может, поймают, а может, сожрет и сорвется. Как бы оно ни повернулось, Егорушка, а пескарю все одно не выжить.
И это было правдой.
Егор подобрал сапоги. Тихо матерясь — сущность знала много интересных слов, — натянул мокрые, пошевелил носками.
— Все-таки со временем начинаешь отвыкать от тела. Оно на редкость неудобно. Нет, все эти прелестные мелочи вроде обоняния и осязания… по первости их не хватает, конечно, а потом привыкаешь. И вот когда выпадает вернуться, приходится привыкать уже к тому, что нос твой способен ощущать вонь, а на ногах появятся мозоли.
Он говорил вполголоса, и каждое слово заставляло Егора вновь и вновь пытаться выскользнуть из тюрьмы. Но тот, кто его запер, знал свое дело.
— Не надо, боярин… подумай… я всего-то денек-другой попользуюсь, а потом отпущу.
— Как Ерему?
— Ерема твой сам дурак. Если уж берешь клятву, то продумай толком, в чем тебе клясться будут. Не упрямился бы, все б иначе вышло. Если хочешь знать, он сам себя довел… сердце трижды останавливалось. Я запускал. Но это утомляет. Мало того, что за всеми вокруг следить, так еще и за этим дуралеем… нет, вот и вправду, я бы его отпустил… я же не безумец какой… да и ценными заложниками так не раскидываются. Что мне с братцем его делать? Ладно… сердце я еще запустил… но вот мозг… мозг, если хочешь знать, тончайшая структура… а этот идиот себе его просто-напросто выжег. Мне вообще-то повезло… вовремя встретились… я бы, конечно, мог заставить функционировать его тело, но… это было неприятно. На редкость неприятно. Поэтому, Егорушка, сделай милость, не дури… и мы разойдемся миром.
Егор стих.
Дурить?
О нет, дурить он не будет, жить все-таки хочется, а значит… значит, надо думать. Ерема? Жаль, конечно, но…
— Он тебе никогда не нравился, верно? Не доверял ты им? Правильно, как верить нелюдям… никогда точно не знаешь, что у волкодлака на уме. То ли дело бояре. Люди серьезные. Предсказуемые, я бы сказал, но в ряде случаев это же плюс.
Егор засмеялся.
И смех этот был неприятен.
Ерема понимал, что умирает.
Он знал, что так будет, с самого начала, когда перестал быть собой. Он ясно запомнил ту развилку, до которой добрался. И то, как пришпорил коня, а в то же время поводья натянул, поднимая на дыбы.
И этот голос мягкий, раздавшийся внутри:
— Не дури, царевич…
Поганей всего было, что ему позволили все видеть.
Осознавать.
Он был там, на поляне, когда тот, кто занял тело Еремы, разговаривал с Лисом. Он был и позже, когда Лис ушел, а тварь, присев, зачерпнула горсть земли со следа.
И потом, позже, на запретной тропе, на которую вышел конник.
— Здравствуй, азарин, — сказал он, швыряя землю под копыта степному аргамаку, и тот, почуяв запах зверя, поднялся на дыбы. Да только всадник был не таков, чтобы с седла сверзтись. Удержался. И коня приспокоил. — Что ж, вижу, пришел ты по зову. И не один, мыслю, с друзьями?
— Куда мне без друзей, — осклабился азарин, и волчья натура Еремы рванула, останавливая человеческое глупое сердце. Да только не позволили умереть.
Незримая рука схватила за шиворот.
Тряхнула, успокаивая.
— Не спеши. — Тот, кто занял тело Еремы, стряхнул сторожевой полог. — Дай им пару дней.
— Не учи меня, ашшери-хаяр.
Азарин не привык, чтобы им командовали. И конь ступил на тропу.
А следом — и другой.
Третий.
Они шли цугом, неспешно, ступая след в след.
Ряженые.
Копыта тряпьем обмотали. Натянули лохмотья поверх брони, лица за личинами берестяными укрыли, да все одно тянуло от них азарским духом.
— Вот так, волчонок, — сказал тот, кто сидел в теле Еремы. — Не мы плохие, жизнь такая… не печалься, если верить жрецам, то ирий прекрасен. Скоро ты с братьями сам в том убедишься… или волкодлаков туда не пускают?
— Что за…
Ерема не желал разговаривать с ним, но заговорил, потому как должен был знать.
— Ничего… поверь, я бы не стал лезть в это дело, если бы мог. Твой братец пронесет манок, на который сбежится вся нечисть в округе. А ее тут изрядно развелось. Ни одна охранная сеть не выдержит… и бой будет жарким, да… а если не пронесет, то азары без манка пройдут. Они на многое способны… а если не они, то…
Сердце вновь остановилось.
И застучало, потому как тот, кто занял Еремино тело, не готов был умереть. Его ждала еще одна встреча.
Рассвет.
Болота.
И женщина, чье лицо сокрыто туманом. Ерема не мог отделаться от ощущения, что знает ее, и знает неплохо, но…
— Ты все сделал правильно, мальчик. — Она провела рукой по волосам. — Мне жаль…
— А уж мне как жаль, ведьма, — сказал тот, кто занял его тело. — Ты исполнишь обещание?
— Исполню, — ответила она, и Ерема, и тот, другой, поняли — лжет. — Но сначала дело… ты ведь не довел его до конца. Возьми.
Она протянула веночек, сплетенный из сухих трав.
— Отдай его… ты знаешь кому.
Имя!
Ерема должен узнать его имя.
— Узнаешь, — пообещали ему. — Придет время, и все узнаешь, волчонок… но ты видишь, какая она… тварь?
Видит.
— И понимаешь, почему тебе надо умереть?
Ерема закрыл глаза.
Да.
Понимает.
Дед рассказывал про зов, про тот, который кровный… про… Елисей услышит, надо лишь постараться, надо лишь решиться.
— Я помогу, — пообещал проклятый, и стало жарко. А потом холодно. И Ерема осознал: он умирает. А пока умирает, есть еще несколько мгновений.
Два удара сердца.
И один шанс, которым он воспользуется.
В горле клокотало.
И болотная вода была кисла на вкус. Она заливала ноздри, и Ерема захлебывался. Скрутило страхом. И еще болью. А потом она прошла, с нею — и ощущение собственного тела.
Почти.
И теперь надо позвать.
Так, как учил дед… последняя песня, которую стая услышит, несмотря на расстояние и время. Ерема закашлялся, выплевывая с водой и кровь.
И завыл.
Он пел, рассказывая о собственной ошибке.
И о том, что не жалеет.
Брат свободен. И он, Ерема, тоже. И что бы ни ждало за гранью, он не боится. Он вернется однажды, в волчьей ли шкуре, в человеческой ли, пусть будет, как Божиня решит, но главное, у него была своя дорога.
Пусть и короткая.
Он пел о людях, которые вошли, не потревожив охранной сети.
И о нелюдях.
И о битве, что грядет, и о сожалении — не ему вести за собой стаю… и о том, что любит…
Когда сознание почти померкло, Ерема услышал ответ. И потому умер почти счастливым.
Елисей знал, что так будет.
Это знание принадлежало звериной его половине, которая, против ожиданий, способна была испытывать боль. И близость луны, ради этакого случая спустившейся низко — рукой достанешь, — не успокаивала.
Елисей выронил нить заклятья, которое плели все.
И оно рассыпалось мелким бисером.
Он отступил.
И, поймав взгляд наставника, сказал:
— Ерема… все.
Архип Полуэктович покачал головой и ответил:
— Иди…
Куда?
Туда, к краю болота. Пусть человек слаб, но Зверь слышал зов и запомнил, откуда тот доносился. Елисей даже не успел испугаться, что сил его малых не хватит для оборота днем, как шкура человеческая сползла.
Больно?
Не та эта боль, которая стоит слез.
И плакать волки не умеют. Не слезами. Елисей втянул волглый воздух, отделяя запахи.
Женский… Зослава… своя…
Рядом двое, от которых костром тянет. На болотах костры разводить опасно, даром что вода кругом, а того и гляди полыхнет черная болотная земля. И пойдет пламя низом, выжигая целые пласты, сотворяя глубокие ямины, в которых кипит раскаленный воздух.
Змеиный.
Наставник.
Прочие, которые воспринимались своими, хотя были чужды.
Елисей отряхнулся и широким волчьим шагом потрусил по тропе. Ступал широко, и мхи держали, будто привыкли, а может, сочли Зверя меньшим из зол. Ему было все равно.
Он сорвался на бег, понимая, что уже опоздал.
Волки не умеют плакать. Зато, в отличие от людей, способны отыскать своего даже в болоте. Оно, упрямое, не желало отдавать Ерему, а когда, подчиняясь ведьмаковской силе, выплюнуло, то…
Он был таким спокойным.
Улыбался даже.
И глаза закрыты… и нельзя было отпускать… нельзя…
Елисей облизал лицо брата, избавляя от воды и редких мхов. А потом сел рядом и завыл. Голос его полетел по-над болотом, поднялся к серому небу, потревожив луну. И разлетелся о твердь.
Рассыпался.
Упал на мягкие мхи, чтобы потревожить и тех, кто во мхах обретается.
Плевать.
Горе выплескивалось песней. И в какой-то миг Елисей исчез в ней.
Зверь?
Человек?
Его просто не стало. И не было долго, но все же ни одна песня, даже погребальная, не могла длиться вечно. И на зов его откликнулась стая. Эта была чужая стая, не та, в которой Лис рос. Он не узнавал голоса, но… вот хриплый бас вожака. И мягкий — его волчицы, которая еще молода, но сильна и крепка. Вот разноголосица… и даже детский ломкий вой… и они придут.
Они слышат.
Они не оставят Елисея наедине с его бедой.
От этого стало немного легче. И Лис, улегшись на мхи, принялся ждать. Где-то смутно он осознавал, что надо бы уйти, но… люди его не тронут.
Те, которые были его стаей. А что до других, то пускай, быть может, тогда уйдет не только горе, но и ярость, клокотавшая в груди.
ГЛАВА 13 Поминальная
Черный хлеб.
Белое сало с тонкой мясной прожилкой. Зеленые стебли лука. Платок, разостланный прямо на полу. Фляга, которую передавали из рук в руки.
Тишина.
И я, которая этую флягу приняла.
Руки дрожали.
И слезы душили.
Неужто возможно такое, чтобы Еремы не стало? Вчерась он был, а сегодня вот…
— Давай, Зослава, пей. — Кирей протянул и флягу, и краюху хлеба на занюшку. — Пусть будет ваша Божиня к нему милосердна…
— Пусть будет, — отозвалась я, делая глоток.
Зажмурилась.
Вот же ж… первач… не самое пользительное для девки питие, только не вином же фризским душу поминать. И я занюхнула рукавом.
А может…
Архип Полуэктович разом помрачнел там, на болоте. И велел прекращать, мол, повытягивали покойников, и хватит. А после, уже когда добрались до сухого — повел он иной тропою, — раздался протяжный волчий вой. И такая тоска в нем была, что я сама едва не завыла. От голоса этого и небо потемнело, а Илья споткнулся и головой покачал.
— Недобре, — молвил он.
Архип же Полуэктович остановился и, обведя нас тяжелым взглядом — от сразу поняла, что беда случилась, — повторил:
— Недобре.
И после добавил со вздохом:
— Ерема… ушел…
А я, дурища, едва не ляпнула, мол, куда ушел? Добре, Арей руку стиснул, и тогда сообразила, что не на выселки он отправился. И слезы на глаза навернулись.
Разве мог он…
Вчерась сбег, это да, а сегодня, стало быть… не стало.
И никто не осмелился спросить, как же так вышло. И я роту не раскрыла, потому как пускай и говорит Люциана Береславовна, что, дескать, такту во мне что в корове стремления к прекрасному, а все одно разумею — не время для вопросов.
В деревню шли мы молча.
И ныне молчали.
Пили.
Думали. Каждый о своем.
Евстигней ножи свои достал, разложил на коленях и поглаживает, губы шевелятся, будто бы он им рассказывает чегой-то этакого, об чем другим ведать не стоит. Еська на руках монетку свою катает. Взглядом в стену вперился. А видеть — ничегошеньки не видит.
Кирей косу плетет. Заплетет и рушит, и наново начинает.
Арей, тот в углу устроился, разом с Ильею да Лойко. Этие не свои, но и не чужие, погнать их никто не гонит — не дело это, на поминках свару устраивать, — однако ж и к столу, сиречь платку поминальному, не идут они, признавая, что не семья.
Завтрева надо будет блинов напечь.
Как оно еще сложится, а порядок порядком быть должен…
Емельян ладонью по лицу шморгнул.
— Не реви, — одернул Егор, который туточки с самого началу сидел, голову на руки уронивши. — И без тебя тошно.
Встал и вышел.
Только дверь ляснула.
— Началось, — это произнес Евстигней, ножи убирая. — Не думал, что так быстро.
— Ага. — Еська длинное луковое перо подобрал и прикусил. — Сперва надобно было упреждение послать. По-благородному… на гербовой бумаге. Мол, так и так, разлюбезные, готовьтеся, убивать вас станем…
Он сплюнул и зажевал пером.
Поморщился.
— Мне другое вот интересно. Почему они так спокойны? Архип и эта… ведьма.
— А тебе надобно, чтоб по потолку бегали? — поинтересовался Евстигней.
— Нет, но… вам не показалось, что они чего-то такого ждали?
— Ждали, — согласился Евстигней. — Само собой, ждали. Ты ж не думаешь, что нас и вправду сюда привезли нечисть гонять? Пей уже… пока можешь. А ты, Емелька, не слушай. Хочется плакать — плачь. Вдруг да вправду легче станет… барыня ты моя… сударыня…
Он не касался ножей.
Иль я слепа стала, не увидела, как коснулся, да только взлетели оные да к самому потолку и в балку потемневшую впились, что осы злые.
А Евстя встал, покачиваясь, и тогда-то я поняла: пьян он.
— Привезли… на убой и привезли. А мы и поехали… дураки…
— Дураки, — согласился Еська.
— Наш долг служить… — Емелькин голос был тих, но слышали все. — Ей служить… и царству Росскому…
— Ей или царству? — поинтересовался Ильюшка.
Ему не ответили.
А поутру прибыли гости.
Я встала спозаранку. Да и то сказать, спалось дурно. Стоило глаза закрыть, как Ерема вставал, что живой. Хмур. Сосредоточен. Я-то там, во сне, ведала — мертвый он, а… рученьки тянул, обнять желая. Я ж отбивалась, сказывала, будто бы женихи у меня есть, прям на выбор, и выбрать все не могу. А Ерема усмехался и приговаривал, что этакого, как он, точно нетути.
Глаза открывала.
Садилась.
Смахивала испарину. И Еська, который у дверей спать устроился, прямо на полу устроился, на пол этот конскую попону кинувши, спохватывался.
Я головою качала: мол, ничего страшного, он кивал, и внове ложились.
В хате, царевичами облюбованной, было тесно.
Нет, сама-то хата обыкновенною была, крепкой и добротной. Кухонька махонькая, с печью да столом. Погреб, вход в который половичком прикрытый был.
Комнатушка.
Лавки широченные вдоль стен ставлены. Да только ж разве тех лавок достанет на всех? Пусть и не стало Еремы. Пусть и сгинул Елисей, по брату тоскуючи — всю ночь волки пели. А все одно многолюдно туточки. Вона, Кирей на полу крутится, что уж на сковородке. Евстя во сне ногами дрыгает. Емелька постанывает. Я со своими кошмарами маюсь.
И душно.
И жарко.
И еще комар над ухом гудит-заливается. От и встала я досветла. Поднялась. Еську перешагнула — он под утро вовсе умаялся, обнял подушку, подсунул ее под живот да и приснул так.
Дверь отворила.
Воздуху вдохнула студеного. Испарину со лба смахнула… этак я до конца практики и не доживу. Убивать не надо будет — сама уморюсь.
Огляделась.
Небо только-только заружовело. Предрассветным часом сон самый сладкий, а у меня — ни в одном глазу. И чего делать? А было б желание… сошла я со двора. Иные травы по росе собирать — милое дело, они в самое силе своей. Оно-то, разумела я, что нынешним часом одной ходить неможно, но… не будить же Еську? Я и со двора не выйду, туточки все заросло, вона, и подорожная трава есть, и тысячелистник, и ромашка зеленая, пахучая. И пупавку вижу с донником желтым…
Села я и стала рвать.
Приговаривая, как бабка учила, что, мол, не из баловства пустого, но за-ради дела полезного: так-то травы, глядишь, и обиды не затаят, сил не лишатся… рву и складываю на платке, том самом, поминальном, который ктой-то вчера во двор вынес да на лавку кинул.
Может, оно и неправильно, да… другого нема.
Сама не заметила, как песню завела, вполголоса, а все одно…
— Надо же, а голос у вас неплохой, — раздалось над головою. Я и села.
— Только репертуар оставляет желать лучшего. — Люциана Береславовна во двор вплыла лебедушкой. — Я, признаться, не любительница народного творчества… хотя, признаюсь, за душу берет.
— А… вы откудова?
— Откуда, Зослава. Иногда у меня создается впечатление, что учить вас — только время зря терять. Говорите правильно.
А рубаха шелковая, белехонькая, на вороте шитье красной нитью, на руках — тоже. И оденься она так в Барсуках, наши б спрашивать стали, кого хоронить барыня собралась, а тут ничего, мода, стало быть… летник алый из тяжелое парчи. Рукава длинные, широкими нарукавниками прихвачены, а на тех — алые камни переливаются.
— Травы собираете? Похвальное занятие… и все-таки, Зослава, почему вы отказались поступать на целительский? — Она полы подобрала и рядышком присела, огляделась и вытащила из травяных кудрей тонюсенький стебелек звездчатки. — Война — не ваше… оно вашей сути противно. А травы вам по душе. Вы их слышите…
И второй стебелек потянула.
На кой?
От уж вовсе трава бесполезная, сорная. В огород вобьется — никакой силой не выведешь. И ни сушить ее, ни парить, ни в венок вплесть, каждая девка знает, что травку эту с цветочками махонькими разлучницею зовут. Бывало, что иные норовили в венок соперницы вплесть тайком, особливо если венки парные. Глядишь, и разбегутся пути-дороженьки, освободится сердце от неправильное любови.
— Так… — Я плечами пожала, вспоминая свое поступление. — Оно ж… замуж я хотела. А серед целителей женихов нема…
— Резонно… и ректор наш подсказал, где они есть?
Я кивнула.
— А вы чего туточки…
— Я туточки, — передразнила Люциана Береславовна, — травы вот собираю… девочками есть кому заняться. Тем паче, что я к целительскому факультету отношение имею весьма опосредованное.
— Чего?
— Зослава! Опосредованное, то есть не приписана я к нему.
— А…
— Рот закрывайте, не то муха влетит… хотя… в ваш целый рой поместится.
— Злая вы, — вздохнула я и, незнамо с чего, пожалилась: — А у нас Ерема помер. Вчерась.
— Вчера, — поправила меня Люциана Береславовна. — Знаю. Архип сказал. И… мне очень жаль.
Тень набежала на белое лицо боярыни, что туча солнце закрыла.
— А теперь послушайте, Зослава, и внимательно. Это не ваша война. Женщинам на войне не место… я знаю, я была там. — И вдруг стало ясно, что не двадцать ей годочков и не тридцать, разом вдруг постарела Люциана Береславовна, и с того мне сделалось жутко. — Сейчас еще я могу вас вывести. Это нарушит чужие планы, но я устала… я слишком долго варилась в своей злости, поэтому и выварилась… одни кости остались. И если на этих костях что-то и вырастет…
Из стебельков звездчатки она принялась колечко крутить.
— Я выведу вас. Решайтесь. Никто не посмеет остановить. Я тоже кое на что способна… провожу к целительницам… там тихо… кому они нужны, гусыни глупые… Фрол задним числом перевод оформит, чтобы никто не придрался… пересидите…
— А вы…
— А я… женщинам на войне не место. Но приходится порой.
Она сплетала стебельки ловко, и колечко выходило хрупким, махоньким.
— Решайтесь, Зослава… есть мнение, что все мы здесь… расходный материал, если можно так выразиться.
— И вы?
— А я чем лучше других?
— Вы ж могли не приходить…
— Могла, — не стала спорить Люциана Береславовна и по колечку ладонью провела. Будто изморозью подернулись зеленые листочки, иней выступил на стебельках, а после и вошел в них, меняя самую суть. Была живая трава, а стало серебро. — Но… однажды я уже совершила ошибку. И не хочу повторять.
Вот и чего мне делать-то? Пущай силов у меня имеется, Божиня одарила, да только вот умения никакого, только и освоила, что огневики да щиты.
— Время, Зослава…
И вправду, уйду.
Не моя это война… а остальные? Кирей? Чего б ни задумал, исполнит.
Мой жених мертвый? Так он и вовсе радый будет, если случится ему сгинуть безвозвратно.
Арей?
Царевичи…
— Нет. — Я головой покачала. Неможно так с ними. Они вон Ерему потеряли, да и… как воевать, когда тот, с кем ты плечом к плечу стать готовый, вдруг исчезает поутряни. Небось и матушке моей боязно было на том поле проклятом, и батюшка, думаю, уговаривал ее возвернуться.
И дед.
Да не отступила она. И я не отступлю.
Люциана Береславовна лишь кивнула с видом таким, будто бы и не ждала от меня ответу иного. А может, и вправду не ждала. Колечко свое протянула.
— Наденьте, — велела. — И не снимайте. Здесь… старый узор… в старых узорах своя сила.
Я колечко этое и так, и этак крутила, а все одно узору никакого, окромя того, который Божиней сотворен в стеблях звездчатки, не узрела.
— А травы разложите. — Люциана Береславовна поднялась. — Глядишь, пригодятся, не сейчас, так…
— Что ты здесь делаешь?
Вот и правда моя, заявился Фрол Аксютович. И ноне не было в нем ничего от сказочного богатыря, каковым он народу предстал, равно как и от нашего декана.
Широкие порты.
Рубаха холщовая, перетянутая поясом из воловьей шкуры. На ем — хлыст скручен степной, таким, сказывали, умелый пастух волку хребет с одного удару перешибает. С другого боку — жезл костяной короткий с навершием из бурштыну. Запястья перехвачены полосами из толстое шкуры, а в полосах тех будто железные гвозди заклепаны. Или не железные? Вона, серебром поблескивают.
— Не рад меня видеть? — Люциана Береславовна косы за плечи перекинула.
А ведь просто плетены.
По-девичьи. И смешно было б, что баба этакого возрасту — в Барсуках иные уже внучек в девки выводют, — а косы, что девка плетет. Только не до смеху было.
— Ты не понимаешь, что…
— Не понимаю, — согласилась она и голову склонила.
А мне вот вспомнилась тетка Алевтина с ейною присказкой, что, мол, бабе надобно быть на иву подобное, гнуться пред силою мужской, да не ломаться.
Вот и она нагнулась.
Сама ж глядить с усмешечкой, мол, чего теперь-то скажешь?
— Ты… — Фрол Аксютович на меня глянул да, шагнувши к Люциане Береславовне, за рученьку вцепился. — Пойдем. Поговорим.
— Пойдем… когда я говорить не желала? Со всем удовольствием… поговорим…
А я осталась с колечком да посеред трав разложенных, на которых роса уже высохла на солнце, а значится, и силу свою они с большего поутратили.
— Люциана, что ты творишь!
От же, недалече отошел. Не хватило то ли выдержки, то ли розуму. Туточки болото, а на болоте каждый звук летит далече. У меня ж и слух хороший.
— Что я творю, Фрол? — А наставница спокойна, что озеро, бурею готовое разразиться.
— Это ты мне скажи… тебя не должно здесь быть!
— А я есть.
— Зачем?
— Боишься, что под ногами мешаться стану? Или думаешь, что я это? Ну же, скажи, Фролушка, что меня подозреваешь? Это ведь кто-то из наших… только выбор невелик, да? Я или Марьяна… Архипу эти игры ни к чему. Тебе…
Я поднялась да колечко погладила. В нем дело, а не в болотное водице. И если оставила его Люциана Береславовна, если доверила мне этую разговору, стало быть, так и надобно.
— И вот удивительно мне, отчего ж меня сразу не пригласили?
— Дура ты…
— Наверное… столько лет прошло… давно уже пора забыть, отпустить, а оно все ноет и ноет… правда?
Вздох тяжкий.
Будто бык о судьбе своей печалится. И от вздоху энтого прям слеза на глаз навернулась. На левый.
Правый, стало быть, к чужим страданиям не такой чуткий буде.
— Люциана!
— Не волнуйся, Фрол… не буду я тебе мешать. Закончим это дело и разойдемся. Меня в Бероярск кличут давно, в тамошнюю школу магическую для девочек. Афанасия Груздовна открыла при имении. Сироток собирает с магическим даром. Или не сироток, но тех, кто беден… иных холопок и выкупает… добрая она женщина. Тяжко ей со мною будет.
Это да, если добрая, то тяжко. Люциана Береславовна женщина хорошая, тепериче я это разумею, но вот норов у нее не сахарный.
— Значит, будешь с сиротами возиться?
— Буду… есть у меня одна мысль… если учить их с малых лет, а не как твою… красавицу…
И не евонная я. Или это она про Велимиру?
— Многого достичь можно… Акадэмия — это хорошо… буду тебе лучших отправлять, чтобы дальше постигали науку, пользу тем обществу приносили, — ровно так говорит, только у меня от ее голоса сердце перехватывает.
— Уходи.
— Гонишь?
— Да!
— Боюсь, это вне твоей компетенции.
— Люциана! Стой… давай поговорим по-человечески.
— Мы ведь и говорим.
— Как-то не так говорим.
— Ты злишься.
Жаль, не вижу этих двоих, да только мнится, что злость, ежели и была, перекипела давно. А ноне она страхом сменилась. И боялся Фрол Аксютович вовсе не за себя со студиозусами.
— Злишься, Фрол, — меж тем продолжила Люциана Береславовна, — и я понимаю. Я сама… столько лет потратила на глупое… я ведь тоже на тебя… злилась…
— На меня?
А от теперь он удивлен.
— Я ведь ждала, что ты найдешь, поможешь… прости, я не могу говорить о том, что было… тогда случилось… не по моей воле…
— А письмо?
Злость непросто изжить, так мне бабка сказывала. И ныне в голосе Фрола Аксютовича я услыхала остатки ее, лютой, темной, выпестованной пустыми ночами.
— Письмо… да, я его писала… и к тому человеку села сама… знала ли, где окажусь? Догадывалась. Не дура, чай… и кляла себя последними словами, только… мне казалось, я спасаю… всех вас спасаю… только все равно хотелось, чтобы и меня спасли. Но не думай, тут я за все расплачусь. И как бы оно ни повернулось… прости?
Я колечко повернула: не дело мне такие беседы слушать.
Арея я нашла у колодца.
Старый, с порушенным краем, он все ж сохранил воду сладкую и студеную, вот только ворот его заржавелый шел с натугою. С этаким воротом не всякий мужик сдюжит.
Арей тянул ведро.
Медленно поворачивал ручку, скрежетала цепь, на цепь накладываясь, звенели капли, срываясь с ведра, и оно, покачиваясь, ползло наверх. Арей подхватил его легко, одною рукой, потянул, ослабляя цепь.
— Хочешь? — Он перевернул ведро, и чистая, прозрачная вода полилась в другое, принесенное. — Тоже не спалось?
— Да.
— Ерема?
— И это… Люциана Береславовна приехала.
Арей кивнул:
— Видел. И Фрол с ней… то есть, не с ней, а… — Воду он пил из ведра, жадно, и не боялся рубаху замочить. Я глядела.
И думала.
То есть думала, что думаю, а в голове ж пусто было.
— Скоро начнется. — Арей ведро поставил. — Архип пошел… прогуляться… велел за ограду не выходить, но, может…
Он губы ладонью отер.
И руку протянул.
А я приняла. Как оно еще будет — поди пойми, да только дурное это дело — себя до сроку хоронить. Успеется… и пошли мы по улочке втроем. Я, Арей и ведро евонное, колодезною водой до краев наполненное. После-то он спохватился и ведро поставил.
— Когда вернемся, я в столице не останусь. — Он заговорил, только когда мы от нашее с царевичами хаты отошли изрядно. Тиха была деревня. Мертва. Стояли дома, не рушились едино чудом, а вот заборы, те развалились почти. И видны были в прорехах их дворы.
— Все равно жизни не дадут… поеду… к вам в Барсуки. Примешь?
— Приму.
Давно уже приняла.
— Я тут думал… поместье, которое твоей боярыне принадлежало… у нее ж никого из родни не осталось, а значит, продавать будут. Дорого не попросят. А у меня теперь деньги есть. Вроде бы…
Вот именно, что вроде бы и есть, а коль разобраться, то и нету, потому как осерчает царица-матушка за своеволие, и тогда добре бы шкуру целою сохранить, не то что деньги.
— Если получится прикупить…
— Там хозяйство хорошее, — согласилась я. И добавила: — Было прежде.
От верно, что было… и маслобойни стояли, и птичий двор, и скотный, и шерсть чесали да валяли, пряли и ткали, вязали платки пуховые, легкие да мягкие. Люду было изрядно… и тепериче что стало? Вестимо, не бросили, прислали кого в пригляд, но это ж каждый знает, что чужой глаз так приглядит, что после и соринки лишнее не останется.
А ведь славно было бы.
Барсуки недалече. Стали б к бабке наезжать… аль ее к себе прибрали. Домина-то у боярыни нашей преизрядная… зажили бы…
В этом месте ему было не по себе.
Возвращались сны.
Радужные. Яркие. И не о том, как он умер, — к этому он привык давно и уже не пугался, но вот те…
Труба хитрая с цветными стеклышками внутри. Глядишь сквозь нее на солнце, поворачиваешь, и внутри узоры предивные складываются. Ему жуть до чего любопытно было, как же она, труба эта, устроена. Вот и расколупал.
Внутри не было узоров.
Только горсточка стеклышек цветных. Он их в трубу засыпал, да только без толку.
— Что ты наделал? — Матушка хмурится. Она недовольна, как в тот раз, когда он в норманнского посланника тыквенною семечкой плюнул. А он не нарочно.
Он в муху целил.
— Простите, матушка. — Он присел, как учили, хотя ж не нравилось ему ноги кренделем завязывать. И одежды эти: от чулок шерстяных ноги чешутся. А узкие штаны из блискучей ткани тесны, не присядешь толком. Все кажется — лопнут.
И ладно, еще парик надеть не заставили.
Тут он всяко уперся.
— Ты ведешь себя неправильно, дорогой. — Голос матушки потеплел. Пальцы ее коснулись щеки, от них пахло травами и еще зельями. — Любопытство — это хорошо, но ты должен понимать, что не всегда стоит поддаваться ему. Ты должен учиться сдерживать себя.
Да, он помнил.
Про сдерживать.
И про то, что надобно вести себя так, чтобы матушке за него не было стыдно. И не только матушке. Он ведь царем станет. Потом, когда батюшка умрет. А матушка говорит, будто ему уже недолго осталось… жаль. Батюшка хороший.
Он, правда, редко появляется, зато всегда с дарами. Вон, и коня принес резного на палочке, расписного, яркого. Саблю деревянную. Щит, почти как настоящий… матушке не понравилось.
— Тебе не о том думать надобно. — Подарки отобрать она не посмела. Она вовсе батюшку побаивалась, хотя и держалась с ним важно, как и с прочими. — Ты не просто ребенок. Ты будущий царь. Тебе некогда заниматься глупостями.
А это не глупости.
И пусть лошадка для совсем малышей, а он уже большой, но ведь сабля хороша была… и щит… жаль, что сломался. И как только наглый холоп посмел в сундук залезть? И ладно бы просто вытащил игрушки, но нет, поломал…
— Выпори его! — Он не плакал, хотя игрушек жаль было. Но цари не плачут по поломанным саблям.
— Выпорю, — обещала матушка.
Сны кружат. Мешают одно с другим, вытягивая дни разбереженной проклятой жизни. И вот всплывает подслушанный некогда разговор.
Он спал.
Он уснул и проснулся, разбуженный голосами. Матушкин звенел, что струна натянутая.
— Ты обещал мне…
— Охолони. — Отцов был строг. И этот голос вытянул его из постели. Он… собирался кинуться навстречу отцу? Обнять его? Рассказать, что за прошлую седмицу научился многому? Буквы норманнские вот… и еще считать до десяти. По норманнски. По-росски он и без того умеет, даже до ста и обратно. Еще стихи выучил.
Глупые какие-то.
Непонятные.
Но матушка одобрила. Сказала, что царю надобно развивать чувство прекрасного.
— Я спокойна. — Матушка и вправду говорила тихо, но от ее тона стало не по себе. И он замер. Матушка не одобрит, что он поднялся… да и представать перед батюшкой в этаком виде… Рубаха белая, широкая и длинная, в которой он сам себе девчонкой казался. А еще чепчик этот, который матушка надевать велела и самолично завязывала, чтоб ему, значится, в уши не надуло.
— Но скажи, не ты ли обещал мне, что однажды я стану твоей женой не только втайне?
— Так ведь… у тебя муж есть.
— Прежде ты о том не думал. Или думал? Что ты мне сказал? Отойдет… а не захочет, то и…
— И не жалко тебе мужика?
Про мужика он не очень понял. Стоять на полу было холодно. И страшновато. Сквозь окна цветные луна пробиралась.
— То есть теперь я его жалеть должна? А он меня пожалеет, когда вернется? Или тебе все равно уже? Ты клялся перед Божиней, что любишь… я верила… я никому так не верила, как тебе… а теперь…
— Все решено.
— Стой! Кем решено? Ими? Это они заставляют…
— Никто меня не заставляет. Я люблю ее.
— Вот, значит, как? — Голос матушкин заледенел. — Ее любишь? А меня?
— Прости.
— Не прощу! — И таким гневом полыхнуло, что луна и та попятилась. — Не прощу! Ты поклялся, что мы будем вместе… и ради этого я терпела… насмешки терпела. Плевки. Позор, которым покрыла и себя, и весь свой род… ты сказал, что мы должны таиться, и я таилась… я принимала смиренно все, что ты давал… и этого недоумка, по недоразумению считающегося моим мужем. Как же… позор прикрыть. Но разве наш сын — это позор?
Он замер.
Застыл, больше не ощущая ни холода, ни страха.
Он позор? Для кого? И…
— Он — благословение Божини. И ты говорил, что прячешь его… защищаешь… что надо дождаться, когда наш мальчик повзрослеет, и тогда ты расскажешь правду. Объявишь его наследником… Ты поклялся в том, что объявишь!
— Тише!
— Тише? О нет… себя бы я простила… смирилась бы, но наш сын… кем он теперь будет?
— Поверь, я позабочусь, чтобы он ни в чем не нуждался.
— Титул бросишь? У него уже есть мой. Деньги? Мой род не беден.
— Тогда чего ты хочешь?
Он отступил.
К кровати. В ней безопасно. Под тяжелым пуховым одеялом, которое еще недавно казалось душным. А теперь он всей сутью своей желал спрятаться под этой тяжестью, закрыться пуховым щитом от взрослого гнева, который клокотал в отцовском голосе.
— Я хочу, чтобы ты сдержал данное слово.
— Это невозможно. Незаконнорожденный…
— Незаконно? — Теперь матушка говорила тихо. — Мы оба знаем, что все законно… что мы с тобой сочетались браком. Или ты забыл?
Тишина.
— Он ведь мертв, тот жрец, который принял наши клятвы, верно? И книга… что с ней стало? Сгорела? Утонула? Ты уже тогда не собирался держать слово… придумал мне замужество… о да, ты обещал… что обещал?
Тишина звонкая.
Хрустальная.
— Ты все продумал, кроме одного… она слышала наши клятвы. И перед лицом Божини ты мой муж. А наш сын рожден в законном браке. И даже если появятся другие, он — наследник… он… и не думай, что я стану молчать!
— Станешь.
Что-то зазвенело.
И упало.
— Если хочешь жить…
Мама плачет.
Никогда-то он не видел ее плачущей. Напротив, она и чужие-то слезы с трудом выносила.
— Это ты? — Она повернулась к нему. — Разбудили?
Он кивнул.
— Ничего. — Матушка отерла слезы. — Иди сюда, родной, дай обниму.
И обняла. Крепко-крепко.
Прижала к себе.
От нее пахло свечным воском и еще медом немного, травами всякими…
— Он на самом деле хороший… очень хороший… твой отец. — Она гладила волосы и целовала мокрыми от слез губами. — И любит меня… если бы не любил… пошел против всех… тайно, да… кто бы позволил взять магичку в жены? Ладно, пусть и целительницу всего-навсего, но магичку… у меня дар сильный… и у тебя есть… а он любил… и не слушай никого, ты законный сын… единственный законный… эта тварь виновата… появилась из ниоткуда… одурманила… мужчину легко одурманить… вот он и забыл, что любит нас… если ее не станет… все будет как прежде.
Сны причудливы.
Вьются дорогой-дороженькой, память бередят. От того не больно, нет. Боли он давно не испытывает, но странно лишь, как мог забыть он это свое прошлое.
И снова сон.
Сад при тереме.
Холод.
Осень на пороге. Рано пришла в этом году, так все говорят. Дожди зарядили, и его седмицу целую из покоев не выпускали. А в покоях скучно. Там книги одни, и те не сказки, а премудрые всякие трактаты о землях и их устроении. От этаких книг в сон тянет. Или не от них? Вон мамки и приснули. А он выбрался тихонечко, выскользнул в коридор, а оттуда в сад.
Дождь почти перестал.
Накрапывает помаленьку. Сладкий. Особенно если с листьев собирать. А листья пожелтели. Иные сделались алыми и яркими. И он решил собрать большой букет. Матушка обрадуется.
А потом ее увидел, женщину с огромной собакой. Она сидела на лавочке, где обычно устраивалась матушка, когда выходила в сад. Правда, при женщине не было ни мамок с няньками, ни служанок, ни охраны.
— Доброго вам дня, — сказал он, решивши быть вежливым.
Царю надо подавать пример во всем. И в том, что обхождения касается. Так саксонский наставник утверждал.
— И тебе доброго. — Женщина была красива.
До того красива, что у него дыхание перехватило. А вот собака — та уродливою казалась.
— Рад видеть вас в этом чудесном месте… — Он замер, не зная, что еще сказать, а потом протянул букет из листьев: — Примите в знак моей признательности…
Она рассмеялась.
Звонко так.
Хорошо.
А матушка утверждала, что смеяться громко — признак дурного тона.
— Ты и вправду интересный мальчик, как о том говорят, — задумчиво произнесла она. — Подойди поближе, пожалуйста… значит, ты и есть…
А имя и во сне ускользнуло.
— Знаешь ли ты, кто я? — спросила она, перебирая осенний букет.
— Нет.
— Я — твоя царица… скоро стану.
— Не станешь. — Он вдруг вспомнил все, что слышал от матушки, и не только от нее. И каким-то своим детским, но все же безошибочным чутьем понял, что именно эта женщина и есть причина материных слез. — Мама будет царицей. А я царем.
— Неужели?
Он тогда не умел распознавать оттенки. И удивление женщины принял за чистую монету.
— Да. — Он вскинул голову и осмелился заглянуть в темные ее глаза. — Я буду царем!
— И что ты сделаешь?
— Прикажу тебя выслать.
— За что?
— За то, что ты заставляешь маму плакать…
Ее пальцы, такие невообразимо тонкие, скользнули по его волосам, и от прикосновения этого повеяло холодом.
— Это не я, мальчик мой… это не я… я бы не хотела, чтобы кто-то, пусть и твоя мама, из-за меня плакала.
— Тогда уезжай!
— Я бы уехала, если бы было мне куда ехать.
— А тебе некуда?
Она покачала головой:
— Некуда. — Слово-эхо исчезло в дожде. — Но не печалься. Все мы… заложники своей судьбы. От нее не уйдешь, а если и захочешь изменить, то… к лучшему оно редко выходит.
Она замолчала и молчала долго, так ему показалось. Дождь усилился. Капли его скользили по широким листьям и по темным волосам женщины, по меховой накидке, которая не промокала — зачарованная? По сукну его кафтана. И драгоценные камни меркли в осенней серости.
— Послушай меня, мальчик. — Она заговорила, когда где-то далеко раздался гром. Волглый. Осенний. — Передай своей матушке то, что я сейчас скажу. Пусть уезжает. Сама. Пусть возвращается к мужу, о котором она, наверное, забыла. Пусть попробует научиться жить. Это сложно, но возможно.
Он слушал.
Он знал, что скажет это все матушке и что та разозлится. А букета, чтобы смирить ее гнев, у него больше не было.
— Она ведь не на улицу уходит. Супруг ее славен. Сама небедна. И роду хорошего… пусть забудет обо всем, что здесь случилось. И ты… ты тоже, милый мальчик, должен забыть.
— О чем?
— Тебе не стать царем. Ни завтра. Ни послезавтра… никогда… у тебя будет другая судьба… и постарайся просто быть счастливым. Это не так и сложно на самом-то деле.
Память.
И матушкин гнев.
Блюдо белое, в стену кинутое, разлетается тяжелыми осколками. Матушка же говорит слово, которое он однажды слышал, но за повторение порот был розгами. Еще сказали, что невместно царю будущему этакое говорить.
— Тварь. — Лицо матушкино побелело. — Значит, не быть тебе царем? Так и сказала?
Он кивнул.
И подумал, что если они уедут, все будет не так уж плохо. На самом деле ему не очень-то хотелось царем становиться. Скучно это. То сидишь в тяжелом платье, ни вдохнуть, ни шелохнуться, только глаза пучишь, лицо тренируя. То книги скучные читаешь. То слушаешь матушкины наставления… нет, уж лучше он просто боярским сыном будет.
Им играть можно.
— Нет. — Матушка стала страшна. — Нет…
Она вцепилась в лицо, в щеки, в подбородок. Дернула, заставляя голову задрать. И в глаза заглянула.
— Я клянусь… жизнью своей клянусь… и смертью, что ты станешь царем.
Он заплакал.
Со страху.
— Не реви… царям плакать неможно.
И отвернулась.
Память.
Память услужлива. Причудлива. И, просыпаясь, он ощущает на губах своих вкус слез. И удивляется, что горьки они. А казалось — соленые. Память даже позволяет ненадолго ожить по-настоящему. И он пробует воду, смакуя каждый глоток.
— Эй! — Еськин голос разбивает наваждение, и вода становится лишь водой, а день — днем. Солнце. Небо. Пыльная дорога.
Мертвые дома.
А ведь они не просто так умерли… и где-то рядом — он осознал это внезапно — находится тот самый заклятый круг, в котором он однажды ожил. И если так, если отыскать его самому, если…
— Замечтался? — Еська запрыгнул на край колодца. — Осторожней. Тут легко… замечтаться.
И в руке его нож блеснул.
Догадался?
А ведь если толкнуть… легонько в грудь, чтобы рухнул Еська в черный зев колодца, а заодно уж коснуться, высвобождая свою дареную силу, которая легко отнимет бессмысленную Еськину жизнь… вокруг никого.
Тело достанут.
Решат, что захлебнулся. Или шею свернул. Или… сердце вот не выдержало. Мало ли.
— Знаешь, друже, — Еська сполз с края, — вот теперь мне кажется, что мысли у тебя недобрые. Если помешал — извини.
Убить легко.
Но надо ли?
ГЛАВА 14 О пользе порядка
Я знала, куда идти.
Старик показал в том, старом сне. И я знала, что сон этот — не пустой. Сны редко пустыми бывают, просто не всяк способен их прочесть. Примет-то великое множество. Скажем, кусит тебя кошка во сне — знать, подруженька сердечная готовится пакость сделать. Мышь вобьется в волосья — быть хлопотам пустым, суетливым. Рожь или пшеницу видеть — к богатству, а вот солому — к пустым надеждам… да, бабка моя сны толковать умелая была, к ней со всех Барсуков бегали.
Как она там? Отошла ль? Аль еще ходит вся разобиженная?
Но не о том речь.
О снах.
Одни хитрые, другие — прямые, да только прямотой своею и страшны. И потому взяла я Арея за руку да потянула к хате, которая стояла наособицу, почитай, у самого у тына. Он же ж в этом месте был особенно высок. Но побурели бревна, а поверх них зеленою пышною шубой расползся хмель.
Хорошая трава.
И для пива, и от бессонницы спасает, и от многих иных болезней сгодится. Ныне хмель еще в цвет не вошел, а после, как повиснут на плетях шишки его шубуршастые, то и срок придет собирать.
Хмель сползал с тына, перекидывался на гниловатые доски забора. И, перебравшись через него, свешивался до самое земли. Трава во дворе поднялась, но не сказать чтоб вовсе забуяла. Дом…
…безлюден.
Темен.
Стены. Окна слепые. Ставня провисла, и ветер ее покачивает, скрип вымучивая. Крылечко провалилось.
— И что мы здесь ищем? — Арей мою руку выпустил и, пальцами пошевеливши, бросил плетение под ноги. Будто сеть, которая несведущему человеку просто мятою глядится, тогда как на деле не мята она, но уложена хитрой манерою. И бросишь такую в воду — сама разойдется, распластается, русло реки перегораживая. И Ареева так раскрылась, разрослась по двору, пробралась по мягким космам травяным, ни одное травиночки не потревоживши.
И не шелохнулся белоголовый шар одуванчика, который нити задели.
Осталась на месте синяя стрекоза, присевшая на лист смородиновый отдыхать.
— Погоди. — Арей слушал нить.
И чего слышал?
Шубуршание мышей в подполе?
Шелест ветра, оглаживавшего дырявую крышу?
— Здесь… неспокойно, — наконец произнес Арей. — Ты уверена, что нам туда надо?
Уверена? Ох, чтоб в чем я уверенная была… но старик… и сон… и может статься, конечно, что и сон обмануть способный, да только проверить я должна. Вдруг да и вправду там книга есть?
А в книге — страница заветная, которая сподмогнет?
Глядишь, и чудо совершится.
— Хорошо, — расспрашивать Арей не стал. — Иди за мной. И щит приготовь на всякий случай, ладно? Как только неладное почуешь — закрывайся. Может… позвать кого?
Я головою покачала.
Нет.
Кого?
Архипа Полуэктовича? Фрола Аксютовича? Он-то ныне занятой, не стану им мешать. А наставник… наставник, может, и поверит. И проверить сунется. Только дастся ли ему заклятая книга? Старик велел самой идти.
— Ладно. — Арею сие не по нраву было, но перечить не стал. Решил, что не уговорюсь? Может, и так оно… не хочу уговариваться.
Шли мы неспешне.
Он шаг через два останавливался. Замирал. Слухал свою сеть. И шел дальше. От на крылечко ступил. Только доски под ногою захрустели. От дверь потянул, да она, разбухшая за многие годы, крепко в коське села, дергать пришлось, так едва с мясом не выдралась.
Изнутри пахнуло тленом.
И гнилью.
Я лицо рукавом прикрыла. И щит в руке стиснула. Готовый уже. Чуть что — кину на пол, там и…
— Не спеши. — Арей в хату войти не торопился. Стоял на пороге. Щурился, вглядываясь в темное смердючее нутро дома. — Нечисто здесь…
Нечисто.
И грязно, я б сказала. Я и в своей-то хате пока прибралась — умаялась чисто. Это ж сколько лет неметена она была? А туточки и вовсе. Пыль ковром лежит, серым да пушистым. Ступи на такой — и утонешь. И главное, что ковер сей мягоньким глядится… да и не страшен он.
С чего пыли бояться?
Она сама ко мне лезет, ластится, вылепляя…
— Кидай! — рявкнул Арей.
И щит сам собой от этого крику — надо же, вот и голосище у него! — с руки соскользнул, накрыл нас куполом. Стою. Гляжу. Глазами хлопаю.
С чего это Арей переполошился?
Пылюка?
Ну… пылюка… странно, конечно, что она мне вдруг да по нраву пришлась… когда это я пылюку любила-то?
— Смотри хорошо, Зослава. — Арей ладони о штаны вытер, рученьки встряхнул. — Я про это только в книге читал.
Об чем он?
Неубранных хат не видывал?
Или… вот дурища, конечно, пыль пыли рознь. И нынешняя — клочковата, седовата, страшна — вовсе не пыль… вот клочья один к другому притянулись, срослись, слепились в фигуру страшенную. И встал передо мной будто бы человек, только из человечьего у него две руки да две ноги. Голова-тыква на плечах покатых лежит. Живот до самых колен обвис бурдюком пустым. Из-под живота срам выглядывает, и такой, что иной жеребец обзавидуется.
Стоит и хихикает.
Голова, из пыли лепленная, страшенна.
Лоб огромен.
Нос провален, будто в пыли пальцем дырки две проткнули. Глазьев вовсе нет. А губы лупатые, вывернутые.
— И кто это в гостейки пожаловал? — спросило диво дивное человеческим голосом. — Давненько уж никто не захаживал… позабыли дедушку, позабросили.
И к нам шагнул.
А идет — с ноги на ногу переваливается.
— Нехорошо… а с чем вы, гостейки, пришли? — Голосок у него звонкий, дитячий, только меня от того дрожь пробирает. — С добром али с худом?
— С добром, — отвечаю, — дедушка. Конечно, с добром.
— От и хорошо. — Губы евонные в усмешечке растянулись. — А то порой от заглянут в дом гости дорогие, покрутятся, и разумеешь, что никакие это не гости, а как есть воры да разбойники.
И пальцем нам погрозил.
— Стращать удумал дедушку? — Это он уже к Арею голову безглазую повернул. — От неслух!
И рученькой крутанул, будто воздух замешивая. От того Арей покачнулся, но устоял.
— Скажи своему ка-ба-леру, — слово сие дед произнес по складам, — чтоб не юродствовал, не забижал старичка… а то ж старичок обидеться способный… и тогда худо будет, худо…
На голос евонный завыло что-то в разваленной печи.
Заухало, будто выводок сов там сховали.
Арей же головой тряхнул, а из уха у него кровяная жилочка выползла.
— Да и проходьте, — дед рукой махнул, и в пыли дороженька пролегла, — что ж вы, гостейки, в пороге стали, будто не родные? Садитеся… чаи распивать станем, говорить за жизнь… вы-то небось издалече приехали, повидали всякого…
Голос его переменился. Теперь он бежал, что водица по каменьям, журчал ручейком, и от этого журчания в ушах моих звон вызванивался. Я и сама не поняла, как шаг сделала…
Сделала бы.
Арей удержал.
— Стой. Он тебя заговорить пытается. — Кровь он вытер. — Не стоит, Страшенник…
Страшенник?
Имя-то какое… а и вправду, ему подходит. Страшен старик.
И… похож на хозяина своего прежнего… вот же, и вправду я читала, что когда хаты кидают, Хозяина в новое место не прибираючи, то с годами копится в нем обида, а обида уже пользительную нечисть в жуть жуткую переиначивает.
В Страшенника.
Силен он силой прежней, Хозяина места. Только пользует ее не во благо.
— Умный, да? — Страшенник в ладоши захлопал. — А ну-ка, молодшенькие мои, выходите… поглядите, кто к нам пожаловал! Люди-людишечки… магики сладкие, славные…
Ох, что началось!
Полезли из всех щелей твари, да такие… одни на мышей похожие, только толстых да с головами человечьими, другие — вовсе люди, но один кривой, другой хромой, за третьим лысый хвост волокется… от страху я не завизжала не иначе как чудом.
На ладонях Ареевых шары огненные вспыхнули.
И, не глядючи, кинул он их в пылюку.
Зашипело пламя.
Пригнулось, задыхаясь. Смрадно стало — не продыхнуть. А нежити мелкой только больше становится. Вот по потолку ползут тараканы огроменные, сцепляются один с другим, превращаясь в змеюку…
Не кричать надобно, а воевать, раз уж пришла…
И огонь мой старик поймал на ладонь, а другою прихлопнул.
— Что, девонька, не выходит?
И язык вывалил длиннющий, кривой.
— Ничего, скоро я до тебя доберуся… вот тогда и поговорим, за какой надобностею… — И себя за срам висючий цапнул.
От тут-то страх у меня и отступил. И злость взяла — силов нет рассказать какая! Будут всякие дедки тут девке честное грозиться непотребством!
— Зослава, нам с ними…
Грукают сковородки.
Пляшут ложки заржавелые, грозя в нас полететь. Пусть летят, щит и стрелы останавливал, глядишь, и с ложками сдюжит. А я… как там Люциана Береславовна сказывала? Думать надобно! Огонь его не берет? А что я, окромя огня да щита, умею?
Правильно… те заклятия, которые наставница показывала по просьбе моей.
— Грязно тут у вас, дедушка, — молвила я и кинула в пылюку заклятие махонькое, безвредное по сути своей, зато пользительное — жуть.
Плюхнулось оно в пыльный ковер.
Развернулось…
Ох и заверещал Страшенник!
— Очень грязно… — А я и второе добавила, поелику пыли было столько, что ни одно заклятие с нею не справится, чтоб так, с ходу. — В такой пыли жить здоровью вредно… и посуда немытая…
Кинула еще одно в ложки, только полыхнуло, и разом засияли они, будто новенькие. Копоть со сковородок да котелков облезла змеиною шкурой…
И задрожала нежить.
Отползла.
А то, когда баба убираться желает, то и не всяк мужик ей под руку сунется, что уж про нежить говорить. Ох и разошлась я… спасибо Люциане Береславовне за науку. Хотя ж прежде она мне не больно-то давалась, теперь вот, видать, от злости, с полувзгляду все выходило.
Пальчиками щелкнешь — и ложки строем станут.
Мизинчиком поведешь — сами на полку скакнут, лягут от большее до меньшее… рученькой махнешь — и оконцы посветлеют, паутина скатается шарами, которые ко двери пойдут.
Страшенник только крутится.
Воет.
Да на меня своих молодших уродцев гонить. Да только я что? Хлопнула в ладоши, и выползла из-за печи, прутья роняючи, старая метла. Крутанулась, сор подгребая, и пошла плясать, что твоя барыня.
— Ну, Зослава… — Арей только головой покачал.
А что? Бабе хозяйственною быть от рождения покладено. И верно сказывала бабка, что всякие беды — они от грязи.
Страшенник заскуголил.[10]
И воинство его преуродливое рассыпалось, только брызнули, от метлы спасаясь, тараканы да разбежались мыши, уже обыкновенные, с головами мышиными, только худющие. Оно и правда, откудова им жиру нагулять, коль погреба пусты?
Страшенник на меня двинулся, руки кривые выставивши:
— Не попущу… беспорядку!
И воет так, что ажно уши заложило.
— Вот и верно, — отвечаю ему, — дедушка. Беспорядку мы не попустим… ваша правда.
И напоследок еще одно заклинаньице сотворила, которому меня Люциана Береславовна научила, хотя ж сего заклинания в учебное программе не было. А зазря. Страстей всяких навроде нежити и супротив ее заклинаний было множество, а вот чтобы приличное…
Рассыпалось то заклятье мелкой искрой.
Впилось в пол.
И пол засиял свежим деревом.
Распрямились старые занавеси, вернули прежнюю белизну, легли крупными крахмальными складками. Древний сундук ажно вышей сделался. И медные полосы на нем ярко засияли. Сама собой крышка откинулась, выпускаючи полосу беленого полотна.
Страшенник же, в которого мелкие искорки впились, с воем на пол упал.
И замер, полотном спеленутый.
От и все.
Правда, из кругу я выходить не спешила. Мало ли… вдруг да притворяется нелюдь?
— Да уж… — Арей разглядывал Страшенника, который больше не был страшен. Так, мужичонка лысоват да тощеват, борода клочковатая, бровенки рыжие, на грудях впалых волос кучерявится.
Застогнал он.
Повернулся.
Да и встал на карачки.
Огляделся мутными глазами, каковые у пропойцы бывают после загулу-то. Поклонился до самой земли.
— Спасибо, хозяюшка, что освободила.
Это он кому?
— Что ж. — Арей руку протянул сквозь щит мой. — Похоже, Зослава, ты изобрела новый метод борьбы с нежитью.
Я рот и раззявила.
Меж тем мужичок засуетился.
Зник.[11]
А объявился уж в красном кафтанчике, латаном-перелатаном, перехваченном конопляною веревкой. Запахнут кафтан на левый бок, веревка ж узлом на правом связана. Порты полосаты. Лапти кривоваты. На голове — шапка сидит, да лихо, на патылицу сдвинута.
Хозяин?
Как есть Хозяин.
Арей-то за щит вышел.
— Доброго дня вам, — молвил, — вновь, раз уж случилось знакомство свести.
Только Хозяин на него поглядел сурово, губенки поджал и ответствовал:
— Доброго, только разве ж это добрый день, когда парень за девкой ховается? Не думай, что я разом позабыл всего… помню… помню… охохонюшки… все-то помню, голова седая, ум дурной… блажил, хозяюшка, но то от одиночества… хатка моя зарастала-паршивела, а с нею и я. Некому было хлебушку куска оставить, молочка… а еще этая покоя не дает, все возвертается и возвертается, убивица!
И, сказавши так, он ноженькой топнул.
Я щит и убрала.
Коль Арей дедка не боится, то и мне нечего.
— А ты, хозяюшка, на этого остолопа не гляди… такой он… только палить… хату поставишь, он и спалит ее. — Хозяин тотчас к рученьке приник, прилип губами. Сам глядит снизу вверх, только моргает. И такая в глазах любовь, что прямо не по себе робится. — Непорядок сие! Как есть непорядок! Мужик, он бережлив должен быть… и поглянь… вона, какая рожа! А плечи! Он же ж жрать в три горла буде!
Арей фыркнул.
Я засмеялась.
— Ничего, — сказала Хозяину. — Кто хорошо ест, тот и в работе ладен.
Он же ж и вправду поесть любит. Да и то, покажите мне того мужика, который бы до еды неохоч был бы? Разве что вовсе худой, лядащий, которому что ешь, что не ешь — все без толку.
— Поглядим, поглядим… — Хозяин ковылял, моей руки не выпуская, да на Арея ревниво поглядывал. Верно, боялся, что уведет он меня. — Вона, печь не чищена, дымоход забился… вороны, курвы, загнездились…
— Пробьем, — пообещал Арей.
— А в подполе воды подтекают. Вона, все…
— Поправим.
— Ставенки скрипят… и подлога ходит…
— Сделаем. — у Арея глаз дернулся. А что он думал, хату доглядеть — это не нежить воевать. Тут завсегда работы полно.
— А еще…
— Сделаем!
— Не кричи на старика! Видишь, хозяюшка, никакого уважения… мы тебе другого найдем, обходительного… — Хозяин шмыгнул по левую руку, чтоб, значится, от Арея подальше.
Тут уж у меня глаз дернулся.
А то и оба.
Нет уж, хватит с меня женихов.
ГЛАВА 15 Азарская
Кеншо-авар людей уважал.
Некоторых.
Пусть и находились глупцы, которые полагали, будто бы люди, сотворенные из пыли и земли женщиной, годны лишь на то, чтобы служить детям огня, но Кеншо-авар, слушая этакие рассуждения, лишь головой качал.
Пыль?
Иная пыль так вопьется в шкуру, что только со шкурой и снимется. А земля и вовсе снесет что пламени гнев, что удары сотен и тысяч копыт, сушь и ветер, чтобы потом, каплей дождя благословенная, взойти густой зеленью.
А женщина…
Неужели был кто-то, кого родил мужчина?
Нет, людей Кеншо-авар уважал, ибо, не уважая своего врага, себя унижаешь.
Люди были врагами.
Он поднял руку, махнул, и мальчишка, повинуясь жесту, подал блюдо с жареным мясом. Куски его, густо присыпанные ароматными травами, плавали в подливе. Мясо было жестковатым. Вода в флягах нагрелась. Комарье звенело, желая испробовать благородной крови, но все это, если разобраться, было сущей мелочью.
Куда важнее, что человек не обманул.
Кеншо-авар до последнего не верил ему, хотя и рискнул, поскольку не видел иного шанса… сестра будет благодарна, хотя что значит женская благодарность по сравнению с перспективами, которые открывались перед самим Кеншо-аваром?
Каган, пусть продлятся его годы, немолод.
Он окружил себя целителями и звездочетами, которые предрекали ему долгую жизнь.
Лгали.
Он и сам понимал это, некогда славный воин, презиравший чужую слабость, а ныне неспособный подняться с подушек без помощи… понимал, а потому спешил.
Волчий вой потревожил покой Кеншо-авара, и кусок мяса выскользнул было из рук, но был подхвачен ловким мальчишкой.
От него надо бы избавиться. Опасный дар. Как знать, что ему приказано? Вправду ль хранить Кеншо-авара от врагов тайных и явных? Или, дождавшись, когда исполнит он приказ кагана, набросить шелковую удавку на шею?
Шея заныла.
Но мясо Кеншо-авар принял.
Раб не должен и помыслить о том, что хозяин его слаб. А страх свой, тщательно скрываемый, Кеншо-авар почитал слабостью. Он облизал пальцы, вытер их шелковым платком и перевернулся на другой бок.
Ожидание утомляло.
Мысли рождало… странные. И пусть прежде Кеншо-авару мечталось о том, как возляжет он на белой кошме… не сразу, конечно, не сразу… сначала, после смерти кагана — звезды там или нет, но осталось ему недолго, раз кровью кашлять стал, — он поможет сестре дорогой, которая слишком слаба, чтобы править степями. Да и женщина… женщины не способны править.
Сыновья ее малы.
Им потребуется помощь. И наставник… а там, как знать… если поддержат Кеншо-авара золотые клинки.
Конечно, племянники — родная кровь, и да простит Кобылица этакие мысли, но всяко известно, что дети взрослеют, а от волка ягнята не родятся. Пара-тройка лет, и мальчишки подрастут.
Захотят править сами.
Да и ненадежная эта вещь — милость кагана… сегодня ему один мил, завтра — другой… много ли надо, чтобы юнцу по сердцу прийтись? Нет, кровь… кровь, конечно, пролить придется, но во благо…
Волки выли.
Разноголосо, громко.
Среди бела дня.
Дурной знак.
Впрочем, разве воин будет обращать внимание на знаки? Он привел за собой четыре десятка… хорошо бы больше, однако нельзя: разбойники сотнями не ходят, да и…
— Мой повелитель печален? — Когда Кеншо-авар хмурился, лишь двое осмеливались подойти к нему. Наглый мальчишка, подаренный каганом, вовсе не знал страха, а любимая наложница была слишком уверена в своей власти над мужчиной.
Глупа.
И надо будет сменить ее.
Или…
Кто знает, что она услышала? Женщины имеют неприятную привычку совать свой нос в мужские дела.
— Мой повелитель… — Она мурлыкнула и потерлась щекой о ладонь.
Не стоило брать ее.
Или… наоборот?
— Ты знаешь, как его утешить. — Кеншо-авар запустил пятерню в густые волосы девицы. Притянул к себе. Заглянул в красивое безмятежное лицо.
Кому она доносит?
Ведь доносит же. Вот эти золотые серьги он ей не дарил. И перстенек на пальце новый. Думает, что Кеншо-авар, как многие мужчины, не запоминает женские побрякушки? Будь он иным, может, и вправду не обратил бы внимания, но не здесь…
Или россцы?
Солнечный камень они любят. А подобный алый оттенок, редкость редкостная, и вовсе лишь их мастера придать способны.
Продалась, тварь.
— Если мой повелитель, — позже, растянувшись на шкурах, обнаженная — и не боится, дрянь, что белую кожу ее комарье попортит, — бывшая любимая наложница мурлыкала, — скажет мне, недостойной, в чем его печаль, то, быть может, я сумею…
Точно, россцы… желают знать, куда Кеншо-авар убрался.
Не поверили про дела торговые.
И он бы не поверил… но вот…
Он провел большим пальцем по губам наложницы. Красивая… и знает о своей красоте… волос светлый, глаз темный, блестит лукаво.
— Сказать? — Он усмехнулся. — Отчего б и не сказать… печалит меня, что нельзя людям верить… никому нельзя… скажи, чем я тебя обидел?
И с удовольствием отметил он, как мелькнул в темных глазах страх.
— Ничем, мой повелитель…
И вправду, ничем.
Подобрал.
Вытащил девку, худющую и злющую, из той конуры, в которой она росла. В которой бы жизнь провела. Сгорела бы ее красота, так и не распустившись. А он… привез в свой дом. Холил. Лелеял.
— Что ж ты так?
Она попыталась отползти, понимая, что не убежит, но Кеншо-авар сжал руку и дернул. Волосы у девки были хороши, тяжелы, что покрывало. Крепки.
— Мой повелитель…
Из глаз посыпались слезы. Бесполезно. Он наматывал волосы на кулак, испытывая при этом болезненное удовольствие. Вот так… медленно и неотвратимо, она кривилась, но не кричала, подползала.
Пока не оказалась совсем близко.
Лицом к лицу.
Искаженное болью и страхом, оно не утратило своей красоты.
— Кому доносишь? — Кеншо-авар спросил не потому, что желал знать.
Не желал. В конце концов это не имело ровным счетом никакого значения.
— Я не…
От удара по лицу губа лопнула. И наложница зашипела рассерженной кошкой. Рванулась… ударила острыми коготками, целя по глазам. Дура…
— Кому? — Кеншо-авар повторил вопрос, подкрепив его ударом по щеке.
Бил легко.
Пока.
Просто показывая свою власть…
— Отвечай. — Он выпустил волосы, позволяя девке отползти, а сам взялся за плеть. Первый удар пришелся по рукам, которыми дрянь заслонилась. И вспухла на белой коже алая полоса… затем вторая. И третья… и он перестал считать, просто бил.
Вымещал на ней, негодной, собственный страх.
И унижение.
И ненависть.
И усталость. А он устал от этой земли, слишком яркой, слишком тяжелой для того, кто привык к приволью степей. Он выплескивал с гневом — праведным гневом — сомнения… и остановился, лишь когда плеть сама выпала из онемевшей руки.
Глянул.
Девушка еще дышала.
Да не девушка, а та груда мяса, которая осталась от некогда прекрасной женщины.
Кеншо-авар сплюнул и отер вспотевшие ладони: дряни повезло, что они в лесу, дома так бы легко не отделалась…
— Эй, ты! — Он подозвал мальчишку, который наблюдал за расправой спокойно, равнодушно даже. — Прикажи, чтобы убрали… пусть отнесут это…
Волки завыли совсем рядом.
— Вот им и отнесут… будет угощение.
Елисей был зверем.
И человеком.
Зверем быть было легче.
Стоило принять второе обличье — а все же именно человеческое, двуногое и слабое, было вторым, — и наваливалась глухая тоска. И Елисей не представлял, как справится с ней.
Зверь жаждал крови.
И стая, пришедшая на зов его, готова была утолить эту жажду. Седой вожак, слишком умный, чтобы цепляться за власть, подполз к Елисею и, перевернувшись на спину, подставил тощее брюхо. И Зверь ткнулся в него носом, слегка прихватил клыками шею.
Отпустил.
Он лег, позволив волчицам и волчатам — а в стае были как голенастые подростки, так и совсем малыши, которые еще и мяса не пробовали, — обнюхать себя. И лишь дернул хвостом, когда черный звереныш вцепился молочными слабыми зубами в хвост.
Мать заскулила и ухватила неслуха за шкирку.
И при виде их тоска не отступила, скорее отползла, откатилась, давая передышку.
Людей, о которых предупреждал Ерема, Елисей почуял издали. Они и не слишком таились. Да и от кого? До деревеньки пара верст, а кроме нее, здесь никого.
Вот и стали.
Разложили костры. Поставили шатры, благо хоть не шелковые, но походные, из тяжелых коровьих шкур шитые. Шатры пропахли уже и дымом, и конским потом.
Лошадей стреножили. Выпустили. Обнесли заговоренной лентой. И все же они, чуя близость хищников, волновались.
Правильно.
Елисею лента не помеха.
А волкам… волкам будет своя добыча. Но позже. Сейчас Елисей просто смотрел.
На шатры.
Костры.
Азар, которые, не таясь, расхаживали по поляне. Волков они, выросшие в степи, не боялись.
Пока.
Елисей залег в ельнике. И разномастные малыши, устроившиеся под теплым боком нового вожака, присутствием своим успокаивали. Он же, прислушиваясь к их возне, не выпускал из виду и азар. Пусть и не видел их, но ветер…
Запах жареного мяса, заставивший вспомнить, что сам Елисей не ел со вчерашнего дня.
И дым, который изменился. В костры кинули ветки полыни в попытке отогнать комарье. Бесполезно. Елисею-человеку полынь не помогала. А зверю комарье было не страшно. Что комарье, когда волчья зачарованная шкура и стрелу бы выдержала.
Выдержит.
Запахи изменились.
Самка.
И благовония, которые почти заглушали терпкий запах женщины.
Елисей поморщился. Это было сродни подглядыванию, но… звери стыда не знали. Наверное, он все же придремал, как и щенки, устроившиеся у теплого живота, если пропустил момент, когда все изменилось.
Заскулила волчица.
И вожак оскалился, с трудом сдерживая гневный рык. Волчата и те завозились. И Елисей поднялся, стряхивая с шерсти мелкий сор. Запахло кровью. И запах этот манил.
Елисей после недолгого раздумья двинулся в низину, к болотцу, к которому примыкала полянка азар. Сейчас на самой окраине болота, где из пышной моховой шубы поднимались хлыстовины берез, находились трое.
Или все-таки четверо?
— Шизар. — Азарин разогнулся и пнул окровавленный сверток. — Если не нужна стала, отдал бы…
Говорил он по-своему, но Елисей понял. Даром, что ли, Кирей в свое время из шкуры выпрыгивал, азарский учить заставляя. Вот и пригодилось.
— Тебе, что ли?
— А хоть бы и мне. — Азарин сплюнул и вытер губы рукавом. — Испортить такую красотку… хотел бы поучить, мы бы расстарались…
— Ты только этим местом и годен стараться. — Старший озирался и руку с кривого клинка не убирал. Не нравилось ему место. Нет, он не боялся, что за воин, которого готовы тени испугать, но вот… болото… вода.
Неуютно.
Третий и вовсе замер на краю поляны, делая вид, будто не слышит крамольных речей.
Молод. И в шелка обряжен, хотя нет глупее — шелка по лесу тягать. Перевязь дорогая. На пальцах — перстни. И стало быть, не из простых степняков.
Кто?
Елисею ненадолго стало любопытно. Он даже решил, что не станет убивать юнца сразу, расспросит сначала… а потом… потом будет видно.
— Так… — Говорливый оглянулся на начальника, который горделиво голову задрал так, что стала видна худая цыплячья шея. Такую перекусить и обыкновенный волк способен. — А может… пока живая…
Старший поморщился и кинул:
— Заканчивайте!
— Ну да. — Азарин не удержался от того, чтобы возмутиться. — Значится, как с девкой играться, то ему, а как…
— Хватит! — Его напарник потянул было клинок. — Добивай ее, и пошли…
— Тебе надо, ты и добивай.
Он сплюнул.
И умер.
Не успел даже понять, что произошло, откуда взялась эта чудовищного вида тварь, когда когтистая лапа смахнула голову с шеи. Та покатилась к ногам десятника, да и замерла, уставившись на сапоги остроносые… тварь же, получеловеческого обличья, будто бы горбата, длиннорука и криволапа, переломила второго воина с саблей его вместе.
Подкинула ослабевшее тело.
И, поймав на лету, просто перекусила пополам.
Гирей-ильбек не был трусом. И в набеги хаживал — мир миром, а граница стоит для того, чтобы было кому испытать крепость ее. Деревеньки жег. Мужиков сек. Девок… это смотря какие девки были. Сам он, рода известного, богатого, селянками брезговал, разве уж совсем непорченая попадется, юная. Да те отбивались, верещали… нет, Гирей-ильбек предпочитал наложниц укрощенных, которые знают, как понравиться мужчине, и, более того, нравиться желают.
О наложницах он и думал, глядя в желтые глаза с узким кошачьим зрачком. А еще о тетушке своей, подсказавшей пойти в услужение к Кеншо-авару, который — думать нечего — вскоре взлетит птицей да тех, кто на крыло присесть возжелает, с собой поднимет к самым звездам.
Сглотнул он.
И почувствовал, как подвело молодое тело — стало тепло в штанине.
Тетушка говорила, что легко будет. Надобно лишь постараться… да и чего сложного? Служить честью и за род словечко не позабыть замолвить, как срок придет… а в Россь он сам ехать вызвался… и теперь…
Зверь толкнул.
Легонько.
Убивать он не собирался.
— Она… она господина прогневила. — Гирей-ильбек упал на спину и, забывши про гордость — а человек взаправду гордый умер бы с достоинством, — пополз. На спине пополз, неловко, некрасиво расставляя руки. — Она… доносила…
Зверь не спешил убивать.
Он опустился на слишком длинные передние лапы. Вздрогнул всей шкурой, и втянулась в кожу рыжая клочковатая шерсть. А сам Зверь будто бы изнутри наизнанку вывернулся, и было это столь отвратительно, что Гирей лишился чувств, будто та девка, из-за которой…
…вздумалось ей…
…господина…
Он пришел в себя от того, что на голову лилась вода.
Студеная.
— Очнулся? — хрипловатым голосом поинтересовался рыжий парень.
Был он наг и не стеснялся своей наготы. И в первый миг Гирей даже подумал, что привиделось ему этакое страшилище, но увидел желтые глаза парня.
С вертикальным кошачьим зрачком.
А после и голову слишком говорливого Азура, насаженную на копье.
— Вижу, очнулся… с добрым утром. — Парень оскалился, показывая, что зубы его не по-человечески остры. — Или с недобрым? Знаешь, у меня вот недоброе…
Он сидел на моховой кочке, подогнув под себя ноги на азарский манер. И Гирей-ильбек узнал: это же один из рыжих, за которых россцам выдавали царевичей. Кеншо-авар обмолвился даже, что эти головы, если взять получится, можно будет продать дорого, а Гирей еще подумал, что деньги ему пригодятся.
Правда, теперь эти мысли казались ему смешными.
Его не связали.
И к чему, если рыжий, в тварь перекинувшись, разом настигнет. А может, позабавится, благородного азарина по местным болотам гоняя. Правда, тварь ведать не ведала, что Гирей в услужение был взят вовсе не за глаза черные, не за родство дальнее, но за то, что магом был, и не слабым. И пусть воды окрестные глушили магию его, но и малости хватит, чтобы…
— У меня брат умер, — сказал парень, почесывая за ухом огромного черного волка, который от этакой ласки лишь скалился да глаза прикрывал.
— Сочувствую. — Гирей думал, что не хватит сил у него уста разомкнуть, однако же слово само слетело с губ. Сказалась тетушкина выучка. — Но я… не убивал твоего брата.
Наверное.
Точно не убивал. Если тот столь же рыж, как этот нелюдь.
Гирей сел.
В мокрых штанах, вящем свидетельстве его, Гирея, слабости духа, было неприятно. Да и… как говорить с сильным врагом, когда от тебя мочой несет? И ладно, если только ею…
— Чем могу служить я? — Он сложил руки на груди и голову склонил. — Скажи, и все исполню.
И быть может, тогда получится выжить.
Во славу рода.
И не только… если получится, Гирей уйдет. Возьмет старика, теткой приставленного в услужение. Сведет своего коня, который быстр, как южный ветер, и сгинет. Не взлететь высоко Кеншо-авару, если перешел он дорогу рыжему. И о том надобно поскорей тетушке рассказать, чтобы успела она отыскать новых союзников в борьбе за место у белой кошмы.
И конечно, во собственное, Гирей-ильбека, благополучие.
Странное дело, но он успокоился. Не убила тварь сразу? Значит, нужен он. А если нужен, то сумеет договориться. Даром, что ли, тетушка учила?
— Можешь. — Рыжий усмехнулся, и почудилось, что силой своей проклятой он заглянул в самую суть Гирей-ильбека, прочел все мысли его, и показались те смешными. — Скажи, кто позвал вас сюда?
— Я не знаю.
Он и вправду не знал имени, но…
— Врешь, — спокойно произнес рыжий и, заткнув рот ладонью, ткнул пальцем в колено.
Не пальцем — когтем.
Твердым, что гвоздь.
Острым.
Гирей закричал, но рука, зажимающая рот, погасила крик. А пламя, рванувшееся было в желании испепелить наглеца, который причинил эту невыносимую боль, опало, улеглось, дрожащее и не способное справиться с этою чужой силой.
— Когда я тебя отпущу, — спокойно произнес рыжий, — ты ответишь на все вопросы. И тогда останешься жить. Если я решу, что ты чего-то недоговорил или же солгал… — Он провел когтем по щеке Гирей-ильбека и задумчиво добавил: — Человечины я еще не пробовал. Мой дед говорил, что человеческое мясо от звериного мало отличается. Помягче вот… а в остальном — дичь как дичь.
И в штанах снова стало мокро.
Гирей-ильбек говорил пылко и быстро, заглушая дикую боль в ноге, которая — он знал — никогда не будет прежней. Он рассказывал и о тетушке своей, которая была умна неженским умом, о матери, слабой и беспокойной, как большинство женщин, о даре своем — ныне, сколь Гирей поверил, бесполезном… о встрече с Кеншо-аваром, в свиту которого он был поставлен.
О службе.
Царстве Росском… о людях, что приходили в дом тайно.
И о том человеке, который явился к Кеншо-авару перед самым походом. Гирей-ильбек видел его мельком, но… дар его позволил заглянуть за личину.
Рыжий слушал.
Внимательно слушал. Наклонился даже. Дрогнули, раздуваясь, ноздри. А желтые глаза стали яркими, как драгоценный бурштын-камень.
— Опиши, — велел нелюдь.
И Гирей описал.
Пусть видел он гостя мельком, пусть стоял тот в тени, да и Кеншо-авар заслонил его массивною своей фигурой, однако… что-то да разглядел.
И рыжему хватило этой малости.
— Вот, значит, как, — растянулись в улыбке губы. И верхняя задралась, позволяя разглядеть длинные, чуть кривоватые клыки. — Интер-р-ресно…
Рычание клокотало в его глотке. И Гирей-ильбек с немалым трудом смирил предательскую дрожь.
— Я исполнил, что ты просил, — напомнил он, пока нелюдь не забыл об обещании. Люди-то слабы памятью, и вряд ли он, волколикий, сильно от них отличен. — Сдержи свое слово.
Как тетушка учила, пусть будут милостивы к ней годы.
Сдержанно.
С достоинством.
Не требуя, но лишь напоминая, что он, Гирей-ильбек, заслужил свободу.
Рыжий склонил голову набок.
— Ты забавный, — после долгого молчания произнес он. — Но так и быть, я отпущу тебя… уходи… и не возвращайся на эту землю. Здесь вам не рады.
Эти слова Гирей-ильбек запомнил.
Он и вправду вернулся.
Без коня и без провожатого. С раненою ногой, которую он перевязал кусками некогда богатого халата. Пришлось примотать к ней палку и ковылять, опираясь на срубленный сук. Но Гирей-ильбек не смел жаловаться.
Он выжил.
Он добрался до тракта.
А там и до городка, где золото его — вот счастье, что перстни удалось сохранить, — позволило нанять обоз, охрану и целителя, который, рану осмотрев — чудом не загноилась, не иначе, — лишь головой покачал печально.
— Увы, — сказал он, — колено слишком сильно повреждено. Вам повезет, если удастся сохранить ногу.
Везение закончилось в маленьком приграничном городке, где рана воспалилась. И пламя не способно оказалось выжечь заразу. Там Гирей-ильбек, лежа на деревянном столе, к которому его прикрутили, плакал и выл, умоляя позволить ему умереть.
Не позволили.
Ногу отпилили.
Культя заживала долго. И присланный тетушкой паланкин — она всегда заботилась о тех, кто мог быть полезен, — нисколько не облегчил дороги.
Впрочем, позже, встав на ноги — и что за беда, если левая была деревянной, — Гирей-ильбек сполна оценил свою удачу. В конце концов, он был единственным, кому вообще удалось вернуться.
Елисей проводил азарина взглядом.
Возможно, не стоило его отпускать. Поднимет тревогу. Предупредит остальных… или… Зверь желал крови, а вот человека охватило странное безразличие.
За что?
Вопрос, на который ответа не было.
Ерема раньше все успокоиться не мог. Спрашивал. Деда про маму… про остальных… за что их убили?
Ни за что.
И потом другие… один за другим… и смерть, которая проходила рядом, и тот же навязший на зубах вопрос. За что?
Просто так.
Елисея больше занимали он сам и сила его запертая. А теперь…
Волчица подползла и ткнулась влажным холодным носом в шею. Лизнула, успокаивая. Пусть он, чужак, в ее глазах был велик и страшен, но все одно заслуживал заботы.
— Спасибо. — Елисей обнял ее и зарылся лицом во влажноватую шерсть. — Я сейчас… посижу немного.
Он сидел.
Долго? Он не знал. Но мухи слетелись на кровь.
Волки не тронули мертвых азар. Брезговали? Елисей поморщился. Надо будет убрать… или… пусть лежат. Раны на них явно не оружием нанесены. А звери… зверей в лесу много, и всяких.
Он опустился на мох и позволил Зверю выглянуть. Тело поплыло, медленно, с тягучей болью, которая заставила стиснуть зубы… но боль даже хорошо.
Раз болит, значит, Елисей жив.
Зверь — на сей раз преображение было полным — поднялся на четыре лапы, отряхнулся и втянул сыроватый воздух. Он подошел к безголовому мертвецу и брезгливо поморщился. Второго и вовсе не стал трогать. Мертвая плоть не вызывала желаний иных, кроме как прикопать ее, избавляясь от сладостного смрада разложения.
Остановился Зверь рядом с окровавленным комком, который был еще жив.
Женщина.
Самка.
Слабая. Или сильная, если дышит. Не стонет. Стиснула зубы. Лежит. Добить ее было бы милосердием, но вместо этого Зверь, взрыкнув, лизнул широкую рваную полосу на плече.
Ее кровь была сладкой.
Женщина заворочалась и открыла глаза.
И посмотрела.
Без страха. Без отвращения. Но с какой-то безумной надеждой.
— Убей, — шепнула она едва слышно.
Однако у Зверя не было больше желания убивать. И, растянувшись рядом с самкой, он принялся старательно зализывать ее раны.
ГЛАВА 16 О тайных книгах
Схрон я нашла аккурат там, где дед сказывал.
Печь белая.
Некогда белая, ныне-то она, хоть и отмытая моим заклинанием, была сера да пятниста. Ничего, если известки взять да покрыть слоем-другим, будет как новая. А еще лучше плиточкой выложить, как в нашеем столичным доме, да не простою, а с узором.
Главное, что у самого основания печи камушек один сдвигался. Был он до того схож с другими, что, когда б сама не подвинула б, не поверила, что за камушком этим нора прячется.
Хозяин охал.
Ахал.
Рученьки заламывал, причитаючи, что не буде добра от тое книги, которая в схроне прячется. Дескать, не принесла она добра прежнему хозяину, то и мне во зло станет. Перечить, правда, не перечил. Позволил в руки взять нечто, в тряпицу истлевшую завернутое.
И это нечто раскрылось.
Слетела тряпица, на чистый пол падаючи.
А я узрела книгу предивную. Была она невелика, двумя моими ладонями накрыть можно, зато толста, с кирпич. Тяжела. Оплет из шкуры черной да серебряным узором меченный. Петли кованые. Замок запертый. Но коснулась — и треснул замок, ржой осыпался.
— Значит, и вправду тебе право владения передали, — сказал Арей, который энтот замок и так, и этак крутил, дергал даже, только не поддалось серебро. — Что ж, Зослава… владей, только будь осторожна. За эту книгу многие душу отдать готовы. — И добавил чуть тише: — Не свою.
Вот же ж…
— На. — Я Арею протянула.
Я в волшбе смыслею чуть больше, чем корова в танцах. Нет, кой-чего выучила, даром, что ль, весь год со мною маялись что наставники, что царевичи, один Ильюшка, всякое разъясняючи, язык мало не смулил. Но все одно, разумею я, что энтих моих знаний аккурат на малую волшбу достанет, а вот чтоб на сурьезное дело, так больше надобно.
— Не пожалеешь?
Арей книгу принимать не торопился.
— Не пожалею. — Когда б я о чем жалела? Жизнь, она такая, всякое способна утворить, да только жалеть — что мельницею воздух молоть.
— Спасибо. — Он книгу принял бережно и замер, будто опасаясь, что закроется она. Да только, видать, в своем праве я была. Не захлопнулась. Не побелела страницами.
Легла в его ладонях и даже, как мне привиделось, засияла белым светом.
Он же сел при окне. Раскидал на подоконнике платочек свой, а на него уже книгу положил.
— Не темная она… — сказал он, перелиставши страницы, и выдохнул с немалым облегчением. — Не темная… древняя просто.
Сие я еще от деда ведала, который про древность оное книги сказывал. Потому кивнула, мол, так и есть.
— В основном… старые заклинания. Вот это вы на третьем курсе проходить будете… это — четвертый… это… — Арей переворачивал тонкие пергаментные страницы бережно, — этого и я не знаю… или потеряно, или не дорос еще… а вот…
Нужное нам заклятие он отыскал на самых последних страницах. И писано оно было, как я узрела краешком глазу — отдать отдала, а любопытствие свое при себе оставила, — красными чернилами, отчего гляделось зловещим.
— Вот, значит, как… — Арей прочитал и посмурнел.
Перечитал.
И книгу ко мне развернул, чтоб и я смогла. А я чего? Я противиться и отговариваться, что, мол, не женского розуму то дело, не стала. И тоже прочла.
Призадумалась.
Волшба с волшбой рознится. Иная легка, что ветерок осенний, а другая — буря зимняя, лютая, которая и живое, и мертвое в бараний рог скрутит и не развеется.
— Если теоретически сугубо, то… — Арей переносицу поскреб и на меня поглядел, будто бы выглядеть чего желал. — Сложного ничего нет… это и настораживает.
Я кивнула.
Обряд и для меня простым гляделся.
Да и чего сложного? Мел? Сыщется у кого-нибудь. Небось в запасах, нам с собой даденных, значился «мел учебный колеру белого». А в моих и зеленый имелся, и синий, и хною крашенный, с воском плавленный… у Люцианы Береславовны всякого поболе.
Кости жженые?
Так… не сказано чьи. Ежель мышиные или зверя какого, то подыскать нетяжко. Вона, давече борщу варили и цельный мосел кинули в казанок. Оно, конечно, не для волшбы запретное мослы в стазис-ларе везлись, но ежель одного-другого прихватить, исключительно для всеобщего блага и учебное надобности, то не убудет.
Волос… вот тут сложней.
Чей волос брать?
А если всехний?
— Интересная мысль. — Арей книжицу закрыл, она и закрылась, ажно серебряные зубы засовов лязгнули упреждаючи: мол, не суй руки, без пальцев останешься. А то ведь сама, девка бестолковая, передала артефакту в Ареевы руки.
Что уж теперь.
Ничего.
Арей огляделся.
Почухал рожик махонький и пожалился:
— Зудит, аж не могу…
— Об угол почешись, — присоветовала я. А что, Старостин козел, еще когда козлом не был, а только козлятком смешным, очень-то об угол хаты любил скребстись. Это уже после тетка Алевтина сказала, что у него рога лезли, вот и свербело. Правда, как вылезли, все одно не обспокоился. Так и повадился с хатою бодаться… но Арей, глядишь, козла разумней будет.
Книгу он в старый схрон положил и на Хозяина, каковой рядышком крутился, поглядел:
— Сможешь сделать так, чтобы ее не нашли? А если нашли, то и не взяли?
Хозяин-то губенки поджал, бороду выпростал, каковая густейшая сделалась, курчава, и молвил важно:
— Ишь ты, еще не главный, а ужо командовать повадился! Скажи ему, хозяюшка, что я в своем доме в своем праве, и коль захочу, то никто тут и пылиночки не сдвинеть!
И ноженькой топнул.
С того стуку затряслась крыша. И балка огроменная загудела. Оконца задребезжали, а печь распростала плечи свои. Жаром из ней пахнуло.
— Понял я, понял… — Арей руки поднял. — Прости, если обидел чем, но от этой книги наша жизнь зависит… и не только наша. А ты, Зослава, хорошую мысль подбросила… у каждого по волосу взять. Только сделать это надо будет так, чтобы внимания не привлечь. Сможешь?
— Я?
Вот уж не имела забот прежде.
— Ну… меня-то они вряд ли к себе подпустят.
И то верно.
Самое поганое, что Егор прекрасно все понимал.
Он видел.
Слышал.
Но притом находился словно бы за прозрачной стеной, пробить которую у него не хватало сил. И тот, кто занял его тело, меланхолично заметил:
— И не хватит. Маг из тебя средненький. И кстати, если уж общаемся, можешь называть меня Мором.
— Да пошел ты! — ответил Егор, хотя вряд ли можно было считать ответом непроизнесенное слово.
— Куда?
Мор веселился. И его веселье вызывало приступы ярости, правда, бессильной.
— Расслабься, человек. Не рушь свое тело. Пригодится. — Мор говорил, разглядывая пустынную деревенскую улицу. — Знаешь, даже удивительно, что ты ничего не чувствуешь.
Что Егор должен был чувствовать помимо ненависти, в том числе и к себе, вляпавшемуся столь глупо, он не знал.
— Энергию. Некротику… сейчас, позволь покажу… вот…
Он что-то сделал с глазами Егора, и улочка преобразилась. Нет, никуда не исчезли ни заборы, ни уродливые домишки, ни даже почти истлевшая телега, но… теперь их окружала рваная болотно-зеленая дымка.
— Это остаточные эманации, — просветил Мор и руку протянул. Дымка, покачнувшись, поползла к этой руке, обвила… — Не паникуй. Сейчас они нам не повредят.
— А когда повредят?
Мор рассмеялся:
— Хороший мальчик, уже и говорить начал. Видишь, как мало надо для счастья? А повредят… скажем, спать в подобном месте — очень плохая идея, если, конечно, ты не некромант. Ты, к слову, никак не некромант. А вот я…
Зеленая дымка втягивалась в ладонь.
И на губах Егор ощутил терпкую сладость.
— Это вкус чужой смерти… работали здесь грязно. Посмотри, сколько оставили. — Мор шел по улице и крутил головой. — Смерть — это энергия… а уж когда получается собрать силу души… здесь срезали много душ…
— Егорушка? — Марьяна Ивановна обнаружилась в центре огромного темно-зеленого пятна. Она сидела на лавочке и вязала. — Что с тобой?
— Ничего, Марьяна Ивановна. Голова побаливает, — ответил Мор.
Вежливый, скотина.
— Голова, говоришь… — Она глянула искоса, с усмешечкой, которая заставила сердце замереть. Неужели… нет, даже думать о том не следует. — Что ж, голова — это плохо… погода меняется… не сегодня завтра задождит. Я этакие перемены, если хочешь знать, костями чую.
— Костями, — пробормотал Мор, когда и Марьяна Ивановна с ее лавочкой, и колодец, возле которого она устроилась, остались позади. — Старая упырица… ты же заметил? Она эту силу пьет… вот уж…
— Куда мы идем?
— Мы? Правильно, мальчик, лучше вместе. Порознь ты не выживешь. А идем мы навестить подружек твоих… да и моих тоже. Видишь, сколько всяких совпадений… а на упырицу эту не особо рассчитывай. У нее свой интерес в этой игре.
Похоже, что в этой игре у каждого был свой интерес.
— Именно, — подтвердил Мор. — Потому хватит притворяться обиженным. Будешь хорошо себя вести, и ты выиграешь.
— Что?
— Жизнь свою, к примеру… вот мне вновь тело менять не с руки, а уж умений у меня побольше твоего будет. Следовательно что? Следовательно, шансы выжить у тебя, скажем так, стремительно повышаются.
Он шел, больше не останавливаясь в зеленых пятнах, чтобы выпить сладкое марево. И не заговаривал, позволяя Егору обдумать услышанное.
А ведь он прав, нелюдь бестелесный. Скоро здесь начнется рубка, в которой если и выйдет уцелеть, то не всем. И Егору ли не знать, что у него самого шансов не много.
— Наивный, — хмыкнул Мор. — Но ты прав… выживут немногие. Если вообще выживут. И ваша царица это знает. Более того, рассчитывает крепко… почетная гибель во славу отечества… хорошо звучит, право слово. На деле уберет конкурентов, чтобы расчистить дорогу своему отпрыску… и заодно уж выявит неблагонадежных… думаю, в столице нынешнее лето выдастся на редкость веселым.
Мор остановился у старого дома, окруженного старым же забором. На нем висели грязные кувшины, битые крынки и пара горшков с трещинами. Мор толкнул калитку, а Егор поморщился, до того неприятным было прикосновение к осклизлому дереву.
— Есть кто дома? — весело поинтересовался Мор и в дверь постучал. А после скинул засов, расписанный серебряными узорами. Егор поморщился — руку опалило жаром, но терпимо. — Эй вы, сестрички-лисички, шакальи твари, выходите… разговор есть.
— Егорушка! — Маленка показалась первой. Вышла, кутаясь в одну простыночку, которая то и дело норовила съехать с худенького девичьего плечика. — Ты ли это?
— Я ли это, не я ли это… прекрати! — Мор шлепнул Маленку по заду, и та тоненько взвизгнула. — Не узнала, шалава?
— Мор?!
— Ты еще громче крикни…
— И крикну! — зашипела Маленка, разом преображаясь. Вроде бы ничего-то она не сделала, только вдруг красивое личико ее стало уродливым. Нос-клюв. Глаза запавшие. Губы тонкие. Зубы острые, что у хищного зверя. — Что ты мне сделаешь?
— Не знаю. — Мор ухватил ее за горло и сдавил. — Шею сверну. А после скажу, что ты на меня напала. Как думаешь, поверят? Тем более если после смерти маска-то сползет.
— Ты…
— Поговорить пришел, душа шакалья. — Он оттолкнул девку, которая не упала, но, хитро извернувшись, встала на колени.
— Егорушка…
— Тут он, тут, недоеденный твой… не бойся, Егор, не отдам. Ты мне пока целым нужен.
Именно что пока, а как надобность отпадет… впрочем, что уж от нежити ждать, когда и свои-то пользовались Егором.
— Хорошо поработала, — похвалил Мор, — ишь, расшатала, пальцем ткни — и рассыплется душонка на страсти. А ты подбери сопли, царевич. После поплачешься. Эй, вторая, выходи… у меня к вам обеим предложение имеется. Выгодное.
Любляна показалась.
Подошла бочком.
Стала у стеночки. Смотрит в пол. Ресницы трепещут. На щеках румянец розовеет… и до того она, зарумянившаяся, хороша, что сердце замирает.
— Прекрати, — поморщился Мор и отряхнулся, что собака, из воды выбравшаяся. — Говорить будем. К слову, Егор, учти, вот эта… — палец его ткнулся в Маленку, — загонщица. Она жертву треплет. Когда куснет. Когда обиду покажет. Когда и… кровь пустить способна. С кровью сила слаще.
Маленка губу отставила, но все одно более похожей на человека она не стала.
— А вот вторая силу тянет и еще следит, чтобы младшая не напортачила. А то ведь с голоду и заесть кого недолго…
— Чего тебе надобно, немертвый?
— Можно подумать, вы живые. Хочу предложить сделку.
— Егорушка, не верь ему… — заскулила Маленка.
Можно подумать, Егор по собственной воле эту проклятую тварь в тело свое впустил, а теперь вот изгнать способен в любую секундочку.
— Вот, — Мор обратился уже к Егору, — начинаешь мыслить здраво. А верить никому нельзя… эй, будем говорить, или оставить вас? Вы же понимаете, зачем вас сюда позвали?
— Зачем? — спросил Егор, который окончательно перестал понимать что-либо.
— Чтобы зачистить… в одном месте столько интересных личностей… — Мор хохотнул. — Разве можно обойти?
— И чего ты хочешь? — спросила Любляна и глянула так, что у Егора дух перехватило. Не сестрица это Ильюшина, слабая и беспомощная, но нечто древнее и недоброе.
— Я хочу, чтобы вы мне оказали одну услугу. Не волнуйтесь, вам она по силам… заодно поиграйте, там вас никто не станет ограничивать. А потом, если вдруг уйти захотите, леса велики… никто не сыщет. Да и подозреваю, что некому искать будет.
— Если откажемся?
— Запру. — Он пожал плечами. — Сидите себе… сил у вас освободиться не хватит, но мало ли… вдруг да повезет еще одного идиота отыскать?
Думали сестрицы недолго.
Переглянулись.
И кивнули одновременно.
— Мы согласны, — сказала Любляна, пальцы в косу запуская. — Но на слово ты не поверишь?
— Не поверю. Клятва духа?
Любляна лизнула белую свою ладонь, чтобы в следующий миг впиться зубами. Капли крови упали на траву, она же, мазнув раскровавленной рукой по губам, заговорила.
Слова чужого языка слетали легко.
И Егор заткнул бы уши, чтобы не слышать их, если бы мог.
— Умница. — Мор потрепал Любляну по загривку. — А теперь слушай…
ГЛАВА 17 Об ценностях семейных
Еська сам не знал, как оказался у ограды. Может, и вправду говорят, сколько волка ни корми… волком он не был. В отличие от Елисея, который так и не объявился.
Погано.
Еремка… и сказать нечего… ушел… и вот что, будто кто нарочно подгадал, чтобы остальные, если вдруг сбежать захотят, подумали хорошенько, что с бегов этаких не будет им добра и удачи.
А ведь крутилась в голове мыслишка, и не одна.
Сгинуть.
Велико царство Росское, и, умеючи, в нем затеряться легче легкого. А Еська умеет… и жаль, конечно, бросать остальных, да только вскорости все одно пути-дороженьки разойдутся. Чего уж тянуть? Днем раньше, днем позже… и пусть братья кровные, но вот близки они никогда не были.
Елисей в леса ушел.
Ерема сгинул.
Евстя вновь за ножи взялся, и главное, молчит, паскудник. Еська к нему и так, и этак подходил, чуял, что творится неладное в задурманенной Евстиной голове, да толку не добился. Емелька вовсе задуменный сидит, перебирает четки, из семечек яблоневых сделанные, губами шевелит.
Молится.
Кирей в ножички играет, всю стену истыкал, паскудина этакая.
Егор…
Ай, ну их всех… Егор и раньше на других сверху вниз поглядывал, а теперь и вовсе нос задрал. Как же, кто они против боярина знатного…
Тьфу.
Еська через ограду, пусть и была она высока, перемахнул легко. И уже на той стороне подумал, что прогулка эта — не самая лучшая идея. Один уже прогулялся… и добре бы Еська бежать решил, тут уж и рискнуть можно было бы, если б с умом, но вот ради дури…
Только тянуло его прочь от села с неудержимой силой.
В лесу было спокойно.
Где-то далече волки выли. Скользнула в кучерявой зелени птичья быстрая тень. Защебетали пичуги да и смолкли. Комарье одно звенит-вызванивает песни. Но у Еськи шкура дубленая, такую комарьем не испугаешь. Он шел, сам не зная, куда идет, свернул с тропы, да налево, да к чутью своему, которое прежде-то Еську не подводило, прислушался. По всему, цель его была недалече.
Она спала, свернувшись меж корней старого дуба. Массивный, он выходил из земли, будто то самое Божинино древо, на ветвях которого небесная твердь покоится. Ствол его, словно свитый из жил, покрывали зеленые мхи. Корни вспарывали землю, уходя в глубины ея, может, до самого сердца. И на них уже россыпями росли грибы.
Поганки.
Она закопалась в прелую листву, поджала ноги к животу, руки сложенные под щеку сунула. Спит и слюну выпустила вон… и во сне вид имеет благостный, хоть ты умились.
Умиляться Еська не собирался.
Легко перескочивши через корень, он схватил женушку за шею да и рывком на ноги поднял.
— Здравствуй, болезная, — сказал он, тряхнувши ее, еще сонную и растерянную. И по руке дал, чтоб не тянулась к острому. — Смирно стой, а то порежешься ненароком, волков приманишь…
— Волков?! — В зеленых глазах ее мелькнул страх.
— А то… тут волков всяких хватает… бродят стаями, только и ищут, чего б сожрать. Странно, что на тебя не наткнулись. А может, побрезговали этакими мослами. О твои кости небось приличный волк зубы обломает.
— Дурак. — Она все ж вывернулась и лицо чумазое платочком отерла.
— Вот и свиделись, женушка любезная. — Еська поклон отвесил до самой земли. — И каким, позволю поинтересоваться, ветром тебя сюда занесло-то?
— Я… — Она куртейку одернула.
Опять в лохмотья вырядилась. Как там матушка говаривала, сколько свинью ни мой, а в грязь потянет? Но мысль эта показалась неожиданно злой, и Еська смутился.
— Я тебя искала, — сказала Щучка и носом шмыгнула. — Шла… шла… а потом вот… заблудилась… тут дорога была… по ней азары…
— Что?
Еська насторожился. Нет, дорога дорогой, но навряд ли азары случайно по оной дороге проезжали, исключительно по мирным своим азарским делам.
— Так… ехали… там. — Щучка махнула на лес. Подумала и указала в противоположную сторону: — Или там… или… не знаю. Я заблудилась.
И до того жалко у нее вышло, что Еська вздохнул. И, присев на корень — благо устроиться на нем можно было, что на лавке, — велел:
— Рассказывай по порядку. Сбежала почему? Я тебя чем-то обидел?
Она отчаянно замотала головой. А потом вытащила из-за пазухи нож и протянула:
— Вот… мне велено было тебя… тебе…
— Меня… и мне… — Нож Еська принял осторожно. Надо же, родной братец того, которым его уже пытались убить. — А ты не захотела?
— Не захотела.
— Да сядь уже… не маячь.
Села.
Но в отдалении.
И этак осторожно, будто опасаясь, что Еська передумает. Этак кошка сидит, привыкшая, что хозяин в нее и сапогом, и чем иным кинуть способный.
— Почему сразу не рассказала?
— Я… не знала… как ты и…
Она вздохнула. То есть не доверяла. И винить ее не за что, потому как доверия Еська не заслужил.
— Что ж, спасибо, что не пырнула.
— Я не убийца, — сказала она жестко. — В тот раз… просто получилось.
Спорить Еська не стал. Кто он таков, чтобы судить. Вдалеке завыли волки, и так громко, что Щучка вздрогнула.
— Не бойся, не тронут.
— Здесь… все иначе. В городе понятно… в городе я не заблужусь, а тут… куда ни глянь — все одно… деревья и кусты. Кусты и деревья.
Еська кивнул.
Он прекрасно понимал, о чем она говорит. И сам, впервые в лесу оказавшись, растерялся. Казалось-то, что ничего сложного. Деревья. Кусты. Трава. Из зверья — волки, от которых легко на том же дереве спастись. А вышел за ограду поместья и… вроде шел-шел все время по прямой дороженьке, весь умаялся, а вышел вновь же к поместью, правда, с другой стороны. Там-то его и встретили.
— Отец не простил бы ослушания, но ему недолго осталось. И я решила пересидеть у… знакомых одних.
— Подвели?
Она дернула узким плечом и помрачнела.
— Отец седмицу уже как… и у меня дар… читала кое-что… мне сонную травку в суп кинули… а я… я многие травы на вкус умею различать. С отцом за столом сиживала… он учил. — Она говорила, старательно не глядя на Еську, будто и не ему рассказывала, но просто так.
И это тоже понятно.
Если кому-то, то выходит, будто ты на судьбинушку свою жалуешься. А жалобщиков на улицах крепко не любят. А вот просто так… бывает.
— Я и подумала, что это… не просто так… я легла, будто сплю… и послушала… а они… спорили… продать меня хотели… Звяг сказал, что родителям мужа моего… надо… они хорошо отсыплют… что рады будут… а в дурном доме ничего не дадут. Рожа кривая. И с норовом я.
Еська плечом повел.
Что сказать?
Там, на улицах, верить можно не всякому.
— Я ему жизнь спасла. Отец гневался, а я заступилась… и потом еще попросила… не отца, другого человека, который в ученики взял… и он мне был обязан…
Только забыл про это с легкостью. Или даже с радостью. Быть благодарным кому-то — тяжкий труд, не всяк с ним справится.
— Дверь заперли. Но мне что дверь… я умею… кое-что умею… вот и ушла… думала к тебе вернуться, но… в доме эти две… нелюди… и ждали еще… отец призвал.
Она шею потерла, прикрывая ладонью вспухший шрам.
— Злился крепко за самоуправство… но после сказал, что к лучшему… и он всегда слово данное держит. Велел отнести тебе.
Щучка вытащила из-под полы грязный пакет, запечатанный красным сургучом с оттиском крысиной лапы.
— Вот. — Щучка вновь дернулась, когда волки завыли, и на сей раз они явно ближе подошли. Этак если и дальше тут стоять, то и повстречаться можно. А выяснять, есть ли у волчьей стаи свой к людям интерес, Еська не собирался.
— Потом. — Он взял женушку за руку. — Идем.
— Куда?
— Туда. — Еська указал на заросли лещины, в гриве которой вот-вот должны были появиться зеленые шарики орехов. — Или у тебя другие планы?
Понурилась.
Нет у нее других планов. Она вообще слабо представляет себе, как жить дальше. И верно. Без защиты отыщут старые приятели, не столько, чтобы за свои выдуманные обиды отомстить, хотя и этаких найдется не один десяток, сколько желая угодить новому властелину подземелий. А уж тот наглую девку, надо полагать, не пощадит.
— Идем.
— Я… — Она потрогала щеку, на которой набрякло алым цветом клеймо. — Меня… там…
— И там, и тут… пойдем. С братьями познакомлю. Амулет сняли?
Кивнула.
— Слушай! — Еська ее просто поднял и подивился, что легка она. И вправду истощала на свободных-то харчах, этакую не то что волк — ворона утянет. — Их тебе бояться незачем. Они хорошие… местами…
Егор точно про клеймо молчать не станет.
Скривится.
И выплюнет сквозь зубы едкое словечко, а то и два, от которых Щучку в краску кинет. А у Еськи руки зачешутся в морду боярину дать. Емелька встрянет, утешая… и гнев вытянет. Рядом с ним гневаться не выходило никогда. Евстя промолчит, но выразительно, в кои-то веки с Егором согласный.
Ерема…
Еремы больше нет.
— Как ты меня нашла-то? — Девку упрямую он на плечо закинул, а та лишь пискнула сдавленно, но вырываться — уже за это спасибо — не стала.
— Так ведь обряд…
— Какой?
— Свадебный. Или уже позабыл?
Вот язык бы ей покороче, глядишь, и морда была б целой… ладно, с языком аль нет, но не волкам же ее бросать. Еще потравятся.
— Мы кровь мешали… и пробовали…
— Ну?
— Так ведь… мне как-то книга одна попалась, там писано было, что если ты чьей-то крови испробовал, то потом эту кровь можешь почуять хоть за версту, хоть за десять… хоть за сто…
Интересная, должно быть, книга.
— И я попробовала… сначала общее направление взяла, а потом… с Шаличей за вами шла… на броду оторвалась. Я с тобой хотела переговорить, а ты все время при людях… и амулет мой… работать перестал. Без него, сам понимаешь, показываться кому-то… ты опусти, я сама пойду. И сбегать не стану больше.
Вздохнула и добавила:
— Некуда мне.
Может, оно и так, да только, пока на плече лежит, Еське поспокойней будет…
Марьяна Ивановна сидела на завалинке, петлю с петлей перекидываючи. Пальцы у ней паучьи. Глаза холодные.
— И куда ж это вы, детоньки, хаживали? — спросила она голосочком ласковым-преласковым.
— Туда, — ответил Арей и на улицу указал.
Мол, домов премножество, выбирай любой, который по нраву.
Марьяна Ивановна только головой покачала с укоризной. Мол, могли б и прямо ответить, а не юлить.
— А вам не сказывали, что гулять поодиночке небезопасно?
— Так мы не поодиночке, — возразил Арей. И я кивнула. — Вдвойгу мы. Стало быть, безопасно. Ну, как тут вовсе безопасно быть могет.
— Шуткуешь все… гляди, дошуткуешься… а невестушка твоя сбегла.
Арей на меня глянул.
Нет, я не сбегла.
Стою вот.
— Другая невестушка. Царева которая. — Марьяна Ивановна едва петельку не спустила, отвлекшись. — Вот сидели девки смирно, а потом раз — и сгинули… и главное, кто их выпустил — не понять… за собой подчистил хорошо… умело…
— Намекаете, что я? — Арей за мою руку ухватился.
— Ну отчего намекаю? Я так и говорю, что тебе, дружочек мой, сие выгодно. Исчезнет девка в лесах, так сама, по своей воле… с тебя взятки гладки, не ты ее прогонял, не ты слово, царице даденное, нарушил.
— Арей со мною был.
— Так… — Она теперь на меня глядела. — Может, и был… может, вы вдвойгу их того… выпустили? И ведь найдутся, Зославушка, такие люди нехорошие, которые скажут, что не выпустили, а вывели болезных за ограду и…
Спицы лязгнули.
А я поежилась.
— Чушь! — Арей меня под локоток подхватил. — Спасибо вам, Марьяна Ивановна, за заботу да ласку, только… мы уж дальше как-нибудь сами.
— Сами так сами, — согласилась она, вязанье откладывая. — Ты ж у нас теперь высокого полету птица… и магик, и боярин.
— И вам что с того?
— Не загордися, Ареюшка… власть и сила голову кружат, а закруженную, ее и потерять легко. Печально сие будет… а ты, Зославушка, будь осторожна. Наши-то красавицы тебя люто невзлюбили. Не знаю, куда они подались, но иная нежить злопамятней людей будет.
— Спасибо, — искренне ответила я за предупреждение.
— Да не за что… не за что…
И вновь спицы за спицы застучали.
ГЛАВА 18 О жити и нежити
Манок Егор кинул в колодец. И, глянув в черную его глубину, покачал головой.
— Ну что, мой мальчик, я сделал то, что было мне поручено… и вот даже интересно, отпустят ли меня на свободу? Как ты думаешь? Я вот сомневаюсь. Но спросить стоит, верно?
Егор устал.
Он слышал, как гудят ноги.
И руки болят.
И спину крутит, будто он, Егор, состарился вдруг.
— Это от нагрузки. И конь под двумя седоками ляжет, что уж говорить про тело, которое две души везти вынуждено.
Мор вытащил из колодца ведро и припал к грязноватому краю. Он пил жадно, а Егор ощущал и холод — от воды ломило зубы. И сладость ее. И легкий тухловатый запах.
— Подземная… в мое время ее живой называли, хотя, конечно, преувеличение… а нам пора. Идем…
Он и вправду пошел.
И не вниз по улице, а вверх, к старостиному дому.
— Что, Егорушка? — Марьяна Ивановна сидела на сей раз не со спицами, но с семками. Белыми. Тыквенными. Насыпала на подол, жемчугами расшитый, да лузгала.
Подхватывала по одной.
Пальчиками сдавливала.
И вытаскивала темное нутро.
— Поговорить, Марьянушка, — сказал Мор. — Ты обещала…
— Не тут. — Марьяна Ивановна поднялась, смахивая семечки, которые рассыпались и спрятались в жирной земле. — Совсем ума лишился?
Она вцепилась в рученьку Егорову, и от хватки этой кости затрещали.
— Не мог кого другого найти? Надо было на рожон… а если приметит кто?
— Кто?
— Не знаю… Люциана… или вот Фролушка… у Архипа чутье…
— Отпусти меня…
— И этот балбес мигом полетит к Архипу. — Марьяна Ивановна постучала по голове Егора. — Или думаешь, уговорить получится? Хотя если…
Взгляд ее стал холодным.
А пальцы железными. Еще немного, и кость хрустнет.
— Не пугайте мальчика. — Мора этакое преображение оставило равнодушным. — Он и без того растерян…
— Не серчай, Егорушка, на старушку. — Марьяна Ивановна руку выпустила. — Поверь, есть у меня свои причины делать то, что делаю… да, есть… а тебя придется… неразумно, но… манок поставил?
— Поставил.
— Азар…
— Провел.
— Стрельцов…
— Завернул на ночную тропу. — Мор говорил кратко, и от краткости этой становилось крепко не по себе. — Еще не скоро выберутся, а если и выберутся, то ближе к границе.
— Замечательно… девок ты выпустил?
— Я, — запираться Мор и не думал.
— Зачем?
— По старому знакомству… пожалел…
— Ну да, ну да… а я так и поверила… ты, дорогой, на жалость не способен. Зачем выпустил?
— Смеху ради.
Марьяна Ивановна щелкнула пальчиками, и тело скрутила такая боль, что Егор не выдержал, закричал. Правда, крика никто не услышал. Его раздирало на клочья, а каждый клок горел огнем. И муке этой не было видно ни конца ни края.
В какой-то миг боль стала невыносимой.
И Егор увидел себя со стороны.
Застывшего.
Белого.
С раскрытым ртом и глазами, налитыми кровью. Он еще дышал, но дыхание это таяло, что вешний снег. И Марьяна Ивановна, ощутив, как уходит жизнь из тела, провела по Егорову лицу ладонью, стирая заклятие.
— И как, дорогой, — она попридержала Егора за руку, — еще смешно?
Ей не ответили. Сам Егор и дышал-то с трудом, а тварь, в его тело забравшаяся, и вовсе будто бы сгинула. Но нет, отошла, ответила хриплым голосом:
— И зачем это было надо?
— А затем, дорогой, что ты много воли себе взял… думаешь, не понимаю?
— Думаю, что ты не собираешься слово держать. — Ярость Мора была холодной, и этот холод заставил Егора очнуться.
Хватит ныть.
И биться о стеклянную стену смысла нет.
Надо подумать… подумать и сделать что-то, что даст ему свободу… а нет, так и умереть с честью.
— Я ведь клятву давала. — Марьяна Ивановна на этакое обвинение не обиделась.
— И что с того? Мы оба знаем, нет такой клятвы, которую нельзя обойти. — Мор облизал сухие губы. — И ты… что сделаешь? Заточишь меня? Или просто развеешь?
— Еще не решила. Я бы и отпустила, да только ж у тебя, поганца, характер такой, что тихо не усидишь, начнешь людям пакостить. А люди-то в чем виноватые?
— Значит, о людях думаешь? — Мор стер красную кровяную дорожку, которая выползла из уха. — А парня этого не жаль? Он ведь сдохнет. И остальные… и ты сама, верно? Ты не собираешься возвращаться…
— Пойдем, дорогой, прогуляемся до оградки… проводи старушку.
Она сделала вид, будто опирается на Егорову руку, тогда как сама держала его. И шла. И за собой тянула. А он еле ноги переставлял. Каждое движение отзывалось болью.
У ограды, старой, но крепкой с виду, Марьяна Ивановна остановилась.
— Что, Егорушка, тяжко?
Егор кивнул.
Позволили.
— Отпусти мальчика, поговорю… с тобой-то без толку, а вот с ним — дело иное… нам есть о чем… я ведь знала твою матушку… и не ее одну… была она редкостной красавицей. Они втроем тут парням головы кружили. Люциана вот наша, твоя матушка и Варута… дочка мистольского урядника. Он в ней души не чаял. Люциана на теоретическую магию пошла. Голова у нее светлая была. Гонору многовато, но это дело такое… твоей матушке поступить не позволили. Мол, не боярской дочери лавки просиживать… а Варута среди целительниц устроилась. У нее дар был яркий, сильный. Такой раз в сотню лет случается. И обидно было, что боярской дочери достался.
— Почему?
— Почему… а потому, что впустую потратит. Где это видано, чтобы боярская дочь лекарским делом всерьез занималась? Так, домашних вот пользовать, родных — это одно. Еще кому породовитей можно услугу оказать, если получится, а вот с простыми людьми возиться — так ни в жизни… да… но мы ж не о том… ты о матушке своей знать хочешь, верно? Присядь, Егорушка. В ногах правды нет.
— А где есть? — не удержался он, и Мор, паскуда, хихикнул.
— Где есть, то мне неведомо, — серьезно отвечала Марьяна Ивановна. И на грязный камень платочек подстелила. — Присядь. Разговор у нас долгий пойдет, неприятный… о матушке твоей… и о том, что я делаю и почему.
Она отерла лицо ладонями, и вдруг сползло оно, будто маска.
Встала перед Егором старуха древняя.
Волос сед и прозрачен, сквозь него кожа темная просвечивает. Лицо морщинами, будто трещинами, изрезано, и глубоки они, что Кольчин ров, который будто бы цмоком пропахан. Глаза побелели. Губы сделались черны, будто Марьяна Ивановна землю ела.
— Нехороша? — усмехнулась она, зубы желтые показывая. — Срок мой подходит, Егорушка, а просто уйти, оставивши все, как оно есть… не могу. Уж прости, но я должна забрать вас с собой. В том не твоя вина… и не ваша… в том судьба сама…
И не спица в ее руке — клюка резная.
Пальцы сдавили навершие, но клюка трясется.
И рука.
И смотреть на это отвратительно, а Егор смотрит.
— Было время, когда я, наивная девка, возгордилась немало, что допущена в покои царские… как же, дар мой редкостный… была холопкой, а вознеслась… муж мой, правда, говаривал, что как была, так и осталась, но я его не слушала… мне ведь кланялись. Ко мне шли. Несли свои болезни, печали. Я всем помогала, никому не отказывала. Не по доброте душевной, нет, Егорушка… нравилось мне благодетельницею быть.
Он слушал.
Он хотел бы бежать, да понимал, что и шага ступить не позволят.
Он хотел бы кричать, но горло сдавила невидимая рука. Вот и оставалось… а голос у старухи еще молодой, без скрипа, без сипа. Мягкий голос, обволакивающий.
— Я и царем обласкана была. Как же, наследника вытащила… никто ему помочь не брался. А я вот… живою силой, сырою наполнила тело, и ожило оно. Мне мой наставник, пусть душа его упокоится с миром, еще тогда сказывал, что не стоило этого делать, что против природы нельзя идти. Но где там… я ведь себя самой умной мнила. Что природа? Я ведь, почитай, всемогуща. И жалко дитятко стало. Слабый он. Хилый… только глаза горят… жить, говорит, хочу… я и обещала, что будет. Гордыня, Егорушка… гордыня во всем повинна, но слово свое сдержала. Ожил царевич. И как стало ясно, что жить будет, то царь меня крепко полюбил, к себе вот приблизил…
Зачем она рассказывает? Неужели и вправду столь наивна, что думает, будто Егор, бедой ее проникнувшись, себя убить позволит?
— Молод ты еще. — Марьяна Ивановна головой покачала, будто в той молодости была его, Егорова, вина. — С меня все началось. Мною и закончится.
Сухие пальцы пробежались по навершию клюки, и та пошла зеленой мелкой порослью.
— Если бы не я… я его вытянула. Я позволила выжить. Я… а думаешь, благодарность снискала? Нет, не буду врать, золотом меня по самую маковку засыпали. Землицы дали. Звание. Право шубу носить горностаеву…
Марьяна Ивановна вздохнула мечтательно. Ныне на плечах ее лежал простенький платок, из тех, которые деревенские бабки на старости носят. То ли грел он лучше, из собачьей шерсти вязанный, то ли невместно было тут горностаев носить.
— Говорили, любое пожелание исполнят, а как попросила… за сына своего просила, единственного… ошибся он. Оступился. Не сам. Морана попутала, и женушка его, тварь подколодная… — Пальцы сжали клюку, и разом посерела зелень, прахом пошла.
«Старуха сильна, — заметил Мор. Голос его звучал в голове, но будто бы издалека. — Обе силы открыла. Живую и мертвую. Я про такое только мечтал… обычно если уж с мертвою возиться начинаешь, то живая отворачивается. А эта… чтоб еще не такой стервой была, мы б…»
— Казнили его. За то, что смуту затеял… какой из него смутьян? Каждого дурака, который властью недоволен, казнить, так и земли опустеют. Я в ногах царя валялась, умоляла простить. Пусть бы сослали… пусть бы лишили имени и рода. Пусть бы вовсе рабом сделали без права выкупа… да все одно живым. Но нет… закончились милости царские. Вот и вышло, что сменяла я своего сына на чужого.
Она губы поджала.
А Егор понял, что способен рукой шевелить, но левой, и то самую малость.
— На том бы, может, и все… глядишь, тогда бы я и успокоилась, не стала бы измышлять ничего… и в эти игры… думаешь, по нраву они мне? Я все ж сперва целительница… смерть самое нашей природе противна.
«Ну да, ну да… со всем отвращением, а стольких сгубила…» — Мор смеялся, и смех его отдавался во всем теле будто иглами острыми.
— От сына моего бедного осталась у меня внучка. Хорошая девочка… в меня пошла. И тоже даром ее Божиня наделила немалым. Я уж ее растила… пестовала… — Голос дрогнул.
А где-то далеко завыли волки.
— В терем царский не казались мы… да и не звали нас… была мало что посестрицей царицыной, а стала гостьею нежеланной. Да не было в том печали, нам и без царей жилось неплохо. Росла моя донечка. И выросла красавицей… на свою беду. Уж не знаю, кто ему, проклятому, донес, да только послали меня к норманнам, будто бы умение ихнее перенимать да при наших послах сидеть, чтоб не потравили часом. А ее — царице служить, той, второй, которая бездетна… она и служила… год… и два весенних месяца. А на третьем в петлю полезла. И мне говорят, что сгорела она в лихорадке… будто я ослепла и оглохла и дара притом лишилась, петлю от лихорадки не отличу… — Она презрительно скривилась, и некрасивое лицо стало еще более некрасивым. — Тело отдали, решили, коль мертвая, то и… не расскажет… рассказала… не сама… целители многое видят… и слушать умеют. И по телу мертвому болезни читать. И не только болезни. Помнили меня еще… кому надо было, те помнили… а надо многим… у кого дитя болеет, у кого — матушка при смерти, а кто и сам по краю ходит. Нет, целителей-то ныне много, при тереме и вовсе бессчетно, да только целитель целителю рознь.
Егор пошевелил пальцами и на старуху покосился: заметила ли?
«Не торопись, — Теперь голос Мора раздавался аккурат в голове. — Терпение, мой юный друг, терпение… и помни, магией ее не удивишь. Магию она смахнет, что испарину… проще надобно. Шею там сломать… или просто по голове… голова у нее слаба стала. Старость — не радость даже для мага».
— Я узнала, что случилось… увидел ее проклятый… окаянный… возжелал… она-то противилась, девочка моя любви желала… и жених у нее имелся. Хороший парень, навроде Фролки нашего… мне мнилось, что хороший… только слабым оказался… Фролка свою Люцианку ни царю, ни Моране не соступил бы, а этот… землицы ему пожаловали щедро, да и отбыл в свое поместие, значится… а ее — к царю, постель стелить, будто холопок для того нету. Были… и холопки, и рабыни… ни одной бабы мимо не пропускал… проклятый, как есть проклятый…
Убивать Егор не умел.
Но если ошибется, то второго шанса ему не дадут.
«Правильно. — Мор дыхнул жаром, и тело отмерло. — Поэтому погоди… послушай вот, как поет… не знаю, с чего ее вдруг на откровения понесло. Со мною она не церемонилась. А с тобой вот развела политесы. Тьфу… хочешь убивать — убивай. Каяться после будешь».
Разумно.
И Егор подобной ошибки не допустит.
— Насиловал ее… она-то и слова сказать не смела… как же, царь… кровь благословенная, Божинина… а как понесла, то и отослал к царице… та-то про мужа знала, но тоже молчала… сама-то бесплодна… и всегда была… еще когда ее оглядывали, я говорила, что не родит она, да где там… не стали слушать мать смутьяна… но вот по-моему вышло… не родила. Мою девоньку заперли… и держали, пока не разродится, а после сказали, что младенчик мертвым уже вышел… она-то и не вынесла. В петлю полезла… если б хоть весточку… плюнула бы я на норманнов, и на послов, и на клятвы-то все… но нет… они б ее и схоронили, если бы сами не клялись из рук в руки…
Она не плакала.
Устала?
Сухие глаза. Выгоревшие.
— А когда я пришла за своим внуком, мне ответили, что ошиблась я… и когда в глаза царю глянула, он, знаючи, что жизнью мне обязан, не отвел взгляда. Сказал, что любовь случилась, что не неволил никого… что… говорил и улыбался. Мол, хорош он… забыл, что я, силу давши, ее и отнять могла… я и показала. Испугался… со страху меня в темницу кинуть повелел… мол, казнят меня… нашел, чем пугать. Я смерти давно не боюсь. Чего? Век долгий прожила, только… сила моя со мною уйдет. Я так и сказала. А он… поутру ко мне царица явилась. Занемог… и так слег, что ни дыхнуть, ни выдохнуть… все целители пляшут, да что они, глупые, сделать способны? Сила в нем жизненная не держится, уходит, что вода сквозь решето дырявое. Царица за него просила, дурочка… не знала, что век ее выходит… или знала, но надеялась на благодарность? Разве ублюдки способны благодарными быть? Мы с нею сделку заключили. Она мне правнука возвращает, а я этому уроду силу.
«Сильна, старушка… — Мор присвистнул, восхищение выражая. — Оно и верно, не каждый целитель рискнет с сырой силой работать. А уж тем более человеческое тело ею подпитать. Это же… это как костер разводить в соломенной хижине. Может, и согреет, а может, и полыхнет… а она, видишь, сумела связать…»
— Тогда-то я еще подумала, что сила эта давно должна была в тело войти, стать его частью. И случись так, мне бы нечего было забирать. Поутру меня привели к нему. Подыхал… лучше бы дала подохнуть, а там уж… но я исполнила обещанное. Силы в тело его ушло изрядно. Опутала я ее. Связала. И поняла, что он этой силой едино жив. И что жизни ненадолго хватит. Я была честна с ним.
«И напугала, думаю, до усрачки, — не удержался Мор. — А ты не зевай. Старушка заговорилась, ты и рад слушать… нет, дорогой, не отвлекайся. Попробуй мышцы напрягать. Главное, не двигайся… в этом, к слову, большое неудобство сырой силы. Неустойчива она. И любое заклинание, с нею сплетенное, может разрушиться».
Егор мог бы — головой тряхнул, избавляясь от назойливого голоса в ушах. Но пока голова еще не слушалась. А вот мышцы тела поддались, хотя и с трудом.
Почти как чужие.
— Правда, не знаю отчего, но выводы он сделал иные. Решил, что раз отмерено ему немного, то и эту малость надобно использовать… наследником вот обзавестись… и отправилась царица-матушка в монастырь, до которого не доехала.
Старуха кривовато усмехнулась.
— Вы? — спросил Егор.
— Я… — Марьяна Ивановна не вздумала отпираться. — Встретилась с нею… словечком перемолвилась только… спросила, как же вышло так, что она, мою внучку беречь обещавшись, до петли девоньку довела? Но мы ж не о том… она быстро умерла. Сгорела от лихоманки… случается и с царицами…
А ведь она безумна.
Почему никто не увидел, что она безумна?
— Это было возмездием. Справедливым возмездием, которое по старой Правде… каждому по делам его, и да возрадуется Божиня…
Егор сомневался, что Божиню милосердную и вправду обрадует убийство, пусть и во имя справедливости совершенное.
— Я не сразу поняла, что у моего внука больная душа. Он был хорошеньким мальчиком… красивым… до того красивым, что сердце таяло. Няньки, мамки, кормилицы… с рук не спускали… сахарный мальчик. Волосики золотые. Глаза синие… он кошку убил. Старую. Пять лет ему было. Поймал и долго мучил… чернотою все залил. Потом еще собака была… куры… кур, сказал, неинтересно… когда няньку ножом ткнул, оно все и повылазило. Злился он очень. Сам сказывал, что порой внутри гнев такой, с которым управы никакой нету… что только кровь да муки его успокаивают.
Безумец. Не повезло бабке.
Плевать, повезло или нет и что там было в начале времен. Главное, сейчас с собой управиться.
— Я сперва лечить пробовала. Только как излечишь, когда не тело хворое — душа? И когда душа эта крови жаждет. Я его по святым местам возила. В источнике Чумском купала… без толку… он только хитрей делался. Пару раз… тихо себя вел. И слова-то дурного не услышишь. Молится целыми днями. Посты блюдет… мол, так ему легче… и отпускала… в храмы отпускала… с приглядом, само собой… а он ничего, молится…
«Заладила, — пробормотал Мор. — Молится, молится… да хоть весь бы на ладан изошел, не полегчало бы. Знавал я таких людей. Врожденное уродство души. С ними, к слову, интересно… не всем, конечно… я держал одного такого при себе… редкостного таланта был парень. Но безумец, увы…»
— Потом исчезал. Возвращался… всегда возвращался. И опять молится. Спрашиваешь, где был, а он только улыбается и отвечает, мол, грешницу встретил… я видела тех грешниц… я его в монастырь отослала. Кемларский…
Егор стиснул кулак.
Про монастырь он этот слыхивал, будто бы мало чем он от тюрьмы отличен.
— Там он и по сей день… проклинает меня… ездила давече… проклинает… сам от крови проклятой… а тот, чье семя его породило, словно с ума сошел… ни одной девки не пропускал… и детей рождалось… много рождалось, да только мерли. Которые сами уродами, которые после родов умирали… не смотри, Егорушка, тут я не виноватая. Сами они… проклятая кровь.
Он не смотрит.
Он пальцами шевелит, кровь разгоняя. И мышцы напрягает, уже ощущая и плечи, и спину. Ноги вот еще каменные, но Егор надеется, что сие ненадолго.
Марьяна Ивановна рядышком.
Задумчива… надо пользоваться, пока она не опомнилась.
«Не спеши, — упредил Мор. — У нас с тобой и вправду один шанс. И тут уж, братец, тебе придется… меня она почует».
— …Он не должен был жить, а я… его сынок от боярыни Вязельской дурачком родился… двадцать годочков ему, а он на горшок сам не ходит. У Гульюшиных рыженький растет, хотя сами они светлой породы, так крив и горбат, уродлив. Хотя голова, сказывают, ясная… я к чему это, Егорушка?
Старуха посмотрела в самые глаза.
И Егор замер, понимая, что еще немного, и попадется, и тогда уж конец.
А умирать не хотелось.
— А к тому, что надобно мне исправить свою ошибку. Порченое семя выкорчевать, чтобы не осталось, не проросло дурной кровью. Ладно, когда дурачки… в дурачках беды людям нету, а если как мой Светик? Если ликом светел да ясен, говорит красиво, да душа черна? Разве можно такому на троне сидеть? Правду блюсти? Потому пойми меня, Егорушка… не желаю я зла ни тебе, ни братьям твоим, но иначе не могу… нельзя…
Она протянула руку, коснулась Егоровой щеки, и пальцы ее были ледяными.
«Давай…»
Эхо этого голоса, даже не голоса — колокола, который набатом ударил, сметая чары, заставило Егора выбросить руку и вцепиться в тонкую старческую шею.
Он сдавил пальцы, чувствуя, как цепенеют они.
И сам он…
Умирать было холодно.
И холод этот сковал руку, в которой билась пойманною рыбой старуха. Она хрипела и разевала рот, а в круглых выпуклых глазах ее читалась обида.
Егор понял ее.
И даже посочувствовал. И вправду обидно умирать, не исполнив всего, чего хотел. Вот он, Егор, так и не узнал, кто матушку убил… и что он скажет, встретившись?
«Погоди, — хмыкнул Мор, — посторонись теперь… и не дергайся… тебе ее чар не одолеть, а вот я попробую…»
Егор, если бы и хотел, вряд ли б сумел помешать.
Он не хотел.
Он просто думал, что сказать маме, которая ждала, и… и вряд ли так скоро. Егор лишь надеялся, что в ирии к ней отнесутся сообразно ее положению.
ГЛАВА 19 Соблазнительная
Кеншо-авар изволил гневаться.
Трое исчезли.
Увели девку и исчезли. И ладно бы двое безымянных, из свиты, пусть и надежных — иных сюда не попало, — но все же простых воинов, которых легко сменить, благо плодородны степи на детей своих. Однако куда исчез Гирей?
Мальчишка, навязанный дальней родственницей, оказался на диво полезен. Он с легкостью решал все мелкие проблемы, которые имели обыкновение портить жизнь и людям значительным. Да и полезность свою доказав, он приблизился ко многим тайнам… и вот теперь пропал.
Куда?
Зачем?
А если… нет, Гирей связан родственными узами. И ладно, допустим, это никогда никого не останавливало, но все же… предавать ему резону нет. Ур-ашиды род большой, но не сказать, чтобы особо знатный. А вместе с Кеншо-аваром могли бы вознестись. Сестрица знает, что Кеншо-авар умеет быть благодарным.
Тогда куда?
Не волки же их сожрали, в самом-то деле.
Россцы?
А если изначально все это — ловушка… и клятва, принесенная чужаком… она пустое?
— Что ты думаешь? — Кеншо-авар коснулся лысой головы мальчишки. Впрочем, спрашивал он исключительно, чтобы тишину разогнать, которая в последнее время стала тяжелой, нервирующей.
И подарок кагана лишь плечами пожал.
Понимай как хочешь.
То ли не думает, то ли не способен свои мысли донести до Кеншо-авара, то ли Кеншо-авару не должно быть до сих мыслей дело, поелику они, как и сердце измененного, принадлежат исключительно кагану…
— Поди прочь… и вели Ульгару, чтобы явился.
Сотник был опытным.
Не из незаменимых людей, конечно. Таковых, если подумать, и вовсе не существует. Прямолинеен. Где-то откровенно глуповат. Но даром наделен, силой, и притом знает свой край, а еще предан как собака. За то и ценен. И дело свое знает.
Явился незамедлительно.
Поклонился.
— Что Гирей?
Ульгар головой покачал.
А страшен сотник. Весь рубцами покрыт, будто шили его из разных людей, и то наспех. Вот и присадили махонькую голову на огромные плечи, про шею забывши. А руки — длинные, жилистые — и вовсе начерно приметали. Оттого и качаются они при каждом движении, будто ветви ивовые.
— Россцы?
Он вновь покачал головой и носа своего, плоского, с раздутыми ноздрями, коснулся. И значит, где бы ни гуливал ныне Гирей, росским духом там не пахло. Этому можно было верить — нюхом Ульгара предки наделили отменным.
И ноздри дрогнули.
Раздулись так, что Кеншо-авару показалось — лопнет нос, а Ульгар развернулся влево. И поворачивался он всем телом, только руки мотнулись, взметнулись к перевязи с парой сабель.
— Что?
— Там, — Ульгар указал на север. Верней, указал-то он на стену походного шатра, изнутри прикрытого шелком для красоты и чтобы не забывали те, кому доведется в гости заглянуть, что не с простым азарином дела ведут. — Бабы. Две. Бегут.
Бабы — и две?
Посреди глухого леса?
Кеншо-авар только от одной избавился, а теперь две, стало быть…
— Привести? — Иногда Ульгара посещали вполне здравые идеи.
— Приведи. Только…
Про осторожность можно было не напоминать. Ульгар все-таки неспроста дожил до своих сорока лет.
Бабы были.
Точнее, баба.
Девка.
Одна.
И хороша… вот что у россцев нравилось Кеншо-авару, так женщины их. Что статные, высокие красавицы, что вот такие, тонкие и нежные, будто цветы весенние. Правда, что этот вот конкретный цветочек в лесах делает, Кеншо-авар не отказался бы узнать.
— Благодарю вас, — прошептала девка, не пытаясь вырваться. И Ульгар держал ее крепко, но… бережно? Вот уж от кого Кеншо-авар не ждал этакого. — Благодарю…
И всхлипнула, слеза хрустальная скатилась по белой щеке. Щека, следовало сказать, была слегка запыленной, да и сама девка… волосы растрепались, расплелись, легли на плечи золотым покрывалом. А сами плечи покаты.
Губы ярки.
Глаза что камни драгоценные.
Лейла? Она, ранившая сердце Кеншо-авару, и мизинца этой красавицы не стоила. И тем подозрительней.
— Кто ты? — Кеншо-авар сделал знак сотнику отпустить боярыню.
Тот подчинился, но… неохотно?
И уйти не ушел. И когда она оглянулась на сотника, тот смутился и взгляд отвел. Вот же… все зло от баб… и пусть не сделал пока Ульгар дурного, но Кеншо-авар не станет ждать, пока…
От девки следовало избавиться.
Потом.
После.
Не пропадать же этакой красоте попусту.
— Я… — Она потупилась, и от одного взмаха ресниц жаром Кеншо-авара окатило. — Я несчастная дочь Мирослава Батош-Жиневского.
Сказала и замолчала, позволяя оценить сказанное.
Батош-Жиневский…
Уж не тот ли… Кеншо-авар пожалел, что так и не вернулся Гирей-ильбек. Голова у мальчишки светлая была, и влезали в нее все хитросплетения росских родов. А у него вот путались. Своих-то до седьмой родни мог перечислить, а тут…
— Батюшку моего в смуте обвинили, казнили безвинно, — шепотом продолжила девушка, и, поникшая, выглядела она столь беззащитной, что в душе Кеншо-авара зародился гнев.
Правда, с ним он управился.
— Матушку сослали… мы с сестрой жили в тереме царском, пока… меня замуж принудили идти… отдали недостойному… полукровке азарскому…
Слезы катились крупные, что жемчуг морской драгоценный.
Но к слезам Кеншо-авар остался равнодушен.
Полукровка?
Средь росских бояр случались и отмеченные степною кровью, но вот чтобы наполовину… один лишь был. И этот один до недавнего времени интереса не представлял никакого. Раб недостойный… кто ж знал, что рабом он быть перестанет.
Нет, в степях ему не рады будут, и на кошму он не сядет, даже если иных наследников не останется, но вот…
Неспокойно.
— Мы умоляли брата… и царицу… — Ее голос дрожал, и если бы самого Кеншо-авара умоляли хоть бы в малой степени так, он бы уступил. — Но разве значили хоть что-то наши слезы… нас вырвали из дома, закинули на подводы, потащили… поселили в какой-то убогой избе… и заставили полы мыть.
Ульгар заворчал, что означало высшую степень возмущения.
И вправду, как можно деву столь нежную к грубой работе принуждать? Неужели настолько обеднел Батош-Жиневский, что на холопку не хватило?
— А потом… мы с сестрой услышали… услышали, что мы не случайно тут оказались, что это место… оно особое… здесь похоронена первая царица. — Слезы на глазах высохли. — И с ней — книга, которая кровью писана была… книга особая, тайная… и кто эту книгу возьмет, тот обретет власть немалую.
Теперь она почти шептала.
И чудилось — манит обещанием.
— Но чтобы книга в руки далась, надо принести жертву… деву крови той, что в царице течет…
И рученьку к груди приложила, чтоб точно понял Кеншо-авар, кого в жертву определили.
— Тогда-то и решили мы бежать… не знали сами куда… куда глаза глядят… понадеялись, что не бросит Божиня сирот.
Это они зря. Боги, что местные, что иные, к сиротам были равнодушны.
— Сестра твоя где? — Кеншо-авар понадеялся, что голос его звучит достаточно грозно, чтобы девка испугалась.
Но хороша.
Редкостная красота. Сестра его родная, некогда очаровавшая кагана, и вполовину не была столь же хороша. А еще, сказывали, ревниво оберегала свое место подле Великого, пусть продлятся его дни до возвращения Кеншо-авара с удачей, истребляя всех мало-мальски пригожих девок.
Эту кагану показывать нельзя.
Красива.
А еще и кровей хороших… нет, показывать Кеншо-авар не станет. А вот в своем доме он хозяин. И жены его пусть скандалят меж собой, но с ним, господином, покорны и ласковы. Глядишь, и эта приживется. А нет, то хотя бы ненадолго скрасит одиночество Кеншо-авара.
Ожидание.
Книга… искушение было невелико.
Чужие сказки. Чужая магия. Может, дастся в руки, а может, и нет. К чему рисковать? Нет уж…
— Вы ведь меня не отдадите им? — жалобно спросила девица.
— Не отдам… — И Кеншо-авар запоздало махнул рукой, позволяя сотнику удалиться.
Удалился.
Но с превеликой неохотой.
— Так а сестрица твоя где? — повторил вопрос Кеншо-авар. И пусть хороша была незнакомка, сладка, как дикий мед, но красоты ее недостаточно, чтобы вовсе разума лишиться.
— Моя бедная сестра… ушла… — Слезы высохли.
И девка теперь смотрела внимательно.
Раздраженно даже.
Будто ждала иного… может, и вправду ждала. Только не дождется. Не стал бы Кеншо-авар рукой кагана, рукой крепкой, карающей, когда б легко было его разум затуманить.
Он запустил пальцы в волосы.
Сжал кулак.
Шелковистые пряди… жаль будет портить.
— И куда же она ушла?
— В лес.
В синих глазах мелькнуло что-то этакое… недоброе. Злится? Кеншо-авар легонько потянул за волосы, заставляя девку подняться.
— И не страшно ей там, в лесу, будет? — спросил он ласково.
— Страшно…
— Так отчего ж она ушла? Отчего не с тобой осталась?
Она подходила медленно, словно бы нехотя, и этим уже дразнила Кеншо-авара. Тот облизал губы, и девка повторила его движение, только… показалось, конечно.
Баба.
Просто баба.
Может, отравить вздумала. Может, зарезать… дело-то житейское. Ты убиваешь, тебя пытаются… тем жить интересней. Огонь в крови горит, и давно забытый азарт заставляет брать змею в руки в отчаянной надежде, что не укусит.
Дурная молодецкая забава… старшего брата Кеншо-авара укусила… долго он отходил… кричал страшно… конечно, он-то думал, что берет безобидную кабуршуту, которой и дети-то не боятся, а в кувшине для игры оказалась рогоглавица. Не иначе, как заползла погреться.
Бывает.
— Я больна, — выдохнула девка в самое лицо. И пахло от нее хорошо, цветами, медом сладким. — Моя сестра… мы… мы решили, что будет разумней оставить меня… она сама быстрей дойдет.
Лжет.
И пускай. Все одно заняться нечем.
— И куда она идет?
— В город… тут рядом город имеется. — Теперь голос девкин был низок, ласкал слух. А тонкие пальчики коснулись губ, и от прикосновения этого стало горячо, даже ноги подкосились.
Умер братец дорогой, единственный сын старшей жены, которая той еще стервой была. Матушку Кеншо-авара она в могилу отправила, не пощадила… как убивалась, как плакала… и по сыну, и еще потому, что утратила место свое подле отца.
Брата было жаль.
Немного.
Он Кеншо-авара в седло посадил и учил многому, но слабым был. Вечно в людях все искал хорошее, светлое… у каждого, мол, в душе сыщется.
Может, и сыщется.
К чему вспомнилось?
Девка, встав на цыпочки, коснулась губами губ. И выпила дыхание.
Брат перед самой смертью очнулся. И велел позвать Кеншо-авара… тогда еще просто Кеншо, мальчишку босоногого, одного из семнадцати сыновей…
Одного…
Шестнадцать братьев слишком много.
Но тогда Кеншо испугался, что понял он… понял.
— Я знаю, что ты сделал. — Ургай лежал на кошме, сшитой из шкур нерожденных ягнят. Он иссох. Посерел. И сделался страшен, как дух подземного огня. — Я знаю…
Он прогнал и рабов, и целителей, которые подпитывали силой гаснущий огонь его души, хотя все знали, что это лишь продлевает муку.
— Я ничего не сделал! Я ведь перед тобой руку совал…
…и бросил в кувшин уголек.
Простенький фокус, сунуть руку в кувшин, чтобы не задеть змею, в нем спрятавшуюся. Змеи поутру сонны и медлительны. И если быть осторожным, очень осторожным, то и руку вытащишь целой. Вот только не тогда, когда змея раздражена.
— Ты ее посадил… и ты бросил уголек… — Ургай поднял белую руку. — Подойди… я не стану мстить… и проклинать.
Кеншо-авар выдохнул с облегчением. Брату он верил. Тот, глупый, никогда не умел лгать, полагая, будто сильным ложь не к лицу.
— Я просто хочу понять… зачем?
Зачем?
Сложный вопрос.
А зачем убили тихую Лайвери-нани, которая никогда не желала власти, но довольствовалась лишь любовью своего мужа и господина? Она и Кеншо любила, сказки рассказывала, пела песни и называла своим мальчиком. В чем же она провинилась?
В том ли, что чаще других приглашал ее отец в свои покои?
В том ли, что поднес ей золотое ожерелье вперед старшей жены?
— Месть? — Ургай умел читать души.
Месть. И страх. Разве самого Кеншо пожалели бы?
— Мама была не права… не трогай остальных, — попросил Ургай. — Перстень… возьмешь потом.
— Конечно. — Кеншо вытер пот со лба брата.
Возьмет.
Дождется, когда ослабеет дыхание и лежащий на кошме человек сравняется цветом с этой же кошмой. Стянет с еще теплой руки и, вытерев тщательно, наденет на мизинец. Ныне он, Кеншо-авар, — старший сын…
— Проказник, — раздался нежный женский голос. И Кеншо-авар понял, что именно он теперь лежит на кошме, не способный пошевелиться. Он жив.
И дышит.
И… после Ургая настал черед Эфедри, который был силен и туп. С ним получилось легко… остальные… младших Кеншо просто велел удавить, когда отца не стало. Ни к чему грызня за наследство. Потому и отправились в огненный край что отцовские жены с наложницами, что отродья их…
— Вы, люди, смешные. — Девка сидела рядом, обнаженная, она была прекрасна и в то же время невыразимо уродлива. Кеншо-авар и сам не мог понять, как так получается, чтобы и прекрасна, и уродлива. А она сидела, перебирала его волосы, гладила щеки.
Улыбалась.
— Вы убиваете друг друга ради какой-то ерунды… власть… что такое власть? Призрак. — Она облизала свои пальцы. — Месть… страх… смешные, да… мы убиваем ради пропитания. И нас вы ненавидите, тогда как вы сами куда страшнее.
Кеншо-авар хотел было что-то сказать, но из горла вырвался хрип.
— Тише. — Девка положила ладонь на грудь, и показалось — упал огромный камень, выбивший остаток воздуха из ребер. — У нас с тобой целая ночь впереди…
ГЛАВА 20 Покаянная
— Зослава, а Зослава. — Рыжая Еськина голова вынырнула из зарослей малины. — Ходь сюды.
— Зачем?
Я огляделась.
Пусто… вот же, вроде ж и народу в деревеньке немало, а поразбрелись, поразбежались все.
— Ходь, дело есть…
У меня тоже дело было. Уж если кто и сумеет волосья собрать, так Еська. Сам же хвастал, что в прежние времена перо у утки выдрать мог, и так, что утка этая не шелохнулась бы. Оно-то братья его еще те гусаки, но нехай покажет умение.
В кустах Еська сидел не один.
— Доброго дня, — сказала Щучка, глядя под ноги.
— А…
— Ну… — Еська руками развел. Мол, знать не знаю, ведать не ведаю, каким-таким чудом она туточки оказалась. — Пришла вот… не гнать же ж.
— А в кустах чего сидите?
Малину-то изрядно поломал. А она аккурат в цвет вошла, вона белая, манит пчел. Те и вьются, гудят, а Щучка от этого гудения вздрагивает. Непривычно ей, стало быть.
— Да вот… — Еська за ухо себя ущипнул. — Просто как-то… неожиданно… получилось.
— А если посидеть, то ожиданно будет?
— Нет, подумал, может, ты Люциану кликнешь? Ты ж ей передавала…
Кивнула.
Тот свиточек, от Еськи полученный, как он сказал, авансом за работу, я Люциане Береславовне снесла и в рученьки отдала. Она ажно побелела вся, энтот свиточек увидевши.
Но сказать — ничего не сказала.
И спрашивать, откудова он взялся, тоже не стала, отослала меня да и сгинула на седмицу. Уж когда возвернулась, то и Щучкин след простыл, об чем говорить стало? Я молчала. Она молчала.
А тут вот.
— Зось, а Зось… позовешь?
— Позову, — кивнула я и, мыслю правильную ухвативши, сказала: — А ты за это с каждого из своих братовьев по волосу принесешь. Добре?
— Чего?
Еськины брови домиком поднялись. А чего? Можно подумать, я его попросила не по волоску, а по цельное голове… аль недослышал?
— По волоску, — повторила я. — По одному. С каждого. С Елисея… ну, ежель споймаешь…
Мыслится, что не Елисей это. Царю-то в волчьей шкуре несподручне бегать будет, да и волкодлаки, сказывала Люциана Береславовна, все ж от людей отличные. На них не всякая волшба действие возымает.
— …С Егора, с Евстигнея…
— Я понял. — Еська сел, ноги переплетши. Эк он узлами вяжется. — А тебе, Зославушка, позволь поинтересоваться, на кой сие надобно?
— Приворожить хочу, — буркнула я.
Вот же ж человече любопытный. Я ж его не пытаю, откудова он тот свиток взямши, за который Люциана Береславовна, мыслится, если б не цельную душу, но половину ее точно отдала б.
— Всех разом? — Одна Еськина бровь выше другой стала.
— Так… чтоб выбор был.
Щучка фыркнула и, не удержавшись, расхохоталась.
— Надобно мне… — Я поерзала, все ж в малиннике было неудобственно. Тесно. Колюче. Не повернешься, чтоб за плеть зеленую не зацепить.
Сказывать Еське?
Если уж попросила волосья добыть, то… надобно уж говорить, а то с полуслова толку не будеть.
— Есть книга одна… туточки есть… была. — От что у меня за язык такой, вроде и знаю, чего сказать, а все одно заплетается, что коса в кривых руках. — У Арея ныне. Слово Божинино. Старое. Там обряд один… и сказано, что… темные чары развеет, проклятье, коль есть, любое снимет… и от воли освободит.
— От воли освободит, — эхом повторил Еська.
И призадумался.
Так мы и сидели. Он задуменный. Я. И Щучка, которая с пчелы одное глаз не сводила. Пчела та вилась над Щучкиною головой, то ближе подлетая, и тогда Щучка голову в самые плечи вжимала, то отступая.
— Зослава, ты знаешь, что подобные заклятия на крови вершатся… и дело это… нехорошее?
Я кивнула.
— И запрещенное.
И это ведаю. Не глупая.
— И что… если уж рисковать, то со всеми… здесь ведь не только мы с братьями. — Еська вытащил из-под задницы сверток, красною печатью запечатанный. И хоть задница Еськина была тоща, но сверток примяла изрядно. И сургуч покрошила. — И я свой волос дам…
Он выдернул из головы да мне протянул.
— И она…
Щучка и ойкнуть не успела, как Еська протянул мне еще одну рыжую волосину…
— И ты… с Ареем своим сама разберешься?
Я кивнула.
Разберуся.
Справедливо. Ежель чаровать, то на всех.
Волос выдернула, хотя ж и жаль было страшне. Оно-то верно, одна волосинка косу не сделает, да все ж… тут одна, там другая, этак и не заметишь, как лысою да страшною станешь.
— Тогда… ты, дорогая моя супруга, помощь окажешь? — Еська обратился к Щучке, которая от этих словей запунцовела. — Потом раскинем, кто с кого… когда с остальными познакомлю.
— Может… не стоит? — Она съежилась и себя обняла. — Тут домов хватает… я как-нибудь так… тихонько посижу…
— Молча полежу, а там и схоронят, — обрезал Еська. — Нет уж, красавица моя навязанная. Всю жизнь в кустах не просидишь. Это раз. А второе… тут, мнится, скоро станет жарко… и так жарко, что лучше держать тебя под боком. Да и не бойся… обидеть не дам.
Я ему поверила.
А от Щучка — не очень.
Игорь Войтютович Жучень пребывал в немалом расстройстве, и причиной тому была не слабость, ставшая уже привычною, не печеночные рези, против которых не помогали ни настои, ни амулеты лекарские. И даже не тяжелый, с кровью, кашель, напавший в последние дни.
Нет, Игорь Войтютович распрекрасно понимал, что скоро умрет.
И что смерть эта будет немалым облегчением. Может, он бы и не сопротивлялся вовсе, к чему — жизнь его была славна, — да только слишком многим смерть его открывала пути-дороженьки.
— Эй вы, что смолкли? — Игорь Войтютович швырнул в дударей серебряной звонкой мелочью. И они, испуганные, притихшие было — а как не притихнуть, когда боярина славного наизнанку вывернуло, да не кабаном съеденным, но кровавыми черными сгустками, — загудели вразнобой.
Вот так-то лучше.
И хуже.
Ноги почти отказали.
Перед глазами мошки скачут… веселятся… и смешно, до кровавого смеху смешно…
— Ты себя не бережешь. — Тихий голос супруги разогнал проклятую мошкару. — Отдохни, присядь.
И рученькой махнула.
Исчезли дудари.
А с ними и гусляр, который играл хоть и невпопад, зато громко, сбежали плясовые, не желая переходить дорогу барыне.
— Смерть мою сторожишь? — Игорь Войтютович принял чашу, женой поднесенную. — Со мной разделишь?
— Смерть или вино? — улыбнулась она.
Хорошо улыбнулась. Было время, когда за-ради улыбки этой он готов был луну с неба достать и звезд пригоршню. И мнилось, что не он один ошалел от любви.
Кому сказать…
Смех.
— Вино. — Он пригубил.
Красное. Фризское. Терпкое и тягучее.
— Ты же знаешь, я не пью, — она произнесла это с легким упреком. Стыдился бы ты, Игорь, что себя, нынешнего, что…
Стыд — не дым, глаза не выест.
И собственные слезятся. Вновь скачут мошки, да так хитро вихрятся-кружатся, этак и закружат, как ветер степной. И слышны уже не гусли-самогуды, но заунывное гудение бубна азарского, ветер оный спеленавшего.
Почему он, дуралей, не остался в той степи?
— Прости. — Жена садится рядом, гладит волосы грязные. И спокойно становится от прикосновения этих холодных пальцев. — Все должно было быть иначе…
Ну да, должно было…
Он бы, дурак несчастный, сгинул на границе… она бы стала честною вдовой… такую судьбу обоим рядили, да только не сложилось. И странно даже, что не нанял Хатын лихого человека, который бы избавился от этакого зятька…
Или нужен был?
Пока она там, в тереме, хвостом крутила… при живом-то муже многое на этого самого мужа повесить можно, что одного ублюдка, что десяток…
— Какой же ты упрямый, — вздохнула жена и чашу забрала. — Прилег бы, отдохнул.
Игорь и сам был бы рад.
Притомился.
От злости своей… как он летел, ног не чуя, спешил к ней едино… обнять, приголубить… сказать, что теперь, когда старый Хатын помер, заживут вдвоем, в любви и согласии… в богатстве… пусть и худого рода Игорь Войтютович, да сабля его кормила… шел за ним обоз, полный шелков и пряностей, перца красного, перца белого и еще — розового, который дороже камней иных.
И камни вез.
И украшения.
И готов был свой терем поставить, чтоб не хуже старого… летел, дурак, едва крылья не пообломал… а встретили сплетнями злыми да разговорами… не поверил.
Пока не увидел ее, не поверил.
А как…
— Зачем ты вернулся? — Она была холодна, что ночь в степи.
— За тобой… пойдем домой.
— Я уже дома.
— А я?
— А ты… тебя наградят за службу.
Сказала, как в душу плюнула. Но все одно… не отказался ведь. И после уже принял ее, ослабевшую, постаревшую разом…
…что собака побитая.
Принял.
И простил ведь. Понадеялся даже, что уж теперь-то прошлое прошло, а будущее — для них двоих… и мальчонку он как родного растил.
— Ты тут? — спросил он.
— Тут, — отозвалась жена. — Куда я от тебя денусь…
Клятвой соединенные, связанные крепко, и эту связь не разорвать так просто…
— Ты должен понять, что я не за себя боюсь. — Она, еще бледная после долгое болезни, была столь трогательно хрупкой, что при взгляде одном сердце замирало. — Однажды я обманулась и во второй раз не хочу… слишком больно это.
Рука, к сердцу прижатая.
И пальцы дрожат.
В глазах темных слезы.
— Что мне сделать, чтобы ты поверила?
За эти слезы он готов был полмира с землею сровнять.
— Клятву… принеси клятву, что не повредишь мне ни словом, ни делом, ни молчанием, ни бездействием… ни мне, ни сыну моему. — Она поднесла нож и чашу подставила. — Что не откажешь ни в помощи, ни в доме, ни в имени…
Дурак.
Как есть дурак.
— Человек. — Лицо жены поплыло, сделалось чужим, и вот уже сгинула она, уступив место младшей Батош-Жиневской, которой в походном шатре взяться было неоткуда. А она взялась. Сидела рядышком, глядела глазами своими синющими. — Не отвлекайся…
Игорь Войтютович приподнялся на шкурах.
Вот же… примерещилось.
Жена…
Осталась в столице… и провожать не вышла, заперлась в горнице, болеть опять… а он перебрал, как есть перебрал. Имеется за ним грешок винопития чрезмерного, до черноты перед глазами, до потери разума. И поборол бы, когда б желание имелось, а его не было.
Он и пить-то стал уже потом, после той клятвы, когда поднялся к ней, надеясь, что уж теперь-то…
— Глупый человек. — Девка погладила по всклокоченным волосам. — Вы так верите в любовь… вы так надеетесь на эту самую любовь. Почему?
Она сидела на грязном ковре, скрестивши ноги, и полы некогда роскошного одеяния задрались, бесстыдно выставляя смуглые худые ноги.
Дверь открыла.
Его жена.
Снова жена и… взглянув с презрением — куда подевались слезы? — произнесла:
— Зачем ты пришел?
А он от этого вопроса прямо растерялся. И цветы, которые, как дурень последний, самолично собирал, выронил. Она же носочком туфельки ворох разметала и скривилась.
— Мог бы что и поприличней выбрать… мне розы носили, и то не всякие…
Откудова ранней весной розам взяться? А первоцветы хороши.
— Ты жена мне…
— Нет, — она покачала головой и взглянула с немалою жалостью, — не жена. И никогда не была. У меня один муж перед Божиней. Им и останется. Никому и никогда не упрекнуть меня в неверности…
И развернулась.
Коса только змеею скользнула по узкой спине. Он за косу и схватился.
— Отпусти. — Она не соизволила повернуться к нему. — Ты не причинишь мне вреда. Помнишь? Ни словом, ни делом…
И треклятая клятва скрутила болью.
— Видишь? — Она забрала косу из руки. — Я была права… ты такой же, как все… всем вам одного надо. И пока этого не получите, вы готовы обещать что угодно. А получив…
Она отерла его лицо своим платком.
И кровь из носа.
И, сложив платочек, убрала в рукав.
— Так надежней… я не собираюсь тебя убивать.
Она позволила боли отползти, а ему — разогнуться. И указала на низкое креслице:
— Присядь. Мне жаль, что пришлось немного… слукавить.
Лукавство? В этом не было лукавства. Ложь.
— Я не собираюсь тебя убивать. Ты нужен. Ты хороший человек, и мы можем… жить дружно. Ты и я… не как муж с женой, прости. — Она села напротив. — Но как брат с сестрой. И когда придет время, поверь, я этого не забуду… я ничего не забуду.
И улыбнулась так, что стало страшно.
Нельзя спать.
Сон этот муторный… надобно кликнуть кого… рассказать… нет, рассказать не выйдет, потому как клятва проклятая лежит печатью на устах. Ни словом, ни делом…
Сколько раз хотелось схватить ее за шею белую. Сдавить и держать. Пусть бы билась. Пусть бы рвалась. Не вырвалась бы. Он бы не позволил… а вместо этого…
— Ты говори, человек, не замолкай. — Девка не исчезла. Игорь Войтютович слышал и запах ее, терпкий, звериный будто бы. И ощущал тяжесть белой ладони на своем лбу. Она была близка. И она… она просто была… здесь.
Сидела.
Руку убрала.
Доску его походную на колени положила. Лист закрепила белый. Перо взяла самописное, острое… и пишет, улыбается.
— На предсмертный бред, чтоб ты знал, клятвы не распространяются. — Она тоже улыбнулась, и подивился Игорь Войтютович тому, до чего длинны и белы клыки девичьи. А после… если хоть кому-то получится рассказать, если и вправду запишет она… если…
Про то, как зажил с женой любимой, неспособный отказать ей и в малости… про то, как понял, чего она желает… и, понявши, остановить пытался, но разве ж в силах его было сие?
Про мальчонку…
Хороший парень. Славный.
Он бы такого сына желал… и даже поверил, заставил поверить себя, будто родной… и тот батькою именовал… порою, а после замирал, застывал… ложился и делался бледен, задумчив. Тогда-то она и велела закладывать коляску, брала с собой девок дворовых и уезжала, возвращаясь уже одна. Ну, не одна, а с мальчонкой, который…
Игорь Войтютович привстал на шкурах.
Девка писала.
— Значит, умираю?
— Вроде того, боярин, — ответила та, которая еще недавно умоляла о помощи. И кто кому тут, спрашивается, поможет? — Страшно тебе?
И прислушалась.
Удивленно приподняла брови.
Ответила:
— Нестрашно… удивительно, однако… вы боитесь смерти, а ты… ее ждал?
— Отчего б не ждать? — В горле клокотало, и кажется, его вот-вот вновь вывернет густою черной кровью. — Я пожил… так пожил, что лучше б под азарской саблей голову… кому снесешь?
— Найду кому…
— Михайле давай, он головастый… я к нему ходил, когда… а никто не видел, что словом связан. Рот, бывало, раскрою, одно сказать желая, а слова другие выскакивают, как лягушки… мерзотно… до чего ж мерзотно…
Он закашлялся, и девка нахмурилась, погрозила пальчиком:
— Не отвлекайся, боярин… когда ты понял, что она желает сына на престол посадить?
— Когда… да как-то вот… просто понял. Не скрывала… ненавидела их… она лютая…
Игорь Войтютович закрыл глаза.
Недолго, значит, осталось.
Примет ли Божиня истрепанную душу его? Он ведь… что сделал хорошего? А ничего… нищим вот подавал щедро, а в храм давненько не заглядывал. Сначала недосуг было, после грязным себе ж казался. Куда такому в храм?
Жили.
День за днем, месяц за месяцем… эта ездила покупать девок поздоровей, откармливала, обласкивала, заставляла поверить, что попали они в услужение к доброй боярыне… и те рады были…
А после с Игруней беда приключилась.
Он-то мужик.
И жена на игры его смотрела с насмешкой, мол, пускай себе, если и вправду нужда такая… девок своих портить не давала, а остальные без интересу.
Эта была простой.
Волос светлый. Глаз синий. Невысока. Крепка. Ладна. И смешлива. Все-то у ней ладилось, все-то горело. И в постели она не стыдилась, не норовила спрятаться меж простыней да шкур, а горяча была, как огонь. И согреваться начал.
Отходить.
А уж как понесла, то и отправил прочь, будто чуял, что не по нраву жене это новое дитя.
— Меня позорить вздумал. — В тот раз она сама явилась в его покои. — Опять пьешь? Вино до добра не доведет…
Игорь и вправду пил. Отчего ж не выпить? С вином и на душе легче становится, а то душа эта ныне что живьем похоронена.
— Чего тебе надобно?
— Избавься от своей девки… и от приплода. — Она сказала это чуть тише. Поморщилась, недовольная, что приходится говорить о таком. Он же головой покачал: нет уж, хватит. — Я требую…
— Она не вредит тебе. — Игорь наполнил кубок вином. — Если б ты мне не отказывала, как и положено доброй жене, то не было б у меня и девок. Сама бы родила дитя. Радовались бы… жили… чего тебе не хватает?
Она побелела.
И ответила:
— Справедливости!
Будто она была когда-то, справедливость эта.
— Избавься, — повторила жена, в глаза глядя. И впервые Игорь сумел выдержать ее взгляд.
— Только попробуй тронуть… своих не дала — терпи. А вздумаешь обидеть, я уж найду способ тебе… помочь.
Испугалась ли?
Навряд ли. Вот чего в ней не было, так это страха.
Скорей уж сочла она невозможным мстить какой-то девке… да и разве ж о мести речь? Нет… жила, и ладно… да и родила она дочку, не сына, который мог бы наследником стать. И Лойко дочку признал.
Пускай себе.
Хорошенькая.
Кучерявенькая. Смешливая, в мать. И росла легко, не болела. Бойкой была… и старший, вот диво, несмотря на материно шипение, к сестрице своей привязался. Как ходить стала, так и он следом, ни на шаг не отпускал. Сперва-то Игорь опасался, как бы не причинил он малой вреда, а после поглядел и рукой махнул: охота возиться — пускай себе.
Сам-то он дочь любил.
Баловал.
Да только… все одно девка.
В губы ткнулось что-то твердое. Полилось. Игорь глотал, захлебываясь, удивляясь, что вновь способен радоваться вкусу воды холодной.
— Говори, человек, мы должны успеть записать все, — велели ему. И душа, которая уже почти ступила на порог — а было кому за порогом тем встретить, — задержалась.
Клятва?
Оковы ее слетели, что листва прошлогодняя. Была клятва… и не стало.
Ей уже девятый годок пошел. Росла была не по годам. Смекалиста. Весела… а мальчишка опять занедужил. И как-то так… тяжко, слег, белый, что покойник. Целителей бы звать, да только она, как всегда, отказалась.
И Игорю запретила.
— Она ее забрала… сперва пропала… а потом нашли… во дворе… растерзанную… — Каждое слово приходилось вымучивать, и та, которая записывала их, лишь кивнула. Не сочувствовала.
Не жалела.
Хорошо.
Жалости не заслужил он.
Мог бы спасти дочь. Отослать. Ведь чуял, что не по нраву девчонка жене.
— Ее… после… сказали, что снасильничали… задушили… нашли… будто дружок мой войсковой, который у нас столовался… из бояр, но бедный… он поутряни сгинул… как и не было… нашлась холопка… видела, как он Игрушу вел куда-то со двора… только… я не поверил… не мог он… пил, конечно, беспробудно… кто не пьет? Он же… мы с ним… мы вместе в поле стояли… плечом к плечу… выжили чудом… а он мою дочь… не бывает… эта сука взяла ее жизнь.
Игорь сглотнул.
Он вновь увидел белое лицо жены, которая прижимала к сухим глазам платок да отворачивалась. И ненависть в глазах того, кого сыном почитал.
Крик его.
И обвинения… он стоял там, во дворе, над телом, прикрытым рогожей, потому как без рогожи слишком страшно оно было, изломанное, искореженное… он видел людей, собравшихся в стадо, испуганных и растерянных.
Себя беспомощного.
Руки тряслись.
В голове шумело.
— Это все ты виноват! — Мальчишка орал, и голос его вспугнул голубей, сонных по летнему часу. — Ты ему отдал… ты никогда…
Как так получилось?
Улыбка на губах жены. И понимание: она все. За что? Сила нужна стала до сроку? Или просто… не важно, главное, что нет больше девчушки ясноглазой, и ничего-то нет, кроме клятвы-ошейника и ненависти, глухой и беспомощной.
— Я пить начал… чтоб забыться… а пьяным… ударить ее по-прежнему не мог, зато говорить… многое сказывал… вреда-то от этих слов не было… не про дела ж ее говорил, а про то, что тварь она… это ж правда тварь…
— Тебе видней, человек, — отозвалась девка, посыпая бумагу песочком. — Прочти, все ли верно писано? Ты, женившись на дочери…
Она читала.
И жизнь собственная Игоря, в словах описанная, была жалка и никчемна. И значится, сам виноват, не заслужил иной… ничего… этой жизни осталась капля.
Красная.
Из пальца, клинком пробитого.
Правильно, такие бумаги только кровью и заверять… так оно надежней. И девка кивнула: мол, верно разумеешь. А потом исчезла. И шатер. И грязные шкуры. И кубок с вином недопитым.
Легко стало.
И возник перед глазами дружок прежний с Игрушей на руках. Усмехнулся и сказал:
— Спасибо, что не поверил…
— Пожалуйста, — шелохнулись губы, но ни слова не слетело с них.
Игорь Войтютович Жучень преставился перед рассветом, но нашли его ближе к полудню, когда истомленный бездействием сотник решился-таки заглянуть в шатер. Но смерть эта, пусть и ожидаемая, изменила немногое.
ГЛАВА 21 Где тайны иные перестают тайнами быть
Люциана Береславовна облюбовала себе махонький домик, который средь прочих выделялся кованым петушком на крыше да и самою крышей, заросшею мхами.
Крылечко горбатенько.
Ставенки резные.
Двор… не зарос ни малиной, ни крапивой. Напротив, травка зелененька да мягонька с виду, в ней же ромашечки белыми пуговками да желтые одуванчиковы очи.
Курослеп у ограды.
Полынь сизая, которая всякую нечисть получше иного заклятья отбивает.
И Фрол Аксютович, замерший пред калиточкой. Стоит. Пялится не то на курослеп, не то на ограду, не то на калиточку. Меня завидевши, отступил, рученькой махнул, мол, прошу, Зослава. Я калиточку и толкнула с немалым, надо сказать, подозрением. Мало ли чего ждать от них, наставников разлюбезных.
Но нет.
Ни холодом пальцев не опалило. Ни жаром. Ни… Заскрипели разве что петли несмазанные. Да и притворилась калиточка за мною. Фрол Аксютович и встрепенулся. Толкнул и…
Не подалась.
— Люциана! — Голос его едва петушка не спугнул, даром что кованый да потемневший от дождей. — Прекрати дурить!
Он по калиточке ногой саданул со всея дури. Тут бы ей прахом рассыпаться, а нет, стоит и ни на волосок не сдвинулась.
— Зослава, — Люциана Береславовна выглянула из дома, — проходите. Не стойте. И не слушайте его. Он сам не ведает, что говорит.
Ведает там аль нет, но Фрола Аксютовича ноне и наш дед Оксей услыхал бы, а уж он-то давно тугоух. Я к калиточке развернулась да рученьки развела. Мол, не серчайте, однако же ж мне с моею наставницею ссориться не с руки.
Особливо когда оная наставница страсть до чего нужна.
— Люциана!
Она юбки подобрала и развернулась. Правда, на пороге остановилась:
— Вот когда, Фролушка, ты эту границу преодолеешь, тогда и поговорим о целесообразности моего здесь пребывания. Зослава, не стойте на пороге, тут дует.
Ага, и сквозит еще.
А спину прям буравит взгляд мрачный.
— Мужчины, даже самые лучшие, порой что дети, — сказала Люциана Береславовна.
А в хате-то чисто.
Пол блестит.
Стол сияет. И самовар тяжеленный медный на нем так и пышет жаром. Перед самоваром пузатые жбаночки, пусть и не парпоровые, а самые обыкновенные, но хорошо стали.
— Вы… — Я замялась, не зная, как спросить.
Все ж таки не для меня она самовару, мнится, затевала.
— Не переживайте. Как остынет слегка, соображать начнет, так и войдет. — Люциана Береславовна на лавку села. А прямо села, сразу выучку видать. Плеченьки расправила, шаль белая на них крылами лебяжьими лежит. Волосы высоко зачесаны, и видать шею белую… — Так что у вас за беда? Говорите, пока время есть.
— Надобно… — От шла я сюда смелая. А пришла, так и все словеса мигом подрастратила. — Надобно, чтоб вы со мною сходили…
— Куда?
— Туда. — Я пальцем указала на стену, точней туда, где за стеною, по моему разумению, двор, малиной заросший, был. И Еська со своею нареченною.
— Зачем? — Люциана Береславовна бровку приподняла.
— Еська просил.
— Еська… — Она поморщилась. Стало быть, не забыла глупое его шутки, которую он на Березовую ночь учинил. — И зачем, простите, этому фигляру я понадобилась?
— Это он вам тогда свиток передал, — сказала я, в пол глядючи. Ох и чистехонек… небось тут коль и остался Хозяин, то радый этакой гостье.
— Мило… — Люциана Береславовна пальчиком постучала по столу.
Ох и громко вышло! Будто она ногтем гвозди заколачивала.
— У него еще есть…
— Очень мило… и что он хочет за свои… сокровища?
И на меня вперилась. А я ерзаю. Неямка[12] сидеть, ажно в одном месте, про которое приличественной боярыне вспоминать неприличественно, свербит. И вот дело дивное, место есть и свербит в нем, особливо когда глисты, частенько, а говорить про то нельзя.
— Чтоб вы на жену его глянули, — молвила я, мысли свои возвертаючи к делам нонешним.
— А у него и жена есть?
— Недавно завелась.
— Это он зря… жена — не клопы, заведется какая, то и замучаешься, выводя, — Люциана Береславовна встала. — Что ж, показывайте… где та несчастная, которой этакое сокровище досталось, мается.
Ну это она зазря. Еська — мужик хороший, даром что с придурью.
— А… — Я про другого мужика вспомнила, который у калиточки топтался. Вот чтой-то мнилось мне, не выпустит он нас доброй волей.
— Думаю, и он взглянуть не откажется.
Фрол Аксютович на нас глядел… как матерущий тур. Глаза красны. Голову опустил. Того и гляди на роги поднимет… и что с того, что рогов у него нетути? Он и без их страшен.
Декан, одно слово.
Я ажно присела. А Люциана Береславовна к калиточке подошла да открыла.
— Что, Фролушка, — она по рученьке его погладила, — сила — это еще не все, верно? Не злись… если бы ты не начал кричать на меня, я бы не ушла.
Он роту раскрыл. А Люциана Береславовна продолжила:
— А начнешь снова, то и снова уйду.
Тихо сказала.
Только Фрол Аксютович роту и прикрыл.
Вздохнул тяжко.
— Что ж ты упертая-то такая?
Она тоже вздохнула.
— Как и ты…
И оба замолчали, друг на друга глядючи.
— Идем, Фролушка. — Люциана Береславовна руку подала, а он и взял, осторожне, будто сахарную. — Дело есть… думаю, не ко мне одной. Верно, Зослава? И раз уж идем, то сказывайте.
— О чем?
— Обо всем, — мягко произнесла она и пальчиками щелкнула, распуская предивный цветок полога радужного. Раскрылся он над нами парасолей.
— Погоди. — Фрол к этое парасоле ладонь приложил. И полог вспыхнул ярче.
— Сил у меня по-прежнему немного…
— Ты и без них управляешься. А вы, Зослава, и вправду рассказывайте…
Ага, рассказать-то я готовая, да только об чем? О жене своей Еська сам, мыслится, расповедает. Про обряд тот, что в книге писан? Так запретят и…
А вот про сон свой могу.
Про тот, который о проклятой деревне, о Хозяине вод и книге, из человеческих шкур шитой. О другой деревне, мнится, той самой, где мы ноне пребывать изволим, и навряд ли случайно.
О монете.
И обещании.
Женихе своем неживом.
И вроде недалека дорога, да только хватило, чтоб расповедать обо всем, пускай и быстре. Они слухали, вопросами не мешаясь, за что я была благодарная. А то ж и так запуталась.
— Любопытно получается, Фрол. — Люциана Береславовна глянула искоса, с усмешкой, дескать, ведаю, что не обо всем ты рассказала.
Фрол Аксютович кивнул.
— И место выбрано не случайно… если память мне не изменяет, где-то по ту сторону болота находится небольшой такой островок… версты две до него, так? А чуть южней и место, где нынешней зимой вам, Зослава, воевать случилось.
Она улыбалась безмятежно.
Ласково.
И от этое улыбки мне сделалось страшно.
А ведь… ведь и вправду… мы ж ехали до Окуличей, как в Барсуки, а после-то свернули на дороженьку махонькую, неприметную. Тут болота.
И там болота.
Остров заклятый.
— Фрол, не молчи, ты же знаешь, я все равно докопаюсь. — Она провела пальчиками по перстенечкам. — Эти ваши мальчишечьи тайны… от них вред один.
— Люци…
— А хочешь, я скажу? Откуда вы про книгу узнали? Михаил рассказал?
Фрол Аксютович кивнул. И остановился. Стояли мы аккурат напротив дома, где Еська с супружницей малину топтали. Но полог декан снимать не спешил. Держал.
На меня глядел.
— Они все равно узнают… да и подло это — использовать их без их же согласия. Но уже поздно, да? И не в твоей силе было? Ты потому сам пошел, чтобы хоть как-то…
Он шеей повел покраснелой, в складочках. Видать, на солнце переходил, вот и попалилась.
— Успокойся. — Люциана Береславовна погладила декана по руке. — Я знаю, что ты этого не хотел. Порой нам приходится делать то, чего мы не желаем… но прямой приказ нарушить… с этой клятвой надо что-то делать.
И помертвела.
На меня оглянулась.
А я… я ж, дурища, подумала, что этакий взгляд только и ловить, когда ухнула…
Каблучки-каблучочки, звенят подковочки, летит шаль белая, шелковая, бурштыном колотым украшена. Летит, пластается крылами…
— Люци, ты совсем меня не слушаешь! — Сестрица дорогая ноженькой топнула. И задребезжали бубенчики, которыми она сапожки расшила по новой моде.
— Слушаю.
— Я стану царицей!
— Дурой ты станешь. Уже стала. — Люциана оторвала взгляд от страницы, над которой билась уже не одну седмицу. И все-то ей мерещилось, что вот-вот поймет она, как сделать, чтобы… — Он не женится на тебе, как не женился на других. Сколько их до тебя было?
Сестрицу не убедить.
Вон, губки поджала.
Ни в чем-то она, дочь младшая, балованная, отказа не знала. И теперь обиделась.
— Они просто дурами были.
— А ты умная, значит?
— Не дурней тебя. — Сестрица на лавку присела и зачерпнула горсточку орехов миндальных, в сахаре варенных. — Те, другие… они верили на слово. А я потребую, чтобы все честь по чести. Сначала свадьба, а потом уж остальное.
И глаза прикрыла мечтательно.
— Вот стану царицей и… — Левый глаз приоткрылся лукаво, — велю твоему Фролу земель отписать. Будет боярином. Тогда-то батюшка ничего сказать не посмеет.
Разорвалась нить.
И привкус слез остался на губах. Я — еще не я, а стояла, покачиваясь. И Люциана Береславовна за локоток поддерживала.
— Память, Зослава, она такая… горькая, — сказала и к Фролу повернулась. — А ты не стой столбом. Говори уже…
— Царица сказала, что книга от нее ушла.
На меня поглядел. Потер глаза покрасневшие, видать, давненько ему не случалось выспаться, и продолжил:
— С артефактами подобного уровня случается. Они сами выбирают себе хозяев. И если уж покажется им, что хозяин себя исчерпал, вполне способны оставить его, чтобы отыскать нового. И здесь уже, Зослава, не вещь служит человеку, а наоборот.
Я роту раскрыла.
И закрыла.
Как это наоборот? Вот есть у меня, скажем, вилы. Хорошие такие вилы. Вострые. Еще батькой моим деланы. Ими милое дело, что сено грузить, что траву, что навоз.
А наоборот?
Это не я вилами, а вилы мною?
— Попроще надо, Фролушка, — усмехнулась Люциана Береславовна. — Иногда, Зослава, кажется, что ты владеешь вещью… попроще, пожалуй, сложно. Не права была. Но… некоторые вещи не для людей созданы. Они сами по себе. Одному, кто знает, как совладать, подчинятся и служить станут. А из другого, кто решит, будто поймал птицу Сирин, душу вытянут, когда ж души не останется, то и сгинут… исчезнет из кошеля неразменный рубль. Или соскользнет перстень, который до того не снимался ни с мылом, ни с жиром. Сгинет кошель заговоренный… и радоваться надо бы, что отошла, да только тот, кто сокровища лишился, лишь о потере своей думать будет. Значит, царица-матушка…
— Люци!
— Прекрати, Фрол. Ваши тайны утомили… тайны вообще утомляют. Я бы от своих с радостью избавилась. Глядишь, скоро и смогу… клятва держит, пока тот, кому клялся, жив… и уже недолго.
И внове улыбнулась так, что я похолодела.
— Если исторический экскурс провести, то следует признать, что все началось в той деревеньке, которую вы, Зослава, вполне удачно окрестили проклятой. К сожалению, нам мало известно о магии прошлого… какие-то легенды. Сказки… лес, выросший из гребня. Лента, рекой ставшая. Горы из горсти камней. Вроде бы и смешно, да не смешно, если вспомнить Завершский кряж. Ты ведь бывал там, Фролушка? Темное место. Стоят буки вековые. Под кронами их темно, ни лучика не пробивается. Листва мертвая да… не важно, главное, что лес этот по сей день сырой силой напоен и стоит, не меняясь. Ни одно дерево не упало за последние триста лет, но ни одно и не выросло… не это важно, главное, что тогда встречались люди, способные управиться с силами, которые нынешним магам кажутся запредельными. К счастью, встречались нечасто… полагаю, ваш ведун…
С чегой это он мой? Я его только во сне и видела.
— …Был из тех редких, одаренных силой, которую он и использовал, чтобы заключить договор, залогом которого и стала книга. — Люциана Береславовна разглядывала малинник с видом презадуменным. Нежто Еську видит?
Аль Щучку?
— Сложно сейчас сказать, почему именно книга, но… возможно, точка привязки? Плюс человеческие жертвоприношения. Обратился ведун вовсе не к доброй силе. Как бы там ни было, книгу унесли, и договор рухнул. Деревню удалось спасти, запечатав во временной петле, но это спасение хуже гибели… хотя не сочтите меня жестокой, но наказание соответствует преступлению.
Фрол только головой покачал.
А я… мне жалко было.
И тех девок, которых в болоте топили, в жены Хозяину вод спроваживая. И тех, которые в деревне остались. Ладно взрослые, они-то могли чего переменить, а дети малые в чем виноватые?
— Книга же, выбравшись на волю, нашла себе носителя. И здесь весьма удачно вспоминается заря становления царства Росского… Фролушка, не хмурься, крамолу нам простят, если выживем. Особенно если, выживши, не станем о том распространяться… чудесная легенда о молодом князе, Божиней одаренном, и деве, в лесу им встреченной… и землях, которые сами пришли под руку светлой пары.
Она фыркнула, выказывая, что именно об этих землях думает.
— Не все там гладко было. Правители не особо хотели становиться из вольных князей чьими-то подданными, но пришлось… в книге сыскалось немало способов, скажем так, убеждения…
Фрол Аксютович исторг тяжкий вздох.
А я что?
Я гишторию любила. Он славно так рассказывал про времена былые, только отчегой-то в тех рассказах ни словечком не упоминалось, что были оные времена вовсе не так уж и благостны.
— Это программа. — Люциана Береславовна всегда умела читать по моему лицу. — Повзрослеете, Зослава, и поймете, что реальность к книжной истории отношение имеет слабое.
Я хотела спросить, отчего так, да рот прикрыла.
— Что заставило ее вернуться сюда? Возможно, некогда это была родная деревня девушки. Возможно, дело в привязке, все же артефакт тянет к определенному месту. Возможно, она осознала, что утрачивает душу… или дело еще в чем-то, нам неизвестном. — Люциана Береславовна огладила руку рукой. — Как бы там ни было, не ошибусь, сказав, что первая царица похоронена где-то здесь. Более того, ей пришлось стать хранителем книги. Незавидная роль. Прошли сотни лет, пока она не нашла того, кто добровольно и по собственному почину принял проклятый дар.
Ага… а после, значится, книга сделала Берусю царицею, только, мнится, счастья ей в том царствовании не прибыло.
И когда не стало у Беруси сил, книга сгинула.
— Она ищет хозяина, я так думаю… — прогудел Фрол Аксютович. Говорил он неохотно. — Михайло показывал записки Мирослава. Книга попала в руки женщине, которая попросила Мирослава об услуге. Почему просила? Не потому ли, что сама не могла покинуть терем? Это единственное объяснение… самой ей было книгу не вынести. Мирослав согласился. Он заглянул в книгу, желая узнать, о чем она… и книга сожрала его. Быстро сожрала. А после вернулась к новой хозяйке. Она побывала в руках Добронравы… полагаю, истинная хозяйка не имела возможности… экспериментировать в столице. Все ж таки иные силы оставляют мощный отклик. А может, подсунула подружку заемной жертвой… спросим, если получится. Но книгу надо уничтожить, Зослава. Вам ясно?
Я кивнула.
Чего уж неясного-то?
ГЛАВА 22 О душах заблудших
Егор шел за матерью.
Он так давно ее не видел. А она нисколько не переменилась. Разве что в волосах прорезались первые седые нити. Но от того боярыня лишь краше стала.
— Мама! — Егор устал.
Ноги болели.
Он посмотрел: надо же, успел до крови сбить. И главное, что кровь эта в землю уходила, будто вода в песок. А мама не оглянулась даже, не говоря уже о том, чтобы остановиться.
— Мама! — Он бросился за ней.
Вот же, рядом совсем, руку протяни… он и протянул, забывши про достоинство боярское, в тщетной попытке ухватить маму за косу.
— Мамочка…
Коса выскользнула, что угорь, сквозь пальцы. Но мать остановилась.
— Мама… пожалуйста. — Егор не удержался, упал на колени.
— Встань. — Она повернулась к нему. — Не позорь меня и свой род.
— Мама, как же ты… ты ведь…
— Я умерла. И ты умрешь, если продолжишь валяться вот так. — Она наклонилась и провела пальцем по губам. — Совсем вырос…
Покачала головой.
А потом отвесила пощечину, от которой рот Егора наполнился кровью. Ее было так много, что он не выдержал и…
Его рвало на мертвую старуху, и это было отвратительно.
«С возвращением, — раздался в голове знакомый голос. — Видишь, мальчик, и я могу быть полезен».
Болело все.
Даже волосы. И зубы. Егор чувствовал их все, каждый ныл по-своему. И боль эта заставляла шевелиться в тщетной попытке найти такое положение, когда хоть что-то перестанет болеть.
«Ничего… пройдет… а что ты думал… такое заклятье — и без последствий? — Мор успокаивал».
— П-помоги…
«Нет, дружок, ты сам. Я ж как ни крути, а некромант. Вот помрешь, тогда и обращайся».
Егор засмеялся, но его вновь вырвало, желтой желчью.
«Вставай. Давай. Помаленьку. И уходим…»
Уйти?
Он скорее уползет… если сил хватит. Долго он вообще тут валялся? Солнце стояло высоко. Над мертвой Марьяной Ивановной мухи вились, иные и по лицу ползали, и смотреть на это было… мерзко.
Сил хватило, чтобы отползти в сторонку.
— А я маму видел, — пожаловался Егор. — Она меня прогнала.
«Повезло. Наверное, любила».
— Не знаю. — Он лег на спину, потому что так хотя бы дышать мог. Правда, каждый вдох давался с трудом, и с немалым, но Егор старался.
Если уж случилось выжить.
«Любит. — Мор ощущался рядом, но больше его присутствие не раздражало. — Мертвые если уж отзываются, то не всегда затем, чтобы живых по головке погладить. Мертвым быть… страшно. Первые пару сотен лет. Только и тянет, что отыскать тело какого-нибудь дурака, который поверит, будто, впустивши в себя чужую душу, благое дело сотворит».
Егор, значит, дурак.
Пускай.
Его больше не волновало, что о нем подумают. И вообще ничего не волновало. Он лежал, прикрыв глаза, и наслаждался теплом.
Солнце, казалось, прямо над головой повисло.
И парит.
И жарит.
— Почему она не в ирии?
«Сложный вопрос. — Мор, похоже, тоже пребывал в настроении благостном, если соизволил побеседовать. — Возможно, не заслужила. А может, не захотела… ты вот ее какой видел?»
— Она уходила. — Егору подумалось, что со стороны это выглядит сущим безумием. Лежит полумертвый парень и сам с собой разговаривает. — Я догнать хотел. Поймать, а она не позволила…
«Похоже, туда и уходила… а почему задержалась? Кто знает… может, определили ей послушание такое, чтоб отходила, грехи отмолила… что улыбаешься? Думаешь, если уж мать твоя, то безгрешна? Моя вот еще той тварью была…»
— Заткнись. Мама…
«Понял, святое… не издеваюсь. Завидую даже… если бы она… я бы, глядишь, другим стал… или не стал бы… но твоя… если не грехи, то обещание… ты ведь клялся, что найдешь убийц?»
— Клялся, — вынужден был признать Егор.
Полегчало.
Не сказать, чтобы вовсе и сразу, но зубы болеть перестали. Да и в голове чутка прояснилось. И силенки появились какие-никакие, которых хватило, чтобы сесть и содрать изгвазданный кровью и рвотой кафтан.
«Это ты не спеши, — сказал Мор. — Он у тебя со вплетенной защитой, пригодится. Вон, травкой почисти. Скоро тут жарко станет. Так вот, клятву ты дал, это вы, люди, с легкостью. Не понимаете, что такие клятвы душу обязывают. Она и осталась за тобой приглядеть… или помочь, как придет час. И помогла, да… без нее у нас вряд ли получилось бы…»
Егор содрал клок травы и принялся тереть темную ткань. Бессмысленное занятие, но ему надо двигаться, хоть бы и так.
«Правильно… вон, погляди туда… — И Мор, скотина этакая — его-то что держит? — повернул Егорову голову. — Да не на покойницу гляди… левее… вон, у ограды…»
Ограда поднималась серою грязной стеной из осклизлых бревен. Чего на нее глядеть-то? Но Егор глядел, потому что отвести взгляд ему не было позволено. Сначала он не видел ничего, кроме сизоватой, подсыхающей травы, из которой торчали зеленые сочные стебли крапивы. И только когда широкие листья дрогнули, будто кто задел их, Егор заметил крысу.
Огромную крысу.
Серую.
Но сквозь серый мех просвечивала лиловая шкура. Глаза твари были красны. Хвост — белес и длинен, да и заканчивался массивным закругленным шипом.
«Падальщики потянулись. — Мор заставил Егора подняться. — Осторожней, эти стаями ходят».
Крапива шелохнулась левее.
И правей.
А затем из колючего клубка малины выкатилась мелкая тварь, которая отряхнулась, задрала хвост так, что костяной шип навис над головой, и зашипела. В следующее мгновенье тварь взлетела на мертвую старуху и вцепилась в нее зубами.
«Живыми, к слову, они тоже не побрезгуют, тем более что души здесь остатки, а мясо их интересует постольку-поскольку… давай-ка назад. Медленно…»
— Ты…
«Пока останусь».
Егор кивнул. Странным образом присутствие Мора успокаивало. Крыс становилось больше. Они выползали, подбирались к телу, визжали, скулили…
Не обращали на Егора внимания, позволяя отступить.
Шаг, и еще.
Если придется бежать…
«Побежишь как миленький. — Мор оскалился. — Главное, правильный стимул, дорогой…»
— Почему ты еще здесь?
«Почему бы и нет? С вами интересно… не волнуйся, уйду. Материальное воплощение меня волнует постольку-поскольку… не останавливайся».
Крысиное море замерло.
И Егор застыл.
Если они кинутся… все разом…
«Руки расслабь. Чему тебя учили? Руки расслаблены. Сосредоточен… и вообще, посторонись…» — Мор не без труда потеснил Егора. И на ладонях вспыхнули темно-зеленые клубки заклятий.
Крысы двинулись.
Медленно.
Егор отступал. Тоже медленно.
Осторожно. Шаг. И остановка. И еще шаг. Второй и третий. Вновь остановиться.
«Вот так…» — Мор просто перевернул руку, позволяя темно-зеленому пятну упасть на землю. И, соприкоснувшись с темной травой, которая от прикосновения этого разом поседела, заклятье развернулось, превращаясь в сотню мелких пауков.
Сотня распалась на две.
И на четыре.
«А теперь бежим…»
Егор не видел, как столкнулись две волны.
В спину донесся визг.
И хрип.
И еще, кажется, кто-то звал его по имени, а может, кровь гудела в ушах. Главное, он бежал. Захлебываясь. Через силу. Благодарный Мору, что тот держит тело, потому что у самого Егора не хватило бы сил.
— Нападение! — Он выбрался к колодцу и упал на колени. Из глотки вырвался противный сип. — Нападение…
Егор не сомневался, что падальщики были первой волной.
Люциана Береславовна обошла Щучку кругом.
С одное стороны.
С другой.
Бровку приподняла.
— Даже так. — Клеймо она не могла не заметить. — Просто очаровательно… я, конечно, понимаю, что вы личность в высшей степени неординарная…
Сказала, что выругалась, Еська и тот покраснел, то ли стыдно ему стало, что личность он неординарная, то ли не за себя, но за супругу свою переживае.
— …Но это несколько чересчур даже для вас.
Говорит и со Щучки взгляду не сводит. Та и оцепенела.
А я вздохнула, припоминаючи, как недавне сама тряслась перед Люцианой Береславовной.
Ничего.
Попривыкнет.
Обе они попривыкнут.
— Вы, конечно, отдаете себе отчет, что моя прямая обязанность доложить об этом… — она мизинчиком на клеймо указала, — украшении? И о том, что обладательница оного бродит без заботливого пригляду каторги…
— Она маг! — Еська плечи расправил.
И жену за них задвинул.
И нахмурился.
Похоже, что мысля прежняя уже не казалась такой удачною.
— И что? Полагаете, для магов каторги не найдется? — Люциана Береславовна Щучку пальчиком поманила. — А вы не притворяйтесь кроткой горлицей, все равно не поверю… подойдите…
Щучка на меня поглядела.
На Еську.
И шагнула к наставнице. Побелела вся. Губу прикусила.
— Интересно. — Люциана Береславовна взяла ее за подбородок, заставила голову повернуть. — Хиндскую кровь чую, и сильную… ваша матушка была издалека, верно? А вот внешне вы в отца пошли… к слову, Фрол, интересная тема — вопросы наследования… я хотела бы заняться. Потом.
— Потом займешься, — Фрол Аксютович руки на груди скрестил и на Еську глядел неодобрительно. Крепко, я бы сказала, неодобрительно, — если выживешь…
— Постараюсь. — Люциана Береславовна Щучку и отпустила, но только затем, чтобы пальчиком в клеймо ткнуть. И нахмуриться. — Интересно… очень интересно… вот все-таки обучение следует начинать с азов. Ни один самый примитивный артефакт не будет работать в руках неумехи. Взять хотя бы это. Казалось бы, чего проще, взял печать, накалил и поставил… заклинание само впишется в клеймо… всего-то и надо, что крупица силы для активации.
Щучка мелко дрожала, не смея взгляд отвернуть.
— А здесь и того пожалели. Если мне память не изменяет, то клеймо царев заплечных дел мастер ставит… у него силенок имеется. — Она пальцы отняла и, платочек достав, отерла.
Я уже ведала, что сие не от брезгливости, но привычка такая.
Пользительная.
На пальцах-то заразу от одного болезного к другому перенесть просто.
А Щучка оскалилась.
— Если вам не нравлюсь…
— Ты мне и не должна нравиться, — отозвалась Люциана Береславовна ледяным своим тоном. — На «нравиться» у тебя муженек есть… клеймо ставил кто-то, в ком силы не было. Следовательно, сугубо юридически, Фролушка, поправься, если ошибусь, действие это не имеет за собой законной силы.
Фрол Аксютович кивнул.
— И потому, убрав вот это украшение, — вновь отставленный мизинчик, и перстенек мигнул драгоценным камнем, — мы устраним возможную юридическую ошибку, а то и злонамеренное использование артефакта власти в ущерб оной власти.
Чего?
От Люциана Береславовна женщина хорошая, но когда она начинает от так говорить, то я всякое разумение утрачиваю.
— Ты уверена…
— Зослава, — Люциана Береславовна платочек в рукав убрала, — мы уверены?
В чем?
В том, что клеймо убрать надобно? А то… оно ж с этим клеймом никакой жизни не будет. Законно оно там ставлено аль нет, да вреда мне Щучка не чинила, и гишторию ее я видела и… и кивнула.
— Мы уверены, — важно произнесла Люциана Береславовна. — И мы займемся этим… а пока…
Она зябко повела плечами.
Да и мне холодком потянуло. Как-то вот… вроде и солнце высоко, и день ясный, на небе ни тучки махонькой, ни облачка даже, а все одно будто кто стужею зимней дыхнул. Фрол Аксютович замер.
Голову повернул, прислушиваясь.
— В дом, — бросил он коротко. — Потом с остальным разберемся.
— В дом, — повторила Люциана Береславовна. — Зослава… присмотрите за этой женой, будьте любезны. Чтобы не влезла, куда не просят.
— Я сам… — Еська нареченную под локоток подхватил.
— Заодно чтоб и этот… смотрящий не влез. А то с него станется.
— Хватит. — Фрол Аксютович вытащил из-за пояса короткую костяную булаву. — Периметр нарушен по трем направлениям, и… в дом!
Голос его пронесся громовым раскатом, а следом заухало, забухало, загудело чегой-то.
А предо мной возник Хозяин.
— Хозяюшка, беда идеть… беда-беда… — заскуголил он, сгорбившись втрое. — Гроза невиданная, буря…
— …Неслыханная, — меланхолично добавила Люциана Береславовна. — Уважаемый, в вашем доме хватит места для… дюжины раздолбаев?
— Так… хватит. — Хозяин и примолк. — Туточки недалече, и… и еще поспеете… в Замяштиной избе стены слабые. Там чуть дунь — и разваляться… дурным был хозяином, а у нас стены-то накатом. Валочки из дуба заговоренного. Сотню лет стояли и еще столько ж…
— Вот и замечательно. Фрол, ты за остальными. Если оборону держать, то там, где стены помогут.
Мне подумалось, что заперечит Фрол Аксютович, еще и прикрикнет — где это видано, чтобы баба, пущай и разумная зело, мужиками командовала. А он лишь кивнул, уточнив:
— Дойдете?
— Проведу, боярин, проведу… — пообещал Хозяин. — А у меня уж и печка растоплена. И водица греется… колодец наш хоть и неглыбокий, зато водица в нем знатная, ключевая.
— Замечательно… Зослава, что вы замерли, как неродная? Идите, показывайте дорогу… и заметьте, я ведь не спрашиваю вас, как получилось, что вы оказались в доме, где делать вам было совершенно нечего, нарушив при том прямой запрет вашего наставника. И не спрашиваю, каким образом вам удалось вернуть Хозяина… я просто радуюсь, потому как в нынешней ситуации, полагаю, любая помощь не будет лишнею… милая девочка, если тебе в голову взбрело исчезнуть, — это она уже не мне, но Щучке, которая будто бы приотстала, — то выкинь эту глупую мысль из головы. Во-первых, здесь небезопасно. Во-вторых, пока на твоем личике будет это украшение, тебе нигде не будет безопасно…
Люциана Береславовна шла быстро.
От не бегла, голову завернувши, как нашие бабы робять, когда всполошенные, но важно шествовала, не забывая ни юбки придерживать, ни заклятья плесть. И все одно я едва-едва за ею поспевала.
— А вы взаправду снять можете?
— Взаправду, — отозвалась Люциана Береславовна. — Еська, ты замыкающим. Зослава — по левую руку встань. Щит изготовь. Вы… простите, не знаю имени…
— Щучка…
— Оригинально. Держитесь в центре и не высовывайтесь, понятно? Даже если вам кажется, что вы способны помочь, все равно не высовывайтесь. В девяти случаях из десяти такая внезапная помощь идет во вред…
— Я…
Люциана Береславовна лишь повернулась и бровью повела, хватило сего, чтоб Щучка смолкла. А может, Ёськин тычок в спину ее облагоразумил.
Тиха была улица.
И светла.
И все одно свет этот серым гляделся, будто бы кто-то на солнце платок черный повесил из тонкое ткани. Вроде и видать солнце этое, а вроде… и холодком по ногам, по плечам. А в спину глядит будто бы.
— Стоять, — тихо велела Люциана Береславовна.
Мы и стали.
Никого.
И ничего.
Ветер гонит клуб пыли, да такой, перекатный… еще один показался… а там и пацук мелькнул, здоровущий… такой не то что куснуть — загрызти способный.
— Идем. — Люциана Береславовна решилась. — И надеемся, что остальные тоже подойдут. Зослава, ваш нареченный где гулять изволит?
— Не знаю. — Я не стала уточнять, про которого она. Арей-то обряд готовить повинен был. А Кирей… Кирея я со вчерашнего дня и не видела. Туточки он, конечно, да только веска хоть и огорожена забором, а все одно велика. И надеюсь лишь, что не потеряется он, поспеет.
— Это плохо… очень плохо.
Теперь уж пара пацуков к дороженьке выбрались. А один, особливо наглый, на плот всперся и оттуда на нас глядел красными глазюками.
— Кыш! — не утерпела я. От не люблю их… да то ли дивно, покажите мне человека, который бы пацуков любил. Но нынешний не сгинул, как сие приличному пацуку следовало бы, но выгнул спину по-кошачьи и заверещал.
— Зослава! — сдавленно произнесла Люциана Береславовна. — Это не крысы! Смотрите внимательней!
Да я-то уже увидела.
Пацуков, которые б хвосты над головой носили, не бываеть. А уж чтоб хвосты эти были с шипами поверху, так и вовсе…
Они сбегались.
И ужо все заборы облепили. Сидять. Глядять. И в глазищах ихних мне чегой-то этакое мерещится, а чего — не пойму, но недоброе. Жрать будуть?
Никак будут…
Кеншо-авар отошел к вечеру.
И верный сотник, заглянувши в палатку — неспокойно ему было, притом неясно, за кого больше волновался он, — застал деву, рыдающую над телом. Одежда на этой деве была разодрана, а на белых руках выделялся алый след плети.
— Он… — дева подняла заплаканные очи, и сердце сотника, очерствевшее за годы службы, засбоило, — он меня… хотел меня…
Слезы текли из глаз.
Хрустальные. Ручки дрожащие кое-как сжимали ворот рубахи, слишком тонкой, чтобы скрыть изгибы тела.
— А потом… потом захрипел… и упал… и вот… — она всхлипнула и, когда Ульгар прижал ее к себе, доверчиво прильнула к нему, — говорит… я тебя… запорю… насмерть запорю…
— Ничего, девонька. — Ульгар не отказал себе в удовольствии пнуть мертвеца.
Тому-то все равно. Вон, рот приоткрыл, толстый, некрасивый, на рыбу похож, которую из воды-то вытащили. Раззявилась эта рыба, уставилась выпуклыми глазами в потолок шатра.
— Теперь… теперь скажут, что это я его… — Она больше не плакала, но дрожала мелко-мелко, и сердечко ее колотилось под рукой.
И хотелось на руки подхватить.
Держать и не отпускать.
А мертвец… что мертвец? Жрать надо было меньше. Позабыл небось, что огонь в жирном теле сам себя гасит? Нет, в былые-то времена Кеншо-авар изрядным воином слыл, но с той поры сколько костров-то отгорело?
Обрюзг.
Привык к коврам, к шатрам да подушкам златотканым. К наложницам, готовым любое желание исполнить. К еде на тарелках золотых. В роскоши погряз и в неге. Вот и поплатился. Тело вон раздуло, глянуть страшно, а внутри, Ульгар слыхивал, у таких вот людей тоже все жиром зарастает. И приключаются с того всякие напасти.
— Ничего, девонька. — Он погладил мягкие волосы, стыдясь, что собственная рука его груба и жестка.
Небось ее-то не натирали драгоценными маслами, не мяли и не кутали в меховые перчатки, чтоб кожа былую белизну вернула.
И подумалось о том с обидой нежданной.
А чем он хуже?
Родом?
Одного роду были. И детство голозадое тоже одно на двоих. Вместе бегали в ночное. Вместе делили краюху хлеба и тыкву, водой наполненную. И не считали, кто больше глотнет. Вместе в первый поход шли. Правда, Ульгар в старом доспехе, который от брата достался, а Кеншо-авар в новехоньком, отцом справленном. И конь у него был не чета сотниковому. И сам-то держался… да в том и дело, что сгинул дружок старый, а появился владетель, хозяин Лунного пути…
А там уж и сестрицу свою сосватал выгодно. Хотя знал, что по нраву Ульгару красавица ясноглазая. И ведь обещался за службу верную, сам говорил, что, мол, были друзьями, а станем родичами. Но сие до того, как сестрица его кагану глянулась.
За нее выкуп дали золотом и кобылами белыми, жеребыми.
Мехами драгоценными.
Жемчугом морским.
И где было Ульгару с каганом равняться? Он бы и младшую взял, да… высоко взлетел старый дружок, и не выдержала высоты этого полета дружба. Были равные… или не были никогда?
— Не плачь. — Он отер теплые слезы. — Как-нибудь… пойдем.
И накинул на хрупкие плечи лисью шубу. Пусть и тепло было, да… ну как увидит кто?
Уже увидел.
Беззвучно скользнул полог палатки. И на пороге замер лысый мальчишка. Одного взгляда ему хватило, чтобы выцепить и девку, и сотника, и мертвого Кеншо-авара. Ульгар потянулся к клинку, чувствуя, что опаздывает. Недаром за этих безволосых и безропотных такие деньги платили… живой мальчишка, что ртуть… вывернется… кликнет… тревогу поднимая…
Мысли пронеслись.
И исчезли.
Пошатнулся вдруг лысый и завалился на ковры, за сердце схватившись. А девка только облизнулась и крепче прижалась к Ульгару.
— Он умер? — Тот девку отстранил.
— Нет. — Она больше не плакала, да и хрустальная нежная красота ее вдруг исчезла. — Но добить очень советую.
— Кто ты?
Она склонила голову набок и позволила остаткам рубахи соскользнуть с белого пышного тела.
— Та, кто может тебе помочь. Он ведь держал тебя при себе, верно? Что собаку на привязи… ты выполнял всю грязную работу, а он присваивал твои заслуги себе. Разве это справедливо?
Ульгар подошел к мальчишке.
Тот и вправду еще дышал.
— Но все можно повернуть… скажем, этот… — она указала на лысого раба, — напал на своего хозяина… и убил… а ты убил убийцу.
Ложь.
Но…
— Ты ведь знаешь, что надо делать? И сделаешь во славу своего кагана? — Ее голос был мягок и нежен. — Ты вернешься победителем. И выйдешь из тени этого ничтожества, которое слишком много о себе возомнило.
Можно ли было противиться этому голосу?
И клинок вошел в самое сердце раба, обрывая никчемную его жизнь. А девка облизнулась.
— Вот так… слушай меня, Ульгар… слушай и возвысишься, как никто прежде.
Перед глазами вдруг поплыло.
И в самом деле, разве не достоин он большего?
Где-то, совсем рядом, завыли волки.
Елисей очнулся.
Теперь он явственно слышал зов. Это походило на волчью песнь, но стая молчала. Лишь старый вожак поводил ушами да волчица кликнула малышей, которые были непривычно тихи. Стая слышала.
И опасалась.
Стая охотно ушла бы в глубь болота, благо имелось здесь троп, способных выдержать вес Зверя, но разве могли бросить они Елисея?
Нет.
А того манила песнь. Сладкоголосая. Медозвучная. Елисей закрыл глаза, пытаясь понять, откуда доносится она. Со стороны деревни, и значит…
Вспучилось болото, выплюнуло темный пузырь, который, коснувшись твердой земли, лопнул. А из пузыря вывалилась тварь тонкокостная, хрупкая с виду. Узкая спина с острыми лопатками да хребтом, который того и гляди прорвет синюшную кожу. Руки вывернутые. Ноги с длинными уродливыми ступнями. Куцый хвост. И узкая, по-рыбьи приплюснутая голова.
Кикимора крутанулась и, завидев волков, вздыбила острую мелкую чешую.
Мол, не троньте.
Впрочем, нечисть зверей не боялась, так, опасалась слегка. Она засвистела, а после, убедившись, что волки не сдвинулись с места, выкинула вбок одновременно и руку, и суставчатую ногу. Чавкнул, приоткрываясь, круглый рот, мелькнули белые костяные зубцы числом три, и Елисею вспомнилось, что зубцами этими кикиморы пробивают шею, а после быстро и со смаком высасывают кровь.
Тонкая пленочка, закрывавшая ноздри, лопнула. И кикимора втянула тягучую смесь лесных ароматов. А рядом вспучился еще один пузырь.
И еще.
Они выползали, что молоденькие, с бледно-зеленой тонкой шкурой, что старые, чешуя которых уже выросла до размера золотой монеты.
Они ползли, сталкиваясь друг с другом.
Сбивая с ног.
И мешаясь.
Елисей оскалился. Ему пришлось подняться, и волки переместились ближе. Пусть нечисть и не трогала их раньше, но теперь…
Старая кикимора, на спине которой поднимался костяной гребень, а с шеи свисало некое подобие ожерелья из болотной травы, замерла. Она повернула к Елисею плоскую голову и захлопала ртом. Жабры ее трепетали, роняя клочья синеватой пены.
Елисей зарычал громче.
Тварь чуяла человека.
И кровь.
Дай… дай… дай…
Елисей оскалился.
Девчонку он не отдаст. Пусть лежит, с одного боку пригретая сердобольной Быстролапой, с другого — Седым Кряжем, который слишком стар, чтобы ходить на охоту, но заботлив и мягок со щенками. Он и эту, человеческую девчонку, воспринимал как чужого щенка. И раны ее зализывал. И ворчал, успокаивая. И она, о диво, не отворачивалась и не кричала, но обвила волчью шею руками да уткнулась лицом в косматую шерсть. Теперь вот замерла, дышать и то боится, будто знает, что нечисти теплое ее дыхание — лучшая приманка.
Кикимора раскачивалась. И другие, поменьше, сползались к ней.
Против всех Елисей не выдержит даже в зверином страшном обличье. И самое разумное — уйти. Кто ему эта девчонка?
Никто.
Но… Ерема не одобрил бы. Сказал бы, что люди людям помогают, да и волки…
«Уходи… прочь…» — Елисей постарался думать так, чтобы мысли его отражали злость.
И готовность рвать обманчиво тонкую кожу.
И кикимора отступила.
Она тоже слышала зов. И в нем — обещание иной добычи, сладкой, доступной. Ее хватит на всех, если, конечно, поспешить. Кикимора была стара. Она знала, что как бы много ни было добычи, но хищников в окрестных лесах было куда больше.
И болотное воинство поспешило к лесу.
А Елисей лег.
Стоило подумать, что делать дальше. Волчья часть его не желала вмешиваться в дела людей. Эти дела и так забрали брата. Но человеческая… она помнила лица.
И тихий голос Емельки, который любил по вечерам рассказывать истории, когда свои, старые, заставлявшие морщиться Егора, но куда чаще — книжные. О странах дальних, о землях чудесных.
И Евстигнеевы ножи, с которыми тот и в кровати редко расставался, особенно в последнее время. Взгляд задумчивый, не мечтательный — мечтать тот вряд ли умел, но именно задумчивый, будто прикидывал Евстя, как ему дальше жить.
И Егорово упертое молчание, когда случались с ним приступы меланхолии. Тогда Егор вспоминал о матери и делался нелюдим, неприветлив. Он бродил, ни с кем не заговаривая, а если уж случалось к нему подойти, то отвечал кратко, нехотя. И как ни странно, именно в эти периоды он больше, чем когда-либо прежде, был человечен, понятен.
Лихая Еськина придурь, которая не больше чем маска.
И то, как маска эта сползала с кровью, когда случалась… беда.
Именно беда.
Елисей задумчиво поглядел вслед кикиморам.
Идти надо, но… что делать с девкой?
Он потянулся, позволяя телу перемениться, и человеческое показалось до отвращения слабым. К нему пришлось привыкать, хотя и недолго. Елисей сжал руку и разжал, пошевелил пальцами.
— Как тебя зовут? — обратился он к девушке, которая за его переменой глядела во все глаза, и все же в глазах этих не было страха.
Она была хорошенькой.
Раньше. Сейчас белую кожу портили уродливые лиловые рубцы.
— Б-белянка, господин. — Девушка попыталась сесть.
— Лежи.
— С-спасибо, господин.
Ей было больно.
И плохо.
И болота — не самое подходящее место для женщины, тем более раненой, тем более сейчас… болото это, словно почуяв мысли Елисея, пошло складкой, заурчало и выплюнуло черный ком утопленника, который завозился, кое-как поднялся да и пошел на зов, волоча за собой длинные хлысты гнилой травы.
Девушка зажала рот руками.
А Елисей понял, что вернуться стоит.
— Послушай. Я тебя не трону, — голос его заглушал сладкую песнь-обещание, — но ты должна будешь сделать кое-что. Когда я обернусь, сядешь на спину и будешь держаться. Пойдем быстро. Поэтому держаться придется крепко. Очень крепко. Свалишься — поднимать будет некому и некогда. Ясно?
Она кивнула.
— И будет страшно… тут не только они… всякого хватит. Сумеешь?
А может, лучше отнести ее за болото? Что зов? Елисей сумеет от него избавиться, а вот девчонке в деревне делать нечего.
Братья?
Нет у него братьев.
И там хватает… маги… и стрельцы подойдут… и надо лишь продержаться малость… и значит…
Он обернулся и лег, позволяя человеческой женщине забраться на спину. Она обвила шею руками, кое-как ногами зацепилась. Ну и ладно, Елисей постарается не уронить.
Стая поднялась.
Кроме разве что Седого и пары молоденьких волчиц, которые присмотрят за выводком малышни. А остальные… многие не вернутся, но это будет хорошая охота.
Она ждала.
Она привыкла ждать. День за днем. Месяц за месяцем. Год за годом… и вот…
Она сидела у окошка, глядя, как копошатся во дворе куры. И надо было бы ехать. Конь готов, пусть и не пристало особе ее положения верхами ездить. Ей бы заложить возок, пусть бы запрягли четверик вороной, золотая сбруя, дуга с бубенцами-колокольчиками. Подушечки мягки, сундуки просторны, все влезет, что надобно.
А что ей надобно?
Кроме, пожалуй, серой книги, которая лежала на коленях.
Пустые страницы.
Откроешь, пролистнешь, вспоминая, что вот здесь был нарисован зверь предивный о тонких ногах да массивном теле. Тело курячье, а голова волчья, клыкастая…
Как же его звали?
Куролак?
Тварь страшная, но безопасная для людей…
А ведь могла бы написать. Все помнила. Если не все, то многое… и главное, что и малости хватило бы. Тогда почему никогда прежде в голову ее не приходила эта в общем-то здравая мысль? Одна книга ушла, а другая появилась бы…
А куры квохчут.
Поторапливают. Как бы не опоздать ненароком… нехорошо было бы… сынок ждет… уже скоро, совсем скоро… она обернулась к зеркалу и удивилась тому, что видит. Страшна стала… кожа с зеленцою, губы и вовсе синие сделались, что у покойницы. Волос тусклый. Взгляд шальной.
И слезы стоят.
С чего плакать? Все ведь получилось… почти получилось…
И, заставив себя подняться, женщина вышла во двор. Рученькой махнула, и замершая было дворня — боятся, собаки, — засуетилась, забеспокоилась. Кто-то поспешил под локоток подхватить, кто-то скамеечку резную волочет, девки спешно несчастных кур гоняют.
— Коня подавайте!
И кольнуло тревогой: опоздает…
Уже опоздала.
Человек вошел во двор, хотя ворота остались заперты. И дворня в своей суете его не заметила. А может, не в суете дело, но в умении…
— Далеко ли собралась, матушка? — поинтересовался он, встав перед ней… как лист перед травой.
До осенних дождей она не доживет. Знала. Слишком быстро утекала сила сквозь пальцы, и сколько б ни лилось крови, а ни капли на них, белых, не оставалось.
— Далеко ли, близко… — Она пожала плечами. — А ты в гости, Мишенька?
— В гости.
Глаза у него хорошие, ясные… и почему она не его выбрала? Хотя… разве у нее был выбор?
— И с чем же ты явился?
Не с добром.
И не отпустит ее… хотя… силы у него немного… это только думают, что раз Акадэмия за плечами, то самый сильный в ней.
— Боюсь, с дурной вестью. — Он потупился, принимая правила игры. А похолодало, будто тень легла на двор. Легла и сгинула. Вновь солнце выглянуло, летнее, жаркое… и с чего медлила она с отъездом? Ведь ничего не держало.
Могла и вчера.
И позавчера. И седмицу тому… а она все цеплялась за дом этот, в котором, по сути своей, никогда-то не была счастлива.
— Давече преставился супруг твой. — Михаил коснулся лба сложенными щепотью пальцами. — Овдовела ты…
Умер?
Давно хотел… она не позволяла. Почему? Еще одна бабья блажь? Не иначе… опасен стал. Несдержан. Злоязык. А ведь когда-то любил, да… надышаться не мог… и если б не гордыня ее, все бы у них сладилось.
— Что ж… — Она знала, что не выглядит огорченной, как и знала, что актерствовать ныне смысла нет. Все одно не поверят. — К тому все и шло. Он был слишком несдержан что в еде, что в питье… но мне жаль. Лойко к нему привязан был.
— Как к родному отцу?
Вот и сказано слово.
Упало в песок.
Прахом стало, как стали прахом куры, за которыми в общем-то никакой вины не было. А следом упал, хрипя и суча ногами, жеребец азарский, и схватились за горло мужики… девки, те молча падали, иссушенные, пустые…
— Хватит! — Мишенька тоже кое-чего умел. И рассыпалась сама сеть темная, руки опалив. — Не усугубляй свое и без того непростое положение. Эти люди ни в чем не виноваты.
— Хочешь о вине поговорить?
Она позволила силе его пройти сквозь себя. И та отозвалась в теле тягучей долгой болью. Ничего, к боли она тоже привычная.
— Скажи, а в чем виновата была я? В том, что в недобрый час попалась на глаза твоему брату?
Мертвецы были мертвы.
Пока.
Ей будет чем удивить Михаила.
— Или в том, что посмела настоять на своем? Не легла в постель по первому его зову, как то делали другие?
Она присела на резную лавочку и сапожком пнула ближайшее тело.
Куролак являлся по ночам на луну молодую. Ступал он осторожно, потому как ноги тонкие легко ломались, зато когти на них были остры и крышу курятника снимали разом. А после кур ловили, насаживали по одной на каждый.
— Что молчишь, Мишенька? Нечего сказать? И взгляд отводишь… ты мне клялся, что любишь, только ничего не сделал, эту любовь защищая. Не пошел против брата? И верно, девок много, а брат один.
— Не надо. — Он покачал головой и постарел разом.
Или всегда-то стар был?
— Отчего же, Мишенька? Правда глаза колет? Скажи, что я должна была сделать? Уехать? Но куда? Велико царство Росское, да не всяк в нем затеряться способен. Или поддаться? Лечь, как ложились другие. Принять этакую милость, а после исчезнуть с приплодом… царская потаскуха… так их называли, верно?
Михаил не обманывался.
Ждал.
Пускай.
Им спешить некуда. Не один пришел. Сколько их там, за оградой, собралось? Хватит, чтобы скрутить, да только понимают — и у нее своя сила. Перед силой-то все шеи гнуть, что холопы, что бояре… чего ей стоит поднести ко рту горсточку пыли, дунуть, и пусть себе несет ветер, крутит над столицею черное облако, пусть позволит пасть ему да прорасти моровым поветрием.
— Ты могла уйти потом…
— Я и ушла. Вместе с сыном, когда в тереме царском для нас места не нашлось. Я не гордая была, Мишенька, но мне не оставили выбора. За что эта тварь моего мальчика убила? — Наверное, если бы она помнила, как плачут, она бы разрыдалась.
— Мне жаль.
— И мне жаль, Мишенька… — Она все ж опустила руку, позволив праху семи сожженных просыпаться на землю. Что земля? Стерпит. Вберет в себя отраву. И бесплодна станет, может, на десять лет, а может, и на все сто. Но дальше не пустит.
Не пойдет по дворам дева безглаза.
Безмолвна.
Ликом печальна. В руке у нее серп ржавый. Во второй — корзина, душ срезанных полна. Куда ступит, там доска гниет. Что покровом заденет, то тленом становится. Дыхнет, и от дыхания ее скотина ложится… а уж коснется кого, тут тому и конец.
Не пойдет.
— Ты могла выйти к боярам… кликнула бы… рассказала б… правду рассказала. И многие были бы рады. Выбирая между тобой и ею…
— Не было выбора. — Она усмехнулась. — А пойти… я ходила… к ним всем ходила… Курбичи, Вышняты, Зимуты… я просила их заступиться. Пархом с отцом моим дружен был. Меня пестовал. А как услышал, о чем речь, так сразу и затрясся. Мол, смута это… а доказательств у меня нет, стало быть, оговор… а грамота, которая жрецом составлена была, пусть и с печатью, да все одно не доказательство.
— Ты их?..
— Потом. После.
— За что?
Он и вправду не разумеет? Или разговор этот затягивает, надеясь, что сил у нее поубавится? Или разжалобить думает?
— За предательство. Кто из них этой шлюхе донес? Кто-то ведь донес… других ублюдков она не тронула, а за моим мальчиком послала… почему за ним?
— Ко мне ты не пришла.
— Не пришла, Мишенька. Ты всю жизнь боялся брата обидеть. Неужто ради меня пошел бы поперек его слова?
Да и… горько было. Обидно. И не рассказать мужчине, не объяснить, каково это, когда тебя, жену законную, вдруг беззаконною делают, когда, еще недавно в любви клянясь, этой любовью ныне попрекают. Когда грозят монастырем.
Ссылкой.
А единственная отрада — дитя твое, сынок драгоценный, из любимого да балованного помехою становится.
— Пошел бы. — Он глядел прямо и решительно, хотя всегда-то мягок был, бесхребетен. — Если бы знал, что ты его жена, не стал бы молчать. Доказательства? Нашли бы доказательства. И тебя бы укрыли. И сына твоего. И бояр бы заставили… одно дело шашни крутить с девками, и совсем другое — против Правды идти.
Сказал и замолчал.
И верно, чего уж воздух сотрясать, когда все сказано.
— Знаешь, о тебе ведь и не вспоминали… их у него много было… разных… а ты к мужу уехала. Там и жила.
Жила, если это можно было жизнью назвать.
Извечный холод.
Слабость.
И страх, что отыщут.
Отыскали. И страх отступил. Пожалуй, ныне она испытывала одно лишь чувство: огромное облегчение. Скоро все закончится. Пускай и не так, как она хотела.
— Не вспоминали. — Она улыбнулась печально. — Вот и все… ушла как сгинула, верно? Мне Добруша говорила, что так оно и надобно, что…
Она швырнула горсточку черной пыли в самое лицо Михаила, да только он отмахнулся, и осыпался проклятый пепел наземь, да только не ушел, пророс черными плетями.
— Может, не надо? — тихо спросил Михаил, когда плети эти жадные потянулись к нему. — Сдайся и…
— И ты проявишь милосердие?
Она поднесла руку к губам и впилась зубами в свое запястье. Вкус крови отрезвил.
Сдаться?
Уйти?
Позволить им… что сделают? Сожгут. И пепел развеют. Сочинят сказку о неведомом тате, который боярыню сгубил. И байке этой поверят многие с превеликой охотой.
Она рассмеялась и облизала окровавленные губы.
— Ты многое тут наговорил, Мишенька.
Сила ее темная бурлила, что пиво невыходившееся, рвалась на волю. Сейчас… она ведь знала, что час этот придет, пусть и надеялась на лучшее.
— Многое, да…
Из ее крови прорастали змеи. Жирные болотные гадюки с плоскими головами. Они расползались по двору, сливаясь друг с другом, шипя и норовя добраться до мага, который медленно отступал к воротам.
— Но ты забыл об одном… ты ведь знал… ты не мог не знать… он ведь никогда и ничего сам не делал, помнишь? Поручал кому-то… кому верил… тебе… ты ведь нашел того жреца, который связал нас перед ликом Божини.
Не отвернулся.
— Твоя клятва… она крепко тебя держала… а может, тебе удобней было, что клятва есть? Все на нее списать можно… и того жреца… что с ним сделали?
Земля дрожала.
Рассыпалась пылью. Разрасталась мелкими трещинами, из которых выползали твари мелкие да юркие. Одни на крыс походили, другие — что тараканы в блестящих панцирях. Третьи и вовсе будто моль с крылами из тумана осеннего. И белесым маревом сочились раны земли.
— Не говори. Мне неинтересно. Правда… правда, Мишенька, в том, что ты… ты ведь мстил ему?
Он, проклятый, отступал к воротам. И пусть держался золотым куполом щит, но оба знали — ненадолго это.
— Мстил. — Она встряхнула руками, рассыпая жертвенную кровь. — Конечно… он не должен был выжить, да? И ты стал бы царем. Сильным царем. Мудрым. Таким, который нужен этой земле. А он только и умел, что жрать в три горла и пить… ты его научил? Ты, клятвой связанный, не способный причинить вреда, внушил ему мысль, будто бы царю все позволено?
— Прекрати!
— Иначе что, Мишенька?
Он взмахом руки стер половину мерзкого воинства. Глупец, силы пригодятся…
— Ты злишься, Мишенька… злись… дай этой злости волю, как дала я…
— В кого мы превратились?
Стена пламени, слетевшая с ладони, стерла остатки тварей. И марево белесое проредила. Правда, сие ненадолго, но им обоим нужна передышка. Хотя бы для того, чтобы беседу закончить.
Она опустила руку и плечом повела, позволяя распасться тонкой ниточке заклятья. Темный нож с кривым клинком, будто детской рукой вылепленным, соскользнул в ладонь. И не упустил мгновенья, опалил пальцы быстрой болью.
Острый.
Это хорошо, что острый.
Она сама его делала, как учили. Сама заговаривала, сама скрепляла заговор кровью. Сама точила, выглаживала край клинка.
— В кого… я знаю, в кого превратилась я. Но у меня хотя бы причина была, согласись. Меня обманули. А потом убили. И не только меня, но моего сына. Все же, кого я полагала друзьями, просто отвернулись. Это злит, верно?
Он оперся спиной на ворота. Шаг — и за ними окажется.
Трус.
— А вот ты, Миша… за что ты ему мстил?
Показалось — промолчит. И тогда ей не останется ничего, кроме… нет, она не боялась, просто не хотела уходить вот так.
— Меня лишили свободы. Я был подростком, когда меня заставили принести эту клятву. А он был немногим старше. И ему очень понравилось, что он может отдать мне приказ. Любой приказ.
— Он тебя мучил?
— Он всех мучил! — Михаил не кричал, но тихий голос его разносился по мертвому подворью. — Потом… потом он стал царем. А я — ректором. Я был сильней. Умней. Способней. Но я все равно вынужден был подчиняться ему. А он… он никогда не упускал случая показать мне свою власть… ладно, я бы привык, но… он лишил меня детей. Моих детей. Тех, которые могли бы быть…
А он ведь тоже устал.
— Он боялся, что ты, Мишенька, займешь его место. — Ей было несложно помочь в этом признании. — И скажи, что ты ни разу не думал о таком… соврешь.
Думал он.
И не стал отворачиваться.
И отступать.
Кривовато усмехнулся. Пальцами пошевелил, разминая. Что у него в рукаве? Еще один нож? Или амулет, в котором свернуто заклятье, способное стереть и ее, и двор, и половину города? Еще что-то? Он бы не пришел сюда с одним лишь покаянием.
— Он не должен был стать царем. Он не должен был выжить, — сказал Михаил, глядя в глаза. — Я лишь… пытался исправить ошибку.
— Вино. И женщины. Много вина и много женщин. Одни и сами были рады. Другие… других он брал, уверенный в своей правоте. Третьих, кого просто не способен был взять, обманывал. А ты наблюдал… тебя не трогали ни слезы, ни обиды, ни боль чужая… ты не вредил своему брату. Ты не мешал ему. На что надеялся? Что он упьется до смерти? Или доведет бояр до смуты? У каждого ведь, если поискать, обида сыщется. А магички твои… их тоже не минуло царское внимание… и клятва клятвой, но вдруг какая найдет способ отомстить?
Пустое.
Слова лишь слова. В них ничего-то нет. А если так, то к чему тратить силы?
— Благословенная кровь иссякла, верно? — сказала она, лаская пальцами шершавую поверхность клинка.
— Верно…
Эхо.
И тишина. Звонкая. Зимняя. Такая бывает по первому снегу, на рассвете, когда льдистое солнце только-только поднимается… и в этой тишине слышно сбитое дыхание Михаила.
— Зачем ты вообще пришел? — Ей не был интересен вопрос. Но он ждал его. Так почему бы и нет?
Все-таки зимой умирать легче.
Не так душно.
— Не знаю. — Он потер левой рукой правую. — Сегодня… день такой. Все умрут.
Быть может.
Она посмотрела на небо.
Ни вороны.
Ни грача.
Ни ласточки быстрой, которая была бы добрым знаком. Только она и прежде не особо в знаки верила. А ныне и подавно. Нож лег хорошо, привычен к хозяйской руке. Всего-то и надо — решиться. А решилась она давно…
— Не дури… сдайся… даже если меня одолеешь, остановят… сдайся и…
— И что? Меня пощадят?
Нет. И хорошо, что он не стал давать лживых обещаний.
— Судить не станете. — Она позволила себе еще немного времени.
Вдох.
И другой. И третий.
— Слишком многое бы выплыло… нет, суд вам не нужен. Что тогда? Тихая смерть? Пришлете палача, который удавит, как ты удавил своего брата. Младшего… он к тебе обратился. За помощью. За заступничеством. Он думал, ты разделишь его любовь к знаниям. Вытащишь. Защитишь. Найдешь в Акадэмии уголок для изысканий… а ты просто удавил.
И все-таки он ударил первым.
Если бы она не ждала удара, пропустила бы это легкое движение пальцев. Желтый шар появился в ладонях Михаила.
И, неспособный удержать, тот выпустил его, замахал обожженными руками, выругался… нехорошо.
Она же усмехнулась: мужчины так предсказуемы… жаль, что она не знала этого раньше. Все бы сложилось иначе. Она смотрела, как медленно и важно плывет рукотворное солнце. Как прахом становятся мертвецы, сгорая белым пламенем. Как плавится земля… и кажется, собственные ее одежды занялись. Но боли она не ощущала, только тяжелую, чуть шершавую рукоять клинка.
И мелькнула мысль: все же не стоило медлить с отъездом.
А книга… куда подевалась?
Не важно.
Запах паленого волоса был отвратителен. И она подняла руку. Солнце зашипело, и рой искр впился в кожу. Будь она жива, закричала бы от боли.
Вместо этого она лишь улыбнулась.
И, перехватив клинок, полоснула по шее. Хорошо… остер… она падала, глядя на рукотворное солнце, отравленное ее кровью.
То темнело.
Кружилось.
И поднималось над двором. А следом за солнцем медленно поднимались уцелевшие мертвецы. Вот села, дернув головой, белобрысая девка, которая на кухне служила. Повела широкими плечами. Задрала бледную губу. Из горла ее вырвался тягучий рык.
А прежде пела она. Садилась на заднем дворе и пела тягучие песни о любви и купце молодом, эту любовь обманувшем, и товарки ее подпевали. Рыженькая, которая сгорела, и смуглявая, в косу алые ленты вплетавшая. Эта поднялась, стоит и покачивается.
Завозился конюх.
— Что ты… — Мишенькин голос доносился издалека. И странно было, что она сохранила саму способность слышать. — Что ты натворила?!
Ничего.
Черное солнце поднималось выше и выше… еще немного, и закроет оно нынешнее ослабевшее светило. И наступит ночь.
Продлится она недолго, но…
Она улыбалась: эту ночь запомнят многие.
Пускай.
Солнце вдруг покатилось… кувыркнулось, меняя цвет… и небо побелело. А летний жар сменился зимней стужей. Снег возник. Не белый, но тот, кровью залитый… и в этой крови лежали люди. Она вновь оказалась там, на проклятой поляне.
И навалилась боль.
Что ж, это было в какой-то мере честно.
ГЛАВА 23 Где начинается битва
Говоря по правде, дюже я опасалась, что не дойдем.
Но нет.
Вот улочка. А вот и оградка, к которой пацуки-падальщики подойти не смели, крутились, верещали, что твои поросьты, подкатывались и отступали.
— Заговоренная. — Люциана Береславовна вздохнула с немалым облегчением. — Девушки первыми. Потом ты…
Никто спорить с нею не осмелился. Хозяин, шикнувши на пацуков, ворота предо мною с поклоном распахнул. И еще рученькой так мазнул по землице, мол, проходьте, Зослава, окажите милость. И мне б прошествовать лебедушкой, чинно и с пониманием собственное важности, да только не до того было. От и шмыгнула я в вороты, мало что юбкой за гвоздя не зацепилась.
— А твой обещался оградку починить, — не утерпел Хозяин.
Отвечать я не стала.
Починить-то оно правильно и надобно, да мыслится, не буде сила нечистая ждать, когда Арей с молотком да гвоздями управится.
За мною Щучка шмыгнула, остановилась, прижалась к забору.
Еська ее за руку взял.
А она не передумала забирать.
Люциана Береславовна последнею вошла и калиточку на щеколду притворила. Может, конечно, щеколда этая и хлипкой глядится, петуху с полплевка перешибить, да только чую, что падальщикам она добре крови попортит.
— Что ж, — Люциана Береславовна юбки разгладила, — показывайте, Зослава, свое хозяйство.
От же ж… боярыня. Ее сейчас жрать станут, а она про хозяйствие. И главное, от ейного спокойствия и мне полегчало. Люциана Береславовна лишь усмехнулась:
— Нежить — не повод для паники… Божиня даст…
Чего нам Божиня дати повинна, она не сказала. В доме ж Люциана Береславовна рученькой по двери провела да и молвила:
— Зослава, надеюсь, кисти где-нибудь да имеются? Отлично. Тогда не стойте столбом, беритесь за работу… а вы, господа студенты, постарайте сделать так, чтобы в ближайшие часа два я о вас не вспоминала.
Мы писали.
Сперва-то Люциана Береславовна сама, а мне выпала работа нетяжкая: ведерко с мелом держать да кисти, кои она свои взяла, подавать, чтоб, значит, нужного нумеру. Зато, как намалевался у порога узор предивный — куда там коврам, — так и мой черед настал.
Окромя ж порогу в хате еще и стены.
И потолок.
Оконца.
Оно-то, может, и без узоров хата простояла бы, как стояла уж не один год, да и Люциана Береславовна обошлась б без моей помощи, только мне самой сие в радость и облегчение.
— А теперь, вспоминая правила малых сочетаний, мы соединяем оба блока, не забывая начертить усилительные руны… Зослава!
— Ась?!
— Вы неисправимы, но… будьте любезны, выгляните во двор. Что-то Фрол задерживается…
И пальчиком, в мелу изгвазданным, по щечке мазнула. Даром что оная щечка маковым цветом цвела. Беспокоится, стало быть, Люциана Береславовна.
И я беспокоюсь.
Вот бьется-вьется в голове мысля, что давненько уж Фрол Аксютович ушел. Мы от не торопясь всю хату, почитай, измалевали, а от него ни слуху ни духу. И как бы не вышло так, что сгинул он в проклятой деревне. Так что во двор я выглянула с охотой.
И Еська за мной ужом выскользнул.
Сунул в руку длинный волос, колечком смотанный, а с ним и другой, светлый да тяжелый.
— Не знаю, насколько это актуально…
— Чего? — Я волосья-то убрала в передничек.
— Пригодятся ли… в новых обстоятельствах.
И шею подпаленную потер.
— Пригодятся, — ответила я.
Оно-то обстоятельства обстоятельствами, а обряд лишним не буде. И чем больше волосьев соберем, тем оно верней получится.
На улицу я все ж выглянула.
Тишина.
Благодать.
Время-то добре к вечеру. Солнышко палит-жарит нещадно. Трава сера, пылью припорошена. На редких деревах лист сухой пробивается, что седина в волосах. Качаются дерева эти, будто кланяются один одному. Того и гляди заговорят человечьими голосами. Мол, как дела ваши, Осина…
Я отряхнулась, скидывая наваждение.
Верно.
Тихо туточки. Да от тое тиши мурашки по шкуре так и бегають.
— А эти куда делись?
Еська-то на забор взлетел, высунул нос свой любопытный и вниз скатился, пока этот нос какая тварюка пошустрей не обгрызла.
— Зослава, ты их видишь?
Это он про кого? Про пацуков? А и вправду сгинули где-то. И мнится мне, не сами ушли.
— Интересно…
Он прислушался.
И я прислушалась.
Тишина… а после, будто ждали этакого моменту сподручного, волки завыли на голоса разные. Да где-то близехонько, может, в самой деревне.
Загудело.
Заухало.
И волки ближей подобрались.
А после… после вихрь закрутился по дороге, поднялся до самых небес, благо небеса те низехонько обвисли, не то что вихрем, рукой дотянуться можно.
Вихрь катился.
Все ближей.
И ближей.
И крикнуть бы Люциану Береславовну, чтоб шла да глянула, а ну как вихрь энтот смететь в одночасье и ограду, и дом, и меня с Еськой. Да вот не кричится. Рот прикрыла, чтоб пылюку не глытать.
Пялюсь.
А вихрь до самых ворот докатился да и распался.
— Эй, хозяева! — Архип Полуэктович парасольку поломанную откинул да и отряхнулся, будто собака, из воды выбравшаяся. — Есть кто дома?
— А кто вам надобен? — сварливо отозвался Еська, меня в стороночку отодвигая.
— Отворяй, студент.
— А сами? — поинтересовался Еська, разглядвая наставника.
— Не наглей…
— Не наглею, это вы, уж простите, коль иное обличье примеряете, извольте повторять его в точности.
Чегой?
Я внове роту прикрыла. От же ж, воюю с этою привычкой дурной, да никак не победю. Или побежду? Надобно буде спросить у Люцианы Береславовны, как оно правильно говорится-то.
— Еська! — Я дернула его за кафтан.
— Помолчи, Зослава. И погляди… видишь, какие башмаки хорошие?
А и вправду, этаких башмаков я у Архипа Полуэктовича не видала. Красивые. Из зеленой шкуры, с носами длиннючими, которые ажно бараньими рогами закручивались. На носах этих — бубенчики. Пряжечки золотые да с каменьями.
— И поясок…
Я уж сама увидела, дивясь, как же этакой красоты не приметила. Поясок широкий, из пластин золотых, а на каждой — камень, красный ли, зеленый, и вот желтенькие тоже попадались. Камни, правда, не блищать, тусклые какие-то.
— Ишь! — Архип Полуэктович кулаком погрозил.
А после отряхнулся, и сползла шкура-морок. Встал перед воротами молодец добрый, лицом круглый, волосом кудрявый. Глаза синие-синие. Уста сахарные. До того хорош, что прямо сердце в пятки ухнуло. Вспомнилось, как малая еще я мечтала про жениха, дескать, будет аккурат от такой, весь распрекрасный, как петушок на палочке. Он же ж, руки к грудям приложивши, молвил низким голосом, от которого у меня поджилочки затряслись.
— Впусти меня, девица… за тобой явился.
— Не было печали, — пробурчал Еська.
— Возьму тебя на руки…
— Надорвешься!
Еську я в бок пихнула. Может, конечно, молодец этот и нежить препаскуднейшего свойства, зато говорит красиво. И вообще… я, конечно, не боярыня костлявая, которая лишнего бублика съесть боится, но отец мой матушку на руках нашивал, ничего, пуп не развязался.
— Унесу за тридевять земель…
— Ноги собьешь.
— Еська, помолчи!
Когда еще я такой красоты послухаю? Я ж, как ни крути, баба, а мы на слова хорошие падки, что пчелы на липовый цвет.
— В тереме поселю… на золоте есть будешь…
«На серебре спать», — вздохнула я. Эк всю сказку запоганил. Мне это золото с серебром давненько поперек горла встали. И молвила я молодцу так:
— Шел бы ты, бедолага, своею дорогой… жених у меня есть. Женихи, — поправилась, потому как врать нехорошо.
Молодец зыркнул на меня исподлобья и пальцем погрозил.
— Все одно сожру, — сказал и ощерился. Тут-то и слезла его краса, как позолота с фальшивого медяка. Встал перед воротами утопленник в зеленом кафтане. Кафтан, некогда бархатный, потускнел да дырами пошел. Сквозь них рубаху видать белую. А когда и тело покойницкое темное. Да и кафтан дивен. В плечах широк зело. Рукава пышные, жемчужной нитью шитые. С дырами, в которые атлас да шелк выглядвают. Порты — узенькие, глядеть срамно. Волосы белы и напудрены. А лицо…
Не топленник.
Топленники, помнится, страшны да безголовы. Они тепло человечье чуют и ползут на него, что мошкара на свет. Медлительны ко всему. От топленника и дите малое сбегчи способное, а этот, мыслится, хитер да быстр.
Не водяной.
Кафтан его правильно застегнут. И не льется из рукавов водица, как сие сказывали. Ко всему водяные — нежить честная, они, бывало, девку какую умыкнут, но сие исключительно ежель любовь приключается. Да и коль девка хватка, то и под водой обустроится.
Женою станет.
И уж тогда всем прочим любовям не бывать. Хорошо, коль русалок потерпит в доме своем.
Нет, не водяной…
Щерится.
Зубы острые, ровные…
Рыбняк! Точне! Или фоссегрим, коль на саксонскую манеру. Картинку этую помню, правда, в учебнике молодец был совсем нехорош, пучеглазый какой-то да пузатый. Хотя писано было, будто бы рыбняк этот горазд перекидываться и девкам головы дурить.
Увлечет.
После придушит, да не до смерти.
Под воду уволочет и там уже, в логовище своем, пожирать станет.
Жуть.
— А может, сыграть вам, детушки? — Рыбняк ощерился и из рукава скрипочку вытащил.
Мне ж вспомнилось, что в учебнике том писали, будто бы играл он дюже ладно, до того ладно, что человек обыкновенный, сию музыку заслышавши, разум утрачивал.
— А может, — Еська огневика сотворил, — спалить тебя к Моране?
— Ш-шутишь… — Как всякая нежить водная, огонь он не жаловал.
И попятился.
И вновь вихрем обернулся… и сгинул, как не бывало.
— Вот так-то, Зослава, — произнес Еська, огневика убирая. — Веселая у нас ночка будет.
Я на солнце глянула. До ночи еще прилично оставалось, а наши…
Егора подняли.
Схватили за шкирку и подняли, будто он, Егор, вовсе кутенок. Тряхнули. И осведомились хорошо знакомым голосом:
— Почто, студиозус, старушку убил?
— Я… — Егор с трудом, но обрел опору под ногами. Не падал он исключительно потому, что рука, за шиворот держащая, благоразумно этот шиворот не выпускала. — Я не хотел…
Он облизал губы.
Мор молчал.
Затаился?
И верно… небось с наставником ни одна нежить связываться не пожелает. Он же, Егора отпустивши, под локоток подхватил.
— А главное, как ты, недоучка, это сделал-то? — В голосе Архипа Полуэктовича не было гнева или раздражения, но лишь искреннее любопытство.
— Помогли, — ответил Егор, надеясь, что сейчас его не станут спрашивать, кто помог и как. А там уже, глядишь, обретет Егор ясность рассудка и придумает отговорку правдоподобную.
Если останется, кому отговариваться.
— Тут… — он сам вцепился в крепкую руку наставника, — тут… падальщики…
— И не только. — Архип Полуэктович удивленным не выглядел. — А потому, бестолочь ты моя ненаглядная, подбери сопли и давай ноженьками раз, и два… и три, и четыре… скоренько, скоренько… не заставляй себя ждать.
И лицо Егору отер жесткой тряпкой. Егор только головой мотнул, от этакой милости уворачиваясь.
Жив.
Все еще жив.
Он осознал это и рассмеялся, а от смеха едва не упал, и упал бы, если б не лапища наставника, который, этакое веселье видя, только головой покачал.
«Осторожно, — прошелестело в ушах. — Вивернии чутки…»
Дорогу Егор не запомнил.
Шел куда-то.
Ноги переставлял. А когда забывал, то его попросту волокли. Нет, он честно хотел идти быстрее, но тело не слушалось. Оно было неудобным, это тело, и без него — шальная мысль — Егору было бы легче.
А потом был бег.
И кажется, кто-то кричал.
Громыхнула грозовая плеть. Пламя выплеснулось, сметая с пути крыс-падальщиков.
Визг.
И крики.
И солнце, вдруг потемневшее будто бы. Оно замерло над самой головой Егора, такое большое, грузное, того и гляди рухнет на макушку. Покачивается уже. И Егор присел, прикрывая голову руками. Какая-то часть его понимала, что солнце не способно упасть с небосвода, но другая, мерзковатая и трусоватая, заходилась в крике от ужаса…
И когда голос сорвался, солнце исчезло.
Подаренный сонницей камень нагрелся, предупреждая о гостье. И Арей положил руку на пояс, показывая, что готов ко встрече.
— Надо же, до чего грозен… — Этот мягкий голос обволакивал, зачаровывал. Его хотелось слушать и слушать, и если бы не уголек в руке, Арей бы заслушался. — И не стыдно тебе? На невинную деву с ножом…
Она вошла через ворота, которые еще недавно — Арей точно помнил — были заперты. А теперь вот стояли нараспашку, а тяжеленный брус-засов валялся на земле. Босая девичья ножка на него наступила.
— И зачем ты вернулась?
— За кем, — поправилась невеста. — За тобой, суженый мой…
Она была боса.
И нага.
И наготы своей не стеснялась, если вовсе была способна испытывать стеснение. Она шла, ступая мягко, пробуя ножкой землю, будто сомневаясь, что выдержит та вес ее тела.
— И зачем я тебе понадобился? — Арей руку с рукояти не убрал.
— Как зачем? — Она остановилась в трех шагах. — А свадебку играть?
— С тобой?
— А чем плоха? — Невестушка повернулась боком, изогнулась, провела ладонями по бедрам. — Что кривишься, женишок? Другим вот по нраву…
— К другим и иди.
— Уже сходила. — Она ковырнула коготочком в зубах. — Один горьковат… остальные — и вовсе пустышки… потом выпью. А ты… ты сладенький.
Она это пропела и перетекла, оказавшись вдруг рядом. В лицо пахнуло медом лесным и травой свежескошенной, а еще душком кисловатым. Так бочки старые, немытые пахнут.
— Не кривись, дорогой… стерпится — слюбится.
— Иди отсюда. — Арей руку убрал, все же сталь сталью, но магия верней. Он сотворил маленького огневика, и нежить поморщилась.
— Злой ты… а я, может, с добрыми намерениями… со всей душой к тебе… я, может, помочь желаю… — Из глаза выкатилась слеза, которую нежить смахнула мизинчиком. — А ты меня… не любишь.
— Не люблю, — согласился Арей.
— Что ж… переживу. — Она вдруг усмехнулась, и в улыбке этой показала все зубы. — Мы обе переживем… к слову, моя сестрица говорила, что тебя сразу сожрать надо, но я была против… да…
— Ценю.
— Возьми. — Она протянула руку, в которой лежал длинный рыжий волос. — Вам пригодится. А книгу эту сожги, как закончишь.
— Откуда…
Она пожала плечиками.
— Тянет от тебя древней волшбой, — призналась тварь. — А она не бывает безопасной… папочка наш…
— Не твой.
— Мой, человек. — Она отряхнулась и переменилась. Нет, не исчезла нагая боярыня красоты удивительной, но ныне в красоте этой, в каждой линии тела мягкого сквозило что-то этакое, нечеловеческой природы. — Вы беретесь о нас судить, зная лишь сказания и легенды. Мы спали, мы очень долго спали… мы обессилели в этом сне, когда он призвал нас. Он дал нам тело. И поделился душой…
— Собственных дочерей.
— И что? Он любил их, а потому желал добра… мое тело болело. Кровью кашляло. А у моей сестрицы отказывали почки… и легкие. Она мучилась болями, с которыми ваши целители не способны были справиться. Что же касается душ, мы их не поглощаем. Я и есть Любляна. Только немного иная.
— Зачем ты…
— Хочу, чтобы ты понял. — Тварь больше не улыбалась. — Она любила тебя. Глупое детское чувство, в котором больше фантазий, чем правды. Но я берегу это чувство, как и любое ее. Мы сами не способны испытывать эмоций, потому и ценим чужие. А еще она очень любила отца… как и ее сестра… моя сестра… мы уйдем. У нас есть еще кое-какие дела в столице.
И надо полагать, эти дела матушке-царице не по нраву придутся.
— Именно. Громко думаешь, человек.
— Постараюсь тише… у вас было столько времени…
Она кивнула и ответила:
— И сотня сторожей, готовых причинить нам вред. Нет, мы умеем ждать… и готовы подождать еще немного.
— А потом…
Почему-то у Арея не возникло сомнений, что до столицы Любляна с сестрой доберутся. И до царицы-матушки. И до чего лишь захотят.
— А потом мы будем вольны уехать… здесь у вас неплохо, но нам милей пустыня… там дом… там другие братья и сестры… и если получится, человек, вскоре вы услышите о звероликих.
Арей очень надеялся, что не услышит.
— А ведь у тебя тоже был выбор, — задумчиво произнесла Любляна, не убрав, впрочем, руки. И волос рыжий с нее не исчез. — Ты мог бы стать великим…
— Или сожранным.
— Не без того, — улыбка у твари получилась почти человеческой, — но мне представляется, ты был бы достаточно интересен, чтобы ее детская влюбленность переросла в нечто большее. Мы бы вместе отправились туда, где ныне раскинула пески великая пустыня. Мы бы рука об руку прошли по древней дороге. Мы бы отыскали заброшенный храм…
И там Арей стал бы кем-то, кто не был в полной мере человеком.
Он вдруг увидел все ее глазами.
И великую пустыню, чьи пески были золотом, но лишь дураки да безумцы рисковали протянуть руку к этому золоту. И дорогу, сложенную из черных камней, гладких, будто не камни они — зеркала. И храм, который стерегли существа со звериными головами.
Мертвеца с лицом, спрятанным за маской.
Посох в руке его.
Алый камень, который полыхал ярко, ослепляя, обещая силу, за толику которой любой смертный отдаст душу… камень готов был принять.
И душу.
И разум.
И волю.
— Ты бы устоял. — Она оказалась близко, она обняла, положила голову на плечо, и пальцы, тонкие теплые пальцы — у нежити не бывает таких — перебирали волосы. — Ты бы сумел договориться с духом Шакк-ар-хатти… злобный старикашка, но и он устал быть вечным сторожем. Он отдал бы тебе посох.
И тогда по воле нового повелителя отступила бы пустыня. Прибрала бы пески, как баба юбки, освободила бы из плена города и акведуки, очистила бы русло древней реки. И по весне это русло наполнилось бы водой истаявших ледников.
Впрочем, весны ждать не обязательно.
Если бы Арей пожелал…
— Нет.
— Почему? — Она заглянула в глаза. — Ты ведь честолюбив, я чую… у честолюбия запах вереска. В честолюбии нет ничего дурного… ты, вчерашний раб, стал бы господином. Властителем земель столь богатых, что каждого россца ты мог бы одарить золотом, и сокровищница твоя не иссякла бы.
Он видел и сокровищницу.
Глубокие подвалы, полные что золотых слитков, что каменьев. Видел и реку, древнюю, тяжелую, на чьих берегах мыли золотую крупу. Видел алмазные копи и морской берег, где покорная земля раскрывается по слову его, выплевывая самоцветную руду.
Видел людей смуглокожих, павших ниц пред его могуществом.
Видел и нелюдей, но тоже распростертых, готовых по знаку его, Арея Солнцеподобного, идти войной. Запад и Восток. Север и Юг. Покорятся они новому Владыке во славу Древних.
— Нет. — Он с немалым трудом отогнал видение.
— Зачем ломать себя? — Ее губы коснулись его губ. — Тебе ведь этого хочется… признай… что ждет тебя на этой земле? Пустая жизнь, скучная смерть… и забвение… а там… ты бы прожил долго, очень долго…
Окруженный женами и наложницами.
Овеянный легендами.
Живым богом, восславляемым всеми Детьми Песка.
Арей с трудом стряхнул липкие сети несбыточных обещаний и высвободился из объятий той, которая лгала, как дышала.
— Нет, — повторил он.
И пусть сказанное ныне не было ложью, но лишь возможной дорогой, которая привела бы Арея… куда-нибудь, к славе ли, к смерти ли, но все одно не нужна она была ему.
Не такая.
— Из-за той девки? — Нелюдь не обиделась. Она склонила голову набок и смотрела на Арея с любопытством. — Ты отказываешься от всего из-за какой-то девки? Почему?
— Потому.
Он взял волос из ладони и спросил:
— Чей?
— Егора… поклонничек… а это — моего братца… — Она протянула второй. — Нашего братца. К сожалению, он лишь частично родня… но даже этой малости хватает, чтобы мы не могли его сожрать. Видишь, ты зря боишься. Мы уважаем чужие желания.
— Я рад за вас. — Волосы Арей убрал в кошель и, усмехнувшись, сказал: — А теперь уходи. Иначе я должен буду тебя убить.
— У тебя не получится.
— Мое дело попытаться…
Она отступила.
Не испугалась. Верно, и вправду древняя тварь, если не боится ни магии, ни стали.
— Стали? — Она рассмеялась и голову склонила. — Что ж, грозный воитель, бей… вот дева стоит нага и невинна…
Арей отвернулся.
Не самая разумная мысль, но он пребывал в странной уверенности, что тварь его не тронет.
— Зря, — донесся ее голос. — Пошел бы с нами, стал бы великим… а так — сдохнешь ни за что.
Быть может, да.
Быть может, нет.
И где-то далеко ударил тревожный колокол.
ГЛАВА 24 О возвращении, хоть и не победном
Первым наших увидал Еська.
Котом взлетел на ограду, перегнулся, едва не перекулился — я вовремя в порты вцепилась — и крикнул:
— Идут!
А после дернулся.
— Зось, отстань от штанов, чего люди подумают…
Уж не ведаю, чего он там про людей говорил, да только вновь возник при воротах добрый молодец со скрипочкой своей. На нас оглянулся, перегнулся на спину, едва пополам не переламываясь, и встал девицей красной.
От вправду красной.
Нос круглый. Щеки тоже круглые, румяные. Глазища-плошки. Ресницы длинны, коса до самое земли… оскалилась девка и ввысь потянулась. Вширь тоже потянулась. Мамочки родные, дак это ж я стою!
— Помогите! — закричала она моим голосом да вперед кинулась, стало быть, к людям, голося, что оглашенная. — Помогите!
— А и вправду, помочь надо, — молвил Еська с забору скатваясь. И штаны свои подхватил, подцепил. — Открывай, Зослава… мало ли, как оно…
Уговаривать меня нужды не было.
Ворота я распахнула и, сунувши пальцы в рот, свистнула. Оно, конечно, девке сего уметь не положено, ибо срамно и курам на смех, но я научилась, когда еще малою была и с хлопцами спорила, кто сильней, кто быстрей и кто плюнет дальше.
Плевал у нас лучше прочих Тишка.
И свистел он знатно, с переливами. Меня-то простому свисту научил, которого куры полохались.
Жаль, сгинул он, застудился, после баньки ледяного квасу хлебанувши. А может, и до того сидела во внутрях хвороба. Сгорел за два дня, и не помогли ни настои бабкины, ни припарки, ни иные…
Рыбняк на свист мой повернулся и, взвизгнувши, юбки подхватил. Да так, паскуда, задрал, что прямо до самого заду.
— А ничего у тебя ноги, — сказал Еська, добавивши: — Если не врет.
Врет он там аль не врет, но догоню и все волосья повыдергиваю! Вздумал честную девку перед людями позорить!
Я за рыбняком и кинулась.
Над головой просвистел огневик да, на землю плюхнувши, погас. Зато с земли поползли твари шустрые да мелкие… захрустело чтой-то под ногами.
— Помогите! — голосила тварь.
И руки заламывала.
— Поможем! — Архип Полуэктович рученькой взмахнул, и голова твари покатилась по улочке, подпрыгваючи. Тело постояло, кровью зеленой плюская из шеи обрубленной. — А ты чего выскочила? — Архип Полуэктович рыбняка толкнул, тот и повалился. Стоило землицы коснуться, и сполз морок. Не девка лежала в пылюке, не юноша распрекрасный, но тварюка со шкурой зеленою, мелкой чешуей та шкура покрыта. Одежа гнилая. Из старых порт лапы торчать навроде лягушачьих, с перепонками, да подергиваются.
— Так я… того…
— И этого. — Архип Полуэктович головой покачал. — Когда ж вы, оглашенные, думать начнете?
И вновь рученькой махнул, только левой. И пронесся по улочке вихрь огненный, мелких тварюк сжигая. Заверещали они, и так, что хоть уши затыкай. Я б и заткнула, только не поможет, да и рученьки сгодятся. Этак, конечно, с огнем я не управлюсь, но…
— Чего встала?! Назад давай! Показывай дорогу.
Я только и кивнула.
И сглотнула.
Евстигней стоял за левым плечом наставника. Егорка не стоял, а скорей уж на плече этом висел… Емелька держался сзади… Кирей был.
Лойко с сабелькой.
Ильюшка без сабельки, но с прутиком тонким, который, мыслится, будет мало сабельки хужей.
А вот…
Зашипело. Загудело. Захлюпало влажно, будто кто по болоту бег. И от звука этого у меня прям мурашки по шкуре поползли. Архип же Полуэктович на звук обернулся и хмыкнул:
— От неугомонные… а все почему? Потому что тупые, как студиозусы. Учишь, учишь их, а в головах не светлеет…
И вновь рученьку поднял, огонь лютый выпускаючи.
Я ж словно ото сна очнулась.
И вправду, что застыла пнем соляным? Этак и сожруть, пока глазищами хлопать буду. Сердце неспокойно? Успокоится. Аль нет. Да только не тут успокаивать его надобно. И, к воротам воротясь, придержала их, молвила, как сие учила Люциана Береславовна:
— Будьте гостями зваными в доме моем, и станет он вам надежей да защитой…
— Ишь ты! — Архип Полуэктович, не оглядываясь, огненного шару кинул да и попал аккурат в мерзопакостного вида старушку, которая в тени плота будто бы ковырялась. Бухнуло. Плюхнуло. И не стало старушки… — А ты, Люцианушка, растешь.
— Стараюсь.
Она вышла из хаты хозяйкой. Оглядела двор. И глаза потемнели, а сие значило, что переживает Люциана Береславовна крепко. Мне ажно жалко стало. Я-то с переживаниев и покричать могу, и поплакать, а боярыням сие невместно. Вот и душат слезы в себе, а оные, неизлитые, тяжестию немалой на сердце навальваются.
— Еще подойдут. — Архип Полуэктович ответил на незаданный вопрос. — Хотят пока пару-тройку сюрпризов гостям нашим оставить…
Она кивнула медленно и важно, мол, понимаю и сама сие знала, а что переживалось, так те переживания примерещились, не иначе.
Я вот села.
Я не боярыня.
И сердце в грудях колотится птицею. И в роте сухо, что выжжено… и Еська, рядом присевший, по руке гладит, успокаивает.
Живой.
И живым вернется. Рыбняк? Что рыбняк… вон, Архип Полуэктович с рыбняка голову снял и на мгновеньице даже не остановился. Арей-то, может, и не так силен, да и в нем огню хватит, чтоб и с рыбняком управиться, и с кикиморою, и с…
— На вот, — Щучка поднесла ковшик с водой, — выпей…
И сама рядышком присела, сховалась, только все одно ей любопытственно, шею тянет, глазищами зелеными на Еськиных братьев зыркает.
— Что… — Егор к оградке прилип, стоит, качается, глядит отчего-то на меня, — со мною будет?
— А мне откуда знать? — Архип Полуэктович тоже водицы принял. Ему Люциана Береславовна самолично поднесла ковшик резной. — Я не гадалка…
Пил он жадно.
И ковшик — хороший такой ковшик, на треть ведра, — осушивши, головой мотнул. Фыркнул. И, ковшик над головой поднявши, перевернул, язык высолопил, каплю ловя.
— Но я же… я ее убил.
— Кого он убил? — Люциана Береславовна ковшик отобрала и, Щучке протянув, велела: — Принеси. В сенях ведро стоит.
— Не надо. — Архип Полуэктович отряхнулся. — Сидеть нам тут долго. Воду беречь надобно. А убил этот олух Марьяну Ивановну.
— Надо же…
Мне показалось, что Люциана Береславовна на Егора с немалым уважением глянула. Я же только роту закрыла, а то и вправду этак попривыкну, буду ходить да мух ловить.
— Я… я не специально… она меня… убить хотела… она и других… она…
Он рукой махнул и сполз на землю. Сел, глаза прикрыл.
— Делайте что хотите, — сказал тихо.
— А я… женился, — в тишине голос Еськи прозвучал громко и до того бодро, что прям тошно стало.
ГЛАВА 25 Где война воюется и всякие непотребства творятся
— Фролушка…
Этот хриплый, чуть надтреснутый голос раздался за спиной. И Фрол Аксютович только и успел, что отступить, пропуская клейкую полосу языка. Привычным жестом руку выкинул, спуская огонь, и матерая кикимора заскулила, разом утрачивая былую прыть.
Кикимор было много.
Ползли с болота, что молодняк, на первую осень перелинявший, со шкурой мягонькой, только-только зеленеть начавшей, что матерые, костяными гребнями да бронной чешуей обзаведшиеся. Эти были глазасты и быстры, хитры звериной хитростью. Они искали тени, забивались в самые малые, сродняясь с ними. И сидели, не шевелясь, не дыша, готовые кинуться на добычу.
Языки у них длинны и остры.
Когти-ножи. Зубы-крючья. И радоваться надо бы, что далеко болота. В воде у человека против кикиморы шансов мало.
— Фролушка, — голос не исчез.
И не кикимора это. Кикиморы человеческую речь понимают, но и только, сами они говорить не способны. Издают звуки протяжные, свистящие, друг с другом перекликаясь, но и только.
— Фролушка, где ты?
Он остановился, переводя дыхание.
Тварей было много.
И кикиморы. И пара рыбняков, правда, совсем молоденьких, только и способных, что в девок перекидываться. Алгуша одноглазая хроменькая, которая только ковыляла да стонала, жалость вызывая.
Болотник-колода.
Этот лопнул, обдавши кикимор зеленоватой жижей.
— Все нормально? — Арей стряхнул жижу с волос. Ему тоже досталось.
— Все. — Фрол стукнул кулаком по ограде.
Не нормально.
То, что они здесь.
И то, что согласился Фрол на эту затею, которая с самого начала казалась ему безумной. И как вышло, что он позволил себя уговорить? Хотя… тут понятно, с ним или без него, а их бы послали… и лучше уж тут быть, глядишь, и вправду получится ночь простоять и день продержаться, пока стрельцы не подойдут.
— Тут крепим?
К счастью, Арей в душу не лез, хотя во взгляде его читалось… сомнения? Вопросы, на которые Фрол ответ имел, да только эти ответы и самого не радовали, что уж про других говорить.
— Тут. — Он сам зацепил нить заклятья за осклизлое бревно.
И очередную кикимору сбил пинком, только косточки захрустели.
Арей поморщился.
Не по нраву? Подумалось с неожиданной злостью, что им всем, рожденным в чистоте и холе, не по нраву здешняя грязь придется. И нежить. И зеленая слизь, которая заместо крови… и кровь — азары долго ждать не станут, к рассвету подойдут, если, конечно, сами уцелеют.
А хорошо бы…
В степи кровь сохла быстро. Мертвецы мух манили, и сонмища их слетались на поля, чтобы потом подниматься отяжелевшими черными роями. Тогда, бывало, казалось, будто само солнце сгинуло, оставив только эти вот мушиные воинства.
— Ниже тяни. — Фрол усилием воли отделался от памяти. Ишь, очнулась… кто ее просил-то?
А она в степи не бывала. Не видала ни солнца белого, ни ковыля, по которому огонь пустили. Ни деревень подпаленных азарскими стрелами.
Конницы…
На поле была, на том, где многие остались. И да не поле это — поля да пара лесков. Болотце, которое маги высушили, а землю испепелили. Стояла с целительницами, девчонками, многие из которых по сей день спать спокойно не способны.
Сеть тянулась. Ложилась ровно. И заклятья, в нее вплетенные, оживали.
Хорошо.
На крупных тварей их не хватит, но мелочь повыбивают.
— Осталось немного. — Фрол заговорил, потому что тишина была невыносима. — Сейчас активируем последнюю дюжину…
— Может… стоит разделиться? — Арей заложил еще один завиток, закрепляя блок огненного шара.
Фрол покачал головой.
— Я справлюсь.
— Верю. — Он подпитал огненный шквал, закрепленный поперек улицы. И замедление поставил. — Но не стоит… пока мелочь идет, но мало ли…
Шубуршаники держались в отдалении. Хоть и безмозглые, а чуяли, что добыча не по зубам.
В степи шубуршаники прятались в норах, выползая после заката. И если не успевали убрать мертвецов, поле наполнялось шелестом и чавканьем. Впрочем, даже когда успевали.
Твари чуяли падаль.
И просачивались что сквозь ограду, что сквозь пелену заклятий. Они спешили урвать свое, и горе было, если среди мертвецов оказывались живые.
Не вспоминать.
А оно лезет и лезет. И надо бы быстрей, только почему-то пальцы не слушаются. А сила то полыхнуть норовит, сжигая все вокруг, то припадает, рассеивается, того и гляди опустеет он…
Нельзя думать о таком. Не сейчас.
Прежде у Фрола подобных сомнений в силе своей не возникало. Наведенное? Если так, то плохо… твари, способные воздействовать на разум, куда опасней обыкновенной нежити. Надо возвращаться.
Предупредить.
Только… нить заклятья почти соскользнула с пальцев, Фрол вовремя успел опомниться и перехватить.
Арей вдруг остановился.
— Марьяна Ивановна? А вы…
И захлебнулся кашлем, повалился, схватившись руками за горло.
— Фролушка! — пропела Марьяна Ивановна медовым голоском. — Теперь-то нам никто не помешает, верно?
— Отпусти его.
— Иначе что? — Марьяна Ивановна руку сдавила, и мальчишка засучил ногами. Его было жаль. Силен. И этой силой обманут. Когда-то и сам Фрол думал, что если наградила Божиня, то теперь весь мир у ног. Только оказалось, что на каждую силу иная имеется. И сам он, катаясь в пыли, давился собственной кровью, не способный выпутаться из азарской сети. Если бы не Архип, не выжил бы.
— Иначе разговора не выйдет.
От нее несло мертвечиной, и значит, тело уже начало распадаться. Вот только сколь бы стремительно ни рассыпалось оно, а все одно сроку, отмеренного Мораной, хватит, чтобы оборвать эту жизнь.
— Что ж… пускай идет. — Она пальцы о грязный подол отерла, и Арей затих. Он дышал. И Фрол слышал, как бьется сердце.
Только бы не сглупил.
Не полез, куда не просят, решивши, что знает достаточно, чтобы побороть умертвие.
— А ты, Фролушка, не переменился… все еще о других больше, чем о себе, думаешь. — Она хохотнула утробно и себя по животу похлопала. — Может, и обо мне позаботишься?
— А как же. Похороню с почестями, — отозвался Фрол, подвигаясь к лежащему мальчишке. Щит поставить? Или просто оглушить… щит оставит шанс, но если у парня дури больше, чем силы… а оглушить — это на смерть обречь, если Фрол проиграет. Не то чтоб он в силы свои не верил, но привык сомневаться.
Только дураки себя всесильными мнят.
А от дурости его степи излечили.
И этот излечится, если, конечно, жив будет.
— Похоронишь? — Марьяна Ивановна усмехнулась кривовато. — Скор ты меня хоронить, Фролушка. Неужто я тебе дурного чего сделала?
И голос высок, плаксив. От этого голоса в ушах звенеть начинает.
Ничего, звоном Фрола не проймешь.
Он отряхнулся по-собачьи и ответил:
— Так как иначе, когда померли вы?
— Померла. — Она пожевала губу и отрицать не стала. — Как есть померла, Фролушка… убили меня… предали смерти лю-у-той…
— Безвинную?
— Про то врать не стану… хитрые поганцы… и один, и второй… и наплачешься ты с ними еще, вспомнишь старушку, которая всегда тебе добра желала, и только добра.
А силу-то тянет.
Говорочком. Глазами пустыми, руками поеденными. Пальчики сухонькие шевелятся, будто спицы невидимые держит Марьяна Ивановна и на спицы эти подбирает Фролову силу.
— Жалко тебе, да? — Она обиделась почти как живая и губу отвесила, правда, с той губы поползла на подбородок слюна, с кровью мешанная.
— Чего вы желаете?
А то так дотемна разговоры разговаривать можно. Главное же, что умертвие, не будь оно поганью, с места не сдвинется, пока досуха человека не высосет. И обыкновенное, может, Фролом и подавилось бы, а эта проглотит, и только щечки серые зарумянятся.
— Ох, Фролушка, знаешь ты, что спросить, как спросить. — И на лежащего мальчишку взглядом вперилась. — Отдай мне рыжих…
— Зачем?
— Придушу, — простодушно призналась Марьяна Ивановна. — По одному…
И ресничками захлопала. Была б она поживей и помоложе, Фрол бы решил, что глазки ему строит.
— Не могу.
— Отчего, Фролушка?
— Так ведь студенты…
— Ой, одним больше, другим меньше… кто их считает?
— Этих считают.
Она головой покачала укоризненно и обиду сыграла живо, этак и поверить недолго, что о малости просит старушка, а он, Фрол, упрямится.
— Марьяна Ивановна, — никогда-то он подобных игр не жаловал, — упокоились бы вы с миром, что ли?
— Не могу, Фролушка. — Она рученьки погрызенные прижала к грудям. — Душу гнев не отпускает. И клятва. Пока не исполню обещанное, не видать мне смерти… помоги уж.
— Детей убив?
— Так какие они дети-то? Выродки… один вот меня…
— Ни за что, ни про что? — Фрол Аксютович от паутины, которой умертвие его опутать норовило, с легкостью избавился. Пустил огня, да и полыхнула паутина та прахом, пеплом обернулась. Марьяна Ивановна лишь поморщилась и ноженькой топнула.
И от удара этого легкого треснула земля.
Засочилась млечным соком туманным.
— А об том, Фролушка, не тебе судить… Вот как предстану я пред Божиней, как спросит она меня, так ей и отвечу, нехай тогда судит, в ирий мне идти аль сгорать в пламени.
Фрол кивнул. Истинно так. Была бы живая, и от человечьего суда не ушла бы, а с мертвой только богам спрос.
— Если бы ты знал…
— Не знаю и знать не желаю.
Туман он унял. И силу мертвую погасил, сколько хватило.
— Не знаешь… ничего не знаешь… слеп ты, Фролушка, был, таковым и остался. — Теперь она говорила ровно, спокойно, и оттого не по себе делалось.
Нет, с одним умертвием Фрол как-нибудь да справится.
Божиня поможет.
— Хочешь знать, что с твоей зазнобушкой приключилось? Конечно, хочешь… спроси. Иди и спроси… и ответит она. Клятвы срок выходит… были три девицы, три красавицы… три магички… не подружки, нет… врать не стану… только одной бедой связаны. Глянулись они человеку недостойному…
Говорила она нараспев.
И покачивалась.
И казалось, сама земля качается, того и гляди сбросит Фрола, а сбросивши, раскроется трещиной глубокой, которая и обнимет его, спутает корнями по рукам и ногам. Втянет в черную пасть…
Он с трудом, но избавился от наваждения.
— Прекратите…
— Одну он обманул… другую снасильничал… только сам-то сие насилием не полагал. Как же, высокая честь… третьей приказал… были и четвертая, и пятая… много их было… что глядишь, Фролушка? Неужто сам о таком не думал?
Она подошла ближе.
Двигалась неловко, переваливаясь с ноги на ногу, широко эти ноги расставив. И на земле оставались глубокие следы, будто после смерти сделалась вдруг Марьяна Ивановна безмерно тяжела.
— Думал, Фролушка, думал… только запрещал себе. А отчего? Оттого, что боялся. Ну как ненароком до правды додумаешься, что тогда делать? Прощать? Мстить?
— Уходи.
Первый знак из запретных вспыхнул в воздухе, дыхнул ледяною силой и был стерт повелительным взмахом руки.
— Спроси у нее, Фролушка… теперь-то уже ответит… спроси и себя, ответ услыхавши, готов ли ты дальше делать вид, что ни о чем не догадываешься? А когда признаешься, тогда и отдай мне рыженьких… я подожду.
Она стерла и три следующих знака, а после, плюнув в лицо мертвой силой — будто ветром горячим повеяло, — добавила:
— Не хватит у тебя, Фролушка, силенок, чтоб со мною совладать. А потому… идите уж… и этого прибери бестолкового…
Шею потерла.
— Студиозус ноне зело наглый пошел. Никакого уважения к старшим!
ГЛАВА 26 Смутьянская
Царь-батюшка отошел перед самым закатом.
Она сидела подле постели его, сначала одна из многих, пусть и нареченная законною женой, увенчанная малым венцом, тяжесть которого сегодня ощущалась более, нежели когда-либо прежде. Первыми, когда стало ясно, что не очнется постылый, исчезли бояре.
За ними и боярыни.
За кем прислали девку с запиской. Кто и сам сообразил, что нечего более делать в этой пропахшей травами и сыростью комнате. Последними ушли холопки, тихо, тенями проскользнули мимо нее, сделавшей вид, будто не замечает теней и внезапной пустоты.
Он застонал.
Выгнулся.
И тогда она очнулась. Поднялась, преодолевая внезапную слабость. Подошла к окну, закрытому ставнями — в последние месяцы он с трудом переносил солнечный свет, — и решительно ставни распахнула. Воздух был тяжелым.
Летним.
Пахло травами и цветами. И в саду, должно быть, распустились белые розы… и желтые… и алые… было время, когда ее, дикую девочку, розы удивляли и завораживали совершенной своей красотой. Потом она поняла, что совершенство это — кажущееся, а красота… пройдет пара дней, и солнечный свет иссушит лепестки.
— Т-ты…
Он очнулся.
Надо же… всю седмицу пребывал в забытьи, только и мог, что пить с ложечки тягучие отвары да мочиться под себя. Перины пропитались и воняли.
Нет, меняли их, конечно, но… запах оставался.
— Я. — Она подошла, встав напротив окна, не желая возвращаться в смрад и тьму.
— Ты меня…
— Нет, я тебя не травила, если ты об этом спрашиваешь. — Царица не без труда сняла золотой венец, повертела да и бросила на ковры. Покатился тот, зацепился острым зубцом за шкуру да и упал. — Ты давно уже мертв был…
Он закрыл глаза.
И задышал быстро. Часто. Скоро. Она чувствовала, что ждать осталось недолго. И надо было бы уйти… если позволят. Стража, конечно, не выпустит ее из покоев царских, тут и гадать нечего. Но плоха та лиса, у которой из норы лишь один выход.
Уходить.
Тот путь, что за гобеленом сокрыт, ненадежен… многим известно про этот ход. И будут ждать… будут…
И рядом со вторым, что начинался в огромном сундуке…
Зато и третий имеется, его она сама отыскала, и он, заросший пылью да паутиной, многие годы был избавлен от дворцовой суеты. Он вел к конюшням, а уж оттуда… в том пути она оставила и костюм мужской… грудь перетянуть, рубаху попросторней надеть, кафтан черный неприметный накинуть… волосы обрезать… она ведь готова и на этакое пойти. Волосы что? Пустое. Отрастут. А там… морок накинуть…
— Ты… — Он сделал попытку встать, но откинулся на подушки обессиленный и страшный. — Ты меня не любила.
Надо же, рассудок вернулся, не иначе, чем перед смертью.
— Не любила, — сказала она, удивляясь тому, что медлит. Каждое мгновенье приближало ее к гибели. — Но разве тебя когда-либо волновали ответные чувства?
Она присела рядом.
Бежать…
Конь унесет.
Прочь от терема царского, да и из города… золота она прихватит… и каменьев, которые легче золота… и хватит этого, чтобы начать новую жизнь. Где-нибудь в городке, маленьком да унылом, которых в царстве Росском бессчетно.
Купит дом…
Скажется вдовой купеческого звания… честной вдове многое позволено… а она не соврет, говоря о вдовстве… цвет волос надо будет переменить, потому что искать станут.
Или нет?
Объявят умершей. Не признаются в этакой оплошности. Главное, что будет у нее шанс начать иную жизнь. Простую. Размеренную. Скучную.
Недоступную.
Там она, в своем еще некупленном доме, застелет полы плетеными половичками. Поставит на полки парпоровых слонов из Хинда, а столы спрячет под скатерки расшитые. Заведет кухарку толстую и пару девок, чтоб за порядком следили.
Будет хаживать на рынок сама, не по нужде, но чтобы людей послушать да сплетнями обменяться. Станет осуждать беспутную молодежь и, быть может, жертвовать милостыню. В храм заглядывать будет… и устраивать вечерние чаи для иных почтенных вдов и мужних жен…
Хорошая жизнь.
Спокойная.
— Не любила. — Он прикрыл желтые полупрозрачные веки и сделался похож на покойника, коим и являлся. — Я тебя… а ты…
— Приворожила, — ответила она. — Никого ты не любил. И не был полюбить способен.
Та жизнь, уже не единожды ей примерянная, пусть и в мыслях только, ускользала. И он улыбался, точно издеваясь.
Уходить надо.
Встать.
Решиться.
Произнести заветное слово. Бросить волос у постели, из которого встанет призрачная девка, один в один царица. И пусть эта девка навороженная ждет гостей. Пусть она подставляет им белую шею… пусть смеется, глядя, как вытягиваются лица бояр почтенных.
А она медлит.
— Если бы ты умер, когда суждено было, всем бы стало легче. — Она провела рукой по ломким жирным волосам, на которые и глядеть-то было противно, не то что прикасаться. — Но ты выжил и стал бояться смерти… так бояться… скажи, и теперь боишься?
Разум к нему вернулся.
Она слыхала, что бывает и такое.
— Нет. А ты?
— И я… нет. Наверное.
— Ты моего сына… законного…
— Я? — Она позволила себе улыбнуться. — Нет, это ты… ты, когда забыл, что давал перед Божиней слово любить и беречь его мать. Когда вздумал шутить с силами, коии ни твоему, ни моему разумению не подвластны… ты, когда ребенка не признал…
— Его бы убили.
— Его и убили, — признаваться было легко. И странное дело, тайна, переставшая быть тайной, больше не давила на сердце. — Он был славным мальчиком, да… таким серьезным… и правитель из него получился бы хороший. Получше, чем из тебя. А вот она — слишком честолюбива. Не мать — медведица, готовая заломать любого… внешне смиренна, а в душе… как могла я оставить ее? Их обоих? Я ведь надеялась, что у нас будут дети.
Он лежал.
Слушал.
— Я их…
— Отослал. — Царица поправила подушки. — Конечно. И пригрозил ей, что коль рот откроет, то в монастыре окажется… но она бы не успокоилась. Некоторые обиды не прощаются…
Она подняла влажную тряпку, брошенную в ведре с уксусной водой. Отжала. Отерла пот со лба.
— Я ведь и вправду надеялась, что мы будем счастливы… ты и я… я стану наконец свободна… буду просто жить… рожу детей…
Он рассмеялся. И от этого смеха внутри дряхлого его тела что-то оборвалось. Смех захлебнулся кровью, и она повернула голову его набок.
— Я понимаю, почему ты смеешься… я была наивна, да? Мне казалось, что уж царицу-то никто не посмеет обидеть. Что буду я милосердной ко всем, доброй… и народ меня полюбит. И боярыни… и бояре…
Она улыбнулась глупой этой полудетской придумке.
— А все получилось иначе. Мне жаль.
— Все равно ты…
Он так и не договорил. Замолчал вдруг. Вытянулся и отошел. Она четко уловила это мгновенье. Вздохнула. Поднялась. Опустила руку, касаясь жесткой шерсти стража.
— Мы еще успели бы, верно?
Он не ответил. Никогда не отвечал, молчаливый ее тюремщик, который последовал бы и в ту, другую жизнь, самим присутствием своим напоминая о прошлом.
Или не в город бежать, но в монастырь? Какой-нибудь маленький и тихий, и там, среди иных грешниц, каяться, послушанием и молитвами прощение выпрашивать? И глядишь, вправду простят. Божиня милосердна. Оставят тварь за воротами… а там… там, глядишь, и развеется она.
Страж ухмыльнулся.
Не развеется.
Пусть протрет она монастырские камни коленями, пусть снимет кожу с рук работой во благо бедных, измозолит молитвами язык… пусть… иным грехам прощения нет. И с каждым днем грехи эти лишь тяжелей становиться будут.
Где-то далеко ударил медный колокол, неся народу печальную весть: отошел государь, осиротела земля Росская. Стало быть, вправду отошел, если погас алый камень в царском венце, тем самым извещая Хранителей, что настал час.
Она вздохнула и отерла ладонью сухие щеки.
Подняла венец упавший.
Надела.
Присела у зеркала, повернувшись спиной к мертвецу, который был до того страшен, что при одном взгляде на него ее мутило. Коснулась пуховкой щек. Подчернила сурьмой брови.
Платье оправила.
Поморщилась, увидев пятно на рукаве… потом рассмеялась: скоро уже, скоро совсем пятен этих станет много.
— Договор. Ты ведь помнишь договор? — спросила царица у зверя, который наблюдал за ней огненными очами. — Конечно. Ты помнишь. Ты все помнишь… и позаботишься о ней, когда придет час.
Зверь заворчал и повернулся к двери.
Идут, стало быть. Царица поднялась и, подойдя к двери, распахнула узорчатые створки.
— Доброго дня вам, бояре, — сказала она, и голос звучал ровно, хотя глупое сердце засбоило. Все-таки умирать было страшно… почему она не сбежала?
Еще год.
Или два.
Или даже полста лет она бы прожила… а теперь вот.
— С чем пожаловали? — спросила царица-матушка, глядя на бояр с насмешкой. И те, отшатнувшиеся было, оскорбились.
— Тварь… — произнес Волчевский и ударил первым. Клинок с легкостью пробил узорчатый шелк, и жемчуга его не остановили. В тело вошел будто в масло…
Не было больно.
Почти.
И, уже упав, глядя на них, озверевших, утративших человеческое обличье, налетевших на ее бездвижное тело, ведомых одним желанием — рвать, она осознала, что свободна.
Наконец-то.
Черное солнце, выкатившись в небо, застыло. Яркое. Слюдяное. В короне белого пламени, оно пугало людей, оживляя их страхи.
И юродивый, распевавший на паперти срамную песню, застыл, вывернул голову, глядя на этакое диво в оба глаза. А после, хлопнув себя по бокам, пошел колесом.
— Веселитесь, люди добрые! — Звонкий голос его разнесся по-над площадью, заставляя людей, замерших было в ужасе, очнуться. — Веселитесь! Добрую весть несу! Несу и никак не донесу!
Он выгнулся, точно кот, и, локти расставив, закудахтал по-петушиному.
— Старое солнце поисхудало! Так царь-батюшка велел его с неба сымать! Послал магиков могучих сильно солнце править!
— Что ты болбочешь, идиот! — Толстощекий боярин потянулся было к плети, но вовремя вспомнил, что в народе юродивых любят.
— А то и болбочу! Было одно солнышко, а станет другое! Был один царь… — Юродивый смолк, хитро поглядывая. — Уж недолго осталось!
— Крамола! — взвыл боярин и пальчиком на юродивого указал, холопы было кинулись ловить, только не больно расторопничали. А может, юродивый оказался шустер не в меру. Выскользнул из цепких лап да язык показал.
— Ждите, ждите, люди! Засветит новое солнце по-новому… и править новый царь будет иначе! Не чета прежнему!
Он шмыгнул, прячась за широкие плечи дородной купчихи, которая плечи эти и расправила. А на холопов глянула мрачно, да и на своих кивнула, мол, найдется чем ответить, коль Божининого человека обижать вздумают.
— Как возьмет метлу! Как погонит прочь бояр! — Юродивый выглянул из-за спины купчихиной и боярину язык показал. — Погонит-погонит! Так и скажет, прочь подите…
И ноженькой топнул. Кто-то засмеялся тонким нервическим смехом, который тотчас и стих.
— Землицу ихнею отымет и люду простому раздаст! И велит копать землицу, пряниками мостить…
— А пряниками отчего? — спросили из толпы.
— Так вестимо! Где это видано, чтоб у кисельных рек да берега не пряничные были?! — Юродивый рученьками развел. — И всем по монетке даст! На петушка! А Юшке ажно два!
И себя в тощую грудь ударил. Тут уж и боярин хохотнул. Потянулся уже не к плети, но к кошелю, монету выцепил и швырнул под ноги.
— На вот… на петушка, предсказатель.
Где-то вдалеке гулко, тревожно ударил Царев колокол…
Терем рязенского урядника был ставлен в незапамятные времена, когда еще и царства Росского не было, но было лишь махонькое княжество удельное с городом, где сидел князь да соратники его. О том ныне вспоминали нечасто и без особое охоты.
С той давней поры, конечно, многое произошло.
Царство возникло.
И город разросся. И даже, лет полтораста тому, горел он, и так, что чудом, не иначе, дотла не выгорел. Злые-то языки сказывали, будто бы не было никакого такого чуда, а была едино воля царя, который город оный наново строить желал. Дескать, старый-то ставился безо всякого порядку, слободы одна к другой липли, а терема перемежались с землянками, где обретался народец нищий, но зело горделивый. И с того соседству лихого выходила боярам немалая убыль… от землянки-то и сгорели. Терема огонь тоже тронул, да не все.
Одни заклятьями защищенные.
Другие — амулетами.
Третьи — царскими милостями. Главное, что погорельцев, не важно, какого они звания, скоренько за реку спровадили, где ставились новые слободы, и не сами собой, а согласно плану. А на пожарище застучали молотки, завизжали пилы. Года не минуло, как затянулась горелая рана. Выросли новые терема, краше прежних. Тут-то боярство и поделилось, стало быть, на старых, которые сим гордились зело, повторяя, что тут их корни, и новых, коии для гордости поводу не имели, зато, спеша показать себя, терема ставили высокие да просторные.
Своего-то терема, если разобраться, Игорь Жучень не имел. А нынешний, в коем и обретался рязенский урядник с немногочисленным семейством своим, достался ему наследием от супруги. Был этот терем не сказать, чтобы вовсе роскошен, но крепок. Из темных бревен сваленный, мохом проконопаченный, он и морозы держал, и от жары уберечь способен был.
Имелись при тереме и птичий двор, и конюшня, и кузня, и амбар, а еще — глубокие каменные подвалы, тесанные в незапамятные времена. В одних ледники обустроили. В других — колбасы хранили да сыры выдерживали, чтоб окрепли да созрели, в третьих — бочки с винами да настойками. А в четвертых лежали славные предки боярыни ажно до тридцать восьмого колена, когда, собственно, лег на мраморную доску Вышекрут Ингварович, бывший некогда князем да княжество свое сменявший на шапку боярскую и привилеи,[13] новым царем даденные.
Лег он не один, но с тремя женами любимыми, с собакой да наложницами.
Следом за отцом, память его почитая, отправился и Вышнята Вышекрутович, у коего жена уже была одна, зато холопок набралось с полдюжины, едва в телегу поминальную все влезли. После-то, видать, понявши, что для этаких похорон вскорости никаких подвалов не хватит, хоронить стали без телег и наложниц, разве что когда собаку любимую аль сокола отправят следом за хозяином. И ложились бояре, кто стар, кто зрел, а кто и вовсе младенчиком.
В гнезда тесаные.
На доски мраморные.
С мечами да с бронею. С золотыми платьями и драгоценностями. С книгами или иным скарбом, покойному дорогим. Ложились и лежали себе тихонечко, пока черное солнце их к жизни не воззвало.
Первым поднялся Вышекрут Ингварович.
Сел.
Шеей крутанул, которая и захрустела. Прошедшие столетия иссушили плоть, но сие Вышекрута не остановило. Зову последней из рода повинуясь, он сполз с доски, а следом потянулись и жены, и наложницы…
Во дворе стало людно.
— Давай! — голос этот пробился сквозь гул пламени, которое объяло мертвецов, да и сползло, бессильное причинить им вред. Оно уже прошлось по двору, тронуло и конюшни, и амбары, и птичий двор, испепелив пару дюжин оживших кур.
Прошлось по умертвию-кобелю, сорвавшемуся с цепи.
Обратило в прах четверых упыриц, в которых превратились холопки, да и погань-драугра не пожалела. Вот только древние Вытятичи оказались не по силам огню. Вышекрут поднял тяжеленный топор, коий служил ему верой и правдой при жизни, да рассек огненную струю. Поднял щербатый щит, и полыхнуло от него силой, которая разметала остальных мертвяков.
— Миша, уходи! — крикнули из распахнутых ворот. — Сейчас мы…
Ректор Акадэмии покачал головой. Уйти? Да, самое разумное было бы, да только… он вдруг ощутил безмерную усталость, такую, что хоть сам шею под топор подставляй. И не в теле — душа опустела.
Он поднял щит, принимая на него сырую мертвую силу.
Мертвец оскалился.
Зашипели жены.
Змеями скользнули наложницы, подбирая клинки… и замутило, закрутило… они выходили когда по одному, когда и стаями. Не брели слепо, не крутили головами, пытаясь уловить живое тепло. Нет, их глаза, напоенные силой последней жертвы, самой большой, на которую лишь способен человек, горели черным пламенем, гневом неизлитым.
— Купол! — Михаил крикнул, надеясь, что будет услышан, что те, кто пришел с ним помощью и поддержкой, не станут спорить.
Эту заразу нельзя было выпускать.
Мертвец раззявил пасть.
Смеется?
Он, лишенный памяти, но не разума, наполненный чужим гневом и единственным желанием — убивать, был страшен. Но Михаил от страха отмахнулся.
Ему ли бояться?
Нет.
Отбоялся… когда понял, что старший братец будет жить.
И когда осознал, что волей отцовской, Правдой и судьбой привязан к нему поводком кровной клятвы. И когда увидел, к кому привязан…
— Если бы он был другим, — сказал он это мертвой женщине, которая, к счастью, попыток подняться не делала. — Если бы он был хотя бы самую малость другим, ничего бы не случилось.
Плеть, из ветра сплетенная, ударила по щиту, и отозвался тот протяжным гулом. Кувыркнулись девки, этой плетью перерубленные… и следом, не позволяя нежити отступить, Михаил кинул заклятье, которое превратило спекшуюся землю в болото.
А болото наполнил пламенем.
Огонь очищающий… и странное полузабытое ощущение свободы.
Слетели оковы кровной клятвы. И значит, вот-вот ударит Царев колокол, возвещая народу, что царь-батюшка помер… все-таки помер.
Сдох, собака.
Михаил рассмеялся, хотя смех его был тем же безумием. Сколько лет… сколько потраченных впустую надежд, что еще немного… нет, ему не корона надобна была. О шапке этой, тяжести невыносимой, он никогда-то не мечтал. Нечестолюбивым уродился… а вот о свободе…
О том, чтобы, в терем являясь, не дрожать в ужасе, думая, что еще придумал этот ублюдок, вымещая бессильную свою ярость. И зависть. И вот ведь диво, царем был он, владетелем всех земель Росских, властителем всех людей, на оных землях живших, а завидовали Михаилу.
Мертвяки шли.
Крутанулась женщина в золотом платье, вскинула истлевшие пальцы над головой. Ощерилась. Зубы черны. Щеки поедены. Сама страшна… никак, даром ее Божиня наделила. Если так, то плохо…
Эта сила сковала пылающее болото, а заодно и тех, кто в нем застрял. Мертвецам плевать на других мертвецов. И пусть дергаются, пусть скулят, бессильные выбраться из ловушки, другие пройдут рядом.
Хорошо.
Не хватало, чтобы нежить помогала друг другу…
— Миша, отойди… ребята справятся… — На плечо легла тяжелая рука, и Михаил понял, что не выдержит этой тяжести. Он покачнулся, но упасть не позволили. — Говорили тебе, не суйся… у тебя своя работа, у нас — своя.
Некроманты входили во двор…
Пятеро.
Десятеро… выпускники… этого вот, чернявого, Михайло помнит распрекрасно. Три года как выпустился, а надо же, пришел по зову. Горе горькое, а не студиозус. Сколько он крови преподавательской попил своими-то шуточками. А теперь вот смеху нет в глазах. Улыбка осталась, только кривобокая, и седина в волосах.
Дружок его шрамами обзавелся.
А вот Янчик, светленький и кучерявенький, больше похожий на барчука молоденького, нежель на некроманта немалой силы, прежним остался.
— Не заминай. — Декан факультета ноне явился не в цивильном облачении, но в черном, изрядно поношенном костюме, коий носил по праву. — У нас свои… методы.
И мертвяк, будто поняв, что сказано, клацнул зубами.
Михайло вывели.
Передали кому-то… целители? Марьяна ушла… Марьяна… надо было остановить, а он глядел, не вмешиваясь, не вникая в то, что перед самым носом происходило. Да и то, ему ли было дело? Царская кровь… клятвы хитры… и признай братец своих ублюдков, которых полцарства, не меньше, Михайло пришлось бы и о них заботиться.
А так он лишь смотрел.
Не мешал.
И в том повинен.
Он без сил опустился на землю. Обнял себя, силясь согреться, но мелкая противная дрожь не отпускала. И солнце, черное, яркое, нисколько не грело, как и шерстяное одеяло, кем-то на плечи брошенное.
— Михаил Егорович, — ломким баском обратился к нему голенастый мальчишка. Некромант. Четвертый год… нет, уже пятый, конечно. — Вы тут посидите? Или к целителям проводить? Просто… тут работы много… и мне бы…
Он переминался с ноги на ногу, не зная, как и что сказать дальше.
А ведь работы у них и вправду много, что у этого, чье имя ускользало из памяти, что у приятеля его, худого, почти изможденного с виду, что у прочих. В городе ныне беспокойно.
— Идите, ребята. — Михайло прислонился к чему-то твердому, то ли, забору, то ли, стене. — Идите…
Не только эти мертвецы восстали.
Иные, конечно, попроще будут, разве что попадется кто, кровью с родом связанный, а потому и сильный, не в пример прочим, но с людей для страху и обыкновенных мертвяков будет. Да и не только для страху.
— А вы… — подал голос худенький.
Какой из него некромант? Соплей перешибить можно… а туда же, в герои.
— А я тут посижу… немного… Поберегите себя, ребята.
Кивнули оба.
Хорошие мальчишки. Все они хорошие, когда мальчишки, когда девчонки… пусть себе живут, пусть играют в свои игры, которые кажутся им взрослыми и важными. И если будет милостива к ним Божиня, то пройдет время, и поймут все…
Ушли.
Хорошо, что Кавьяр своих выпускников загодя кликнул. Как чуял, что придется… радиус бы действия просчитать… на сколько хватит? На версту? Две? Ничего. У кладбищ сигнальщики поставлены. А Белый город и вовсе перекрыт. Тут ребята скоренько сработают, заодно и практика будет… а выпускнички за молодняком приглядят, ну и если случится встретить кого посерьезней обыкновенного упыря, то…
Михайло усмехнулся и нос отер.
Кровит.
Это от перенапряжения. Пройдет… надо посидеть чутка. Солнышка бы, да не черного, но обыкновенного, которое и греет, и печет. Ничего, и оно вернется, дайте срок. Ни одно заклятье не длится вечно.
Где-то что-то бухнуло, грохнуло… никак, студенты, волю получивши, разгулялись… вот же ж… сгинет солнце, избавятся люди от страху, и потянутся в Акадэмию жалобщики да кляузники возмещения ущербу требовать. И не докажешь им, что, когда б не студенты, всех бы нежить пожрала.
Надо будет с каждым встречаться.
Рядиться…
А еще, и думать нечего, все нынешние беспорядки на Акадэмию спишут. И найдутся средь бояр такие, которые под этот шум требовать будут, чтобы магов всех думе подчинить.
Нет.
Доволи.
Михайло не позволит. Эта мысль странным образом придала сил. И, вытерши свой нос, Михаил Егорович поднялся. Огляделся.
Так и есть, мальчишки сами не утерпели, сбежали мертвяков воевать — что с них, с детей, взять-то? — но и его без присмотру не бросили.
— Кто таков? — Этого паренька, взъерошенного и растерянного, что воробей молоденький с гнезда выпавший, Михаил смутно помнил.
— Надежа я, Окшанин. — Тот вскочил и кафтанчик одернул. — Третий курс.
— Боевик?
Надежа зарумянился, очи потупил и сказал шепотом:
— Целитель.
От уж диво дивное… конечно… силы у него изрядно, его боевики забрать хотели, но паренек на вступительных твердо сказал, что воевать каждый дурак способен, то ли дело исцеление.
— Тогда исцеляй, — махнул рукой Михайло, и паренек, будто этакого дозволения только и ждавший, подскочил, за руки схватил и замер.
— У вас обыкновенное истощение, — произнес он спустя минуту. — Из нынешнего… это пройдет.
Михайло хмыкнул.
Надо же, а говорит серьезно, будто уже настоящий целитель, а не третьекурсник.
— Меня куда сильней беспокоит ваша аура. Она почти полностью уничтожена… ощущение такое, честно говоря, что с вас ее сдирали, как…
— Как шкуру? — подсказал Михайло.
И паренек кивнул.
Верно… так и сдирали… раз за разом, за каждым глупым приказом, в котором не было смысла, но лишь желание утвердить собственную власть. За каждой попыткой устоять, не подчиниться… за…
Он всегда сдавался.
И ненавидел себя за это.
— Михаил Егорович, — паренек вывел из задумчивости, — давайте я с вами силой поделюсь? У меня много, а вам надо… да и… я тут так стою, а вы людям поможете, да?
Сила его была чистой, что вода родниковая.
И с каждой каплей прибывало ясности.
Дурень.
Вот истинно дурень… пошел играть… свободы захотел. Справедливости. Кому она нужна, эта справедливость… мальчишек бы уберечь, таких вот ясноглазых.
Акадэмию сохранить.
Думские из шкуры вылезут, пытаясь ошейник на магов накинуть… и надобно будет пройти по краю между одними и другими, и третьим ничего не пообещать, и четвертым не посулить… и кто это делать будет? Фролушка силен, да только излишне прямолинеен. Архип чужой, этого не забудут… Некроманта во главе? Вой поднимут, хотя… может, бояться станут?
Или потом уж на покой, с делами разобравшись…
— Так, Надежа. — На ногах Михайло стоял крепко.
После себя пожалеет.
— А проводи-ка ты меня…
Слева вновь громыхнуло, и поднялся столп огненный.
— От туда и проводи, — велел Михаил Егорович, — пока эти старательные мне половину города не спалили.
ГЛАВА 27 О делах скорбных
Люциана Береславовна самолично отворила калиточку Фролу Аксютовичу, и он, стряхнувши беспамятного Арея на землю — так бы и упал, когда б не подхватила, — сказал:
— Поговорить надо.
— Надо, — согласилась Люциана Береславовна и, к наставнику нашему повернувшись, добавила: — С вами обоими… — А после улыбнулась и так счастливо произнесла: — Наконец-то…
И все трое ко мне повернулись. А я что? Я от стою. Жениха своего держу, который то ли живой, то ли мертвый, то ли вовсе не понятно какой. Этак я и овдовею, замуж не сходимши.
— За ворота чтобы носу не выказывали, — велел Архип Полуэктович, и Еська радостно закивал: мол, ни носу, ни уха, ни даже мизинчика. Только ему отчего-то не поверили. И Фрол Аксютович этак хитро пальцы скрутил, будто два кукиша одною рукой справляючи. С того на воротах повисла зеленоватая пелена.
— Так оно надежней.
— Обижаете. — Еська губу отвесил, стало быть, обиду выказывая. Да только энтим не до его было. Переглянулись вновь, и Люциана Береславовна молвила:
— На чердаке спокойно будет, а то… людно как-то.
Ага, людно. Вона, Щучка мало что под печь не забилась, чтоб, значится, лишнего разу на глаза братовьям Еськиным не попадаться. Кирей на лавке лег, дескать, скоро убивать станут, а он не отдохнувши. Ильюшка в углу с книжицею сел. Лойко, тот вокруг хаты бегает, траву топчет, места себе не находячи. Евстя ножи точит, Емелька молится.
И вправду, только и осталось, что чердак.
— Да брось ты его. — Когда за наставником дверь закрылась, Еська меня за руку взял. — Эх, жаль, что Лиса нет, послушали бы, чего они там…
И на меня глядит, будто бы ведает, что послухать я могу.
А я могу?
Арея я не бросила, положила на травку, под голову сумку сунула.
— Ты ему еще лицо платочком прикрой, — присоветовал Еська.
— Зачем?
Дышить. И сердце стукает в грудях. И значится, живой, а что обеспамятовавший, так, может, ослаб?
— Ну… чтоб солнце в глаза не светило? Не?
Еська рядом плюхнулся.
— Зось, а Зось…
— Чего?
— Тебе не любопытно?
Любопытно. От уж где правда, там правда… еще как любопытно, прям свербит все от этакого любопытства.
— Это ж твой дом, — не успокаивался Еська. — Скажи Хозяину…
Оно-то верно, да, думаю, супротив Хозяина они постерегутся, а вот колечко, Люцианой Береславовной оставленное… Еська скоренько купола навесил. Может, не такого, чтоб вовсе ничего не слыхать, но какой уж получился.
Поначалу-то тихо было.
Будто ктой-то дышит, грузно так, тяжко, как старый Курман, который весу немалого, а худеть не желаеть, не разумеючи, что вес энтот на сердце его камнем неподъемным ложится. Вот будто бы досточка скрипнула, Еська ажно подскочил.
На меня глянул. А я что? Я пальцу к губам прижала, мол, молчать надобно. Он и кивнул.
Загудело.
Ухнуло.
И внове стало тихо-тихо.
— Люциана, у нас как бы дела имеются, — голос наставника звучал ясно.
И рядышком.
Я оглянулась, убеждаясь, что не стоит Архип Полуэктович за моею спиною многострадальною. Он же ж могет. Я зазеваюсь, а он руку на плечико возложит и спросит, пошто подслухиваю. Но за спиною наставника не было, а была ограда, вороты и кикиморы, которые к энтим воротам сползались. Меж лап их чешуйчатых пацуки-падальщики сновали. От и ворон лысый на плот сел, захихикал человеческим голосом.
Вот он, значится, каков — свету конец, Еськой предсказанный.
— Прости, не знаю, с чего начать.
— С начала попробуй.
— Сначала… начало далеко… помнишь Никодима?
— Этого засранца лучше к ночи не поминать.
— Архип!
— Чего? Был засранцем. И помер засранцем и…
— Я была виновата.
— Чего? Люциана, ты, конечно, всех милей, всех румяней и вообще, но на рожон он сам полез и получил заслуженно. Лучше пожалей тех, кого этот засранец… и не надо на меня так смотреть! Я уже взрослый и могу выражаться так, как сочту нужным… так вот, кто из-за него погиб…
Она вздохнула.
И горестно так, что ажно у меня сердце стало.
— Он любил меня и…
— Прекрати, — жестко оборвал Фрол. — Я тебя тоже любил. И что? Мне надо было вырезать пару-тройку деревень, любовь свою доказывая? Или еще что учинить? Любовь не оправдание, тем более ты ясно дала понять ему, что…
— Вот-вот, слушай Фрола, он умный. Бывает иногда.
— Мне начали сниться кошмары… будто Никодим возвращается. Встает передо мной и смотрит. Он ничего не делал, просто смотрел… а я просыпалась в холодном поту.
— Совесть, — прошептал Еська над ухом. — Она такая…
А мне от Люциану Береславовну жаль было. Я ж видела и про нее с Никодимом. И про Марьяну Ивановну, которая его учить взялась.
— Я не рассказывала… стыдно было… невообразимо стыдно.
Я тронула Ареевы волосы.
Живой. Как оно еще сложится — сие неведомо, и об одном жалею, что времени мы потеряли изрядно. Тепериче разумею, об чем Люциана Береславовна сказывала, повторяючи, что нынешним днем жить надобно. А я…
— Я молилась, но молитвы помогали слабо. Я даже подумывала о том, чтобы уйти из Акадэмии… вдруг все стало неважно…
— Ты же…
— Я знаю, последний год, и все это глупо, но я была молода, Фрол! Я была, по сути, девчонкой, которая всю жизнь свою недолгую прожила в золотом тереме, и вот ее впервые заставили выглянуть из этого терема. Даже не выглянуть, выпихнули в грязь, изваляли… я просто не знала, как мне все это… а тут сестрица моя… влюбилась. И так влюбилась, что… все совпало, будто кто ворожил.
Арей открыл глаза.
Хотел спросить что-то, но Еська прижал палец к губам.
— Она была желанной гостьей в тереме. А я… я нашла того, кто казался мне другом. Собеседником. Он был способен выслушать. Услышать. И разговоры с ним успокаивали. Он уверил меня, что моей вины в случившемся нет.
— А наших уверений тебе было недостаточно?
— Не знаю. — Голос Люцианы Береславовны дрогнул. — Архип, ты… ты просто не перебивай. Мне сложно говорить об этом. Пожалуйста.
Арей потрогал голову.
Поморщился.
— Он готов был слушать обо всем… просто слушать. Не пытаясь меня переубедить, как отец… не насмехаясь, как ты, Архип… не… понимаешь, мне надо было выговориться кому-то, кто не стал бы судить или требовать, чтобы я выбрала.
— А разве мы требовали?
Этот голос глухой. И я вздыхаю вместе с Люцианой Береславовной.
— Не словами, Фрол. Теперь я понимаю, что было тогда… да, вы требовали. Выбирать требовали. То, что Никодим тогда говорил, это ведь правда. Потому и задело, что правда… и у меня был выбор, но не хватало духу этот выбор сделать. Я тянула… Трусость? Да, трусость. И сегодня я бы поступила иначе… сегодня…
Тишина.
И в ней слыхать, как воють волки за околицей. От ихнего вою как-то нехорошо делается, зябко. Я сажуся подле Арея, а он меня обнимает, гладит, будто чует мой страх.
— Ты хотел, чтобы я была с тобой. Это нормально… это правильно, наверное. И тебе казалось все простым. Мы женимся. Живем вместе. Ты работаешь. Я… как получается… ты не думал о том, что мне придется оставить. И я вовсе не о золоте… я бы пережила без украшений и нарядов. Божиня с ними, с нарядами… но бросить все… отца… сестру… подруг у меня не было, это верно. Зато была старая нянька, которая меня растила. И кормилица… и ключница, она еще с мамкой своей в приданое пришла… был конюх, дядька Вернат… и кобыла моя, Серебрянка… и жизнь привычная… и да, Архип, карьера. Пусть я не наделена силой, но ведь не дура же! Мои исследования тоже были для меня важны. И почему я должна была их бросить без малейшей надежды продолжать? А еще… я никогда не любила детей, Фрол. И когда ты заговаривал о наших детях… надо было сказать сразу, но я… мне было стыдно. За многое, за что я стыдиться не должна бы, но вот… я просто не представляла себя в той жизни, которую ты рисовал. Но и не представляла себе жизни без тебя. Сложно все… и я сама себя запутала, настолько, что…
Арей ладонь мою раскрыл, провел пальцем по линии, которая не то сердца, не то жизни — бабка меня учила, а я все не могла запомнить.
— А он был внимательным… и говорил, что сестру мою любит, что сделает все возможное, лишь бы счастлива была. Я же… я же ему как сестра… у меня старших братьев не было никогда.
Архип выругался. И так нехорошо. Иных слов я прежде и не слыхивала. На всякий случай и запомнила, оно-то, может, и не заклятие, а все одно лишним не будет.
— Когда ты уехал… от него гонец пришел… с письмом, что сестре дурно, что отравили ее, не иначе… и вот-вот ей… я и бросила все, полетела… с Марьяной, — очень тихо добавила Люциана Береславовна, мы едва расслышали. — Она… она была целительницей… она могла спасти сестру… она знала, что происходит. Понимала. И пусть потом клялась, будто бы ни сном ни духом, но я уверена — знала.
Теперь голос Люцианы Береславовны звучал глухо.
— И Михаил знал.
Вдох.
Я и не заметила, что дышать перестала. Пальцы Ареевы руку сжимають, легонько, а все одно больно, только боль чужая.
— Мы не в царский терем отправились, а… в другое место. Золотая клетка… и я в ней. Не соловей, так, курица бестолковая, безголовая… и он там. Сначала говорил мне о том, что полюбил, что моя сестра, конечно, красива, да только одной красотой сыт не будешь. Что наши с ним беседы раскрыли ему глаза. Что он всегда мечтал встретить женщину понимающую, добрую… как я… он был так убедителен. Будь мое сердце свободно, я бы не устояла.
Пауза.
И длится она долго, я успеваю прижать Арееву ладонь к щеке. А Еська, на этакие нежности глядючи, отворачивается.
— Но был ты. И была Светочка, которой он недавно похожие речи пел… и я ответила отказом. Снова и снова. Я просила его отпустить меня. Я клялась, что не стану рассказывать сестре… да что там сестре, никому ни слова не скажу. Дура… и ему надоело. Мне… мне была предложена сделка. Я остаюсь в… том месте. Уступаю ему в его… ухаживаниях. Не ною. Не рыдаю. И вообще стараюсь вести себя правильно. И когда на свет появится ребенок, получаю волю и царское благословение.
Слышно, как скрипят доски под чьей-то ногой. Протяжный такой звук, от которого я лишь крепче зубы стискиваю.
— А взамен? — тихо спрашивает Архип Полуэктович.
— Вы остаетесь живыми.
— Мы?
— Все… вы… ты и Фрол… в его воле было отправить вас куда-нибудь, где… не кривись, Архип, я знаю, что вы в конце концов там и оказались. И что уцелели чудом, а не моими стараниями… и будь дело только в вас, я бы рискнула отказать. Но была еще Света. И отец… немолодой уставший… преданный царю… он бы не перенес опалы. И ладно, если бы сослали, но ведь он мог бы и казнить. Знаешь, он сказал, что за любым боярином грехи найдутся, главное, кто и как грехи эти искать станет.
Губы Еськины шелохнулись.
И этое слово я знаю, хотя ж знать его девке не приличественно. Да только иных и не скажешь.
— Я уступила. Это было… страшно? Мерзко? День за днем… пустота. Вечное ожидание. Гадание, явится он сегодня или нет. Плакать не выходит, будто отмерло что внутри… радость, когда не приходит. И утром вновь ожидание. Он подарил мне книги… редкие книги, которые я давно искала. Мои записи… моя работа… он был не против, чтобы я ее продолжала. Ему по-прежнему нравилось беседовать со мной. Он требовал искренности. И я… я пыталась… я все делала, чтобы не разозлить его… все, что могла… а могла, как оказалось, я не так и много.
— Люциана…
— То письмецо… мне сказали, что ты никак не успокоишься. И вопросы задавать начал опасные. И скоро, того и гляди, доберешься до правды, а значит, останешься без головы. И к чему тебе эту голову зазря складывать? За-ради той, которая…
Я на колечко гляжу.
От слухали мы. Подслухали. И хотя ж многое услыхали, да только нашего ли ума сии дела? Надобно ли нам знание такое? Одно радует, Еська языком молотить не станет, он-то пусть и глядится сущим пустобрехом, да только верю, что надежней человека не сыскать.
Арей тем паче про эту чужую гишторию никому не скажет.
— Это длилось довольно долго… он все надеялся, что я забеременею. А у меня не выходило. В конце концов он не выдержал. Пригласили целителя… Марьяну… не знаю, чего он ждал… что она обнаружит закреп-траву? Ей было там неоткуда взяться, а она другое нашла. Я пустоцветна…
Я б охнула, когда б роту рукой не прикрыла.
Не каждая баба в этаком признается. Иные, ежель и ведают за собой подобную напасть, молчат да молятся, авось да передумает Божиня, глянет на дочь свою обездоленную ласково, совершит чудо.
— И знаешь, тогда я рада была услышать такое… как он злился… кричал, что я его обманула, что… если бы не договор, нами заключенный, он бы отыгрался. Но с кровью и царям шутить не позволено.
Арей поднялся-таки на ноги и меня за собой потянул.
— Я из любимой стала виноватой, неблагодарной, будто бы нарочно… будто… а может, и вправду Божиня мои страхи услыхала… причинить вреда мне он не мог. Поэтому просто выслал. Запретил возвращаться в столицу, пока… пока азары не пошли, тогда уж всех магиков призвали.
Хрустнуло что-то, не пойми, то ли за оградой, то ли перед, а может, и вовсе на чердаке, где велись разговоры не для нашиих ушей. И мне было стыдно, что я подслухала.
Как людям в глаза гляну?
— Ссылка мне на пользу пошла. Появилось время нормально все обдумать… сперва-то я хотела… в омут — и нет проблем… так казалось… а Михаил приехал. Уговаривать стал… Марьяна опять же… мол, всякого случается, но редко такого, чтоб вправду от жизни отказываться. И сперва никак от меня отцепиться не желали… после я сама отошла слегка. Дышать наново научилась. Жить… или не сама научилась. Люди научили. Целительница из меня не ахти, да там, где была, и того хватило. Ко мне шли кто с ранами, кто с бедами, отчего-то все уверенные были, что помогу я… я помогала, как умела. И чем больше на чужое горе глядела, тем сильней свое незначительным казалось. Я ведь, если разобраться, сама виновная была, а у других… потом сеча была… и так вышло, что опять же нагляделась… глядела и думала, что ты где-то там… Архипа вот видела… наверное, могла бы встретиться, да не было охоты. После сечи уже Михаил подошел, предложил в Акадэмию вернуться. Я-то не хотела. Я только привыкла к той новой жизни… тихая… самое смешное знаешь что? Она была аккурат такой, как ты рисовал. Маленький домик на выселках. Хозяйство… небольшое… огородик с травами. Коза…
Я рот открыла.
Чтоб у Люцианы Береславовны да коза имелась? Она ж, поди, не ведает, с какого боку к этое козе подойти… иль ведает?
— Люди, которые меня уважали… величали по батюшке не оттого, что я боярского роду, а просто… и чего ради менять все? А он убедил… да и Светочка… тут я другую глупость сделала. Он обещал, что не станет мою сестру неволить, что… поступит с ней порядочно. В жены возьмет.
Еська фыркнул, не сумел сдержаться. Арей же только покачал головой, а по лицу не понять, что думает.
— Когда я вернулась, она уже брюхата была… от кого — не говорит, только плачет горько… отец слег… а я… я сразу решила, что это он виновен, что не сдержал слово… клятву бы сдержал, а слово… вот и… помнишь Венисера?
— Как забыть? — хмыкнул Архип. — Он нам здорово крови попортил…
— Зато научил, — возразила Люциана Береславовна. — А помнишь его коллекцию? Он про нее рассказывать любил… живые вещи… и среди них — шкатулочка? Такая махонькая бонбоньерка… только в ней он хранил не конфеты, а жженые кости одного мага, который сумел обмануть смерть.
— Люци! — От этого крика и мы втроем подскочили, заозирались, однако же никого, окромя нежити, что толклась за забором, не приметили. И дух перевели.
— Да, Фрол, я понимаю, что это была еще одна глупость, но… видно, мне на роду написано совершать их. Венисер погиб на сече, наследников у него не было. Я узнавала. Да и не передала бы Акадэмия такие вещи наследникам. Оставили коллекцию в музее. Доступ у меня имелся. Остальное просто. Подменить эту шкатулочку другой… есть золотых дел мастера, способные копию изготовить по рисунку. А рисовать я худо-бедно научилась. Принесла. Заменила. Никто не заметил. Оно и понятно, с виду-то одинаковы.
— О чем ты думала, Люци?!
И Еська кивнул, мол, ему тоже любопытственно. А я молчала. Об чем думала? Об обиде своей учиненной, не иначе. Об жизни порушенной на чужую потеху. Об сестриной обиде… да много ли надо, чтоб душа раненая загноилась?
— Не буду врать, что о прощении. — Теперь голос Люцианы Береславовны заледенел. — Я не умею прощать, Фрол. Никогда не умела… пыталась, честно. Когда жила там, на выселках, пыталась… думала, передумывала. Молилась, правда, легче от молитв не было, но все равно… в работу уходила. Уверяла, будто сама виновата. И виновата, да… но… если бы я одна такая была! Как он посмел Свету тронуть?! Когда увидела ее… опозоренную… еще одна разрушенная жизнь… или не одна? Ты ведь при дворе нечастый гость. А я не постеснялась заглянуть к одной своей… давней приятельнице. Вот уж кто многое ведал, многое рассказал… и про Марьянину внучку, которая в петлю полезла, и про рабынь, про холопок… они пусть невольные, а все одно… про купчих и боярынь…
— Ты могла… — начал было Фрол и замолк.
— Что могла? Рассказать? Нет, Фролушка, не могла. Клятва кровная… и если б я заговорила, то умер бы ублюдок. Пусть огонь сожрет душу его проклятую… что смотришь? Я не раскаиваюсь. И не буду. Я желала ему смерти и рада, что пожелание мое было услышано.
— Не горячись, — это уже произнес Архип Полуэктович. И как-то… ласково, что ль? И от слов евонных гнев ушел из голоса Люцианы Береславовны, сделался тот устал, мягок.
— Простите. Я не на вас злюсь. Я просто злюсь. Я взяла ту шкатулку. Провела обряд… да, понимаю, за одно это меня казнить можно. Я вызвала того, кто спал сотни лет. И он предложил сделку.
— Ты согласилась?
— Мне казалось, я лишь восстанавливаю справедливость. — Люциана Береславовна тяжко вздохнула. — Я ведь не просила убить царя. Я просила наказать виновного в том, что случилось с моей сестрой, только…
— Она была виновата сама? — Это уже Архип Полуэктович спросил.
Арей же меня обнял.
Сжал крепко, будто боялся, что сгину куда. А куда мне? Стою вот. И дыхаю через раз. Самой страшно, что вдруг случится чегой-то.
— Она… — отозвалась Люциана Береславовна. — Она решила стать царицей… и когда он ухаживал, держалась, хотела, чтоб было по-людски, сперва свадьба, а после… когда же меня увез, то и от нее отвернулся… сказал, что охладел, что другая по нраву. Только сестра моя никогда не умела отказы принимать. Нет, она решила вернуть себе его любовь… она думала, что это любовь… сперва-то батюшка ее увез… думаю, ему шепнули слово. Мне он помочь не был способен, но я верю, честно верю, что он пытался… желал бы… и будь хоть какой способ, сумел бы… а ее увез. К тетке. Глухомань еще та… там и держал до самое сечи… долго… а потом уж вернул. Решил, что вышла из Светки всякая дурь. Да и годы у ней были такие, что еще немного — и перестарком обзовут, хоть и дар у сестрицы… вот. Кто ж знал, что у нее упрямства за троих? Что с этого упрямства она в покои проберется? Что рискнет ему поднести кубок с зельем зачарованным… решила, что если понесет, то царь точно женится. Не спрашивай отчего… она не сказала. Он ведь уже был женат. И наследник имелся… все говорили, что имелся… а она твердила, будто тот наследник не настоящий, а она законного родит и…
Еська беззвучно выругался.
И отвернулся.
К забору. На крикс глядит. На мелкую шушеру, которая высыпала из всех щелей. От шушер я зело не люблю. Оно-то и понятно, к чему нежить любить-то? Да все ж шушера и серед иных страсть до чего мерзотна. Меленькие, с детский кулачок, мохнатенькие, будто репьем облепленные. И ноги их, что из палочек составленные, во все стороны гнуться. Оно вроде и не страшно, этакие меховые шарики, но посеред каждого глаз торчит на стебелечке, будто цветок предивный. И глаз энтот моргает.
А еще шушеры дурные мысли носют в плетеной из волос котомке. Волосы они для того и собирают. Дождуться, пока люди спать лягут, и лезут, копошатся. После их копошения в голове тоска поселяется, девки дурнеют, бабы скандальными делаются, а мужики пить начинают, силясь брагою изгнать обиды, что вымышленные, что настоящие, которые раздуваются, будто брюхо лягушачье.
— Он поклялся, что все будет по справедливости. И не обманул. Он… он отвел Светку к той бабе… он вызвал досрочные роды… он не позволил крови свернуться… она была виновна, и она умерла. А Любанька… она родилась мертвой и ожила не сразу. И…
— Хватит. — Это слово оборвало исповедь, за которую Люциану Береславовну и вправду могли казнить на лобном месте. Это ж не просто обряд запретный, в коем многие люди малое смыслят, это уже злоумышление супротив царя-батюшки.
— И вправду хватит, — Люциана Береславовна заговорила спустя мгновенье. — Вот такая история… и… не кляни себя. Ты все равно ничего не смог бы сделать. Кем мы были? Студентами… думали, что всемогущие, что силой наделены, что теперь нам мир не страшен. А он страшен, Фрол. И теперь знаешь, чего я больше всего боюсь? Что эти дети повторят наши с тобой ошибки.
ГЛАВА 28 О злой памяти
Он явственно ощутил тот момент, когда ее не стало.
Нет, небо не сделалось синим. Точнее, он по-прежнему не был способен испытывать восхищение его синевой. И солнце, несколько припыленное, крупное, не исчезло с небосвода. Не повеяло стужей. Не… ничего, по сути своей, не изменилось. Только вот ее не стало.
Он закрыл глаза.
И улыбнулся, предвкушая, что и чары, которыми привязала она его измученную душу к телу, исчезнут.
Он свободен.
Свободен ли?
Он сидел… долго сидел… невыносимо долго, пропуская сквозь себя каждое мгновенье, но ничего не происходило. И тогда он решился. Открыл глаза. Вытянул руку, разглядывая ее пристально, будто бы до того не видел. Он пошевелил пальцами, убеждаясь, что рука эта не утратила подвижности. И провел ими по шершавому кафтану.
Жив.
Все еще жив. Разочарование было столь острым, что он едва не закричал от злости и обиды. Впрочем, и они, единственной вспышкой эмоций, вскоре сгинули, оставив его в некоем подобии недоумения. Значит, ей была позволена милость, тогда как он…
Память возвращалась.
Он закашлялся, увидев перед внутренним взором тоненькое девичье личико.
— Любишь? — Она смотрела с такой надеждой, и он не решился эту надежду обмануть.
— Конечно.
Пальцы касаются на сей раз не кафтана, но мягкой смугловатой кожи, которая словно светится изнутри. Ее любовь сладка, как халва… нет, вкус халвы, заморской сладости, что матушке привозили в кованых сундучках, он позабыл. А эта вот сладость манила, заставляя сглатывать вязкую слюну.
— Скоро, — обещает он, пропуская сквозь пальцы шелковистую прядь, — мы будем вместе…
И она закрывает глаза, льнет к нему, что ива к ветру.
На иву и похожа, тонкая и гибкая, звонкая смехом. Ему даже нравилось слушать ее голос. Он даже попросил матушку…
— Глупостей не говори. — Она поморщилась и отмахнулась от него с немалым раздражением. — Девчонка нам нужна.
— Мы и без нее обойдемся.
Ему жаль, что скоро ее не станет. Другие… а ведь были и другие… простые, как та рыжеволосая дочка мельника. Толстая и добродушная, круглобокая и крупногрудая, она чем-то напоминала ему корову… или вот та молоденькая купчиха, на которую ему хватило и взгляда, чтобы забыла она наставления отцовские, чтобы рискнула уйти из дому… или смуглая рабыня, диковатая, сторожкая, но все одно доверившаяся на свою беду.
Их любовь была разной. Теплой.
Или вот с толикой горечи, как напиток, который матушка пьет скорее уж по привычке…
— Не обойдемся. — Матушка успокаивается быстро и говорит с ним ласково, как он сам с той девчонкой. А она ведь совсем юна.
Ребенок почти.
И он…
Нет, он не способен испытывать стыд. Или вот жалость. Нынешняя — это иллюзия, как вся его жизнь. А в руках матушки появляется гребень.
— Чем меньше станет их, тем лучше. — Она садится на резную скамеечку, а его место — на ковре. Так было всегда. И он скрещивает ноги, а голову устраивает на ее коленях. Он закрывает глаза, позволяя ей снова забрать из памяти лишнее. — Их слишком много… ублюдков, которые желают забрать то, что по праву принадлежит тебе.
Ее голос поет колыбельную.
И он позволяет себе уснуть. Убедить.
Да.
Правильно.
Девочка? Жаль, конечно, но в том, что происходит, нет его вины… конечно, нет… разве может он быть виноват в чужой жестокости? Или в предательстве? Она ведь могла отказаться…
Согласилась.
И радостно рассказывала, что вышло у нее… пока одного отравить… и глаза темные, что ягоды черники, радостно блестели. А ему подумалось, что матушка права была: власть уродует. И эта девочка, ее не столько любовь поманила, сколько корона.
Царицей стать.
Он, нынешний, сжимает голову ладонями, стискивает зубы, чтобы не закричать.
Ему не больно!
Не должно быть больно, потому что мертвецы не способны испытывать боль!
Ее не стало, и простой камушек с дыркой — смешной амулет, в котором магии ни на грош, — сорвался с веревки.
А он поднял этот камень.
Повертел.
И выкинул.
Матушка вот огорчилась.
— Если бы эта дура делала, что ей говорят, мы бы достигли большего… куда большего… а теперь они вновь переедут…
Отец пьет.
Он не отец, в нем другая кровь, но мать велела называть этого мужчину отцом и быть с ним ласковым. Он пытается. Но, верно, получается у него плохо, если отец при виде его хмурится.
— А… ты… заходи… пить будешь? — Он наливает вино в огромный кубок, слишком большой для маленьких рук. С трудом, но он удерживает кубок. И пьет.
Вино лишено вкуса.
— Пей, пей… что нам еще остается. — Тяжелая ладонь ложится на макушку, а потом кубок вылетает из рук. — Не смей!
Этот окрик заставляет его вздрогнуть. Не от страха. Отца, крупного и громкого мужчину, он не боится, как, впрочем, в принципе ничего не боится. Скорее уж его смущает резкая эта перемена.
— Рано тебе еще. — Отец поднимает кубок и пальцы отряхивает. С них слетают рубиновые капли, которые марают и без того не слишком чистую рубаху. — Прости дурака… посидишь со мной?
— Посижу.
Он и вправду садится рядом.
Ему все равно нечего делать. Матушка уехала. И значит, скоро ему станет легче, исчезнет эта непонятная, гложущая тоска, от которой он не знает, куда деваться. Жаль, бессонница не пройдет. Сон ему не нужен, но приходится ложиться в постель и лежать с закрытыми глазами, притворяясь спящим.
Матушке так спокойней.
Да и остальным людям.
— Ты хороший мальчуган. — Отец пьян. Не настолько, чтобы орать дурным голосом песни или заставлять девок выплясывать нагишом, но аккурат для бездумной беседы, до которых он большой охотник. И матушка утверждает, что это исключительно от натуры отцовской беспокойной происходит, но ему почему-то кажется, что не все так просто.
Ведь было время, когда отец был другим.
Он улыбался.
И коня подвел.
И когда конь этот на дыбы вскинулся, завизжал, забил его одним ударом. А после долго на руках носил, успокаивая. Дескать, случается с животными… может, порчу кто навел. Ему, тогда ребенку, хотя уже и не ребенку — смерть странным образом заставила повзрослеть, — было хорошо на руках.
Тепло.
Спокойно.
И подумалось даже, что, если попросить этого человека, он уговорит матушку отпустить.
А потом все переменилось.
— С тобой хорошо. — Отец вытирает лицо грязною тряпицей. — С тобой я могу говорить о ней… свободно… заперла… закрыла рот клятвой. А это мучит.
Кулак ударил в грудь.
— Если бы ты знал, как это мучит… все зло от баб… а ты славный мальчуган… будь оно иначе, мы бы с тобой поладили…
Говорить нет нужды, только слушать.
Память жестока.
Запертая в пыльных сундуках, выбранная волшебным гребнем, который, надо думать, исчез вместе с матушкой.
Она возвращалась.
И вот смеется девчонка, светла и конопата.
— Не догонишь, не догонишь… — Она бежит, и ей самой кажется, что быстра. Только пятки босые сверкают, потемневшие, загрубевшие, как у прочих девчонок простого звания.
И ничем-то почти от них не отличается.
Разве что лента расшитая в волосах.
И платье атласное… денег отец для нее не жалеет. И жемчуга на шею повесил, да только нить в первый же день порвалась. Ползали по пыли оба, пока все жемчужинки не выбрали. Потом-то на новую нить нанизали, крепкую, вощеную, но она все одно надевать отказалась, бросила:
— Вдруг да опять потеряю. Пусть лежат.
У нее целый сундучок всякой всячины. И зеркальце есть норманнское, в котором себя ясно увидеть можно. И перстенечки. И цепочки. И даже перо позолоченное, хотя ей-то перо без надобности, она только-только писать учится.
— Догоняй же!
И язык показывает.
И самой от того смешно. И она заходится громким звонким смехом. Матушку он злит. В этом смехе ей видится явственный признак низкого происхождения Звонки.
Пускай.
В кои-то веки ему не хочется слушать матушку. И гребень ее бессилен. И рядом со Звонкой тепло становится, а еще возвращаются краски. И он видит что небо, что землю с травой и ромашками, с одуванчиками желтыми, из которых Звонка плетет венок.
— Примерь вот. — Она становится на цыпочки и сама надевает венок ему на голову. — Вот так… хорош… до того хорош, что мне все девки завидуют, что ты мой брат.
И носик морщит.
А потом забирается на колено, обнимает и шепчет в ухо:
— Ты, когда жену выбирать станешь, меня слушай. Я тебе все-все расскажу про то, какие они на самом деле! А то на словах все ласковые… вот Комличева, которая надысь приезжала, помнишь, что пряник сахарный, а на меня шипела… сказала, что как хозяйкой станет, так разом погонит… не бери ее…
— Не возьму.
— А вот Ладоша, та славная. У нее сестер пятеро, и она показала, как бусы из яблоневых семак делать. Только это ж сколько яблок съесть надо…
Она морщит носик, задумываясь.
— Сколько надо, столько съедим.
Когда она в его руках, он оживает. Настолько оживает, что почти вспоминает свое имя, и кажется, что еще немного, и случится чудо.
Ведь бывают же чудеса хорошие, не такие, как зимой…
— Но все равно… вдруг да потом переменится? — в ее голосе звучит сомнение. — Не бери жены.
— Не возьму, — обещает он, и обещание это дается легко. — Зачем мне жена, когда ты есть?
Она вновь смеется.
Звонко.
Звонкой ее прозвали, имя иное, и память-сука это имя спрятала, как и его собственное. Быть может, в этом есть свой скрытый сокровенный смысл, но он не желает… он бьется головой о стену и воет сквозь стиснутые зубы, пытаясь добраться именно до того воспоминания, которое нужно.
Пальчики тонкие гладят ресницы.
— Не грусти, я знаю, что она меня не любит. — Звонка вымученно улыбается. — Но мне все равно. Главное, что ты любишь…
Матушка ругалась.
Она умеет ругать, не повышая голоса. Говорит вроде ровно и спокойно так, но каждое слово — игла под кожу. И ладно бы на него гнев матушкин обращен был, он бы выдержал это.
Нет.
Ей Звонка попалась.
Бегала она.
И смеялась. И вовсе вела себя так, как молодой боярыне недозволительно… и надо бы Звонку отдать в семью, чтобы ее научили вести себя надлежащим образом.
— Не бойся. — Звонка уткнулась носом в шею и дышит жарко, шумно. — Никуда меня не отдадут. Тятька не позволит.
Вечером отец кричит на мать. Он снова пьян, но на сей раз хмель не делает его благодушным, да и ума не отнимает, и в лицо матери летят обидные слова.
— Твой ублюдок меня позорит!
— Ты сама себя позоришь больше, чем кто-либо. — Отец выливает на голову ковш ледяной воды и отфыркивается. — С меня хватит… я любил тебя, видит Божиня, любил! И ради этой любви простил! Принял тебя и твоего… ты назвала мою дочь ублюдком? Так кто твой сын?!
— Помолчи!
Мать бледнеет.
Она становится цвета жемчуга, который так любит, предпочитая и алым лалам, и янтарю, и сапфирам. Она поджимает губы. И лицо ее, такое совершенное лицо, вдруг становится удивительно некрасиво.
— Помолчать? А чего мне молчать? Ах да… клятва… не вредить тебе… и твоему… — Взгляд отца останавливается на нем, и в этом взгляде читается что-то… тоска?
Смертная тоска. Такая близкая.
Понятная.
— Хватит, прошу. — Отец вытер лоб рукавом. Вода стекала с волос, с бороды, вода капала на драгоценный ковер, добавляя ему пятен. — Я был дураком, когда подумал, что эта моя любовь что-то да изменит. Ты уже все решила… и раз так, то пускай. Оставайся тут, а я поеду…
— Куда?
Как холоден голос матери.
— Куда-нибудь… в Святск вот вернусь. Или в Урдаль. На границе воины всегда нужны. Примут. И Звонку с собой возьму.
— А мы? — Приподнятая бровь. И за маской высокомерия чудится тень неуверенности.
Конечно, лишь чудится. Разве возможно, чтобы матушка была в себе не уверена?
— А что вы? Оставайтеся. Молчать я буду, тут уж ты сама знаешь. Такие клятвы до самой могилы… вредить не стану…
— Люди будут говорить…
— А какое тебе до людей дело-то? — Отец отряхивается. — Пускай себе брешут на здоровье… слушай, я не хочу с тобой воевать. А жить мирно у нас не выходит.
— Нет.
Она поворачивается спиной, и спина эта выражает лишь презрение к смешному и слабому человеку, которого все отчего-то считали сильным. Отец лишь руками развел.
— Бабская дурь, — сказал он, обращаясь к нему. И, кивок получив в ответ, вздохнул. — Ничего… пускай кобенится. На сей раз по-моему будет.
Он ошибся.
Все ошиблись.
— С тобой все в порядке? — Этот ласковый, участливый голос выдергивает из болезненных воспоминаний, но лишь затем, чтобы он мог ответить.
— Голова раскалывается.
Правда.
Раскалывается. Разваливается на куски, как те сундуки, в которых хранилось…
Тяжесть.
И солнце, которое невыносимо ярким сделалось. Слабость проклятая, когда у него не хватает сил на то, чтобы сесть. И он лежит, глядит в окно, на ставни, сквозь которые пробивается узкая полоса света.
— Ты как? — Звонка сидит у постели. Он пропустил момент ее появления. Вот не было. А вот и есть. Не одна пришла, но со звонкой птахой в клетке плетеной. — Посмотри, что мне отец купил!
Птаха мечется.
Чует мертвечину. А он смотрит… на птаху?
На Звонку?
— Он сказал, что мы скоро уедем. Я не хочу уезжать. — Звонка накидывает на клетку клетчатый платок.
— И я не хочу.
Без нее станет совсем темно. Но может, в этом спасение? В темноте спокойно, почти как сейчас. Она уйдет, и… и ему позволено будет закрыть глаза. Остановится. И дыхание оборвется.
Он снова умрет.
Если повезет, то навсегда.
— Ты совсем заболел. — Холодная ладошка ложится на лоб. Она легка, что перышко. И удивительно тепла. — Я сперва не поверила. Думала, она заперла… отчего целителя не кликнет?
— Оттого, дитя, — матушка ступает мягко, и ни одна доска не смеет выдать ее приближение скрипом, — что я сама целительница.
— Да? — Звонкина рука дрожит.
Она боится матушки. Но ныне та добра.
— Да, так получилось… меня учили… пусть не в Акадэмии, но учителя были хорошими.
Матушка протягивает влажный платок:
— Оботри ему лицо… он упрямится, как все мальчишки, болеть не любит… но ничего, скоро он поправится.
Ложь.
И он стискивает зубы, сдерживая стон: ее слова означают лишь то, что уйти ему не позволят.
— Ему хуже, да? — Звонка сидит рядом. Она, кажется, не уходила совсем.
— Да, милая.
И матушка.
Почему они вдвоем? Это плохо… очень плохо.
— Отец… — ему удается открыть глаза и произнести это слово. — Где…
— Он, — Звонка отводит взгляд, — он снова пьет… и много… твоя мама говорит, что он так за тебя переживает… но тебе же лучше, да?
Плохо.
Нельзя ей здесь быть. Надо… сказать, чтобы бежала… надо дядьку кликнуть… он хороший, даром что суров… надо…
Он проваливается раньше, чем успевает предупредить единственную, кто дорог ему.
— Скоро все изменится, малыш… потерпи. — Матушка одна. Она отжимает пахнущую уксусом тряпицу. И вода с нее падает на лицо.
— Нет… ее не трогай.
— Не трать силы попусту. — Матушка наклоняется к лицу и выдыхает в губы искру чужой жизни. Слишком маленькой, чтобы это была человеческая жизнь. — Они тебе понадобятся.
— Нет.
— Прости, дорогой, но сейчас не время для споров.
Сил почти не осталось, но искра дает их.
Ненадолго.
И он хватает матушку за руку.
— Если ты тронешь Звонку, я… я уйду.
Она улыбается печальной улыбкой и убирает со лба его влажные волосы.
— Такой упрямый… она тебе симпатична? Но это не та симпатия, которую мы можем себе позволить.
— Зачем…
Он с трудом, но удерживается на грани наведенного сна.
— Сложный вопрос… во-первых, он нужен нам здесь. Слишком много вопросов возникнет, а нам не стоит привлекать внимание. Во-вторых, я просто не могу позволить, чтобы с нами так обошлись. Чтобы меня снова променяли на какую-то…
Бранное слово срывается с губ ее.
И тает.
А с ним — сознание.
В руки суют флягу с водой, у которой отчетливый запах тлена. Он пьет.
Захлебывается, но пьет.
И даже, кажется, благодарит.
Память смеется.
Душа кричит. Или не душа, но веснушчатая девочка в руках ублюдка, который делает такое, что он, немертвый, не способен смотреть. Он желал бы помешать, но не способен двинуть и пальцем. Ему остается только смотреть.
Как и матушке.
— Не переживай. — Она гладит его по голове. — Скоро ты обо всем забудешь. А это… так нужно…
Жизнь уходит.
Гаснет яркая искра, которую матушка вынимает из груди Звонки, чтобы передать ему. Он не желает, но кто и когда спрашивал мертвеца о его желаниях. И эта очередная сорванная жизнь горяча.
— Скоро забудешь… — Матушка поворачивается к человеку, который стоит над телом, пошатываясь. Он-то жив.
И память его — теперь-то он понимает — вернется, как только спадут чары.
— Беги, — велит матушка, щелкая пальцами. И путы, заставлявшие человека делать то, что людям делать нельзя, спадают. Он недоуменно хлопает глазами, морщится, пытаясь понять, как оказался в этом месте. И взгляд его рассеянный цепляется за Звонку.
Человек кричит.
Или это он? Он ведь хотел кричать, и тогда, и позже, когда смотрел, как бьется отец над разорванным телом. А сам… сам он верил, что…
— Ты сам виноват. — Матушкины руки лежат на плечах, тяжелы, словно каменные. — Тащишь в дом кого попало… страшно подумать, что было бы, если бы он до моего мальчика добрался.
Отец не слышит.
Он воет, как зверь, и в голосе его боль, такая, которую нельзя заглушить вином. Он застывает вдруг и, повернувшись к матери, говорит ясно:
— Это ты… сука… какая же сука…
— Ты не в себе от горя. — Матушкины руки сжимаются, и в какой-то миг ему кажется, что пальцы пробьют его плечи. И матушка — вовсе не матушка, но страшная птица из детской сказки. Взмахнет самоцветными крылами и утащит.
Дальше смутно.
Похороны?
И отец снова пьян. Теперь он постоянно пьян. Но разве можно винить за это? Горе какое… того, смуглого, виновного, ищут, а он — он вдруг вспоминает дареное имя, чужое, как и жизнь, которой он вынужден жить, — преисполняется уверенности, что отец виновен.
Конечно.
Он ведь привел в дом того зверя.
Он привечал.
Он пил и не видел… а может, и видел… взял и отдал…
Откуда эти мысли?
Память готова подсказать.
Мысли рождаются из слов, что пшеница из зерна, оброненного в землю. А матушка сеет щедро… она говорит и говорит, раздирая рану, не позволяя ей зажить, и та наполняется гневом.
— Эй, очнись… — Пощечина заставляет открыть глаза, выпадая ненадолго из прошлого. — Живой?
Кирей сидит на корточках.
Смотрит…
Так смотрит, что становится очевидно:
— Ты знаешь?
— Знаю.
— Давно?
— Нет. — Азарин мотнул головой, и черная коса его змеей соскользнула с плеча. — Матушка твоя… странноватой была. Но окончательно уверился только здесь.
— Убьешь? — спросил он с надеждой, пытаясь отрешиться от воспоминаний.
Люди.
И снова люди… хороводы людей… рабыни, которых матушка покупала, выбирая не по красоте, но по здоровью. И рабы. Холопы… простой люд, на беду свою, поверивший посулам доброй боярыни… купчихи… и все, до кого получалось дотянуться.
— Рабы ныне дороги. — Матушка морщится, а он испытывает далекое смутное чувство вины. Это из-за него матушке приходится заглядывать на невольничьи рынки. Она уже не брезгует и откупными, гниловатого нутра девками, шлюхами и воровками.
Разбойниками.
Из разбойников получаются не только жертвы.
— Все ради тебя. — Ее голос шелестит в ушах.
— Отпусти…
— Забудь. — И гребень скользит, выбирая лишнюю память.
— Тебе продышаться надо. — Это уже Кирей. От слов своих он не отступает, но рывком заставляет подняться на ноги. Ноги не держат, и отнюдь не потому, что сила иссякла. Нет, силы аккурат много. Он чувствует ее, холодную, ярую, требующую выхода. — А там и поговорим.
— О чем говорить?
Интересно, если его убьют сейчас, он совсем умрет или же матушкино заклятье вновь вытащит его душу из небытия?
— Обо всем… — Кирей не позволил присесть, повел вдоль ограды, над которой поднимался радужный полог сотворенного наставниками щита.
— А они… — вспомнив о наставниках, он поежился, — знают?
— Думаю, что знают… но не уверен. Может, и они не уверены, если ты до сих пор… существуешь.
Правильно. Он не живет — существует.
— Послушай, — Кирей дошел до ограды и оперся на нее, заставив щит вспыхнуть тревожным синим пламенем, — сначала я думал, что когда найду ублюдка, который… я сверну ему шею. Просто возьму и сверну.
— Буду рад. — Он потер шею, которая зудела мелко и назойливо, и зуд этот здорово раздражал.
— А ведь и вправду будешь…
Азарин хмыкнул и повернулся спиной.
Не боится? Достаточно одного удара… и даже не удара — прикосновения. Смерть, которая сидит в нем, получит новую жертву.
Нет.
Хватит жертв. Он слишком устал от всего этого.
— Как это вышло? — Кирей смотрел не на него, но на крикс, сбившихся в визгливую стаю. Сплелись меж собой суставчатые хвосты, переплелись лапы, склеились тела. И новое существо, рожденное из старых, было до отвращения уродливо.
— Меня убили… я был ребенком, когда меня убили. Мы возвращались домой… так сказала матушка. До этого я думал, что мой дом — терем… я нигде-то не бывал за пределами… мне даже в сад не позволено было выходить одному. Мама очень боялась.
Как ни странно, рассказывать просто.
И Кирей слушает. А он… он, кажется, испытывает облегчение, избавляясь от этого груза памяти, пусть и ненадолго. Он не обманывался: слова ничего не изменят.
— Меня все считали сыном Жученя… как же… тайное венчание, побег… матушка попросилась под руку царя… разве мог он отказать боярыне? Потом она сказала, что это была его идея… представить все так… я бы подрос, и правда вскрылась… она была умной женщиной, но…
— Но на каждого умника найдется изрядно дуроты. Нет, ты глянь, чего творят…
По улице, медленно перебирая одеревеневшими лапами, полз водяник. Он то и дело замирал, и тогда кикиморы спешили облепить раздутое обрюзгшее тело его, покрытое не то крупной чешуей, не то корой. Но топленник вскидывался, встряхивался, и кикиморы разлетались с противным визгом.
— Они были венчаны перед лицом Божини. У мамы сохранилась грамота… и когда он решил жениться вновь, она обратилась к боярам… только… ее не любили. Считали слишком… сильной? Она не стала бы куклой у трона. Она бы правила сама. Это поняли… и те, к кому она обратилась, просто посоветовали не спорить. Принять свою судьбу с достоинством. Со смирением…
Следом за первым топленником и второй возник.
Помельче, но и пошустрей. Они, к слову, не на людей похожи, скорее уж на огромных уродливых жуков… за топленниками тянулись широкие полосы слизи, стремительно подсыхающей на солнце.
— И кто-то донес новой царице… про ту грамоту. Про венчание. Про меня. И про путь наш… и тогда меня убили.
Говорить об этом неожиданно легко.
— А матушка позвала обратно, и… и дальше было, что было…
Кирей молчит.
Да и ему больше сказать нечего.
— Я хотел бы уйти, — наконец произносит он. — Но я не знаю как… ты мне поможешь?
Азарин усмехается:
— Если ты поможешь мне.
ГЛАВА 29 То ли волчья, то ли человеческая
Женщина была легкой.
Она забралась на спину и обвила шею руками. Она сжала бока коленями, боясь упасть, хотя Елисей ступал осторожно.
Слева шла волчица.
Справа — вожак.
И прочая стая, кроме разве что щенков, которых оставили под присмотром седого беззубого старика, держалась рядом. Они больше не пели, его волки, но Елисей слышал и дыхание их.
И удивление.
И радость.
Новый вожак нашел себе пару.
Это хорошо… это поможет…
Ему не нужна помощь. Да и пара… он просто отнесет эту девушку к тем людям, которые способны будут ее защитить. А сам… сам уйдет. Куда? Елисей не знал. Не к столице, но… быть может, туда, где прошло его детство? К теплой пещере, в которой открывались подземные ключи? К лесам, где охота была славна, а дичи всяко больше, нежели волков? Там зимы мягки, а осень приносит многоцветье ароматов… там он был счастлив.
И будет вновь.
— Извините, — мягкий голос прошелестел над ухом. — А вы уверены, что нам сюда?
Волчица засмеялась.
Елисей же рыкнул коротко.
Уверен? Нет, не уверен. Чем ближе подходили они к деревне, тем больше становилось нежити. И пусть они, рожденные Мораниной кровью, не обращали внимания на волков, все одно было не по себе.
Вот выползли из леса коряги-лесовики. За ними потянулись мелкие игруши, с виду — ласки махонькие да верткие, только вот мех их слежалый, слипшийся, торчит иглами. Да глаза красны.
Когти остры.
Заводятся игруши в гнилых деревах, в тех, которые омелой мечены да в кругах ведьминых вырасти сподобились. В корнях гнезда вьют, да там и множатся, поначалу древесину гнилую пожирая, поганки да гниль, а после уж живого ищут. Ходят-бродят, пока не набредут на путника, который в дурном месте на ночь остановился и не заперся кругом, не озаботился амулетом. Сон нашлют тяжелый, а как уснет человек, так подберутся к нему близко-близко, скользнут под одежду и вопьются острыми зубами.
За игрушами тянутся повойники, эти переродившиеся мертвяки, которым не дано было упокоения достойного, но лес отходную спел. А заодно пронзил плоть кореньями, скрепил стеблями, вот и глядятся повойники этакими медлительными великанами, на плечах которых моховые угодья раскинулись, в волосьях слипшихся нити вьюнка торчат. Из ребер ломаных жимолость да крушина прорастают, а ноги волчья ягода обвила, держит. Бредут они медленно, то и дело останавливаются, потому как силы в них много, но тяжелая она, неудобная.
Повойники не страшны.
От них и дитя убежать способно, если, конечно, не уговорят они, злобой к людям измученные, лес поспособствовать. И тогда скользнет под ноги убегающего коряжина, или кочка выскочит, где еще не было, а то и раскроется нора хитрая лисья, заставив споткнуться. Упадет человек и не встанет. Мигом опутают его ветви, корни тело проткнут и держать станут, пока не подойдет повойник ближе. А подойдя, вытянет он силу живую, лес же, тело получив, нового повойника сотворит.
Волки жались ближе.
Опустил голову вожак, поднялась шерсть на загривке. Задралась губа, и клацнули зубы, громко, упреждающе. Вот только урлаков-перевертышей не испугать оскалом. Стая, к счастью, небольшая, из трех голов, взвыла. Старший из урлаков, здоровый зверь, размером с теленка. В жизни своей наверняка был он псом, и крупным, матерым цепным кобелем, которого и хозяева-то побаивались.
Что он сотворил?
Дитё напугал? Порвал не того? С дурного ли нраву? С голоду и холоду, уставши терпеть пинки? Оскалился на хозяина? Или просто не нужен стал, постарел, ослабел? Вот и свели в лес, где, к дереву привязавши, бросили, не подарив даже легкой смерти. А может, сам сбег и в капкан угодил. Главное, что умирал долго, до того долго, что обида на людей угнездилась в теле, разрослась и перекрутила звериную душу. Издох пес, а поднялся урлак, зверь огромный и беспощадный.
Елисей тоже показал зубы.
И позволил силе, той силе, которую уважают и живые, и мертвые звери, проявиться. Урлаки еще не разумны, но уже почти. И ныне отступают, позволяя стае пройти. Красные глаза их смотрят на женщину.
Из приоткрытых пастей слюна течет.
И будь женщина одна, стая повеселилась бы. Нет, они бы не напали сразу, устроили бы охоту, подарив жертве ложную надежду на спасение. Они бы гнали ее, то отставая, то настигая, поторапливая воем. Иногда подбираясь настолько близко, чтобы пустить кровь. А когда она, обессиленная, упала бы, разорвали б.
Водяная нежить собралась вокруг массивного ожгеня, больше всего похожего на огромного, с полдома, рака. Массивное тело его, закованное в броню, блестело на солнышке. Тонкие ноги глубоко увязали в земле, а огромный хвост с каждым ударом оставлял глубокую ямину в грязи. Кикиморы суетились, подволакивая ожгеню крапиву, до которой тот был весьма охоч, или вот крупных плавунцов, которых совали в самую пасть, на редкость махонькую для этакой громадины. Топленники норовили забиться под мягкое брюхо, где было тепло и спокойно, и лишь печальная русалка, сохранившая человеческое обличье, держалась в стороне.
В деревне нежити было…
…было.
Крысообразные твари.
И мелкие игруши, что ринулись к стае, норовя вцепиться острыми зубками в лапы. Этим хватило протяжного рыка, чтобы отпрянули. Но Елисей не сомневался: это ненадолго. Стоит пустить кровь, и игруши обезумеют. Им все едино, что волк, что человек… нет, не едино. Запах человека манил.
А ведь девчонку располосовали плетью.
И пусть раны затянулись благодаря Елисеевой силе, но все одно, того и гляди лопнет сухая кожица, пустит свежую каплю… одной достаточно, чтобы…
Значит, надо было дойти раньше.
Он остановился, но ровно затем, чтобы, потянув носом затхлый воздух, уловить след. И человеческая часть хмыкнула: стало быть, сменили пристанище. Елисей надеялся, что новое хоть сколько бы надежно.
Она встала перед самыми воротами.
Седая.
Страшная.
С клюкой.
— Волчок, волчок, куси за бочок, — сказала Марьяна Ивановна, вывалив лиловый язык. И зашлась дурным смехом. — Аль не могешь?
Елисей заворчал.
— Что, девку нашел? А она, шальная, не спужалась? От и ладно… шли бы вы, ребятушки, пока можете… а нет, вы ж не можете! Я не пущу!
И клюкой своей по земле ударила.
С того удара содрогнулась земля. С воем разлетелись игруши, спеша забраться в норы, и урлаки, на что безголовые твари, попадали на брюхо, заскулили, вспоминая былую собачью жизнь.
Волна подняла сор и щепу, закружила и швырнула в морду.
Ужалила сотней игл.
И Елисей взвыл бы, если б не был готов к удару.
Он присел, и девчонка — вот умница — скатилась со спины кубарем, прижалась к могучему телу старого вожака, который этакую вольность простил. Только лизнул, успокаивая глупую: стая своих не бросит. И серые сгрудились, заслоняя человека от тех, кто рад был бы испробовать человеческой крови.
— Ишь ты, волчок… драться вздумал? Куда тебе драться… некуда!
Она крутанулась.
И, зачерпнув гость песка, подула. Слетели песчинки с ладони, оборачиваясь роем осиным. И гудят. И пугают… и разлетаются пеплом, едва приблизившись к Елисею, только вспыхивает ярко Емелькин оберег.
— Ишь ты… — Марьяна Ивановна ничуть не смутилась. — Думаешь, поможет? Не поможет!
И клюку подняла.
Засвистела посвистом, от которого уши заложило. И на голос ее потянулись мавки, поползли кикиморы, хныча и поскуливая, — не по нраву им была зовущая, только и противиться силе ее не смели. Ожгень и тот очнулся от полусна, завозился, с немалым трудом лапы переставляя.
Натравит.
И… биться со всеми?
На это Елисея не хватит.
— Что, волчок? Страшно, когда кто-то за бочок хватает?
Он взрыкнул и подставил бок, позволяя девчонке забраться, благо волчица подсказала той, что делать. Елисей же закрыл глаза.
Ведьма?
Мертвая?
Пускай… у ведьм своя сила, а у ведьмаков — другая, и не зря его дед учил… и пусть не всю науку успел Елисей постичь, да только и того, что есть, хватит… он потянулся к силе, которую чуял.
Не смерти.
Не боли.
Но иной, древней, пронизавшей весь мир чудесною паутиной. Эта сила питала жизнью и воду, и землю, она таилась в каждой твари, будь та тварь жива. Она прорастала к солнцу могучими деревами и тонкой травой, она взывала к голосу луны белыми звоночками первоцветов… она была.
И проходила сквозь тело Елисеево, выплескиваясь окрест.
Первыми увязли урлаки.
Загудели.
Заворчали. Да и пали, превращаясь в груду мертвых костей. За ними и игруши осыпались пеплом, расползлись слизью кикиморы…
— Силен, волчок, только… меня не возьмешь этим! — Марьяна Ивановна отряхнулась от чуждой силы и направила посох на Елисея. — Погоди… ты куда пошел?
Куда надобно.
Он, может, многое способен сотворить, да только не совсем обезумел, чтоб с умертвиями в силе тягаться. Елисей сорвался с места. До ворот недалече. Главное, чтоб ворота отворили, а не… о том, что будет, если его не признают, он старался не думать.
Волчий бег легок.
И земля-матушка сама ногу держит, и стая едва поспевает. А девчонка на спине лицом в шерсть зарылась и только всхлипывает слабо…
Грозно клацают клешни ожгеня, полуслепого, одуревшего от боли. И кикиморы, которым уцелеть выпало, суетятся, ластятся, успокаивая…
Кто-то воет.
Кто-то верещит.
А ворота заперты…
— Куда ж ты бежишь, волчок?!
Марьяна Ивановна хохочет и клюкой своей воздух мутит, закручивая ярым вихрем тьмы.
— Куда ж ты…
Елисей летел к воротам, понимая, что ступить за ограду не выйдет, что… если не его, то хотя бы девчонку… она и так едва не померла, обидно будет, если… и ворота дрогнули, разошлись створки, пропуская стаю.
— Лис! — Емелька, державший их, улыбнулся светло и радостно. — Я знал, что ты вернешься!
ГЛАВА 30 Юродивая
— И не стало царя! — Юродивый забрался на бочку и, вооружившись костью, потрясал ею, не то небесам грозя, не то толпе, которая собралась на площади.
Люди слушали.
Черное солнце висело над головами.
— А почему? Прогневил царь-батюшка Божиню! Грешен был! Девок портил! Ел скоромное! И портки носил красные!
— Да что вы его слушаете. — Старенький приказчик головой покачал. — Юродивый же, сам не ведает, чего несет.
Он бы из толпы выбрался, но стояли люди плотно.
И черное солнце…
…было ведь. Встало, солнце истинное заслонивши. И знать, вправду прогневилась Божиня на детей своих? А ну как солнце это навсегда?
Он гнал от себя эту трусоватую мысль, а заодно и воспоминания о своих грехах, которые прежде мнились не такими уж великими. Подумаешь, подворовывал. Так ведь не от хорошей жизни. Скуп хозяин, а дочери растут, приданое им надобно, наряды. С хозяйской женой крутил? Она первая начала, все ей мало, ненасытной… ругался… кто не ругается?
Зависть?
Завидовал. Слаба натура человеческая…
Охнула рядом женщина в наряде богатом, купеческом, осенила себя крестом Божининым. С лица кругла и бледна, знать, и она за собой грехов немало упомнила.
— Бояре способствовали! Царя развратили! Народ замутили! Мир загубили! — Тоненький голос юродивого летел над площадью. И вот диво, сам-то блаженный был худ и болезн, а голос имел громкий. Этот голос каждому человеку слышен был. — Кайтесь, люди! Кайтесь и спасены будете!
— Хватит! — Мужик, видать, из мастеровых — крепкий и жилистый, — к бочке подошел и юродивого за шкварник схватил.
Попытался.
Вывернулся тот и заплясал.
— Сила силу ломит! Сила силу гнет! Так сказано! — И, хворостинку подхватив, легонько по руке ударил, да только от того удара рука мастерового вспыхнула белым пламенем. С воем покатился он по помосту. — Не забижай Божинина человека!
Юродивый погрозил кулачком людям, которые притихли.
— Святой! — взвизгнул кто-то, и подломились колени.
Первой бухнулась давешняя купчиха, которая стояла подле юродивого. Поползла, подметая пышным подолом солому грязную, потянулась руками к руке, умоляя:
— Благослови.
А юродивый, руку на чело купчихино возложивши, молвил:
— Благословляю тебя, сестра, на дела благие… но покайся!
— Каюсь!
— Не передо мною, перед людьми покайся!
И купчиха, повернувшись к толпе, заговорила. Она рассказывала обо всем, об том, как в девичестве сестру родную оговорила, ее жениха себе прибирая. О том, как уже не жениха, но мужа обманывала, что сыновей своих троих вовсе не от него прижила… о муже, до сроку к Божине ушедшему, ибо зануден стал и тратил на девок семейное добро… о делах, обманах, потравах… о спаленных складах, за которые платила чистым золотом, и вернулось это золото сторицей.
Много говорила.
— Морана тебя попутала, сестра, — важно отвечал юродивый и, ладошку худющую на чело возложивши, велел: — А теперь встань! Чиста ты стала предо мной и людьми… а потому благословляю тебя на дела благие…
Загудела толпа.
Подались люди вперед, и только редкие, навроде приказчика, который все ж был слишком стар и циничен, чтобы верить в этакие чудеса, попытались выбраться.
— А ты, боярин, — боярину уйти люд не дозволил. А тот, сперва еще надеясь решить дело миром, ныне в том немало раскаивался. Да только дюжина охранников — ничто пред толпой, что сомкнулась вокруг борина, — ты каешься?
— Не в чем мне каяться.
Он голову задрал и плечи расправил, хотя и бледен сделался.
— Видите? Не кается! Глух он к слову Божинину… глух… царя свел… смуту учинил… край света подвел, а не кается!
Юродивый пальчиком указал на несчастного, и тот полыхнул прозрачным светом. Запылала шуба. Мясом запахло. А боярин с воем покатился, пытаясь пламя сбить, но вскоре затих.
Мгновенье — и осталась от человека груда костей почерневших.
— Так будет со всяким, кто Божинину слову перечит! — возвестил юродивый. И люд замер, и восхищенный, и напуганный новым чудом. А ныне все, что творил блаженный, чудом мнилось.
Приказчик же спешно заработал локтями.
Он чуял, что будет дальше.
— Слушайте меня, люди добрые! Аз есм новый царь! — Юродивый вытащил из лохмотьев веревку, кольцом завязанную, и на голову воздел. — Я вам свыше дан в назидание и наказание за слепоту вашую! За глухоту вашую…
Он поднял лозину.
— И буду я милосерден. И буду справедлив. Всякому воздам по делам евонным! Одних помилую, а если кто не раскается, то гореть ему синим пламенем!
И вспыхнули трое охранников боярских, оставшиеся же на колени попадали с воплем:
— Помилуй!
— Милую! — засмеялся юродивый и руку красную, почесушную, сунул. — Целуйте…
Целовали.
И руку, и ноги облизали бы, лишь бы живыми остаться.
Уже выбравшись из толпы, приказчик перевел дух. От же… слыхал он про погромы от отца своего, да и сам, будучи дитем совсем, помнил время, когда мамка их, малых, в погребе прятала, и там все дрожали, не знаючи, заглянут ли погромщики в хату аль побрезгуют? И коль побрезгуют, не пустят ли петуха огненного из баловства да страсти?
Надобно было спешить.
Бежать.
Добраться до Вязиного переулка, а там — на Цветочную улочку, где Марфушка его ныне пироги затеяла, с черемухой да щавелем. Собрать ее и деток и мешочек прихватить, в котором каменья лежат, пусть и не самой чистой воды, а все одно сподручней, чем с золотом.
Воровал?
Пускай так, зато наворованного хватит, чтоб уехать и в новом месте устроиться, пусть и не по-царски, да хоть как. Не помрут детки с голоду, да и Марфушка — где ж его глаза были, когда сменял жену родную на хозяйскую блудницу, — беды знать не будет.
Он оглянулся на гудящую разозленную толпу, над которой возвышался юродивый. Сел он на бочку, словно на трон. Камень в руке — что держава, а в другой — правило-прут, на конце которого огонь горит. И подумалось, что Божиня тому виной аль нет, но без магии дело не обошлось.
— И бояре, в сути своей гнилые, порченые, извратили слово Божинино! — Звонкий голос летел, и люди ловили каждое слово. — Они — болезнь на теле царства Росского… и болезнь эту надлежит выжигать огнем и железом. Огнем! И железом!
— Бей бояр! — крикнул кто-то.
И в мертвого, уже не способного причинить вред боярина полетели камни.
— Бей бояр! — подхватили крик.
И приказчик, прижавши шапку, побежал. Он давно уже не бегал и теперь клял себя и за слабость, и за страсть к Марфушкиным пирогам, по-за которым сделался медлителен. Он несся, как мог, и, ударившись в магика — старенького такого, только и сумел, что за сердце схватиться.
Подвело.
Оборвалось.
— Смута, — синеющими губами произнес он, глядя, как сияние охватывает руки старца. — Смута…
Марфушка… дети… пусть Божиня будет к ним милосердна.
Старик сморщился и, выругавшись неблагообразно, произнес:
— От только смуты нам не хватало.
Михаил Егорович поморщился и все же подул на угасающую искру жизни. Целитель из него был аховый, но и пациент не сказать чтобы сложный.
— Иди сюда, — кликнул он мальчишку, который по-прежнему держался наособицу, но рядом. — Посмотри… сможешь что сделать?
Человечек, самый обыкновенный, к слову, человечек, на такого глянешь и забудешь, что видел, лежал на земле. Лицо его побелело, губы посинели, а сердце в груди едва-едва трепыхалось.
— Вам нельзя уходить. — Мальчишка положил ладонь на голову. — Я его стабилизирую. Ничего сложного, обычное перенапряжение и…
Он прислушался к чему-то.
Нахмурились светлые брови.
— Истощение… его выкачали… посмотрите, пожалуйста. Мы это еще не проходили… я читал, что так бывает, когда… вот здесь. — Палец ткнул в лоб лежащего. — Видите метку?
Михаил Егорович пригляделся.
Вот ведь… и отчего если ты ректор, то все думают, что ты самый сильный среди магов? Силы у него на донышке осталось, да и всегда-то было немного. А что ректор… ректорские дела к магии отношения не имеют. Скольких студентов принять да на какой факультет, с кого брать плату, а кого — за государственный счет учить.
Какие курсы читать.
Кому.
Куда кого на практику отправить… или после оное… тысяча мелких обыкновенных дел, с которыми, руку на сердце положа, и обыкновенный человек справится, да только повелось, что коль уж ректор Акадэмии, будь добр хоть какой магиею владеть.
А он…
Он и позабыл про иные заклинания. И про то, что бывает такое… на лбу, аккурат в том месте, в которое мальчишка указывал, виднелась метка. Слабая совсем, почти истаявшая.
— Проклятье! — Михаил Егорович глаза потер, потому как заслезились. — У тебя камни связи есть?
Мальчишка головой покачал.
Понятно.
Кто ему, недоучке, этакое сокровище доверит-то? Плохо… отвратительно…
— Итак, — Михаил Егорович пытался сообразить, что ему делать дальше, — ты должен найти…
Фрола бы, но Фрол ушел с царевичами.
И Архип.
И стрелецкие полки с ними.
И… и получается, что их переиграли… сволочи…
— Декана некромантов знаешь?
Мальчишка кивнул.
— Отлично. Найдешь его и вот… — Михаил стянул с пальца перстень, — передай. Скажи, что смута. Пусть перекрывают центр…
Он глубоко вздохнул.
— Волей своей, до того, как объявлен будет новый царь, дозволяю использовать все средства, чтобы не допустить смуты и бунта.
Мальчишка смотрел.
Хлопал глазами.
Не понимал?
— Все! — рявкнул Михаил Егорович. — А теперь беги! Беги…
И если повезет, некроманты успеют вовремя.
— А… вы?
— А мне пока бегать нельзя, сам сказал. Так что я туточки посижу. Вот, рядом с ним…
Он устроился на камнях, всем видом своим показывая, что не сдвинется с места.
— Иди-иди! — Михаил Егорович рученькой махнул. — Давай уже… а то ж погромы — дело такое… сперва на бояр пойдут, а там и на Акадэмию… у Акадэмии-то периметр защищен, не одну толпу выдюжит, а вот город пострадает, куда там мертвякам… мертвяки, если разобраться, ерунда сущая.
Михаил Егорович вздохнул.
И парень решился:
— А вы… как вы…
— Как-нибудь. Я ж маг… глаза отведу, а там… ты, главное, найди… передай… любой ценой пусть остановят. Нельзя…
Он замолчал, вспоминая молодость и погром, которому свидетелем быть выпало. И пусть тогда громили иноземную слободу, Михаил Егорович уже и не помнил, с чего началось все. Кто крикнул, что иноземцы царя извести желают?
Или царевича?
Или еще что… черный мор, белая хмарь… неурожай тем годом был сильный. Голодно. А еще азары вновь баловать стали… главное, что озверелый, ошалелый люд кинулся изводить тех, кого в горестях своих виновным полагал. Запылала слобода с четырех концов.
Кого каменьями били.
Кого цепами.
Косы, вилы… горшки с черной земляной кровью, от которой саксоны горели ярко. Он тогда сам вызвался с наставником порядки наводить. А тот отказывать не стал, бросил коротко, мол, поглядишь, на что люди добрые способны, когда им гнев и страх глаза застят.
Поглядел.
На всю жизнь нагляделся.
Те погромы на слободе иноземной не иссякли, но одуревшие от крови, ошалевшие со вседозволенности люди прошли до самого Белого города, громя и сметая все на своем пути. И уж там сами повисли на пиках стрелецких.
Бунт тот кровью захлебнулся.
И не только на улицах. Долго шло дознание. И не одну седмицу попадали в допросные люди, вроде бы и случайные, да на каленом железе быстро каявшиеся в том, что…
Одни кричали…
Другие за собой вели…
Третьи…
Михаил Егорович похлопал болезного по щекам. И когда тот открыл глаза, сказал:
— Шел бы ты, добрый человек, домой… да только не особо бегай, сердце тебе подлатали, но надолго этого не хватит.
Он хлопал глазами.
Кривился.
— А то скоро, чую, придут сюда.
Если нынешний бунт сродни тому будет, то… вышел срок у Михайлы Егоровича.
Человек поднялся. Он ушел, пусть медленно, с трудом переставляя отяжелевшие ноги, держась за оградку, но все же ушел. Да и Михаилу Егоровичу следовало бы убраться. Он ведь не столь слаб, и можно…
Нельзя.
Божиня справедлива. По-своему. И вот он, черед Михаила платить за грехи свои.
Он почувствовал на себе внимательный взгляд. Обернулся. Поднял руку, подзывая того, кто скромно держался в тени.
— Ваших рук дело, герр Ульрих? — спросил громко, хотя улица была до отвращения пустынна. — Конечно, чьих же еще… а норманны?
— Союзники. — Саксонский посланник был облачен в простой черный кафтан, который, впрочем, сидел на нем кривовато. А может, просто держался саксонец так. Непривычна была ему эта одежа. — Временные.
— Оно и понятно… вы ж как кошка с собакой…
— Ваши идиомы на редкость точны. — Ульрих поклонился.
Вежливый, паскуда. Убивать будет, а все одно вежливый. Культура…
— Азар, значит, не боитесь?
Посланник вздохнул и произнес:
— Я много вас уважаю, Михаил Егорович. И я был против подобных… методов. Я полагал, что наше вмешательство не столько усугубит ситуацию, сколько предоставит объединяющий фактор. А это всегда шанс добиться не той цели, которая была поставлена.
Михаил Егорович фыркнул. Вот не любил он Ульриха за эту привычку к словоблудию. Объединяющий фактор… как же… сказал бы прямо, дознайся люди, кто взаправду виноват в смуте нынешней, и вновь запылает иноземная слобода.
— Вы бы и сами управились, но мой повелитель слушает иных советников. А мне лишь остается следить за тем, чтобы воля его исполнена была в точности… азары… азары далеко…
— Это теперь далеко…
Позабыли, стало быть, как летит азарская конница, как разбушевавшимся морем пожирает земли милю за милей, оставляя после себя огонь и разорение.
— Но если вас это беспокоит, что, несомненно, приятно, — Ульрих приложил обе ладони к груди, — у моего повелителя и для азар есть подарок.
В этом Михаил Егорович не сомневался.
— Боитесь?
Ульрих присел и положил руку на плечо. Сдавил легонько. И ударил. Удара самого Михаил Егорович и не заметил. Он был легок, не удар — касание, только в боку закололо.
— Больно не будет, — сказал Ульрих. — Это дань моего вам уважения.
— Спасибо.
Больно и вправду не было. Почти. Легкое покалывание сменилось онемением, и, значит, стилет был смазан ядом. Наверняка редким. Наверняка…
Мысли слегка путались.
— Страх естествен. — Ульрих не собирался уходить, что тоже верно. Вдруг да случится чудо и Михаил Егорович затянет раны. А после встанет, соберет под руку свою сотни, если не стрелецкие, то магов, сметет силой и толпы народные, приструнит бояр, воссядет на троне и гнев народный перенаправит. — Страх… вы сильны. И это факт. Как и то, что между нашими странами добрых отношений никогда не было… и то, что даже добрые отношения не являлись помехой, чтобы отрезать кусок чужих земель…
Слабость расползалась.
Одна надежда, мальчишка донесет перстень… а перстень… в безвластии и он власть… и еще камень, который Михаил Егорович держал в кармане, сжимая, подпитывая силой… даст Божиня, и камень этот найдут при теле.
— Земли, — непослушным языком сказал он. — Вам нужны…
— Мой повелитель был крайне недоволен… колонии оскудели… казна опустела. А ваши земли богаты, что людьми, что…
В голове туман.
Сладкий.
Розовый.
И в тумане этом слышится смех далекий, только не понять, кто смеется… братец старший? Чтоб ему… он виноват… зачем выжил? Должен был уйти, а нет, спасли… спасла Марьяна на свою голову, за что и поплатилась… иное милосердие чревато бывает.
Дышать тяжело.
— Вы… ей…
— Отчего б и не помочь женщине… она предъявила интересные бумаги… и мой повелитель подумал, что если окажет он услугу истинному наследнику…
Туман клубится, глаза застит. Вот и расплылось, расползлось лицо Ульриха. Не лицо — блин белый, в котором глаза кусками сажи… не глядись, утянет. Он и не глядится.
Михаил.
Мишенька… мама так называла… нельзя уходить, он еще не все понял… или все? Что уж теперь… поддержать претензии якобы законного наследника… или законного? Главное, смута… раскол… и в расколе этом, в мути кровавой свой кусок отрезать. А после, кто бы ни победил, ему царство придется собирать по кускам, по клочкам, на живую нить шить…
На саксонцев обиды нет. У них свой интерес. Как и у норманнов, которые тоже помогли, где золотом, где волшбой, а где… свои виноваты… грызлись, делили коврик у ног царевых, не заметивши, как зреет недовольство народное, того и гляди выплеснется.
Дышать надобно.
— Мне жаль. — Ульрих поднялся. — Вы хороший человек. И верю, что стали бы мудрым правителем, но… моему господину мудрые не нужны…
Он помог Михаилу Егоровичу улечься.
И стянул сапоги.
— Не волнуйтесь… у меня нет задачи полностью стереть ваше царство… все-таки буфер между степями и нашими землями необходим… но… — голос с трудом пробивался сквозь розовую пышную вату. — И трон займет достойный… по праву… у вас интересные легенды… большой простор оставляют…
Он снимал кольца, кроме одного, махонького, невзрачного, еще матушкой даренного на оберег.
Лучше бы свободу подарила.
Но что она могла, робкая тихая царица, которая из светелки-то своей не смела лика казать без отцова дозволения? Только и умела, что молитвы читать и Божине кланяться… медь народу сыпать щедрою рукой. Улыбаться робко. Говорить тихо. Слезы лить по всем детям своим…
Обережное колечко крепко в плоть вросло.
Оставит.
Ему кольца без надобности, выкинет небось в ближайшую канаву, где и подберет их человек невезучий, которого после и возьмут, обвинивши в смерти царевича… да… царевича…
Сквозь туман выступила матушка. И лик ее был печален.
— Здравствуй, мама. — Михаил Егорович, точней, Мишенька, которым он был для матушки, взгляд отвел. Стыдно ему было. Она ведь знает, обо всем знает… но разве виноват он? Разве хотел власти? Никогда-то… только свободы… а они связали клятвой и поводок дали в руки тому, кто…
— Прости его. — Матушкина рука легла на чело, и холод, от нее исходивший, проник в тело.
Вот, значит, она какая — смерть.
И не страшно.
И легко даже.
— Не могу.
— Прости и тогда свободен станешь, — сказала матушка, глядя серьезно. — И нас прости. Меня, что не помешала… отца, что послушал советов дурных… боялся, что ты, Мишенька, обиду затаишь на брата. Смуту учинишь.
И отец вышел.
Таким, как Мишенька его запомнил, строг и силен. Высок. Кряжист. В брате от него только и было, что горделивая посадка головы, а так…
— Царство только-только на ноги встало, окрепнуть бы ему. А для того покой нужен, чтоб даже мысли о смуте не возникало.
На отце рубаха алая, матушкой расшитая.
Бос стоит.
Голову опустил.
— А как не возникнет, когда двое вас, один старший, а другой разумный и всем хороший? Когда шепчутся бояре, дескать, болезнь-то, может, и отошла, да вдруг недалече? Вдруг возвернется она? И как мне было поступить?
По Правде!
По справедливости, коль не сгинула она вовсе из мира. Но ныне все иначе, видать.
— Назвать наследником тебя в обход старшенького? Так найдутся и те, кому он, болезный, мил будет. Станут кричать, что царь закон попирает, хотя блюсти его поставлен. Оставить, как оно есть? Искушение велико. И не ведал я, сумеешь ли ты устоять. Умру, и расколется царство. Одни бояре за тобой станут. Другие — за ним… сослать тебя? Или его? Вы оба мои сыновья. Обоим счастья хотел. Вот и выбрал тебе дорогу, которая казалась…
Замолчал отец.
Развел руками. Мол, кто ж знал, что выйдет так.
Никто не знал.
И повторили призраки хором:
— Прости.
Мишенька постарается. Он уже простил, ибо сам был виновен во многом, и теперь мучило лишь — а его-то простят? Пусть не брат, который уже ушел дорогой, а другие… те девчонки… и дети…
Легко стало.
Взлетел он птахой по-над землей и увидал что себя, лежащего, уставившегося взглядом бездвижным в небеса, что саксонца, который спешил уйти, унося и клинок отравленный, и перстни… а камень в потайном кармане не отыскал.
Хорошо…
Увидал и юродивого, который вовсе не был юродив.
И толпу, что разрасталась, прибывая перепуганным людом… и мертвяков, перед юродивым расступавшихся… некромант? Или амулет при нем?
Мальчишку, который, запыхавшийся, побледневший, что-то втолковывает декану некромантов… и тот мрачнеет, подбирается, что рысь перед скоком.
…Душа обрела крылья. И воздух под ними сделался плотен. Время вдруг исчезло, и Михаил Егорович осознал, что его, времени, ныне вовсе не существует.
Он видел, что было.
Что есть.
И что будет.
Погром на Белом городе. И терема, которые прятались за высокими оградами. И захлебнулась бы толпа, остановилась, забоявшись пик и сабель. Да только саксоны не были б собой, когда б не отыскали способа. И вот открываются ворота… а коль заперты, то и сносятся будто бы силой Божининой… и занимаются терема, кричат люди… кровь льется… звонит колокол, гуляют мертвяки…
Летят гонцы к стрелецким сотням. Несут грамоты, перстнем коронным запечатанные.
И собираются некроманты, стягиваются боевики, про мертвецов позабывши… вернутся, после, когда уймут бунт кровавый…
Идут ровным строем.
И кто-то кричит:
— Бей магов!
И разъяренная толпа, которая уже сама не ведает, чего ей надобно, разворачивается, уверенная, что и этого врага сметет. И юродивый, скинувши маску дурачка, вздымает руки, выпуская вихри сырой силы. Но разлетаются они о совокупный щит, выставленный магами.
А мрачный Кавьяр только руку об руку потер.
Плечами повел…
Это не бой. Избиение… и иначе нельзя, потому что немного их, магов, куда меньше, нежели людей. Но все одно… огонь и вода… и кажется, гудит земля, раскрываясь под ногами… крики, боль…
Юродивый теряется в этой мешанине.
Он сделал, что должно.
Почти сделал. Он летит ко дворцу, и Михаил не способен остановить его. Ныне он лишь наблюдатель.
Наблюдать с высоты легко.
Вот вбегает во двор мальчишка, куда подевался дурачок давешний. Ныне вновь он свят, ликом чист, волосом светел. Одежи белые… под тряпьем скрывались? Главное, что ни пятнышка алого на них, ни следа малого копоти, чисты, как душа младенческая.
— Слушайте, люди, — кричит он, и голос набатом несется по двору. — Слушайте и не говорите, что не слышали! Трудные времена настали, люди… смута идет! Но я послан вам во мир и спасение! Признайте истинного царя… признайте, и воздастся вам.
Его руки и плечи охватило белое пламя.
— Признайте, и наступят благодатные дни…
Черное солнце, будто потревоженное этим пламенем, дрогнуло и сдвинулось, всего на волос, но и этого хватило, чтобы золотой луч, упав с небес, коснулся чела нового царя.
Первыми на колени опустились стрельцы.
Холопы.
Виночерпии и псари. Девки дворовые. Рабы безмолвные… бояре… эти держались, привычные к чудесам, не единожды встречавшие на пути своем магов, но и они дрогнули.
— Я буду щитом вашим, который заслонит от гнева народного, — вещал самозванец. — Я есть ныне царь новый! И кровь моя…
— Не прольется. — Старик Волчевский остался на ногах. Обеими руками он вцепился в посох, верно, стоять было непросто. И Михаилу Егоровичу хотелось бы понять, что за магию использовали саксоны. — В тебе и капли той крови нет…
— Зато другой полны жилы. — Самозванец опустил руки. Он мог бы растереть старика в песок, и это понимали все, кому выпало в тот день оказаться в тереме. — Тебя волнует законность моих притязаний, старик? И если докажу я, что имею право взойти…
Он махнул рукой, и живое пламя поднялось с гудением, расчищая путь к помосту, на котором высилось резное кресло.
— Докажи, — согласился Волчевский.
Страшно ему было? А ведь и бровью не повел. Крепок. И, глядя на него, стали подниматься прочие. Вот Кабашин встал, пот отер, делая вид, что на колени бухнулся исключительно от жары и телесное слабости. Гуршинин и Давыденский переглянулись.
Эти в стороне останутся.
Им в столицах делать нечего. У них земель столько, что не одно царство сотворить можно. А потому и думают о том, как бы свое сберечь.
Может, оно и правильно.
— Докажу. — На лице самозванца появилась кривоватая улыбка. — Но и вы уж, будьте ласковы, не забудьте про слово данное… да будет Божиня ему свидетелем!
А вот это было плохо, до того плохо, что Михаил Егорович потянулся было к земле, желая упредить, но воздух был слишком плотен для крыл его, да и сила неведомая не пускала. Хорошо хоть, вовсе дозволила глядеть.
Вот самозванец поднимает руки.
И разводит их медленно, и небо светлеет, будто стирают с него густую черноту. Вот земля мелкой дрожью идет, и по слову сказанному, которое упало в мир камнем, оглушив всех, кто слышал его, оный мир меняется, выталкивает из себя древний склеп.
Темны камни его.
Мхом поросли.
Крепки двери, на брус железный заперты. Но ложатся на брус руки белые лжецаревича, и вспыхивает он пламенем синим. Пеплом осыпается.
Раскрываются двери беззвучно.
И сам склеп будто наизнанку выворачивается, дабы все видели, что в нем сокрыто.
Гроб хрустальный о семи цепях.
И дева в гробу том. Белолица. Темноволоса. Прекрасна, что камень драгоценный в короне…
Кто-то вздыхает.
Кто-то прикусывает руку, чтобы не закричать… кто-то молиться начинает, вспомнивши, что все тут под Божьей волей…
— Вот она, наследница престола законная, — молвил он, и так, что услышан был. — Рожденная в браке законном…
— Баба! — сплюнул Волчевский. — Неживая.
— Зачарованная, — усмехнулся самозванец. — Она жива. И любой сие подтвердить способен. Подойди, старик, не бойся. Я не причиню тебе вреда.
Волчевский хмыкнул, не поверивши, но подошел, а за ним и прочие потянулись, обступили гроб всполошенной дурноватой стаей. Загомонили разом. И стихли же по взмаху лжецаревича.
Соскользнула крышка.
И Волчевский руку протянул.
— Теплая, — молвил он, пощупав запястье спящей царевны. А после и ущипнул, да только неподвижна осталась девка. — Кровь проверить надобно…
Камень принесли тотчас.
Самозванец не мешал. Стоял подле гроба, наблюдая за суетой… а ведь хитер. Откуда взялся? Из тех, царицей привеченных? Или норманнских кровей? Саксонец? Перекати-поле, которому и Морана не указ… плохо это?
Или…
Такой на цепи не усидит. Ульрих полагает, что использовал мальчишку, а оно как бы не наоборот вышло.
Пускай.
Первый князь, помнится, тоже Божининым сыном звался. Сирота из ниоткуда… все повторяется, волей ли богов, хитростью ли людей, а может, и тем и другим разом.
Боярский клинок вспорол ладонь спящей девы, и ведь нарочно глубоко резали, а она, бедная, и не шелохнулась даже. Крепок был колдовской сон. А кровь красна. Потекла, упала на поднос, коснулась черного камня, который, кровью потревожен, вспыхнул ярко, разом из обыкновенного драгоценным становясь.
— Признал, поди ж ты, — без особого, впрочем, удивления сказал Волчевский. И клинок убрал. — Так то ее… а ты…
— А я ее женой назову, — не смутившись ни на мгновенье, сказал самозванец. — Разбужу и назову…
— Ты?
— Можешь сам попробовать. — Мальчишка указал на гроб и деву. — Если хочешь… или вот сыновья твои…
Волчевский оглянулся.
Сыновей у него было пятеро, и, верно, мелькнула мыслишка, что ладно было бы усадить хоть одного на трон, да только опытен был боярин. И оттого сказал громко:
— Сыновья мои уже просватаны. Негоже боярину от слова своего отпираться. Но если кто восхочет…
Восхотели. Как же таким случаем да не воспользоваться. И первым вызвался будить Кочербрут-младший. Подошел к гробу. Поклонился.
Наклонился.
Приник к устам… и вспыхнул белым пламенем, заорал, покатился по камням, пытаясь огонь сбить, да только тот лишь яростней вгрызался в тело боярское.
Смотреть на это и с высоты было неприятно.
Душа, пусть и бестелесна, ощутила едкий запах паленого волоса. И Михаил Егорович поморщился. Надо же, чего удумали…
Бояре зароптали. А самозванец лишь руками развел, мол, не он тому виной, но едино воля Божинина, а разве в человеческой силе противостоять ей?
И в разуме…
Волчевский подбородок потер и, взгляд от спящей царевны переведши, поинтересовался:
— А ты, значится, не боишься?
— Не боюсь, — ответил он, тряхнув кудрями. — Мне сие с рождения предсказано было, судьба великая…
И голос его, усиленный магией, разнесся по терему. Хитер… одно дело бояре, им-то до судьбы чужой интерес малый, а вот другое — люд простой. Думать нечего, и дня не пройдет, разлетится по столице сказка о зачарованной царевне и сироте, душою чистом, на которого Божинино благословение снизошло.
Если бы умела душа, Михаил Егорович рассмеялся бы.
— Что однажды настанет темное время для земли Росской. И падет царь… и все царской крови.
А вот это уже крамола…
— И лишь царевна юная уцелеет едино потому, что мать душу свою залогом оставила…
И ухмыльнулась при этих словах красноокая тварь, чей взгляд опалил, заставил забить крыльями незримыми в желании подняться выше. Но нет, не Михайлова грешная душа твари надобна была. Свою добычу она несла в когтистых лапах и держала крепко. Рвись, борись, не выпустит.
Куда несет?
Кому?
О том лучше не думать. Разве ж мало Михаилу иных мыслей?
— …Что станут бояре власть меж собой делить, — вновь показался терем царский с самозванцем, который стоял, ногу вперед отставивши, рукой бок подперши, — гадать и рядить, кто из них родовитей, кто сильней. И до того дойдет, что войной двинутся друг на друга, вводя царство в разорение.
Бояре переглядывались.
Разорение никому-то не надобно было, с разоренных земель многого не возьмешь, да только все, сказанное молодцем недобрым, они знали.
И готовы были рискнуть.
— А следом и азары лютой волной покатят. И не останется здесь ни города не разоренного, ни села не сожженного.
Красиво говорил.
— Вороньем слетятся на обескровленную Россь норманны и саксоны, пировать станут на мертвом теле ее.
Выдохнул парень, провел ладонью по светлым волосам.
— И сгинет царство, как будто бы и не было, а вольные люди на веки вековечные рабами сделаются…
— Хватит, — оборвал речь Волчевский. — Поняли мы уже… и ты, значится, спасешь?
— Спасу, боярин. — Самозванец отвесил легкий поклон. — Мне сие предсказано было. Видел я сон, явилась ко мне женщина в платье простом. Волос ее золотой, очи синие… и свет от нее такой исходил, что смотреть глазам больно было.
Кто-то из бояр хмыкнул, знать, не больно поверил. Им и не надобно.
Главное, что люд поверит простой. Смутьяны, которые ныне движутся бояр бить, которые уже терема запалили… и пара теремов — лишь начало.
Поверят стрельцы.
Им небось не в радость будет кровь лить люда простого. У каждого второго в столице родня, если не у каждого первого…
— Сказала она мне, чтоб не плакал я по родителям, коих стрелы азарские унесли… эта боль отболит. Чтоб не гневался за село пожженное… этот гнев не только в моем сердце жив… чтоб не клялся мстить. Месть на пути Моранины ведет… но чтоб шел в дальний скит к старцу пресвятому Анусию и просил его взять меня в ученики.
Бояре молчали.
Переглядывались, а гляди-ка, все с колен повставали. Иные хмурятся, которые побестолковей, того и гляди с кулаками кинутся на самозванца. Да только и у него найдется чем ответить.
— Там я и жил десять лет, в тиши и благости, постигая науки всякие.
Сомнительно, и сомнение это читается в глазах Волчевского, но дальше взгляда не уйдет. Слишком умен Волчевский, чтобы воевать там, где шансы на победу малы.
Первым поклонится новому царю.
Опорой станет. Надежей.
С того и получит свою награду. А прочие… что ж, одни за дурость свою поплатятся, с другими счеты сведут. Ничего-то нового.
— …Пока вновь не явилась мне дева и не велела отправляться в столицу, ибо близилось время перемен великих, которых мне свершить судьба выпала…
Кто-то матюкнулся.
Кто-то засопел сердито, желая, верно, сказать, что таких от вершителей в столицах и без нынешнего самозванца хватает, но… промолчали. Уж больно выразительна была груда костей опаленных, которую убрать и не подумали.
— И потому говорю я вам. Смиритесь. Примите волю ее. И будет так, как будет. — Самозванец закончил речь и осенил себя крестом Божининым.
Волосы его вдруг засветились ярко.
И свет этот расползся по одеже, и вскорости стоял пред боярами человек, сиянием укутанный. Стоял и улыбался, понимая, что победил…
И первым опустился на колени старик Волчевский.
Он тоже умел победителей чуять.
А следом за ним тяжко бухнулся Давыденский. И прочие воспоследовали, верно, решивши ныне уступить, а там уж… воссесть на трон не так и тяжко. Куда сложней удержаться. Неудобно оно, креслице царское, не каждый зад этакую честь выдержит.
Самозванец же, подошедши к гробу, наклонился и приник к мертвой красавице.
Замерли все.
Затаили дыхание в тщетной надежде, что полыхнет гость дорогой, да только… мгновенье, и еще одно, и длился поцелуй этот вечность, если не дольше. Но дрогнули ресницы красавицы, открыла она глаза и тихим голосом спросила:
— Кто ты?
— Я твой суженый, душа моя, — сказал самозванец, руку протягивая. — Божиней даденный. И пред нею связаны души наши до самой смерти…
И тут, будто и вправду умел ворожить он, солнце черное вдруг рассыпалось роем мушиным, а он истаял в свете ясном. И полегли мертвяки, а в маленьком храме, который, по легенде, еще первой царицей ставлен был, торжественно и ясно зазвенели колокола.
Радуйтесь, люди!
Спаситель явился!
ГЛАВА 31 Об обрядах запретных
Разбудил меня Еська.
Как разбудил, когда и спала-то я вполглаза. Оно-то, поди, наспи, когда со всее округи нечисть сползается. И вот в жизни б не подумала, что ее туточки столько! И пущай твердит Люциана Береславовна, что, дескать, надежна оградка, что надобно нам всего-то рассвета дождаться да стрельцов с подмогою, а вот все одно неспокойно.
Какой сон?
Но разве ж с наставником нашим поспоришь? Вышел. Глянул хмуро, отчего мне сразу совестно стало и за разговору подслушанную, и просто так — мигом припомнились и малые грехи, и великие прегрешения, и сразу в душе желание возникло покаяться немедля. Еле я с этим желанием управилась.
Наставник же, нас взглядом хмурым обведя, молвил:
— Спать идите.
— А эти как? — Еська пальчиком на оградку указал, за которой копошились твари всяко-разные.
— А эти от тебя, мил-друг, никуда не денутся, уж поверь мне. — Архип Полуэктович погрозил пальцем особливо наглой криксе, которой вздумалось на ограду вспереться. Та и скатилась, куцые крыльцы поджимая, скуголя жалостиво.
— А…
— И эти никуда не денутся. — Теперь он на волков покосился, которые, правда, вели себя тихенько, будто бы и не волки вовсе. Полегли вдоль ограды. — Вона, зверь, а мозгов побольше, чем у людей некоторых будет. Понимают, что если время есть, отдыхать надобно, потому как завтра этого времени и не будет, и вообще…
Рукой махнул и повторил:
— Идите вы спать, время позднее, а разбудят нас рано… дежурить по очереди станете. Елисей первый… и скажи своей подружке, что не надо притворяться умирающей, я прекрасно вижу, что она поживей меня будет… нет, что за привычка подбирать всякую гадость и в дом тащить? Мало вас драли, мало… а ты, выпускничок, глазами не зыркай, тебе тоже сон надобен, иначе будешь ты к утру не победителем чудовищ, а в лучшем случае помехой.
Арей меня за руку потянул.
И в доме на лавку плащ свой кинул, да только Хозяин этот плащ скоренько смел.
— Куды на голую стелешь? — насупил бровки косматые. — Надобно тулупчика сперва, чтоб мягчей было, перинки.
И во диво, появились из ниоткуда и тулупчик, и перинка, и поверху уже плащ Ареев сам собой лег. А там и одеяльце пуховое.
— Ложися, хозяюшка, отдохни… не дело это, цельный день на ногах… а эти, ни ума, ни понимания… ранятся, в беспокойствие вводют… — Хозяин к косе было потянулся, но я не дала расплетать. Сон сном, да только спим мы ныне, как сие говорится, в особенных обстоятельствах, и, значится, побудить могут посеред ночи, и некогда будет с косами возюкаться…
И раздеваться.
Да и как разденешься, когда в хате людно-то? Архип Полуэктович всех, окромя, может, волков и Елисея, в хату загнал. Мол, отдыхать.
— Чаровать станут, — спокойно заметил Илья, в плащ укутываясь по самые глаза. — Мы им мешать будем.
Зевнул широко и лег прям на доски. Ему-то Хозяин тулупчику для мягкости не предложил. То ли не было, то ли пожалел.
С печи зыркала Елисеева девица. В темном углу пряталась Щучка… царевичи-то на полу полегли, будто так оно и надо. Кирей… Кирей сгинул.
И Лойко с ним.
Куда подевались? И отчего наставник будто бы не заметил этой пропажи?
Ох, тяжкие мысли.
Арей устроился рядом, подле лавки. Я ему плащ возвернуть хотела: у меня и без оного есть на чем спать, но он лишь брови нахмурил грозно, я и усовестилась. Не сказать, чтоб вовсе, но так… маленько.
— Спи, — велел Арей, одеяло поправляя. — Завтра будет новый день… и все у нас получится.
А после взял мою руку и поцеловал.
Ох и полыхнула я, мнится, краской по самые уши. Добре, впотьмах сего не видать было. Надеюсь… от легла… лежу и слухаю… никто не шепчется, никто не возится, будто и вовсе никого немашечки… будто… нет, есть. Вона, Егор дыхает сипло, тяжко, что после долгого бегу… а Емельян все ж шепчет чегой-то… прислухалась — молится.
Щучкино сердце стучит быстро-быстро.
А Евстигней похрапывает чутка. Видать, всерьез нос заложило. Надо будет завтра заварить ему ромашки с полужницей, от простуды — найпервейшее дело…
Так я слухала, слухала и не заметила, как придремала. Правда, и сквозь дремоту почуяла, как Арей сел, взял меня за руку да так и держал, будто боялся, что сгину.
Куда мне?
А после стало темно и спокойно. И вот Еськин тычок под ребра — этак и ребра проломить недолго — разбудил. Я глаза открыла. И Еськину руку со рта убрала. Не буду я шуметь, разумею…
Ой, мамочки родные, что ж деется!
Спять все!
Арей от лег, лбом премудрым в лавку упершись.
Егор руки раскидал, постанывает. Емельян калачиком скрутился, вздыхает только, то ли об нас, то ли лежать жестко, все боки обмулил. Девица Елисеева с печи руку свесила, которая впотьмах белеется зловеще, с чего сама оная девица вовсе неживой кажется.
— Что…
— Сонное заклинание, — Еська ответил одними губами. — Или не заклинание, да… если разбудить, проснутся, но нам того не надобно.
— Ага. — Щучка выступила из темноты и сощурилась, рот разинула, зевая широко, да ладонью прикрыла. — Про меня не забудьте.
Еська матюкнулся тихенько, но от души. Думал небось, что и женушку евонную магия усыпила, ан нет, стоит она, только позевывает.
— Не гляди так, я себе амулетик сделала, — и вытянула заячью лапку на шнурке. — Хороший… об него не одно заклятие разбилось, так что… без меня пойдете, кричать стану.
— Дура.
— Какая есть, а вся твоя, дорогой.
— Осмелела…
Я Арея за руку тронула, он и очнулся, нехотя, готовый вновь в сон упасть. И верно, спали б мы в ином месте, спокойном, так просто его б не добудилась. А тут и колдовской сон сторожкий. Арей пытать ничего не стал. Поднялся на ноги, потянулся, разминая затекшие плечи, и, сонное нашее царствие взглядом окинув, пальцем в потолок ткнул.
Стало быть, на чердак пойдем?
А и верно, коль вершить обряду, то в месте спокойном. На улицу нас не пустят, тут и думать нечего. Небось и двери снаружи подперли, чтоб мы, студиозусы неразумные, под ногами не мешались. Но и сами сюды не полезут, дабы заклятье не порушить.
Значится…
Значится, на чердак полезем. Чаровать пока неможно, сие почуют, но я впотьмах вижу неплохо. Еська… тоже привычный. И Щучка вот ступает осторожне, крадется, что кошка по сметану. Арей кивнул и переступил через длинные Ильюшкины ноги. Не царевич — цапля чисто голенастая.
Лестица на чердак вела узкая да скрипучая — страсть. Я на каждым шаге замирала, опасаясь, что отворится дверца махонькая да Архип Полуэктович заглянет.
Спросит, чего это мы удумали?
Какую-раздакую лихую дурь студенческую?
Аль царевичи проснутся.
Но нет, никто не проснулся, никто не помешал. Видно, Божиня решила, что студиозусам иная дурь и не во вред буде.
А вот крышу и вправду подлатать надобно, это ж пока теплынь стоит, то и дому ладно, а вот зарядят осенние дожди, и потечет вода сквозь дыры, в которых ныне звезды нарядные виднеются.
Пахнет пылью.
И травами сухими, перележалыми. Мне еще когда бабка сказывала, что травы, конечно, хранить можно, но не вечно, что на третий-четвертый год утрачивают они силу свою. Нынешние, мыслю, куда как подольше лежали, а поди ж ты, не стали трухой.
Висят со стропил веревки. А на тех веревках крючочки костяные примотаны, а на крючки, стало быть, пуки травы насажены. Тут тебе и лебеда, и полынь горькая, и полынь сизая, которая от сердечной боли хороша, и белокопытень, да и иные травы, простые. Есть кровохлебка махонькая и мухоедка, уж не ведаю, для какой надобности. В углу пыльный сундук виднеется. И меня к энтому сундуку прямо-таки тянет, ой, чую, там сокровищев немало спрятано. Может, даже крикун-корень есть, про которого в «Травогляде» Люцианы Береславовны писано было.
Ничего, после гляну.
В «Травогляде» том же ж писано было, что корень энтот силу не утрачивает со временем, а наоборот, чем дольше лежит, тем ядреней становится. Нынешний, коль он там есть, мню, ядрен так, что дальше и некуда.
Я себя за руку ущипнула.
После.
Все после. И сундук, и корень… и чары, на энтом сундуке накладенные, потому как прежде я за собой такого не замечала, чтоб хотелось в чужие сундуки нос сунуть.
— Ты уверен, что нам это надо? — Вот Еська к чарам равнодушный остался, всперся на сундук и ноги свесил. Арей же головой мотнул, и понимай как знаешь. То ли уверен он, то ли не уверен, главное, что со своего не отступит.
Вона, сумку вывернул.
Мела достал.
— Дай я. — Мел я забрала. Даром, что ли, я ночей не спала, премудрость чертежную постигаючи. Пригодилась. Арей-то с краю рисовать взялся, а значится, не видит, что схема этая — малой цикличности, а такие малюют от центра…
Люциана Береславовна меня б похвалила.
После, конечно, когда б отошла гневаться. Может, вместе б и разобрали сию схему на составные части. Вот центр у ней необычный, там линии и восходящие имеются, и нисходящие, что в одной схеме сочетать опасно, потому как может случиться, что не выдержит она и разомкнется, выплеснувши всю силу… а еще три руны-замка… и малая дуга… и поддужье с обратным током силы. Хитро выходит. И вроде каждый знак я разумею, для чего он надобен, а вот вместе собрались, и уже не понятно ничего.
Надеюсь, не наврала книга.
— Свечи расставляйте…
От как плеснет Арей силы, так время нашее и выйдет, потому как силу очнувшуюсь туточки не скроешь. Скоренько явится наставник проверить, что у нас приключилось. И подсказывает душенька моя, что не радый он будет нашему эксперименту.
Свечи Арей расставил споро.
И чашу достал.
Полоснул себя по ладони, кровь отворяя… снаружи ктой-то завыл грозно, заохал… Щучка вздрогнула, а я… мне вдруг почуялось, будто стоит кто-то рядом и глядит на меня.
Глядит и усмехается.
Мол, сама девка себе беду нашла… сама.
Кровью наполненная, стала чаша в центр схемы. Свечи — на углы звезды большой, в которую семь малых вписано было, по числу тел небесных. И каждой Арей кусок хлеба поднес.
— Давай. — Он руку протянул, и Еська в нее волосья вложил, нитью перевязанные.
Собрали, значится.
Щучка сподмогла.
Еська… и от вора польза случилась.
Волосы легли в деревянную плошку, которую Арей мне передал, а я в центр круга отнесла. Взгляд пристальный, сгинувший было, вдруг сделался внимателен, насторожен.
— Зослава, — Арей руки разминал, — возможно, тебе будет лучше уйти.
Куда?
На низ? На лавку и перину пуховую, возвернуться в сон зачарованный, в коий, мыслею, ударюсь, стоит глазыньки прикрыть? И так до утреца самого лежать, беды не зная? А они тут сами пущай? И вроде невелика беда, чай, не на поле они бранном, с нежитью сражаться станут, а всего-то навсего обряду совершат. Но вот…
Не уйду.
Я тоже знать имею право. Вона, лежит в кошелечке монетки половина, горяча, что уголек. Я слово давала… два слова давала… и тепериче хоть одно да сдержать повинна.
— Нет, — ответила Арею и глянула прямо: будет ли принуждать? Не стал. Кивнул и за руку взял. Усмехнулся.
— Упертая ты.
— Какая уж есть.
— Хорошая есть. — Он провел пальцем по раскрытой моей ладони. — Если что вдруг не так пойдет, уходи… это древняя магия. Признаться, я сам не до конца уверен, как оно все пойдет.
Тут уж у меня слезы на глаза накатили.
Говорим что прощаемся, а сие — примета дурная, найдурнейшая изо всех. И у меня сердце прям колотится, мало что из грудей не выпрыгивает. Отошла в стороночку и со Щучкой рядышком стала, замерла, дыхание затаивши.
Еська к жене подошел.
Глянул искоса.
Вздохнул.
— Тебе не обязательно в эти дела лезть.
— Не обязательно, — согласилась та. — Но хочется. Интересно, знаешь ли… никогда настоящего чародейства вживку не видела.
Ага… настоящее ли.
Арей заговорил. Слова тягучие, что мед, одно за другое цепляются, ползут, заволакивают чердачок будто бы дымом. И в дыму этом ароматном, свечами рожденном, занимаются травы. Тлеют медленно, запахи плодят.
Полыни.
И зверобоя.
Кичень-травы, которая, сказывают, только в степях растет, и одну седмицу в году всего-то собирать ее можно. Трава махонькая, сухонькая, но полезная зело. Полынь-то кровь бегущую остановит, а кичень-трава сердце разбитое исцелит. Сделает важное пустым, принесет душе забвение…
Опасная трава. Ею душу вовсе допуста вытравить можно, и не останется в ней не только боли, но и радости. Будет человек что во сне существовать, дышать дышит, а все одно неживой.
Не о траве бы думать, но о песне, в которую заклятье свивается.
Ложатся слово за слово.
И свечи горят до того ярко, что я щурюсь и глаза рукой прикрываю.
Смолк Арей.
И тихо вдруг стало, а по ногам потянуло холодом лютым. И не только по ногам. Выдохнула я… и воздух белыми кудельками закрутился, как сие в зимку бывает.
— Вот и все, Зослава, — молвил кто-то над самым ухом. Я б закричала, да только поняла, что не могу рта раскрыть. Стою… гляжу.
Идет ко мне…
…жених мой, которому обещалась.
Раскрылся заветный сундук, но в нем не крикун-корень лежал, а зеркало огроменное. Как только влезло? Во весь мой рост. Ныне — черным-черно, только свечи в этой черноте отражаются, будто звезды горят далекие. И за свечами он идеть, человек — не человек…
Вспомнилась ночь березовая.
И сказка-присказка страшная. Вымысел? В каждом вымысле своя правда сокрыта, и не надо было мне любопытничать.
А он все ближе подступает.
И вот диво, хоть невелик чердак, да все одно от меня до гостя нашего незваного далече… бежать бы мне, кликать на помощь, но онемела, пальцем пошевелить не могу, дыхаю и то через раз.
— Не бойся, Зослава, — сказал гость. — Помнишь, ты помочь мне обещала. Пришло время обещание исполнить. Пойдем со мной.
— Я…
Обещала, это правда.
И слово сдержать надобно бы, да только боязно мне. Оглянулась… стоит рядом Арей… стоит и не дыхает даже. И Еська заледеневший, оцепеневший, и Щучка. Не человеки — статуи изящественные, которые в приличных домах для взора услаждения ставют. Только, мнится, нашие статуи если и поставят где, то на конюшне, и то, может, после уберут, чтоб лошади не полохались.
— Они…
— Время остановилось. — Наш гость встал рядом и руку ко мне протянул. — Я помогу тебе выбраться. Они не заметят. Им покажется, что ты просто исчезла… древняя магия коварна, Зослава. Так ты поможешь мне?
— Помогу.
И я взялась за холодные пальцы, и оцепенение сгинуло.
От теперь бы бежать, да… куда?
— Правильно, некуда, — печально усмехнулся Лойко. — Если бы было куда, я бы сбежал… знаешь, она умерла.
— Кто?
— Моя матушка. Она говорила, что будет со мной всегда, но умерла.
— Мне жаль.
— Не жалей. Она сделала меня таким вот… но она умерла, и память вернулась. Теперь я знаю все, что когда-либо творил.
Он вел меня по горящим линиям, мимо свечей, пламя которых тоже замерло, словно замерзло. И мне страсть до чего хотелось потрогать этое пламя… нельзя.
От и зеркало раскрылось чернотой.
Мы шагнули.
Он и я… он и…
И не было больше холода. Не было и жара. Не было ничего, кроме темноты, с которой я сроднилась. И она, липкая, душная, что старая шуба, окутала меня, опутала с ног до головы. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Но я дышала, не иначе как чудом. И рвалась, и кричала… и крик мой был не слышен никому.
— Это пройдет. — Упасть мне Лойко не позволил, подхватил на руки, прижал к себе, гладил по плечу. — Я знаю, это неприятно… это как будто умереть, а потом вернуться…
Я плакала.
И прежде-то ревела, но чтобы вот так, то никогда еще. Слезы лились, что пиво из пробитой бочки. Я всхлипывала и размазывала сопли кулаком, а он просто ждал. И от этого мне только хужей делалось.
— Ну все, будет. Не умею я девок утешать. — Лойко протянул платок свой и сам мне нос вытер. — Если бы можно было иначе, я бы не стал вести тебя за собой.
— Что это было? — Я все ж нашла в себе сил успокоиться.
От же ж! Магичка, воителка, а реву белугою. Еще пару разочков носом шмыгнула, для порядку, стало быть, и глаза вытерла рукавом.
— Дорога мертвых, — молвил Лойко. — Живым там не место. Поэтому возвращаться придется как-нибудь самой… если получится.
— А если…
Хотела спросить да замолчала. Оно и понятно. Если не получится, то оба мы дорогою мертвых пойдем…
Он руки разжал, позволяя мне отступить и оглядеться.
Где мы?
На поляне.
Лес вокруг. Ельник темный. Он и днем-то темен, а ночью и вовсе стоит плотно стеною черною, колючей. Над головою небо высокое, в нем — луна, что рыба в вешних водах, кругла и нетороплива. Под ногами трава шелковая, и ночная звездочка в ней белеется, самое оно время собирать. Полезная трава, от головных болей спасает. Или вот еще когда по-женски не ладится.
— Здесь я умер, — сказал Лойко, тоже озираясь, будто бы впервые в место этое попал и ныне знать не знает, как тут себя вести. — Вон там…
На край поляны указал.
— Я тогда не понимал за что. Мы ехали куда-то… впервые из терема выехали. И для меня это было большим приключением. Я решил, что уже совсем взрослый, если позволено было, а они напали… наша собственная охрана… меня выдернули. Привели. Показали ей.
— Царице?
— Да. И убили. И тогда я еще подумал, что это нечестно. Я ведь никому ничего дурного не сделал! — Он кричал, и голос его тонул в колючих стенах ельника. — Видишь, справедливость восторжествовала, я вернулся и сделал много дурного. Так много, что теперь и умереть не страшно. Если позволено будет.
— Значит, все ж таки ты?
— Я.
И стоим. Молчим.
Чего сказать, не знаю.
— А там… зимой… ты…
Он же ж был с нами. И в круге том стоял, щитом моим укрытый. И умирать готовился… и…
— Я, — просто ответил Лойко. — Меня сложно убить. Почти невозможно. Я умирал много раз. И хотел бы остаться, но она возвращала. И даже теперь, когда ее не стало, я вовсе не уверен, что умру в последний раз. Но я не хочу возвращаться сюда, Зослава. Ты проходила дорогой мертвых, ты понимаешь… я стою на ней одной ногой, но и этого хватает, чтобы слышать ее каждый день, каждое мгновенье…
Он замолчал.
И ветер качнул деревья, застонали ели, кланяясь хозяину небес. И сами небеса будто бы выше сделались, а луна влево откатилась. Знать, оттудова видать лучше, чего на земле у нас творится-то.
— Теперь я помню их всех, тех девочек, которыми она продлевала мне жизнь… сначала она просто приносила их в жертву. Потом… потом поняла, что можно иначе. Обряд. И словом Божининым две жизни в одну сплетаются. И значит, эту, вторую, отнять можно. Не капли силы, а всю до дна высосать…
Он рукой по волосам провел.
А золото их побледнело.
И сам Лойко постарел будто бы разом. Нет, на лице его не появились морщины, но… я чуяла, до чего устал он. Стоять. Дышать. Притворяться живым.
Каждому свое, так бабка сказывала. Живым жизнь. Мертвым память.
Все повторяла, повторяла… а я не понимала… мне все чудилось, что она от родителей моих откупается этою памятью. И что с того, что помню я матушку? Улыбку ейную. И руки. И то, как тесто она месила, а я рядом стояла, вся в муке с головы до пят, а она не ругалась, но только приговаривала, что, дескать, вот так надо заминать ком… стараться.
И отца помню распрекрасно.
Дедовы плечи широкие, на которые он меня саживал. И сверху все-все видать было… ходили по селу поважно, он и я. Еще петушка сахарного даст, для пущей красоты.
Слезы вновь на глаза накатили. Мне малой думалось, что сыскать бы способ возвернуть их всех, что матушку, что батюшку, что деда моего… заклятьем ли, договором ли с силою, про которую людям и думать неможно. Главное, когда б был этакий способ, я бы…
Сберегла Божиня.
Мертвым мертвое. Вот и стоит мертвец, глядит на меня.
— С вашей боярыней матушка моя приятельствовала. Как приятельствовала… ей нужно было тихое местечко, чтобы эксперименты свои проводить. — Лойко ковырнул носком землю.
И спиной повернулся.
А я стою, гляжу на нее и поверить не могу, что все ж он это… мы ж, почитай, год без малого учимся… а выходит, что за энтот год я глядела и не доглядела.
— Да и мне… после того, как с отцом разладилось… я Игоря отцом почитал, пока… пока она не решила, что я слишком уж к нему привязываюсь. Или просто… он счастья хотел. И это нормально. Знаешь, пока я ничего не чувствовал, было проще. А теперь как подумаю…
— Не думай. — Я решилась.
Мертвый?
А и пускай… помню, чего он тогда рассказал. Распрекрасно помню. Но все одно жаль его, неприкаянного. Он не своей волей душегубствовал.
Подошла.
Положила руку на плечо.
— Не могу не думать. Память… она ее забирала. Вычесывала. Еще одно маленькое заклятье из тех, которые запретные… в книге много таких. Я однажды заглянул. Подумалось, вдруг да откроется способ свободу получить… мне тогда сколько было? Пятнадцать? Не знаю. Мертвые иначе взрослеют… мы потому и поехали к тетке Добронраве, что многие стали задавать вопросы… отчего я не расту? Год, другой… матушке не по нраву сие было. Вот и поехали… так я в книгу глянул, а она увидела. Разозлилась крепко. И запретила мне ее в руки брать. Ослушаться я не смел. Она мою жизнь держала. И все, что делал… по ее слову… сначала еще противился, а после… она этот гребень зачаровала. Волосы расчешет, и все, тихо становится, спокойно. Уходят тревоги. Унимаются обиды. Только и остается, чему она разрешит.
Я гладила Лойко по плечу.
Что еще я могла для него сделать? Отпустить? Как? Я таких заклятиев не ведаю. И… и все одно ноги цепенеют, как подумаю, что этое отпустить — по сути своей означает убийствие. Он мертвый, да, но живой.
— У тетки Добронравы свой сынок рос, еще та погань мелкая… очень любил девок мучить. Одна его и прокляла. И то проклятье намертво прикипело… тогда-то с книгою они вдвоем задружились, и матушка, и тетка Добронрава… а книга и рада. Подсказала способ, как одну жизнь другой подменить. Знаешь, теперь я думаю, что матушка… подсказала той девке про проклятие. Нехорошо, но… уж больно вовремя… матушка ведь все заклятия сперва на ком другом испытывала… а на ком тут? Вот и…
Он ударил кулаком по руке.
И зашипел удивленно.
— Больно. Почему мне больно?
— Может, потому что отжил? — спросила я.
Лойко только головой покачал:
— Нет. Это как раз невозможно. Они сперва проклятье с Добромысла вывести пытались. А потом обвенчали его с девкой одной… и проклятье ушло. Матушка тогда еще обрадовалась. Но рано. Две седмицы — и вернулось проклятье… тогда другую нашли… покрепче… на три седмицы хватило. А когда непраздная была, то почти все лето продержался. Матушка записывала все. Была у нее особая тетрадочка… тогда-то и меня в первый раз повенчали.
Он все же присел, провел ладонью по траве зеленой, мягкой. Закрыл глаза, прислушиваясь.
— Я чую, как она растет. Представляешь? И запахи вернулись… я давно не слышал запахов. Чем это пахнет? — Он сорвал тонюсенький стебелек с белыми горошинками цветов.
— Бадьянница…
— Бадьянница, — эхом повторил Лойко.
— У ней сок едкий. От бородавок хорош. Или еще от пятен. Иные и веснушки травят, но это блажь. Только брать надо в полдень, тогда сок аккурат в самое силе. И осторожне рвать, чтоб не пожечься. Только пахнет она слабо.
Я замолчала.
Ох, не о травах речь, но…
— Моя первая жена так пахла… сильная девка, которая поверить не могла, что и вправду ее в жены беру. Холопка. Матушка выбрала которую покрепче. Девственница… у них сила иная, не растраченная еще… эта сила стала моей. А жена моя к утру отошла. Иссохла вся. Я похоронил ее под яблоней. Она успела рассказать, что яблоки любит…
Лойко выронил стебелек и закрыл лицо руками.
— Потом была еще одна… и еще… я забывал, что делал… и делал снова… только не думай, если бы я помнил, я бы все одно не отступился. Нельзя перечить матери… она говорила, что это для моего же блага. Я ведь законный наследник. Я должен взойти на престол. И если не сделаю, то царство рухнет. Азары пойдут войной… а потом саксоны или норманны… раздерут в клочья… и погибнет куда больше народу. И женщины, и дети, и старики… и вовсе земли обезлюдеют. И значит, вот эти девочки — малое зло, которым мы от большого убережемся.
Он дышал тяжело и сипло, как загнанный конь.
А я сидела рядом.
Слухала.
Траву гладила. Мягонькая… к середине лета погорит, и в космах зеленых сединой сухое былье появится. Отцветет бадьянница, и звездчатка на землю поляжет, зато поднимет белые кудри подмаренник. Может, у самое опушки, выметнутся хлыстовины Иванова чая, травы полезной, но дюже капризной. И брать его надобно по первой росе, и сушить на лунным свете, и когда сохнет, не приведи Божиня тронуть… а загнивает быстро.
— Как-то попалась полукровка. Даже не полукровка, азарской крови в ней на четверть было, да только и четверти этой хватило, чтобы Добромысл на три года от проклятья своего избавился. Тетка Добронрава на радостях матушке отписалась, что сыскала средство, что… думала, навсегда напасть изжила, иначе вряд ли бы поделилась открытием. — Лойко травяные стебелечки гладил. — Тогда-то матушка и поняла, что кровь разной бывает.
Я не видела его лица.
— Знаешь, что самое удивительное? Тебе повезло… ты уехала в Акадэмию раньше, чем проклятье вернулось… буквально на пару седмиц разминулись вы. Иначе она бы тебя не выпустила…
Да уж, Божине поклониться надобно, не иначей.
— Тетка отписалась матушке, надеялась, что у той знакомства сохранились с прежних-то времен, что получится тебя из Акадэмии вытащить. Лучше бы помалкивала, глядишь, матушка тебя бы и пропустила… хотя… она никогда и ничего не пропускала.
И внове ветер по елям гуляет.
Гудят дерева, кланяясь натужно. Тяжко им, вековым, гнуться. А ветер гудит, гневается, стало быть, того и гляди обрушится на ельник со всею силой своею немалой, и тогда полетят иглы, посыплется труха…
— Матушка решила, что твоей крови хватит, чтобы я ожил… по-настоящему ожил, понимаешь?
— Нет.
— И я нет, — спокойно отозвался Лойко. — Я просил ее отпустить. А она мне про долг мой. Про предназначение… устал я, Зослава.
— Там, зимой… в доспехе…
— Добронрав был, тетки Добролюбы сынок… Зослава, ты меня отпустишь?
— Отпущу. Только как?
Лойко лег на траву и вытянулся, руки на груди скрестил. Лежит и в небо пялится, будто на звездах ему ответ начертан. Я тоже поглядела, да только окромя звезд ничегошеньки не увидала.
— Не сейчас. На рассвете надобно.
— А чего ж ты…
До рассвета еще долгехонько. И стало быть, нам до этого рассвету чего делать? Лежать да небо разглядывать? Беседы премудрые весть? Я беседы весть не умела, а разглядывать… уже разглядела вдоволь.
— Это не я. Это вы путь открыли… а уж когда… какая разница когда? Время, оно, Зослава, такое, что… ничего не меняет.
Рек сие и глаза закрыл.
Лежит и вправду мертвяк мертвяком. А мне так восхотелось по шее ему дать, от прямо с нечеловеческой силою восхотелось. Время ему, знаете ли, ничего не меняет. А мне от меняет. Сижу посеред полянки дура дурой, рассвета жду, еще не ведая, чего там, на рассвете, случится. В деревне же Арей остался. Еська. Прочие… что с ними деется?
И, не удержавшись, я Лойко в бок пнула. Живой он там аль мертвый, царевич или мимо проходил, но раз покрал меня, так пусть тепериче развлекает.
— Нежить — твоих рук дело?
— Нет, — ответил он. — Это Марьяна Ивановна шалит… шалила… она всех убить хотела. Мама говорит, что это сила ее с ума свела. Она с сырой начала эксперименты уже давно. И ею моего отца изменила. Да, он не умер, как должно, но сила такая исподволь душу точит. И разум. И человек меняется. Он вдруг уверяется в чем-то… это почти одержимость. Его охватывает… скажем так, желание. И он, сколько бы ты ни силился вразумить, не способен будет с этим желанием справиться. Я думаю, что и моя матушка не избежала того… Марьяна Ивановна решила извести всех, кого почитала проклятым. Моя матушка — сделать меня царем любой ценой… тетка Добронрава — излечить сына… и за этими желаниями они не видели никого и ничего. Но тебе не стоит переживать. Здесь безопасно.
А то, с того я вся и испереживалась.
Со страху.
Подумалось, что все ж дивно, что аккурат страху я и не испытываю. Мне б дрожать хвостом собачьим, думаючи об судьбинушке своей нелегкое… а я от сижу и злюсь.
От не могу я бояться Лойко!
Я его всяким видывала. Я помню, как он дрова колол с Ильюшкой, красуючись… или как к Станьке хаживал с петушками да пряниками. Как одного дня принес горсточку бус резных и вместе с нею сидел, перебирал, какие на нитку вощену вязать.
Видывала усталым.
И веселым.
Хмельным самую малость…
Видывала грязным, измазанным рыжею глиной по самую маковку.
Задуменным…
Нет, не боюсь. Может, поверить не могу, что тот Лойко, которого я помню ось так распрекрасно, в самом деле мертвый. И что меня убить может. И что…
— Ты только Станьке не говори, ладно? — попросил он, глаз не открывая. — Но ей повезло… она на мою сестру похожа… ее я тоже выпил. И что хуже, забыл об этом… думал все — отец виноват. А он если в чем и виноват, так в том, что нас принял. Надо было гнать с порога… а он принял… клятву принес. Осторожней с клятвами, Зослава…
ГЛАВА 32 О прозрениях
Евстигней видел сон.
Он плясал с медведем, и тот, от радости, не иначе — редко кто соглашался на плясовую, — выкидывал вовсе невозможные коленца. Хлопал себя лапами по мохнатым ляжкам и хохотал.
А потом вдруг сон оборвался.
И стало жарко.
— Вновь они топят без удержу. — Матушка позволила проявиться недовольству в голосе. — Сколько раз было говорено, чтобы камины протапливали по очереди.
— Холодно, — пожаловалась бабка, которая и в нынешнюю жару куталась в меховую шаль. — И ребенка застудишь…
Евстигней вдруг ясно увидел лицо матери.
Узкое.
Темное.
Не слишком красивое, но все же привлекательное. Черные глаза. Брови вразлет. Нос крупноват и с горбинкой. Не нос — клюв птичий. Губы вот узкие, некрасивые, но лица ее не портят.
Старуха на нее не похожа.
Верней, мать не похожа на старуху. Та махонькая и сухонькая. Волосы седые, словно из серебра литые, под платок убирает. Одевается в платья дорогие, одно поверх другого натягивая, а наверх — плюшевый кафтан с лоснящимися рукавами. И матушка ведь подарила ей новый, а старуха от старого никак не избавится. Только повторяет, что, дескать, кафтан этот ей еще сын ее принес.
Память он.
Память?
Евстигней посмотрел на свои руки, удивляясь тому, что белы они.
Пальцы тонкие. Ладони узкие.
Где он?
— Дома, естественно. — Матушка присаживается у окошка, за которым темно. И девка-холопка спешит поднести к боярыне рогульку с пятаком восковых свечей. — Что за глупые вопросы?
— Простите, матушка. — Евстигней слышит свой голос будто со стороны. Ломкий. Детский.
Незнакомый.
И комната эта…
Стены небелены, как водится, но за деревянными щитами укрыты. Те щиты гладкие да вощеные, и пахнет от них хорошо, хотя бабушке все одно не по вкусу.
Бабушке?
Эта старуха в кресле — его, Евстигнея, бабка.
Родная?
Голова заболела. Нельзя торопиться…
На стенах — гобелены висят, иные матушкой шиты, она у Евстигнея знатная мастерица. Еще оружие, да не росское, но кривые азарские сабли. Доспех норманнский. В углу вон блестящею кучей цельный рыцарь высится, и Евстигнею страсть до чего любопытственно в него заглянуть, да неможно — рухнет груда.
Матушка заругается.
Она строгая.
А память оживала. Как вообще мог он, Евстигней, позабыть вот это все? Ковер на полу драгоценный, из-за моря привезенный… бабушка еще мать пеняла, что та на тряпку потратилась. А после тряпку дорогущую на пол постелила. Оно, конечно, с ковром теплей, да только можно ли…
И станок резной, за которым матушка сиживать любила.
Чашку ее тонкостенную, на столике поставленную.
Лушку, которую взяли, чтоб ходила за ним, Евстигнеем, следом да не позволяла портить материно добро.
— И все равно не понимаю. — Старуха садится близко к камину. Еще немного — и запылает одежа.
— Чего, матушка? — Голос матери звучит ровно.
А ведь не родня они. Не кровная. Взрослый Евстигней прекрасно разбирается в том, что было непонятно Евстигнею-ребенку.
Старуху звать Прасковья Никифоровна, и она — урожденная купчиха, замуж за купца вышедшая. Жили они с супругом душа в душу, и в деле мужнином она первою помощницей была, за то и наградила их Божиня торговою удачей. А может, и не за то, главное, что богатства Прасковьи Никифоровны прибывало день ото дня.
А вот детей Божиня посылала слабеньких.
До взрослых лет только и дожил, что Дарен.
Матушка же, напротив, боярского сталого рода, не единственная дочь, но все одно смогла бы себе мужа и получше сыскать, чем купец, когда бы…
— Не сиди на полу. — Матушкин взор обратился к Евстигнею. — Почитай нам. Лушка…
И Лушка, барыниному взгляду повинуясь, спешно несет толстенную книгу, в которой про земли дальние описуется.
— Ох, ты сурова, Полелюшка… пусть бы дитятко отдохнуло. — Странное дело, но Прасковья Никифоровна к Евстигнею относилась как к родному внуку. Может, догадывалась, что других у нее не будет? А может, сама схоронивши семерых, знала цену жизни?
Или мудра была?
Никогда-то не попрекала невестку. Да и вовсе…
Пусть порой и не понимали они одна другую, все ж разные были, да ладили худо-бедно.
— Он не устал.
Матушка не привыкла, чтобы ей перечили. И Евстигней — как же все-таки его зовут-то? — принял книгу, открыл там, где шитая лента заложена была.
— Устал. Вечер уж. — Прасковье Никифоровне подали сыворотку, с медом мешанную. — Дитя ж малое, а ты ему науками голову сушишь.
— Так голова для того и нужна…
Замолчали обе.
Евстигней читал. И следовало сказать, что дело сие ему самому нравилось. Науки давались легко, и учителя, матушкой нанятые — иных Прасковья Никифоровна полагала бесполезными, вот к чему ему про обычаи земель дальних знать? — хвалили Евстигнея за старательность и светлый ум. И матушка тогда улыбалась. Светлела.
Любила?
Конечно, любила. Теперь он, взрослый, понимает. А что не умела про любовь свою сказать, так это другое.
Слушали.
Матушка шила, старуха свою сыворотку попивала да головой покачивала, когда Евстигней про что-то вовсе удивительное говаривал. А когда он замолчал — все ж надолго не хватало, в горле пересохло, то Прасковья Никифоровна сама заговорила:
— Давече ко мне Альгерд Связерский захаживал…
— Неужели? — Матушкин голос ровный, но игла замирает над полотном.
— Ты ему крепко по сердцу пришлась. Не думай, он человек достойный. И намерения у него самые правильные. — В слове «намерения» старуха делает удар на последнем слоге. — Жениться на тебе желает.
Свечи кланяются матушкиному вздоху.
— Не спеши, Белослава. — Прасковья Никифоровна отставляет чашку из простой глины. В доме посуды всякое полно, что парпору, что серебра, что золота. Есть и вовсе стеклянная, красная да золоченая, которую по праздникам да на гостей достают. А она вот любит этую чашку, мужем даренную. — Подумай хорошенько. Ты не молодеешь…
— Знаю.
Матушка говорит сухо.
И это признак неудовольствия, однако же Прасковья Никифоровна слишком стара, чтобы обращать внимание на этакую мелочь, как чужое неудовольствие.
— Он мужик хороший. Крепкий. И ласковый. С ним, глядишь, душою оттаешь… а там и детки пойдут. Какие твои годы?
— У меня уже есть сын.
— Есть. — Прасковья Никифоровна ласково улыбнулась и поманила Евстигнея: — Ходь сюды, внучек… на вот пряничка…
— Не надо ребенку столько сладкого.
— Надо, — возразила Прасковья Никифоровна. — И сладкого надо. И баловства надобно… и строгость всякая в меру. А ты порой… уж прости старую, говорю, как есть. В обидах своих заперлась, задеревенела и его таким норовишь сделать.
Матушкины губы вовсе узки сделались, не губы — линия, на лице прочерченная. И значит, ругаться она хочет, только не посмеет, потому как боярыни не ругаются, они гнев выражать изволят сухо, скупо.
— Вот, даже наорать на меня не способная. Другая б уже голосила, кляла меня, а ты молчишь да слухаешь… но ничего, слухай, кто ж еще тебе скажет? — Сухая ладонь легла на Евстигнееву маковку. — Любое горе отпустить надобно, иначе горе этое тебя сожрет.
Матушка наклонилась, это чтоб не видел Евстигней, да и старуха, как глаза блеснули.
— Я от сперва, честно скажу, не радая была… выбрал сын… боярыню выбрал… куда нам к боярам-то? Я свое место ведаю. — Она махнула Лушке, которая поднесла кувшин со сбитнем. Сбитень старуха тоже любила, сказывала, что мед согревает ее кости. А вот Евстигнею не нравилось. Горячий. Духмяный. И что с того, что полезный? Все одно противно. — Еще и боярыня эта себя не соблюла. Позор! А нам за этот позор звание жалуют, тьфу…
Она сплюнула.
— Да и ты моего сына не любила. Это я видела распрекрасно.
— Не любила, — согласилась мать.
— Для меня-то он всем хорош был, сын… — Старуха вздохнула тяжко. — Материнская любовь слепит. И сказывали мне, что он вина пьет без меры… и что до девок падок. Все думала, это от молодости. Перерастет. Образумится. Делом займется… теперь от рада, что Нагляд мой до этого сроку не дожил, не увидел, чего с дитем стало… он же последний… здоровенький, крепенький… а все одно тряслась. Мамок, нянек наняла… бегали и баловали…
— Разбаловали.
— Сердишься? Твое право… ни в чем отказа не знал… захотел дело свое? Мы денег дали, а он все спустил… долгов понаделал… ему за эти долги тебя в жены сосватали?
Матушка нехотя кивнула.
И Евстигней-взрослый вновь понял, что признаваться в подобном ей было нелегко. Она ж горда, а тут…
— Понимаю… у тебя-то выбора не было, а Ждан мой злился… на всех злился, уж не знаю, чего ему недодали…
— Розог?
— Может, и так… но что рукоприкладствует, того я не ведала. Ведать не желала… а как помер, уж прости, тут мой разум затуманился. Тогда и наговорила, сама не ведая чего… судьба моя, видать, такова, что детей своих хоронить выпало.
Матушка поднялась, иглу в полотно воткнула. Подошла медленно к старухе, обняла, погладила по платку расшитому.
— Я не сержусь.
— То и дивно, что не сердишься… потом уж, как откипело, то и… поняла, что одна я осталась, как перст… наняла человека, чтоб правду всю вызнал. Думала, может, ты его специательно со свету сжила… тогда б я… нет, в суд бы не пошла, но есть люди, которые и без суда.
Старуха тихонько всхлипнула, а Евстигней замер, дышать боясь. Заметят его, вспомнят и спать погонят. А он спать не желает. Ему интересно слушать, об чего взрослые говорят, хотя с этих разговоров он мало понимает.
Отца вот Евстигней смутно помнил.
Того, кого по молодости отцом полагал. Память сохранила запах вина и еще чего-то, сладкого, тяжелого. Голос визгливый. Сапоги хромовые…
— …Что, сука, не нравится? А когда гуляла, по нраву было.
Матушкино молчание.
Удары глухие.
— Он-то все и вызнал, как оно было. Записал. Читала я… противно было, а все одно читала… и про то, как тебя колотил… мой-то супруг, пусть будет Божиня к душе его милосердная, в жизни меня пальцем не тронул, а Ждан… поверить не могла… и про зелье то, до которого Ждан приохотился… и про мальчиков… прости Божиня душу его! И про болезнь дурную…
— Не плачьте, не надо, он того не стоит.
— Он мой сын. Я должна была знать… увидеть… почуять… а я только гневалась, вот и… получила.
Матушка присела на ковер у ног Прасковьи Никифоровны.
— Уж не знаю, как ты меня простить сумела-то.
— Сперва не хотела, а потом… худой мир лучше доброй ссоры, — сказала матушка и руку морщинистую погладила. — Побоялась, что вы мне мстить вздумаете. Имя чернить. Или еще чего удумаете… а потом… вы хорошая женщина. И не ваша вина, что сын…
Замолчала.
Закусила губу, и лицо сделалось печальным, будто вот-вот расплачется матушка.
— Моя. — Прасковья Никифоровна была упряма. — Сыновья у меня не вышли… всех забрали, зато вот дочка нежданно-негаданно появилась. И красивая. И умная. И сильная. И потому хочу я, чтоб счастлива она была… не повезло тебе ни с тем, с которым ты…
Старуха махнула на Евстигнея, и он торопливо голову в плечи втянул, опасаясь, что все ж погонят.
— …Ни со Жданом моим. Но Ольгерд — иной закваски мужик. Он тебя на руках носить станет.
— Я… — Матушка собиралась отказать, но вдруг передумала. Поглядела на Евстигнея задумчиво и ответила: — Я подумаю.
Хороший сон.
Никогда он еще не видел, чтобы вот так подробно. Но сон не заканчивался.
Свадьба.
И празднично звенят колокола. Взлетают всполошенные птицы, кружатся в небе. Солнце слепит почти до слез… кто-то смеется… кто-то зерно кидает, желая молодым богатства и многочадия. Матушка улыбается. Мужчина рядом с ней щедро мечет медь в толпу… люди кричат, радуются…
— …Не мешай им. — Прасковья Никифоровна придержала Евстигнея, который хотел за матушкой пойти, ее аккурат в возок нарядный усаживали. Кони белые. В гривах ленты. Сам возок серебром на солнце посверкивает да цветами украшен. — Не мешай… пускай счастлива будет… а мы с тобой вдвоем как-нибудь.
Голуби на крыше.
Вишня цветет. И матушка сокрушается, что в этом году уж больно рано она зацвела, того и гляди заморозки ударят, побьют белый пышный цвет.
Он на коне. И дядько Ольгерд рядом идет, придерживая, хотя Евстигней уже взрослый. Ну или почти.
Счастье, яркое и горячее, как солнце.
Ножи в руке.
— …Я ратному делу не обучен, — голос дядьки Ольгерда звучит, что из бочки, гулкий и глубокий. — Но вот в дороге всякого случается, а потому нашел я одного человечка, заплатил ему, конечно, немало, но оно того стоило.
Ножи дядьку Ольгерда слушаются, как заговоренные. Только тронет, а нож уже летит в соломенное чучело. И мастерство это завораживает.
Матушка хмурится.
Ни к чему Евстигнею эта наука, но… не перечит? Нет, она держит на руках младенчика. Девчонку. Розовую и толстощекую. Глазастую. Серьезную. Сестру, к которой Евстигней еще не понял, как относиться. И ревновал, не без того, и умилялся, глядючи на то, как хлопает она губешками, как хмурится или вот улыбается беззубою улыбкой.
— Не зуди, женщина, — ворчит дядька Ольгерд, но и сам расплывается улыбкой. Он мамку любит. И на руках носит, даром что здоров, будто медведь…
Воспоминание подернулось, ускользая, но Евстигней не позволил. Хватит с него медведей. Он хороший сон видит в кои-то веки и от сна этого не отступится.
Луна. И беспокойность какая-то, и будто ходит кто за стеной, встает над Евстигнеевой кроватью, глядит. Закричать бы, но губы будто изморозью затянуты.
Пожаловаться…
Но поутру страхи его вовсе не выглядят такими, на которые жаловаться не стыдно. А то скажешь, и засмеют, дядька Ольгерд нахмурится. Он-то Евстигнея смелым полагает, а тот…
Ночью возвращается все.
И наваливается грузом тяжким. Душит, будто живым в землю закапывают. Евстигней слышал такое… он и не выдерживает, кричит… мамка прибегает, а с нею дядька Ольгерд, который на руки подхватывает, будто маленького, и носит, носит…
Седенький целитель, сонный, но ловкий пальцами, ощупывает Евстю.
— Сила пробуждается, — выносит он приговор. — Наставника наймите. Не так что-то идет. Она выплеснуться желает, а вот не находит пути. Это может дурно закончиться.
Он оставляет настой ромашки и пустырника, а матушка тихо плачет, потому что после появления сестрицы сделалась слезлива не в меру. И Ольгерд говорит, будто бы это нормально, что женщины все такие, пусть и сильны, а все одно слабые.
Тот Евстигней этого не понимал.
Да и нынешний тоже.
— Найдем мы наставника, все будет хорошо…
Маги приходят. Легче не становится. Уже не только ночью, но и днем. Сила наполняет и переполняет тело Евстигнеево, и он лежит бревном, неспособный и пальцем шелохнуть. Матушка больше не плачет. Почернела. Подурнела. И сестричку кормилице отдала, сама ж при Евстигнее неотлучно. И дядька Ольгерд появляется часто. Он бы тоже сидел, но у него дела.
Он приходит и подымает Евстигнея на руки. Во двор выносит. И подолгу сидит на скамеечке, благо солнце. Рассказывает все. Про земли, в которых побывал, про…
Эта женщина появляется ночью. Пригласили ее? Или же сама прослышала про несчастье? Про Ольгердова пасынка, который, того и гляди, отойдет…
— Я помогу тебе. — Ее голос сладок, как дурманный напиток, которым Евстигнея поят, чтобы силу убаюкать, только та никак не баюкается. — Но взамен…
Память подводит.
Он так и не услышал, что потребовала она взамен.
Холодные пальцы сжимают подбородок.
— Смотри на меня, мальчик. — Эта женщина красива, пожалуй, красивей матушки, хотя дядька Ольгерд все одно на матушку смотрит, и от этого Евстигнею радостно. — Смотри на меня и слушай. Твое тело не готово принять пробудившуюся силу. И я сделаю так, что эта сила уснет. Надолго… ты видел, как на реке плотину ставят?
Он моргает.
Говорить больше не способен, но с дядькой Ольгердом они так условились: один раз Евстигней моргнет, значится, согласен, а два — то нет. Плотину он видывал, ездили прошлым летом глядеть на Вяземку. Стена обыкновенная, которая воде течь мешает.
— Вот и молодец. — Женщина гладит лицо. — Эта плотина — преграда меж телом и силой. Та никуда не исчезнет. Со временем она даже, думаю, будет прорываться. Не так, как сейчас, а небольшими ручейками… это даст возможность твоему телу привыкнуть. Потом, когда ты повзрослеешь, блок исчезнет… и надеюсь, к этому времени за тобой будет кому присмотреть.
Странно она говорит.
За Евстигнеем уже глядят. Вот матушка, которая пальцы кусает от беспокойства. А сама Евстигнею выговаривала, что не боярское это дело — ногти грызть. И дядька Ольгерд. Он хороший. Жалко даже, что не отец. Но он не обидится, если Евстя, говорить научившись наново, отцом его назовет?
Давно назвал бы, но… стеснялся?
Жаль, что Прасковья Никифоровна померла…
— А теперь смотри сюда. — В руке женщины появилась золотая монета на веревочке. — Смотри, Евстигней… хорошенько смотри…
Монета качнулась влево.
И вправо.
Яркая, что солнце.
Слепит.
Не солнце уже — снега, которые раскинулись коврами драгоценными. И кони по коврам этим летят. Звенят колокольцы под дугой… морозно. Щеки щиплет.
— Там нас не найдут. — Матушка все озирается.
Беспокойна.
Дядька Ольгерд вздыхает и головой качает, с укоризной, как мнится Евстигнею.
— Нехорошо это. — Голос его сипловат. Дядька Ольгерд горло давече застудил, и матушка готовит ему теплое молоко с барсучьим жиром и медом. С медом еще ничего, Евстигнею такое даже нравится, а вот барсучий жир — гадость неимоверная. И как это дядька Ольгерд этакую гадость пьет, даже не морщась?
— Я не отдам ей ребенка.
Матушка сжимает Евстигнееву руку крепко-крепко. Даже больно немного.
— Ничего не говори…
Дядька Ольгерд и не говорит. Он лишь вздыхает тяжко да за кнут берется. Нет, лошадок он не бьет, только пугает, над головою кнутом щелкая. И шибче бегут они, не бегут — летят по льду темному.
В поместье сыро.
Давно не топили, да и захирело оно без хозяйского глаза. Матушка хмура. Недовольна. И девок гоняет, заставляя комнаты выветривать, а после протапливать. Ковры мыть. Посуду. Перины вытряхивать, морозить от клопов. Работы много, а Евстигней под ногами крутится.
И потому, когда дядька Ольгерд его манит, он с радостью бежит. Может, опять ножи покидать выйдет. Прошлым разом у Евстигнея ладно выходило… но нет, дядька Ольгерд на конюшню ведет.
— Садись, сыне, поговорим. — Он никогда-то прежде не называл Евстигнея сыном. — Ты уж большой и многое, мыслю, понять способен. Это твоя матушка тебя все дитем полагает…
Дядька Ольгерд устраивается на охапке сена, и Евстигней садится рядышком.
Сено духмяное.
Небось с клеверных лугов брали, матушка сказывала, что только такое для господского скота и надобно, оно мягко и сытно.
— Это из-за меня мы тут? — Евстигней выбрал из сена клеверный лист. — И из-за той…
— Ведьмы, — подсказал дядька Ольгерд. Кивнул. Почесал бороду. Вздохнул. — Твоя матушка не рассказывала тебе, кто твой отец?
Евстигней нахмурился. А чего тут рассказывать? Она замужем была и…
— Кто настоящий отец? — уточнил дядька Ольгерд. — Не рассказывала… и не мне бы тайну эту ворошить, что было, то было, да иначе не выйдет.
Он вновь вздохнул.
— Твоя матушка — красивая женщина. Достойная. Сильная. Для женщины…
Он говорил про терем царский. И про царя, который повел себя вовсе не так, как царю должно. Да что там царю, низок тот мужчина, который женщину силой берет.
Правда, куда берет, Евстигней не понял.
— А как не нужна стала, то и нашел ей мужа, прости Божиня. — Дядька Ольгерд сплюнул в сердцах. Этакое с ним случалось, когда злился крепко. И Евстигней застыл, хотя, конечно, дядька Ольгерд и злился-то не страшно, погневается, покричит и отходит. Матушку-то дворня куда сильней боялась. — Это она мне сама рассказала, когда я посватался, чтоб, значит, знал, кого беру.
Усмехнулся он и потер пальцами левый глаз, под которым шрамик тоненький виднелся. Его азары оставили. И еще другой, на ноге. Дядька сказывал, будто эту ногу мало пополам не перерубили, а целители спасли, только и осталось, что шрам и хромота.
— И все бы ладно, но вот… та женщина, которая к тебе приходила, новая царица… уж не знаю, кто ее пригласил. Не я. Не моего чину сие…
То, что говорил дядька Ольгерд, было… странно?
Именно.
Царь, царица… нет, Евстя знал, что они существуют, что правят землею Росской мудро, приумножая богатства ее. Так ему на уроках сказывали, а он учил. И даже родовод царский до двадцатого колена, хотя ж, на кой ему сие надобно было, не понимал.
— Она избавила тебя от болезни, — продолжил дядька Ольгерд, — но сказала, что когда придет час, ты должен будешь поехать с ней. Она обещала, что не причинит тебе вреда, она хочет, чтобы ты рос вместе с ее сыном, другом ему стал… это большая честь.
— Но мама не хочет?
Евстигней нахмурился.
— Мама твоя ей не верит. — Дядька Ольгерд глядел прямо. И говорил… как со взрослым и говорил. — И отдавать тебя не желает. Мы не просто так уехали. Пришел гонец от царицы. Письмо. Тебе надлежало прибыть в терем, но…
— Мама не пустила.
— Не пустила. — Шершавая ладонь взъерошила волосы. — Она испугалась… и не знаю, возможно, что страхи ее не на пустом месте родились. Но знаю, что такие клятвы, как она дала, рушить неможно. Всем аукнется… да и царскому слову перечить…
Он покачал головой.
— Нам бы вовсе уехать… есть у меня торговые дела в Марлезии… это на побережье. Красивый городок. Там солнце всегда. И тепло. Даже зимой тепло. Улочки узенькие. Дома из желтого камня строят. Да дивно так… каждый дом — будто крепость, снаружи стена, а внутри — окна в пол да ручьи рукотворные. С рыбами золотыми. И эти, как его… фонтаны.
— Мы туда поедем?
— Поедем. По весне, коль доживем… сам понимаешь, зима — не лучшее время морем ходить.
Евстигней важно кивнул.
Про море он тоже знал. И про Марлезию, которую будто бы купцы для себя построили, слыхал. Про то, что правит в ней не царь, но семеро богатейших людей…
— Только боюсь я, сыне, что от царя мы бы ушли, а вот клятва не попустит.
Как в воду глядел.
Слегла матушка.
Сперва-то думала, что в дороге застудилась, оттого и кости ломит, и голова болит. Но знахарка, которую к боярыне кликнули, лишь руками развела.
— Черно над нею, — молвила. — Черней черного…
С каждым днем хуже делалось.
Ноги отнялись. Раздулся живот. Лицо пожелтело, а глаза и вовсе красны сделались. Но не кричала она, не плакала, лишь крепче стискивала зубы.
— Не смей и думать, — бросила Ольгерду, когда тот сказал, что еще не поздно. — Не смей… она его убьет… она его… запрещаю! Слышишь?
На седьмой день матушка впала в беспамятство и дышала-то еле-еле.
Ольгерд молчал.
Мрачен был.
Зол.
И тогда Евстигней решился.
— Надо вернуться. — Он не мог глядеть на матушку такую. — Пусть она вернет ей здоровье, а я… я уже взрослый.
И плечи расправил.
Ольгерд же обнял его, молча к животу прижал. По голове погладил.
— Взрослый, сыне… теперь я вижу, что взрослый… прости, что не сберег…
Вновь дорога. И летят кони, роняют пену на лед, да ныне не жалеет их Ольгерд. Поспешать надо. И оттого меняет коней на коней, кидает золото щедро, не думая, воротят ли его жеребцов быстроногих, азарской крови. Пускай себе… упряжку меняют на упряжку, и сам Ольгерд садится на козлы, щелкает кнутом. Скорей…
Он почернел.
Исхудал.
Тяжела дорога, когда идет и днем, и ночью. Но Евстигней не жалуется. Он сидит подле матери, которая будто бы спит, но сон этот мало от смерти отличен. И думает… а про нее думает. И еще про себя, про то, что когда б не дар его проклятый, глядишь, все ладно было б… и не пришлось бы помощи просить… про сестричку думает, которую с няньками оставили. Досмотрят ли? Она ныне пошла и такая шустрая стала, ото всех сбегает.
Думает да ножи, дядькой подаренные, гладит.
Десятеро.
И перевязь узкая, аккурат для мальчишки.
Она встречала их на Озерском шляхе, женщина в черном плаще, полы которого развевал ветер. За спиной ее виднелись оружные люди.
Охрана.
— Доброго дня, купец. — Она, нарушая все правила, первой обратилась. — Вижу, ты принес мне то, что принадлежит мне.
И взгляд ее темный остановился на Евстигнее. От этих глаз он хотел бы укрыться, да чуял, что не спасут меха.
— Прости мою жену, госпожа. — Купец согнулся.
А ведь дядька Ольгерд не любил кланяться.
— Она сама виновата. — Царица пожала плечами. И вовсе нет в ней величия, про которое наставники сказывали. Обыкновенная женщина. Красивая только. — Не стоит разбрасываться клятвами, исполнять которые не собираешься.
— Прости, — повторил дядька Ольгерд.
И Евстигней тоже склонился.
— Прости, — сказал он, хотя слово это будто в горле застряло. — Верни маму, и… и я сделаю все, что ты скажешь…
— Осторожней с клятвами. — Царица наклонила голову, разглядывая Евстигнея с интересом. — Я ведь и поверить могу.
— Я…
— Убьешь отца? — спросила она. — Не настоящего. Этого. Мне сказывали, ты крепко к нему привязался.
Плеть в ее руке указала на дядьку Ольгерда.
— Н-нет…
Не убьет.
И не потому, что не сможет. Просто… нельзя так.
— Сестру свою?
Евстигней замотал головой.
— Видишь, уже не все. Но не волнуйся, мальчик, мне их жизни ни к чему. Поступим иначе.
Окровавленная медвежья харя выползла из небытия. Оскалилась. Дыхнула гнилью.
Нет, он желает знать!
Белые пальцы ложатся на матушкины щеки. И губы касаются губ. Эта противоестественная близость заставляет дядьку Ольгерда отвернуться, а Евстигней смотрит. Ему велено. И потому видит он, как дыхание царицы с дыханием матушки сплетается и как розовеют серые щеки, уходит желтизна с кожи, выпрямляются скрученные болью пальцы…
— Вот так. — Царица провела ладонью по лицу спящей женщины. — Езжай, купец. Увози свою семью от греха подальше. Второй раз, коль полезет, не прощу.
Евстигней сглатывает.
Ему страшно вдруг становится. Он ведь… он матушке письмо написал, чтоб не злилась на дядьку Ольгерда, он хороший. И Евстигней сам свой выбор сделал.
И вообще, он, может, царю служить будет, когда оба вырастут. Тогда и возвернется в дом. Витязем. Как на картинке. При коне. При сбруе. При мече с золотой рукоятью. И матушка еще гордиться им станет. А она пусть еще сестру родит. Или братика. Чтоб не так скучно без Евстигнея было.
Медведь хохочет.
Сжимает в объятьях.
Не медведь, но дядька Ольгерд, который на ухо шепчет:
— Марлезия…
Евстигней-нынешний очень надеялся, что матушка сумела простить и его, и дядьку Ольгерда. И что уехали они в благословенную Марлезию, где и живут ныне…
Его поднимают в седло. Конь у царицы огроменный, вороной масти. Ушами прядет, будто прислушивается.
— Забудь, мальчик, — шепчет царица. — Все, что было прежде, забудь.
Ее пальцы холодны.
Ее ладони — лед… и память играет, перемешивая осколки прошлого.
Дорога.
Терем.
Душная комнатушка.
— Пей. — Ему в руки суют чашу с горьким травяным настоем. — Пей и слушай, что ты должен будешь сделать…
Нет!
Заунывное пение, от которого мутит. А может, от голода или настоя. Его приходится пить, пересиливая себя. Если Евстигнея выворачивает, ему подносят новую чашу.
— Выдержит ли мальчик? — Этот голос пробивается сквозь пение.
— Выдержит, — отвечает царица. — Он крепкий… другого все равно нет.
Нет!
— Слушай, что ты должен будешь сделать… когда придет час…
Нет!
— Слушай и забудь… все, что было прежде, забудь… когда придет час… ты просто…
— Нет! — Евстигней выпал из сна.
— …Откроешь дверь. — Голос царицы еще звучал в ушах.
ГЛАВА 33 Где про видения и привидения сказывается
Емельяну снилась женщина.
Он видывал, конечно, всяких женщин. И простых. И знатного рода, которых, говоря по правде, побаивался. И старых, и молодых… тех же боярынек с целительского факультету, что вокруг Емельки кружились, поглядывая с немалым интересом. Перед ними, говоря по правде, Емелька крепко робел.
Понимал, что не сам он им надобен, а корона.
Всякой охота царицею стать.
И знание это мешало. Все чудилось, что он, Емелька, обманывает этих девушек, ожидания их и что обман вот-вот раскрыт будет. Стыда не оберешься.
Нет, эта женщина не была боярыней, но и холопкой назвать ее язык бы не повернулся. Она была… особенной? Несомненно. Простоволоса и босонога, молода и… светла?
Именно что светла.
Свет исходил от белых рук ее, в которых женщина держала букет полевых цветов. От волос ее золотых. От кожи, щедро веснушками усыпанных. Она улыбнулась, ясно так, и Емелька вдруг понял, кого видит. И на колени упал.
— Встань, — молвила Божиня и волос Емелькиных коснулась, отчего волосы те вспыхнули белым пламенем, но, в отличие от иного огня, это не пугало.
И он подчинился.
— Ты боишься меня? — спросила она.
— Нет. — Емелька понял, что и вправду не испытывает страха.
Разве можно бояться жизни? А она — суть жизнь.
— Вот и ладно. — Божиня погладила его по щеке. — Ты хороший мальчик, искренний… в вашем мире почти не осталось таких. И я помогу тебе. Если ты сумеешь…
— Что сумею?
Божиня покачала головой. А потом, наклонившись, поцеловала Емельяна в лоб. И от того стало так легко, радостно, что…
— А теперь просыпайся, — сказала она. — Время пришло…
И Емельян проснулся за мгновенье до того, как ударил набатом колокол. Завыло. Загудело. А после раздался Евстигнеев голос:
— Тревога!
Егору снилась Марьяна Ивановна. Узкое лицо. Белые губы. Глаза, которые наливались кровью. Руки когтистые, что птичьи лапы. И руки эти тянулись к Егору, чтобы вцепиться в шею его, сдавить…
Он ощущал их.
И гнилостное дыхание.
И страх, который был всеобъемлющ, хотя, странное дело, Егор рапрекрасно осознавал, что все происходит во сне. Он всею сутью своей желал проснуться, но вместо этого лишь вернулся в тело свое, неподвижное, будто бревно.
— А ты думал, игры с нечистью иначе заканчиваются? — спросил Фрол Аксютович и, ухвативши Егора за ноги, поволок к двери.
Куда?
— Похороним тебя, и дело с концом. — Фрол Аксютович не улыбался — скалился, и зубы его были остры.
Но Егора нельзя хоронить! Он живой!
— Это тебе так кажется.
Сон.
Всего-навсего сон.
Фрол Аксютович никогда-то не похоронит живого человека, да и… и зубы у него обыкновенные. Не самые хорошие, но…
Надо проснуться.
— Зачем? — спросила уже Марьяна Ивановна, в которую, подтверждая Егорову теорию о сне, превратился Фрол Аксютович.
Небось наяву у него так бы не вышло.
Чтобы ожить.
Чтобы ущипнуть себя за руку и порадоваться, что кошмар — всего-навсего кошмар.
— Что ты, бестолочь, знаешь о кошмарах? — Марьяна Ивановна поджала губы и головой покачала этак с укоризною. — Кошмар — это когда тебя заживо жрут. А тебя, дорогой, вот-вот сожрут. И ничего-то ты не сделаешь. Так что радуйся, пока ты такой, боли не будет.
Нет!
— Да! — Она захихикала. — Всех вас сожрут… перехитрила… всех перехитрила…
И ткнула когтем в бок, и коготь этот вошел в тело, будто горячий нож в масло. И больно стало, до того больно, что Егор, не выдержав, закричал.
И проснулся.
Рассыпалось эхо набата, и голос Евстигнея тонул в тяжелом волчьем вое.
Тревога.
Кирей оглянулся на деревню.
Гудел набат.
И нежить, растревоженная, разъяренная близостью людей, сладкого живого мяса, которое еще недавно было недоступно, пришла в движение. Роилась уродливая мелочь. Стрекотали кикиморы, подгоняя чудовищных своих слуг. Ожгени подобрались к самой калитке, над которой переливался всеми цветами радуги пузырь щита. И по пузырю этому ныне бежали волны.
Вот-вот погаснет.
И тогда вся эта орава хлынет на ограду.
Надо возвращаться.
Нет.
Кирей остановился.
Справятся. Фрол Аксютович недаром значится лучшим магом царства Росского. Выкосит половину. Архип же, и не оборачиваясь в истинное обличье свое, второю закусит… им и стрельцы-то не нужны, так, для порядку… а у него, у Кирея, не будет иного шанса.
Он заставил себя повернуться спиной к деревне.
— Бежишь, рогастенький, — Марьяна Ивановна окликнула. Она стояла, обеими руками опираясь на трухлявую клюку. И руки эти порастали мелкой чешуей. — Правильно, не твоя это война.
Глаза пожелтели.
И значит, пошел процесс. Еще седмица-другая, и вместо неупокойника, пусть и силой изрядной наделенного, появится в округе тварь-выжорка. Будет ходить по путям-дорожкам старушка, будет разговоры с людьми заговаривать, про житие их выспрашиваючи. А заодно уж силу жизненную тянуть.
К иным и на закорки попросится.
И ведь не откажут.
Выжорки хорошо разум мутят. А она, вспершись на спину, пустит в тело человеческое тонкие когти. И заговорит… об чем — об этом никто, кому уцелеть получалось после этакой встречи предивной, вспомнить не мог. Зато все в один голос твердили, будто от слов выжоркиных бежать хотелось на край света. Они и бежали, пока силы были. Падали. И тогда уж, обездвиженных, выжорка и ела.
Мерзость какая.
— Что, убить меня попытаешься? — Выжорка захихикала. — Не надо, мальчик, не твоя это война. Тебя он девка твоя ждет и дождаться не может. Все гадает, исполнишь ли ты слово свое аль так, голову дуришь… как тебе дурили. Всех вас обдурила…
— Что вы хотите?
— Я? Известно чего. Гнилую кровь выпустить. Гнилую ветвь под корень вырубить. И не только я того хочу… она тоже.
— Матушка?
— Тьфу… ни стыда, ни совести. Мать у человека одна, а ты…
— Она для меня много сделала. — Говорить с мертвецом — пустая затея, все одно они слышат лишь то, что желают. Впрочем, как и живые.
— Она для себя много сделала. — Марьяна Ивановна шагнула вбок и замерла, вытянула шею, на которой кожа складочками обвисла.
Пройдут годы, и в складках этих жир накопится, говорят, целебный, куда целебней яда гадючьего.
— Думаете, вы тут самые умные? Собрались щуку на малька ловить… мальков вон целое ведро, да только щука-то не здесь… но вам с того не легче… всех положат. Знаешь почему?
Кирей позволил пламени выглянуть.
— Ой, не пужай старушку, пужали и до тебя. — Марьяна Ивановна сунула пальцы в рот и засвистела, залихватски так, с переливами. И от свиста этого закачались вековые сосны, сыпанули жесткой иглицей. Ветер взывал, отзываясь.
А из глубин леса донесся глухой рык.
— Уходи, азарин. — Марьяна Ивановна разом серьезною сделалась. — Тебя отпущу, на тебя у меня злости нет. Беги. Лети. Молись своим богам. И забудь…
Тварь ступала медленно.
Осторожно.
Кирей слышал рассказы о той, зимней, да не то чтобы не верил… верил, что страшна она была, но одно дело — страх этот с чужих слов испытать, и совсем другое — воочию узреть существо.
Высока.
С тура матерого.
На тура и похожа. Голова лобаста и рогаста, только рога таковы, что к земле голову клонят. Длинны и закрученны. Остры, что пики стражников. Зеленым пламенем объяты. Спина бугрится. Копыта землю давят, и та вздыхает под каждым шагом твари, но держит, не проваливается.
Из спины быка-зверя куцые крылья поднимаются.
Сзади загибается крючком хвост скорпионий с жалом бледным, а из него сочится прозрачный яд.
Марьяна Ивановна рукой махнула, и тварь заревела, засопела, роняя на землю клочья зеленой пены, но склонилась пред той, чьею волей была к жизни воззвана.
— Вот так. — Марьяна Ивановна драные юбки подхватила да и взлетела на быка. Села промеж крыльев. — А ты иди, мальчик… у тебя вся жизнь впереди. Только не вяжись больше во взрослые игры. Опасно сие.
Тварь загудела.
Затоптала, землю сотрясая. Головой качнула, будто примеряясь, как ловчей Кирея на рога вздеть. Он отступил. И еще на шаг… и на два… это не побег.
И не трусость.
Здравый смысл.
Тварь медленно затрусила к деревне. Пускай… Кирей вернется… да, определенно… исполнит обещанное и вернется… пожалуй, так будет даже интересней.
Арей был уверен, что все сделал правильно.
Он трижды проверил рисунок. И свечи. И заклятье прочел… как прочел, никогда прежде ему не читалось так легко. Слова сами слетали с губ, хотя смысл их, как Арей ни старался, ускользал. И только когда последнее упало в отяжелевший воздух, будто камень в ледяную воду, он понял, что все равно ошибся.
Где?
Ничего не изменилось.
Почти.
Остались… да все осталось. Чердак. Потемневшие стропила. Веники трав, которые свисали едва ли не до самой земли. Рисунок. Свечи…
Свечи погасли.
Пахло паленым. И…
— Вот и в кого вы такие идиоты-то? — спросил Архип Полуэктович, которого тут быть не должно было, а он был. Стоял, руки за спину заложивши, разглядывая меловые художества. Наступил босою ногой на завиток старшей руны.
Стер.
— Учишь вас, учишь, а без толку. Вот думаешь, бывало, что за пять-то лет человек ума понабрался… а если не ума, то хотя бы осторожности. После же видишь, ан нет, показалось…
Еська закашлялся и себя по груди ударил. Супруга его вовсе покачнулась и, чтобы на ногах устоять, ухватилась за сундук.
— Вам повезло, дурни, что вас вообще не выпили… — Архип Полуэктович пинком свечу сбил, та и покатилась с сухим костяным стуком, чтобы пылью рассыпаться.
Голова ныла. Протяжной такой, дергающей болью. Арей потрогал ее, не способный отделаться от ощущения, что упустил что-то важное… настолько важное, что забыть об этом невозможно, а он все равно забыл.
— Морок забвения. — Тяжелая ладонь Архипа Полуэктовича легла на макушку, пальцы стиснули голову, еще немного — и треснет она переспелою тыквой. — Умелец, однако… глаза закрой и расслабься. Будет больно.
Было и вправду больно, будто в голову кипятку плеснули, такого хорошего, крутого. И Арей от этой боли зашипел, застонал.
— Терпи. Сумел подставиться, сумей и…
Он терпел.
Морок сползал, что шкура чужая отлинявшая. А вместе с ним…
— Зослава!
— Вспомнил, дорогой… надо же, как удивительно! И часу не прошло, как вспомнил.
— Где…
— От ответил бы я тебе, да воспитание не позволяет. — Архип Полуэктович отпустил Арея, чтобы за Еську приняться. Тот вот ни звука не проронил, тихо на пол сполз и там остался. — А тебя, девка, трогать не буду, он тебя и так высосал почти до донышка. Не выдюжишь, если и я полезу.
Щучка кивнула и тоже по стеночке сползла, легла, свернулась калачиком и заскулила.
— Зослава…
— Далеко, мыслю, ваша Зослава… вот скажи, в кого ты таким безголовым уродился, а? Разве не учили тебя, что применять на практике сомнительного свойства обряды чревато?
— Книга…
— Таких книг, студиозус, знаешь, сколько написано? — Архип Полуэктович на корточки присел.
— Эта… Божинина…
— Да ну? — Наставник бровь приподнял, удивление выказывая. — Неужто она сама тебе сказала? Нет?! А от бы удивительно было б! А раз не сказала…
Он щелкнул Арея по лбу.
— Книга — это книга. Знание. А уж люди само по себе вешают, что, мол, одно Божинино, другое Моранино. Тебя, книгочей, не смутило, что в святой этой книге обряды на крови есть?
Смутило.
Ненадолго. А потом… потом Арей нашел объяснение. Какое? Он уже и не помнит, главное, что объяснение это показалось ему столь логичным, правильным, что последние сомнения исчезли.
— Вот! — Палец Архипа Полуэктовича ткнул Арея в лоб. — Что и требовалось доказать… заморочила тебя. Такие вещицы хитры… их же не буквами писали…
— А чем?
Буквы были.
Арей их читал. И слова… и вот сейчас он вдруг явственно осознал, что язык, на котором книга была писана, ему незнаком. Но если так, как получилось, что он…
— О! Лоб морщишь, значит, пошла мысль… побежала… магия, человек, это прежде всего сила, а потом уже все остальное. Прежде находились умельцы эту силу запирать, скажем, в книге… или вот есть у норманнов меч, который проклятым величают, дескать, всяк, кто в руки его возьмет, великим воином станет, да только недолгим будет его величие. Трех лет не пройдет, как сгинет человек, а все, что сотворил он, рухнет. У саксонов корона есть, что только королю истинному впору будет. Нынешние-то ее и мерить не меряют, закрыли в подвалах от греха подальше. А то ж мало ли, кого корона признает… книги, студиозусы, чтоб вы знали, это не только источник знаний, но тако же проблем многих на головы дурные, которые лезут, сами не разумея, куда и для чего.
Он выдохнул.
— То, что вы нашли, артефакт. Безусловно, древний. Возможно, хар-ранг…
— Что? — осмелился поинтересоваться Еська, который свою супружницу приобнял и по плечу поглаживал, успокаивая, стало быть.
— Хар-ранг, бестолочь, которая так и не заглянула в рекомендованную для изучения литературу, — произнес Архип Полуэктович нарочито занудным тоном, — в переводе с древнекеметского означает «хранитель». Это способ сохранения информации, изобретенный кеметскими магами, когда информация сия помещалась в предмет, его изменяя… скажем, была книга, и книга осталась, да только вот страницы ее для человека, дара лишенного, в лучшем случае будут пусты. Если же в руки маг возьмет, то откроется ему… ну тут, конечно, от хар-ранга зависит, что откроется. Если защита стоит, то путь в мир иной, лучший… если же нет, то согласно запросу. Ментальному, бестолочи, запросу. А что сие значит?
— Мысли?
— В ваших головах они редко заводятся, — хмыкнул Архип Полуэктович, — но в целом примерно так. О чем думаешь, то и получаешь. Желаешь обогатиться, хар-ранг подкинет заклятье, способное превратить пыль в золото… или удачу привлечь. Или еще что… захочешь врагов извести? Получишь с полдюжины проклятий… один нюанс. Подчиняется хар-ранг прежде всего тому, кого сам хозяином сочтет.
— Все равно не понимаю.
Арей замолчал.
Что-то гудело. Стонало. Грохотало, но там, снаружи, и здесь этот грохот и стоны казались чем-то в высшей степени неважным.
— Чего не понимаешь?
— Я хотел лишь… вернуть истинное обличье… но вы…
— Что я? — Архип Полуэктович плечами пожал. — Я в своем самом что ни на есть истинном обличье, а сколько их быть может, это уже личное дело каждого. Это первое. А второе, если память мне не изменяет, а она не изменяет, поверь, я все ж молод, заклятье называлось иначе. Пробуждение сути. Вот она и пробудилась. Не только у вас…
Он хмыкнул и прислушался.
— А что суть пробудившаяся будет такова, что ты с ней не управишься, так то, бестолочь, твои проблемы.
И развернулся.
— Значит, Зослава…
Архип Полуэктович руками развел.
— Ушла.
— Куда?!
Куда можно было деваться с чердака, дверь с которого Арей самолично запер? Нет, ныне-то дверь повисла на одной петле, да и, говоря по правде, она и прежде была хиловата, но все ж… не про чердак Архип Полуэктович сказывал, все куда серьезней.
— Мне того неведомо. Ничего. Найдем, коль живы будем.
— Сейчас.
В той книге, помнится, был способ отыскать человека, пусть бы и человек этот за тридевять земель ушел да на краю мира схоронился.
— Не думай даже. — Архип Полуэктович, видать, хорошо своих студентов знал, а потому упреждение затрещиною подкрепил. — Так оно и начинается. Хар-ранги — вещи с подвохом. Они и помогают… навроде как помогают, и в то же время силы из тебя тянут. Чем чаще заглядываешь, тем меньше сам можешь и тем больше сил отдаешь… головой думай! Не только для рогов она тебе дадена.
Упрек был справедлив, но…
Есть, конечно, способы. Арей проходил. И зачет по поиску сдал легко, но те — ненадежные, в лучшем случае направление укажут, а вот тот, который в книге, прямо к человеку приведет.
Говорено ему? Так он слышал. И книгу вернет…
Нет, не вернет, мало ли для чего ее используют? Он ее спрячет… в надежное место. В очень надежное место, чтобы никто…
А то ведь специально наговорили всякого… да, специально… чтобы Арей книгу отдал. Передал Акадэмии. Или вот этому… он небось спит и видит, как бы заполучить сокровище.
Арей с трудом отделался от навязанных мыслей.
— Хорошо…
Он найдет Зославу. Куда бы ни ушла, найдет. И книга ему не нужна. Есть способ. Кольцо-колечко заветное, пока на пальце, то…
Выберется и найдет.
Выбраться оказалось непросто.
ГЛАВА 34 Где дело складывается
Щит пал.
Все оказалось так просто, что Евстигней в это и поверить был не способен.
Он надеялся…
Он сам не мог бы сказать, на что надеялся, сдирая черную бусину с рубахи. Одна из десяти, даренных царицей-матушкой.
По одной на рубаху. И коль случалось менять рубахи, то бусину эту Евстигней перешивал самолично.
— Это не наказание. — Пальцы перебирают его пряди. — Если бы я могла иначе… не смотри так, мальчик. Я и вправду могу иначе, но это будет означать, что все сделанное сделано зря. А я душу продала. Как теперь отступиться?
Ласковый голос.
Сладкий дым. И бусина стеклянная скользкая. Крутится-вертится… того и гляди, выскользнет…
— Не думай, что обманешь меня, мальчик. — Пальцы впиваются в волосы. — Себя не жалеешь, родных пожалей… все полягут… и батюшка твой, и матушка, и сестру не пожалею. Любишь сестру?
— Люблю…
Ускользает… сестру Евстигней не помнил. Что-то розовое и мягкое, кружевное, пахнущее молоком… смех и ручки пухлые, которыми она махала, его завидя…
— Вот и правильно, без любви человеку никак… без любви он душу тратит… а с любовью продает. — Ее смех горек, а бусина в пальцах рассыпается трухой, освобождая заклятье.
И то поднимается.
Раскрывается.
Вплетается предивным узором в защитный купол, и купол этот, мигнувши, гаснет. Кричат радостно игруши…
— Тревога! — Евстигней, еще зачарованный памятью, а может, и сном, который так не похож на сны иные, бьет прутом — откуда тот только взялся — по стене. — Тревога!
Горло саднит.
А голос тонет в вое нежити, которая хоть и неразумна, а поди ж ты, сообразила, что путь свободен.
— Тревога…
— Успокойся! — Фрол Аксютович перехватил прут, играючи вытащил его из занемевшей руки. — Иди в хату… и ты, Люциана…
Она, стоявшая за спиной, лишь плечами пожала да поплотней запахнула кружевную шаль.
— Идем, Евстигней, и вправду, не стоит под ногами мешаться.
— Я… — Признаваться в сотворенном было невыносимо стыдно, но и молчать Евстигней не имел права. — Это я сделал…
— Знаю. — Люциана Береславовна подхватила его под руку.
— Я не мог…
«…Я не могла иначе». Ложь… красивая ложь… могла. И он, Евстигней, мог бы… если бы захотел, мог бы, но клятва… цена…
— Нет. Мог. Но моя сестра… отец… и матушка…
— Вспомнил?
— Да.
— Вот и хорошо… — Люциана Береславовна потянула в дом. — Это главное, а за остальное не беспокойся. Фролушка справится.
Только почему-то голос ее дрогнул.
Не верила сама?
Они шли волной.
Душной. Тесной.
Лютой.
Игруши сомкнулись тощими спинами, по которым, будто посуху, летели тонконогие ушварки, больше на пауков похожие. Эти, в обычае своем скрытные, норовившие сплести паутину в темном углу хаты и уже с нее тянуть что силы, что радость в доме, ныне позабыли о скрытности. Медленно ползли лесовики, будто коряжины, подхваченные приливом, да все одно не желавшие подчиниться ему, цепляющиеся за дно кривыми лапами… И уже позади, медлительны и степенны, подгоняемы кикиморами, ползли огромные туши ожгеней.
Фрол Аксютович усмехнулся.
Что ж, и ладно… и хорошо… гнев кипел в крови и требовал выхода, иначе сожжет, перекорежит.
Огненный вал полетел навстречу, расползаясь, обнимая мертвый прибой. И заверещали игруши, сгорая вмиг. Ушварки, те вспыхивали молча, зелеными огоньками, знать, успели потянуть силенок, но мало… занялись топленники, а кикиморы попрятались под теплое брюхо ожгеней.
Ничего.
И до них Фрол доберется.
Было бы время.
Времени у него было вдосталь. Не отпускало, конечно, ощущение, что он чего-то да напутал, пропустил… ну так Фрол в интригах силен не был, может, и пропустил, может, и напутал… может, не зря Михаил Егорович уговаривал в столице переждать. Мол, даст в подкрепление магов хороших, которые приглядят за ребятами, чтоб чего не вышло, а Фрол в столице надобен, ибо затевается что-то, а что — непонятно…
Пускай.
Там, в столице, небось некуда было б гнев нынешний выплеснуть…
Раскрылась земля, проглотив самого прыткого ожгеня вместе со свитой. Чавкнула только. А вот второй, несмотря на немалый вес, сумел увернуться от ямины. Заскрежетал протяжно.
— Ничего, — сказал Фрол Аксютович, разминая руки. — Посмотрим, кто кого… я ваше болото осушу.
Слепая беззубая ярость сменилась хмельным азартом. А и вправду осушить бы это болото, и так, чтоб ни лужицы не осталось… ни памяти даже…
Память бы выбрать и вычеркнуть, но не выйдет. Придется снова с нею сживаться. Сживется. Теперь-то он взрослей, только…
Ледяные иглы смели остатки игруш.
Вот так оно ладно будет.
За спиной завыли волки, одобряя этакую охоту.
Еська с чердака скатился кубарем.
— Что…
— Я открыл дверь. — Евстигней сидел на полу, скрестивши ноги, и сдирал с рубахи бусины. Одну за другой. Сдирал и раскладывал хитрым узором. — Я вспомнил… матушку вспомнил. Настоящую. И ее… и… вообще все.
Емелька сидел в углу, и губы его шевелились. Молится? Нашел время. Или он со страху? Непохоже. Вона, какое лицо ясное, и улыбается, что блаженный…
— Она велела, и я открыл.
Евстигнеевы глаза потемнели.
— Я ей клялся исполнить, что скажет… давно… клятву кровную… если бы сам, то ладно, но у меня сестра есть… была. Сейчас не знаю, осталась ли… но была.
Бусина к бусине.
Егор наблюдает, ничего не говорит, только пальцы бегают, как всегда он делает, когда нервничает. Но опять же, непохоже, что со страху.
— А ножи меня дядька Ольгерд кидать научил.
— Вернешься — спасибо скажешь. — Архип Полуэктович остановился и на бусины поглядел, пальцем ноги подвинул одну, которой из ряду выкатиться вздумалось.
— Вернусь?
Наставник хмыкнул:
— Или ты тут остаться решил? Не то чтоб я против… меньше студентов — меньше боли головной, да от место тут для здоровья не самое лучшее. Болота. Сырость. Сам не заметишь, как одичаешь. А одичалый магик для людей опасен.
Снаружи загудело. И Евстигней вздрогнул.
— Угомонись, — Архип Полуэктович наклонился и бусины сгреб в горсть, — Фролушка душеньку отводит… не надо мешать человеку. Пущай себе.
— Но…
— Молодой человек, неужели вы полагаете, что два боевых мага — это недостаточно, чтобы обеспечить вашу безопасность? — Голос Люцианы Береславовны был холоден, что стужа зимняя, и от этого холодку у Еськи по спине мурашки побежали. Он аж руку под рубаху засунул, чтобы спину почухать, потому как мало ли, может, не от голосу, может, и не мурашки вовсе. Чердак-то старый, не угадаешь, какой напасти в нем подхватить можно.
Щучка, державшаяся в тенечке, шепотом поинтересовалась:
— Блохи заели?
— Совесть, — буркнул Еська.
— А у тебя она имеется?
От же, баба лядащая, сама едва на ногах держится, а туда ж, зубоскальничать.
— Сядь он, — Еська произнес шепотом, не сомневаясь, что услышан будет. Слух у девок уличных кошачий, а нюх, на беду, и того острей, и коль спокойна, значится, и вправду опасности нема. Да и к себе прислушавшись, понял Еська, что не ощущает ее… вот хоть нежити за воротами тьма-тьмущая, но этой самой тьмы он нисколечки не боится.
Оно-то верно, что и сам Еська не из трусливых. Но трусость — одно, а здравые опасения — совсем иное. И ныне чутье подсказывало, что не нежити опасаться надобно, а…
Он пошарил за пазухой и вытащил конверт.
— Лойко ушел, верно? — Пальцы тронули сломанную печать с крысиною лапой. — Это я понимаю… другого не пойму, отчего ты, Ильюша, остался? Архип Полуэктович… я честно собирался вам отдать, но… запамятовал. Не серчайте.
— Бывает. — Архип Полуэктович конвертик-то принял аккуратне. — Память у тебя короткая, что волос у гулящей бабы. Мозгов и вовсе нету, чего ж серчать?
Ильюшка поднялся.
Медленно.
Текуче.
И вроде он, да только не он… стоит посеред хаты человек… человек ли вовсе? Слезла старая шкура, что с ужа перелинявшего. А с нею и стеснительность сгинула, сутулость его обыкновенная… задуменность.
— Донесли?
— Я все понять не мог… ладно Евстя у нас головою ударенный. — Еська шагнул было к чужаку, да только остановлен был могучею дланью, которая Еськину рубаху сгребла и его, как был, с рубахою подняла. — Да все одно давненько он в снах не хаживал… и за нами не водилось такого, чтобы спать сном беспробудным… опять же, газ, которым его едва не потравили… я запах узнал.
Еська чихнул.
От же ж, правду говорит. Только поверят ли? Хотя… Ильюшка и не подумал прятаться. Утомило его человеческое тело? Несподручно, тяжело ему, развеликому, в человеческом тесном теле.
— Дурная трава… — Еська поморщился. Уж этот запашок, который привязывался к одеже намертво, скобли ее после, вымачивай, а все одно не избавишься собственною волей, он крепко запомнил. Как и тот единственный раз, когда, поддавшись на уговоры старого приятеля, выкурил трубку, забитую черным, что перец, семенем.
Сладковатый вкус на губах.
И слабость, истому, что охватила все тело. И нежелание двигаться. Беспричинную радость, не отпускавшую долго, а после сменившуюся тягостной пустотой, с которой выть хотелось.
И на стены лезть.
Архип Полуэктович вытряхнул из конверта бумаженцию, не особо чистую, да и писана она была наспех, словно не пером, а цельною курячьей лапой — клякса на кляксе, буква на букве. Сам Еська полдня разбирался.
Но разобрался.
И крепко удивлен был.
— Бестолочь, — повторил Архип Полуэктович, записочку сию зачитавши скоренько. — Сразу надо было…
— Запамятовал… — Еська руками развел, позволяя ножу в руку соскользнуть.
Нынешнего разу он не позволит…
— Скажите ему, — молвил Илья, глазья щуря, — что если он своего ножа кинет, то и назад получит. Правда, не уверен, что у него поймать выйдет.
— Ты это был… ты ко мне приходил… не только ко мне… ты…
— Я. — Ильюшка потянулся, смачно так, со вкусом. — В какой-то мере… Егорушка, просвети нашего… храбреца…
Егор скукожился.
И себя обнял.
— Ну же, дорогой, не стесняйся, а то я могу подумать, что ты у нас тварь неблагодарная… за людьми это водится, конечно, но все одно огорчительно…
Илья передернул плечами.
Потом руки расправил, потянулся так, смачно, до хруста в костях.
— Зачем? — Еська вдруг явственно понял, что вновь пропустил время, когда бить имело смысл. Сейчас же… и вправду ножа возвернут. Да в самое горло. И захлебнется он, честный вор, сталью и собственною кровью.
И будет это, может, очень героично, но все одно глупо.
Снаружи громыхнуло так, что крыша подскочила, посыпалась с потолка мелкая травяная труха. Стены ходуном заходили.
— А Фролушка-то не на шутку разошелся. — Архип Полуэктович бумажку-то в конверт возвернул, а конверт Еське сунул, мол, держи свои откровения. Запоздали они слегка.
— Не выйдет. — Илья покачал головой.
— Что не выйдет?
— Ничего у вас не выйдет. Его сил, может, на всякую мелочь и достанет, но вы же осознаете, что все это — лишь начало… весело будет. А ты, Егорушка, не морщись… радуйся, что жив остался.
Щучка качнулась было, но Еська удержал. Она, может, и шустра, но не шустрей этого вот, кем бы он ни был… а кем он был?
Сие вопрос занимательный.
— Отпусти мальчика, — попросила Люциана Береславовна, рученькой руку оглаживая. Колечки перебирала. Смотрела на них и еще на пальцы свои белые, тонкие.
— Так нету мальчика. — Ильюшка развел руками. — Нет и не было никогда… точнее, когда-то он был, хороший такой, славный паренек… матушку любил. Сестриц. Отца вот уважал… до того уважал, что во всем на него походить желал… и помогал, да…
Ильюшка провел ладонью по лицу, возвращая прежнее выражение, слегка растерянное, потерянное, будто бы он до конца так и не понял, где пребывать изволит.
— И когда батюшке в руки книжица известная попалась, он первый подсказал, на ком испытать. Конечно, сестрица дорогая чахоткой чахла… того и гляди вовсе преставится. — Ильюшка скорчил скорбную мину, получилось не очень ладно, как у скомороха на тещиных похоронах. — И жаль ее, и для науки польза… батюшка подумал и согласился… забыли оба, чем этакие игрища чреваты. Девок-то они возвернули, что хорошо… с матушкой сложней вышло, уж больно крепка ее вера оказалась. Защитила… — Ильюшка хохотнул баском.
А крыша дома вновь подскочила и села, показалось, кривовато. Во всяком случае, Хозяин, люду болей не чинясь, из-под пола выполз, заохал, заахал, запричитал, что того и гляди хату-то развалят магики-ироды, а она, за между прочим, не один десяток год стояла и века б еще простояла.
Завыло люто.
— Ишь, разгулялся ваш-то… — Ильюшка почесал затылок. — Но мы ж о нашем, о прошлом… вот, помнится, в прошлом-то разе встретила меня Марьяна Ивановна… такая кругом вся из себя женщина обходительная да серьезная, у ней не забалуешь. И приманила, значится…
— Чем?
А Люцианушка-то Береславовна вся белым-бела сделалась, ажно в прозелень. Нечиста, значится, совесть ее… ручки сухие в кулачки сжала, того и гляди, с кулачками этими на Ильюшку бросится, потерявши всякий лоск боярский.
Интересно.
Еська моргнул и ножичек погладил. Его б обратно в рукав послать, но… задница, не единожды поротая, а потому страсть до чего чуткая, подсказывала — не надобно руки пустыми оставлять.
Отчего?
А и непонятно. То ли момент удачный выдастся, то ли… главное, с ножом оно верней, чем без ножа. Еська на супружницу свою оглянулся. Та замерла, что борзая на зайца полететь готовая, только кончик носу и дергается.
Бровки приподняла.
Глаза… ох и зелены, лядащи…
Еська-то ее руку нашел, так, на всякий случай, а то мало ли, вдруг да хватит в благоверное дури, чтоб на магика с голым задом кинуться… ну не с задом, а все одно без должного умения. Пальцы-то леденющие. И сама-то… ее б к Побережью свозить, на море, где, слыхал Еська, воздух до того пользительный, что и чахоточные к жизни возвертаются. Она-то не чахоточная, ей, может, того воздуху с полглоточка бы…
И не такая уж вредная, как ему думалось.
А что лядаща, так небось не от сладкое жизни. Ничего, вот закончится все, и повезет ее Еська хоть к морю, хоть к лесам Выжгонским, которые тоже не просто так, а полезны, там еще курорту на манеру саксонскую справили, чтоб жить честному люду в пользе и под целительским присмотром. Глядишь, и покруглеет женушка что задом, что передом. На крайний случай Еська и только на зад согласный.
— Чем приманила? А пеплом из костей моих. Она-то, в отличие от некоторых, и умна была, и умела, знала, что кроме самой шкатулки и содержимое ее значение имеет. Пригрозила, паскуда, мой пепел покою предать… а мне еще рано упокаиваться. Я еще и не пожил-то…
Хрустнули руки.
Размялись пальцы.
— Или вот служить ей… что делать оставалось?
Молчит народ. Егорка головушкой крутит так, будто его по этое головушке молотом приложили, не меньше. Кривится.
Морщится.
Что за дела у него с этою нелюдью? Ничего, Еська не гордый, спросит. Но опосля, потому как внове крыша заплясала, будто по ней табуны перегоняли конские. Хозяин-то заохал, на колени пал пред Ареем, причитая:
— Пощади, догляди… Хозяюшку не доглядел, так хоть домик… без крыши останемся… ой померзнем, ой…
Девка-то Елисеева, в рубаху, Люцианой жертвованную, обряженная, подобралась.
— Куда смотришь? — зашипела Щучка и пальцы стиснула.
— Куда хочу, туда смотрю.
— На лярву эту?
— С чего это лярву? — Нет, девка-то хороша, где только сыскал братец дорогой посеред лесов глухих этакую-то зазнобушку? Светла волосом, томна взглядом, глядишь и не наглядишь… — Может, она приличная.
Щучка только фыркнула и руку свою высвободить попыталась. Ага, а Еська взял и позволил.
— Пусти…
— Не пущу. — Он к себе притянул и приобнял, как умел, одною рукой. Шепнул на ухо: — На поясе в кармане мешочек есть… в нем камушек махонький, плоский.
Благо сообразила, головушку на плече устроила, к мужу прильнула, будто век не видала и соскучилась. А все одно на Елисееву женушку поглядывает. И та только бровку подняла, мол, чего хочешь, не надобен мне твой супруг, ни даром, ни с подаром.
— Тише, детки, не бузите. — Ильюшка пальчиком погрозил, и Еська вдруг понял, что ног своих не чует. Нет, они-то, ноги, есть, иначе как бы он стоял, вот только совсем он их не чует. И коль шелохнется, то упадет.
— И ты не бузи… гостьюшка незваный. — Архип Полуэктович плечом дернул, крыло выпуская. Куцее, будто обскубанное. — Мы ж вроде говорим? Аль все ж воевать полезем?
— Поговорим, — согласился Ильюшка, — конечно, поговорим… куда вам воевать? Вы еще навоюетесь…
И аккурат на слова эти крыша таки и треснула, как была, на две половины. Сперва-то Еська и не сообразил, что деется. Вновь загудело. Захрустело, да так протяжно, будто дому руки крутили-выкручивали, полетела с потолка щепа и пыль, крошево мелкое. Архипу Полуэктовичу и доской приложило, да только он от этого удару отряхнулся и раскрыл купол щита, чтоб, значится, кому еще этакого подарку не досталось.
И верно, Еська вот, доской по лбу получивши, и душеньку отдать может… не говоря уже о девках.
— Ты как? — шепнул он.
Вместо ответу Щучка в пальцы камень вложила. Ишь ты, до чего сноровиста! Еська и не почуял, как кошеля взрезали.
— Так вот, говорит мне Марьяна ваша Ивановна, что, мол, есть у ней для меня тело подходящее… молодое, крепкое… не без дару… а главное, целое почти. Душенька поедена страстями да гордынюшкой, ну так я не брезгливый. И выбору особого, признаюсь, не имел. Не упокаиваться же ж? Тело-то мы по первости честно делили, а то ведь вокруг князюшки многие вились любопытствующие… то окурят, то кадилушком в нос сунут, то молиться заставляют… бестолочи. Молитва без веры — пустые слова.
— Зачем ей…
— Все не успокоишься… любопытство не одну кошку сгубило, Люцианушка. А зачем, мыслю, интересный вопрос… чтоб извести дурную кровь. — Он фыркнул. — Не то чтобы меня так уж радовала зависимость от сумасшедшей, но жизнь жестока, да…
— Не сходится. — Еська услышал свой голос со стороны. — У тебя было столько возможностей избавиться от нас… а ты…
— А я развлекался… вечная жизнь скучна. Ищешь, знаете ли, способы разнообразить. К примеру, дать жертве шанс… небольшой такой шанс… спешить мне, если понимаете, было некуда.
Некуда.
Его правда.
Игра, в которой он, Ильюшка, мог и играть, и наблюдать… пока ему было дозволено.
— Ты… — Еська сжал камушек, присланный то ли напоминанием о заключенной сделке, то ли просто пожеланием удачи, а может, и вовсе обманкой.
Выйдет?
Не выйдет?
Не подведет ли воровская удача?
— Ты… ходил к безносым за зельем… запомнили… у них свои глаза, своя метода… и тебя запомнили… и Лойко с матушкой, которой вздумалось прогуляться, хотя ж она затворницею жила… долго боярыня платки выбирала…
Камушек нагревался.
Медленно.
Слишком медленно, чтобы у Еськи хватило терпения и языка, потому как тварь, пред ним восставшая, была хитра да осторожна. Того и гляди сорвется…
— Я, я… успокойся… и недоволка вашего я сгубил… и Егорушку вон попользовал, только он, мыслею, не в обиде… и манок в колодце тоже я утопил. Что сделаешь, служба, она такая.
— Служба, да… — И Еська решился. Он кинул камушек в того, кто стоял в трех шагах, ухмыляясь во все зубы. Кинул и крикнул: — Лови!
А тот и поймал.
Не сам, тело подвело… у тела-то свои привычки.
Сперва-то ничего не случилось. Ильюшка поднес камушек к глазам, поморщился, а потом вдруг взял да рухнул, что дуб подрубленный.
— Бестолочь, — почти нежно произнес Архип Полуэктович. — Ну разве ж можно было рисковать так? А ты, Люци, не смотри… вяжи этого… духа. После разберемся, что да как.
Он подошел к телу.
Присел.
Вытащил камушек из онемевших пальцев Ильюшки, но единственно для того, чтобы в рот тому сунуть. Да сверху платком своим перевязать, благо длинен тот был.
— Так оно надежней, — пояснил Архип Полуэктович. — Божиня даст, не подавится.
Еська вздохнул и покачнулся.
Упал бы, когда б не цепкие руки жены, а та, прижавшись костями, прошипела на ухо:
— А на лярв всяких пялиться станешь, глаза выцарапаю.
Вот же…
ГЛАВА 35 О том, что не всегда все идет по плану
Азары были мертвы.
Кирей ощутил неладное, когда только подошел к лагерю. Тихо… куда подевалась стража? Неужто Кеншо-авар столь беспечен? Нет, никогда-то старый недруг беспечностью не страдал, а ныне вот…
Ладно, собак нету, чтобы голос подать, а кони-то куда подевались? Сгинули, как и стража? Нет, стража не сгинула. Лежит воин, руки раскинул, будто небо обнять желает, а из груди стрела торчит. Короткая. С бурым оперением. Самая она под степной лук.
А вот и другой, с глоткой перерезанной.
Третий…
Сотню привел с собой Кеншо-авар, да вся и полегла… сотник же у шатра отыскался, порубленный, да и в смерти сабли кривой из рук не выпустивший.
Скольких он с собой забрал? Четверых? Пятерых? А остальных кто? С кем бились они? Не с нечистью, иначе отчего не тронуты тела мертвые? Да и порубленная нечисть куда подевалась? С ворогом тайным? И вновь непохоже… друг с другом? Тела-то сотника окружают азарские.
Качнулся полог шелковый, ручку белоснежную пропуская.
— Заходи, гость незваный. — Голос нежен, голос сладок, и от него уже голову кружит. И Кирей ступает под сень шатра.
Пахнет тяжело. Палочками ароматными.
Свечами.
Воском и ладаном. Шафраном драгоценным, которое девица, на блюдо высыпав, забавляется, пальчиком по блюду водит, рисунок рисуя.
— Здравствуй, наследник, — молвила, усмехаясь, Любляна. — А я уж заждалась… думать стала, что, может, и не придешь…
— Пришел.
— Присядь тогда, в ногах правды нет, как люди говорят.
— А где есть?
— Не ведаю. — Она поднесла измазанные пальцы к лицу и понюхала.
А ведь нага.
Бесстыдна в своей наготе.
Хороша… пожалуй, и отцовский гарем не знал этакой красавицы.
— Нравлюсь? — Она ощутила его интерес и откинула волосы, изогнулась, выставляя такое гибкое сладкое тело. — Скажи, что хороша?
— Это ты их убила?
— Кого? А… ты про них. Нет. Разве ты видишь у меня оружие?
— Ты сама оружие. — Кирей отвел взгляд и головой тряхнул, избавляясь от наваждения. А Любляна засмеялась, и от смеха этого против воли в горле пересохло.
— Они все желали обладать мной. Я сказала, что выберу сильнейшего. И они умерли, пытаясь доказать, что достойны. Это так глупо… но ты, если хочешь…
Ладонь скользнула по белому бедру.
— Не хочу.
— Лжешь, — белый пальчик прочертил полукруг на груди, — я чувствую твое желание…
— И что?
— Ничего. — Полуопущенные веки, улыбка мягкая. — Что тебе мешает исполнить его? Я не буду против.
— Я буду. Я хозяин над своими желаниями.
— Другая на сердце? — Она двигалась медленно, тягуче, и движения эти завораживали. Кирей отвернулся. — И собираешься верность хранить? Не стоит…
Он не ответил.
— Она все одно не поверит… или не оценит… ты мужчина… ты можешь позволить себе много больше, чем позволено слабым женщинам… — Ее голос оплетал, и Кирей понял, что еще немного — и напрочь увязнет в словесных тенетах, в которые, следовало полагать, попался дорогой родич вместе с сотней. — Да и вспомни предков своих… разве они…
— Замолчи! — Кирей распрямился. — Ты их убила… пускай… что ты собираешься делать? Не знаю, меня это не интересует… пожалуй, я должен быть тебе благодарен, что ты избавила меня от необходимости убивать самому.
— Ты знаешь, как выразить благодарность. — Она растянулась на шелках. — Мне нравится твой огонь…
— И ты высосешь его до последней искры.
Тварь лишь прищурилась. Она не спускала с Кирея внимательного взгляда, под которым он чувствовал себя мышью, уже попавшей в кошачьи когти, но еще наивно полагающей, будто способна она высвободиться от них.
— Упр-р-рямый, — мурлыкнула она, переворачиваясь на живот. — Что ж… хочешь тратить свою жизнь на глупости, пускай… найдутся другие… и я пока сыта.
Она облизнулась.
— А тебе я, пожалуй, погадаю. Присядь.
И Кирей против воли — тело больше не подчинялось ему — опустился на подушки. Тварь же поднялась одним тягучим движением, отбросила светлые волосы, изогнулась, томно потягиваясь, и блюдо с шафраном подвинула.
— Дунь, — велела она.
И Кирей дунул.
Душистое облако поднялось, забивая нос. А когда опустилось — он с трудом не расчихался, — тварь отобрала блюдо.
— Ждет тебя… ждет тебя смерть скорая… а потом дорога дальняя. — Она сморщила носик. — Ничего-то интересного… я большего ждала, а ты скучный, если разобраться… что ж, ступай себе. И помни мою доброту.
На мертвецов слеталось воронье. Вот ведь… а говорят, что птица дневная… или, может, луна нынешняя высоко взошла, свету изрядно давала.
Кирей дошел до края поляны.
Остановился.
Кто ему они?
Те, кого он бы убил в честном бою или, как знать — воинская удача хитра, — сам бы полег. И вряд ли удостоен был бы почестей… скорей уж голову б отрубили, погрузили в стазис — все доказательство воли исполненной, да и отвезли бы кагану последним приветом от старшего ненужного сына.
И значит, не ему беспокоиться что о воронье, что об иных падальщиках, которые появятся к рассвету, а может, и того раньше.
Тварь вышла из шатра.
Нагая. Нечеловечески прекрасная. Манящая… если остановиться… если вернуться… смерть? Смерть не страшна… дорога? Никуда не денется она, Киреева дорога… и, значит, чего ради спешить? К кому? К той ли, которой в любви клялся?
Клятвы — слова.
Прах на крыльях времени. Пролетят дни, пронесутся месяцы, годы в прошлое сгинут, и что останется от нерушимых клятв?
— Прекрати. — Кирей развел руки, и на ладонях поднялось пламя. Оно легко стекло наземь, но не погасло, коснувшись жирной земли, растеклось по ней полупрозрачной зыбкой лужицей. Добралось до мертвеца, вцепилось в пальцы его…
— Я же ничего не делаю. — В сумраке ее кожа словно светилась. — Я лишь позволяю твоим желаниям быть услышанными… люди так смешны… прячут желания внутри себя…
Она прижала раскрытую ладонь к груди.
— Растят чудовищ, а вырастив, удивляются, как же так вышло… или уходи, сын степей, или оставайся, но, решив единожды, не жалей о своем решении.
Она больше не была тварью, как не была человеком.
Кем?
Кем-то несоизмеримо древним, против кого Кирей с его силой — пыль на ладони. Дунет, плюнет и забудет, как звали…
— Испугался?
— Нет.
— Зря. — Она провела пальцем по своим губам. — Страх порой на пользу… а с другой стороны… хочешь, я подарю тебе силу?
— Подаришь? — Кирей в этакое добро не верил.
— Подарю. Ничего не попрошу взамен.
Он покачал головой.
— Отчего же? — Она переступила через тонкий ручеек огня, который дополз до шатра и теперь осторожно, крадучись, пытался вскарабкаться по расшитому пологу. — Сила тебе пригодится… конечно, ты решил убежать, но бегать противно самой твоей натуре… да и скрываться до конца жизни. Гадать, не узнал ли кто правды… и вдруг да однажды придут… и за тобой, и за твоими детьми… и за женой, которую ты, выходит, любишь.
— Выходит, люблю. — Кирей позволил огню набраться силы. И он, растекаясь по поляне, то тут, то там раскрывал рыжие венчики цветов. Будто маки в степи.
— Жаль будет, если она погибнет.
— Все мы смертны.
— О да… теперь ей кажется все это замечательной идеей… сбежать от своего прошлого, от твоего… начать жить с нового листа… только на деле это не так легко, как вам кажется… и силы пригодятся тебе… бежать не будет нужды. Ты вернешься в степь, и степь тебе покорится. Сотни и тысячи. Ты сотрешь с лица земли тех, кто позволит проявить хоть тень недовольства.
— Заманчиво.
— И коль пожелаешь, завоюешь весь мир.
Огонь поднялся стеной.
Загудел обиженно… он ведь уже говорил… он ведь тоже предлагал и силу, каковой ни у одного живого существа не было, и власть, и богатства земные…
В том и дело, что было это. А одного разу прошедши дорогой, второй ступать легче.
— Нет. Извини.
Пламя поднялось до небес.
Еще немного, и прахом станут тела, а с ними — и трава, и дерева, которых коснулся жар, сгинет шатер… и лишь упрямое железо до последнего будет держаться, но все одно не выдержит, потечет маслом да на землю… и только ей, нелюди, огонь не причинит вреда.
— Проводить тебя, что ли? — спросила боярыня, и вновь она выглядела более человеком, хотя и не лишенным особой магической притягательности.
— Не надо. Иди по своим делам.
Она не стала возражать.
К счастью.
До заклятого места Кирей добрался быстро, даром что луна дороженьку светила, а метка, не им ставленная, горела, что пламень на вершине маяка. Поляна, если разобраться, обыкновенная самая. Ельник справа. Ельник слева. Дерева старые, матерые, юбки колючие расправили, смыкаясь стеной. Ни дать ни взять — боярыни в царицыном окружении…
Ее уже не стало, он это чуял, и странное дело, зная если не все, то многое, все одно испытывал необъяснимую тоску. Того и гляди, разрыдается, горю волю давая.
Нельзя.
— Эй, есть тут кто? — крикнул Кирей, остановившись на краю поляны. — Если есть, выходите…
Камни.
Вот что необычного. Огромные, будто еще цмоком принесенные из-за края мира с землицей, из которой после мир-каравай лепили, они стояли молчаливыми стражами. И чудилось в обманчивом лунном свете, будто бы у камней этих лица есть.
Старец с брюзгливо поджатыми губами взирает на Кирея.
Или вот дева… нет, хватит с него сегодня дев.
Воин хмурый… мерещится, он даже потрогал ближайший камень, убеждаясь, что нет никакого рукотворного лица, но лишь воображение его собственное подводит.
— Пришел? — Лойко выступил из-за громадины. — Лопату принес?
— Лопаты, от извини, не нашлось… здравствуй, Зослава…
Я сидела.
И сидела.
И от ждала, когда меня спасать придут. В сказке ж как? Колдун злокозненный деву уволокает за моря-окияны, в замки превысокие, в горы с ущельями, чрез которые не всяка птица перелетит, а возлюбленный ейный, когда боярин молодой, а когда вовсе вдовий сын, спасать кидается. И переплывает моря, лезет на горы, а ущелья на цмоковых крыльях перелетает. Главное, что добирается до замка черного да и вызывает колдуна на честный бой.
Или не честный.
Бывали и такие молодцы в сказках, которые биться не лезли, но девицу-красавицу умыкали. Я сидела. Бой там или умыкание, но все пора…
А никто не шел.
Луна поднялась высоконько.
Елки шумели. Лойко лежал, будто мертвый… мертвым он и был, только я все никак в этое поверить не могла. От и сидела.
И ждала.
Как раскрасавице положено. А то ж что за сказка, когда девка сама от колдуна бежит? Девке героизм без надобности… нет, я-то пусть и не раскрасавица, да все одно не сказочная, и когда б могла сбежать, сбегла б…
Не могла.
Пущай и не спутал меня Лойко веревками конопляными да в цепи не заковывал, а… а слово было дано, и не единожды. Вот и ждала.
Дождалась.
— Эй, есть тут кто? — весело крикнул Кирей да огоньку на ладони подкинул. — Если есть, выходите…
Мы и вышли.
Я-то сперва хотела на шею броситься да с рыданьями, чтоб уж точно как в сказке, да после передумала. Как-то вот… пусть и крепким Кирей глядится, а шея все одно худлявая, как знать, выдюжит ли моих рыданиев? А то еще сверну ненароком, и кто тогда меня спасать будет?
Да и на иной шее порыдать охота была.
И крепко так порыдать.
Вволю.
Теперь-то я только носом шмыгнула. И стала с видом горестным, рученьки на грудях сложивши. Подумалось, надо ли причитать? Бабка, та б моменту не попустила, а я… я стояла и глядела.
— Придется без лопаты. — Мне Кирей только кивнул и рученьки потер. — Зось, а Зось… а ты то заклятье, часом, не помнишь, которое нам Ильюшка показывал? Ну, чтоб землица расступилась, и все такое…
— Не помню.
Вот же… спасать меня не будут.
Сомнительно, чтоб им для того лопата надобна была.
— И я не помню. — Кирей патылицу почухал. — А ты?
— Помню. — Лойко кивнул. — Только… у меня не выйдет. Обычная магия… плохо получается… вот если убить кого…
— Убить не выйдет, он уже мертвый. Зось, не стой, как чужая… давай так, ты нам схему покажешь, а Зось применить попробует. Авось и выйдет… а то, знаете ли, копать руками мы три дня можем.
И меня по плечику похлопал.
Ободряючи.
— Чего? — молвила я, желая вцепиться и этому второму жениху в рог да крутануть хорошенько, глядишь, дурь бы и выкрутилась. Может, она вовсе в рогах у него упрятана.
— Не серчай, Зославушка, — Кирей отошел в стороночку, — а то морщины на челе появятся. Зось, вот давай по-хорошему. Ты с ним говорила? Говорила. Историю его знаешь? Знаешь. И жаль его тебе? Жаль.
А чего это он за меня отвечает? Я и сама способная.
— И мне жаль. А еще здравый смысл подсказывает, что нам же выгодно эту жалость перевести в русло, так сказать, практичное, поскольку в противном случае нас он сотрет и забудет, как звали… верно?
Лойко кивнул.
— Он же ж не просто так, он воззванный. Ему не уйти, пока не исполнено будет предначертанное, а поскольку исполнить это затруднительно, — Кирей похлопал руками по плечам, — нас ждут беды и разрушения… раньше его матушка останавливала, но теперь, когда ее не стало…
Лойко вновь кивнул, мол, так оно и было, и будет.
— …Пойдет он к цели… и не то что мы поляжем, царство опустеет изрядно. А нам оно надобно? — И Кирей сам себе на вопрос ответил: — Нам того вовсе не надобно. Следовательно что? Наш с тобой долг предотвратить грядущую катастрофу.
— Не мели попусту. — Я уже поняла, что спасать меня не будут, а словеса эти пустые — исключительно, как молвила б Люциана Береславовна, для Киреева собственного успокоения. — Чего делать?
— Надо бы тело его раскопать. А потом провести обряд один… — Кирей отвел взгляд, стало быть, этот обряд не самый безопасный.
И без меня не обойтись.
От не сказать, чтоб я радая была. Мир спасать в мечтах — одно, а вот наяву в земле колупаться иссохшее — другое… заклятье я чертила сосновою веткой.
Лойко сидел тихенько, спиною к камню прижавшись, да думал об чем своем, если мертвяки вовсе думать способные. И тем изрядно мне помогал. Кирей же за мною ходил да руководствовал:
— Прямее малюй… Зослава, разве не помнишь, чему нас учили? Прямые линии должны быть прямыми… а это что за загогулина? Это, по-твоему, так руна старшая выглядит? Зослава… ты понимаешь, что шансов у нас немного… я сказал на три шага…
— Кирей! — Я сук в руке подкинула, прицеливаясь.
— Что?
— Шел бы ты… отдохнул, что ли?
— Я не устал. — Он ногою шишку еловую подпнул, расчищая мне путь. — Я лучше тебе помогу.
Ага, а я с этое помощи поседею до сроку. Нет уж.
— Кирей…
— Понял. — Он руки поднял и, разом посерьезнев, добавил: — Небо светлеет. Точно сама успеешь?
Успею, куда я денуся. Нет, оно б можно было и без чертежу, когда б Кирей уверенный был в правильном заклятии, так он не уверенный… да и я тоже не уверенная, что сумею с силою управиться… с огнем-то я поладила. И с водой. А вот земля, она упертая, не захочет отдавать, то и не принудишь.
Да и заклятье… такого я не пробовала.
Потому лучше уж время потратить, чтоб первичную схему начертить, а уж с нею и дальше воевать.
— Солнце теплое, — заметил Лойко. — Теперь я это ощущаю…
— И все равно умереть хочешь? — не удержалась я. Оставалась самая малость. Заключительная линия и два закрепляющих узла, чтоб контура замкнуть.
— Я уже мертв, Зослава. И да, я хочу уйти, пока еще в своем разуме пребываю… я не знаю, что будет дальше… возможно, я просто двинусь к столице, уничтожая всех, кого встречу… а может, просто нашлю на царство чуму и мор… или еще чего утворю… я больше не верю себе.
Он задрал голову.
— Но солнце увидеть хотел бы… думаешь, получится?
— Получится, получится, — проворчал Кирей. Он тоже присел и, сапог стянувши, сор мелкий из него вытряхивал. — Если я чего и понял, то действует обряд не сразу. Пару часов у тебя будет… нам того хватит.
И переглянулись так хитро.
Знать, не только обряд задумали. Да ну их…
Я закончила чертеж и отступила, оглядывая свое утворение. Нет, Люциана Береславовна нашла б к чему придраться. И линии не так чтобы глубоки да четки, и вовсе это блажь опасная — чертить на земле, тут же ж любая кочка, любой жук дохлый все испоганить способный… да только не было у меня с собой листов пергаментных и иной снасти.
Авось и так сойдет.
Руки о подол отерла.
— Ну, — сказала, сама робея от задуманного, ажно колени задрожали да и в руках слабость появилась. — Надобно… начинать.
Кому я сие говорила?
Себе… получится. Конечно, получится… вовсе я не бездарная… и экзаменации вон сдала… и цельный год училась-мучилась, мусолила гранит науки, как Архип Полуэктович сие называет… и значится, не зазря, если вот…
— Зось, не тяни хвоста… — Кирей сапог рукавом протер, — то есть кота… хвост оборвешь.
А небо и вправду посветлело.
Того и гляди, вспыхнет ружовым перламутром да золотом, солнышко выпуская…
Слова заклятья легли, что молитва на душу. Я проговаривала, как учено было, четко и ясно, ворочая языком неподъемные глыбины древних словесей. И ничего, ворочались. И сила текла, уходила в начертанную вязь рисунка, связывая землю волею моей. А та, сперва неподъемная, тяжкая, упрямилась, не желая расставаться со скарбами своими.
Но вот вздохнула.
И треснула.
И выплюнула конскую голову костяную… проржавелую сбрую, от которой и уцелели, что заклепки посеребренные… и еще костей горку… гору… земля отдавала взятое.
Горшок с серебром, зарытый, надо думать, в стародавние времена. И осколки стеклянные. Железный плуг. И меч проржавелый…
— Вот! — Лойко вскочил на ноги.
Я это краешком глазу заприметила, и то, как поднялся следом за ним Кирей, и то заклятье, набравши силу, тянуло из землицы еще что-то, неимоверно тяжкое, неподъемное…
— Бросай, Зослава!
Ага, чтоб сие так просто было! Я б желала замолчать, да только язык мой, взаправду враг мой лютый, не желал замолкать. Я, закостенев во внутрях, повторяла и повторяла навязшую на зубах фразу-ключ, щедро отдавая взамен свои силы… и из земли лезло… вот не ведаю, что лезло.
Тяжкое.
Огроменное.
Сказывал дед Панкрат, как щуку рыбачил да на крючок евонный, кованый, сом сел, и не какой-нибудь двугодовалый, которого на один зубок, но матерый зверюга-омутник. И как сперва-то дед и не понял, чего случилось.
Повело поплавок.
Натянуло веревку. Удило выгнулось да удержалось, даром, что ль, за него, зачарованное, дед Панкрат две кадушки меду липового отдал? Магик тот клялся, что удилище не то что щуку, белугу выдюжит. От белуг у нас отродясь не водилось, а сом сыскался. И так дернул, что дед сам едва в омут не рухнул. А рухнул бы, как знать, сказывали, что иные сомы вырастают до того огроменными, что человека целиком заглотить способные.
Главное, что по первости дед-то удилище не бросал, тянул… и мыслю, тоже дивился тяжеленному улову своему…
— Зослава… — Голос Киреев издалек донесся, и я б хотела ответить, да не могла, занята была, а после вдруг что-то грохнуло.
Треснуло.
И обсыпало меня землею с головы до пят.
А после и отпустило. Так отпустило, что, когда б не Лойко, рухнула б наземь. Ноги ослабли. Руки. И вся я кругом ослабла, будто бы во внутрях не кости с мышцами, которые Архип Полуэктович цельный год мучил, но тесто переходившее.
— Присядь. — Лойко свой кафтан скинул, на землю бросил. — Надо же… вот почему, выходит, это место… такое…
— Какое?
В роте пересохло. И язык натруженный едва ворочался. А горло и вовсе драло, будто кошки в нем шкребались. Я языком по губам провела, будто вспухли они…
— А ты поглянь! — Кирей сунул в руки флягу. — Сильна ты, Зослава… может, все-таки бросишь моего родича? Поедем со мной…
— Куда?
— А куда-нибудь.
Во фляге у него не водица, но настой травяной да на перваче. От не ведаю, то ли травы хорошие, то ли первач, но закашлялась я, а по кишкам тепло полетело. И оттого сразу легчей стало дыхаться.
— Так думалось мне, что есть у тебя кого звать…
— Есть. — Кирей флягу забрал, крышечкой закрутил и в карман тайный убрал. — Но хороших женщин мало не бывает. Это первое. А второе, я ж азарин… а у нас многоженство…
— Открутит тебе Велимира роги за такое… женство, — хмыкнула я и на поляну поглядела. Мамочки мои родные!
От прав был Архип Полуэктович, говаривая, что неможно с магией баловаться. Хотя ж мы не баловались, мы по сурьезному делу туточки… а все одно… была поляна и осталась, только отныне не видать ни мхов зеленых, ни иглицы за костями и прочим земляным скарбом.
Тут тебе и золото, и серебро.
И броня древняя… и меч предивный, будто из стекла сотворенный… и огроменный череп, в котором оный меч увяз… я читала про драконов… и в Акадэмии была голова драконья, но та, которая была… она, конечно, большою мне мнилась.
Прежде.
А что, та голова с добрую телушку величиною. И тварюка, с которой оную голову сняли, по документам ежель, с небольшую избу величиною была. Но нонешней, мною из земли вытащенной, она на ползуба, поелику зубы… каждый зуб с меня, а то и поболе.
— Это же… — Я не усидела, хоть и ноги едва-едва держали, но этакое диво!
И первач.
И Лойково плечо, которым он меня подпер.
— Истинный дракон. — Кирей под вторую рученьку подхватил. — А я думал, что это легенда просто… красивая сказка для дурачков.
Что ж, коль так, то я согласная и дурою побыть.
Сказка…
Сколько он в земле пролежал? Не одну сотню лет… огроменная зверюга… с избу? Да думаю, с терем царский, ежель не побольше. И вытянуть я сумела лишь голову, верней, череп. Длинный и белый, с мечом от этим, который в ем гляделся как заноза в волчьей лапе… неужто от этого меча дракон помер?
И кто ж таким безумцем был, который осмелился на змея да…
Мы обходили череп, дивясь удивительной гладкости костей, которые будто и не кость, а кованы из белого золота. А пасть-то… зубаста… и зубы сами, что клинки, правда, в рост человечий… на лбу мелкая чешуя уцелела… иль прикипела… золотая… и каждая чешуйка что поднос, да с росписью… Красота.
Сказка.
Легенда.
Милослава, когда еще жива была, помнится, рассказывала, будто нынешние драконы на самом деле лишь тень от тех, прошлых, некогда наш мир населявших. Будто бы те, сотворенные Божинею первыми, были сильны и прекрасны. Оттого и возгордились, решивши, что стоят они над прочими созданиями, что неподвластны больше воле Матери своей.
И пошли по миру, понесли на крылах своих пламя да гнев, стирая людские города до основания, ибо в людях видели лишь дурное, мнили, будто без них, сиречь нас, мир прекрасен станет. Тогда-то Божиня и сотворила драконоборцев, наделивши их силой немалой да способностью выносить самое жаркое пламя.
Если что от драконоборца осталось, то земля сего не сохранила.
Или не отдала?
Не ведаю. Мы обошли череп дважды, подивились тому, до чего тонкий хребет уходил в землю змеиным хвостом, а левей его выглядывала лапа когтистая. И когти оные — косы огроменные… такими небось дома разорять самое милое дело. Махнет дракон — и рассыплется кровля.
Жуть.
— Земля впитала его кровь и силу. — Лойко осмелился коснуться костей, провел ладонью по белому зубу. — И магию. Она до сих пор хранит ее… и поэтому у мамы вышло…
Он отвернулся от костей.
— Вот… я и не помню, каким был… странно так глядеть на себя.
Дитя горькое.
И нетленное… будто только-только отлетела душа, будто и не лежало тело в земле годами, будто… я глядела на мальчика, который лежал, свернувшись калачиком. Бледненький. Беленький.
Мертвый.
Давно уж мертвый, а все одно горько. И горечь этая в горле комом стоит.
За что его?
За что других? Всех, кто помер… я многих и не знала… а Кирей молчит. Глядит и молчит. И лицо такое… посеревшее, острое. Глаза темны… а я, опустившись на колени, провела ладонью по мягоньким волосам. Все мнилось, сейчас от очнется, откроет глаза, глянет и рассмеется легким детским смехом: мол, поверила, глупая Зослава, что я и вправду помер? А я живой…
— Пора. — Лойко сел рядом. И руку протянул: — Исполнишь свое обещание?
Я кивнула.
И ради него.
И ради от этого дитяти, которому давно бы покой сыскать. Глядишь, наконец исполнится предначертанное, и отлетит душенька Лойко, жизнью посмертной истомленная, в Божинины чертоги. А там… будут ли его судить?
Не ведаю.
Коль жива останусь, то помолюсь, потому как… просто помолюсь… пусть будет милосердна к нему Божиня, да и ко всем нам.
Я руку протянула.
И с рукой переплела. Глянула на Кирея, который вздохнул.
— Может, встанете, а то как-то оно…
Лойко поднялся и мне помог.
А солнце-то выползло, расцветило небосвод что ружовым, что золотым… красота… и от этое красоты душа обмирала. Я ж глядела и думала… об чем думала? Обо всем и сразу.
О драконе, который во времена незапамятные с драконоборцем повстречался на погибель свою.
О лесе, что принял смерть, и кровь, и магию предтечного зверя.
О людях, в лесу поселившихся.
О прошлом и о нынешнем.
Голос Киреев читал молитву, да только слова ее ускользали…
— Согласна ли ты, Зослава, внучка Берендеева, доброю волей и по своему почину взять того, кого именуют Лойко, сыном… — тут Кирей запнулся.
— Игоря Жученя, — скупо молвил Лойко. — Другого отца мне не надобно.
— Игоря Жученя в мужья…
— Согласна.
— Согласен ли ты…
— Согласен.
Слова — это не всегда слова, особливо когда говорятся они в таком месте и пред зверем, в коем, не глядючи на годы минувшие, мерещится мне искра жизни.
Он смеется над нашими детскими хитростями.
Он…
Клинок вспорол кожу на ладони, и я поморщилась: больно. От случалось мне и пальцы резать, и масло как-то горячее прям на руку вывернула, а все одно та боль иного свойства была. Ныне будто потянули из меня силу.
— Нет, Зослава. — Лойко своей рукой мою сдавил, и кровь смешалась с кровью. — Теперь ты должна.
— Я…
Я ведаю, что мне сделать надобно, только не могу.
От не могу, и все!
— Надо, Зослава. Пожалуйста… я… доброю волей отдаю тебе… силу… — Голос его был тягуч, что старый мед. А сила горька. И я захлебывалась этою горечью, но брала и брала… брала, и… и силы у него было столько, что я поняла: еще немного, и сотрет она меня.
— Выпускай, Зослава! — крикнул кто-то.
Кирей?
Кирей… выпускать… не уйти… не потерять контроль… сила темна, что вода в омуте… и душит, и давит, чужая, клятая…
— Зослава!
Я и имя свое почти что утратила… ничего, справлюсь… я сильная, сдюжу… сдюжу… и силу эту, которая из многих жизней сплетенная, одолею… и чую, что горечь невыносимою становится. Как быть?
Отдать.
Кому?
Я обвела поляну полуслепым взглядом.
Тело… человеческое и слабое… нет, не годится… надо иное… иное надо… колокола гудели в голове, что набат. Сила, сила… прибывала… сколько ж ее в нем? Бездонный, что озеро… а я дура, если согласилась, дура… и все ж она сама выход нашла, потекла тонким ручьем, поплыла да в пятно слепое, которое аккурат посеред поляны виднелось.
Сначала каплей.
Ручейком. Ручьями. Рекой полноводною. Морем-окияном… и я в этом море-окияне была щепкой… и когда сила схлынула, я осталась.
— Ты как? — Лойко никуда не делся, он стоял, держал меня за плечи. — Присядь. И дыши, Зослава, главное, когда живой, не забывать дышать. Через нос. Давай на раз-два-три…
Дышу.
От и вправду забыла почти, как это деется, и с того в грудях будто костер развели. А дышать-то… надо дышать… как? Обыкновенно, как люди живые сие делают. А я живая. Замерзла вот только, будто не лето на дворе, а самая лютая зима… пальцев не чую, да и вообще себя не чую. Но дышу.
На раз и два.
И на три дышу.
И сажуся рядом с Лойко. Коль он тут, муж мой ныне законный пред ликом Божининым, то выходит, что не получилось у нас? Или…
— Да уж, Зослава, — Кирей свою флягу сунул, — с тобой не угадаешь… ты свои-то силы зачем выплеснула?
Ага, а у меня было когда разбираться, где этие силы мои, а где, стало быть, заемные?
— Ничего, восстановишься.
Пью от его настой на перваче, а будто воду глытаю.
— Хватит. А то сопьешься еще. — Кирей флягу отобрал. — Посиди. Отойди… и…
— А… — Я только рот раззявила, чтоб спросить, чего ж у нас вышло-то? Да из горла сип вырвался.
— Ну… поженить вас получилось. Силу свою он тебе добровольно отдал, по праву древнему, как той, с которой кровью связан. — Кирей понял меня верно. — Так что должно получиться… теперь осталась мелочь. Лойко, ты тут лучше посиди, а то все ж…
Лойко кивнул.
А вот он не переменился.
Почти.
Побелел.
И будто прозрачен сделался. Руки от холодные…
— Скоро, — он улыбнулся, — я уйду. Будешь скучать?
— Буду, — вздохнула я.
А что ему было сказать? Что он чудище клятое, многих погубившее? Так не своею волею… и да, так и не поверила я… до конца не поверила… а он сидит от, гладит косу мою одною рукой. Другой — травинки перебирает… на Кирея не смотрит.
Тот же, до центру поляны добравшись, встал. Руки развел, будто небо обнять желаючи, да и вспыхнул. Пламя рыжее на ладонях появилось, растеклось по рукам, венцом предивным на голову село, а после, комом слепленное, полетело на поляну. И полыхнули что кости древние, что черепки… занялась трава, запахло паленым, мерзко так, будто кто тряпье древнее жег.
А тело от Лойково не спешило заниматься.
Огонь окутал его.
И отпустил.
Отступился, откатившись едва ль не до краю поляны, а после рудой волной хлынул, накрыл. И я отвернулась. Не могу глядеть на этакое.
— Мне не больно. — Лойко стиснул пальцы. — Я давно потерял способность испытывать боль. И поверь, это благо… а скоро меня не станет. И я жалею лишь о том, что не помню своего имени.
— Зимовит. — Кирей стоял посеред гудящего огня, и тот не смел Кирею вреда чинить.
Облизывал.
И откатывался.
— Что? — Лойко нахмурился.
— Зимовит… твой отец, который… который все ж отец… его последняя воля, которую он отдал на хранение одному своему доверенному человеку. Правда, оказалось, что тот вовсе доверия не стоит и скоро принес грамоту матушке… так вот, в этой грамоте он называет своим законным наследником, единственным, прошу заметить, наследником, царевича Зимовита, рожденного опять же единственной законной женой.
Пламя светлело.
И запах… запах переменился. Больше не воняло ни волосом жженым, ни тряпьем, но будто бы свежестью потянуло, которая после грозы приключается. А еще пахнуло жаром, и я попятилась. Нет, я верю, что Кирей со своим огнем управится, а все ж… неспокойно.
— Значит, поэтому…
Кирей пожал плечами:
— Она не сказала. Она лишь обмолвилась, что защищает своего ребенка… и что меняться ей слишком поздно. А насколько это правда…
Пламя из белого синим становилось.
Кирей нахмурился.
— Хватит, — сказал он, да только пламя лишь выше поднялось. Закрутилось столбом, вырос он, что ель предивная с синими колючками. И вершиною эта ель в самые небесы уперлась. Солнце и то побелело разом, опаленное. А уж у меня и волосы закручиваться стали, верным признаком, что вот-вот полыхнут.
Я поднялась.
И Лойко подняла.
Может, он и покойник, но…
— Твою ж… — Кирей попятился. И ему, выходит, не по нраву было этакое самоуправство. Столп же огненный стоял, только вокруг себя крутился диким вихрем, и все скорей, скорей. Того и гляди раскрутится и, с привязи соскочивши, полетит-понесется по лесу, изничтожая что живое, что мертвое.
Это что ж мы натворили-то?
Наставник за такое точно по голове не погладит… как бы вовсе оную голову не оторвал иным в назидание.
— Отступаем, — тихо произнес Кирей, со столпа, им же сотворенного, взгляду не спускаючи. И был сей взгляд преисполнен, как пишуть, всяческих подозрений. Но стоило Кирею шажок сделать, как столп покачнулся к нему.
— Вы отступайте. — Кирей замер. — Вас отпустить должен… а я как-нибудь…
От и надо было б бросить этого… обалдуя, который не токмо Зимовиту-царевичу, но и всем нам погребальный костер устроил, да совесть не позволяла.
— Зослава… — Кирей бросил на меня гневный взгляд. — Мне огонь не повредит… я не способен сгореть.
Ага, только от говорил он сие как-то не особо уверенно. От и я не поверила.
Не сгорит он.
Вона, уже кафтан тлеет, и мнится, сие только начало.
— Ты все равно ничем не поможешь.
Не помогу, так хоть попытаюсь… подумаю… а не думается никак… и…
Лойко ступил на поляну, и, о диво, огонь отшатнулся… и столп огненный загудел гневно… а после крутанулся хитро да и ввинтился в землю. Ну, сперва-то мы решили, что в землю… тихо стало… на поляне ни костей, ни даже золота — пепел один остался, беленький, легонький. Дунешь — подымется летним страшным снегом. Никто и дышать не смел, чтоб его не потревожить.
— Ну… — Кирей первым решился заговорить. — Все, кажется… я так думаю…
Ага.
Думает он.
Я хотела чегой-то ответить, да язык к роту прикипел. Кивнула только и пот со лбу смахнула. Матерь моя… с этою учебой и померти недолго. То тебе мертвяки ходют, то травят, а тут вообще едва не спалили. И за что, спрашивается? Только-только мыслю додумала, уже и всплакнуть почти порешила, на радостях, стало быть, что закончилось усе, как поднялся пепел.
И землица задрожала так меленько, что шкура собачья, по которое блохи топочутся. И сама я себя этакой от блохою ощутила, которую того и гляди сдует.
— Да твою ж… — Кирей закашлялся, ибо пеплом роту залепило. А от не надо разевать, когда творится непонятное. Я только и сумела, что щита выставить, хотя ж, видит Божиня, не разумела, от кого энтого щита ставлю и надобен ли он вовсе.
А земля тряслась.
И елки ходуном ходили, кренились, мало не падали… нет, одна от, которая с краешку самого росла, завалилась-таки на бок, с хрустом и грохотом. После-то я разобралась, что не елка громыхала, а нечто огроменное, страшное в земле ворочалось.
— Зослава… — Киреев голос звучал тихо, и от этого уже не по себе стало. — Ты… ты куда энергию направила-то?
Я ее направила?
Да она сама направилась… и вообще я не виноватая.
Ответить не успела, потому как огроменная драконья голова вдруг пасть раскрыла.
И лязгнули зубы-кинжалы.
А в пустых глазницах завихрилось рыжее пламя.
— Мамочки… — ойкнула я, в щит последние силы выплескивая.
— Мамочки, — как-то сипло произнес Кирей и ближе к нам подвинулся.
А Лойко, тот ничего не сказал. Только глядел во все глаза на тварюку, что из земляной норы выкорыстовывалась.
Дракон был…
Был дракон.
Некогда. Ныне-то косточки одни остались. А косточки мы сии на втором курсе учить будьма, стало быть, про то, как какая именуется, чтобы правильно. Ныне ж мы и без поименования глядели… от дернулась лапа, стиснула, впилась когтями в землю и порушила этую землю спеченную, что масло.
Потянулась шея.
Захрустела.
И поползла, что цепь белая, костяная… Голова поднялась, покачнулась… и к нам повернулась.
Сожреть.
От точно сожреть. Вместе со щитом, который, мнится, этакой тварюке на один зубок… дракон осклабился и пасть раззявил. Грозный рык его оглушил, а с елей бедных и вовсе иглица облетела. Порскнули редкие вороны, спеша убраться от грозной твари. Меж тем тварь оная все лезла и лезла… вытягвала хребтину. От и ребра белые показались, плоские да широкие… лапы передние… остатки крылов… дракон расправил и отряхнул, а по щиту моему застучали комочки земли.
— Кирей… что это деется?
— Он забрал мою силу. — Лойко разглядывал дракона спокойно, будто бы видывал этакое диво прежде, да не раз. — Это логично… когда-то его кровь разлилась по поляне. А в крови — и магия древнего мира, которая отозвалась на заклятие. И отчасти благодаря ей я ожил. Не будь дракона, вряд ли бы у матушки что получилось… ко всему, это объясняет, куда уходили силы. Каждое жертвоприношение мы делили…
Меж тем тварюка уже выбралась целиком.
Терем царский? В терем меня не звали, но мыслею, что она и поболей терема будет, небось крылом этаким половину столицы накрыть можно.
— Поэтому и получал я крупицы силы… а теперь, когда Зослава ее выпустила, вся сила ушла дракону. А потом ты и огня добавил предвечного…
— …В котором драконы были рождены, — пробормотал Кирей.
— Вот он и ожил…
И оба замолчали, не знаючи, чего дальше-то делать.
А тварюка крутанулась и, вытащивши из земли хвост, длиннючий, костяной, к нам повернулась. Ох, мнится мне, только упрямствие мое, бабкой клятое не единожды, не дозволило мне сомлеть. Я глядела в алые драконьи очи и… и видела пламя.
Первозданное.
Яркое.
Рожденное дивною горою, которая стояла где-то на краю мира, и в ней всегда кипела земная плоть. А уж в ней-то, в жару, для иного живого существа невыносимом, грелись каменные драконьи яйца. В них еще теплились искры жизни, но пламени было мало.
Магия иссякала.
Дракон знал: виноваты люди. Они пришли в мир последними, балованными детьми, которым дозволяется куда больше, чем прочим. Они заполонили этот мир, множась с воистину огромной скоростью, и еще робкие вчера, полные почтения и восхищения пред теми, кому было дано явиться на свет раньше, люди осмелели.
Построили деревеньки.
А затем и каменные города, в которых было тесно и грязно. И, закрывшись от мира, этот мир взялись изничтожать. Первыми ушли сиддху, обитавшие в холмах. Эти воевать не любили, но просто одного дня открыли тропу, благо хватало еще сил, ибо звучала в воздухе и в земле песня великой Матери.
Люди называли эхо ее магией.
И, отбросив всякое почтение, брали силу. Тянули. Сперва чтобы защитить себя, и это было понятно.
Согреть.
Добыть еду… но мало, всегда им было мало… и вот уж те, кого коснулось благословение Матери, нарекли себя магами и, в гордыне своей забыв, что нельзя брать, не отдавая взамен, кинулись искать источники.
И вычерпывать до дна, переполняясь божественной силой. Но хуже того, они извращали саму суть Божественной песни и, меняя мир, изменяли и магию, делая ее непригодной для прочих.
Первым погас источник на Соленом море. Мертвое, оно дышало особой силой, которой хватало, чтобы гнездовье на горах, окружавших море, дало жизнь сотням и сотням драконов.
Но пришли люди.
И выстроили свой город на просоленном белом берегу. И в городе этом завелись маги, которые загнали магию в железные трубы, пустили по каменным жилам города. Она очищала соленую воду, делая ее пригодной для питья, и наполняла дома светом.
Она защищала город от злых ветров.
И песчаных бурь.
Она продлевала жизнь людям и избавляла их, таких слабых, никчемных, от болезней. И если сперва люди брали немного, то, осмелевши, они захватили весь источник. И когда пришли драконы, обратили силу источника против них.
Так началась война.
Так погибло крупнейшее гнездовье, но и город не уцелел… так остальные драконы узнали, что мир вот-вот необратимо изменится. И попытались остановить перемены.
Я видела пламя.
Всепожирающее, синее, способное расплавить камень. Я видела, как оплывают городские стены и люди становятся пеплом, как течет земля, а воздух загорается сам собой… и видела, как небеса темнеют от драконьих крыл… и как падают драконы, подбитые зачарованными стрелами, как летят они в огромные смоляные ямы, где и задыхаются, и сгорают в своем же огне.
Видела, как карабкаются на вершины гор люди-муравьи, несут на спинах своих сосуды с ядом… и как гибнут, отравляя все вокруг. Бледный этот яд смертелен и для драконов.
Тускнеет чешуя молодых самок.
И самцы теряют способность подниматься в небо. Скорлупа яиц становится тонкой, а из тех, что уже вызрели, на свет появляются уродцы.
И крик драконий сотрясает небеса.
Мать великая, что же не остановишь ты детей своих?
И вновь пылают города… и выступают из них люди, измененные силой источника, они сами суть магия. И всякое оружие в руках их, таких крохотных, но способных выдержать ярость пламени, становится смертью.
Он был последним из славного некогда рода. Он видел зарю мира. И помнил еще дни, когда небеса пылали, а море было едино и спиной гигантской черепахи вставала из него суша.
Помнил белые пустыни.
И горы гребнями спин драконов-предтечи.
Первый полет и страх, что не выдержат небеса. И пьянящую радость, подаренную крылами.
Зов.
И танец на алом закате. Песнь той, что была ослепительно прекрасна… погоню и ее клыки, вспоровшие чешую, чтобы оставить метку. Она, Бронзовокрылая, была ревнива, словно истинное пламя.
Гнездо на уступе.
Первое яйцо.
Каменномордых виттр, которые повадились таскать яйца… и бой… и победу… и первого малыша, такого смешного, крохотного, словно ящерка. Бронзовокрылая носила его в пасти и грела жаром своим.
Они поставили на крыло троих.
Еще пять яиц оказались пустыми, а последнее… последнее стоило ей жизни. Верней, она сама отдала ее легко, как отдавала камням постаревшую шкуру. Но и ее живого огня оказалось недостаточно, а он, едва не ступивший за грань от горя, поклялся, что не допустит, чтобы эта жертва оказалась пустой.
Он нашел вулкан.
И почти живой источник в глубинах его. Он позвал к нему всех, кто еще остался… немногие… люди оказались страшнее виттр и северных ветров… он привел свой народ, обездоленный, почти лишенный надежды. И спрятал то драгоценное, что еще оставалось у драконов, в магме.
И спустился, чтобы поделиться с ослабевшим источником силой, но…
…встретил того человека.
Дракон не собирался трогать его, измененного силой, слишком слаб был, слишком… думал об ином. Но человек не захотел отпускать добычу. И бой этот неравный закончился смертью обоих. Человек стал пеплом, а дракон, пораженный ядом, сделал единственное, что в его силах, — ушел.
Он летел, пока держали крылья.
Прочь от источника, который ныне отравил бы… куда… не важно, на край мира, за край… он надеялся, что рухнет в море, но море закончилось, но начался холод, и холод этот добил.
Он умер зимой.
И все одно, умирая, желал жить. И это желание позволило вернуться.
ГЛАВА 36 Где война воюется
Фрол Аксютович и вправду лютовал.
И небо почернело, что от крыл вороньих, что от заклятий. Затряслась земля, поползла многими трещинами, из которых перло нечто темное, жуткое.
— Архип, щиты!
— Я со щитами справлюсь. — Люциана Береславовна легонько встряхнула руками, пальцами пошевелила, и перстенечки на них засияли. — Вы тут… подчистите… а то как-то… неприятно смотреть на этакое. Арей, будь добр…
Арей кивнул.
Будет.
Добр.
А после, если живым останется… он верил, что останется, что не для того он прошел огонь с водой, чтобы вот так бездарно помереть в безымянной деревне. И пусть вновь сие гордыня его вернулась, потому как многие помирали и бездарно, и в безымянных деревнях, в лесах аль на лугах неприметных, да могилы их зарастали вьюнком и травой, но не он.
У него есть ради чего жить.
Книга?
Пусть ее Архип забирает, ему видней, что с нею делать. И решение это далось неожиданно легко, будто отпустили Арея.
Руки сами сплели первый из символов в ряду поддержки.
— Стань поближе, — поморщилась Люциана Береславовна и, на прочих оглянувшись, велела: — Стройте кольцо…
— Они в сцепке не работали.
— Вот и попробуют. Арей, ты за старшего… возьми троих, больше не потянешь. Девушку вот, у нее дар сильный…
Это она про Еськову женушку? Та руку подала, хотя и глядела настороженно, будто опасаючись, что вот сейчас Арей эту руку к себе приберет.
Нет уж, ему рука без надобности, да и девка эта тоже.
У него своя есть… пусть не жена, а лишь невеста, но есть.
Сыщется.
И Арей… он заставил себя избавиться от лишних мыслей. И Щучкино белое запястье — такое переломить легко — в левую руку взять, а в правую — Егорово, широкое, темное от загара. В глаза царевич смотреть избегает, знать, чувствует за собой вину.
И Арей чувствует.
Если бы он не…
Нет, о сцепке думать надобно. О Еське, который третьим становится, замыкая меж собой руки братовы и супруги. Усмехается. И говорит:
— Давай, что ли… рули…
Чужая сила клокочет. Неподъемная. Упрямая. Егорова — алым клубится, гневом его окрашена, тронута тленом смерти чужой, а вот у девчонки чистая, что вода ключевая, и тянется к Арею, и главное — не вытянуть лишнего, не выжечь ее, такую бестолково-храбрую, дотла.
У нее, судя по лицу, тоже шанс в жизни один.
Нельзя отбирать.
Еськина сила, что ласка в древесных корнях, мелькает, играет, то тут золотом шкурки блеснет, то там, и Егорова от этой близости волнуется…
Сосредоточиться.
Не смотреть на других.
На Люциану, которая закончила что-то чертить. От никогда Арей не любил ее науки, а гляди ж ты, помогло, силы, такие разные, что щука с лебедем в один возок запряженные, вдруг успокоились.
И потекли к Арею тонкими ручейками.
А он, сплетая эти ручейки в косу, направлял ее к Люциане.
Купол держался.
И Люциана, предивная пряха, неожиданно странная и страшная даже — в светлых одеждах, с руками тонкими, с пальцами, коими невидимые нити перебирала живо, — вплетала в него все новые и новые нити.
Земля гудит.
Хохочет нежить.
И занимается алым пламенем огроменный ожгень, чтобы, и загоревшийся, ползти вперед.
Расползаются маслянистые лужицы их крови… и в горле першит от дыма, которому щит не помеха. Волки жмутся к Елисею, а тот, присев — в человеческом обличье, нагой и тоже страшный, — говорит с землей, упрашивая помочь. И та отзывается, раскрывается жаркими ртами, проглатывая мелких тварей.
Весело.
И душно.
И ярость слепая, которая копилась годами, наконец-то находит выход. Арей-то, наивный, полагал, что справился с этой яростью еще там, в подвале, когда учился с огнем ладить, а она просто затаилась, чтобы теперь с пламенем выходить из жил.
Падает, сгорая на лету, крикуша, безобидная по сути своей тварь. Голос у нее гнусен, да и привычку имеет беды к дому приманивать, но напрямую человеку вреда не чинит, разве что слабому да старому. А тут их стая налетела, и бьют крылами, взбивают темное небо, луны не видать. И, натыкаясь на радугу купола, горят. А пламя, получив свободу, перескакивает с крыла на крыло.
Дышать.
Не забывать о контроле.
Соизмерять силы. Самое сложное. Ему бы в битву, к Фролу Аксютовичу, который застыл с безумною усмешкой, только и шевелятся, что пальцы, один за другим знак выплетая. И с каждого идет волна лютая, чтобы с волной иной встретиться да одна другую проглотить.
Или вот Архип Полуэктович.
Сосредоточен.
И сила его — сила древних гор, нетороплива, но неодолима…
А надо держать кольцо. И стало быть, не случайно поставили его в сцепку ведущим. Арей понимает. Он не в обиде. Он держит. И выравнивает потоки силы. Очищает Егорову дурную, сквозь себя пропуская. Стабилизирует Еськину, которой не по нраву этаки вольности… с девчонкой вот, даром что и учиться не начала, проблем меньше всего.
Спокойна.
И стоит, улыбается деревянною улыбкой, будто бы ничего-то страшного и не случилось.
А все же чем дальше, тем сложней. Главное — не допустить неконтролируемого резонанса. Арей не допустит. Присмирит одну, подтянет другую… щит получит свою подпитку, а он… он теперь понимает, как это невыносимо сложно — просто стоять.
— Ох ты… — Этот окрик почти заставляет отвлечься. Арей поворачивается, чтобы увидеть…
И перед глазами возникает то, позабытое уже, поле. Снег, взрытый копытами и ногами… люди, лежащие на земле… кровь… и тварь подгорная.
Нынешняя походила на ту, прежнюю, только сутью. И Арей, сам не желая, задрожал, он отступил бы, поддавшись мгновенью страха, если бы не нити, которые опасно истончились.
Нельзя выпускать.
И страх… только страх. Арей справится. Он не хочет умирать снова, он помнит, как это было. И боль всепоглощающую. И отчаянное желание жить.
В этой твари не было ничего медвежьего.
Она была огромная, куда больше той, зимней. И ступала медленно. Бухали тяжелые копыта, давили что землю, что мелких суетливых тварей, которые не успели убраться с пути ее. И нежить замирала, как почудилось — в ужасе, ибо то, что ступало по улице деревенской, было чуждо и их природе.
Тварь повела рогастой башкой.
И щелкнула хвостом, разбивая в щепу древний забор. Она остановилась и заревела.
— От же ж, — задумчиво произнес Архип Полуэктович. — Все неймется… а я тебе говорил, Фролушка, поедем со мною. В горах тихо, благостно… и нежить там старая, известная… эх… тебя все на подвиги тянуло…
Существо приближалось, позволяя разглядеть и крутые бока, покрытые мелкой темной чешуей. Между чешуйками то там, то тут шипы торчали кривоватые, на концах которых блестели капли.
Яд?
Ясно, что не амброзия…
Хребет крутой. Хвост скорпионий, гибкий, что плеть. Копыта тяжелые, каждое — с колесо тележное. И ступает тварь, давит других, поменьше, только чавкает под этими копытами премерзко. А на спине горбатой старуха сидит да клюкой машет. Марьяна Ивановна на себя вовсе не похожая стала. Оно-то правда, что после смерти люди меняются, но от чтобы так… радикально.
— Арей, не отвлекайтесь, — одернула его Люциана Береславовна. — Ваша задача следить за контуром. Сможете еще двоих принять?
Сможет.
Куда он денется.
— Евстигней, хватит каяться… и вы, Елисей, будьте добры…
— А…
— А вы, Емельян, на подмене. Если увидите, что кто-то бледнеет или, упаси Божиня, чувств лишается, то ваша задача заменить его. Контур выдержит секунду-другую, но не больше. И если распадется, откат получите все, поэтому не зевайте.
Говорила она спокойно, будто на лекции, а не… и правильно, и без того жути хватает, чтоб ее еще нагнетать. А потому пусть все верят, что нынешние обстоятельства… практика.
Хороша, чтоб ее… практика.
Елисеева сила дикая и темная, колючая, будто из терновых ветвей плетенная. Так и норовит позанозить. А вот Евстигнеева летит огнем, окружает плетение, и прочие к ней тянутся. С пятерьмя управляться тяжело.
Не отвлекаться.
Уравнять.
Подтянуть девчонку. Ее сила пока ясная, но каким-то внутренним чутьем Арей понял: слабеет. Если кого менять придется, то ее… и Егор держится… как долго продержится? Вопрос. Их бы вывести и двоих вместо, но раз сказала, что пятеро нужны, так тому и быть. Не Арею с ней спорить.
Он не спорит.
Он стоит.
И тянет силу. Плетет. И отдает плетение тем, кто точно знает, что с ним делать.
— Что ж вы гостей-то встречаете так? — Марьяна Ивановна с легкостью отмахнулась от ледяного шквала, а вот мавок мелких посекло. Ну да их тут со всей округи собралось. И подумалось как-то так, что после нынешней битвы станет округа безопасною, потому как нечисти в деревеньке полегло столько, что не скоро она возродится, заполонит местные леса.
И хорошо.
Арей словно бы раздвоился. Часть его, сосредоточенна и серьезна, держала плетение, не позволяя силам, таким удивительно разным, развалить его, сожрав друг друга. А другая смотрела.
И была весела.
Хмельна?
Похоже на то. Сила пьянит. Он это знает, но способен с этой хмельною радостью управиться.
Вот Фрол Аксютович, хмыкнувши, поднял руку, раскрыл ладонь да и дунул… пронесся по улочке вихрь, покрутил нежить, подрал, кого смел, кого растерзал. И только тварь подгорная осталась, что гора, на пути этого вихря. Головой качнула, будто кланяясь.
И выпустила из ноздрей облачка пара.
— Не рады, стало быть. И говорить не желаете. — Марьяна Ивановна хлопнула себя по голой ляжке. — Дело ваше… силушкой? Пусть сила против силы…
И клюкой помеж рог тварь стукнула.
— Погодь, Фрол. — Архип Полуэктович рубаху через голову стянул. И портки снял, заставив Люциану Береславовну отвернуться. — Это уже тебе не по силам…
— Думаешь, ты управишься, сын ящерицы?
— А вот это ты зря. — Он плечами повел, позволяя крылам раскрыться. — Матушка моя человеком была… настоящим человеком… а вот отец, это да… ящер…
На что это походило? На облако, которое меняется и, меняясь, лепит из одное фигуры другую. Вот был человек, а вот…
…виверний — это и есть ящерка.
Только огроменная. Крылья распластались по всему двору. Тело узкой бурой чешуей покрыто. Лапы расставлены. Когти тонкие в землю вошли глубоко. Хвост с жалом по порожку постукивает, и от каждого стука дом, чудом еще не развалившийся, трещит да хрустит. Шея у виверния тонкая, гнуткая. На ней голова зубастая сидит. И хотя ж морда у виверния вовсе даже не человеческая, и близко не человеческая, а мнится в ней знакомое.
Глаза желтые глядят с насмешечкой.
Ухмыльнулась тварь.
Того и гляди, заговорит человеческим голосом.
Ан нет, промолчала… выползла сквозь ворота. И поди ж ты, протиснуться сумела, хоть и казалась калиточка такой, что Архип Полуэктович и в обычном своем человеческом обличье с трудом проходил.
— Ходь, дорогой, ходь. — Марьяна Ивановна со спины подгорной твари ловко сползла, будто всю жизнь свою аккурат на таких от спинах и тварях ездила. — Давно любопытственно было, на что ж ты годен… а то ни вашим, ни нашим…
Архип Полуэктович отвечать не стал.
Не захотел? Иль змеиная глотка для разговоров не больно годится? Рот раскрыл и дыхнул. Только не пламя выкатилось из горла, но зеленый клубковатый дым, от которого нежить, какая еще уцелела, тленом стала…
А девчонка-то совсем ослабела, на одном упрямстве держится.
Арей отыскал взглядом Емельяна и указал на девчонку. Благо тот без слов понял. Подошел и руку ее из Ареевой вытащил.
Контур покачнулся.
И едва не рассыпался. Хлынула чистым потоком Евстигнеева сила, затягивая раны. Струной натянулась Егорова, того и гляди лопнет, ударивши по пальцам. Но ничего, удалось подхватить, удержать.
Выровнять.
Емельянова сила была ясной, как… как солнце.
И чистой.
И от нее заломило зубы…
Он, зачарованный этой силой, пропустил многое… он только и оглянулся, когда виверний, отброшенный ударом узловатого хвоста, смел ближайший дом. Но, перекатившись через обломки, вновь встал на четыре ноги. Он отряхнулся и засвистел, а после выдохнул еще клубок дыма, на сей раз темно-желтого, с прожилочками, от которого тварь подгорная попятилась.
Арей вдруг увидел все и сразу.
Фрола Аксютовича, который тяжко оперся на столб, и видно было, что битва эта многих сил ему стоила. Люциану Береславовну, бледную, белую, что саван смертный, но не смевшую с места соступить. И губы ее сжались нитью, а из носа выползла черная струйка.
Но пальцы по-прежнему ловко цепляли нити, вплетая их в ткань щита, не позволяя оному рассыпаться.
Егор покачнулся.
И Арей спешно вытолкнул его, смыкая разрыв. Успел. Не дал разорваться.
Виверний, взобравшись на крышу дома, хлопал крыльями, и от каждого удара поднималась куча пыли, застилая твари глаза.
Прозрачная волна силы, прокатившись по улице, ударила в щит, и тот загудел…
Вспыхнула дальняя изба синим пламенем.
Знакомым пламенем.
В какой-то момент стало тихо, и тишина эта ударила по нервам куда сильней криков.
Еська покачнулся. Еще немного, и он не выдержит. Арей посмотрел ему в глаза, но бывший вор упрямо башкой мотнул. Стало быть, до последнего стоять будет, до пепла на остатках дара, пускай тот и невелик.
Подвиг?
Дурь?
Или необходимость… никого ведь не пощадят.
Еще одна изба загорелась, на сей раз ближняя… и вторая…
Он шел по улице не таясь, позволив огню вести себя, и оттого казался сущим безумцем. А может, безумцем он был, иначе как объяснить.
— Эй, чудище-идолище! — крикнул Кирей, остановившись позади твари подгорной, которая от этой наглости, не иначе, онемела. И про виверния забыла.
— Выходи сражаться!
Тут уж и виверний онемел.
Только хвостом щелкнул, разбивая остатки печи.
Ох, был бы он человеком, сказал бы герою… и мыслится, не все слова были б Арею знакомы.
Кирей же, вспыхнув костром, пустил пламя под копыта, заставивши тварь попятиться. Да только одного огня было слишком мало, чтобы напугать того, кто страху вовсе не ведал.
Тварь повернулась и ударила хвостом…
Кирей отскочил. А виверний, соскользнув с поломанной печной трубы, хлопнул крыльями. Узкое тело его поднялось в воздух, чтобы слететь на хребет зверя. Когти пробили шкуру подгорной твари, а зубастая пасть виверния сомкнулась на могучем затылке.
Была бы тварь живою, этого бы хватило.
Арей поморщился, почудилось ему, будто бы слышит, как трещат кости… и как хрустят крылья виверния под ударами скорпионьего хвоста… как воняет шкура, опаленная пламенем…
Не слышал.
Еська, глаза закативши, заваливаться стал, но ему Арей не был способен помочь, он только и успел, что замкнуть прерванный круг.
Трое осталось.
Евстигней смотрит исподлобья, мрачен и спокоен.
— Я их пустил, — сказал он, хотя ж об этом никто его не спрашивал. — Я виноват. Но я не мог иначе…
— Потом покаешься. — Отвлекаться еще на беседу душеспасительную Арей не мог.
Пламя гудело.
Тварь кричала, норовя увернуться и от одного, и от другого врага. И кажется, готова была бы отступить, да кто ж ей позволит. Вот крылья виверния полоснули по бокам, оставляя на них глубокие рваные раны, которые сочились дымом. Вот пламя обвило могучие ноги, дивным венцом легло на рога… ослепило глаза…
— Думаете, управились? — Марьяна Ивановна смела огонь, который посмел приблизиться к ней, тронуть грязное драное платье. — И на огонь сила есть… эй, Хозяин, поглянь, какие к тебе гости пожаловали… и дань платить не желают.
И клюкой оземь ударила.
Правда, девицей-раскрасавицей не обернулась, и вовсе никем не обернулась, так и осталась умертвием, но на зов ее откликнулись болота.
Арей услыхал, как загудели глубоко под землей ключи, набирая силу. И как вся ленивая, сонная громадина трясин да мхов встрепенулась.
Разлепила очи сонная топь.
Потянулась.
Пошла трещинами озер и озерец. И с нею очнулся от вековечного сна тот, кого именовали Хозяином вод.
— Задница, — мрачно произнес Еська.
И Арей мысленно согласился с ним. Как есть задница…
ГЛАВА 37 О воде да пламени
Дракон стоял, разглядывая нас огненными очами, а я не могла отделаться от мысли, что от сейчас меня сожрут. Или испепелят. Но нет, качнулась огромная морда, вздохнула, обдавши жаром, и отступила, отползла, взмахнула куцыми костистыми крылами. А ветер-то поднялся всамделишный, от этого ветру и я пригнулась, Лойко наклонился, Кирей же вовсе присел.
— Вот тебе, бабка… и пироги со смаком, — пробормотал он, глядя, как зверюга этая в небо взвилась. — Ничего не скажешь, провели обряд…
Дракон сделал круг по-над лесом, и в небесах он уже не гляделся костями, но будто бы успели обрасти они призрачною плотью. А я вспомнила, что та же Милослава сказывала, что истинные драконы были самою сутью магии.
И выходит, вправду ожил?
— Ну… — Кирей дракону вслед рученькой помахал, был бы платочек, и им бы сподобился. А ныне просто смахнул слезу с глаза, видать, ветром чегось надуло, и молвил: — Мне пора.
— Куда?
Отпускать Кирея я не желала, как и оставаться одна со своим мужем, который, супротив обещанного, помирать не спешил, но был живее всех живых.
— К героической гибели, если память мне не изменяет…
И подмигнул.
А Лойко меня за локоток попридержал, мол, героическая гибель — дело такое, не след ей мешать.
Кирей отступил.
И еще на шаг.
И сгинул, оставивши нас вдвоем на поляне.
— И что теперь? — Я глядела на того, кто ныне был моим мужем. Вот ведь… а бабка обрадуется… и вправду царевич всамделишний, хотя ж и не живой, но и на мертвяка не больно похожий.
Красивый.
Молодой.
Радуйся, Зослава, да только радости ни на грошик. Что я Арею скажу? Как вовсе в глаза гляну? Недаром девкам, которые двум обещались, вороты мазали… мне не только вороты, мне всю хату изгваздай — и правый будешь.
— Не печалься. — Лойко протянул руку. — Мне недолго осталось. Это еще эхо силы держится. А сгинет, то и я с ним…
Не то чтоб я ему гибели желала.
Точней, половина моя и желала, и радовалась, что вскорости, ежель не обманул, сгинет Лойко и стану я свободная. Кирей промолчит, да и мне об этое свадьбе говорить не обязательно. Язык бабу до беды довел, так и мне…
Другая половина стыдила.
Нехорошо ближнему гибели желать, пущай он и говорит, что мертв, да… может, сыщется средство какое? Ежели попросить того же Фрола Аксютовича? Иль Люциану Береславовну? Она многое ведает, и неужто среди книг ейных не найдется одной, махонькой…
— Не надо. — Лойко руку стиснул. — Я уже и так изрядно пожил сверх срока… заждались меня… ты, Зослава, просто если вдруг сподобишься в храм заглянуть, поставь свечку за меня.
Поставлю.
И помолюсь.
И… не время о том думать.
Он же, к чему-то прислушавшись, нахмурился вдруг:
— Нехорошо…
И я прислухалась.
Тишина.
Ни драконов, ни героев, ни даже воронья, героям отходную спеть завсегда готовое. Да что воронье, захудалого комара — и того не слыхать… взаправду тишь да глушь. А Лойко все сильней хмурится.
— Она позвала…
— Тебя?
— Нет. Того, кого звать нельзя было… идем, сейчас я свободен в своих поступках. И если уж недолго осталось, надо потратить это время с пользой.
Лойко — от не могу об нем как об царевиче Зимовите думать — меня оглядел с ног до головы и вздохнул тяжко:
— Тебе туда соваться не след, но и оставить не рискну. Держись меня. И… Зослава, пожалуйста, умоляю, не геройствуй.
Они шли длинною вереницей, мертвые девки в свадебных нарядах. На первых-то самых платья простые, даром что в красный цвет крашены да бусами расшиты, а чем дальше, тем богаче становилось убранство.
Не на убранство Егор смотрел.
На девок.
Сердце холодело… вот первая остановилась. Еще боса, простоволоса, а на волосах тех — веночек из цвету полевого.
Сколько лет минуло? А не тронула вода лица девичьего, отступило и время. Вот осталась кожа бела, бровь темна. Вот и застыло в глазах отчаяние… и губы скривились в подобии усмешки.
А за ней другие.
У иных в волосах уже не цветы — венчики серебряные… и золотые… и жемчугами отделаны. На запястьях кандалами браслеты золотые. На шеях — ожерельев грозди.
Красивы невесты.
И Хозяин вод за ними следом ступает. Каждый шаг его сотрясает землю. И кланяется малое воинство, уцелевшее в бою, скрежещет довольно: теперь-то пожалеют люди, что не померли быстрою смертью.
Егор уже жалел.
Он, завороженный, глядел на существо, которое походило на человека.
Огроменного человека.
Егор хоть и не мал, да ему едва до середины плеча достанет.
Высок Хозяин.
Страшен.
Лицо его, раздутое, что у утопленника, потемневшее, покрыто квадратной мягкой чешуей. Глаза за веками прозрачными что окна, рыбьими пузырями затянутые. Вместо носа — прорези. Рот безгуб. Зубы остры. Руки могучи.
Вот обхватил он полено да и раздавил в щепу.
Засвистели кикиморы.
Захихикали.
А подгорная тварь голову склонила, признавая чужую силу и власть.
Егор сглотнул.
От теперь им точно смертушка пришла… пришла, стала и ухмыляется зубастою пастью. А девки мертвые, за руки взявшись, хоровод завели… и запели… что запели?
Песню, само собой. Славную. Хорошую. Слушай, Егорушка, для тебя она… слушай и вспоминай…
О веснах скоротечных… были и не стало… о матушке разлюбимой, которая детей своих холила, лелеяла, как могла, берегла… о судьбе горькой… о том, как не стало матушки, как сгорел от горя батюшка… как родня злая сиротинушку прибрала…
Горько на сердце.
Душа криком кричит от этой песни. И диво, что не понимает Егор ни словечка, а все одно от горечи давится. И слезы из глаз текут.
— Не слушать! — Окрик Люцианы Береславовны рушит песню эту. — Не слушать, а то заморочат вконец… Егор…
Он и рад бы, но как их не слушать?
Ее вот, к ограде подошедшую.
Самую первую.
Облетели первоцветы на веночке, лег лепесток к бледной губе. И глаза ее — омуты, манят, и как устоять пред ними?
Никак.
Дышать и то с трудом выходит.
А они все поют… про людей злых, которые сирот беззащитных обижали… про то, как заставляли работать от зари и до зари… про голод и холод… про молодца красного, объявившегось одного дня.
Пойдем со мною, красавица…
— Егор! — Пощечина обожгла и отрезвила. — Егор, если ты не способен выдержать внушение…
Люциана Береславовна вцепилась в плечи. И пальцы ее что гвозди, того и гляди проткнут и кафтан, и рубаху, и кожу с мясом. И сама она страшна…
Человек?
Ложь.
Нет ни в ком из них человеческого. Егор огляделся и ошалел от того, что увидел… стоит тварь, волосом волчьим поросшая, страшна и клыкаста, за другую держится, которая вроде как из огня живого сплетена. Третья и вовсе столь отвратна, что мутит — будто с живого человека шкуру содрали да так и оставили… и все три твари на него пялятся.
Фрол Аксютович — гниет заживо и сам того не разумеет.
Женушка Еськина — угораздило ж его, бестолкового! — на кикимору похожа. Зыркаста и длиннорука. Пальцы растопырила, когти выпустила…
— Очнись!
Он бы и рад. Он знает, что все это ненастоящее, но… но песня зовет… ему дослушать надо. Во что бы то ни стало дослушать…
Сбежала.
И пусть не любила… готова была полюбить уже за то, что вызволил, вытянул… сынок хозяйский поглядывать стал криво да все ущипнуть норовил… хозяйка, это завидя, только ругается крепче… да и сам хозяин глаз не спускает. В пору девка вошла.
Кому пожаловаться?
Некому.
Только ему, чужаку. Он поклялся, что законною женой сделает… и если так, то лучше… а то ведь ославят, да и кому она, бесприданная, неприкаянная, нужна была?
Слезы Егоровы сладки.
И она бы попробовала. Ему ведь не жаль слез? Конечно, не жаль…
Дева-птица тряхнула… уродлива, как гарпия, про которых Егору рассказывали… про край мира… про земли сухие, где дождь идет один раз в три года… про людей черных…
Не слушать.
Он ведь не безвольная тряпка… он сумеет справиться.
Зачем, Егорушка? С нами пойдем. У нас хорошо… и зря она боялась… сперва-то жалась к спасителю, но и он обманул. Привел в село. Опоил… она помнит, как поднесли ей квасу горького и женщина со строгим лицом косы чесала, плела и выплетала… как платье надевали нарядное… вешали на шею жемчуга… пальцы кольцами унизывали… а она сидела, все понимая, но не способная воспротивиться.
Боялась, да.
Зелье страх не притупило. Оно вовсе ничего не притупило, это зелье.
Нет.
К чему противиться? Войди в хоровод… братом станешь… и ложь это все… не нужны Хозяину вод невесты… он един в двух телах, что мужском, что женском… это люди придумали… а он себе дочерей прибирает…
Страшно только поначалу.
Когда идешь да по мхам босиком. Когда мхи эти, придавленные, воду пускают и она, студеная, касается ступней. Обжигает холодом…
А потом со вздохом раскрывается топь.
И ты умираешь.
Умирать тоже страшно. Зелье отпускает… иные кричали, бились, но темная вода глотку заливала. А после, со смирением, приходил покой.
Внизу хорошо.
Стоят чертоги о ста десяти столпах. И каждый — резной. В них, в чертогах, горит черное солнце мертвых. И котлы кипят, туманы болотные рождая. В них, в чертогах, кикиморы да навки верные служат… и волосы чешут, и косы плетут…
Сундуки с жемчугами.
С бурштыном морским, который по рекам осетра несут.
С рогами зверей огромных, ноне которых не осталось. Со всяким скарбом — бери и владей… и там, в зале из мертвых костей сотворенном, стоит трон из черепов, а на нем сам Хозяин восседает грозный.
С чужаками он грозен, а тем, кто доброй волей под руку его пойдет, он станет отцом…
Ты же своего отца не знал, Егорушка… а Хозяин сына лишен был… переступи черту, отринь страхи и будешь вознагражден… сядешь по правую руку его… и силу получишь такую, о которой иные люди и мечтать не смеют.
Властвовать станешь над болотами.
Озерами.
Ключами да реками. Над водами всякими, которые из земли родятся.
— Н-нет! — Егор немалым усилием воли закрыл глаза.
Он человек.
И человеком останется. Хватит… он и без того довольно ошибался.
— Вы все одно умрете, — мягкий голос девы проникал в самую душу. — Все вы, тут стоящие… вы пришли незваными. И болото поглотит вас, да так, что не останется ни памяти, ни костей… так чего же ты, Егорушка, цепляешься за глупую честь?
За тех, кто тебе чужой?
Отринь.
Отступи.
Позволь помочь себе… и там, после смерти, будешь награжден.
— Нет, — второй раз отказать той, которая больше не казалась красивой, было легче. Теперь Егор видел и мертвенную бледность ее лица, и синюшные пятна. И слышал запах — застоявшейся воды, травы, которая в этой воде гнить начала…
Растянулись в усмешке губы болотной красавицы.
А слезы высохли.
Пусть так. Ты сам выбрал свою судьбу…
Люциане Береславовне страшно не было.
Отбоялась свое.
Отгорела.
Сначала, когда поняла, что попалась в силки по собственной глупости… и ярилась, и грозилась, и плакала, молила… а оказалось, никому-то до слез ее дела не было. И смирилась даже. Может, сама, может, настоям благодаря, которыми Марьяна Ивановна потчевала от души. Уговорам ее… главное, что заледенела еще тогда… и лед этот долго отходил.
Разочарованием.
Нет, она вовсе не была чадолюбива, но когда сказали, что сама Божиня лишила ее, Люциану, права на дитятко, почувствовала себя… оскорбленною?
Обделенною?
Больною. Ненастоящею женщиной… главное, отпустили.
А потом сестрица была с ее бедой…
И план дурной, который иначе как помутнением разума не объяснишь… и снова горе… кругом одно горе…
Поле то, на котором Люциана Береславовна помереть изготовилась. Не верила она, что выдюжат войска удар азарский. И девочек, глупеньких, таких романтичных девочек, уговаривала уходить… ее сил хватило бы, чтобы прикрыть их отход.
А они глядели на нее, недоумевая.
Хмурились.
Мол, беду пророчит… не пророчила. Знала. Беды и так ходят, ненапророченными… какие большие, какие меньшие, главное, что не избежать их, хоть ты из шкуры наизнанку вывернись.
Нет, не дело это — слезы лить.
И не время.
Люциана Береславовна вздохнула, надеясь, что вздох этот не будет услышан.
Там, на поле, пожалуй, она испугалась.
Не грома, не огня, который смел азарские стрелы на подлете, не душного темного мора, рожденного некромантами… они забирали жизни не только у азар… своих задело, когда азарские шаманы вызвали суховей.
Не первых раненых, к которым девочки ее кинулись, что к родственникам разлюбезным… и не второй волны, что погребла целительниц. Их уже не стаскивали в палатки, ибо палатки были полны. И не спешили унять боль — на это не хватало сил…
И кто-то плакал.
Кто-то молил о смерти.
Кто-то за руки хватал, просил спасти, потому что детки… понимаете, детки… или вот жена ждет… обещал вернуться, и нехорошо не исполнять обещания…
Кровь.
Грязь.
Земля размокла, хлюпает под ногам… трупы относите в сторону, стеной складывайте… и ее слушали. Она сама не знала почему, но слушали.
Делите на тех, кому можете помочь, кто справится сам и прочих… на безнадежных не тратьте силы… и слезы девичьи. Истерики… пощечины… и бой где-то рядом… стрела, перелетевши через стену из мертвецов, пробивает девчонку, которая падает на мальчишку с развороченной ногой. Он кричит от боли, а она легко уходит, с улыбкой виноватою — ногу спасти не получится.
Щиты.
Некому держать.
И девчонку уносят к мертвецам. Нельзя останавливаться. Нельзя оглядываться. Нельзя думать о том, что за стеною творится… есть раненые. И все.
А потом, когда подошла конница боярина Зрамыслича, когда сказали, что все, что азары бегут… что… тогда Люциана Береславовна огляделась. И увидала себя, измаранную кровью с головы до пят. Страшную. И слабую.
Увидала мертвых.
И живых.
И воронье, за которым не было небес видать.
Вот тогда-то она испугалась. Пожалуй, этот страх, парализующий, лишающий последних сил, и вернул ее к жизни, порушив сотворенный Марьяной Ивановной ледок. Только оказалось, что без ледка этого Люциана Береславовна и жить-то разучилась.
Как когда ранят и слова, и взгляды.
Когда везде чудится насмешка.
Презрение.
И еще убийца… почему-то там, на поле, она осознала, сколь ничтожна и скоротечна собственная ее жизнь. Сколько магов полегло? Тьма. И в этой тьме были куда более достойные, нежели она, Люциана… сильные. Умелые. Удачливые.
Перспективные.
Страх мучил.
Страх заставил принять предложение Михаила, хотя от одного вида царевича к горлу подступала тошнота. Но тошноту Люциана пересилила.
За стенами Акадэмии безопасно.
Так она себе повторяла. И почти поверила. И спряталась за этими стенами, вновь занявшись делом, некогда безопасным, а ныне… безразличным? Да, она на многое глядела иначе, только больше работа не доставляла удовольствия, а успехи не радовали.
Но главное, страх отступал.
И с ним — нелепое желание увековечить собственное имя.
Зачем?
Глупость какая… и вновь потерянное время, которое она, Люциана, могла бы использовать на благо если не себе, то людям. А она цеплялась за прошлое, за ту жизнь, которую безжалостно отрезали ножом обстоятельств, и жила фантомными болями, носилась с нею, как безногий с потерянной ногой.
Зато вот теперь страха не было.
Только вот сожаление, пожалуй, легкое, что дым осенних костров. Было время да ушло. Если будет… когда будет, тогда Люциана и подумает, на что его потратить. Главное, в живых остаться.
Даже не так, главное, чтобы в живых остались те, кому этого времени судьбой больше дано.
Дети.
Не надо было тащить с собой детей.
Она стряхнула с рук нити силы. Щит… да, щит держался и продержится еще некоторое время. Может, четверть часа, может, час… что это решит? Ничего.
Есть способ.
Она ведь знает, как сделать этот щит если не вечным, то… она ведь поняла… нашла способ… в старых своих дневниках. В записках, которые уцелели чудом, не иначе… и потом, в библиотеке уже, раз за разом находила подтверждения тому, что догадка ее верна.
А на практике проверить так и не решилась.
Самое время.
В конце-то концов, она, Люциана, еще когда должна была умереть. А духу не хватило. Неужели и теперь недостанет?
Она огляделась.
Хозяин вод стоял и смотрел на нее пустыми глазами. Был он жуток.
И силен.
Фрол не справится. Он себя едва не до дна вычерпал. Но и не отступится. Стоит. Глядит. Примеряется к новому противнику. И ведь отдает себе отчет, что этот бой будет последним.
Божиня…
Но хорошо, что сосредоточен всецело на нем, на Хозяине… на свите его, которая велика числом и сейчас во все рты тянет силу из щита. Оголодали тут, на болотах, за веки вечные.
Не заметит.
Архип… с подгорной тварью воюет. Та, изранена, отступить бы рада, да держит ее чужая воля. Тварь даже по-своему жаль, но жалость эта не помешает исполнить то, ради чего она, Люциана, быть может, и жила. Иначе, и вправду, зачем жила?
А страх… страх там, на поле остался, где полегли многие, куда более достойные люди.
Клинок выскользнул из рукава и прочертил полосу на запястье. Вдоль. И поперек. И так, чтобы жилы захватить. Не больно. Немного неприятно, и только. Со второй рукой сложней. Левая слушается плохо, да и в крови она, но Люциана справляется.
Она всегда со всем справлялась.
Как умела.
А дети смотрят… с удивлением? Девочка рот зажала рукой. Правильно, ни к чему лишнее внимание привлекать. Дар у нее яркий. Не целительский, но… кто сказал, что женщинам только целительницами быть. Еська молчит.
Хмурый.
Взгляд мечется между нею и Фролом. Знать, думает, говорить или нет. Люциана покачала головой: не стоит. Она уже взрослая.
Она решила.
И, присев на корточки, она начертила первый знак в ряду. Акр-хаммаш. Знак добровольной жертвы. И следом, похожий на круторогого быка, акр-тошшер, знак защиты… их всего-то несколько, знаков, которые затерялись среди иных, неважных, но Люциана нашла.
Сумела.
И если бы дала себе труд написать книгу… к чему сожалеть о несделанном? Если и надо, то не о книге… найдутся другие. А нет, то и сгинет древнее знание страны Шемет… пускай себе.
Знаки вспыхивали, и земля менялась.
Щит менялся.
Стихли завывания мертвых дев, и воздух сгустился, будто туманом напоенный… а силы уходили вместе с кровью да в землю. И земля эта вдруг покачнулась, бросилась навстречу. Люциана упала бы, когда б не Еська.
Подхватил.
Усадил.
— Вот я уж на что дурень, — пробормотал, — но вы меня, Люциана Береславовна, переплюнули.
Никакого уважения к старшим.
И руки попытался перевязать, а она не позволила. Магия страны Шемет — магия крови, без крови и работать не будет, а им надобно продержаться.
До прихода стрельцов.
Если стрельцы придут.
Мысль обожгла и заставила ужаснуться: а ведь и вправду, если… кому нужны они все… эти мальчишки, чья вина лишь в том, что появились они на свет не с той кровью… девушки случайные… Архип чужак. Фрол слишком прямолинеен, чтобы быть удобным. И слишком силен, чтобы вовсе с ним не считаться… а она… она по своей воле здесь оказалась… и если все погибнут…
Несчастный случай.
Самоуверенность.
И очередная подлость Михаила… он и сам умрет, теперь Люциана это осознавала ясно. Чтобы у той, которая затеяла эту игру, все получилось, не должно остаться никого с царской кровью.
Почти никого.
Но у нее хотя бы вышло поставить щит.
Сила перестала уходить, и Арей разорвал кольцо.
Огляделся.
Матюкнулся.
Этак они до рассвета точно не выберутся, а может, и после рассвета… а может, и вовсе не выберутся.
Зослава…
Обещал защищать… а позволил втянуть в эти игры… надо было отослать… костями лечь… поставить условие… что толку теперь?
Головой стену не прошибешь.
Или попробовать?
Арей позволил Евстигнею сесть. Тот обхватил голову руками.
— Я вспомнил… все вспомнил… и она велела… открыть дверь… знала, что так будет, если бы я…
— Если бы ты не открыл, — Арей огляделся, пытаясь понять, получится ли выйти из-под щита. Может, конечно, и получится, но дальше-то что? Мертвые девки кружат, только и ждут, когда ж появится какой дурень героический… нет, от них не уйдешь.
Да и Хозяин их даром что застыл глыбиной неподвижной, а все видит, все чует.
Рискнуть?
И принять смерть героическую? И ладно бы просто героическую, так ведь смысла в этой смерти ровным счетом никакого… Зославе она не поможет, а остальные еще спасать полезут и сами вляпаются. Нет, думать надо. Голова для того и дана.
Только вот не думается что-то совсем.
Успокоиться.
Зослава… он ее слышит… колечко хорошее, не зря столько сил угрохал. И если сосредоточиться на связи, на нити этой тонкой, которая меж ними протянулась, то… то можно убедиться, что Зослава жива.
Цела.
Спокойна.
Хорошо, если так… если так, может, где бы она ни была, в этом месте ей всяко безопасней?
Арей вздохнул сквозь стиснутые зубы.
— И что, так и будем сидеть, что мыши под колпаком? — спросил Егор, который и вправду на мыша походил, взъерошенного, мокрого, но страсть до чего злого.
— А что ты предлагаешь? — Еська стоял над Люцианой Береславовной, руки на груди скрестивши, глядя хмуро, зло, будто бы именно она виновата была, что у них не получится выжить.
— Не знаю. Что-то надо… сделать… мы же не можем просто ждать, когда нас сожрут.
Виверний тяжко захлопал крыльями, поднимаясь выше.
Выдохнул клубок сизого дыма, которым заволокло улицу, да только от дыма того Марьяна Ивановна, за нынешним представлением наблюдавшая, лишь закашлялась.
Неужто и мертвым в горле першит?
Мысль поразила своей неуместностью. Першит аль нет, какое Арею дело? Ему думать надо… думать и придумать, как вылезти из этой ловушки.
Кикиморы от дыма попрятались. Тварь подгорная заревела протяжно, а получивши огнем Киреевым по харе, и вовсе стала распадаться на клочья. Треснула бычья шкура, опала, выпуская белесый туман, на который дядюшка — вот самоубийца — огня плеснул щедро.
И Хозяин вод нахмурился.
Не по нраву ему было пламя.
Раскрылась широко пасть, Арей и издали разглядел мелкие острые зубы в три ряда. Разглядел и вздрогнул: живьем жрать станет за неуважение к своей царственной особе… рев, из глотки Хозяина донесшийся, заставил последних кикимор в землю вжаться… закружились мертвые невесты безумным хороводом…
И раскрылись на улице ключи.
Один.
Другой.
И третий… И вскоре их стало столько, что и не сосчитать. Арей и не пытался. Он глядел на воду, которая клокотала, темная, болотная, вовсе не такая, какой надлежит быть ключевой воде.
— Твою ж… — Еська попытался заткнуть ключ руками. Но вода просачивалась сквозь пальцы, а рядом открылся второй. И болезненно глухо засмеялась Люциана Береславовна.
— Мы… — сказала она, глядя на то, как вода заливает подворье, — можем тут сидеть долго… очень долго… пока не утонем.
— Если утонем. — Арей не собирался сдаваться так легко.
Тонуть?
Да пусть хоть тысячи ключей откроет. Пусть идет вода… да все одно время есть. Пока расползется она по улицам, пока во все дворы позаглянет, пока…
— Можно на дом забраться… — Арей огляделся. Дом больше не казался надежным убежищем. Расколотая крыша, но… глядишь, и выдержит, если никто по этой воде не полезет. — Давай, подсаживай девчонок.
Елисей молча потянул за руку свою подружку.
А вода прибывала быстро.
Грязными ручьями.
И реками.
Холодная. Даже не холодная — ледяная, будто не лето на дворе, а зима лютая. В такой воде сгореть легко… и девки кружатся, поют заунывными голосами. Зато Фрол Аксютович будто очнулся.
Оглянулся.
Увидал, что девчонок на крышу запихивают. Кивнул одобрительно… Люциану увидел.
Посмурнел.
— Что ты творишь? — Он злился, и вода, эту злость чувствуя, расступалась, чтобы залить следы. И хорошо, что дом этот стоит на возвышении. Вон, те, что пониже, по самые окна затопило. И Кирей вынужден был пламя отозвать.
Оно ярое, да столько воды не одолеть.
К нему и кинулись водяницы…
Кинулись бы, когда б не грозный рев виверния, не клубы желтого дыма, от которых заволокло всю улицу. И дым был плотен, хоть иглой шей… а когда рассеялся, то Арей с некоторым удивлением обнаружил, что улица-то опустела. Ни родственника дорогого, ни Архипа Полуэктовича… уволок, стало быть?
— Так надо, Фрол. — Люциана Береславовна высвободила руку. — Щит должен держаться, иначе никто не выживет… а они ни в чем не виноваты. Дети ведь…
— Я…
— Ты за ними присмотришь. — Она улыбнулась и поднялась, на руку опершись. — И рассвет уже скоро. Кровь должна идти, тогда знаки будут держаться… будут держаться… и вода не смоет… и щит устоит… а если устоит, то и мы выживем… до рассвета дотянем. А там стрельцы подойдут. Правда?
— Правда.
А ведь солгал.
Оба врут друг другу, в глаза глядючи. И на это смотреть больно.
— Лезь! — Арей смотреть и не стал, выдернул Егора, который о чем-то задумался. — Давай, чего стоишь?
— Там Мор…
— Что?
— Мор… Илья… и Мор… он погань еще та, и Ерему… а меня не тронул… захлебнется ведь…
Арей с трудом понял, о чем он. А поняв, выругался. Вот теперь ему еще о силе нечистой беспокоиться надобно, будто иных занятий нет. Сила ж эта, Арей не сомневался, и без его, Ареева, участия неплохо выкрутится. А коль потонет, туда ей и дорога.
— Надо… забрать… — Егор качнулся было, да силенок много потратил. Все ведь почти отдал, щит питая. — Надо…
— Лезь. — Арей подставил свое плечо и оглянулся, надеясь, что Фрол с Люцианой намиловались и делом займутся. К примеру, возьмут и решат за него, чего с одержимым делать.
Но нет.
Фрол стоял. Обнимал. Говорил что-то. Никак уговаривал отступиться, да только без толку. Вон как Люциана улыбается, мягко да спокойно, как будто точно знает, что делает и что делает все верно…
— Я сам вытащу, — пообещал Арей, мысленно себя за это обещание прокляв.
И Егора подтолкнул. Царевич он или мимо проходил, но прав… может, конечно, и не удастся помочь, да только и топить живого человека неправильно.
В доме воды было по щиколотку. Из подвала лилась. Из-под пола сочилась. Хозяин только причитал:
— Что это будет, что будет…
— Ничего, справимся… а после новый дом поставим, лучше прежнего, — легко солгал Арей, который крепко сомневался, что после нынешней ночи будет где здесь дом ставить. — Или тебя с собой заберем…
Хозяин всхлипнул и сгинул куда-то, а вернулся с камнем, который Арею в руку сунул.
— На от, припрячь… где он, там и я…
А Илья лежал на полу. Тихонько так лежал, спеленутый веревками да с платком во рту. Только глазами зыркал.
— Вздумаешь бежать, сам притоплю, — пригрозил Арей, впрочем, крепко сомневаясь, что от этой угрозы толк будет. Илья дернулся было и замычал. — Тихо лежи.
Арей взвалил одержимого на плечо.
Камень в кошель сунул. Огляделся: может, еще кого спасти придется? Ан нет… тишь да гладь, только вода уже и в окна заливает. Еще немного, и до крыши доберется, а там — то ли нежить сожрет, то ли сами потонут. Глупо как-то…
Он все ж вышел во двор, морщась и от ноши своей — тяжел, падлюга, и от холода. Мокрая одежда сковывала. Да и огонь злился, столько воды вокруг было ему не по нраву.
Во дворе все было как прежде.
Почти.
Воды по пояс.
Люциана на лавке стоит, на Фролово плечо опираясь. Бела. Едва жива. Голову положила, улыбается… а тот обнимает да все уговаривает. Нет, не уговорит…
И трусливо так думать, потому как не женское это дело — войны воевать, только без щита Люцианиного все они погибнут.
Архип не вернулся… куда сгинул?
За стрельцами отправился?
Не успеет… сам бы, может, и сумел, на крыльях, чай, оно быстрей, чем на лошади, а вот подмога на подходе завязнет. И что они против воды сделают?
Марьяна Ивановна на крышу дома ближайшего взобралась и оттуда уже кулаком худющим грозится, хихикает, последний разум растерявши. К утру вовсе в ней ничего человеческого не останется. Арей вздохнул: и что делать?
В ближайшей-то перспективе понятно, вспереть Илью на крышу да пристроить, чтоб не свалился… и самому устроиться.
Девки мертвые обличье свое скинули, обернулись лоскотухами. Широкие спины их то тут, то там прорывали водную гладь. Хлопали хвосты, тучи брызг подымая… и подбирались лоскотухи к самой ограде, пробовали на прочность, никак не желали верить, что держится щит Люцианин… и держаться будет… надо досок вытащить. Плот сделать.
— Возьми его. — Арей подкинул одержимого. — Пристрой куда… Еська, Евстя, плоты делать умеете?
Сообразили быстро.
С шумом скатились в воду, в хату нырнули… правильно, лавки… не получится руками ломать? Магией выйдет, как те, давешние дрова. Только и брызнула щепа.
— Аккуратней… не загубите.
Веревок нет… ан нет, веревки есть, Хозяин любезный, хоть и стонал, глядя, как рушат имущество его, но вытащил целый веревочный ком.
— Хорошие… конопляные, — сказал, слезу смахнувши.
Плоты делали наспех.
Старые доски.
Старые веревки.
Выдержат? Даст Божиня, проверять не придется… случится чудо… случится ли? Плот крутили быстро, а все ж вода прибывала быстрей. И первый, кое-как собранный из досок, подпихнули к Люциане. Может, она и решила помереть, но не сейчас.
Фрол Аксютович с легкостью поднял Люциану на руки, на плот положил и сам его ж придержал. Уже хорошо. Этот потонуть не позволит. Доски магией подтянет и…
И надо продержаться.
— Давайте к крыше… там есть чего собрать. — Еська освободился и от кафтана, и от сапог. Правильно, без них плавать легче. Арей последовал примеру, мысленно обругав себя, что не додумался до этого раньше.
Евстигней отдирал доски.
Егор, сунув руки в воду, шептал что-то, отчего стихали жадные рты водоворотов… а после по доскам ладонями проводил. Губы шевелились. Глаза остекленели.
Емельян веревками доски скручивал.
Спешил, а все одно ловко получалось. Лис одного за другим втягивал волков на крышу. А воды становилось больше. И Хозяин вод, ударив по водной глади руками, выпустил волну, а та покатилась, прошла сквозь щит и едва не разметала недоделанные плоты.
Плохо.
Егор головой мотнул и опять заговорил с водой. Но куда ему против Хозяина вод?
Чудо.
Им нужно чудо… иначе Хозяин вод просто волной вытолкнет плоты из-под щита… нет, не чудо — якоря… привязать… да хоть бы к печной трубе, главное, чтобы привязь была крепкой.
Но от чуда Арей бы не отказался.
Мгновеньем позже, когда на воды легла крылатая тень, он готов был передумать.
ГЛАВА 38 Последняя
Еще никогда прежде Емельян не чувствовал себя настолько бесполезным. Маг? Да толку-то от его магии. Вон, Егор с водой говорит, а та его слушает. Евстигней дерево сращивает. Елисей… все что-то делают, а Емельян…
К тому же неспокойно было.
Оно-то понятно, какое спокойствие, когда их сожрать готовятся, да… нет, не в воде дело и не в лоскотухах, что сгрудились за оградой, жадные и голодные… не в Хозяине вод.
Не в мертвой Марьяне Ивановне…
Беспокойство это мешало.
Зудело.
Будто он, Емелька, вновь платяных зверей хватанул, как… он даже поскребся тихонько, чтоб Егор не увидал, а то с Егора после станется насмешничать. Но легче не стало. Наоборот, с каждым мгновеньем Емелька ощущал, как нарастает страх.
Огонь идет.
Не тот, едва прирученный, с которым азары управлялись.
И не тот, что жил в самом Емельке, пугая своей близостью.
И уж подавно не тот, что обретался в печах да каминах.
Нет, этот огонь был дик и необуздан.
По воде?
Глупость какая… вода вон прибывает, и плоты, ими сотворенные, глядятся такой пустяковиной, которую Хозяин вод сметет, не глядючи.
А он огня боится.
И страх, нарастая, что снежный ком, делал Емельку неуклюжим. Потому, когда небо застили огроменные крылы драконьи, он вздохнул с немалым облегчением.
Известный страх лучше неизвестного.
Он читал о драконах.
Не о нынешних, которые по сути своей есть животные, но о тварях прошлого, огроменных и лютых, способных дыханием своим спалить город, о драконоборцах, людях светлых духом и потому наделенных вышней силой. О том, как выходили они супроть тварей и когда побеждали, а когда и гибли, смертью своей все одно победу одерживая.
О да, Емелька любил читать. И ныне прочитанное живо вставало пред его очами.
Как дракон.
Вот не верилось ему, что оные твари и вправду столь велики… а он… крылья полупрозрачные, что слюда, небо закрыли. Тело узкое, угриное, вилось, и вокруг него будто пламя горело прозрачное… пасть зверь раскрыл и дыхнул жаром.
И жар этот, прокатившись по земле, испепелил сосны.
Обратил в прах дальние хаты вместе с Марьяной Ивановной. Высушил воду… второй раз дыхнул змей, и не стало мертвых девок, рассыпались они, будто из песку сложенные. А на третий и сам Хозяин вод занялся. И этого не выдюживши, топнул ногой да и провалился в раскрывшийся колодец.
— Вот тебе… и чудо, — сказал Арей и добавил пару слов покрепче.
Остальные ничего не сказали.
А змей сделал круг над деревней, будто прислушиваясь к чему. И Емельян вдруг понял: не уйдет. Не было дела дракону до проклятой деревни, до людей и до Хозяина вод. Иное ему надобно, а что…
Щит пока держался.
Да только ему недолго стоять, небось против дракона и чары Люцианы Береславовны не помогут… они ему еще на раз дыхнуть. И тогда вспыхнут все.
Дракон сел.
Он опустился на спекшуюся землю, спину выгнул и крылы сложил, и теперь все увидали, что тварюка этая вроде как и не совсем чтобы живая. Сквозь шкуру его золотую просвечивали жилы, которые тоже прозрачными были, а вот через них, если приглядеться, и кости видать было.
Только… живой аль мертвый, но дракон был сильней их всех, вместе взятых.
— И что делать будем? — шепотом, будто опасаючись, что дракон услышит, спросил Еська.
— Не знаю, — шепотом же Арей ответил.
А дракон, вдохнувши воздух — от и жарко стало, и просохла мокрая одежа, того и гляди загорится, — повернулся к ним. Он глядел не на всех.
На Емельку.
И тот вдруг понял, что должен сделать.
Понять-то понял, но… страшно.
А если…
Дыхнет, и все… или, в тех же книгах писано было, что иным разом драконы не спешили дышать, чтоб сразу все пеплом становились, а жгли медленно, чтоб, значится, людям с того мучений вышло побольше… и вот захочет…
Емелька вспомнил гудение огня, когда он, рыжий, стеной вставал, застилая пути все… и то, как сухой воздух глотку драл… запах волоса паленого… конский плач… ужас… и боль, которая пришла после. Вспомнил и оцепенел.
Он не сможет.
Он и со своим огнем не управился, а чтоб драконий…
Он…
Он вытер вспотевшие ладони о штаны.
— Я пойду, — сказал тихо.
— Сдурел?! — Евстя вцепился в плечи. — Куда ты пойдешь?
— К нему. — Емелька мягко выскользнул из рук. — Он меня ждет.
— Ты… ты…
Дракон улыбался.
Он знал, что Емельян все понял верно.
— Он тебя сожрет! Да скажите вы ему…
— Сожрет, — подтвердил Егор, пусть и с неохотой. — Он… не только тебя, всех нас сожрет.
— Нет. — Емелька не знал, как объяснить то, что чувствовал, что знал. Откуда? Да какая разница, знал, и все, и знание это толкало вперед, за ограду. — Я должен… понимаете? Должен… это будет правильно.
Он нашел взглядом Фрола Аксютовича, и тот кивнул: он понимал, что есть долг.
— Так надо, — повторил Емельян, отступая к воротам.
Больше удерживать не стали.
К счастью.
Он бы… он бы справился, он бы не позволил себя остановить, но вдруг да дракон решил бы, что Емельян сомневается? Нет, он и вправду сомневается, внутри трясется листом осиновым, но идет. Ступает по сухой земле — и поверить сложно, что еще недавно здесь разливалась вода… трава прахом осыпается, а дракон все ближе.
И ближе.
И…
Он красив.
Почему в тех книгах не писали, до чего драконы красивы? Этот будто из золотого стекла выплавлен… такое Емелька только в палатах царских видывал, на окнах узорчатых… и то там стекла этого были махонькие кусочки, а тут… переливается на солнце… морда узкая, длинная… глаза желты, и в них столько боли, что тянет взгляд отвести.
Спрятаться.
Но Емелька не станет. Если у него судьба такая…
Он протянул руку и сказал:
— Здравствуй. Я не знаю, как тебя звать…
Дракон дохнул.
Не огнем, не жаром, но… горячим ветром обняло и закружило, едва не сбило с ног. И Емелька побежал бы, пожалуй, если бы ноги его послушались. А раз не слушались, то он и остался.
— Меня Емельяном нарекли… хотя нет, вру… это другое имя, дареное, а звать меня Нежелан… мамка моя не больно-то желала, чтоб я появлялся. А я вот…
Дракон наклонил голову.
Слушает.
— Я знаю, что ты пришел за мной, но не понимаю зачем… ты скажи, и я сделаю, что ты хочешь.
Емельян замолчал, не зная, что еще сказать. Понимает ли его дракон? Или он так… примеряется? Жрать станет? Хорошо бы целиком проглотил, у него вон пасть такая, что и тур поместится, Емелька ему вовсе на один зуб…
Дракон тихонько вздохнул.
И голову вытянул.
Глаза его — каменья драгоценные, бурштыны, которые еще слезами моря именуют. И в них надобно глядеться, что в омуты… драконы разговаривают глазами, это если с людьми. Меж собой-то иначе, но их языка Емельян не поймет.
Никто не поймет.
А с людьми… не так много их было, тех, кто смел заглянуть дракону в глаза. И выдержать взгляд. И главное, услышать… люди слышат то, чего желают.
Емельян вот…
Он слушал рассказ дракона, который был краток и ярок.
И молчал.
И… и когда молчание стало тягостно для всех, сказал:
— Хорошо. Я пойду с тобой. Если моей силы хватит, чтобы источник ожил, я ее отдам. Мне не жаль.
С тихим шелестом развернулось крыло, и дракон заворчал. Ворчание это и удивление, и недоверие заставили Емельяна улыбнуться:
— Мне действительно не жаль… вы не должны были уходить из мира. Это было… неправильно.
Он коснулся крыла, которое пусть и полупрозрачное, но было мягко и тепло.
Магия.
Как она есть.
Воплощенная.
Живая.
Наделенная разумом и волей. И стыдно, что люди в глупости своей обездолили мир.
— Я отдам тебе силу, а ты… — Емельян все ж медлил. — Ты научишь драконов разговаривать с людьми… это тоже будет правильно.
И дракон кивнул.
Он был согласен.
А взобраться на спину оказалось не так и сложно… Емельян вцепился в костяной выступ на хребте. И дракон поднялся в воздух. Он взмахнул крылами, и воздух стал густым, плотным.
Горячим.
А земля внизу — крохотной и будто из цветных лоскутов сшитой…
Мы поспели аккурат, чтоб узреть дракона, который поднялся по-над землею, унося на спине своей человека… куды понес?
Мыслю, к той горе, которую я видела.
Для чего?
А кто ж его, змеюку, ведает? Авось не сожрет…
— Здесь. — Лойко остановился перед деревней. — Ты иди… тут уже почти никого не осталось, а кто и остался, с ними легко справишься, если сунутся, а я… я должен… сделать кое-что.
Он вдруг поцеловал меня в лоб.
— Бывай, Зослава… может, если бы я остался жив…
Все было б иначе…
Если бы…
Я не стала спрашивать, куда он идет и зачем. И вслед не глядела. А что слезы на глаза, так это от ветру и треволнений… волнениев ныне множество было, этак и поседеть недалече… но седеть я погожу, у меня тоже дело есть.
И, подхвативши юбки свои, я кинулась туда, где меня ждали.
Бегла… ну хорошо бегла, спасибо Архипу Полуэктовичу, научилась.
Добегла.
Почти.
— Зослава! — Арей меня на руки подхватил, закружил. — Живая? Прости дурака… я не думал, что так выйдет… не хотел.
От него пахло тиною и еще огнем, и уж не ведаю, как одно с другим роднилось, и почему засмеялась я, и… и просто было хорошо.
Так хорошо, что когда небо крутанулось, а солнце спелым яблоком в руки кинулось, я только и успела, что подхватить его. Тяжелое…
Он знал, что время почти вышло.
Он сделал все… почти все… оставалось немногое, но силы уходили… и холод подступал. Он помнил этот мертвенный холод, который сковывал тело, и это тело становилось чужим.
Помнил и больше не боялся.
Разве что не успеть.
— Я пришел, — сказал он болотам, и те вздохнули. Они, ощутив на себе драконье дыхание, опасались злить того, кто тоже не был человеком. — Я пришел доброй волей…
Болота молчали.
— И готов отдать себя… во искупление давнего договора. Книга… книга вернется сама, если я пришел. А я пришел. Доброй волей.
Он выдохнул.
И ступил на зеленый ковер.
Разомкнулась трясина. Приняла… и, приняв, подарила смерть… эта была не страшней предыдущих.
После-то мне Арей сказал, что чувств я лишилась от магического истощения. Ну и от волнения, конечно. А Еська расповедал, как Арей меня на руках нес, бегмя бег, боялся, что не успеет. Порешил, будто меня прокляли или еще чего страшного утворилось…
Нас с Люцианой Береславовной рядышком положили, на солнышке, стало быть. Укрыли, чем пришлось. Ей-то тяжелей было, из ней-то к тому времени почитай вся кровь вытекла, уж чудом не померла. Думаю, она Фрола Аксютовича забоялась, который подле нас сидел до того грозный, что сама Морана не подступилась б.
Но об том мне тоже Еська сказал.
И женка его, притихшая, прибитая будто… а Елисеева девка так ничего не сказала, она в одеялы закуталась так, что только нос виден был, да из одеялов этих зыркала сердито. Не девка — сычиха.
Не мое то дело.
Мысли в голове мешаные.
Знать, долгехонько я без чувствов пролежала, если пропустила все.
И стрельцов, которые вошли в деревню аккурат после полудня, Архипом Полуэктовичем приведенные…
И саму деревню, вставшую из болот. Еська-то про энто знатно сказывал. Мол, грянул гром небесный. Солнце заволокло тьмою, а после расступилась трясина, и из ней восстала проклятая деревня, как была, с людями…
А Евстя мрачно добавил, что не было ни грому, ни тьмы, и трясина не расступалась, просто вдруг возникла деревня, которой не было. И люди. А люди те, на колени павши, молились, и так громко, что всякое воронье и живность иную распужали. Еська ж ему ответствовал, что гром и темень — для драматизму, а Евстя глухая душа, коль прекрасного не разумеет, и рассказывает он скучно.
На деревню я б глянула, да кто ж меня пустил бы?
Стрельцы стали за околицею, растянулись цепью, чтоб, значится, проверять. А чего проверять — не сказали, только старшой их, дядька в летах, хмурый да с усами повислыми, которые его на рыбу-сома похожими делали, молвил:
— Не положено.
Чего ж не положено и кем не положено, того уточняти не стал. Брови только свел над переносицею и пальцем погрозил. Дескать, нечего всяким шляться. А что я не шляюсь, что мне на людей поглядеть надобно да покаяться перед старухой — не нашла я книгу ейную, — так того не объяснишь.
Стрельцы-то округу мелкой гребенкой прошли.
И Архип Полуэктович с ними.
И Фрол Аксютович.
И иные магики, из Акадэмии присланные… уж не знаю, кого они в тех лесах искали-выискивали, да Арей, которого с собой взяли, сказывал, что азар нашли. Мертвых всех. Порубленных. И будто бы они сами друг друга порубали, а с чего — непонятно.
Поляну развороченную, где мы обряд проводили, тоже сыскали.
И камни.
Нежить, которой осталось немного, а после их походу то и того меньше.
Люциану Береславовну, что живая осталась, но отчего-то этому вовсе не была рада.
Мы стояли.
Меняли день за днем… и стрельцы, которые нам помочь отправлялись, глядели так, с упреком, будто бы мы виноватые, что живыми остались. Небось когда б померли, то всех бы с почестями похоронили.
Знакомо.
До того знакомо, что аж зубы жмет.
На семый день явился Архип Полуэктович и, глянувши на меня нечеловеческими глазами, сказал:
— Царь сменился.
Правда, может, не мне он говорил, но Люциане Береславовне. Только я не утерпела:
— И кто?
— А кто ж его знает… говорят, Божини самой избранник… и в жены царевну взял.
— Какую?
— Такую, которую все тут царевичем полагали. Законную, стало быть, наследницу. И правят они волей Божини на радость людям.
Я роту только раскрыла.
И прикрыла.
Пущай себе правят.
— А… царица? — только и сумела, что спросить.
— Сказывают, зело по супругу горевала и с того в могилу сошла. — Архип Полуэктович наклонил голову. — Мне куда как интересней, что нам делать…
— Хоронить. — Люциана Береславовна глаза смежила. От она-то больше мертвою была, чем живою. — С мертвых спрос невелик… не мы, так другие…
— Согласен…
Почесал голову и поинтересовался:
— Зослава… ты на похороны придешь-то?
— Приду.
Точней, Арей принесет… а то ж и вправду, попрощаться надо по-людски. Хотя… ничего-то тут людского нету, не осталось.
— Не грустите. — Люциана Береславовна сумела ко мне повернуться. От уж и правду, иные покойники покрасивше будут. — Бывает, что после смерти самая жизнь начинается…
ЭПИЛОГ
Емельян плохо запомнил полет над морем, которое сверху гляделось этаким стеклянным, ровным. И эту стеклянную синеву нарушала робкая зелень далекого берега. То есть по первости берег этот был далек, а после стал вдруг и близок.
Остров.
Не сказать, чтоб велик, но и не мал. Разлился кляксой темною на волнах, и те ярятся, бьются о высокие камни, рассыпаются пеной да пылью водяною. Красота.
Дракон сделал над островом круг.
Он, привыкший уже к наезднику-человеку, будто показать желал… что ж, показать было что. Зелень-оправа, из которой поднимался алый камень горы. В разверзстой пасти ее кипело… кипела… кровь земли? Вот она, значится, какая.
Опустившись на широкий уступ, дракон наклонил шею и крыло расправил, позволяя Емельке спуститься. И когда человек на уступ ступил, дракон оное крыло выставил меж Емелькой и разверзстою пропастью.
— Спасибо. — Ноги затекли.
Да и… лететь только поначалу было интересно, потом уж Емелька и замерз, и устал, и тело онемело. Он присел.
Поднялся.
Помахал руками, как Архип Полуэктович учил.
Прислушался.
— Они живы, — сказал Емелька, хотя дракон и без него знал, но молчание утомляло. Емелька прежде и не думал, что ему так важно — говорить.
Хоть с кем.
Пусть и с драконом.
— Они там, да? Мне надо спуститься? Хорошо…
Над огненной горой воздух дрожал от жара. И если подойти ближе, Емельян вспыхнет, но… ему ли бояться огня? Он огляделся.
— Здесь.
Тропа-нить обвивала жерло вулкана, уходя в глубокую трещину. Дракон качнул головой. Значит, там… Емелька решился. Он шел медленно, не потому, что боялся: обидно было бы соскользнуть с тропы в огненное варево, что кипело внутри горы. Он ведь почти дошел.
Почти сделал.
Почти понял, для чего Божиня в милости своей сохранила ему, недостойному, жизнь… конечно… не ради царства… царство будет и без Емельки стоять…
Шаг.
И еще один. Камень похрустывает. Летят вниз мелкие камушки, вспухают огненные пузыри… лопаются… и от жара Емелькины волосы шевелятся. Но его, странное дело, близость пламени больше не пугает.
Узкий лаз.
Как дракон в него пробрался-то? Пещера круглая. Стены темно-красного камня и гладкий скользкий пол.
Потолок.
Нет потолка. Есть синее небо и тень дракона в нем. Следит? Не доверяет человеку? И верно, с чего бы ему… но Емелька не собирается обманывать.
Не в этом месте.
Он ступал осторожно… и обошел стороной косточки… дракон, судя по ним, был невелик, с небольшую корову… детеныш? И второй, меньше первого. Он лежал, свернувшись калачиком, и только хрупкое пергаментное крыло, которое по странной прихоти время не тронуло, торчало над телом… еще один… и еще… Емелька насчитал с полдюжины их, от совсем крохотного, с собаку, до подросшего, чей череп перегородил ему дорогу к гнезду.
А яиц осталось пять.
Крупные.
На камни похожие, если бывают такие камни — полупрозрачные, теплые, с тенью зверя внутри… и они, замершие некогда на краю жизни, еще держались.
Живые?
Мертвые?
Емелька с трудом вытащил одно, бледно-зеленое, с темною, будто бы жидкой сердцевиной. В ней трепетала крохотная искорка, к которой Емелька потянулся. И сила его потекла легко, обняла эту искорку, развернула. Он сел, боясь выронить слишком тяжелое яйцо… а после просто сидел и глядел, позволяя силе впитываться.
Только бы хватило.
Хватило.
И огромная тень, накрывшая пещеру, не отвлекла. И теплое дыхание, согревшее Емельку… а он и не заметил, что озяб… просто в какой-то миг яйцо вдруг шелохнулось.
Затрещала скорлупа.
Рассыпалась драгоценными осколками, и в руках Емелькиных оказался змееныш. Махонький. Легонький. И мокрый. Лапы с острыми коготками впились в руки, хвост обвил запястья, а острая пасть с клювом-носом раззявилась в немом писке.
Получилось?
Получилось… но на остальных его не хватит.
— Сейчас не хватит, — сказал Емельян дракону, протягивая детеныша, который, однако, отцепляться от Емельки не желал, но скрежетал обиженно, а напоследок и дыхнул, к счастью, не огнем. — Надо отдохнуть, и тогда…
Он не договорил, уснув.
И дракон, вздохнув тяжко, накрыл человека горячим крылом. А вторым — детеныша, который появился в мире, где все забыли о драконах.
Он сидел так долго, согревая.
Сберегая.
И когда лишь на небе появилась крупная круглая луна, поднялся. Человек был нужен дракону, а самому человеку нужна была еда. Да и детеныша покормить следовало бы.
К счастью, на острове расплодилось изрядно мелких мохнатых быков. Если они закончатся, то дракон знал — недалеко есть и другие острова.
— Спасибо, — сказал человек.
А дракон подумал, что, быть может, у них и вправду получится.
Фрол Аксютович разглядывал нового царя без всякое робости, что этому царю, который был магом и силы немалой, явно не нравилось. И он изволил выказать свое недовольство.
Брови хмурил.
Заговаривать не спешил.
Постукивал пальцами по широким подлокотникам кресла.
Молод.
Вызывающе молод.
И собой хорош. Правильно, народ красивых царей любит. Привык думать, что раз снаружи светел, то и внутри пряник. А этот… откудова взялся? И как пропустили? Явился.
Чудо сотворил.
И…
Сотворили. Уж Фролу ли не знать, что чудеса творить не так уж сложно.
Гроб хрустальный…
Сказка уже давненько по городу гуляет, обрастая подробностями самого удивительного свойства. Тут тебе и царевна, проклятая гневливой любовницей… ни жива ни мертва, но спит сном чародейским, который лишь поцелуй истинной любви разрушить способен.
Про любовь сказки тоже любят.
И про царевен.
А она рядом сидит, пряма-пряменька. Бледна. Улыбчива. Только улыбка эта неживая какая-то.
— Значит, — царь сжал тонкие пальчики супруги, — ты утверждаешь, что все они погибли?
— Да.
Надо было бы склонить голову, повиниться, как бояре учили. И больше всех Волчевский старался. Мол, шапка с головы не свалится, зато и голову Фрол Аксютович не потеряет. И с чего они решили, будто он эту голову терять собрался?
— Вот прямо все?
А не верит-то. И Фрол бы не поверил. Уж больно удобно получилось, чтобы правдой быть.
— Все.
— И как это случилось? — Пальцы царицыны стиснул так, что та поморщилась. Впрочем, тень недовольства сгинула с лица ее, что облако с ясна неба.
— Евстигней утонул. Егора лоскотухи уволокли. — Фрол смотрел царю в глаза.
Никто не смел.
С ума сходили… значит, менталист, и уровня немалого… и ложь, что любого свести с ума способна. Не любого. Ему и не нужно… нашел пару слабых, с расшатанными нервами, их и свел показательно… правильно, с боярами только так, только страхом… боялись бы меньше, скоренько б придумали, как самозванца извести.
Может, на пики бы подняли, смуту кликнув.
А может… царица понесет, родит наследника, тогда и от батюшки избавиться дело милое, а уж после себя опекунами объявить и править до сталых[14] лет…
И он понимает это.
Потому и будет слухи плодить о силе своей нечеловеческой да избранности… и на плахи пошлет кого побеспокойней, прочих вразумляя, и с ума сведет, и к краю подтолкнет… у него просто дар такой.
Убеждения.
— Елисея волки задрали, когда за братом пошел, — спокойно продолжил перечислять Фрол Аксютович. — Емельку дракон сожрал…
— Настоящий?
— Настоящий. Кирей…
Царь махнул рукой. Судьба азарина его вовсе не волновала. Ныне заботило иное: принять ли сказанное на веру или потребовать, чтоб Фрол в память свою пустил. У этого бы хватило сил глянуть, но…
Фрол не пустит.
Своей волей.
А против воли… новая война еще и с магами, которые к царю относятся настороженно, не спешат клятвы приносить… и как знать, не озлятся ли, не станут на сторону бояр, которых этакая поддержка вдохновит на всякую дурь… нет, с магиками ему воевать не с руки.
Ему союз нужен.
— Что ж… — Царь первым взгляд отвел, на супругу глянул. Ручку ее к губам поднес, поцеловал не пальцы, но перстеньки разноцветные. — Знать, судьба у них такая… мы сожалеем, что у тебя не вышло сберечь царскую кровь… братьев моей дорогой супруги…
…которых бы он сам приказал удавить.
Так надежней.
— А посему объявляем в городе траур… и да пусть стреляют пушки, пусть звонят колокола, а в храмах всех молятся за безгрешные души.
Он перекрестился.
— И поминальные стопки велим мы во всех кабаках ставить. Пусть помянет народ…
…помянет…
…и подивится этакой доброте царской…
— …А всякого, кто вздумает отныне родства с моей супругой искать и объявлять себя умершим, иль воскресшим братом ее, или чудом спасшимся, надлежит объявить самозванцем и бить каменьями до самое смерти…
Он перевел дух и оглядел бояр: все ли уразумели.
Оно и верно, средь бояр сыщутся те, которые не поверят и полезут искать других наследничков, мол, может, и байстрюки, да все лучше, чем чужак с девкой смурною…
Плохо, что стрельцы верные люди.
И Архип поработал с каждым… он крыльями клялся, что люди эти не вспомнят больше, нежели позволено. А позволено им было узреть похороны…
— Таково мое слово, — молвил царь и посохом по земле ударил. И земля отозвалась гулом… интересное заклинание. Откуда взял? Да гадать нечего, из той, из проклятой книги, которая по сути своей вовсе и не книга.
Исчезла.
Надолго ли? Архип утверждал, что та, другая, найденная в деревне, относительно безопасна. И ее бы он даже мог оставить при Акадэмии, да только Фрол отказался. Иные знания вовсе не на пользу. А вот первая самая сгинула, будто бы ее и не было.
Пускай.
Глядишь, в ближайшую сотню лет не объявится. Нажралась душ.
Царь поднялся. Шуба едва не соскользнула с широких плеч. Медленно, словно все еще во сне пребывая, встала и царица. Подала супругу тонкую руку.
Фролу Аксютовичу он знак подал, мол, будет с тобой особая беседа, приватная. Фрол лишь вздохнул с немалым облегчением: прав оказался Архип. И хорошо, что ныне не он, не Фрол, ректорское кресло занял. Все ж не тот характер, чтоб с царем за всю Акадэмию говорить.
А махонький неприметный человечек уже скользнул к руке.
За собой поманил.
Фрол и пошел. Чего б не пойти? За свою голову он не боится, а прочие Кавьяр сбережет. Даром что некромант.
До дверцы тайной, которая ни для кого из бояр тайной и не была, ему дойти не позволили. Заступил дорогу боярин высокий да краснолицый. От него несло сивухой и кислою капустой.
Взгляд дурной.
Кулаки стиснул.
— Где, выродок, дочка моя? — И кулак этакий под нос сунул.
— Дочка?
Фрол уже и отвык, что этакие бестолковые встречаются.
— Велимира!
— Не имею представления.
— Сбегла… а вы поспособствовали… из-под руки отцовской ушла, паскудина… — Боярин качнулся и дыхнул брагой в лицо. — Ничего! Вот вы где у меня будете! На краю земли найду…
— А если края нет? — Фролу стало смешно.
А ведь было время — трепетал пред этакими вот… боярами… все думалось, что коль родились они не в сарае, но в белое рубахе, стало быть, не зря Божиней отмечены.
Молод был.
Дурковат.
— Чего? — Боярин нахмурился.
— Края, говорю, нет, — вежливо ответил Фрол и руку боярскую от себя отцепил. — Круглая земля.
— Умник…
А вот замахиваться на боевого мага — это даже не дурость, это много хуже… Фрол пальцами щелкнул, и посох боярский полыхнул синим пламенем. Боярин же отскочил, заверещал…
— Царь ждет, — напомнил серый человечек и головой покачал неодобрительно. Правда, кого он не одобрял, так и осталось тайною. Фрол надеялся, что не его.
Царь и вправду ждал.
Без шубы, без шапки высокой драгоценной он гляделся тем, кем и был, — молодым магом.
— Значит, умерли? — спросил он с порога, взмахом руки отсылая провожатого. — Все взяли и…
— Умерли, — подтвердил Фрол.
А что ему еще сказать было?
— Ясно… я ведь могу в Акадэмию заглянуть, проверить.
— Если на то будет воля ваша царская. — Фрол поклонился.
Не ответил.
А ведь заглянет. Нет, не сам, чужими глазами, пересчитает всех студиозусов, вынесет самых подозрительных в особый список… мало им беды…
— Есть надежда, что Илья Мирославович… в себя вернутся?
Фрол покачал головой: слишком долго душа мальчишкина под гнетом чуждой жила, чтобы выпрямиться.
— Возможно, со временем он научится говорить, есть сам… ходить наново… и разум вернется к уровню дитяти, но не больше. Память и вовсе…
— Что ж, может, оно и к лучшему… в монастырь?
— Пожалуй, что так.
— Нет. — Царь покачал головой. — Пойдут слухи, что я родича придушил потиху. Пусть тут живет, при тереме. Нянек, мамок сыщем…
А заодно тех, кто приглядит, чтоб взаправду не вернулся Илья Мирославович в разум свой.
Пускай. Глядишь, и вправду не обидят, не при людях, что восславят доброго царя, который к скорбному родичу мягок.
— Я хотел о другом поговорить… я слышал о ваших… выборах. — Губы царя дрогнули, сложились в подобие усмешки. — Не вы стали ректором. Но сколь законно это?
— Согласно Уставу Акадэмии…
— Бросьте. Вы сильнейший маг, и место ваше по праву…
Сила не всегда спасет, это Фрол хорошо успел выучить.
— И я мог бы поспособствовать…
— Не стоит.
— Мне нужно немного. Лояльность и…
А слова-то какие выучил. Лояльность…
— Маги не сделают ничего, что пошло бы во вред царству Росскому…
Царь поморщился.
— Что ж, остается уповать, что у нас с вами совпадают представления о полезном… и все же, если вдруг вам покажется, что вы передумали… или пожелаете передумать, я… с удовольствием поддержу вашу кандидатуру.
Из терема Фрол выходил быстрым шагом. Было б можно — бежал бы, позабывши о степенности и о том, что магикам боевым в мирное время бегать не след: народец напужается. Он-то, народец, после черное ночи зело пужливым сделался.
Слухи поползут.
— И как твой визит прошел? — Люциане разрешили вставать, впрочем, удержать ее в постели дольше, нежели она сама считала целесообразным, не удалось бы никому.
Бледна.
Пряма.
Сидит, вцепилась в подлокотничек резной, видно, что и это ей тяжко дается, а туда же, упрямая, прилечь предложи — нахмурится. Ей не идет хмуриться, а улыбаться она разучилась.
— Да… — Фрол вытащил из-за пазухи мятый букетик незабудок. — Никак… будет пытаться подмять нас.
— А мы — получить свободу. — Букетик она приняла и зарделась.
— Примерно так.
— Значит, ничего нового…
Вздохнула. И, пальцем губ коснувшись, спросила:
— Поверил?
— Нет… но сделал вид, что верит.
— Значит, возвращаться им нельзя.
Фрол кивнул.
— Плохо… дети же. — Она покачала головой и поморщилась.
— Болит?
— Нет, скорее слабость эта… каждый день надеюсь, что полегчает, а оно никак не легчает… и молчи, я знаю, что восстановление — дело долгое, что не в крови проблема, а в силах, которые я отдала, что…
— Вот раз знаешь, то и лежала бы, — проворчал Фрол. — А то ишь… не лежится ей.
У нее хорошая улыбка.
Светлая. И если даст Божиня, он видит эту улыбку не в последний раз… он больше не позволит ей уйти. Если нужда будет — в ковер завернет по азарскому обычаю и увезет за край земель. Хотя, конечно, земля круглая, да… глядишь, какой-никакой уголок найдется.
— О чем ты думаешь? — Люциана коснулась его щеки. — Такой серьезный… о судьбе мира?
Что Фролу мир? Стоял и стоять будет.
— Нет, о нашей. Это важнее. Выйдешь за меня?
— Выйду, — просто ответила она. — Завтра. А лучше сегодня.
— Чем лучше?
— Тем, что быстрее. Меньше шансов, что опять что-нибудь да произойдет.
— Так мне искать жреца?
— Ищи, — милостиво дозволила Люциана. — Только… ты уверен? Характер у меня за прошлые годы еще сильней испортился…
Испортился. Да и сам Фрол изменился изрядно. Но… может, оно к лучшему?
Корабли держались в заливе. И меж ними да пристанью шустро сновали узкие лодчонки. Одни — пустые, другие уже груженные, да так, что дивно, как вовсе держались они на волнах, не тонули под тяжестью свертков и сундуков.
Море было спокойно.
Пахло странно. Городом иным, отличным от того, который Щучке был знаком до распоследней подворотни. Рыбой вот еще. Травами. Деревом… И запахи эти незнакомые мешались один с другим, опутывая, смущая. И Щучка, сама того не замечая, подбиралась поближе к тому, кто назвался ее мужем. А он будто и не замечал ни робости ее, ни чудес вокруг.
Вот зеленая птица с желтым клювом зазывала люд к шарманщику.
Выплясывало у самой воды существо, которое Щучка сперва приняла за человека, а после разглядела и шерсть, и хвост длиннющий…
Люди в белых балахонах.
И кто-то, точно не человек, уж больно огромен и серокож, на спор камни в ладони раскалывал, будто орехи.
— Не зевай. — Еська шлепнул шаловливую руку щипача, и Щучке стало стыдно. Ишь ты, сколько раз она рыбачила в кошелях приезжих зевак. И еще дивилась, как так можно, вовсе позабыть об осторожности.
А теперь сама.
— Ну что? — Егор ждал, где и условились — таверна «Морской конь» была невелика, но зато чиста по сравнению с прочими. Держала ее вдова, женщина широкой кости, крепкой руки и норова крутого, который и позволял ей с легкостью немалой управляться с хозяйством.
Егор занял стол у махонького окошка, затянутого мутным стеклом. На столе стояли кувшин кисловатого пива, миска с мясным варевом да троица тарелок.
— Завтра отходят три корабля. Два на Диньярские острова, но туда соваться смысла нет. У них свои маги. — Еська пропустил Щучку к стене. — Да и…
Глянул.
Вздохнул.
Понятно. Неудобно ему… не в магах дело, а в том, что баба на корабле — к беде. Так ему сказали, не особо Щучки стесняясь.
— Еще один до Мальгассы, а уж там порт побольше… возьмут. А у тебя?
— Приняли. Я с водой ладить умею, а у них аккурат маг слег… да и то не магом был, но так, нахватался по верхам.
— Можно подумать, ты больно ученый… — Еська ел ноздреватый хлеб, отламывая по маленькому кусочку. А вот к мясу местному не прикасался. Подозревал, что порченое? Нет, тогда б упредил. Он по-своему заботливый.
— Твоя правда… — Егор вздохнул. — Я тут подумал… оно, конечно, правильно, что Фрол говорит… учиться, грамоту… но пока то да се… силы у меня не сказать, чтобы много. С водой я и так управляться умею. А чего не умею, тому научусь. Книг я захватил… практика, она… а если вдруг поступить захочется, так всегда смогу.
— Значит, в Выжлян не пойдешь?
Егор покачал головой.
— Понятно.
Еська и сам не пойдет, хотя и у него, как у прочих, есть рекомендательное письмо на зачарованной бумаге. И с письмом этим их, что в Выжляне, что в Сауре, что в южном неведомом Бехрете, где города стоят на песках, примут с радостью.
Только…
Щучка потрогала лоб, в который раз удивилась, что гладкий он.
Исчезла печать.
А она до последнего не верила, что выйдет. И когда та женщина, обещавшая ей свободу, слегла, просто смирилась с этим. Не повезло. Всегда-то ей не везло. А тут… мужчина хмурый и огромный, что медведь-шатун сам ее отыскал.
И велел:
— Сядь.
И как-то вышло, что Еська рядом оказался.
— Будет больно. — Мужчина глядел спокойно, и это спокойствие его самой Щучке передалось. Она кивнула. И руку Еськину сжала. А тот не стал смеяться, не обозвал слабой, но просто по волосам погладил. Сказал:
— Все будет хорошо.
И она поверила.
Не обманули. Было больно. Будто мужчина этот неловкими своими пальцами зацепил железную занозину и потянул. И тянул-тянул, вытягивая прямо с костями. И Щучка, кажется, плакала, но сидела. А когда готова была сдаться, Еська не позволил.
Удержал на месте.
— Уже недолго осталось… немного… погоди… все будет хорошо. — Он повторял это и повторял, а она слушала и сама себя заставляла верить.
И когда ее отпустили — заноза выскользнула, — протянули платок, чтобы кровь утереть, то Щучка услышала:
— На, пусть пару дней мажет, тогда и шрама не останется. Только ты понимаешь, что теперь вам здесь оставаться нельзя?
— Придавят. — Еська не сгинул. И не отпустил. Держал ее крепко. И это было непривычно.
И приятно.
— Есть еще несколько акадэмий. Я дам рекомендательные письма. Вас примут. А дальше…
— Сами.
— Именно… деньги тоже будут. Есть у меня с кем переслать… если захотите…
Тогда захотели все, кроме Елисея. Щучка вот могла б остаться, до нее, если подумать, царю точно никакого дела не было, но куда она одна?
Как?
Раз уж замуж вышла, то с мужем надобно…
Ехали… отдельная песня, как ехали… верхами гнали, будто волкодлаки за ними гнались. И границу перешли лесом, глаза отведя… и уже после сели на крутобокую ладью, хозяин которой денег не взял, но зато пришлось амулеты заряжать.
Потом был город…
И еще город…
…и дорога, в которой потерялся Евстигней, сказавши, что есть у него дело.
— Значится, в море пойдешь. — Еська, похоже, не удивился. — Что ж… удачи, брат.
— И тебе…
Спрашивать, куда они сами отправятся, Егор не стал. Может, оно и к лучшему. Не то чтоб Щучку сильно мужнина родня занимала, да вот все ж рядом с этим Егором она чувствовала себя приблудой. И вроде бы не говорил он ничего обидного, да и вовсе держался любезно, а вот все одно…
— Вдвоем остались, — сказал Еська, когда Егор ушел. И вздохнул. — А я как-то и не привык.
— Если я тебе надоедаю…
Он только отмахнулся.
— Встретимся еще, коль Божиня будет милостива… может, прав наставник, что нам надо свой путь поискать, а не тот, к которому нас приучили.
И вновь вздохнул.
Поскреб затылок.
— Тебе учиться надо. Да и мне не помешает… а то только и умею, что кошели резать…
И в этом был свой смысл.
А идти морем Щучке не понравилось. Качает. И корабль что скорлупка, которую каждая волна захлестнуть способна. Ненадежно. И страшно. И за страх этот стыдно… да и вообще… тесно.
Людно.
Шумно. Грязно. И от шума с грязью деваться некуда… ничего, им бы до места добраться, а там…
Как-нибудь да сладится.
Уже ладится.
И… и, глядя на волны, темно-синие, с переливами, Щучка вдруг уверилась, что новая ее жизнь, подаренная человеком, которого она ненавидела — все еще ненавидела? — будет совсем не похожа на прежнюю. Плохо это? Хорошо?
Она не знала.
Чернолесье было светлым.
Молодой березняк. Белые хрупкие деревца. Зелень трав. Узоры цветов. Темная кромка старого ельника, который этим днем не гляделся мрачным.
Овраг.
И ключ на дне его.
Высокие стены поросли грабом, и тонкие деревца кренились, перехлестывались этакой крышей, сквозь которую проникал солнечный свет, ложился на травы, на древние камни, поросшие темным клочковатым мхом.
На крышу землянки.
На женщину, сидевшую на пороге.
Она была красива броской яркой красотой, и простой наряд лишь подчеркивал ее.
— Домой блохастого не пущу. — Женщина поймала за шкирку огромного зверя черной масти с подпалинами, и тот заворчал. — И не пугай, все одно не боюсь… где ты шлялся всю ночь?
Она грозно нахмурила брови, но не выдержала, рассмеялась и, наклонившись, поцеловала зверя в мокрый нос.
— Пахнет псиной… и будь осторожен, ладно?
Зверь кивнул.
Он лег у ног ее, пристроив голову на колени, и женщина достала гребень. Она вычесывала жесткую черную шерсть, и зверь щурился, наслаждаясь…
— Сойки сказали, что опять охотники на болото полезли. Ты там не ходи… я понимаю, что ты сильнее… умнее… но все одно не ходи.
Зверь дернул ухом.
Ему была непривычна такая забота. И то, что женщина эта так и не начала бояться. Он всегда-то ждал, когда наступит этот момент, когда поймет она, с кем свела ее жизнь, а она все не понимала… принимала его равно что в зверином, что в человеческом обличье.
Удивительно.
— А еще ты хотел на ярмарку съездить… там спрашивать станут… скажи, что ты Ульгреда внук… это мой дед… у него внуков было две дюжины, а то и больше. Ни одной бабы не пропустил… он-то боярского рода еще, хотя земель у него — терем да две деревни. Деревни нищие, вот он и брал оброк постелью.
Она чесала осторожно и гладила, и прикосновения ее были приятны зверю, о чем женщина распрекрасно знала.
Она вообще как-то много о нем знала, хотя Лис и не рассказывал.
Нужды не было.
— Поэтому поверят. И за своего сойдешь. Чужаков тут не любят… мне лучше не показываться… меня… он и продал… мамка из простых, его дочь… но он не признавал. Все знали, что его, но… я хорошенькой была, а денег постоянно не хватало. Вот и продал, да… но это не важно. Мне сказали, он умер давно… и про меня забыли наверняка.
Только она не забыла.
И зверь ткнулся мокрым носом в руку ее, лизнул, успокаивая.
— На ярмарке всего будет… купи мне тканей каких… а шкуры сразу не продавай, сначала никто нормальную цену не даст, тем более чужаку. Иглы еще нужны… соль… будут говорить, что дичину бьешь без дозволения, скажи, что тебе право жаловано, но грамоту в руки не давай. Не поймут. Да и вовсе не спеши оправдываться, тут за слабость посчитают.
Зверь засмеялся.
Беспокоится.
А до ярмарки еще седмица. И шкуры успеют высохнуть, и мясо подкоптится. Мяса тут много, зверье непуганое, и ему хватает, и волкам. А вот с хлебом тяжелей. И с крупами. Она-то за хижиной огородик разбила, да только кроме редиса да гороха в нынешнем году ничего не вырастет.
На ярмарку ехать надобно.
И с охотниками теми же знакомство свести, которые, осмелевши, заглядывают на болото. Нет, нынешние болота, конечно, не чета тем, летним, но все же…
Золото есть, но показывать его не стоит, тут она вновь права. Слишком много будет что любопытных, что говорливых. Пустят слух о кладе, и потянутся люди лихие, желая клад этот, лесниковый, себе прибрать. Не то чтобы Елисей людей боялся, но убивать зазря не хотелось.
И она еще опечалится.
— Муки с пуд… и ржаной тоже, на ней хлеб хорош выходит. С полпуда гороху сушеного, только лучше, чтобы желтый. И еще сахара… чай. — Она запнулась, понимая, что чай дорог, не для лесникова тощего кошеля забава.
Но он привезет.
И чая, к которому она привыкла, и гороху с фасолью, и голову сахарную, без которой чай невкусен. Привезет и пуговиц, и иголок с нитками, и прочих мелочей…
— Я бы сама отправилась. — Она закопалась в шерсть его, прижалась лицом. — Но… не стоит… говорят, что в красоте счастье… не было у меня счастья… ни когда в первый раз продали, ни потом… не хочу их видеть… людей… понимаю, что не все такие, как… а все одно не хочу. Ты же справишься сам?
Справится.
С ярмарокой-то… чай, нехитрое это дело… одно, конечно, как привезти… нанимать кого с лошаденкой? Почему б и нет, пусть подъедут, своими глазами увидят, что ожила старая землянка, с десяток зим пустой стоявшая.
Шкурки он повезет, но не все. Надобно будет шубу справить Лелюшке, а то зимы тут лютые… и одеяло меховое… на одеяло-то Елисей за медведем сходит, давно уж приметил берлогу. Зверь там матерый, главное, дождаться, пока перелиняет, чтоб вышло одеяло теплым.
И ей говорить не стоит. Изволнуется, хотя волкодлаку медведь тот на один зуб.
Норок бы по зиме наловить, да юркие… и с лисами возни много.
Ничего, будет время… и шуба будет… и одеяло… и дом нынешний, махонький, они обживут. Елисею-то иного не надобно, а ей… если захочет, то поставит другой, чтоб стены из бревен, крыша двускатная…
Он зажмурился счастливо: впервые за долгое время жизнь его была проста и понятна.
Разве ж не в том счастье?
Здесь пахло морем. Не тем, загнившим, спеленутым многими пристанями да цепями, которыми перекрывали выход из бухты. Нет, это море было светлым.
Вызолоченным солнцем.
Ветрами обласканным.
Это море не знало бед, разве что чайки вот плакали привычными гнусавыми голосами, но их Евстя старался не слушать. Он шел по светлой улочке, которая по утреннему часу — солнце только-только вынырнуло из морских глубин — была пуста. И звук шагов, казалось, разносится по всему этому сонному городку. Вот на него выглянул матерый кот черной масти, проводил гостя взглядом и мяукнул, мол, не страшен.
А собак здесь почему-то не держали…
Он сменял одну улочку на другую, от первой неотличимую. Разве что здесь разросся колючий кустарник, ныне сплошь усыпанный мелкими белыми цветами. Не от него ли улочку назвали Беленой?
Пятый дом.
Забор невысокий, из тонкого прута связанный. И глядится не железом — кружевом, которое там, дома, не всякий боярин позволить себе способен. Да и… несерьезен этот забор с виду. По кружеву такому лихой человек мигом взберется…
Или…
Евстя пригляделся.
Полыхнуло зеленью. Синевой. И еще алым ярким цветом. На железных прутьях, что на пяльцах бабских, кто-то растянул причудливую вышивку заклятья.
— Доброго дня, — окликнули его, и Евстя очнулся.
Надо же, застыл перед калиткой.
А ведь сколько раз он продумывал, как это будет… придет, постучится и… и дальше мысль не шла.
— Доброго. — Дядьку Ольгерда он сразу узнал.
Постарел. Седой весь, что лунь, да только не сказать, чтобы дряхлый. Меньше сделался вот. Прежде-то он был что гора, огромен, а теперь вот… Евстя сам повыше будет. А в плечах одинаковы.
— Пришел-таки? — Дядька Ольгерд усмехнулся, калиточку отворяя. — Что стоишь, как неродной?
Неродной.
Ему неродной, а мамка… она обрадуется? Или… или уже привыкли тут без него? А он теперь пришел… и как быть? Не прогонишь, но и своим не сделаешь… у них семья…
— Бестолочь, — хмыкнул дядька Ольгерд, седой ус крутанувши. — Заходи… заждались уже… три дня как приехал, а носу не кажешь. Выпороть бы тебя за этакое.
И его ворчание, добродушное — никогда-то прежде дядька Ольгерд за вожжи не брался, грозился только, — было таким родным, что Евстя вдохнул.
И выдохнул.
И задышал нормально, почти нормально, только быстро, как после долгого бега. Сердце заухало.
— А я… не помешаю? — Он еще не решался ступить за калитку, хотя и была та открыта, будто бы этот шаг все вдруг переменит, и как знать, в лучшую ли сторону.
— Бестолочь, — повторил дядька Ольгерд. И руку протянул. — Эй, там… к завтраку стол накрывайте.
— Я…
— Ты. — Рука его была крепкой, жесткой. — Знал, что живой… да… надолго?
— Насовсем.
— Вот и ладно. — Дядька Ольгерд потянул к себе, обнял. — С возвращением…
Жеребец легко ступал по горной тропе, хоть и была она узка, с ленту, что девки в косы заплетают. Хрустели под копытом мелкие камушки, осыпались… того и гляди и сам конь рухнет в пропасть бездонную, и всадника за собой уволочет. Но тот сидел спокоен, будто даже дремал в седле.
И лишь когда конь застыл, всадник очнулся.
Огляделся.
— Спасибо, дорогой, — сказал он, спешиваясь.
Этот дом будто вырастал из горы, являясь продолжением его. Камень врастал в камень, меняя цвет. И бурый гранит светлел, словно становясь мягче, прозрачней.
Дом не был большим.
Тяжелая подошва первого этажа с крохотными оконцами, сквозь которые света проникало немного, да и не надобен он был в погребе. Каменные стены, скрепленные серым раствором. Узкая башенка с плоской крышей, на которой примостился долгошеий журавль-маяк. И пара железных труб, будто прилипших к стене. Трубы, выходя из горы, огибали дом, точно огромные змеи, и подползали к обрыву, открываясь парой ртов, из которых текла вода.
— Гулять пойдешь? — Кирей перекинул седло с конской спины на забор, поставленный вокруг дома больше по привычке, нежели из нужды. И конь всхрапнул, тряхнул гривой. — Не нагулялся еще… смотри, не замерзни.
Он снял недоуздок и хлопнул жеребца по шее.
— Беги… зима скоро…
На перевал зима приходит рано. Присылает вестников снежнокрылых, ледяным дыханием морозит горные тропы, и, скользкие, они делаются вовсе не проходимыми. А коль сыщутся смельчаки, которых не отпугнет лед, то с ними метели управятся. Закружат белым маревом, поведут хороводом, и горе тому, кто поддастся на сладкие обещания снежных дев.
И только долина с горячими источниками вроде того, который грел дом, не замерзнет в самые лютые морозы. Может, оттого и поставил здесь дом неизвестный маг…
Пригодилось.
Местные-то опасались к маговому жилищу лезть, пусть и сгинул хозяин давно. А вот Кирею дом по душе пришелся. И не одному ему.
В пристройке, которую Кирей под конюшню отвел, он повесил седло на крюк, разобрал упряжь… в дом вошел без стука, но его услышали.
Еще раньше услышали, верно, когда только поднялся по обындевевшей тропе.
— Ты, кажется, обещал, что не будешь подниматься короткой тропой. — Велимира швырнула тарелку, которую Кирей поймал.
— Так быстрее же…
Вторую тарелку он поставил на лавку и, подхватив жену, закружил по комнате.
Жарко.
Пылает огонь в камине, прирученный, счастливый, мурлычет, что кот. Впрочем, кот здесь тоже был, местной породы, которая вырастала размером с доброго кобеля. И коты эти, нрава свободного, уходили на охоту, приносили домой не мышей, но зайцев и куропаток. А поговаривали, что и дом они стерегли, куда там собаке. Черныш потянулся и зевнул, сполз с лавки. Его интересовал вовсе не хозяин, куда он денется, но сумки, из которых доносился сладкий рыбный дух.
— Прекрати, я все равно злюсь. — Злиться по-настоящему она не умела. — Ты мог упасть…
— Он бы не позволил.
— А то ты знаешь…
И замолчала.
Знает.
Оба знают.
Так и стояли. Стояли бы до утра. От волос ее пахло травами, а руки были мягки… она не утратила ни толики своей удивительной красоты, хотя и изменилась. А все одно ей к лицу что боярские драгоценные наряды, что местный, из мягчайшей шерсти… Здесь, в горах, женщины носят широкие шальвары, а поверх них — рубаху длинную. И рубаха ей тоже идет.
— А если с тобой что-то случится? Что будет со мной?
Она заглянула в глаза и тихо повторила:
— С нами?
А орлы в горах водились, но вовсе не такие огромные, как писали в книгах. Кирей добудет одного. Для сына.
Или для дочери. Как судьба выпадет.
А свадьбу сыграли, как сие водится, на осень.
И тетка Алевтина сама ставила столы, матюкая мужиков, которые так и норовили столы этие неправильно поставить, уж не ведаю отчего, может, просто чтоб баб позлить.
Открывались сундуки.
Выпускали скатерти расшитые, которые аккурат для этаких особых случаев и хранились. И каждая хозяйка своею пред иными хвалилась…
— А все одно, — бабка ворчала незло, для порядку, — могла б за царевича пойти… выбрала этого оглоеда… он мне сразу не глянулся. Ишь, рожа хитрющая…
И кулачком худеньким стене погрозилась, будто бы та одна виноватая была, что Арей не царской крови.
— Жила б в тереме…
— Мне и тут неплохо, — отозвалась я привычно.
Нет, бабка-то с Ареем ладила.
И хату он подправил, даром что она, еще дедом моим ставленная, была крепка, а все одно столько-то годков да без хозяйской руки. И крышу чинить надо было, и забору, и в самое хате хватало… бабка-то Ареевы старания принимала милостиво, с этакой боярской замашкой, он не обижался.
Понимал.
— На кресле царском сиживала б…
— Мне и на лавке не мулько.[15] — Я поерзала, и бабка меня за косу дернула.
— Сиди ровно, — велела, — а то как заплету…
Плела она косы старательно, с лентами белыми, с лентами алыми. А заплетши, уложила высоко, нитью жемчужною перевила… отступила, руками всплеснула и носом шмыгнула.
Горестно.
— Ах ты, девочка моя, кровинушка… улетит горлица в края-то дальние, — завела бабка, и девки деревенские, которых в дом позвали по обычаю, до того сидевшие тихо-тихо, подхватили:
— Ой, из-под крыла маменькиного… ой-то из-под руки тятенькиной… да в хату чужую…
Я носом шмыгнула, до того жалостливо у них получалось.
— Была ярочка…
— Стала чарочка! — донеслось со двора.
Это ж кто такой голосистый? Небось Неуклюд, которому только шестнадцатый годок пошел, а он себя уж первым женихом мнит, даром что рябой, будто яйцо перепелиное.
Бабка на него руками замахала.
Девки взвыли дружным хором, заглушая бестолкового, обычаев не знающего. Ох, и пели-то они сердечно, и хоровод завели…
Закружило.
Замелькали пред глазами платки цветастые… рубахи шелковые, алые да зеленые… жарко стало, а от голосов их горестных — не девки будто, чайки над озером плачутся — заломило в висках. И тетка Алевтина, сама-то в шубе медвежьей с алым подбоем, в шапке высокой да с кадильницею, поплыла лицом. Задурманилось.
Травами пахло.
Чарами.
И сквозь туман проступило вдруг лицо мамкино.
И тятька пришел… конечно, как он мою-то свадьбу пропустит? И дед… и нечего плакать… не по сговору-то отдают, а по доброе воле… и Арей…
Коснулось что-то щеки, ласково, будто птица крылом… иль ветер теплый… иль материнина рука… и легко так стало, прямо душа полетела в пляс.
— Ох ты, матушка моя… не расчешет косы… — пели хором проводную.
А бабка с теткой Алевтиной накинули мне на голову тяжелую шаль азарского шелка.
Был и жрец.
Был и храм наш.
Зерно, что сыпали под ноги… ветви зеленые березовые, которыми след заметали, чтоб не привязались к нему взгляд дурной, зависть и беды.
И хлеб нам подносили, ломали краюху на двоих… соль пробовали… чаркой кружили… и усадили нас по обычаю на мешки, шерстью набитые, да застланные коврами азарскими. И там уж староста первым здравицу молвил…
Все было.
Почти как в сказке…
— Устала? — Арей сам снял венец золотой — царский подарок, награда за службу — с головы моей. А венец-то тяжел, из цветов золотых, да в каждом камень горит алый. И отказаться бы от красоты этакой, да донесут.
— Устала. — Я прислонилась к его плечу.
— Ничего… потерпи… все уже закончилось.
Он расплетал косы, выбирая и ленты, и нити жемчужные… снял серьги, ожерелья…
— Вернемся в Акадэмию, если хочешь.
В сарае, где нам постлали постелю, пахло хорошо. Сеном свежим. Даром что Арей сам косил траву, да сушили мы, да сгребали копну. От тепериче на копне этой я и лежала. Ну как оно… сено-то застлали одеялом медвежьим. После-то простыню белотканую накинули… и еще одно одеяло, из лисьих драгоценных шкурок.
— Хочу. — Я легла.
Еще не ночь, но уже скоро… вона, небо в прорехах крыши посерело, знать, покатится солнце к краю.
— Целительницей буду. — Я вдохнула запах сена… а вона и венки, из хмеля плетенные, которые девки под крышей повесили. И метелки белокопытника, который крепость телесную дарует. — Меня Люциана Береславовна сразу на третий курс взять готовая… не вышло из меня воителки.
— И хорошо.
Арей растянулся рядом, руки за голову закинул.
Вдохнул.
— Хорошо.
И вправду было хорошо, а после еще лучше стало…
Примечания
1
Грукать — стучать, греметь.
(обратно)2
Рухавый — отличающийся легкостью, живостью в движениях.
(обратно)3
Бурштын — янтарь.
(обратно)4
Хорек.
(обратно)5
Збиедать — потерять.
(обратно)6
Очуняет — очнется, придет в себя.
(обратно)7
Заходний — западный.
(обратно)8
Веска — деревня.
(обратно)9
Пыл — пыль.
(обратно)10
Скуголить — скулить.
(обратно)11
Зникнуть — исчезнуть.
(обратно)12
Неямка — неловко.
(обратно)13
Привилей — жалованная грамота.
(обратно)14
Сталый — взрослый, вошедший в возраст.
(обратно)15
Мулько — неудобно.
(обратно)





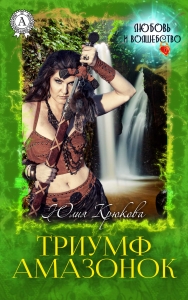

![Мандрагора и огурцы [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/610344/primary-medium.jpg)





Комментарии к книге «Летняя практика», Екатерина Лесина
Всего 0 комментариев