Кэтрин М. Валенте Бессмертный
Catherynne M. Valente
DEATHLESS
© 2011 by Catherynne M. Valente
© Владимир Беленкович, перевод, 2017
© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Часть 1. Длинный узкий дом
И ты придешь под черной епанчою, С зеленоватой страшною свечою, И не откроешь предо мной лица… Но мне недолго мучиться загадкой: Чья там рука под белою перчаткой И кто прислал ночного пришлеца?Анна Ахматова
Глава 1. Три жениха пришли на Гороховую
В этом городе у моря, что когда-то называли Санкт-Петербургом, потом Петроградом, потом Ленинградом, а потом, много позже, снова Санкт-Петербургом, на длинной узкой улице стоял длинный узкий дом. У длинного узкого окна сидела девочка в бледно-голубом платье и бледно-зеленых шлепанцах, поджидая птицу, которая женится на ней.
Любую другую девочку за такие мысли заперли бы в комнате до тех пор, пока она не выкинет эти бредни из головы, но Марья Моревна видала из окошка мужей всех своих сестер, перед тем как они стучались в большую дверь вишневого дерева. Так что собственная судьба была для нее такой же ясной, как луна на небе.
Первый пришел, когда Марье было только шесть, а ее сестра Ольга к тому времени уже выросла высокой и прекрасной девушкой с золотистыми волосами, перевязанными сзади, как осенний сноп сена. День был влажный и серебристый, а длинные тонкие облака терлись о крышу ее дома и свертывались в аккуратные самокрутки. С верхнего этажа Марья видела, как птицы собираются в кронах дубов и ловко хватают на лету первые крохотные капли дождя. Все крылатые создания знают, что эти первые – самые сладкие, лопаются в клюве, словно виноградинки. Она рассмеялась, глядя, как грачи бьются из-за капель дождя, и вдруг – вся стая повернулась в ее сторону, глядя острыми, как иголки, глазами. Один из них, упитанный черный молодец, опасно наклонился на зеленой ветке и, не отводя взгляда от Марьиного окошка, вдруг свалился – бум, трах! – и грянулся оземь, но не разбился, а отскочил от земли, распрямился и оказался пригожим молодым человеком с большим горбатым носом, в красивой черной форме со сверкающими, как капли дождя, пуговицами.
Молодой человек постучал в большую дверь вишневого дерева. Мать Марьи Моревны, открыв дверь, смутилась под его взглядом.
– Я пришел за девушкой в окне, – сказал он отрывистым, но приятным голосом. – Я лейтенант Грач из личной гвардии царя. У меня много прекрасных домов с закромами, полными зерна, еще больше тучных полей, а нарядов у меня столько, что ей за всю жизнь не сносить, даже если будет менять их по три раза на дню каждый день до конца своей жизни.
– Должно быть, ты говоришь об Ольге, – сказала мать Марьи, взволнованно коснувшись рукой шеи. – Она самая старшая и самая красивая из моих дочерей.
И вот привели Ольгу, она и вправду сидела у окна, но на первом этаже, что смотрело не на улицу, а в сад, полный опавших яблок. Она наполнилась видом прекрасного юноши в красивой черной форме, как мех вином, и целомудренно расцеловала его в обе щеки. Они вместе пошли вдоль по Гороховой, и он купил ей золотую шляпку с длинными черными перьями, заткнутыми за ленту.
Вечером, когда они вернулись, лейтенант Грач посмотрел в малиновые небеса и вздохнул:
– Это не та девушка из окошка. Но я буду любить ее так, будто это она, потому что знаю теперь, что девушка в окошке не для меня.
Так вот Ольга благополучно отправилась в поместье лейтенанта Грача, откуда писала сестрам домой длинные письма, в которых из глаголов строились за́мки, а падежи расцветали, как ухоженные розы.
Второй жених пришел, когда Марье было девять. Ее сестра Татьяна была девушкой хитрой и рыжей, как лисица, с серыми глазами, от которых не могла укрыться ни одна сто́ящая вещь. Марья Моревна сидела у окна, вышивая подол крестильной рубашки для второго сына Ольги. Стояла весна, утренний дождь умыл их длинную узкую улицу, и она засверкала мокрыми розовыми лепестками. С верхнего этажа Марья смотрела, как птицы снова собираются на большом дубе и ловко хватают клювами промокшие и набухшие соцветия вишни. Все крылатые создания знают, что эти – самые вкусные из всех соцветий, просто тают в клюве, как пирожные. Она рассмеялась, глядя, как зуйки дерутся из-за цветов, и вдруг вся стая повернулась в ее сторону, глядя острыми, как кончик ножа, глазами. Один из них, упитанный коричневый молодец, опасно наклонился на зеленой ветке и, не отводя взгляда от Марьиного окошка, вдруг свалился и – бум, трах! – грянулся оземь, но не разбился, а отскочил, распрямился и обернулся пригожим молодым человеком с приятным округлым ртом. Пуговицы его красивой коричневой формы с длинным белым шарфом сверкали на солнце.
Молодой человек постучал в большую дверь вишневого дерева, и мать Марьи Моревны, открыв дверь, улыбнулась ему.
– Я лейтенант Зуёк из Белой гвардии, – сказал он, поскольку времена уже изменились. – Я пришел за девушкой из окошка. У меня много прекрасных домов с садами, полными плодов, много прекрасных полей, полных червяков, а драгоценностей у меня больше, чем она сможет сносить, даже если будет менять кольца по три раза на дню каждый день до конца своей жизни.
– Ты, должно быть, говоришь о Татьяне, – сказала мать Марьи Моревны, прижимая руку к груди. – Она – вторая моя дочь, и теперь она самая красивая.
И вот к нему вышла Татьяна, она и вправду сидела у окна, но на первом этаже, что смотрело не на улицу, а в сад, полный яблонь в цвету. Она, как шелковый воздушный шар, наполнилась сияющим видом прекрасного молодого человека в красивой коричневой форме и поцеловала его – совсем не целомудренно, прямо в губы. Они пошли вдоль по Гороховой улице, и он купил ей белую шляпу с длинными перьями цвета каштана, заткнутыми за ленту.
Вечером, когда они вернулись, лейтенант Зуёк посмотрел в бирюзовые небеса и вздохнул:
– Это не та девушка в окошке. Но я буду любить ее, будто это она, потому что знаю теперь, что девушка в окошке не для меня.
И вот Татьяна счастливо убыла в имение лейтенанта Зуйка, откуда писала сестрам домой сложные письма, в которых глаголы ее танцевали квадратом, а падежи расстилались, как столы, накрытые для пира.
Третий муж пришел, когда Марье было 12. Ее третья сестра Анна превратилась в стройную и нежную, как олененок, девушку, которая краснела быстрее, чем пролетает тень. Марья Моревна сидела у своего окна, вышивая воротничок нарядного платья для первой дочери Татьяны. Стояла зима, и снег на Гороховой улице ложился высокими и круглыми, как замерзшие курганы, сугробами. С верхнего этажа Марья смотрела, как птицы снова собираются на большом дубе, ловко щелкают клювами украденные у белок последние осенние орехи, что спрятаны в трещинах коры. Всякое крылатое существо знает, что из всех орехов они – самые горькие, горше вкуса прошлых невзгод, что надолго остаются на языке. Она рассмеялась, глядя, как жуланы ссорятся из-за желудей, как вдруг вся стая повернулась в ее сторону, глядя глазами острыми, как наконечник штыка. Один из них, статный серый молодец с красной отметиной на боку, перегнулся опасно на ветке, покрытой зеленой корой, и, не отводя взгляда от окна Марьи, вдруг свалился и – бум, трах! – грянулся оземь, но не разбился, а отскочил, распрямился и обернулся пригожим молодым человеком с узкими, по-озорному умными глазами, в красивой серой форме, с длинным красным шарфом и пуговицами, сверкающими, как уличные фонари.
Молодой человек постучал в большую вишневую дверь, и мать Марьи Моревны, открыв дверь, нахмурилась под его взглядом.
– Я лейтенант Красной армии Жулан, – сказал он, – ведь мир изменился настолько, что принялся воевать сам с собой, не в силах решить, как он хочет выглядеть. Я пришел за девушкой в окошке. У меня много прекрасных домов, которые принадлежат мне и моим товарищам, много прекрасных рек, полных рыбы, которые принадлежат всякому, у кого есть сеть, и у меня есть больше добрых книг, чем она сможет прочитать, даже если будет читать по три книги в день каждый день до конца своей жизни.
– Ты, должно быть, имеешь в виду Анну, – сказала мать Марьи, крепко подбоченившись. – Она моя третья дочь, и теперь она самая прекрасная.
И вот к нему вышла Анна, она и вправду сидела у окна на первом этаже, и смотрело оно в сад, полный голых веток, а не на улицу. Она, словно ведро водой, наполнилась милым видом своего прекрасного жениха в приятной серой форме и, ужасно стесняясь, позволила ему поцеловать руку. Они пошли вдоль по улице, которую по-новому называли Комиссарской, и он купил ей простую зеленую кепку с красной звездой на околыше.
Вечером, когда они вернулись, лейтенант Жулан посмотрел в черные небеса и вздохнул:
– Это не та девушка в окошке, но я буду любить ее так, будто это она, потому что теперь я знаю, что девушка в окошке не для меня.
И вот Анна послушно убыла в имение лейтенанта Жулана и писала домой сестрам письма с правильными словами, в которых глаголы были справедливо распределены между существительными, а падежи не просили больше, чем им требовалось.
Глава 2. Красный галстук
В этом городе у моря, который теперь уже называли Петроградом и никак иначе, и даже под страхом наказания не вспоминали, что когда-то он был Санкт-Петербургом, в том длинном узком доме на длинной узкой улице Марья Моревна сидела у окна и вязала жакетик для первого сына Анны. Ей исполнилось пятнадцать лет, пятнадцать дней и пятнадцать часов, она была четвертой дочерью и по возрасту и по красоте. Она терпеливо ждала, когда птицы соберутся в летних деревьях, ждала, когда они устроят драку из-за спелых алых вишен, а одна из них перегнется вперед с ветки, да так далеко, что… – но птицы все не прилетали, и она уже начала беспокоиться.
Она перестала заплетать свои длинные черные волосы в косу. Она бродила по дощатым полам дома на Гороховой улице босой, чтобы сберечь свои единственные башмаки для длинной дороги в школу. Марья, словно дитя вдовой матери, что снова вышла замуж, никак не могла запомнить новое имя для улицы, которую все свое детство она знала как Гороховую. Теперь в доме жили и другие семьи, поскольку ни одна крыша над головой, тем более такая прекрасная, как эта, не должна больше эгоистично принадлежать только одной семье.
Это неприлично, согласился отец Марьи.
Так, конечно, будет лучше, кивнула мать Марьи.
Двенадцать матерей и двенадцать отцов, каждые с четырьмя детьми, были упакованы в длинный узкий дом со старыми серебряно-синими портьерами, развешанными по центру каждой комнаты, чтобы получился лабиринт из двенадцати столовых, двенадцати гостиных, двенадцати спален. Можно сказать – да так оно и было, – что у Марьи появилось двенадцать матерей и двенадцать отцов, как и у всех детей в этом длинном узком доме. И все матери Марьи смеялись над ней, считая ее бестолковой. Всех отцов беспокоили ее буйные распущенные волосы. Все их дети воровали ее бисквиты с общего стола. Они не любили ее, а она не любила их. Они жили в ее доме, с ее мебелью, и, хотя делиться считалось добрым делом, ее пустой желудок не ходил на уличные демонстрации и не понимал своего патриотического долга. Если они считают ее бестолковой, если считают, что она немного не в себе, пускай, только бы оставили в покое. Марья не была бестолковой – она просто думала.
Требуется немало времени, чтобы обдумать такую странность, как эти птицы. Нельзя ни с того ни с сего довериться путанице и неразберихе, того пуще – хитрым трюкам памяти. Итак, стало ясно, что никакой жулан уже не придет и не заберет ее из перенаселенного дома; не уведет от непрерывного шума и стряпни всех этих Бодниексов, всех этих Дьяченок, колотящих что-то на лестнице; не поможет ее волосам, все больше редеющим и секущимся, пока за общим столом прибывает едоков; не избавит от потного товарища Пьяковского, который постоянно на нее таращится. Так вот Марья отрядила свой разум решать другую задачу – разбираться в этой истории. Неважно, чем она была занята: подметала двор, или делала уроки по истории, или помогала одной из матерей сшить рубашку, – сердце ее стучало наперегонки с птичьей загадкой, пытаясь убежать от нее в такое место, где все могло бы опять обрести смысл.
Марья приколола свое детство булавкой, как бабочку. Она рассматривала его так, как математик рассматривает уравнение. Дано: мир так устроен, что птицы могут превращаться в женихов в мгновение ока, и никто об этом никогда не говорит. Какие следуют из этого выводы? Что все уже об этом знают и только мне одной это странно? Или наоборот, только я вижу, как это происходит, а все остальные даже не подозревают, что мир таков? Поскольку ни ее мать, ни ее отец, ни Светлана Тихоновна, ни Елена Григорьевна никогда не упоминали, что их мужья тоже когда-то были птицами, Марья отвергла первое заключение. Однако второе вело к еще более затруднительным и огорчительным догадкам.
Первое предположение: возможно, никто не должен видеть, как выглядит муж, пока он не приведет себя в более или менее надлежащий вид. Возможно, страна женихов – это такое странное место, в котором полно не только птиц, но также летучих мышей, ящериц, медведей, червей и другой живности, которые только и ждут, чтобы свалиться откуда-нибудь – и прямиком под венец. Возможно, Марья нарушила какое-то правило и посетила эту страну без надлежаще выправленных документов? Все ли женихи таковы? Марья вздрогнула. И ее отец такой же? А товарищ Пьяковский, что не сводит с нее волчьих глаз? А с их женами что? А она сама тоже превратится в кого-то еще, когда выйдет замуж, так же, как птицы, которые обращаются в статных молодых людей?
Второе предположение: какими бы ни были законы мира, определенно лучше ведать о таких чудесах, чем не ведать о них. Марья чувствовала, что владеет каким-то секретом, очень важным, и если она о нем позаботится, то секрет тоже позаботится о ней. Она увидела мир обнаженным, застала его врасплох. Ее сестер спасли и увезли из города – так часто вызволяют от напастей прекрасных девушек, – но сами они не знали, что это за мужья у них на самом деле. Они не понимали чего-то жизненно важного. Марья прекрасно видела, что с их замужеством что-то не так, и себе она такого не желала. Она решила, что не хочет оставаться в неведении. У меня все выйдет лучше, чем у сестер. Если явится птица или другой зверь из этой жуткой страны, где растут женихи, я увижу его без обличья, прежде чем соглашусь влюбиться. Вот так Марья и догадалась, что любви можно придать требуемый облик, что любовь – это соглашение, договор между двумя сторонами, который они вправе по желанию подписать или нет.
Когда Марья снова увидит что-то необычное, она будет готова. Она будет умной. Она не позволит ему командовать или дурачить себя. Она сама будет дурачить, если иначе нельзя.
Однако уже давно она не видела ничего, кроме приближения зимы, или пререканий из-за хлеба, или собственных рук, что становились все тоньше. Марья старалась не доходить до третьего предположения, но в глубине души оно все равно сидело, пока, наконец, невозможно стало его не замечать. Птицы не прилетали за ней потому, что она не так хороша, как сестры. Четвертая по красоте, слишком занятая своими мыслями, чтобы отбирать у маленьких отвратительных близнецов хлеб, украденный ими с подлым хихиканьем. За ней не пришли именно потому, что она увидела их без маскарадных костюмов. Возможно, замужество и должно быть таким странным, а она теперь порченый товар только потому, что подсматривала, когда не следовало. И все равно она не жалела. Если мир делится на тех, кто видит, и тех, кто не видит, думала Марья, я всегда предпочту видеть.
Однако думами сыт не будешь. Одна, брошенная птицами, Марья Моревна плакала по своим сестрам, по своему пустому желудку, по переполненному дому, стонущему по ночам, как роженица в схватках, что пытается принести в мир одновременно двенадцать детей.
* * *
Только однажды Марья Моревна попыталась поделиться своим секретом. Если считалось неправильным единолично владеть домом, то единолично владеть знанием тоже неправильно. Тогда она была моложе, всего тринадцать лет, – как раз после зуйков и жуланов. Именно в тринадцать лет Марья Моревна научилась хранить секреты и поняла, что секреты очень ревнивы и не терпят панибратства.
В те дни Марья Моревна, как все дети, ходила в школу с красным галстуком, повязанным вокруг шеи. Она любила свой галстук – посреди ужасного дома, посеревшего от того, что столько людей в нем непрерывно стирали белье, потели, варили картошку, посреди всего этого галстук ее был ярким и роскошным – он был знаком ее принадлежности. Он выделял ее преданность и честность как члена комитета юных пролетариев. Он означал, что она была одной из лучших в школе, одной из детей революции. Она вместе с одноклассниками раздавала листовки или цветы на углу улицы, и взрослые всегда улыбались, видя, как она хороша в своем галстуке.
Кроме галстука утешали Марью в юности книги. Поэтому она любила уроки, где обсуждали их и описанные там чудеса. Единственная радость от двенадцати семей в одном доме в том, что каждая привезла с собой хотя бы один чемодан книг, и эти новые книжки с их прекрасным содержимым полагалось делить на всех. Увидев однажды мир без покровов, Марья Моревна стала одержима невероятной жаждой знаний, эта жажда гнала ее вперед по длинным узким улицам Петрограда, она хотела знать все. Особенно Марья Моревна любила потрясающего Александра Сергеевича Пушкина, который писал об уже знакомом ей обнаженном мире, в котором случается что угодно, и девочка должна быть готова к чему угодно, например, птица снова может грянуться оземь на обочине улицы. Когда она читала строчки великого поэта, она шептала себе самой – да, все это правда, потому что я видела это собственными глазами. Или – нет, не так творится волшебство. Она примеряла Пушкина к птицам, к себе и верила, что Пушкин хоть и умер, бедняга, но он на ее стороне и готов встать с ней плечом к плечу.
В то утро Марья, тринадцати лет от роду, читала Пушкина по дороге в школу, бредя по бесконечным мощенным булыжником улицам, ловко уворачиваясь от мужчин в длинных черных пальто, женщин в тяжелых башмаках и мальчишек-газетчиков со впалыми щеками. Она очень хорошо научилась прятать лицо в книжку, не спотыкаясь и не сбиваясь с пути. Книжка еще и от ветра защищала. Медь строчек Пушкина отдавалась в ее сердце тепло, ярко и почти так же сладко, как хлеб:
Царевна там в темнице тужит, А серый волк ей верно служит. Там ступа с Бабою-ягой Идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет…Да, думала Марья, не замечая, что запах дыма от костров и старого снега окутывает ее длинные черные волосы. Волшебство – оно такое, оно тебя истощает. Как ухватит тебя за ухо, настоящий мир становится все тише и тише, пока ты почти не перестанешь его слышать.
Заручившись поддержкой товарища Пушкина, который определенно ее понимал, Марья нарушила свое обычное молчание в классе. Их учительница – молодая и симпатичная женщина с нервными голубыми глазами – обсуждала с классом достоинства немолодой и несимпатичной жены товарища Ленина – товарища Крупской. Марья вдруг заговорила, сама того не ожидая:
– Я вот думаю, какой птицей был товарищ Ленин, пока он не обратился в Ленина. Мне интересно, может, товарищ Крупская видела, как он упал с дерева. Может, она сказала, это прекрасный ястреб и я позволю ему вонзить когти в мое сердце. Наверняка он был ястребом, который охотится и глотает все, что поймает.
Все дети уставились на Марью. Она покраснела, поняв, что сказала все вслух. Она занервничала и ухватилась за галстук, будто он мог уберечь ее от взглядов.
– Ну, вы знаете, – запнулась она, но не смогла объяснить, что именно все должны были знать.
Не могла заставить себя сказать: «Я как-то видела птицу, что обратилась человеком и женилась на моей сестре, и это ранило мое сердце настолько, что я уже не могла думать ни о чем другом. Если бы вы такое увидели, о чем бы вы думали? Не о стирке же, и не о погоде, и не о том, как ладят ваши отец и мать, и не о Ленине с Крупской».
После школы ее ждали – стайка одноклассников с сердитыми лицами и прищуренными глазами. Одна из них – высокая светлая девочка, которую Марья считала самой красивой, – подошла и залепила ей пощечину.
– Ты ненормальная, – прошипела она. – Как ты смеешь говорить о товарище Ленине так, будто он животное.
Затем все по очереди давали ей пощечины, дергали за платье, тянули за волосы. Они ничего не говорили: они делали все так торжественно и строго, будто это был трибунал. Когда Марья с окровавленной щекой заплакала и упала на колени, красивая светлая девочка дернула ее за подбородок и сорвала с шеи галстук.
– Нет, – выдохнула Марья. Она бросилась за галстуком, но не смогла дотянуться.
– Ты не наша, – презрительно усмехнулась девочка. – Зачем революции ненормальные девочки? Иди домой, в поместье, к своим буржуазным родителям.
– Пожалуйста, – заплакала Марья Моревна. – Это мой галстук, мой, это единственное, чем я не должна делиться. Пожалуйста, пожалуйста, я буду молчать. Я буду сидеть тихо-тихо. Никогда не скажу ни слова. Отдайте его мне, он мой.
Светлая девочка фыркнула:
– Он принадлежит народу. А народ – это мы, а не ты.
Она осталась одна, без галстука, с разбитым носом, сотрясаясь от рыданий, со жгучим чувством стыда, словно ее ошпарили. Отправляясь на ужин, они по очереди плевали на нее. Некоторые называли ее буржуйкой, некоторые еще хуже – кулаком и шлюхой, хотя она не могла быть всем этим одновременно. Это было неважно. Она была некто, но не часть народа. Во всяком случае, не для прежних друзей. Последний из них, мальчик в очках, в особенно ярком галстуке на шее, вырвал из ее рук Пушкина и забросил книгу далеко в сугроб.
* * *
После этого Марья Моревна поняла, что она и ее секрет принадлежат только друг другу. Они скреплены кровавой клятвой. Держись меня и следуй за мной, сказал ее секрет, потому что я твой муж и могу тебя уничтожить.
Глава 3. Домовой комитет
Марья заметила это раньше других, потому что все время расхаживала по дому. Ходила когда думала, ходила когда читала, и когда говорила – тоже ходила. Ее тело не терпело неподвижности, вечно не хотело быть спокойным и размеренным. Потому-то она в совершенстве изучила протяженность верхних этажей своего дома, хотя пространство, которое можно было считать своим, уменьшилось. Всего месяц назад только пять шагов отделяли серебристо-синюю занавеску от золотисто-зеленой, за которой начинались владения семьи Дьяченок с четырьмя сыновьями – все белобрысые, как кора березы. Как вдруг, без какого-либо объявления или сбора подписей двенадцати жильцов, пять шагов обратились в семь.
Она тщательно посчитала шаги: один раз в шлепанцах, второй – без. Она продолжала счет в течение двенадцати дней и ночей, так что близнецы Абрамовы начали стучать в потолок метлами и горшками и вопить, требуя покоя, а старая Елена Григорьевна уже дважды грозила на нее донести. На двенадцатую ночь, когда Марья Моревна уже достигла полпути между синим и зеленым, отмерив по полу четыре шага, и широко, как солдат на параде, занесла ногу для следующего, она услышала чье-то еще, кроме собственного, дыхание, такое тихое, что ей пришлось вытянуть и навести уши, чтобы услышать – совсем крошечный звук, шипение крана сквозь шум грозы. Она взглянула вниз, и ее черные волосы рассыпались по плечам, как любопытная тень. Вот тогда Марья первый раз в жизни увидела домового, и мир снова преобразился.
У ее ног стоял человечек, замерший, как и она, посередине шага. Нога его неловко застыла в воздухе, а рука не закончила комический, как на параде, мах вверх. У него были длинные тонкие волосы и длинные тонкие усы, разделенные посередине, заброшенные за плечи и подвязанные опрятными красными ленточками к волосам. Белая борода, хотя и очень пыльная, не выглядела запущенной: скорее серая пыль украшала ее. Поверх рабочей рубахи цвета цемента на нем был толстый красный жилет, который казался сделанным из крошечных черепиц, а брюки перекрещивались черными полосками, словно оконные переплеты. Посередине штанов была прореха, чтобы выпускать наружу длинный тонкий хвост, лысый, как у опоссума.
Марья и домовой надолго замерли, уставившись друг на друга, как дикие животные, что пришли на водопой к одному ручью и оба прикидывали – бежать ли им прятаться друг от друга. Вот оно, подумала Марья, чувствуя, как колотится сердце. Мир опять обнажился, изнанка мира вышла наружу, значит, я не спятила, нет. Надо вести себя умно и не дать ему уйти. Наконец она заговорила:
– Куда ты идешь, товарищ?
– Куда ты идешь товарищ? – повторил он с вызовом. В его огромных глазах горели раскаленные янтарно-золотые угольки.
– Я меряю шагами дом. – Марья опустила ногу, и домовой сделал то же самое, развязно отряхивая жилет.
– А я шел на заседание Домового комитета, поэтому нарядился в эти изумительные одежды. Мне показалось, что сыграли вечернюю зорю, так что я спешил стать в строй, пока мне не объявили выговор.
Марью подмывало дернуть домового за усы или ущипнуть за щечки. Она хотела заключить его в объятия и попросить забрать ее в ту страну, откуда он появился, где никто не будет бить ее по щекам только за то, что она что-то знает, где достаточно хлеба и водки, от которых так круглился его животик. Неужели это и есть ее муж, что явился за ней без всякого битья об пол и преображения в добра молодца… Но непохоже, что маленький человечек пришел по этому делу. Марья сделала строгое лицо, хотя сердце ее колотилось вразнобой с дыханием.
– Ты прав, – сказала она наконец тоном, казавшимся ей достаточно назидательным. – И тебе следует немедленно отвести меня к твоему начальству, поскольку я обнаружила несообразности в содержании дома.
Домовой отдал честь, и глаза его загорелись от восторга:
– Отлично! Все домовые дела должны быть немедленно вынесены на комитет! Пошли! Мы составим и подадим рапорт! Внесем официальную жалобу! – Голос домового поднимался выше и выше, как у закипающего чайника, пока не превратился в почти исступленный писк: – Следуй за мной! Товарищ Чайник поведет тебя!
Марье казалось, что она знает свой дом на Гороховой улице. В конце концов, она прожила здесь всю свою жизнь. Она выхлебала 3070 мисок супа на кухне с полом из черных плиток. Она съела 2325 рыбин за столом вишневого дерева с тремя сучками в центре. Она видела 5475 снов в своей кроватке с красным одеялом. Она жила в доме, и дом принадлежал ей. Однако товарищ Чайник повел ее через серебряно-синюю завесу, мимо золотисто-зеленой, вниз по ступенькам, расшатанным детской беготней. Он вел ее крадучись, на цыпочках, вокруг гостиной с обоями в розочках (теперь она стала комнатой Малашенок, захламленной зеркалами, губной помадой, расческами, трофеями Светланы Тихоновны, завоеванными, когда она блистала красотой на сценах Киева), сквозь рваную простыню, которую Бодниексы повесили на кухне, чтобы дать своим четырем дочерям подобие уединения. Хотя на самом деле девочкам даже повезло, что их разместили на кухне, где пыхтела теплая железная печурка, так что все им завидовали.
Чайник перебирался через тела спящих сестер Бодниекс. Все четыре свернулись клубочками на двух матрасах, брошенных на пол посреди огарков свечей, блюдец, башмаков и тряпья. Младшая из сестер и во сне не выпускала из рук самое дорогое, что у них было, – десятилетней давности журнал мод из Лондона. Их длинные густые волосы цвета спелого хлеба перепутались между собой, раскинувшись по простыням. Домовой останавливался на плечах у каждой из девочек, чтобы легонько расцеловать их в ушки. Марья Моревна, затаив дыхание, переступила через каждую из них, потом через их мать с туго заплетенной и уложенной даже на ночь косой и, наконец, через их отца, отдыхавшего на почетном месте у большой теплой печи, приглушенно мерцающей румяными угольками. Чайник втиснулся в щель за печкой, начал толкать, и печь со скрипом отошла от стены. Отец Бодниексов забормотал во сне, но не проснулся. Чайник налег снова – маленький домовой оказался сильным, как ослик. Печь подвинулась еще немного вперед. Мама Бодниекс вздыхала во сне о давно ушедших днях, о ягодах рябины в ее волосах и о сладких сливках на столе. Чайник оскалил желтые зубы и продолжал толкать изо всех сил, чтобы Марья тоже могла протиснуться между печью и стеной: она же была много больше него, а бедному бесу нечасто приходилось втискивать кого-то кроме себя. Четверо дочерей перевернулись во сне, одна за другой, будто волна прокатилась по песку.
За плитой обнаружилась изящная изукрашенная дверца с заостренной кверху аркой, покрытая резьбой в виде цветов из райского сада с головками, обрамленными полированной медью. Любому чайнику она казалась высоким порталом храма, а Марье едва доставала до колена. Чайник легонько постучал: три раза, потом два, потом снова три. Скрипнув, дверь приоткрылась.
– Товарищ Чайник, – зашептала Марья, – я слишком большая, я ни за что не пролезу.
– Мы все должны затянуть пояса, – прошипел домовой и дернул за поясок ее ночной рубашки.
Марья закружилась веретеном. У нее было странное чувство, будто огромная рука давит на макушку, ребра сжимало так, будто Чайник пытался зашнуровать ее в один из старых корсетов матери. Когда он отпустил поясок, Марья снова примерилась к резной двери. Она уменьшилась настолько, что с трудом, но могла протиснуться, если хорошенько согнуться. Марья с трудом удерживалась, чтобы не расхохотаться, – волшебство, как у Пушкина, настоящее волшебство, и все это происходит с ней!
– Твои кости так упрямы, – фыркнул Чайник, – будто ты совсем не хочешь ужаться! Ну зачем тебе быть такой большой, бесстыжая?
– Иначе я никогда бы не дотянулась до книжной полки, – запротестовала она.
Домовой пожал плечами, будто хотел сказать: «О чем эти девочки и весь их большой народ думает – загадочно и непостижимо».
Он повел Марью через сырой коридор, минуя трижды обитую стену, через каменистый лаз с кусочками червей и корнями травы, торчащими из глинистых стен. Наконец все это сменилось дощатым полом и необычными обоями: десятки и сотни партийных листовок лепились прямо к земляным стенам, скрепляя грязь и камни.
– Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей! – кричал с листовки серьезный мужчина, потрясая кулаком.
– Опасайтесь меньшевиков, эсеров-соглашателей и царских генералов! Попы и помещики наступают на пятки! – предупреждал ребенок, окруженный солдатами с грозными лицами.
– Покончим с кухонным рабством! Требуем новой жизни при социализме! – провозглашала женщина в красной косынке, вооруженная метлой.
– Выбирайте РАБОЧИХ в Советы! Не выбирайте колдунов и богачей! – предупреждала группа молодых выборщиков в белых одеждах.
Марья касалась бумажных лиц девочек с розовыми щечками. Все общество должно преобразоваться в коллектив рабочих! – говорили они ей.
Коридор сменился просторной комнатой с высокими березовыми стропилами, весело горящим очагом, половичками на полу и диковинным хламом, наваленным в каждом углу. Там были тяжелые, в золотой оправе, зеркала; полированные серебряные дверные ручки; фарфоровые тарелки с ободками из крошечных фиалок; медные чайники; садовые ножницы; мягкие подушки с гусиным пухом; изумрудные смокинги и огромная коллекция курительных трубок; изящные табакерки с эмалевыми крышками; тяжелые серебряные щетки для волос из щетины кабана и расчески с крохотными самоцветами, вделанными в каждый зуб; граммофон с огромным золотистым раструбом; набор для крокета с разноцветными шарами; веер из черного кружева на длинном синем шнуре. Все эти причудливые сокровища окружали большой стол, за которым сидели двенадцать маленьких людей – все, как Чайник, в красных жилетах и с раздвоенными усами, только некоторые с черными волосами, некоторые – со светлыми, а некоторые – вообще женщины, хотя тоже с мягкими длинными усами, но без бороды.
– Товарищ Чайник! Зачем ты привел эту верзилу с собой? Ей полагается мирно почивать в постельке и видеть во сне клубнику и стирку! – прокричал один из домовых с огромной золотой медалью на груди – хотя, приглядевшись, Марья поняла, что это всего лишь корпус карманных часов, изображающий медаль за храбрость.
– Председатель Веник! – ответил провожатый Марьи оскорбленным тоном. – Она пришла с докладом! Я бы не стал лишать комитет возможности заслушать прелестные свидетельские показания, чтобы сделать очаровательные выводы для проведения в жизнь политики слаще, чем овсяное печенье.
Все за столом с облегчением выдохнули и энергично покивали друг другу.
Одна домовая подняла руку и получила слово от председателя Веника.
– Я – товарищ Звонок, – сказала она ломким звенящим голосом, потянув за светлый ус. – Я официально приглашаю верзилу в качестве эмиссара от Верхнего Дома представить доклад.
– Верно, верно, – загалдели комитетчики, стуча костяшками пальцев по столу.
Марья все еще возвышалась над большинством из них. Сидя за столом, они доходили ей до талии, и ей показалось, что было бы правильно сесть на пол, чтобы не смущать их своим ростом.
– Сначала я должна признаться, – сказала она, внезапно смутившись, – что раньше не верила в домовых.
В ответ на это легло каменное молчание.
Марья поспешила восполнить промах, чтобы предстать мудрой и образованной, чтобы ее не выгнали едва нога переступила порог. Щека ее покраснела в том месте, куда годы тому назад ее ударила девочка.
– В смысле я верила, что домовые могут где-то существовать – все что угодно может существовать. Но мое образование было… довольно ограниченным, и я не понимала, что появление птиц, которые могут обращаться в женихов, означает наличие домовых и некой дверцы за печкой.
– Кто, по-твоему, – кашлянула Звонок, – разбил твою любимую чайную чашку прошлой осенью? Ту, что с вишенкой на ручке?
– Я неосторожно оставила окно открытым, товарищ Звонок, и ветер сдул ее.
– Неверно! Я разбила ее, потому что ты не оставила мне ни сливок, ни печенья, а когда твои старые башмаки износились, ты их сожгла в печи, вместо того чтобы отдать мне!
– Верно, верно! – снова взорвался стол одобрительно. – Хорошо сказано!
– Я так сожалею…
– И твоя чашка тоже.
– Товарищ, я не понимаю. Я читала книжки и слушала рассказы бабушки, как любая девочка. Я точно знаю, что в каждом доме должен быть только один домовой. Как так получилось, что у вас целый комитет домашних духов?
Председатель Веник расправил на груди бороду и отряхнул жилет:
– До того как появилась Партия, в каждом доме была только одна семья. Теперь мы все должны настроиться на более правильный образ мыслей, дитя. Я пришел с Абрамовыми, когда Белая гвардия выгнала их из Одессы. Что мне было делать? Бросить близнецов только потому, что наш дом сгорел? У них такие милые пухлые щечки – они так выросли! Я спас зеркало из коридора и табакерку Марины Николаевны, – и он показал на кучи вещей вокруг.
Поднялся другой домовой, с бородой как щетка трубочиста:
– Я пришел с Афанасьевыми из Москвы. Старый папа Коля был меньшевик, и его имущество конфисковали – сам виноват, слишком много болтал. Но они отдавали мне чудесные старые башмаки каждое Рождество, а его жена была даже партийной – ничего не скажешь. Так что я стащил ее веер, прежде чем они двинулись в Петроград на крыше вагона.
Чайник похлопал Марью по руке:
– А я присматривал за девочками Бодниексов в Севастополе. Они все были прекрасны в младенчестве и всегда оставляли мне соленые сушки после ужина. Это же не их вина, что не было работы. Этим девочкам было нечего есть – ни репы, ни хлеба, ни селедки. Они думали, что в Петрограде хотя бы селедка будет. Я захватил их тарелки, я тоже надеялся. Но вот мы здесь и – ха! – нет селедки!
– Я был бы рад остаться в Киеве, – запыхтел старый морщинистый домовой с посиневшей от возраста кожей, – но эта чертова Светлана Тихоновна знала старые обычаи. Она пошла на грядку с тыквой, надев свои лучшие ботинки со шнуровкой на приятных каблучках, выложила большой круг сыра и завопила: «Дедушка домовой! Не оставайся тут, иди с нами!» Старая кляча!
За столом поднялся ропот, многие кивали и даже утирали сочувственную слезу. Один за другим все двенадцать домовых рассказали свои истории – об утраченном состоянии Дьяченок; о трагедии с детьми Пьяковских, которые потеряли старших братьев на войне; о позоре Семеновых.
– Ты должна понять, наконец, – проскрипел председатель Веник, – что коммунальная квартира требует коммунальных домовых, а коммунальным домовым нужен комитет. Мы рады исполнить свою роль! Это новый мир, и мы не хотим остаться в стороне.
– Само собой, я здесь с тех пор, когда ты еще была ребенком, даже раньше, – сказала товарищ Звонок. – Этот дом – мой суженый, и мы вместе греемся у печки. И птиц я тоже видела, – добавила она с лукавым выражением на круглом лице.
Марья вздрогнула. За всю свою жизнь она еще не встретила никого, кто был бы свидетелем обольщения ее сестер.
– Начинай свой доклад! – прокричал председатель Веник. – Мы не можем всю ночь предаваться воспоминаниям.
Марья собралась. Она пыталась успокоить стук своего сердечка. У них, конечно, были забавные усы и очень красивые жилеты, но, когда они говорили, были видны их длинные желтые зубы – у кого острые, а у кого зазубренные.
– Я… я хочу доложить, что исследовала… предмет очень тщательно, и я думаю, я даже уверена… я определенно думаю, что, без всяких сомнений, дом стал, по крайней мере, на два шага больше, чем он был несколько месяцев назад, а может, и еще больше. Я не могу обследовать комнату Дьяченок, соседнюю с нашей.
– Да уж конечно, не можешь, – проревела домовая с лоснящимися каштановыми усами, завитыми крошечной плойкой. – Это тебя не касается.
Председатель Веник утихомирил домовую Дьяченок.
– И это все, верзила? Ты думаешь, есть что-то такое, чего мы не знаем об этом доме? Ты самонадеянно выросла до такой величины, но не позаботилась раздобыть побольше мозгов для такого тела. – Он с гордостью потер свою медаль. – Это мы расширяем дом. Мы провели совещание по итогам полугодия и решили, что революция требует от нас большего, чем проказы вроде битья чашек. Если в доме столько хозяев, дом должен быть достаточно вместителен.
Чайник хлопнул в ладоши.
– От каждого по способностям, каждому по потребностям! – радостно провозгласил он.
– Хорошо сказано, товарищ! У нас есть способности, которые мы эгоистично накопили, не понимая, что обязаны ими Народу, что мы стали ленивыми буржуазными декадентами, погрязшими в роскоши домов, мы забыли о Великом Долге и Высоких Идеях! – застучал по столу своим красным кулачком председатель Веник. – Довольно! Домовые принадлежат Партии!
– Однако же, – запротестовала Марья, – если вы расширяете дом, то соседние дома разрушатся.
– Дитя мое, – сказала товарищ Звонок, – мы не архитекторы. Мы – бесы. Мы – гоблины. Если бы мы не умели немного расширить дом изнутри без того, чтобы он вспучился снаружи, мы бы не стоили облезлого хвоста. В конце концов, мы столетиями устраиваем себе жилища внутри стен.
– Мы вскроем этажи, как развязывают пачку газет – хлоп! – и они вырвались на свободу! Дом на Гороховой станет секретной страной посреди Санкт-Петербурга! Люди будут выращивать репу на кухне, сажать пшеницу на потолке, а у нас будет столько печенья на столе, что мы все округлимся и будем не ходить, а кататься! – буйно размечтался домовой Пьяковских.
Тишина над столом застыла, как лед на пруду.
– Это улица Дзержинского, товарищ Баня, – тихо произнес председатель. – Это Петроград.
– О… Конечно, – пристыженно сел на место Баня. Лицо его покраснело, а сам он начал дрожать.
– О, не беспокойтесь, – вскричала Марья в отчаянной попытке выручить бедное создание из неловкой ситуации. – Я и сама никогда не помню, как правильно!
– Это наш долг – помнить, – холодно заметил Чайник в сторону.
– Ты не должна никому говорить о том, что мы сделали, – прервал ее председатель. – Ты понимаешь? Стоит нам донести на тебя в Домовой комитет, в другой комитет, тот, что в Большом Доме, и тебя укатают быстрее, чем сможешь рот раскрыть.
– Ни за что, обещаю, – поспешно ответила Марья. – Хотя доносить на людей не следует. Это не по-соседски, и вообще было бы ужасно с вашей стороны.
Председатель Веник ухмыльнулся, показав свои желтые, зазубренные, как у волчьего капкана, зубы.
– Пойми нас правильно. Мы все очень сладкие, когда ты нас умаслишь кремом, печеньем, башмаками, но ты же нам ничего не принесла, так что и мы тебе ничего не должны. Партия – это чудесное, замечательное изобретение, и она научила нас разным чудесным и замечательным вещам, но главное – тому, что мы можем создать больше проблем с меньшими усилиями, написав донос, а не вечно бить чашки.
Марья задрожала. В животе у нее похолодело.
– Но у домового не примут донос…
– А кто тут домовой? – засмеялся товарищ Баня, тоже оскалив зубы. – Я – Екатерина Пьяковская.
– А я – Петр Абрамов, – усмехнулся председатель Веник.
– А я – Гордей Бодниекс, – ухмыльнулся Чайник.
– Ручку нам приходиться держать вдвоем, но мы справляемся, – хихикнул домовой Малашенок.
Теперь над ней смеялись все домовые, сверкая желтыми зубами в свете канделябров. Марья Моревна закрыла лицо руками.
– Хватит уже, Веник, – отрезала Звонок. – Храпун ты запечный! Не пугайте ее, она моя, так что заткните поддувала! – Ее усы тряслись от гнева. Она покинула свое место, чтобы погладить Марью по подолу ночной сорочки: – Ну-ну, дорогая Маша, – запричитала она, называя ее ласково, по-домашнему. – Хочешь, я склею твою чашку. Тебе станет лучше от этого?
Председатель Веник, перегнувшись через стол, ухмылялся все шире и шире, пока уголки его рта не встретились где-то за ушами.
– Ну, погоди, – прошипел он. – Погоди. Папа Кощей едет, едет, едет, по холмам, по долам, на красном коне, с колокольчиками на шпорах и с обручальным кольцом в кармане, и он знает твое имя, Марья Моревна.
Марья не смогла сдержаться и завизжала. Усы домовых будто ветром сдуло. Звонок взвилась на него:
– Веничек, жопа твоя ежовая. Ты куда проговорился! Стоило ради этого пугать бедную девочку?
– Звоня, да я для того и живу, чтобы пугать бедных девочек! Их слезы для меня – как свежие, еще теплые булочки, обмазанные вишневым вареньем. Конечно, оно того стоило.
– Вот посмотрим, когда Папа приедет, – предупредила товарищ Звонок.
Домовые слегка отпрянули от Веника, будто предполагая, что он обратится в пепел прямо у них на глазах.
– Вы все видели, – продребезжала Баня, накручивая усы, стараясь загладить свой промах. – Это не я сказала, это Веник!
– Зафиксировано в протоколе, – мрачно сказала Звонок.
– Я не понимаю, – сказала Марья сквозь слезы, текущие по щекам. – Откуда вы знаете мое имя?
– Не беспокойся об этом, дорогая, – радостно ответила Звонок. – Уже поздно, и тебе пора в постель, не правда ли?
Пальцы рук и ног у Марьи онемели. Она позволила увести себя от гогочущего комитета, дрожа, будто ее поливают из ведра ледяной невской водой. Домовая тащила ее мимо угрюмого Ленина, требовательно вопрошающего: ТЫ записался добровольцем на передовую? Марья на мгновение запаниковала – что, если она не станет снова большой и застрянет здесь навсегда с гоблинами и хмурым бумажным Лениным, глядящим со стены? Внезапно ей очень захотелось снова увидеть переднюю сторону печки и свою постель.
– О чем он говорил? Кто такой Кощей? – тихо спросила она.
– Знаешь, Маша, ты была очень неосторожна. Я стараюсь присматривать за тобой, хотя ты ни разу не оставила мне ни башмаков, ни сливок, и я начинаю думать, что это испытание для моей щедрой души, но ты просто притягиваешь к себе внимание.
– Ничего подобного! Я сижу так тихо, что абрамовские близнецы даже споткнулись об меня на прошлой неделе. – После случая с галстуком она очень старалась, чтобы ее никто не замечал.
– Марья Моревна! Ты вообще ничего не понимаешь? Девушки должны очень, очень стараться думать только о лентах, журналах и обручальных кольцах. Они должны чисто вымести свое сердце от всего, кроме поцелуев, театра и танцев. Они не должны читать Пушкина, не должны говорить умно и глядеть хитро, бродить по дому босиком с распущенными волосами, в противном случае они привлекают внимание! Сиди дома за-мужем, как за каменной стеной! Но теперь уже слишком поздно! Глупое дитя, мы с домом так старались воспитывать тебя как положено!
– Да кто он? – взмолилась Марья, хотя имя это она точно раньше слышала, ну правда же? Имя, зацепившись за что-то в глубине разума, притягивало ее к себе.
Звонок в ответ побелела от страха и гнева и не произнесла ни слова. Когда они проходили через обсыпанную мукой дверь обратно в щель за печкой, она снова дернула за Марьин пояс. Марья завертелась, как веретено, и опять испытала странное чувство, будто огромная рука тянет ее за макушку, а кости хрустят и вытягиваются. Перестав вертеться, она оказалась перед печкой, в своем прежнем виде. Она даже была разочарована, ну самую малость. Все закончилось. Закончилось что-то невероятное, и длилось оно совсем недолго. Без всяких сложностей она снова стала большой, и как долго ей теперь ждать, чтобы снова увидеть краешек обнаженного мира?
– Смотри, – прошептала Звонок, – это все, что я могу для тебя сделать. – Маленькая домовая полезла в красный жилет и вытащила серебряную щетку, которую Марья видела среди прочего хлама в комнате комитета. – Это щетка Светланы Тихоновны. Ты знала, что в молодости она была балериной? Товарищ Столик вечно над ней насмехается, но, когда она засыпает, приходит, чтобы завить ее волосы, и укладывается спать у нее под ухом. Он говорит, что она пахнет Киевом.
– Он разве не знает, что ты взял ее щетку?
– Я буду лупить его по пяткам до тех пор, пока он не признает, что щетка твоя. Но Светлане ты ее не показывай – она захочет вернуть ее.
– У меня вообще-то уже есть щетка для волос, – возразила Марья.
Звонок моргнула. Сначала одним глазом, потом другим. Она закрыла ладонью левый глаз и сплюнула:
– Тебе нужна именно эта.
С этим домовая подпрыгнула на одной ножке, обернулась три раза вокруг себя и исчезла.
Глава 4. Лихо никогда не спит
В городе у моря, который, конечно, никогда не называли так буржуазно, как Санкт-Петербург, на длинной узкой улице стоял длинный узкий дом. У длинного узкого окна сидела молодая девушка в голубом платье и бледно-зеленых шлепанцах, наблюдая, как в дом напротив въезжает новая соседка. Старуха в черном вязаном платье, очень высокая и худая, с такой длинной и узкой талией, что Марья могла бы обхватить ее двумя ладонями, тащила за собой чемодан. Пальцы старухи были поразительно длинными, нос острым и бугристым, а седые волосы были стянуты в тугой пучок на затылке. При ходьбе она хромала и горбилась, но Марья подозревала, что только для того, чтобы скрывать свой рост.
– Это товарищ Лихо, – сказала одна из двенадцати матерей, штопая ветхий чулок. – Бездетная вдова. Говорит, что готова нас всех обстирывать, старая бедолага. Я думаю, будет хорошо, если ты заглянешь к ней после школы. Она могла бы с тобой позаниматься, присмотреть за тобой, пока я на фабрике.
Марье эта идея совсем не понравилась. В классе она могла предаваться собственным мыслям, и никто ее не беспокоил – учителя ее больше не вызывали. С репетитором нельзя было избежать вопросов. Она нахмурилась, глядя на сгорбленную вдову Лихо. Старая карга остановилась и посмотрела на окно, быстро и резко повернув голову, совсем как те птицы. Огромные черные глаза вдовы Лихо будто обвисли и обмякли, съехав на скулы. Взгляд ее стал колючим и кусачим. Вишневые деревья усеяли черное платье Лихо лепестками. Глядела она сердито.
– Не надо бояться старушек, – увещевала другая из матерей Марьи. Так совпало, что эта мать действительно ее родила. Марья знала, что не должна выказывать ей особое расположение, но руки ее матери так истончали, а кожа так обветрилась, что Марье хотелось взять ее ладони в свои, чтобы они согрелись и порозовели. – Ты тоже однажды состаришься, знаешь ли.
Вдова Лихо продолжала смотреть на окно Марьи. Медленно, словно лед тает на тарелке, она улыбнулась.
* * *
От домовых Марья больше ничего не слышала. Однако она заботливо выставила свои любимые черные, с изящной черной лентой башмаки, засунув в каждый по печенью. Все мои красивые вещи принадлежат дому, а значит – все равно что Народу. Она аккуратно пристроила их в изножье кровати. К тому же мне некуда надевать вещи, в которых я буду выглядеть как девочка из богатой семьи. Когда она проснулась утром, ботинки исчезли.
На их месте оказалась неумело склеенная чайная чашка с вишенками на ручке. Когда она взялась за нее, ручка отвалилась.
Каждый вечер она расчесывала волосы щеткой Светланы Тихоновны. Волосы ее сухо шуршали прядью о прядь, уже не такие мягкие и блестящие, как были, но выпадать еще не начали. Ничего примечательного не происходило. Возможно, Звонок просто имела в виду, что собственный деревянный гребень Марьи уже совсем износился. Я же не виновата, что волосы мои настолько спутались, что выломали два зуба из гребня, фыркнула она. Марье очень хотелось отправить послание Нижнему Дому. По ночам она шептала в печные трубы: Мне все здесь опостылело. Пожалуйста, заберите меня отсюда, позвольте стать кем-то еще, кроме Марьи, кем-то волшебным, возможно даже с круглым животом. Напугайте меня, доведите до слез, только приходите снова.
* * *
Несмотря на все мольбы Марьи не заставлять ее, все двенадцать матерей настаивали на том, чтобы она ходила к Лихо каждый день после уроков. И отнеси ей вкусных булочек. Она старая и сама не может стоять в очереди в булочную.
* * *
Марья застыла перед соседской дверью. Пальцы ног в изношенных башмаках скрючились и посинели, в желудке сосало. Она хотела вернуться домой. Ей надо было сунуться за печку и попросить Звонок или Чайника пойти с ней. Они бы не пошли – они же никогда не отвечают на ее перестуки, – но она чувствовала бы себя лучше. Ей не нужен ни домашний учитель, ни пригляд за ней. Она хорошо знала алгебру, историю и могла наизусть прочитать пару сотен строчек из Пушкина.
Вдова Лихо открыла дверь и уставилась на Марью как стервятник на ветку боярышника. Марья не удивилась бы, если бы старуха заклекотала или закричала, как стервятник. Она была настолько велика, что не смогла бы пройти в дверь, не поклонившись притолоке. Вдова упиралась в створ двери длинными руками с острыми жемчужными ногтями без малейшей желтизны или других признаков старости. На самом деле, хотя морщинистое лицо ее было изрядно увядшим, руки оставались молодыми, упругими, способными запросто умыкнуть девочку с улицы.
Вдова Лихо ничего не сказала. Она повернулась и медленно пошла по коридору, волоча за собой подол платья – будто черное пятно. Она откинула занавеску, что отделяла ее комнату от других семей, и Марья пробралась за ней вслед, стараясь быть незаметной и надеясь, что старая ведьма задремлет, пока Марья будет ей читать, и можно будет потихоньку уйти. Она выложила вчерашний хлебный паек, завернутый в вощеную коричневую бумагу, на маленький медный столик с херувимами, облепившими его ножки. Вдова Лихо не притронулась к еде. Она просто смотрела на Марью, слегка наклонив голову. Она сложила руки на коленях. Руки были такими длинными, что кончики средних пальцев одной руки дотягивались до середины предплечья другой.
– Моя мать сказала, что вы можете со мной позаниматься, но, если вы устали, я могу вам почитать до вечера. Или сделать вам чаю, если захотите, – от страха Марья заикалась.
Лихо растянула бледные губы в подобии улыбки. Казалось, что далось ей это непросто.
– Я никогда не сплю, – сказала она.
Марья вздрогнула. Голос вдовы был низким и грубым, будто черными каблуками скребут по камню.
– Ну тогда у вас много свободного времени, я полагаю.
– Уроки. – Ее голос снова потащился по комнате.
– Вы не обязаны меня учить.
– Напротив, давать уроки – моя специальность. – Она наклонила голову в другую сторону. – Начнем с истории?
Старуха повернулась, при этом ее кости заскрипели и защелкали. Она вытащила с полки большую черную книгу.
Книга была так широка, что полированные мерцающие края переплета свешивались по обе стороны сомкнутых ног вдовы Лихо. Она протянула книгу Марье.
– Читай, – пробурчала она. – Голос у меня тот, что давеча.
– Вы хотели сказать – не тот, что давеча?
Лихо снова улыбнулась – той же самой пустой холодной улыбкой, – будто вспомнила что-то забавное, что случилось сотню лет тому назад.
Марья была рада не смотреть на нее. Она открыла тяжелую черную книгу и начала читать:
Последствия Великой Войны были самые разные. Во-первых, прилежные ученики должны знать, что, когда мир был молод, были известны только семь вещей: вода, жизнь, смерть, соль, ночь, птицы и длительность часа. У каждой из этих вещей были Царь или Царица, а главными среди них были Царь Смерти и Царь Жизни.
Марья Моревна подняла голову от книги.
– Товарищ Лихо. Это же не история Великой Войны, – сказала она неуверенно. – Это не тот учебник, по которому учат в школе.
Вдова гыкнула, и звук при этом был такой, будто тяжелый камень свалился в пустой колодец.
– Читай, дитя.
Черная книга в руках Марьи задрожала. Она никогда еще не видела такой прекрасной, тяжелой и богато изукрашенной книги, но выглядела она не так дружелюбно, как книги в комнате ее матери или в чемоданах у Светланы Тихоновны и Елены Григорьевны.
– Миру все дается очень трудно, – читала Марья Моревна.
Только спустя вечность он овладел солнцем, землей, сахаром, длительностью года и людьми. Цари и Царицы удалились в заснеженные горы. Они оставались подальше друг от друга из семейного уважения, их не интересовали все эти новые вещи, наверняка созданные по прихоти моды.
Но Царь Смерти и Царь Жизни ужасно боялись друг друга, поскольку смерть окружена душами и никогда не чувствует себя одинокой, а Царь Жизни спрятал свою смерть – как самый глубокий секрет, на самой секретной глубине. Царица Соли не смогла их помирить, хотя они и были братьями, а Царица Воды не смогла найти море такой ширины, что разделило бы их.
Прошло много времени – дольше, чем надо звездам, чтобы перевести дух. Царь Смерти был так любим своими приближенными душами, что надулся от гордости. Он убрал себя в оникс, агат и красный камень и выдал каждой душе, что сгинула в долгой и безвкусной истории мира, и сосульки штыков, и ядра из костей, и коней из сыпучего пепла с красными искрами глаз и ушей. Вся эта великая армия с саванами вместо флагов и звоном двенадцати мечей, связанных вместе, отправилась по глубокому снегу в одинокое владение Царя Жизни.
Марья сглотнула. Ей казалось, что она не может дышать.
– Товарищ Лихо, Великая Война началась потому, что застрелили эрцгерцога Фердинанда, и Запад ногами растоптал бы благородные славянские народы в пыль, если бы мы не вмешались.
Лихо спрятала усмешку.
– Ты очень умное дитя, – сказала она.
– Да нет, вовсе нет, все это знают.
– Если ты такая умная, что все знаешь, зачем же меня позвали?
Марья выпрямилась на стуле. Черная книга опасно соскользнула с ее коленей вперед, но она не потянулась, чтобы поймать ее.
– Я? Я вас не звала! Вы вдова! Вам выделили это жилье!
– Твои волосы такие длинные и аккуратные, – вздохнула Лихо, будто Марья и не говорила ничего. Дыхание ее трещало, как игральные кости в стаканчике. – Как тебе удается с ними справляться?
– Я… У меня есть серебряная щетка. До меня она принадлежала одной балерине…
– Да-а-а-а-а-а, – старуха тянула и тянула это слово, пока его конец не хлопнул, как лопнувшая веревка. – Светлана Тихоновна. Я ее помню. Она была так прекрасна, ты даже не представляешь. Волосы ее были цвета зимней воды, а кости были такими хрупкими! Груди почти совсем не было. Когда она танцевала, мужчины руки на себя накладывали, зная, что никогда уже не увидят такой красы. У нее было четыре любовника в Киеве, один богаче другого, но сердце ее было таким холодным, что она могла бы держать лед во рту, и он никогда бы не растаял. Мы все у нее могли бы поучиться. И вот однажды, под Новый год, ее второй любовник, что держал косметическую фабрику и китобойную флотилию, которая собирала серую амбру для духов и помад, таких алых, что от них в глазах шли красные пятна, подарил ей серебряную щетку из щетины кабана. Кто знает, где он ее добыл! Может, купил у лоточницы, тощей и горбатой, в черном платье, толкающей свою тележку по дороге, обсаженной лиственницами. Светлана любила эту щетку, о, как она ее любила! Чем дольше она расчесывала свои волосы, тем ужасней и прекрасней она становилась. Так что она позволяла своему любовнику расчесывать ее белокурые волосы снова и снова, и я слышала звуки трущихся прядей аж по другую сторону снега. Я приходила немедля, с такими, как она, не мешкают. А когда она танцевала для царевен, ленты на ее туфлях немного ослабли – на бесконечную малость, – но она упала и раздробила пятку. Ну да, не повезло! Она была беременной, и, хотя лед не таял у нее во рту, она поторопилась выйти замуж за первого же каменщика, которому дела не было до балета, и завела четырех детей, которые порушили ее красоту. А потом ее дом сгорел во время зачистки. Ужасно, что это случилось с таким безупречным созданием, но ша! Такова жизнь, не правда ли?
Марья хотела бежать прочь из дома, но не могла тронуться с места. Горло ее пересохло.
– Кто вы такая? – прошептала она.
– Скажи мое имя, дочка, ты знаешь, кто я.
– Вдова Лихо.
– А как меня зовут, Марья Моревна? – пророкотала старуха, и от ее черного голоса окна прогнулись, а книжные полки задрожали. Марья, трясясь от страха, вжалась в обивку стула.
– Вдова Лихо! Товарищ Лихо! Товарищ… О! О! Лихо! Беда!
Старая женщина наклонилась вперед.
– Да-а-а-а-а, – протянула она снова, растягивая голос, как темный клей. – И у тебя моя щетка. Ты меня призвала.
– Нет… я не хотела!
– Намерение ничтожно, – пролаяла Лихо.
Внезапно она встала так быстро, как не смогла бы и молодая девушка. Она возвышалась как башня, но низкий потолок вынудил ее немного согнуться в поясе, хотя спина оставалась прямой, без всякого горба. Она нависла над Машей, огромные черные глаза искрились фиолетовым:
– Да ты меня не бойся, Марья Моревна!
Голос ее стал звучным, свистящим, дыхание ходило туда-сюда. Она взяла лицо Марьи в свои неимоверно длинные руки:
– Я не могу тебя тронуть. Ты не про меня. На тебя уже выписаны бумаги, шелка и свечи выданы. Все знают, что надо дать тебе дорогу, но ты позвала, и я пришла. Я здесь, чтобы обучить тебя, подготовить. Лучше нет учителя в нужде, чем несчастье, так что я тебе сильно пригожусь, обещаю. Держи свой хлеб. Иди домой. Погладь матушку по руке, поцелуй батюшку в щеку. Пей из своей сломанной чашки. – Лихо ухмыльнулась. – Не забывай расчесывать свои чудесные черные волосы. И приходи ко мне, когда солнце на закате. Приходи и будь моей ученицей, моей зверушкой, моей дочерью.
Марья бросилась вон из комнаты. Она бежала по коридору, задыхаясь и плача, с сердцем, спрятанным в клетке ребер, обдирая руку об стену, прочь, на длинную узкую улицу. Книгу она так и прижимала к груди.
* * *
Каждый вечер, пока солнце роняло капли красного воска в Неву, вдова Лихо стояла перед домом на улице Дзержинского и смотрела на окно Марьи. Горб ее вернулся – она снова выглядела как обычная старая женщина, но сторожила окно, словно седовласая ворона, и неизменно улыбалась, молчаливая и совершенно неподвижная.
Марья не стала читать книгу, а спрятала ее под кроватью. Она зажмуривалась крепко, до боли в бровях, и декламировала Пушкина, пока не заснет. На краю ее сна, на грани припоминания, сидело, притаившись, выжидая, черное имя: Там царь Кощей над златом чахнет.
* * *
Тем временем весна стала летом, и собственная мать Марьи: не та, что укладывала ее в постель по вторникам и четвергам, не та, что готовила ей ужин по пятницам и средам, но та, что носила ее под сердцем девять месяцев, – начала посещать вдову Лихо – от стыда, что ее дочь оказалась такой грубой и невнимательной. Марья умоляла ее не делать этого, но каждый вечер, когда мать Марьи возвращалась со смены, две женщины садились пить чай с вареньем из вишни со своего дерева. И хотя мать Марьи никогда не была неуклюжей или неосторожной, она начала спотыкаться на лестнице, сажать занозы под ногти, потеряла левую туфлю. Работать на оружейной фабрике она стала хуже, бракованные пули на конвейере ускользали от ее пальцев и она уже дважды получала выговор.
Марья думала, что знает, почему это происходит, но всякий раз, когда ей казалось, что она набралась смелости, чтобы еще раз поговорить со вдовой, страшная картина нависшей старухи наполняла ее сердце ужасом, кожа леденела. Неужели все волшебство должно быть таким ужасным? Ей больше нравился мир, в котором показывали пригожих на вид птиц и красных молодцев. Лихо – это уже слишком; рассудок Марьи не мог коснуться даже краешка этой черноты. Тело ее сжималось и отказывалось повиноваться воле, несмотря на жалость к матери, выглядевшей каждый день такой усталой. Когда однажды она собрала все свое мужество и добралась до самой двери, в тот момент, когда пальцы коснулись дверной ручки, ее вдруг начало рвать с такой силой, что в желудке не осталось ничего полезного, что она ела и хотела бы сохранить. Это колдовство или я просто слабая, глупая и трусливая девочка? Марья не знала ответа на этот вопрос, не могла знать, и, немея от стыда, убрала за собой с половика. Потом, в июне, мать Марьи оступилась на выбоине тротуара и сломала ногу. Пока она поправлялась в большом высоком доме (который постепенно становился все больше и выше), спертый воздух собрался в ее легких и она начала отхаркивать пыль, издавая по ночам ужасные раздирающие звуки. Страх Марьи, словно лихорадка, прорвался наружу.
* * *
– Я здесь! – кричала Марья Моревна внутрь странно пустого дома вдовы Лихо. Ни одна другая семья не вышла поздороваться или посоветовать ей заткнуться Христа ради. – Ты слышишь меня? Я пришла! Я принесла твою книгу! Оставь мою мать в покое!
Лихо тихо ступила в коридор и повернула голову в сторону, чтобы увидеть Марью, не поворачивая свое длинное черное тело.
– Я ничегошеньки твоей матери не сделала, дитя. Она такая приятная дама, вечерами приносила старухе чай с конфетам! Какой стыд, что дочка ее столь невоспитанная.
– Лихо, я тебя знаю! Это из-за тебя она сломала ногу, из-за тебя она кашляет, это будет из-за тебя, если она потеряет работу на фабрике! – Марью трясло – ей казалось, что ее снова может вырвать. Желая, чтобы тело ей подчинялось, она яростно прикусила губу изнутри.
Лихо раскинула длинные белые руки:
– Я то, что я есть, Марья Моревна. Ты же не сердишься на печку за то, что она греет дом. Ее для того и сложили.
– Ну вот, я пришла. Оставь ее в покое.
– Как мило, что ты пришла проведать свою старую бабушку, малышка, но в этом нет нужды. Слишком поздно, время ушло.
– Слишком поздно для чего? Что происходит? Почему домовые знают мое имя? Умоляю, скажи!
Лихо хрипло рассмеялась. Ее смех отразился от люстры в гостиной, лампочки задрожали.
– Когда мир был молод, он знал только семь вещей. Одна из них была длительность часа. Какая жалость, что малышка Марья этого не знает. У тебя был час на то, чтобы учиться у меня на коленях, а час, если я захочу, будет таким же длинным, как целая весна. Но час уже пробил. Он приходит, а я ухожу. Мы стараемся держаться подальше друг от друга. Семейные сборища бывают такими неловкими.
У Марьи заходил ум за разум. Щеки ее горели. Черная книга нагрелась в руках.
– Ты – Царица Длины Часа.
– Беда полностью полагается на точно выбранное время, – ухмыльнулась Лихо.
– Кто приходит? – взмолилась Марья Моревна. Царь из поэмы? Но это же просто сказка – так и домовые были из сказки, а вот же. У нее все это в голове не укладывалось. Она не понимала чего-то крайне важного и ненавидела себя за это. Когда она знала что-то, а другие нет, было лучше.
– Скажи мне! – пробовала Марья скомандовать Лихо, девочка уже рычала и едва не выпрыгивала из башмаков.
Но Лихо только задрожала, сложила туловище, как чемодан, а чернота ее платья превратилась в черную шкуру высокой гончей, с ребрами, утянутыми в темное брюхо. Она пролаяла всего раз, но так громко, что Марья закрыла уши руками. После этого гончая исчезла с оглушительным треском.
Глава 5. Кому водить
В городе у моря на длинной узкой улице стоял длинный узкий дом, а у длинного узкого окна сидела в рабочей одежде Марья Моревна и рыдала. Она уже не глядела на деревья, как летом, когда они шумели листвой. Зимняя луна заглядывала в окно и серебряной рукой гладила ее по голове. Ей исполнилось шестнадцать лет, а тень семнадцатого тяжело нависала над каждой ее слезой. Достаточно взрослая, чтобы после школы идти на работу, достаточно взрослая, чтобы уставать от мизинцев до пяток, достаточно взрослая, чтобы знать, что что-то безвозвратно прошло мимо нее.
Если бы она выглянула из окна, то увидела бы большую старую седую сову, опустившуюся на ветку дуба. Она бы увидела, как сова опасно наклоняется вперед на этой черно-зеленой ветке и, не отрывая взгляда от окна, камнем – бум, трах! – падает на обочину. Она бы увидела, как птица отскакивает от земли, расправляется и обращается в пригожего молодого человека в красивом черном пальто, с темными густыми кудрями с проседью, с полуулыбкой на устах, будто в ожидании чего-то ужасно приятного.
Но Марья Моревна ничего этого не видела. Она только услышала стук в большую дверь вишневого дерева и поспешила ее открыть, прежде чем проснется мать. Она стояла в своем фабричном комбинезоне, с лицом, обескровленным лунным светом, а мужчина смотрел на нее сверху вниз, потому что был довольно высок. Медленно, не отрывая взгляда от ее глаз, мужчина в черном пальто встал перед ней на одно колено.
– Меня зовут товарищ Кощей, фамилия моя Бессмертный, – сказал он низким рокочущим голосом, – и я пришел за девушкой в окошке.
Дом на улице Дзержинского накренился и затаил дыхание. В углах за печкой домовые ждали, что Марья ответит. Она тоже не дышала. Ее грудь была готова взорваться, но она не могла выпустить воздух. Что может случиться, если она выдохнет? Ей хотелось сразу многого: убежать, закричать, сжаться и отползти, броситься к нему на шею и прошептать: «Наконец-то, наконец-то, я уже думала, ты никогда не придешь»; умолять его оставить ее в покое, по-девичьи лишиться чувств и тем самым разрешить затруднение. Сердце ее трепетало, билось отрывисто и горячо, не в лад и невпопад. Он взял ее за руку, а она смотрела сверху вниз на снег, приставший к его брюкам, в его огромные глаза, такие черные, такие беспощадные, такие коварные и такие старые. Хотя сам он был не стар. Взрослее ее, но она готова была на спор съесть занавеску, если на вид ему больше двадцати. Ресницы были длинными и бархатными, как у девушки, а волосы развевались на ветру, как шерсть дикого пса. Марья нечасто находила мужчин прекрасными – в том смысле, в каком были прекрасны для нее сестры Бодниекс, или какой она сама надеялась стать однажды.
– Пригласи меня в дом, Маша, – мягко сказал товарищ Кощей. Улица упивалась его голосом, топила звуки в снегу, слизывала их.
Марья помотала головой, хотя и сама не знала, почему. Она хотела, чтобы он вошел. Но все это было неправильно – он не должен был называть ее домашним именем, не должен был вот так вставать на колено. Она должна была увидеть, как он кидается с дерева, она должна была быть умнее, наблюдательнее. Она должна была видеть, кем он был раньше, – все должно было быть не так. То, как близко он к ней подобрался, было слишком знакомо и немного распутно. Она уже понимала, что он не поведет ее на прогулку по улице Дзержинского и не купит ей шляпу. Она не была полна его видом – не так, как были полны ее сестры: как шелковые воздушные шары, как меха для вина. Вместо этого было такое ощущение, что он приземлился прямо внутрь нее, как падает черный камень. Она вовсе не чувствовала, что будет безопасно поцеловать его в щеку. Марья Моревна снова потрясла головой: Нет, все не так, я не видела, как ты сбрасываешь обличье, я ничего не знаю, я не чувствую себя в безопасности. Только не ты, чье имя знают все мои ночные кошмары.
– Тогда собирай вещи и пойдем со мной, – сказал Кощей невозмутимо. Его глаза сверкали на холоде, как сверкают далекие звезды в морозную ночь. Сердце Марьи остановилось. Собирай вещи и пошли – так говорят, когда приходят за тобой, потому что ты плохая, потому что ты не заслуживаешь права носить красный галстук. Может быть, он совсем не такой, как мужья ее сестер.
Глядя на товарища Бессмертного, она почувствовала очарование и в то же время тошноту – вот как на нее подействовало волшебство. Темные, но яркие, мягкие, но четко прочерченные губы выделялись на его лице. Глядя на него, она чувствовала, что совсем не может видеть его целиком, а видит только то, что делало его непохожим на мужчину, – красоту лица и вкрадчивые манеры. Да, он пугал ее. Дом вокруг нее тоже ворочался во сне, несомненно видя это самое существо, которое домовые называли Папой, и боялись что вот он придет, помахивая ремнем. И все же он казался ей знакомым, частью самой себя, похожим на нее даже формой губ и загибом ресниц. Если бы она часами вязала не жакетик для сына Анны, а возлюбленного для себя, то из-под ее спиц вышел бы как раз этот самый человек, что преклонил перед ней колено, с точно такими призрачными блестками серебра в волосах. Она раньше и не знала, что хочет вот этого всего – что предпочитает темные волосы и немного жестокое выражение лица, что хочет именно высокого и будет в восторге, когда он преклонит колено. Все мечтания, что она накопила за свою юную жизнь, сплавились внутри нее в единое целое, и Кощей Бессмертный с ресницами, припорошенными снегом, стал этим совершенством.
Марья содрогнулась и, даже не думая о том, что делает, отняла свою руку у мужчины в красивом черном пальто и удалилась в дом. Он пришел за ней – подобру ли, нет ли, выбора у нее не было. Когда за тобой приходят, однажды предупредила ее мать, ты должна идти. Тебя не спросят, хочешь ты этого или не хочешь.
Она вытащила из чулана чемодан. Это был не ее чемодан – возможно, вот он, первый невинный грех в ее жизни. Собирать было особо нечего – несколько платьев, рабочая одежда, серая фуражка. Марья помедлила, зависнув зачем-то над чемоданом, будто сама собиралась в него забраться. Наконец, она зажмурилась и очень осторожно положила под одежду большую черную книгу Лихо. Замочки, приглушенно клацнув, закрылись. Внезапно на крышке чемодана объявилась домовая Звонок. Ее новенькие начищенные башмаки сияли, а усы были красиво нафабрены.
– Я не поеду с тобой, – угрюмо сказала домовая. – Ты должна понимать. Я замужем за домом, а не за тобой. Даже если бы ты вышла в поле, предложила мне бальные туфельки и позвала с собой, я все равно бы не пошла.
Марья кивнула. Сказать что-то прямо сейчас казалось непосильным трудом. Но, по крайней мере, Звонок хотя бы знала этого человека, по крайней мере, он был всего лишь верховным правителем домовых и, возможно, кем-то еще, а не офицером, который пришел, чтобы увести ее в небытие.
– С матерями-то хотя бы попрощаешься?
Марья потрясла головой. Что им сказать? Как она все это объяснит? Она даже себе ничего не может объяснить. Мама, я всю свою жизнь ждала, что со мной что-то случится, и теперь, когда это случилось, я ухожу, даже несмотря на то, что все это как-то неправильно, а я так хотела, чтобы у меня все вышло лучше, чем у сестер.
– Какую ужасную девочку я воспитала! Хотя, если не спрашиваешь разрешения, то и отказать тебе не могут. Это рассуждая по-нашему. – Домовая поманила Марью наклониться, чтобы они могли говорить лицом к лицу, как равные. – Но если не твоя мать, кто еще тебе скажет, что делать в первую брачную ночь? Кто сплетет тебе венок невесты?
Откуда-то из глубины своего тела Марья Моревна вытащила ответ.
– Я не собираюсь выходить замуж, – прошептала она.
– Ну уж нет, девочка, легко сказать, да не так просто сделать – удержать дом, когда волк придет бить хвостом по траве. Послушай, Маша, послушай старый Звоночек, который тебя знает. Домовые, бывало, женились, – и так, и сяк, и этак, совсем как мальчики и девочки. Уколи палец иглой, пролей кровь на свой порог – будет не так больно и приснятся дочки. Мужчины же не чувствуют ничего такого, что приходится нам переносить. Ты должна освободить в себе место для него, это как в доме, только в теле. Но смотри, чтобы остались комнаты для себя, и запри их покрепче. И если не хочешь забрюхатеть… хотя, – Звонок сморщила приплюснутый нос, – я не думаю, что у тебя будет такая же забота, как у нас у всех. Бессмертный не может играть в наши маленькие генеалогические игры. Просто запомни, что единственный вопрос в доме – кто будет водить? Остальное – только пляски вокруг главного, которому старательно не смотришь в глаза.
Звонок потрепала Марью Моревну по щеке своей маленькой ручкой:
– Ах! Сердце мое! Я предупреждала, когда ты читала Пушкина! Я бы выбрала тебе другого мужа, правда, если бы выбор был за мной. Я бы ожидала лучшей доли для моей Маши, чем ее грудь у него во рту, и он будто младенец высасывает ее милый голос, ее милые причуды, понемногу, пока она не пересохнет и не загремит, как погремушка. Но я-то знаю, что он тебе уже нравится. Даже несмотря на то, что мы показали свои зубки и дали понять, что думаем о его распутных намерениях. Это не твоя вина. Он оборачивается приятным, чтобы нравиться девушкам. Но если уж тебе так хочется быть умной, будь ей. Будь храброй. Будь готова ко всему и стреляй без промаха.
Товарищ Звонок пожала плечами и вздохнула, со свистом втягивая воздух.
– Но это я от жадности! Мне надо научиться расставаться с лучшим, что есть в моем доме.
Существо вскочило на ноги и крепко поцеловало Марью в кончик носа. Шаркающими кривыми ногами домовая исполнила несколько па и постучала пальцем по собственному носу.
– Кому водить, – прошипела Звонок и исчезла.
Марья моргнула. Слезы катились из ее глаз как твердые бусинки. Ее ноги, вопреки голове, стремились выпрямиться и повести ее к двери, к товарищу Бессмертному, который все еще стоял на колене на холоде, словно рыцарь. Она никогда не будет водить, знала Марья. Никого и ничего.
* * *
Марья Моревна выбежала на Дзержинскую улицу, которая раньше была Комиссарской, а до этого Гороховой. Ее длинные черные волосы были распущены, щеки горели, дыхание облачком зависало в воздухе. Снег хрустел под ботинками. Товарищ Бессмертный улыбнулся ей, не разжимая губ. Птицы не причинили вреда моим сестрам, сказала Марья своему скачущему галопом сердцу. Он – не птица, ответило сердце. Ты была неосторожна, ты всего не видела?
Он придерживал открытую дверцу длинной черной машины – гладкой, с изящными обводами, такие Марья видела только пролетающими мимо, всегда под ропот соседей, не одобряющих порочных нэпманов. Машина рычала и чихала, мрачно помаргивая красными глазка́ми выхлопных труб. Марья с облегчением нырнула в машину, радостная от того, что она сделала – наконец оказалась внутри волшебства, вместо того чтобы смотреть на него из окна. Теперь не надо ждать, когда что-то черное приедет за ней, – оно уже здесь, и очень неплохо выглядит, и желает ее. После того как дверца захлопнется, она уже не сможет передумать – а! вот и захлопнулась, теперь ничего не воротишь. Она содрогнулась на заднем сиденье. В машине было холодно, как в лесу, а она забыла свою теплую меховую шапку.
Марья вздрогнула, когда товарищ Кощей скользнул на сиденье вслед за ней. Машина без водителя взревела и помчалась по улице с воем и визгливым ржанием. Кощей повернулся, схватил Марью за подбородок и поцеловал ее – не в щеку, не целомудренно и не порочно, а жадно, жестким, холодным, колким, опытным ртом. Он пил ее дыхание в этом поцелуе. Марья чувствовала, что он мог бы проглотить ее целиком.
Глава 6. Обольщение Марьи Моревны
Черная машина знала лес не хуже дикого кабана. Она обнюхивала бледные, как кости, березы и гудела низким стонущим клаксоном, будто призывая звериную братию выйти из сосновой тени. От этого звука Марью Моревну кидало в дрожь, и Кощей прижимал ее еще крепче, сплетая руки Марьи со своими.
– Я тебя укрою, – сказал он тихо и сладко, слаще черного чая, – укрою и согрею. – Но его собственная кожа покрылась инеем, а ногти отливали голубым жемчугом.
– Товарищ, – сказала Марья, – ты еще холоднее, чем я сама. Ты меня совсем заморозишь.
Кощей изучающе посмотрел на нее, будто тепла страстно желают только диковинные зверушки. Его темные глаза покровительственно оглядывали ее лицо, но он все не отпускал ее. Как бы то ни было, но холод от его тела только усиливался, пока Марья не почувствовала, будто прирастает к ледяной колонне, распустившей мерзлые щупальца, чтобы охватить ее целиком и обратить в лед.
В ту первую ночь черная машина, наконец, захрипела, сплюнула, победно закашлялась, и вот они выехали на поляну вокруг избушки с румяными окошками, которые светили в ясную прозрачную ночь, с карнизами, что кивали из-под свежей соломенной крыши, и с гостеприимно приоткрытой дверью. Крестьянская изба, будьте уверены, не высокая и узкая, как ее дом, а, словно бабушка, приземистая и добрая, с пыхтящей коричневой трубой. Кощей помог дрожащей Марье выбраться из машины и любовно хлопнул по капоту, после чего автомобиль игриво подпрыгнул и умчался в темноту.
В доме все было готово к ужину. Крепкий деревянный стол, озаренный свечами, был уставлен яствами: хлеб и соленья, копченая рыба, пельмени, маринованная свекла и золотистая каша, грибы и говяжий язык, стопка блинов с икрой и сметаной. Холодная водка в запотевшем хрустальном графине. В горшке над очагом булькало гусиное жаркое.
Марья хотела бы сохранить хорошие манеры, но такое количество еды ослепило ее. Она набросилась на хлеб и рыбу, как дикарь.
– Подожди, волчица, – сказал Кощей, держа ее за руку. – Маленькая дикая волчица! Пожалуй к моему столу, стряхни снег с волос. Никто у тебя не заберет эту пищу.
Марья начала было извиняться, объясняя, как мало еды в Петрограде, и что ее желудок сжался в кулак, удерживая только пустоту.
– Товарищ, я так голодна…
– Сегодня тебе нет нужды говорить, Марья Моревна. Это время придет, и я буду внимать твоим словам как завороженный. А пока, пожалуйста, послушай меня и делай, как я скажу. Я знаю, это будет непросто для тебя – я бы тебя и не выбрал, если бы тебе было легко слушаться и помалкивать! Но мы собираемся вместе сделать что-то необычное. Знаешь ли ты, что именно? Я тебе скажу, чтобы потом ты не могла говорить, что я тебя обманул. Мы возьмем твою волю и вынем ее из твоих челюстей – именно здесь воля живет – и скатаем ее двумя руками, как комочек теста. Мы будем катать и сжимать ее, пока она не станет совсем маленькой. Такой маленькой, что войдет в ушко иголки, что спрятана в яйце, что сидит внутри курицы, что спрятана внутри гуся, что спрятан внутри оленя. Когда мы закончим, ты отдашь свою волю мне, чтобы я сберег ее для тебя же. Я умею это делать очень хорошо. Можно сказать, что я просто мастер в этом деле. Ты, напротив, – Кощей налил ей водки, – в этом новичок, даже хуже, и, как всякий новичок, ты должна проглотить свою гордость. – Кощей поднял рюмку.
Марья подняла свою, но медленно, неуверенно. Рука ее немного дрожала. Она не любила, когда ей приказывают. Она хотела сказать сотню, тысячу разных мыслей. Она хотела наброситься на него и потребовать все объяснить: Лихо, домовых, птиц, всю ее жизнь. Я должна знать, обязана, или ты просто будешь помыкать мной до конца дней, потому что ты знаешь, а я – нет. Но он только улыбнулся ей, ободряюще, доброжелательно, безмятежный, как икона.
– За жизнь, – сказал он и выпил свою водку до дна одним глотком. – Так, сначала попробуй икру, я настаиваю. Я знаю, что ты хотела бы приберечь ее напоследок, чтобы растянуть удовольствие, ведь ты давно ничего такого не пробовала. Если я и могу научить тебя чему-то, так это получать удовольствие от всего, хотеть всего отведать – самые роскошные вещи в первую очередь, они все для тебя. Ты же прочитала своего Пушкина – что старина Александр говорит обо мне? Там царь Кощей над златом чахнет. Тьфу! Этому парню, кстати, постричься бы. Но, конечно, Марья Моревна, я действительно любуюсь своими сокровищами! Одно из них – это сверкающий, словно груда ониксов, приплод осетра, другое – это сосуды с водкой, мерцающие, будто бриллианты, а еще сочная и красная, как гранат, свекла, а еще прекрасные девы из Петрограда, сидящие в моем доме, молчаливые, как золото, потому что я попросил их помолчать, а такое молчание слаще всего. И я действительно чахну в темноте над моим богатством, моим невероятным благословением.
Прекрасные девы? Марья не пропустила множественное число. Есть еще и другие? Вопросы толклись у нее на языке, но она усмирила их и сохранила спокойствие. Если я так сделаю, то, вероятно, заслужу свои ответы.
Кощей отхватил от каравая толстый ломоть хлеба. Корочка захрустела под ножом, и кусок упал на стол, влажный и тяжелый, как чернозем. Он одним движением лезвия намазал ломоть холодным соленым маслом, потом покрыл масло икрой – мазок из черных шариков по бледному золоту масла. Он протянул ей хлеб, и она застенчиво хотела взять его, но Кощей не дал хлеб в руки. Так что Марья Моревна молча сидела, а Кощей кормил ее хлебом с маслом и икрой. Вкус взрывался у нее во рту соленым морем. Слезы текли по щекам. Ее пустой желудок запел от изобилия. Внезапно молчание обернулось облегчением, не надо было поддерживать разговор, ее тело до изнеможения поглощало соленый деликатес на тяжелом хлебе.
– А теперь свекла, волчица. Посмотри на нее сначала, какая она кровавая, какая алая, какой след оставляет за собой, будто раненая. Отпей водки и закуси соленьями, почувствуй, как водка смешивается с рассолом на языке. Это прекрасно. Это очень по-зимнему, когда все соленья хранятся за стеклом. В этой смеси ты можешь почувствовать вкус лета, сваренного и просоленного, высушенного, упакованного с приправами, чтобы оно могло возродиться на этом столе, в этом месте, в этом снегу. Теперь ложку каши, чтобы успокоить распаленное нёбо. – Он засунул серебряную ложку ей в рот, придержав подбородок большим пальцем. Марье казалось, что она никогда еще раньше не ела, вообще не задумывалась о том, что ест. Это ей нравилось больше, чем твердое угловатое волшебство Лихо. Это волшебство наполняло ее, причиняя боль переполненному животу. – Когда будешь есть коровий язык, подумай секунду о том, как это странно и свято, поглощать язык другого. Украсть у другого способность говорить, мычать на луну, звать теленка. Чтобы заслужить такую еду, ты должна говорить только очень умные и мудрые слова, иначе твой язык также окажется на тарелке у богача. Конечно, богатых партия извела, но сегодня ты узнаешь от меня еще одну вещь, и вот что это: городская нечисть может собираться в комитеты и делить одну картофелину на всех, но сильные и жестокие все еще сидят наверху, пьют водку, носят черные меха, хлебают борщ из бадьи, как кровь. Дети могут протирать носки, добродетельно маршируя на парадах, но Папа никогда не останется без вина на ужин. Так что лучше быть сильным и жестоким, чем честным. По крайней мере питание лучше. А мораль зависит от состояния твоего желудка, а не от состояния твоего народа.
Так час за часом длился ужин Марьи Моревны. Свет очага слепил ее, наваристый бульон жаркого пьянил ее, а низкий безжалостный голос Кощея, голос, подобный сладкому черному чаю, вздымался и опускался, словно напевная баллада, убаюкивая ее, поглаживая и потягивая. Разум ее вовсю бормотал, раз уж рот был занят, – что же за птица скрывается под твоим обличьем? Ты правда Папа домовых? Брат Лихо? Меня не обманешь, будто Бессмертный – твоя фамилия! Лихо меня уже научила, что не стоит думать, будто имена – это только имена и ничего не значат! Кощей Бессмертный, значит вечный, – это ты и есть, больше некому. И что же это все значит для меня теперь? Что ты со мной сделаешь?
Но ничего из этого она не сказала вслух. Усыпляющее, простое удовольствие от того, что тебя кормят, разговаривают с тобой, не ожидая ответа, переполняло ее. Она ощущала себя хищным лесным зверем – поистине волчицей, которую взяли в дом, расчесали, приласкали, накормили, пока не пришла пора ей уснуть у очага, будто это само собой разумелось. Она посмотрела в круглое окошко избушки, и в сонной сытой теплоте ей показалось, что она видит не длинный автомобиль, припаркованный снаружи, а огромную черную лошадь, что наклонилась над корытом с рдеющими красными углями и задумчиво их пережевывает. От бархатной морды летели искры.
Наконец Кощей положил на язык Марьи ложку вишневого варенья и велел ей прихлебывать чай через ягодную массу. Когда она сделала первый глоток, он поцеловал ее, и рты их наполнились теплом чая и сладостью вишни, и Марья Моревна заснула в его руках, с губами, все еще прижатыми к его губам.
* * *
Глубокой ночью она вмиг проснулась от нестерпимой рези в животе и метнулась на двор, чтобы исторгнуть на мерзлую землю весь свой замечательный ужин. Кощей, холодный и бесчувственный, даже не проснулся. Она старалась не шуметь, чтобы он не узнал, что она не сберегла угощение, которое он так любовно для нее приготовил. Я не виновата, подумала она в ярости, не в состоянии проговорить это даже сейчас, когда он спал. Желудок, привыкший к черствому пайковому хлебу и селедке, не может вынести всей этой роскоши.
Марья Моревна посмотрела вверх. Огромная черная лошадь спокойно наблюдала за ней светящимися в темноте глазами. Рот ее наполнился густым кислым чувством стыда. Тихо, как вор, она прокралась обратно в избушку.
* * *
Так они и странствовали через тридесять царств, тридевять государств, через весь мир – от Петрограда до столицы Кощея. Лощеная машина без водителя, которой, казалось, не нужны были ни бензин, ни карты, несла их через дикие дремучие леса и старые снежные костяные горы. Внутри автомобиля царил полночный холод, как бы ярко ни светило снаружи солнце. Зубы Марьи ныли от тряски. И каждый вечер, без осечки, они находили радостно светящуюся избушку в лиственном лесу или посреди остроконечных елей. Каждый вечер стол накрывался яствами все более изысканными, по мере того как они продвигались на восток, а снег становился все глубже. Запеченные лебеди, вареники со сладкой свининой и яблоками, моченые арбузы, пирожки да булочки с кремом. Каждый вечер Кощей просил ее не разговаривать и кормил изящными движениями длинных рук. Каждый вечер она пробиралась в лес и снова исторгала все обратно, напрягая мышцы живота, уставшие от еды и рвоты, еды и рвоты.
– Виноградники, что дали нам это вино, поставляют его и на стол товарища Сталина, – сказал он однажды ночью с хитрой усмешкой. – Ты запомнишь, что я говорил о детях и Папах и о том, кто ест последним. – Кощей отведал вина и состроил гримасу: – Слишком сладкое. Товарищ Сталин боится горечи, вкус у него, как у избалованной принцессы. Я обожаю горечь, спасибо моему опыту. Это привилегия того, кто действительно живет. Ты тоже должна научиться предпочитать горечь. В конце концов, когда все остальное пройдет, горечи останется в избытке.
Марья Моревна подумала, что как-то это неправильно. Но влажное мясо лебедя и водка, такая чистая, что казалась на вкус холодной водой, закручивали ее все быстрее и быстрее, и чем быстрее она крутилась в его руках, тем больше смысла было в том, что он говорил. А поскольку ее тело не могло удержать обильную пищу, она чувствовала себя все более изголодавшейся всякий раз, когда он поднимал ложку с печеной картошкой к ее рту.
Он клал ей на язык мед, грушевое варенье и коричневый мокрый сахар. Она глотала горячий чай. И он целовал ее снова и снова, деля с ней сладость и жар. Каждую ночь у избушки странная лошадь рылась носом в корыте с углями, наблюдая за ее тайной тошнотой не моргнув глазом. Только теперь шкура ее была красного цвета, а грива – как огонь. И всякий раз, когда Марья вставала со своей мягкой пуховой перины, автомобиль уже ждал ее в тумане, попыхивая выхлопной трубой, тоже больше не черный, а алый, как свекла, как кровь.
Но Марья была всего лишь девушкой, юной и хрупкой, и постоянные переходы из промерзлой машины к потрескивающему очагу стали ее изматывать. Она начала кашлять, сначала немного, потом глубоко и резко. Ее настолько одолели лихорадка и слабость, что теперь она не могла съесть даже маленькую куропатку в карамели или кусочек кекса с абрикосовым джемом. Ей приходилось выталкивать ложку изо рта или выблевывать содержимое желудка прямо на тонкие шерстяные ковры.
Марья лежала на полу у огня в последней веселой и послушной избушке, подтянув колени к груди, одновременно обливаясь потом и дрожа. Если бы даже она захотела говорить, то не смогла бы. Глаза ее остекленели, комната плавала перед ней. Кощей взглянул на нее сверху вниз. На волосах его таял снег.
– Бедная волчица, – вздохнул он. – Я так торопился доставить тебя домой. Я был слишком нетерпелив, а ты – всего лишь человеческое существо. Тебе надо научиться поспевать за мной.
Кощей Бессмертный опустился около нее на колени и расстегнул ее рабочую рубаху. Даже в лихорадке Марья навсегда запомнила, как тряслись его пальцы, когда он раскрывал и совлекал ее одежды, пока она не осталась лежать у очага совсем обнаженной, пытаясь закрыть грудь ладонями. Но Кощей перевернул ее на живот, и Марья услышала звяканье стаканов. Она улыбнулась в роскошную шкуру, брошенную на пол. Ее мать делала с ней то же самое, когда Марья была совсем маленькая. Банки. Она чувствовала невероятно знакомые прикосновения – Кощей разложил на ее спине монеты и зажег спички на них, после этого он накрыл горящие спички водочными стопками так, чтобы ее плоть присасывалась пустотой. Предполагалось, что они вытянут ее лихорадку, высосут болезнь из ее груди. Когда она была совсем маленькая – еще до птиц, до войны, до улицы Дзержинского, – мать ставила ей банки, когда она болела. Скоро Кощей расставил на ней столько стаканов, что когда она шевелилась, то звенела стеклом по стеклу, как рождественский колокольчик. Она представляла себя большим зверем, который валит лес одним ударом лапы. Жар придавал этим образам убедительность, они пылали, кричали, играли перед ее глазами, как настоящие. Она стонала. На этот раз Кощей не говорил ничего, не читал ей нотаций или инструкций. Он только мурлыкал с ней, гладил волосы, звал ее волчицей, медвежкой, кошечкой.
На следующую ночь машина привезла их на отдых не в деревенскую избушку, а в баню. Еды там не было. На зеленом мраморном столике ожидала черная банка и тщательно сложенная кучка длинных льняных бинтов. Бутылка водки все же была. Кощей снова раздел Марью и усадил ее на деревянную колоду. Он растирал ее кожу длинными тонкими пальцами, которые оказались совсем не ледяными, а горячими. Он расчесал ее волосы сотней взмахов щетки. С каждым взмахом сухие, ломкие, поломанные пряди становились снова мягкими и блестящими, будто никогда она не испытывала нужды в молоке и яйцах, из-за которой волосы ее потускнели и истончали. Марья почти заснула сидя, убаюканная расчесыванием и его грустными припевками про серого волчка и беззаботную девочку. Когда ее волосы засияли, он искусно убрал их в косу и уложил Марью на топчан.
Затем Кощей обмотал ее льняными бинтами так, что не осталось видно кожи. Когда он открыл черную банку, в бедный истерзанный нос Марьи ударил щекочущий резкий запах горчицы. О, как же она этого боялась, когда была маленькой. Она скрывала любую простуду или насморк от матери, поскольку после разоблачения тут же появлялись горчичники, которые пахли жжением и тошнотой. Марья представляла, что, если у ада есть запах, он пахнет горчичниками. Кощей намазал повязки горчицей. Глаза Марьи резало, они слезились, кожа покрылась потом, и в бреду она звала свою мать, Звонок, Татьяну, Ольгу и Анну, свой красный галстук и бедную Светлану Тихоновну, и наконец, совсем тихо – Кощея. Заслышав свое имя, он снял горчичники и стал баюкать ее в объятиях.
– Пей, Маруся, – ворковал он, как мать, и подносил стакан к ее губам. – Твоим легким нужна водка. – Она послушно пила, кашляла и снова пила.
Он поднял ее на руки и понес в баню. Называл ее своей волчицей, львицей, натирал ей спину крупной солью, пока она не покраснела, а потом опустил в горячую лохань. Он подносил к ее носу горсть горячей воды и заставлял вдыхать. Она давилась ею, брызгала, но все равно вдыхала – настолько она привыкла к его голосу. Наконец, Кощей поставил ее и взял в руки березовый веник. Марья подивилась, как перехватило его дыхание, когда он приложился веником к ее коже, сначала осторожно, потом сильнее, потом остановился, чтобы натереть ее маслом и снова стегал ее. Сначала она съежилась, но под последними ударами Марья Моревна уже сама выгибала спину навстречу венику, будто сам лес вел ее тело к излечению.
Наконец, горячая, распаренная, горящая Марья позволила Кощею отвести ее к дровяной печи, где он постлал ей постель у теплых кирпичей. Она заснула и видела во сне модный журнал из Лондона, которым так дорожили сестры Бодниекс. Журнал во сне вырос до размеров музейной залы. Она бродила между страницами, маленькая и напуганная, среди прекрасных высоких женщин в хрустящих платьях и шляпах с перьями.
Одна из них повернулась к Марье. Она носила на голове ярко-синий тюрбан и обмахивалась золотым веером.
– В этом сезоне все девушки носят свою смерть, – сказала модель высокомерно. – Это именно то, что нужно простой деревенской девке, чтобы разбогатеть.
Женщина указала на свой тюрбан. В его складках угнездилось белое блестящее куриное яйцо.
* * *
Когда Марья проснулась, красной машины уже не было, вместо нее навстречу катилась сверкающая белая, с крыльями, изогнутыми с лебединой грацией. Марье было гораздо лучше, хотя голова еще болела, а спина пульсировала в тех местах, где оставил след березовый веник. Ее кожа излучала тепло, и она благодарно привалилась к Кощею, пока мимо них неслись ледяные горбы гор, будто покрытые коркой запекшейся соли в ожидании весны.
В эту ночь, их последнюю ночь, машина пробилась по каменистой заснеженной дороге к очередной избушке с резными обледеневшими карнизами, с толстой красной дверью. Кощей поднял ее на руки и понес. Марья сонно подняла голову и через его плечо увидела, как белая машина проложила колею в снегу, ударилась о ледяной нарост и обратилась огромным бледным конем с гривой, крутящейся на ветру. Конь радостно заржал и потрусил прочь в поисках ужина. Хотя бы обращение машины я увидела, подумала она сонно. По крайней мере я все еще вижу обнаженный мир, даже если он показывает мне пока только коленку или запястье, да и то мельком. Она стала привыкать к тишине, и тишина привыкла к ней. И поскольку она расслабилась до полной немоты и почти перестала об этом думать, поскольку она была теплой, рассеянной и едва ли вообще бодрствовала, Марья Моревна совершила оплошность.
– Марья, мы почти приехали, совсем рядом граница моей страны. Я тебя вылечу прежде, чем мы окунемся в тамошние заботы.
– Я правда чувствую себя много лучше, – заверила она его прежде, чем сама поняла, что сказала это вслух.
Глаза Кощея потемнели, как две потушенные лампы. Он опустил ее – не так бережно, как обычно.
– Я просил тебя не говорить, Маша, – сказал он. Голос его скрутило, как канат. Марья, потрясенная, замолчала.
На столе дымился простой ужин: ботвинья, хлеб, кабачковая икра, куриное заливное с застывшими в нем кусочками мяса. Нежная щадящая пища для ее измученного тела. Марья все еще не могла много есть.
– Это наша последняя ночь вдвоем, – сказал Кощей. – Завтра ты будешь вся в моих родственниках, слугах, в самых разных неотложных заботах. Мне будет не хватать нашего личного времени, скрытого от общего внимания. Но в замужестве всегда так. Половина супружества приходится на тех, кому нет места в нашей постели. Я знаю, что ты гадаешь, как там у твоих сестер с их прекрасными птицами-мужьями, в добром ли они здравии, не хворают ли, так ли далеко и быстро они путешествовали. Эти лейтенанты были моими братьями, товарищами, и, хотя им пока не требовалось мчаться так быстро и не с такой роскошью они путешествовали, у них тоже были свои вечера с борщом, водкой и березовыми вениками. Это брачный танец, знакомый всем птицам. Я тогда хотел, чтобы ты выглянула из окошка, Маша! Я для тебя обратился прекрасной совой. Я так сильно ударился оземь. Только чтобы тебя потешить, чтобы все случилось именно так, как ты желала. Так сильно я хотел тебе угодить. Но, ша! Ты пропустила этот момент. Возможно, если бы ты меня увидела в том облике, все было бы по-другому. Возможно, ты бы велела мне молчать. Это был мой риск. Признаюсь, это возбуждало меня – возможность быть пойманным. Но нет, я сохранил все свои секреты в итоге. Что упало, то пропало. Так что я буду с тобой жесток, Марья Моревна. Ты дышать не сможешь, как я буду жесток. Но ты понимаешь, не правда ли? Ты достаточно умна. Я существо требовательное. Я эгоистичен, жесток и крайне неразумен. Но я – к твоим услугам. Когда ты будешь голодна, я накормлю тебя. Когда ты заболеешь, я буду за тобой ухаживать. Я приползу к твоим ногам, потому что до твоей любви, до твоих поцелуев я был испорчен. Только для тебя я буду слабым.
Так Марья лежала на топчане у печи, с обнаженной спиной, рубиново-красной в свете огня. Как фокусник, Кощей вытащил яйцо из-за уха – только не куриное яйцо. Это было черное яйцо, оправленное серебром, усыпанное холодными бриллиантами. Марья улыбнулась, потому что ее отец однажды так сделал, когда она не могла заснуть, – прокатил яйцо по всему ее телу, чтобы вобрать все кошмары в желток, прочь от ее сердца.
– Ты пока еще не понимаешь этого. Еще не время. Ты не готова. Ты все еще не обтесалась для моего подарка. Но это наша последняя ночь, и я должен вынуть все твои страхи, кошмары и ужасы городской пролетарской девочки. Тебе понадобится это место для новых страхов. Я всю тебя обновлю, ты будешь моей революцией – не красной, и не белой, а черной.
Кощей Бессмертный прокатил яйцо по коже Марьи. Она чувствовала похрустывание хрупкой оболочки, как оно катится по ее косточкам, царапая кожу бриллиантами.
Когда с этим было покончено, он подтянул ее повыше и снова прижал к себе в поцелуе. Его рот был холоден, и они не обменивались грушевым или вишневым вареньем в поцелуе. Тем не менее Марья Моревна чувствовала сладость и в его пустом поцелуе.
Внезапно сладость улетучилась, а губу пронзила боль – Кощей укусил ее. От боли она вытаращилась на него и поднесла руку ко рту. На пальцах осталась кровь. Губы Кощея тоже были в крови. Глаза его мерцали и искрились.
– Когда я говорю тебе что-то делать, ты должна слушаться. Хочешь ты этого или нет. Это воля в твоих стиснутых зубах и яйцо на твоей спине.
Марья затаилась, в глазах ее все плыло, губы горячо пульсировали в местах, прокушенных его острыми зубами. Она чувствовала, будто балансирует на кончике иглы, – если я позволю ему это сделать со мной, что еще я ему позволю?
Все что угодно.
Кощей Бессмертный вытер алую кровь с ее губ. Он взглянул на свой палец со следами крови Марьи. Не отрывая взгляда от ее глаз, он поднял руку ко рту и попробовал кровь на вкус, нерешительно, будто ожидая, что она его остановит.
Но Марья Моревна затаила дыхание и не издала ни звука.
Часть 2. Будь готова ко всему и стреляй без промаха
Смерти нет – это всем известно, Повторять это стало пресно Анна АхматоваГлава 7. Царство Жизни
Где страна, которой правит Царь Жизни? Когда мир был молодым, семь царей и цариц поделили его между собой. Царь Птиц выбрал воздух, облака и ветры. Царица Соли выбрала города с их суетой и бездумной толкотней. Царь Воды выбрал моря и озера, заливы и океаны. Царица Ночи выбрала все темные и укромные места, все пороги и тени. Царица Длины Часа выбрала себе во владение печаль и несчастье, так что, где страдание – там ее власть. Делить то, что осталось, пришлось Царю Жизни и Царю Смерти. Какое-то время им нравилось спорить за каждое дерево, каждый камень, каждый ручеек, молотя друг друга почем зря: Смерть – той косой, которой косит все живое, а Жизнь – тем молотом, которым строит все полезные и приятные вещи – заборы, церкви, самогонные аппараты. Однако Жизнь и Смерть – это брат и сестра, и честолюбия у них в точности поровну.
Их раздор вскоре охватил целые города, реки (которые справедливо не принадлежали никому, хотя держаться стороной – нелучшая защита), края и берега, пока эта битва не поглотила весь мир. Как только в каком-то городе заведется добрый кирпичный амбар да полкочана капусты, так тут же появится Смерть под белыми знаменами и опустошит это место одним махом. Как только деревня опустеет от войны, как от чумы, улицы покроются черепами на пиках, а кровь отравит колодцы, так тут же в полных мусором канавах пробьются зеленые ростки и последняя из женщин понесет во чреве. Не могло быть между ними согласия.
Наконец, когда каждую пядь земли поделили и еще подробили, сами песок и глина не смогли этого терпеть. Горы отдали свое железо и медь, а Царица Соли потихоньку научила людей своим секретным приемам, ибо из всех братьев и сестер Царица Соли лучше всех знала плоды культуры – те, что сделаны, а не рождены. Полезли ткацкие станки и кузницы, плуги и моторы, печи, шприцы, отделы очистки, поезда и крепкие башмаки. Так праздновал победу Царь Жизни, и детей рожали одного за другим.
Однако и Царь Смерти не лыком шит. Скоро станки стали откусывать ткачам пальцы, дым печей забивал глотку, а большие машины выплевывали взрывчатку, шлемы, пулеметы да солдатские башмаки. Скоро городские реквизировали зерно у деревенских, спрятали его в больших хранилищах, а сами спорили до хрипоты, как его поделить, пока зерно плесневело, и писали длинные книги о справедливости содеянного, а медью венчанная Смерть, обутая в железо, плясала между ними.
Прилежному ученику да простится уверенность в том, что Царь Смерти – злой, а Царь Жизни – добрый. По правде говоря, добра уж нет нигде. Жизнь хитра и неразборчива, она подлая, волчья, суровая. Сама себе служит, на все готовая. Смерть, конечно, тоже – костлявая, одержима во веки веков заговорами, но все же и милосердная, и благодатная, и нежная. В своих владениях Смерть может быть доброй. Но конца их спорам не будет никогда, пока вообще все не кончится.
Так где же та страна Царя Смерти? Где владения Царя Жизни? Найти их нелегко, однако же каждый день мы ступаем по ним сотню раз и более. Каждая пядь земли поделена между ними до бесконечности, до мельчайшей меры, да и того мельче. Даже крупинки соли воюют меж собой. Даже атомы душат друг друга во сне. Чтобы достичь Царства Жизни, что невозможно близко и безнадежно далеко, нельзя пожелать попасть туда. Вам следует приближаться к нему украдкой, сторонкой. Лучше всего быть болезным, в лихорадке, в бреду. В разгуле слабости, когда восстает истребляемая плоть, горячая, мокрая, алая, легче всего опрокинуться в это искомое царство.
Конечно, так же легко тем же манером достичь страны Царя Смерти.
Путешествия без опасностей не бывает.
Леший Землеед подозрительно таращился в огромную черную книгу. Корявой мшистой рукой он потряс ее, держа за угол. С березового свода на страницу слетело несколько листьев. Солнечный свет прохладным ясным золотом лился сквозь белые ветви. Угольно-черный корешок увесистого тома поблескивал, отражая лучи мягкого осеннего света. В задумчивости Леший хорошенько пожевал обложку. Наморщил нос картошкой. Землеед походил на плод страстной любви между особенно уродливым приземистым дубом и булыжником, как единственное их дитя, при родах которого немало пострадали оба родителя. Брови его из двух пучков омелы шевелились.
– Почему она читает этот нонсенс. Картинок нет. Скучища.
Берданка Наганя закатила глаза. На самом деле – один глаз, поскольку второй глаз у нее – не столько глаз, сколько торчащий из черепа оптический прицел, сделанный из кости и прозрачного ногтя большого пальца. Кроме того, она носила половинку очков, прикрывающую нормальный глаз, потому что без прицела или чего-то такого она чувствовала себя неприлично голой. Тщательно отполированная ореховая кожа беса блестела. В некоторых местах проступали почерневшие металлические сухожилия: на локтях, на щеке, в подколенных ямках.
– Ты что, не слушал? Лихо ей дала книгу, – нарочито фыркнула Наганя. Она вынула серый носовой платок и вытерла каплю машинного масла, скопившуюся в носу. – Хотя я этого и не одобряю. Истории – это средство угнетения. Авторов историй следует расстреливать на месте.
Землеед фыркнул в ответ.
– Что еще за Царь Жизни? Отродясь не видал его.
– А ты как думаешь, каменная башка? Его ж не просто так Бессмертным зовут. – Наганя мимолетно заглянула в книгу, щелкая языком. От этого получался жуткий механический звук, будто взводили и спускали курок. – Хотя ты прав. Скушная. Затянутая. Удивляюсь, как ты ее вообще можешь читать.
– Не есть же ее! Черт! А давай раздерем ее да закопаем. Хорошая подкормка для дерева будет, а? – Землеед сплюнул комок золотой жевательной смолы на одеяло для пикника.
Наганя скорчила гримасу.
– Почему царевна позволяет тебе за ней таскаться – для меня просто загадка. Ты же отвратительный. Но если хочешь драть ее вещи – милости прошу. Выпотрошить что-нибудь всегда интересно. Например, лешего, чтобы узнать, что у него внутри. Грязь да палки, наверное?
– Руки прочь, ружейная нечисть. Что внутри – то мое!
– Собственность – это воровство, – отрезала Наганя, пощелкивая щечками. – Поэтому, даже сидя тут, ты крадешь у Народа, Земеля! Бандит! Караул!
Землеед снова сплюнул.
– Ну, Земеля, – захныкала она. – Мне скучно! Давай я тебя опять буду допрашивать? Будет весело! Обещаю, что на этот раз не стану сниматься с предохранителя.
Леший заскрежетал каменными зубами с налетом грязи:
– Нагаша, почему тебе всегда скучно, когда я рядом? Поскучай с кем-нибудь еще!
Из зарослей ежевики выскочили две лошади с распластавшимися на их спинах всадницами. Впереди – черный конь под зеленым финифтевым седлом. На нем с пронзительным хохотом скакала молодая женщина с щедрой россыпью гранатов и грубого янтаря в распущенных темных волосах. Ее красный охотничий плащ парусом реял за спиной. Она умело лавировала между бледными, точно кости, стволами берез, подныривая под тяжелые ветви в желтых листьях и тонкие коричневые плети кустарника в рубиновых ягодах. Позади скакала белая кобыла с сидящей в седле боком бледной дамой, такой же неистовой и стремительной, как и черная всадница, но с лебедиными перьями, вплетенными в облако снежно-белых волос. От топота летящих в галопе копыт поднимались вихри опавших оранжевых листьев.
– Куда она улетела? Туда? – сверкая глазами прокричала Марья Моревна, поводьями заворачивая нетерпеливую лошадь по кругу.
– Кто? – пролаял леший.
– Моя жар-птица! Земеля, опять у тебя уши мхом заросли!
– Опоздали вы, – вздохнула Наганя. – Она тут еще час назад просвистела. Опалила мне волосы, да и обед наш, считай, весь сгорел. – Темные мокрые волосы Нагани блестели от ружейного масла и пахли керосином.
– Ну что ж, – сказала Мадам Лебедева, легко спрыгивая с лошади и поправляя свою элегантную шляпу, на которой еще оставалось несколько лебединых перьев. На шее мерцала жемчужная камея с ее собственным идеальным профилем. – Что касается меня, то я бы отдохнула и выпила чашку чая. Жар-птицы такая неуступчивая дичь. Вот она вся в огне хвостового оперения и красных когтей, а вот от нее остались только пепел и потертости на заднице у охотников. – Она привязала свою кобылу к лиственнице и присела на слегка влажную подстилку для пикника, стряхивая невидимую пыль с белых бриджей и куртки.
Марья прислонила охотничье ружье к огненному осеннему клену и тоже рухнула на подстилку. Она порывисто – с лешим иначе невозможно – обняла Земелю и запечатлела поцелуй на дубовой коре его щеки. Охота разгоняла ее кровь и разжигала аппетит – она вся дрожала от возбуждения.
– Что у нас поесть? – радостно спросила Марья, перекидывая изукрашенные самоцветами волосы через плечо. На ней был изящный черный костюм, похожий и на униформу, и на охотничий наряд.
– Подгорелые тосты, сожженные пирожки, лук маринованный, но тоже горелый. Боюсь, что и чай теперь тоже изрядно подкопченный, – вздохнула берданка.
– Вас ни на минуту нельзя оставить. – нахмурилась мадам Лебедева.
– А на три часа не хочешь, мавка, – проворчал Землеед, почесывая колени. – И она опять меня допрашивала. Смотри! – Он показал руки с аккуратными пулевыми отверстиями на каждой ладони. – Говорит, что это расплата за кумовство.
– Ну, ты должен признать, что ошиваешься под каблуком у фаворитки Царя, – улыбнулась мадам Лебедева.
– А ты нет, что ли? А где твоя расплата, а?
– Я стараюсь не оставаться с ревнивой Нагашей наедине, – фыркнула в ответ мавка: – Так проще всего избежать допросов, мне кажется.
– Ну все, мир, – захохотала Марья Моревна, поднимая руки. На каждом пальце сияло серебряное кольцо, украшенное неограненными рубинами и малахитом. – Если вы все не будете себя хорошо вести, я не стану вам больше рассказывать историй о Петрограде.
Прозрачный глаз Нагани заполнился черными масляными слезами.
– О, Маша, это нечестно! Как же я буду дальше защищать интересы партии в тылу, если ты не будешь учить меня про Маркса и Папу Ленина?
Земеля оскалился дыркой в каменном подбородке на месте рта:
– Кто такой Папа Ленин? Тьфу! У Землееда один Папа – папа Кощей. Ему не нужен противный лысый Папа Ленин!
Лицо Марьи Моревны просветлело и тут же потемнело. Она покрутила кольца на пальцах. Когда она думала о Кощее, кровь ее вскипала и леденела одновременно.
– Ну, думаю, на этом и порешим, Зёма. Нагаша?
Наганя драматически вздохнула.
– Я должна лично побывать в Петрограде! – заскулила она. – Что толку от ружейного беса здесь, где из развлечений для меня только обычная охота. Как я жажду настоящего применения – охотиться на врагов народа и делать в них дырки.
Мадам Лебедева зевнула и вытянула длинные руки. Ее красота казалась невероятно хрупкой, как у птицы, угловатой, практически бесцветной, не считая темных бездонных глаз.
– Когда он на тебе женится, Машенька? Как это должно быть утомительно, так долго ждать!
– Да я не знаю, лебедь моя любимая. Он так занят на войне, видишь ли. Все дни и ночи в Черносвяте, корпит над бумагами, занимается перемещением войск. Не самое лучшее время для свадьбы. – Марья и правда устала ждать. Она щурилась на холодное солнце и думала, что хорошо бы уже стать Царицей, чтобы наверняка, чтобы знать, что не придется возвращаться домой, где у нее не было ни лошади, ни жар-птицы, ни таких друзей.
– Может, он тебя разлюбил, – пожала плечами Наганя с набитым пирожками ртом.
– Беличья какашка! У раздавленной улитки больше разумения, чем у тебя, – прорычал Землеед. – Папа не может ни на ком жениться. Не раньше, чем она разрешит. Не раньше, чем Бабушка придет.
– Хорошо, чтобы она уже решила что-нибудь! – вздохнула мадам Лебедева. Она отщипнула кусочек горелого лука. – Я хочу написать заявление на дачу для волшебников этим летом. Там такая конкуренция, а я не могу сосредоточиться на моем заявлении, потому что меня до смерти беспокоит Машино приданое. Вступительные сочинения такие ужасные, дорогая.
Наганя хихикнула:
– Какое приданое у девочки из Петрограда? Конский навоз да полведра невской воды на стирку?
– Я уверена, что это не твоя забота, нечисть, – прорычала Лебедева. – Оставь это нам, у кого есть хоть толика утонченности.
– Будто ведьма-мавка в чем-то понимает, кроме как в щипцах для кудрей да гадании на чашке с мочой.
Наганя прищурила глаз под моноклем и сплюнула. Аккуратная пулька вылетела из ее рта и продырявила лебединые перья мадам Лебедевой, сорвав шляпу прочь с ее головы. Та взвизгнула от возмущения, тряхнув обожженными кончиками холодных как лед волос. Мадам потянулась за шляпой.
– Ты – животное! Марья! Накажи ее! Ты только утром взяла с нее клятву больше ни в кого не стрелять, полюбуйся, как она тебя слушается.
Марья Моревна приняла очень серьезный вид. Пальцем в самоцветах она поманила берданку к себе:
– Нагаша, ты знаешь, что должна мне повиноваться.
Наганя примолкла. Руки ее задрожали, в щеке нервно защелкали железки. Внезапно рука Марьи взметнулась, зажав рот и нос Нагани. Вторая рука прихватила затылок берданки. Грудь Нагани вздымалась, она пыталась вдохнуть, но Марья не отпускала. Она придавила беса к земле. Недрогнувшей рукой сжимая лицо, запрыгнула на нее сверху, еще сильнее пригвоздив к лесной подстилке. Сердце Марьи колотилось от возбуждения. Нежданно-непрошено вспомнились книга стихов, выброшенная в сугроб, и красный галстук, разодранный пополам.
Она навалилась еще сильнее. В глазах Нагани медленно скопились и потекли вниз по костяшкам Марьиной руки черные масляные слезы. Нагаша корчилась, вертелась и, наконец, затихла под ней. Марья ухмыльнулась. Ее косы разметались по ореховым рукам подруги. Наконец она отпустила Наганю. Чертовка хватала воздух и плевалась, хрипя, негодуя и утирая слезы.
– Пусть это будет тебе уроком, – сказала Марья Моревна весело. – Следи за своим курком в приличной компании! Когда я тебе говорю что-то сделать, просто выполняй.
Возможно, такой Царица и должна быть – прекрасная холодная дева в снегу, глядящая неприступно сверху вниз на этих несчастных, думала Марья, успокаивая дыхание и сердце. В последнее время она начала ощущать в себе эту холодность, которой боялась, но в то же время и радовалась, чувствуя как делается сильнее. Наганя села, вся дрожа. Она судорожно дышала, жалобно шмыгала и утирала нос.
– О, Нагаша! – воскликнула Марья, внезапно ощутив вовсе не холод, а смущение. Наверное, она слишком увлеклась, но бесы не слушали никого, кто не мог устроить им хорошую выволочку. Хорошая Царица должна говорить на языке своих подданных, в конце концов. – Не горюй! Я найду тебе хорошую русалку, чтобы выволочь ее из озера среди ночи и выкачать из нее информацию. Ну не славно ли это будет?
Утешенная Наганя слегка улыбнулась. Ореховый румянец вернулся на ее щеки, и Марья поняла, что той нравится, когда ее наказывают, только если несильно. Она повернулась к лешему:
– А теперь, Земеля, – о, отдай мне эту книгу! Ты ее уже всю обкусал! Земеля, что это за Бабушка, про которую ты толковал? Я думала, что уже всех здесь повидала.
В эту минуту в лесу эхом отозвался звонкий ликующий крик. Облака прочертило рыжее пламя, но так высоко, что снизу оно казалось едва ли больше искорки огненной пыли. Прежде чем Наганя успела вскрикнуть, Марья схватила ружье и выстрелила.
С небес с треском свалилась жар-птица, рассыпая обжигающие искры.
* * *
– Почему они называют это место Островом Буяном? – поинтересовалась Марья, когда они вчетвером шагали обратно по Скороходной дороге. Впереди них солнце садилось за городом, озаряя светом теплые белые купола, вырезанные из гладкой сияющей кости. Первый снежок блестел на дороге, обещая приход доброй зимы. – Это же вообще не остров, насколько я знаю.
– Был когда-то, – сказал Землеед, который был намного старше всех. – Неукротимое соленое море. Что там твой Байкал! Лужа! В старину наше море было с кулаками!
– Меня все еще изумляет, – сказала мадам Лебедева голосом настолько музыкальным, что даже ее лошадь старалась ступать легче, – что лешие вообще научились говорить. Как это получилось, я все гадаю. Может, одинокий ежик долбил камень, пока тот не начал издавать звуки?
– Лешие научились от деревьев, которые пели песни, что выучили от птиц, которые научились у червяков, а те – от земли, а земля – от алмазов. Породистые – это про нас сказано.
– Ну, я уверена, что ты был худшим учеником, Земеля. Твой словарный запас не больше чем у саламандры. В любом случае, дорогая Маша, Остров Буян действительно был когда-то островом в огромном море, где в золотистых волнах плавали рыбы размером с парусник. Какие песни они пели, эти рыбы, на утренней заре! Будь у тебя хоть сотня балалаек и тысяча гуслей, ты не смогла бы сложить песню, равную хотя бы худшей из тех песен.
– И что случилось? – допытывалась Марья Моревна, тронув вперед черного коня, за которым волочилась серебряная сеть. Из нее в разные стороны торчали огненные перья, выжигая землю, которой касались.
Мадам Лебедева вздохнула:
– А что случается со всем хорошим? Вий сожрал. Сначала все рыбины всплыли кверху брюхом, одна за другой, а каждое брюхо само как остров. Потом волны занялись и выгорели до самого морского дна. Огонь опалил звезды, и – раз! – все исчезло. Пар и дым. Все без остатка ухнуло в сундуки к Царю Смерти. Могу побиться об заклад, что в его царстве все еще плещется призрачное море, в котором плавают призрачные рыбы и поют песни, правда, в другой тональности и с другими словами. А в нашей стране, если пойти далеко-далеко, можно увидеть, как огромные кости торчат из земли, что раньше была морским дном. Горы ребер и долины, полные челюстей.
Марья ехала молча. Всякий раз, когда она узнавала что-то новое из длинной истории Кощеева царства и о войне с Царем Смерти, она начинала чуть яростнее любить Буян и чуть больше бояться войны.
– Не пойти ли нам ночью грибов пособирать? – осторожно спросила Наганя, все еще сконфуженная и взволнованная наказанием. – Сегодня луна будет огромная, как бычий глаз. А мне лисичек что-то захотелось.
Пестрая компания прошествовала через городские ворота с частоколом из роскошных лосиных рогов, каждый отросток которых был украшен оскаленным черепом. Марье больше не казалось, что это мрачно, и она не вздрагивала всякий раз, когда проходила под взглядами пустых глазниц. Сейчас ей даже казалось, что черепа ей улыбаются, как бы говоря: мы, некогда живые, все еще можем любить тебя, защищать тебя, хранить тебя от невзгод и опасностей. Ничто никогда не умирает насовсем.
Как только ворота за ними закрылись, окна домов и лавок внутри ограды зарделись уютным пламенем очагов. Впереди простирался Черносвят с черными башнями и сверкающими красными дверями. Это было так похоже на Московский Кремль, что Марья часто думала, будто они братья, разделенные в детстве и росшие врозь, каждый на своей стороне мира. Кощей жил в самой большой башне с куполом, усыпанным гранатами. Большинство же обитателей Черносвята жили в других местах, в крепостях поменьше, в часовенках и клетях. Город рос с годами, как дерево, как дом на Гороховой улице, она же улица Дзержинского. Старые и новые имена кружились в Марьиной голове, сливаясь и разливаясь снова до тех пор, пока она не забывала, какое было раньше.
По широкой равнине от черного Кремля ручейками разбегалось множество домов, трапезных, избушек и гостиных дворов. Марья теперь почти не замечала, что все эти дома и постройки выкроены из шкур экзотических и знакомых ей животных, крыши покрыты длинными волнистыми волосам, а карнизы убраны золотистыми косами. Горячая красная кровь била из фонтанов и стекала в стеклянные бассейны, приятно журча в лучах послеполуденного солнца. От бассейнов валил густой пар, и случайный ворон залетал отхлебнуть из чаши. Когда-то Марья даже закричала, увидев, как кровавый фонтан забил в полдень по расписанию. Когда-то ей было дурно от вида часовни, на стене которой волоски встают под ветром, как на коже. Однако фонтан пристыдили, с часовней ее познакомили – ту звали Авдотья, – и это сейчас казалось Марье нормальным и даже приятным, ведь все они – просто живые вещи Страны Жизни, где даже фонтан дышит и наполняется жизненными соками. Тем более что все это было уже так давно, как сон о другой жизни.
– Мне кажется, что для грибов я слишком устала, – ответила она наконец. – Я лучше пойду к Кощею, узнаю, не нужна ли я ему. Но, – добавила она великодушно, – ты можешь спать со мной этой ночью, если хочешь, и съесть пирожок с сахарной глазурью.
Что ей больше нравилось: наказывать или награждать, – Марья не могла сказать. Все в Буяне обладало своей прелестью, если научиться ее находить.
Берданка просияла и заплясала по длинной мощеной дороге. Землеед стукнул по земле мохнатым кулаком, проворчал: «Кумовство!» и сплюнул.
Глава 8. Ложись со мной
В самом дальнем, самом тайном зале замка Черносвят, чьи костяные купола сияют тут и там серебряными маковками и стальными крестами, на троне из оникса и кости сидел Кощей Бессмертный. Глаза его, красные, натруженные, слипались – то ли от плача, то ли от работы, то ли от того и другого. Перед ним на огромном столе, сделанном из лопатки невероятно огромного кита, лежали разбросанные карты и планы, письма и документы, курьерские пакеты и фотографии, наброски и открытые книги, перевернутые заломленными корешками вверх.
Вошла Марья Моревна в охотничьем костюме, уже наполовину расстегнутом – так жарко натоплено в комнатах. Часто казалось, что темные стены Черносвята дышат, и дыхание их могло быть либо невыносимо жарким, либо безжалостно холодным. Марья никогда не знала, чего от них ожидать. Молча она обошла вокруг длинного стола и уронила на него золотое перышко. Оно лениво спланировало и легло на приказ о реквизиции. Перо больше не горело, а только светилось приглушенным янтарным светом.
– Я бы предпочел поймать ее живой, волчица, – сказал Кощей не поднимая глаз.
Марья пожала плечами:
– Она только что умерла – не то от пули, не то от истощения в погоне.
Кощей оторвался от бумаг и притянул ее к себе, чтобы, наклонившись, поцеловать в ключицу.
– Я, конечно, горжусь тобой, моя любимая погубительница. Но ты должна понимать, что только что добавила жар-птицу к кавалерии Вия. Теперь она, темная, несгораемая, несет на костяных крыльях пилотов-призраков, вооруженных до зубов.
Марья Моревна закрыла глаза, упиваясь прикосновением губ к ее коже, точно так, как когда-то давным-давно упивалась краюхой черного хлеба, намазанного икрой.
– Она прятала кладку яиц, – вздохнула она, когда Кощей схватил ее за волосы и склонил голову набок, чтобы добраться до бледной непокрытой шеи. – Скоро у нас должно быть достаточно жар-птиц, чтобы тащить осадную башню, и еще парочка останется, чтобы разжечь очаг, когда вернемся. – Она чувствовала, как от навалившейся тяжести холодеет и пробуждается ее кожа. Она улыбнулась в его темную перчатку. – Кстати, был такой обычай, когда поклонника отправляли за пером жар-птицы, чтобы он подтвердил свои достоинства как жениха.
– Я знаю все твои достоинства.
Марья ничего не ответила. Она не спешила выйти замуж, как ее сестры, которые стремились к замужеству как к награде в конце длинной и трудной игры. Однако она чувствовала, что, пока Кощей целует ее – целует, но не женится, – она остается в Буяне ребенком, избалованной царевной, но не Царицей, не местной. Человечьей зверушкой. Не о кольце на пальце она заботилась – он уже надарил ей десятки колец с темными и яркими самоцветами, – но навсегда оставаться принцессой не хотела.
Кощей взял нож, которым он открывал курьерские печати, и посмотрел на нее изучающе. Потянувшись, срезал пуговицы с ее охотничьего костюма.
– Если будешь так кромсать прямо на мне, одежды не останется, – выдохнула Марья Моревна.
Он положил большую руку на ее голову, от чего самоцветы в волосах клацнули друг о друга. Другой рукой он срезал юбку с ее наряда – одним движением, будто очистил красное-прекрасное яблоко. Его прикосновения обжигали холодом. Как обычно, она сначала чувствовала кости под кожей его пальцев и бедер. Затем мускулы его напряглись, кожа стала теплой, наполненной и живой. Как и всегда, обнимать ее начинал скелет, но затем, спохватившись, скелет становился мужчиной. Она сама это поняла или он ей объяснил? Быть бессмертным означает иметь дело со смертью каждое мгновение. Неумирание не происходит само собой, как дыхание, это постоянное напряжение – все равно, что балансировать со стаканом на голове. И каждый день Царь Жизни боролся внутри своего тела, чтобы держать смерть в узде, как наказанную собаку.
Кощей вонзил ногти в поясницу Марьи: выступили крошечные капли крови. Марья легко вскрикнула, дыша мелко и часто. Он поднес большой палец к губам и слизнул пятнышко ее крови. По его вечно впалым щекам пробежали тени, он смотрел на нее голодными глазами. Но ее это больше не пугало. Ее любовник часто выглядел оголодавшим, загнанным. Она могла прогнать этот вид поцелуями и часто делала это, пока его лицо не разглаживалось, становясь ангельским, мягким и гладким. Всякий может сделать это для своего любимого человека, если день был долгим и трудным, без надежды на утешение. Сейчас она ничего такого не думала, целуя его живым. Все в этом месте было мертвенно-бледным, но живым, и, когда он любил ее и одновременно причинял боль, она тоже жила, выше и труднее, чем могла себе когда-либо представить. Да, думала она, такова уж природа волшебства, когда до этого доходит. Как фонтаны крови, как дома со стенами из кожи и крышей из волос, Кощей давно уже стал своим, домашним. Поэтому Марья улыбалась, когда он кусал ее плечи, чувствуя, как под кожей расцветают невидимые синяки. Завтра я буду носить их как медали, подумала она, когда он подсадил ее на мешанину полевых карт и чертежей.
– Кощей, – прошептала она в завитки темных волос на шее. – Где ты прячешь свою смерть?
Кощей Бессмертный обхватил ногами Марьи свою талию и вонзился в нее всей тяжестью лет. Он стонал у нее на груди. Дух захватывало от того, каким младенцем становился Царь Жизни, когда нуждался в ней. Власть над ним, которую он же ей и дал. Кому водить – вот и все.
– Скажи мне, – шептала она, тоже желая этого. В последнее время она хотела многого, практически всего, чего касалась.
– Молчи, моя Далила! – Он яростно толкал бедрами, вминая свои кости в ее мягкий живот.
– Я от тебя ничего не прячу. Я дружу с твоими друзьями, я ем, что ты ешь, я учу тебя диалектике! Если ты не берешь меня в жены, хотя бы доверься мне!
Кощей зажмурился. Он содрогался от силы своего секрета, своего оргазма, своего желания. Он сжимал ее крепче и крепче, и Марья подумала, что лицо его округлилось и помолодело, будто впитало ее молодость.
– Я держу ее в стеклянном сундуке, – выдохнул он наконец, грубо толкнув ее обратно на стопки прогнозов перемещения войск, намотав на кулаки бесконечные ее волосы. – Охраняют его четыре собаки: волчица вроде тебя, голодная гончая, заносчивая болонка и толстая овчарка. Их имена начинаются с одной буквы, которую знаю только я. – Он закрыл глаза, прижавшись к ее щеке, а она выгнулась к нему навстречу натянутым луком. – И только тот, кто знает их имена, может добраться до сундука, где я прячу свою смерть.
Кощей закричал, будто умирая. Он навалился на свою любимую, грудь его содрогалась. Марья держала его как ребенка, как собственное дитя. От нее не ускользнуло, что разговор о его смерти глубоко волнует Кощея, будто приближение к ней, будто само слово искрит электричеством в его мозгу.
– Мы победим, Кощей? – прошептала она. Внезапно комната похолодела и на высоких окнах выступил иней. – Мы победим в этой войне?
– Война не для победы, Маша, – вздохнул Кощей, глядя через ее плечо на пути поставок и стратегии охвата. – Она для выживания.
* * *
Той ночью берданка Наганя свернулась калачиком, привалившись к Марье в ее отдельной спальне, обитой винно-красным бархатом и шелком. Жить в этой маленькой комнате – все равно, что жить внутри сердца. Ей так нравилось, а мадам Лебедеву доводило до головной боли. Еще Марье нравилось быть одной, среди своих вещей. Обе девушки утопали в подушках на огромной кровати с уходящими в потолок четырьмя столбами по углам. Всегда теплая на ощупь Наганя вздыхала в полумраке, и Марья Моревна крепко ее прижимала, чтобы Нагаша знала, что она больше не сердится на нее. Да и не сердилась никогда.
– Завтра, – сказала Наганя, – было бы чудесно выйти на центральную площадь и вместе пострелять на дальность, а потом пойти и посмотреть, кого мы подстрелили! Я однажды играла в эту игру с мальчиком, и он подстрелил лягушку, прямо в горло. И случилось что-то очень странное и мерзкое. Лягушка превратилась в девушку и начала плакать, вся грязная и совсем голая. – Наганя сделала паузу, чтобы Марья могла оценить картину. – Когда они женились, на ней было зеленое платье, а какой свадебный каравай она испекла – ни с чем не сравнить. Корочка пропитана медом и сахаром и украшена карамельками из черники. Когда объявляли о женитьбе, она тоже плакала. Такие же слезы проливала, что и в тот день, когда жених ее подстрелил. Может, она и не хотела за него идти, хотя кто бы отказался выйти за такого меткого стрелка? Не могу в такое поверить. Наверное, она плакала по каким-то своим земноводным причинам. А потом, когда они танцевали, ее платье загорелось, и такая поднялась суматоха, но это уж к делу не относится.
– Если мы будем стрелять в городе, то можем подстрелить того, кто не играет в нашу игру, – сонно проговорила Марья. Ее поясница все еще приятно горела от ногтей Кощея.
Берданка взбила подушку ореховым кулаком:
– Так в этом же вся радость! Ну хорошо, если ты такая нежная, можем пойти в лес. Кроме белок, наверное, никого не добудем, и они-то в девушек никогда не превратятся.
– Ну хорошо, Наша. Если я подстрелю лягушку, уступлю ее тебе.
Бесенок прижался к ней еще теснее:
– Ты меня еще любишь, Машенька?
– Конечно, Нашенька. Если наказала, еще не значит, что не люблю. Наоборот. Наказываешь только тех, кого и правда любишь.
Наганя от счастья щелкнула своими железками.
В темноте Марья открыла глаза и уставилась в резной потолок, на котором был изображен огромный пупырчатый змей, окруженный боярами.
– Я тебе рассказывала, как Кощей меня первый раз наказал?
– Кощей тебя наказывал?
– Да, конечно, много раз. В первый раз – потому что он попросил меня не говорить, а я все равно заговорила. Всего-то – сказала, что мне уже лучше. Но это не из-за того, что именно сказала, а из-за того, что нарушила слово. Даже если ты думаешь, что это было жестоко с его стороны – запретить мне говорить, – я же дала слово.
Наганя беспокойно поежилась. Хотя наказание было давным-давно, она все еще беспокоилась за подругу.
– Так что, когда мы приехали в Буян, он сначала не взял меня с собой в Черносвят, не накормил ужином, не познакомил с симпатичными берданочками с именами, похожими на мое. Он оставил меня на конюшне присматривать за его лошадью, потому что я нарушила обещание.
– Ну ты хотя бы дышать могла, я надеюсь, – не смогла не уколоть ее Наганя – такая уж у нее была натура.
– Есть вещи похуже, чем не дышать, – тихо молвила Марья. – Когда ты так далеко от дома, напугана, все время болеешь, ни с кем тут не знакома, скучаешь по матери и по своему старому дому и даже не знаешь, женятся на тебе или убьют, оставить тебя такую одну на конюшне и словечка не молвить – это очень плохо. Но я все равно взяла в руки лопату, такую огромную, что только совок у нее был в половину моего роста. Я вычистила лошадиное стойло, а грязи от этого животного, поверь мне, – и навоз, и выхлоп, и сломанные глушители! Через какое-то время я уже почти не плакала, но руки мои болели, как перед смертью. Я вычистила его шкуру и намазала ее маслом, а он все фыркал да посверкивал глазами. Он был светло-буланым, как во время моей болезни.
«Почему ты все время вот так меняешь масть? – спросила я, не ожидая ответа. – Трудно же подобрать правильное масло».
А он в ответ заржал:
«Это не я привез тебя из Петрограда, это была моя сестра, Полночная Кляча. Потом ты ехала на моем брате, его зовут Полуденный Прилив, он алый, как утренняя заря. Мы с тобой только что встретились. Я – Закатный Мерин, и всякий, кто хочет сюда попасть, должен проехаться на каждом из нас. Меня зовут Волчья Ягода».
«Он назвал тебя волчьей едой?» – спросила я, потому что еще не знала, какое у Кощея чувство юмора.
Волчья Ягода снова фыркнул, пустив из носа несколько искр.
«Так мы все вроде волчья еда», – ответил он.
Я начала вычесывать его ужасно перепутанную гриву. Всякий раз, когда я задевала кожу на черепе, он меня покусывал, а укусы его, знаешь ли, что удары меча. Вот, помню, я тогда поплакала! А на морозе даже плакать больно. Слезы не льются, а брызгают, да половина к лицу примерзает. Не знала я тогда, как сдержать рыдания. Когда я закончила, его волосы были алыми от моей крови, и он стал как его алый брат. Ночь снаружи была черной и густой – этот город пугал меня. Где взять еду? Где напиться и где поспать? Чтобы не думать об этом, я взялась перековать Волчью Ягоду. Я оторвала его старые изношенные до нитки подковы и приколотила новые, железные. Я знала, как подковать лошадь, потому что, когда я была юной и носила красный галстук, нас заставляли ухаживать за милицейскими лошадьми после школы. На тот случай, если снова война, как ты понимаешь. Так что я почесала его по шерсти за копытом – такой мягкой и горячей, – и он подал мне ногу прямо в руки. Когда я закончила, Волчья Ягода посмотрел на меня огромными горящими глазами и улегся в своем чистом стойле.
«Иди, – сказал он. – Ложись со мной, он заберет тебя завтра утром. Можешь пить из моего корыта и есть из моей торбы с овсом».
– Так вот, Наша, я пила и ела, хотя овес был сухой и безвкусный. Я нашла в торбе кусок сахара, и Волчья Ягода разрешил мне его съесть. Я легла рядом с его белым брюхом и закрыла глаза. Это было как спать на печке в моем старом доме. Потому что, Наша, даже если ты плохо себя вел, бывает, найдется где-то теплая постель и теплый друг, если знаешь, где искать. Я этому училась у Волчьей Ягоды, хотя и не думала, что мне будет суждено этому научиться. И как раз когда я уже начала засыпать, вся изломанная и измученная, все еще в крови от его укусов, Волчья Ягода сказал мне тихонько на ухо: «Доброго сна, Марья Моревна. Я думаю, ты мне больше всех нравишься. Другие девушки и не подумали меня перековать».
– И утром он за тобой пришел?
– Да, конечно, я была прощена. Нельзя никого наказывать, если не хочешь простить в конце концов. В чем тогда смысл? И я рассказала ему, что сказал Волчья Ягода.
– А он? Что Папа ответил?
– Сказал, ты, должно быть, ослышалась, не было никаких других девушек.
В темноте берданка Наганя нахмурилась и прищелкнула языком.
Марья Моревна спала с крепко сжатыми кулаками, держа их наготове у подбородка.
Глава 9. Девушка по имени Елена
Мадам Лебедева затянулась сигаретой, вставленной в мундштук из слоновой кости, и выпустила изящную тонкую струйку дыма. Она сидела откинувшись в синем плюшевом кресле. Платье без рукавов, сшитое из лебединых перьев, усеянных бисером, скрадывало худобу ее угловатого тела. Мадам была очень занята тем, что напоказ не ела свой огуречный суп. В зеленом бульоне плавали одинокие заброшенные лепестки петрушки и эстрагона. Лебедева доверительно наклонилась к Маше, хотя в том и не было нужды, – переполненное кафе гудело достаточно, чтобы оставить в секрете все, чем пожелаешь поделиться с подругой.
– Я в восторге от того, что смогла тебя сюда привести, дорогая Маша.
Маша снова ее поблагодарила. Мадам Лебедева подвела глаза специально для их встречи за обедом, точнее говоря, для комитета, который контролировал доступ в эксклюзивный ресторан для волшебников. Веки ее сияли блестками, присыпанные легчайшей пудрой цвета зеленого лука. Она выбрала этот цвет, чтобы подходил под цвет супа, который она решила заказать еще несколько недель назад. Марья могла бы питаться в этом небольшом шале когда пожелает, поскольку в Буяне ей никуда не был заказан доступ. Но Лебедева заслужила привилегию быть здесь, а вместе с ней и радость одарить подругу.
– Я вне себя от восторга, скажу тебе. Это все благодаря тому, что я смогла выносить цикаваца, конечно. Ну, отчасти. Для дамы, одержимой милосердием, как я, прятать яйцо под мышкой сорок дней, избегая исповедальни, обычное дело – нечем хвалиться. К тому же он такой милый. Но журналисты! Они просто уничтожили меня, Маша!
– Уничтожили?
Лебедева тронула сигарету, пепел сдуло.
– Разгромили. Они написали, что он должен был выглядеть как попугай, а не как «нелепый пеликанчик». Очевидно, я не должна была стричь ногти эти сорок дней – вот почему он теперь не исполняет желаний, хотя и понимает язык зверей. А то, что я продала его тому водяному, так это вопиющая меркантильность, и меня следует допросить. Критики, дорогая моя, никогда не успокоятся, пока не растопчут тебя. Пеликан! Глаза бы выцарапала и съела.
Рядом с ней бесшумно появился официант в накрахмаленной белой рубашке. Он поклонился с утонченной заботливостью:
– Еще супу, мадам?
Его голова сияла в свете лампы. Посередине лысого черепа спадала прядь распущенных белых волос, словно лошадиная грива. Лебедева просветлела лицом:
– Как это приятно – встретить соотечественника! Спасибо, нет, дорогой.
Мадам Лебедева улыбнулась с выверенным, зрелым, холодным обаянием. Она репетировала эту улыбку перед зеркалом дни напролет.
– У меня такая хрупкая конституция. А вот Марья наверняка захочет еще миску вашей неотразимой ухи. Люди такие крепкие существа. Что это так благоухает в бульоне – осетр?
– Превосходное обоняние, Мадам. Наш шеф шлет свои комплименты по случаю вашего разрешения от бремени в прошлый вторник. В следующем сезоне пеликаны определенно произведут фурор.
Лебедева нахмурилась. Официант с тусклыми глазами, полными предвкушения, обратил свое внимание на Марью. Марья не хотела больше рыбного супа, хотя и оценила тонкий солоноватый вкус бульона, щедро приправленного укропом. Она совершенно насытилась, но ей было приятно осчастливить Мадам Лебедеву, а та была счастлива, когда могла покомандовать другими.
Официант склонился, чтобы говорить с ними по-приятельски. От него исходил запах морозной сосновой смолы.
– Если товарищу Моревне интересно, я и сам работал над одним маленьким колдовством, которое ей может понравиться. Пустячок, ничего особенного, – промурлыкал он, прежде чем Марья успела что-либо сказать. – Но, если вам понравится, может, вы могли бы замолвить словечко Царю?
– Я… я вряд ли смогу оценить. Мне совсем ничего не известно о волшебных делах.
– Марья, – прошептала Лебедева, – ты же знаешь, как это делается. Мы же с тобой все записывали, когда были в Москве.
– Да, но в Москве такие кафе устраивают для литераторов.
Лебедева и официант выглядели озадаченными, смущенные тем, что их поймали на незнании, но в то же время и обрадованными, что могут получить информацию из первых рук.
– Для писателей, – подсказала Марья.
Разговаривать с обитателями Буяна – все равно что ходить по тонкому льду, – они могли быть сколь угодно обходительными в разговоре, но в любой момент Марья неожиданно могла провалиться в полынью совершенно чуждых представлений, изумленная тем, чего еще они могут не знать.
– Романисты, поэты, драматурги.
Лебедева затянулась сигаретой, которая, похоже, не уменьшалась, хотя пепла с нее сыпалось что снегу.
– О, как это очаровательно звучит! Они что, вроде чародеев?
– Нет, нет, они рассказывают истории. Я имела в виду – записывают, – Марья схватилась за чашку с чаем, чтобы выиграть минутку для раздумий.
Буяниты отличались неутолимой жаждой до информации о мире людей, и все, что Марья им рассказывала, тут же становилось безумно модным, распространялось со скоростью слухов. Ей следовало быть осторожной.
– Драматурги описывают истории, в которых играют другие люди. Они запоминают историю и притворяются, что они героини или злодеи в этой истории. Поэты пишут в рифму, как в песнях. – Марья внезапно усмехнулась. Она прикрыла глаза и начала читать наизусть. Слова возвращались к ней, как старые добрые друзья:
В темнице там царевна тужит, А бурый волк ей верно служит; Там ступа с Бабою-ягой Идет, бредет сама собой; Там царь Кощей над златом чахнет…Официант засунул салфетку под мышку и бурно зааплодировал. Лебедева тоже хлопнула в ладоши.
– О, превосходно! Это про нас! Как приятно, что нас знают!
Ободрившись, Марья продолжала:
– Романист пишет как бы длинную историю, в которой… множество историй поменьше, и еще мотивы, символы. Иногда эти истории происходили на самом деле, а иногда и нет.
Официант наморщил свой прелестный носик:
– Зачем рассказывать истории, которых на самом деле не происходило? Вот поэзия – это конкретно, честно, не пустые фантазии, а отчет с проверенными сведениями.
Марья в задумчивости хлебнула ложку супа:
– Я думаю, потому, что скучно все время рассказывать истории о том, что люди просто рождаются, женятся и умирают. Поэтому к истории добавляют странные вещи, чтобы сделать ее интересней, когда кто-то родился, радостней, когда кто-то женился, печальнее, когда кто-то умер.
Лебедева щелкнула пальцами.
– Это как врать! – воскликнула она. – Ну это-то мы понимаем! Чем больше ложь, тем счастливей лжец.
– Да, немного как ложь, но… – Марья заговорщически наклонилась к ним. Просто не могла удержаться, насколько ей нравилось обладать особым знанием, быть признанным авторитетом. Видеть, что ее мнение становится фактом. К тому же, чем дольше она жила, ела, пила и спала в Буяне, тем лучше она училась объяснять своим товарищам так, чтобы они ее понимали. – Но знаете, черноволосый волшебник с пышными усами наложил на Москву проклятие, и на Петроград тоже, так что никто теперь не может рассказать правды, не приврав. Если романист напишет историю, в которой все как на самом деле, никто ему не поверит, и его могут даже наказать за пропаганду. Но если он напишет книгу, полную врак обо всем на свете, и совсем немного правды, спрятанной среди них, то его будут славить как народного героя, предоставят место в писательском кафе, подадут вино и уху, и даже платы не возьмут ни за что. Предоставят бесплатно дачу на лето и устроят праздник. Волшебник с пышными усами ему даже медаль даст.
Официант присвистнул:
– Вот это проклятие что надо. Я бы пожал руку этому волшебнику и угостил бы его парой рюмок водки.
– Кто-то должен написать роман обо мне, – надменно произнесла Лебедева. – Мне дела нет, будут ли они врать, чтобы сделать его поинтереснее, если ложь будет умелой, а роман полон поцелуев и дерзких побегов с отдельными случаями жестокости. Терпеть не могу неумелых лжецов.
– Какое-то время, – сказала Марья Моревна, – я думала, что смогу стать вроде писателя. Я шагала по утрам в школу и читала стихи, представляя, смогу ли я быть как мужчины и женщины в чайных не для всех. Есть ли во мне история, глубоко внутри, которая ожидает пробуждения.
– Сомневаюсь, – фыркнула Лебедева. – Тебе еще надо поработать над своей ложью. Может, это потому, что ты так далеко от Петрограда? У проклятий ограниченные возможности, географически говоря. Честность – это такая скверная привычка, моя дорогая, как грызть ногти.
В этот момент круглое окно кафе, сделанное из глаза кита, слегка задрожало.
– Может, ты выбрала для чтения неудачное стихотворение, любовь моя? – спросила Мадам Лебедева, позволив себе в конце концов отхлебнуть декадентское количество бледно-зеленого супа. Глаза ее закрылись в знак исключительного удовлетворения. Официант заспешил, внезапно озаботившись столом в дальнем конце комнаты.
Снаружи к кафе приближалась черная машина. Ее срезанный закругленный нос напоминал безжалостный клюв, а округлые крылья вздымались, похожие на яйца. Окна щурились, как проницательные глаза. Она была и похожа и непохожа на Волчью Ягоду – машину, что везла Марью в Буян. Эта в целом казалась больше, осторожней, роскошней и серьезней.
Только колес под ней уже не было. Она грациозно скакала по дороге вприпрыжку на четырех желтых куриных ногах, скребя черными когтями по твердому снегу.
Отложив серебряную ложку, Мадам Лебедева потушила сигарету о тарелку, после чего мановением руки снова взяла ее, целую, не выкуренную, и воткнула в шляпу.
– Ты знаешь, как я тебя обожаю, девочка, но здесь сейчас будет слишком много волнений для моего бедного сердечка. Я думаю, мне стоит удалиться в сигарную комнату и отведать их самой выдержанной крови яка, чтобы успокоить желудок.
Лебедева исчезла в шквале перьев и ореоле светлых волос – она все делала порывисто. Марья Моревна дважды моргнула и снова нервно взглянула через окно на машину, чьи куриные ноги загребали вперед и назад по мерзлым булыжникам. Ее желудок сжался – тело уже приучилось к этому чувству в глубине живота, когда должно случиться что-то странное. Это было полезно, но неприятно. Марья старалась не позволить рукам дрожать.
Внезапно кафе замолкло до совершенной, полной тишины – ни малейший звон тарелки или упавшей чашки не нарушал ее. По ощетинившейся коже стен побежали мурашки, как только широкогрудая женщина с носом топориком шагнула в зал. Ее шея была укутана воротником черной шубы, а седые волосы стянуты назад в болезненно тугой узел. Она посмотрела налево, потом направо, потом, будто старая толстая ворона на ветке, остановила взгляд на Марье Моревне. Она уселась с самоуверенностью хозяйки; трое официантов сломя голову бросились подавать ей чай, водку и свежий золотистый квас в кувшине. Четвертый – водяной с мокрыми, в каплях воды волосами, вынес целого гуся на золотом подносе. Женщина оторвала ногу гуся и откусила от нее, слизывая жир, бегущий по слегка щетинистому подбородку. Официант обязан был стоять в качестве мебели, держа гуся для ее дальнейшего ублажения.
– Так это ты, значит, – прорычала старуха, ощерясь с набитым ртом. Она сохранила все до единого зубы, острые и желтые, как у льва.
– Я не уверена, что понимаю вас, – тихо ответила Марья Моревна. Старуха излучала могущество: живот Марьи сжался, как от удара. Карга постучала по столу костью от гусиной ножки:
– Детка, давай-ка опустим этот фарс, где ты притворяешься, будто не кувыркаешься с моим братцем в этой его нелепой башне, – завязывай! Обязательно весь наряд должен быть черным? Он, конечно, тот еще азартный старый бык, раскрою тебе секрет бесплатно. Тем не менее я не терплю невинных девочек, если только они не нашпигованы яблоками и не готовы познакомиться с моим котлом для супа.
Марья попыталась вежливо улыбнуться, будто они мило болтали о погоде. При этом она сжала свою чашку так крепко, что ручка оттиснула красные полумесяцы на ладонях. Лицо ее вспыхнуло, а старуха закатила желтушные глаза:
– О, да брось ты, Елена! Краснеют только девственницы и христиане!
– Меня зовут не Елена.
Старуха сделала паузу и изогнула одну бровь, волоски которой были такими неряшливо длинными, что она заплетала их в косичку вдоль надбровной дуги. Тембр ее голоса изменился, поднявшись до заинтересованного тенорка:
– Прости меня. Я просто предположила. У моего брата, – она помешала чай толстым концом кости от гусиной ножки, – фетиш на девушек по имени Елена, видишь ли. Почти что мономания. Время от времени прошмыгнет Василиса, только чтобы придать остроты. Так что нетрудно ошибиться. Как же тебя зовут, дитя мое?
– Марья Моревна. Никаких других девушек нет. И никогда не было.
Карга швырнула гусиную ногу через плечо. Официант, молча застывший наготове, поймал ее ловкой рукой. Старуха перегнулась через стол, макая шубу в водку, и спрятала лицо в ладонях.
– Ну не очаровательно ли это, – выдохнула она. – Черт меня побери! Позволь твоей бабушке взять тебя в… экспедицию. Это будет полезно! Морально укрепит, как укрепляет созерцание доброго кладбища. Телу нужен хороший memento mori, чтобы извергнуть весь юморок.
Карга подхватила Марью Моревну за руку и выволокла из ресторана, ни за что не заплатив.
Марья была неглупа. Она могла сложить два, два и два, чтобы получить шесть, – то есть сложить старую бабушку, куриные ноги и полумертвый от ужаса персонал, чтобы в сумме получилась Баба Яга. Не было колдуньи выше рангом Бабы Яги. Ее место в кафе чародеев было священным и неприкосновенным, мягко говоря.
Снаружи кружевным узором падал снег, такой густой, что не видно было даже громадины Черносвята, угнездившейся на холме. Баба Яга издала блеющий крик и подпрыгнула в воздухе, перебирая тощими ногами, как ножницами. Она приземлилась к Марье на плечи, вонзив каблуки ей под мышки.
– Пошла, девочка! Пошла! – заверещала она. – Жена должна быть хороша под седлом, а?
Колени Марьи задрожали, но, когда она почувствовала щелчок хлыста из козлиной шкуры на своей спине, она рванула вперед по снегу. Машина Бабы Яги очнулась, фыркнула и поскакала вслед за ней, наступая на пятки передним бампером.
– Туда давай, не-Елена! – завопила старуха в тон ветру.
Марья застонала, как старая кляча, и припустила.
* * *
Изо рта Марьи уже капала слюна, как у загнанной лошади. Обогнув заметенный снегом угол, часто, хрипло и неглубоко дыша, она свернула на неприметную подъездную дорожку. Баба Яга потянула за волосы Марью, чтобы остановить ее на пороге дома, и спешилась. Когда горячий груз свалился с плеч, Марья с облегчением выдохнула. Она согнулась пополам, сердце ее хрипело, вся голова чесалась от капель пота. Дверь дома, обтянутого винно-коричневой шкурой кабана, была сложена из лошадиных костей. Мусор и битое стекло усеивали узкую улицу. Машина радостно протрубила, перебирая куриными ногами.
– Ты заходишь первая, я за тобой, – радостно объявила Баба Яга, выдохнув пар. – И держись поближе, я хочу видеть, как ты плачешь.
Они вместе толкнули плечами дверь из лошадиных бедер, что высилась перед ними. Они попали на чугунный балкон, под которым раскинулся фабричный цех. Они смотрели вниз, опершись о перила, и болты и гайки заходили под свинцовым весом Бабы Яги. Под ними десятки и сотни девушек работали изо всех сил на ткацких станках, каждый размером с армейский грузовик. Пальцы их мелькали среди льняных нитей, челноки летали, опережая руки. Большинство женщин были со светлыми волосами, заплетенными в косу, уложенную на голове в виде маленькой короны. В море золотых волос мелькали несколько черноволосых голов, как у Марьи. На всех – одинаковая форма ежевичного цвета. Старуха сияла, как воскресное утро.
– Каждую из этих красоток зовут Еленой. О, извиняюсь, вот эта – Василиса. И вот эта. И та пухленькая в углу… И та высокая, смотрю, все еще с куклой в кармане. Как мило.
Марья вытерла взмокшую бровь. Ноги ее гудели.
– Что они делают? – выдохнула она.
– О, это военная фабрика. Ты не знала? Разве твой любовник не все тебе рассказывает? Они ткут бойцов. От полудня до полуночи, и выходных за хорошую работу не дают. Видишь? Один как раз сходит с конвейера.
Прямо под ними одна из Елен заканчивала шлем на солдате. Он выглядел плоским, будто бумажный, но идеально скроенным, в хрустящей форме, с безмятежно закрытыми глазами, с винтовкой на изготовку. Челнок метался взад и вперед, довязывая навершие шлема. Покончив с этим, женщина расправила штанины его брюк и сильно дунула внутрь – сначала в одну, потом в другую. Солдат надулся, нос выскочил и принял форму, на бедрах округлились мускулы. Он неуклюже сел, скрипя новыми швами, и прошагал в конец комнаты, где его уже поджидали накопительные чаны.
– Видишь, они неживые, – объяснила Баба Яга. – Ну не совсем живые. Не так, как лягушка или моя машина. Это все потому, что Вий опять может провернуть старый трюк, покромсав наших людей как ненормальный, будто ему с головы платят, а потом оборотить их и поставить в собственный строй. А этих бедных ублюдков когда заколешь, они просто рассыпаются. Неплохо придумано, да? Скажи, что мой братец не умница.
– Товарищ Яга…
Баба Яга крутанулась к ней так, что полы шубы захлестнуло.
– Не смей называть меня товарищем, девчонка. Я тебе не ровня и не подруга. Председатель Яга. Эта чушь с товарищами – просто крючок, на который низкородные ловят высокородных. И что в результате получается? Все барахтаются в одном и том же дерьме, как свиньи.
Марья постаралась, чтобы ее голос прозвучал сильно и звонко:
– Председатель Яга. Зачем вы меня сюда привели?
Баба Яга осклабилась, показав все зубы. Внезапно Марья заметила три головы, пришитые к ее черной шубе, – три норки со щелочками глаз, с мордами, застывшими в тройном оскале.
– Чтобы показать тебе твое будущее, товарищ Моревна! Кощей, мой ненасытный братец, похитил всех этих девушек – из Москвы, из Петербурга, из Новгорода, из Минска. Выманил их из уютных домишек, прокатил по снегу, указывая им, что есть, как целоваться, когда говорить, купал их, когда они болели, чтобы они любили его и жить не могли без него, – о-о-о, мой братец любит быть нужным! Да и самому ему много чего надо. А потом – ну что потом случается со всеми мужьями и женами? Некоторые ему наскучили, некоторые предали, украв его смерть или сбежав с пресловутыми богатырями, у которых шеи что свиной окорок. Ты подумай – они крадут его смерть. Ну что за мегеры! Совсем стыд потеряли. Да неважно все это. Мой братец все равно помирает в конце. Сколько мне похорон пришлось посетить! А цветы, подарки каждой из них! Я на его пристрастии к театральности почти разорилась. Хотя толку никакого. Вот что значит бессмертный. Умирает-то только его смерть. А Кощею хоть бы что. Никто из этих девиц с молочно-белыми попками не в силах этого понять, хотя он чуть ли не на грудь себе приколачивает протокол о намерениях. Они крадут его смерть, вскрывают ее, топчут, как шавки, – да такие они и есть, что с этим поделаешь? Собака всегда собака. Знает только как кусать да жрать. Но большинство из них, Марья, – ах же, какое имечко у тебя мягкое да черное! Я б в нем целый день валялась, – большинство из них не могут мимо меня проскочить. Семья – это злое, колючее дело, и Кощей не может жениться, пока я не разрешу. Эти телки недостойны пол у меня мести! Они даже не могут попасть стрелой в игольное ушко! Что толку от жены, которая и того не умеет, спрашиваю я тебя? Я ему тысячу раз делала одолжение.
Баба Яга полезла в шубу и достала сигарку. Она откусила конец и сплюнула его, перекатывая сигарку между зубами.
– Вот так они и сидят, даже не стареют. Старые-то совсем плохо работают, мне ли не знать. Мне и самой никогда не нравилось работать вполсилы, когда можно совсем не работать. И они не умирают. Вон та Елена – с родинкой на шее, – она тут со времен князя Олега. Леночка! – позвала председатель Яга и послала ткачихе воздушный поцелуй, весь в дыму. Девушка не подняла глаз от винтовки, которую ткала. – Я уверена, что где-то здесь найдется местечко и для тебя, Марья. Какая бы я была бабушка, если бы оставила хотя бы одну из своих малюток на холоде!
В глазах Марьи стояли слезы, голова кружилась. Еще один шаг – и она опрокинется через край балкона. Вот эти все? Все они любили Кощея и спали в его избушках? Обнимались с берданкой? Привыкали к холоду?
– Он сказал, что других не было, никогда. Он сказал, что я неправильно поняла Волчью Ягоду, что я – его единственная любовь. – Но еще больше, чем ложь, которой ее накормили, сердце Марьи не могло постигнуть коварства своего любовника, который держал этих девушек в плену год за годом, как накопленное сокровище.
– Мужья лгут, Маша. Мне ли не знать, я свой пуд соли съела. Это урок номер один. Урок номер два: муж вероятней всего будет лгать, когда речь зайдет о таких вещах, как деньги, выпивка, черные глаза, политические союзы и женщины, которые сидели у него на коленях до и после тебя, сладкой.
Марья закрыла лицо руками. Она не могла смотреть на этих Елен и Василис. Думать о том, как им ставили горчичники, как они открывали рот навстречу краюхе хлеба с икрой. И что еще хуже, не могли вернуться домой с работы, которая никогда не заканчивалась.
– Елки-моталки, девочка моя, ты что, никогда не слышала ни одной истории про Кощея? Они все одинаковые. Акт первый, сцена первая: симпатичная девушка. Акт первый, сцена вторая: симпатичная девушка пропала!
– Я не думала, что это что-то значит. – Я думала, что эти сказки обо мне, каким-то образом обо мне. Что это я героиня. Для меня это было как волшебство. – Они здесь даже не знают, кто такие писатели!
Баба Яга смягчилась, насколько вообще бабы-яги могут смягчаться. Ее заплетенные брови умильно съежились.
– Это не значит, что мы не понимаем, что такое истории. Не значит, что мы не разгуливаем в этих историях поминутно. Мы, черти: демоны и бесы, маленькие и большие, – такие увлекающиеся. Мы одержимы. Это наша природа. Мы заводим пластинку снова и снова, мы всегда маршируем в ногу, мы разыгрываем одни и те же истории, выполняем одни и те же движения, пока время наматывается, как пряжа на веретено. Мы делаем все по образцу. Очень удобно. Иногда бывают небольшие изменения – автомобиль вместо лошади, девушку зовут не Елена. Но разницы на самом деле никакой. Никогда! – Баба Яга прижала тыльную сторону увядшей ладони к Марьиной щеке: – Вот так ты становишься бессмертной, волчица. Проходишь одну и ту же сказку снова и снова, пока не натопчешь тропинку в этом мире, до тех пор пока, даже если ты исчезнешь, сказка будет продолжаться, будет играть, как граммофон, и ты снова должна подниматься, даже если глаз пробило пулей, чтобы играть свою роль, подавать свои реплики.
Слезы Марьи текли по щекам и капали сквозь решетку чугунного балкона. Одна из них упала на волосы рыжей Василисы. Та не шелохнулась ни на йоту. О, я знаю, что сделаю, я знаю, подумала Марья в приступе ярости. Когда я стану Царицей, я поломаю все эти станки и освобожу их всех.
– Если вы приехали, чтобы решить, можно ли ему на мне жениться, почему вы так долго ждали? Я здесь уже год без малого. Целый год я ему верила.
Баба Яга убрала руку. Затушила сигарку о перила балкона и выпрямила спину.
– Ленин умер, – коротко ответила она. – Это у него лучше получается, чем у моего брата. Его смерть прилипла к нему. Что мне было делать? Я сплясала на крышке его гроба. Такую малость он заслужил. Никто меня не видел, конечно. После всех этих лет я наловчилась ступать легче ветра. Трубы трубили, лица выплакивали, а я танцевала на его отвратительном стеклянном гробе – как Белоснежка, черт подери! Я вот думаю, если бы я его поцеловала, он бы проснулся?
* * *
– Я могу оформить приказ, если хочешь, – сказала председатель Яга, шагая по Скороходной дороге на своих двоих.
Она внезапно остановилась, втягивая воздух длинными всхрапами, как гончая, и шмыгнула за угол темной безлюдной винокурни.
– Ага! Думала спрятаться от меня, да? – прокричала она, пнув увесистую бочку самогона с железными обручами, покрытыми коркой снега.
Она ласково ее похлопала.
– У меня есть симпатичная бронзовая печать для приказов, достаточно большая, чтобы размозжить голову. Но мне кажется, все это более или менее стандартно. Выполнишь в срок три задания – и можешь примерять белое платье и заливаться румянцем себе на радость. Я, конечно, сомневаюсь, что он позволит тебе надеть белое, но идею ты поняла. А если не справишься, я перемелю твои зеленые косточки своими зубками – хрусть-хрусть!
– Я думала, что вы наказывали девушек, отправляя на эту фабрику.
Баба Яга постукивала по бочке с водкой как опытный медвежатник.
– Это привилегия любой Елены. Ты, я – мы хотим есть. В семье принято делиться, знаешь ли. Мой брат отведал тебя. А мне почему не предложили? Ты ела, как царевна, целый год! Посмотри на эти ягодицы, на эти мускулистые руки! Тобой можно разговеться после Великого поста, и еще останется достаточно, чтобы запечь на Новый год.
Марья Моревна стояла на морозе, засунув руки глубоко в вязаные карманы. Ветер трепал ее меховую шапку.
– А разве это не жених должен добыть перо жар-птицы и достать кольцо со дна морского, чтобы доказать невесте, на что он годен?
Баба Яга склонила голову набок, будто обдумывая, какой ответ будет самым забавным.
– Женщины должны сбросить оковы угнетения и добиться равноправия, поросеночек мой молочный. Ну и потом, такой подход работает только в том случае, если ты не допускаешь жениха до своего лона за год до свадьбы. А коли допустила, то не сможешь заставить жениха даже печку вычистить, не то что там с жар-птицей возиться. Отвратительные создания, если хочешь знать мое мнение. Пугливые мешки с горящим дерьмом – ты видела когда-нибудь, чтобы они ели? Никакого толку от них, кроме ожогов да мордобоя. Это касается и жар-птиц, и мужей, кстати.
Марья позволила себе самодовольную улыбку. Ее жар-птица даже не оцарапала ни разу.
– Но Елены, – прошептала она, – я не могу перестать думать о них. Это, должно быть, какая-то ошибка. Я должна поговорить с ним. Я просто обязана… – Может, это все ничего не значит, а старая ведьма лжет, чтобы огорчить ее, и утром они с Кощеем вместе посмеются над этим.
– Что, представляешь, как он оправдывается, пав ниц? Я понимаю, ты хочешь, чтобы он ползал перед тобой. Уверена, что ты перед ним вволю наползалась, а чем ты заслужила взаимность? Тем, что у тебя красивая грудь, и тем, что выучила несколько стишков? Послушай, девочка, баба знает. Просто сочини историю, какая тебе нравится, и притворись, что это он ее тебе рассказал. Это убережет тебя от толики бед.
– Я думала, ты не хочешь, чтобы он женился.
– Да мне до сиськи тараканьей, женится он или нет. Но я не допущу в семью избалованных полоротых недоумков.
Председатель Яга поскребла скрюченным пальцем дубовый чан. Ее длинный загнутый ноготь заискрился и прорезал аккуратную дырочку в боку бочки, после чего она наклонилась и хлебнула водки, вытекающей через дырочку. Струйка омыла ее сухой язык, а она все лакала и прихлебывала. Наконец, старая карга вытерла рот рукавом и повела пальцем в другую сторону, запечатывая дырочку.
– И ты должна признать, что у меня есть такая скверная привычка – оказываться правой. Кто из этих негодниц не набрасывался на первого попавшегося дурня, разъевшегося на картошке? Кто не плел заговоров против Кощея? Как часто моему брату делали больно! Я хочу для него только самого лучшего. Скажи это сама себе, если это поможет тебе улыбнуться, когда он тебя целует. И не забывай улыбаться. Я была замужем семнадцать раз, Марья Моревна. Ты хоть представляешь, сколько мне известно о мужчинах? И о женщинах! Не делай такой удивленный вид – вечность-другую побудешь женой, захочешь жену и для себя. Жены – это такие удобные дружелюбные существа. Лучше, чем коровы. Они будут любить тебя, когда ты их лупцуешь, и работать до самой смерти.
– Я не такая.
– Посмотрим. В любом случае, тем, что я знаю о замужестве, можно украсить небо в беззвездную ночь. Я раздаю задания не потому, что подмазала правильного комиссара. Я даю их, потому что знаю. Жена должна устрашать, рука у нее должна быть крепче, чем у боярина, и она должна знать, как править. Это единственное, что важно, в конечном итоге. Кому водить. А если не можешь, ша! Не про тебя то колечко.
Марья задрала подбородок:
– А что, если я не хочу этого колечка?
– Еще утром хотела. Что изменилось? Узнала, что у него была толпа девок до тебя? Ты же не думала, что бессмертный значит бесполый. Они приятные девушки! Припасать девственность – это такое же преступление, как припасать еду. Кроме того, не забудь про ту часть, когда я буду глодать твои косточки после того, как ты провалишься. Лучше уж выйти замуж, чем превратиться в бульон из девы и девственные котлетки к нему.
Глава 10. Разрыв-трава
– Как она выглядит? – спросила Наганя, полируя длинные ореховые ноги густым маслом. Она лила золотистое вещество на кожу и хихикала от щекотки, когда оно затекало в металлические части под коленями. Она поправила костяной прицел в правом глазу.
– Мне откуда знать? Я об этом не слыхала.
Марья безутешно упала в плюшевое креслице, примостившееся у косметического столика. Солнце стучалось в окна, воспламеняя красные шторы. Она никогда не пользовалась косметикой, хотя Лебедева вечно уговаривала ее постигнуть тайные ритуалы пудры и румян. Тем не менее они все так и хранились в черных баночках, как смертельное зелье, нетронутое, но наготове.
Наганя пожала плечами:
– Ну я же слышала об этом. Какая-то замшелая травка, что отмыкает все замки, по-видимому. Но это еще не самое смешное. Трудность в том, что найти разрыв-траву можно, только если заковать какую-нибудь старушку в ножные кандалы и заставит ее брести по полю при свете луны. Как только ее цепи спадут – пуфф! Разрыв-трава. Никогда, правда, не видела такого. Сохранить ее свежей – это мучение, лилии дольше живут в вазе с пылью.
– Я должна принести это председателю Яге до вечера, или она меня в горшок с супом бросит. Уже листает тетрадку с рецептами.
Председатель Яга позаботилась о том, чтобы она не встречалась с Кощеем, заняла его делами и не выпускала, чтобы у Марьи не было другого выхода, кроме как подчиниться злобным прихотям старухи-ведьмы.
– Может, Лебедеву привлечь к этому делу? Она уже не так молода.
Берданка засмеялась, щелкая смазанной металлической челюстью, подобно нагану, стреляющему холостыми.
– Я ей скажу, что ты про нее говорила, когда она в следующий раз возьмется щипать меня за щечки и трепать за волосы. Но все равно не годится – это должна быть человечья старуха. Нехватка распаляет желание, знаешь ли. У нас нормальных бабушек не бывало с морковкина заговенья.
– Что же мне тогда делать? Я не хочу быть супом. – А если не получу корону, не смогу освободить Елен.
– А еще ты хочешь оказаться достойной выйти за Кощея…
Марья Моревна нахмурилась, уткнув подбородок в грудь:
– Мне следует порвать его собак и зашвырнуть его смерть с утеса – вот что мне надо сделать. Наша, ты не видела этих женщин! Это он должен из кожи лезть, доказывая, что достоин меня.
Наганя поежилась. В ее темных глазах притаилась тревога:
– Да видела я их, видела. Когда они жили в этой комнате. Когда они встречались с председателем Ягой. И мужчин этих тоже встречала.
– Каких мужчин?
– Ива́нов. Где Елена или Василиса, там и Иван. Бабушка должна была тебе рассказать про богатырей. Они обычно не очень смышленые, но будь я проклята, если они не красавчики. Они всегда младшие из троих сыновей. Честные, туповатые, как ногти на ногах, но в портках хозяйство богатое. А Елены вечно влюбляются и сбегают. Я помню, один Иван заявился с волком, огромной серой зверюгой. Всю работу сделал волк, запутал Кощея, чтобы тот рассказал, где его смерть, а Ивану подсказывал, что говорить, чтобы Елена Прекрасная потеряла от него голову, хотя он и был младшим сыном без наследства и с грязью под ногтями. Так они вдвоем и уехали на волке верхом, когда все, что положено, было сказано и сделано. Оставил Кощея истекать кровью на снегу. Когда они благополучно удалились, он сам поднялся и кровь смыл. Долго стоял, глядел на дорогу, будто думал, может, еще вернется. Да что тут поделаешь – ушла так ушла. Он тогда из Черносвята сколько недель не выезжал. Председатель Яга даже не произносит больше имени Иван – так она их ненавидит. Если встретит одного на улице, сразу – хрусть, хрясть! Лопает их прямо на месте, а потом отрыгивает, как уполномоченный по зерну, так чтобы каждый знал, что ей нисколько не стыдно.
– Ты их знала? Ты спала, свернувшись клубочком, с ними, и ты знала, где они? И ты не пытаешься их спасти?
Наганя нахмурилась:
– Чертям не положено спасать. Если съешь тухлую рыбу – наверняка заболеешь. Если ты неверная негодная девка – окажешься на фабрике. Это же просто здравый смысл. К тому же для человека быть несчастным естественно. Как для чертей естественно наслаждаться их несчастьем. В системе это работает чертовски хорошо.
Марья поковырялась в ногтях. Она знала ответ, прежде чем задала вопрос:
– И если я там окажусь, ты за мной тоже не придешь?
Берданка Наганя посмотрела в сторону, при этом масляные волосы закрыли ее лицо.
– Ну что ж, – тихо молвила Марья. – Если я когда-либо встречу человека по имени Иван, я вырву его сердце и съем прежде, чем он успеет пожелать мне доброго утра.
Наша ухмыльнулась, желая плавно объехать деликатную тему.
– Вот оно и видно, что ты одна из нас, Машенька! От печенки-селезенки до мозга костей. Нам еще разрыв-траву копать, а времени – в обрез.
– Если нам еще надо человеческую старушку добыть, как успеть вернуться в город скорей чем за пару недель? Волчья Ягода не поможет.
– Есть такие места на границе. Места, где березы тоньше бумаги и можно прорваться. Это те места, где Царь Жизни и Царь Смерти бились так сильно, что их владения измельчились, перемешались и слились, как две стороны одного камешка, как вершки и корешки репы, как кошкин нос и кошкин хвост.
– Мне надо попытаться с ним увидеться прежде, чем мы уедем. Баба Яга не сможет меня удержать, если он услышит мой голос. Я уверена, что он обнимет меня и скажет…
– Маша, не надо, – забеспокоилась Наганя. – На войне сейчас все нехорошо.
– На войне всегда все нехорошо.
* * *
Марья и Наганя взяли молодого проворного и голодного коня зеленого цвета и потрусили по Скороходной дороге, залитой вечерним светом. Берданка просунулась впереди Марьи и держалась за луку седла деревянными руками. Лениво, никуда не торопясь, плыли сумерки, волоча за собой розово-фиолетовую дымку. Последние лучи солнца перемигивались между ушей их жеребца.
– От меня лошади шарахаются, – забеспокоилась Наганя. Предохранитель в ее щеке взводился и резко опускался, эхом отзываясь на дороге. – Этот обязательно встанет на дыбы и сбросит меня. А потом затопчет нас обеих.
– Я взяла молодого, который еще не слышал, что ты иногда стреляешь в людей. Все будет нормально.
Конь заржал, раздувая снег с морды.
Наганя вертелась на своем месте, пока дорога убегала позади них, а лес подступал спереди, темный и пугающий, шелестящий и ледяной. Она схватила подругу за подбородок:
– Марья, слушай лес так, будто у тебя уши без дна. На границе опасно. Здесь живут твари с очень дурной славой. Будь осторожна! Если ты пропадешь, Кощей отправит меня на переплавку. Если увидишь кого-то знакомого или кого-то с серебряной звездой на груди, нельзя с ними разговаривать, даже бранить их нельзя или спрашивать, как зовут. С лошади слезать нельзя. Если твои ступни коснутся земли, я не смогу тебя выручить. Даже камни вражеские – лютые, и те кусаются. Я за тебя и старуху найду, и через поле ее прогоню.
– Так нельзя ж мухлевать!
– Тьфу ты! Да она уверена, что ты будешь мухлевать. Маша, любимая, эти задания не для того, чтобы испытать твою силу или волю, – они испытывают твою способность жульничать, это самая настоящая бесовская мерка и есть. Задания невозможно выполнить, если играть честно. Что тебе остается? Отправиться в ничейные края и пропасть там навсегда?
– А другие так же поступали? Ты Еленам про это рассказывала?
– Да, и они отказывались слушать, потому что были невинные девы, без малейшей лжи в сердце или пятна в душе. Не будь такой невинной, Марья. Невинный значит глупый. Доверься своему другу, я – гоблин и лучше такие вещи знаю, и мы добудем эту разрыв-траву Яге на салат еще до зари.
Но если я не невинна, значит, в моем сердце ложь? Душа замарана? Может, я дьявол? Что это значит, быть одной из них? Марья решила разобраться со всем этим, когда у нее будет минутка подумать, когда горшок Бабы Яги для супа не будет нависать над ее головой. Лес сгущался. Березы, усеянные воронами, подлесок с красными глазами ежей. Над головой с неба сочилось фиолетовым, но чернота уже наползала, пока не остались только резкие колючие звезды, прорезающие тьму. Тело Нагани согрелось у Марьи на груди; она осторожно ворочала курком в горле, чтобы не замерзло масло. Наконец лес расступился широкой просекой, и снег там струился ровно и гладко, как вода. На просеке полтора десятка домов светились и дымили, как и положено деревенским домам зимней ночью. Наганя завопила, и эхом отозвались совы, будто на крик одной из них. Из самой маленькой избушки выползла старуха и направилась прямо к снегу. Как только она вышла за круг света, падающего из окон, она присела прямо в поле, и в вечерней тишине громко заурчала моча.
– Везет нам сегодня, как грибникам, Марья! Погляди на нее, какая жирная да сочная! – Наганя легко спрыгнула с коня и, не утопая в снегу, не оставляя следов, затанцевала поверх наста, как стрекоза на пруду.
– Почему тебе не опасно, как мне? – прошептала Марья Моревна.
– Потому что ты все еще девушка, – ухмыльнулась берданка. – Девушки должны следовать правилам. Чертям необязательно.
Винтовочный бес понесся по снегу. Марья тронула лошадь вперед, чтобы не выпустить подругу из виду.
– Пссст, бабуля! – прошипела Наганя. – Старая ленивая неряха! Сколько детишек нарожала от своего мужика, а? Всю жизнь провела с раздвинутыми ногами, да? Вот в эту щелочку черт и прошмыгнул.
Старуха подскочила и посмотрела вокруг – прямо на Наганю, – но ничего не увидела.
– Позор тебе, бабка! Даже и не удосужилась научиться колдовать до старости. А зачем, лежи себе, правда? Покрикивай на ублюдков от половины твоих соседей. Взбейте мне подушки! Дайте мне вишенок!
Старуха тряслась, таращась в темноту.
– Бабушка! Да сдвинь ты коленки уже наконец! Что, если Христос сегодня ночью вернется, и первое, что он увидит, будут твои обвисшие старые телеса, а первое, что услышит, это как ты ссышь в снег, будто лошадь? И сразу же с ним прямо в рай ускоренным маршем, так, что ли!
Женщина подскочила и с сухим стуком схлопнула колени. Наганя нырнула в ноги старушке и с хихиканьем защелкнула на них кандалы.
– Марья, – послышался тихий голос, но Марья напомнила себе, что нельзя ни с кем разговаривать, и смотрела строго вперед.
– Марш, товарищ Лежебока! – прокричала берданка. Она прикрыла рукой одно ухо, топнула ногой и выпустила изо рта три пули с тихим звуком глушителя: пшшшт, пшшшт, пшшт. Все выстрелы легли вокруг бабушки. Она осталась цела, только подскочила, как пуганая корова.
– Быстрее! Быстрее! Полиция! Беги! Помнишь еще, как юбки подбирать!
Женщина кричала и спотыкалась, путаясь лодыжками в оковах.
– Не падать, а то я тебя арестую за то, что растратила свою жизнь на борщи да на детей!
– Марья, – опять позвал голос.
Марья зажмурилась. Я не буду отвечать, исступленно повторяла она.
Наганя наступала старухе на пятки, плюясь заглушенными пулями и смачно шлепая по пальцам ног штыками, которые были спрятаны у нее под мышками, о чем Марья даже и не знала.
– Не реви, старая морщинистая верблюдица! Ты только подумай, каких историй ты наплетешь другим плюющимся скотам! Как черт гнал тебя по снегу! Ты будешь Верблюжьей Королевой, зассанка-медалистка!
– Марья Моревна, посмотри на меня.
Марья больше не могла сопротивляться. Она посмотрела вниз. Перед лошадью стояла прекрасная молодая женщина со светлыми волосами, собранными в элегантный узел, как у балерины. На ней была толстая шуба из белого меха. Такие обычно мужчины дарят своим любовницам. На груди ее мерцала россыпь света, будто кто-то плеснул на грудь из ведра расплавленного серебра. Оно сияло как бледная звезда.
– Светлана Тихоновна, – ахнула Маша.
– Да, это я, – сказала женщина. – Спускайся, обними меня, моя дорогая. Я была одной двенадцатой твоей матери, в конце концов.
Светлана протянула руки. Звезда на ее груди зарябила.
– Мне нельзя. – И Марья почувствовала, как глаза ее вскипают слезами. Она и не подозревала, как сильно хотела увидеть человеческое лицо, тем более материнское.
– Та Марья, что я знала, не беспокоилась о том, что можно, а что нельзя. Ты украла мою щетку для волос, вообще-то, и убежала среди ночи, как дрянная девчонка. Но я дарю тебе ее без грусти, как и положено матери.
– Как ты здесь очутилась, Светлана? Это же другой конец света. – Пальцы Марьи мучительно хотели погладить ледяную щеку женщины, спросить: Как там моя родная мать? Что с моим отцом? Слышно ли что от моих сестер? И я вовсе не дрянная девчонка.
– Верно-верно! Ну, история такая – я умерла несколько месяцев спустя после твоего ухода. Ничего нельзя было поделать, я так голодала. Когда полиция пришла, чтобы допросить моего мужа о его членстве в каком-то кружке, я плюнула им в лицо и сказала, что им должно быть стыдно за то, что они обжираются в своих огромных квартирах, когда мои детки и я не помним вкус мяса! Такие вещи нельзя говорить. Я это знала. Сейчас я думаю, что просто устала жить. Что толку в это время быть живым?
– Мне нравится, – прошептала Маша.
– Это потому, что ты живешь не в Ленинграде. Веришь ли, теперь, когда старый дракон сдох, это Ленинград. Они продолжают менять имена. Попомни мое слово, через двадцать лет они назовут его Лимонный Леденец и будут расстреливать людей, которые будут смеяться над этим именем. Жизнь хороша, когда есть огуречный суп и тени для глаз цвета зеленого лука и самовар дымится на каждом столе. Я и забыла, как это приятно, пока не попала в Царство Мертвых, где царем Вий, а наши кладовые ломятся от призраков еды, которую поедают живые. Спускайся, Маша, я дам тебе конфету.
– Я боюсь. Я не хочу возвращаться обратно. Я не хочу голодать. Я не хочу быть обыкновенной и ненужной. И я точно не хочу быть мертвой. Мой дом – Буян, в Царстве Живых.
– Твой дом – Ленинград, – прорычала Светлана Тихоновна. – Ты просто забыла его.
– Нет, не забыла! Но можно уехать из дома и найти какое-то новое место. Люди все время так делают. Почему мне нельзя?
Светлана Тихоновна пожала плечами, будто для нее это не имело никакого значения.
– Иди, расцелуй меня в щеки, девочка, и я расскажу тебе, какой прекрасной ты выросла. Разве живому бояться мертвого?
Наганя завопила с дальнего конца поля, где женщина остановилась, и кандалы ее с лязгом раскрылись. Старая бабушка припустила опрометью обратно к дому, а берданка плясала, тряся оковами, зажатыми в руке.
Марья потрясла головой. Она чувствовала, будто серебряный туман окутывает голову, как становится отупевшей и сонной.
– Света, ты же не собираешься меня целовать, правда?
Светлана Тихоновна загоготала и прыгнула на нее, хватая за ногу. Из снега по спирали заструился дымком ее народец: мужчины, женщины, дети – все с серебряной россыпью смерти на груди, все голодные и с оскаленными зубами.
– Спускайся, спускайся! – рыдали они. – Мы только хотим любить тебя, обнимать тебя. Ты такая теплая! Почему все твои поцелуи достаются нашему врагу?
Сотня холодных пальцев тянулась к Марье, тут и самый искусный всадник не смог бы удержаться в седле, вцепись в него столько рук. Она опрокинулась и упала в самую их гущу, снег и пар поднялись вокруг нее столбом. Все как один повалились на нее, продолжая рыдать. Они не кусали ее и не царапали, а только целовали снова и снова, прижимая губы к ее плоти. С каждым поцелуем ей становилось все холоднее и холоднее, она становилась тоньше и тоньше – настолько, что казалось, будто ночной ветер может унести ее с собой. Светлана Тихоновна легла рядом, ее полные ледяные губы приблизились ко рту Марьи Моревны.
– Спускайся, – шептала балерина в ее окоченевшее ухо. – Я научу тебя танцевать так хорошо, что сотни сердец будут останавливаться от каждого твоего па.
Марья застонала под грудой теней. Она пыталась думать о чем-нибудь, наполнить свое сердце жизнью, чем-то горячим, чтобы вспомнить, что она живая, и не провалиться под землю под тяжестью этих призраков.
– Чай, – слабо прошептала она. – Малиновое варенье в банке, печки, суп с укропом, рассольник.
Тени отпрянули, на их зубах отражался лунный свет, серебряный и ровный. Марья постаралась поднять голову.
– Перчики на тарелке, и пробежаться по холоду, и пельмени кипят в чугунке, и Лебедева пудрится, и ругань Земели, и гусли играют так быстро, как только пальцы могут перебирать струны! – продолжала она крепнущим голосом, басовито, почти завывая. Призраки обиженно светились, уставившись на нее.
Светлана Тихоновна скорчила гримасу.
– Ты всегда была испорченным ребенком, – сплюнула она.
– Жар-птица в моей сети! Винтовка в руке! Горчичники и березовый веник и блины шкворчат на сковородке! – вопила она, а граждане страны Вия, воздевая руки, брели обратно в лес.
Марья, трясясь, взобралась обратно на коня, который, к чести его, не испугался и не убежал, а просто жевал сорняки, добытые из-под снега, и вообще ничего не думал обо всем этом деле. Наганя стояла по другую строну от его крутого бока и щурилась, глядя на Марью.
– Не очень-то гордись собой, – сказала она. – Представь себе, ты бы могла просто меня послушать, какая бы это была новость! Впервые в анналах Буяна!
Наганя протянула руку. В кулаке она сжимала цветок с пылающими оранжевыми лепестками, толстыми, как коровий язык, покрытыми ощетинившейся белой шерстью, с острыми резными листьями, со стеблем, усыпанным злыми шипами.
– Не забудь этого, когда станешь королевой, – торжественно сказала берданка, – что я пошла в темноту ради тебя и напугала старуху до полусмерти.
* * *
Председатель Яга сидела за своим обширным столом в глубине кафе для волшебников. Стол сиял черным деревом, словно эмалевый. Она вертела разрыв-траву в руках, глядя на нее через лупу ювелира.
– Ну да, только низкорослая, – снизошла она.
– Ну ты же не просила букет, – отрезала Марья.
Вокруг ее глаз появились черные круги, пальцы стали бледными и безжизненными. Каждый сантиметр ее истощенного опустошенного тела ныл от усталости.
– Верно-верно. Я приберегу это задание для следующей девочки.
Марья ничего не ответила, глядя прямо перед собой, но щеки ее пылали.
– Что мы говорили насчет краски стыда, девочка? – Баба Яга ущипнула свой толстый нос. – Подагра с гангреной, терпеть не могу запаха твоей юности, девочка.
– Подожди немного. Это пройдет.
– О нет! Теперь мы язвим старшим, так, что ли? Послушай, без-пяти-минут-суп. В замужестве высшая добродетель – это покорность. Если ты скромная, от тебя никогда ничего не ждут.
Баба Яга шлепнула по столу, чтобы подчеркнуть свою мысль. Как бы случайно пальцы ее нащупали стакан с водкой, и она опрокинула его одним махом.
– Всякий раз, когда я выхожу замуж, я натягиваю на себя перепонку, содранную с телят-близнецов. Это меня омолаживает, делает прекрасной розочкой из масла, заставляет меня краснеть, и заплетать косы, и молиться в церкви, и кланяться, и быть скромной, как навоз. Парни просто не могут устоять! Они прибегают запыхавшись, с высунутыми членами под шелковой уздечкой, с яйцами, покрашенными золотом, чтобы меня порадовать. Я позволяю им провести ночь у меня на коленях, как раз как они любят, нежные, покорные и тупые, как большой палец на ноге, сбитые с толку своими загадочными телами – подумать только, насколько сильнее моего! А потом они просыпаются – ха! В их постели Баба Яга, с новыми бородавками и зубами что гвозди, а горшок для супа уже раскалился на плите. Это хороший фокус. Видела бы ты их лица!
– Я не такая.
– Посмотрим. Нет на свете хороших жен или хороших мужей – есть только те, с кем можно ужиться.
Глава 11. Белое золото, черное золото
– Понимаешь, зачем ты мне нужен? – спросила Марья Моревна, сидя на лесном мху рядом с Землеедом. Леший со своей стороны интереса к разговору не выказывал, уткнувшись в венок, который он сплетал из фиалок и спелых плодов шиповника. Он отставил венок на вытянутой руке и прищурился, высунув каменистый язык изо рта от свирепой сосредоточенности. После этого он вплел в венок три алых мухомора и снова прищурился.
– Прекрати, – отрезал он.
– Змей Горыныч, – повторила она. – Это дракон. Не кустик дрожащий, персонаж посерьезней. Я понятия не имею, как сражаться с драконом, тем более как добыть его сокровища для председателя Яги, чтобы остаться Марьей Моревной, дочерью двенадцати матерей, а не стать Поджаркой, дочерью Ростбифа. Она хочет его белое золото и его черное золото, а мне, если честно, ничего не надо. Я хочу спать.
– Застрели его, – пробурчал Земеля. – Та-та-та, между глаз. Съешь стейк из дракона и будь счастлива. К Нагане приставай. – Леший ободрал с дерева полоску березовой коры и ловко продел ее между фиалок – ловчее, чем Мария могла бы ожидать от его толстых, покрытых корой пальцев.
– Земеля, ты на меня сердишься?
Леший расколол желудь своими гранитными зубами и сплюнул его шляпку на траву. Марья попробовала снова:
– Наганя и вполовину недостаточно сильная, чтобы бороться с драконом. Пристрелить его, конечно, можно, если не считать того, что убийство такого зверя передаст в руки Вия трехглавую платформу для бомбардировки с воздуха.
– Достаточно сильная, раз спит рядом с тобой.
Марья посмотрела на мох. Муравьи брели куда-то к отдаленной битве или к оргии на пшеничном зерне. У леших такой тонкий этикет. Она не сомневалась, что ему дела нет, кто спит в ее постели, – сами лешие размножаются перекрестным опылением. Недовольство, догадывалась она, происходило от его убеждения в том, что спящую Марью должен охранять самый сильный, а Марья выбрала Наганю, потому что считала – ошибочно, разумеется, – что берданка сможет его побороть, когда дело дойдет до кулаков и захватов. Землеед надул губы и воткнул в венок яркую веточку рябины.
– Наганя сильна ртом, – осторожно сказала Марья, – а ручки у нее детские. Твои же руки – старые и крепкие, и я выбираю их. К тому же захваты – это вообще не для Нагани.
Землеед широко улыбнулся. В его каменистых глазах проступила дождевыми каплями влага.
– Моревна выбирает! – просиял он. – Выбирает лучших. Землеед знает, где гнездо Змея Горыныча. Нагаша ничего не знает – только как дырки делать. Горыныч спит на куче костей. На золоте. Земеля тоже хочет такую постельку, да тьфу на нее! Он и так все делать.
Леший поднял вверх свою лесную диадему, откинув мшистые волосы, заплетенные в несколько зеленых кос. Он протянул лапу, не глядя вырвал пучок зимнего лука и воткнул его в заднюю часть венка, словно вуаль. После этого Землеед потянулся и водрузил венок на голову Марьи. Венок хорошо сочетался с ее розоватыми брюками и черно-фиолетовыми ботинками.
– Он тебе поможет, если ты пообещать.
– Все что угодно, Земеля.
Леший ухмыльнулся, поглаживая хвойные усы:
– Поцелуй для Землееда, в губы. Он никому не скажет.
Марья Моревна засмеялась. Даже сторонникам перекрестного опыления иногда бывает любопытно, рассудила она. Вреда никакого, все равно, что поцеловать дерево или скалу. К тому же Кощей целовал всех этих Елен. Ну, скорей всего. Кто может сказать правду? Марья чувствовала, как в груди закипает неповиновение. Ей дела нет. Она будет целовать кого захочет.
– Ладно, Зёма. Поцелуй.
Без предупреждения леший взвился в воздух, сделал сальто и жестко приземлился на мшистый покров, после чего начал яростно рыть землю. Он набросился на нее с кулаками, он рвал ее руками и жевал ее зубами, ногами он молотил, как ныряльщик при погружении в глубину. Комья летели во все стороны, Землеед исчез в вырытой норе. Через минуту обратно выскочили его пальцы, усеянные кружевами грибов:
– Моревна! Шевелись! Быстрее, чем можешь, и все равно слишком медленно.
Марья взяла грубую руку лешего, и тот втащил ее под землю, головой вперед.
* * *
Марья перевернулась в падении и аккуратно приземлилась на ноги уже в совсем другом лесу, полном низкорослого кустарника и высоких лиловых цветов. Окружая их со всех сторон, высились золотисто-оранжевые горы. Землеед свисал с ветки одного из высоких деревьев, болтая от радости короткими ногами взад и вперед. Он вытянул макушку из расщепленной ветки и упал – бум, трах! – на землю, устланную хвоей.
Лесной бес отскочил от земли, а когда распрямился, оказался уже не собой, а приятным мужчиной в темно-зеленой солдатской форме с красным кантом и в фуражке с золотым отливом. Его колючая черная борода спуталась, а мускулистые руки напоминали стволы сосен. Землеед приложил палец к носу.
– Никому не говори, – сказал он внезапно изменившимся голосом. – Они не должны знать.
Марья Моревна ахнула, разинув рот от удивления. Все это время ее друг был… кем? Она даже затруднялась сказать. Мужчиной. Да каким пригожим!
– Почему нет, Зёма! Даже мадам Лебедева посчитала бы тебя красавцем!
– У леса свои секреты, – ответил он кротко. – Для того они и нужны. Чтобы скрывать. Чтобы отделить один мир от другого. Ты, может, так не думаешь, но я люблю Лебедь и Нашу всем моим землистым сердцем. Но пока они думают, что я глупый, я могу воровать их заначки, а они даже не подозревают. Лебедевой и в голову не придет, что мне может понадобиться ее ночной крем или Наганина блузка с кобурой. Но они теперь у меня, они мои, и я их не отдам, нет.
– А зачем они тебе?
Землеед пожал плечами:
– Это в моей натуре. Я коплю. Это и в их природе тоже, вот почему у Лебедевой больше кремов, чем ночей, а Наша собирает жестянки. Змей Горыныч – он такой же. И я думаю, что это и в твоей природе.
Марья моргнула от удивления:
– Я так не думаю. А что я собираю?
Землеед криво улыбнулся, будто еще не научился пользоваться своим лицом:
– Нас.
* * *
Леший повел ее через поле желтых, мохнатых от пыльцы лучистых цветов, отяжелевших от гудящих пчел. Вокруг волновались пушистые, как крошечные облака, хлопковые кусты. Солнце подталкивало их вперед, прикасаясь лучами, словно руками, к их плечам. Вокруг поднимались странные узкие горы со снежными полосами, будто под землей спал некто голодающий, и его ребра торчали сквозь камни. Они следовали вдоль глубокой синей реки, что бездумно текла через луг, а рыба в ней плескалась так, будто никакому рыбаку с острогой и во сне не приснится оказаться рядом. Наконец, как раз когда солнце устало и покраснело, вдалеке Марья увидала в сухой траве большую меховую юрту. Покрывала ее толстая курчавая овечья шерсть. Крепко связанные длинные шесты стояли, согнутые в дугу. Вход прикрывала баранья шкура.
Землеед не постучал. Он отодвинул шкуру в сторону и нырнул в хижину, протискивая свою огромную фигуру в дверной проем. Марья последовала за ним внутрь теплой темной юрты, где за столом сидел, потерявшись среди бумажных завалов, лысый человек в круглых очках.
– Вам назначено? – пророкотал он, заливаясь краской одной длинной волной от черепа до бровей.
– Мы ищем Змея Горыныча, – твердо сказала Марья.
– Вы крошечные, – заметил человек. – Змей Горыныч не для таких крошек. Он замечает только больших! Больших, как он сам!
– Я большой, – пожал плечами Землеед.
– Не очень, по сравнению со Змеем Горынычем! – проревел человек, опять краснея головой.
– Мы пришли не для того, чтобы мериться со Змеем Горынычем, – вежливо сказала Марья, прикидывая настроение человека в очках. Он ухватился за пачку листов снизу кучи и умело дернул, освобождая листки, не потревожив остальные. Пустился черкать записи в амбарной книге.
– Как мы можем сравниться с тремя головами, хвостом, что горный хребет, и дыханием, которое выжигает империи?
Человек в очках посмотрел на них с возмущением:
– Слушайте, вы, преступники, когда это у меня было три головы?! Никогда не было! Вот что получается, если дать волю этим писателям и не припахивать их для правого дела Партии, прежде чем они научатся злоупотреблять винительным падежом. Я – товарищ Горыныч, и у меня одна голова!
– Я не преступник, – сказала Марья Моревна.
Землеед не вступился за свое честное имя, поскольку гоблины по духу преступники, даже если они и не были объявлены в розыск.
– Еще какой, – отрезал товарищ Горыныч. – Все преступники! Мы все окружены контрреволюционными силами. Так что вполне естественно, что все люди делятся на три категории: преступники, пока-еще-не преступники и пока-еще-не-пойманы.
Товарищ Горыныч ткнул в них огромной авторучкой:
– Даже если человек всю свою жизнь бдит и содержит тело и разум в такой чистоте, что его не посетит ни одна контрреволюционная мысль, – даже такой человек преступник! Он должен быть чистым без усилий! Если ему приходится бороться, чтобы соответствовать ви́дению товарища Сталина, то очевидно, что он точно такой же негодяй.
– Я думала, что вы дракон, – вздохнула Марья, садясь на маленький стул. Она все еще мечтала о высокой магии, хотела повидать драконов и русалок, снова увидеть мир обнаженным. В этом же мире она только о доме и думает и о том, когда ее объявят в розыск как дезертира. Землеед спокойно стоял за ней по стойке смирно.
Товарищ Горыныч замолотил обоими кулакам по грудам бумаг:
– Я и есть дракон! Посмотри вокруг! Что ты видишь, а? Это мое ложе из костей! Смотри, как я их перемалываю!
Марья дернула бровью, что, казалось, разъярило его еще больше. Ей стало казаться, что его голова скоро оторвется и улетит. Она пожала плечами:
– Я не вижу никаких костей.
– Ты ослеплена своей преступной природой! Гляди!
Он тряхнул папкой:
– Товарищ Крюков Евгений Леонидович! Обвинение в создании антисталинской организации предъявлено 24 числа, во вторник! Я отправил его на расстрел в свой обеденный перерыв! Кости! Товарищ Рогинская Надежда Александровна! Обвинение в укрывательстве от меня беглых преступных кузин! Арестована в четверг, расстреляна в пятницу до обеда. Кости!
Он поднял над головой невероятно толстую папку:
– Деревня Бандура, Украина! Отказ от коллективизации! Им же хуже, в любом случае умерли бы от голода! Кости!
Лысый человек прильнул к столу, лаская бумаги:
– Триста семьдесят шесть отдельных антибольшевистских шпионов обвиняются в убийстве Сергея Мироновича Кирова! Точнее, будут обвинены, как только мы организуем его убийство в Ленинграде! Кости! Кости! Кости!
Горыныч сжимал бумаги в кулаках, будучи явно не в себе:
– Я сплю на матрасе, набитом моими приказами об исполнении приговоров. Для спины полезно.
Марья наблюдала за ним, пронзенная мрачным, холодным ужасом.
– Зачем вы это делаете, товарищ Горыныч? – тихо спросила она.
– Это самая малость из того, что я могу сделать! Здесь, в нижних землях, Партии не так-то легко. Люди так привязаны к своим волам и детям. Но я, я понимаю Восток. Я здесь дольше, чем сама земля! Моя мать была великим драконом! Она жила в озере Байкал, запуская штормы своим храпом, плюясь наводнениями, ныряя на дно озера, чтобы откусывать от досок мира. Мой отец – ты не поверишь, я знаю! – мой отец был Чингисханом, и у него было такое большое сердце, что он единственный среди всех существ на земле и небесах был достаточно силен, чтобы покрыть мою колоссальную мать, посмеиваясь при этом. Мое яйцо возили с Золотой Ордой. Меня высиживали в деревнях, которые они сжигали, среди тел, пронзенных стрелами! Во мне полно восточной крови! Так что я знаю их – от макушки до пят. А они знают меня. Они знают, что, если они пойдут против Партии, они пойдут против товарища Горыныча, а Горыныч всегда был их товарищем, делил с ними ложе, был гостем за их столом, хоронил их.
Он поправил очки и промокнул бровь красным носовым платком:
– Я – проводник. Москва шлет мне мясо и кости, а я шлю обратно ценный мягкий хлопок, жирную мягкую нефть. Дань. Это старая добрая система.
– А что тебе за дело до интересов Партии на Востоке? – спросила Марья, оставаясь спокойной, насколько могла. Ей казалось, что спокойствие бесит его, а беснуясь, зверь теряет осторожность.
– Мне просто любопытно. Помнится, в старые времена Горыныч не работал на Царя.
– Вах! С чего бы мне? Я Хан по рождению! Царям нечего мне предложить. Дилетанты – вся их пестрая шайка. Но сейчас! Партия работает оптом, промышленными количествами! Они, как я, ненасытны. Они скопидомы. Партия выстилает мое ложе роскошными бедрышками, грудинками, ребрышками! Без Партии объяснять им, что это для их собственного блага, – сон потеряешь.
Товарищ Горыныч внезапно хлопнул ладонью по лбу и вытянул к ним шею, как черепаха.
– Как, ты сказала, тебя зовут, преступница? – резко спросил он.
– Марья Моревна. – Дезертирство, подумала она. Это все, что у него может быть на меня. Ну и случайная грубость с друзьями, да и то они сами позволяют.
Горыныч рылся в бумагах, переворачивая папки, время от времени высовывая язык изо рта.
– Что это у нас? – вскричал он торжествующе. – Я знал, знал! Как я мог забыть? Ничего и никогда. Товарищ Марья Моревна! Осуждена за дезертирство в Ленинграде в 1942-м! Кости! Кости! Так что ты тоже мои кости, ты тоже моя дань. Может, я уже расстреляю тебя и покончим с этим? Зачем ждать? Время принадлежит всем, Марья Моревна, оно – самое общее из всех предметов потребления. Принадлежит всем нам в равной мере. Зачем же его копить?
Марья распрямила плечи и положила одну ногу на другую. Она не могла, ни за что не могла показать дракону, пусть даже он в очках, что испугалась его. Если он пугает лошадь, напугает и змею. Хан уважает только силу. Ну и к тому же ей снова хотелось обратно в ее красную теплую комнату, где уже подали ужин.
Она поймала его взгляд:
– Если оно принадлежит всем в равной мере, тогда я заберу его и буду наслаждаться своей долей, благодарю вас.
– Фу, – фыркнул Горыныч, бросая черную папку обратно на стол. Он черкнул в ней пометку. – Тогда ты поедаешь мое время, а высираешь еще больше бумаг. Теперь я должен отметить, что ты была здесь, что ты отклонила расстрел, что ты потратила чашку воздуха и разнесла чайную ложку пыли. От тебя остались чешуйки кожи и три пряди волос взамен. Дел у меня невпроворот.
– Если дашь нам то, за чем мы пришли, мы с радостью уйдем, – просто сказал Землеед.
– И что же это?
– Твое золото, – сказала Марья. – Много мне не надо. Монетку. Одну белую, другую черную.
Товарищ Горыныч откинулся в кресле, закинув огромные мускулистые красные руки за лысую голову.
– Ты – идиотка, мой юный преступный друг.
Землеед снял свою офицерскую фуражку и уложил на крепкую, как корень дуба, руку.
– Горынчик, – ухмыльнулся он. – Скажи «нет». Я бы так хотел услышать «нет».
– Я не говорю «нет». Я не говорю «да». Я говорю, что ты идиот, который думает яйцами, валун ты неповоротливый, а не леший. Я же вижу мох на твоих костях! Кто сможет одурачить Змея Горыныча? Никто и никогда! Что это ты тут делаешь? Мы с тобой, паренек, можем одеваться как мужчины, можем идеально правильно спрягать все глаголы, а они нас все равно не будут любить. Она никогда не захочет запачкать свои титьки твоей грязью, да еще чтобы ты мокрыми листьями на нее кончил. Мой отец был больше похож на нас, чем кто-нибудь из людей после него, и он все делал правильно: хочешь их – возьми их, детей оставь себе и утоли свою жажду мира. Лучшее, что люди могут нам дать, – это оброк. Спроси своего Кощея. Он лучше всех знает. Это у них нет ни души, ни сердца. Кто стелет Змею Горынычу постель? Только не он!
– У меня есть душа, – сказала Марья Моревна, и голова ее переполнилась золотыми ликами Елен. – У меня есть сердце. И я не сплю ни на чьих костях.
Товарищ Горыныч злобно глянул:
– Молодая еще. Дай время.
– Ты достаточно долго обсасывал косточки дочиста еще до того, как Партия начала списывать их для тебя, – отрезала Марья. – Так что не смей проводить черту между чертями и людьми. Ты голоден, мы голодны. В чем разница?
– Разница в том, что целый мир принадлежит вам, но вы продолжаете нас выталкивать из него! Вам мало, что у вас есть города и церкви, – вам еще фермы подавай. Ферм тоже недостаточно – подавай леса. Лесов тоже мало – подавай снег, каждую снежинку, каждый кристаллик! А теперь ты еще пришла требовать мое золото, будто хоть что-то знаешь о драконьем сокровище, что это вообще значит. Так что я тебя уже победил, Марья Моревна. Ты уже мертвая. А я? Змей Горыныч всех переживет. Я могу быть монголом, если надо. Могу быть китайцем, если так принято. И я могу стать хорошим членом Партии даже не вспотев. Приходи, если захочешь посмотреть, чем все это закончится, и увидишь, как Горыныч купается в пепле, загорая на ваших черепах!
Землеед снова надел фуражку и поправил ее. Затем он спокойно вышел из двери, позволив шкуре свободно опуститься за ним.
– Что он делает?
– Иди сам узнай, – ответила Марья, хотя понятия не имела.
– Я не могу, имбецил. Ты что, думаешь, дракон может превратиться в человека? Я для этого слишком большой. Плоть человечья мне все равно что носок. Ты так глубоко в моих смертельных кольцах, что я уже вкус твой чувствую. Стул, на котором ты сидишь, тоже я. Этот стол – я, этот пол, эта юрта. Даже несколько цветочков снаружи. Моя чешуя, мой гребень, мой живот. Я не могу выйти за пределы самого себя.
Товарищ Горыныч снял очки и тщательно их сложил. Он отвратительно широко открыл рот, показав все коренные зубы. Рот раскрывался все шире и шире, пока не охватил его череп, как капюшон. Марья бросилась к двери, но воздух вокруг нее вспух и потемнел, кольца, которые она до сих пор не могла видеть, засверкали вокруг нее, поднялись вровень со стенами и даже выше, сжимая и всасывая ее. Марья пыталась колотить по змеиной плоти вокруг себя, но кольца уже охватили ее руки. Она глотнула воздуха, но пустую грудную клетку безумно сдавило, только голова ее торчала из змеиного клубка цвета подземных пещер – черного, фиолетового и синего. Лица Змея Горыныча она не видела, если оно у него еще было, только чувствовала его неумолимо сжимающее тело. Даже слезы Марьи уже были передушены.
– Товарищ Горыныч, – хрипло прошептала она сдавленным голосом, с биением сердца отзывающимся в ушах. – Ты меня получишь, и довольно скоро. Так сказано в твоей папке, а папки не лгут. Ты получишь меня для своей костяной постели и будешь спать на мне вечно. Но в папке не написано, что товарищ Марья Моревна съедена казахским драконом в 1926 году! Будет расхождение, Змей Горыныч! Писанины не оберешься! Отпусти меня. Ждать тебе недолго.
Затем Марья Моревна закрыла глаза. Она потянулась так далеко вперед, как только могла достать, и поцеловала, очень нежно, змеиную плоть рядом со своим лицом.
Кольца, обжигая, полыхнули жаром, и Марья на миг подумала, что может здесь и умереть. На ее щеке, как раз под глазом, занялось крохотное пламя. Ресницы ее начали обугливаться, как вдруг кольца пропали. Марья захлопала по лицу, чтобы сбить пламя.
– Маша, – кричал Землеед с луга на берегу реки. – Ты жива?
– Горькая она, даже есть не хочется! – проревел голос из юрты.
Марья побежала к лешему, который снял китель и обливался потом в нижнем белье.
– Куда ты делся, Зёма? Он мог задушить меня. Он мог убить меня.
Землеед вытер лоб тяжелым кулаком:
– Я отвожу реку, Марья Моревна. Уговариваю ее течь в сторону той ужасной юрты и смыть ее прочь. Когда его не станет, мы сможем порыться в останках в поисках монет, белой и черной. Мне эта идея пришла в голову, когда он болтал про ханов. Мы такое делали, когда они были у нас в подчинении.
Зёма присел на берегу реки, громко хрустнув огромными коленями, и звук этот разнесся далеко в синем воздухе. Он захватил руками охапку земли – так много, что с ней потащились огромные длинные кости и валуны, такую огромную, что за ней не видно было самого лешего. Собрал и отбросил ее. Земляной ком, ударившись о бугор, осыпался дождем из пыли и сломанных камней. Землеед подмигнул Марье и спрыгнул в проделанную им дыру, которую уже наполняла речная вода. Он оперся плечами об один край земляной норы и стал толкать. Жилы на его шее вздулись гитарными струнами. Леший зарывался в почву и продолжал толкать ее так быстро и так далеко, что Марья немедленно потеряла его из виду среди черной грязи и речной воды, спешащих заполнить протоку, которую он для них проделал. Когда леший достиг юрты, реку уже было не остановить. Он выпрыгнул из пены и ревущей воды, когда течение накрыло товарища Горыныча, унося его с собой, чтобы влиться в другую протоку ниже по течению. Вопли Змея Горыныча эхом отдавались в холмах, им вторил смех Землееда, который плюнул ему вслед. Марья с волосами мокрыми от водной пыли и лицом, все еще пульсирующим от ожога, побрела к месту, где была юрта. Когда она добралась туда, река немного успокоилась, а Зёма рылся в траве в поисках золота.
– Здесь ничего нет, Зёма, – вздохнула Марья. – Даже костей. Смотри, вокруг – одни хлопковые поля!
Марья склонила голову набок. Она подобралась к хлопковому соцветию, которое легко качалось бледными волокнами на горячем ветру. Марья сорвала одну из пушистых белых головок. Она уже знала, знала эту загадку. От ликования защекотало кожу на голове:
– О, Зёма, я поняла. А ты? Это же белое золото. Товарищ Горыныч правильно смеялся над нами, когда мы клянчили монеты. – Она повертела цветок в руках. – А черное золото – это, должно быть…
– …нефть, – закончил за нее Зёма.
Маша нахмурилась:
– Но у меня нет оборудования, чтобы добыть нефть из-под земли. Может, где-то есть бочки. Может, есть буровая где-то в холмах.
Землеед снова ухмыльнулся. Борода его блестела от пота и речной воды. Он отвел увесистую руку и с криком вонзил ее в землю. Земля расступилась, и леший погрузился в нее по плечи. Лицо его сморщилось, будто он ухватился за бочку с селедкой. Наконец, кряхтя от напряжения, он вытащил кулак обратно. Рана земли наполнилась черной сукровицей, густой и пахучей. Зёма тяжело опустился, переводя дыхание в ореоле пыльцы вокруг головы.
В тускнеющем кровавом свете Марья Моревна опустилась на колени рядом с ним, обхватила руками его широкие щеки и поцеловала лешего как раз в тот момент, когда на небе появилась первая звезда. Это был настоящий поцелуй, и она этого хотела.
Когда она отстранилась, шершавое лицо Землееда было покрыто слезами.
– Не забудь этого, когда станешь королевой, – хрипло прошептал он. – Для тебя я двигал землю и воду.
* * *
Председатель Яга изогнула заплетенную бровь, глядя на комок черной грязи и хлопковый цветок на своем столе. За дверью кабинета жужжало и бурлило кафе волшебников. Она сунула палец в нефть и облизала его изучающе.
– Низкий сорт, – фыркнула она.
Марья ничего не сказала. Яга примет и так.
– Поглядите-ка на нее, вся напыжилась, думает, что два из трех сделала и кем-то стала. Ша, ты все еще никто. Последнее самое трудное – таковы правила, – и тебе никогда этого не сделать.
– А я сделаю все же.
– Ну что, ты решила, что простишь Кощею его подружек, значит?
Марья пожевала щеку изнутри.
– Лучше приберечь свои козыри, – произнесла она медленно, осознав, что говорит правду, только услышав себя со стороны, – до своего хода. Я запасусь твоим благословением, прежде чем скажу ему хоть слово, председатель Яга.
Яга зажгла сигарку и выпустила толстое кольцо дыма на свою книжную полку:
– Я вижу, что мои крайне дорогие игры не пропадают так уж впустую. И ты сейчас, с твоим причудливым шрамом, хоть немного заинтересована в них.
Пылающая кожа товарища Горыныча оставила под глазом Марьи отметку – ожог в форме ромбика, который почти раздвоил ее нижнее веко. Даже когда он заживет, будет выглядеть как незаживающая рана, будто она плачет порохом.
– Но это неважно. С картошкой вместо мозгов и с твоей сладенькой цивилизованной пусечкой, которая живет своей жизнью, у тебя нет шансов отличиться в последний раз.
Председатель Яга указала сигаркой на окно:
– Видишь мою подругу снаружи?
Марья выглянула, ожидая увидеть машину на куриных ногах, улюлюкающую на бездомных котов. Но снаружи в густом снегу и густой тени бесконечной зимы стояла большая, больше лошади, красная, как бойня, мраморная ступа. Пестик медленно вращался в чаше.
– Прокатись на ней. Слетай до самой северной границы Буяна, в то место, где растут цветы папоротника. Там в скале есть пещера, а в пещере сундук. Принеси мне то, что найдешь в нем. Ступа моя помогать не будет. Но ты научишься с ней управляться, обломаешь ее, заставишь подчиниться. – Яга вздохнула, выдувая дым: – Или нет. Не могу научить тебя власти, детка: у тебя она или есть, или нет. А если нет, ну что ж, полезай в печь прямо сейчас – муж твой сожжет тебя, чтобы согреться, рано ли, поздно ли. – Баба Яга поманила Марью и похлопала себя по колену. Под черной шубой она носила кожаный передник, как мясник или кузнец.
Марья отпрянула:
– Я не хочу сидеть у тебя на коленях. Я не дитя.
– Самая мелкая муха на куске козлиного помета интересует меня больше, чем то, чего ты хочешь.
Марья скорчила гримасу, пересекла комнату и осторожно, стиснув зубы, села на колени председателя Яги. Старуха подперла лицо рукой точно так, как делала это Марьина собственная бабушка.
– Если ты думаешь, что мой брат чем-то отличается от других, девочка, тогда тебе ничем помочь нельзя. Он сожжет тебя как воск, если ты ему позволишь. Ты будешь думать, что это любовь, а он будет пожирать твое сердце. А может, это любовь и будет. Но он такой голодный, что съест тебя всю за один присест, и будешь ты у него в животе, и что ты тогда будешь делать? Послушай, что я тебе говорю, потому что я знаю. Я съела всех моих мужей. Сначала я питалась их любовью, потом их волей, потом их отчаянием, а потом я делала пирог из их тел – и эти тела были так дороги мне! Но замужество – это война, и ты делаешь то, что должна делать, чтобы выжить, – потому что выживет только один из вас.
Марья тяжело сглотнула.
– Я не такая, – прошептала она.
– Посмотрим. Когда полетишь в ступе с пестом, а луна будет выть в твоих ушах, и ты будешь так похожа на меня, что ни один мужчина не увидит разницы, тогда и посмотрим, какая ты. Важно только одно, почти-супчик, – кому водить.
Глава 12. Красный принуждает
– Нет, – сказала мадам Лебедева, окуная палец в баночку с пудрой янтарного цвета. Баночка подходила по цвету и к чайнику, и к чаю. Ловким движением мавка мазнула пудрой одно веко и полюбовалась на результат в высоком зеркале в чугунной оправе на своем туалетном столике. Колени ее прикрывала прозрачная белая юбка, шею окутывали кружева строгой блузки, заколотые камеей. Холодная волна белоснежных волос переходила в ниспадающую массу вплетенных перьев и жемчуга. Та же прическа, те же перья и жемчуг повторялись в ее образе на камее.
– Что значит – нет? – спросила Марья.
Отказ подруги уколол – при всей заносчивости Лебедева редко ей отказывала.
– Это значит, что я такими вещами не занимаюсь.
– Какими вещами?
Лебедева вздохнула и с характерным стуком эмали о стекло поставила баночку с розовой глазурью на столик.
– А ты как думаешь, Маша? Такими, когда ты приходишь ко мне с каким-то невыполнимым заданием, до странного подходящим к моим специальным умениям, которое непременно надо выполнить, и говоришь: «О! Лебедушка, дорогая, выручи меня в трудный час!» Я этим не занимаюсь. Я не стану выпивать океан, чтобы ты добыла колечко с его дна, я не буду сидеть три дня не смыкая глаз, чтобы лишь мельком увидеть сопливую царевну, которая наладилась неведомо куда, и я точно не буду связываться со ступой, которая мне ничего плохого не сделала.
Мадам Лебедева перебрала свой арсенал губных помад и решительно выхватила одну из них – цвета пионов, пробивающихся из-под слоя льда.
– Ну что тебя заело? Наганя и Землеед ходили со мной, помогали мне. Если я не справлюсь, попаду в горшок к председателю Яге.
– Наганя и Землеед – твои компаньоны, Марья.
Марья слегка зарделась от смущения. Она начинала подозревать, что где-то неправильно себя повела.
– А ты?
Бледная дама в изумлении повернулась к ней:
– Я – Инна Афанасьевна Лебедева! Я – мавка и волшебница, и я не твоя прислужница, Марья Моревна! Что ты мне хорошего сделала, кроме того, что отвергла мои порывы и высмеяла мои заботы, потому что это не твои заботы, потому что ты думаешь, что косметика, мода и общество – это легкомысленно. Какое уважение ты мне выказала, кроме того, что отклонила мои предложения в помощи, в которой остро нуждалась, и позволила другим твоим друзьям растоптать мою гордость? Когда это я к тебе приходила и просила: «Маша, помоги мне наложить проклятие на этот скот или помоги заполучить вон того пастушка мне на потеху?» Мои дела – это мои дела, тебя они не касаются!
Марья Моревна поняла, что она делала не так, и почувствовала себя безумно виноватой. Это было невыносимо, что прекрасная блондинка выговаривает ей, от этого мучительно саднило горло, которое когда-то согревал красный галстук.
– О, Лебедь, я не хотела тебя оскорбить!
Мавка вздохнула и принялась щипать щеки, пока они не стали розовыми и блестящими.
– Это все ваша порода. Ты, может, и не из Елен, но все равно что их сестра. А ваша порода мою породу не жалует. Так что нет, я не буду тебе помогать оседлать ступу. Я, конечно, не хочу, чтобы тебя съели, но дело не в этом. У меня есть своя гордость. Когда-то, Маша, когда я еще не вы́носила цикаваца и меня в кафе волшебников на порог не пускали, когда пастухи визжали, завидев меня, и осеняли крестным знамением, когда Наганя спала в твоей постели, а меня любовник покинул ради суки-русалки, которая его все равно утопила, и поделом, гордость – это все, что у меня было. А ты смеешься надо мной, когда я пытаюсь научить тебя пользоваться помадой.
– Согласись, что по сравнению с угрозой стать супом, губная помада выглядит несерьезно.
Мадам Лебедева уставилась на Марию и не отводила взора, пока Маша не почувствовала, что щеки ее пылают, а черная отметина на лице наливается болью.
– Думаешь, я дура, Маша? Столько времени прошло, а ты все еще говоришь со мной как со взбалмошной девчонкой. Я – волшебница! Тебе никогда не приходило в голову, что я люблю помаду и румяна не только за их цвет? Я послушник этой древней традиции, более загадочной и непостижимой, чем самые смелые мечты алхимиков. Ты никогда не задумывалась, почему я даю тебе так много баночек, кремов и духов? – Глаза Лебедевой сияли. – Маша, послушай меня. Косметика – это продолжение твоей воли. Почему, думаешь, мужчины раскрашивают себя, прежде чем идти в бой? Когда я подкрашиваю глаза в тон моему супу, это не потому, что мне больше нечем заняться, кроме как заботиться о таких пустяках. Моя раскраска говорит – мое место здесь, и вы меня не отвергнете. Когда губы мои горят ярче, чем пурпурная наперстянка, я говорю – иди сюда, самец. Я твоя самка, и ты меня не отвергнешь. Когда я щиплю щеки и припудриваю их перламутром, я говорю – смерть, убирайся, я твой враг, и ты меня не повергнешь. Я говорю все это, а мир меня слушает, Маша. Потому что моя магия так же крепка, как моя рука. Меня никогда не повергнуть.
Ненакрашенные губы Маши раскрылись в изумлении:
– Я же не знала.
– Но ты и не спрашивала.
– Пожалуйста, помогите мне, Инна Афанасьевна. – Марья взяла руками бледные мягкие руки мавки: – Пожалуйста.
– Время от времени, сестра, надо что-то и самой для себя сделать.
Марья смотрела на мадам Лебедеву – на ее горящие янтарем веки, на бледные губы, на покрытые морозным узором щеки. Она с трудом могла противиться красоте своей подруги. Она тоже не посмела бы отвергнуть Мадам Лебедеву.
– Может быть, ты меня тогда раскрасишь для этого задания? Сделаешь мне лицо, как много раз предлагала?
Мадам Лебедева нахмурилась. Уголки ее жемчужных губ опустились, и она показалась старше на целую вечность:
– Нет, Машенька. Я не сделаю этого. Это будет всего лишь продолжение моей воли, а здесь важна твоя. Но скажу тебе так: синий цвет – для жестких переговоров; зеленый – для немыслимой отваги; фиолетовый – для грубой силы. Еще скажу тебе: коралловый убеждает, розовый настаивает, красный принуждает. Еще скажу – ты мне дорога, как розовое масло. Пожалуйста, не дай себя съесть.
Мадам Лебедева склонилась вперед на золотом табурете и расцеловала Марью в обе щеки, мягко пощекотав ресницами ее виски. Она пахла дождем, падающим на кусты жимолости, и, когда она отстранилась, ее поцелуи остались на коже Марьи – два одинаковых розовых кружочка, почти невидимые.
– Не забудь об этом, когда станешь королевой, – еле слышно выдохнула она. – Я открыла тебе мои секреты.
* * *
Робкий зимний полдень, едва показав скромную лодыжку, поспешил соскользнуть обратно во тьму. Марья шла по Скороходной улице, пиная куски льда. Власть, думала она. Что я об этом знаю? Кто был главным, когда Кощей кормил меня и не давал говорить? Только не я. Из трактира с черноволосой крышей и заплетенными косами, повисшими по углам, будто шнурки от звонков, выплеснулся взрыв смеха. Марья остановилась и погладила стену дома – бледную гладкую безволосую кожу, не иначе как девичью. Здание встрепенулось в ответ. Но все же я сама выбрала молчание и принимала то, чем он меня кормил. И он тоже дрожал, когда прикасался ко мне, дрожал от слабости, что я у него вызывала. Что все это значит?
Марья остановилась и подняла лицо к звездам, которые сверкали, словно кончики ножей. Она подняла воротник длинного пальто: рана под глазом пульсировала от холода. Она думала о том годе, что минул с тех пор, как она приехала в Буян, о том, как она трепетала, когда впервые увидела Черносвят, фонтаны теплой крови, которые – вот они: журчат у нее за спиной, смех Нагани со страшными щелчками. Тысяча девятьсот сорок второй, подумала она. В Ленинграде. Она содрогалась как раз от этого «в». Не под Ленинградом, а в Ленинграде. По крайней мере я умру дома. Но он же не говорил, что я умру! Он сказал – дезертирство. Я стану дезертиром. То же самое, что беглянка, в общем-то. И что такое дом? Буян – мой дом. Ленинград так далеко, 1942-й так далеко. Зачем бы я стала возвращаться?
– Волчья Ягода, – прошептала она, призывая что-то знакомое, огромное и доброе.
– Да, Марья, – ответил голос коня над ухом, будто все время был здесь. И он был рядом, дышал над ее плечом. Конь бледно светился в ночи.
– Я вот думала, если ты мне понадобишься, придешь ли ты?
– Я бы не называл это правилом, но у меня очень хороший слух, и я быстр.
Марья повернулась и обняла длинную шею коня руками. От него пахло не лошадьми, а металлом и автомобильными выхлопами.
– Обещай мне, Волчья Ягода. Обещай, что никогда не увезешь меня обратно в Ленинград. Если я не вернусь туда, то и не умру там.
– А кто-то сказал, что ты должна умереть?
Марья нахмурила бровь:
– Ну нет, не совсем так. Он сказал – приговорена. Но приговорена обычно означает смерть.
– Может, все еще будет не так плохо.
– Волчья Ягода, поклянись мне. На чем клянутся лошади?
– Ни на чем, – ответил конь со странным акцентом, все тем же грубым и глубоким голосом, но искаженным и измученным. – Лошади – безбожники. Есть только всадник и хлыст. Но я обещаю.
– Отвези меня домой, Волчья Ягода.
Бледный, как кость, конь склонился перед ней и так изогнулся, не размыкая ее объятий, что Марья в два счета оказалась заброшенной к нему на спину. Она чувствовала, как его маслянистая кровь тяжело и горячо струится под ней. Он повернул к Черносвяту, видимый не лучше чем темная точка на темном небе. В свете факела тени его костей двигались по тонкой коже.
– Почему ты позволяешь мне ездить на тебе верхом? Ты более ручной, чем ступа председателя Яги?
Волчья Ягода фыркнул:
– Эта штука – просто посудина. У нее нет ни пасти, ни зубов. Нельзя назвать живым то, у чего нет рта. Много всего в Буяне с вывихом да вывертом – замшелые камни и ружья могут говорить, птицы обращаются в мужчин, домики стоят будто юноши, – но ты обрати внимание, что у всего живого есть рот. Рты кусают и глотают, ртом говорят, ртом пробуют на вкус. Ртом целуют. Рот – главный инструмент жизни. Ступа – она как очень злобный подхалим. В каком-то смысле она живая, но за стол ты ее не посадишь. – Стук копыт отдавался эхом в темноте. – Что касается вопроса, почему я позволяю тебе ездить на мне. Что за вздорные понятия – кто на ком ездит! Кто слуга – тот, кто несет свою госпожу, или тот, кто расчесывает и чистит своего скакуна? Это просто, Марья Моревна. Ты служила мне, когда мы только встретились. Ты вычистила мою шкуру до блеска и перековала меня. Ты спала на моем боку. Услуга за услугу. В моих четырех сердцах услуга – это один из многих способов выражения любви. Я служу Кощею. Но если бы ты не погладила меня за копытом, я бы никогда не служил тебе. – Волчья Ягода повернул длинную голову и легонько куснул ее. Было больно, но она поняла – и приняла это – как знак нежности и привязанности. – Со ступой все не так, знаешь ли. Это кухонная зверюга. Ты не сможешь опуститься достаточно низко, чтобы служить ей, даже если поползешь на брюхе. И задания Яги никогда не принуждают тебя к покорности. Эта вещь требует силы, Марья. Она хочет, чтобы ты была больше, чем она сама. Она хочет повелительницу, и она привыкла к древней и сильной хозяйке, которая может сокрушить ее между ног, чьи железные бедра выражают свою волю совершенно ясно. Тебе с ней не управиться.
– Все уверены, что я не смогу это сделать.
– О, Марья, конечно не сможешь! Даже прожив год с нами, ты все еще нежная и добрая! Немного необузданней, может быть, более склонна кусать и быть укушенной, красть и драться, но до чего же ты все еще теплая! Все еще готова делать, что тебе говорят. Не такой девушке ездить на ступе верхом. Нет в тебе этого. Давай я отвезу тебя к северной стене. Ты добудешь ее побрякушку и всех обдуришь.
Марья помотала головой:
– Да ей достаточно спросить ступу, и меня тут же разоблачат.
– Я же тебе говорил – у нее нет рта, чтобы предать тебя.
Марья глубоко задумалась. Она хотела бы, чтобы все было так легко. Чтобы ей помогли. Как приятно, когда тебе помогают. Но голос Мадам Лебедевой все еще звучал у нее в голове – время от времени, моя дорогая сестра, надо делать что-то самой.
– Задание – это не побрякушка, задание – это ступа, – вздохнула она наконец. – Отвези меня в башню, Волчья Ягода. И все на этом. Я должна сама найти способ.
Молча ехали они по Скороходной дороге, тянувшейся позади черной лентой с огромным медальоном луны, скользящим по ее середине.
– Волчья Ягода, можно тебя спросить напоследок?
Большой конь вздохнул:
– У тебя вопросов как овса в торбе, Марья.
– Я говорила с домовыми, с лешим, с самим Змеем Горынычем, и все они считают себя преданными делу Партии, любят ее, словно мать. Они все время напоминают мне лозунги из моего детства, и глаза их при этом аж горят. И все же Кощей живет в своем большом дворце, а Лебедева копит свои ночные кремы и камеи и ценит свое происхождение. Маленькие люди бьются за то, чтобы с гордостью носить знаки отличия на груди, чтобы агитировать и крепить ряды, а большие люди живут, как всегда жили, как драконы, как цари. Как это может быть?
Волчья Ягода подумал:
– А в твоем мире разве не так?
– Думаю, что так, но это никому не нравится. Когда несправедливость выходит наружу, мы выходим на демонстрации и устраиваем гражданскую войну.
Жеребец фыркнул, и его дыхание заклубилось на холоде:
– В этом, Марья Моревна, мы лучше вас. Нам одинаково по сердцу и идеалы Партии, и наше богатство. До вашего народа нам дела не больше, чем до бедных родственников. Для чёрта лицемерие – что-то вроде салонной игры, как шарады. Такое прекрасное развлечение, что, когда вечер окончен, мы просто животы надрываем от смеха.
* * *
Света Марья не зажигала. Она с любовью осматривала свою красную комнату, которую луна и ночные тени сделали черной. Проводила рукой по своим вещам – по парчовому креслу, по кровати с пологом, полной шелковистых длинных мехов, по серебряному письменному столу, по огненному перу жар-птицы, приглушенно светящемуся, будто во сне. Где-то там птица скучает по нему. Внезапно Марья пожалела, что никогда не написала ничего за этим столом – хотя бы письма домой или сестрам при их замужних домашних очагах. Даже стихотворения. Пусть с безнадежно поникшим сердцем, но пальцы ее, ловкие, целеустремленные, нащупали туалетный столик с высоким зеркалом, уставленный баночками, коробочками и щетками, которые Лебедева дарила ей на каждый праздник вместе с каллиграфически подписанными карточками. Эти карточки как раз и отвращали ее от вступления в мир взрослых женщин с их тайными привилегиями.
Марья Моревна легко, будто во сне, села у зеркала. Руки ее запорхали над россыпью косметики, будто она играла на клавесине. Баночки налились цветами, от которых сердце ее воспрянуло, – витки нетронутых кремов цвета бычьей крови, павлиньего хвоста, розовые, будто лапки котенка.
Я должна быть красной, как мясник, как камень ступы, подумала она, перебирая воспоминания о туалете Лебедевой, словно карточки, – как она это делала, движения ее бледных рук, порядок, в каком мавка раскрашивала свое лицо. Сначала тяжелой пуховкой из овчины замести щеки и брови пудрой, точно снегом. Потом подвести глаза. Марья выбрала крошечный резной горшочек с золотым пигментом, как у святых на иконах. Тени наложила серебром, ощущая его прохладную и шелковистую влажность на коже век. Затем она взяла тонкую кисточку из щетины кабана и погрузила ее в алый сердоликовый порошок. Под надбровной дугой провела длинную красную линию, а над веками нарисовала темно-алую тень цвета крови, что собирается на дне сердца. Красный принуждает. Она пощипала щеки и втерла рубиново-бронзовый крем с блестками. Напоследок – в губы и рот, который Волчья Ягода назвал инструментом жизни. Среди полчища губных помад она нашла устрашающий осенний оттенок, подобный пламени умирающих листьев.
Марья осмотрела отражение в зеркале – все еще себя, но уже в полном облачении, повзрослевшую и внушающую страх. Все было не так безупречно, как если бы это сделала Лебедева. Лицо ее получилось слегка исступленным, слегка изнуренным, линии вокруг глаз кривые, цвета казались слишком яркими и недостаточно тонко сочетались, будто все это намалевала трясущимися руками подслеповатая старуха. Марья подняла руки и собрала свои длинные черные волосы в беспощадно тугой узел, такой тугой, что на коже проступили крошечные капли крови от заколок, что его скрепляли. Этой ночью, когда луна на небе висела так высоко и вокруг нее было так тихо, она вспомнила все остальное словно стихотворение, выученное назубок. При свете дня, пересмеиваясь с Наганей, она бы не смогла такого представить. Тяжело обступившая ночь направляла ее, подсказывала выбор. Она подошла к шкафу и вытащила кожаный передник, который остался у нее с того лета, когда Зёма решил, что руки у нее слишком слабые, и учил ее как выковать кочергу для камина из раскаленного пузырящегося железа. Фартук казался очень тяжелым, она сгибалась под его тяжестью, лямки впивались в шею и талию. О, я об этом еще пожалею, подумала она, натягивая свою самую тяжелую черную шубу и застегивая ее поверх передника. В карманы она набрала сухих утиных костей с последнего ужина, остатки которого так и валялись на подносе из слоновой кости. Шею она мазнула ароматической смолой, а потом плеснула на нее же водки из хрустального графина.
Марья Моревна не хотела снова смотреть на себя в зеркало. Она боялась того, что ожидает ее по ту сторону зеркального стекла. Собравшись, она подняла глаза. Как широка ее грудь – это неожиданно; как темны и крепки ее плечи! Как мех ласкает ее бледный подбородок, как сурово выглядят ее волосы и темные губы!
– Я Марья Моревна, дочь двенадцати матерей, и меня невозможно отвергнуть, – прошептала она девушке в зеркале.
* * *
Далеко внизу, на заснеженной улице, нетерпеливо выпуская пар в ночной воздух, ждала красная ступа.
Она втягивала черный воздух и урчала на свой необычный манер. Черный пестик медленно, с удовольствием вращался внутри чаши ступы. А! Запах старых костей и бальзамирующего снадобья моей госпожи! Она запрыгала, возбудившись от ее приближения, протаптывая глубокие круги в снегу. А! Вот она – черная шуба и хлопающий черный фартук моей госпожи! Ступа начала кружиться в предвкушении. А! Вот он кровавый рот, только что покончил с очередным мужем, и это точно моя госпожа!
Тем не менее ступа нерешительно прыгала то вперед, то назад. Она учуяла под старыми костями и пролитой водкой еще и молодость, темная фигура казалась недостаточно крупной, а волосы были черными там, где положено быть седыми.
Темная, закутанная в меха фигура приближалась к озадаченной ступе. Не колеблясь ни секунды, она зарычала и шлепнула ступу по боку.
– Ну-ка, дай взобраться, кривая лоханка! – прорычала она низким и грубым голосом.
Ступа возликовала. Есть у моей госпожи суровая рука и крепкое слово. Она смиренно накренилась на один бок, чтобы ее возлюбленная Яга могла взобраться.
Но, как только всадница взошла, ступа поняла, что это самозванка. Моя госпожа весит больше, чем три пекаря, что сожрали весь свой хлеб! Прочь, прочь, крохотная лгунья!
* * *
Ноги Марьи скользили и подворачивались в закругленной чаше, стараясь найти опору. Ступа кренилась и вертелась, пытаясь выплеснуть ее наружу. Она взлетела в воздух, перевернулась дном вверх и трижды ударилась о снег, но Марья упорно цеплялась за пестик, сцепив зубы, скребя ногтями по гладкому камню ступы, пока не обломала их до крови. Когда ступа перевернулась обратно дном вниз, она оседлала пестик ногами, как ручку от метлы, аккуратно упираясь коленями в ровные канавки, продавленные в стенках ступы коленками Бабы Яги. Камень вскипел, пульсируя, словно в нем бурлила кровь, горячий, как печной бок. Марья Моревна надавила на него коленями, больно обдирая их до кости, но ступа все еще сопротивлялась, стараясь скакать так жестко, чтобы разбить ее голову о стенки каменной чаши.
Марья обхватила пестик одной рукой, крепко сжимая его бедрами, и сунула другую руку в карман. Вытащив сухую утиную ногу, она покатала ею по чаше ступы, чтобы дать почувствовать зверю запах жирной упитанной дичи, а потом изо всех сил зашвырнула ее вдоль по Скороходной улице. Ненасытная ступа подпрыгнула и поскакала вслед, взлетая в воздух и снова приземляясь, оставляя за собой в снегу вереницу широких и глубоких следов, бесконечное многоточие. Пестик между ее ног вздрагивал и вибрировал, мотая Марью вокруг чаши. Боль пронзала черно-белыми вспышками всякий раз, когда ее било о камень, снова и снова раня и без того избитое тело.
– На север, куча дерьма! – прошипела она ступе, ширя свой голос, распуская его на полосы.
Ступа помедлила, опять сбитая с толку ее тоном, который, конечно, не мог сравниться ни шириной, ни нарезкой с голосом настоящей владелицы. Марья Моревна глубоко дышала на пронизывающем холоде. Я не настолько глупа, чтобы не слушать тебя, председатель Яга! Я знаю, в чем тут секрет! Она навалилась на пестик, позволяя ему в ответ сладострастно прижаться к ней, заливая пульсирующим теплом ее живот и ноги. Она терлась костями об этот жезл, вращая бедрами, толкаясь в него, улещивая его. Она еще шире раздвинула ноги, пока не ощутила пестик частью себя, каменной Марьи, неуклюже торчащей из распухшего необузданного лона. Она провернулась на нем так, чтобы жезл указывал на север, и толкнула бедрами вперед. Ступа крутнулась еще раз, от радости, возбужденная ее прикосновением – вот это правильно, это то, что она понимала! – и рванулась на север, через тьму и лед.
Ветер пронзал ее насквозь, выворачивая грудную клетку прямо к усыпанным звездами деревьям. Какое-то дикое наслаждение полоснуло ее: сосновый воздух и ледяной лунный свет, теплый пульсирующий жезл под ней, мягкое шлепанье ступы, скачущей по снегу. Все мелкое зверье в лесу бросилось прочь с дороги от пронзительного смеха Марьи Моревны. Она, как дикарка, без седла скакала верхом на ступе, беспощадно вспарывая ночь, а звездный свет хлестал ее красные щеки.
* * *
Северная граница Буяна проходит по холмистой заснеженной равнине. Земля здесь вовек не видела солнца. Весь год напролет лед громоздится вокруг пары-тройки травинок, которые отважно молятся о приходе света. Однажды лешие построили стену через всю зиму, чтобы северное море знало, что ему тут не рады. Но, как любой камень, которого коснулся леший, стена вздыхала и мечтала, желала большего, чем имела, и все это время молчаливо подрастала. Теперь только археолог мог бы определить, что фиолетово-черный утес с дюжиной козлов, щиплющих невесть что на его вершине, когда-то был стеной, и смог бы разглядеть неясные очертания кирпичей у подножия утеса, различить расщелину пещеры, где когда-то была сторожевая башня. С этой башни однажды кто-то замшелый, с тяжелой, гранитной душой, забил в набат, разнесшийся по долине внизу.
Ступа – совсем не археолог, – только движимая какой-то тупой симпатией к старой стене, как камень к камню, привезла Марью Моревну прямо в пещеру – едва различимую щель в скале, похожую на тонкий треугольник темноты между страницами раскрытой книги, лежащей страницами вниз на белом столе. Ступа трижды топнула по снегу и наклонилась вперед, вывалив Марью на утрамбованный круг плотного снега в середине мягких молчаливых сугробов. Пест провернулся в чаше, урча, вымаливая одобрение. Марья сначала подумала поцеловать его, но поняла, что председатель Яга никогда бы не пожаловала своего зверя такой милостью. Вместо этого она еще раз шлепнула ступу по боку с оттяжкой. Ступа рывком выпрямилась, кружась от восторга.
В расщелину задувало снежинки, три ветра пробрались внутрь, завывая и хрипя. Черный мех Марьи Моревны блестел, побелев от ледышек. Она нырнула в зев пещеры, заполняя каменный чулан паром своего дыхания, чувствуя, как кожа все еще горит от скачки. Потолок нависал низко, сталактиты, как потеки слюны, раскачивались у нее над головой, пол под уклоном уходил вниз, все дальше и дальше в темноту. Как я найду сундук в этой черноте, отчаивалась Марья, шаря руками впереди себя, цепляясь за тени.
– Хару-у, Бабушка! – прорычал кто-то невидимый, там, где Марья не могла достать руками. – Ты чего спотыкаешься, опять напилась?
– Гавуу! – провыл другой хриплый голос. – Однажды у тебя отрастут жабры и ты научишься дышать водкой. Вот тогда мы будем о тебе скучать!
– Гав, гав, – проворчал третий. – Надо тебе посветить зубами. – Сверкнула вспышка фосфора, окрасив пещеру белым и зеленым.
Четыре собаки с огромными, но довольно костлявыми в призрачном свете лапами сидели вокруг Марьи, дружелюбно вывалив языки. Гордая волчица медленно била толстым хвостом об пол пещеры, голодная гончая облизывалась, высокомерная болонка щеголяла гривой курчавой шерсти вокруг морды, а жирная пятнистая овчарка положила голову на два столбика оледеневшей слюны, похожих на длинные толстые клыки. За ними сиял заиндевевший стеклянный сундук.
– Рап, рап! – тявкнула болонка. – Ты сегодня очень неплохо выглядишь, Бабушка! Что такое, куда делись все бородавки? Опять в крови искупалась, будьте уверены. Девственницы или капиталисты в этот раз?
Марья чувствовала, что ее тушь растекается по ресницам, а половина волос выбилась из пучка. Я, должно быть, выгляжу страшной, но этого они и ждут, это им нравится.
– Девственницы, – прорычала она.
Овчарка навалилась на столбики слюны, которые задрожали под ее тяжестью.
– Гав, гав! Твой голос такой сильный и громкий, Бабушка! В прошлый раз ты скрипела так, будто проглотила шесть ножей! Как тебе удалось так смягчить его?
Марья прикусила губу.
– Я, э-э-э, я выпила душу певчей птички, – пролаяла она. – Просто расколола ее маленькую грудь и высосала всю песню, как мозг из кости! – Через мгновение добавила: – Да и не ваше это собачье дело!
– Харууу, Бабушка! – провыла волчица с круглыми хитрыми глазами. – Кожа твоя такая мягкая и гладкая! Когда ты приходила в прошлый раз, она была как смятая бумага. Как это ты ее разгладила?
– Жена товарища Сталина ребенка кормит, – прошипела Марья, входя во вкус своего представления. Она сплюнула на пол пещеры для пущей убедительности. – Я пробралась в ее комнату ночью и доила ее сиськи, пока не надоила целую ванну, чтобы искупаться в ее молоке и втереть его в мою кожу как ночной крем! Эта корова так измучилась, что едва ходить могла наутро. – И еще через мгновение добавила: – Сука ты старая да паршивая!
– Гахууу, – выдохнула гончая с ребрами, торчащими, как струны балалайки. – Ты так вкусно пахнешь, Бабушка! Когда ты приходила в прошлый раз, ты пахла смертью и гнилыми зубами! – Гончая глубоко втянула воздух: – А сейчас я чувствую цветущие апельсины и свежую кровь под обычным букетом старых утиных костей и мирры. Как это ты себя почистила?
Марья крепко сжала кулаки в карманах. Она вытягивала свои выдумки как пряжу:
– Я нашла старого торговца духами, который толкал свою тележку в Одессу. После того как я прокатилась на нем по лесу, я смела все его флакончики и разбила их об свой лоб, по одному на каждый глоток водки, что нашлась у него в запасе! – Еще через мгновение она добавила: – Сдох он, прикончила я его!
Собаки, казалось, сомневались. Столбики слюны покачивались от воды, капающей на животных с каменного потолка. Наконец волчица пожала мохнатыми плечами:
– Харуу, бабушка. Что же привело тебя сегодня в наш дом? Если ты голодна, у нас закипает вкусный суп на крови, если Гниль его еще не вылакала.
Гончая потянулась и куснула волчицу за ухо:
– Я тебе говорила, чтобы ты не упоминала моего имени? Никто не должен знать!
Волчица закатила желтые глаза, которые в фосфорном сиянии сверкали, как костяные пуговки.
– Это наша бабушка, Гниль. Она знает наши имена. К тому же она никогда не навредит нашему Папе! Если только он действительно этого не заслужит – тогда конечно.
– Ладно, Горечь, – огрызнулась гончая, – не говорить – значит не говорить, а то уже новорожденные щенки это знают.
– Рап, рап! Я никогда не скажу своего имени, – протявкала болонка, облизывая лапы. – Когда Папа придет похвалить нас, он будет знать, что я хорошо себя вела, а вы все негодные, злые дворняги. Он похлопает меня по голове и даст печенья.
Овчарка засмеялась. От колыхания свалявшейся шерсти на ее груди столбики слюны задрожали. Челюсти расплылись и отвисли.
– Она наша бабушка, Гадость, неблагодарная ты подлиза! Посмотрим, принесет ли она тебе подарок на Новый год!
Болонка пискнула от возмущения при звуке своего имени. Овчарка смотрела на Марью с откровенным собачьим обожанием:
– Ты возьмешь меня снова покататься в этом году? Я помню, как ветер хлестал меня по щекам!
– Харууу, Голодная, это ты подхалим! Она тебя обзывала пьяной каргой, Бабушка! Я точно слышала, с неделю тому назад, – доверительно пропела волчица.
– А я сказала, что она не рассердится! Правда же, Бабушка? Я пела застольную песню в твою честь! «Пьяная карга» рифмуется с «сердце врага»!
– Ты и твои песни! – хихикнула болонка Гадость. – Звезда московской сцены, куда там!
Голодная соскочила со своих столбиков слюны и с рычанием напала на Гадость.
Марья смотрела, как они дрались. Она не могла поверить своей удаче – они побросали все свои имена к ней на колени, как игрушки. Но если это собаки Кощея, тогда в этом сияющем стеклянном сундуке покоится его смерть. Председатель Яга наверняка хотела, чтобы она украла ее и вернулась в Черносвят с триумфом, только чтобы выставить ее как неверующую Елену, которая хочет уничтожить его. И все же, если она вернется без того, за чем пришла, Яга сожрет ее, и что тогда толку от ее невиновности? В животе у Марьи заныло. Собаки возились у ее ног, кровь капала из обеих глоток.
– Гадость, – шепнула она, протягивая руки, – Голодная, мир.
Обе собаки замерли, выкатив белки глаз. Они повернулись, чтобы посмотреть на нее. Во взорах искрилось осознание предательства. Две собаки упали замертво. Гадость свернулась окоченевшим трупиком на необъятной пятнистой груди Голодной.
Царственная волчица прыгнула на нее, брызгая слюной.
– Ты никакая не бабушка! – выхаркнула она.
– Горечь, Гниль! – в страхе прокричала Марья – и волчица упала, околев в прыжке, тяжело ударившись о пол пещеры, хрустя костями.
Гончая умерла тихо, свернувшись тесным клубком, думая о своем, будто она всегда ожидала, что умрет именно так.
Сундук мягко сиял в кольце мертвых собак. Марья опустилась перед ним на колени и откинула скользкие застежки.
Крышка отскочила со звоном сломанного льда.
Внутри лежало яйцо, обернутое в черный шелк. Простое куриное яйцо, округлое, коричневое, с верхушкой, усыпанной пятнышками.
Глава 13. Царь Жизни и Царь Смерти
Марья Моревна хотела бегом пересечь тронный зал и положить голову на колени Кощея, рассказать ему обо всем, что выстрадала, услышать его уверения и понятные объяснения про девушек на фабрике, в которые не будет входить слово «Елена». Но он неподвижно сидел на троне из костей и оникса, подперев подбородок руками. Он не смотрел на нее. Те же карты и планы покрывали огромный стол, а Кощей глядел так сердито, что стены прогибались от его взгляда, будто стремясь убежать от его гнева. Он и глазом не повел, когда открылась высокая черная дверь и в зал протопала Баба Яга, волоча за собой, как боевое знамя, сизый след от сигарки. С развевающимися полами шубы она прошествовала к трону Кощея и сочно поцеловала его в губы, жадно захватив его рот своим. Кощей повернул голову и поцеловал ее в ответ. Марья была слишком измучена, чтобы ахнуть или закричать от удивления. Просто ее глаза наполнились слезами, и она захотела исчезнуть.
– Не делай такой удивленный вид, супчик! – засмеялась председатель Яга, причмокивая. – Он же тоже мой бывший, девятый кажется, сотни лет тому назад. Это только справедливо, если я потискаю твоего хахаля, – моя ступа в полуобмороке от твоей жесткой скачки и от соков другой госпожи на ее пестике, бедная зверюга совершенно сбита с толку.
– Ты же сказала, что он твой брат, – бесчувственно произнесла Марья с пылающим лицом. От вида этой парочки сердце ее ухнуло в пропасть.
– Черти, детка, демоны. Нам-то что за дело? Когда живешь вечно, рано или поздно все попробуешь, как оно там будет. – Яга нежно погладила Кощея по щеке тыльной стороной ладони. – Он единственный, кого я не могла съесть. – Кощей смутно улыбнулся. Карга спрыгнула с черного постамента трона и подошла к Марье, дохнув на нее старостью и затхлостью. Она осмотрела шубу Марьи, ее кожаный фартук, ее грим. – Задания даю я, потому что знаю, что это такое – жениться на змее, знаю, о чем речь. – Она сжала потрескавшиеся губы. – Очень мне твоя шуба нравится, Марья.
– Я выполнила ваши задания, председатель Яга.
– Вот как? Ну давай посмотрим.
Марья вытащила яйцо оттуда, где его хранила, поближе к сердцу, теплое и целое. Кощей зашипел, втягивая воздух сквозь зубы.
– А я тебе говорила, братец. Такая же, как все. От нее смерть примешь.
Председатель Яга покрутила яйцо своей мозолистой рукой, сломала скорлупу и выпила содержимое, запачкав зубы желтком.
Марья в ужасе закричала. Это что, правда его смерть была? Выглядит как простое яйцо.
– Нет! Нельзя так, я сделала все, что ты просила.
Баба Яга облизнулась:
– Она права! Можешь ее оставить, если все еще хочешь, Костя. Я благословлю двумя руками. Она пронырливая, лживая, вороватая убийца собак, и выглядит совсем как я! Я ей даже приданое дам.
Старуха удовлетворенно шлепнулась на заваленный картами стол, затушив сигарку о набросок местности.
По лицу Марьи текли горючие слезы:
– Я не знала, куда она меня посылает. Я не знала, что там будут собаки…
– Но когда прибыла, то убила собак и забрала яйцо, – подчеркнула Баба Яга, – точно зная, что творишь. Мой бедный несчастный братик вырастил собачек из щенков.
– Кощей, скажи что-нибудь! – взмолилась Марья. – Почему ты со мной не говоришь?
– А что мне сказать? – тихо ответил Кощей мрачным скрежещущим голосом. – Ясно же, что в яйце не было моей смерти, раз сестрица им перекусила. Зачем бы я вообще стал тебе говорить, где я его прячу? Конечно, ты должна была отправиться за ним. Ты не могла не пойти. Скажи девушке какой-нибудь секрет, и ничто ее не остановит, пока она все не разнюхает.
– Ты меня обманывал.
Она и правда так думала. Яйцо, Елены. Ее оскорбленное девичество. Да все.
Лицо Кощея не выдавало совсем никаких чувств.
– И не без веской причины, как видишь.
– Ты не можешь осуждать меня за предательство, раз она все подстроила, а ты сам лгал мне, и не только об яйце.
Кощей в изумлении склонил голову набок, как черная птица. Он поднялся, пересек комнату и крепко обхватил ее подбородок своими длинными пальцами:
– Разве я осуждаю тебя, Марья Моревна? Называю тебя предательницей?
Марья горько плакала, плакала некрасиво, разбито, с перекошенными чертами лица. Когда слезы натекали на ее шрам, они шипели и обжигали.
– Ты бросил меня одну выполнять все эти ужасные задания, не повидав тебя, не поговорив с тобой. Я видела фабрику, но не могла спросить у тебя, как ты можешь удерживать всех этих девушек и что бы ты сделал со мной, если бы я тебе не повиновалась.
Кощей изучал ее лицо, поводя черными глазами.
– Ну разумеется, я оставил тебя одну. Приготовления к свадьбе – вотчина невест. Мне что, следовало, как отцу родному, смотреть за тобой, чтобы все, что ты делаешь, было не твоим выбором, а моим? Мне нет нужды доказывать, на что я гожусь.
Марья вырвала подбородок из его рук:
– А мне что доказывать? Это тебе следовало оказаться в объятиях Змея Горыныча, доказывая, что ты не монстр, что достоин меня!
– А разве я еще не доказал? Разве я не забрал тебя из твоего голодающего города, разве не кормил тебя, не наряжал тебя, не учил тебя как слушать и как говорить, не привел тебя сюда, где ты – хозяйка, обожаемая и боготворимая царевна, не занимался с тобой любовью, не усыпал твое тело бриллиантами? Разве я не дал за тебя приданое? Разве не стоял перед тобой на колене, предлагая царство и руку? Что касается тех девушек, они – мои, и это должно внушать тебе страх. Страшить тебя настолько, чтобы ты лепетала и молчала у моих ног, как побитая собака, которая знает, что ее ждет. А ты кричишь на меня, и вырываешься из моих рук, и называешь меня недостойным. Ты являешься ко мне одетая как моя сестра, с моей смертью в кармане. Неважно, что на самом деле это не смерть. Ты так думала. Почему ты так себя ведешь, зная, что все эти девушки там в этот самый момент работают до упаду, обшивают мою армию?
Кощей заключил ее в объятия и прижал к себе. Марья закрыла глаза, прислонившись к нему, к своему любовнику, к своей погибели, своей жизни. И она боялась всего того, чем он еще мог оказаться.
– Я скажу тебе, почему. Потому, что ты – демон, такой же, как и я. И тебе не так уж важно, страдали те девушки или нет, потому что ты хочешь только то, чего сама хочешь. Ты убьешь собак, и затравишь старуху в лесу, и предашь любую живую душу, если это потребуется, чтобы получить желаемое, и поэтому ты – злая, поэтому ты – грешница, поэтому ты – моя жена.
Нет. Мне важно. Я добьюсь чего хочу любыми способами, и того, чего хотят те девушки на фабрике – тоже. Ты, по большей части, прав, любовь моя. Но все еще ошибаешься. Сказать ничего из этого она не могла, но сохранила все внутри, где оно не просится быть сказанным.
Баба Яга отжевала кончик ногтя на большом пальце и сплюнула его.
– Ты знаешь, что она лешего целовала? И не просто невинным поцелуем. Язык высовывала и грязь его на вкус пробовала.
Кощей оттолкнул Марью и холодно на нее посмотрел:
– Это правда?
– Да.
За это ей было не стыдно.
Кощей улыбнулся. Его бледные губы нашли ее и впились смертельным поцелуем. Она чувствовала в нем сладость, будто он целовал ее с медом и сахаром на языке. Когда он оторвался от нее, глаза его блестели:
– Мне все равно, Марья Моревна. Целуйся с ним. Возьми его с собой в постель, и мавку заодно, мне все едино. Ты меня понимаешь, жена? Между нами не должно быть никаких правил. Давай оба будем жадными, давай копить. Давай лупить друг друга березовыми вениками и запирать друг друга в пещерах. Давай пить кровь друг друга по ночам и предавать друг друга при свете дня. Давай лгать, блудить и заводить сотни любовников. Давай танцевать, пока лед между нами не растает. Давай красть и жрать, пока не разжиреем, и купаться в радостях жизни, опираясь друг на друга. Только смерть мою мне оставь – позволь сохранить эту святыню нетронутой тайной, – и я подам тебе себя на обед на блюде со всеми чудесами мира. Только не покидай меня, поклянись, что никогда не покинешь, и ни одна императрица не будет выше тебя. Забудь про девушек на фабрике. Будь себялюбивой, жестокой, не думай о них. Я себялюбив. Я жесток. Моя пара не может быть другой. Ты будешь моим златом, Марья Моревна, моим черным зеркалом.
Марья дрожала. Она чувствовала, что внутри нее что-то сорвалось и унеслось, как пепел. Она потянулась к нему и сжала его челюсть рукой, впившись ногтями в холодную плоть. Она разыграет свой гамбит: это все, что ей осталось.
– Если хочешь меня, Кощей Бессмертный, скажи мне, где твоя смерть. Между нами не должно быть лжи. Мы можем лгать всему остальному миру и охотиться с выпущенными когтями, но только не друг на друга. Это будет честно – ты знаешь, где моя смерть: на кончике твоего ножа, или в твоих сцепленных на горле пальцах, или в кубке с ядом. Докажи, что можешь покоиться в моей руке, как цыпленок, маленький и слабенький, зная, что я могу раздавить тебя, если захочу, но также зная, что я никогда этого не захочу. Ты должен мне это, за всех этих Елен и Василис, и их самих ты мне тоже должен.
Какое-то время Кощей молчал. Его бесстрастное лицо неподвижно застыло над ней.
– Не делай этого, брат, – вздохнула Баба Яга.
– Мою смерть хранит мясник в Ташкенте, – наконец сказал он. – Я оставил ее на его попечение, когда пошел за тобой. Она на конце иглы, что внутри яйца, что внутри утки, что внутри кошки, что внутри гуся, что внутри собаки, что внутри козы, что внутри коровы, а корова живет у мясника, очень любимая им и его детьми. Его сыновья ездят верхом на корове, в которой моя смерть, и лупят ее по холке.
Марья крепко поцеловала его, будто вытягивала из него правду, и мех ее шубы касался его подбородка.
Председатель Яга уселась обратно в кресло, закурила новую сигару и сплюнула.
– Думаю, что кто-то назвал бы это клятвами верности, – проворчала она, но при этом карга улыбалась, показывая коричневые зубы, все еще испачканные золотистым желтком. – У меня от свадеб несварение.
В комнате без окон поднялся холодный ветер. Он набирал силу, ходя по кругу, как скаковая лошадь, кружась и кружась, вороша карты и планы, вызывая мурашки на коже, дуя сильнее и быстрее, пока не завыл, набросившись на Марью Моревну, на Кощея и на Бабу Ягу без разбора, хватая их за одежду, волосы, сбивая дыхание. Кощей поднял руки, чтобы загородить свою новую жену. Баба Яга закатила глаза.
– Черт, – сказала она коротко, и ветер прекратился, оставив вместо себя белое молчание.
В комнате стоял некто, кого раньше не было. Его черные волосы спадали до пола. На нем была длинная серая ряса, а грудь сияла россыпью серебряного света, похожей на звезду. Веки его, такие длинные, что покрывали все тело, как епитрахиль, ресницами мели по полу. Он выставил вперед руки, протянув к ним длинные бесцветные пальцы.
– Поздравляю с бракосочетанием, брат, – проскрежетал он. Голос прозвучал издалека, будто слышался сквозь тройное стекло. – Я бы принес подарки, если бы пригласили, скота пригнал бы, перестрелку прекратили бы. – Он разгладил веки, словно лацканы.
– Но тебя не приглашали, Вий, – отрезала Баба Яга. – Потому что гость из тебя никакой. Ты, как водится, то все очаги затушишь, а то всех танцующих девушек превратишь в скелеты, когда никто еще и не разглядел их толком. Зачем тебя приглашать?
– Затем, что я прихожу на все свадьбы, Ночь, – промурлыкал Вий. – Смерть стоит за каждой невестой и каждым женихом. Даже когда они приносят свои клятвы, цветы вянут в их венках, волосы гниют на их головах. Рак, который они обнаружат только через тридцать лет, начинает медленно расти, уже поселившись в их желудках. Красота невесты начинает чернеть по краям, как только обручальное кольцо скользнет на ее палец. Сила жениха начинает убывать бесконечно малыми кусочками, когда он ее целует. Если прислушаетесь в церкви, услышите, как тихо тикают мои часы, медленно подвигая всех к могиле. Я держу их за руки, когда они гордо идут по очень короткой дороге к маразму и смерти. Все это так мило, до слез. Позволь мне расцеловать невесту в обе щеки, Жизнь. Позволь ощутить ее горячую кровь сквозь холодные веки.
– Она не про тебя, мой брат, – сказал Кощей.
– О? Так ты ее смерть тоже убрал, получается? Я помню, как ты это сделал со своей, фи, ну что за дрянь! – Марья заметила, что глазные яблоки под закрытыми веками повернулись к ней.
– Ну конечно нет, правда же, дитя? Я вижу, что смерть твоя расползается у тебя по груди, как грибы.
Рука Марьи невольно дотронулась до груди, пытаясь нащупать невидимые плоды смерти. Вий медленно протянул к ней пальцы, будто двигаясь под водой. Между грудей она почувствовала булавочный укол – не больно, но она будто попала на крючок, вся целиком, и теперь она знала, что Вий может двигать ею, когда пожелает. Он поймал ее за сердце, или за ее смерть, или за то и другое, и она трепетала под пряданием его пальцев в темном воздухе.
Марья и не думала никогда просить, чтобы из нее выдавили ее смерть. Просто не догадалась. Она старалась не двигаться, не поддаваться, но ее туловище корчилось и трепетало. Вий опустил руку и потряс отвратительной головой:
– Ничего личного. Ни для кого больше наш брат не вынимает свой скальпель. Только он живет вечно. Все прочие, так или иначе, – для меня. И Жизнь, этот старый тиран, знает, как обильна сейчас моя земля. Столько белых цветов. Столько мертвых после семнадцатого года. Насколько больше нас, чем вас. Скоро уже вам негде будет ступить, без того чтобы мои люди не заполонили все вокруг, не слизывали ваш пот, не впитывали ваше тепло. Так что, может, я все же приду на вашу свадьбу, девушка, а? Может, это я буду держать твой венец у серебряного алтаря, надевать каменное кольцо на тень твоего пальца, упиваться призраком твоей девственности. Я бы мог сражаться на поле битвы твоего живота. Мы могли бы поделить тебя, как землю, – между ним и мной.
Баба Яга почесала свою заплетенную бровь:
– Так как же ты умудрился нарушить уговор, Вий? Тебе нельзя в Буян, ты это знаешь. Есть между нами и двери, и собаки. Эти милые семейные сборища так неловки! В одной комнате сразу трое наших! Такого не случалось с… хм, я полагаю, со времен падения Константинополя. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы держать тебя на отшибе, старый скелет. Это ранит, когда ты вот так вот игнорируешь наши желания. Конечно, старшие дети всегда доверху набиты собственными соплями.
Вий посмотрел на нее со странным выражением – что-то вроде любви и заботы, подумала Марья.
– А что будет с твоим скелетом, Ночка? Он тоже мне достанется, еще до конца столетия. Мы все будем вместе, одна семья, с одной главой.
Краешки улыбки Вия скрывались под его веками.
– Разрыв-трава, – прошипел он со злобным удовлетворением, – отпирает все замки. Как предусмотрительно было со стороны Марьи пойти и добыть ее для нас! Нет дурнее новобрачной, как говорится в старой сказке. И было это совсем нетрудно – послать солдат через границу по следу ее вонючего, гремящего и вопящего сердца, стащить ее с лошади, чтобы она не могла видеть, как мы вынюхиваем там же, где берданка. Двери Царства Жизни стоят открытыми, и даже сейчас мои товарищи вливаются, как вода, чтобы отпраздновать вашу свадьбу и принести наши дары к вашему порогу. Надеюсь, они вам понравятся. Мы теперь семья все-таки, Марья Моревна.
Вий учтиво поклонился, наморщив длинные веки. Прежде чем кто-либо успел слово молвить, он перегнулся в талии, сложился в огромного белого альбатроса и медленно выплыл на крыльях из двери вниз по черной лестнице. Марья оторвалась от своего новоиспеченного мужа и метнулась за Царем Смерти, следуя за бледно светящимся хвостовым оперением птицы, пока она с печальным одиноким кличем не выпорхнула через огромные резные ворота.
Перед Марьей протянулась Скороходная улица, усеянная серебром, как пролитой краской. Где бы серебро ни легло, оно шевелилось, въедаясь в камень до тех пор, пока он не испарялся. Пехотинцы с серебряными брызгами на груди маршировали вдоль домов, выбивая окна прикладами винтовок, окликая еле слышными голосами тех, кто внутри, протыкая штыками стены таверны, пока те не начинали кровоточить. Отовсюду неслись звуки битого стекла.
У задней стены кафе для волшебников, заваленные бледными цветами и лентами, как подношениями, стояли, прислонившись друг к другу, Землеед с грязью, вытекающей из расщелины в голове, Наганя с вбитой внутрь железной челюстью и Мадам Лебедева с аккуратным пулевым отверстием, расплывающимся на месте сердца. Глаза ее были подведены красным, разумеется, под цвет крови. Их темные взоры были обращены к рассвету, но не видели ничего.
Часть 3. Иванушка
А за ней в шинели и каске Ты, вошедший сюда без маски, Ты, Иванушка древней сказки, Что тебя сегодня томит? Сколько горечи в каждом слове, Сколько мрака в твоей любови, И зачем эта струйка крови Бередит лепесток ланит?Анна Ахматова
Глава 14. Все эти мертвые
Однажды осенью, когда в воздухе висел толстый золотистый дым костров, а снег уже трогал ветер белыми пальцами, молодой офицер шел по длинной узкой дороге и курил длинную узкую папиросу. Курил он с охотой, не торопясь, с удовольствием втягивая дым. Табаку не хватало, ему выдавали папиросы с оскудевшим офицерским пайком. Курить такой табак – все равно что курить чистое золото. Глядя, как холодное солнце пронизывает дым папиросы, расщепляясь на райские лучи света, он ежился от удовольствия. Башмаки его хрустели по мерзлой дорожной грязи, и это ему тоже нравилось: четкий ясный звук шагов по широколиственному лесу, тепло шерстяной шинели и меховой шапки, как все удачно сложилось – папироса, мерзлая земля, желтые листья и он сам – Иван Николаевич, для которого утро складывалось как нельзя лучше.
В этот день Иван отведал не только табаку, но и масла. Воспоминание о том, как нож скреб по корочке жареного хлеба, оставляя блестящий соленый след, возбуждало его. Масло казалось ему уже чем-то волшебным, наградой из сказки, как перо жар-птицы. Но кровь его до сих пор бежала быстрее при воспоминании о полоске жира на куске хлеба. Он чувствовал, как крепка его кость, как велики его ноги, способные перемахнуть через три речки сразу. Вот в прошлую субботу, скажем, на добровольной трудовой повинности он собрал больше яблок, чем любой из городских мальчишек, этих умников-очкариков, студентов с жидкими волосами. Приятное гудение мускулов и вкус одного украденного яблока, твердого и сладкого, все еще туманили ему голову, как светлое пиво. Что ему было делать с избытком хорошего настроения и огромных ног? Иван Николаевич воспользовался драгоценным перерывом на обед, чтобы погулять по березовому лесу за забором лагеря.
Так вот размашисто и шагал Иван по первым опавшим листьям, делая крохотные затяжки, чтобы папироса подольше не кончалась. Но приятность папиросы отчасти и в том, что она быстро сгорает. Молодой офицер, набрав полную грудь ароматного дыма, с сожалением растоптал крохотный окурок о морозную землю.
В нескольких метрах от себя, под ярким навесом золотистых листьев, Иван Николаевич увидел мужскую руку. Серые от грязи пальцы начинали синеть. Рука все еще цеплялась за горсть ночного снега. Иван не двинулся с места, но глазами проследил за рукой, от запястья к локтю, до плеча, и, наконец, увидел лицо мертвеца, лежащего в лесу с пустыми незрячими глазами, со ртом, открытым так, будто он забыл, что хотел сказать. Это был нерусский – Иван сразу это понял. Голову мужчины охватывал алый платок в блестках, несколько стальных сережек украшали левое, наполовину срезанное ухо. Одежда сверкала узорами, башмаки из странной промасленной зеленой кожи сияли. Кроме этого, он все еще, уже мертвый, сжимал свою винтовку, а Иван Николаевич знал, что русские мертвецы никогда не остаются с винтовками надолго. Еще Иван знал, что должен вернуться в лагерь, чтобы доложить о найденном в лесу мертвом иностранце. Вместо этого он сделал еще несколько шагов и толкнул труп ногой.
«Может, его ботинки мне впору», – подумал Иван Николаевич. Он уже чувствовал, как удобно в них будет его натертым ногам. Русские покойники и ботинок своих не могут сохранить надолго. «Вот уж везет так везет мне сегодня! Масло, добрый перекур и новые ботинки!» Однако за покойником обнаружилась еще одна поднятая кверху рука, забрызганная кровью, – женская. Иван задрожал и засунул руки поглубже в карманы. Лучше не трогать их. Все равно никогда не объяснишь товарищам, что за цвет у ботинок. Тем не менее он подвинулся еще немного вперед и постарался разглядеть из-за стройной березки лицо мертвой женщины со щеками, поклеванными птицами, и без одного глаза. На ней тоже был нелепый платок, только желтый, как листья, а на лбу торчали маленькие рожки, как у козленка. Иван присвистнул сквозь зубы и перекрестился. Креститься – дурная привычка, но бросить трудно, все равно что перестать грызть ногти.
Он углубился в лес по следу набросанных, будто хлебные крошки, мертвецов. Иногда сразу несколько лежали кругом, спина к спине, павшие, защищая себя. Иногда они умирали в одиночку. Иногда у них были рога, как у женщины в желтом галстуке. Иногда у них были хвосты. Иногда они не сильно отличались от самого Ивана. Тут и там мерзлая земля блестела брызгами чего-то страшного, вроде серебряной краски. Их было так много. Ивана начинало подташнивать, и он успел пожалеть драгоценное съеденное масло, но не останавливался. Как могла большая битва случиться так близко от их лагеря, чтобы ни один часовой выстрелом не поднял тревогу? Ветер трепал полы его серой шинели. Он очень хотел выкурить еще одну папиросу, чтобы успокоиться.
Наконец лес расступился, открывая глубокую каменистую лощину, покрытую коричневыми листьями. С губ Ивана Николаевича сорвался крик ужаса, и он упал на колени. Землю усеяли тысячи мертвецов с запрокинутыми руками, слепыми пустыми глазами, в красивых одеждах, трепетавших на легком ветру. Громко крикнув над головой, спланировал вниз сорокопут, впился в глазницу покойника и задергал маленькой черной головой, чтобы вырвать глаз. Земля пропиталась крупными сгустками серебряной краски. Она же покрывала грудь многих бойцов. Краска ничем не пахла. Сами мертвецы тоже не пахли. На дальнем гребне лощины стояла палатка из черного брезента. Над ней туго полоскались под низкими облаками длинные узкие флаги красно-бело-золотой расцветки.
Иван закричал навстречу ветру:
– Есть кто живой тут, пусть отзовется! Кто поразил эту огромную армию?
Один из солдат неподалеку закашлял, выдувая пузыри крови из уголков рта. Иван Николаевич поспешил к нему и напоил водой из своей фляжки. Но вода только лилась по его лицу, и оно намокало, темнея, будто шелк. Солдат хрипло втянул воздух, и в уголках его губ лопнули нитки. Иван отпрянул.
– Все эти мертвые – солдаты Марьи Моревны, заморской королевы.
После этого солдат умер, с именем этим на протертых до нитки губах.
Иван побрел к палатке, спотыкаясь о тела, прижимая шапку к голове. Он кулаком смахивал слезы с глаз, взбираясь, как горовосходитель, по их галстукам, их серебряным блесткам, по их идеальным ботинкам. «Не смотреть вниз. Не смотреть вниз».
Часовых у палатки не поставили. Иван Николаевич подскочил, когда краешком глаза заметил движение чего-то серебряно-белого. Когда он повернулся, то увидел лишь еще больше павших мертвецов, еще больше павших листьев. Палатка затрепетала.
– Хр-р-р-р, – захрипело что-то, но не палатка и не солдат.
Иван резко обернулся. Что-то тяжело ступало по обломкам и мусору, переваливаясь из стороны в сторону, то на скрюченный локоть, то на вывернутую ногу. Иван не мог понять – мужчина это или женщина, – голова пряталась в глубине темных сгорбленных волосатых плеч, а при ходьбе существо скрипело, как флюгер. Ивану отчаянно хотелось убежать, двигая крепкими ногами, перемахивая по три речки сразу. Вместо этого он ждал с замиранием сердца, когда существо переступит через костлявый труп и вытащит голову, спрятанную на груди.
У существа оказалось женское лицо, да такое юное и прекрасное, что у обмершего Ивана Николаевича, пораженного силой его взора, закололо вернувшуюся к жизни кожу. Совершенные арки ее бровей обрамляли горящие сине-фиолетовые глаза, а губы приоткрывались, как у невесты, ждущей поцелуя. Однако темные волосы ее свалялись и спутались, как у медведя, и одежды на ней никакой не было, кроме перепачканных перьев, больше похожих на шерсть, чем на пух, висящих клочками от огромных квадратных костлявых плеч до самых трехпалых, как у ящерицы, ног с птичьими когтями, скребущими мерзлую землю.
– Вот уж повезло мне так повезло, – пролаяла она, брызгая слюной. – Масло, добрый перекур и новые ботинки!
Женщина-птица усмехнулась, будто удачно пошутила. Когда ее прекрасный рот приоткрылся, Иван заметил, что у нее только три зуба, спрятанных в рахитично-белых деснах. Она выгнула спину, и плечи ее развернулись в пару полуголых крыльев. Она взмахнула ими дважды и трижды, пока не успокоилась и снова не сложила их на спине. Иван еще раз перекрестился.
– Юноша, ну что это такое? Тебе уже пора покончить с Богом. Воздень руки и обзови Его по-всякому, ну правда. Накидай кирпичей в окна Его дома! Лично я ничего не имею против опиума или народа, но с вас Его уже достаточно. Пора поквитаться.
Женщина-птица широко открыла рот и снова пронзительно крикнула.
– Ты дьявол! – вскричал Иван Николаевич.
– Ловко подмечено.
Иван постарался замедлить дыхание. Холод пронзил его горло.
– Бога нет только тогда, когда черта тоже нет, – прошептал он. – Иначе конец игре.
Она приподняла одну ногу, опустила ее, потом другую, раскачиваясь туда-сюда.
– Конец так конец, Иван Николаевич.
– Откуда ты знаешь мое имя?
– А ты знаешь, что всякий раз, когда я разговариваю с людьми, меня это спрашивают? Это даже приятно. Даже симпатично, как вы на меня смотрите вот такими большими глазами. Я – Гамаюн, юноша. Я знаю имя каждого. Но если бы я даже не знала, вас вечно зовут Иванами Николаевичами. Даже неудобно, будто я заранее знаю ответ. Так же легко, как достать яйцо из твоего уха.
В Бога Иван не верил. Не так, как он верил в завтрак, в масло или в сигареты. Его угораздило родиться до революции и быть крещеным, поэтому он был подвержен прискорбным порывам то и дело перекреститься. Но Иван знал, что религиозные догмы служат только гнету трудящихся. Он гордился своими ясными убеждениями, современными взглядами, свободными от всех этих пустых, якобы святых заветов.
Иван Николаевич не верил в Бога, но он верил в птицу Гамаюн. Его мать перестала читать ему Библию, как положено всякой хорошей матери, но не перестала читать ему сказки у печки по вечерам, когда в темноте за окном пряталась зима. Иван не помнил, чтобы она говорила: «Отче наш иже еси на небеси», но он пронзительно ясно помнил ее лицо в свете лучины, когда она шептала: «Гамаюн ест из плошки прошлого, настоящего и будущего, из плошки, где мой Иванушка младенец, и крепкий юноша, и старик с внуками. Вот она идет, совсем как птица, да только не птица, скрип, скрип, скрип».
– Да ты меня знаешь, а? – ухмыльнулась Гамаюн. – Это хорошо. Я тоже много кого знаю, и у меня есть гарантии правительства. Если бы Христос вернулся на золотом облаке, они бы арестовали его прямо на месте, а меня бы не тронули. Есть свои пределы и у революции.
Холодные липкие ладони Ивана окоченели в сжатых кулаках. Как ему все это описать в ежедневном рапорте?
– Кто в этой палатке, Гамаюн?
– Пойди да найди. Ты все равно это сделаешь. Не может все воротиться, пока не случится. А затем все и начнется, как мотор, завертится, закружится, пока все не загорится.
– Я не понимаю, – прошептал он.
Гамаюн проковыляла к нему поближе, раскачивая головой на массивных плечах. Она примостилась на животе у мертвого солдата, ломая весом его ребра, выдирая когтями лоскутья из его рубашки винного цвета.
– Садись, Иван Николаевич. Я собираюсь рассказать тебе все, что с тобой случится. Ну давай уже, двигай коленями, вспомни, как они сгибаются.
Прекрасное лицо Гамаюн выглядывало из мешанины птичьего тела. Шея вытягивалась и гнулась, как у лебедя, но была толще и увита толстыми жилами-веревками.
Иван сел на траву, стараясь не осквернить какого-нибудь несчастного мертвеца.
– Зачем тебе творить весь этот ужас? – спросил Иван.
– Потому что мое дело обеспечить, чтобы все, что происходит, происходило так, как оно происходит.
– Так оно же все и так происходит, само собой?
Гамаюн склонила голову набок. Глаза ее засияли:
– О, Иванушка, не само по себе. Вспомни, как твоя матушка рассказывала тебе сказки у печки. Ты их слышал сотни раз. Джек вечно карабкается по бобовому стеблю. Добрыня Никитич вечно едет в Сарацинские горы. Финист Ясный Сокол всегда женится на купеческой дочке. Ты знал, чем все закончится, но ты все еще хотел слушать, как мать тебе читает, изображая добрым голосом, как страшно рычит волк. Если бы она рассказывала их по-другому, то в них все не происходило бы так, как уже произошло. И все же она должна была их рассказывать, чтобы сказка продолжалась. Чтобы она сказывалась так, как сказывается. То же самое и со мной. Я знаю все истории. Бояре всегда бреют свои бороды. В Церкви всегда случается раскол. Украина вечно вянет на поганом ветру. Но я все еще хочу слышать, как мир рассказывает эти истории, как только он и может рассказать. Я хочу дрожать, когда мир изображает волка. Все это еще должно случаться, чтобы случиться. Ты уже вошел в ту палатку. Ты уже расстался с ней. Ты уже потерял ее. Ты бы мог рассказать свою историю по-другому в этот раз, я полагаю. Но ты не расскажешь. Тебя всегда будут звать Иван Николаевич. Ты всегда будешь входить в эту палатку. Ты будешь видеть ее шрам под глазом все на том же месте и гадать, где она его заполучила. Ты всегда будешь дивиться, как у одной женщины может быть столько черных волос. И ты всегда будешь влюбляться, да так быстро, будто тебе по горлу полоснули. Ты всегда будешь убегать с ней. Ты вечно будешь терять ее. Ты всегда будешь дураком. Ты вечно будешь мертвым в ледяном городе, а снег будет падать на твое ухо. Ты все это уже сделал и сделаешь это снова. Я здесь только для того, чтобы удостовериться, что все так и случилось.
– Ты меня пугаешь.
И в самом деле, каждая клеточка его тела вибрировала от присутствия Гамаюн, от давления ее слов, будто буря близится, и он чувствует ее по дрожи в коленях и тяжести в груди.
– Да, – ответила она просто.
– Я не понимаю. Я хочу понять.
– Поймешь еще прежде, чем все закончится. Ты всегда понимаешь.
– Тогда почему все происходит так, как происходит? Если я понимаю это, я могу это изменить. Это из-за тебя? Ты не даешь мне все изменить?
Гамаюн обязана говорить правду. Иван это знал, помнил из каждой сказки. Поэтому он не находил в себе ни малейшей способности не верить ей.
– Все происходит потому, что Жизнь все поглощает, а Смерть никогда не спит, а между ними мир движется. Зима становится весной. И время от времени они исполняют странную и печальную сценку, просто чтобы узнать, не победил ли кто уже. Движется ли мир так, как раньше. – Гамаюн встопорщила истрепанные перья и взглянула на Ивана из-под опущенных ресниц. – Как любовная пьеса. Как жертвоприношение. Я тут точно ни при чем.
Иван посмотрел на черную палатку:
– Я бы мог убежать домой, в мой лагерь. Я бы мог вернуться к своей службе и никогда никому ничего не говорить.
Гамаюн выгнула идеальную бровь:
– Ну так давай, Иванушка. Беги. Поверь мне, она этого не стоит.
Облака встрепали волосы Ивана Николаевича. Он нахмурился и подумал о том, как ему понравилась утренняя папироса. О своем невероятном везении. Если он убежит, то все равно однажды умрет. На дворе 1939 год. Люди умирают постоянно. Он тоже умрет, но умрет, так и не узнав, кто был в черной палатке. Он не сможет перестать гадать об этом, как он никогда не сможет перестать трогать языком порез во рту. Когда бы он ни умер, где бы он ни умер, последнее, что он будет вспоминать, – хлопанье черного шелка, похожее на шепот.
Иван не шелохнулся.
– Добрыня Никитич всегда отправляется в Сарацинские горы, – тихо сказала Гамаюн. После этого она втянула голову в плечи и исчезла прежде, чем он успел моргнуть.
Глава 15. Владычество
Марья Моревна в заскорузлом от грязи мундире командующего, с волосами, заплетенными в косу и уложенными вокруг головы, склонилась над письменным столом.
На войне все идет плохо.
На войне всегда все идет плохо.
Она провела рукой перед глазами. Уже год, не меньше, как ей нужны очки. «Смотри», сказали ей очки, лежащие на столе. «Смотри, насколько ты не такая, как все. Ты стареешь и слабнешь глазами. Это на тот случай, если будут сомнения, на что ты годишься». Марья предполагала, что именно поэтому никто не спрашивает, что стало с украденными девочками из волшебных сказок. Какой вышел бы конфуз! Они становятся раздражительными, вступают в армию, надевают очки. Кому они нужны такие?
Марья отстукивала на серебряном телеграфе. С телефонами ее соратники не уживались. Она не знала, почему, да они и сами не знали, просто, когда они пытались говорить в трубку, у них носом шла кровь. Из ушей тоже, но поменьше. Тап-тап-тик-тап. «Все кончено. Живых не осталось. Я возвращаюсь домой».
Присутствие в палатке человека она почувствовала внезапно, будто задвижку закрыли. Его золотое невинное тепло толкнуло ее в спину. От него пахло папиросами и горячим хлебом, а еще мужской кожей. По мере того как другие способности притуплялись, обоняние обострялось, теперь она все чуяла не хуже волка. Марья Моревна не повернулась, чтобы посмотреть, но уже знала, кто он, каким большим он окажется в палатке – огромным, как солнце. О нет, только не теперь. Ее едва не вырвало – и она вдруг поняла, насколько далеко зашла. Когда-то она чувствовала, что ей становится одновременно горячо и тошно от волшебства. Теперь так же на нее действовали люди. Желудок скручивало так сильно, что хотелось вырвать его и покончить со своим телом.
– Я полагаю, – прохрипела она, – тебя зовут Иван Николаевич.
Она хотела предъявить ему обвинение, арестовать его, осудить за то, что его зовут Иван, и повесить за это. Как часто Кощей и Яга говорили ей, что этот день однажды придет, предупреждали ее о нем, как о вспышке холеры в соседней деревне, утверждали его неизбежность. Как она смеялась над ними!
– Да.
Так она в первый раз услышала его голос, глубокий и мягкий, как летняя пыль. Слух ее теперь стал вроде волчьего.
– И конечно же, ты – младший из трех сыновей.
– Я… да.
– И ты тот, который честный. Твои старшие братья злые обманщики, а твой бедный отец все никак не мог этого понять? – Марья чувствовала горькую иронию в своем голосе, будто густой чай, настоянный на всей несправедливости мира, связал рот.
– Мои братья умерли на Украине, от голодомора. Я не могу сказать, выросли бы они злыми обманщиками или нет.
Марья помедлила, с рукой занесенной над картой участка извилистой границы между Буяном и сибирским городом Иркутском.
– Я могла бы кликнуть своих людей, могла бы приказать убить тебя. Без всяких причин, просто потому, что тебя зовут Иван и мне так хочется. Пуля совсем не дура.
Его живой и звучный голос снова окатил ее русской речью:
– Пожалуйста, не надо.
– Она сказала, что ты придешь, и я поклялась съесть твое сердце. Нельзя нарушать клятвы, данные мертвым.
– Кто сказал? – спросил Иван Николаевич.
– Старый друг, не имеет значения, кто.
– Кто все эти солдаты, для чего они умерли?
– Для войны. Для меня. Я не знаю.
– Какой войны? Подписан договор. Германия нам больше не угрожает.
Марья грубо рассмеялась. Она снова потерла уставшие глаза. Как странно слышать это слово здесь.
– Я и забыла, что есть такая страна, Германия. Мы воюем за Кощея против Вия. За Жизнь против Смерти. Некоторые из этих солдат наши. Как только они умирают, они отправляются к Вию новобранцами. Души наши утекают к нему. Те, что с серебром на груди, – это покойники Вия, его призраки, которых мы убили. Мы не знаем, куда они отправляются. Они не переходят на нашу сторону. От них остаются трупы, как от живых. Но сами они исчезают. Может быть, есть другая армия, невидимая, еще более невидимая, чем призраки, и она сражается за то, чего мы не видим и не знаем, может, они пополняют ее ряды. Но мы не знаем. Да и что тут поделаешь? Умер, значит, умер, даже для них.
– Как это вообще возможно – убить призрака? И пожалуйста, посмотри на меня! – Что за сумасшедшая? Она сумасшедшая! – услышала Марья в его голосе. Уши ее горели.
– Так же, как любого другого. Можно пулей. Штыком тоже неплохо. Никогда не подводит удавка. И нет. Я не посмотрю на тебя. Я никогда не посмотрю на тебя. «И я не сумасшедшая. Как ты смеешь такое думать, как ты посмел прийти сюда, как ты осмеливаешься жить?»
– Ты – Марья Моревна, – сказал Иван. – Заморская королевна.
– Меня все еще так называют? Это странно. Когда я была совсем маленькая, моря здесь уже давно не было.
– Ты – демон? У тебя есть рога? И крылья?
Марья надолго задумалась. «Кто ты такая, маленькая девочка? Почему ты здесь, в густом и темном лесу»?
– Я – жена Кощея, – наконец ответила она. – И я – женщина. У меня нет рогов.
Она чувствовала дыхание Ивана так, будто палатка вздымалась и опадала, чтобы наполнить его воздухом и выпустить воздух, и снова наполнить его воздухом.
– Мне кажется, я влез куда не следует, – сказал он тихо. – Я только хотел выкурить папиросу и прогуляться. Я не понимаю, что здесь происходит. Я понимаю, как устроен мой лагерь, моих товарищей и что у нас всех сегодня на ужин будет суп и репа. И я этому очень рад, потому что люблю репу. Она немного маслянистая на вкус и очень горячая, когда ее только вынут из горшка. Я могу прожить на одной репе всю жизнь, мне кажется. Мне не надо знать про девушку, которая может выйти за Кощея Бессмертного.
Марьины колени заныли. «Когда я еще так уставала? Устала, как старое седло». Она вдруг поняла, что все еще отстукивает на телеграфе закоченевшими пальцами. Тап-тап-тик-тап. Автоматически, как медиум-шарлатан, установивший контакт с потерянным в малолетстве царевичем.
– Ты знаешь, что мы рассказываем про тебя истории? – спросила она, уставясь на ручку телеграфа в руке. – Для нас ты монстр, огр. Мы смеемся над тобой. «Будь ласков со своей девушкой, Кощей, а то придет Иван и утащит ее!» Иванам лучше забавы не бывает. Соблазнять Кощеевых жен. Это их любимое занятие. Я как-то и забыла, что на самом деле бывают мальчики по имени Иван.
– Я тебя не соблазняю!
– А вот и соблазняешь, – сказала Марья и сама услышала, как ее голос меняется на дружелюбный, наполняется желанием. Она почти обернулась. Она чуть не назвала его Ваня, Иванушка, будто они уже были любовниками. Ее бедро уже чуть-чуть подвинулось к нему, будто все ее существо стремилось одарить его добрым взглядом и простить его, с самого начала, чтобы не надо было прощать потом. Она не могла объяснить этого притяжения, похожего на то, как Вий тянул ее за грудь своим булавочным жалом. Мертвый царь поймал ее за ее смерть и вертел ею. Иван, о, всего лишь голос его, подцепил ее за жизнь.
– Ты начал, как только поднял полог палатки. Соблазняешь уже тем, что ты – теплый и живой, и ты рядом. После этого длинного дня и всех атак кавалерии Вия, волнами набегавших на мой батальон. Сегодня я потеряла двух полковников. Двух полковников, майора и много лошадей. И так много девушек! А завтра я проснусь, застегну мундир и снова посмотрю им в глаза, все тем же моим товарищам, только у них на груди будет серебряная звезда, и они будут хотеть вырезать мне печень. И вот в разгар всего этого входишь ты, такой горячий, молодой и невинный. Ты пахнешь человеком. Я чувствую запах твоего сердца. Это как богатое угощение, приготовленное только для меня. А мне-то уж следует знать, что богатое угощение, накрытое будто по волшебству, в лесу, нежданно-негаданно, – это точно соблазн. И хотя я уже знаю, что ты – Иван, и ты существуешь только для того, чтобы вынудить меня предать мужа, я все равно хочу тебя поцеловать. Почувствовать, как жизнь в тебе захватывает жизнь во мне. Сырая, свежая, новая. А ты – ты даже не видел моего лица, но я уже чувствую спиной, как тебя сжигает желание. Мои формы, мои размеры – тебе уже не уйти из этой палатки без меня.
– Да, – выдохнул Иван.
– И ты все еще настаиваешь на своей невинности.
– Я же случайно тебя нашел. Шел по тропе, заваленной телами, и нашел.
– Может быть, я тебя тоже приманиваю.
– Жутковато для подарка невесты, – сказал Иван, но не засмеялся.
– Может быть, каждый солдат, которого я убила, падал совершенно определенным образом, чтоб увести тебя из твоего мира в мой. Может быть, мое тело и само не знало, направляя удары моего меча и выстрелы из моей винтовки.
Да полно! Марья чувствовала, будто все члены ее тела соединены лишь тонкими нитями и ветер может разнести их в одно мгновение. Откуда ей знать, чего эти разъединенные члены хотят и что они делали, когда она не смотрела?
– Но это все не так плохо, как ты думаешь. Большинство солдат внутри пустые, тряпичные, с чуточкой дыхания и капелькой крови внутри. Когда их разрывает на части, никто не горюет. Ну никто из тех, кто что-то значит. Но некоторые – да. Некоторые – жуткие. Те, кто были живыми.
Марья ахнула, когда Иван положил руку ей на талию. Она и не слышала, как он подошел. Не ожидала. И как он выглядел, перед тем как войти в ее палатку? Не с дерева ли он упал? Кем он был – вороном, малиновкой, воробьем? Нет, только не он. Он был человеком – и там и здесь. Нет в нем птицы. Иван не обхватил ее талию рукой по-хозяйски. Он лишь в нерешительности держал ладонь на изгибе ее тела. От его близости она растаяла, будто в руках самого солнца. Его тяжесть давила ей на уши, его дыхание расцветало на ее шее. Он шептал ей что-то, невидимый, близкий, как призрак, и она поначалу не могла понять, почему он ей это говорит. Однако звук его речи, вибрации слов на затылке вошли в нее, как солдаты, захватили территорию, заняли плацдарм.
– Когда я был мальчишкой, – говорил он, – мой дедушка умер. Моя мать была очень близка с ним и целый год ходила к нему на могилу. А я был пацаном, непоседой, бродил вокруг. Ее печаль была заперта, будто в доме, и это меня пугало. Я выучился читать по надгробиям, произнося каждую букву, найденную в высокой траве. Один могильный камень особенно поразил меня. Небольшой, не больше книжки. Надпись на камне такая – Турсуной Величко, 1891–1900, а ниже – Потому что Смерть над ней не властна. Я не знал, что такое власть, но снова и снова представлял девочку с черными или светлыми волосами, выше меня, потом пониже меня. Длинная коса или стрижка, как у мальчишки. Она могла быть моим другом и читать вместе со мной надгробья. Она могла быть заносчивой и воротить от меня нос, но я все равно любил бы ее. Я бы доказывал свою верность потихоньку, я бы горланил о своей любви в песнях и клятвах. Я бы все время думал о ней и об этих словах: «Смерть над ней не властна». И вот однажды, когда мы пришли на кладбище, моя мать проведать дедушку, а я – Турсуной, около ее могилы стояла старушка в коричневом шарфе на голове. Один чулок у нее спустился. Старушка поставила стол среди могильных камней и накрывала его едой: хлеб с приправами, пельмени, крупный зеленый виноград, шоколадные конфетки и старый самовар с чаем. Она накрывала стол так, будто кто-то должен был прийти и разделить с ней трапезу. Сама она не ела. Она обернулась, будто знала, что я там, и протянула мне руку. «Поешь, – сказала она, – поешь». Я застеснялся. Я не знал ее. «Пожалуйста, – сказала она. – Мой сын погиб на войне. Кроме него, у меня никого на свете не было. Это он здесь лежит. Виталий. Мой Виталий. Я его уже никогда не увижу. Во мне будто пуля дырку пробила. Я хочу накормить всех, кто мне не сын, чтобы они жили. Не хочу, чтобы в них были дырки. У меня нет больше никого, кто звал бы меня мамой. Покушай, покушай. Вот блинки, мальчик, а вот ватрушки. Кушай, поправляйся. Живи». И я ел ее еду, пока наползали дождевые облака. Ничего слаще в жизни не пробовал. Я оставил виноград на могиле Турсуной и никогда больше на нее не возвращался. С того дня, как я отведал старухиного угощения, моя мать перестала скорбеть и водила меня вместо кладбища в парк. Больше я там не бывал.
Марья закрыла глаза. Она думала об избушке в темном лесу и о накрытом столе.
– Зачем ты мне об этом рассказываешь?
Иван Николаевич склонил голову к ее волосам:
– Я хотел сказать, что хотел бы покормить тебя на том кладбище, чтобы в тебе не было дыр, будто от пуль. Садись к моему столу, Марья Моревна. Позволь мне побыть твоей матерью. Поправляйся. Живи.
И Марья повернулась. Она увидела молодого человека, но не совсем уж молодого, с широким лицом, покрасневшим от солнца, и темно-золотыми волосами цвета монеты, которая походила по рукам. Глаза его были цвета чая, с морщинками в углах, от этого он выглядел добрым. Она стиснула челюсти, чтобы показать ему, что она не добрая. И никогда не будет.
На рукаве он носил красную повязку, старый галстук, закрепленный будто нелепый знак рыцарской преданности. Марья легко коснулась его пальцами. На секунду она подумала, что галстук может заняться пламенем. Что он скорее испарится, чем позволит ее прикосновение. Ее, человека не из народа. Но он оставался ярким и мягким в ее руке.
– Ты такая твердая, Марья Моревна. Об тебя можно порезаться. Почему ты такая твердая?
– Потому что я вступила в армию и все мои друзья умерли.
И тут она впервые после той ужасной брачной ночи залилась слезами. Она опустила горящий лоб на грудь Ивана Николаевича всего на одно мгновение.
Глава 16. Мертвых вечная печаль
Во время Великой Войны Царь Смерти был ближе всего к победе. Великая сила его всегда была и в числе, и в терпении. Смерть может позволить себе подождать.
В эти беспросветные годы и была убита Царица Соли.
В Стране Мертвых богател Вий. Сокровищницы смерти ломились от сожженного зерна и яблок, околевших от голода животных и картофельной гнили. Кафе для мертвых заполнились посетителями, пьющими пролитый кофе и читающими запрещенные книги. Души, попав в страну Вия, чувствовали облегчение, потому что в них больше не стреляли, они не болели дизентерией, никто из их друзей не страдал. Вий, насколько мог, сделал свою страну похожей на мир живых, даже кинотеатры построил, в которых показывали серебряные картины войны. Так что мертвые были благодарны и не хотели возвращаться к жизни. Ибо в этом и заключается вечная печаль мертвых, что, хотя они едят, пьют и видят сны, как раньше, они знают, что они мертвые, и страстно желают стать снова живыми, хоть раз почувствовать кровь в своих жилах, чтобы вспомнить, какими они были. Потому что память мертвых коротка, постепенно они теряют все, что знали о прошлой жизни, одну мысль за другой, пока не начинают бродить с места на место, как тени, с пустыми глазами. Через некоторое время они начинают верить, что снова живы.
Так что Вий послал своих самых главных бояр в народ объявить, что, если кто-то среди них будет служить в его армии, он пошлет их обратно домой, когда закончится срок службы. Домой, в Жизнь, к родному очагу, родной крови, к привычному труду. Он лгал, и они знали, что он лжет, но мертвые могут долго прожить на таких «завтраках». Царю Смерти уже мало было засушить зерно или сгноить людей заразой. Он хотел напасть на корень всего, что ненавидел, – на Царя Жизни. В конце концов, почему он должен довольствоваться объедками со стола живых? Почему его не ценят так, как брата? Почему бы Империи Мертвых не возвыситься над любой земной державой?
И они раздирали улицы Буяна на кусочки. Территория Смерти прирастала на сантиметр каждый день, территория Жизни отступала. Но на следующий день территория Жизни прибывала снова, а Смерть отступала. Когда ряды Вия пополнял убитый на французском фронте или на германских равнинах, полежать спокойно ему не удавалось. Только для того, чтобы просто пройти по Скороходной улице, приходилось безумно метаться между клочками света и тьмы. Вон тот булыжник занят врагом, коснешься его хотя бы мизинцем – и на тебя тут же спустят всех собак. Скоро Буян превратился в страну танцоров, скачущих, кружащих и крадущихся, чтобы оставаться на своей земле, не поскользнуться, не оставить ни ноготка, ни волоска на территории Вия.
В эти дни Царица Соли объявила нейтралитет. Она не принимала ничью сторону. Она горевала и плакала над городами мира людей, где чувствовала себя дома, где в своей бледной гостиной устраивала домашние спектакли с назидательными пьесами и дрессировала голубей. Но даже там Страна Мертвых пробивалась в щели – мужчины и женщины падали замертво на улицах, угодив ногой, сами того не зная, в тот невидимый бездонный мир. Царица Соли защищала города как только могла, бесконечно посыпая солью своего тела снежные дыры, через которые сочилась Смерть. Каждый раз, когда она видела, как старая бабушка подслеповато бредет по улице не разбирая дороги, Царица Соли кидалась впереди бабушки, чтобы поддержать ее, дать ей хлеба с солью, поставить ее на верный путь. Вскоре Царь Смерти возненавидел ее даже больше Царя Жизни и послал своих старших бояр – у каждого пасть, что у крокодила, и крылья увешаны бряцающими ножами, – чтобы порезать ее на куски и разбросать эти куски по всей России так, чтобы уже никогда ее не собрали обратно.
Убить Царицу не так легко. Но Вий взял наглостью, его бояре отрубили ей руки-ноги-голову и бросили ее кокошник, вырезанный из кристалла соли, с огромной высоты, чтобы тот разбился. Без нее города начали голодать и падали в руки Вия огромными снопами – не только человечьи души, но и разбомбленные в пыль оперные театры, квартиры, вырванные из домов взрывом, и фабрики, сметенные огненным смерчем.
Говорят, что Вий женился на левой руке Царицы Соли, чтобы окончательно заставить ее замолчать, и теперь она покоится с окоченевшими от горя и ярости пальцами на троне из костяшек рук в самом сердце Страны Мертвых.
– Ты понимаешь? – Марья подняла голову от черной книги вдовы Лихо и уставилась на Ивана, ловя знаки неверия на его лице.
Если он ей не верит, не следует и любить его. Сумасшедшая. Ты – безумная женщина. Зачем ты это говоришь? В душе она желала ему не верить ей, чтобы облегчить задачу.
– Кощей – Царь Жизни, а ты вышла за него замуж. Поэтому ты и возглавила его армию.
– Да, но тут важно усвоить то, что говорится о дырах в земле. Если хочешь, чтобы я взяла тебя с собой, ты должен делать в точности то, что я говорю.
Вместо этого Иван поцеловал ее. О, подумала Марья, я этого не переживу. Почему мужчины приходят к моему порогу? Почему они ломают шапки, смотрят на меня большими коровьими глазами и готовы подставить шею под нож? Если бы они оставались дома и смотрели так на свой кухонный стол, я могла бы получить небольшую передышку.
– Мы должны пройти всю страну Вия, чтобы попасть обратно в Буян. Это недалеко, но ты должен идти за мной след в след, дышать со мной в одном ритме, говорить, только когда я говорю. Если ты поднимешь хотя бы один листок в лесу, у него будет живая сторона и мертвая сторона. Ты можешь увидеть людей, которых ты знал и любил когда-то. Тебе нельзя разговаривать с ними, иначе они тебя схватят и уже никогда не отпустят. Тебе нельзя даже смотреть на них. Если на груди у них брызги серебра, ты должен отвернуться от них.
– А что с моим лагерем? Они будут беспокоиться обо мне. Меня посчитают пропавшим без вести или погибшим.
Марья устало взглянула на него. Ей дела нет до его жалкого лагеря. До Ленинграда слишком далеко. Война не должна была докатиться туда. Там сейчас должно быть красиво, должны уже расцвести липы. Скрипачи, должно быть, играют что-то приятное и щемящее в кафе, которое Марья едва помнила. Она могла остановиться. Просто остановиться. И уснуть. Забери меня с этой войны, человече. Почему ты так медлишь с этим?
– Ты знаешь, когда я была на твоем месте, Кощей сказал мне: «На выход с вещами». И я не устраивала сцен на этот счет.
Иван слегка зарделся. Он кашлянул:
– Знаешь, Марья, в наше время, если тебе так говорят, ничего хорошего в этом нет. Обычно… обычно это означает «Ты отправляешься в мой лагерь».
– Тогда ты должен радоваться, что покидаешь свой лагерь, раз там так ужасно.
– Поцелуй меня еще разок, Марья, и я пойду за тобой куда угодно.
И она поцеловала. Чувство было такое, будто она стреляет из своего ружья и смотрит, как жар-птица падает с небес. Кем бы я стала, думала она, ощущая тепло его губ, если бы я тогда не увидела птиц. Если бы ни разу не заболела от волшебства? Полюбила бы я тогда мужчину вроде него, такого простого, легкого и молодого?
* * *
После десяти лет войны Марья Моревна хорошо различала метки Страны Смерти. Смерть, как таможенник, оставляла знак на всем, чего касалась в этом мире. Иногда отметка выглядела тенью с серебряными иголочками звезд. Иногда – как водная рябь с отражением запруды на дне. Иногда, когда ей приходилось преодолевать их укрепления, таможенная печать выглядела как имперское клеймо с трехголовым медведем, воздевающим в ярости шесть лап. Хотя лучше совсем не смотреть на эти отметки, а смотреть только на Страну Жизни, вьющуюся узкой тропинкой через владения Вия, на метки Буяна, похожие на тонкие лучики зимнего солнечного света, на запах печеного, на все, что зеленое.
– Марья, – прошипел Иван, пробираясь вслед за ней все ближе и ближе к ее дому, к ее мужу. – Кто-то идет за нами.
– Я же велела тебе не разговаривать. Я знаю. Они… они всегда идут за мной по пятам, Иван. Всегда.
Марье не надо было оборачиваться, она и так знала. Они бы наверняка ей улыбнулись, блестя глазами с горящей внутри, будто язычок лампы, надеждой, сверкая серебристыми брызгами на груди. Маленький человек с головой как камень, девушка с оптическим прицелом вместо одного глаза и дама с лебедиными перьями в волосах. Всегда. Она чувствовала запах духов Лебедевой – фиалки и апельсиновая вода.
– Я же говорила тебе. Ты можешь увидеть людей, которых любил когда-то. Тебе нельзя с ними разговаривать. Это будет все равно, что запрыгнуть в Страну Смерти двумя ногами. Я тоже не должна с ними разговаривать, никогда.
Голова Марьи кружилась. Она никогда раньше о них не говорила, о ее дорогих друзьях, о том, как они преследовали ее, как все еще ее хотели. Кощей это не одобрял. Я люблю тебя, сказал он. Я не умер. Этого что, мало? Ты больше не можешь подружиться ни с одной душой в Буяне?
– Я не могу прикоснуться к ним. Воинская служба не бывает легкой.
Марья Моревна скользнула вперед правой ногой – через три больших плоских камня. Потом перенесла левую ногу через те же камни и поставила ноги вместе. Иван повторил ее движения. Она следовала путем, который знала, ступая только на каждый седьмой клочок земли, только на каждый третий павший лист. Она протиснулась на животе под усеянным грибами седым стволом дерева, хотя могла перешагнуть его. Она не смотрела по сторонам и не оглядывалась. Она ползла, как змея, осторожно вдыхая через раз. И наконец они приблизились к месту, которого Марья боялась, в котором не было безопасной тропки, отмеченной тенями, морщинками или печатями. Была черная проплешина среди гор, совершенно без света. Далеко вдали, будто на картине, снова поднимались вечерние холмы, фиолетовые от тумана и последних горстей солнечного света. Марья Моревна протянула руку у себя за спиной. Иван крепко сжал ее в своей, и она почувствовала его страх, будто пот. От его страха она окрепла, она может быть храброй за двоих. В черное поле они шагнули вместе.
Звук их шагов отражался эхом, будто они шли по улице невидимого города, хотя под ногами чувствовали только мягкий суглинок. Вокруг плавали всплески звуков – грубые вопли из трактира, дребезг тяжелых предметов, горшков и деревянной посуды, низкие пассажи скрипки. Глаза Марьи в темноте расширились. Я в порядке, говорила она себе. Я знаю проход. Я всегда знаю проход. Им до меня не добраться.
– Иван Николаевич, – послышался слабый голос, полный радости узнавания.
– Не поворачивай головы, – прошипела Марья. – Шагай, держись за мной.
– Иван Николаевич, это я! – снова зазвучал голос.
– Если посмотришь, это будет твоя смерть, и ты никогда уже снова не поцелуешь меня, и не выкуришь папиросу, и не отведаешь снова масла, – предупредила Марья сквозь зубы. Она стиснула челюсти до боли – все ее тело закрыто-запечатано, каждая часть.
– Иванушка, это Турсуной. Иди, обнимемся наконец!
И Марья почувствовала, как он поворачивается, утягивая ее за собой.
Голос принадлежал маленькой девочке со старомодно подвернутыми светлыми косами, они, будто две капли слез, висели на ее голове. Одетая в кружевное платье, она улыбалась как на фотографии, чистой, заученной, застывшей улыбкой. Девочка протянула руки:
– О, Иванушка, я так долго ждала! Каким преданным ты был на моей могиле. Каким сладким был виноград, что ты оставлял для меня! Иван, приди, поцелуй меня! Я мечтала об этом поцелуе все то время, пока черви стучались в крышку моего гроба.
Широкое лицо Ивана осветилось, словно лампа:
– Турсуной! О! Ты действительно светленькая! И добрая.
– Очень добрая! – согласилась серебряная девочка, качая головой, и косички ее тоже качнулись. – Все здесь так говорят. Я всегда делюсь моим пеплом!
Иван Николаевич слегка отпрянул. Марья пыталась оттащить его, но он был слишком большой и упрямый и собирался продолжать разговор. Ну и дурак. Марья отпустила. Я тебя предупреждала.
– Что ты имеешь в виду, – спросил он неуверенно.
Турсуной Величко вынула папиросу из-за пояса платья и засунула ее в рот. Она была уже вся выкурена. Не папироса, а просто длинный столбик пепла. Но она все равно радостно ей затягивалась, а пепел снова постепенно белел, пока не побелел весь. Она протянула его Ивану:
– Это тебе. Я знаю, ты любишь. Я для тебя приберегла.
– Не смей, – отрезала Марья.
Иван не потянулся за папиросой. Турсуной пожала плечами и бросила ее, затоптав о землю изящной ножкой.
– Мне от нее теперь никакого толку. Вся уже истратилась. О, зато ты еще не истратился, Иван! Ты такой теплый и светлый, что на тебя больно смотреть! Большой и сочный, вот какой! Как зеленый виноград! Приди, раздели мое ложе, как ты всегда хотел. Я знаю, что ты еще тогда этого хотел, маленький негодник.
Иван уставился на нее. Его рука в руке Марьи ослабла, и она почувствовала, что он уплывает по направлению к девочке, словно вода, которую переливают из одного стакана в другой.
– Турсуной, – сказала Марья, не повышая голоса. Она надеялась, что он сам окажется достаточно сильным, что ей не придется использовать свою власть. Она была бы рада отказаться от этой власти. – Он за моим щитом.
Девочка в кружевном платье посмотрела на нее, а потом снова на Ивана:
– Вряд ли твой щит действует на игрушки, маленькая царевна. Отдай его мне. Я сгоняю на нем до Грузии и вернусь обратно к утру. Пришпоривать буду до крови. А потом можешь его забирать обратно.
Марья вытащила висящую за спиной бледную, сложно вырезанную винтовку, которую очень любила. Другой такой не было. Она нашла ее в доме у Нагани. Как же давно это было! Берданка выстрогала ее из костей жар-птицы, которую они убили, когда в последний раз охотились вместе. Это был ее свадебный подарок подруге. Марья Моревна направила винтовку на призрак и поправила прицел.
– Не надо! – закричал Иван.
– О! – выдохнула Турсуной. – Она так прекрасна! Я все еще вижу ее пламя! О Марья Моревна, у тебя нет прав на такое оружие! Отдай его мне! Видишь, птица тянет свой клюв ко мне, она хочет быть моей!
Марья выстрелила. Одна из косичек девушки отскочила.
– О, я тебя ненавижу, – сплюнула Турсуной. – Я первая его нашла. Это нечестно!
С корня ее косички капала кровь, желтая и густая. Шматок черной сочной земли влепился между глаз призрака, и она вскрикнула от негодования. Иван резко обернулся, чтобы посмотреть, кто его бросил.
– Иван, перестань глазеть! Я же сказала тебе, чтобы ты слушался меня! Тебе нельзя на них смотреть!
Но Марья сама, не в силах его отпустить или позволить ему кануть во тьму, тоже посмотрела, как маленький человек с бородой из бледного морозного мха и руками как ломаные камни зачерпнул еще одну горсть земли и взвесил ее в руке. На груди его красовалось пятно из серебряных брызг. Он взглянул на Марью только раз, и глаза его наполнились слезами, падающими дождем.
– Беги, Иван, – прошептала Марья.
И он побежал. Тьма за ними билась в конвульсиях, будто от горя.
* * *
Когда они достигли света, Марья притянула его к себе, оборотилась кругом три раза, приложила палец к носу, и они исчезли.
Глава 17. Там, где смерть была, только боль теперь
– Вот мы и дома, – выдохнула Марья. – Это наш дом.
Иван стал бледен и все время дрожал под длинной серой шинелью. Он смотрел на журчащие и брызгающие кровью фонтаны. Он смотрел на косы, свисающие с карнизов домов, на часовни с дверями, покрытыми живой кожей, кресты из костей, ворота из черепов с рогами. Он смотрел на черные купола Черносвята, тенями поднимавшиеся перед ними.
– Это же ад, – прошептал он.
Марья видела, как дергается его рука. Он мучительно хотел перекреститься и только ради нее сдерживался. Ей было приятно, что даже в ужасе он все еще хочет ей угодить.
– Нет, нет, все не так. Это Страна Жизни. Здесь все живое, видишь? Кровь и кожа, кости и мех. Все живет. Здесь нет ничего мертвого, ничего. Это же прекрасно.
Иван помотал своей золотистой головой:
– В Ленинграде мы хотя бы строим поверх костей.
Марья Моревна рассмеялась. Ей хотелось расчесать его кудри, спадающие на глаза.
– Ну конечно, ты же из Ленинграда, – сказала она.
Не было бы таким искусом, если бы он был из Москвы, из Минска или Иркутска. Только мальчик из ее города мог прийти со старым красным галстуком и затронуть ее за живое. Он был создан специально для нее, идеальная машина.
– Я не хочу здесь оставаться! – прокричал он. – Это владения черта!
– Разумеется, – произнес низкий голос, знакомый Марье, как ее собственная постель. – И тебе следует немедленно отправиться домой.
Кощей Бессмертный сгреб Марью в охапку. Она улыбалась – искренней открытой улыбкой, беспечной и ясной, словно зимний день. Она поцеловала его, и там, где соединились их уста, немедленно проступила и перемешалась их кровь – так тесно сплелись их тела.
– Ты привезла игрушку? – серьезно спросил Кощей, ставя жену на ноги. Его длинная черная накидка хлопала на сильном ветру. – Это нам на двоих?
Маша внимательно следила за его лицом. Если она все правильно сделает, если справится, никто не пострадает.
– Это он нашел меня, под Иркутском, после битвы. Он из Ленинграда.
Кощей ухмыльнулся во весь рот. Ветер слегка раздувал его черные волосы:
– О! Моя Марья подросла и сама начала похищать людей для себя! Горжусь тобой.
– Не совсем так. – Ой ли! Разве не она явилась Ивану из ниоткуда, как птицы-женихи, и не утащила его из того мира?
Кощей повернулся к молодому офицеру:
– О! А вы что думаете, молодой человек? Так это или не так?
Иван был вроде как не в себе. Он не мог перестать глазеть на фонтаны с кровью, которые в лучах солнца становились почти черными.
– Он что, немой? А имя у него есть?
Марья замялась и опустила глаза. Она не могла этого сказать, не могла даже подумать о том, чтобы заставить себя сказать имя Иван в присутствии мужа. Да он и сам догадался. Он видел это имя, застрявшее у нее во рту рыболовным крючком. Они уже так давно женаты! Черные глаза Кощея сверкнули яростью, зубы плотно сжались, совсем как у нее. Как же мы похожи, когда смотрим друг на друга, как в зеркало, отражая желание.
– Ты не можешь со мной так поступить, Маша! Скажи мне, что его зовут Дмитрий Григорьевич. Скажи, что его зовут Приап и ты не смогла противиться искушению. Моя жена не посмела бы привести Ивана в мой дом, не вонзила бы мне нож вот так, прямо в шею.
– Я думала, что между нами нет правил, – ответила Марья тихо, как бы смущаясь обсуждать это в присутствии Ивана, который не был участником их брачного союза и не должен был слышать о личных договоренностях.
Кощей дважды мигнул и выпрямил спину, согнувшуюся по-вороньи от обиды.
– Конечно, жена, ты права. Я забыл, что говорил. Что в имени тебе моем? Он никто и звать никак. Какой же я глупый старик.
Улыбка застыла на его идеальном лице с юношескими очертаниями скул и глазами без единой морщинки – это в его-то возрасте. Он оставался все тем же мужчиной, который появился на пороге Марьи со звездами в волосах.
– Пригласи своего друга на обед, заодно обсудим наши шансы на войне.
Царь Жизни повернулся на одном блистающем черном каблуке и зашагал вон из своего дворца.
– И остерегись ходить по правой стороне дороги. Пока тебя не было, мы с нее отступили.
Марья закрыла рот рукой. Она этого не заметила. Как она могла пропустить? Вдоль Скороходной улицы тянулась черная полоса. Серебро на ней сверкало в темноте словно звезды.
* * *
Кощей сам себе накладывал и подливал: фазан на черном блюде, алмазные кубки бесцветного вина, два каравая хлеба – черного и белого, груши, тушенные в пахучем соусе, который Марья не узнала. Гора сияющего масла с воткнутым в него золотым ножичком покоилась прямо перед Иваном. Марья надела длинное черное платье с шелковым, глубоко вырезанным корсажем, переливающееся драгоценными камнями. Кощей особенно любил это платье, а она хотела примирения. Ты будто зимняя ночь в нем, сказал он ей, когда дарил его. Я бы мог спать на холоде внутри тебя. Она старалась не смотреть на обоих мужчин.
– Ешь, – сказал Кощей без выражения. – Тебе надо подкрепиться перед дорогой.
Иван сложил руки на коленях.
– Мне кажется, я не должен есть вашу еду, товарищ, – сказал он дрожащим голосом.
Кощей фыркнул:
– Отчего же? Ты уже отведал с моего стола, вкусил моей жены. Я это чувствую на вас обоих, как одеколон, сладкий до тошноты.
Марья опустила вилку:
– Ну зачем ты так, Кощей? У меня и раньше были любовники. И у тебя тоже. Помнишь Марину, русалку? Мы с ней плавали каждое утро. Гонялись наперегонки с форелью. Ты еще называл нас «мои маленькие акулы».
Царь Жизни сжал нож в кулаке так крепко, что Марье были видны вспухшие костяшки на его руке.
– Кого-нибудь из них звали Иваном? Кто-нибудь был из них человечьим мальчуганом, слащавым от собственной невинности? Я тебя знаю. Я тебя знаю, потому что ты – как я. Мы похожи, как две ложки, вложенные друг в друга. – Муж наклонился к ней. Свет свечей отражался в его темных спутанных волосах. – Когда ты их крадешь, они значат гораздо больше, Маруся. Поверь мне, я знаю. Что я делал не так? Наскучил тебе? Не замечал тебя? Мало дарил тебе красивых платьев? Изумрудов достаточно? Я уверен, что у меня еще где-то есть.
Марья подняла руку и положила ладонь на лицо мужа. В мгновение ока она запустила когти глубоко в его щеку:
– Как ты смеешь так разговаривать со мной? Я столько лет не носила на себе ничего, кроме крови и смерти. Я сражалась за тебя во всех твоих битвах, как ты просил. Я научилась всем хитростям, которым ты велел научиться. Я научилась не плакать, когда душу́ человека. Я научилась исчезать, приложив к носу палец. Я научилась смотреть, как все умирают. Я больше не маленькая девочка, ослепленная твоим волшебством. Теперь это и мое волшебство тоже. И если я видела, как мои солдаты умирают прямо на моих глазах, если я сама спаслась только благодаря моей винтовке и моим собственным рукам, если я неделями пила больше крови, чем воды, это значит, что я возьму человечьего мальчишку, который ввалился в мою палатку, и буду сжимать его между ног до тех пор, пока не перестану кричать, и ты меня за это не накажешь. Разве мы не черти? Разве мы не демоны? Я даже слышать не желаю о наказании, старина.
Кощей схватил ее за руку и перетащил со стула к себе на колени. Тарелки задрожали, груши попадали на пол. По ее ладони текла кровь из царапин от его ногтей, и он целовал ее, целовал большой палец, целовал безымянный палец, пока не измазал весь подбородок в крови.
– Как я тебя обожаю, Марья. Как правильно я тебя выбрал. Брани меня, отвергай меня. Говори мне, что ты хочешь то, что хочешь, и будь я навечно проклят. Только не оставляй меня.
Марья изучала его, обшаривала глазами лицо, такое родное, неменяющееся, неизменяемое. Иван протянул под столом руку к ее руке, но она совершенно о нем забыла. Она почувствовала прикосновение его пальца не более чем салфетку, приложенную к ее коже. Кощей застил ее зрение одной большой тенью. Он наполнил ее всю, весь ее мир, как луна, что затмила свет иных звезд. Она запустила пальцы в его волосы, как в шерсть барана.
– Забери мою смерть, – сказала она. – Вырежь ее. Покромсай на куски и запри в глазу утки, за четырьмя собаками. Сделай меня такой же, как ты, если мы и правда как две ложки. Тогда я никогда тебя не покину.
Кощей мягко отнял ее руку от своей головы и положил на колени.
– Разве не будет полезнее для твоей воительницы быть бессмертной, как ты? Из-за ваших с Вием договоренностей я не чувствую себя в безопасности. То, что Вий тебя боится, на самом деле меня не защищает. Я голая и беззащитная вдали от тебя большую часть года. Вскрой мои кости и вычерпай смерть. Похорони ее в центре земли. Это я заслужила. Ты знаешь, чего я заслуживаю.
– Ты уже просила – я не могу.
– Ты же забрал мою волю.
– Так устроено обольщение. Одна воля преподносится другой, перевязанная бантиком. Вопрос всегда только в том, кто дает и кто берет. Я взял первый, вот и все. Ты возьмешь последней. Я в эти игры лучше тебя умею играть, но ученики всегда добавляют от своих талантов – это уж как водится. Ты не можешь вручить мне свою смерть, просто открыв хорошенький ротик, чтобы отведать икры. А я не могу ее взять.
– Но ты же требуешь моей верности, все мое сердце, мою суть.
– Это мое. Ты не понимаешь, Маша. Никогда не понимала. Ты – мое сокровище, мое белое золото, сердце моего сердца. Ты лежишь в основе моего существа и глодаешь мои корни. Но ты не одна из нас. Независимо от того, насколько будешь походить. Тебя не было с нами, когда мир был таким юным, что легко сбивался с пути. Когда в небе была всего одна звезда. Ты не можешь знать того, что знаем мы. Ты не так устроена, как мы. Ты так многому научилась, это правда, и я горжусь тобой. Но ты… – Кощей положил руку на черный шелк ее груди. – Ты все еще сделана из мяса, хрящей и костей.
Она посмотрела в его глаза, бездонные и бесконечные. Как же она его любила, все еще, навсегда! Он был источником той горячей, яркой, головокружительной магии, которую он вливал в нее, как вино.
– А из чего сделан ты? – спросила она, отходя от жгучего гнева. – Может быть, я смогу вынести еще немного этой войны для тебя. Если ты будешь рядом и Иван тоже. Никаких правил, никогда.
– Не из мяса, – спокойно ответил Кощей. – Даже не из крови.
Он снова взял ее пальцы, проводя ими по своим губам, размазывая по ним ее кровь.
– Я наполняюсь кровью для тебя, я надеваю это лицо, как наносят косметику, и это тело, худое и гибкое. Это чтобы понравиться тебе, угодить только тебе, моя человечья девочка, моя волчица. Ты разве не знала? Даже не догадывалась? Это бесполезно, Маша. Ты несешь смерть в каждой клеточке своего тела. Каждый крохотный кусочек тебя умирает быстрее, чем по мановению руки. Ты умираешь все время, каждую секунду. Как я могу отнять у тебя это? Моя смерть не так рассеяна. У меня она одна. У тебя – миллионы. Даже моя сестра, моя дорогая сестричка, которую ты узнала так хорошо, даже Яга не просит меня забрать ее смерть. Знаешь, почему?
Марья Моревна хранила молчание. Она могла думать только об одном, весь ее разум вцепился в эту мысль: как же ты выглядишь без этого лица? Кто ты, муж мой? Я это узнаю. Обязательно.
– Потому что она знает, что я с собой сделал. Ты бы никогда и не подумала, что она может быть нежной. Но мы тогда были так молоды, и между братьями и сестрами есть что-то вроде взаимопонимания. Общая история. Не могу тебе передать, любовь моя. Ты такая, какая есть, и я думаю, ты можешь попытаться повторить это, только чтобы доказать мне, что ты это можешь. Я только скажу, что это было подобно тому, как ты решилась отправиться сюда со мной, или тому, как я тысячу лет позволял волку питаться моей печенью каждый день, или тому, как медленно задыхаться от газа цвета желчи, как умирать каждую секунду, чтобы избежать смерти. Во мне все еще есть то место, где раньше была смерть. Теперь там боль, такая же, какую чувствуют некоторые люди в ногах, которые им ампутировали до колена. Это моя боль, и поделиться ей я не могу. И не стал бы, если бы мог. Я буду стареть вместе с тобой, если тебе так лучше. Буду отвечать морщинкой на каждую морщинку, седым волосом на каждый седой волос, скрипом суставов на скрип суставов, опухолью на опухоль. В старости ты будешь такой прекрасной!
– Смерть не властна, – сказал Иван, и Марья с Кощеем, обернувшись, уставились на него так, будто он только что появился из ниоткуда.
Марья в последнее время стала как кошка. То, чего она хотела больше всего, полностью захватывало ее внимание, да так, что она категорически не замечала ничего, кроме предмета своей одержимости. Затем появлялось что-то новое, и она вцеплялась в это тем же самым немигающим взглядом. Она знала себя, знала, как медленно, годами, становилась кошкой, волчицей, змеей – кем угодно, только не девушкой. Как она выжала из себя девичество, будто смерть. И теперь Иван сидит тут, намеренно не прикасаясь к хлебу, толсто намазанному маслом, ожидая, когда она обратит на него внимание и выкажет уважение. Она смогла забыть его напрочь в одно мгновение, когда Кощей притянул ее к себе, как маленькую луну, и она знала это, и чувствовала, как ее расщепляет, раздирает между ними – на ее человеческое и ее демоническое.
– Хорошо сказано, – снизошел к нему Кощей, обволакивая слова великодушием. – Пожалуйста, мальчик, поешь, никто от этого не объявится и не будет злорадствовать, что раз ты поел, то теперь должен остаться здесь на полгода. Ты же умираешь от желания съесть кусочек мяса.
Иван уставился на масло, не отрывая глаз от его сияния.
– Ты сказал, что это страна чертей.
– Сказал. Тогда я, должно быть, и есть черт. И она – черт. Как тебе повезло оказаться в такой замечательной компании?
Марья попыталась помочь ему. Она помнила, как это было сложно:
– Он просто тебя дразнит, Иван.
Кощей внезапно оскалился, губы его растянулись, обнажив острые и неожиданно желтоватые с чернотой зубы. Он бросил свой кубок в стену. Тот не разбился, а тяжело ударился об пол.
– Только не это имя, – зарычал он. – Только не в моем доме. Зови его как угодно, если уж тебе так нужны бездомные животные.
Марья поднялась с его коленей, ее распущенные волосы завесой упали на лицо Кощея. Он ее отвергнет, что бы он ни говорил. Она не чувствовала боли там, где было его отторжение, теперь уже не чувствовала. На самом деле Марья не чувствовала почти ничего, кроме желания, бесконечного желания, которое свернулось в ней и терзало, требуя Кощея, вина, гуся или дыню, а то и приклада ее костяной винтовки. Это желание пережило все битвы вместе с ее кулаками и с ее оружием. Оно было волчьим, цепким. Оно проглотило Ивана Николаевича. Она уже не помнила, когда была счастлива или печальна. Только голодна. Только пустая, жадная, ненасытная. Будто она так и не сняла тот кожаный фартук, ту черную шубу, тот ужасный красный грим.
Кощей крепко держал ее руку в своем холодном кулаке.
– Не покидай меня, – сказал он безнадежно. – Никаких правил, кроме этого. Не покидай меня.
* * *
Кощей Бессмертный позволил Ивану переночевать в доме Марьи. Он любил выказать благородство. Ему нравилось быть великодушным, если в конце не надо было делиться. Поэтому Марья не удивилась, когда он поймал ее за кончики волос и снова притянул к себе, как только золотая голова Ивана скрылась в конце парадного зала Черносвята. Он наматывал ее волосы на кулак и снова отпускал, скользя по ним большим пальцем.
– Все мои ониксы, мои агаты, мой обсидиан. Все мои черные сокровища в одной этой пряди, – мурлыкал Кощей. – Какими длинными стали твои волосы. Ты могла бы задушить ими человека.
Марья выпростала тяжелую, как канат, косу из его кулака и теперь наматывала ее вокруг Кощеева горла, притягивая его лицо все ближе к своему. Он пах ячменем и старыми деревьями. Хотя он, вероятно, нарочно выбрал запах, который ей нравится. Марья Моревна трепетала в руках мужа. Он прижал свой лоб к ее лбу, опустив длинные ресницы.
– Тебе лучше уйти с ним, – хрипло прошептал Кощей, – когда он позовет. Уйти, нарожать детей, целовать их ссадины и учить их читать.
– Ты только говоришь так.
Воздух между ними сгустился, вздулся узлами.
– Я только говорю так.
Он оттолкнул ее от черного пиршественного стола к широкой длинной стене, увешанной серебряными гобеленами с вытканными на них павлинами, яблоками и архангелами с длинными зубами. Из глазков на хвосте одного павлина свисали длинные цепи.
– Я только говорю так. Оставайся со мной навсегда, навсегда, пока не умрешь, но и после я буду хранить твои кости и прижимать их к груди.
Он поднял одну ее руку и приковал цепью. Марье эти цепи были знакомы. Она их приручила и повелевала ими. Хотя ей хотелось говорить спокойным ровным голосом, сердце дергалось, будто вырываясь из захвата. Дыхание вернулось. Она искала его глаза, пригнув голову, чтобы поймать взгляд:
– Кощей, это я. Твоя Маша, твоя Маруся. Какое мне дело до детских ссадин?
Он приковал другую ее руку к серебристой парче, и Марья, беспомощная, повисла на цепях. Но ее кровь и желание подхлестывали друг друга, и после стольких распятий на этой Кощеевой стене она знала, что в этот раз она не беспомощна. Его страх читался в каждой до точечки знакомой черте его лица.
– Но если ты уйдешь с ним, ты будешь в опасности. Вий не всегда уважает уговоры. Наше согласие позволяет тебе только оставаться в живых, но не гарантирует тебе счастья, или отсутствия увечий, или хоть какой-то безопасности для близких. Я договаривался только о тебе, больше ни о ком. Если ты покинешь меня, он однажды придет за тобой с серебряными ножницами, и ты падешь. Если бы он не был трусом и не опасался меня, он бы давно уже это сделал.
– Нет нужды отсылать меня ради моего блага, словно ребенка. Я решила сражаться, и мой выбор не изменился.
Но, как только она произнесла это, Марья Моревна узнала, что солгала. Она хотела конца войны. Конца холода и черноты и одной стороны дороги, посеребренной смертью.
Кощей открыл шкаф и вытащил длинную березовую ветку, белую и тонкую:
– Я собирался подарить тебе жизнь, полную алчности и изобилия, – сказал он, поводя веткой над ее грудью. – Я хотел сохранить твою невинность, чтобы я всегда мог насытиться твоей чистотой на завтрак, обед и ужин. Ты можешь стать невинной снова. Не верь тому, что говорят, будто никто не может снова стать невинным. Ты можешь. Просто большинство даже пальцем не пошевелят для этого.
Кощей Бессмертный просунул пальцы под изукрашенный ворот ее платья и умело разодрал его до самого подола. Самоцветы заскакали по полу. Марья закрыла глаза; ее тело выгнулось к нему – маленькое полосатое животное, в которое она превратилась, всегда голодное, всегда снедаемое бесконечным желанием. Вот этим, этим она еще и жива. Живой, сжигаемой страстью. В конце битвы эта стена, этот мужчина, эти цепи снова пробудили ее сердце.
– Тебе надо уйти с ним. Он сегодня ночью предложит тебе. Я бы предложил. Есть же причина, по которой они все уходят с Иванами. Я никогда не буду Иваном. Я никогда не смогу валяться с тобой на солнышке, как золотистый щенок. Я слишком стар для этого, для тепла и простоты. Я горю. Я замерзаю. Я никогда не бываю теплым. Я жесткий. Я забыл, что такое мягкость, потому что она мне бесполезна.
Он хлестнул веткой по ее груди, и ожог от удара вырвал из нее крик. Она почувствовала, как кожа вспухает алым рубцом, как расплавленный огонь боли окатывает ее плоть. Да, я все еще жива, подумала она.
– Когда я говорю «навечно», – прошептал Кощей, – я имею в виду черную смерть этого мира. Иван только в настоящем моменте, в его мерцающем огоньке, в зеленом поле, со ртом, прижатым к твоему рту. Он растягивает этот момент. Но в вечности нет никакой яркости, она не такая. Вечность – холодная, твердая и бесповоротная.
Он стегнул ее снова, по животу, и она улыбнулась, выгибая спину, чтобы принять следующий удар бедрами, сочась невыносимым, вспарывающим огнем. На секунду она вспомнила, как была счастлива и печальна, вспомнила удовольствие от икры и соленого арбуза, ночь в бане, когда она была тяжело больна. Кощей снова и снова хлестал веткой ее живот, и она вдруг поняла. Это живот, который мог вынашивать детей от Ивана, но никогда от Кощея. Животом она отличается от него – человек от черта.
Слезы струились по лицу Марьи Моревны. Она судорожно хватала воздух, выравнивая дыхание, и сумела это сделать, но Кощей остановился, повесив голову, как старый волк.
– Кощей, Кощей, – шептала она. – Что бы со мной стало, если бы я не увидела тех птиц? Я – никто, я – ничто. Я – чистый лист бумаги, на котором ты и твое волшебство написали девушку. Такую девушку, которую ты хотел, вечно голодную, страдающую, вечно в огне желания. Машина любви для тебя. Во мне нет ничего, что создал бы не ты. Когда прилетел грач, мне было шесть – шесть! Всю мою жизнь ты вылепил своими руками. Кем бы я выросла? Что за женщиной я стала бы, какой простой и счастливой человеческой женой? Если бы я не сломалась на птичьем крыле. Если бы я не увидела мир нагим. Я снова хочу быть собой. Я хочу, чтобы мне снова было шесть. Я хочу забыть все, что я узнала. Иван выглядит так, как жизнь, которой ты меня лишил.
И Царь Жизни заревел в агонии, мотая головой из стороны в сторону, как бык. Он ударил кулаком по стене, из вмятины полетела черная пыль. Он укусил длинную шею Марьи Моревны, но кровь не выступила. Ее кожа затвердела, стала крепкой, непроницаемой. И она не могла избавиться от мысли: сколько раз ты сыграл эту сцену, старик? Для меня это все ново и свежо, но не для тебя, нет.
– Если я уйду с ним, – сказала она низким дрожащим голосом, потому что не хотела говорить того, что должна была сказать, – ты отправишь меня на фабрику к Еленам?
На самом деле она просила у него прощения, прощения за ее самую большую неудачу, за то, что она ничего не сделала для Елен, за то, что война отвлекла ее и она потерпела неудачу, поддалась безверию, бросила их, потому что ее друзья погибли и ее доброта поломалась.
Кощей тихо выпустил ветку и закрыл лицо руками. На мгновение Марья подумала, что он плачет. Но потом он оскалился, заревел и набросился на нее с такой яростью, что она подумала, что он перекусит ее пополам. Он содрал с себя одежду и раздвинул ее ноги в стороны так широко, что бедра ее затрещали. Он вошел в нее без всякой нежности, как король входит в тронный зал врага. Он взобрался на ее тело и вцепился в него когтями. Марью жестоко трясло от удовольствия, боли, страха и обожания.
– Да, – прорычал он, – да, я тебя отправлю туда, и погашу свет в твоих глазах, и буду столетиями приходить смотреть на тебя, изучать тебя, потому что ты моя, мое сокровище, моя добыча, я не могу удержать тебя и не могу отпустить тебя.
Он толкался в нее снова и снова, и эхом отдавался его рык. В последний момент, когда Кощей выплеснулся в нее с таким криком, будто что-то в нем надломилось, Марья увидела, как его лицо на мгновение высохло и стало невероятно старым, старым как камень, с седыми волосами, с глазами, провалившимися внутрь побелевшего черепа. И только зубы его остались как были – острые, беспощадные, наготове.
Глава 18. То, что между нами
Однажды, когда минуло два года, два месяца и два дня после свадьбы, после тройных похорон с коричневым, зеленым и белым гробами, после битвы за Черносвят, в которой Марья была ранена в левое бедро, а вся северная башня завяла, умерла и облилась серебром, захваченная Вием, Марья Моревна отправилась с визитом на фабрику. Она пробиралась по улицам Буяна ночью и не смотрела ни на мертвых торговцев рыбой, сидящих перед воротами покуривая и распивая пыль из хрустальных бокалов, ни на таверну, которую так любила когда-то, теперь омытую серебром, полную призраков, распевающих революционные песни. Они теперь принадлежали другому Буяну, и она не могла их слушать – да что там слушать: даже скосить один глаз, чтобы заглянуть в окна мертвого города, и то опасно.
Дорогу Марья помнила. Путь был выжжен в ее памяти, он все еще шипел и плевался фосфором. Насколько легче идти с прямой спиной и без гогочущей всадницы. Вот костяная дверь и стрекотание ткацких станков за ней. Луна летит по небу, как трамвай по рельсам. Молодая жена проскользнула вовнутрь, на большой чугунный балкон, куда ее приводила Баба Яга в прошлой жизни, когда она еще не знала, какого цвета кровь у мертвецов. Зеленые шары освещали помещение: обширный, выложенный плиткой пол, длинные, узкие окна, пачки готовых тряпичных стрелков, пехотинцев и кавалерийских офицеров с кисейными лошадьми свалены в углу. Даже в сумраке ночи светилась голова каждой Елены – десятки голов, склоненных над прыгающими челноками громыхающих станков. Марья спустилась по чугунной лестнице. От сердцебиения перехватило горло. Никто ее не замечал. Никто не поднял глаз. Начальника цеха не видно, только каждые несколько секунд стук станков прерывается легкими вздохами, когда одна из девушек надувает очередного тряпичного солдата, и эти тряпичные солдаты делают свой первый вдох, хотя это не их вдох, а выдох бедной Елены, выдох, который добрался от обшлага до рта.
Марья Моревна присела в проходе рядом с одной из женщин. Ее волосы цвета спелого каштана заплетены в кольцо, спадающее сзади на стройную шею, а пальцы двигаются так быстро, так ужасно быстро! Она уже выткала половину торса девушки, сжимающей снайперскую винтовку в заштопанной руке. Елена – или это одна из немногих Василис? Марья не уверена – даже головы не повернула. Глаза ее затянуты мутной золотистой пленкой, зрачки не видны, и она не моргает, никогда.
– Елена, – прошептала Марья. – Тебя зовут Елена?
Девушка продолжала ткать, пальцы ее мелькали как рыбки, снующие под водой. Марья прикоснулась к ее руке. Кожа была теплой.
– Елена?
Матовая золотистая мембрана на глазах шевельнулась, сдвинулась, но девушка не ответила.
– Пожалуйста, проснись, ну пожалуйста!
Внезапно, сама не понимая почему, Марья приподнялась и поцеловала девушку в висок. Губы Марьи прижались к теплой мягкой коже, к тонким пушистым прядям волос. Разве не так будят спящих принцесс?
– Пожалуйста, проснись, – снова прошептала Марья.
Но девушка не просыпалась. Она замерла, нити сорвались и сбились с узора. Она сложила руки на коленях, но глаз не поднимала, а золотая пленка на глазах не становилась тоньше.
– Елена? Слышишь меня? Кто-нибудь еще живет внутри тебя? Мне так страшно, Елена. Он тебя любил? Ты его оставила? Он тебя приковывал к серебристым гобеленам? Тебе нравились его поцелуи? Ты была счастлива здесь? Ты знаешь юношу по имени Иван? Ты хочешь домой? Сколько времени прошло между тем, когда ты была счастлива и когда ты захотела убить его?
Марья с трудом сглотнула:
– Он велел мне забыть тебя, думать о себе, быть жестокой, быть демоном. Но ты мне снишься, и во сне ты носишь воду для Бабы Яги, а в клетке у тебя живет жар-птица, Кощей любит тебя так же сильно, как он любит меня.
Девушка уставилась на свои руки на коленях.
– Что, если я скажу, иди, Елена, я не подниму тревоги. Беги, лети, исчезни!
Девушка не двигалась.
– Елена, Елена, во всем мире только вы такие, как я. Что со мной станет? Что стало с тобой? Со всеми вами? Елена, каждую весну я отправляюсь прочь со всеми этими солдатами, и, когда я касаюсь их плеч, я думаю о тебе, о вас всех. Ничего не могу поделать. И это пробуждает во мне столь сильный страх, потому что мне кажется, что я вижу ужас и неуверенность в их вязаных глазах, а предполагалось, что они не будут живыми. Но когда в них попадают пули, они вскрикивают, будто живые, и меня от этого трясет. Поговори со мной, Елена. Или Василиса – ты Василиса? Я чувствую, что жизнь сочится из моего сердца, каждый день, в каждой холодной палатке, на каждой пяди полумертвой земли, где кровь льется ручьем. Мне так страшно, Василиса. Я чувствую, что на войне все идет плохо.
Но ткачиха не подняла глаз, а станки вокруг продолжали стрекотать, не замечая их обеих. Марья вытерла слезы и встала. Ее колени, побитые в первом сражении на Скороходной дороге, хрустнули и скрипнули. Ту битву они выиграли, но чудом, едва-едва.
Ткачиха, Елена или Василиса, медленно повернула голову, не поворачивая всего тела. Она уставилась слепыми глазами в живот Марьи, на том уровне, где было ее лицо мгновением ранее.
– На войне всегда все идет плохо, – сказала девушка и снова взялась за свой челнок.
Марья Моревна схватила девушку за руку и потянула ее изо всех сил, но легче было тянуть камень. Она переходила от девушки к девушке, умоляла, плакала, раскрасневшись от стыда, забыв в кои-то веки о себе, зная, что если одна заговорила, то они все могут быть живыми. Но ни одна Елена не пошевелилась, ни одна Василиса больше не заговорила, и никто из них не собирался уходить с ней, даже когда она повалилась в центре стрекочущего цеха в отчаянии от неудачи.
* * *
– Он что, вампир? – спросил Иван Николаевич, неловко утопая в красном разливе ее постели, беззаботно обнаженный, поскольку отверг черную ночную рубашку, предложенную Кощеем.
– Что за глупости ты говоришь, – ответила Марья, стоя у зеркала. Она смотрела на себя, расчесывая длинные растрепанные волосы плавными взмахами щетки из щетины кабана, но не той, что призывает странную старуху и может накликать судьбу. Щетина кабана, поблескивая, продиралась через волосы. Марье нравилось ее тело, она любила смотреть на него, даже – а может, особенно, – на тигровые полоски рубцов на ее тяжелой груди и животе. У нее больше не было девичьего тела: бедра были бедрами львицы, торс – сильный и мускулистый, ее ноги готовы бежать, прыгать и преклонять колени у костра. Шрамы украшали ее кожу, как созвездия, протянувшись по всему телу от той первой отметки Змея Горыныча, все еще заметной на щеке, похожей на подтек черной краски.
– Он лизал кровь на твоей руке, – сказал Иван, – он старый и бледный, и зубы у него как клыки. Я знаю, что он выглядит молодо, но на самом деле он немолод. Сидеть с ним рядом – все равно что с какой-нибудь совсем старой статуей в музее. Так что, я думаю, вопрос вполне уместный, нет, ну правда.
– Он Царь Жизни, а кровь – это жизнь. Так же как суп, водка, баня и етьба. И я не думаю, что он вампир. По крайней мере не такой, каких хоронят вверх ногами на перекрестке.
Иван нахмурился и запустил широкую смуглую пятерню в волосы.
– Ты его продолжаешь так называть. Царь Жизни.
– Он тот, кто он есть. – А я тогда кто? Царица Жизни? – спросила одна половинка ее сердца. Другая половинка ответила: да ни на одно мгновение не была ты никогда королевой.
– Но это же вполне определенная жизнь, не правда ли? – Иван наклонился вперед, и свет свечей отразился от его головы. Он выглядел как чудесная собака, огромная, душевная – собака, которая нашла кость.
– Это… грибная жизнь. Бледная, с корнями, растет в темноте. Готов побиться об заклад, что за все твои годы здесь он ни разу не угостил тебя свежим яблоком. Все, что он любит, – консервированное, соленое… маринованное. Я понимаю, что это все живое, но его держат живым навечно, в стеклянной банке. И он сам такой же. Маринованный муж – вот что у тебя есть.
Марья повернулась от зеркала, нахмурясь:
– А ты небось свежий, так, что ли? Прямо с дерева? Но потом ты потемнеешь и покроешься пятнами, и однажды в тебе заведутся черви. Кощей никогда не увянет.
Иван застенчиво пожал плечами:
– Да я не это имел в виду.
– Ты не просто имел в виду, а так прямо и сказал.
– Ты человечья женщина, – сказал он тихо. – Тебе здесь не место, со всей этой кровью, с маринадами этими. Их рассол впитался в тебя, капля за каплей. Ты даже умеешь исчезать, как они. И кто знает, что еще!
– Ну, – мягко рассмеялась Марья, – так, как они, я не смогу. У меня это не очень хорошо получается. Я могу это делать только в определенных местах, там, где очень тонкие границы. Нам пришлось идти к тому месту, где я закружилась и вынесла тебя, помнишь? Я не много таких мест знаю. Территория меняется слишком часто, чтобы вовремя обновлять карты. В самых тонких местах ты тоже, вероятно, сможешь такое сделать. Если попрактиковаться. Это несложно.
– Я не хочу этого делать. – Иван Николаевич начал набивать папиросу. Без всякой просьбы в комнате тихо появился бронзовый поднос, с аккуратно уложенными папиросными гильзами и кудрявым ломким табаком. Иван думал, что это ее табак, но Марья-то знала – это Кощей просунул себя между ними, даже когда отсутствовал.
– Да почему нет? – пожала она плечами. – Это весело. Даже приятно.
– Только не для меня. Ты мне приятна, пшеница в лучах солнца приятна, когда масло и яйца – свежие, и такие вот папиросы, которые я сам набиваю, как мне нравится. От волшебства же с меня будто кожу сдирают и снова надевают, только другой стороной.
Марья опустила щетку и взобралась на кровать, отдаваясь радости того, что по-кошачьи голодная подстерегает его. От того, что знает больше, чем он. Вот так и Кощей себя чувствует, все время.
– Ну, – промурлыкала она, – я тоже люблю все это. Я не хочу выбирать между тем и этим. Кощей и не заставляет выбирать.
– Нет, – сказал Иван тихо, гладя ее лицо рукой. – Заставляет. Просто когда он сдирает с тебя кожу, на вкус это – свежее масло, а на вид – солнце в пшенице.
Марья нахмурилась. Если бы он только позвал ее, если бы только вел себя как птица, как тот человек в черном, ей бы все это далось гораздо легче.
– Иван, ты нас не понимаешь. Замужество – это личное. В нем и свои дикие законы, и секретные истории, и своя жестокость. И то, что происходит между женатыми людьми, непостижимо для окружающих. Мы кажемся тебе ужасными и трудными, и ты видишь, как брызжет наша кровь, но то, что между нами, завоевано дорогой ценой, и мы это устроили так, как хотели, именно такого цвета и такой формы.
Иван поцеловал ее, нерешительно, нежно, как мальчик целует девочку на школьном дворе. Ее рот наполнился теплом.
– Посмотри, как ты целуешь меня, Марья Моревна, – прошептал он, – а сама в это время рассказываешь, что такое замужество.
– Это эгоистично, копить припасы, Иван Николаевич, когда можно поделиться, каждому по потребности. Почему мне нельзя иметь и то и другое? Вас обоих, Ленинград и Буян, соленое и свежее, человека и птицу.
Он снова поцеловал ее, глубже, и вкус его поцелуя был ярок, ярче, чем кровь.
– А что тогда между нами, Маша?
– Ничего, – выдохнула она. Как он посмел назвать ее Машей так скоро! – Пока ничего.
Марья Моревна вцепилась в его плечи, толкнула на спину и взобралась сверху. Она сжала его узкие бедра между бедрами львицы и поцеловала со всем своим умением завладевать и кусать, вкладывая все, что у нее было, в этот поцелуй. Ее волосы упали на его лицо, как черная завеса, закрывшая весь свет, и она вонзила его в себя одним движением.
Иван ухватился рукой за ее шею, двигаясь под ней, выгибая спину, чтобы прижаться теснее. Он стонал под ней, прикрыв длинные, как у девушки, ресницы цвета старой монеты.
– Поехали со мной в Ленинград, – шептал он. – Возвращайся.
Вот. Вот он и предложил. И я должна выбирать. Война и позади меня, и впереди. Женщина, которой я не знаю, которой я могла бы стать, человечья женщина, целая и горячая.
И вот в глубине себя Марья почувствовала, как ее старый дом на Гороховой улице, на Комиссарской улице, на Дзержинской улице раскладывается, скрипит и манит, и слышно зеленое журчание Невы. То, что она не разрешала себе вспоминать, вылилось на нее из поцелуев Ивана, из его кожи, из его семени. Она почувствовала запах моря. Но 1942 год уже совсем близко, подумала она в отчаянии, чувствуя, как его тепло заливает ее исхлестанный живот. Совсем скоро.
И сердце Ивана Николаевича сломалось внутри Марьи Моревны, и его осколки глубоко впились в ее кости, а звезды видели это через окно.
* * *
Позже, когда они по-братски разделили на двоих воду и несколько ломтиков красного мяса, Марья увидела, что из кармашка его кителя выглядывает красный галстук, который Иван Николаевич повязывал на рукав. Она потянулась и прикоснулась к его кончику, который высовывался из кармана, как язык.
Иван слегка улыбнулся:
– Это мой галстук юного пионера. Я не знаю, почему все еще ношу его. Мне просто нравится. Когда я был маленьким, мне казалось, что он меня защищает. Мне было спокойно, будто никто не может мне навредить, потому что я хороший и я вместе со всеми.
Он задумчиво и тепло смотрел на нее. Глаза его, чайного цвета, при свечах потемнели и стали почти черными, как у Кощея, только пристальный взгляд Ивана удерживал ее в теплом круге простых ночных истин. Марья ничего не ответила, затаила дыхание. И тогда он сделал это, и ей показалось, что сейчас ее тело разорвется на части. Иван Николаевич отвязал галстук от своего кителя и, приподняв ее длинные волосы, надел галстук на обнаженную шею Марьи Моревны так, чтобы концы спадали на грудь, проливаясь на нее будто две алые, словно кровавые, слезы.
* * *
Марья проснулась на дне бездонного колодца еще до зари, распахнув глаза в темноту. Она села выпрямившись, не ощущая исходящего от бока Ивана приятного тепла. У ее туалетного столика сидела серебристо-белая женщина, трогая длинными белыми пальцами баночки, одну за другой. Ее длинные белые волосы свисали до пояса. На шею она надела камею с идеально вырезанным портретом женщины с длинными белыми волосами и серебряной звездой на груди.
– Машенька, дорогая, – вздохнула мадам Лебедева. – Как я по тебе скучаю. Как я хочу с тобой поговорить.
Мавка повернулась, и серебряная звезда на ее груди бросила волнистый отблеск на потолок. Ее веки были покрыты тенями самого легкого оттенка, Марья таких еще не видела.
– Я не причиню тебе вреда, – мягко сказало привидение. – Обещаю. После стольких лет ты все еще не веришь, что я никогда бы не потащила тебя за собой. В этот ужасный час можно говорить что хочешь. Я ждала этого. Скажи мне одно словечко, Маша. Признай меня. Я люблю тебя. Когда становишься мертвой, стыд спадает, как старая рубашка. Ничего не стоит признать это. Я люблю тебя. А ты меня любишь?
Веки Марьи тяжело сомкнулись – но она с усилием снова открыла их и пристально посмотрела на свою старую подругу. Она едва выносила вид ее лица. Ей хотелось подбежать к ней и обняться, но нет, только не это. Никогда. Она, может, и не хочет утащить Марью, но это все равно случится – так неизбежно падение с большой высоты под действием силы тяжести. Говорить ей не хотелось. Однако груз прошедших лет, проведенных без оглядки назад, не замечая серебряных шагов за спиной, этот груз тяжело давил на нее.
– Я люблю тебя, Лебедь, – наконец ответила Марья Моревна и заплакала, медленно, без звука, без слез. Она пересохла, полностью.
– Это не так плохо, моя дорогая, – быть мертвой. Это все равно, что быть живой, только холоднее. Вкус притупляется. Все чувства тоже. Помаленьку забываешь, кем ты был. Любви тут не много, зато много водки и воспоминаний. Похоже на встречу выпускников школы, только пирожные и пирожки сделаны из пыли. И вечно идет война. Но война и так всегда идет, не правда ли? А вид всего теплого, душевного раздражает, просто бесит как никогда. У меня не осталось ничего теплого, как видишь. А так хочется. И я не так хорошо все помню. Будто становлюсь старой, – но постареть здесь я уже не могу. Все равно, я рада, что ты заговорила, пока я тебя еще не забыла.
– Я думала, что, если я не смотрю на тебя и на других тоже, вы уйдете и мне можно будет забыть вас.
– Однажды мы уйдем. Или забудем, кто ты такая, но все равно будем цепляться за тебя по привычке, и все, что мы будем знать, это что всегда цеплялись за девушку с темными волосами, кем бы она ни была.
Мадам Лебедева прикоснулась к зеркалу, глядя на себя так, будто увидела прекрасную незнакомку. Мокрое серебряное пятно расплылось от кончиков ее пальцев, будто бы стекло замерзло.
– Это больно? – прошептала Марья. – Когда умираешь?
– Я не помню. Я несла тебе вуаль – ну действительно, как ты могла выйти замуж без вуали, Маша? Это же позор. Я несла вуаль, когда кто-то в меня выстрелил. На секунду мне показалось, что я за что-то запнулась, а потом убийца взял меня на руки – о, как они блистали серебром! – и прикоснулся ртом к моей ране. Он сосал, как ребенок, и я подумала, что уже никого не выкормлю грудью, никогда, – и после этого я умерла. Это будто тянешь за веревку изо всех сил, и вдруг ее отпускают, и ты падаешь, потому что напрягался так сильно, что не смог удержаться на краю. Я покрыла свое тело цветами. Мне оно так нравилось. И ты знаешь, во время битвы за Черносвят фосфорная бомба попала в старое кафе волшебников. Теперь оно в нашей стране, и я могу сидеть там, когда захочу. Суп из пыли, пельмени из пыли. Тарталетки из пепла. – Внезапно Лебедева указала на Марью, голос ее зазвенел: – Ты должна уйти с Иваном. Послушай подругу. Я все еще волшебница, я все еще многое ведаю.
– Это разобьет сердце Кощея.
Она решила остаться. Она решила уйти. Во сне она решала это тысячу раз. Ее сны расщепились пополам.
– Э-э-э… Это и раньше с ним случалось. И это не сердце. Ты должна позаботиться о себе. Очень скоро мой хозяин решит, что твоя винтовка принесла достаточно бед, и он явится, чтобы тобой поживиться, забыв про договор. Почему бы тебе не пожить мирно до этого? Ленинград в 1940 году – такое тихое местечко. Ты могла бы быть счастлива.
– Я едва знаю этого мальчика.
Марья впитывала вид своей подруги, между ее грудей появилась тупая боль. Ей надо перестать говорить с Лебедевой, она должна остановиться – но не может.
– Ты и Кощея едва знала. Похищение невесты очень сближает с женихом.
Марья Моревна провела рукой по глазам:
– Лебедь, почему? С какой стати мне уезжать из Буяна? Это мой дом.
– Потому что так все и бывает. Так он умирает. Так он всегда умирает. Только так он может умереть. Умирание – это часть замужества, не менее важная, чем занятия любовью. Он не будет знать, что дальше делать, если ты его не прикончишь в какой-то момент.
– Я никогда его не убью! Даже если бы я ушла, если бы оставила его, я никогда бы его не убила!
– Ну посмотрим! Но ты уйдешь. Потому что ты все еще довольно молода, и тебе нужно ощутить солнце на лице, высокое ленинградское солнце, чтобы щеки твои покраснели. Давай засыпай и не думай о том, сколько людей сегодня умрет.
– Кощей меня не отпустит.
Да так ли? Скорее всего, он найдет другую девушку. Возможно, все начнется заново, только без Марьи Моревны, и ей удастся украсть у времени передышку.
– Он слишком гордый для этого. Думаешь, он других когда-то останавливал?
– Я не такая, как другие.
– О, Маша, ну как ты не видишь? Ты такая же. Вот и Иван появился. Это все равно, что услышать – полночь, пора спать, малыш. Нельзя иметь и то и то. На войне всегда приходится выбирать сторону. Ту или другую. Серебряную или черную. Людей или чертей. Если захочешь стать мостом, проложенным между ними, они тебя разорвут пополам.
Марья протянула руки: только Лебедева могла услышать ее страх, увидеть раны, которые прятались в ее челюсти – в том месте, откуда Кощей забрал ее волю.
– Лебедь, как я смогу жить в том мире? Я уже едва ли человек. Я была там только ребенком, как мне найти в себе девочку, которой я была до знакомства с волшебством? Тот мир меня не полюбит. Он изобьет меня, изваляет в снегу, отнимет галстук и оставит в крови и позоре.
– Ты будешь жить так, как в любом другом мире, – ответила Лебедева. Она протянула руку, будто хотела схватить ладонь Марьи, будто хотела прижать ее к щеке, но потом сжала пустоту так, будто держит руку Марьи в своей.
– Тяжело и печально.
Медленно, с бесконечной тщательностью женщины, что наряжается в театр, мадам Лебедева начала вытягивать свою длинную шею – дальше, еще дальше! – ее грудь покрылась перьями, ее стройные ноги подобрались, и вот она превратилась в белую лебедь с черной полосой на глазах. Она вскочила на подоконник и улетела в промозглую болезненную ночь.
Глава 19. Три сестры
Так вот Марья Моревна и украла человечьего юношу с золотыми волосами и потянула его за собой вдоль по ледяным, темным на утренней заре улицам, отзывающимся серебряным эхо. Они держались левой стороны и не оглядывались. Иван Николаевич сидел позади нее на лошади с красными ушами и маленькими копытами, которая была не из того же приплода, что Волчья Ягода, а скорее племянником по кривой-косой побочной линии, как это считается у парнокопытных. Лошадь не была ни в малейшей мере одержима механическими склонностями, а только любила свою хозяйку и была рада, глубоко на уровне клеточной памяти побочной линии, послужить орудием похищения. Марья, в свою очередь, удивлялась, как стынут на ветру ее зубы, и бывает ли такая любовь, чтобы не надо было ночью никуда бежать, без этих чувств, этого прорыва через темные земли; без страха, что кто-нибудь: мать, отец или муж – может горестно протянуть руку и утащить ее обратно. Иван держал ее за талию, а лошадь уносила их в лес, не обращая внимания на ветки и камни. Он ничего не говорил. Она тоже не знала, что сказать. Она его забрала, а что можно сказать вещи, которую забираешь? Кости ее гремели от скачки, колени поскрипывали, старая метка под глазом пульсировала.
Однако никакая рука не остановила бег их коня. Никакой черный стражник не полетел через желтые лиственницы, чтоб за волосы втащить ее обратно. Утреннее солнце в благородном негодовании метило их красным, обвиняя в содеянном. Под его укоризненным взором так и ехали они через день, приближаясь к полудню. Через полдень, ближе к ночи. Звезды рисовали карту небес по черноте над их головами.
Наконец, лошадь с красными ушами заржала, сплюнула и упала на колени в заснеженной тени на лесной поляне. Они прибыли к большому поместью, с очагами, светящимися и мерцающими в каждом прозрачном окне, с уютной беззаботностью дома очень богатых людей. Тут уж точно была конюшня и сено. Лошадь привела их куда надо. Большая стеклянная дверь стояла приветливо приоткрытой. Глаза у Марьи слезились от ветра и снега. Она вглядывалась, не решаясь войти. Наверняка все это подстроил Кощей, чтобы обременить ее чувством вины, напомнить пушистые тихие избушки на пути в Буян. Чтобы пробраться в их постель, как табак, что беззвучно появляется на столе.
Но никого вокруг не было. Лошадь спокойно тыкалась носом в снег. Ни звука, даже уханье совы не нарушало темноты. Так что Марья помогла Ивану, измученному потертостями от седла и дрожащему от лютого, ядреного холода, перебраться через порог.
Передняя струилась темным малахитом пола с вкраплениями коричневой яшмы, рубинами и аметистами канделябров. В центре сверкающего зала устроилось огромное яйцо из голубой эмали, перепоясанное золотыми листьями и усеянное бриллиантами, как шляпками гвоздей. На яйце восседала женщина средних лет со светлыми волосами, прихваченными сзади, как осенний сноп. Она вглядывалась через очки в две серебряные вязальные спицы, с которых свисала половинка детского красного чулка, медленно прибывающего, вершок за вершком.
Сердце Марьи встрепенулось от удивления.
– Ольга! – закричала она. – Не может быть! Как ты могла оказаться здесь, глубоко в лесу? Как я могла набрести на тебя во всем безбрежном мире? Это я, твоя сестра Маша!
Марья заплакала бы, да ее слезы замерзли внутри нее – такой усталой, испуганной, неживой добралась она сюда. Она все еще боялась, что это обманка, что сейчас женщина соскользнет с яйца, а из него выскочит что-то другое, что-то ужасное, и набросится на нее с обвинениями.
Женщина подняла голову, и хрупкое розовое лицо ее засияло. Она, как мех вином, наполнилась видом своей сестры и, зажав вязанье дородной рукой, соскочила с яйца, расцеловала лицо Марьи, а потом повернулась к Ивану и тоже поцеловала его, но целомудренно, в щеки.
– Марья! О, моя дорогая сестра! – воскликнула она, при этом ее запах, такой знакомый, развеял все опасения, что это ловушка.
– Сколько времени прошло! Погляди-ка, как ты выросла, был медвежонок – стал медведь! Ах! Где оно, наше детство!
Марье очень хотелось протянуть руки, чтобы Ольга подхватила ее и покружила, как она это делала в детстве, в доме на Гороховой улице.
– Оля, ты счастлива? У тебя все хорошо?
– Отлично! И уже шестая дочка на подходе! – Она любовно похлопала яйцо в самоцветах. – Вот что получается, когда выходишь замуж за птицу. – Она подмигнула. – Но ты-то всегда знала, что он птица? И мне не сказала. Противная девчонка. А у тебя как? Ты счастлива? Ты здорова?
– Я устала, – сказала Марья Моревна. – Оля, это Иван Николаевич. Он – не птица.
Иван поклонился старшей сестре Марьи.
Ольга изящно поправила очки на носу:
– О, я знаю, кто он такой. Думаешь, лейтенанты не болтают? Слухи в наших краях дороже золота. Нет, ну ты посмотри на мою сестру – сбежала из дому, скандал, в ее-то возрасте. Я тебе доложу, что была верна Грачу с тех пор, как он впервые взял меня за руку, а мои драгоценные четырнадцать цыплят – лучшее доказательство.
– Так много! – присвистнул Иван.
Ольга прищурила на него свои красивые глаза.
– Война же идет, разве ты не слышал? – Она нахмурилась. – Все должны вносить вклад.
– Я уже говорил Марье. У нас пакт с Германией. Война даже не мечтает о России. Твоя сестра в Ленинграде будет в безопасности.
– Тьфу! – плюнула Ольга. – Много ты знаешь.
Она повернула к нему свою широкую спину и снова обняла Марью Моревну:
– Обязательно оставайтесь переночевать, пусть ваша бедная лошадка отдохнет – что за кляча! – кушайте с моего стола, пейте из моего поставца. Ты моя сестра. Что мое – то твое, даже если ты грешная Далила с избытком мужчин. В семье можно и попроказничать.
И Ольга повела их к длинному столу из черного дерева, уставленному хлебом, маринадами, копченой рыбой, пельменями, маринованной свеклой и золотистой кашей, грибами и толстым говяжьим языком, блинами с икрой и со сметаной. Холодная водка потела в хрустальном графине. В горшке над очагом булькало гусиное жаркое. Во главе стола сидел мужчина в удобной домашней куртке черного цвета. Голова у него была грачья, покрытая глянцевыми перьями, и, когда Марья отодвинула свой стул, чтобы сесть, грач злобно щелкнул на нее клювом. Ольга поцеловала его в клюв и оттащила, щебеча и тихо приговаривая ему что-то на тайном супружеском языке.
Предоставленные сами себе на секунду, ни Марья, ни Иван не начинали есть. Голова у Марьи болела. Та ли это пища, что она ела столько лет назад, когда была совсем дитя, маленькое никто, голодный волчонок? Она не могла припомнить. Иван потянулся за водкой сильной красной рукой.
– Подожди, – слабо прошептала она. – Подожди… волчок.
Слово возбудило ее, оно скатилось с ее языка как что-то запрещенное. Иван убрал руку. Он повиновался ей: он доверял ей. Марья облизнула сухие губы. В голове у нее что-то ворочалось. Тепло поднималось к щекам. Она едва могла говорить, настолько огромным было то, что поднималось из ее сердца.
– Не говори ничего больше сегодня, Иван Николаевич. А просто слушай меня и делай, как я скажу.
Иван нерешительно моргнул и начал было возражать. Марья замкнула его рот пальцем. Потом отняла руку. Он молчал. Да, это большое дело, подумала она. Какое огромное чувство. Раньше я этого не понимала.
– Так, – ее голос немного дрожал. Она постаралась сделать его тверже: – Сначала попробуй икру.
Марья Моревна отрезала толстый ломоть хлеба и намазала его белым маслом, а потом выложила сверху сверкающую красную икру. Она протянула это ему, как ребенку, и он ел из ее рук. Она смотрела на него, как смотрела бы королева на троне, отстраненная, но очень близкая, привязанная к похищенной ею красе.
– Теперь отхлебни водки и закуси маринованным перцем, почувствуй, как водка борется с уксусом. Это редкое ощущение, очень зимнее.
Горло Марьи распухло. Она говорила почти сквозь слезы.
– В этой смеси можно почувствовать лето, вываренное и вымоченное в рассоле. Потому что это – жизнь, Иван. Банки на полке, разноцветное содержимое за стеклом, припасенное против зимы и против голода.
Иван тяжело вздохнул и поставил стакан:
– Это глупо, Марья. Я голоден. Дай мужчине спокойно поесть.
Он жадно набросился на рыбу, и сломанное заклятие упало к ее ногам. Марья Моревна смотрела на него, не отрываясь, стиснув челюсти настолько, что почувствовала, что зубы ее начинают крошиться.
* * *
Когда заря осветила большой дом, Марья и Иван Николаевич опять нашли Ольгу сидящей на ее изукрашенном яйце, взмахивающей спицами быстро, как колибри, так быстро, что не разглядеть.
– Маша, дорогая моя, сестричка моя младшая, – окликнула ее мать семейства. – Возьми это с собой.
Она откусила зубами нить и швырнула Марье красный клубок, который та поймала и ощупала, как фрукт на рынке. Пряжа оказалась мягче любой шерсти, очень искусно скатанная и толстая.
– Она всегда выведет тебя обратно, в твою страну, в твой дом. Я из нее вяжу чулки всем моим детям, чтобы они знали, как вернуться домой, к матери.
Ольга спустилась по синему боку яйца и протянула руки сестре. Когда Марья ступила в ее объятия, Ольга подняла ее в воздух и покружила. Марья не смогла удержаться от смеха, как и раньше.
– Когда попадешь в Ленинград, передай нашей матушке, что я люблю ее, – сказала Ольга и расцеловала Марью в обе щеки. Ольга пахла богатством и материнством, и Марья Моревна обнимала ее очень крепко.
* * *
Так они и ехали все утро и весь день, и в сумерки, и в наступающей ночи. Звезды вышивали сложные узоры на темном небесном своде над головами. По-прежнему бледный нож не блестел из гущи леса, чтобы пронзить Марьино сердце или чтобы снести Иванову голову с плеч.
Наконец, лошадь с красными ушами упала на колени на лугу, полном остролистой травы, торчащей из-под снега, окруженном березами, будто костями. На ледяной полянке, засыпанной снегом таким холодным, что он скрипел под их башмаками, стоял дом поменьше. Половина окон светилась зажженным огнем, лошадиное дыхание паром поднималось из половины денников. Большая деревянная дверь была приветлива приоткрыта. Глаза Марьи болели. Она хотела закрыть их навсегда. Вместо этого она помогла Ивану Николаевичу переступить через порог дрожащими от долгого пути ногами.
Они ступили на толстый кленовый пол с приятными ясеневыми вставками в передней, с развешанными по стенам костяными канделябрами, рогами и другими охотничьими трофеями. А в центре сияющего пространства сидело большое яйцо с теплой коричневой скорлупой в пятнышках, перекрещенное лентами цвета роз. На яйце восседала хитрая рыжая женщина с серыми глазами, от которых не ускользало ничего достойного внимания. Она смотрела поверх очков на корзинку с яблоками у себя на коленях и резала каждое из них на семь долек – для пирогов, пирожных и вареников.
Сердце Марьи зашлось от удивления. Она прислушалась к животу – это что, волшебство, работа чертей? Невозможно было понять – она ничего не чувствовала.
– Татьяна! – закричала она. – Не может быть! Как получилось, что ты живешь здесь, глубоко в чаще? Как я смогла найти тебя после всего, что было? Это я, твоя сестра Маша!
Марья могла бы заплакать, но слезы ее пересохли от невыносимой усталости внутри – так долго и так быстро она мчалась.
Женщина взглянула на нее, и лицо ее осветилось, стало коричневым и алым. Она наполнилась видом сестры, как шелковый воздушный шар. Заткнув нож под мышку крепкой руки, она соскочила с яйца и расцеловала все лицо Марьи, потом повернулась к Ивану и тоже его поцеловала, хотя и не очень целомудренно.
– Марья! Моя дорогая сестричка! – воскликнула она. – Сколько времени прошло! Погляди-ка на себя, выросла как козочка! Ах! Мы уже все стали слабы глазами! – Татьяна постучала по очкам сестры, заткнутым в нагрудный карман, точно таким же, как ее собственные.
Марья хотела, чтобы Татьяна потрепала ее по голове и взлохматила волосы, как она это делала, когда они были маленькими и жили в доме на Гороховой улице.
– Таня, ты счастлива? Здорова ли?
– О, все хорошо, да и четвертый сыночек уже на подходе! – Она любовно похлопала коричневое яйцо по боку. – Выйдешь замуж за птицу – проснешься в гнезде. – Она подмигнула. – Да ты же всегда знала, что он был птицей, правда? А мне не сказала, смышленая девчонка. А у тебя-то как все? Ты счастлива? Здорова?
– Я устала, – ответила Марья Моревна. – Таня, это Иван Николаевич. Он не птица.
Иван поклонился средней сестре Марьи.
Татьяна в смущении поправила очки на носу:
– О, я знаю, кто он такой. Думаешь, лейтенанты нигде не бывают, да? Слухи – что куски сахара в этих краях. Вы только посмотрите на мою сестру, падшую женщину, похитительницу сердец, это в ее-то возрасте! Я так горжусь тобой. Доложу тебе, что у меня было вдвое больше любовников, чем у Зуйка, с тех пор как он лишил меня девственности, и в доказательство могу предъявить девять пронырливых цыпляток!
– Так много, – присвистнул Иван.
Татьяна живо округлила глаза:
– Ты разве не слышал? Мы сбросили иго старого мира. – Она ухмыльнулась. – Мы все должны внести свой вклад в модернизацию.
– Я думаю, что жизнь достаточно трудна и без модернизации, – вздохнул Иван.
– Тьфу! – сплюнула Татьяна. – Много ты понимаешь. – Она повернулась к нему своей внушительной спиной и снова обняла Марью Моревну. – Конечно, вы должны остаться переночевать, дать отдохнуть вашей бедной лошади – какая верная кляча! – кушайте с моего стола, пейте из моего поставца. Ты моя сестра. Что мое – то твое, даже если ты известная неряха. Мы же семья, мы заботимся друг о друге!
И Татьяна повела их к длинному столу из орехового дерева, уставленному жареными лебедями, варениками со сладкой свининой и яблоками, солеными арбузами, пышками да пирожками. Во главе стола сидел мужчина в удобной коричневой домашней куртке. Голова его была головой зуйка с толстым оперением, и он игриво щелкнул Марье клювом, когда она пододвигала стул для Ивана. Татьяна похлопала его по крыльям и отвлекла разговором, клекоча и щелкая на рассыпчатом языке для перебранок меж теми, кто хорошо ладит между собой.
Иван поглощал сладкую свинину и жадно прихлебывал красное вино.
– Виноградники, которые дали нам это вино, поставляют вино на стол самого Товарища Сталина, – сказала Марья формальным безжизненным тоном. – Кто-то мне говорил однажды, что, даже когда дети голодают за правое дело, у Папы всегда вино на столе. – Она отпила вина. – Когда я была маленькой, оно казалось слишком сладким. Я полюбила горечь, приправу для тех, кто живет долго и необузданно. Может, и тебе стоит научиться ценить ее. В конце концов, когда все остальное сгинет, это у тебя останется. – Марья Моревна осушила стакан. – А теперь даже этот сладкий сироп горек у меня на языке, – вздохнула она.
* * *
Когда заря занялась на коричневых щечках большого дома, Марья и Иван Николаевич обнаружили, что Татьяна опять сидит на яйце с лентами, нарезая яблоки, как дровосек, так быстро, что не уследишь.
– Маша, моя маленькая сестричка, – воскликнула жена зуйка. – Возьми это с собой.
Она кинула Марье яблоко, закрутив его красный бок в полете. Яблоко было твердым и ярким, как самоцвет.
– Сколько бы вы от него ни отъели, если не съедите сердцевину, утром оно опять будет целым. Я всем свои детям даю на ужин такие, чтобы они знали, что их мать присматривает за ними и думает об их будущем.
Татьяна скатилась по гладкому боку яйца и протянула руки сестре. Когда Марья шагнула к ней, Татьяна потрепала ее по голове и взъерошила ее локоны, Марья не смогла сдержать смех, как раньше.
– Когда будешь в Ленинграде, передай нашей матушке, что я люблю ее, – сказала Татьяна и поцеловала Марью в обе щеки. Татьяна пахла хлебом и любовью, и Марья крепко обняла ее.
* * *
Так они ехали по утренней заре, прямо в полдень, через тридевять королевств, через целый мир между Царством Жизни и Ленинградом. Через сумерки и прямо в полночь. Звезды писали странные имена на темном полотне над ними. И все еще не появились вязаные солдаты, чтобы схватить Марью Моревну или застрелить Ивана Николаевича своими вязаными винтовками.
Наконец, лошадь с красными ушами упала на колени на каменистом обледеневшем проезде, где не видать было ни цветов, ни деревьев. Скромная хижина стояла в кругу острых камней, закрытая со всех сторон. Одно из окон светилось зажженным огнем, лошадиное дыхание паром поднималось из одного почерневшего амбара. Маленькая железная дверь стояла приоткрытой, будто скорее дразнила, чем приглашала их. Пальцы Марьи тряслись от холода. Она помогла Ивану, который хрипло кашлял, пылая жаром, перебраться через порог.
Они вступили в единственную комнату дома с плотно утоптанным полом, с разбросанными кусками льда, освещенную сальными свечами, длинными и толстыми, будто рука. А в центре тесной комнаты сидело большое яйцо с блестящей стальной скорлупой, усеянной железными болтами. Наверху яйца устроилась стройная, изящная молодая женщина с румянцем, проступающим быстрее, чем набегает тень. Она смотрела поверх пары очков на корзинку с ключами на коленях и сортировала их для переплавки: железные отдельно, медные отдельно, бронзовые отдельно.
Сердце Марьи запело от восторга. Она надеялась, она ждала этого, после того как встретила других сестер.
– Анна! – прокричала она. – Этого не может быть! Зачем ты спряталась здесь, так высоко в горах? Это твоя сестра, Маша! – И Марья заплакала горячими слезами радости.
Женщина подняла голову, и лицо ее осветилось, бледное и ясное. Она наполнилась видом своей сестры, как ведро водой. Заткнув кольцо с ключами под мышку изящной руки, она спрыгнула со своего яйца и расцеловала Машино лицо, а потом повернулась к Ивану и холодно чмокнула его в щеку.
– Марья! О, сестричка дорогая! – воскликнула она. – Сколько времени прошло! Посмотри, какая ты выросла, как волчонок! Ах! И когда это мы стали такими серьезными?
Марья хотела, чтобы Анна схватила и закружила ее, как они, бывало, танцевали, когда были маленькими в доме на Гороховой улице.
– Аннушка, ты счастлива? Здорова?
– О, все хорошо! И моя вторая дочка на подходе! – Она любовно похлопала стальное яйцо. – Жена и муж должны быть в полном согласии. – Она подмигнула. – Но ты-то всегда знала, что он птица, не правда ли? И мне не сказала, предательница. А что с тобой? Ты счастлива? Здорова?
– Я устала, – ответила Марья Моревна. – Аня, это Иван Николаевич. Он не птица.
Иван поклонился третьей сестре Марьи.
Анна сердито поправила очки на переносице:
– О, я знаю, кто он такой. Думаешь, лейтенанты друг на друга не доносят? Слухи в наших краях – все равно что продуктовые карточки. Скажу тебе, что я жила в добродетели с тех пор, как Жулан лишил меня чести, и есть у меня две славные цыпочки в доказательство этого!
– Так мало! – присвистнул Иван, Анна сузила на него свои ясные глаза:
– Ты разве не слышал? Иметь больше чем у соседей – безнравственно. – Она усмехнулась. – Мы все должны вносить свой вклад в дело Партии.
– Конечно, – ответил Иван.
– Тьфу! – сплюнула Анна. – Много вы оба понимаете.
Она повернула элегантную спину к нему и обняла Марью Моревну снова.
– Но вы должны остаться на ночь, дать отдохнуть своей бедной лошадке – какое честное животное! А твой пленник выглядит совсем больным. Что бы ты ему ни скормила, его все равно вырвет. Ты моя сестра. Что мое – то твое, даже если ты в изгнании. Мы семья, но ты не должна никому говорить, что я дала тебе убежище.
И Анна повела их наружу, по серебряному льду в маленькую баню, едва ли больше, чем один-единственный шкаф у Ольги. Человек в потертой серой шинели вышел из бани в клубах пара. Голова его была головой тощего жулана, и он даже не посмотрел на Марью, когда проходил мимо. Анна улыбнулась ему, ее лицо осветилось, как масляная лампа, она взяла его за крыло и пошла вместе с ним обратно в дом, курлыча и клокоча ему на скрипучем правильном языке несгибаемых.
Марья Моревна не давала Ивану говорить. На этот раз она сделала свою волю железной, пробуя ее на прочность и на гибкость. Иван подчинялся ей, и в его подчинении сквозила благодарность. Да ты неженка, подумала она. Вся эта обильная пища удержалась в твоем желудке, ты наслаждался каждым кусочком. Но теперь ты болен, и ты должен уступать. Она усадила его в бане. На маленьком облупленном столе нашлась кружка с водкой.
Марья стояла очень тихо. Она чувствовала будто в ней сейчас две женщины: одна старая и одна молодая; одна невинная, а другая опытная, странная, сильная. Марья раздела Ивана Николаевича, и ее руки, казалось, повторяли каждое движение дважды, вот сейчас расстегивая его рубашку, а потом расстегивая свою. Глаза его закатывались, а с рыжих бровей катился пот. Он чуть было не назвал ее имя, но вспомнил, что должен молчать, и она поцеловала его за это. Марья Моревна терла его кожу своими длинными сильными пальцами. Ее золотой мальчик почти заснул сидя, успокоенный ее руками и тихим печальным пением, полузабытой песенкой про волчка, который кусает за бочок, и про беспечную девочку. Скоро с лица Марьи катились и пот, и слезы, и ей хотелось, чтобы Кощей тоже был здесь и показал ей, как обращаться с этим больным человеком, забота о теле которого теперь необъяснимо легла на нее. Но что прошло, то прошло. Не может быть никакого Кощея больше. Осталась только Марья.
– Пей, Иванушка, – приговаривала она, как мать, поднося кружку к его губам. – Твоим легким нужна водка. – Он послушно пил, кашлял и снова пил.
Марья Моревна сунула его липкие ноги в неглубокую ванну. Поднесла горсть воды к его носу и приказала вдохнуть. Иван обливался, давился, но все же сделал это – так он привык к ее голосу и ее командам. Наконец она заставила его встать. Она пошарила в завешанном паром углу бани, зная всем существом, что березовые веники должны быть где-то там.
Но Иван, побежденный лихорадкой, свернулся на полу бани клубком, как гончая.
Марья медленно отложила веник. Она беззвучно смотрела на Ивана в полумраке бани.
* * *
Когда заря подняла население убогой избушки на работу, Марья и Иван Николаевич снова нашли Анну на вершине ее стального яйца, перебирающей ключи, словно машина, слишком быстро, чтобы уследить.
– Маша, моя дорогая сестричка, – позвала жена жулана. – Возьми это с собой.
Она метнула Маше ключ с бронзовой бородкой. Он тускло светился в ее руке под лучом солнца.
– Это ключ от нашего старого дома на Гороховой улице. Но, конечно, теперь это улица Дзержинского. Один из нас все еще должен там жить. Один из нас должен снова стать молодым.
Анна спустилась по серому боку яйца и протянула руки сестре. Когда Маша подошла, Анна прижала ее лицо к груди, взяла ее руку и начала танцевать с ней, медленно и спокойно кружась по избушке. Марья не могла удержать смех, как это было раньше. Она помнила, будто через стекло, что смеялась так в прошлой жизни. Она порывисто поцеловала Анну в лоб.
– Когда наша мама умерла, – сказала Анна, – жилищное министерство послало ключи мне. Я была единственной, кого они смогли найти. Наша регистрация все еще действует.
После этого Анна расцеловала Марью в обе щеки. От нее пахло железом и силой, и Марья Моревна крепко обняла ее.
Часть 4. В Ленинграде жар-птицы не водятся
И всегда в духоте морозной, Предвоенной, блудной и грозной, Жил какой-то будущий гул… Но тогда он был слышен глуше, Он почти не тревожил души И в сугробах невских тонул. Словно в зеркале страшной ночи, И беснуется и не хочет Узнавать себя человек, – А по набережной легендарной Приближался не календарный – Настоящий Двадцатый Век.Анна Ахматова
Глава 20. Два мужа пришли на улицу Дзержинского
Вдлинном узком доме на длинной узкой улице женщина в бледно-голубом платье сидела у длинного узкого окна, ожидая наказания.
Ни отмщения, ни воздаяния. Один год, один месяц и один день минул, а наказания все нет. Но и прощения тоже нет.
Уже поздней весной Марья Моревна вставила бронзовый ключ в замок дома на улице Дзержинского, чувствуя, как ключ этот скользит и между ее ребер, вскрывая ее, как раку со старыми безымянными костями. Дом стоял пустым. Все занавески – зелено-золотая, серебряно-синяя, красно-белая – сорваны с карнизов. Бесчисленные поколения пауков соткали свои паучьи истории, покрыв стены шелковистым палимпсестом паутины. Дом казался много меньше, чем был, – темным, старым, горбатым, ненужным зверем. В крыше открылась прореха, и она пропускала капли дождя и лепестки цветущей сливы в комнату, где жила Марья с родителями. Печь внизу стояла холодная и молчаливая, полная старой золы, которую некому вычистить. Пустые комнаты следовали за пустыми комнатами.
– В этой комнате жили Дьяченки, – сказала она, ни к кому не обращаясь.
Ну, может, к Ивану, который хозяйской рукой поддерживал ее за спину. Все было не так. Она думала, что найдет здесь тепло, сродни Иванову теплу. Жизнь и проживание.
– У них было четверо мальчиков, все белобрысые. Не помню, как их звали. Отец их каждый вечер ел этот ужасный рассольник. Весь дом провонял укропом. А здесь – о! Девочки Бодниексов. Как же они были прекрасны! Что за волосы! Я так хотела такие же. Прямые и блестящие, как дерево. Они любили читать. – Она повернулась к Ивану, глядя пустыми глазами: – Они все читали один модный журнал. У каждой было свое время для чтения этого журнала каждый день. Они знали наизусть все цвета и отделки. Маленькие Лебедевы! О! А здесь Малашенки вязали букеты цветов на продажу, а Светлана Тихоновна расчесывала свои волосы. Ну почему же никто здесь больше не живет? Это был хороший дом! Здесь у меня было двенадцать матерей и двенадцать отцов. Какую вкусную рыбу я ела в этом доме!
Марья Моревна упала на колени перед огромной кирпичной печью в пустой кухне. Слез не было, но лицо ее становилось все краснее и краснее от невыплаканной боли.
– Звонок, – прошептала она в пол. – Звонок, выходи.
Наконец она свернулась калачиком на битой плитке и заснула, как драная дикая кошка, которая наконец-то нашла укрытие от дождя.
* * *
Тем вечером Иван Николаевич отправился в министерство, чтобы испросить прощения за свое исчезновение из лагеря, объяснить его затяжной болезнью и следовавшей за ней добросовестной службой в деревнях Бурятской области. Он открыл дверь и вышел, не забыв запечатлеть на щеке Марьи поцелуй, который казался ей таким же неживым, как наколотая на щеке татуировка. Поцелуи, к которым Марья привыкла, обрушивались, стирали в пыль, каменели, кусали, но никогда не тюкали, будто клювом. Они не чмокали, исчезая через секунду. Запах молодых листьев липы и форзиции ворвался вслед за его уходом, заполнив собой освободившееся пространство. Марья Моревна смотрела, как Иван идет вдоль по улице. Сине-лавандовый вечер обертывал его лентами, когда он проходил мимо молодых людей в черных фуражках, которые играли на гитарах, прислонившись к стволам лип. Марья закрыла глаза. Когда она их открыла, гитары все еще бренчали под первыми бледными звездами, а Иван Николаевич исчез за углом. Внезапно ей стало страшно выходить из дому. Что за ужасный город поджидает ее за дверями, где фонтаны извергают мертвую безвкусную воду, а у высоких домов нет имен, нет кожи, нет волос? Этот дом она знала. Он оставался внутри нее таким, каким был, той же архитектуры, что и в девичестве. Дерево цепко удерживало в своих волокнах жир и пот ее рук, окна все еще хранили давно сошедший отпечаток ее крохотного носика. Призрак Марьи-еще-без-волшебства, маленькой девочки, которая еще не была сломлена, еще не солдат и не жена. Но Ленинград, Ленинград оказался незнакомцем. У него даже имя было не такое, как у города, в котором она родилась.
Кран крякнул и ожил, сплюнув от негодования в раковину чем-то коричневым и химическим. Марья ждала, наблюдая, как злобный дракон-кран сливает свой яд в канализацию. Вода из крана никогда не была чистой, но все же бежала тепловатой струйкой цвета чая. После секундного размышления Марья Моревна сняла ботинки и нарочно поставила их у печки, где она когда-то уменьшилась до размеров скалки. Она закатала штанины черных брюк и – не было тазика – наплескала ладошками воду на пол кухни, встала на колени и начала тереть его замасленной тряпкой и старыми газетами, которые нашла заткнутыми за печку. Злобные шпионы и убийцы под маской ученых-медиков! кричала газета, и она смяла ее об пол так, что чернила растеклись вместе с грязной водой. Ее колени жалобно скрипели, опираясь на плитки пола, но постепенно она оттерла одну бледную увядшую розу – рисунок на когда-то опрятной кухне, который она запомнила с детства. Я хочу видеть эти розы! орал папа Бодниекс на своих дочек.
– Чего бы я не отдала сейчас за то, чтобы одна из сестер Бодниекс поцеловала меня и разожгла бы мне печку, – прошептала Марья.
Она терла пол, пока сведенная судорогой спина не заныла и не сдалась окончательно. Там, около почки, ее ранили ножом в ту ночь, когда они потеряли квартал свечников, и Кощей от вида ее крови так выл по-волчьи, что другие волки в лесу тоже завыли хором. Марья легла на живот, ожидая, когда мускулы разожмутся и позволят ей подняться. Холодная плитка поцеловала ее лицо. Снаружи, через сломанное окно, она услышала смех юной девушки, смех, будто сделанный из клубничного мороженого с кремом. Ей пел возлюбленный: «Мы встретимся снова во Львове, моя любовь и я…»
– Без году неделя в Ленинграде, а уже заставил тебя скрести полы, – проворчал грубый, но звонкий голос.
Марья улыбнулась в мокрый пол. Она крепко зажмурилась, чувствуя как утешение копьем пронзает ее грудь.
– Звонок, о, Звоня, я думала, ты пропала.
Она повернула голову – и точно: рядом стояла домовая, с потрепанными и посеченными пшеничными усами, в жилете с почти полностью утраченными пуговицами и в залатанных штанах кирпичного цвета.
– Не то чтобы я это не оценила, – сказала Звонок. – Давненько уже никто полов не моет. Кошка уже могла забыть обиду, с тех пор как этот дом слышал крик: «Дверь закрывайте, зима на носу!» Ну так зима и пришла, правда? Пришла-пришла, – кивнула домовая самой себе.
– Но это же прекрасный дом. Почему никто здесь не живет? И что стало с твоими друзьями, с домовым Комитетом?
– Все разъехались вместе с семьями. Только я осталась в доме. Это мой дом. Я же замужем за этим старым ублюдком. Застряла тут. Этот урок некоторые девушки так и не усвоили, не правда ли? – Звонок уселась, скрестив ноги у Марьиного носа. – Ну, ты уже знаешь, что Светлана Тихоновна умерла. Плохо дело, так оно. И мальчики ее, у них же не было никого, кто бы им добывал пропитание, вот они и пошли просить милостыню, да не вернулись. С малышами это случается. Я надеюсь, что они упали в Неву и утонули, маленькие монстры. Они заткнули все мышиные норы старыми носками. А мне эти норы нужны были! Потом близнецы Абрамовых что-то подцепили, а от них и все остальные, и у туалета с тех пор стояла очередь, как в лавку за капустой, а вскоре уже и туалет был не нужен. Потом городская санитарная инспекция начала их выносить одного за другим, кто-то уже совсем мертвый, а кто-то еще нет. Твоя мать была одной из последних. А с ними и домовые выползли, вцепившись в животы и выдирая усы. У нас дизентерии не бывает, но мы ее чувствуем, когда болеют наши семьи. – Звонок дернула себя за один ус и посмотрела на отмытую розу на плитке пола. – Я чувствовала, когда ты схлопотала эту пулю в плечо. И штык в спину тоже. Столько я всего перестрадала с тобой. Ну, как бы то ни было, жилсовет пытался назначить новых жильцов, но мне они были не нужны.
Домовая сплюнула, аккуратно избегая чистого клочка пола, который оттерла Марья.
– Нет, не нужны. Толстые и ленивые, одни подхалимы и пьяницы! Они натолкали Багирлисов – всех восьмерых – в твою старую комнату наверху. А потом явились Грузовы. Муж и жена, крыс с крысой! Они стучали на всех в своем старом доме, так что этот дом получили в полное распоряжение! Это без детей-то! Я уверена, что старая матка этой самки хорька подавилась бы ребенком. Я ломала все, что под руку попадет, и стропила трясла, пока они не разбежались. Забавно, что никто с тех пор так и не попросил ордер! Ха!
Бес шлепнула себя по колену.
Марья Моревна легонько рассмеялась, хотя спина от этого заболела еще сильнее.
– О, Звонок, мне тебя не хватало.
– Ну, не могу сказать, что ты так уж сильно преуспела в жизни, я видела, какую орясину ты с собой притащила. Чую – доносчик, прям как Грузовы.
– Я так не думаю.
Но, с другой стороны, она у него и не спрашивала. Она же ничего о нем не знает, если не считать вкуса его поцелуев. Ничего, ничего.
– Бьюсь об заклад, Папа Кощей не заставлял тебя на коленях драить кухню от грязи. Небось ходила в кокошнике, усыпанном сапфирами, да полосатую кошку на коленях гладила.
– Не совсем.
Но самоцветов все же было немало, и обходилось без птичьих поцелуйчиков. Может быть, она неправа, может, поторопилась? Но думать сейчас об этом она не в силах – еще не в силах. Она должны была попытаться. Что она оставила позади? Войну, кровь и серебряные брызги будто звезды.
– Ну, после того как явился Вий, конечно. Я все это тоже чуяла, хоть и вдалеке от тебя. Но до этого. До этого было хорошо, да? Осетровая икра каждый вечер? Медные ванны?
Марья снова улыбнулась. Волосы соскользнули с ее спины.
– Да, это было хорошо, Звоня. До войны.
– Ну, Маша, я тебе кое-что скажу, моя девочка. Тебе надо угомониться. Я понимаю желание то и дело погарцевать на новом жеребце – думаешь, я не ходила полюбоваться на обои в другом доме каждую сотню-другую лет? Но менять тигра на маленького жирного котеночка… Ты понимаешь, о чем я? Он же будет просто пи́сать тебе на пол и не замечать тебя, если только ему не потребуется рыба, которой у тебя нет.
– Когда я его увидела, мне показалось, что я могу свернуться клубком внутри него, заснуть и никогда не просыпаться.
– Мужчины не очень для этого годятся, Маша. Они всегда будут хотеть, чтобы ты работала, за исключением того времени, когда ты смягчаешь их падение на кровать в конце дня.
– Я хотела снова стать живой. Я хотела быть кем-то еще.
Звонок встала, отряхивая свои красные брюки. Она уперлась руками в бока.
– Ну, надеюсь, что валяться на этом полу, как больная собака, – это как раз то, чего ты ожидала.
Домовая пожала плечами, подпрыгнула на одной ножке, три раза оборотилась вокруг себя, глубоко вдохнула – и остановилась. Она на секунду прищурилась на Марью, полезла в карман жилета, вытащила оттуда что-то крошечное и белое. Оно росло и росло, пока наконец Звонок уже едва могла это удержать, и на пол упала фарфоровая чашка с вишенками на ручке, во многих местах треснутая.
Звонок прыгнула через обод ручки и исчезла.
* * *
– Маша! – раздался голос Ивана Николаевича, пробиваясь в дом вместе с охапкой прошлогодней листвы.
Марья Моревна рывком проснулась. Она оттолкнулась от пола кухни, чувствуя, как ее кости недовольно трещат. Спина все еще трясется, но страшная судорога отпустила. Она отряхнула черный жакет: в доме все еще было холодно, чтобы его снять, а у нее не было другой одежды – только еще командирская форма, про которую Иван сказал, что выходить в ней на улицу не надо.
– Я принес хорошие новости, Маша! – прокричал Иван. Его золотая голова появилась в двери кухни, и он улыбнулся при виде ее так, что комната осветилась, как от печки.
За ним робко следовала молодая женщина с длинной косой, которая держала на руках спящего младенца.
– Жилсовет был так рад, что кто-то хочет жить в этом проклятом старом доме, что они попросили, чтобы мы взяли еще только одну семью. Ну не замечательно ли это? Подумай, сколько у нас будет места. Марья Моревна, познакомься, пожалуйста, с Ксенией Ефремовной Озерной и ее дочерью Софьей. Товарищ Ксения учится на медсестру, так что нам с ней повезло, я уверен. Машенька, ты что, сама попробовала отчистить пол? Без мыла и ведра? Видите, Ксения, какая у меня прилежная жена?
Иван тараторил без умолку. Он нервничал, она это видела. Из него сочился страх, что их разоблачат. Она не была его женой. Марья пожалела его за то, что ему приходится это скрывать. Кому до этого дело? Она вспомнила о Грузовых и содрогнулась. Чего еще она о нем не знала? Ну и ладно. Она только хотела, чтобы он взял ее с собой в кровать и сделал так, что она снова почувствует себя теплой, почувствует солнце у себя внутри.
Но она лишь сказала: «Добрый вечер, товарищ Озерная».
– Добрый вечер, Марья Моревна, – ответила молодая женщина с темными глазами, полными тепла и надежды.
Как она, должно быть, одинока, подумала Марья.
– А где отец ребенка? – спросила она с любопытством и не без холодности. Она не хотела вынюхивать личные секреты, но ей было интересно.
– Он умер, – горько ответила молодая женщина. – Мужчины умирают. Они, можно подумать, только для этого и созданы.
Иван Николаевич прочистил горло:
– Ну, у нас еще будет достаточно времени, чтобы поделиться историями из жизни. Ксения Ефремовна, вы предпочитаете вверху или внизу?
– Пожалуйста, – поспешила вмешаться Марья прежде, чем женщина ответила. – Занимайте низ. Это ближе к печи. Лучше для младенца. – А наверху – мой дом, добавила она молча.
– Спасибо, нам будет удобно в любом месте. Но здесь – действительно лучше. Я часто принимаю ванну.
Иван просиял:
– Вы извините нас, товарищ Озерная, мне нужно перемолвиться словечком с моей женой.
– Конечно.
Марья легонько фыркнула. Какой ты странный, Иванушка, выставляешь ее из комнаты, которую только что ей предоставил.
Ксения Ефремовна нырнула в гостиную, где когда-то Малашенковы бранились из-за румян. Где Светлана Тихоновна развесила свои афиши. Дочь Фараона. Жизель. Спящая Красавица.
Иван Николаевич сгреб Марью в охапку. Он зарылся лицом в ее волосы.
– Маша, – зашептал он, – не смотри на этот дом. Не смотри на мертвую печь, на дыру в крыше. Я починю все это для тебя, верну тебе дом детства, и тогда ты узнаешь, что не ошиблась, выбрав меня. Увидишь, как хорошо я тебе послужу.
Марья Моревна вздохнула через его плечо. Она вдохнула его запах. Да, вот так. Так гораздо лучше. Расскажи мне, да поподробнее, почему это был единственный выбор.
– Пошли наверх, – прошептала она.
И они пошли. Когда они проходили кухню, Марья заметила, что лужа воды, идеально круглая, зарябила в том месте, где стояла молодая женщина с косой и ребенком на руках.
* * *
Так оно и пошло. Жилсовет прислал людей отремонтировать крышу, и Иван широко ухмылялся, как бы говоря, смотри, я тоже командую людьми. С помощью грубого мыла и щелочи они выжгли всю грязь и притаившуюся заразу с кухонного пола. Все розы на плитках расцвели – хотя уже и не такие розовые, как когда-то, а выцветшие и коричневатые. Иван ведрами выносил золу из печи, и, о! как же Марья рыдала, когда увидела среди серых углей обугленный уголок журнала, обожженный клочок с краешком дамской шляпы в перьях. Они вчетвером собрались в кухне, чтобы в первый раз разжечь чистую печь. Младенец Софья хлопала пухлыми ручками, и они все дули на маленький огонек, пока он не занялся. Сажа, дым, запах опилок и сосновых иголок наполнили дом, но было тепло. Тем вечером Ксения сварила на всех доброй ухи из соленой скумбрии, которую она припасала для особого случая, и зеленого благоухающего укропа, выращенного на окне и уже изросшего толстыми новыми стеблями.
Им выделили мебель и продуктовые карточки в соответствии с новой должностью Ивана Николаевича в городской ЧК. Марья засмеялась, когда услышала эти слова – Чрезвычайная Комиссия.
– Но это же бессмыслица, Иванушка! Что такого чрезвычайного происходит?
– Ну, это вроде полиции, Маша.
Но она никогда не могла этого понять. Все эти буквы, сокращения, коды, цвета менялись, как музыкальные стулья, каждую неделю, каждый месяц. Игры демонов. Для нее это ничего не значило, разве только забавляло, как тогда, когда Наганя хотела играть в допрос, а все остальные в шахматы.
Иван купил ей три платья и два брючных костюма: один черный и один коричневый. Она не носила платьев. Они висели на пустой штанге от занавески – красное, белое и желтое – и заслоняли солнце. Часто Марья, Ксения и младенец вместе гуляли по рынку, чтобы добыть картошки, хлеба, капусты и лука. Иногда попадалась рыба. Иногда – нет. Если звезды правильно выстраивались, то могли привезти свеклу, но, как правило, она кончалась к их очереди. Ксения Ефремовна и Марья тогда шутили о богатствах, которые урывали люди впереди них:
– Тем, кто приходит в три часа утра, достаются бананы!
– Старая вдова Ипатьева сожрала весь шоколад. Посмотрите на ее коричневые зубы.
И Марья думала, вообразите-ка, я заделалась настоящей ленинградкой.
И ночью, в узкой кровати, в свой старой комнате, Марья Моревна крепко удерживала Ивана внутри себя, добиваясь его покорности, стараясь перелить его душу в себя. Только тогда она чувствовала себя целой и укорененной – но все равно не самой собой. Сестрой Анны, Татьяны и Ольги. Дочерью двенадцати матерей. Юной пионеркой. Девочкой шести лет – и никаких птиц, никаких.
Марья начала подкарауливать дом, как она это делала когда-то, беспокойно и неустанно. Она расхаживала. Читала, думала, говорила. Сон приходил к ней короткими внезапными урывками, ночью она совой таращилась в темноту. Она боялась спать и все еще боялась покидать дом. Всякий раз, когда она выглядывала из длинного узкого окна на вишневое дерево, где когда-то мимолетно собирались мужья ее сестер, ей казалось, что она может снова увидеть Буян, весь алый, весь из костей, весь сияющий, целый, без малейших признаков серебра. Или, того хуже, увидеть, как бесцветная страна Вия просачивается через щели сюда, в Ленинград. Она не понимала – то ли она стремилась все это увидеть, то ли боялась. Ее тело все еще напрягалось, в любой момент готовое снова взяться за винтовку (теперь спрятанную под кроватью, а сверху – Иван, будто он тоже мог воспламениться и выстрелить в ее руках) и бежать впереди всех этих людей, всех этих вязаников в мягких бесшумных сапогах. Она едва не выпрыгивала из своей кожи, услышав взрыв хохота и болтовню юношей и девушек, который шли под ее окнами на Невский проспект в кафе, в кино, к мороженому, – выпрыгивала, готовая накинуться на них и перегрызть им глотку.
Дом определенно съеживался, она была уверена. Там, где она когда-то насчитала и бесконечно пересчитывала пять шагов от исчезнувшей кобальтово-серой занавеси до ныне не существующей зелено-золотой, теперь осталось только три шага. Но, с другой стороны, может, ее шаги стали шире. Нас осталось так мало, подумала она и той ночью оставила для Звонок башмак. Иван, вечно недовольный ее ненасытным аппетитом на обувь, обозвал Марью ненормальной, волчицей. Она вздрогнула. Той ночью, пока он спал, она внезапно набросилась на него и жестоко укусила за щеку. Она не была ни сумасшедшей, ни волчицей – уже нет. Он смотрел на нее, пораженный, с изумлением и обидой. Она поцелуями слизала всю кровь и восставила его плоть для себя, для своих пальцев и своих губ. Он протестовал, уже запустив руки в ее волосы. Мне завтра рано на работу, Маша!
Ты что думаешь, я прошла мир живых и мир мертвых для того, чтобы быть любовницей Партии? Я твоя преданность, я твой комиссар!
И он уступал ей. Всегда.
* * *
Странные привычки Ксении Ефремовны Марья Моревна обнаружила из-за того, что не могла спать. Одной длинной, непроницаемой январской ночью заморская королева прокралась вниз, чтобы приложить замерзающие ступни к печке, стараясь ступать совсем неслышно, на цыпочках, чтобы не разбудить ни студентку-медичку, ни ее малютку. У ребенка отросла шевелюра темных спутанных волос, и она непрерывно лепетала что-то, перемежая неразборчивый поток словами «мамочка», «София», «молоко», «рыба». София только что научилась ходить и терроризировала всех безрассудными пробежками по коридору и через гостиную. Вопреки опасениям Марья обнаружила их неспящими посреди беззвездной ночи, ожидающими, когда на кирпичной плите закипит большой чайник.
– Добрый вечер, Марья Моревна! – прошептала Ксения. – Что случилось?
Младенец бессмысленно помахал ей пухлыми ручками.
– Ничего, Ксюша, я просто замерзла. Старая крыша все еще сквозит. Можно мне посидеть у печки?
Ксения Ефремовна нахмурилась:
– Конечно. Нет ничего моего, что не принадлежало бы всем.
Марья также услышала и невысказанную часть: и зачем только тебя принесло?
Марья притулилась вместе с ними у теплых кирпичей печки. Ее тело вбирало слабое сонное тепло. Она вложила палец в ручку Софьи.
– Она крепко сжимает палец. Может, вырастет хорошим солдатом.
Ксения уставилась на нее. Марья вечно говорила что-то не то, особенно при ребенке.
– Ты уже учишь ее словам? – попробовала она еще раз.
– Да, она очень смышленая.
Будто поняв, что сейчас ее черед говорить, София взмахнула ручками и пронзительно выкрикнула: «Вода!» – после чего буйно захихикала.
– Да, моя рыбка! Пора в водичку.
Ксения неловко сложила руки.
– Мы стесняемся, – добавила она.
– Я отвернусь, если это поможет. Я все еще не согрелась. Но почему вы принимаете ванну, а не спите? Когда спишь, смерть не страшна.
Молодая медичка тяжело вздохнула, разматывая свои длинные косы и распуская темные волосы, все еще слегка влажные.
– У меня есть… особенность. И у дочки тоже. Нам становится… хуже, когда наша кожа полностью сухая. Наши волосы. Особенно это опасно ночью. Наволочки впитывают столько воды. Для себя я бы даже чайник не стала греть, но моя маленькая рыбка не переносит воду из крана.
Марья Моревна, склонив голову на плечо, наблюдала за студенткой с вороньей зоркостью. Русалки все такие, знала она по своему обширному опыту. Если они высохнут, падают замертво. В Буяне русалки держали огромный крытый бассейн со стеклянным потолком, с множеством ванн, полных чистой голубой воды, и горячих саун, чтобы можно было остаться в городе на ночь. Дома, в своих озерах, им не нужно было беспокоиться – быстрый заплыв, и они снова сияют, поют, топят любовников с радостью и страстью. Но вдали от зеленых травянистых глубин привычных горных водоемов они становятся жертвами своих же бесчисленных сокровенных ритуалов, необходимых для того, чтобы русалка доживала до следующего дня.
– Я знала кое-кого с такой же… особенностью, – медленно сказала Марья. Она не была до конца уверена, не решалась вызвать молодую женщину на откровенность.
Ксения Ефремовна вперила в нее глубокий стойкий взгляд:
– Я совсем не удивлена, товарищ Моревна.
В молчании кухни, нарушаемом только шуршанием обугленных щепок в печке, Марья помогла Ксении наполнить маленькую ванночку водой и окунуть туда ее длинные волосы. Марья разглаживала кудри молодой женщины, старательно смачивая каждую прядь. В порыве она поцеловала ее мокрый лоб.
Утром они об этом не говорили.
* * *
Была ли она счастлива? Думала ли о Кощее? Она видела себя с большого удаления, двигалась будто под водой. Она снова начала напевать про себя. Причиной могло быть что угодно: запах падалицы вишни за окном; треск радио, который раньше всегда пугал ее; острая резкость уксуса, который Ксения использовала, чтобы сохранить половину продуктов: яиц, грибов и капусты, – приносимых с рынка. У Ксении лучше получалось быть живой, чем у Марьи. Марья принимала эту разницу, и только раз в день, в сумерках, заглядывала она за влажное плечо подруги, ожидая увидеть, как Наганя неодобрительно щелкает челюстью в углу. Но ничего не видела, ее друзья не последовали за ней или хотели оставаться невидимыми. Марья не знала, что ей нравилось больше.
И потом, Иван, всегда Иван, его движения внутри нее, то, как она умела принудить его подчиниться ее воле, получать небольшие подношения, гребень, чашку воды. Она цеплялась за него, потому что тогда казалось, что покинуть Буян было правильным и могло остаться правильным навсегда. Он не говорил о своей работе. Она не спрашивала, чем он занимался, когда покидал ее. Иван Николаевич, казалось, не имел ни малейшего представления, что ему с ней делать теперь, когда она вернулась в Ленинград, сделала, как он просил. Я могу найти тебе работу, Машенька. Ты бы хотела работать? Хотела бы завести товарищей? Но она не хотела. Она хотела только отдыхать и читать свои старые, вспухшие от влажности книжки, осторожно, очень осторожно переворачивая страницы.
– Иванушка, – спросила она однажды ночью под звяканье уличной музыки за окном. – Ты бы выполнил мое задание, если бы я попросила?
– Ты о чем это?
– Ты бы… Добыл мне перо жар-птицы, или достал бы кольцо со дня моря, или украл бы золото у дракона?
Иван надул губы:
– Все это так старомодно, Маша. Это все часть твоей старой жизни и старой жизни России. Нам теперь в этом нет нужды. Революция чисто вымела все темные углы мира. Да, остатки все еще выглядывают из нижнеземья: Кощей, парочка Гамаюнов. Но все они не имеют значения. Старый мир оставил валяться свои высохшие сломанные игрушки. Но уже скоро мы все приберем. Кроме того, в Ленинграде жар-птицы не водятся.
Марья Моревна повернулась к нему спиной, а он поцеловал ее между лопаток.
Главное, что ее сковывало, пеленало по рукам и ногам, – непреходящая усталость. А еще – руина вместо дома; фильм, наложенный поверх другого фильма так, что она могла смотреть на стену и видеть на ней Светлану Тихоновну и свою мать, спорящих за порядок стирки; Землееда, который скребет своей лапищей, и покрытую кожей стену в Буяне, таком далеком теперь. Всюду ее зрение удваивалось и утраивалось, и голова ее наливалась от этого тяжестью. Все происходило в одно и то же время, следующее – поверх предыдущего.
Была ли она счастлива? Думала ли о Кощее?
Она думала о грибах, об уксусе и о старых ранах.
* * *
Наконец, после того как минул год жизни в доме на улице Дзержинского, Марья села на своей кровати у длинного узкого окна. Она смотрела на красное платье, что висело на окне. Платье было с пышной юбкой и глубоким вырезом. Платье для молодой женщины.
– Что такое тридцать три? – спросила она у пустого дома. – Старость?
Так что она надела это платье и распустила черные волосы до талии. Она взяла у Ксении помаду – ей было все равно какую – кому на это смотреть! Марья научилась красить губы получше, так что получалось аккуратно. Марья Моревна сошла по лестнице и положила руку на ручку большой двери вишневого дерева. Она собралась прогуляться до реки, купить себе мороженого, и кто-нибудь, может, потанцует с ней в танцзале, даже не зная ее имени. Она чувствовала доносящийся снаружи запах расцветшей рано в этом году акации, среди длинных позолоченных сумерек, которые в июне считались в Ленинграде за ночь. Молодой человек играл на скрипке где-то неподалеку, нахально напевая: «Мы встретимся вновь в городе Львов, я и моя любовь…»
Марья Моревна повернула ручку и открыла дверь в город. Она стояла на пороге в ярком красном платье, и лицо ее наливалось кровью. Мужчина смотрел на нее сверху вниз, потому что был высок ростом. На нем было черное пальто, хотя вечер стоял теплый, и ветерок раздувал темные кудри, похожие на баранью шерсть. Медленно, не отрывая взгляда от ее глаз, мужчина опустился на колени перед ней.
– Я пришел за девушкой в окошке, – сказал он, и его глаза наполнились слезами.
Глава 21. В этом доме нет подвала
Иванушка, пообещай мне.
Все, что пожелаешь, жена.
* * *
На следующий день свет чистейшей пробы упал на улицу Дзержинского как холодный удар молота. Утро минуло, а свет был все так же хорош. Глянцевый, неуступчивый, безжалостный. Молодая женщина в шапке с бледно-голубой лентой резко постучала в большую дверь вишневого дерева. Она никогда не была птицей – ни грачом, ни зуйком, ни жуланом, ни совой. Ее резкие черты были под стать утру – безжалостные и четкие. Она постучала снова.
* * *
Иванушка, как бы странно это не казалось, ты должен меня слушаться.
Всегда слушаюсь, жена.
* * *
Человек в черном пальто протянул к ней одну руку, будто не мог поверить, что это действительно она.
– Я смотрю на тебя, Маша, и это как глоток холодной воды для меня. Я смотрю на тебя, и будто мне полоснули ножом по горлу.
– Поднимись с коленей.
В груди у нее болело. Она чувствовала себя старой, а ветер с реки сулил что-то сладкое, но несбыточное.
– Я не мыслю мира без тебя. Я старался. Целый год я называл каждое черное дерево Марьей Моревной. Я искал черты твои в узорах льда. Утратив тебя, я чах в темноте, как чах когда-то над бледным златом.
– У всех трудные времена. – Мне трудно. Никогда не было никакого выбора, потому что и здесь трудно, и там трудно. Невзгоды повсюду.
– Я отказываюсь, – прошептал он.
– Никто не может отказаться.
– Неужели жить здесь – такое блаженство?
Марья Моревна опустилась на колени, ее платье собралось и выплеснулось за порог, словно лужа крови. Она прижалась лбом ко лбу Кощея:
– Как там война?
– На войне все плохо.
* * *
Иванушка, этот дом – мой, что бы не говорилось в бумагах.
Да.
* * *
– Меня зовут Ушанка, – сказала женщина с синей лентой на шапке, расправляя жесткую коричневую юбку, после того как уселась, – нам стало известно о некотором непорядке, и я обязана попросить вас привести его в порядок, товарищ Моревна. Ответьте на мои вопросы и сможете дальше заниматься обычными делами по вашему усмотрению. Гулять у реки, печь булочки.
Марья легко присела в вытертое зеленое кресло, желая оказаться где угодно, только не здесь, готовая сорваться с места, как олень. Но Иван Николаевич говорил, что, если кто-то придет задавать вопросы, она должна на них ответить, хочет она этого или нет.
– Хорошо.
– Я работаю с вашим мужем, вы это знаете.
– Нет, мы не обсуждаем его работу.
– О, какое правильное поведение добропорядочного гражданина – просто бальзам на душу. И все же, я должна вернуться к непорядкам.
– Да-да, – ни один мускул не дрогнул на лице Марьи. Игрой в допрос она владела так, что этой женщине даже не снилось.
– Вы, конечно, признаете, что это довольно странно, когда мужчина возникает из ниоткуда после длительной отлучки со службы, и внезапно у него оказывается жена, хотя раньше никакой жены не было.
Улыбка Ушанки была такой широкой и искренней, будто они были старыми друзьями.
Марья усилием воли не позволяла себе перебирать пальцами. Она смотрела прямо перед собой:
– Солдаты часто встречают женщин в дальних странах.
– Так ты иностранка, выходит? А по-русски говоришь отлично.
Она зачеркала ручкой в блокноте.
– Нет-нет. Я родилась здесь, в Ленинграде. До революции, конечно.
– Да уж конечно. Позволь задать мне очевидный вопрос, товарищ Моревна. Прости, что вторгаюсь в личную жизнь, но это моя работа. Ты – официальная жена товарища Ивана Николаевича Героева?
* * *
Иванушка, если ты нарушишь это обещание, это будет все равно как разбить старинный хрустальный бокал. Ничем уже будет не поправить дело.
Я понимаю.
* * *
– Возвращайся со мной, – настаивал Кощей. – Спрячься внутри меня, как раньше. Я насыплю самоцветов в твой подол, сколько захочешь. Если у меня будешь ты, Вий может сжечь этот мир дотла. Черносвят уже весь его. Над моей страной вьется серебряный флаг. Поехали со мной. Я добуду свою смерть и расплющу ее молотом, Вий сможет заполучить нас, и в его серебряной стране я залюблю тебя до самого конца света.
Марья потерлась своим носом о его, как нежное животное.
Кощей Бессмертный закрыл темные глаза:
– Я могу забрать тебя, даже если ты скажешь «нет».
– Я знаю, что ты можешь. – Она чувствовала, как ее слова отдаются внизу живота.
– Но я не стану этого делать. Куда слаще отплатить ему той же монетой.
– Я не хочу, чтобы меня таскали туда-сюда между вами двумя, как кость между собаками. Вы оба обещаете одно и то же и никогда не выполняете обещаний.
* * *
Иванушка, сложно будет выполнить обещание. Тебе придется потрудиться, чтобы сдержать слово.
Скажи, что я должен сделать.
* * *
Отложив блокнот в сторону, Ушанка наклонилась вперед. У нее был длинный римский нос с горбинкой.
– Мы уже знаем, товарищ Моревна. Никто тебя не накажет, если ты просто признаешь то, что стало общеизвестным. Для товарища Героева уже слишком поздно, но нет никакой нужды винить в этом происшествии тебя.
Марья моргнула:
– Что это такое вы знаете?
Ушанка с наслаждением пожала плечами:
– Кто знает, что я знаю? Может быть, я знаю что-то сейчас, но забуду, когда уйду. Все зависит от тебя, товарищ.
Заморская королева пыталась вспомнить, как Наганя любила играть в эту игру. Нет, нет, Маша! Ты не должна так отводить глаза! Так я сразу узнаю, что ты лжешь! Ты не так все делаешь! Вот скажи мне сейчас, что ты невиновна, а я будто бы вырву у тебя ноготь.
– Уверяю вас, что бы вы ни думали, что я сделала, я в этом не виновна.
– Вот оно что. – Ушанка постучала незажженной папиросой по колену. – Я совершенно уверена, что так оно и есть. Ты позволишь?
Марья Моревна заколебалась, но молодая чекистка уже щелкнула медной зажигалкой, поводя кончиком папиросы над пламенем.
– Вот почему мы с тобой можем общаться. У нас просто полуденная беседа, как с дамами случается. Чашка чая, папироса? Только маленькие любезности и никакого вранья. Так, товарищ Героев докладывает, что встретил тебя в окрестностях Иркутска, недалеко от монгольской границы. Это верно?
– Похоже, что так.
Она понятия не имела. География – это все такое расхожее, текучее, ненадежное.
– И что же привело тебя в такие отдаленные края, если ты говоришь, что родилась в Ленинграде, в этом самом доме? И почему у тебя нет проездных документов? Или удостоверения личности? Видишь ли, я тебя знаю, товарищ Моревна – или правильно Героева? Я заметила, что ты не ответила на мой предыдущий вопрос. Молчание говорит само за себя, конечно, и я не стану смущать тебя, повторяя вопрос снова. Видишь, как быстро мы продвигаемся!
Мария слабо улыбнулась.
– Я сказала что-то смешное?
– Ты напомнила мне старого друга – вот и все.
* * *
Иванушка, я знаю, что ты нарушишь обещание.
Ни за что.
* * *
– Возьми это, – вздохнул Кощей.
В ее руке черное яйцо, оправленное в серебро, усеянное холодными бриллиантами, кажется таким тяжелым.
– Ты катал его по моей спине. Чтобы вытянуть мои кошмары.
Марья завороженно следила, как яйцо переливается на свету.
– Это моя смерть. О, моя волчица, разве ты не видишь? Я всегда был в твоей власти. Я всегда был беспомощен.
– А как насчет мясника в Ташкенте?
Уголки губ Кощея дернулись:
– Он передает привет.
Марья повертела яйцо в руках. Бриллианты кололись, выступила кровь. В темной глубине ее существа открылась дверь. Она стояла, высокомерная, с пустыми глазами, отстраненная, как когда-то. Наконец она поняла. Поняла, кем она могла бы стать.
– Пойдем со мной, Кощей.
* * *
Иванушка, никогда не ходи в подвал этого дома.
Не открывай дверь. Не гляди в замочную скважину.
И это все?
* * *
– Товарищ Моревна, позволь мне выложить все карты. Когда в жизни гражданина что-то неправильно, это все равно как весь день проходить в рубашке наизнанку. Случайному наблюдателю может показаться, что все нормально, но на самом деле естественный порядок вещей был нарушен. Даже если на нем пальто, даже если всему миру он кажется образцовым человеком, что-то внутри него шиворот-навыворот. Я предполагаю, что за время своего отсутствия товарищ Героев стакнулся с антиреволюционными элементами и продолжает их дело даже в самом сердце Ленинграда.
Марья громко рассмеялась:
– Вот что ты думаешь?
– Или так, или ты сама шпионка, которая присосалась к нему, как минога к большой рыбе, и прячешь даже сейчас – на чердаке? в подвале? – мятежных личностей, составляющих большой интерес для меня и для тех, кого я представляю. Скажи мне, товарищ. Что я обнаружу, если загляну в твой подвал прямо сейчас?
Ушанка затушила сигарету о подоконник.
* * *
Иванушка, для тебя в этом доме нет подвала.
Я обещаю, жена.
* * *
Подвал дома на улице Дзержинского пропах тенями и заброшенностью. Старые банки с луковицами, сморщенными до размера нафталиновых шариков, затянуло пеленой паутины. Тут же валялись ржавая пишущая машинка, ящик гвоздей, портняжный манекен и остатки трех кувшинов с давным-давно перебродившим домашним пивом, которое разорвало стекло, и даже пена, и та уже окаменела и раскрошилась. Кощей обхватил длинными руками талию Марьи и прижался щекой к ее волосам. Она сдавила черное яйцо в ладони, он застонал, не отрывая лица от ее волос. Она спрятала его смерть в платье, между грудями, у самого сердца.
– Встань к стене, Кощей.
Он беспрекословно подчинился. В куче мусора Марья Моревна нашла, как бы по наитию или по волшебству, то, что искала, – моток заплесневелой веревки. Она встала напротив Кощея – насколько же он выше ее, – прижавшись бедрами к нему по старой памяти. Она подняла его изящную руку и обвязала ее веревкой, конец пропустила через железное кольцо, на котором когда-то висел крюк для копчения мяса.
Кощей Бессмертный посмотрел на узел:
– Это меня не удержит. Это смешно. Я дохну на него, и он рассыплется.
– Что бы это доказывало, если бы ты не мог выбраться? – мягко спросила Марья и поцеловала его бледный рот в темноте. Ей казалось, что детское обожание Кощея лихорадочно вскипало в ней. Мне нужно это. Нужно. Ты не можешь меня отвергнуть. Она подняла другую его руку и тоже привязала ее, подтянув обе руки высоко над его головой.
Он повис на стене, и слезы струились по его лицу:
– Я люблю тебя, Марья.
Она прижала палец к его губам:
– Тебе нет нужды говорить, Костя. Есть только один вопрос: кому водить? И на него нельзя ответить словами. Ты не будешь двигаться. Ты не будешь пытаться распускать узлы. Ты пострадаешь для меня, как я страдала для тебя. Тогда я буду знать, что твое подчинение мне – полное и истинное. Что ты достоин меня.
Марья Моревна обхватила лицо Кощея ладонями и прижалась к нему лбом.
– «Мы с тобой, ты и я, мы сделаем что-то необычное», – прошептала она. – Помнишь, когда ты мне это сказал, как давно это было? Ты знаешь, что мы сейчас делаем? Я скажу тебе, чтобы потом ты не мог говорить, будто я тебя обманула. Я забираю у тебя мою волю, а с ней я забираю и твою. Из уго́льного ушка, спрятанного в яйце, спрятанном в курице, спрятанной в гусе, спрятанном в олене. Когда мы закончим, ты отдашь мне свою волю, а я сохраню ее для тебя в целости. – Она улыбнулась с безмятежно закрытыми глазами. – Я очень хорошо научилась отдавать свою волю возлюбленному. Я стала крупным специалистом, можно сказать. А ты между тем новичок. Меньше даже чем новичок. И как хороший новичок, ты должен проглотить свою гордость.
Марья отпрянула, с блестящими глазами и пением в крови. Затем она повернулась и пошла по лестнице, волоча за собой по черным ступеням подол красного платья. Она закрыла за собой дверь и повернула ключ.
* * *
Спасибо, Иванушка, ты так добр ко мне.
Это все, чего я хочу в жизни, – быть добрым к тебе.
* * *
Глаза Марьи засверкали внезапным интересом, даже восторгом.
– Ну не весело ли это? – сказала она с улыбкой, которая зародилась на одной стороне лица и медленно проделала путь на другую сторону. Это игра, всегда игра. И когда ты наигрался, когда тебе стало скучно, ты просто объявляешь конец и идешь собирать грибы при свете луны.
– Прощу прощения, – отпрянула товарищ Ушанка.
– Мне нравится играть. Ты играешь просто здорово! Будто все это на самом деле. Будто все сокращения, цвета и комитеты тоже реальные, хотя они игрушечные. Занимательные, но в конечном итоге – утомительные.
Ушанка залопотала, сжимая свой блокнот:
– Уверяю тебя, товарищ…
– Приходи завтра опять поиграть, ладно? А то так скучно! Я чувствую, что мы уже подружились. – Убирайся, убирайся! шипело тело Марьи, но она продолжала улыбаться.
– Я еще не закончила, товарищ Моревна!
– Ну ладно, ладно, Ушаночка, уже почти обед, нет ничего такого важного, что бы помешало обеденному перерыву.
Ушанка прекратила лопотание. Она опустила перо и блокнот, сложила поверх них руки и медленно улыбнулась по-волчьему.
– Да, товарищ Моревна, – прошептала она, – это было весело.
Она тихо пошла к двери и уверенно взялась за ручку своей недрогнувшей рукой.
* * *
Когда женщина ушла, Марья охватила шею рукой, слушая, как ужасно колотится сердце, как пот покалывает под тонкими волосами на висках. Она смотрела, как Ушанка идет вдоль по длинной узкой улице. С подола юбки свисала распустившаяся нитка, отражая луч солнца.
Глава 22. Каждый из них – Неуловимый
Марья Моревна вынашивала свой секрет как дитя. Сердце ее раздулось от него, потому что секреты – любимая пища для сердца. Жизнь ее перегнулась пополам, и сгибом стали полы в доме на улице Дзержинского, разделившие ее мир на верх и низ, на день и ночь, на Ивана и Кощея, на золото и кости.
– Клянусь тебе, март уже трижды в этом году приходил, Ксения Ефремовна, – сказала она утром, ставя чайник, глядя, как чай растворяется в воде, будто краска, успокаивая Ксению, кроша сосиску на сковородку. Марья положила руку на сердце, чтобы удержать секрет внутри. Ксения засмеялась и ответила, что снег слишком полюбил Ленинград, чтобы отступиться раньше июня. Они разговаривали как две молодые женщины со своими женскими заботами, а маленькая Софья колотила деревянной ложкой по столу, голося «Мамочка, мамочка», словно жалобную песню козодоя.
Когда Ксения уйдет на учебу, Марья Моревна возьмет связку железных ключей и откроет дверь в подвал. Ее секрет вырвется к ней из темноты, и сердце поведет ее вниз.
* * *
– Сегодня ты выглядишь старым, – шепчет она и прижимается всем телом к телу Кощея Бессмертного, привязанного к стене.
– Я всегда был старым. Просто сейчас ты хочешь видеть мою старость.
– Если я тебя поцелую, ты снова помолодеешь?
– Я всегда буду старым.
И поцелуи, которые дарил ей Кощей в сыром заплесневелом подвале, были самыми сладкими поцелуями в ее жизни, такими сладкими, что зубы ныли. Она прислонялась к нему, или молотила его кулаками и обвиняла, что он забрал ее девичество, или овладевала его телом, как ей понравится. Иногда, когда она поднимала свои руки вдоль его поднятых рук, он улыбался так блаженно, что она думала, будто он умер. Однако его возбуждение опровергало смерть, и там, где его семя проливалось на пол подвала, вырастали странные синие растения. Когда они расцвели, из них потекла пыль, и цветы снова умерли. Когда она спрашивала его об этом и еще почему у него иногда появляются морщинки, и острые зубы, и длинные торчащие кости, Кощей Бессмертный отвечал: «Когда ты чувствуешь себя больше всего живым, Марья, но ближе всего к смерти? Вот где я живу. Вот из чего сделано мое тело».
И она преклоняла голову на его груди, так что ее длинные черные волосы покрывали его наготу сутаной. Она шептала: «Я думаю, что наконец мы теперь женаты, ты и я».
Когда Иван возвращался с работы, он тоже часто выглядел старым. Он молча ел котлеты с хлебом с какой-то угрюмой свирепостью и с тем же угрюмым видом обертывал Марью своим телом, и покрывал поцелуями ее тело, и проклинал жену за то, что тела так мало. Эти поцелуи тоже были сладкими, такими сладкими, что кружилась голова, и она курсировала между ними двумя, как трамвай, сверху вниз, снизу вверх. Марья Моревна носила улыбку в кармане, близко к коже, чтобы никто не украл. В уме она чахла над своим секретом, над своей наживой, будто над золотом. Если она выходила на рынок, то, возвращаясь, спешила ворваться в дом, расстегивая на ходу пальто и блузу, чтобы прижаться грудью к губам Кощея в погребе. Если Иван задерживался, она расхаживала и топталась, чтобы тот слышал, как она ходит, и поспешил бы домой к ней, – но и так, чтобы Кощей понимал, кого она поджидает. В те дни из мяса она ела только нежнейшие куски.
– Тебе так нравится, Костя? Висеть здесь, в темноте, поджидая меня? – спросила она Кощея Бессмертного однажды, пока квадратик света из одного крошечного подвального окна медленно полз по полу.
– Да, – шептал Кощей, закатывая глаза, когда она целовала его в шею и гладила его грудь, как любимую кошку. – Это новое.
– Проиграть войну – это тоже новое, правда?
– Все в новинку, волчица. Революция же была, ты разве не слышала?
Ивана она целовала ровно семьдесят раз каждую ночь, и ни один поцелуй не повторялся. Она говорила ему: «Помнишь, где я жила раньше? Что мы были на войне? Что я была воином?»
Иван зевал:
– Все это было так давно, Машенька. Будто во сне. Иногда я и в самом деле думаю, что это был сон. Поражаюсь, что ты все это помнишь.
– Я не могу забыть ничего. Воспоминания прилипают ко мне.
– И что к тебя прилипло сегодня?
– Если война начнется здесь, я думаю, что война там закончится. Призраки сожрут все, потому что их утробам надобно поглотить весь мир, чтобы заполнить только один крошечный уголочек.
Иван повернулся на бок лицом к ней, длинный, широкий, как насытившийся лев:
– Я говорил тебе. Это не война, а заморское чванство. Немецкие дела. К нам отношения не имеют.
* * *
В апреле снег таял целую неделю. На Сенной загудели ярмарки, и Ксения Ефремовна настояла на том, чтобы взять ребенка и Марью и пойти посмотреть на аэростаты.
– Мамочка! – кричала Софья. – Как их много!
И она хваталась за небо ручонками.
Весеннее солнце с одышкой карабкалось на небо, а они шагали домой вниз по бульварам, у каждой в руке по пирожку с кровавыми вишнями.
– Что это? – внезапно спросила Марья. Она говорила о черном доме на улице Декабристов, который вырос между двумя жилыми домами.
Ксения Ефремовна ответила ей:
– Это дом, который они разрисовали самыми разными картинками из волшебных сказок, чтобы было чудесно и все люди приводили бы сюда своих детей посмотреть на него, как мы сегодня привели Софью. Видишь на двери жар-птицу, и Серого Волка на трубе, и Ивана-дурака, скачущего через заборы с Еленой Премудрой в руках, и Бабу Ягу, что бежит за ним с занесенной ложкой. А вот леший крадется в саду, и мавка, и водяной, и домовой в красной фуражке. А вон там, над кухонным окном, они нарисовали русалку. – Ксения повернулась к Марье: – И Кощей Бессмертный тоже там есть, ближе к подвалу. Его можно разглядеть на камнях фундамента.
Марья положила руку на сердце.
– Ну разве не чудно, во что верят люди? – спросила будущая медсестра.
– Да, – ответила Марья, задрожав, и уставилась на этот дом, его краски, на то, как всякий нарисованный на нем, казалось, бежал, бежал, вечно гнался за кем-то, и каждый был неуловим в длинном замкнутом кругу. На глаза ее навернулись слезы. А где нарисована я? Разве я не была одной из них, героиней этих сказок, этого волшебства?
– Я имела в виду, – мягко сказала Ксения, – что, разумеется, я не буду спускаться в подвал. Тебе даже не придется брать с меня обещание.
Они протяжно помолчали. Солнце, жалуясь на ломоту в суставах, похрустывало костями на голых ветках липы. Марья снова захотела завести друга, и временами ей казалось, что уже завела. Живого друга, с румяными щеками.
– Почему ты захотела стать медсестрой, Ксения Ефремовна?
– Все лучше, чем быть русалкой, – ответила Ксения, пожав плечами. Марья подивилась, насколько непринужденно ее подруга уронила это слово. – Почему бы мне не желать чего-то лучшего? – продолжала она. – Разве не всякий этого хочет? Вот ты, например? Старый порядок хорош для стариков. Крестьянин хочет, чтобы его сын боялся красивых женщин, чтобы он не ушел из дома слишком рано, поэтому он рассказывает мальчику историю о том, как кто-то утопил друга свата его брата в пруду, и не потому, что он был сущей свиньей, которую стоило утопить, а потому, что прекрасные женщины плохие, а еще они ведьмы. И неважно, что она не просила быть прекрасной, или родиться в озере, или жить вечно, или не знать о том, как люди дышат до тех пор, пока не перестанут дышать. Так что я не хочу быть прекрасной, или женщиной, или кем-нибудь еще. Я хочу знать, как люди дышат. Я хочу, чтобы мою дочь приняли в пионеры, чтобы она выросла и стала кем-то важным, может, писателем, а может, иммунологом, чтобы выросла даже не зная, что такое русалка, потому что тогда я буду знать, что ее мир нисколько не похож на тот, в котором крестьянин говорит своим сыновьям, как плохи красивые женщины.
– Софа хорошая, – серьезно произнесла девочка и похлопала себя по голове.
* * *
Так случилось, что вскоре после этого пришла посылка с персиками из Грузии. Иван, Марья, Ксения и ребенок сидели за кухонным столом около кирпичной печки, которая все еще потрескивала и мерцала, поскольку оттепель не задержалась надолго и уступила очередной снежной буре, а потом и еще одной. Они смотрели на слегка перезревшие персики, на их пушок, на их зеленые листочки, все еще торчащие на стебельках. Для каждого из них персики означали лето – лето, солнце и дождь.
– Нам достались эти персики раньше всех в Ленинграде только потому, что я арестовал человека, который обсчитывал своих рабочих, – сказал Иван Николаевич.
– Почему они тебе их отдали? – спросила Марья Моревна, вертя персик в руках.
– Потому что я лучший по арестам. Это целое искусство, знаешь ли. Фокус в том, чтобы арестовать их прежде, чем они успеют навредить. Так лучше для всех.
Марья следила за ним краем глаза. Какое все-таки беспокойное существо человек.
– Я что имела в виду – даже несмотря на то, что ты под следствием, они все равно награждают тебя персиками?
Голос Ивана внезапно возвысился:
– Какое следствие? Кто-то приходил в дом?
– Товарищ Ушанка, которая работает с тобой. Она спрашивала, как мы повстречались. – Она поняла, что Иван не знал об этом. У товарища Ушанки тоже был свой секрет, и Марья видела это, хотя и не могла догадаться, что это за секрет. Рыбак рыбака…
Иван расслабился, покатав голову по плечам, чтобы размять кости:
– Ну, спасибо, утешила. Ты ошибаешься, Маша, в моем учреждении нет Ушанки. И ни в каком другом учреждении в городе. Я бы знал. Мне кажется, что твои мозги нуждаются в работе. Может быть, ты уже достаточно времени провалялась на боку, а?
Ксения впилась в свой персик, и сок брызнул сахарной струей. Звук ее укуса разрезал разговор надвое. Они вместе набросились на золотистые персики и вскоре проглотили все до единого. Косточки остались валяться на столе, как твердые красные пули.
Остался только один персик, который Марья Моревна спрятала в подоле. Она отнесла его Кощею в подвал, когда дом заснул. Она показала ему свою грудь и кормила его персиком, по кусочку за каждую ложь, в которой он признавался.
Я говорил тебе, что мне дела нет, что ты целовала лешего.
Я говорил тебе, что между тобой и Вием – щит.
Я говорил тебе, что не должно быть никаких правил.
Я говорил тебе, что есть разница между твоим миром и моим.
Я говорил тебе, что не могу умереть.
* * *
В тот самый день, когда Марья Моревна поднималась обратно по лестнице в свою жизнь, она краем глаза поймала серебряный отблеск. Марья рыла черный земляной пол подвала до тех пор, пока не раскопала то, что блестело, – старую щетку для волос Светланы Тихоновны, из все еще жесткой свиной щетины, в оправе из все еще яркого серебра. И когда она держала щетку в руках, роняя комки мерзлой грязи с пальцев, тени, висящие в подвале, подшились одна к другой, пока перед ней не встала старая вдова Лихо, точно такая, какой Марья ее запомнила, с черной спиной, согнутой под потолком. Она потерла длинными пальцами костяшки другой руки и с усмешкой вперилась в Кощея.
– Брат мой, девушки вредят твоему здоровью, ты же знаешь, – сказала она голосом, который, как и раньше, волочился по полу.
– Я вишу здесь по собственной воле, – сказал Кощей. – Она сама меня освободит.
– Я бы не стала, – хихикнула Лихо. – Никогда и ни за что.
– Тебе пора кое-куда отправляться, не правда ли, сестра? Выполнять мои планы, мои приказы, разве не так? Разве я не сделал распоряжений на время моего отсутствия, и разве ты не получила одно из них?
Глаза Кощея испепеляли ее ненавистью. Воздух между братом и сестрой скручивался и гнулся.
– О, но я должна была прийти! Я должна была прийти, чтобы посмотреть! Худшего невезения просто не придумать, знаешь ли. И худшего времени тоже. Ша! Из всех городов, из всех лет, именно здесь и сейчас! Слезы наворачиваются на мои старые глаза. Моя селезенка так горда. Ты идешь по стопам своей старой учительницы, в конце концов.
Лихо протянула длинную костлявую руку и ущипнула Марью за щеку, расплываясь в широкой улыбке во все лицо. Марья отпрянула. Она не понимала. И не хотела понимать. В ее пространство вторглись, хотя секрет принадлежал только им двоим. Она хотела вколотить Лихо обратно в черную гончую и пнуть ее.
Откуда-то издалека прилетел звук от сирены воздушной тревоги и раскатился над городом, над улицей, над подвалом.
Глава 23. История войны – это черная дыра
Смотрите, я поднимаю руки вверх, и между ними находится город Ленинград. Между моими поднятыми руками черная дыра, в которой Марья Моревна не разговаривает. Она не хочет, потому что думает, что история подобна сокровищу и должна принадлежать только одному дракону. Но я заставляю ее делиться; я не позволю ей быть единоличницей. Это в моей власти. Я не позволю ей говорить, потому что люблю ее, а когда любишь кого-то, не заставляешь его рассказывать военные истории. Военные истории – это черная дыра. На одной стороне – до, на другой стороне – после, а то, что между, принадлежит мертвым. Кроме того, что случилось между двух поднятых рук, то втиснуто между страниц книг мертвых, которые написаны на моих руках, потому что я умерла в этом месте, где Марья Моревна не говорит. Теперь все прояснилось, и теперь ты все поймешь.
Домовая всегда расскажет сказку лучше, чем человек, потому что она не будет пытаться сделать несчастья менее несчастными, чтобы мальчик, сидящий на коленях у бабушки, мог кивнуть и сказать: «Война – это ужасная вещь, правда, бабушка? Но это ничего, потому что некоторые люди все же выжили и даже детей завели». Я плюю на этого мальчика, потому что он думает только о себе, будто он сам непременно должен был родиться. Несчастье – это несчастье. Что с ним поделаешь? Ты просто живешь с этим несчастьем. Или умираешь. Жить лучше, но, если не можешь жить, что ж, иногда – такова жизнь. Так что я теперь все это прекращаю и объявляю, что пора мертвому поговорить с мертвым, и сейчас выход Звонка, если еще осталась сцена, куда выходить.
* * *
Долгое время ничего не менялось, только что Иван-Дурак и Елена Прекрасная наконец убежали от Бабы Яги, потому что в черный дом, на котором все они были нарисованы, попала бомба и дом сгорел. Это отличная стратегия, чтобы убежать от Бабы Яги, не правда ли, может, даже единственная, если ты – Дурак. Но черный дом сгорел, и красное облако дыма покрывалом опустилось на весь город, но не от дома волшебных сказок, а с продуктовых складов, где сгорело столько хлеба, масла и сахара, что позже бабушки пекли кексы из обожженной земли. Все вокруг пахло горелым жиром. Когда красные облака поднялись, будто театральный занавес, в Ленинграде началось чудовищное представление, только никто еще этого не замечал.
Сказочный дом горел целый день. Люди по очереди приходили посмотреть на него.
Марья Моревна не пошла смотреть на дом. Вместо этого она принялась смотреть в окно, что умела делать очень хорошо. Пушки страшно грохотали, будто колотили по небу, и я слышала, как звуки канонады пронизывают Марью, и она занимается огнем, словно дом. Она смотрела в окно, потому что боялась, что Ленинград может начать умирать, как умирал Буян, и она была права, но и не права тоже. Как я говорила вам, еще ничего не изменилось, кроме того, что все слышали пушки, все время – сначала сирены, а потом пушки, а потом сирен уже не было, потому что пушек было столько, что сирены не справлялись.
Дома Ленинграда рассчитались на первый-второй. Они сказали, сколько еще? А их кладовые сказали их подвалам, недолго уже.
С неба вместе со снежинками падали листовки. Они набивались в дымоходы, а на улицах их ловили молодые девушки и сразу же начинали плакать, неудержимо, будто кто-то открыл кран и заклинил его, чтобы нельзя было повернуть обратно. В листовках говорилось: Женщины Ленинграда, идите мыться в баню. Потом надевайте ваши белые платья. Вкушайте похоронную трапезу, ложитесь в свои гробы и приготовьтесь к смерти. Небеса станут синими от наших бомб.
Марья никогда не плакала. У нее тоже был кран, и его тоже переклинило.
Иван Николаевич дубасил свою ярость, как тесто. Та поднималась, и он голосил весь день:
– Марья, у тебя нет никаких документов, как я смогу добыть тебе продуктовые карточки! Что ты за черт, что у тебя нет никаких удостоверений личности? Каким же я был дураком, что взял тебя в свой дом. Ты меня сделаешь преступником!
– Это мой дом, – тихо отвечала Марья.
Они оба были неправы. Это мой дом. Но я дам им подраться за него, потому что он – дурак, а она – черт, как и я, а что такое мир, как не боксерский ринг, где дураки и черти бьются на кулаках?
Продуктовые карточки говорят: Вот сколько жизни мы тебе отмерили. Они говорят: Вот как долго мы можем отводить смерть от твоих дверей. Но не дольше. Они говорят: В Ленинграде вот столько жизни осталось жить. Они говорят: В Ленинграде только смерть не по карточкам.
И все же он выправил ей все документы, правда же? И не думайте, что я не заметила в этой пачке свидетельства о браке. Чернила еще не просохли, когда он принес их домой и бросил ей. Марья, когда я говорила, что выбрала бы тебе кого получше, я не такого имела в виду.
– Из-за тебя мне пришлось их подделать, – выпалил он. – Ты сделала из меня правонарушителя. Всякий раз, когда ты ешь мой хлеб, ты должна думать: Я обязана Ивану Николаевичу, он прощает мне мои грехи.
Марья Моревна слушала его вполуха. В замужестве, как на войне, следует делить то, что люди говорят, как пирог, и есть столько, сколько сможешь, говорила она мне позже. Погляди-ка, кто теперь такой мудрый, сказала я, а она ответила, чтобы иметь двух мужей, я должна быть вчетверо мудрее.
Конечно, я знала про подвал. В уголках моих углов не может случиться ничего такого, о чем бы я не знала. Я кралась, как всегда крадусь, через стены, через полы, в отдушинах, где мои товарищи обычно встречались, чтобы поднять бокалы отличной политуры за революцию, за нашу революцию. Я видела каждый поцелуй на каждом этаже. Некоторые из них были очень хороши. Некоторые – так себе. Я много поцелуев видела, поэтому знаю разницу. Вы небось думаете, что домовая только про свой дом и знает. Но город – это всего лишь дома, собранные вместе, так что поменяйте-ка свое мнение.
Например, Марья Моревна выходила из дому каждое утро и возвращалась вечером вымотанной. Ксения тоже ходила с ней, и Софья ходила, ковыляя, будто пушистый поросенок в пальтишке на вырост. Иван возвращался в темный дом, где не пекли оладий, а из выпивки оставалась только застоявшаяся можжевеловая в стаканах. Но все дома́ знали, куда ходят женщины, и не только из моего дома. Они брали ведра с побелкой и замазывали каждый номер на домах, каждый адрес, каждый указатель улиц. В Ленинграде больше не было имен, он снова стал городом-ребенком, который не знает, каким будет, когда вырастет. Они это делали на тот случай, если немцы прокрадутся в город, что они очень хорошо умеют делать, потому что долго учились вести себя как животные. Так пусть они заблудятся – мы-то не потеряемся. Я это одобряю. Лабиринт, в конце концов, это фокус черта. Черти знают все самые лучшие фокусы.
Некоторое время хлеб оставался хлебом, а масло – маслом.
Я думаю, что Марья Моревна первая увидела, как он приходил, потому что Марья видит так, как видят черти. Я услышала, как она вскрикнула левым краешком рта, сидя у окна, – и мы все увидели, как Генерал Мороз шагнул через Неву. Все мы затаили дыхание и защелкали пальцами, чтобы отвести его глаз. Сапоги у него были из соломы и тряпок, а борода – из снежного наста. Шапки на нем не было, хотя череп был уже обморожен, а в огромных сине-черных руках две собаки на цепях – Декабрь и Январь. Как же они кусают этими зубами! Старая Звонок не будет придумывать страшные истории, чтобы напугать вас. Спросите кого угодно, и вам скажут, что главный русский военачальник – это Генерал Мороз. Он стегает наших врагов снегом, замораживает своими лапами их пушки и спускает на них собак. На груди Генерала Мороза медалей больше, чем сосулек. Доведется вам такое несчастье: стать одним из русских солдат – спаси и помилуй вас от этого ваш милосердный Боже! – может, и увидите его. Приложите левую руку к правому глазу, положите комок снега в рот, просидите всю ночь скорчившись в окопе, не сомкнув глаз, тогда можете подглядеть, как он бредет через снежные заносы, возлагает руки свои на головы немцев, превращая их шлемы в посмертные маски.
Но увы нам, Генерал Мороз еще в юности был ослеплен. На бесполезных глазах он носит замасленную тряпицу, и старику ничего не стоит загубить русскую душу вместе с гуннами и всеми прочими. Для его большого аппетита разницы нет. Он бредет на ощупь, этот старик, и его собаки срываются с поводка и уносятся с лаем во тьму.
Никого не вывезти. Ничего не привезти. Зимние сучьи псы добирались до продуктовых карточек и трясли их, пока они не уполовинились, а потом еще раз.
Чем питается домовая, вы спросите? Ясно, как грех, она в хлебных очередях не стоит за корочкой, поделенной поровну на два миллиона кусочков. Нет, я питаюсь пеплом, и углями, и сладкой горячей золой из печи. Когда все уж наконец угомонятся, я делаю свои пирожки из пепла и котлеты из угольков и ем все это, пока губы не обметет огнем. Когда я была молода и только еще ухаживала за парочкой квартир, я не могла поверить, что люди питаются топливом, а не огнем. Кому нужны пироги? На что мне мясо, кроме как разжечь пламя? Но когда ты уже старая и замужем, научаешься переносить чужие привычки несбалансированного питания. Я что хочу сказать – сначала для меня все было не так плохо. Хлеб закончился, но пепла еще хватало. Я думала: Ша! Звонок проживет как-нибудь.
Но листовки продолжали падать. Они лежали на улице снежными сугробами. Бейте комиссаров. Их морды сами просят кирпича. Дождитесь полной луны! Воткните штыки в землю! Писателей немцы нанимали хороших, правда? Но над этими призывами больше никто не рыдал. Руки тянулись за листовками, чтобы поймать их в воздухе, прежде чем они упадут и намокнут, чтобы использовать на растопку.
* * *
Перед Новым годом у меня было три разговора, и все три – как один.
Первый – с Ксенией Ефремовной, которую я не могла напугать, как ни старалась. Я стояла на печке и грела ноги, а она жарила муку на рыбьем жире для Софьи. Сейчас уже невозможно представить, что вначале у нас была настоящая мука и настоящий рыбий жир!
– Почему ты не сбежишь отсюда, а, русалка? – спросила я у Ксении Ефремовны. – Чего ты тут болтаешься, будто ты – одна из них? Марья бросает себя в горшок вместе с другими, и кто знает, почему эта безумная женщина ведет себя так, как все безумные женщины, но почему ты не прыгнешь в Ладожское озеро и не отсидишься там?
Потому что это не мое озеро, товарищ Звонок, ответила мне Ксения Ефремовна. Меня отбросит от поверхности, как камушек, пущенный над водой.
– Тогда ступай в свое озеро, – сказала я. Я умнее их всех, собранных в одну консервную банку.
Вместо того чтобы ответить, Ксения Ефремовна подцепила уголек голыми пальцами. Она поднесла его к глазам, посмотреть, как он дымится и пузырится в ее мокрых пальцах, а потом передала его мне. Я жевала уголек, пока Софья жевала свой блинчик, а снаружи шел снег. Уголек поскрипывал у меня на зубах.
Я больше не русалка.
Я сплюнула, чтобы показать ей, что я об этом думаю.
Я теперь ленинградка. И Софья тоже, и мы выживем, потому что хребет у нас крепкий, а не потому, что до войны мы были русалками. Все уже сейчас не те, кем были до войны.
В печку ее. Что мне за дело! Кто такие жильцы? Временщики. Могла бы точно так же оплакивать сыр.
Когда Генерал Мороз утвердился в каждом доме, а трубы замерзли, как сосиски, Марья Моревна стала каждое утро рубить в речке прорубь, чтобы наносить воды в дом для супа, но также по секрету и для волос Ксении и Софьи. Я отправилась в подвал, где сложилась совершенно непонятная ситуация. Мне совсем не нравилось видеть нашего Папу Кощея в таком виде, с головой, привязанной заплесневелой веревкой, в трех одежках Ивана Николаевича – для тепла.
– Папа, – сказала я моему папе, – почему бы тебе не выбраться отсюда и не забрать с собой Марью Моревну? У нее даже зрачки теперь – кожа да кости. Разве ты не видишь?
Я вижу это, домовая, ответил мне Папа.
А ты видишь своего брата, Царя Воды, что топчет улицы, спуская своих собак на старух? Так в семье зовут Генерала Мороза, если официально.
Я вижу его. Но я сам себя связал. Я использовал ее как цепь. Я не могу себя развязать. Не могу использовать ее как ключ.
Да что ж ты за ледащий муж такой, дурья твоя башка! Звонок училась дерзости у водонагревателя, хотя нахальность не всегда сходит ей с рук.
Я больше не Кощей Бессмертный.
Я сплюнула, чтобы показать ему, что я об этом думаю.
После любви все уже не те, кем были до.
Когда хлеб был только полухлебом, потому что вторая половина была из березовой коры, а масло было только полумаслом, потому что вторая половина была из льняного масла, я пошла к Марье Моревне, которая каждый день смотрела на ружье у себя под кроватью, как на крест.
Я могла бы пойти на фронт и сражаться, сказала мне моя девочка. Тогда бы я получала двойной паек. Но что тогда станет с моими двумя мужьями?
– Почему волк должен заботиться, целы ли овцы? – отвечала я моей девочке. – Была бы у меня рука побольше, я бы тебе по носу вдарила. Хватай Кощея за рога и забей на всех остальных.
Я не могу оставить Ивана Николаевича. И Ксению с малюткой Софьей. И тебя.
Если хочешь себя убить, нами не прикрывайся.
Мне кажется, что я смогу приготовить что-то вроде бисквита из краски и использовать скипидар для жарки, сказала мне Марья и поскребла краску на стене ногтями.
Я сплюнула, чтобы показать ей, что я об этом думаю.
Когда ты настолько голоден, ты даже не можешь вспомнить, кем ты был, прошептала она, кем бы ты мог быть, если бы не голод.
В ту ночь она сожгла все книги с чердака, чтобы согреться. Она носила их вниз, одну за одной, потому что Декабрь сожрал всю ее силу. Она запаливала их в печи, а все домашние собирались вокруг и выставляли руки. Последним горел Пушкин, и она плакала, но без слез, потому что без хлеба слезы не текут.
– Я буду помнить все эти книги для тебя, – сказал Иван Николаевич, потому что он любил ее, хоть любовь его была что кусок конины – тупая, жесткая и пережаренная. – Я буду читать тебе их на память всякий раз, как захочешь почитать.
Я ела пепел, медленно, чтобы на дольше хватило. Я вытянула руки к огню вместе со всеми. Снаружи ни ветер, ни пушки не замолкали.
После труб пропал свет, будто горло перерезали. Ах, как это отдалось в моих костях! Мой бедный дом – потроха замерзли, сердце стучит через раз! Когда электричество померкло, я начала харкать кровью.
* * *
Расскажу вам по секрету, чем Марья занималась втайне от всех. Каждое утро, когда за окном темень боролось с теменью, она садилась у стола и вытаскивала из кармана пальто яблоко. Она резала его пополам. Половину отдавала Ивану Николаевичу, перед тем как он уходил работать на фабрике арестов. Половину отдавала Ксении Ефремовне, которая половинку свой половинки отдавала Софье. Каждое утро яблоко ярко горело в ее белых иссохших руках. Краснее красного. Она оставляла себе несколько ломтиков от сердцевины, тощих, как куриные косточки, и раньше, чем звезды обходили полный круг по небу, яблоко снова наливалось, целое, как прежде. Звонок даже пожалела, что не ест яблок, право. Марья никогда ничего не говорила. Они вкушали его, как, бывало, вкушали облатку на причастии, не жуя, давая растаять. Она протягивала половинки яблока, как половинки сердца, и даже когда Софья начала забывать те слова, которым уже научилась, полуслепая в своей ледяной колыбельке, она все еще тянулась за кусочком яблока в этот утренний час.
Это еще не секрет. Это я видела каждый день. Секрет же видела только раз. После яблока, когда они наконец оставляли ее одну, Марья спускалась в подвал. Мой Папа тоже отощал, но, конечно, он один из всех нас не мог умереть от голода. Он глядел на нее, и, о, если бы дом хоть раз на меня так посмотрел, даже привязанный к стене, словно птичья тушка, я бы после этого до конца моих дней не заговорила бы с человеком. Марья начинала шмыгать носом и трястись, лицо ее рассыпалось на части. Плечи никли, как когда она была маленькой, а мать не скупилась на наказания. Она плакала, но не глазами, а голодными костями.
Папа Кощей закрывал глаза. На шее его открывалась рана, как след от поцелуя. Краснее красной. Без всякого ножа, не подумайте. Из раны начинала капать кровь, и там, в подвале, где я пряталась под лестницей, Марья Моревна припадала ртом к Кощею и сосала, как младенец, размазывая кровь по всему лицу. Она продолжала сосать, не переставая содрогаться от сухих рыданий.
* * *
Наконец хлеба в хлебе не осталось совсем, и масло стало не масло, потому что хлеб пекли целиком из хлопковых семян, бумаги и пыли, а масло делали из клея для обоев, и это все еще выдавали по карточкам, по горстке. Пыльные пирожки, пыльные пирожные, пыльный хлеб, который даже не поднимался. Ни у кого уже не было что жечь, потому что, если это можно жечь, значит, это можно есть, а мертвому от огня пользы никакой. Так что никаких угольков для бедной домовой, и дом тоже серьезно болел. И я все еще думала – ша! Звонок может это пережить.
Я расскажу вам, как мы делали суп в эти дни. Подержать продуктовые карточки над кипящей водой тридцать минут – так, чтобы тень карточек падала на бульон. Потом съесть его, и боже упаси уронить хоть каплю.
Однажды Иван Николаевич пришел домой в своем кожаном пальто. Кожаное пальто означало, что он занимался арестами. Он подошел к кровати и обнаружил на ней Марью Моревну. Они оба были как сухие палки от старого дерева. Он обнял ее руками, и их кости стукнулись друг о друга. Он гладил ее по голове, как кошку. Длинные пряди вылезали под его руками. Иван не говорил Марье, что стряслось, но я-то знала, потому что могла приложить ухо к крыше и услышать, что другие дома говорят: На Сенном рынке есть мясо, и его можно купить. Жирная старуха продает. На ней кожаный фартук и черная шуба, а колеса у ее тележки странные, как птичьи когти. У нее есть котлеты, много – десятки. За жемчуга она их продает, за часы, за рубли, за ботинки. Где она все это взяла? Только дурак такое спросит про хорошее мясо.
– Пришли мне немного с мальчишкой, – сказала я знакомому домовому с проспекта Маклина.
Не надо тебе этого мяса, ответил он мне.
Я возразила, Софье надо поесть мяса сейчас, или она умрет, а этот дом не может вынести даже одну смерть, или они все начнут умирать.
Так что прибыл мальчик с двумя котлетами, за которые я отдала бриллиантовое ожерелье, которое стащила у Светланы Тихоновны много лет назад. Мальчишке оно нисколько не нравилось, но он взял украшение и оставил мясо. Ксения Ефремовна потрясла головой.
Я знаю, что это.
– Я тоже знаю, но ты же не человек, какая тебе разница?
Со здравым смыслом не поспоришь. Она попробовала пожарить мясо на сковородке, и весь дом пропах им. Софья съела все до крошки и вознаградила нас тихим смехом. Честный обмен, подумали мы обе, а мне от всего этого достался еще и уголек. Это был тот самый вечер, когда Иван Николаевич пришел в кожаном пальто.
Что я могла сделать? Пришла беда – отворяй ворота.
* * *
Когда Софья умерла, Ксения Ефремовна и Марья Моревна завернули ее в простыню и положили на желтые саночки. Они вытащили ее на дорогу, и каждая оставила свое сердце на пороге. Вокруг все тоже тащились с саночками. Саночек было больше, чем снега. Вот жена тащила на кладбище мужа, замерзшего, как труба, да и умерла, пока тащила; ни один из них не смог добраться, куда собирался, но вместе-таки добрались.
Запаха не было из-за льда, но всюду, где останавливались саночки, вырастал сугроб, будто копна. Я сидела у Софьи на животе, когда они ее тащили. Дом – это семья. И они тоже моя последняя семья.
Никто не разговаривал. Они дышали через шарфы и волочили, волочили. Но хоронить уже было некому, поэтому люди оставляли свои саночки у ворот кладбища. Там мы и оставили Софью – с Ксенией, лежащей поверх нее, как цветок, и снег падал ей на волосы. Я прочитала молитву домовых, но никто меня не слышал, потому что печаль громче молитвы.
Той ночью у окна Марья Моревна сказала мне: Я думаю, что наконец нашла свой дом, потому что все, кого я люблю, – здесь.
Захлопни рот, последние мозги растеряешь.
Кощей подо мной, а Иван надо мной. А там, в снегу, все стало серебряным, и там Мадам Лебедева варит кисель из губной помады, и Землеед присматривает за липами, и Наганя на замерзшей реке подливает керосину в рот, чтобы курок не замерз. И ты, и Ксения Ефремовна, и маленькая Софья. Наконец мы все вместе.
Я посмотрела в окно, куда она смотрела месяц за месяцем без перерыва. И там, в темноте, засветились серебряные раны на улицах, через которые проступал другой Ленинград, другая Нева, другая улица Дзержинского, все заляпанные серебром. И шла там женщина с лебедиными перьями в волосах, исчезая за углом, и шел там жирный коротышка с мертвыми листьями на голове, и брела женщина, похожая на ружье. И Ксения там тоже брела, вся грудь в пятнах и мерцает серебром, и держит она младенца Софью за руку, а ребенок прыгает и хочет поймать серебряные шарики, которые улетают и в руки ей не даются.
Мамочка, кричит она. Посмотри, сколько их!
А между ними идет кто-то вроде комиссара, с веками такими длинными, что они метут снег на его пути, и одет он в серебряную парчу и серебряную корону. И пока мы на них смотрели, Царь Смерти поднял свои веки руками, как поднимают юбки, и пустился в пляс по улицам Ленинграда.
* * *
Лопатки у Марьи Моревны сошлись на спине, а колени Ивана Николаевича стучали друг о друга, притянутые к животу. В доме выросли сосульки. Они вместе сдирали со стен обои, чтобы добраться до застывшего клея, а потом варили обои, чтобы сделать хлеб. От обоих остались только рты да кости, а глаза их заклинивало всякий раз, когда они пытались посмотреть друг на друга. Они ели свой хлеб с турецкими огурцами и цветами на корочке и намазывали клей на него, как масло. Хлеб уже никогда не был хлебом, а масло никогда не было маслом. Они даже не помнили, что это такое.
– Немцы разослали приглашения на бал в гостинице «Астория», – прошептал Иван Николаевич, будто кто-то еще, кроме меня, мог его слышать. – Они будут подавать там целиком зажаренных свиней, и сто тысяч картошек, и торт весом сто килограммов. Я сам видел это приглашение, тисненное золотыми буквами, с красной лентой. Они говорят: «Ленинград пуст. Мы только ждем, когда вороны немножко подберут все перед праздником».
Я не верю тебе, сказала Марья. Она так упряма, что ее сердце готово спорить с головой каждым своим стуком. Я знаю. Я же ее растила, кто еще?
Когда ты голоден, шепот кажется криком.
– Шлюха! Я отдам тебя им, чтобы они зажарили тебя на вертеле вместе с молочными поросятами. Что ты прячешь в подвале?
Ты обещал, Иванушка.
– На хер твои обещания. Ты там прячешь от меня еду, я знаю. Сучья ведьма. Кулацкая подстилка.
Ты обещал, Иванушка.
– Обещания жене черта – не обещания! Никакой суд меня не осудит! Ты там прячешь еду, и ты заколдовала меня еще там, в Иркутске! С чего бы еще я захотел такую кошелку, как ты?
Я спряталась за печкой. Замужняя жизнь свидетелей не терпит.
Я понимаю, что ты собираешься нарушить свое обещание, и я закрываю руками мой слух и мое сердце, чтобы не возненавидеть тебя.
Когда ты голоден, шажок что толчок. Иван дохромал до двери подвала и, конечно, оказался в дураках. Так он же всегда и был дураком? Нельзя винить дурака за его медный лоб. Зачем же еще его родили на белый свет, кроме как дурить, да дурачиться, да раз в год смешить черноволосую девчонку? Смотри, я поднимаю две руки, а между ними старый милый дом на улице Дзержинского, а между ними Марья Моревна и ее муж, бешеный от гнева, что бешеный бык, а между ними Кощей Бессмертный глядит из темноты. Он глядит на них оттуда, а улыбка его с двойным дном.
– Кто здесь? – говорит Иван, хотя уже и сам знает.
Я так хочу пить, товарищ.
– Кто это? – вглядывается Иван, шаря глазами в поисках маринованных яиц, вишневого джема, кувшина с пивом и всего хорошего, что еще можно найти в подвале.
Я так голоден, товарищ.
Иван спустился вниз, потому что был дураком и потому что не могло такого быть, чтобы она прятала от него только Кощея. Всю зиму он мучил себя мечтами о еде, которую она от него прячет, и еда должна быть здесь, обязана, иначе он будет хуже, чем дурак.
Не дашь ли ты мне немного воды, Иван Николаевич? сказал Кощей.
Иссохшее тело Ивана не могло рыдать, поэтому он занял слез у будущего, чтобы Кощей видел его печаль и чтобы не было сомнений.
– Почему ты не можешь оставить нас одних? Убирайся, убирайся, старик, оставь нас в покое.
Я бы рад, но я так слаб. Никому не советую поддаваться только потому, что мой Папа улыбается.
А дурак ослабил веревки на Кощее и дал ему напиться из грязной полузамерзшей лужи. Марья Моревна смотрела на все это с верха лестницы, а ее черные волосы покрывали ее всю, а я была там, так что видела, как он взревел, глядя на нее, и могу вам теперь сказать, что она посмотрела на этих двоих глазами вороны и сказала: Да, Костя. Забери меня. Забери.
* * *
И вот мы остались вдвоем, Иван Николаевич и я, в промерзшем сыром подвале.
Я сплюнула, чтобы показать ему, что я об этом думаю.
* * *
Старуха Звонок умерла, потому что умер дом. Вот что значит замужество.
Они все нас покинули, все, некоторые не по разу, и если домовая хоть раз когда и уронила слезинку, то это была не я. Что тут еще скажешь? Все умерли. Ксения Ефремовна умерла. Софья Артемовна умерла. Даже Иван Николаевич умер к весне. Осталась Звонок одна, а потом и ее не стало. Немецкая бомба накрыла нас, а дома справа и слева остались стоять. Вот что случается с теми, кого любишь. Я теперь гуляю по другому Ленинграду. По серебряному, по тому, который кусачий. По тому, который мы с Марьей видели из окна в самую холодную ночь зимы.
И здесь, в другом доме на другой улице Дзержинского, Ксения Ефремовна все варит бульон из продуктовых карточек, только теперь он понаваристей, погуще, послаще. И я пью этот бульон вместе с ними, и он по усам моим течет, а в рот не попадает, но душа моя сыта и пьяна.
Часть 5. Птицы радости и печали
Разве ты мне не скажешь снова Победившее смерть слово И разгадку жизни моей? Анна АхматоваГлава 24. Девять оттенков золота
Черная книга Марьи лежит на полу подвала, где ее самой больше нет. Очень медленно плесень затягивает корешок, наползает на слова, читая их мягко и зелено самой себе.
Снежная курочка кладет яйца чайного цвета в крапинку, болотная курочка кладет белое яйцо с красными брызгами, будто кровью окропленное. По яйцу можно птичку угадать.
Царь Птиц, хоть и Царь, а не Царица, а тоже не без яиц. Самоцветами усеяны его яйца – медными, бирюзовыми, да цвета шартрез, покрыты они черной эмалью, расписаны танцующими девами и закатами над церквями. Отсюда, дитя, ты можешь догадаться, что Алконост – птица невероятно многих цветов, обладающая душой такой богатой и плодовитой, что не может не нести яиц. Все, что через него пройдет, выходит окрашенное изяществом. Длинный хвост Алконоста стегает да хлещет, весь в перьях индиговых, фуксиевых, да девяти оттенков золотого. Его широкая пушистая грудь отливает шестью оттенками белого, ноги сияют зеленым, а когти – жемчужные. На птичьем тулове его покоится человечье лицо, прекрасное и безбородое, власы его яркие, как монеты, и покрыты короной. Все это можно узнать по яйцу Алконоста, если только сможешь увидеть его.
Однажды Алконост высидел дочь. Назвал он ее Гамаюн. Как и отец ее, она видела будущее и прошлое на своих веках, будто две киноленты, бегущие вместе. Как и отец ее, она скорее предпочитала быть одна, в компании собственных яиц, чем в большой семье. Что отец, что дочь выбирали покой и созерцание неба, оставляя тревоги земные. Они знали наперед, как все выйдет, видишь ли.
Однажды Алконост пожалел своего брата, Царя Жизни, потому что и вправду не может жить жестокое сердце под таким разноцветным оперением.
– Ты так хрупок, брат, и часто впадаешь в отчаяние. В любой момент Смерть может забрать тебя.
– Ша! – сказал Царь Жизни. – Такова жизнь.
Алконост, помахивая на ветру лазурными перьями, обнял своего брата с великой заботой и любовью – он выучился этому у облаков, а они выучились у солнца. Его блистающие крылья раскрылись над Царем Жизни, как двери церкви, а когда он сложил их обратно, они оба лежали в его гнезде, которое покоится так высоко в горах, что воздух обращается в свет, а свет – в воздух. Царь Птиц устелил свое гнездо косами первородных дочерей, мягкости которых нет равных. В эти вязки, золотые да черные, рыжие да каштановые, уложила большая птица своего брата и накормила его, как птенца, срыгивая сладкую пищу прямо в рот Царю Жизни.
Прошло много времени и много тайного, о чем только братья могли говорить. И все это время Алконост тайно вынашивал яйцо, держа его под перьями, которые покрывали его коленки. Яйцо зародилось от его жалости к Царю Жизни. Оно набухало с каждым уходящим днем. И каждый день Царь Жизни плакал в агонии, вцепившись в грудь.
– Брат мой, – плакал он, – мое сердце разбилось надвое, я больше не могу его выносить.
– Ша! – говорил Царь Птиц. – Такова жизнь.
Когда яйцу подошла пора, Алконост не мог его больше скрывать. Оно сияло, огромное и черное, в свете, который был воздухом и на воздухе, который был светом, усеянное холодными бесцветными бриллиантами.
Алконосту оно не нравилось, потому что имело больше сходства с братом, чем с ним самим. Когда оно проклюнулось, оба брата уставились в отверстие-звездочку, чтобы узнать, что их ждет внутри, что они сотворили вместе. А увидев, они решили запечатать яйцо обратно и спрятать его под своими сердцами, чтобы его никогда не нашли, пока жива их совместная сила. Снежная курочка не может запечатать проклюнувшееся яйцо. Алконост может.
* * *
Голос Царя Птиц так сладок, что, стоит ему пожелать, любая, кто его слышит, забудет всю свою жизнь и даже свое имя. Конечно, она обязана пожелать этого. Но стоит только Алконосту заговорить с самой малой добротой, с самой крошечной жалостью, богатство его голоса сметет любую печаль всякого сердца и оставит там взамен тот идеальный мир, каким он мог бы быть, если бы только с самого начала мир не изобрел сердца́. Именно из-за этого некоторые заливают уши воском. Некоторые ищут птицу небесную все дни своей жизни, молясь раствориться в ней. Каждый из них не может взять в толк, что движет другим. Как можно захотеть потерять себя, свою историю, свое имя? Как можно бежать от гласа Божьего? Но, конечно, сколько ни ищи Алконоста, сколько ни прячься, его не избежать.
Такова жизнь.
Глава 25. Массовое дезертирство
В конце длинной узкой дороги стоит деревня Яичко. Бледно-золотистые лиственницы закрывают ее плотной стеной, а осенью туман ложится на почву только по воскресеньям. Приятно пахнущий дым от выдержанных сухих дров поднимается из хорошо сложенных дымоходов до самых ночных звезд, которые, словно гвозди на черной крепкой крыше, видны ясно. В лесах воют волки, но их никогда не видно. Свежая плотная солома высоко громоздится на каждой крыше, зеленые побеги лука видны на каждом кухонном огороде. При деревне есть несколько полей, их земля прощает все огрехи. Есть четыре лошади, десять голов скота, две курицы и петух в каждой семье; есть речушка, такая маленькая, что забыла свое собственное имя, но все же позволила устроить одну мельницу для Яичка. Дождь приходит, только когда все закрыли двери как можно плотнее; снег падает только после того, как каждый хозяин нарубил столько дров, сколько нужно.
Никто никогда не уезжает из Яичка – зачем бы это? И никто никогда не приезжает из города. В деревне говорят, в Яичке можно много чего найти, но само Яичко можно найти только в лесу.
Есть среди всего в Яичке и низкий широкий дом, где живет Марья Моревна со своим мужем. Она всегда жила в нем и больше нигде. Что еще можно увидеть в Яичке – так это подсмотреть, как Марья лежит голой в летнем лесу и сушит на солнце черные кудри. По четвергам и понедельникам она легко касается железного кольца с ключами, что висит у ее очага, но не может вспомнить, что эти ключи запирают. Потом она берет одну из четырех лошадей – свою любимую, серую в яблоках, по имени Волчья – и скачет в лиственничный лес так быстро, что сердце ее летит впереди нее. С винтовкой на спине и самым лучшим красным галстуком, повязанным на шею, она охотится в сумрачных дебрях, крадется, выслеживает, стреляет – и по четвергам и понедельникам взрывы ее смеха звучат в Яичке как церковный звон. Она возвращается с добычей – оленем или кроликом, фазаном или гусем; иногда загадочным образом через широкую спину Волчьей перекинут волк, один из тех, что воет, но не показывается. Марья Моревна делится дичью со всей деревней. Суп из волка никому не нравится, но они не жалуются. Марья Моревна тоже не жалуется, когда ее курицы забывают нести яйца. Такова жизнь.
Муж Марьи Моревны, Кощей Бессмертный, так хорош собой, что мог бы одолжить по горсти красоты каждому мужчине в Яичке и все еще очаровывать своих собак до немоты. Пшеница падает булками под его ноги, но и друзьям его тоже достается, а в друзьях у него вся деревня Яичко. Когда он наклоняется, чтобы вытащить корнеплод из земли, он напевает песенку из четырех строчек, по пять слов в каждой, а последнее слово в песне – «жена». Когда его корова телится, он предлагает теленка семье, у которой меньше всего коров, а дойную телочку – семье, в которой больше всего детей. О козле он ничего не говорит и позволяет ему щипать травку самостоятельно. Иногда, при определенном освещении, он напоминает Марье кого-то, кого она знала однажды и могла бы даже вспомнить этот золотистый отлив в его черных волосах и то, как он смеется, будто гончая воет.
Однажды Марья Моревна проснулась и увидела, что кто-то работает в поле у Яичка. Сон ее как рукой сняло. Этот кто-то, в нарядном разноцветном пальто, жал хлеб парой огромных ножниц.
– Кто это? – спросила она мужа.
– Не смотри на него, волчица, – ответил прекрасный муж. – Пусть заберет свою долю.
Марья Моревна больше не стала об этом говорить, поцеловала своего мужа в обе загорелые щеки и поехала в лес за двумя жирными бобрами с хвостами плоскими, как блины. Когда она вечером вернулась к Кощею Бессмертному, он обнимал ее как обнимало бы солнце, и вместе они насладились божественным маслом на их хлебе.
* * *
Слева от Марьи живут Владимир Ильич и его жена Надя Константиновна, у которой куры такие памятливые, что никогда не забывают снести яичко. Вид у Нади хмурый, так что даже зима оставляет ее, по большей части, в одиночестве. Владимир полысел и завел очки, гребень свой он поломал через колено и давным-давно нашел упокоение в Боге. Примерно в это время старый Вова заснул с новыми очками на носу, и во сне ему привиделась армия красных муравьев и армия белых муравьев. Каким-то образом это навело его на мысль собрать вместе четырех яичканцев с лошадьми и придумать систему общего пользования, которая бы обеспечивала лошадьми и охотничьи экспедиции Марьи, и справедливую пахоту нескольких деревенских полей.
В детстве маленький Владимир встретил прекрасную галку с красным отливом на грудке. Птица свирепо щелкнула на него клювом, и с тех пор у мальчика появился дар убеждать людей в самых странных вещах. Однажды он объявил соседям, что высокие прекрасные розы, которые увивали стены его дома, росли несправедливо, получая не только положенную себе долю дождей, но и долю соседних лилий. Розы загнивают, объявил он, а Александр Федорович с Григорием Евсеевичем сочувственно ему внимали за чашкой сладкой медовухи. Розы порочны по своей природе, согласилась Надя и так строго насупилась, что мед немедленно пролился, чтобы освободить себя от соучастия в преступлении. Владимир Ильич пытался убедить лилии самим забирать дождь и дошел до того, что развешивал по краям крыши вёдра и сам распределял воду, разбрызгивая ее равномерно на цветы своими длинными пальцами. Однако этого оказалось недостаточно.
– Что делать? – спрашивал он. – Что делать?
Так, однажды утром деревня Яичко проснулась, а головы всех Вовиных роз слетели с плеч.
У Владимира с Надей двое сыновей, Иосиф и Лев. Им снятся мальчишеские сны – о том, как получить свою долю наследства, о девушках, о том, чтобы вырастить большие усы. По Яичку бродит несколько шуток о братьях, потому что они не могут обнять друг друга, без того чтобы невольно не сжать кулаки. Много раз Иосиф загонял Льва в лес, красный от ярости, вопя, чтобы брат и не думал возвращаться домой. Но к обеду, конечно, Лева прокрадывался в дом, а Иосиф обнимал его, будто ничего дурного не случилось. Лев, в свою очередь, дулся в собственной комнате и ломал игрушки, чтобы показать им, кто в доме хозяин. После инцидента с Вовиными розами Иосиф вытоптал все цветы в саду: лилии, розы, пионы, ромашки и даже материны приправы, у которых и цветов-то нету: мяту, укроп и тимьян. Он стоял в середине учиненного разорения, тяжело дыша, с темными глазами, как у загнанной лошади, ожидая похвалы от отца.
– Ты мой любимый сын, – сказал Владимир Ильич Иосифу, чего мальчик только и добивался. – И я прощаю тебя за цветы.
Дитя улыбнулось, но нравом не просветлело. Одним весенним днем, ясным, как каравай, мальчик подошел прямо к добрейшему Сергею Мироновичу и выстрелил в него из игрушечного пистолета – пиф-паф! Оба они стояли в жидкой пахучей дорожной грязи, вглядываясь друг в друга, будто припоминая, что случилось много лет тому назад.
– Это Лева сделал, – прокричал Иосиф, напуганный молчанием Сергея, и убежал, чтобы хорошенько поколотить брата. Вечно так происходит с Иосифом. В каждой деревне есть такой.
Справа от Марьи живет Георгий Константинович, он вечно сидит на крыльце и играет на березовых гуслях, да так хорошо, что луна бледнеет от любви, а жена его, Галина Ивановна, кротка, как ягненок. Все в доме Георгия делается строго по правилам. Даже яйца сварятся тогда, когда он скажет, и ни секундой раньше. Пчелы в его саду собирают нектар только с тех цветов, которые ему нравятся. Когда в лесу воют волки, Георгий просыпается и несет стражу вместе со своими дочерьми, построенными в ряд с винтовками за плечом и никто не скажет, что есть другая причина, отчего волков слышно, да не видно. Георгий даже скромнее своей жены. Он никогда не скажет, что спасает Яичко каждую ночь своим упорным сопротивлением волкам, но его соседи говорят за него и приносят ему и дочерям горячий чай с кусками пирога, завернутыми в тряпицу, на тот случай если ночью выморозит. Георгий также пасет коров, поскольку они признают его власть и следуют строем в стойла без возражений.
Ну и ниже по улице живет Николай Александрович со своей длинноволосой женой Александрой Федоровной. Перед их открытой дверью играют четверо прекрасных дочерей – Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а также болезненный младший сынок Алексей, который сидит в тенечке тополя и читает, а его сестры играют шишками в футбол на поляне. Николай сам довольно унылый и рассеянный, но усы у него густые, и он очень доброжелательный, даже несмотря на то, что сад у него каждую зиму умирает от засухи и коровы его мычат недоеные, а он их не слышит. Владимир Ильич однажды попробовал обсудить с Николаем свою доктрину роз и лилий. Тот налил ему квасу и внимательно выслушал. Солнце зашло за тучу, а Николай Александрович только рассмеялся и отправил старину Вову восвояси, отдавая свои симпатии скорее розам. Александра, вечно в фартуке с безукоризненной вышивкой, с руками, окрепшими в спорах с овцами, однажды сказала Марье Моревне, что ее мужу снятся те же сны, что и соседу, – про белых и красных муравьев, и он неделями плачет во сне. Она целует костяшки рук Николая, где, как известно, живут сны, пока он не успокоится, но после этого сама не может уснуть и наблюдает из своей теплой постели, как звезды выговаривают строчки длинного стихотворения.
Много еще людишек суетятся, ссорятся и хлопают ушами в Яичке. Таковы все деревенские. На целый день то одна, то другая бабушка затянет россказни, тягучие, как ириски, о Вовиных планах справедливого дележа нерожденного приплода от суягной овцы или о более беспокойных планах касательно козла, и это еще до того, как они начнут припоминать слухи о неверной Александре и одном монахе, не говоря уже о половине мужиков в Яичке. Все бабушки таковы. Коровы стонут на пастбище, куры трещат крыльями, если поблизости случится петух, земля под плугом оборачивается влажным черноземом и какое-то время, совсем ненадолго, все сияет и ничего не происходит, нигде и никогда. Деревня Яичко всегда стояла здесь и никогда нигде больше. В ней всегда обитали эти люди, их четыре лошади, десять голов скота, две курицы и петух в каждом дворе, три овцы (одна суягная), а безымянная речушка лила воду на общую мельницу, которая работала по двухнедельному расписанию, составленному сами знаете кем, и мыкался одинокий козел, который перестал бы пожирать лук в каждом огороде, если бы знал, что для его здоровья полезно, и несколько полей, на которых темная глубокая земля выносит все, что с ней творят.
Глава 26. И как мы ее назовем?
Вдоме Марьи Моревны даже окна смеются. Еще долго после того, как погасят зимний очаг, тела Марьи и ее мужа светятся. Когда он входит в нее, кожа его на вкус – что яблоня, полная соков и живицы. Как мне тепло, думает она, как тепло!
– О волчица, – шепчет он ей, с животом, до краев полным супа и доброго хлеба. – Как мне повезло-то! Масло в кадушке, хороший перекур после ужина и ты, моя суженая, накрепко со мной повязанная.
– Когда ты так вот говоришь, мне всегда кажется, что ты – это кто-то еще, – вздыхает Марья.
Но Кощей всегда остается собой, без изъяна, целый и ясный.
И он нисходит на нее, как солнце, и, когда она улыбается, видны ее зубы. Каждый день она смотрит на железные ключи, висящие у двери, и пытается припомнить: Где я их видела раньше? Когда у меня было что запирать? И каждый день, если это только не воскресенье и не спустился туман, когда вся деревня Яичко сидит по домам, она трясет головой, чтобы собраться, и выходит на длинную узкую дорогу. Каждое утро Марья Моревна думает, что жизнь ее никогда еще не была так полна, но все равно каждый вечер жизнь кажется еще полней. Ее черные кудри блестят, будто видны из-под воды.
По средам приходит Ушанка, ее подруга, которой те старые бабушки, скорей всего, забыли дать имя, потому что она такая девушка, которая показывает только одну половинку лица за раз. Никто не знает ее фамилии, но это ладно. Фамилии в Яичке из вежливости не упоминают. У Марьи Моревны всегда есть что выставить – ножка кролика и свежий хлеб да мисочка с медом, а среда – это ее день пользоваться серебряным самоваром, который переходит от дома к дому, как лошадь.
– И как твой муж? – спрашивает Ушанка. На полях ее кружевной шляпы с фестонами вьется прекрасная голубая лента. Ушанка плетет кружева, как паук, и раздает шали бесплатно всем женщинам Яичка. Только вчера добрая Галка натянула одну такую на плечи, когда озябла.
– Он уверен, что корова отелится телочкой, поэтому уйдет к Александру Федоровичу. Я поговорила с Наташей насчет можжевелового сыра.
– Как замечательно для всех нас. А ты, Маша? Ты здорова? Тебя дамы навещают, когда я в отлучке? Мужчины разрешают тебе выпить с ними, если припадет охота?
Марья Моревна кладет подбородок на руки:
– Мне кажется, что никогда еще мне не было так хорошо, Ушаночка. Мне так хорошо, что мой стакан наполняется еще до того, как я почувствую жажду. Конечно, когда луна молодая, мне грустно. Я вспоминаю давно ушедших друзей и подруг, и как одна из них красила глаза под цвет супа, и как другая спала со мной, свернувшись в клубочек, а третий поцеловал меня только раз, у реки. Я помню подругу с мокрыми волосами и ее младенца. Мне бы хотелось, чтобы их стаканы тоже всегда были полны. Я хотела бы, чтобы они могли увидеть новорожденного ягненка. Но луна прибывает, и моя печаль просыхает. Такова уж жизнь, конечно.
– Конечно. – И Ушанка кладет руку на руку Марьи, потому что чаевничали они чаще, чем отчаивались. Кожа ее как сукно. – Радость всего слаще, когда соседствует с печалью, близко, как нож с вилкой. Но это моя работа – все время допрашивать твое счастье, прощупывать все его уголки, чтобы оно не прохудилось. Когда печаль зажует краешек твоего сердца, это все равно что целый день проходить в платье, надетом задом наперед, когда пуговицы смотрят в лес, а ворот на деревню. Любому другому покажется, что все нормально, да у меня глаз зоркий.
Марья Моревна разливает медный дымящийся чай.
– Когда-то мне хотелось ребенка, – признается она. – Но когда я спрашиваю об этом Кощея, он, хоть и говорит мне, что любит меня с медвежьей верностью, отвечает: А мы не можем еще немного подождать? Еще чуть-чуть. Разве это не странно?
Ушанка показывает только половину лица, и эта половина становится очень задумчивой, но ничего не говорит.
– Я опять видела птицу, когда охотилась на кролика, – радостно говорит Марья, вертя в руках светящуюся косточку, – она была такой яркой, будто в огне! Мне кажется, что это петух. Перья его сияют золотом и бронзой, алым и голубым – такие всполохи! И воздух вокруг прогибается густыми волнами. Его пение отражается эхом, как игра Георгия. Жар-птица, совсем как в старых сказках. Я хочу поймать ее, Ушанка, даже если придется проехать весь лес до другого конца.
– Какой еще другой конец, – говорит Ушанка, показывая другую половину лица. – Это ты глупых инсинуаций Иосифа наслушалась. Есть только Яичко, и ты, и я, и Сашин можжевеловый сыр, и кролик с хлебом по средам.
* * *
В тот же день, после того как Яичко отряхнуло прах полудня, Марья Моревна идет к источнику и видит, что кто-то работает в полях. Этот кто-то носит яркую разноцветную шляпу и жнет зерно парой огромных ножниц.
– Кто это? – спрашивает она мужа, который как раз вернулся с руками в крови после того, как принял новорожденного теленка.
– Не смотри на него, волчица, – говорит красивый Кощей. – Пусть заберет свою долю.
* * *
Александра Федоровна однажды сказала Марье – а она-то уж знает, своих пятеро все-таки, – что женщина сама знает, что понесла после ночи:
– В тебя как семечко бросают, Маша!
– О, я тебе не верю, Саша! Как можно почувствовать крошечное зернышко?
Прекрасная Александра вздыхает. Ты же чувствуешь, когда порежешься, даже если порез крошечный. Вот и ребенок – это такая рана внутри.
Когда сластолюбивая луна подглядывает за ними через окна, шпионит через занавески, Марья не чувствует этого, зато ее красавец-муж чует. Кощей Бессмертный ввинчивается в нее своим красным отростком – ну как молоденький, право – и разбивается вдребезги внутри нее, и осколки его парят в ее теле, и пока один из них, жестокий, с острым краем, не застрянет в ней – и не сдвинешь упрямца. В угасающем свете от печки он кладет голову на ее живот.
– А смерть тут не властна, – шепчет он и целует ее в пупок.
– Что ты такое говоришь! – Марья шевелит пальцами его спутанные волосы. – Кто-то еще мне такое говорил однажды, так давно, что не могу вспомнить. Иногда мне кажется, что в тебе два человека: мой Костя и еще другой, которого я не помню, оба втиснуты в одно тело.
Кощей смотрит на нее снизу вверх. Видны белки его глаз.
– Никто не хотел умирать, – говорит он смутно, и Марья Моревна не понимает, потому что она не так много темного видела в жизни.
– Как мы ее назовем? – спрашивает Кощей и улыбается самой лучшей улыбкой, какой сумел выучиться, такой горячей и золотой, что Марья вспоминает птицу в лесу, ту, что все время ускользает от нее и превращает воздух в масло.
– Кого?
– Нашу дочь, которая уже знает твое имя.
Кощей Бессмертный не уснет все девять месяцев. Он отдаст свой сон дочери. Ей полагается.
* * *
А числится ли магия среди обитателей Яичка, вместе с безымянной речкой и суягной овцой? Однажды старик Григорий Ефимович решил закрыть этот вопрос раз и навсегда. Он объявил всем детям, что он когда-то был священником, но все же знают, что нет ничего ни до, ни после Яичка, или вместе с ним, или под ним, а только звезды наверху, поэтому старый Гриша кажется им загадочным и поистине мудрым. Тем не менее весь народ Яичка принимает его, потому что он рассказывает чудесные истории, знает, как принять роды, и тянет себя за бороду, когда привирает, поэтому ему можно полностью доверять, если только он оставит бороду в покое.
– Я видела звезду в его волосах, – шепчет Ольга Николаевна, дочь Александры, и ей, в общем-то, верят.
Чтобы разрешить вопрос с яичкинской магией, Гриша повел Александру Федоровну, чьи волосы словно золотая проволока, в то самое место, где лиственничный лес граничит с медицинским огородом Сергея Мироновича. Он стоял одной ногой в лесу, а другой в деревне – чародеи знают, для чего нужна такая поза, а Гриша определенно знал, для чего нужно знать, что положено знать чародею.
– Так, Саша, смотри, как я буду есть этот гриб с серебряными пятнышками на шляпке, про который и я, и ты, и все дети знают, что это страшная отрава.
Александра внимательно смотрела. Григорий Ефимович сжевал гриб. Казалось, что ничего плохого с ним не случилось. Руки-ноги не отнялись, язык не стал фиолетовым.
– Видишь? – сказал Гриша.
– Вижу, – ответила Саша.
– Теперь смотри, как я повешусь на лиственнице. Дай мне твой передник, я сделаю удавку.
Александра внимательно смотрела. Григорий скрутил передник вокруг шеи и повесился на дереве. Похоже, ничего плохого с ним не случилось. Он приятно улыбнулся и немного покачался взад и вперед. Глаза у него не повылазили, и он ни в чем не признался перед смертью.
– Видишь? – спросил Гриша.
– Вижу, – ответила Саша.
– А теперь, чтобы окончательно убедиться, ты должна меня застрелить.
И старый не-то-чтобы-священник вытащил маленький пистолет, что само по себе – если бы Александра задумалась об этом – казалось чистым волшебством, потому что никто до этого в Яичке не вытаскивал пистолета.
Александра старательно выстрелила. Пуля попала в сердце так точно, как мечтает каждая пуля. Кровь заструилась по Гришиной рубашке, которую он добыл у Галины Ивановны в обмен на историю о великом воине, что защищал город против солдат с крысиными мордами. Неделю после этого Галина страдала кошмарами, поэтому считала обмен удачным. Но тут Григорий Ефимович улыбнулся и показал Александре, что грудь его цела и все с теми же неопрятными волосами, что и раньше. Он забрал у нее оружие, и никто пистолета больше не видел. Саша никому не говорила, что он вообще был у Гриши, что теперь она знает, что такое пистолет, и что она стреляла из него так же легко, как раскатывала тесто на вареники.
– Я тебе скажу, что за волшебство творится в Яичке. Смерть забыла про Яичко и ничего о нем не знает.
– Ничего не забыла. Все умирают. Коровы, овцы. Марья стреляет оленей.
– А чтобы из людей кто-то умер, припомнишь?
Александра долго молчала. Небо стало синим и бездонным.
– Похоже, что помню, сердцем. Частичкой сердца, запертой в самом дальнем, крохотном уголке. Там под замком хранится место с вечно грязными полами – где-то, где вечно зима. Там, как мне кажется, кто-то умер, и никто ему не помог. Потом я плачу так горько, что из моих слез вырастают ужасные цветы.
Григорий Ефимович обвил длинными грубыми руками Александру Федоровну, которую тайно любил еще с юности. Она это знала, конечно, и поскольку оба они знали про это, то обращались друг с другом с нежнейшей добротой.
– Не переживай, – сказал Григорий Ефимович. – Это просто фокусы, которым я научился. Не плачь.
* * *
По пятницам Марья Моревна идет в поля жать хлеб. В Яичке поля всегда готовы к жатве. Даже на шестом месяце она не увиливает, а берет короткий серп с ручкой, вытертой множеством шершавых промасленных рук яичканцев. Солнце золотит верхушки деревьев, и черные волосы Марьи отливают в этом свете синевой. Вверх и вниз летает серп, его лезвие срезает золотистые стебли; и одинокий козел блеет от восторга, обнаружив пучок дикого лука, за который никто его не будет бранить; и серп звенит – вверх и вниз; и прекрасная маленькая Анастасия Николаевна пропускает петельку в своем вязании, а Волчья, серая в яблоках, специально сбрасывает подкову, чтобы Марье позже пришлось ею заняться, потому что вот такой у этого зверя характер; и зерно ссыпается в груды; и шесть мышек, о которых Яичко и не знает, вылизывают друг другу ушки розовыми язычками; и вновь она заносит серп, и вновь летит он вниз; и, сами не зная почему, женщины Яичка идут в то самое место где хорошо вспаханное поле с землей, которая прощает им все, что с ней делают, встречается с редиской Нади Константиновны; и они смотрят на Марью, не понимая, зачем они пришли смотреть, как беременная женщина с животом словно тугой барабан, серпом, занесенным как меч, машет снова и снова, и от чистого пота блестят ее черные волосы, а солнце поет свою песенку с четырьмя строчками из пяти слов каждое, и последнее слово в песенке – смерть.
* * *
Сегодня четверг, но Марья слишком раздалась в талии, чтобы поскакать на Волчьей в лиственничный лес. Вместо этого она идет пешком, волоча подол длинного красного шерстяного платья, с волосами почти столь же длинными, с винтовкой, закинутой за спину. Листья на деревьях принимают такой вид, что впору им опасть, но не опадают. Крошечные птицы, как щепки коры, кружатся хороводами вслед за ней. Запах леса покалывает ей щеки, подрумянивая и целуя их. Она поддерживает живот правой рукой – она уверена, что Марс со всеми своими горами не такой огромный, как она.
– Если бы я могла поговорить с тобой, дочь, я бы сказала: мы сделали тебя, когда наши глаза были темнее темного, когда одинокий козел наелся лука, а луна была похожа на яйцо. Я бы спросила, кем ты станешь, когда вырастешь? Я бы сказала, как же нам тебя назвать?
Неведомо кто шуршит позади стайки из семи берез. Под чьими-то ногами хрустят ломкие листья и вьется дымок. В березовых стволах мелькает оранжевая полоска, а Марья не может бежать, ну никак, а стоит неподвижно, как изба. Внутри нее шевелится дочка, толкается в живот матери ручонками, крохотными ножками упирается в скорлупу своего мира. Я хочу ее, мама, говорит ручка. Прекрасная птица, говорит ножка. Один шажок по листве, потом другой – и вот он засверкал, длинный-длинный птичий хвост, посрамляя всех павлинов, и он волочится по лесной подстилке, как горящее красное платье.
Марья Моревна скидывает винтовку. Она любит свою винтовку. Кто-то сделал ее Марье в подарок, хотя она и не помнит – кто и когда. Винтовка согрелась в руках. Птица отступает, хлопает крыльями, рассыпает искры в воздухе; занимается дым, и птица горит, горит, такая белая и зеленая, что в глазах у Марьи пляшут мушки. Ее дочка протягивает ручки внутри нее. Мама, говорят ручки, свет! Когда она стреляет, ребенок в животе ухает вниз, будто собирается родиться прямо сейчас, в этот самый момент.
В Яичке никто не может потягаться с Марьей Моревной в стрельбе. Пуля влетает в птицу, как ребенок, запрыгивающий на папины руки, когда он возвращается домой после длинного путешествия. Птицу отбрасывает назад, на березы, и она застревает среди стволов. Она поднимает глаза к небу, и Марья хватает ее поперек живота, но из глаз жар-птицы льются слезы из сырой нефти, а в клюве ее песня, словно кровь, и песня ранит, и тянет, и щиплет ребра, будто струны гуслей. Кончики крыльев горят, как огоньки газа. Аллее, аллаа! воркует птица, Марья чувствует, как ее манит к ней, будто призывом на молитву. Аллее, аллаа!
Мама, свет! Марья ступает в круг огней жар-птицы. Огонь не опаляет ее, и птица не ранена – не больше, чем Гриша ранен Сашиным пистолетом. Глаза птицы становятся огромными, алыми и вращаются, крылья складываются вокруг Марьи, приближая ее, слезы птицы, как воск, капают на ее голову, но не сжигают ее, точно так же, как она не убила птицу, и вместе они падают на лесную листву в объятиях друг друга – аллее, аллаа!
– Что это значит? – шепчет Марья в объятиях жар-птицы. Она пахнет жженым хлебом, маслом и сахаром, вскипающим на земле.
– Это значит, что я прощаю тебя, – поет она, – за тот последний раз, когда ты меня убила, и за этот раз тоже, и снова и снова – до смерти.
Внутри Марьи Моревны ее дочка затихает и слушает медленное биение невозможно огромного сердца жар-птицы, так похожего на биение сердца матери и на ее собственное.
Марья Моревна возвращается в Яичко с пустыми руками, но это не страшно. Стыдно за это в других деревнях, другим женщинам. И так всего довольно и без супа из жар-птицы. Она ничего не рассказывает про птицу в лесу, а никто и не спрашивает. В понедельник Марья Моревна поймала двух бобров (с их хвостами), а еще молодого борова с одним сломанным клыком. Вечером, с помощью красавца-мужа и Николая Александровича (усы которого так смешно потеют), она тащит огромный свадебный стол на середину деревни, где красные листья осени уже срываются и летят, яркие и четкие, как звезды. Она варит жаркое из лука, картошки и грибов с блестящими кусочками хвостов-блинчиков, плавающих в бульоне. Она жарит свинью на большом костре. Георгий Константинович приносит рыбу, которую поймал вчера, затаившись и выждав, Григорий Евсеевич приносит корзинку яблок краснее, чем листья. Владимир и Надя Константиновна приносят меду, слабо пахнущего давно исчезнувшими розами, Николай приносит водки собственной винокурни, чистой, как дождь. Дети бегают вокруг стола, осыпая друг друга листьями, их смех поднимается высоко в небо, как дым. Маленькие Анастасия и Алексей танцуют вместе под гусли Георгия, а Иосиф грубо всех щиплет под столом.
Вокруг большого стола жители Яичка встают и поднимают стаканы.
– Ваше здоровье! – кричат Георгий и Александр, кричат Григорий и Сергей, кричат Иосиф и Лев, кричит Кощей Бессмертный, кричат четверо прекрасных дочерей Александры и их брат тоже, кричат Гриша и Саша, кричат Николай и Владимир. Заходящее солнце пронизывает стаканы.
– За жизнь, – говорят они, и чокаются стаканами, и смеются, а волки воют вдалеке в лесу, но никогда не показываются.
Марья тоже кричит. Она хватается за огромный живот, когда ее дитя восстает против охоты, против перетаскивания стола и против того, что пьют без нее. Дитя прожигает ее, готовое, наконец, родиться, прямо сейчас, в этот самый момент. Марья Моревна падает на колени, волосы ее раскинуты вокруг, черные, будто сожженные.
Глава 27. Звук воспоминания
В Яичке говорят, что новорожденное дитя делает свой первый вдох через уши, второй через глаза, а третий через рот. Вот почему должно пройти какое-то время, прежде чем ребенок заплачет. Первый вдох для матери, второй для Бога, а третий вдох для отца. Вдох через рот самый радостный, и мы немедленно забываем, что когда-либо знали другие способы дышать. Когда ребенок в Яичке плачет, мать берет его, подсаживает на бедро, смеется и говорит: Поглядите-ка на моего медвежонка, опять ушами дышит! И ребенок перестает плакать, потому что ему нравится, когда его называют медвежонком.
Дочка Марьи и Кощея делает первый вдох ушами, как любое другое дитя. Вдыхает она со слабым свистящим звуком, таким высоким, что даже собаки не слышат.
Потом она начинает расти.
Это происходит так быстро, что даже комоды удивляются. Марья Моревна прикладывает дочку к груди, та берет сосок совершенно так же, как это делает любой младенец, и одним длинным глотком выпивает все молоко своего детства, после чего встает, семнадцати лет от роду, обнаженная, а ее черные волосы все еще липкие от крови матери.
Кощей Бессмертный улыбается так печально, что Марья кладет руку на сердце, будто пуля ужалила ее в это место.
– Но ты же была здесь счастлива? – спрашивает он нежно. – Ты была счастлива здесь со мной?
– Костя, почему ты такой грустный? – спрашивает Марья, она озадачена, но не огорчена. То, что дочка выросла так быстро – это странно и немного трагично, но все же не страннее, чем жар-птица. – Помоги мне назвать нашу девочку!
Кощей долго смотрит на дитя. Девочка делает второй вдох, глазами. Совсем беззвучно.
– У нее уже есть имя, волчица, любовь моя, мой страшный зверь. Она – моя Смерть. И я смиренно люблю ее, как положено отцу.
Смерть, их дочь, которая никогда не научится говорить, которой никогда не нужно будет говорить, протягивает кровавые руки с потеками белого и серебряного.
– В конце я всегда умираю, – шепчет он, и теперь ему страшно, руки его дрожат. – Всегда вот так вот. Никогда не бывает легко.
Железные ключи на стене истекают кровью, как по́том. Марья вытягивает руки и становится зеркалом для дочери, но она не знает, кого хочет поймать этими руками, знает, что хочет поймать кого угодно, лишь бы бросить якорь, соединиться, не чувствовать себя брошенной.
Но Кощей Бессмертный приходит в руки дочери и недолго обнимает ее, ласково, нежно, гордо, поглаживая ее мокрые волосы, прежде чем поцеловать ее в лоб совершенно так же, как это сделал бы любой отец. Она открывает рот и делает третий вдох, целиком и полностью через рот, последние струйки воды из матки ее матери стекают с губ. Сила ее третьего вдоха пригибает веки Кощея вниз, вниз, вниз, пока они не обвисают и не падают оземь, словно свитки, раскатываясь по полу, и он становится своим братом, Царем Смерти, на один крошечный серебряный момент, не больше, чем укол булавки. Он поднимает веки одной рукой, чтобы увидеть Марью Моревну в последний раз, перекидывает их через плечи дочери, а под веками и ресницами только свет, еще больше бесконечного света; серебро, как вода, льется из него, и внезапно они оба исчезают, а в комнате остается птица – птица и похожая и непохожая на жар-птицу Марьи; и живот Марьи становится плоским и упругим, будто и не была она полна своей дочерью, будто она не в постели, а стоит в углу своего дома в Яичке, в темноте, и все серое и холодное, кроме птицы с человеческим лицом, которая глядит на нее.
– Садись, Марья Моревна, – говорит птица, и голос ее будто гусли Георгия. – Я хочу рассказать тебе все, что когда-либо случилось с тобой. Ну, давай-давай, что у тебя с коленями?
Марья садится, даже не зная, подхватит ли ее стул. Но, конечно, стул на месте, это же Яичко, здесь она не может упасть. Лицо ее узкое и впалое, даже когда она смотрит на птицу, на перья цвета индиго, фуксии и девяти оттенков золотого, такие яркие в черном промерзшем доме, такие яркие рядом с ее иссохшим телом.
– Знаешь, где ты, Машенька? – Птица склоняет голову набок, лицо ее исключительно прекрасно и нежно, печальные глаза, как на иконе.
Марья Моревна непонимающе смотрит в окно. За окном трава, и кончики травинок прихвачены морозом.
– Ты помнишь, когда Кощей дал тебе свое яйцо? Каким черным оно было, каким серебряным!
Марья Моревна берется руками за голову. Волосы ее подсыхают, слезы, слегка примороженные, падают на пол крошечными бусинками и разбиваются.
Царь Птиц топорщит медно-зеленые перья на груди. Из-под крыльев протягиваются человеческие руки с тонкими, совершенными, мягкими, как пух, пальцами. Он приподнимает ее щеки и целует губами цвета крови ее рот цвета пепла, и под его поцелуями тихие слезы переходят в горькие рыдания, сотрясающие все ее тело, растягивающие ее кости, чтобы впустить еще больше темноты. Губы ее обнажают стучащие зубы, и даже они кручинятся, но он все целует ее и целует, пока она не начинает кричать.
– Я помню, я помню, – плачет Марья, и Алконост обнимает ее безупречными руками, а своими бирюзово-золотыми крыльями охватывает их обоих. В темноте она исчезает в его лучезарном объятии.
– Я снес это яйцо, Маша, бедное дитя. Каждое яйцо надо снести, иначе они не выживают. Я снес яйцо Кощея давным-давно, далеко отсюда, высоко в воздухе, и когда мы увидели, что в нем, мы поклялись друг другу никогда не открывать его снова. Но братьям всегда только бы нарушить обещания. Знаешь ли ты, что было в нем?
– Его смерть.
Алконост гладит ее волосы человеческой рукой:
– Ну да, очевидно. Но в яйце есть и петух, и курочка. Так же, как дитя получает от матери внушительный нос, а от отца раскосые глаза. Ты можешь всю жизнь наблюдать за кем-то, подмечая черты, взятые у матери, и черты, срисованные с отца. В нашем яйце смерть была от него, прекрасная, ладная, идеальная, ужасная. От меня там было Яичко. Все это время ты жила в моем яйце, Марья, внутри моего мира. О, я знаю! Как можно мне поверить? Столько людей, столько времен года, и лес, и жар-птица сверкает среди берез! Даже я этого сперва не понимал. Я птица-пророк, но ни в каком будущем я не видел Яичко, висящее, как самоцвет. Проблема с пророчеством в том, что оно живое. Как медвежонок. Оно может рассердиться, расстроиться, проголодаться. Оно может лизать, и кусать, и царапаться, может быть милым, может быть злобным. Нельзя пророчить. Можно только гнаться за пророчеством. Так что, возможно, мой медвежонок сыграл со мной шутку, а? Я долго раздумывал над этим яйцом, после того как мой брат покинул меня, чтобы гоняться за войнами и девушками, чем он особенно одержим. Я разглядывал яйцо и пытался понять, что Кощей и я сотворили вместе. Знаешь ли ты, Маша, как приходит откровение? Как смерть. Внезапно, хотя ты и знала все это время, что она должна прийти. Откровение – это всегда конец чего-то. Оно может даже причинить печаль.
Царь Птиц целует Машу в лоб, квохчет над ней, как мать.
– Ты сказала ему забрать тебя, помнишь?
Внутри ее сердца из одной почти исчезнувшей точки распускается Ленинград и растет все больше, холоднее и белее, и в Марье зарождается голод, едва припоминаемый голод, который гложет ее, как червь, и этот голод не утолить. Она стонет в объятиях Алконоста, стонет тяжело, как скрежещет мятое железо. Тепло его сердца сияет звездой в ее руках.
– Да, это звук воспоминания, – вздыхает Алконост, и его оперение вспыхивает фиолетовым. – Кощей привел тебя ко мне. Ты была так близка к смерти, что призраки уже толпились вокруг тебя, проливая серебряные слезы, поджидая тебя с серебряными улыбками. У вас, у людей, знаешь ли, – и кто только вас придумал – ирония в крови. Иногда, когда человек оголодает почти до исчезновения, покормить его – только хуже сделаешь, можно окончательно угробить. Мой брат хотел снова показать тебе свои избушки, и угощать тебя вкусностями, и засунуть в твой пепельный рот толстый кусок хлеба со сверкающей, как рубины, икрой. Он хотел окунуть тебя в горячую воду, расчесать твои волосы, чтобы ты поправилась. Но не смог. Ты слишком далеко ушла. Так что вместо этого мы с ним держали тебя, зажав между собой, и я кормил тебя, кормил, как цыпленочка. Я разжевывал облака, и звездный свет, и лунное сияние и срыгивал их тебе в рот, это самая здоровая еда, известная со времен молодости мира, – она не могла навредить тебе, никогда. И вот ты открыла глаза. А я, дурень, тыкался в тебя носом, как в цыпленка, и шептал тебе на ухо всякую чушь, что любят слушать цыплята: алллее, аллааа! Мне бы следовало знать, но медвежонок моего пророчества в тот день был злой. Я говорил, и речь моя вымела все подчистую из твоего сердца, и вдруг ты исчезла, будто тебя стерли, и ты оказалась в яйце. Призраки завыли, потеряв тебя, и мой брат тоже завыл. Он когтями разодрал яйцо и влез в него вслед за тобой, и я оказался один в своем гнезде, всеми покинутый. И я понял – это было как откровение, как смерть. Яичко – это специально устроенное место, где можно спрятать смерть от ее владельца, а можно привести его к ней. Это идеальный мир, мир, который не может выжить за пределами изукрашенного самоцветами яйца Алконоста и Кощея, сколько бы раз мир не повторил эту историю. (Ты ведь знаешь, что мир подступается к этой истории снова и снова, стараясь сделать ее другой, совершенной, как яйцо.) Это тот самый мир, который ты оставляешь позади, когда забываешь, как выглядит горе, а тем более смерть. Мир пророчества, который никогда не может стать правдой.
Царь Птиц вытирает слезы Марьи, но их тут же заменяют другие, и перья его уже потемнели от соли.
– Машенька, его смерть была спрятана в глубинах Яичка, и ты была дорожкой, что вела к ней, как жизнь ведет к смерти – всегда. Здесь он мог быть твоим, мог быть целым, одновременно и Кощеем, и Иваном, чертом и человеком, могущественным и бессильным, темным и золотым. Ты могла быть девушкой, какой могла бы стать, если бы не увидела птиц. Если бы у тебя не отняли галстук. И если бы он не хотел умирать, все что ему надо было сделать – никогда не прикасаться к тебе, никогда не заводить с тобой ребенка, которого у него не могло быть в настоящем мире, потому что он – Царь Жизни, а смерть всегда выглядит как ребенок – конец и единственная цель животного тела. И конечно, все кончилось так, как всегда кончается. Такова жизнь. Кто в идеальном мире не желал своего любимого, навеки суженого? Ох, Марья Моревна! Знаешь, как церковные люди зовут меня? Меня и мою дочь Гамаюн, когда пишут нас на потолке? Они называют нас архангелами и говорят, что мы живем на небесах, где не растет лоза скорби и памяти. Вот куда я тебя отправил – не на небеса, ша! Ничего я о небесах не знаю – не на небеса, а на церковный купол.
– Почему он не забрал меня обратно в Буян, где он мог быть бессмертным?
Алконост вздохнул, и от его вздоха колыхнулись пряди ее волос, словно на зимнем ветру.
– Буяна больше нет, Марья, ты не знала? Война закончена.
– Поэтому кровоточат железные ключи? – прошептала Марья, пряча лицо в перьях Алконоста. Если бы только она могла остаться внутри его крыльев и снова все забыть. Снова и снова.
– Нет, дитя. Это ключи от твоего собственного дома, и они кровоточат, потому что в твоем доме в одиночестве умирает Иван.
Глава 28. Я видел грача в руинах
Марья Моревна завертелась веретеном, у нее было странное чувство, что огромная рука давит на макушку, а ребра сжимают, как когда-то давно, когда домовая показала ей мир за печкой. Она почувствовала, что уменьшается, складывается, весь золотой свет Яичка внутри нее догорает как лучина, которую зажгли в отсутствие свечей. Ее ноги опять усохли, стали тощими, как веточки, руки повисли, легкие и слабые, язык во рту распух от жажды, от ужасной жажды. И опять ей стало страшно, что она никогда не станет снова большой, полной, теплой. Она так и повисла в пустоте, маленькая, худая, измученная. Она приложила плечо к темноте и начала толкать, толкать, тужиться, как это делала, когда рожала смерть Кощея.
Мама, свет!
Темнота отступила, Марья Моревна вышла из-за старой печки на кухню. С кирпичей осыпался снег – бомба снесла половину крыши, с расщепленных балок падали снежинки. Розовые плитки пола лопнули и валялись вокруг, как разбитые тарелки. Чугунные сковородки сковало голубым льдом, трубы лопнули, и вода залила все вокруг – комоды, стол, стул, где обычно сидела Софья. Колени Марьи подкосились, как только внутри нее треснул и осыпался кокон вокруг памяти о Софье. Стол все еще был накрыт для кого-то. Снег набился в миски, как суп.
– Иван? – тихо позвала Марья. У нее было чувство, что она не пользовалась голосом много лет. Как измерить время, проведенное внутри яйца? – Иванушка?
Ответил только ветер, продувая черноту через комнаты. Дом был заселён тишиной. Марья вползла по лестнице, страшась найти его – скелет, который все дивится, куда подевалась его жена.
– О, Иванушка, где ты?
Крыша на втором этаже выдержала, но их кровать вымерзла серебром, ощетинилась льдом. Скомканные простыни валялись одинокими буграми и кочками. Мерзлая грязь присохла к шарам на спинках кровати. Наконец Марья прошептала: «Звонок?»
И домовая дернула Марью за штанину. Марья посмотрела вниз, и черные волосы рассыпались по плечам любопытной тенью. Ее подруга стояла рядом, согнувшись в три погибели, ее прекрасные золотые волосы свалялись и посерели, усы выпали, одежда износилась и порвалась. Башмаков не было, обмороженные пальцы распухли. Скулы Звонок торчали, как ножи, голодные звериные глаза горели желтым.
– Он там, – прохрипела Звонок страшным скребущим от долгого молчания голосом. Марья знала, что ее голос звучит примерно так же. Домовая указала на замерзшую постель, и Марья увидела, как бугры и кочки образуют что-то вроде мужской фигуры.
– Звонок, что с тобой стало?
– Дом болен, значит, и я больна. Все дома больны. Все умирают. Зима никогда не закончится.
Марья закрыла глаза:
– А какой это год? Сколько времени меня не было?
– Тысяча девятьсот сорок второй. Февраль. Если все это еще существует, должен быть конец Великого поста. Но он, конечно, не закончится, хотя мы и так хорошо постились в этом году. Немудрено нас и за праведников принять. Я думаю, что это смешно. Правда же смешно? На прошлой неделе один человек давал концерт в Зале Глинки. Снег падал через проломленную крышу во время выступления, садился шапкой на голову гобоиста. Сирены воздушной тревоги тоже участвовали в исполнении. Мы все слушали с крыш. Как кошки. Хотя какие кошки! В Ленинграде кошек больше нет. Иван сказал: Если бы только можно было питаться скрипичной музыкой. Я поцеловала ему пальчик. Он сказал, что рад мне. Потом он забрался на эту кровать, и я не знаю, мертвый он или нет, но я точно умру, уже скоро. Интересно, как товарищ Чайник поживает? А старина председатель Веник? Хотелось бы верить, что они все еще жирные. Я помню, каково это было – быть жирным. Прекрасно это было – вот как. Домовые были такими круглыми, что можно было катать их по коридору. Вот это были деньки, хотела бы я, чтоб их можно было есть, но воспоминания о еде – это все равно что еда, как ты думаешь? Проглотить прошлое, чтобы сохранить тепло. Надеюсь, что там, где ты была, было тепло.
Марья Моревна легла на стылый пол дома на улице Дзержинского, дома на улице Гороховой. Звонок подползла к изгибу ее шеи возле уха, где ток крови так близок к коже, где тепло остается даже тогда, когда оно ушло отовсюду. Она поцеловала ее туда и широко раскинула руки, чтобы обхватить ими все ее лицо.
– Где ты была? – прошептала домовая. – Куда ты делась?
И после этого она с распростертыми руками исчезла, растаяла, словно пар.
Марья встала. Разум предполагал, что по команде встать откликнется ее яичкинское тело, молодое, полное, сильное. Но откликнулось ленинградское тело, скрипящее, умудренное, хрупкое. Она похромала к кровати – не желая видеть, что лежит под замерзшими покровами, – чтобы стянуть одеяла и понять, что она совсем опоздала, что оказалась бесполезна для обоих своих мужей в конце концов.
– Иванушка, ты живой? Ты не спишь?
Из-под простыни раздался стон, переходящий в хриплое дыхание, а потом в кашель:
– Оставь меня в покое, Звонок. Не надо, не сегодня. Не притворяйся ею.
– Это я, Иванушка. Выгляни, посмотри.
С кровати поднялась рука с почерневшими ногтями, с пальцами, скрюченными в когти, с распухшими костяшками, серая, как мороз. Она не могла быть рукой Ивана, всегда теплого, всегда большого. Его глаза впились в нее снизу вверх, впавшие и старые, с тем же голодным звериным огнем, что и у домовой. И почему-то Марье Моревне показалось, что она видит его обнаженным в первый раз, – настолько интимной была его беспомощность, его кости, выпирающие через кожу. Он все еще был прекрасен. Ей казалось, что она смотрит на него издалека, через телескоп, со дна колодца. Оборотись, подумала она. Оборотись и стань снова Иваном.
– О-о-о, – прохрипел он, – о-о-о.
– Не знаю, надо ли мне говорить, что мне жаль, – сказала Марья, осторожно кладя руку на его лоб, на спутанные волосы. – Это кажется такой ничтожной малостью.
– Я это скажу, – прошептал Иван. – Я был груб с тобой. Ты не делала из меня преступника. Я не должен был это говорить. На самом деле, когда я подделал наше свидетельство о браке, я был так счастлив написать твое имя рядом с моим, так счастлив был держать в руках доказательство, что мы есть, что между нами что-то есть, и подделка говорила правду, даже когда лгала. Мне жаль, Маша. Я не должен был говорить половину того, что сказал.
– Тихо, Иванушка. Это неважно.
Это и правда было неважно. Она говорила жестокие слова в обоих своих замужествах. Она никогда не скупилась на колючие речи в его адрес. Марья подняла Ивана на руках – он так мало весил, так мало, и хотя ее мышцы тоже усохли и износились, они все еще помнили Яичко, все еще помнили, как были крепкими. Она обняла его серое тело своими серыми руками, а снаружи беззвучно падал снег, и на улицах не слышно было ни разговоров, ни гитары, и никто не ходил ни к каким дверям и не выглядывал ни в каком в окне никакой другой девушки. Ленинград лежал пустой-пустой, как старая кровать.
– Маша, ты знаешь, я так старался найти тебя! – кашлянул Иван, и Марья осторожно утерла его рот, но только сорвала на нем розовые струпья.
– Не разговаривай, любовь моя. Разговоры не стоят усилий. – И я слышать не могу, каким ты был преданным. Мне только не рассказывай.
Иван захрипел, его дыхание грохотало, как камни в банке:
– Я только и могу теперь, что говорить! Я не могу поднять тебя на руки, или поцеловать тебя, или заняться любовью с тобой, как положено поступать с женой, которая вернулась из долгого путешествия. Я не могу заставить тебя понять, что я прощаю тебя, что я знаю, что ты любила и его, и меня – так, как мать любит двух сыновей. И никого нельзя судить за то, что он любит больше, чем следует, а только за то, что любит недостаточно, и это мое преступление. В конце концов, это же я увел тебя от Кощея, если разобраться, так что я не могу винить его, что он забрал тебя…
Марья Моревна пыталась возражать, отпустить грехи ему, себе или обоим. Но он смотрел на нее обесцвеченными глазами и пытался поднять руку, чтобы заставить ее замолчать.
– О, не прерывай меня, Маша! Если я остановлюсь, то никогда уже не начну. Я знаю, ни он тебя не забирал, ни я. Я так думал долгое время, но это ты выбрала меня, а затем его. Выбирать сложно – историю никогда не завершишь за один шаг. Гамаюн сказала мне, что это все было записано в некой истории, и я должен был полюбить тебя, иначе бы история не произошла как положено. Можно было не беспокоиться – я полюбил тебя за одно биение сердца и с самого начала был потерян, как те мертвые вязаные солдаты. И у меня было столько времени подумать об этом, Марья! Так долго я пролежал на веревках, которые держали Кощея, и хотел, чтобы они держали меня, потому что это значило бы, что ты хотела меня настолько, чтобы держать в секрете, как хотела его и хранила его.
Иван положил свою серую руку на руку Марьи. Рука была такой сухой, такой легкой. Она чувствовала его кости, как когда-то она чувствовала кости Кощея под кожей.
– Но ты знаешь, после того как ты исчезла – я и забыл, что ты умеешь это делать, – и после того как они урезали выдачу по карточкам снова, а потом еще, я подумал: Почему она оставалась здесь так долго? Эта мысль утешала, потому что ты, вероятно, оставалась ради меня. Не отвечай, я не хочу, чтобы ты меня поправляла. А ты знаешь, что я искал тебя? По всему городу, через тридевять районов, на тридесяти проспектах. Я всех спрашивал, не слышал ли кто о тебе. Я ходил на проспект Маклина, на улицу Декабристов, где был тот дом, что ты любила, с росписями. Он сгорел, ты знала?
– Да, я знала.
– Звонок плакала, когда его увидела. Но я ходил в этот дом и видел кусочки росписи в руинах: золотистые, где волосы девушки и цыплячьи лапки; красные, где жар-птица, и зеленые, где была когда-то шинель Ивана-дурака. И я смеялся, потому что, конечно же, это я Иван-дурак, кто же еще. Только дурак может думать, что он в силах тягаться с первой любовью женщины, может помериться с Бессмертным. Знаешь, это как царя убили. Я думаю, что, может, у России тоже было два мужа: один богатый, другой бедный, один старый, другой молодой, и бедный муж застрелил богатого прямо в сердце и всех его дочерей тоже. Он был храбрей меня.
Иван закрыл глаза. Бровь его изогнулась, будто он хотел заплакать, но сил не отыскал.
– Я пошел в дом на улице Декабристов, и я видел грача в руинах, такого черного, будто его тоже сожгли. Я посмотрел на грача, а он посмотрел на меня, и я подумал, что никогда не видел такой большой птицы, такой упитанной, с таким пышным оперением, – прямо герцог среди грачей. Еще до того, как мы съели всех птиц, каких смогли перестрелять, я никогда не видел птицу с таким пристальным взглядом. Мой желудок сказал: Я съем эту птицу. Но мое сердце сказало: В городе осталось совсем немного упитанного и прекрасного. А тебя там не было – ни в снегу, ни в обломках. Я отправился домой, но, пока я шел, грач следовал за мной, прыгая с крыльца на крыльцо, слетая с мертвых электрических проводов, шаря острым взглядом по черепицам крыш и всегда находя меня. Когда я вернулся на улицу Дзержинского и коснулся двери нашего дома, грач захлопал крыльями и заговорил со мной с ветки вишни.
«Дай мне что-нибудь из ее вещей, – выкрикнул он, – и я тебе помогу».
Все что я смог придумать – это дать ему красное платье, которое я тебе купил когда-то, оно все еще хранило твою форму. Я прижался к нему лицом, но твой запах уже исчез. Я выпускал его из окна, пядь за пядью, а грач принимал его своим кривым клювом.
«Забудь ее навсегда – вот тебе моя помощь, – крикнул он. – Но если не можешь, оставь мне платье. Она – моя семья. Я буду смотреть на платье и вспоминать ее. Это будет не первый раз, когда от воспоминаний кому-то становится хорошо».
– Я не хотел этого делать, Маша, но отдал ему платье. Он поворотил свою черную глотку к небу и давился им до тех пор, пока трепещущий кончик красного пояса не исчез в его клюве. После этого он улетел.
Иван задумчиво погладил руку Марьи. Его кожа царапала и скрежетала от прикосновения, они оба были изнурены до предела. Наконец-то идеальная пара.
– Я все искал тебя. По всему городу, через тридевять районов, на тридесятом проспекте. Я даже у трупов спрашивал, не знают ли они чего о тебе. Я пошел на Сенную, где, по слухам, торговала пирожками эта ужасная женщина, помнишь? Ее уже не было. Те же самые ужасные розовые пирожки продавали другие люди, а лица их были такими упитанными и налитыми – уж всяко поздоровей меня, – и я не хочу рассказывать тебе, купил ли я их мясо. Не спрашивай меня. Но я ходил на Сенную и видел торговцев пирожками, и торговцев башмаками, и торговцев хлебом. Они спрашивали шестьсот рублей за булку хлеба, сделанного почти полностью из опилок. Сегодня, наверное, просят уже тысячу. И я все равно хотел этот хлеб из опилок. Мои челюсти двигались так, будто я уже его ем. Несколько месяцев назад на Сенной вовсю брехали собаки, а люди меняли на хлеб нитки жемчуга. Теперь все стояли неподвижно, не стряхивая падающий на плечи снег, и вокруг было так тихо. Ты или можешь купить, или не можешь. Не было даже сил торговаться.
– Я увидел на рынке зуйка, такого коричневого, будто он сам был выпечен из опилок. Я смотрел на зуйка, а тот смотрел на меня, и я подумал, что никогда не видел такой большой птицы, такой упитанной, с таким блестящим оперением на белой грудке, такой представительной, – прямо барон среди зуйков. Даже тогда, когда мы еще не съели всех птиц, каких смогли поймать, я никогда не видел, чтобы зуек был таким вострым. Мой желудок сказал: Я бы сейчас слопал эту птичку. Но мое сердце сказало: В городе осталось не так много блестящего и вострого. А тебя не было – ни на рынке, ни во льду. Я побрел домой, но зуек потащился за мной, перепрыгивая с крыльца на крыльцо, перелетая с одного мертвого провода на другой, шаря своим острым взглядом по черепицам крыш и всегда безошибочно находя меня. Когда я повернул на улицу Дзержинского и коснулся двери нашего дома, зуек захлопал крыльями и заговорил со мной с ветки вишневого дерева.
«Дай мне что-нибудь из ее вещей, – прокричал он, – и я тебе помогу».
Все что я придумал – это дать ему ту серебряную щетку, которую ты так любила когда-то. Она лежала в ящике твоего комода, на ней все еще осталось несколько прядей твоих драгоценных черных волос. Я провел щеткой по своим волосам, чтобы наши кудри могли утешить друг друга. Я передал ее через окно, и зуек подхватил ее своим коротким клювом. От веса щетки он едва не опрокинулся.
«Забудь о ней навсегда – вот и вся моя помощь, – крикнул он, – но если не можешь, оставь мне щетку. Она моя семья. Я буду смотреть на щетку и мечтать о ней. Это будет не первый раз, когда что-то хорошее случается в мечтах».
Я не хотел, Маша, но отдал ему эту щетку. Он задрал белое горло к небу и широко разинул клюв. Он заглатывал ее до тех пор, пока резная ручка не исчезла в его клюве. После этого он улетел.
Иван перевел глаза на лицо Марьи, пытаясь запомнить его. Она и сама запоминала его лицо, то, каким оно было, и то, каким оно стало: она хотела помнить честно.
– Я все еще искал тебя. По всему городу, через тридевять районов, на тридесятом проспекте. Я даже спрашивал, не знают ли чего о тебе брошенные и разлегшиеся на улицах огромные, серые, упрямые орудия. Я пошел в Эрмитаж, где крышу держат статуи атлантов – помнишь их? Теперь их локти все в дырах от пуль и осколков. И они все еще выглядят такими сильными и прекрасными, стоят там в снегу, подпирают тяжесть замерзшими кулаками. Я восхищаюсь ими. Я всегда думал: Ах, если бы я мог быть одним из них.
– На большом пальце ноги одной из статуй я увидел жулана с такими красными щечками, что казалось, он сам в себя выстрелил. Я смотрел на жулана, а тот смотрел на меня, и я подумал, что никогда не видел такой большой птицы, такой упитанной, с таким блестящим оперением на черных крыльях, – ну просто принц среди жуланов. Даже тогда, когда мы еще не съели всех птиц, каких смогли перестрелять, я никогда не видел птицу с таким пылким взором. Мой желудок сказал: Я бы сейчас слопал эту птичку. Но мое сердце сказало: В городе осталось не так много пылкого. А тебя не было – ни перед статуями, ни в темноте. Я побрел домой, и жулан потащился вслед, перепрыгивая с крыльца на крыльцо, перелетая с одного мертвого провода на другой, пылким взором следя за снегом и опуская взгляд на меня. Когда я вернулся на улицу Дзержинского и коснулся двери нашего дома, жулан захлопал крыльями и заговорил со мной с ветки вишневого дерева.
«Дай мне что-нибудь из ее вещей, – прокричал он, – и я помогу тебе».
– Все что я мог вспомнить – это твоя винтовка. Прости меня. Она лежала там, где ты ее оставила, под нашей кроватью. На ней все еще были следы твоих рук, кость стала коричневой там, где ты держалась за нее, так часто и так умело. Я представил тебя в молодости, весело палящей из нее во что попало, не потому, что ты голодна, а просто потому, что у тебя она есть. Я побаюкал ее в руках.
«Это все, что у меня осталось от нее, – сказал я. – Вместе с винтовкой уйдет и она».
Жулан ничего не ответил.
Что я мог сделать? Я передал винтовку через окно, и жулан подхватил ее своим острым клювом. Она была настолько больше него, что он чуть с ветки не свалился.
«Забудь о ней навсегда, вот и вся моя помощь тебе, – прокричал он, – но если не можешь, оставь мне винтовку. Она моя семья. Я буду смотреть на винтовку и оплакивать ее. Это будет не первый раз, когда что-то хорошее вышло из оплакивания».
Я не хотел, Маша, но мне больше нечего было дать жулану. И я отдал ему винтовку. Он повернул свое красное горло к небу и широко открыл клюв. Он заглатывал винтовку до тех пор, пока кончик приклада не скрылся в клюве. После этого он улетел.
Я сидел в темном доме, без тебя, без Ксении Ефремовны, без маленькой Софьи, лопочущей о рыбках и шариках. Я так рыдал в тот день, мне казалось, что переломится хребет. А Звонок все это время сидела рядом, похлопывая меня по колену. Маленькая домовая сказала, что знала тебя всю твою жизнь и что ты была злой и вдобавок бросила ее, а еще что ты вернешься, наверное. Злые твари никогда не уходят надолго, сказала она. И мы начали лазать на крышу, занимать наблюдательный пост, следить за немецкими окопами и докладывать обо всех перемещениях. Мы старались как могли, хотя нигде в моей жизни не было так холодно, как на той крыше.
И вот однажды, когда наша стража закончилась, домовая пришла ко мне, только она стала большой и отрастила длинные черные волосы, и она сказала: Какой смысл страдать больше чем ты должен? И она поцеловала меня… И я не хочу сейчас об этом говорить, не спрашивай меня об этом. Ты меня покинула, а она осталась. Но на следующий день я сидел на крыше, щурился и смотрел на окраину города, как вдруг на водосточный желоб сел грач, толстый и черный, как дождевое облако.
«Платье выцвело, – прокричал он. – Марья Моревна вынашивает боль».
Он кашлянул, отрыгнул, и из клюва выпало платье, бесцветное, даже не серое, просто плевок, а не платье. Он выплюнул его на крышу и сиганул обратно в снежную мглу.
И ты уже догадалась, Маша, конечно, ты догадалась. На следующий день был зуек, такой коричневый, так похожий на хлеб, что я мог его съесть и никогда бы не пожалел об этом.
«Щетка потускнела, – прокаркал он. – Марья Моревна вынашивает печаль».
И он закашлял, и отрыгнул, и щетка выпала из его клюва, вся почерневшая, без малейших проблесков серебра. Он выплюнул ее на крышу и умчался в снег, в стихию.
И конечно, ты знаешь, что я скажу дальше, Маруся. Ты знаешь, что это история, и ты знаешь, как истории проступают. Последним прилетел жулан, да такой красный, такой красный. Я слышал, как где-то далеко играла музыка, скрипки и гобои, – но это же безумие, кто бы стал играть на скрипках в осажденном Ленинграде? Кому это могло прийти в голову?
«Винтовка сама собой выстрелила и убила пролетающую сову, – прокричал жулан. – Марья Моревна вынашивает смерть».
И он кашлянул, и отрыгнул, если не сказать хуже, потому что винтовка, выползающая из клюва птицы, – это отвратительно. Она брякнулась на крышу, но я схватил ее, пока она не скатилась вниз. Жулан смотрел на меня с жалостью. И он взмыл в воздух, стряхивая снег с крыльев.
А потом пришла ты. Ты здесь, моя Марья, целая и живая, и вернулась ко мне. Все, что у меня было за душой, все ушло на рассказ о минувшем. Но у меня есть твое платье, и твоя щетка, и твоя винтовка там, где ты все это оставила: в шкафу, в комоде, под кроватью. Где твоя боль, Марья Моревна? Где твоя печаль? Где твоя смерть?
Марья прижала его к себе покрепче и завернула в свои волосы, чтобы согреть. И она рассказала ему обо всем, что только могла придумать: и о Яичке, и об охоте на жар-птицу, и как она родила дитя по имени Смерть, и про сияющую птицу, что держала ее точно так, как она держала Ивана Николаевича сейчас.
– Я бы не хотела, чтобы ты хранил щетку, – вздохнула она.
– С птицами всегда такая беда, – ответил Иван, и на мгновение показалось, будто он хочет сказать что-то еще. Но он только закашлялся и задрожал. Слезы текли из глаз Марьи и расплывались на его щеках.
– Если бы это действительно была история, Иванушка, я бы смогла вылечить тебя Живой Водой, и ты бы встал и сплясал бы со мной, а потом мы нашли бы стол, уставленный всякой едой, и город очнулся бы от бесконечного сна, и что за песни и крики раздались бы, поднимаясь с улиц, словно пар!
– Ша! – закашлялся Иван, и кашель его застрял в горле и выкатился наружу потоками слюны и мокроты. – Жизнь не такая.
– Не беспокойся, – прошептала Марья, целуя его в лоб. – Мои старые кости очень скоро последуют за твоими.
– Жена, ты бы могла посеять пшеницу на камнях улицы Дзержинского, подождать, пока она созреет, сжать ее, обмолотить, перемолоть в муку, испечь хлеб и съесть его, передавая по кругу, и даже тогда ты не сможешь меня догнать.
После этого Иван умер у нее на руках, и его последний вздох спиралью поднялся к потолку, как папиросный дым.
* * *
Марья Моревна надела свое бесцветное платье и вытащила винтовку из-под брачного ложа. Двум мужьям принесла я смерть с женским лицом, подумала она и вывалилась на обледеневшую, обложенную во всю длину снежной кашей улицу Дзержинского. Мимо пробежала стайка мужчин в шубах и шапках, оставляя в снегу овальные следы от башмаков. Марья молча смотрела на следы, а слезы ее замерзали на лету.
– Эй, старуха! – закричал один из мужчин с черной винтовкой, перекинутой через плечо. – Стрелять умеешь?
Марья пошевелилась и встретилась с ним глазами. Он показал на прекрасную костяную винтовку у нее в руках.
– Так что? – переспросил он.
– Да, – ответила она уверенно, и ее дыхание разбилось на кусочки, унесенные ветром.
Часть 6. Кто-то должен
Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край, глухой и грешный, Оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений и обид». Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух…Анна Ахматова
Глава 29. И каждый написан на твоем брюхе
Генерал-майор смотрела, как Ткачук, хромой пацан, бежит через пшеничное жнивье Михайловки, спотыкаясь, ковыляя прочь от них. Сержант рядом с ней вздохнула:
– Ты всегда их отпускаешь. Какой тогда смысл их арестовывать?
– Что мне проку от мертвого ребенка, товарищ Ушанка? – сказала Марья Моревна, проводя рукой по глазам. Она так устала за последние дни. Даже кровь ее перестала волноваться, красна ли она еще. Слишком много работы.
– Я служу не твоим личным целям, Моревна. Я служу народу, а народ не оставит безответными преступления против своего тела. Ты сражалась в Ленинграде. Я тоже. Почему надо беречь его?
– Кого-то же надо.
И это буду не я. Я выжила, но меня не сберегли. Генерал-майор сунула руку в карман униформы. Оттуда она вытащила моток красной пряжи, так обыденно, будто это был носовой платок. Марья Моревна сама не могла понять, почему она тянула с этим так долго. Возможно, раньше это было бы слишком мучительно. Возможно, она думала, что, если останется, ее назовут верной. Ее простят.
Генерал-майор положила клубок пряжи на пыльную землю, на сжатую пшеницу, на хлопья пепла и тихонько его подтолкнула. Он покачался взад-вперед, а потом быстро покатился, прочь на восток, прокладывая путь между низкорослыми деревьями и высохшими лозами. Две женщины сложили столик для полевого трибунала и погрузили его в длинную черную машину – без куриных ног и не без водителя, – просто в машину с раздражительным двигателем и кашляющим глушителем. Марья Моревна включила передачу и последовала за клубком, который катился, разматываясь, в темноту.
Так вот они и путешествовали через тридевять царств, на другой конец света. Ушанка настаивала на том, чтобы они делали остановки там, где им было предписано, невзирая на то, как сильно Марья противилась, даже не хотела смотреть на бедных голодающих дезертиров. Кроме того, кто она теперь, чтобы судить их?
– Я сама дезертир, – призналась она своему сержанту однажды ночью, в казарме под Иркутском. – 1942-й, Ленинград. Как один мой старый друг обещал, так и сбылось. Если бы твои драгоценные записи были на что-то пригодны, ты бы знала.
– А я это знаю, Моревна, – прошептала Ушанка в своей длинной узкой кровати. – Но ты вернулась. Думаешь, что у меня сочувствия как у крысы, но я верю, что, когда возвращаются, – это совсем другое дело.
Так вот они и ехали. Они следовали за красным клубком, и Марья поражалась тому, что Ушанка не спрашивала, зачем, ни разу. Она ничего не знала о сержанте, которая больше не носила голубую ленту на шапке. Но подозрения были. На войне все цвета поубивало, любила шутить ее подчиненная, но Марья не смеялась этой шутке. На самом деле, она никогда не смеялась, и уж тем более над шутками Ушанки. Между ними не было ничего, кроме взаимных подозрений, и никогда, никогда они не обсуждали то странное совпадение, что они встретились после войны. Но это совпадение занимало свое место в пространстве между ними, будто сидело с ними за столом и получало свою пайку хлеба и водки, при этом ухмыляясь на неудобство, которое причиняло Марье.
А клубок с пряжей все катился и катился.
Однажды в июле они проезжали мимо зарослей подлеска – путаница ежевики, сломанные ветки лиственницы, папоротники, как старые весла. Они выбрались из машины, чтобы расчистить путь, потому что клубок укатился в самую гущу валежника. Марья до пота под фуражкой тянула ветки и рвала траву, обнаруживая тут и там высушенные и выбеленные солнцем черепа маленьких существ – полевок, ежиков, может, зайцев. Попадались куски оленьих и еще чьих-то рогов. Что-то в этом беспокоило Марью настолько, что словно шерсть на загривке шевелилась. Она глубоко нахмурилась и заперлась в машине, держа побелевшие руки на руле. Ушанка забралась следом, вытирая ладони о юбку и улыбаясь своей обычной загадочной улыбочкой.
После бурелома перед ними выросла деревня. Не шибко какая, но ведь и сами они были не особо какие. Это не Михайловка, не Широкое и не Бабурка, или как там называлось это проклятое место. Посреди нее между двумя рядами домов бежала широкая дорога. Марья увидела трактир – в деревне обязательно должен быть трактир. Вот лавка мясника, а вот портниха. Дорога вела к приметному большому дому вдали, выкрашенному в черный цвет, наполовину разрушенному временем и погодой. Старая военная фабрика, вероятно. Или какое-то поместье – с тех времен, когда еще держали поместья.
Красная пряжа размоталась до конца. У ног Марьи лежал обтрепанный кончик в запекшейся грязи. Он указывал на разрушенное черное здание. Сердце Марьи встрепенулось, как старый волк, пробуя носом воздух, ища знакомый запах.
– Выпить не хочешь, товарищ Ушанка? Меня жажда мучит, – сказала она наконец. Странно, но она чувствовала себя здесь как дома. Деревня щекотала ее, как щекочет воспаление в горле. Она хотела попить воды и отдохнуть и отложить очередной трибунал, об устройстве которого Ушанка опять будет хлопотать. Ее коллега кивнула со своим обычным строгим выражением.
* * *
Трактир стоял пустой, столы и стулья собирали пыльную дань. Три бутылки неопознанной водки на стойке с напитками отражали солнечный свет, а старый, уже выцветший и заляпанный плакат предупреждал – Выбирайте в Советы рабочих! Не выбирайте колдунов и богатеев! Маша прикоснулась к нему, и свет на ее руке напомнил о чем-то, хотя она не могла сказать, о чем. Все, что было в ее прошлой жизни, ускользало от нее, как рыба, которая проплывает мимо – быстро-быстро!
– Чем помочь вам, товарищ? – дружелюбно буркнул трактирщик.
Он был на удивление толстым и низкорослым, едва был виден из-за стойки, за которой стоял. Выглядел он так, будто годами не расчесывался, волосы темными колтунами спускались ему на уши, лицо украшала большая борода, покрывая обе щеки, будто мох на камне.
– Землеед! – закричала Марья. Память ее бухнулась в холодную воду, завидев проплывающую рыбу. Она прижала руку к сердцу, пытаясь удержать его в груди. Получилось, все получилось, о Ольга, спасибо тебе за пряжу, я никогда не смогу тебе отплатить за это.
– Земеля, это я – это Марья, а ты совсем не мертвый и я тоже! Нет серебра ни на твоей груди, ни на моей. Давай поцелуемся!
– Я думаю, что вы обознались, – засмеялся маленький человек. – Меня и правда так зовут, будьте уверены, но я вас никогда за всю жизнь не видал, да и подругу вашу тоже.
Нет, нет. Только не это волшебство с его заклятиями.
– Но, Земеля, мы же всю жизнь знали друг друга.
– Сомневаюсь, но могу предложить вам доброй водки и оставить вас один на один раззнакомиться с ней. Я не обижаюсь – лицо у меня такое, всем нравится. Только не хочу, чтобы жена моя услыхала, как вы напрашиваетесь на поцелуи.
– Жена?
– Моя ненаглядная верзила Наганя, как же я ее люблю! Как ружье любит пули – вот как. Без очков-то почти слепая и браниться горазда, а все ж моя, а я ейный. Только она и помнит, как давно мы женаты.
Он щедро плеснул в стаканы каждому гостю.
– Пятнадцать лет, Зема, и каждый из них написан на твоем брюхе.
Голос поплыл по комнате, будто звуки флейты. Марья и Ушанка повернулись за ним, как за солнцем. Стройная светловолосая женщина с глубокими элегантными морщинами на лице бросила на стойку перчатки. Глаза ее были подкрашены, чтобы соответствовать цвету вина, которое она сама себе налила. Очевидно, она была той самой портнихой, чья витрина сверкала за окном. Подол ее изящного, идеально скроенного белого платья волочился вслед за ней по полу, а на поясе висел веер из довольно изношенных, но все еще прелестных лебединых перьев.
– Вижу, ты сегодня вернулся домой вовремя. Нагаша никогда не отличалась терпением, как я ее ни учила.
– Лебедь! – ахнула Маша, и будто она все еще была девочкой, будто она никогда не голодала до полного усыхания желудка – слезы выступили и хлынули по лицу. – Лебедева! Я так по тебе скучала! Но я пришла, ты видишь, все в порядке!
Портниха прикусила зубами мундштук из слоновой кости:
– Что-то знакомое, командир. Мы раньше встречались?
Марья утратила всю свою сдержанность и бдительность, хранимую, чтобы Ушанка не узнала ее секреты.
– Конечно, мы встречались! Мадам Лебедева, ты учила меня пользоваться косметикой и волшебству, и мы ели огуречный суп в тот день в кафе!
– Я думаю, что вам голову напекло, моя дорогая. Я терпеть не могу огурцов. И вообще любую зелень. – Светловолосая женщина отпила густого красного вина. – Надеюсь, что однажды здесь подадут что-то приличное, кроме этих грузинских помоев.
Землеед дружелюбно пожал плечам, будто говоря: Пьем, что дают.
– Возможно, вам следует повидать нашего мясника, командир. Он знает всех в городе. Уверена, что он поможет вам найти… – Дама сделала паузу со значением, а может быть и нет. Марья не была уверена: – …кого-бы вы там ни искали. Могу только заверить, что это не меня вы ищете. – Мадам Лебедева побарабанила ногтями по своему бокалу, аккуратно исключив Марью и Ушанку из своих забот. – Земя, Нагаша сделала на обед пирог с заячьими потрохами, – искусно поменяла она тему. – Она сказала, что я тоже могу прийти, если принесу грибов.
* * *
В лавке мясника не было ничего, кроме колоды, вырезанной из камня, и витрины без стекла с единственным выложенным в качестве образца стейком рубинового цвета с мраморными прожилками жира. Все остальное медленно разрушалось, но настолько медленно, что производило впечатление надежного и прочного. Дощатые полы не были подогнаны, одинокий вентилятор без одной лопасти шатко крутился под люстрой.
Ушанка вызывающе позвонила в колокольчик, хотя все, что она делала, казалось Марье вызывающим. Никто не вышел.
– Выходи или я реквизирую этот кусок! – закричала сержант. В янтарных полуденных сумерках задней комнаты ничто не пошевелилось.
– Здесь никого нет, Ушанка, – Марья провела рукой по витрине. Пальцы ее почернели от старой пыли. Она все еще была взволнована встречей со старыми друзьями. И она знала, что не ошиблась, это были они, иначе и быть не могло. Сердце ее опустилось и спряталось глубоко в животе. Кто же тут у них мясником?
– У нас нет разнарядки на этот город, товарищ генерал-майор. Если хотите говядины, забирайте эту и пойдем. – Штаб-сержант прихлопнула муху на прилавке и зажала ее в кулаке, слушая как она бессильно жужжит.
За прилавком появилась молодая женщина, раскрасневшаяся, с соломенными волосами, вьющимися вокруг приятного круглого лица. Ее розовые губки сложились сердечком, выражая одновременно извинения и удивление.
– Прошу прощения за то, что заставила вас ждать, офицеры! Иногда сон навалится, и никак из-под него не выбраться.
– Лень – враг торговли, – фыркнула Ушанка.
Марья легко, но четко выступила вперед своего младшего офицера.
– Как ваше имя? – спросила она.
Девушка беспричинно покраснела.
– Елена, – ответила она с нервным смешком.
Марья, как смогла, сделала непроницаемое лицо. Разум ее встрепенулся. Ах, эти Елены с янтарными глазами! Узнает ли она эту из них из всех? Она не могла припомнить. Но она свободна, она разговаривает – что-то случилось, и теперь всё в порядке. Эта женщина – знак того, что теперь всё в порядке, не правда ли?
– Откуда ты, Елена?
– Я здешняя. Ну не совсем так. Я не очень хорошо помню! Но я долгое время жила в женском кооперативе на северной окраине.
Марья и не спрашивая знала, что в кооперативе должна быть дверь из лошадиной кости и железная галерея.
Ушанка прищурилась, глядя на девушку:
– Тебе что, не нравилось жить в коммуне?
– О нет, вы меня не поняли. Мы вместе работали на ткацкой фабрике, и она нас всем обеспечивала. Мы ели общий хлеб, пили общую воду. Мы жили как сестры, как семья без главы семьи, без начальства, жили в любви.
Ушанка медленно сморгнула. Ее лицо потемнело. Марья, не отрываясь, смотрела на Елену, пока та продолжала:
– И вы знаете, по странному совпадению, нас всех звали Еленами. Такие странные истории случаются в этом мире! Мои сестры все еще ткут там, за горкой, и я приношу им конфеты и тушеные овощи на День Революции. Некоторые из них уже состарились, совсем бабушки стали, глаза слезятся, все в синих морщинах. Они даже не помнят, сколько им лет или где родились. Я мою им головы, когда не надо присматривать здесь, в лавке. Я бы там и жила, если бы не полюбила. Я замуж вышла – так бывает.
Девушка пожала плечами.
Мария нахмурилась – разве она могла быть одной из тех Елен, которых она знала? И за кого она вышла замуж?
– Как долго ты жила в кооперативе?
– Всю жизнь.
Елена опять пожала плечами, обнаружив ямочки на щеках.
– Ну не родилась же ты в женском кооперативе. Здравый смысл подсказывает, что для этого нужен мужчина, – воткнула шпильку Ушанка.
Елена изогнула прелестную веснушчатую бровь. Она потянула себя за локон:
– Я не… Это так трудно вспомнить! Я просто… всегда там жила. Всегда. Пока не встретила моего мужа. Ну конечно, вы правы, командир, – я не хотела перечить вам. Должно быть, я родилась где-то еще. Но я была маленькая. Я не помню. Кто помнит, как родился?
– Ни одна живая душа, – ответила холодно Ушанка.
Елена выглядела так, будто готова заплакать, ее большие карие глаза были полны недоумения.
– Вы только не обижайтесь! Пожалуйста, возьмите мяса и хорошего вам солнечного денька! Хотя, если вы хотите что-то еще, кроме вырезки, вам придется дождаться моего мужа. Времена сейчас тугие.
– Тугие, как пальто, тугие, как перчатка, тугие, как башмак, – прошептала штаб-сержант с закрытым непроницаемым лицом. Марья Моревна прокашлялась. Они так ничего и не выяснили.
– Мне кажется, мой товарищ задыхается в вашей лавке, душно здесь, – сказала она, дивясь, что происходит с ее сержантом. – Скажите, где найти вашего мужа, и мы уйдем.
– Я уверена, что он сейчас у Тетушки. – Она улыбнулась. – Это его сестра. Мы все зовем ее Тетушка. У нее столовая дальше по улице. Такие удивительные супы варит, честное слово! Чистое золото в ложке. Вы обязательно должны попробовать ее уху. Будьте уверены, такой вы не пробовали.
Марья поблагодарила ее. Это Буян, подумала она. Я знаю, что это он, я чувствую. Клубок здесь остановился. Что случилось? Я – человек, моя память стареет и нуждается в поводыре. Но они-то? Они должны меня узнавать. Почему они говорят, что не знают меня?
– Скажи мне, – спросила Марья, держась за ручку двери, а ладонью поймав дверной колокольчик на лету. – Как зовут твоего мужа?
– Кощей Бессмертный, – сказала она с гордостью наседки. – Он будет очень рад с вами повидаться, я уверена.
Глава 30. Страна Смерти
Они шагали вниз по длинной узкой дороге, которая должна была быть Скороходной улицей – какой же еще, если не Скороходной, – и все же Марья была уверена, что, если бы они могли спросить улицу, если бы они могли исхлестать и изругать ее, да так, чтобы она присела и открыла свой пыльный каменистый рот, она призналась бы, что нет у нее памяти о том, как ее когда-то звали. Вечные сумерки летней ночи северной страны плескали на дорогу золотым и розовым.
– Сержант, что с тобой такое? – спросила Мария. Она хотела, чтобы эта несчастная женщина исчезла. Все исчезли, почему же она теперь привязана к этой единственной душе, которая отказывается сделать ей любезность? Ушанка пинала грязь на дороге:
– Я предполагала, что ты какой-то замечательный воин. Я думала, что ты со всем разберешься. Мне тошно мыкаться между этими дерьмовыми домами, когда ты присосалась к этому городу как безумная корова. Мне сказали, что ты великолепная. Я требую, чтобы ты была великолепна!
Марья потерла виски – то место, которое было отдано Ушанке, то место, которое болело всякий раз, когда та говорила:
– Я понятия не имею, о чем ты.
Ушанка остановилась посреди дороги. Солнце сверкало на ее медных пуговицах, на ее бронзовых медалях. Она сняла фуражку и зацепилась длинным пальцем за уголок рта. Штаб-сержант хорошенько дернула, и Марья сморгнула от неожиданно резкого треска рвущейся кожи. Но Ушанка смеялась, смеялась все время, пока разрывала свое лицо, показывая все зубы, внезапно белые и оголенные. Кровь не текла и не капала. Вместо этого расходились нитки, лопались стежки: шов на ее лице расползся и набивка щек повисла клочьями.
– Ни одна душа на свете не помнит как родилась, – ухмыльнулась Ушанка. – Но я помню, как пришла в Ленинград за тобой. Сколько ушло времени на то, чтобы преодолеть горы, но я сделала это. Чтобы следить за тобой. Чтобы допрашивать тебя. Я помню, как потеряла тебя, когда ты отправилась в это проклятое яйцо, а нашла тебя полумертвой на баррикадах, – не так тебе повезло, как мне, конечно, вся твоя кровь вытекла, как начинка. Я помню тебя в снайперских войсках, как они ни в жизнь не могли догадаться, что ты кто-то еще, а не бедная голодная ленинградка, как и все они, бедные голодные ленинградцы. Я напросилась в твое подразделение, я так хорошо служила, очень хорошо для кучи тряпок, сшитой чертовыми Еленами! Я делала что мне велели. Я следила за тобой и привела тебя обратно сюда. Мне потребовалось больше времени, чем я думала, чтобы довести тебя до того отчаяния, когда ты используешь клубок. Эта сучка мясника – или одна из ее сестер, какая разница, – сделала меня. Сделала меня для тебя.
Мария знала, но и не знала. Она знала, что с Ушанкой что-то не так, что она сломлена, – но кто из людей оставался целым?
– Почему ты мне не сказала в тот день, в гостиной? Мы могли стать друзьями. Мы могли бы быть утешением друг для друга.
Ушанка пожала плечами:
– Мне не велено было тебя утешать.
Она снова зашагала к столовой.
– Ты знала, что он сделал после того, как ты ушла? Он остановил фабрику с Еленами. Он всех их оттуда забрал и посадил в одной комнате в Черносвяте, рядами, как студентов, он вытащил Лихо откуда-то, где она предпочитала ховаться перед смертью, и заставил ее учить их. Она – вылитая старая тощая черное-сукно-и-мел школьная училка. И знаешь чему он захотел их научить? Как превратить Елену в Марью. Она заставила их читать ту ужасную черную книгу, что у тебя была, и подружиться с лешими, и берданками, и мавками, и стрелять в жар-птицу. Все, что ты когда-либо делала, она заставлял их повторять, надеясь, что одна из них хорошо себя покажет, будет первой ученицей. Но они не могли так же легко прекратить вязать, как перестать моргать, и некоторое время они все мельтешили руками, будто все еще работали на станках. В конце концов он сдался. Если честно, то поступить хуже муж не мог бы, возможно, но это только доказывает, на что способна плоть, когда она скорбит. Лучше уж когда внутри тебя лен, органди и шелк, если хочешь знать мое мнение. Шелк не влюбляется, лен не скорбит.
Ушанка пинком распахнула дверь столовой и нагло плюхнулась на стул у столика с одной ногой короче, чем другие. Она оставила свое разорванное лицо висеть как было, будто это ее ничуть не беспокоит. Марья хотела задушить ее прежде, чем Ушанка расскажет все, что знает. Никто не подошел к ним спросить, что они хотят съесть или выпить, или что-то еще. Они были наедине с солнечным светом, который вливался вовнутрь, как после авианалета.
Марья зашипела на свою боевую подругу:
– Почему ты так сердита? Это же я вернулась домой, чтобы обнаружить, что все мои старые друзья меня забыли, и не найти ничего, чего хотела.
– Кого волнует, что ты хотела? Я – голем, Марья Моревна. Голем, оставленный без хозяев. Моя миссия закончена, и все, за чем я явилась, – это идиотка-мать, которая даже не помнит, что она моя мать.
Марья схватила Ушанку за руку и впилась в нее ногтями, хотя не могла сделать ей больно, если только кисея не чувствует боли.
– Где мы? – прошипела она. – Это же не Буян, правда же?
И тут она прозрела. Она поняла. Откровение овладело ею, как смерть. Но оно было слишком велико, она не могла его удержать. Она выпустила тряпичную руку сержанта.
– Это же страна Вия, правда ведь? – прошептала она, боясь, что если она скажет это вслух, то так и будет. – И война закончилась. Мы проиграли. В конце концов Германия и усатый волшебник в Москве, о котором я говорила им много лет назад, вместе съели нас живыми. Мертвые сокрушили нас. Пока мы считали продуктовые карточки, Буян, Ленинград и Москва съежились и улетучились. – И сердце ее процитировало черную книгу, как когда-то она девочкой цитировала Пушкина: Вий сделал свою страну похожей на мир живых, насколько мог, даже построил кинотеатры, в которых показывали серебряные картины войны, так что мертвые могли быть благодарными и не хотели бы возвращаться к жизни.
Марья положила руку на сердце. Оно болело, будто его только что вырезали. Ушанка кивнула, и в этот раз лицо ее стало печальным и мягким, как старое, застиранное добела платье.
– Все кончено, Марья. Страна Кощея стерта с лица земли. Серебро больше не показывается на улицах, потому что улицы исчезли. Они все серебряные теперь. Это все мертвое. Когда весной поднялась грязь, засосала и вывела из строя немецкие танки, думаешь, кто-то подумал: Это, должно быть, водяной поднимается, чтобы защитить нашу страну, чтобы сражаться бок о бок с нами? Нет, они подумали, что это погода такая. Так оно и было. Будущее принадлежит мертвым и создателям мертвых. Таким, как Вий, которые слепы к творениям собственных рук, которые тянутся к душам. Наш род теперь тоже принадлежит ему. Мы блуждаем, потерянные, и ты даже не видишь серебра на нашей груди, потому что весь мир людей – это Страна мертвых, она у него в рабстве, и после всего, наконец, и мы, мы теперь тоже как все. Мы все мертвые. Все равны. Сломанные и бесцельные и верящие, что мы живы. Это Россия и это 1952-й. Что еще ты назвала бы адом?
Но они же все здесь, думала Марья горячей и тяжелой головой. Все, кого я люблю, все здесь. Кроме Ивана, и кто сказал, что его тут нет: околоточным, милиционером, изготовителем сигарет – кем угодно, таким же беспамятным, как и все? А может, в больнице есть сестра по имени Ксения с не по годам развитой дочерью? О, я бы могла найти их. Найти и сделать так, чтобы они узнали меня.
Кто-то на кухне завозился и загремел горшками.
– Кто, как ты думаешь, тетушка Кощея? – продолжала Ушанка. – Это кухня Бабы Яги. Загляни под крылечко и увидишь, какие кривые и косые у этого дома сваи, – немного похоже на куриные ноги, да? Все ее супы, все ее закипающие котлы – о, ты обязательно должна попробовать уху! – Ушанка с восторгом купалась в Марьином страдании. Она скакала в нем и крутила сальто. – Что за место, где Царица Ночи заведует столовой и ворует куски моркови из своего собственного супа.
Марья подумала, что ее может вырвать. Ей было жарко и одновременно ее мутило. Ее тело хотело что-нибудь сделать перед лицом всего этого, чем-то швырнуть в него. Она нерешительно посмотрела в сторону кухни.
– Тогда и он здесь, навещает сестру. Обсуждает с ней рубку мяса на неделю, урожай картошки, какой суп она может сварить завтра.
Улыбка Ушанки сошла, как пятно. Она жалобно смотрела на Марью:
– Кощей умер. Ну он всегда умирает. И всегда возвращается. Бессмертный – значит бессмертный. Он умирает и разыгрывает ту же историю снова и снова. Сколько людей тебе об этом говорили? Страна Смерти очень похожа на Страну Жизни. Так что теперь он живет во владениях Вия, и у него есть женушка, которую он тайно похитил из семьи, и думает, что он человек. Человек, которым он всегда хотел быть. Это хорошая шутка, если у тебя достаточно чувства юмора для нее. Он не вспомнит тебя. Он недостаточно сильный. Вий всегда был лучше его. «Неумолимо» – вот это слово. Такова жизнь. Смерть побеждает ее подчистую. Для этого смерть и есть. Вот почему они продолжают рассказывать эту историю. Это единственная история. Он посмотрит на тебя и подумает, что ты женщина в таком звании, дожившая до такого возраста, и не хочешь ли ты отведать квасу?
Ушанка вложила свою руку обратно в сжатые руки Марьи, превратив это в интимное прикосновение, полное жалости.
– Марья, – вздохнула она. – Сейчас никто не остался тем, кем был до войны. Просто не к чему возвращаться.
Дверь кухни скрипнула, и появилась старуха. На ней был окровавленный передник, струйки говяжьей и рыбьей крови пересекались на ее груди, образуя узоры. Ее седые волосы были безжалостно стянуты на затылке в тугой узел. Она смотрела прямо на Марью Моревну, глаза ее поблескивали, будто в ожидании какого-то особенного развлечения.
– Чем могу вам помочь, офицеры? – спросила женщина. Ее сухие губы трескались, когда она улыбалась им.
Ушанка подперла щеку языком.
– Я ничего не хочу, – сказала она коротко. – Я сделала то, о чем меня просили. Мне это не нравилось, но я это сделала. Я хочу только отдохнуть.
Мгновение она не двигалась, уставившись в пол с упрямым выражением, так хорошо знакомым Маше, как мать знает сердитое топанье своего дитяти. Потом Ушанка поднялась и вышла прочь от них, из дверей столовой на сумеречную улицу. Пока она шла с высоко поднятой головой, из ее ботинка потянулась золотая ниточка, быстрее и быстрее, перебегая по ее колену, по бедрам, оставляя след нити позади себя. К тому времени, как она достигла середины того, что когда-то было Скороходной улицей, а может, еще ею и оставалось, ее волосы и череп уже были размотаны, и ветер продувал нити насквозь, унося их к горам.
Старуха повернулась к Марье Моревне.
– Ну уж наверняка, – продолжила карга как ни в чем не бывало, – я смогу помочь вам, мадам.
Марья Моревна посмотрела на нее снизу вверх и почувствовала себя такой старой, такой ужасно старой и дряхлой, и в то же время такой юной, открытой, как рана. Пусть все закончится, молила она про себя. Пусть это никогда не случится, ничего из этого. Пусть я снова стану юной, а история только начнется. Она взглянула на стены, на старые выцветшие партийные плакаты: каждый изображал мужчин, женщин и детей с узкими голодными лицами и с пальцем, приложенным к губам, призывая какую-то удаленную душу оставаться молчаливой и спокойной. На них не было кричащих лозунгов, никакие моральные директивы не подсказывали Маше, как себя вести, кем быть в этом месте. Так что она была собой – горькой и кислой, как маринованная луковица.
– Когда это ты кому-нибудь помогала? – отрезала она. Она не могла просто сидеть тут и позволять Бабе Яге притворяться, что она простая покупательница.
– О, я помогаю, – ответила Царица Ночи голосом, который закручивался, как баранья шерсть. – Иногда. Зависит от истории. Но я таки помогаю. Когда девушка доказала, на что способна. Когда она хорошо ухаживала за моими лошадьми, или мела мои полы, или ворочала мои котлы своими собственными руками. Или когда я могла гордиться ее извращенностью. Какова она оказалась – женщина, какой ты могла бы быть?
– Ты знаешь меня?
И вдруг подобно поезду влетела мысль: Марья Моревна, вся в черном, здесь и сейчас, это такая точка, в которой встретились все женщины, которыми она была – жительница Яичка, ленинградка и чертова невеста; девочка, которая видела птиц, и девочка, которая никогда не видела их, – женщина, которой она была и которой могла быть, и женщина, которой она всегда будет, – все они вечно пересекаются и сталкиваются, тысячи птиц падают с тысячи дубов, снова и снова.
Старуха энергично пожала плечами, как будто возражая. Кто может сказать, что я знаю?
И Марья Моревна припомнила разрыв-траву, и черное золото, и ступу с пестиком, трущимся внутри нее. Вспоминать было мучительно, грудь и пальцы кололо булавочными уколами. Плакаты на стене призывали молчать, а в ее памяти раскрылся апельсиновый цветок, ощетинившись белыми иглами.
Баба Яга наклонилась так, чтобы их лица были достаточно близки для разделенного секрета:
– Слушай меня, перестоявшийся супчик. Есть комната в темноте, где потолок провалился, и пол тоже, и все, что осталось, это дыра, ведущая вглубь земли, в подвал. В тень ушли павлиньи гобелены, пыльные и горящие. Там лежит сломанный стол и огромное кресло из костей. Ты должна пойти туда. Ночью, когда никто тебя не видит. Я бы никогда не догадалась, что можно найти в мерзлой грязи среди разрушенных стен. Я уже не бьюсь об заклад, как когда-то. Но ты знаешь, что, в конце концов, ты можешь быть собой только в подвале, в черноте, подо всем, где никто не сможет найти тебя.
Ожог под глазом Марьи, этот старый шрам, запульсировал – дважды и трижды.
– Это потому, что тобой управляет Вий? Поэтому ты не скажешь мое имя? Ты его боишься, как усатого волшебника? Почему плакаты говорят – тихо, тихо, не говори ни слова? Потому что, если все слова обитают в Стране Мертвых, я тоже не смогу ни одного вспомнить, и все же я помню, хотя от этого так же больно, как больно голодать.
– Я не знаю, о чем ты говоришь. Я никогда бы не связалась с подпольем и контрреволюционной деятельностью, – урчала карга. – Я только предлагаю тебе увидеть кое-что, как старая дама с согнутой спиной и грязным маленьким кафе может посоветовать, когда в город принесет туристов. Я ничего не говорю. Я ничего не знаю. Я совершенно определенно ничего не помню.
Она положила свою увядшую руку, пятнистую, как шкура леопарда, на грудь Марьи, между ее грудей. Марья почувствовала что-то тяжелое и горячее, растущее между ними, как пуля.
– Я бы никогда не стала посещать встречи в сырых заплесневелых подвалах. Я бы никогда не стала пенять на характер своей коллеги, которая рассказывает историю так, как ее хотят слышать могущественные уши. Я бы никогда не стала ходить вокруг да около, изображая жизнь, полную моделирования платьев, и свадеб, и процветающих лавок мясника, чтобы не быть пойманной на преступлении воспоминания чего-либо, что существовало до этого нового и праведного режима. Насколько легче, когда мы говорим: Старого мира никогда не было. Все теперь будет новым навсегда. Мне больно, что ты смотришь на меня так, будто предполагаешь такие преступные наклонности у милой бабушки, которая всем сердцем желает только добра.
Нечто вроде пули между их кожами горело на сердце Марьи Моревны, вытягивая из нее тепло и не давая ничего взамен.
– И я бы ни за что в жизни не стала внушать тебе, что историю нельзя забыть костями, даже если брат, волшебник или винтовка говорят: «Ты должна, должна забыть, ничего не было; есть только этот мир, как он есть, и никогда не было другого, никогда не может быть другого».
– Бабушка, – сказала Марья, и она это и имела в виду здесь, в конце всего. – Я так устала. Я уже покончила с этим. Как мне с этим жить? Я хочу, чтобы каждый, кого я любила, обнял меня и сказал, что я прощена, все закончилось и все хорошо.
– Ша! Смерть не такая. Перераспределение миров уравняло все: волшебство и столовые, Елен и подвалы, хлеб и серебро, серебряный свет. Одинаково мертвые, одинаково связанные. Ты будешь жить как живешь, где угодно. С трудностями, с печалями. Да, ты умерла. И я, и моя семья, и все остальные, всегда и навсегда. Все мертвы, как камни. Но что из этого следует? Все равно надо идти утром на работу. Ты все еще должна жить.
Карга убрала руку с груди Марьи. В ней не было пули, ни горячей, ни тяжелой, а только красный галстук, скомканный и перевязанный. Она заткнула его за обшлаг Марьиной униформы, поближе к коже. Осторожно, не отрывая опытного дружелюбного взгляда, она отвела свое изъеденное, морщинистое и угрюмое лицо.
Марья Моревна выдохнула. Сделала непроницаемое пустое лицо. Она посмотрела на бабушку, будто та была незнакомкой: возможно, интересной – такое лицо, – но не родственница ей. Вообще-то Марья была очень хороша в играх. Она встала, вышла из столовой и пошла по длинной узкой дороге к руинам некоего черного дворца, разбитого на куски бесконечными бомбежками. Пыль под ее башмаками блестела в вечернем свете. Она не блуждала по пути в подземелье дворца, вниз, вниз, в спасительную темноту, в подвал, где мужчина с блестками звездного серебра в черных кудрях произнесет ее имя как признание; и Марья Моревна уже видела, что там, где соприкоснутся их руки, нальются огромной тяжестью бриллианты и черная эмаль, и желток будет сочиться из их кожи, как свет.
Благодарности
Рассказ о тех, кто внес вклад в эту книгу, надо обязательно начать с того, как мой муж, Дмитрий, и его семья приняли меня в свою жизнь на пять лет, пустившись в опасное предприятие – делиться с писателем своими рассказами и своими историями, и за это я благодарна им сверх всякой человеческой меры. Это было самое необычное, что случилось в моей жизни: слушать их сказки и шутки и быть приглашенной в их мир. Эта книга взошла из этой плодородной почвы, особенно благодаря Дмитрию, который кроме того, что действовал как живой англо-русский словарь и кладезь бесценных сведений, был первым, кто прочитал мне сказку о Марье Моревне и Кощее Бессмертном, что привело к вечному вопросу: «Подожди, как это? Почему он прикован в ее подвале?»
Я благодарю также женщин из Музея Блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге, где каждый становится смиренным от силы их памяти, которые согласились разговаривать с юной американкой; я благодарна Анне Ахматовой, покровительнице Ленинграда, чья работа пронизывала мою и руководила моей душой; и Харрисона Сейлсбери, чья основополагающая работа «900 дней» была крайне важна для моих разысканий и служила источником множества физических подробностей о военном времени в Ленинграде. И спасибо Анне Василевской, чья музыка служила аккомпанементом во время длинных ночей работы над романом.
Спасибо всем, кто предоставил поддержку, советы и ободрение довольно-таки сварливому писателю, особенно Тиффину Стейбу, Майклу Броутону, Феррету Стайнметцу, Джини Джадд, Амаль Эль-Мохтар, Лии Харрингтон и Клэр Куни, которая любезно согласилась прочитать ранний вариант черновика.
Спасибо моему агенту Ховарду Морхайму и моему редактору Лиз Горински, а также моей помощнице Деб Кастеллано, а также неутомимой Эвелин Крит.
Спасибо, как всегда, С. Джей Такер, моей сестре-царевне, которая делает мир таким ярким, учит меня столь многому о подлинности и магии и превращает мои книги в поразительное колдовство, а также ее партнеру Кевину Уайли, богу логистики и дорогому другу. И наконец, Роуз Фокс, il miglior fabbro (мастеру выше, чем я).



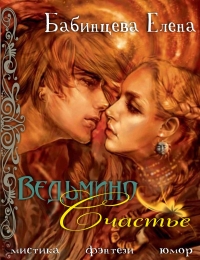










Комментарии к книге «Бессмертный», Кэтрин Морган Валенте
Всего 0 комментариев