Елизавета Дворецкая Гуннхильд, северная невеста
© Дворецкая Е., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
Южная Ютландия, около 950 года.
Пролог
Как положено семилетнему мальчишке, Харальд, третий из четырех детей конунга Горма и жены его, королевы Тюры, был любознателен, непоседлив и по-детски бесстрашен. И робкие дети порой совершают опасные для жизни или безрассудные поступки, даже не подозревая об этом, а Харальд, как истинный потомок конунгов, уже тогда поглядывал, не появится ли где дракон. В погожие дни он от зари до зари бродил по лесам и полям вокруг усадьбы Эбергорд, чаще во главе собственной «дружины» из мальчишек того же возраста, сыновей хирдманов и из челяди, а порой и один. Как в зрелом возрасте, так и в детстве Харальд, сын Горма, никогда не скучал в одиночестве: будучи общительным человеком, он умел и любил поддержать беседу с кем угодно и о чем угодно, но за неимением собеседника общества себя самого ему было вполне достаточно.
Дракон пока не появлялся, зато обнаружилась одна странность. Как-то осенним вечером Харальд заметил, как его сестра Гунн, самая старшая из детей Горма, выскользнула из дома и исчезла в лесу. При этом она воровато оглядывалась, будто не хотела быть замеченной. Гунн исполнилось пятнадцать лет, и два года назад ее обручили с Эйриком, любимым сыном прославленного норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого. Эта зима будет последней, которую Гунн проведет в родительском доме и вообще в Дании: летом за ней придет из Норвегии корабль, чтобы увезти к жениху. Харальд знал, что Гунн опасается отъезда в далекую страну, где ей придется жить среди чужих, – она нередко говорила об этом с матерью. Понимая, сколько явных и скрытых опасностей ей будет угрожать, она охотно изучала руны и обучалась составлять разнообразные заклинания. Сам Горм наставлял ее, понимая, что будущей королеве это пригодится. Гунн всегда увлекалась тайными силами, знала на память много разных заклятий, целебных трав, умела вязать заговоренные узелки. В семье ее в шутку дразнили колдуньей, а младшие братья, Кнут и Харальд, верили, что их сестра умеет ворожить.
Поэтому, заметив, как Гунн в одиночестве направляется к лесу, Харальд сразу насторожился. А вдруг удастся увидеть, как Гунн поедет верхом на волке? Или вызовет тролля из-под камня и заговорит с ним? Или поднимет мертвеца из старой могилы? И мальчик, таясь за кустами, устремился за сестрой.
Натоптанную тропу, ведущую в соседнюю усадьбу, Гунн давно оставила в стороне и теперь уверенно пробиралась по едва заметной стежке. Значит, не Торгерд, жену Регнера-ярла, она собралась навестить. Харальд прилагал немало усилий, чтобы не отстать и не потерять сестру из виду. Рослая, развитая для своих лет, светловолосая Гунн обычно была заметна в любой толпе, но сегодня, одетая в простую некрашеную одежду, в буром суконном плаще, она почти сливалась со стволами и ветвями унылого осеннего леса. Вот она оглянулась; Харальд поспешно присел за куст. А когда несколько мгновений спустя осторожно выглянул, сестра исчезла!
Прячась за ветками, он подобрался к тому месту, где видел ее в последний раз, но под искривленным дубом никого не было. Огляделся, но бурого плаща не приметил. Вокруг было тихо, сгущался между деревьями вечерний туман. А Гунн исчезла. Подумалось даже, что ее здесь и не было и все это ему померещилось. Или у нее плащ-невидимка?
Харальд вернулся домой, но о своем маленьком приключении никому не сказал. Не поделился даже с братом или своим лучшим другом, Сигвардом, сыном Регнера. Это теперь была его тайна, и он хотел разобраться в ней сам.
С этого дня Харальд стал по вечерам следить за Гунн и дня через три-четыре вновь увидел ее в буром плаще. Куда ей идти в такое время, да еще под моросящим дождем? И мальчик во весь дух пустился бежать к тому месту, где сестра исчезла в прошлый раз. Найти искривленный дуб с почерневшей от дождя корой ему удалось не сразу, но зато вовремя: едва он затаился в кустах, как мимо торопливо прошла Гунн. Сегодня она выглядела более взволнованной, чем в прошлый раз, и почти бежала, не глядя по сторонам.
Взрослый наблюдатель решил бы, что у конунговой дочери свидание с каким-нибудь неподходящим парнем, но семилетнему Харальду это не пришло в голову. Он чуял здесь жуткую и увлекательную тайну и крался за сестрой, настороженный, будто охотник на тропе.
Шли они еще довольно долго, и Харальд уже побаивался, что не сумеет найти дорогу обратно. К тому же темнело, и он едва мог разглядеть в сумерках идущую впереди Гунн. Но пути назад не было, и он следовал за сестрой, будто привязанный невидимой веревкой.
Вдруг во мраке впереди блеснул огонь.
Девушка вышла на поляну. Будто окаменевший хоровод, здесь стояли высокие, в рост человека, серые камни. Между ними двигался огонек. Харальд испуганно присел: он не знал, что это за место, но ему сразу стало не по себе. Гунн остановилась возле ближайшего камня. Приглядевшись, Харальд разобрал, что там, в кругу, ходит женщина с факелом в руке. Она была уже далеко не молода, но ее длинные волосы были распущены, а на поясе висело множество каких-то мелких предметов. В другой руке она держала высокий посох.
И тут Харальд сообразил, кто это. Ведьма Ульфинна! Он слышал разговоры, что где-то в этом лесу с незапамятных времен живет старая ведьма. Она уже была, когда дед Хёрдакнут построил здесь усадьбу, состарилась здесь, потом стала опять молодой, потом снова состарилась. Многие не верили в это.
Зачем сюда пришла Гунн? Наверное, поучиться колдовству! Уж конечно, ведьма, которая умеет из старухи становиться снова молодой, может научить такому, чего больше никто не знает. Он огляделся, не привязан ли где-нибудь ездовой волк со змеями вместо поводий, но ничего такого не заметил.
Прижавшись к дереву, какое-то время Харальд наблюдал, как темная сгорбленная фигура с факелом в руке ходит от одного камня к другому, вроде бы разговаривая с ними – черная среди черных, похожая на еще один, оживший камень. Потом к ней подошла Гунн и что-то отдала. Обе женщины, старая и молодая, принялись кружиться, все быстрее и быстрее, выкрикивая непонятные слова и завывая. Факел чертил в темном воздухе сплошную огненную линию; было похоже, будто пламенные змеи вьются в темноте. Завороженный этим зрелищем, Харальд и забыл, что надо прятаться, а потом… Факел упал наземь и погас, и последнее, что мальчик успел увидеть – словно бы две черные птицы взметнулись в воздух и пропали.
И исчезло все: огонь потух, и мальчик больше не видел ни стоячих камней, ни ведьмы, ни сестры. Стояла тишина, и он чувствовал, что остался здесь совсем один! Только он, шепчущие деревья, молчащие камни…
Сколько он так сидел, оцепенев? Испугавшись вдруг, что сам окаменеет, Харальд вскочил и побежал обратно. Вершины леса едва виднелись на темно-синем небе, и он сам не знал, каким чудом находил дорогу. Он устал, задыхался, но бежал изо всех сил, а если бы мог, то помчался бы еще быстрее. Его не оставляло чувство, что молчаливые камни, давно скрывшиеся за лесом, все так же смотрят ему вслед, а две черные птицы вот-вот выпадут из темноты и вопьются в затылок кривыми железными когтями…
Но бежать ему пришлось не больше половины пути. Впереди послышались крики, лай собак, мелькание огней. Громкие голоса повторяли его имя – это Тюра и Горм, обнаружив, что младшего сына нет дома, послали челядь его искать.
Когда его наконец привели домой, Харальд не мог ответить на вопрос, что делал в темном лесу. Гунн оказалась уже там, сидела с женщинами у очага, пряла шерсть осенней стрижки и была не менее других встревожена исчезновением младшего из братьев. Он хотел сказать, что пошел за ней – и не мог. Хотел спросить у Гунн, правда ли она ходила этим вечером в лес – и не мог, будто забыл все слова или язык онемел. В конце концов его уложили спать, так и не добившись ответа.
* * *
Набегавшись и замерзнув, Харальд заснул сразу. А во сне опять очутился в лесу, но теперь это был другой лес – летний, светлый, приветливый. Кругом волновались цветущие травы, на ласковом ветерке шумели деревья, под ногами краснела спелая земляника. Навстречу ему вышла молодая женщина с распущенными волосами – чем-то она напоминала Гунн, и Харальд ничуть не испугался. Женщина подошла к нему, ласково улыбаясь, взяла за руку и куда-то повела.
Шли они недолго – во сне все происходит быстро. Не успел он оглянуться, как перед ними уже открылся домик – вросший в землю, с дерновой крышей, на которой пестрели цветы. Дверь была открыта, внутри заманчиво пылал огонь. Женщина подвела Харальда к двери и знаком предложила войти; без малейшего страха мальчик шагнул за порог… и вдруг провалился в яму.
Глядя вверх, на прямоугольник отдаленного света, он видел склонившуюся над ямой женщину: она уже не улыбалась. «Ты больше не будешь ходить в лес за твоей сестрой, – прозвучал холодный злой голос. – Ты забудешь обо всем, что видел. Ты не сможешь рассказать об этом, язык твой умрет, слова расползутся из памяти».
Вдруг лицо ее стало покрываться морщинами, нос заострился, глаза провалились – красавица стремительно превращалась в старуху, седую и уродливую. А потом кожа сползла с лица, обнажив череп – это был мертвец, но седые космы по-прежнему свисали вокруг пустых глазниц и оскаленных зубов. Харальд закричал и забился – точнее, попытался, охваченный невыразимым ужасом, но не смог шевельнуться, не смог издать ни звука, как это часто бывает во сне. Все мышцы и язык сковала неодолимая тяжесть, душу наполнила безнадежность. Он понял, что пропал, совсем пропал, погибает и нет никакого пути к спасению. А мертвец стал бросать в яму землю; она сыпалась Харальду на грудь, на лицо, он чувствовал возрастающую тяжесть и вместе с тем ясно ощущал, как с каждым мгновением все дальше от него уносится дневной свет, свежий воздух, свобода, жизнь. Земли все больше, она уже лежит на его груди и лице, он больше не может вдохнуть и лишь задерживает дыхание, но понимает, что надолго этого не хватит, что у него впереди лишь несколько мгновений жизни. Стены смыкались наверху, заслоняя последние лучи света. Груда земли на нем уже так велика, что никогда ему не хватит сил стряхнуть ее и встать. И ее все больше, больше… Он погребен навсегда. Прощай, свет, воздух, жизнь! Это конец… Удушье разошлось по телу…
И все погасло. Теперь он знал, как умирают.
Харальд проснулся с диким криком, обливаясь потом. Подскочил спавший рядом старший брат Кнут, проснулись хирдманы, прибежала их бывшая нянька Аса, потом позвали мать. Харальд сидел на постели и трясся всем телом, держась за горло, стучал зубами и не мог говорить. Его напоили отваром из цветков вереска, лепестков шиповника и земляничного листа, что успокаивает и помогает уснуть, завернули в одеяло, и сама Тюра сидела с ним всю ночь, держа на коленях и укачивая свое младшее дитя. Его уже обучали воинским искусствам, и с осенних пиров он первую зиму жил в дружинном покое, но для Тюры все еще оставался маленьким мальчиком.
Кое-как рассказать о своем сне он смог только утром, после того как его умыли наговоренной водой и повесили на шею палочку с защитными рунами. Но говорил Харальд с трудом, спотыкаясь на каждом слове, а о своей вечерней прогулке к стоячим камням не упомянул – он просто об этом не помнил. Даже вид обеспокоенной Гунн не пробудил воспоминаний о том, что пошел-то он в лес по ее следам. Даже когда Тюра предложила дочери применить свои умения и сделать для брата амулет, отгоняющий дурные сны, и Гунн охотно согласилась, Харальд не вспомнил, что сестра и была первой причиной всего.
Наступления следующего вечера он ждал с ужасом, твердо уверенный, что та женщина снова придет за ним и поведет в свой домик-ловушку. Он отказывался ложиться в постель, если мать не будет сидеть рядом и держать его за руку. Тогда Горм положил рядом с сыном свой собственный меч – нет лучше средства от злой ворожбы и плохих снов, а еще вырезал вязаную защитную руну над лежанкой сыновей.
Благодаря рунам, отцовскому мечу и заклятьям Харальд спал спокойно: страшная женщина больше к нему не приходила. Но до конца он так и не оправился, и хотя в целом его речь наладилась, небольшое заикание осталось на всю жизнь.
До лета все было спокойно. Может быть, Гунн еще не раз посещала Ульфинну, но Харальд больше не замечал ее отлучек. В середине лета за невестой пришел корабль, и Гунн уехала к своему жениху Эйрику.
А после ее отъезда словно пелена спала с памяти Харальда, и он разом вспомнил все: тайные прогулки сестры, свою погоню за ней по лесу, кружение старухи с факелом среди стоячих камней… И теперь он смог рассказать об этом матери. Тюра передала его слова отцу, и разгневанный Горм приказал хирдманам немедленно схватить Ульфинну, которая обучала неведомо чему его дочь и испортила сына.
Ради чести Гунн дело не стали предавать огласке, но ведьму поймали и утопили в море, надев на голову кожаный мешок. Жуткий сон про яму повторялся и после ее смерти, но очень редко, не каждый год.
Взрослея, Харальд все лучше понимал, какой страшной опасности подвергался и как ему повезло, что он отделался лишь небольшим заиканием. Иной раз доходили слухи, что Гунн и в Норвегии не оставила занятия колдовством и даже вроде бы обучалась у тамошних финнов, великих искусников по части чар. С годами за Гунн, матерью все возрастающего семейства, установилась слава сильной колдуньи. Теперь Харальд не сомневался, что перед замужеством она тайком бегала к Ульфинне ради чародейской науки, хоть это и не к лицу женщине высокого рода.
С тех детских лет в душе Харальда, сына Горма, навсегда поселилась брезгливая ненависть к ведьмам, злым чарам, коварным женщинам. Теперь это был уже не мальчик, а мужчина двадцати пяти лет, самый рослый в дружине, один из сильнейших бойцов, отважный и решительный, недоступный для детских страхов.
Но прошлое ожило в памяти, когда он совсем этого не ждал. Когда однажды он увидел Гуннхильд, дочь Олава, – рыжеволосую девушку, носившую то же имя, что и его старшая сестра-колдунья, тоже способную становиться то старой, то молодой…
Часть 1
– А я тебе еще раз говорю: надо отдать этих женщин! Это самое лучшее, что мы можем сделать!
Гуннхильд вздрогнула, сделала Бирте знак молчать и припала к щели в дощатой перегородке. Бирта, пятнадцатилетняя дочь хозяина дома, позвала ее в кладовую, чтобы показать вышивку на своем будущем свадебном платье. Дверь кладовой открывалась в «теплый покой», иначе грид; и едва девушки вошли, как в гриде появился сам хозяин, Торберн по прозвищу Сильный, а с ним и другие хёвдинги вика Хейдабьор. В другой раз Гуннхильд и не подумала бы подслушивать чужие разговоры, но сейчас замерла и насторожилась. Женщины, о которых шла – или могла идти – речь, была она сама и ее две ближайшие родственницы. Голос принадлежал Хрольфу по прозвищу Хитрый, крупнейшему в вике торговцу рабами.
– Сразу видно, что ты привык торговать женщинами! – отозвался кто-то из пришедших с хозяином мужчин. – Может, уже и цену прикинул? Опомнись, ведь речь идет о матери нашего конунга!
По голосу Гуннхильд узнала Альвбада, фриза[1]. Фризы, когда-то основавшие поселение у фьорда Сле, и сейчас составляли значительную часть его жителей, и Альвбад принадлежал к одному из наиболее влиятельных родов.
– А где он теперь, этот конунг? – сердито ответил ему венд Гостислав. Похоже, Торберн созвал к себе видных людей из всех общин Хейдабьора, наверное, и от саксов кто-нибудь был. – Боги от него отвернулись! Кнут, сын Горма, гнал его по собственной земле, будто волк зайца! Он был разбит и у границы, и здесь, перед виком! Чудо, что Кнут еще не занял Хейдабьор! Что нам пользы от Олава?
– Он всегда был дураком и неудачником! – отрезал Хрейн Дупло, и Гуннхильд за перегородкой поморщилась: кому понравится слышать такое о родном отце. – Разве этот человек может править страной? Вот Сигтрюгг был настоящий конунг! А этому лишь бы стоять на носу, не важно чего, и чтобы плащ развевался! Он сам виноват, что все это с ним случилось! Ни разу еще он не проехал по своей же земле, чтобы с кем-нибудь да не поссориться! Его пригласили на пир, оказали честь, так нет, он даже не может спокойно посидеть за столом и выпить во славу богов, как приличные люди!
– А это правда – насчет ковша? – хихикнул Гуннар, сын Асмунда, известный в Хейдабьоре как Горе Гуннар.
– Правда, – вздохнул Оттар Синий, неплохой человек, если не считать большой склонности к выпивке.
– Прямо так – ковшом по лицу? Сыну конунга?
– Прямо так.
– И ковш раскололся?
– Раскололся.
– Да что же у него голова – железная, что ли?
– Не знаю, но я сам видел. Может, ковш был уже старый и треснутый.
– Старый, не старый! – с раздражением перебил их Снорри Черный Скальд. – Если бы мне дали на пиру, при всех гостях, ковшом по морде, я бы не успокоился, пока бы не сжег весь дом того, кто это сделал, а его самого разорвал бы на части! А это ведь сын конунга! Неудивительно, что он стоит с дружиной возле самого вика. Странно, что он еще не ворвался сюда и не прикончил нас всех!
– Но мы-то почему должны отвечать за его дела? – зашумели сразу все хёвдинги, наиболее богатые торговцы из постоянно проживающих в вике Хейдабьор, и хозяева ближайших усадеб. – То мы, а то конунг!
– Мы за него отвечать не можем!
– Пусть Кнут ищет его в море, если ему обидно!
– Вот я и говорю: надо отправить к нему женщин! – снова начал Хрольф Хитрый, невысокий, щуплый, шустрый мужчина лет тридцати. Обычно его подвижное лицо выражало наивное дружелюбие, но на деле это был человек расчетливый и бессердечный. Разбогател он на том, что скупал у викингов захваченных пленников и перепродавал на Восточный путь и в Грикланд. – Пока они у нас, мы как бы остаемся людьми Олава и врагами Кнютлингов. А если мы их отдадим, то Кнут будет знать, что Олав сам по себе, а мы сами по себе, и не тронет вик!
– Он и так не тронет вик: он же не дурак! – воскликнул старый Улф. – Ни один конунг, если у него на плечах голова, а не только шлем с узорами, не станет разорять вик.
– А если дурак? – возразил Гостислав. – Кнут, сын Горма, еще совсем молод. Он еще не умеет думать о завтрашнем дне. Ему лишь бы пограбить и прославиться. А дальше хоть море высохни!
– Тем более наши конунги враждуют с Кнютлингами уже три поколения, с тех пор как Олав Старый здесь появился.
– Да вы совсем обезумели, я посмотрю! – Гуннхильд узнала мощный рык Торберна Сильного. Раздался гулкий удар кулака по столу: у хозяина иссякло терпение. – Кто здесь сказал про Олава Старого? Ты, Хрейн? Значит, память какая-то еще есть! Или вы забыли, что уже лет полтораста наш вик живет в союзе с конунгами из рода Годфреда Грозного, что положил начало Хейдабьору?
– Ну, это как поглядеть… – проворчал Альвбад.
Его соплеменники-фризы уже полтора века не были здесь хозяевами, но не забывали и другим не давали забыть, что первыми нашли это выгодное для торговли место у фьорда Сле.
– Помолчи, Альвбад! – рявкнул Торберн. – Запомните, хёвдинги вика Хейдабьор: если вы решите отдать женщин Олава Кнуту, сыну Горма, вы заслужите имя предателей! Вы сами разрушите освященный веками союз, боги отвернутся от вас, и ни в чем вам не будет удачи! Вините потом себя!
– А насчет богов, так можно попросить о помощи Христа, сына Марии! – возразил ему Горе Гуннар. – В Дорестаде и Бьёрко, не говоря уж о Стране Саксов и Стране Франков, многие торговые люди поклоняются ему, и дела у них идут хорошо.
– Благополучие нашего вика держится на Кольце Фрейи. Если есть такие смелые, чтобы от него отказаться, то я не с вами, – покачал головой Оттар Синий. – И если уж вы на это решитесь и тинг вас поддержит, то я, пока не поздно, поищу себе местечко в Бьёрко.
– Само по себе Кольцо Фрейи не станет за нас сражаться, – проскрипел Римберт Кобыла.
«Ах, значит, вот кто пришел от саксов», – отметила Гуннхильд.
– За нас всегда сражался конунг. И если уж конунга у нас больше нет, то и впрямь стоит поискать другого…
Этого Гуннхильд выдержать уже не могла. Толкнув дверь, она вылетела на середину палаты и вдруг предстала перед изумленными хёвдингами, будто разгневанная валькирия – рослая, статная, с пышной грудью, румяная девушка восемнадцати лет, окутанная облаком янтарно-рыжих волос.
– Кто это здесь сказал, что у вас нет конунга? – Уперев руки в бока, она окинула взглядом притихших мужчин. – Ты, Римберт? Ты очень сильно ошибаешься! Всякому случается изведать неудачи, но от этого мой отец не перестал быть потомком Годфреда Грозного и самого Фрейра. Правы те, кто говорит, что благословение богов было передано моему предку вместе с Кольцом Фрейи. – Она бросила Торберну признательный взгляд. – И мы докажем, что владеем им по праву! Вы боитесь, что Кнут, сын Горма, двинет войско на Хейдабьор? И хотите откупиться, выслав к нему меня, мою бабку и вдову моего дяди? – Она вонзила гневный взгляд в подвижное лицо Хрольфа, который сейчас ухмылялся с таким видом, что, дескать, я же пошутил. – И по-вашему, это не предательство? Так знайте: женщины из рода конунга отважнее иных мужчин! Мы сами отправимся к Кнуту, сыну Горма. И если нам удастся убедить его не трогать Хейдабьор и вернуться в свою страну, вам больше не придется сомневаться, что только мы по праву называемся конунгами Южной Ютландии!
– Вы хотите сами к нему поехать? – спросил Оттар, лысеющий, морщинистый человек с мешками под глазами, казавшийся старше из-за пристрастия к пиву и дорогому привозному вину. – В Слиасторп?
– Конечно, – надменно отозвалась Гуннхильд. – Это наш дом! Мы не побоимся туда вернуться!
– А королева Асфрид знает? Она тоже готова на это?
– Пригласите ее сюда, чтобы узнать ее мнение. Вам следовало сделать это с самого начала, а не сговариваться, как продать нас за нашей спиной!
Гуннхильд метнула еще один уничижительный взгляд на Хрольфа. Тот покаянно взъерошил темные, подстриженные по франкскому обычаю волосы у себя на затылке, но это вовсе не означало, что он на самом деле о чем-то жалел.
– Я приведу ее, и вы сами услышите наше решение, – бросила Гуннхильд и вышла, направляясь в женский покой.
Ее трясло от волнения, но она знала, что все сделала правильно. Бабушка, старая королева Асфрид, и впрямь уже заговаривала о том, чтобы самой поехать в Слиасторп. И теперь Гуннхильд убедилась: мудрая мать ее отца, как всегда, была совершенно права! Ее замысел лишь предвосхищал развитие событий. И теперь, похоже, это был единственный путь спасти их свободу, честь, а особенно – вик Хейдабьор и власть Инглингов над Южной Ютландией.
Именно королева Асфрид принадлежала к прямым потомкам Годфреда Грозного, основателя и первого покровителя вика, торгово-ремесленного поселения возле фьорда Сле, на юге полуострова Ютландия. Около полувека назад из-за моря явился Олав Старый – это прозвище обычно закрепляется за основателем рода, – происходивший из шведских Инглингов. Победив в бою сперва Одинкара-конунга, отца Асфрид, а затем и ее брата Аскара, он женил на наследнице своего сына Кнута, и с тех пор Инглинги считались наследниками Годфреда и владельцами Южной Ютландии. В прежние времена у данов и ютов имелось по десятку самостоятельных конунгов, но Кнютлинги, пришедшие из Норвегии в Северную Ютландию, постепенно, за несколько поколений, прибрали к рукам среднюю часть страны и почти все датские острова. И уж конечно, давно стремились вытеснить Инглингов из Хейдабьора. Этот вик, богатейший во всех Северных Странах, приносил немалые прибыли.
Потомки Олава Старого не собирались сдаваться без борьбы. Дед Гуннхильд, Кнут, сын Олава, и его брат Сигурд пали от руки Хёрдакнута из рода Кнютлингов. Гуннхильд выросла в ходе этой войны, несколько лет ей пришлось прожить в Баварии, у родичей матери, пока мужчины выдерживали жестокие схватки.
У деда Кнута было трое сыновей: Сильфраскалли, Сигтрюгг и Олав. Самый старший погиб еще почти подростком, второй успел жениться на знатной женщине по имени Одиндис и обзавестись тремя детьми. Олав же, младший сын Кнута, раздобыл в жены Гильду, дочь баварского герцога Арнульфа, и Гуннхильд была единственным ребенком от этого союза. В то время сам Кнут был вынужден подчиниться королю саксов и даже крестился.
Теперь от мужчин семьи оставалось в живых только двое: Олав и его племянник Рагнвальд, сын Сигтрюгга. И три женщины: старая королева Асфрид, Одиндис, вдова Сигтрюгга, и Гуннхильд. Северные Кнютлинги, их главные враги, в последние годы воевали на море, Инглингов пока больше не тревожили.
Этой зимой Олав-конунг, оставив племянника надзирать за родовой усадьбой Слиасторп и виком, отправился в ежегодную поездку по своей стране. Все шло хорошо до самого йоля. Во время йольских пиров Олава с его людьми пригласил к себе Ивар Безумный, живший на самой границе владений Гормаконунга. Олав прибыл, и тут оказалось, что Ивар пригласил также и Кнута, старшего сына Горма, который тоже совершал зимнюю поездку по стране и тоже в это время приблизился к границе!
Все бы ничего… Они могли бы мирно отпраздновать йоль и разойтись. Вспоминая об этом, Гуннхильд то смеялась, то вздыхала. Во время пира, когда все уже были пьяны, люди Олава и люди Кнута затеяли возню, кто-то кого-то хотел облить пивом, а попал на Олава. Олав, человек вообще-то не злой, вдруг решил, что это сделано нарочно с целью опорочить его честь. Как говорится, пьяный не знает, что делает, поэтому не стоило спрашивать, зачем он схватил со стола деревянный ковш с птицей на ручке и метнул в голову Кнуту, сыну Горма.
Ковш треснул, и началась общая драка. Слава асам, мечи были под замком, и в ход пошли кулаки, посуда, разная домашняя утварь. Прибежал сам хозяин, Ивар Безумный, размахивая скамьей и крича: «Всех убью за конунга!» Скамью у него отобрали, попутно пристукнув и его тоже. Гуннхильд обо всем этом рассказали Оттар Синий и Бьёрн Высокий, единственные люди из Хейдабьора, бывшие с Олавом в той злосчастной поездке. Привыкшие к тому, что с их конунгом вечно что-нибудь случается, они в это время пили пиво, любуясь дракой и обмениваясь соображениями:
– Ну, что, Бьёрн-хёвдинг, поучаствуем или еще по ковшичку?
– Конечно, еще по ковшичку, какой разговор!
Видя, что в воздухе замелькала скамейка, они решили наконец вмешаться.
Скамью отобрали, наиболее рьяных драчунов растащили. Через какое-то время все вновь собрались в гриде, кое-как приведенном в порядок, пострадавшие приложили по куску сырого мяса к своим синякам, и веселье продолжилось. Однако северяне затаили обиду.
Когда через несколько дней протрезвевшая дружина Олава тронулась восвояси, на одной из равнин на нее внезапно напали. Поначалу решив сопротивляться, позже Олав все же был вынужден отступить. Но Кнут на этом не успокоился и пустился за ним. С этого дня удача отвернулась от Олава, похоже, окончательно. Надо думать, асам не понравилось, что он затеял драку на пиру в их честь. Поездка по стране превратилась в позорное бегство.
Никто из тех, к кому Олав обращался за поддержкой, ввязываться в ссору двух конунгов не пожелал. Хотя многие потом в этом раскаялись – Кнут со своей дружиной шел вдоль Ратного пути, сухопутной дороге, пересекавшей всю Ютландию с севера на юг, и грабил усадьбы.
С врагом на хвосте, будто заяц от собак, Олав спешно вернулся к фьорду Сле и стал собирать войско. Кое-кто из хёвдингов дал ему дружину, кто-то отказался, возмущаясь, что по собственной глупости Олав ввязался в ненужную войну. На спешно созванном тинге вик Хейдабьор отказался собирать ополчение, и Олаву пришлось принять бой прямо перед собственной усадьбой Слиасторп. Хорошо еще, его мать, королева Асфрид, успела уехать в Хейдабьор и увезти внучку, вдову-невестку, челядь, скотину и самое ценное из имущества. Со всем этим они расположились в усадьбе Торберна Сильного и стали ждать исхода боя.
Ничего хорошего они не дождались. Олав потерпел поражение и бежал всего на двух кораблях, с племянником и остатками разбитой дружины. Ветер в тот день был западный, и все думали, что направился он в Швецию, чтобы там просить помощи у своего дальнего родича, Бьёрна-конунга. А может, и в вендский Рёрик, где его племянница жила замужем за князем Мистивоем. Мать, невестка и единственная дочь Олава остались в Хейдабьоре, не зная, как и все его жители, что с ними будет дальше. Кнут, сын Горма, со своей дружиной занял брошенный Слиасторп и третий день жил там, собираясь отпраздновать День Фрейи – начало весны[2]. В Хейдабьоре не стихали споры, пойдет ли он после этого грабить вик или повернет назад на север, к себе домой. А хёвдинги совещались, как им обезопасить себя…
– И это должно случиться с нами накануне праздника Фрейи! – причитала еще вчера тетка Одиндис. – Хоть бы она сама сошла из своих небесных палат и уговорила Кнута не ходить сюда!
– Не стоит рассчитывать на ее помощь, – вздохнула старая королева Асфрид. – Это в прежние времена боги часто являлись людям и даже участвовали в сражениях. Но теперь им служат все хуже, почитают все меньше, и все больше людей предают их и поклоняются Кристусу. Неудивительно, что боги покинули нас и предоставили нам самим заботиться о себе. Я думаю, не поехать ли мне в Слиасторп и не поговорить ли с молодым Кнутом. В праздник пробуждения богини он не обидит старую женщину, тем более что мы в родстве…
– Было бы лучше, если бы к нему пришла сама Фрейя!
– Так она и придет! – Гуннхильд, осененная неожиданной мыслью, даже вскочила со скамьи. – Фрейя каждый год приходит в этот день. Так она может прийти в Слиасторп и выскажет Кнуту, сыну Горма, свою волю!
– С чего ты взяла? – Бабушка и тетка в изумлении воззрились на нее.
– Она тебе сама сказала? – невесело усмехнулась Одиндис.
– Не так, чтобы она мне сама сказала… а может, и сама! – От воодушевления Гуннхильд раскраснелась и говорила все увереннее. – Кто-то же внушил мне эту мысль, почему же не сама Фрейя? Я пойду за нее!
– Ты сошла с ума! – ахнула тетка. – Хочешь сама отдаться в руки Кнута?
– А может, и не так плохо придумано, – вдруг поддержала внучку королева Асфрид. – Идти все равно надо: если мы не пойдем навстречу Кнуту, он сам завтра-послезавтра явится сюда. А если мы решимся, то, может, и выиграем – боги любят смелых, тех, кто без страха идет навстречу судьбе! Конечно, лучше бы мне самой с ним повидаться, но Кнут совсем молод и охотнее побеседует с юной красоткой, чем с такой старухой, как я.
– Зато нам с тобой не пришлось бы опасаться за свою честь! – возразила Одиндис. – На нас с тобой молодой парень не польстится даже после месяца в море!
– В День Фрейи он не посмеет оскорбить ту, что говорит от имени богини! Разве наша девочка недостаточно хороша, чтобы Фрейя приняла ее облик?
– Фрейю мне не приходилось видеть, но для смертных наша Хильда достаточно хороша! – хмыкнула Одиндис. – Может, вы и правы: лучше пойти навстречу опасности и погибнуть с честью, чем трусливо дожидаться, пока тебя вытащат из дома, как лису из норы за хвост.
Одно обстоятельство внушало надежду: королева Тюра – жена Горма-конунга и мать Кнута – состояла в дальнем родстве с Асфрид, и та имела право попросить Тюру о помощи и отдаться под ее покровительство, пока их мужчины разберутся между собой. При удаче они могли бы обезопасить и себя, и вик. А медлить не следовало: ведь Кнут, сын Горма, привлеченный богатством торговых людей, и впрямь мог двинуть дружину на Хейдабьор.
* * *
Рыжие волосы Гуннхильд вымыли и тщательно расчесали, так что они пушистым облаком окружали голову и укутывали рослую фигуру ниже пояса. Тетка Одиндис достала из сундука франкское платье из миклагардского шелка, которое надевала двадцать пять лет назад на свою свадьбу – темно-красное, затканное желтыми птицами и вышитое золотой нитью. Дорогие украшения Асфрид и Гильды, покойной матери Гуннхильд, украсили ее грудь, запястья и пальцы. Самой тяжелой была золотая гривна из трех узорных обручей – была она так велика и драгоценна, что любой легко поверил бы, что это и есть Брисингамен, священное ожерелье Фрейи, дающее ей власть над жизнью и смертью. Даже сама Гуннхильд трепетала – а может, у нее просто дрожали ноги под тяжестью плотного шелка и груды золота.
– Очень похоже! – Расправив бусы на ее груди, бабушка Асфрид отошла на пару шагов. – Унн, посвети еще! Да не тычь в нее факелом, подпалишь волосы! Да, и правда, вылитая Фрейя! – с удовлетворением добавила она, будто сама не раз встречалась с Невестой Ванов. – Всякий смертный поверит. Пусть-ка эти христиане выставят против тебя такую же красотку! Не волнуйся, все будет хорошо. И… и это тоже возьми.
Асфрид потянула внучке небольшой мешочек. Багряный шелк с золотыми нитями ярко сверкнул в свете огня.
– О, ты думаешь, можно? – Гуннхильд, зная, что там внутри, даже попятилась.
– Стоит ли отдавать в руки северян сразу и нашу девушку, и наше главное сокровище! – заволновалась Одиндис.
– Я думаю, тебе лучше его взять. – Асфрид кивнула и осторожно развернула старинный златотканый шелк. – Надень под рукав, там не будет видно. Кольцо Фрейи убережет тебя от беды!
– Но если… – начала Одиндис.
– А если пропадет моя единственная внучка, зачем нам это кольцо? – с горечью перебила ее старая королева.
Среди багряной ткани блеснуло золото, заалели самоцветы, будто пылающие угли. Это было «кольцо клятв» – древнее сокровище, на котором давались обеты, которое конунги надевали на руку, когда приносили жертвы или разбирали судебные дела. Служить для этого может браслет, перстень, гривна, просто согнутый в кольцо железный прут. Но нигде и никогда не было кольца клятв дороже и прекраснее, чем то, которым владели ютландские Инглинги, потомки Годфреда Грозного и Олава Старого. Между двумя золотыми ободками располагался сложный сквозной узор в виде ветвей, листьев и цветов, сплетенный из золотой проволоки. В чашечки цветов были вставлены красные самоцветы; когда на них падал свет, в глубине каждого загоралась искра. Люди верили, что эта вещь была изготовлена подземными жителями-свартальвами, ибо руки простых смертных подобную красоту сотворить неспособны.
Кольцо Фрейи всегда хранилось у старшей женщины в роду потомков Годфреда Грозного, благодаря чему она носила титул Госпожа Кольца[3]. Сейчас это была старая королева Асфрид. Гуннхильд случалось прикасаться к нему всего раз в году – когда она надевала его в обрядах Дня Фрейи, и каждый раз ее при этом пробирала дрожь благоговения. Браслет был довольно легким – и в то же время Гуннхильд ясно чувствовала, как вместе с ним на нее нисходит особая сила. Так и сейчас: вдруг стало жарко, будто в жилы влился божественный огонь. Не отрываясь, она смотрела на переплетение ветвей и листьев из золотой проволоки, и ей вдруг показалось, что сама она – дерево в листьях и цветах, растущее корнями из нижнего мира, а кроной уходящее в бесконечную высь… Наверное, таким деревом чувствует себя весной сама Фрейя, несущая жизненную силу из божественных пределов каждой земной травинке.
Когда Гуннхильд вышла из женского покоя в грид, ждавшие там хёвдинги разразились восторженными восклицаниями. Янтарно-рыжие волосы конунговой дочери золотились в свете очага, на щеках от волнения горел яркий румянец. Богатый наряд ослеплял взор блеском и игрой ярких красок: белая сорочка, собранная в частые складки, багряное с золотом платье, голубой хенгерок с золотыми наплечными застежками, красный кафтан с отделкой из шелковых шнуров, ожерелья в пять рядов – бусины из золота и серебра, из разноцветного стекла, из хрусталя и сердолика, с золотыми подвесками.
– Пора! – решила королева Асфрид. – Унн, поди узнай, лошадь оседлали? Пусть подают к двери. Богута, давай плащ.
Рабыня-вендка кинулась к сундуку и притащила широкий плащ из синей фризской шерсти, подбитый щипаными бобровыми шкурками. По краям его блестела золоченая тесьма, и сама бабушка Асфрид принесла круглую застежку – размером с женскую ладонь, из чистого золота, с цветной эмалью и четырьмя гладко отшлифованными разноцветными камешками. Олав-конунг привез из набега на какой-то франкский монастырь несколько досок, служивших прежде обложками богослужебных книг. Книги данам были без надобности, а из украшений, содранных с обложек, конунгов домашний кузнец, тоже венд, изготовил несколько подвесок к ожерельям и застежек для плащей.
Служанки помогли Гуннхильд сесть на лошадь, оправили плащ и волосы. И вот она выехала со двора в холодный туман зимнего вечера. Пошел снег – крупные влажные хлопья белыми звездами усеяли ее синий плащ и рыжие волосы. Если она теперь войдет в теплый дом и снег на ней растает, она будет вся мокрая. «Ну да ничего!» – Гуннхильд усмехнулась. По пути из небесных палат Асгарда к устью реки Сле богине пришлось одолеть долгий путь, ничего удивительного, если она немного промокла. А если спросят, почему она не приехала в повозке, запряженной кошками, она ответит, что кошки отказались везти по такой грязи!
Путь Гуннхильд лежал через хорошо знакомые места – наследственные владения ее семьи. Многие поколения сменились с тех пор, как возле озера в верховьях реки Сле, впадающей в Восточное море, образовался вик Хейдабьор. Его положение было чрезвычайно удобно для торговли, позволяя купцам двигаться по судоходной реке вместо того, чтобы в морских проливах Скаггерак и Каттегат подвергать свою жизнь и товары опасностям от морских бурь и разбойников-викингов. Через волок между реками Сле и Трене из Восточного моря можно было попасть в Северное. В удобной гавани постоянно теснилось множество кораблей из всех Северных стран, от вендов или франков. Вдоль ручья тянулись улицы, где жили ремесленники – резчики по кости и рогу, плавильщики железа из добываемой в Швеции болотной руды, стеклоделы, золотых и серебряных дел мастера, гончары, ткачи. Торговые люди в основном приезжали весной, из-за чего население вика летом было в два-три раза больше, чем зимой, и достигало нескольких тысяч человек! Но и зимой здесь жили даны, венды, саксы, фризы, иной раз и франки. Торговали всем: рабами, мехами, посудой, солью, вином, тканями, украшениями. По мере распространения Христовой веры, предписывающей посты, все увеличивалась торговля соленой и сушеной рыбой.
Каждый год Гуннхильд с нетерпением ждала Дня Фрейи – первого дня весны. В домах проводилась большая уборка: мели полы, чистили углы в жилых постройках и стойлах скота, заменяли подстилки, драили котлы, проверяли кладовки, чтобы избавиться от испорченных припасов. Пекли свежий хлеб, сбивали масло, чтобы принести его в жертву богине, свежим молоком обрызгивали дверные косяки, постели, стены дома.
Уже пять лет дочь Олава представляла Фрейю в обрядах этого дня – с тех пор как ее старшая двоюродная сестра Рагнейд, дочь Сигтрюгга и Одиндис, была выдана замуж за одного из вендских князей и с тех пор звалась княгиней Громославой. Красиво одетая, Гуннхильд выходила из дома, ведя за собой наилучшую в усадьбе корову и неся в другой руке котел. В сопровождении домочадцев и многочисленных гостей она обходила ближние угодья, а женщины пели славу Невесте Ванов. В доме для нее устраивали постель из соломы, покрытую отбеленным льняным полотном, сбрызнутую молоком, и сотни людей приходили поклониться юной богине на ее соломенно-молочном ложе, поднести ей подарки и получить благословение.
Но в этот раз ей предстояло отправиться в облике Фрейи в свой собственный дом, где расположился враг. Вот и родная усадьба – трудно было представить, что хозяева здесь теперь чужие люди! Вот ворота в бревенчатой ограде, вон темнеют крыши домов. Ворота стояли не запертыми – ведь челядь находилась с хозяйками в Хейдабьоре, а хирдманы Кнута не позаботились о чужом доме. Подобную беспечность на чужой враждебной земле Гуннхильд могла объяснить только волей помогающих ей богов. Соскочив с лошади, она сама привязала ее и направилась к двери хозяйского дома.
В это время дверь распахнулась и на пороге показался крупный мужчина с длинным хвостом плохо расчесанных рыжих волос и красным лицом. Почти столкнувшись с ней, полупьяный хирдман оторопел и с изумленным возгласом подался назад. Все получилось отлично: гости в доме обернулись на его голос и увидели, как здоровяк Рыжий Орм пятится, пошатываясь, будто его толкает невидимая сила, а вслед за ним входит рослая статная девушка в роскошной одежде. Тающие снежинки блестели на ее синем плаще и волосах, отчего она напоминала диковинный зимний цветок в каплях росы – не иначе, упавший из рук самой богини.
Еще кто-то крикнул, шум стал стихать, многие поднялись с мест. Гуннхильд прошла между подавшимися в стороны хирдманами. Кое-кто уже храпел на полу, но через пару тел она переступила, слегка приподняв подол одежды и даже не глядя под ноги.
С ясной улыбкой, как и полагается небожительнице, Гуннхильд окинула взглядом «теплый покой». До чего чужим показался ей родной дом! От прежнего остались только стены и резные столбы, подпиравшие кровлю, да еще камни очагов. Всю утварь, посуду, ковры, шкуры Асфрид увезла, оставив лишь старые, изрубленные и изломанные щиты на стенах: королева все мечтала выкинуть эту рухлядь, но Олав не позволял, видя в них приятное напоминание о прежних битвах и своей доблести. Теперь они исчезли, их место заняли щиты северян; чужие секиры, бродексы и копья были развешаны и прислонены к стенам. На широких спальных помостах вдоль стен грудами лежали шкуры и плащи. На столах стояла чужая походная посуда, над очагами висели чужие большие котлы, по углам были свалены мешки, свертки тканей, связки мехов.
За столами сидели десятки незнакомых людей, кто-то устроился на полу, кто-то уже спал за спинами сидящих на помостах. Однако Гуннхильд сразу угадала, кто здесь Кнут, сын Горма, хотя никогда его не видела. Кому же еще сидеть на почетном месте, которое обычно занимал ее отец?
Когда Гуннхильд его увидела, у нее екнуло сердце. Судя по разговорам о молодости Гормова сына, она ожидала увидеть парня лет пятнадцати-шестнадцати, которому нетрудно заморочить голову. Но Кнут оказался зрелым мужчиной лет двадцати шести или даже двадцати семи. Гуннхильд едва не оробела, но тут же взяла себя в руки. Зато он был весьма хорош собой: выше среднего роста, плечистый, с правильными чертами лица, с опрятно подстриженной светло-русой бородкой. Волосы его были чуть темнее и красиво вились. Даже при свете огня был заметен румянец на щеках, и весь вид Кнута источал здоровье и бодрость. Серо-голубые глаза смотрели на Гуннхильд с изумлением и восхищением.
Невольно она поискала на его лице след от удара ковшом: ей все казалось, что тот дикий случай на пиру выдумали пьяные хирдманы. Потом сообразила: ведь с йольских пиров прошло почти полтора месяца, синяк сошел.
Кнут, сын Горма, смотрел на нее не менее пристально: пытался понять, живая ли эта красавица, не мерещится ли ему спьяну. Да и откуда ей взяться в брошенной усадьбе? Словно сошла с неба! Рослая, с пышной высокой грудью, румяная от скачки по свежему воздуху, девушка источала свежесть и юную жизненную силу. Наряд ее, богатый и яркий, пристал бы королеве. Под взглядами стольких незнакомцев она ничуть не смутилась; лицо ее дышало приветливостью, нежностью и притом веселой отвагой. Первый луч весеннего солнца, пробившийся сквозь зимний снегопад – вот что она напоминала.
– Кто ты, девушка? – наконец обратился к ней Кнут. – Откуда ты пришла к нам, не из небесных ли палат? Как твое имя?
Гуннхильд улыбнулась. Она знала, конечно, что ее об этом спросят, и припасла подходящий ответ.
Людям я известна: Хлинн котлов железных, Ива льда ладони, Солнца вод береза. Есть еще прозванья: Норна ровной пряжи, Фрейя частых гребней – Так зовется гостья.Она не сказала ничего особенного: всеми этими словами скальды обозначают женщин. Но все услышали имя богини Фрейи, и на лицах изумление сменилось восторженным благоговением. Все помнили, что сегодня праздник пробуждения Невесты Ванов, пили за нее и вдруг увидели перед собой ее саму!
– А кто ты такой, муж, ростом и статью превосходящий многих? – в свою очередь обратилась она к Кнуту. – Вижу я, что род твой непростой и многие люди, наверное, называют тебя своим господином.
Польщенный Кнут слегка приосанился и ущипнул бородку. Но и он, как всякий высокородный, был обучен искусству скальдов, по крайней мере, мог быстро сложить пару строф, к тому же сама гостья дала ему образец.
Людям всем я ведом, –охотно ответил он, подтверждая ее слова.
Фрейр котлов сраженья, Льда руки дробитель, Солнца вод убийца. Есть еще прозванья: Ясень прялки Гёндуль, Видур гребня Хильды – Так зовется конунг.– Вижу я, что умом ты не хуже, чем видом, – Гуннхильд снова улыбнулась. – Не кем иным ты не можешь быть, кроме как Кнутом, сыном Горма и Тюры.
– Ты права. А ты не можешь быть не кем иным, как Фрейей, Невестой Ванов.
– Ведь сегодня первый день весны. Вы призывали Фрейю и поднимали кубки в ее честь и в честь брата ее Фрейра – дивно ли, если она услышала и пришла разделить с вами радость этого дня?
– Тогда я прошу тебя сесть рядом со мной и разделить также угощение! – охотно предложил Кнут и указал ей место рядом с собой.
Изящно приподняв платье и дав ему краткий миг полюбоваться ее кожаным башмачком, Гуннхильд прошла ближе и села на скамью.
– Угощенье богине! – крикнул Кнут, махнув рукой своим людям. – Что разинули рты?
– Да уж мы сомневаемся, хороша ли эта еда для такой знатной гостьи? – пожал плечами один из его людей, Холдор, уже немолодой хёвдинг. – Ведь богиня привыкла у себя в небесных палатах питаться… – Он задумался, пытаясь вообразить небесные блюда. – Молоком и медом?
– Никогда не поверю, что у такого удачливого вождя не найдется молока и меда, – засмеялась Гуннхильд.
– Да уж… вроде что-то здесь такое было, – согласился Холдор и сделал знак дренгам. – Ну, чего расселись, как на свадьбе, пошарьте там в кладовых!
Посуду из усадьбы королева Асфрид увезла, и Кнуту приходилось пользоваться собственной, взятой в поход. Поэтому перед Гуннхильд очутилась обычная деревянная миска с щербатым краем, но она поблагодарила с улыбкой, точно это было дорогое блюдо из Грикланда, расписанное яркими красками. Но ела и пила она немного, лишь чтобы выразить благосклонность нынешним хозяевам. Ведь не годится богине, будто нищей бродяжке, набрасываться на еду за чужим столом. Кнут, не сводя глаз со своей соседки, предлагал то вина, то еще чего-нибудь из угощения.
– Ну, как там дела в небесных палатах? – расспрашивал Кнут.
Видно было, что он на самом деле не знает, как отнестись к этой девушке, считать ли ее богиней, норной, валькирией? Собственным пьяным видением?
– Все ли хорошо у Отца Богов? Может быть, ты принесла нам какое-нибудь его послание? Может быть, ты скажешь, велика ли будет моя удача в этом походе?
– Не могу тебя порадовать, Кнут-конунг. Чтобы стяжать славу в военном походе и порадовать своей доблестью Отца Ратей, нужна одна малость…
– Какая? – Кнут чуть ли не подпрыгивал на скамье от нетерпения, и Гуннхильд подумала, что душой он моложе своих лет. – Уж не думаешь ли ты, будто мне чего-то не хватает? У меня отличная дружина, посмотри-ка на них!
Он взмахнул рукой, и десятки людей на длинных скамьях, с напряженным любопытством следивших за этой беседой, ответили дружным ревом. Многие в воодушевлении вскочили с мест, стали бить по столу кулаками, чашами питейными рогами и рукоятями ножей.
– Кто еще смог бы пойти с малой дружиной во вражескую страну и захватить ее? Мы изгнали за море Олава Говоруна и теперь захватим Хейдабьор, если захотим!
– Да! Захватим! – закричали некоторые, доказывая, что опасения хёвдингов вика имели основания.
Но, как отметила Гуннхильд, кричали не все.
– Почему же ты думаешь, что нам не будет удачи? – допытывался Кнут.
– Потому, Кнут-конунг, что для удачи в военном походе нужно еще кое-что… – Гуннхильд взглянула на него с лукавой улыбкой. – Для этого нужен враг, о доблестный, но недогадливый муж! А если ты явишься на место сражения, но не застанешь там врага, доблесть твоя пропадет даром, а иные, пожалуй, скажут, что противник оставил вас в дураках! И я пришла, чтобы спасти тебя от этой неудачи, ибо такой, как ты, отважный и знатный воин, заслуживает лучшей участи, чем слава победителя трусливых рабов и беспомощных женщин!
Кнут несколько оторопел: раньше ему не приходило в голову взглянуть на дело с такой стороны.
– Но мы ведь разбили и изгнали его!
– Однако Олав ушел, сохранив свободу, оружие, стяг и часть дружины. Он еще может вернуться. Но чтобы захватить его владения, вам придется воевать с женщинами. А не боитесь ли вы, что люди скажут, будто вы, воюя с женщинами, и сами стали походить на женщин?
Это были довольно опасные слова – многие восприняли бы их как обиду, – но лицо и звонкий нежный голос Гуннхильд выражали такую искреннюю заботу о чести ее собеседника, что он никак не мог на нее обидеться.
– Я хотела предостеречь вас и потому решилась на этот долгий путь!
– Но… что же делать? – Кнут внимательно взглянул ей в лицо. Во всем облике этого уже зрелого и сильного мужчины тем не менее проглядывало добродушие и почти детская способность радоваться, и Гуннхильд поняла, почему он получил прозвище Радостный. – Никто ведь не знает, когда Олав теперь вернется, а сидеть здесь до лета я не хочу. Мой отец уже давно ждет меня дома… Ты можешь подсказать достойный выход?
– Нетрудно это сделать. Ведь, как мне известно, твоя мать, королева Тюра, состоит в родстве, хоть и дальнем, с королевой Асфрид, вдовой Кнута шведского, сына Олава Старого?
– Да, это так. Обе они ведут род от Сигфреда-конунга.
– А через него род их восходит к самому Годфреду Грозному, а родством с ним должен гордиться любой конунг! И его потомкам не годится ронять свою честь. Так не лучше ли тебе, раз уж мужчины пытались тебя перехитрить и улизнули от боя, предоставить решить это дело женщинам?
– Женщинам? – Кнут в изумлении поднял брови.
– Я прикажу королеве Асфрид поехать к твоей матери и просить ее о перемирии. Прислушаешься ли ты, а также твой отец, к словам королевы Тюры, знатной женщины, прославленной добротой и мудростью, если она посоветует вам дождаться возвращения Олава и лишь потом выйти на бой с мужчинами, как подобает мужчинам? Иначе никто, даже сам Один, не сможет предотвратить бесчестье. А за бесчестьем и беда тут как тут – ни в чем вам потом не будет удачи.
– В этих словах есть немало смысла, – заметил сидевший рядом немолодой, рослый и сильный человек, темноволосый, с седеющей бородой и серебряными висками. Он был из тех, кто считал, что Кнуту сейчас следует как можно скорее вернуться домой.
– Это Регнер-ярл, – пояснил Кнут. – Очень умный человек.
– Ты ведь будешь учтив с королевой Асфрид и проводишь ее к твоей матери, если она приедет к тебе?
– Так, как если бы она была моей собственной матерью!
– Тогда боги и богини всегда будут к тебе благосклонны и удача тебя не покинет. Ну а теперь мне пора! – с сожалением добавила Гуннхильд и поднялась. – Я была бы рада продолжать нашу беседу, но время истекло. Отворяются ворота рассвета!
Она прошла к дверям; опомнившись, Кнут устремился за ней и сам помог сесть на коня, с недоумением трогая его влажную шкуру и будто сомневаясь, что это животное способно скакать по воздушным тропам между морем и небом.
– Желаю тебе удачи, Кнут-конунг! – Гуннхильд помахала рукой на прощание. – Я знаю, ты достоин моей благосклонности!
Она послала коня вперед и выехала за ворота. Многие устремились за ней, но прекрасная всадница быстро исчезла в темноте. Стук копыт, постепенно отдаляясь, замер, но казалось, он еще доносится еле слышно откуда-то сверху. Хирдманы задирали головы, обшаривая взглядом небесный свод, надеясь хоть мельком увидеть среди звезд силуэт девы верхом на коне.
* * *
Назавтра той же дорогой двинулась старая королева Асфрид. Сопровождали ее служанки и двое хёвдингов из Хейдабьора, Торберн Сильный и фриз Альвбад. Кнут принял гостей хорошо. Северяне старались держаться уверенно, как победители, всем видом давая понять, что именно южане должны пытаться склонить их к миру.
Кнут предложил старой королеве и ее спутникам признать власть Кнютлингов над Южной Ютландией и Хейдабьором, раз уж их прежний конунг сбежал.
– Это не в нашей власти, – твердо ответил Торберн Сильный. – Годфред Грозный победил конунга фризов, который раньше владел этими краями, а потом привез купцов, которых захватил в вендском Рёрике и поселил здесь. Годфред-конунг предложил купцам самое выгодное место, где встречаются все пути по морю и по суше, и выстроил Датский вал, чтобы защитить нас от саксов, прикрывал вик от нападений с моря. Между ним и торговыми людьми был заключен договор о том, что никто не изменит другому: конунг не нарушит условий и не будет требовать чересчур много, а мы не станем искать другого покровителя. Фрейр и Фрейя были призваны в свидетели клятвы, и в знак своей благосклонности Фрейя дала Годфреду кольцо, которое с тех пор служит кольцом клятв…
– Неправда! – возмутился Альвбад. – Этим кольцом владел наш конунг Фольквальд, и оно звалось кольцом Фроувы, а Годфред…
– Да знаем мы ваши старые песни! Не об этом сейчас речь. В этом кольце и его законных владельцах заключена удача нашего вика. Если мы нарушим старинный договор, боги отвернутся от нас, и ни в каких делах на море и на суше не будет нам удачи. Потомки Годфреда – наши единственные законные конунги, и пока их род жив, мы не примем другого.
Часть дружины Кнута – в основном молодые и горячие – стояли за то, чтобы захватить вик силой, пограбить и уйти. Но почти все знатные люди и старшие хирдманы были против: разорение Хейдабьора нарушило бы всю торговлю северных морей, а это принесло бы множество убытков и поссорило Горма со всеми соседями.
– Мы предлагаем вам, королева Асфрид и хёвдинги, следующие условия, – сказал в конце концов Регнер-ярл. – Кнут-конунг уводит дружину, не причиняя вреда никому в Южной Ютландии. Но чтобы мы были уверены, что нам не нанесут удара в спину и позволят благополучно пройти по стране, мы хотим получить заложников. Пусть это будут мать и дочь Олава-конунга. Им не будет грозить ничего дурного, ибо они родственницы королевы Тюры; когда же Олав-конунг пожелает получить их назад, он знает, где нас найти.
Асфрид взглянула на своих спутников: хёвдинги выглядели довольными. Эти условия обещали безопасность Хейдабьору, но в то же время не порочили его чести. Женщин из семьи их конунга, в том числе Госпожу Кольца, не брали в плен, а всего лишь приглашали погостить, пока мужчины уладят свои дела.
– Буду рада повидать свою родственницу Тюру, – величаво произнесла Асфрид.
Как женщина королевского рода, она разделяла ответственность за судьбу его владений. Не в силах выйти на поле сражения, она тоже умела, когда надо, проявить мужество.
* * *
Итак, Одиндис, не состоявшая в родстве с королевой Тюрой, оставалась присматривать за усадьбой Слиасторп со всем имуществом, а Асфрид и Гуннхильд ехали с Кнутом и его дружиной. На сборы им оставалась всего пара дней.
– Нужно выбрать подарки, – сказала Асфрид, вернувшись в дом Торберна и велев внучке готовиться к поездке в Среднюю Ютландию.
– Для Тюры?
– Да, и для ее невестки.
– Невестки? – Гуннхильд подняла глаза от сундука и нахмурилась.
Она ничего не слышала о том, чтобы Кнут Радостный был женат, и эта мысль так неприятно кольнула ее, что она сама удивилась.
– Да, жены Харальда, его младшего сына.
– А! – Гуннхильд вспомнила, что у Горма и Тюры двое сыновей. – А он, оказывается, женат?
– Не совсем, но все же! – Асфрид усмехнулась. – С ним живет дочь Хальвдана, бывшего конунга Съялланда. Когда Горм разбил его, от всей семьи осталась она одна, и ее забрали с собой. Харальд был с ним в этом походе, и ее отдали ему в жены. Но раз уж за нее не платили выкупа, да и в дом она попала как пленница, то ее стоит называть скорее наложницей. Однако другой жены у Харальда нет, и если мы не хотим нажить себе врага в их доме, то следует и ей подарить что-нибудь. Вот это хотя бы! – Она встряхнула шелковое головное покрывало, когда-то белое, а теперь пожелтевшее от времени, но еще вполне пригодное. – Такие женщины особенно чувствительны к неуважению.
Гуннхильд вздохнула. С одной стороны, жаль было раздаривать наложницам врагов остатки своих сокровищ – долгая война опустошила сундуки. А с другой – в судьбе Хлоды, дочери Хальвдана, она увидела отражение своей собственной судьбы – такой, какой она могла бы быть. Ведь не придумай они эту поездку в Слиасторп, возможно, сегодня сама Гуннхильд уже была бы пленницей, а потом и наложницей Кнута, или Харальда, или самого Горма…
И только норны знают, не грозит ли ей подобная участь в будущем. Ведь чего они достигли на сегодняшний день? Только обещания отвезти их с бабушкой к королеве Тюре, но именно поэтому новое столкновение между Гормом и Олавом неизбежно!
– Не очень-то мне хочется водить дружбу с наложницей… – пробормотала Гуннхильд. – Неудача заразна…
– Она теперь из семьи Горма, и ссориться с ней не стоит. Ведь как знать…
– Что? – Гуннхильд посмотрела на бабку.
– Как знать, сколько времени нам придется провести в том доме…
Ранним утром, как и было условлено, к воротам усадьбы Слиасторп подкатила повозка, где сидела старая королева Асфрид в окружении мешков и сундуков. Две служанки шли следом, двое рабов-мужчин вели в поводу еще двух лошадей. Как и в прошлый раз, Кнут, сын Горма, вышел встретить ее и помочь выйти из повозки.
– Мои люди уже готовы, – сказал он, подавляя зевок: час был ранний. – Отдохни немного, и тронемся. Хорошо, что у вас есть лошади.
– Нужно чуть подождать, – заметила Асфрид. – Моя внучка едет следом.
– Твоя внучка уже взрослая?
– О да! Это единственная дочь моего младшего сына Олава и единственная ныне девушка в нашем роду. Да вон она.
Королева Асфрид указала на дорогу позади себя. Кнут обернулся.
Хмурое зимнее солнце, проглянув меж туч, осветило каменистую дорогу, покрытую островками полурастаявшего снега. Светло-серый, почти белый конь сам казался сделанным из этого снега – или облаком, спустившимся к земле. Хвост и грива развевались, будто метель, и всадница в синем плаще и с вьющимися по ветру длинными рыжими волосами была подобна валькирии, мчащейся на битву. При свете дня она казалась еще лучше, чем в дрожащих отблесках пламени, и Кнут застыл, не в силах отвести глаз. Он снова видел свою богиню Фрейю и теперь уже знал, кто она; но и открытие, что эта девушка – обычная смертная, ничуть его не разочаровало.
У ворот она остановилась. Рабы подбежали, чтобы помочь ей сойти с седла. Кнут было двинулся, но остался на месте. Спешившись, Гуннхильд подошла к бабушке.
– Кто этот человек, ростом и всем видом так похожий на конунга? – весело обратилась она к Асфрид. – Должна ли я приветствовать его как Кнута, сына Горма, или как Харальда, сына Горма? Ведь не может быть, чтобы он был простого рода!
– Да ты же меня знаешь! – Кнут наконец пришел в себя и улыбнулся. – Неужели у женщин и впрямь такая короткая память, как говорят, и ты всего за три дня успела меня забыть?
– За три дня? – Гуннхильд вытаращила глаза в выразительном недоумении. – Я никогда тебя не видела. Может, ты сам скажешь, как мне тебя называть?
– Я уже отвечал тебе на этот вопрос.
Гуннхильд обернулась к Асфрид с выражением недоумения и легкой обиды.
– Он смеется надо мной! Кто этот человек и почему он думает, будто я его знаю?
– Это Кнут, сын Горма, сын королевы Тюры, нашей с тобой родственницы через моего деда Сигфреда-конунга, – обстоятельно пояснила Асфрид с самым достойным и невозмутимым видом. – А почему он думает, будто ты должна его знать – наверное, он так прославлен в Ютландии, что лишь невежды не поймут с первого взгляда, кто перед ними. Надеюсь, он простит девушку, которая не по своей вине осталась в неведении.
– Но ты же приезжала сюда! – воскликнул Кнут. – Приезжала ночью, на пир в честь Дня Фрейи!
– Я? – Гуннхильд вытаращила глаза. – Я приезжала? Что ты такое говоришь, Кнут-конунг? Как я могла сюда приехать в День Фрейи? Как я могла бы сама отдаться в руки враждующего с нами рода, пока не заключено даже перемирия? Я надеялась, что моей бабушке, мудрой королеве Асфрид, удастся склонить тебя к миру, но как это могла бы сделать я, молодая девушка?
– Но мне ведь это не приснилось! Ты была здесь! – Кнут оглянулся на своих людей, и те дружно закивали. – Ты приехала – правда, конь был другой, вороной, – и мы все подумали, что к нам на пир явилась сама Фрейя! Любой бы подумал… – добавил он, еще раз оглядев Гуннхильд.
Было ясно, что он хочет сказать: такую красивую девушку всякий примет за богиню.
Сейчас она казалась даже более красивой, поскольку при свете дня яснее была видна нежность белой кожи, прелесть каждой черты, яркий румянец, золотистые веснушки на чуть вздернутом носике, серо-голубые глаза, будто весеннее небо. От влажного воздуха ее волосы распушились и окружали голову и фигуру девушки, будто пламя.
– О боги… – прошептала Гуннхильд с потрясенным видом. – О Фрейя…
Изумленными глазами взглянув на Кнута, она перевела взгляд на Асфрид.
– Я поняла, в чем дело! – Королева Асфрид кивнула. – Боги благосклонны к тебе, Кнут-конунг. В свой праздник Фрейя и правда спустилась с небес, желая повидаться с тобой, но, чтобы не ослепить смертных истинным видом своей красоты, она приняла облик моей внучки. И мы от всего нашего рода горячо благодарим богиню за эту честь! – Асфрид подняла ладони к небу, потом поклонилась. – Да славится вечно Невеста Ванов! А мы ежегодно будем приносить Всаднице Кошек особые жертвы в этот день в благодарность за ее великую милость и завещаем делать это всем потомкам!
Гуннхильд, будто от волнения, спрятала лицо на плече у бабушки. А Кнут, глядя на нее, все шире расплывался в улыбке. Всякому лестно, если для свидания с ним сама богиня спустится из небесных палат! И вдвойне приятно, если она для этого изберет облик такой красивой девушки.
Но не меньше радовало и то, что сама девушка не уехала в Асгард, а осталась на земле.
– Я рад, что Фрейя удостоила меня вниманием, и тоже буду приносить ей особые жертвы в этот день! – сказал Кнут. – Но не менее я рад и тому, что ты, госпожа Гуннхильд, живешь здесь, и благодаря богине я даже сумел повидать тебя раньше, чем ты меня. С удовольствием буду сопровождать тебя и твою бабушку к моему отцу и матери. Следует думать, богиня вмешалась, чтобы помочь нашим родам преодолеть вражду.
– Ну а если боги этого желают, они укажут и средство, – согласно кивнула Асфрид.
Гуннхильд наконец подняла лицо, повеселевшими глазами взглянула на Кнута и улыбнулась.
* * *
Обратный путь пролегал по местам, где дружина Кнута не так давно уже проходила. На сей раз северяне держались мирно, однако жители прятались, и не раз приходилось ночевать в пустых, брошенных хозяевами усадьбах. Спали прямо на полу, подстелив солому и укрывшись плащами; королеве Асфрид и ее внучке всегда доставалось место на лежанке, в тепле очага. На них смотрели с большим любопытством, не зная, считать ли женщин Инглингов пленницами. По стране расползались смутные слухи о встрече молодого конунга с самой Фрейей; в тот час его люди были слишком пьяны, чтобы толком понять, что к чему, поэтому повествование украшалось множеством удивительных подробностей. Уже рассказывали, будто Кнут был пленен красотой Олавовой дочери и посватался к ней, а потому и отказался дальше воевать с властителем Южной Ютландии. Почтительное и любезное обращение Кнута с бабушкой и внучкой вполне эти слухи подтверждало.
Он и впрямь был явно увлечен Гуннхильд. Ей тоже нравилось его общество, и она уже не сомневалась, что сама Фрейя внушила ей мысль познакомиться с ним. Кнут был хороший человек: прямой, открытый, великодушный, дружелюбный, он ни в ком не хотел видеть врага и всегда готов был пойти на примирение. К тому же он был всегда весел, почти непрерывно что-то пел, рассказывал забавные истории, охотно принимал участие в вечерних играх и забавах – правда, недолгих, поскольку за время дневного перехода люди уставали. С каждым днем он все больше нравился Гуннхильд. Почему отец раньше не подумал, как можно уладить отношения с Гормом, когда у одного есть взрослая дочь, а у другого – двое взрослых сыновей? Путем брака между ними можно смягчить вражду. Горма не будут так уж задевать богатые доходы хозяев Хейдабьора, если со временем все это достанется его собственным внукам.
Но Гуннхильд хорошо понимала: имея двоих сыновей, Горм наверняка желает видеть одного из них конунгом в Слиасторпе. Ему понравится мысль женить сына на дочери бывшего владельца этих земель. Но что сделает ее отец? Олав-конунг был храбр, но не слишком благоразумен. Оттого Асфрид горевала вдвое сильнее, когда ставила поминальный камень по своему среднему сыну Сигтрюггу: потеряв самого толкового из сыновей, она понимала, что теперь судьба рода и страны в руках Олава. Сигтрюгг и погиб оттого, что братья не вовремя рассорились, и от досады Асфрид даже не упомянула о младшем сыне в надписи на рунном камне.
Все зависело от настроения Горма-конунга. Встретиться с ним Асфрид и Гуннхильд предстояло уже завтра – до усадьбы Эбергорд, где жил Горм, оставалось меньше дневного перехода. Род Кнютлингов пришел с севера Ютландии, но, захватив власть над срединной частью полуострова, обосновался возле святилища, где даны приносили жертвы уже не первый век. Вблизи древнейших погребений еще тех вождей, что приходились сыновьями богине Гевьюн и бились бронзовыми клинками.
– А почему усадьба так называется? – спросила Гуннхильд по дороге.
Моросил дождь, и они с бабушкой, сидя в повозке, прятались под кожаными плащами. Кнут ехал рядом верхом.
– Такое название дал ей мой дед Хёрдакнут, – охотно начал рассказывать он. – Тогда усадьба едва была построена. Однажды ночью он вышел по нужде и увидел, что огромный кабан жрет пойло, приготовленное в колоде для домашних свиней. Он быстро вернулся в дом, разбудил своего человека Стейна и сказал: «Подай мне мое охотничье копье». Стейн сказал: «Но сейчас слишком темно, чтобы идти в лес». А Хёрдакнут ответил: «Мне не придется идти далеко». Тогда Стейн подал ему копье, он вышел и убил того кабана. И сказал, что отныне его усадьба будет называться Кабаний Двор.
Гуннхильд улыбнулась: скорее всего, ей довелось услышать семейное предание. Чтобы убить кабана одним ударом, в одиночку, ночью… Впрочем, в прежние времена люди были куда удалее нынешних, это вам всякий старик подтвердит!
– Но этому есть и другое объяснение, – вступил в разговор Регнер-ярл, видя, что она старается подавить улыбку.
– Дело в том, что неподалеку от усадьбы есть старинный священный камень. Он посвящен Фрейе и имеет вид свиньи или кабана. Именно там наши конунги приносят жертвы, хотя во все остальное время, кроме двух главных годовых праздников, мужчинам не советуют приближаться к нему. Фрейя благосклонна только к женщинам и только от них принимает на этом месте мольбы и жертвы.
– А можно нам пойти к нему? Бабушка! – Гуннхильд оглянулась на Асфрид. – Думаю, нам с тобой было бы очень хорошо принести жертвы Фрейе.
– Едва ли отец станет возражать, – кивнул Кнут. – Уже завтра мы будем в Эбергорде, и тогда я провожу вас к Серой Свинье – он так называется.
– А нельзя ли нам попасть сначала к Серой Свинье, а потом уже в усадьбу? – попросила Гуннхильд, и Асфрид одобрительно кивнула.
– Не лучше ли вам сперва отдохнуть после долгой дороги? – предложил Регнер.
– Мы ведь не знаем, насколько Горм-конунг будет милостив к женщинам Инглингов, – заметила с грустью королева Асфрид. – А Фрейя добра к нам, мы ведь совсем недавно получили тому подтверждение. Будет лучше, если мы сначала попросим ее о покровительстве, а потом уж явимся к Горму. Пусть Фрейя внушит ему доброе отношение к двум одиноким женщинам прежде, чем мы покажемся ему на глаза.
– Мой отец не обидит женщин! – заверил Кнут. – Тем более что вы сами отдались под мое покровительство и пришли к нему как свободные гостьи и наши родственницы.
В его голубых глазах, устремленных на Гуннхильд, отражались преданность и готовность защитить ее. Это, конечно, было хорошо, но решать будет все-таки не он, а его отец.
– Но почему бы им не попросить богиню, если от этого будет спокойнее? – заметил Регнер. – Мы ведь поедем почти мимо, это не задержит нас надолго.
На том и порешили. Миновало еще несколько дней, и вот Регнер-ярл показал тропинку, отходившую от Ратного пути: она вела к Серой Свинье. Но повозку пришлось оставить: петляющая меж холмов и перелесков тропа была для нее слишком узкой и каменистой.
Кнут и Регнер пошли проводить женщин. Они прихватили хлеб и сыр из дорожных припасов для подношения богине; жаль, молока и меда пока было взять негде, но это можно будет восполнить в будущем.
День выдался довольно ясный, снег не шел, а прежний растаял, так что идти приходилось осторожно, чтобы кожаные подошвы башмаков не скользили по мокрым камням. Кнут поддерживал Гуннхильд, Регнер взял на себя заботу о королеве Асфрид. Кто-то из его людей вырубил ей для надежности посох, хотя обычно королева, еще бодрая для своего возраста, обходилась без подпорок.
Священное место уже давало о себе знать: на низких сучьях деревьев, на больших камнях вдоль тропы виднелись черепа коз, овец, свиней, оставшиеся от прежних жертвоприношений. Их было довольно много, а ведь животных в жертву приносят не чаще двух раз в год. На кустах здесь и там болтались на ветру ленты, куски полотна, небольшие мотки пряжи – обычные жертвы богиням-покровительницам.
– Наши женщины обходят Серую Свинью по три раза, каждый раз оставляя что-то возле нее, – рассказывал по дороге Кнут. – Это очень почитаемое место: там вокруг несколько курганов, в том числе могила нашего деда Хёрдакнута.
– А его отца?
– Его отец, Свейн, сын Харальда, погребен у себя на родине, в Рогаланде. Дед Хёрдакнут был первым из нашего рода, кто раздобыл себе владения в Средней Ютландии. Вон она! – Кнут остановился и показал вперед. – Видите за деревьями большой серый камень? Это и есть Серая Свинья. Дальше мы с вами не пойдем и будем ждать у дороги. Сейчас не та пора, чтобы Фрейя захотела видеть мужчин возле своего священного камня.
– Хорошо, мы не заблудимся и сами, – поблагодарила Асфрид.
Дальше они двинулись вдвоем.
Валун под названием Серая Свинья очертаниями и впрямь напоминал свинью, только размером с бедняцкую хижину. К камню вела широкая тропа, хорошо заметная даже на каменистом грунте, а шагов за десять до него заканчивалась у границы, выложенной небольшими белыми камнями. В круг священной земли имел право войти лишь приносящий жертвы. В дни больших годовых празднеств к самому камню приближался только конунг-жрец с женщинами своей семьи, а все прочие останавливались у белых камней. Сейчас еще под валуном виднелись свиные кости и череп, оставшийся после недавнего йоля; когда они окончательно очистятся и побелеют, череп присоединят к остальным на дороге, а его место займет голова новой жертвы.
А может, под самим камнем лежит и несколько человеческих черепов, подумала Гуннхильд. Головы древних конунгов, в неурожайный год принесенных в жертву богам плодородия, для предотвращения голода. На ее памяти ничего такого уже не происходило, но старинные саги помнили этот обычай. Эту участь разделил и кое-кто из ее далеких предков Инглингов.
У черты белых камней Гуннхильд и Асфрид остановились и помолчали, собираясь с мыслями. Потом Асфрид вошла в священное пространство и медленно двинулась вокруг камня, нараспев вознося мольбу к Фрейе:
– О светлая Невеста Ванов, сестра Фрейра! К тебе взываем мы в часы печали!
Гуннхильд тоже вошла в круг и встала так близко к камню, как было можно, чтобы только не мешать бабушке идти. Закрыв глаза, она прислушивалась к дыханию камня. За сотни лет он впитал столько людских чувств, печалей и радостей, опасений и надежд, что сам стал живым. От него исходила такая ощутимая сила, что пробирала дрожь, но Гуннхильд не боялась. Ведь она происходила из рода Инглингов, а значит, от самого Фрейра.
Закрыв глаза, она мысленно перечисляла всех своих предков, начиная от самого Ингви Фрейра, как всегда делают, когда впервые знакомятся с дальними родичами, нащупывая в глубинной тьме времен свой общий корень: Фьельнир, Свейгдир, Ванланди, Висбур, Домальди, Домар, Дюггви, Даг, Агни… Десятки имен, и сколько разных судеб: кто-то из этих конунгов был прославлен доблестью, захватывал новые земли и оставлял сыновьям богатое наследство, кто-то был робок и все время сидел дома, а кому-то боги не дали удачи, послав позорную смерть от рук раба или родича. Но все они в равной степени были звеньями цепи, протянутой от богов, из небесных палат Асгарда, к ней, Гуннхильд, дочери Олава и Гильды. На эту мокрую поляну среди влажного мха, блестящих валунов и островков мокрого снега в ложбинах…
* * *
Харальд, сын Горма, часто приходил на курган своего деда Хёрдакнута, когда ему было о чем подумать. В летнюю жару он укрывался в тени поминального камня, на котором была выбита надпись: «Горм поставил камень по отцу своему Хёрдакнуту. Он покорил Ютландию. Вилфрид вырезал руны». Даже зимой Харальду было хорошо здесь, где близость богов и предков ощущалась, как ни в каком другом месте. С вершины кургана все ежедневные заботы и огорчения казались мелкими и несущественными; словно сам Один, он взирал на них с высоты и понимал, чего они стоят на самом деле.
Сейчас все мысли Харальда вращались вокруг старшего брата, Кнута. Тот отправился в зимнюю поездку по стране, и ему давно вышло время вернуться. Его долгое отсутствие весьма тревожило мать, да и отец беспокоился, хоть и не подавал виду. Мало ли что случилось? У южных границ он мог встретиться с Инглингами… А что, если они решились устроить набег? Все знали, что ютландские Инглинги уже не первое поколение заигрывают с королями саксов: то принимают христианство, то отказываются от него. В нынешнем тяжелом положении Олав мог снова попросить помощи у Отты-кейсара и напасть на Среднюю Ютландию. Подстеречь войско во время зимнего объезда, разбить, ослабить врага, лишить Горма одного из сыновей, захватить земли и принудить местных жителей дать клятву верности – это был бы не такой уж плохой ход.
Горм уже предлагал пригласить «малую вёльву», как называют прорицательниц: построить для нее помост, созвать женщин, чтобы пели вардлок – песнь-заклинание, призывающую духов, которых вёльва спросит о настоящем и будущем. Но Харальд терпеть не мог всякого колдовства, а заодно и гадания. Любое соприкосновение с миром невидимых сил казалось ему опасным, отвратительным – и все знали почему. Горм не стал настаивать, но неизвестность тревожила и Харальда. Поэтому он сидел здесь, как древний герой на кургане, будто надеялся, что какая-нибудь валькирия явится к нему с вестью о брате. Желательно доброй.
Размышляя, Харальд не сводил глаз с Серой Свиньи – священный камень с вершины кургана был хорошо виден, хотя до него было около полусотни шагов. Вдруг возле камня возникло движение – из-за него показалась женская фигура. Ярко-синий плащ бросился в глаза – не у каждой есть такая дорогая, прямо-таки роскошная вещь, да еще с шелковой отделкой. В округе подобный синий плащ имелся только у королевы Тюры, но это уж точно не она!
Харальд вгляделся. Эту женщину он не знал: явно уже немолодая, с белым покрывалом на голове, она держалась величественно, хоть и опиралась на посох. Вот она обошла камень и скрылась с другой стороны. Зная, что его положено обходить трижды, Харальд ждал, что она появится снова.
И она действительно появилась – ровно через то время, которое требовалось, чтобы обойти большой камень. Но, увидев ее, Харальд привстал от удивления. Это была та же самая женщина – тот же рост, тот же синий плащ. Но только теперь она помолодела в три раза – он ясно видел совсем юное свежее лицо, и посоха у нее в руках не было.
Харальд не верил своим глазам. Незнакомым женщинам, одетым в такие богатые синие плащи на каком-то темном меху – бобр или куница, – просто неоткуда было тут взяться. Если бы кто-то приехал, то он, сын конунга, об этом бы знал. Но у нее что – два облика одновременно?
Незнакомка в синем плаще скрылась за Серой Свиньей и через то же время появилась снова – опять в облике старухи! Прижавшись к поминальному камню деда, Харальд всматривался, стараясь запомнить каждую черту странной женщины. У него было острое зрение, и он разглядел даже башмаки, даже подол красного кафтана, видный из-под плаща. Вот старуха исчезла, ей на смену появилась девушка – точно такая же, в таком же красном кафтане!
Харальд зажмурился, потряс головой, ущипнул себя – нет, это не сон! Рост, фигура, одежда – все говорило о том, что это одна и та же женщина. Но ей то шестьдесят лет, то не более двадцати! Как это может быть? Это ведьма! Ведьма, которая явилась к священному камню творить какую-то волшбу – уж наверное, недобрую! Ибо мудрые и сведущие женщины, не желающие людям зла, не меняют облик. Чего доброго, в третий раз женщина в синем плаще выйдет из-за камня, неся на плечах голову волчицы!
Не дожидаясь этого, Харальд метнулся за дедов поминальный камень и бросился вниз по тропинке на заднем склоне кургана. Поскользнулся на мокрой земле, упал, проехал немного вниз, запачкав бок, но не обратил внимания, а ловко вскочил на ноги уже у подножия кургана и бросился в заросли. Неслышно отклоняя ветки кустов, он, словно олень, промчался через рощицу, разделявшую курган и Серую Свинью, и прильнул к земле за последними кустами.
Успел как раз к тому времени, как ведьма заканчивала третий по счету обход священного камня – в облике молодой девушки. Теперь их разделяло всего шагов двадцать, и Харальд совершенно ясно видел красотку лет восемнадцати – с гладким румяным лицом, с прядями рыжих волос, красиво вьющихся от влажного воздуха. Тот же синий плащ, что был на ней же, но в облике старухи. Глаза ее были полузакрыты, губы шевелились, и Харальд торопливо сделал знак молота, чтобы защититься от вредоносной ворожбы.
Вот ведьма исчезла за камнем. Харальд выждал еще немного, чтобы не привлечь ее внимания. Он умел двигаться бесшумно и растворяться среди камней и зарослей, но ведь этой женщине помогают чары! Встав на ноги, он осторожно двинулся следом. Шел он вдоль тропы, не выступая на открытое пространство; тропа тянулась через рощу, то поднимаясь на пригорки, то обходя камни, то вновь поднимаясь, петляла, и в обе стороны ее было видно шагов на десять, не более. Невысокие ели, густые и зеленые летом и зимой, еще сильнее загораживали вид. Ветер шумел, и Харальд прислушивался изо всех сил, пытаясь различить впереди шаги.
Он уже подумывал срезать путь, чтобы перехватить ведьму на тропе впереди, как вдруг с той стороны послышался шум. Харальд остановился, прижался к дереву и замер; донесся стук упавшего камня, шорох одежды, трущейся о ветки. Меча при нем не было, но он на всякий случай извлек из ножен скрамасакс – длинный боевой нож. Любая нечисть боится острой стали.
Шум впереди стих. Боясь упустить ведьму, он сделал шаг вперед – и вдруг увидел ее гораздо ближе, чем ожидал. В своем молодом облике, она выскочила из-за кустов на пригорке, всего шагах в пяти от Харальда, но выше по склону – и с криком, раскинув руки, бросилась на него, пытаясь схватить! Завидев блеск стали в его руке, ведьма взвизгнула, хотела уклониться, упала и покатилась вниз по каменистому склону, но Харальд бросился за ней, в прыжке настиг и мигом завернул ей на голову полу ее плаща. Всякий ведь знает, что для обезвреживания ведьмы первым делом надо лишить ее возможности видеть и говорить – для этого обычно надевают на голову кожаный мешок. Мешка у него не было, и он, придавив трепыхавшуюся ведьму к земле, закутал ее в плащ, прижал коленом, не давая двинуться, и ловко обмотал ее своим поясом, притиснув руки к бокам. Ведьма что-то вопила из-под плаща, но, к счастью, сквозь шерсть на подкладке не доносилось ни одного ясного слова и все ее заклятья были бессильны. Тем не менее Харальд на всякий случай ударил ее по затылку, чтобы оглушить. Ведьма затихла, крики прекратились, она больше не шевелилась.
Стараясь отдышаться, Харальд прикинул, что теперь делать. Экая наглость – творить волшбу возле священного камня, а потом напасть на сына конунга! Она заслуживает того, чтобы ее немедленно утопить в море. Но тогда вместе с ней придется утопить и пояс с серебряной пряжкой и хвостовиком. Но если развязать, она, пожалуй, выплывет, а пояса Харальду было жаль. Да и не годится ему самому судить кого бы то ни было, когда конунг находится дома.
Вздохнув – навязалась, тварь поганая, на голову, будто других забот нет! – Харальд поднял неподвижную пленницу, перекинул через плечо и пошел к усадьбе Эбергорд. Пусть конунг сам ее судит.
* * *
Гуннхильд пришла в себя от того, что на нее обрушился поток холодной воды. Еще бессознательно она принялась отфыркиваться, мотать головой, кашлять. В затемненном сознании мелькнула мысль – она тонет! Гуннхильд забилась, не понимая, почему так трудно шевелиться, почему она не может поднять руки. Но осознала только, что лежит на чем-то твердом и холодном. По крайней мере, она не в воде. Однако, открыв глаза, она почти ничего не увидела сквозь мокрые волосы, совершенно залепившие лицо. Она попыталась вытереть лицо о плечо, захлопала ресницами… Перед глазами появились чьи-то ноги – большие мужские башмаки, со сбитой на сторону пяткой, мокрые снизу. Выше были грязные обмотки и штанины из серого сукна. Рядом стояло деревянное ведро – видимо, из него ее и окатили. Вокруг было светло – значит, она где-то под открытым небом. Ну, разумеется: вокруг было холодно, и наполовину мокрая Гуннхильд уже начала дрожать.
Когда она подняла голову, рядом кто-то взвизгнул, и почти одновременно мужской голос крикнул:
– Нет, Стюр, погоди! Так мы ничего не узнаем!
В это время взгляд Гуннхильд дошел до дубины, которую держал обладатель мокрых башмаков и серых штанов, недвусмысленно собираясь обрушить сие оружие ей на голову. Невольно втянув голову в плечи, Гуннхильд попыталась прикрыться руками и обнаружила, что руки ее крепко связаны спереди. Голова отчаянно болела, она ничего не помнила – совсем ничего, что могло бы произойти в последнее время. Как она сюда попала, что происходит? Ее что, похитили? Кто? Как? Полная недоумения и ужаса, она огляделась сквозь спутанные мокрые волосы. Она лежала на земле, похоже, во дворе какой-то усадьбы: вокруг виднелись стены построек из вкопанных стоймя широких толстых досок, а вокруг стояли люди, десяток или больше.
– Смотрите, очнулась! – заговорили над ее головой.
– Ой, смотрит!
– И-ингер, о-о-тойди!
– А вроде сейчас она в виде девушки?
– Да, глядите, совсем молоденькая!
– Вот пусть так и остается, мне нравится! – со смехом сказала кто-то. – А старух не надо!
Гуннхильд окинула взглядом лица – никого из этих людей она не знала.
– П-попробуй только открыть рот без разрешения, я м-мигом снесу тебе голову! – произнес рядом мужской голос.
Он звучал твердо и решительно, и ясно было, что заикание идет не от страха, а в силу природного недостатка.
Гуннхильд перевела взгляд и вздрогнула. Перед ней стоял молодой мужчина огромного, как ей показалось, роста, со светлыми волосами, белесыми бровями и рыжевато-золотистой бородкой. Голубые глаза смотрели на нее с гневом, лицо дышало суровой непримиримостью.
Именно этот человек вдруг вырос перед ней на тропе через рощу, за какие-то мгновения до того, как она потеряла сознание! И почти одновременно Гуннхильд вспомнила и все остальное. Они с бабушкой Асфрид попросили Кнута проводить их к священному камню Фрейи; они побывали возле камня и уже возвращались, но на полпути бабушка обнаружила, что обронила маленький нож с цепочки под нагрудной застежкой. Гуннхильд побежала назад, надеясь найти его, пока бабушка отдыхала на поваленном дереве. Асфрид еще сказала, что, если нож найдется внутри круга белых камней, его следует оставить там – значит, Фрейя пожелала взять.
Но вернуться к Серой Свинье Гуннхильд не сумела. Она поскользнулась на крутой мокрой тропе и почти упала с пригорка, и в это время перед ней внезапно вырос незнакомый мужчина с гневно блестящими голубыми глазами. Она успела лишь подумать, что, может быть, он поймает ее и не даст упасть, а он вместо этого ударил ее по голове!
Что было дальше, она не знала. И вот он принес ее куда-то, надо думать, к себе домой. А как же бабушка Асфрид? Кнут и его спутники? Они ведь не знают, куда она девалась, наверное, ищут в роще возле камня, зовут… Да, но сколько прошло времени? Гуннхильд глянула на небо, но оно было сплошь затянуто серыми низкими тучами, и она не поняла, далеко ли до ночи. Правда, темнеть пока не начало… Если, конечно, еще продолжается тот же самый день.
– Что ты делала возле С-серой Свиньи? – допрашивал тем временем обладатель сердитых голубых глаз. – Кто ты такая? Откуда ты взялась? Ты – ведьма?
– Н-нет, – хрипло отозвалась Гуннхильд и попыталась покачать головой, но было так больно, что она запнулась и поморщилась. На глазах показались слезы. – Где я? Кто вы все?
– Ха! Она нас не знает! Вы слышали что-нибудь подобное? – весело воскликнул другой мужчина.
Он был старше и мог бы приходиться первому отцом; у него были такие же голубые глаза и светлые волосы, только они были пышнее, а борода длиннее, с сединой на щеках. Худощавый, не располневший к старости, как случается с состоятельными людьми, которым редко приходится недоедать, одет он был так хорошо, что Гуннхильд посчитала его хозяином этой усадьбы.
– Г-говори правду! – Сердитый мужчина протянул к ней руку, в которой был зажат скрамасакс, вынутый из ножен, и, сунув ребро лезвия Гуннхильд под подбородок, приподнял ей голову. – Отвечай, ведьма! Зачем ты сюда пришла?
– Я не приходила… Я была у Серой Свиньи… Не знаю, зачем меня сюда принесли! – Гуннхильд попыталась стереть слезы о плечо. – Кто вы такие? Зачем ты на меня набросился?
– Эт-то я набросился? – возмутился хозяин скрамасакса. – Это ты н-набросилась на меня? Скажешь, нет? Ты прыгнула на меня с пригорка! А перед этим ты ходила вокруг камня и при каждом обходе меняла облик. Я видел своими глазами! Попробуй только сказать, что это неправда!
– Я не меняла облик! Мы были там вдвоем с бабушкой!
– Так их там было еще и две! – заговорили вокруг.
– Две ведьмы!
– Откуда столько набежало?
– Скажешь, у вас с бабкой н-на двоих один плащ?
– Вовсе нет! У нас разные плащи!
– Я своими глазами видел один и тот же плащ! Ты была одна и та же, но один раз – старуха, а в другой раз – молодая. К-каков же твой истинный облик?
– У меня один облик! И мне восемнадцать лет, до старухи мне еще далеко! Развяжите меня! – Гуннхильд в негодовании потрясла связанными руками. – Я не сделала ничего плохого!
– Наверное, она и правда молодая на самом деле, – заметил тот мужчина, что постарше. – Ведь если бы этот облик был ложным, он рассеялся бы, когда ты поднес к ней нож. Ведь все видят, что это молодая девушка, или мне одному так кажется?
Мужчина обвел вопросительным взглядом своих людей, и все закивали:
– Да, да, конунг. Это девушка.
Конунг! Гуннхильд не была уверена, что расслышала правильно, но вытаращила глаза. Если он правда конунг, это может быть только Горм! Если ее не унесло злым колдовством через море, то ближе Борнхольма и Блекинге других конунгов нет.
– Но это не значит, что она не принимала облик старухи! – непримиримо ответил противник Гуннхильд.
– А и правда, я слышала, есть в наших краях ведьма, которая состарилась, а потом опять стала молодой, – заметила какая-то из женщин.
– Но где же тогда ее бабка? Ты ведь принес только одну ее, да, Харальд? – произнес надменный и насмешливый женский голос.
Из-за плеча того, кого назвали конунгом, выглядывала девушка одних лет с Гуннхильд. Она была очень красива – тоже рослая, пышного сложения, но не толстая, с тонкими правильными чертами белого лица и целым облаком вьющихся золотистых волос; одни пряди были светлее, другие темнее, и закручены они были в красивый узел, из которого длинный хвост волос кудрявым водопадом спускался по спине.
– Н-никакой бабки там не было! – отрезал Харальд. – Она была одна, когда набросилась на меня.
– Я не набрасывалась. Я поскользнулась!
– Она набросилась и пыталась меня схватить!
– Просто ты так ей понравился, что она хотела скорее тебя обнять и расцеловать! – усмехнулась кудрявая красавица.
– Харальд, дай ей объяснить! – велел Горм-конунг, с любопытством рассматривая незнакомую девушку. Ухоженный уверенный вид, богатый, хоть и запачканный наряд пристали бы скорее знатной деве, чем ведьме. – Ну-ка, девушка, расскажи нам, кто ты и откуда взялась? Мне вроде бы кажется, я уже где-то тебя видел… – добавил он, вглядываясь. – Если мы найдем, что ты говоришь правду, мы развяжем тебе руки и не причиним никакого зла.
– Я… – начала было Гуннхильд и умолкла.
Делая вид, что ей неудобно говорить и хочется сесть получше, она тем временем лихорадочно соображала, как быть. Конунг! И Харальд! Похоже, ее угораздило наткнуться в лесу на Харальда, сына Горма, Кнутова младшего брата. И он, приняв за ведьму, притащил ее в отцовскую усадьбу. А о возвращении Кнута здесь ничего не знают. И уж конечно, не знают о том, что Кнут привез мать и дочь их злейшего врага Олава в гости к своей матери!
Гуннхильд окинула внимательным взглядом людей вокруг, но не приметила ни одной женщины, которую можно было бы принять за королеву Тюру. Единственную, кто мог бы ее защитить! И вот теперь она должна сама рассказать, что они с бабушкой Асфрид решили предаться в руки Кнютлингов и искать покровительства Тюры! Уже будучи здесь, в их доме!
И к тому же ее считают ведьмой! Если она сейчас назовет свое имя… о нет! От женщины из семьи старых врагов и так не ждут ничего хорошего, а этот сумасшедший Харальд якобы видел, как она творила ворожбу и меняла облик!
– Отвечай, не бойся! – подбодрил ее Горм. – Стюр, брось дубину и подними ее… да не дубину подними! – прикрикнул он на бородача в мокрых башмаках, который послушно выпустил дубину и тут же вновь схватил с земли. Вокруг засмеялись. – Девушку подними! К чему ей лежать на земле, я не слышу, что она говорит.
Стюр подхватил Гуннхильд и поставил на ноги, но стоять ей было трудно, и ему пришлось ее придерживать. Руки и ноги онемели, все тело болело, будто ее били, голова тоже болела. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой разбитой. А что еще будет!
– Я и правда издалека… – робко начала она, обращаясь к Горму, который казался ей самым добрым человеком из всех собравшихся.
Подняв связанные руки, она попыталась убрать с лица мокрые волосы.
Харальд по-прежнему стоял рядом, держа скрам и всем видом выражая готовность в любой миг перерезать ей горло. Вид у него был хмурый и мрачный. Даже теперь, когда сама Гуннхильд стояла, он все равно возвышался над ней больше чем на голову и был самым рослым из всех собравшихся.
– Мы с моей бабушкой приехали издалека… – продолжала Гуннхильд, осторожно подбирая слова. За время лежания на земле, к тому же облитая водой и наполовину вымокшая, она сильно озябла и теперь дрожала и стучала зубами, из-за чего речь ее сделалась не слишком внятной. – У нас… случались неудачи. Мой отец… был вынужден уехать из дома, и мы остались безо всякой защиты. И мы решили попросить помощи у Фрейи. Мы слышали, что здесь есть ее священный камень и она благосклонна к женщинам, которые просят у нее покровительства возле Серой Свиньи и приносят жертвы. И мы пошли… вдвоем с бабушкой. Мы ничего здесь не знаем, но нам указали дорогу… добрые люди. И мы принесли жертвы, по очереди обошли камень. Это же моя бабушка, мать моего отца, конечно, она уже старая женщина! – втолковывала Гуннхильд, доверчиво глядя на Горма и надеясь, что он, неглупый вроде человек, должен понять такую простую вещь. – И да, мы похожи, даже лицом, ведь мы близкие родственницы, только она на сорок лет старше. Мы одного роста, и у нас одинаковые плащи, отец привез большой отрез синей ткани из Дорестада, и мы сшили себе плащи: я, бабушка и наша тетка, жена моего покойного дяди… Она осталась дома.
– Вполне убедительно! – Горм кивнул. – Ингер, у вас ведь тоже с матерью есть одинаковые платья!
– Да, и накидки у нас обшиты одинаковым шелком из того франкского платья, что Харальд привез в прошлый раз! – Светловолосая красавица кивнула. – Харальд был так неосторожен, что у платья вся спина изрублена топором, его было невозможно починить, и пришлось переднюю часть и рукава изрезать на ленты.
– Однако зачем ты напала на моего сына? – с любопытством спросил Горм. – Многие женщины его боятся, и я в первый раз вижу, чтоб одна из них на него бросилась!
– Я н-не бросилась! – стуча зубами, ответила Гуннхильд. – М-моя бабушка потеряла нож где-то на тропе, и я вернулась за ним. И я п-поскользнулась и чуть не упала. А твой… этот человек, – она слегка кивнула на Харальда, – вдруг появился там внизу, под пригорком. А я не могла остановиться и невольно съехала по склону п-прямо на него. Я же не думала, что он так испу…
Она прикусила язык, но люди вокруг рассмеялись – уже над Харальдом.
– Она лжет! – упрямо возразил Харальд. – Она нарочно прыгнула на меня и еще читала заклинание при этом!
– Но можно это проверить! – сказала Ингер. Судя по тому, как уверенно и даже надменно она держалась, эта девушка привыкла высказывать свое мнение, не стесняясь присутствия мужчин и старших. – Она говорит, они потеряли нож. Пусть пойдут и поищут там, нет ли возле камня этого ножа.
– И заодно ее бабки, – подсказал еще кто-то из мужчин.
– О да, поищите мою бабушку! – взмолилась Гуннхильд, надеясь, что рядом с Асфрид обнаружится и Кнут. Если на Асфрид никто не напал, то она уж, наверное, сообщила Кнуту, что ее внучка пошла искать нож и пропала! – Она подтвердит… она все объяснит.
– Но кто вы такие? Если таким знатным женщинам пришлось плохо и вы остались, как ты говоришь, без защиты, почему вы не обратились ко мне? – задал вопрос Горм. – Я, конечно, не Фрейя, но тоже могу иной раз поддержать беззащитных женщин! Да нет, я точно тебя где-то видел! – добавил он, снова вглядываясь в ее лицо. – Я помню… только плохо помню, будто это было очень давно. Мы не могли видеться раньше? Где ты живешь?
– Едва ли, Горм-конунг, мы виделись, – Гуннхильд покачала головой. – Мы живем далеко, я никогда не бывала здесь, а ты не бывал у нас.
С ее родичами-мужчинами Горм не раз встречался в бою на суше и на море, но женщин Инглингов до сих пор не видел.
– Кто твой отец?
А Гуннхильд молчала. У нее не хватало духу назвать свой род. Но все смотрели на нее и ждали ответа.
– Говори! – хмуро велел Харальд.
– Я бы попросила тебя, конунг… – нерешительно начала она. – Задай эти вопросы твоему сыну Кнуту.
Все вокруг опять пришли в волнение.
– Кнут? – Харальд снова приступил к ней. – Что ты знаешь о Кнуте? Отвечай!
– Он скоро вернется. Он, можно сказать, уже вернулся. И он ответит тебе на все вопросы, конунг.
– Но ты можешь хотя бы сказать, как тебя зовут? – спросил Горм.
– Отвечай! Свое имя ты ведь знаешь? – Харальд снова приподнял ее подбородок скрамасаксом, но на сей раз уже не лезвием, а рукоятью, спрятав клинок в ножны.
Гуннхильд зажмурилась и молчала, дрожа так, что едва стояла на ногах.
– Она сейчас в обморок упадет! – будто издалека донесся голос, кажется, Ингер, а может, какой-то другой женщины.
– А по-моему, она призывает духов! – крикнул еще кто-то.
– Н-надо бросить ее в в-воду! – решил Харальд. – Это н-надежный способ проверить ведьму. Она упоминала Кнута! Она что-то о нем знает! Отв-вечай, что такое с моим братом! – Харальд шагнул вперед, крепко схватил Гуннхильд за плечи и потряс.
У нее мотнулась голова, стукнули зубы, но она и правда теряла сознание от холода, страха и изнеможения и уже не могла отвечать.
– О боги! – вдруг воскликнул Горм. – Я вспомнил!
Он шагнул ближе и наклонился, пристально всматриваясь в лицо Гуннхильд.
– Я видел… я и правда видел ее! Теперь я помню! Но это было… О боги, это ведь было лет сорок назад! – Он отшатнулся, будто от огня. – Харальд прав! Она ведьма! Сорок лет назад, когда я был подростком, она была точно такой, как сейчас. Эта женщина или меняет облик, или умеет не стареть.
– Я же вам говорю! У-утопить ее!
– Можно проверить, ведьма ли она, если бросить в воду!
– Давайте! Пошли! Отведем ее на озеро!
– Только закройте ей лицо!
На голову Гуннхильд снова набросили плащ, но она больше не могла стоять и упала наземь. Горм сделал знак, здоровяк Стюр подхватил ее на плечо. Она не противилась, а висела, будто подстреленная косуля.
– Идемте! Утопим ведьму!
Во главе с конунгом и его сыном вся толпа повалила со двора, направляясь к озеру неподалеку от усадьбы. В это озеро сбрасывали разные вещи в дар богам, и для испытания ведьмы лучше места было не найти. Обычную женщину вода примет, а ведьму отвергнет и та останется на поверхности даже со связанными руками, неспособная плыть. Но Гуннхильд почти не осознавала, что ее несут, чтобы бросить в ледяную зимнюю воду. Она была почти без сознания; промерзшая, страхом, дрожью и нехваткой воздуха под плащом доведенная до изнеможения, она уже ничего не могла поделать.
Но едва они вышли за ворота усадьбы, как на дороге показались бегущие навстречу люди.
– Конунг! Твой сын Кнут возвращается! – наперебой кричали они. – Дружина вернулась!
– Возвращается? – воскликнул Горм среди общего волнения. – Все целы?
– Не так чтобы все! Они сражались с Олавом!
– Я так и думал!
– Я г-говорил!
– Но Кнут хотя бы цел? Он вернулся?
Забыв о ведьме, Горм и Харальд, а за ними все прочие, ускорили шаг. Ингер так и вовсе побежала вперед, желая скорее увидеть старшего из братьев. На дороге уже виднелся стяг Горма, с которым ходили его сыновья, колышущийся над походным строем потрепанной дружины. Во главе виднелись несколько всадников… Это Кнут!
– Ой, Харальд, вон еще одна твоя ведьма! – вдруг закричала Ингер, резко остановившись. – Вон, возле Кнута. Видишь женщину в синем плаще? Плащ точно такой же!
Все, кто ее слышал, обернулись, отыскивая глазами первую ведьму. Стюр так и нес ее на плече за конунгом, потому что ему не приказывали ничего другого. Пойманная ведьма была здесь, а возле Кнута еще одна, точно такая же! И теперь уже было видно, что это пожилая женщина с морщинистым лицом, но плащ на ней был точно такой же. Даже Горм застыл, не доходя шагов двадцать до старшего сына и не зная, что сказать.
А пожилая ведьма вдруг схватила Кнута за рукав и закричала, показывая в сторону Стюра:
– О боги, да вот же она!
* * *
Следующих дней Гуннхильд почти не запомнила. Ненадолго приходя в себя, она видела лежанку в незнакомом доме, с резными столбами и занавеской. Гуннхильд бросало то в жар, то в холод, она то потела, то мерзла, несмотря на то что была укрыта двумя шкурами и рядом в очаге пылал огонь. Асфрид сидела возле нее, и поэтому Гуннхильд не слишком тревожилась об остальном. Бабушка то поила ее отварами трав – цветов бузины, ивовой коры, белой кувшинки, липовым цветом, – то вытирала ей лоб, помогала переменить мокрую сорочку, растирала грудь и спину медвежьим жиром, кормила кашей с ложечки, как маленькую, но Гуннхильд совсем не хотела есть и могла проглотить лишь чуть-чуть. Иногда бабушку сменяли Унн и Богута, иногда совсем незнакомые женщины. Особенно часто появлялась одна, пожилая, по имени Аса. Но Гуннхильд не понимала, сколько прошло времени; иной раз, очнувшись, она думала, что продолжается все тот же день – начало его терялось так далеко в прошлом, что она даже не помнила, какие события там сокрыты. А иногда ей казалось, что она лежит так уже много-много дней, возможно, даже успела состариться. Но было не до размышлений: каждый вдох причинял боль, мучительный кашель раздирал грудь, сон мешался с явью, и нередко ей казалось, что вокруг уже смыкаются черные стены обиталища Хель.
И тогда рядом возникал свет; сначала это было просто пятно, но потом оно принимало очертания женской фигуры, проступало лицо, и Гуннхильд видела саму себя в полусне-полубреду. Это она, Гуннхильд, только такая красивая, какой она никогда не видела себя в отражениях; женщина-двойник подходила, наклонялась, клала прохладную руку на лоб, и сразу становилось легче дышать. Очнувшись и вспоминая это видение, Гуннхильд думала, что к ней как будто является ее фюльгья, дух-хранитель, способный принимать облик животного или женщины. Становилось жутко: ведь обычно фюльгья показывается только перед смертью человека, но эта, похоже, хотела защитить Гуннхильд от жадных рук Хель.
То ли невидимая для других гостья помогла, то ли молодая сила крепкой девушки, но постепенно болезнь отступала. Гуннхильд уже не впадала в забытье, жар спал, и хотя кашель еще держался, она начала понимать, что происходит вокруг. Оказалось, что она лежит в девичьем покое Гормовой усадьбы, где поселили их с Асфрид. Когда внучка уже была способна воспринимать, бабушка стала тихонько рассказывать о событиях последних дней.
Само собой, Горм и его домочадцы весьма удивились, узнав, что две «ведьмы», так смутившие Харальда, оказались дочерью и матерью их врага Олава из Слиасторпа. Между Кнютлингами происходили бурные объяснения: Харальд упрекал брата в нерешительности, из-за которой тот не захватил Хейдабьор и не взял клятву верности с его хёвдингов. Горм скорее был недоволен тем, что Кнут вообще ввязался в эту глупую войну с Олавом, с которой легко мог не вернуться. Однако то, что он привез женщин Олава, сочли успехом: с пленницами в руках можно вести переговоры, имея на своей стороне перевес, даже если из Швеции Олав вернется с сильным войском.
Харальду тоже досталось. После случая с «молодеющей» ведьмой, которая оказалась двумя разными женщинами, над ним смеялись исподтишка, а кто-то даже сложил вису, которую Асфрид тайком передала внучке:
Видит воин всадниц волка – Ведьму ловит Видур стали. Славен Харальд в пляске Хильды – Лихо Хлинн кольца пленил он.Ходили слухи, будто эту вису сложил о брате Кнут, в отместку за ссору и постоянные нападки на его-де недостаточную решительность.
Гуннхильд понимала, что Харальд зол и на нее. К ее удивлению, через несколько дней Асфрид сообщила, что младший сын Горма хочет зайти к ней.
– Он все-таки намерен меня утопить? – покашливая, спросила Гуннхильд. – Довести свое дело до конца?
Она уже не лежала, а сидела в постели, опираясь спиной о подушку, одетая в новую сорочку из тонкой белой шерсти, а Унн расчесывала ей волосы.
– Сейчас он выглядит довольно мирно, – успокоила бабушка. – Но я буду здесь и позову на помощь, если что.
Гуннхильд кивнула, и Унн позвала Харальда, ждавшего снаружи. Он подошел к лежанке и остановился, засунув ладони за пояс и глядя на Гуннхильд с высоты своего роста. Вид у него и правда был не такой свирепый и воинственный, как в прошлый раз.
– Здравствуй, госпожа, – спокойно сказал он. – Я слышал, ты поправляешься.
– Но ты убедился, что я не меняю облик и нас было две? – тихим голосом ответила Гуннхильд.
Он пристально смотрел на нее в полутьме покоя, и ей вдруг стало неловко, что она лежит бледная и изможденная, с тусклыми грязными волосами.
– Да, конечно. – Харальд посмотрел на Асфрид. – Дело в том… Еще когда я был маленький, меня сильно напугала одна ведьма. С тех пор я стал заикаться, и я н-не люблю женщин, занимающихся колдовством.
– Мы не занимаемся колдовством. Ничем таким, что было бы неприлично знатным женщинам. Моя бабушка знает руны… и я немного знаю, но это искусство дано самим Одином, и в нем нет ничего дурного.
– Асфрид сделала тебе руническую палочку, я слышал?
– Да, она у тебя под подушкой.
– Вот. – Харальд разжал кулак и положил Гуннхильд на одеяло маленький нож в ножнах, красиво отделанных узорной бронзой – тот самый, что Асфрид потеряла на тропе.
– Где ты его нашел? – ахнула Гуннхильд.
– Шагах в десяти от круга белых камней.
«Теперь ты убедился, что я говорила правду?» – хотела сказать Гуннхильд, но промолчала. Уже то, что Харальд принес нож, доказывало, что он понял свою ошибку.
Харальд помолчал, потом сказал «Выздоравливай» и ушел. Гуннхильд еще долго думала, зачем он приходил. Зачем рассказал, что в детстве испугался ведьмы и с тех пор из-за этого заикается?
Неужели он таким образом извинился?
И еще кое-кто приходил попросить у нее прощения, но более явно. Это был сам Горм-конунг: явился и некоторое время посидел на краю ее лежанки. Дочь его Ингер пришла с ним и села в стороне.
– Не сердись, что я почти согласился испытать тебя как ведьму, – говорил он. – Но я и правда был уверен, что видел твое лицо сорок лет назад. И так оно и было, только я видел твою бабушку! – Он кивнул Асфрид. – Я еще подростком встречал ее на пиру Одинкара-конунга. Тогда она была незамужней девушкой, с такими же рыжими волосами, и лицом ты похожа на нее, будто горошина из того же стручка!
Гуннхильд улыбнулась: ей и другие говорили, что она очень похожа на бабушку, но никто из ее окружения не помнил Асфрид, дочь Одинкара, до замужества. А Горм встретился с ней еще до того, как она вышла замуж за Кнута из рода Инглингов. Она была старше Горма лет на восемь, и сам он в женихи ей не годился, но, надо думать, рыжеволосая Асфрид произвела на мальчика впечатление, которое не изгладилось и сорок лет спустя.
– Ох, все давно забыли мою красоту, а теперь она едва не стоила жизни моей внучке! – вздыхала Асфрид.
– Давно никакая женщина не вносила столько смятения в наш род! – заявила Ингер и встала. – Кнут принял тебя за богиню, Харальд – за ведьму, а мой отец – за твою же бабку!
С этими словами она удалилась.
– Про таких говорят, что они рождены сводить людей с ума, и тебе это удается! – Горм дружески пожал руку Гуннхильд. – Она поправится! Я уверен, что она скоро будет совсем здорова, ведь это сильная девушка. Мой сын Кнут с особенным нетерпением ждет, когда она сможет встать с постели.
И Горм подмигнул Гуннхильд. Означает ли это, что он одобряет увлечение сына и видит в ней хорошую невестку?
Кнут приходил проведать ее каждый день: пел песни, рассказывал разные забавные происшествия. Гуннхильд радовалась ему – лежать целый день в полутемном покое было так скучно! Но порой, услышав скрип двери, ловила себя на мысли: а вдруг это снова Харальд? И тогда ее пробирала дрожь волнения, которое удивляло ее саму. Но он больше не приходил. Хотя, как она знала со слов бабушки и Кнута, его младший брат не уехал в свою усадьбу, напротив, его жена Хлода явилась за ним сюда.
– Значит, Харальд не живет здесь, с отцом? – спрашивала Гуннхильд Кнута.
– Нет, он переехал года три назад… или четыре. Их усадьба называется Эклунд, она стоит в дубовой роще. Его жена не ладила с Ингер, да и с матерью иногда тоже. Хотя наша мать – очень добрая женщина и рассердить ее трудно. Но с Ингер они всегда ссорились, и мать в конце концов решила, что им следует уехать, и пусть Хлода хозяйничает в своем доме как хочет.
– Она хорошая хозяйка?
– Не знаю. Вот Ингер, пожалуй, не очень. – Кнут вздохнул. – Всю эту зиму наша мать болеет, а от Ингер, честно говоря, мало толку. Теперь вот госпожа Асфрид помогает. Спасибо ей за это. Никогда бы не поверил, что женщина из семьи Инглингов будет хозяйничать у нас в доме, а мы будем ей за это благодарны! – вырвалось у него. – Она, наверное, и тебя всему научила?
– Конечно, – кивнула Асфрид. – Моей внучке восемнадцать лет, и уже года два она сама готова принять ключи.
А Гуннхильд подумала, что если ей придется носить ключи в том же доме, где живет Ингер, то придется нелегко. Почему Горм не выдаст дочь замуж? Она уже несколько лет как невеста, а Кнютлингам тоже нужны союзники.
Сама королева Тюра тоже приходила навестить Гуннхильд. Как выяснилось, она была простужена, но была достаточно крепка, чтобы иногда вставать и даже выходить из дома. Тюру, пожалуй, на первый взгляд никто не назвал бы красавицей: хрящеватый кончик носа и слишком маленький тонкогубый рот, впрочем, довольно красивой формы, придавали лицу сходство с лисьей мордой, хотя видно было, что в юности это личико с лукавым и задорным выражением было чрезвычайно мило. Теперь она стала рассудительной и степенной, как подобает королеве и матери взрослых детей. Руки у нее были очень хороши – тонкие, с нежной кожей, сквозь которую видна была каждая жилка, с длинными пальцами. С Гуннхильд она обошлась очень приветливо, сама еще раз извинилась за своих мужчин и заверила, что обе ее родственницы могут себя чувствовать в полной безопасности, как бы ни обернулись дела.
За шитьем или прядением Тюра много рассказывала о своей семье. Гуннхильд узнала, что Кнут уже был однажды женат: лет семь назад ему сосватали Асвёр, дочь Ингимунда-хёвдинга, одного из самых влиятельных и богатых людей Средней Ютландии. Тогда Кнуту было двадцать лет. Асвёр, маленького роста, востроносая, по словам Тюры, смотрелась рядом с могучим, плотного сложения мужем, как белка возле медведя. Хлопотливая, порывистая, беспокойная, она всегда была чем-то озабочена и постоянно жаловалась на невезенье. Кнут при ней вечно чувствовал себя в чем-то виноватым, сам не зная в чем, и начал уже подозревать, что главная неудача, на которую Асвёр жалуется, – это брак с ним. А он ведь изо всех сил старался быть хорошим мужем и никогда не вмешивался в домашние дела жены, однако увидеть улыбку на ее хмуром личике удавалось редко. Из-за этого сам Кнут почти утратил прежнюю жизнерадостность и несколько оживал только во время отъездов из дома. Все время беременности Асвёр твердила, что судьба против нее и она непременно умрет родами. Все так привыкли к этим пророчествам, что когда они сбылись, никто не удивился. К тому же мальчик родился крупным, весь в отца. Кнут еще некоторое время ощущал свою вину даже в этом, но, похоронив жену, испытал облегчение и снова повеселел. Его сын, названный Харальдом, рос и воспитывался в семье покойной матери. Гуннхильд было не очень приятно узнать, что у Кнута уже есть старший сын и наследник, но что же тут поделать?
Понемногу Гуннхильд начала вставать и наконец так окрепла, что решилась вечером выйти к конунгову столу. Перед этим она вымылась, служанки расчесали ей волосы, и теперь она выглядела почти как всегда, хотя была еще бледна и покашливала. Когда она появилась вместе с бабушкой, люди Горма встретили ее гулом удивленных и радостных криков. О ней столько слышали в последнее время, что все только и мечтали поглядеть на эту девушку, не то богиню, не то ведьму. У Горма зимовало много народу, и «теплый покой» был битком набит.
Кнут выбежал им навстречу и сам проводил к женскому столу, стоящему поперек покоя. Тут произошла заминка: посередине сидела королева Тюра, справа от нее Ингер, слева место было для Асфрид, как уважаемой гостьи. Рядом с Ингер с другой стороны сидела еще одна молодая женщина: должно быть, Хлода, жена Харальда. Или скорее наложница, ведь женщина, взятая без соглашения между родами, подарков, выкупа и надлежащих обрядов, законной женой считаться не может. А если нет рода, то какое же соглашение, кому платить выкуп? Это тоже была красивая женщина: с большими глазами, немного вытянутыми к вискам, с пухлыми губами, она выглядела замкнутой и надменной. Рабыне не к лицу такая надменность, но Хлода ведь тоже была дочерью конунга, только неудачливого, и за этой надменностью скрывалась боль попранного достоинства.
Королева Тюра подумала и сделала легкий знак рукой, предлагая Хлоде подвинуться и освободить место для Гуннхильд. Свободная дочь конунга, гостья и родственница королевы, та имела больше прав на почетное место, чем бывшая пленница. Хлода тоже помедлила, но все же встала; она не могла ослушаться королевы и хозяйки дома, но всем видом выражала негодование. От ее красивого лица так и веяло холодом, и Гуннхильд содрогнулась. И вспомнила, что хорошего подарка для Хлоды у нее нет: те застежки, которые было для нее приготовили, Асфрид еще за время болезни внучки поднесла Ингер.
За мужским столом, рядом с отцом обнаружился и Харальд. Заметив его, Гуннхильд тут же встретилась с ним взглядом и удивилась: так хорош он ей показался. Она запомнила это лицо с мрачным и свирепым выражением, а сейчас, спокойное и веселое, оно было открытым, ясным и даже красивым. Крашеная льняная рубаха очень шла к его глазам, которые от соседства с темно-голубой тканью казались еще ярче, светлые волосы были причесаны, и одна прядь падала, свившись в мягкое полуколечко, на высокий лоб; на груди блестела серебряная цепь с узорным «молотом Тора», на пальцах было несколько колец, на запястье – витой браслет. Во внешности его смешались все оттенки серебра и золота: светлые волосы, белесые брови и золотистая борода на румяном лице придавали внешности особенную яркость и выразительность. У Гуннхильд мелькнула мысль: мало мужчин сравнится с ним всем видом, ростом и силой, и как жаль, что он такой сумасшедший! Но сегодня он послал ей вполне одобрительный взгляд и приветливо кивнул, даже улыбнулся. Желая со всеми быть в хороших отношениях, она улыбнулась в ответ. Может, он еще окажется не так плох?
– Мы рады видеть тебя совсем здоровой! – сказал ей Горм. – Признаться, многие здесь с нетерпением ждали, когда среди нас появится девушка настолько красивая, что сама Фрейя пожелала принять ее обличье.
При этих его словах Гуннхильд невольно бросила взгляд на Харальда и заметила, что он нахмурился. А Горм попросил ее рассказать: дескать, многие желают узнать, как все было в День Фрейи.
– Но тебе, конунг, следовало бы спросить об этом твоего сына Кнута! – ответила она. – Я ничего об этом не знаю, ведь в то время как Фрейя беседовала с ним, я сидела в Хейдабьоре.
И Кнуту пришлось рассказывать снова, как к нему явилась Фрейя и о чем с ним беседовала; все уже знали эту повесть, но теперь, глядя на Гуннхильд, с удовольствием слушали еще раз.
– Я подумал, как бы Фрейя не разгневалась, что с ее избранницей в нашем доме обошлись так неучтиво, – заметил Горм. – Что ты об этом скажешь, Харальд?
– Мы слышали, что иной раз боги являлись конунгам и беседовали с ними, – отозвался Харальд. – Я не знаю, приходила ли Фрейя к моему брату и зачем приходила…
– Скорее она пришла бы к тебе, ведь это ты так любишь слушать Христовых людей! – крикнула Ингер.
– Если бы она пришла ко мне… – Харальд пристально глянул на Гуннхильд, и ее пробрала дрожь. Хоть он и был настроен мирно, в присутствии этого человека ей становилось не по себе. – Я был бы осторожнее. Связываться с богинями опасно. Многим такие встречи стоили рассудка. Но я хотел сказать не об этом. Гуннхильд, дочь Олава, пострадала… не по своей вине. Ее одежда оказалась испорчена. Поэтому, чтобы ни она сама, ни Фрейя не держали на меня зла, я дарю ей новый плащ вместо того, который был на ней в тот день. Хлода, принеси!
Гуннхильд и правда не раз уже пожалела о своем красивом синем плаще на меху: после того дня, когда ее в нем неоднократно валяли по мокрой земле, он был весь в грязи, и хотя служанки постарались его отчистить, пятна были еще заметны, а после стирки он мог полинять.
Хлода слегка переменилась в лице и помедлила, но потом все же встала и вышла. Когда она вернулась, в руках у нее был большой кусок хорошей шерсти, выкрашенной в ярко-красный цвет. Хватит на новый плащ, чтобы поставить его на старую меховую подкладку. Подойдя к Гуннхильд, она почти бросила ткань ей на колени, и ее пухлые губы при этом презрительно дрогнули. Гуннхильд поежилась: эта женщина уже была ей врагом, хотя они не обменялись еще ни единым словом. Вместо того чтобы поднести ей подарок, Гуннхильд невольно вынудила ее отказаться от собственной обновки. Но что она могла поделать? Отвергнуть этот дар? Тогда она навлекла бы гнев Харальда, а что этого делать не стоит, Гуннхильд уже хорошо знала.
Вскоре Гуннхильд уже почти весь день проводила на ногах. Усадьба Горма была заметно больше Слиасторпа: двор, окруженный частоколом, насчитывал сотни по три шагов в длину и ширину. Там был огромный хозяйский дом, построенный из поставленных стоймя толстых досок на бревенчатой основе, с высокой дерновой крышей и дымовыми отверстиями под ней. В средней части располагался пиршественный зал, по обычаю называемый «теплым покоем», поскольку на земляном полу его, между резными опорными столбами крыши, располагалось три больших очага. Между столбами и стенами тянулись деревянные помосты: днем на них сидели, а ночью спали головой к огню – так они были широки. Для семьи хозяина имелись отдельные помещения в концах дома, в том числе женский покой, где жила Ингер и служанки; кроме лежанок и сундуков, там находилось несколько ткацких станов и прочие принадлежности для женских работ. С другой стороны от теплого покоя была поварня, где в больших черных котлах ежедневно готовили еду на сотни человек – домочадцев, челядь, дружину. Хирдманы жили в другом доме, столь же большом, внутри той же ограды; для гостей имелся третий дом. Прочее место занимали хозяйственные постройки, мастерские, домики ремесленников и более богатых хирдманов, имевших собственные семьи и хозяйства.
Гуннхильд все еще кашляла и была слаба, но лишь изредка уходила прилечь. Остальное время дня она проводила в девичьей, иногда в гриде, где королева Тюра, ее дочь и невестка со служанками днем пряли и шили. Гуннхильд тоже взялась за прялку. Но беседа велась в основном между Тюрой и Асфрид: две пожившие женщины рассказывали молодым о своих общих предках и деяниях минувших лет. Нередко послушать их приходил Кнут, а однажды даже Харальд присел ненадолго на скамью. При этом он не сводил глаз с Гуннхильд, но она не смотрела на него.
– Конунг Горм вчера говорил со мной о тебе, – тайком сказала ей Асфрид как-то утром. – И Тюра тоже. Горм не прочь сосватать тебя в жены своему сыну.
У Гуннхильд вдруг упало сердце.
– Которому? – невольно вырвалось у нее.
Вдруг так ярко представился Харальд, обнимающий ее, что стало жарко.
– Кнуту, разумеется, – удивилась Асфрид. – Харальд младше и уже женат.
– Это не настоящая женитьба, – пробормотала Гуннхильд, сама стыдясь своей глупой ошибки.
– Да, не настоящая, но у Кнута нет даже такой жены, а невеста твоего происхождения полагается ему как старшему. А главное – я к тому веду, – что сам Кнут очень хочет видеть тебя своей женой, а Харальд противится этому.
– Вот как! – Гуннхильд вскинула глаза. – Харальд не хочет, чтобы Кнут на мне женился?
– Он не доверяет тебе. Он все-таки считает, что ты не чужда колдовства и зачаровала Кнута, вынудила отступить от Хейдабьора, хотя ничто не мешало ему занять вик.
– Но это была не я!
– Он, как мне думается, не слишком верит, что к его брату приходила сама Фрейя. Или совсем не верит. К тому же считает опрометчивым вводить в род женщину из семьи кровных врагов, пока эти враги не побеждены и мир не заключен. И с этим его доводом Горм согласен. Ни свадьбы, ни обручения ведь не может состояться, пока Олав не вернется и они с Гормом между собой не договорятся.
– Но ведь никто не знает, когда отец вернется!
– Да, и это может случиться не скоро. – Асфрид вздохнула. – Я молю богов, чтобы они не приказали мне умереть раньше, чем все это уладится, и ты не осталась здесь, среди чужих, совсем одна.
– О нет! – Гуннхильд в испуге прильнула к бабушке. – Ты ведь здорова, ты проживешь еще много лет!
– Бывало, женщины жили и дольше, но я была бы спокойнее, если бы ты обрела защитника понадежнее, чем старуха. Тюра благосклонна к тебе, она не даст тебя в обиду, даже если меня не станет, но и она не сможет помочь, если дела Олава пойдут плохо и ты сделаешься дочерью разбитого или погибшего конунга. Тогда и ты сможешь в лучшем случае стать такой же побочной женой, как Хлода. Спасет нас только, если Олав вернется с войском и сможет договориться с Гормом по-хорошему. Но пока мы с тобой здесь, договор будет таким, какого захочет Горм. Кнут на нашей стороне, а Харальд против. В их собственной семье нет согласия. Не знаю, к добру это для нас или к худу.
Гуннхильд промолчала. Ей было тревожно и досадно. Харальд не доверяет ей! Можно подумать, это она набросилась на него, стукнула по голове, обвиняла тролль знает в чем, пыталась бросить в воду и довела до болезни! И он же ей теперь не доверяет! Не хочет принять в свою семью! Быть отвергнутой тем, кто ей поневоле так нравился, было особенно обидно. Сама она охотно вошла бы в эту семью: Кнут – приятный человек, а сам дом Горма даже ее, дочь конунга, поражал размерами, богатством и многолюдством. И Харальд… Если этот союз не состоится, ей придется уехать и она больше его не увидит. Почему-то эта мысль причиняла боль.
Обиженная и раздосадованная, Гуннхильд старалась не замечать Харальда и порой за целый вечер, пока все домочадцы и дружина сидели за столами, вовсе не смотрела в его сторону. А это было нелегко, ибо Харальд был человеком заметным: он много и оживленно говорил, по каждому делу имел свое мнение, часто пел, участвовал в разных забавах. В этом они со старшим братом были похожи, как и во внешности их имелось много общего, только у Кнута лицо было круглее и сам он плотнее, а Харальд был более худощав и лицо имел продолговатое, высоколобое и более жесткое. Зато нравом они, несмотря на внешнюю живость и общительность, отличались очень сильно. Кнут был человек мягкий, как убедилась Гуннхильд, наблюдая за ним в кругу семьи и домочадцев, склонный жить со всеми в ладу, дружелюбный, почтительный к старшим. Он с готовностью соблюдал все обычаи и избегал любых ссор. О предках он говорил с восторгом и почтительностью – в отличие от Харальда, который не упускал случая указывать на совершенные ими ошибки. А Харальд и нравом был более жесток и суров, несмотря на веселость, и сам устанавливал для себя законы и обычаи. Гуннхильд было ясно, что из Кнута выйдет гораздо более приятный муж. Но если придет беда, она охотнее доверилась бы защите его младшего брата. Какое было бы счастье, если бы она вышла за Кнута и они жили бы с Харальдом одной дружной семьей! Если бы он перестал смотреть на нее так насмешливо и пристально, будто ежедневно подозревает в неких кознях!
– Почему твой брат так смотрит на меня? – однажды, не выдержав, шепнула она за ужином Ингер.
Дочь Горма, надменная и самоуверенная, не слишком-то нравилась Гуннхильд, но была единственной девушкой, равной ей по положению, и поневоле приходилось делать вид, что они дружат.
– Мой брат в тебя влюблен, об этом знает каждый рыбак на побережье! – насмешливо ответила Ингер, и у Гуннхильд что-то оборвалось в груди. – Кнут каждый день просит мать уговорить отца справить вашу свадьбу поскорее!
– Кнут… – шепнула Гуннхильд, подавляя разочарование и укоряя себя: как могла она даже подумать, что Ингер имеет в виду другого брата! – Но я не о нем говорю, – добавила она вслух. – Почему твой брат… Харальд… – Гуннхильд почему-то запнулась, будто ей было трудно произнести это имя, – так смотрит на меня? Будто боится, что я стяну что-нибудь со стола! – с шутливой обидой добавила она и, пересилив робость, бросила выразительный обиженный взгляд на мужской стол, откуда Харальд наблюдал за их беседой.
– Он боится, как бы тебе опять не вздумалось разыграть Фрейю!
– Я ничего не собираюсь разыгрывать!
– Харальд! – закричала Ингер. Гуннхильд ахнула и попыталась ее остановить, браня себя, что затеяла этот разговор, но было поздно. – Наша гостья спрашивает, почему ты таращишь на нее глаза, будто боишься, что она украдет чашу со стола! Я говорю, ты боишься, как бы она опять не превратилась во Фрейю.
– Я никогда ни в кого не превращалась! Это только… некоторым везде мерещатся… тролли и ведьмы.
– Харальд не робеет при встрече с ведьмами! – крикнул Горм, с любопытством следивший за девушками. – Каждой ведьме, что попадется ему на пути, придется плохо!
И непонятно было, хвалит он своего сына или смеется над ним.
– Не только я один смутился при встрече с этой девушкой! – дерзко крикнул Харальд. – Мой брат Кнут посчитал ее богиней, а ты, конунг, принял ее за ее собственную бабку. Видно, что-то есть в ней такое особенное.
– Госпожа так красива, что ее можно принять за светлого альва! – учтиво кивая Гуннхильд, сказал Регнер-ярл.
– Да, да, правда! – охотно подхватил Кнут. – За деву светлых альвов! Или за валькирию, что сбросила свое лебединое оперенье!
– Вот как много разных женщин в одной! – продолжал Харальд. – Мало ли, может, в ней прячется и что-нибудь похуже! Но если ведьмы еще встречаются, то я не слышал, чтобы в наше время боги принимали облик смертных и приходили в гости. Не поверю, что Фрейя принимала ее облик, пока сам не увижу.
– Это очень смелые слова, сын мой! – без улыбки заметил Горм. – Ты ведь ставишь условия не кому-нибудь, а самой Невесте Ванов.
– Я не боюсь ее! И если она придет ко мне, буду рад с ней повстречаться! Особенно если она скинет свое… лебединое оперенье.
И эти слова он сопроводил таким красноречивым взглядом, что все вокруг засмеялись, а Гуннхильд с пылающими щеками опустила глаза. «А если рассердить Фрейю, то последствия скажутся немедленно, и его жена Хлода не обрадуется!» – в гневе подумала она.
И что-то еще терзало ее в этот миг помимо гнева – слишком неприятна была мысль о том, что Хлода получает от своего мужа.
Ее могло бы несколько утешить то, что сама Хлода, наблюдая, какие взгляды ее муж бросает на пышную грудь рыжей южанки, тоже чувствовала себя неважно.
* * *
Вскоре стало ясно, отчего Харальд, сын Горма, так дерзко говорит о богах. В Эбергорде объявился епископ Хорит, сакс. Гуннхильд знала его: он уже бывал в Хейдабьоре и Слиасторпе, пытаясь добиться от ее отца содействия в делах Христовой церкви. В сопровождении нескольких монахов он прибыл из Гамбурга на торговом корабле. Обычно в такие путешествия по морю пускались летом, но у епископа были причины спешить.
Прослышав о таких гостях, в дом набралось немало народу. С корабля саксы сошли в простых одеждах из некрашеной серой шерсти, в бурых суконных плащах, но для встречи с конунгом нарядились в широкие цветные рубахи из шелка – далматики, что уже несколько веков были желанной добычей викингов и целью нападения на франкские, британские, фризские, германские города и монастыри. На двух спутниках епископа были зеленые одежды, на нем самом – светло-коричневая в золотых узорах в виде диковинных крылатых птиц и коней. Конунгу и его семье саксы поднесли такие же одежды, пару бочонков красного вина и связку куньих шкурок.
– Папа римский Агапитус, архиепископ гамбургский Адальдаг и сам избранный Богом, ныне властвующий над всеми князьями король Германии Оттон, сын Генриха, прислали меня, раба Божия Хорита, с поклоном и словами дружбы к тебе, король Горм! – говорил он. Епископ пользовался северным языком довольно уверенно. – По всему свету известна твоя доблесть, мудрость и справедливость, и все народы завидуют тому, которому Бог послал подобного тебе владыку. Под властью твоей процветает племя данов, заливы и острова, и сердца наши возрадовались, когда стало нам ведомо, что земли твои приросли и увеличились, ибо присоединил ты к своим владениям Южную Ютландию со славным виком Хейдабьор. Истинно возрадовались мы переходу этих земель в руки столь мудрого, сильного и справедливого правителя, как ты. Ибо многие годы права христиан и самой Христовой церкви в этом городе терпят жестокие утеснения и взывают о помощи. На тебя возложены надежды наши, от рук твоих жаждет получить защиту и справедливость архиепископ гамбургский, и я, служитель Божий, и все добрые христиане Хейдабьора.
– И чем же я могу помочь христианам Хейдабьора? – осведомился Горм, умолчав о том, что, присоединив Южную Ютландию к его владениям, епископ слегка поторопился.
Гуннхильд тоже хорошо понимала, к чему Хорит ведет речь и почему поспешил явиться. После военных поражений ее дед Кнут был вынужден принять христианство, признать себя вассалом Отты-кейсара – короля Страны Саксов. И если раньше местные христиане платили ему, Кнуту, за разрешение отправлять христианские обряды в языческой стране, то теперь ему пришлось следить за тем, чтобы подати исправно отсылались гамбургскому архиепископу. Ее отец Олав покончил с этим, справедливо рассудив, что чужой король не имеет никакого права брать деньги с его земли, да еще в пользу церкви чужого бога. Король Отта и архиепископ Адальдаг, разумеется, возмущались этим, но, занятые иными делами, ничего не предпринимали. Однако сейчас, когда Инглинги оставили Южную Ютландию, архиепископ увидел в этом удобный случай восстановить свое влияние, а заодно и доходы. И теперь предлагал мир и признание за Кнютлингами прав на эти земли, если взамен те обязуются обеспечить своевременное поступление податей и соблюдение прав христиан в Хейдабьоре.
– Возможно, известно тебе, король данов, что уже два года, как король Оттон учредил, с благословения папы Агапитуса, епископию в Хейдабьоре и вверил ее мне, недостойному рабу Божию, – продолжал епископ. – В то же время учреждены были епископии и в других датских городах, а именно Рипе и Архусе, и туда поставил епископов архиепископ гамбургский Адальдаг. В городе Хейдабьоре свет Христовой веры воссиял уже давно: еще полтораста лет назад, когда правил там король Харальд, крещенный в Ингельгейме королем франков Людовиком Благочестивым, стараниями благочестивого Ансгара там была построена церковь Христова, дабы датские христиане имели в земле своей источник благодати. И в прежние годы, после того как король Кнут принял крещение, подати с тех земель поступали исправно. Однако сын его Олав не пожелал последовать примеру своего отца и предал забвению церковь и веру Христову. Но прослышали мы о том, что поразил его гнев Божий и был он изгнан из своей страны и даже из своего дома, а значит, справедливость может быть восстановлена новым законным владыкой, защитником мира и добра, что принесет землям данов покой, процветание и славу. Сам же король Оттон приложит усилия и сделает все, на что Господь даст ему соизволение, чтобы незаконные владыки, пришельцы и оскорбители доброго порядка, никогда не вернулись больше в Хейдабьор.
Пока епископ говорил, Горм не раз поглядывал на Харальда. Тот слушал очень внимательно, и лицо его было так выразительно, что становилось ясно: ему есть что сказать.
– А пока… нередко добрые христиане терпят злые гонения и разорения. – Хорит бросил печальный взгляд на грудь Гуннхильд. – Сокровища Божьей церкви служат для забавы тех, кто даже не осознает их истинной ценности…
Гуннхильд посмотрела на цепочку между застежками своего платья: пара позолоченных подвесок с разноцветными блестящими камешками, которые достались ей от прабабки, матери деда Кнута, были изготовлены из накладок на деревянные обложки франкских церковных книг. Эти обложки викинги не раз привозили из набегов на монастыри, выдирая бесполезные для них пергаментные листы.
– Забота о своих сокровищах всякому понятна, и заботы эти нам близки, – кивнул Горм. – Но есть другое, что не так легко понять. Когда наши хёвдинги соберутся на тинг и спросят меня: «Конунг, асы и ваны, боги наших предков, исправно посылают нам добрый урожай, мир, а случись война, победу в бою, равно иные блага, которых может желать смертный. Хотелось бы людям знать, почему ты позволяешь чужому королю собирать подать с нашей земли?» Мне придется что-то им ответить, – с некоторой грустью добавил Горм, будто намекая, что задача эта нелегка. – Что ты, мудрый и ученый человек, или архиепископ Адальдаг, или Отта-кейсар, смогли бы мне посоветовать в этом случае?
– Я ответил бы, что твои люди не совсем верно поняли нашу просьбу, – отозвался Хорит. – Король Оттон вовсе не намерен собирать подати с чужой земли, он лишь желает, чтобы каждый человек мог свободно служить своему богу, и христиане, коль волею Господней число их в Дании умножилось и множится с каждым годом, могли приносить Ему свою дань любви и благодарности. И если будет на то твоя добрая воля, я с моими собратьями, – он показал на сопровождающих, – сам поселился бы в Хейдабьоре вблизи стада, коего Господь поставил меня пастырем, и, собирая с него в пользу Господа малую дань, отдавал бы часть архиепископу. Ведь согласно обычаям всех народов, каждый младший должен чтить того, кого Господь поставил старшим над ним.
Горм благосклонно кивнул, соглашаясь с этим мудрым обычаем, и ободренный Хорит продолжал смелее:
– А Господь Бог наш не оставит доброту и справедливость твою без воздаяния, благословит тебя долгой жизнью, а правление твое изобилием, миром и процветанием подвластных тебе земель и народов. Ибо сам Бог, всеведающий и всемогущий, дает власть земным королям, почитающим Его. И только перед Богом, а не перед людьми, такими же смертными, как они сами, дают христианские короли отчет о своих делах.
При этих словах Харальд, как заметила Гуннхильд, бросил на отца выразительный взгляд: видимо, для него это не было такой уж новостью, и он лучше остальных понял истинный смысл этих слов.
– Приятно послушать мудрого человека… – задумчиво произнес Горм. – Что ж, если все так, то я думаю, нам не стоит вмешиваться в отношения между христианами, где бы они ни жили, и их богом. Хотя людям покажется весьма странным, что посредником между ними и богом должен служить священник, назначенный из Гамбурга, в то время как архиепископа Гамбургского назначили из Рима. Но, так или иначе, поскольку Отта-кейсар и архиепископ получат от нашего соглашения несомненные выгоды, будет справедливо, если они в ответ окажут и нам кое-какие незначительные услуги.
– Что ты имеешь в виду?
– Отта-кейсар и архиепископ ведь не хотят, чтобы в Хейдабьор вернулся Олав, от которого в Гамбурге не дождутся даже хвоста селедки? А значит, они должны будут помочь мне отстоять эти земли от его притязаний, если он приведет войско из Швеции – а это мы считаем весьма вероятным.
– Ты хочешь, чтобы король Оттон участвовал в твоей войне с Инглингами, если они вновь предъявят свои права?
– Да, и никому не покажется странным это желание, коли уж мы идем на уступки и позволяем архиепископу в Гамбурге богатеть за счет податей с нашей земли.
– Дать на это согласие у меня нет полномочий. – Хорит покачал головой. – Мне, смиренному служителю матери нашей церкви, не пристало вмешиваться в дела войны. Мы желаем нести мир, как завещал нам Господь наш Иисус Христос, и только дело мира между тобой и Оттоном берусь я устроить.
– Большое может начаться и с малого. – Горм не стал упорствовать. – Но раз уж я дам согласие не вмешиваться в отношения вашей церкви с ее чадами, я жду, что Отта, как посредник между мной и архиепископом Адальдагом, тоже не станет вмешиваться в то, что его не касается. Иными словами, я хочу получить от него или его доверенных представителей клятву на тех священных чашах, которые вы употребляете для богослужений, что Отта не станет помогать Олаву. Это ты можешь нам обещать?
– Ты, вероятно, хочешь получить клятву на Библии? – уточнил епископ, сожалея в душе о дикости данов: самыми священными предметами христиан они считают золоченые чаши для причастия, равняя их с теми жертвенными чашами, в которые сами собирают кровь убиваемых перед идолами животных, а то и людей.
– Да, можно клятву на тех книгах, которые у вас лежат на алтаре в каждой церкви, – покладисто согласился Горм. – Но я должен быть уверен, что Отта с этих пор считает Южную Ютландию моей землей и не станет поддерживать никого другого, кто вздумает назвать себя ее хозяином.
– Дать такую клятву от имени короля Оттона он позволил мне, хотя клятвы и не одобряются Господом Богом нашим, – в свою очередь согласился Хорит, зная, что ради славы святой церкви иной раз приходится идти на уступки обычаям язычников. – И, возможно, благоволение твое распространится также на епископии, учрежденные в Рипе и Архусе, – заикнулся было Хорит, но Горм махнул рукой:
– Об этом после. Я должен буду посоветоваться с моими людьми.
А Гуннхильд и Асфрид оставалось лишь молча, служа украшением скамей, наблюдать, как бессовестные соседи делят власть и доходы с их собственных родовых земель. Однако обе прекрасно понимали, что говорить епископу о Кольце Фрейи бесполезно, а показывать его Горму – неразумно.
* * *
В этот вечер Гуннхильд ушла в девичью, будучи близка к отчаянию. Кнютлинги уже почти приобрели союзника в лице короля саксов, который будет если не помогать им в борьбе за земли Инглингов, то хотя бы и не мешать. А положение ее родичей становилось заметно хуже.
– Не думаю я, что Оттон станет помогать им войском, – утешала ее Асфрид. – Это обойдется ему слишком дорого, он не сможет выжать из наших христиан сразу столько денег, чтобы окупить свои расходы на войну, а что будет дальше, знают только боги. Ведь Горм всегда может снова запретить выплату этих податей, упирая на то, что борьба с Инглингами, в которой Оттон ему не помогает, обходится слишком дорого.
– Но он пообещает не помогать и нам!
– Олав после смерти Гильды, а потом герцога Бертольда и сам не слишком рассчитывал на его помощь. А с тех пор как он прекратил церковные выплаты, рассчитывать и вовсе стало не на что.
– Но отец тоже мог бы возобновить эти выплаты. Это дешевле обойдется, чем потерять все.
– Ты разве не знаешь своего отца? Но даже если бы случилось чудо и в нем пробудился разум, это не помогло бы. У Отты хватает своих врагов: венды, венгры, да и франки, его подданные, не в ладах с саксами. Саксы поднимают мятежи, да и другие герцоги могут сделать то же, что делали твои родственники-баварцы. И со своими кровными родичами ему хватает забот, где уж заниматься нашими делами!
С приездом епископа Хорита кое-что важное изменилось и для самой Гуннхильд. Об этом она узнала на следующий день. Вместе с Асфрид, королевой Тюрой, ее дочерью, невесткой и служанками они пряли в женском покое, как вдруг туда явились Горм с обоими сыновьями, а также с Регнером и Холдором, ближайшими советниками.
– Наши женщины и девы, славные мудростью и красотой, все здесь, в сборе! – обрадовался Горм. – Мы хотели повидать тебя, королева, чтобы воспользоваться твоим мудрым советом.
– Нам уйти, конунг? – осведомилась Ингер, оставляя пряжу и поднимаясь со столь независимым видом, будто эти дела не стоят ее участия.
– Вы с Хлодой можете уйти. А госпожа Асфрид и ее внучка пусть останутся, – сказал Харальд. Он остановился перед Гуннхильд, по привычке засунув руки за пояс и пристально глядя на нее. – Наше дело их тоже касается.
Гуннхильд пробрала дрожь волнения: его вид и тон не обещали ей ничего хорошего. Она бросила тревожный взгляд на Кнута, но тот подмигнул ей с самым радостным и довольным видом, будто его-то, наоборот, переполняли самые лучшие ожидания.
– Конечно, если ты этого желаешь, конунг, – невозмутимо кивнула Асфрид.
Ингер и Хлода вышли, причем первая – с высокомерным и гордым видом, а вторая – с явной неохотой, часто оглядываясь, будто надеясь по лицам угадать, о чем тут пойдет речь. Горм знаком выслал вслед за ними служанок, а сам вместе с сыновьями уселся на освободившиеся места возле Тюры.
– В чем же тебе нужен мой совет, конунг, если ради этого дела ты явился в женский покой? – спросила Тюра.
– А вот в чем. Сыновья твои – уже взрослые мужчины, достаточно умные и сведущие, чтобы спорить со своим отцом. Другой мог бы разгневаться, но я-то понимаю, что один из них, а может, и оба сами станут после меня конунгами и не худо им заранее учиться думать как конунги и принимать верные и справедливые решения.
– Ты мудр, сыновьям твоим очень повезло с отцом! – улыбнулась Тюра, а Кнут воскликнул:
– Я-то никогда не забуду, что счастьем иметь такого достойного отца я обязан своей матери, мудрейшей из женщин! Ты – богиня Фригг среди женщин, матушка!
– Благодарю тебя. Но о чем же у вас вышел спор?
– Я готов согласиться с тем, чтобы те из датчан, которые так глупы, что отказываются от богов своих предков и надеются, будто им поможет совсем чужой, платили подать на церковь и в конечном итоге помогали обогащаться архиепископу, конунгу саксов и папе Агапитусу в Риме. Уж как те трое будут делить свои деньги, меня не касается. Но Харальду этого мало. Он хочет, чтобы я позволил делать то же самое в Рибе и Орхусе. Он даже хочет, чтобы я позволил строить христианские церкви и в других местах, где их пока еще нет, и даже отменил подать, которую мы сейчас берем с христиан за отказ от участия в жертвоприношениях.
– Но, наверное, у Харальда есть какие-то причины для таких странных желаний? – Тюра с вопросительным видом повернулась к младшему сыну.
– Да уж конечно, они у меня есть! – живо заговорил тот. – Или вы не слышали, что нам вчера сказал этот надутый глухарь в крашеном платье? Христианские конунги получают свою власть не от предков, не от тинга, а только из рук самого бога! И только богу они дают отчет в своих решениях и действиях! Или вы не знаете, сколько конунгов лишились власти, а то и жизни из-за несогласия с тингом, с кем-то из хёвдингов, а то и просто потому, что наступил неурожай и богам понадобилась хорошая жертва? Что бы ни случилось в христианской стране, короля не принесут в жертву ради урожая и мира!
– Но ничего подобного не было уже сколько лет! – воскликнул Кнут.
– Не было, но ведь может быть! Древний обычай это позволяет, и если дела пойдут плохо, о нем могут вспомнить. Я, конечно, посмотрю на того, кто попытается принести в жертву меня, но в христианской стране никто не имеет права даже помыслить о таком деле. Конунга, каким бы он ни был, поставил над страной бог христиан, и тот, кто не повинуется конунгу, идет против самого бога. Христианские проповедники учат довольствоваться малым, принимать свою судьбу без возражений и, главное, во всем повиноваться конунгу! Христиане верят, что чем хуже человек живет здесь, в Мидгарде, то тем лучше ему будет после смерти в Асгарде… ну, или где там живет Христос. А поэтому, – в воодушевлении Харальд заговорил быстрее и громче, чтобы слушатели не потеряли нить рассуждений, – чем больше бог любит человека, тем более суровые испытания и несчастья ему посылает. Ну, вы понимаете? Чем хуже нам живется, тем, стало быть, сильнее нас любит бог и тем больше мы должны радоваться и благодарить его, ожидая после смерти гораздо лучшей жизни!
– Ты говоришь совсем как их проповедники, – с некоторым удивлением заметила Тюра.
– Было бы нехудо, если бы эти речи дошли до каждого пастуха и рыбака! От этого было бы лучше всем: им – потому что они стали бы считать голод и прочие несчастья благом и сделались счастливее, нам – потому что бедным и притом счастливым народом гораздо легче управлять! И для того, кто хочет объединить страну и править всей Данией, она наиболее подходит! Вот что я вам скажу!
– Тише, Харальд! – Тюра в испуге бросила взгляд на кровлю, будто боясь, что гнев богов поразит ее слишком дерзкого сына немедленно. – Но почему ты говоришь об этом со мной?
– С тобой мы хотели посоветоваться о семейных делах, в которых женщины понимают больше мужчин. – Горм улыбнулся жене, а Кнут просиял и бросил на Гуннхильд веселый взгляд. – Мы подумали, будет не худо, если Отта, глазами нашего гостя Хорита, увидит, что мы не намерены уходить из Южной Ютландии и что у нас есть возможность ее отстоять. А заодно и запастись убедительным доводом для Олава, если он все же приведет войско – из Швеции или из Рёрика, куда его там тролли унесли… Но не годится дурно говорить о будущем родиче, – он взглянул на Гуннхильд. – Нашему сыну Кнуту пришлась по нраву единственная дочь Олава, и нам думается, что лучшей невесты он не смог бы найти. Что вы скажете, мудрые женщины, если на День Госпожи мы объявим обручение?
Гуннхильд вздрогнула, Асфрид переменилась в лице. Тюра ответила не сразу и обратила к двум своим гостьям взгляд, полный замешательства. Конечно, она думала об этом, но Асфрид избегала разговоров о возможном замужестве внучки.
– Конечно, я была бы рада приобрести такую замечательную невестку… – начала Тюра и замолчала в нерешительности.
– А я была бы рада знать, что и после замужества моя внучка будет зваться Гуннхильд, дочерью Олава, – многозначительно заметила Асфрид. – Какую свадьбу ты имеешь в виду, Горм-конунг? Такую, при которой за невесту платят выкуп, на которой пьют при свидетелях свадебное пиво, а потом подают «невестину кашу»? Чтобы знатные люди отвели твоего сына к постели моей внучки, а наутро она получила от него достойный ее рода подарок? Ты имеешь в виду такой брак, дети от которого будут гордиться своей матерью, а не стыдиться ее?
– Разумеется! – охотно подтвердил Горм. Гуннхильд при этом невольно бросила взгляд на Харальда и заметила, что он усмехнулся. – Я не больше тебя желаю, чтобы чести твоей внучке был нанесен урон. Мы справим свадьбу по всем правилам достойных людей. Клянусь асами, я желаю этого всем сердцем.
Асфрид, не отрываясь, смотрела на Горма, он на нее. Оба они знали, о чем сейчас должно быть помянуто. Такой свадьбы, о которой они говорили, не бывает без приданого.
– И что же ты хочешь получить в приданое за моей внучкой? – наконец произнесла Асфрид.
– Уж у кого, а у вашего рода не возникнет сложностей с таким простым делом! Вы ведь не бедняки какие-нибудь! Род Олава Старого владеет немалым богатством: у вас есть усадьба Слиасторп, есть еще несколько усадеб, как я слышал, в других местах вашего края, есть право собирать подати с Хейдабьора. Твоя внучка может принести мужу немалое приданое – землей, скотом, челядью, дорогой посудой, красивыми платьями, золотом и серебром. Думаю, вы не будете жалеть добра для такого случая. Ведь она, как жена моего старшего сына и первого наследника, станет со временем королевой Дании! Всей Дании! – подчеркнул Горм. – Ты сама понимаешь, как мудрая и сведущая женщина, до чего глупо скупиться в таком деле.
– Мой род никогда еще не попрекали скупостью, – обронила Асфрид. – И невесты из нашего рода всегда приносили мужьям достойное приданое – золотыми кольцами и серебряными браслетами, нарядными франкскими одеждами, скотом, рабами, железными котлами и позолоченными чашами. Для моей внучки было приготовлено немало такого добра, и все оно хранится в усадьбе Слиасторп.
– Я и не сомневался в этом! – обрадовался Горм. – Но, чтобы не мелочиться, не стоит вывозить все это оттуда. Думаю, будет лучше, если в приданое твоей внучки пойдет вся усадьба Слиасторп – с ее пашнями и пастбищами, пастухами и коровницами, скотом, припасами, утварью и прочим, что ты перечислила. Случай того стоит – будущая королева всей Дании не может выходить замуж, будто дочка простого бонда, что получает корову, пару подушек, тюфяк и два платья.
– Рассуждения твои справедливы. – Асфрид подавила вздох. – Но не запрашиваешь ли ты больше, чем можешь получить от меня? Хозяин Слиасторпа – мой сын Олав, я не вправе распоряжаться имуществом без его ведома.
И все находящиеся в женском покое прекрасно понимали, о чем идет речь: Горм хотел получить не одну усадьбу, а всю Южную Ютландию, чьи хозяева владели Слиасторпом.
– Законы позволяют взрослой женщине, тем более вдове, распоряжаться имуществом семьи, если в ней не осталось мужчин, особенно когда женщина такого высокого рода, как ты. Ведь ты не знаешь, где твой сын Олав? Ты даже не можешь утверждать, что он еще жив. Или у тебя есть от него какие-то вести?
– Какие вести я могу получить от сына, сидя в твоем доме? – Асфрид снова вздохнула. – Но мы ведь не имеем и вестей о его смерти. А пока она не доказана, мой сын остается хозяином Слиасторпа.
– Ты – его мать, твой муж умер, ты – старшая в роду, и это достаточное основание для тебя распоряжаться оставшимся без присмотра имуществом. К тому же… нам небезызвестно, что отец твоего покойного мужа, Олав Старый, завладел усадьбой Слиасторп благодаря военной силе, а закрепил права своего рода путем брака его сына Кнута с тобой. Ведь это твой отец, Одинкар-конунг, потомок Годфреда Грозного, владел Слиасторпом и Южной Ютландией, пока туда не явились шведские Инглинги. И благодаря твоему браку властители остальных датских земель признали их владетелями этой части страны. Что было хорошо для наших предков, то хорошо и для нас. Что случилось с тобой и было признано законным, то будет законным и для твоей внучки. Нам известно, что ты носишь титул Госпожа Кольца и хранишь кольцо клятв. Именно ты можешь передать это кольцо твоей внучке, а вовсе не твой сын Олав. Ты имеешь преимущественное право распоряжаться усадьбой Слиасторп и всеми прилегающими землями. И я надеюсь, ты распорядишься ими с присущей твоему роду и возрасту мудростью, во благо себе, своей внучке и всей Дании.
– Я – всего лишь старая женщина, Горм-конунг, – вздохнула Асфрид. – Я и моя внучка находимся в твоей воле. Ты можешь склонить меня к согласию на поступки, которых не одобрит мой сын. Но как мы склоним его признать наш уговор? Не лучше ли мне не давать обещаний, которые, возможно, не будут выполнены?
– Об этом не беспокойся! – заверил Горм. – Мой сын всегда сумеет отстоять имущество своей жены. Думается, мы с тобой одинаково хотим, чтобы свадьба была справлена по всем обычаям, чтобы внучка твоя и после оставалась Гуннхильд, дочерью Олава, и ее дети имели все права потомков законного брака. Мы даже можем включить в наш договор, что усадьба Слиасторп, случись ей умереть, сразу перейдет к ее детям.
Асфрид помолчала. Решалась судьба не только Гуннхильд, но и всего рода ютландских Инглингов. А ведь у них был еще один наследник – двоюродный брат Гуннхильд, Рагнвальд, сын Сигтрюгга, тоже внук Асфрид. Если старая королева согласится на предложение Горма, и сын ее, и внук останутся ни с чем. А не согласится – ее внучка станет такой же наложницей, как Хлода, и имени своего отца она носить больше не будет, будто безродная рабыня.
Гуннхильд очень хотелось закрыть лицо руками, чтобы по-детски спрятаться от этого выбора, но она сидела неподвижно, стараясь сохранять невозмутимость. О, если бы ей сейчас предстояло умереть, она, дочь и внучка конунгов, пошла бы на смерть с самым веселым видом. Но как веселиться, когда грозит бесчестье?
– Ты ведь, Горм-конунг, тоже хочешь, чтобы сделка наша была законной, – наконец ответила Асфрид. – Давай подождем до лета. Если летом не придет никаких вестей о моем сыне и внуке, то я признаю себя вправе распоряжаться Слиасторпом и мы заключим договор. Если же мы поспешим, то наше соглашение не будет иметь никакой цены.
– Ну что ж! – Горм подумал и кивнул. – До лета не так уж далеко. А нам все равно следует спросить согласие тинга.
На этом разговор о сватовстве закончился. Но еще очень долго Гуннхильд не могла думать ни о чем другом. Решалась судьба ее рода – и ее собственная. Но, хотя ей предстояло стать женой Кнута, перед глазами у нее почему-то стоял Харальд – его решительное лицо с прямыми чертами, его жесткая усмешка. Гуннхильд только сегодня заметила, что когда он улыбался, у него правая половина рта поднималась гораздо выше левой и на щеке появлялась продолговатая ямочка, видная под светлой бородой. При ней он редко улыбался… Она чувствовала, что этот человек не очень-то к ней расположен, не доверяет ей, относится враждебно, и это приводило ее почти в отчаяние. А врагам Харальда сына Горма, как она понимала, не позавидуешь. Но кроме тревоги мысли об этом вызывали в ее душе чувство жгучей обиды.
Но даже если бы Харальда вовсе не было на свете, положение Гуннхильд не стало бы легче. Если Горм и Олав не договорятся, ей грозит участь Хлоды – сделаться наложницей, взятой без приданого, согласия родни и свадебных даров. Но другой исход: настоящая свадьба, выкуп невесты, Слиасторп в приданое – вынудил бы ее ограбить собственный род, сделать отца и брата бесприютными бродягами! Морскими конунгами, чей дом – корабль, подданные – дружина, подати – то, что удастся раздобыть мечом в чужих краях. Королева Асфрид, как Госпожа Кольца, вправе передать внучке Кольцо Фрейи, а с ним и благословение богов. Справят свадьбу, Кнут с женой поедет к фьорду Сле, соберет тинг, объявит о произошедшем, и местные хозяева, не говоря уж о хёвдингах вика, принесут ему обеты мира и покорности. Лишь оговорив, как водится, что он не будет посягать на их права и позволит жить по своим обычаям. И даже если Олав и Рагнвальд вернутся после тинга, они уже будут здесь никто. Бывшие подданные не поддержат их, и им останется только одна страна – Широкосинее море.
Если бы Гуннхильд приходилось выбирать только между своим счастьем и честью рода, она не колебалась бы ни на миг. Но ведь если она станет наложницей Кнута, ее род тоже будет опозорен! Все дороги, которые она могла разглядеть перед собой, вели в темные тупики. О хоть бы Фрейя еще раз подала ей мысль, как со всем этим справиться, какой путь выбрать, чтобы имя ее не поминали с негодованием и презрением! И пусть бы ей пришлось войти в горящий дом – она без страха шагнула бы вперед, лишь бы уберечь честь своего рода, как Сигне, дочь Вольсунга; Гудрун, дочь Гьюки; Брюнхильд, дочь Будли и прочие женщины древности, образцы стойкости и мужества во имя чести.
А ведь одна из подобных женщин сейчас сидит рядом с ней, бок о бок. Гуннхильд подняла глаза на бабушку Асфрид. Старая королева невозмутимо пряла, но Гуннхильд чувствовала, что та тоже в смятении и тревоге. Отец Асфрид был конунгом Южной Ютландии и хозяином Слиасторпа еще до того, как туда явился Олав Старый. Свадьба Асфрид и Кнута, сына Олава, была, разумеется, справлена по полному обряду, и уже больше сорока лет Асфрид носила ключи в знак своего положения истинной и единственной хозяйки. Но… как оно все тогда было?
– Бабушка… – прошептала Гуннхильд, придвинувшись ближе и пользуясь тем, что Тюра завела с дочерью и невесткой какой-то разговор насчет хозяйства. – Ведь твой отец был конунгом… а потом стал Олав Старый. Они ведь… враждовали между собой?
– Да. – Асфрид кивнула с некой обреченностью, понимая, что внучке нужно разобраться в прошлом семьи, чтобы понять свое собственное будущее. – Олав Старый приходил к нам несколько лет подряд, и каждый раз приводил все больше войска. Погиб сперва мой отец, потом мой старший брат Годфред, потом сам дед. В конце концов мы остались вдвоем: я и мой младший брат Аскар. Ему было четырнадцать лет. И дружины у него оставалось очень мало. Но он поступил как мужчина: послал Олаву вызов на поединок, предлагая, чтобы победитель владел Слиасторпом и всеми землями. Но поставил условие, чтобы если победителем останется Олав, то он взял бы меня в законные жены. Олаву было тогда уже за сорок, ему показалось стыдно драться с четырнадцатилетним подростком. Он выставил бойцом своего сына Кнута. Тому было где-то лет двадцать. Он был гораздо сильнее Аскара и опытнее. Конечно, он победил… И это означало, что боги на их стороне.
Госпожа Асфрид говорила ровным тоном, но по мере рассказа голос ее звучал все тише и слабее, голова клонилась, движение пальцев замедлялось, пока веретено и нить совсем не замерли. Перед глазами ее как наяву вставали видения пережитого более сорока лет назад.
– Но Олав полностью выполнил условие, – продолжала она. – Только объявил, что раз уж победу одержал Кнут, то и мужем моим должен стать он. Сам Олав был уже так потрепан жизнью, что… – Асфрид все же сумела усмехнуться. – Я потом ни разу не замечала, чтобы ему требовались женщины. А мы ведь прожили в одном доме еще лет восемь. Он просто не захотел опозориться с шестнадцатилетней женой. Но я стала законной хозяйкой в своем собственном доме, подле могил моих предков и родных. Иногда я думала… да, и я могла бы поступить, как Гудрун. Убить своего мужа, детей, себя… У меня в ту пору было больше детей – я родила семерых, но выросли только трое, остальные умерли маленькими, и ты не застала их на свете. Я могла бы сама положить всему этому конец, но тогда от моего рода ничего не осталось бы. Он не был бы продолжен, и мои предки лишились бы возможности когда-нибудь в будущем возродиться. А сейчас у них еще есть такая возможность…
Асфрид подняла глаза к лицу Гуннхильд, и той показалось, что на нее смотрят все ее бесчисленные предки – и те, кого она знала, и те, чьи имена растворились в могучем потоке времен. Смотрят с надеждой, как на последний свой путь в новую жизнь.
* * *
Вечером за столом все домочадцы и гости Горма смотрели на Гуннхильд с новым любопытством. То ли кто-то из участников знаменательной беседы проговорился, то ли стены женского покоя ради такого случая отрастили несколько пар ушей, но уже все знали, что Горм-конунг посватал Гуннхильд за Кнута и хочет получить в приданое Слиасторп. И многие, веря, что дочь Олава станет не наложницей и рабыней, как иные в ее положении, а королевой Дании, уже кланялись ей ниже и улыбались приветливее, чем раньше, всем видом выражая приязнь и готовность услужить. Гуннхильд принуждала себя улыбаться людям, но улыбка выходила натянутая. Она чувствовала себя стоящей на жердочке, где с одной стороны ждет яма предательства своего рода, а с другой – рабства. Но даже выбор, куда упасть, очень мало зависит от ее воли.
На нее так и глазели бы весь вечер, если бы домочадцев и гостей не отвлекло забавное происшествие. Еще в начале ужина Гуннхильд заметила, что в кучке бродяг, сидевших на земле у самого порога и терпеливо ждавших, пока кто-нибудь бросит им со стола обглоданную кость или корку хлеба, появилась пара новых лиц. Мужчина сразу бросался в глаза – уже немолодой, седой и морщинистый, но не сказать чтобы дряхлый, из тех, кому может быть или тридцать с чем-то, или пятьдесят, да он и сам, должно быть, хорошенько не знает. Растрепанные волосы и нечесаная борода, пегие от седины, придавали ему еще более неряшливый вид, если это только возможно. Одет бродяга был в рубаху из многочисленных кусков шерсти разного цвета и вида, неровных и соединенных между собой самым причудливым образом; одни заплатки были пришиты на другие. Тощие ноги были обвиты длинными обмотками, тоже сшитыми из обрывков тканых полос разной ширины и цвета. Видимо, нищий подбирал сношенное тряпье и вырезал из него куски поцелее. Рядом лежал посох, а на коленях он держал берестяную миску, дожидаясь подаяния.
Возле мужчины пристроилась девушка, судя по непокрытой голове; она сидела, обняв колени и спрятав в них лицо, так что с первого взгляда Гуннхильд приняла ее за большую собаку. Но вот кто-то, проходя мимо, толкнул ее, и оказалось, что это человеческое существо: девушка подняла голову и, видимо, что-то бросила вслед прошедшему. Некрасивое бледное личико имело при этом самое сердитое выражение, обозначая готовность постоять за себя. Возраст ее был тоже непонятен – может, четырнадцать, а может, вдвое больше. Темные волосы, немытые невесть сколько, были спутаны, а худа она была настолько, что не верилось, будто она когда-нибудь ела в своей жизни.
Со смесью жалости и презрения Гуннхильд рассматривала девушку. И в Слиасторпе немало бывало таких вот «гостей», которых никто не звал, но обычно им не отказывали в приеме, повинуясь старинному обычаю. Мать ее, христианка, учила, что с нищими в дом приходит сам Господь, Богоматерь или святые, поэтому нужно относиться к ним по-доброму. Бабка Асфрид, наоборот, не любила бродяг, помня, сколько раз с ними являлись заразные хвори. Иной раз целые семьи, хутора и усадьбы платили жизнью за то, что принимали хворого бродягу. В Слиасторпе была даже поставлена за оградой двора особая баня для таких, чтобы они смыли с себя грязь и вшей прежде, чем войдут в хозяйский дом.
– У вас нет обыкновения заставлять нищих мыться, перед тем как пускать? – спросила Гуннхильд сидевшую рядом Ингер.
– Зачем Грим впустил эту дрянь! – возмутилась та, посмотрев туда, куда ей показывали. – Ему же приказано отгонять их собаками!
– Но раз уж они вошли, выгнать их теперь нельзя, – заметила Хлода. – Может, у вас в Слиасторпе другие порядки, а у нас если гость вошел, ему дают погреться и поесть!
– У нас тоже принимают гостя, кто бы он ни был! – возмутилась Гуннхильд. – Но гостям не хуже от того, что им предложат сперва вымыться.
Она давно заметила, что Хлода пользуется всяким случаем, чтобы сказать ей колкость, но старалась не отвечать тем же. Если ей суждено стать королевой, Хлоде придется сдержать себя, а если Гуннхильд не повезет и она станет такой же наложницей, то лучше не переводить неприязнь в открытую войну.
– Молчи, дура! – вместо нее бросила невестке Ингер. – Вот она сделается королевой и пошлет тебя чистить котлы!
– Как бы ей самой не заняться этой работой! – огрызнулась Хлода. – Когда женщина выходит замуж таким образом, от нее не жди добра! Скорее, она убьет своих детей и подаст их мясо мужу на стол, а потом убьет его и себя!
– Ты о себе говоришь? – в негодовании не сдержалась Гуннхильд. – Ты ведь тоже вышла замуж таким же образом! Но поужинать собственными детьми твоему мужу нечего бояться – не скоро еще он хотя бы увидит детей от тебя!
– Что, Хлода, получила! – усмехнулась Ингер. – Так тебе и надо! Меньше будешь распускать свой злобный язык!
– Да что ты привязалась ко мне? – возмущалась Гуннхильд. – Что я тебе сделала?
– Женщины, которые пялят глаза на чужих мужей, никогда не получат своего!
– Я пялю глаза на чужих мужей! – Гуннхильд кровь бросилась в лицо от возмущения. – Ты соображаешь, что говоришь?
– Отстань от нее! – Ингер весьма ощутимо толкнула невестку в плечо, так, что та покачнулась и ударилась спиной о стену. – Это Харальд пялит глаза на нее, и уж не она виновата, если он у своей жены не находит того, что ему нужно!
– А ну-ка прекратите! – повернувшись, строго одернула их Тюра. – Что за свару вы затеяли прямо за столом, при мужчинах и гостях! Как не стыдно!
Спорщицы замолчали и уселись прямо, с застывшими лицами глядя перед собой. Три сидящие в рядок знатные молодые девы, красивые, нарядные и с детства приученные с достоинством держать себя на людях, могли бы сойти за юных норн, однако в душе каждой кипели чувства возмущения и неприязни.
– Однако, конунг, и правда нехудо бы расспросить этих людей, откуда они и нет ли в тех краях какой повальной хвори, – заметила Тюра своему мужу. – Ты знаешь, это бывает, люди бегут от болезни, а она едет у них на плечах.
– Эй, ты! – крикнул Горм бродяге, и многие, услышав голос конунга, обернулись посмотреть, к кому он обращается. – Да, ты, лоскутный человек!
– Теперь вижу, что ты желаешь говорить со мной! – Так точно обозначенный бродяга поднялся на ноги и почтительно поклонился Горму. – Ты, конунг, умеешь с одного взгляда подметить самое главное во всяком.
– Подойди поближе. Не слишком близко, а только чтобы я мог тебя слышать! – распорядился Горм.
Бродяга прошел между помостов, на которых стояли столы, мимо пылающих очагов на земляном полу. Сидящие за столами сторонились, чтобы не коснуться его лохмотьев.
На ходу он заметно хромал – видимо, его левая нога когда-то была перебита и неправильно срослась; одно плечо было выше другого. Вблизи он оказался еще безобразнее: обветренное лицо с левой стороны пересекал кривой, неровно заживший шрам, зубов слева не было ни на верхней, ни на нижней челюсти, полуприкрытый левый глаз тускло мерцал из-под века. Тем не менее выражение лица у нищего было оживленное, будто он полностью удовлетворен и собой, и окружающими.
– Стой там! – остановил его Горм, когда заметил, что Тюра сморщилась. – Отсюда нам тебя уже хорошо видно. Ну, ходячий мешок обрезков, как тебя зовут?
– Опять ты сказал почти правду, конунг! – Бродяга снова поклонился. – Зовут меня Кетиль, хотя в котел рта моего обычно бывает почти нечего положить, а прозвище мое Заплатка.
– Видать, немало дворов ты обошел, где сердобольные хозяйки давали тебе по обрезочку шерстяной ткани?
– Истинно, немало обошел. Мне на пользу пойдет и такая одежда, которую последний бедняк выбросит, посчитав негодной, а в Бьёрко случалось мне подбирать и те кисти, свитые из ветхого тряпья, которыми добрые люди смолят корабли. Моя дорогая дочь отстирывает их и пришивает, чтобы прикрыть старые кости своего отца от сурового зимнего ветра.
– А эта… э… девушка – твоя дочь?
– Сдается, ты сказал правду, конунг. Правда, ее матери я никогда не видал, а об отце и подавно разговора не было, тем не менее она моя дочь. Таким жалким людям, как мы, боги не посылают ни дома, ни родни, и если построить себе дом нелегко, то раздобыть родню гораздо проще.
– Короче, ты подобрал ее на куче отбросов на причале в каком-нибудь вике? – уточнил Харальд.
– Сдается, и ты сказал правду! – с самым благодушным видом подтвердил Кетиль. – О таких бедняках боги и люди не заботятся, чтобы обеспечить приличной родней, приходится нам позаботиться о себе самим.
– Как же зовут твою прекрасную дочь? – усмехнулся Горм.
– Как у всякого любимого ребенка, у нее много имен. Дочь моя мила и добра, но почему-то люди зовут ее иногда Осой, иногда Блохой, или Злючкой, иногда Колючкой или Занозой, иногда Грязнулей, или Замарашкой, или Оборванкой, или Неряхой, или Язвой, или Заплаткой, или Болячкой…
– Довольно! – остановил его Горм, опасаясь, что перечень будет продолжаться до утра.
– Вредина, Злючка, Колючка! – заметил Харальд. – Не очень-то похоже это на людские имена. Может, вы тролли – ты и твоя дочь?
По лицам людей за столами пробежала тень, послышался ропот. В самом деле, да люди ли они – этот бродяга, отвратительный на вид, наглый и неуместно разговорчивый, и его неприветливая дочь, будто вылезшая из холодной могилы погреться у людского очага.
– Уж не колдуны ли они? – заговорили вокруг, и Тюра брезгливо поморщилась.
– Гнать их отсюда!
– Бросить в воду!
– Давайте поднимем ей подол и посмотрим, нет ли там хвоста! – весело предложил кто-то из хирдманов.
Чьи-то руки потянулись к оборванному платью девушки. Похоже, оно было перешито из мужской рубахи и тоже усеяно заплатами, как осенняя земля палыми листьями; короткий подол она надставила, судя по виду, обрезками старых мешков.
Девушка отпрыгнула, отмахнулась тонкой рукой, похожей на сухую ветку, оскалила зубы, будто настоящая нечисть.
– Нет, нет! – крикнула Тюра. – Я запрещаю! Не желаю видеть такую мерзость, даже если у нее и правда есть хвост.
– Что ты скажешь на это? – обратился Горм к Кетилю. – Не колдуны ли вы или тролли? Если так, то мне придется отказать вам в гостеприимстве.
– Нас уже проверяли, – спокойно заверил Кетиль. – И меня, и мою дочь достаточно часто били, и было неоспоримо установлено: кровь у нас красная, как у всех обычных смертных.
– Тебе не откажешь в присутствии духа, – заметил Горм.
– Чем богаты, тому и рады! – развел руками Кетиль.
– Зачем пачкать кровью пол в доме? Я бы лучше надел им по мешку на голову, да в воду, – добавил Холдор. – Уж это средство проверенное.
– Как тебе будет угодно, ярл. – Кетиль поклонился и ему. – А нам бояться нечего. Христос, сын Марии, обещал, что такие, как мы, после смерти получат большие владения на небесах, и уже навсегда. Поскольку здешняя наша жизнь незавидна, тот, кто поможет поскорее ее окончить, окажет нам добрую услугу.
– Да вы еще и христиане? – изумился Харальд.
– Конечно! – оживленно подтвердил Кетиль, будто иначе и быть не могло. – Я крестился четыре раза, а дочь моя молода и успела только дважды. И каждый раз для начала нас водили в баню, говорили нам разные хорошие слова, потом кормили досыта, а главное, давали по хорошей новой рубахе, так что если представится возможность, мы с удовольствием покрестимся еще!
Многие засмеялись при этих словах. Харальд тоже усмехнулся и бросил взгляд отцу: дескать, помнишь, о чем я говорил? Горм остался серьезным: видимо, слова бродяги заставили его задуматься о чем-то своем.
– Однако, хотя Христос сильный бог, мы не забываем и других – Одина, Фрейра, Тора и прочих, – продолжал Кетиль. – И если мы попадаем в богатую, или даже не очень богатую усадьбу на пир и нам предлагают костей от жертвенного мяса или хотя бы дают обтереть корочкой котел из-под него, мы никогда не отказываемся, никогда!
– Даже в пост? – усмехнулся Харальд.
– Поститься нам приходится часто, притом независимо от своего желания, так что Христос не обидится, если мы понюхаем мяса в тот день, когда будет возможность. Он ведь очень добрый бог и жалеет бедняков.
Однако эти шутки настроили гостей конунга на снисходительный и благодушный лад, и принадлежность бродяг к роду человеческому приняли на веру.
– Ты, стало быть, прибыл из Бьёрко? – вспомнил Горм.
Бродяга поклонился в знак согласия.
– Что же за корабль такой пошел в это время по морю? – недоверчиво спросил Харальд.
– Прости, не могу ответить на твой вопрос. – Оборванец развел руками. – Может, хозяин его и говорил свое имя, а может, не говорил, но в моем дырявом старом котелке оно не задержалось. Да и к чему – я не буду вести с ним торговых сделок, ибо могу предложить лишь мудрость, накопленную в долгом пути по дороге жизни, а ее покупают так неохотно!
– Да он мудрец! – восхитился Горм. – Редко услышишь такие складные речи от бродяги. Может, ты еще и стихи слагаешь? Ты часом не скальд?
– Может, я и скальд, если скальдом называют того, кто слагает стихи.
– И что же это за стихи? – Горму давно не случалось так позабавиться.
– Как порядочный и учтивый гость, я готов сказать хвалебный стих хозяину дома, если ты позволишь.
– А он весьма самоуверен! – удивился Кнут. – Вот так скальд? Из какой помойной ямы ты вынырнул?
– Отчего же нет? – все же с некоторым сомнением ответил Горм. – Пожалуй, я разрешу тебе сказать твой стих.
Злобный зверь желудка Дом души терзает. Раздаватель крепких корок Не пропустит чашу скальда! –с видом скромного достоинства произнес бродяга, протягивая к Горму свою чашку и рисуя как свой голод, так и надежду на гостеприимство хозяина.
Для тебя, владыка данов, Лось лесов дешевле сельди. Светом вод мне мнится Хвост клинка котельна.– Клинок… котельный? Клинок котла? – удивился Горм. – Я слышал немало стихов, но не берусь разгадать этот кеннинг.
– Но ведь часто скальды зовут меч рыбой крови или змеей ран, – пояснил беззубый скальд. – А значит, можно назвать и селедку клинком котла.
– Не сказал бы я, что этот стих безупречен, – проворчал Горм.
– Эти стихи, как его рубашка и обмотки, все из разных обрезков и обносков, не подходящих один к другому! – Харальд усмехнулся и качнул головой. – Чужих причем.
– Ты опять увидел самую суть! – Кетиль по прозвищу Заплатка поклонился Харальду. – Каков скальд, таков и стих. Но заметь, конунг: хоть стих мой и неказист, не часто знатные люди слышат такие искренние восхваления и надежды, идущие от самого сердца! – И он снова поклонился, словно невзначай протягивая к Горму свою берестяную миску.
– Все скальды очень искренни в надежде получить что-нибудь за стихи! – засмеялся Кнут. – Просят ли они золотых колец или селедочных хвостов.
– Ну уж селедочный хвост за такой стих можно дать, хоть и не думаю, что у меня сильно прибавится от него удачи, – решил Горм.
– Зато у меня заметно прибавится удачи, если я получу селедочный хвост от самого конунга!
– По крайней мере, он не старается казаться лучше, чем есть, – заметила Тюра, делая знак служанкам исполнить это скромное желание. – Но ты лучше скажи, нет ли в Бьёрко какой-нибудь болезни? Почему ты уехал оттуда, да еще зимой?
– Позвал меня в поход через зимнее море самый могущественный конунг из всех, кто только есть на свете.
– Кто же это? – Горм поднял брови.
– Имя ему – Голод, а жена его, королева, зовется Нуждой. Ибо любого человека, кто бы он ни был и где бы ни жил, эти король и королева имеют власть сорвать с места и погнать на край света.
– Не откажешь этим словам в справедливости! – Горму все больше нравилось беседовать с бродягой. – Эй, дайте ему пива! Не годится, чтобы такая мудрость изливалась из сухой глотки.
– Так мне хотелось бы знать наверное, что у этих короля и королевы сейчас нет дочери по имени Болезнь, – настаивала Тюра.
– Не могу ручаться, что все люди в Бьёрко здоровы, но не более и не менее, как всегда.
– Неужели там стали плохо подавать?
– В Бьёрко, того и гляди, не началась бы война. Эта дочь нередко родится у короля Голода и жены его Нужды, и никому неохота попасть ей под руку. К знатным людям Война бывает милостива, посылая к ним тех своих детей, что зовутся Славой, Добычей, Наградой, а вот к бедным людям приходят иные дети ее – что зовутся Разорение, Холод и Смерть.
– Но кто с кем собирается воевать в Бьёрко? – задал вопрос Харальд, пока остальные представляли себе вереницу этих царственных особ.
– Старый конунг Бьёрн совсем почти что рассорился со своим сыном Олавом. К ним приехал в гости другой конунг, их дальний родич, тоже Олав, и просил о помощи, и вот они никак не могут решить, оказывать ее или нет. Молодой конунг стоит за то, чтобы оказать, а старый – за то, чтобы не лезть в чужую драку.
Гуннхильд ахнула, все в гриде обратили взгляд к ней. Ее отец! Впервые за много месяцев она услышала что-то о нем. Он в Бьёрко, и конунг шведов не хочет ему помочь!
– Хм! – Горм тоже глянул на девушку. – А не знает ли Олав о том, что его мать и дочь находятся у меня в доме? Хотя бессмысленно спрашивать об этом такого вшивого мудреца…
– Ты прав, конунг, на пирах Бьёрна мне обычно доставалось место так далеко от почетных, что я не могу сказать ничего об этом.
– Тогда, пожалуй, нам не о чем с тобой больше говорить.
Горму надоела эта беседа. Тюра кивнула управителю, Кетиля с дочерью отвели в уголок и положили им по полной миске каши, сопроводив ее большим куском хлеба. Весь остаток вечера Кетиль кланялся, сидя на приступке, каждый раз, когда ему казалось, что конунг поворачивается в его сторону. Правда, Горм больше ни разу на него не взглянул и, похоже, забыл о бродячем мудреце.
* * *
Но Горм лишь сделал вид, будто забыл о бродяге. Назавтра он послал поискать в ближней округе корабль и людей, которые привезли Кетиля Заплатку. Уже то, что корабль пристал где-то в другом месте и его хозяин не явился в Эбергорд, казалось подозрительным и Харальду, и Холдору Могучему.
Долго искать не пришлось. Пришедший из Бьёрко корабль – снека на двадцать весел – объявился в ближайшем соседстве, в усадьбе Гестахейм, у Фроди Гостеприимного, человека хорошо известного и вполне надежного. Узнав об этом, Харальд не поленился самолично съездить в Гестахейм, чтобы посмотреть на отважных зимних мореходов.
Хозяином снеки оказался готландец по имени Бергрен: крепкий мужчина лет пятидесяти, с полуседой бородой, рассудительный по виду, державшийся спокойно и с достоинством. Прослышав о том, что с ним хочет увидеться сын конунга, он вышел, одевшись как следует: в льняной рубахе с отделкой из красного шелка, в зеленом шелковом кафтане с нашитыми на груди полосками тесьмы, серебряными пуговками. Серебряная цепь с подвеской «молоточком Тора» говорили о том, что в своем деле он удачлив.
– Судя по одежде, ты бывал на Восточном пути, – заметил Харальд.
– Это правда, конунг, – кивнул Бергрен. – От Готланда всего несколько дней дороги до Альдейгьи, если повезет с погодой, и я бываю там почти каждый год.
– Что же тебя занесло в наши края?
– Там, в Гардах, хороший спрос на мечи. За клинки рейнской работы можно немало выручить. Думаю закупить их да отправиться туда этим же летом.
– Что же ты не пришел к нам в Эбергорд? Многим будет любопытно послушать про Гарды, – сказал Харальд, вспомнив, как совсем недавно они с отцом и приближенными говорили о судьбе гардских Инглингов. – Ведь, я слышал, в Гардах правят потомки Ратбарда и Рандвера, того, что был единоутробным братом Харальда Боевого Зуба.
– Когда-то в Альдейгье действительно правили люди из этого рода, но последний из них умер еще до того, как я попал туда впервые. Правда, я видел его курган, и столь великих мало найдется даже в Северных Странах.
– Кто же там правит сейчас?
– В Альдейгье власть часто меняется в последние десятилетия. Был там один датчанин, Хродрик, и вроде говорили, что он из родичей Харальда Ворона, что правил одно время в Хейдабьоре, а потом во Фризии. Потом был еще один вождь, Хельги, тоже, как говорят, из датских Скъёльдунгов. У него не осталось сыновей, и наследовал ему сперва внук, тоже Хельги, а потом один родич, Ингейр или Ингвар, муж племянницы старшего Хельги.
– А куда же делся Хельги-внук?
– О нем ничего не слышно в последние годы. Может, он убит, а может, изгнан. Я не знаю точно и не хотел бы ввести тебя в заблуждение. В Кенугарде его не надо – тот Ингвар правит не один, а совместно со своей женой и даже сыном, хоть тот еще почти дитя.
– Это весьма любопытно. Мы были бы рады, если бы ты заехал вечером к нам в Эбергорд.
– Благодарю за приглашение.
– А долго ты пробыл в Бьёрко? – спросил Харальд, не желая упустить случай выведать что-то прямо сейчас.
– Нет, всего пару дней.
– Видел Бьёрна-конунга?
– Нет, я не был на Адельсё.
– Верны ли слухи, будто Бьёрн-конунг поссорился со своим сыном Олавом из-за ютландских Инглингов, из-за Олава Говоруна?
– Не знаю ничего об этом. – Бергрен покачал головой. – Но в Бьёрко вроде бы все спокойно. Кто тебе рассказал?
– Да тот бродяга, что ты привез.
– А, этот нищий мудрец, весь составленный из лоскутков и заплаток! – Бергрен рассмеялся. – Да, я взял его с собой.
– Неужели он заплатил за перевоз?
– Чем же он может заплатить – разве что парочкой вшей! Нет, я довез его бесплатно. У меня такой обычай: если нищие просят помочь им добраться куда-то и у меня есть для них место, я всегда беру одного-двух. А эта его дочь весит, как курица, и места занимает не больше!
– Странный обычай! Ты, видимо, очень добрый человек. И не боишься, что стянут что-нибудь?
– Говорят, в каждом нищем к нам приходит сам Господь и кто помогает нищему, тот помогает Богу, а уж Бог в долгу не останется – воздаст если не в этой жизни, то на небесах. И я думаю, если у меня на корабле будет парочка нищих, то Господь побережет корабль – если не ради меня, ибо все мы грешны, а ради нищих, ибо они всегда блаженны.
– Да ты христианин! – сообразил Харальд, кстати приметив на серебряной цепи Бергрена небольшой бронзовый крест ирландской работы, до того прятавшийся под «молоточком Тора».
– Особенно когда нищие – тоже христиане, – кивнул Бергрен. – Эти «хирдманы Христа» любят путешествовать – когда на старом месте примелькаются и хозяевам наскучат их байки.
– А никто из тех, кто с тобой приехал, не знает ли о Олаве побольше?
– Да со мной почти никого и не было. Кроме моих людей и той пары побирушек, я привез только кузнеца с двумя подручными, он ищет работу. Да и все. Ты же видел мой корабль – на нем особо много не увезешь, поэтому я предпочитаю такой груз, какой занимает не слишком много места.
На этом Харальд и распрощался с готландцем. Тот вскоре приехал в Эбергорд и немало порадовал Горма и его гостей рассказами о Гардах, о событиях в той стране и разных товарах, которые перевозятся туда и оттуда. Зашла речь о мечах, которые Бергрен хотел купить: хирдманы и гости Горма стали хвастаться своими мечами, их клинками и богатой отделкой. Кнут показал меч, который раздобыл в последнем бою перед виком Хейдабьор, взяв у убитого противника: он и впрямь был хорош, старинной работы, даже с крупной мозаичной бусиной, вделанной в рукоять. Такие бусины издавна были известны и назывались «волшебными камнями». Возможно, когда-то давно вместо них и правда использовались драгоценные камни, и считалось, что прикосновением такого камня можно исцелить рану, нанесенную клинком.
– Но ведь такие вещи дорого стоят, да и у франков запрещено продавать клинки иноземцам, – заметил Горм. – Ты, должно быть, привез очень много серебра?
– Я привез кое-что получше! – улыбнулся Бергрен. – Я ведь бываю на Восточном пути и прошлым летом привез очень хорошие меха – куньи, бобровые, даже собольи шкурки из Бьярмии. На них у франков и саксов очень хороший спрос, и ради того, чтобы раздобыть их, они готовы даже обманывать собственных королей. Ведь я не ошибаюсь, святой отец?
– Это правда, – с опечаленным видом вздохнул епископ Хорит. – Многих христиан эти знаки мнимой земной славы нередко ослепляют, приводя в безумие.
– Я не располагаю продавать эти меха здесь, но, может быть, девушкам любопытно будет взглянуть на них. – Бергрен с улыбкой посмотрел сперва на Ингер, потом на Гуннхильд, как ей показалось, особенно пристально. – Они могли бы заехать в ближайшие дни к моему другу Фроди, пока я еще здесь.
При этом он едва заметно кивнул Гуннхильд – а может, ей показалось. Потом он будто невзначай опустил руку на рукоять висевшего на боку скрамасакса – меча он не взял с собой, направляясь в гости к конунгу. Никто ничего не заметил, а Гуннхильд проследила за его рукой и вдруг застыла. Скрамасакс был самый обыкновенный, но шнур, на котором он крепился к поясу! Этот шнур из красной шелковой пряжи она знала очень хорошо, ибо сама его плела. Чтобы совместить красоту и прочность, внутри он был свит из крепких льняных нитей, а сверху одет в шелк. Не далее как прошлой весной она сама его сделала и подарила своему брату Рагнвальду…
Его ли был скрамасакс, Гуннхильд не бралась решить – рукоять и отделка ножен ничем особо не выделялись. Однако насчет шнура она не сомневалась, свою работу ведь всякий узнает. Но как он мог попасть к готландскому торговцу мехами? Похолодев от волнения, она подняла глаза к лицу Бергрена. Это мог быть или очень дурной знак – если скрам сменил хозяина после гибели ее брата, – а мог быть и очень добрый. Но Бергрен остался невозмутим – лишь пристальный взгляд его убедил Гуннхильд, что все это не случайно, он хотел, чтобы она узнала шнур!
Однако он явно не хотел, чтобы она задавала вопросы. И Гуннхильд постаралась остаться такой же невозмутимой, ничем не выдать того, что между нею и торговцем завязался свой особый разговор.
– Как бы я хотела посмотреть эти меха! – воскликнула она и бросила прельстительный взгляд Кнуту, намекая, что раз уж он сватается к ней, ему скоро понадобятся хорошие подарки.
К счастью, именно сейчас Горм смотрел на нее и заметил этот взгляд.
– Ну что же, я думаю, не будет вреда, если женщины съездят в Гестахейм и посмотрят на эти сокровища, отнятые у диких великанов из Бьярмланда, – засмеялся он. – Кнут, ты ведь согласишься проводить твою сестру и не… нашу дорогую гостью?
– С удовольствием съезжу! – ухмыльнулся Кнут. – Я где-то слышал, что дорогие меха считаются очень хорошим свадебным даром, и как знать, вдруг кому-то из нас это скоро понадобится?
– Ну, если кому-то из семьи конунга скоро могут понадобиться свадебные подарки, то я, пожалуй, уступлю часть моих запасов! – воскликнул Бергрен.
– Я тоже, тоже поеду! – закричала Ингер. – Давненько нам не привозили хороших мехов!
– Я с вами, – сказал Харальд.
При этом он смотрел на Гуннхильд, видимо, думая, что не то гостью, не то пленницу не следует выпускать из усадьбы без должного присмотра, а на брата, похоже, не очень в этом полагался.
– И я хочу поехать! – тут же заявила Хлода, бросив недовольный взгляд сперва на Харальда, потом на Гуннхильд.
Если Харальд не хотел оставлять без присмотра дочь Олава, то Хлода – своего мужа.
Собралась целая дружина, и Гуннхильд это вовсе не радовало. Если Бергрен хочет сообщить ей нечто тайное насчет брата, то нелегко будет это сделать при всей семье Горма с хирдманами! Но делать было нечего.
Весь остаток вечера и ночь она ждала, не будет ли случая обменяться с готландцем парой слов, но ничего не вышло. Наутро после пира Бергрен уехал, условившись, что сыновья конунга с девушками приедут смотреть меха завтра. А Гуннхильд вспомнила о двух бродягах. Всего несколько дней назад эти люди если не видели ее отца и брата, то находились совсем неподалеку от них. Асфрид тоже была обеспокоена, хотя, собственно, они ничего нового не выяснили: и без Кетиля Заплатки все думали, что Олав где-то в Швеции, а получит он там помощь или нет, бродячий мудрец не знал. А стало быть, ни за договор, который Горм предложил Асфрид и Гуннхильд, ни против него новых доводов не появилось.
Наутро Гуннхильд тайком дала поручение Богуте: найти бродяг и расспросить, не знают ли те еще чего-нибудь. Видели они Олава или Рагнвальда, что об этом говорят в Бьёрко – словом, все, что можно выведать. Однако Кетиль Заплатка исчез вместе с Бергреном – видать, пошел проверить милосердие хозяев по окрестностям, и осталась только его тощая дочь. Велев не приближаться к нищенке на глазах у людей, Гуннхильд сама не знала, где служанке удалось ее застать, но уже к середине дня Богута шепнула, что дочь Кетиля просит Гуннхильд поговорить с ней – и тоже так, чтобы никто не видел.
Это было не так-то легко устроить: в усадьбе везде люди, а если Гуннхильд пожелает выйти прогуляться к морю или в роще перед Серой Свиньей, ей непременно дадут провожатых. И где это видано, чтобы дочь конунга гуляла вместе с нищей побирушкой? Ни в какую кладовку нищенку не пустят, а если заметят там, то нещадно побьют, сочтя воровкой.
Пришлось использовать единственное уединенное место, куда каждый мог отправиться, не вызывая подозрений, – отхожий чулан. Дощатое строение в углу двора, почти вплотную к частоколу, могло вместить сразу несколько человек, и Гуннхильд отправилась туда вместе с Богутой. Служанка встала на страже за дверью – следить, не идет ли кто-нибудь. Это было отхожее место только для женщин: королева Тюра приказала построить его после каких-то неприятных происшествий во время йольского пира.
Бродяжка уже ждала внутри – за ней-то никто не следил, Грим-управитель и служанки довольствовались тем, что незваные гости не вертятся возле съестных припасов. Строение освещалось оконцем над дверью да щелями в стенах, и Гуннхильд не сразу смогла разглядеть нищенку – та стояла в углу, в своей некрашеной мешковатой мужской рубахе совсем незаметная. О ее присутствии предупреждал разве что стойкий запах удушливой кислятины, от веку не стиранной одежды и тела, вероятно, не мытого почти столь же долго. Пол был усыпан свеженарезанным можжевельником – по приказу Тюры его меняли через день, чтобы отбить неприятный запах отхожего места, но сейчас и это мало помогало.
– Ты здесь! – охнула Гуннхильд. – Что ты стоишь там в углу, я тебя совсем не вижу. Подойди. Что ты там жмешься, будто и правда тролль от солнца.
Нищенка сделала короткий шаг, но ближе не подошла. Пришлось Гуннхильд сделать несколько шагов к ней, но нищенка попятилась и снова вжалась в угол.
– Надо говорить тише, вдруг кто-то снаружи услышит! – зашептала Гуннхильд. – Не бойся, я же не буду тебя бить!
– Как знать, – шепнула нищенка, впервые открыв рот.
– Ты сама видела Олава-конунга?
– Нет.
– Но ты же просила со мной увидеться. Ты что-то знаешь, что может быть важно для меня? Говори быстрее, нас обеих не похвалят, если застанут здесь. Я дам тебе бусину.
– Давай! – Нищенка привычным движением протянула узкую грязную ладошку.
– Успеешь! Я не буду здесь в темноте возиться развязывать ожерелье.
– Ты пока развязывай, а я скажу. Я знаю одних людей, они, может быть, будут возвращаться назад в Бьёрко.
– Кто-то сможет передать весть моему отцу? Это Бергрен?
– Не знаю. Может, он, а может, и нет. Но эти люди, может быть, увидят твоих родных. Если увидят, что они могут им сказать? Ты и твоя бабка живете здесь в плену или вы сами так захотели?
– Я не в плену, мы с Асфрид сами решили поехать к королеве Тюре, чтобы нас не взяли в плен!
– А в вашем доме уже эти люди? – Нищенка кивнула в ту сторону, где за стеной отхожего чулана располагался хозяйский дом.
– Да, они заняли Слиасторп, ведь его некому было защищать. Но потом ушли.
– И теперь конунг хочет взять тебя в жены, чтобы стать законным хозяином вашей усадьбы?
– Не конунг, а его старший сын.
– А ты хочешь вернуться к родным? Или выйти замуж?
– Я…
Гуннхильд растерялась: впервые ее вот так прямо спросили, чего хочется ей самой. Тем более странно, что это сделала не Асфрид, не Горм, а нищая бродяжка! Если думать о себе, то было бы совсем неплохо стать женой Кнута и королевой Дании, но это замужество сильно помешало бы ее родичам, и она не имела права так поступить по собственной воле.
– Я хочу вернуться к отцу и брату, потому что они имеют право распоряжаться моей судьбой!
– Тогда жди. Может быть, те люди что-то передадут тебе.
– Через тебя?
– Может быть. За мной никто не смотрит, куда я иду собирать корки и селедочьи хвосты. Давай бусину.
– Тебе ее даст моя служанка. И спрячь получше, чтобы никто не увидел!
– Эта твоя служанка может знать все, что знаешь ты?
– Да, я ей доверяю. Ее зовут Богута, она вендка.
– Я скажу ей. С тобой трудно говорить, не подойти близко.
– Хорошо, передай через нее.
И Гуннхильд поспешно покинула это не слишком благоуханное место, шепнув Богуте, чтобы тайком передала нищенке какую-нибудь бусинку. Это было для побирушки настоящее сокровище: хлеба или рыбы в обмен на стеклянную бусину дадут столько, что она не сможет унести, даже вместе со своим отцом, а питаться этим они смогут целый месяц.
И вот Гуннхильд снова сидела бок о бок с Ингер за прялкой, стараясь сохранять невозмутимый вид, но сердце ее отчаянно билось. Едва заметные намеки Бергрена, речи бродяжки – все это вместе означало, что Олав и Рагнвальд ищут способ связаться со своими женщинами и что-то сделать для их освобождения. Пока Асфрид с внучкой в руках Горма, Инглингам трудно что-то предпринять. И если они узнают, что Асфрид и Гуннхильд в Эбергорде, то именно сюда они и явятся с войском…
И что тогда? Даже если Олав придет с целой сотней кораблей, Горм сумеет выторговать себе любые выгодные условия в обмен на возвращение матери и дочери соперника живыми и здоровыми. А если переговоры зайдут в тупик, сперва убьет их, а потом будет сражаться. Все это может принести ей скорее гибель, чем спасение. Одна надежда на то, что отец тоже все это хорошо понимает.
* * *
Назавтра с утра была хорошая погода, совсем весенняя: сияло солнце, освещая первую зелень лугов. Родичи Горма ехали верхом, хирдманы шли пешком, распевая песни – Харальд взял с собой не менее десятка человек. Почему бы не дать парням прогуляться в хорошую погоду? Кому хочешь надоест за зиму глотать дым очагов. Оба брата тоже присоединились к пению, девушки смеялись и болтали, и дорога до Гестахейма пролетела незаметно. По пути Гуннхильд примечала, что Ингер особенно охотно смеется, когда глядит на Асгейра – молодого хирдмана из дружины Горма. И он тоже все поглядывает на нее. Понятное дело! Для молодых (да и не очень молодых) хирдманов хозяйская дочь, если она лицом получше троллихи, всегда – воплощение Фрейи, прекрасная и нарядная дева из сказаний. И очень многие из девушек, живя в одном доме с четырьмя-пятью десятками сильных отважных парней, рано или поздно находят одного, из-за кого сердце бьется чаще. Обычно из этого не выходит ничего хорошего – бабушка еще в детстве натвердила Гуннхильд это, а тетка Одиндис порассказала немало историй, когда девушка, не устоявшая перед удалью хирдмана, потом оставалась опозоренной и не могла найти достойного мужа или была вынуждена бежать с ним из дома и навсегда оборвать связи с родом. Гуннхильд, не желая себя потерять, никогда не приглядывалась к хирдманам отца и брата. А вот Ингер, похоже, скучая в ожидании замужества, не прочь поразвлечься с тем, что есть… Любопытно, что скажет этот гордец Харальд, если про его сестру пойдут нехорошие слухи… Гуннхильд покосилась на Харальда, но он увлеченно пел и, по всему виду, находился в самом веселом и беспечном настроении.
Сначала завернули к причалу посмотреть на готландскую снеку – разгруженная, со снятой мачтой и убранными веслами, она лежала на берегу, люди Бергрена рядом грели смолу на костре. Потом поехали в усадьбу. Смотрели меха – черные, бурые, мягкие и блестящие, похожие на коричневый шелк. Женщины восхищались, Кнут тоже проявил большое любопытство и сумел-таки выторговать мехов на два теплых женских кафтана – для Гуннхильд и Ингер в будущее приданое, как можно было понять по его кивкам и подмигиваниям. Харальд меха одобрил, но ничего покупать не хотел: сказал лишь, что и сам раздобудет не хуже. Хлода осталась без подарка, отчего ее лицо стало еще более недовольным. Время провели очень хорошо, но Гуннхильд не удалось даже близко подойти к Бергрену, не то что сказать ему хоть слово наедине.
И только когда уже собрались ехать домой, случилось нечто всеми прочими не замеченное, а для Гуннхильд перевернувшее небо и землю. Случайно оглянувшись, она вдруг заметила в толпе челяди, пришедшей посмотреть, как знатные гости прощаются и садятся на коней, высокого худощавого белобрысого парня. Увидев это лицо, Гуннхильд вздрогнула и вцепилась в гриву лошади. Хорошо, что Кнут, помогавший ей сесть в седло, еще не убрал руки, иначе она могла бы от потрясения свалиться прямо под копыта. В простой серой рубахе и с кожаным передником кузнеца, среди домочадцев Фроди стоял Халле Тощий, один из хирдманов ее брата Рагнвальда! Он появился в дружине не так давно, всего год назад, но Гуннхильд знала его достаточно хорошо, чтобы не ошибиться. Он стоял с самым непринужденным видом и даже не смотрел на нее, – казалось, больше всего его занимает Харальдова лошадь, – а Гуннхильд с трудом отвела от него глаза и заставила себя засмеяться – дескать, вот неловкая, чуть с седла не упала!
Когда выезжали со двора, она даже не оглянулась, но думала только о Халле. Как он попал сюда, в усадьбу возле самого жилища Горма? Случайно ли? Она не знала, кто из дружины отца и брата уцелел в их последней битве перед Слиасторпом; Халле, строго говоря, мог попасть в плен и таким образом очутиться среди челяди Фроди. Но тогда он не стоял бы так спокойно и не разглядывал чужую лошадь, а сам побежал бы к Гуннхильд, напомнил о себе, попросил о помощи… Он не мог забыть или не заметить сестру своего вождя, даже бывшего вождя, и тогда у него не было бы причин скрывать, что они знакомы.
А если он это скрыл… По всему выходило, что Халле и есть один из тех загадочных людей, на которых намекала нищенка – тех, кто собирается вернуться в Швецию и передать вести Олаву. Воодушевленная этой мыслью, Гуннхильд взволновалась, раскраснелась, глаза ее засияли, будто звезды, так что даже Харальд не раз и не два бросил на нее увлеченный и одобрительный взгляд.
И от этого она почему-то воодушевилась еще сильнее. О дорогих мехах, предназначенных для ее же свадебного дара, она не думала, но была очень довольна минувшим днем.
Хирдманы Харальда, шагая позади, громко пели.
* * *
После этой поездки Гуннхильд держалась настороже, постоянно ожидая вестей. Стоило кому-то пройти мимо, заговорить – и она поднимала голову, прислушиваясь. Днем Тюра и ее дочь пряли шерсть в гриде, и Гуннхильд присоединилась к ним, чтобы не пропустить, если кто-то появится. В глубине души она ждала, что Бергрен снова приедет.
У двери сидели бродяги – сколько-то их постоянно толклось в Эбергорде, как во всякой усадьбе, где хозяева подкармливают нищих. Завидев среди них Кетиля Заплатку и его тощую дочь, Гуннхильд подослала туда Богуту, якобы поболтать о дальних странах. А увидев, что через какое-то время к бродягам подсел епископ Хорит, пошла туда и сама – поучаствовать в беседе с епископом, знатным и ученым человеком, послом от короля саксов, было не зазорно даже конунговой дочери. Епископ, конечно, сидел не на полу, а на скамье, но все же, одетый в дорогое франкское платье золотисто-коричневого шелка, производил весьма странное впечатление среди бродяг, закутанных в серо-бурое грязное тряпье.
– Приветствую тебя, госпожа! – Епископ обрадовался, когда Гуннхильд подошла и остановилась рядом, будто в нерешительности. – Не хочешь ли принять участие в нашей беседе, для меня это первое удовольствие. Расступитесь, дети мои, дайте сесть госпоже! – снисходительно прикрикнул он на своих оборванных и вонючих «детей».
Те расползлись по сторонам, давая Гуннхильд пройти к скамье на помосте.
– Боюсь, не слишком ли ваша беседа окажется умна для такой девушки, как я! – улыбнулась Гуннхильд и села, подобрав подолы, чтобы не касаться своих «собеседников». А то потом вшей не оберешься.
– О нет! – заверил епископ.
Это был еще не старый человек – лет сорока, с румяным живым лицом, гладко выбритым, что делало его вид очень непривычным и странным среди бородатых мужчин-норманнов. К тому же голова его тоже была выбрита, только по кругу выше лба оставалось нечто вроде кольца из волос. Такая прическа Гуннхильд казалась очень смешной.
– Мы говорим о самых простых вещах, доступных разумению любого из этих добрых людей. – С улыбкой Хорит показал на нищих на полу, и в этом мягком движении была и забота, и снисходительность. – Учение Господа нашего Иисуса Христа очень просто, ведь оно предназначено для них. Но ты должна кое-что знать об этом – твоя мать ведь была христианка? И твой дед Олав тоже, и отец, вероятно, был крещен. Девушку из рода Луитпольдингов Баварских не отдали бы замуж за язычника.
– Да, они были крещены, и мать моя часто посещала церковь в Хейдабьоре, когда там был священник. Но в нашем доме всегда проводились жертвенные пиры, ведь конунгу нельзя пренебрегать этим. Если он не будет почитать богов, а боги не пошлют урожая, приплода скота, улова рыбы, мира и благополучия стране, такого конунга народ долго терпеть не будет. Многие конунги убедились в этом на опыте.
– Это потому что власть свою они получили не из тех рук, – усмехнулся епископ. – Кому власть дает сам Бог, он даст и все остальное. Это большое заблуждение – думать, будто только Донар и Вотан способны послать людям хлеб, рыбу и скот. Христос – единственный, кто может даровать все, в чем у нас нужда. Христова вера дарует блаженство людям, и не важно, богаты они или бедны, знатные они хёвдинги, даже короли, или последние из нищих.
Епископ кивнул на Кетиля, который, в своей рубахе, составленной из одних заплат, хромой и кривой, был просто ходячим воплощением житейского неблагополучия.
– Сколь бы ни был человек беден, болен, гоним – никогда не иссякнет в душе его блаженство, если сильна в сердце Христова вера. Такие люди – свет для мира и соль земли, пусть даже внешне они вот такие! – Хорит развел руки, будто обнимая своими шелковыми рукавами бродяг в вонючих обносках. – Спасение рода человеческого свершилось через самоумаление и смирение Господа Иисуса. Уничижил Он сам себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек. И смерть Он принял, будто преступник, среди воров и разбойников, на кресте, чтобы спасти грешный мир.
Гуннхильд нахмурилась, не очень понимая, что все это значит. На лицах бродяг, обветренных и отупевших от вечной нужды и страха, отражалось какое-то животное воодушевление, будто мысленно они видели себя, таких, какие есть, сидящими где-то среди света, совсем рядом с богом, который сам пожелал стать подобным им, чтобы сделать их подобными себе.
– Ты правду сказал о том, что Христос любит бедных людей, – вставил Кетиль Заплатка.
При этом он взглянул на Гуннхильд, и от взгляда его выцветших серых глаз ее пробрала дрожь. Ничего угрожающего в его взгляде не было, наоборот, эти глаза дышали внешним простодушием и смирением. Но во всем облике этого человека – в потемневшем обветренном лице со шрамом и полуопущенным веком, с перекошенным беззубым ртом, этой рубахе, на которую пошло не менее полусотни обтрепанных лоскутов и обрезков, – сквозило нечто, заставлявшее сомневаться, человек ли он вообще. Его легко было принять за тролля из-под холма. Или скорее из кучи отбросов. Гуннхильд сжала зубы, чтобы сдержать дрожь и не выдать страха, сцепила пальцы и поежилась.
– Всякое сословие имеет своего покровителя среди старых богов, – рассудительно продолжал Кетиль. – Сам Один любит воинов, конунгов и скальдов, Тор помогает земледельцам, Ньёрд дает удачу мореходам, рыбакам, морским охотникам, торговцам, Видар тоже помогает на охоте, Фрейя и Фригг помогают хозяйкам, матерям и рукодельницам. Даже у скальдов есть свой бог – Браги. Мы, бедняки, смогли бы обрести себе божественную хозяйку только после смерти, попав в палаты Хель, но и там нас ждало бы все то же – холод, голод и болезнь. В палаты Валгаллы нас никогда не впустят, ведь разве может бедный человек умереть с мечом в руке? Меч знатного человека стоит больше денег, чем нам удается повидать за всю жизнь, продолжайся она хоть пятьдесят лет. Даже от меча нам удается умереть редко – велика честь! Рабы и бедные люди, такие как мы, не нужны старым богам и не имеют своего покровителя. Вот Христос и есть наш покровитель и защитник, поящий и кормящий голодных, и Он даст нам после смерти жизнь гораздо лучше той, что мы видим здесь.
В это время в гридницу вошел Холдор Могучий; проходя мимо, он досадливо пнул кого-то, кто не успел убраться с его пути. Приблизившись к своему месту возле конунга, хёвдинг продолжал брезгливо морщиться.
– Что там такое? – спросил Горм. – Чем тебя рассердили эти бродяги? Я мог бы приказать выгнать их всех, но я вижу, они милы нашему дорогому гостю, епископу.
– Не сиди там, Гуннхильд, а не то наберешься этой вони, и жених тебя разлюбит! – весело крикнула Ингер.
– И вшей заодно! – добавила Хлода.
– Эти нищеброды разносят свои бредни вместе со вшами и прочей заразой, тролли б их всех взяли! – выругался Холдор.
– Какие бредни?
– Да про своего нового бога! У голытьбы теперь есть свой собственный бог. Ты слышал когда-нибудь такое, конунг?
– А, ты говоришь о Христе, сыне Марии!
– Я? – Холдор почти оскорбился. – Я и не думаю о нем говорить! А вот иным больше не о чем! – Он выразительно потыкал пальцем в сторону двери. – И я бы не советовал тебе, конунг, привечать разносчиков этой заразы, а то скоро от них не будет проходу! Сейчас епископ учит жить твоих рабов, всякого дерьма нальет им в уши! Если дальше так пойдет, то он попытается начать учить жить и тебя самого!
– Эй! – Горм хлопнул в ладоши. – Позовите сюда епископа!
– Ты хотел говорить со мной, конунг? – учтиво осведомился Хорит.
– Люди говорят, ты учишь жить моих рабов. Хотелось бы мне знать, про что ты такое с ним толкуешь и чего мне от этого ждать?
– Не выйдет для тебя ничего худого, конунг, если я поведаю твоим людям о Господе нашем Иисусе Христе, – улыбнулся Хорит. – Наоборот, вера Христова приносит людям величайшее благо, как бедным, так и знатным и могущественным.
– Какое же добро она может принести знатным людям? – недоверчиво хмыкнул Горм. – Всем известно, что Один дает нам удачу в сражениях, добычу и славу, а что еще нужно достойному человеку?
– Все это бредни! – отрезал Холдор. – Я уже немало этого слышал от разных там… – Он бросил на епископа недобрый взгляд, но тот остался совершенно невозмутим. – Они ж толкуют, что искать славы и добычи плохо – того, кто заботится о своей чести и богатстве, этот их бог хочет наказывать.
– Но…
– Помолчи пока! – рыкнул старый хёвдинг. – Я слышал, что ты говорил! Последние, дескать, станут первыми, на небе эти вонючки сядут выше знатных хёвдингов! Спрашивается, зачем им сейчас повиноваться конунгам, если бог все равно их не ценит?
– Ты слишком мало услышал из моих речей, – терпеливо поправил епископ. – Отцы святой церкви Христовой учат, что всякая власть от Бога, а значит, неугоден Богу тот, кто не повинуется тем, кто над ним поставлен – то есть конунгу и преданным ему хёвдингам. Наоборот, заслуга и добродетель бедных и простых людей в том, чтобы во всем повиноваться своему конунгу, а если что-то идет не так, как им хочется, то за всякое утеснение и нужду в земном мире Господь воздаст им в жизни будущей и вечной! Теперь ты сам видишь, конунг, что земным властителям в их деяниях Христова вера несет добро и помощь, и многие короли, что уже приняли Христову веру, далеко не так глупы, как может показаться на первый взгляд.
Когда епископ отошел на зов Горма и между ними началась беседа, Гуннхильд почувствовала, что кто-то легонько тянет ее за подол. Обернувшись, она увидела дочь Кетиля – та подползла и села рядом на полу, сжавшись в комок и будто стараясь стать как можно более незаметной.
– Сегодня в полночь! – прошептала, почти выдохнула она, и Гуннхильд едва разобрала ее слова. – Приходи за отхожее место.
– Зачем?
– Там будет человек твоего брата. Ты видела его вчера.
– Халле? – шепотом ахнула Гуннхильд.
– Не знаю, как их зовут. Твой брат и два его человека живут в том доме, где ты вчера была, они приехали с нами, на том же корабле. И он увезет вас ночью.
– Мой брат здесь? – Гуннхильд едва удержалась, чтоб не зажать себе рот ладонью.
– Да, он приехал за тобой. Ты выйдешь сегодня ночью за отхожее место, человек перелезет частокол и поможет тебе. Там снаружи будет ждать твой брат. И вы уедете.
Вести эти вызвали в душе Гуннхильд и радость, и надежду, и тревогу.
– Но я… А бабушка? А королева Асфрид? Как же я ее брошу?
– Не знаю. Говори об этом с твоим братом. Он велел передать тебе, чтобы ты выходила в полночь к отхожему месту. Больше я ничего не знаю. И так, если узнают, что мы помогаем вам, нам с отцом наденут по мешку на голову и утопят. Или повесят. Или затравят собаками.
– Но ты можешь пойти к нему и передать от меня кое-что? – Гуннхильд в волнении едва не схватила нищенку за тощую грязную руку, но сдержалась: в гриде было полно народу, но, на их счастье, богословская беседа еще продолжалась.
– Могу.
– Иди прямо сейчас и скажи, чтобы мой брат сам пришел туда, за отхожее место! Я должна сначала поговорить с ним!
– Это ваше дело. Мы передадим.
В волнении Гуннхильд встала и торопливо пошла в женский покой. Пока Тюра с дочерью и невесткой следили за беседой, здесь сидели только Асфрид и служанки. Подсев к бабушке, Гуннхильд шепотом на ухо рассказала ей обо всем. О том, что Гуннхильд вчера видела Халле Тощего, Асфрид уже знала. Теперь они обе убедились: вовсе не случайно он здесь появился!
Выслушав внучку, Асфрид какое-то время сидела молча. В полутьме покоя не было видно, как она побледнела, но Гуннхильд заметила, что бабушка переменилась в лице.
– Он здесь… – Асфрид сжала ее руку, и Гуннхильд почувствовала, что пальцы бабушки дрожат. – Приехал за тобой… всего с двумя людьми, на чужом корабле… Рагнвальд… ведь он почти последний мужчина в нашем роду!
– Ты думаешь, ему не стоило ради меня ставить себя под удар? – без малейшей обиды или себялюбия так же шепотом отозвалась Гуннхильд.
– Нет, стоило. – Бабушка кивнула. – Они с Олавом понимают, что через тебя, если ты останешься у Горма, могут навсегда потерять все права на Слиасторп.
– Но я не хочу уезжать без тебя!
– Мне нечего бояться. Меня не выдадут замуж! – Асфрид нашла в себе силы усмехнуться, но Гуннхильд видела, что она тяжело дышит. – И даже если мне придется умереть, это не большая беда. Я и так зажилась на свете. А ты еще можешь родить много сыновей, которые, если будет надобность, отомстят за обиды, нанесенные твоему роду. Главное, чтобы ты выбрала им достойного отца и правильно воспитала их. Ты должна любой ценой избежать рабства и бесчестья. Ты и Рагнвальд – последняя надежда ютландских Инглингов.
– Ты думаешь, я должна бежать с ним?
– Да. Должна. Передо мной, когда я была девушкой, не было другого пути: все мои родные умерли. Я оставалась одна, и только через меня мой род мог быть продолжен, пусть и в слиянии с родом Инглингов. Но тебе еще не отрезан другой путь. Я тогда могла позаботиться только о чести мертвых, а ты должна заботиться об участи живых. Жив твой отец и твой брат, у них еще могут быть дети. Ты должна бежать от Кнютлингов, чтобы не дать им прав на наши владения. И лучше тебе будет умереть, если не останется другого выхода, – голос Асфрид упал до еле слышного шепота, но она сказала то, что должна была сказать. – Ты правильно сделала, что велела Рагнвальду самому прийти за тобой. Мы сейчас в таком положении, что даже хирдманам не стоит доверять.
– Ты имеешь в виду, что Халле может оказаться предателем?
– Да. Мы ведь с тобой не знаем, как он попал сюда, то есть знаем только со слов нищенки, у которой даже имени человеческого и то нет! Может быть, никакого Рагнвальда здесь и не было.
– Но кому может понадобиться такой обман?
– Да хотя бы Харальду! – Асфрид склонилась к самому уху внучки, чтобы служанки, работавшие поодаль, не разобрали этого имени. – Он не любит нас с тобой, и особенно тебя! Я – старая женщина, я уже ничего не могу сделать, только умереть более или менее достойно. А вот ты можешь еще очень многое – найти мужа, который станет нашим союзником, родить сыновей. А если ты выйдешь за Кнута, то станешь королевой Дании и хозяйкой над самим Харальдом, ведь он всего лишь младший сын! Он боится, что после твоей свадьбы и смерти Горма – он тоже прожил уже достаточно! – ты уговоришь Кнута отдать Слиасторп твоим родичам или детям, и тогда Инглинги возродятся и отнимут часть страны, которую он хотел бы видеть своей! И он мог бы подстроить этот побег, а потом убить тебя, якобы случайно, пытаясь задержать. Ему нетрудно это устроить, нанять кого-нибудь… Ты пойдешь только с Рагнвальдом. И я пойду туда с тобой, чтобы убедиться, что нас не предали.
* * *
Остаток дня Гуннхильд просидела как на иголках, и все ее силы уходили на то, чтобы сохранять невозмутимый вид. Правда, поддерживать обычный разговор с женщинами не удавалось, и в конце концов пришлось сказать, что у нее болит голова. Асфрид уложила ее, приготовила отвар ивовой коры, который снимает головную боль и придает сил – старая королева знала, что именно это ее внучке сейчас особенно важно.
Время тянулось бесконечно, и удлинившийся весенний день все никак не желал уступить место ночи. Наконец стемнело, отправилась на покой королева Тюра. Улеглись служанки, не считая тех, что прислуживали конунгу. В гриде пир еще продолжался, и Ингер не возвращалась; она любила засиживаться с мужчинами, слушая их бесконечные рассказы о походах и подвигах. Ее забавляли эти разговоры, а Горм позволял любимой дочери оставаться на пиру столько же, сколько он сам.
Настала полночь, и кроме грида, все в усадьбе затихло. Сперва Асфрид послала Богуту проверить, свободен ли путь. Та вернулась с известием, что во дворе все спокойно. Тогда Асфрид и Гуннхильд тоже вышли, набросив свои синие плащи, что когда-то ввели в заблуждение Харальда; в темноте они были совсем не видны. Красный плащ, подаренный Харальдом, Гуннхильд предпочла оставить: к «обноскам Хлоды» она испытывала неприязнь и почти им не пользовалась, несмотря на его красоту и высокую стоимость.
Во дворе царила тьма, но дождь не шел. В оконцах под кровлей конунгова дома мелькали отблески огня, тянуло дымом и доносилось пение.
Славна Гормова дружина! В поле доблестна, а после Медовуху лихо хлещет, Насмехаясь над врагами! Воин всех врагов повергнет, Тор меча, опора строя, Молодым пример отваги, Ясень битвы – славный Холдор!Обходя дом по пути на задний двор, Гуннхильд не могла не улыбнуться мимоходом. Это Кнут сочинил хвалебную песнь об отцовской дружине, где по строфе приходилось на каждого из двух десятков наиболее прославленных бойцов. И хотя с точки зрения искусства стихосложения висы хромали, слушателям очень нравилось.
Вдвоем с бабушкой они прокрались в дальний угол двора. От волнения у Гуннхильд так билось сердце, что она едва чуяла землю под ногами и, будто маленькая, сжимала руку Асфрид. Точно как пятилетняя девочка в дремучем лесу, она и боялась, и верила, что пока бабушка рядом, все будет хорошо! Хотя и понимала, что судьба завела ее в такую чащобу, что даже бабушка мало что может тут сделать. Оставалось надеяться только на богов. «О Фрейя! – мысленно молилась она. – Помоги нам, дорогая, не оставь нас, дай выбраться отсюда, спасти честь и владения нашего рода!»
Вот они встали под стеной отхожего чулана – даже в темноте его местонахождение указывал запах. Небо осветилось – показалась луна, посеребрила высокую кровлю конунгова дома, стали видны черные верхушки частокола. Асфрид и Гуннхильд одновременно увидели, как между заостренными концами стоймя вкопанных бревен появилась чья-то голова, плечи – человек бесшумно перемахнул ограду и канул в темноту уже внутри двора. Он находился всего в трех-четырех шагах от них, но они не услышали ни звука.
Потом раздался тихий свист – будто ночная птица пискнула спросонья.
– Кто здесь? – шепнула Гуннхильд.
– Это я! – так же шепотом ответила темнота, и она не столько увидела, сколько почувствовала совсем рядом с собой человека.
Кто-то легонько прикоснулся к ее плечу.
– Хильда!
– Кто это? – в отчаянной тревоге повторила она, протягивая руку, и кто-то сжал ее пальцы.
Гуннхильд трясло от волнения, и она помнила, что этим ночным пришельцем может оказаться кто угодно: человек Харальда, подосланный, чтобы обмануть ее, невесть какой злоумышленник, вступивший в сговор с Кетилем Заплаткой, тролль из-под камней!
– Это я! – повторил ночной гость, и теперь уже Гуннхильд узнала голос своего брата.
Он говорил шепотом, но не даром же они прожили вместе всю жизнь; она помнила его с рождения и не могла ошибиться.
– Рагнвальд!
– Кто это с тобой? – Он заметил во тьме вторую женскую фигуру. – Королева Асфрид?
– Дитя мое! – Асфрид тоже его узнала и протянула руку, чтобы прикоснуться к его плечу.
– Ты тоже хочешь бежать? – деловито прошептал Рагнвальд. – Я готов попытаться увезти и тебя, но боюсь, тебе будет нелегко перебраться через ограду. Олав послал меня за Хильдой, чтобы ее не выдали замуж. До нас дошли слухи…
– Вы правильно сделали! Горм добивается ее обручения с Кнутом, и ты должен увезти ее немедленно. Я не поеду с вами, мне нечего бояться. У тебя ведь есть корабль?
– Да, тот человек, что нас привез, увезет нас обратно в Бьёрко. Там тебя ждет жених! – Рагнвальд усмехнулся в темноте и сжал руку Гуннхильд. – Эйрик, сын Бьёрна. Мы с ним договорились.
– Но мы слышали, что Бьёрн-конунг не хочет помогать…
– Ему недолго осталось занимать место, которого он по дряхлости уже не достоин! – многозначительно хмыкнул Рагнвальд. – Мы помогаем Эйрику, а он помогает нам! И мы станем родичами, а эти Кнютлинги пусть… Ладно, короче, корабль готов к отходу и ждет у берега, где тропа к священному камню.
– К Серой Свинье?
– Вроде того. Ветер сегодня попутный, нас никто не догонит! Пошли, сестра, некогда болтать, прочие новости потом.
– Бабушка, но, может, ты все же попытаешься? – Гуннхильд прижалась к Асфрид.
Вот-вот они расстанутся, быть может, навсегда! Простившись в глухой тьме, даже не смогут взглянуть друг на друга!
– Он тебе поможет перелезть… – с мольбой зашептала она. – Как же ты останешься, ведь они догадаются…
– Пусть догадаются. Идите. Да благословят вас боги.
Асфрид в темноте быстро обняла сперва Гуннхильд, потом, почти силой вырвавшись из ее объятий, сделала знак молота над головой Рагнвальда, которого едва различала в темноте. А потом Рагнвальд схватил Гуннхильд за руку и потащил к частоколу. Она даже не успела спросить, как же он думает переправить ее на ту сторону, как он сунул ей в руки какую-то веревку, шепнув: «Держись крепче!», а сам нагнулся и по очереди вставил ее ступни в веревочную петлю.
А потом тихонько свистнул, и Гуннхильд ощутила, что ее тянут вверх! Шепотом ойкнув и закусив губу, в почти кромешной тьме она, изо всех сил цепляясь за веревку и раскачиваясь, ударяясь боками о толстые бревна тына, в стоячем положении стала возноситься ввысь!
Ураган с кудрявой гривой, Грозен Хравн в тяжелом шлеме! Ходит берсерк в бурой шкуре, Страх неведом Фрейру брани! –доносилось со стороны конунгова дома приглушенное стенами пение, будто прощальное напутствие.
А потом случилось сразу много всего, и так быстро, что Гуннхильд не успевала осознавать отдельных событий и даже время спустя с трудом смогла восстановить в памяти, что и как происходило.
Вдруг пение смолкло, и одновременно кто-то с визгом вылетел из темноты, вцепился в ее ноги и рванул вниз. От неожиданности и испуга, что сейчас упадет с высоты почти в человеческий рост, куда ее успели поднять, Гуннхильд не сдержала крика; она больно ударилась о бревна, однако веревка выдержала, не дав ей упасть. Кто-то невидимый крепко вцепился ей в щиколотки и подол и рванул еще раз; тут же послышался звук борьбы, цепкие руки исчезли, голос Рагнвальда крикнул снизу: «Тяни давай!» – и Гуннхильд полетела вверх еще быстрее.
Внизу продолжалась возня, женский голос пытался кричать, но женщине как будто зажимали рот; потом дверь конунгова дома распахнулась, Гуннхильд услышала шум множества бегущих ног, вопли, но не могла даже оглядеться. Она уже достигла верха стены, кто-то тянул ее через ограду, побуждая перебраться на другую сторону, торопливо шептал: «Ну давай же, лезь!» – и она лезла, цепляясь подолами, повизгивая от боязни напороться на заостренную верхушку бревна, упасть на ту или другую сторону вниз головой. В темноте казалось, что по обе стороны тына – бездонная пропасть.
Снизу слышался лязг железа и яростные крики, но Гуннхильд уже была по другую сторону стены и спускалась, все так же стоя в петле, только еще быстрее. Земли она не достигла: на полпути ее поймали прямо в воздухе чьи-то руки, дернули вниз. Она куда-то полетела, уже не в силах удержаться от крика, а потом упала животом на что-то твердое. Земли ногами так и не достала.
И тут же понеслась куда-то! Не сразу Гуннхильд сообразила, что лежит поперек лошади перед седлом, а в седле кто-то сидит. Было страшно, неудобно, она висела вниз головой, и казалось, сейчас свалится прямо под копыта. Всадник держал ее за пояс, погоняя коня, и было ясно, что ее удобства сейчас волнуют похитителя очень мало. И она даже не знала, кто это! В темноте ничего не видя, Гуннхильд даже не могла кричать. Ждала, что вот-вот ударится головой о камень или дерево, и тут ей конец придет. Слава Фрейе, что перед выходом она заплела волосы в косу, а косу засунула концом за пояс, под плащ, иначе ей оторвало бы голову!
Вскоре ее замутило, она зажмурилась, сжала зубы, стараясь плотнее прижаться к пахнущему потом лошадиному боку, чтобы меньше трясло. Было так жутко, что она старалась вообще не думать, что происходит, а только ждала, когда же это все кончится, так или иначе!
А лошадь с неведомым всадником мчалась через пустошь по тропе, уносясь все дальше во тьму. Гуннхильд даже не думала о погоне – так ужасала ее сама эта скачка. Смутно она различала, что совсем рядом молотят копыта еще одной лошади, значит, похитителей двое; она отчаянно пыталась понять, есть ли рядом Рагнвальд, он ли сидит на той второй лошади. На той, где она, брат никак не мог оказаться: она еще успела сообразить, что Рагнвальд остался внизу, во дворе, когда ее потянул вверх кто-то другой.
– Стой! – крикнул тот, второй. – Придержи, не пойму, куда мы заехали!
– Надо по тропе вдоль моря! – закричал другой голос над ухом у Гуннхильд, и она поняла, что это Халле.
– Да знаю, еще бы найти эту тропу! Темно же, как у тролля в заднице!
Лошадь придержали, и для Гуннхильд это обернулось большим благом. Халле соскочил с седла, снял девушку с лошади, поставил рядом с собой. От потрясения и головокружения она едва могла стоять, и он обнял ее, помогая утвердиться на ногах.
– Как ты, госпожа? – с беспокойством спрашивал Халле. – Ты цела? Потерпи, скоро мы будем на корабле.
– Вон туда! – крикнул второй похититель, тем временем пытавшийся рассмотреть дорогу. – Я помню вон те два камня!
Халле снова вскочил в седло, подал руку Гуннхильд и помог сесть на круп лошади позади себя. Теперь она ехала, как человек, держась за пояс Халле, и чувствовала себя получше: все-таки ей больше не приходилось висеть вниз головой, будто овца.
– Где Рагнвальд? – крикнула она, когда Халле снова пустил лошадь вскачь.
– Он приказал нам увозить тебя, если что-то пойдет не так! Если сможет вырваться, догонит нас!
Гуннхильд попыталась оглянуться, но, конечно, не увидела ничего, кроме тьмы. Сердце упало: ее брат остался где-то там, в усадьбе! Жив ли он еще? Или в этот самый миг он уже мертв, убит, погиб, спасая ее?
Душу залило холодное отчаяние, но что она могла сделать? Вернувшись, она ничем ему не поможет.
Ну а вдруг он еще выберется? Ведь Рагнвальд – сильный и решительный человек, он сможет прорваться!
– Там еще одна лошадь! – на скаку закричал Халле, угадывая ее мысли. – Он догонит нас, если только выберется за ограду!
Но все же он там один против целой толпы! «Славна Гормова дружина…» – навязчиво всплыли в памяти дурацкие стихи, годные только для пьяного пира, и Гуннхильд скривилась от отчаяния. Сердце разрывалось при мысли, что она, даже вернувшись к отцу, никогда не увидит больше ни бабушки, ни брата, отдавшего жизнь ради ее спасения! И снова она оглядывалась, всей душой желая расслышать позади топот копыт, увидеть на темной тропе силуэт одинокого всадника. Если только Рагнвальд прорвется за частокол, то успеет ускакать, пока люди Горма будут седлать своих коней!
Скакавший первым – это был Альрик, еще один хирдман Рагнвальда, – снова придержал коня и стал лихорадочно озираться.
– Халле, ты не помнишь этого места? Тролли в задницу, мы заблудились!
* * *
А во дворе Гормовой усадьбы разыгралось настоящее сражение. С одной стороны в схватке участвовало несколько десятков человек, а с другой – всего один, поддержанный лишь темнотой, неожиданностью и неразберихой. А еще дерзкой отвагой, которой не нужны союзники.
Рагнвальд был уже готов, держась за вторую веревку, последовать за сестрой к верхнему краю ограды, как вдруг кто-то с визгом выскочил из темноты и вцепился в улетающую Гуннхильд. Рагнвальд бросился на невидимого врага и на ощупь мгновенно определил, что это женщина, вернее, девушка – под руки ему сразу попалась целая копна мягких и тонких густых волос. Причем не служанка какая-нибудь: он ощущал тонкую шерсть и шелк, узорные литые застежки на груди, а тяжелые нити бус противницы уже не раз ударили его в пылу борьбы по лицу.
Ингер – это была дочь Горма – пришлось выпустить Гуннхильд, и теперь она сама пыталась вновь обрести свободу, отчаянно вырываясь и крича. Рагнвальд зажимал ей рот, стремясь не дать поднять тревогу. Какие тролли принесли ее среди ночи на задний двор?
Судя по звукам, сестра благополучно достигла верхнего края стены и исчезла за ним. Теперь Рагнвальд мог подумать о собственном спасении. Отшвырнув от себя Ингер, он ухватился за веревку и подтянулся.
Ингер от толчка не удержалась на ногах, но не собиралась сдаваться. Она сообразила, что происходит: дочь Олава ускользнула, но тому, кто за ней явился, она уйти не даст! Ингер понятия не имела, кто это был. С того места под стеной, к которой ее прижимал хирдман по имени Асгейр, она не могла расслышать, о чем шепталась Гуннхильд с ночным гостем. Поначалу она вообще подумала, что та пришла сюда с той же целью и обжимается с Кнутом. И только когда взошла луна, Ингер разглядела: собеседник Гуннхильд заметно ниже ростом, чем Кнут, и рыжеволосая красотка явно намерена сбежать!
Ингер была не только отважна, но и сообразительна. Асгейра она послала оповестить отца и хирдманов, а сама осталась наблюдать. И поняла, что придется вмешаться: ночной гость вот-вот исчезнет за оградой вместе со своей добычей!
И тогда она метнулась вперед и схватила Гуннхильд за ногу, криком указывая своим людям путь в темноте. Повисла на ночном госте, стараясь не дать ему исчезнуть вслед за Гуннхильд.
Уже слышались крики, блестели огни факелов, вот-вот подоспеет помощь!
В этот миг Ингер схватили за шею, потом был рывок, а потом что-то большое и очень твердое ударило ее по лицу, и наступила тьма.
Приложив девушку головой о частокол, Рагнвальд выпустил ее и потянулся к веревке.
В бревно возле его ладони вонзилась сулица. Времени лезть наверх у него больше не было. Десятки факелов слепили глаза, бросая жаркие отблески на сталь обнаженных клинков. Оставалось одно – принять бой и умереть, как подобает наследнику королевского рода.
Правой рукой выхватив меч, левой Рагнвальд вырвал сулицу из бревна, чтобы прикрываться ею вместо щита – все лучше, чем ничего. Пробиться нечего и думать – он был зажат в заднем углу двора, а между ним и воротами гомонила вся Гормова дружина. Попробуй он сейчас полезть наверх – его прибьют копьем к бревну, будто лягушку.
От первого выпада Рагнвальд подался чуть в сторону и почти споткнулся обо что-то на земле. Не глядя вниз, он понял, что это. А вернее кто. И его осенило: отшвырнув сулицу, он рывком подхватил с земли Ингер и прижал к себе.
Нацеленные в него мечи и копья немедленно отодвинулись. Не раздумывая, Рагнвальд бросился вперед, пока хирдманы не опомнились. Прямо перед собой, в десятке шагов, он видел распахнутую заднюю дверь конунгова дома, где внутри пылал огонь. Если пройти через дом, то через другую дверь можно выбраться на «чистый» двор, а там ворота! Перелезть через стену, имея всего одну свободную руку и увесистую девушку вместо щита, никак не получится, но выйти через ворота вполне возможно. А там, если он доберется до своей лошади раньше людей Горма…
Идти было трудно: он почти нес Ингер. Та, хоть и была в сознании, совсем не передвигала ноги. Рагнвальд держал пленницу за горло, слегка придавливая и давая понять, что сломает девушке шею, если его попытаются задержать. Теперь он разглядел, с кем имеет дело. Вчера, когда домочадцы Горма приезжали в Гестахейм, он тоже всех их видел из укрытия и понял, что под стеной его подстерегла дочь самого конунга. Зря ей не спалось у себя в девичьем покое. Но, с другой стороны, окажись на ее месте служанка, как живой щит она не представляла бы почти никакой ценности. А вот ради дочери Горма эти удальцы, пожалуй, поостерегутся пускать в ход свои клинки.
Был бы еще второй человек – прикрыть сзади! Рагнвальду приходилось постоянно вертеться, чтобы отбить у людей Горма охоту ударить в спину. Двери дома были уже совсем рядом. Навстречу метнулись какие-то растрепанные женщины.
– Дорогу! – рявкнул Рагнвальд, и те испуганно отшатнулись по сторонам, загородив его от мужчин.
Увидев озаренные пламенем клинки, женщины принялись визжать. Рагнвальд закинул Ингер на плечо и бегом бросился в дом. В крови кипела шальная отвага, ему было очень весело. Если он сейчас погибнет, то так и предстанет перед Отцом Богов, смеясь – ему нечего стыдиться. Но почему-то он верил, что прорвется: волна удачи несла его вперед, расчищая путь. Ингер дергалась и дрыгала ногами, пытаясь выскользнуть из рук, но он держал добычу крепко.
А немаленький домишко выстроил себе Горм, мимоходом отметил Рагнвальд, пробегая по земляному полу между помостами. Огонь еще ярко горел, на скамьях сидели люди – гости, не имеющие при себе оружия и не успевшие понять, что происходит. Испуганная челядь жалась к стенам, расползались по углам нищие, а Рагнвальд несся, как олень. Он уже видел перед собой вторые двери, ведущие во внешний двор.
И вдруг перед ним появился человек – с мечом и щитом. Шлема он надеть не успел, и Рагнвальд сразу узнал Харальда, младшего сына Горма. Тот стоял, плотно загораживая дверь, и Рагнвальду пришлось сбавить ход. Поставив Ингер на ноги, он снова взялся за меч.
– Отпусти ее! – крикнул Харальд.
– Ни за что! – весело ответил Рагнвальд.
– Зачем ты сюда явился, троль подземный?
– За твоей сестрой, конечно!
– За моей сестрой? – Харальд всем видом изобразил недоверчивое изумление.
– Само собой! Она так прекрасна, что я влюбился в нее по рассказам и не мог ни спать, ни есть, а на йольском пиру поклялся, что она станет моей или я умру!
– Это я тебе устрою! А говорят, ты пришел за твоей сестрой! Где она?
– Не знаю! У тебя надо спросить – это ведь вы привезли ее к себе в гости!
– Отпусти ее!
– Не могу! – Рагнвальд упрямо тряхнул головой. – Держать эту деву в объятиях – такое блаженство, что я лучше умру, но не выпущу ее! К тому же у меня просто нет другого щита, а воин без щита – готовый покойник, тебе ли не знать?
Эту беседу Рагнвальд вел, стоя спиной к толстому резному столбу, одному из тех, что подпирали кровлю, поэтому сейчас нападения сзади мог не бояться.
– Я дам тебе другой щит! Клянусь! – Харальд кивнул кому-то, и рядом с ним возник парень, держа щит, спешно снятый со стены. – Отпусти ее!
– Сперва поклянись отдать ее мне в жены! – дурачился Рагнвальд, намеренный как следует повеселиться перед смертью и подразнить соперника. – Я приехал за ней, и больше с ней не расстанусь! Твой брат ведь берет в жены мою сестру – мы должны обменяться, иначе несправедливо!
– Я отдам тебе кое-что получше! – крикнул Харальд, бросив быстрый взгляд куда-то за спину Рагнвальда, в дальнюю часть покоя. – Грим, давай сюда!
Не успев даже оглянуться, Рагнвальд вдруг увидел, как какая-то женщина, которую, видимо, с силой вытолкнули у него из-за спины, почти пролетела расстояние между ним и Харальдом и упала у ног его противника. Тот, выпустив щит, подхватил ее, рывком поднял и поставил, прижимая к своему боку – точно так же, как Рагнвальд держал Ингер. И тот с ужасом узнал свою бабку, королеву Асфрид!
Шальная улыбка сползла с лица Рагнвальда, и невольно он так сжал шею Ингер, что та хрипло простонала.
– Если таковы твои условия, то я согласен! – Харальд жестко глянул ему в лицо серо-голубыми холодными глазами. – Если ты хочешь прикрываться женщинами вместо щитов, то пусть будет так!
Рагнвальд бросил взгляд на свою бабку: Асфрид, со сбившимся головным покрывалом, была смертельно бледна. Она старалась и сейчас сохранить достоинство, но рядом с могучей фигурой Харальда Рагнвальду вдруг отчетливо бросилось в глаза, какая же она маленькая и хрупкая. Впервые в жизни он взглянул на нее не так, как смотрит внук на бабку, увидел в ней не «старую королеву», главную в доме и в роду, а просто немолодую, слабую женщину, которую он, мужчина, был обязан защитить любой ценой.
Почти вися в жесткой руке Харальда, Асфрид невольно дрожала, но старалась не показать страха и смятения. А поймав взгляд внука, едва заметно кивнула, будто говоря: не думай обо мне. «Думай о себе, делай все, чтобы спастись!» – сказал Рагнвальду ее взгляд.
И под этим взглядом он молча освободил Ингер и отпихнул от себя. Девушка едва не упала, но кто-то подхватил ее и отвел в сторону. Харальд так же оттолкнул Асфрид и не глядя взял щит, который ему подали взамен. Почуяв рядом движение, Рагнвальд обнаружил рядом щит, кем-то ему протянутый.
– Идем! – Харальд кивнул в сторону двери во двор у себя за спиной.
Рагнвальд молча последовал за ним. По всему выходило, что Харальд предлагает ему поединок, а значит, никто из дружины больше не станет вмешиваться и бить в спину.
Стояла глубокая ночь, но во дворе было светло от множества факелов. Возле дома толпились какие-то люди, челядь, впереди – хирдманы, возле девичьего покоя собрались кое-как одетые женщины во главе с королевой Тюрой. Рагнвальд торопливо обшаривал взглядом толпу, но не видел ни Гуннхильд, ни Халле с Альриком. О боги, им удалось уехать! Если бы только ему знать, что его сестра благополучно попала на корабль Бергрена, он бы без сожалений расстался с жизнью. Тогда Олав сможет выдать ее за сына шведского конунга и обеспечить себе поддержку для дальнейшей борьбы. Честь и владения ютландских Инглингов будут спасены, а сам он без стыда взглянет в глаза Одину и своим предкам в Валгалле.
– Здравствуй, Горм-конунг! – весело крикнул Рагнвальд, заметив впереди толпы хозяина дома. – Извини, что пришлось потревожить твой ночной покой!
– Говорят, ты явился за моей дочерью? – в показном изумлении отозвался Горм.
– Да. Вести о ее красоте и прочих достоинствах перелетели через море, и я понял, что не будет мне покоя, если я не поеду и не посватаюсь к ней!
– Ну так что же ты не посватался, как положено?
– Да видишь ли, между нашими родами в последнее время случались кое-какие недоразумения. Даже говорят, будто вы захватили наши земли и усадьбу Слиасторп.
– А ты знаешь об этом только по слухам, ибо рванул через море, как заяц, вместе с твоим трусливым дядей Олавом! – подхватил Харальд.
– Не много чести обвинять в трусости того, кто тебя не слышит! Меня-то ты не назовешь трусом! Так что, конунг, ты согласен отдать мне в жены твою дочь, если Один позволит мне одолеть твоего сына?
– Конунг, ты слышишь? – в негодовании воскликнула Тюра. – Этот наглец собирается убить твоего сына, а сам еще набивается нам в родню!
– Королева, если я отниму у тебя сына, только справедливо будет дать тебе другого взамен! – возразил Рагнвальд, словно укоряя ее в недогадливости. – А я ничем его не хуже, хоть он и вымахал ростом с мачту! Знаешь, Харальд, когда по тебе будут слагать погребальную вису, будет уместно назвать тебя «мачтой битвы».
– Где твоя сестра? – спросил Горм.
– Не знаю! Клянусь именем Одина и памятью предков! – Рагнвальд взмахнул мечом, будто взывая к небесам. – Спроси твоего старшего сына, который набился к ней в женихи, не получив согласия ее родни. Не удивлюсь, если сам Один увез ее на своем восьминогом жеребце, чтобы не допустить такого безобразия!
– Это будет обидно, но не смертельно! – заверил его Горм. – У нас ведь останется твоя бабка, Асфрид.
Оба они одновременно обернулись и нашли глазами Асфрид; оправив покрывало, она стояла, прислонясь к стене дома. Богута и Унн поддерживали ее под руки, а она не отрывала глаз от внука.
– Что-то я не улавливаю связи, – обронил Рагнвальд.
– Ты молод и неразумен, но я тебе объясню! – благосклонно отозвался Горм. – Асфрид является Госпожой Кольца, то есть главной наследницей усадьбы Слиасторп и всех прилежащих земель, включая вик Хейдабьор. Ведь это благодаря браку с ней твой дед Кнут утвердился в тех местах, став законным наследником ее отца, Одинкара-конунга. Твоего дяди Олава здесь нет, ты, возможно, не доживешь до рассвета – я верю в моего сына Харальда! Наследницами вашего рода остаются женщины. Твоя сестра исчезла – возможно, мой сын Кнут еще найдет и вернет ее, ну а если нет… Тогда придется Асфрид самой выйти замуж и передать мужу все права на свое наследство и приданое!
По двору полетел изумленный гул.
– Ты шутишь! – Даже Рагнвальд едва смог сохранить самообладание. – За кого же ты думаешь выдать мою почтенную родственницу? Уж не сам ли метишь ей в женихи?
– По годам и положению, конечно, мне это наиболее бы пристало, но у меня уже есть королева, а двух королев одинаково знатного рода не может иметь ни один конунг. Но в моем роду есть еще двое взрослых мужчин. Конечно, любому из моих сыновей хотелось бы жену помоложе, но этот брак ведь будет продолжаться не очень долго, по причине почтенного возраста Асфрид…
– Ты издеваешься над нами!
– И не думаю! Клянусь, я сделаю то, что говорю!
И Рагнвальд понял, что Горм говорит правду – какой бы нелепой она ни была.
– Ну а если до утра не доживет твой сын? – помолчав немного, произнес Рагнвальд.
– Нам придется отомстить за него.
Рагнвальд понимал: живым ему отсюда не уйти. Даже если он одолеет Харальда, его ждет слишком много новых противников.
– Ну так что же? – задорно воскликнул он и поудобнее перехватил щит. – Я не так глуп, чтобы собираться жить вечно! Гораздо лучше умереть, сражаясь за честь рода, чем дожидаться, пока выпадут зубы и сердце станет таким же дряблым, как мышцы. Сердца Инглингов – из крепкой стали, и ты, Харальд Мачта, обломаешь о мое сердце твой меч!
И с этими словами он бросился вперед.
* * *
– Но я же была здесь всего один раз! И тогда было светло!
Гуннхильд в отчаянии огляделась снова – и снова понапрасну. Казалось, целую ночь они кружат по пригоркам, то среди валунов, то между деревьев. Луна опять спряталась, и они явно сбились с пути. То ли они еще не добрались до того места, откуда тропа вела к Серой Свинье, то ли, наоборот, его миновали? Куда ехать – вперед или назад? Халле и Альрик спорили, но и Гуннхильд не могла им помочь, хотя прожила в этих местах уже довольно долго. Возле Серой Свиньи она с того памятного дня больше не бывала, да и в тот раз туда она шла с другой стороны. А обратно ее несли бесчувственную с плащом на голове…
Они метались то вперед, то назад, вглядывались в очертания берега, но не могли найти ничего похожего на корабль. Не так чтобы Гуннхильд этому радовалась, но, пока они не уплыли, у нее сохранялась надежда, что Рагнвальд еще их догонит.
– Тише! – вдруг рявкнул Альрик, хирдман лет сорока.
Обычно человек неразговорчивый, он хорошо понимал в кузнечном деле, потому Рагнвальд и взял его с собой: Альрик выдавал себя за кузнеца, а Рагнвальд и Халле – за его подручных.
Халле и Гуннхильд умолкли и стали прислушиваться.
– Копыта! – шепнул Альрик. – Кто-то скачет.
«Рагнвальд!» – успела только подумать с надеждой Гуннхильд, но Альрик тут же добавил:
– Их много! Это за нами! Давай быстрее!
И они рванули куда-то в глубь побережья, уже почти не разбирая дороги и лишь стараясь выбрать свободное от камней и деревьев место.
Гуннхильд впервые подумала о погоне. В самом деле, прошло достаточно много времени, чтобы люди Горма успели одеться и оседлать лошадей. Мелькнула надежда, что преследователи разделятся, поскольку не могут знать точно, в какую сторону направились беглецы, но эту мысль Гуннхильд тут же отогнала. За последнее время в округе появился только один чужой корабль, и самая глупая треска догадается, что только на нем похитители и могли рассчитывать уйти.
– Тролль, да вот же это место! – вдруг закричал скакавший впереди Альрик.
На фоне неба мелькнул большой камень, похожий на великанью голову, покрытую редкими «волосами» тонких берез. И Гуннхильд, будто вспышка озарила память, тоже узнала начало тропы к Серой Свинье.
– Да, это здесь! – закричала она в спину Халле.
– Нале… – начал было Альрик, и вдруг…
Гуннхильд не успела понять, что произошло, но Альрик внезапно умолк и покатился с седла прямо под копыта второй лошади. Из спины его торчала сулица. Лошадь Халле споткнулась и едва не полетела кувырком, всадник чудом удержался в седле, а Гуннхильд, падая, так вцепилась в его пояс, что сама чуть не сдернула его наземь вслед за собой. К счастью, лошадь удержалась на ногах, и от толчка Гуннхильд бросило в нужную сторону, так что она сумела усидеть на крупе. Показалось даже, что невидимая сильная рука взяла ее за ворот и поддернула, не дав упасть.
Впереди слышались крики. Ничего не было видно, кроме отблесков луны в облаках, но Халле уже понял: впереди засада. Люди Горма гораздо лучше них знали местность и могли даже в темноте пройти короткой дорогой. Ржала лошадь Альрика, которую пытались поймать, а Халле погонял свою, поворотив прочь от моря.
На пути к кораблю ждала засада, прорваться в одиночку, да еще с девушкой за спиной, было немыслимо. Они неслись по тропе со всей быстротой, на какую еще была способна усталая лошадь под двумя всадниками. Сосновые ветки били по голове, Гуннхильд съежилась за спиной Халле, видя в нем последнюю защиту. Онемевшими пальцами она вцепилась в его пояс с чувством, что от гибели ее отделяет пара шагов. В такой темноте ничего не стоит налететь на дерево или камень, и тогда…
Додумать она не успела, как это самое «тогда» и случилось. Лошадь попала ногой в промежуток между камнями и полетела кувырком. Гуннхильд оторвало от Халле и бросило куда-то во тьму; в безотчетном ужасе она сжалась в комок, пытаясь прикрыть голову руками; в мыслях мелькнуло – вот и смерть пришла…
Ей сильно повезло – ее бросило на можжевеловый куст. Он остановил полет, а там, куда она упала, мха было больше, чем камней. Какое-то время Гуннхильд лежала, не понимая, жива она или нет – голова гудела, ее мутило, тело было как чужое. Но постепенно она осознала, что уже не летит, будто валькирия в грозовом вихре, а лежит на чем-то твердом и неподвижном, и вроде даже ничего у нее особенно не болит. Нет, болит щека. Она провела пальцами по лицу – больно, наверное, ударилась или оцарапалась.
Гуннхильд села, опираясь руками о землю, подняла голову, огляделась. Пошевелила руками и ногами, проверяя, нет ли переломов. Где-то за кустами, поблизости, жалобно ржала лошадь.
– Халле! – крикнула Гуннхильд.
Никто не отозвался. Неужели она осталась совсем одна?
Она встала на колени, ухватилась за колючие ветки, поднялась и постояла, приходя в себя. Ноги дрожали, но держали, руки тоже слушались. Гуннхильд пошла на ржанье, продолжая звать Халле. Ей казалось, она кричит, но на самом деле ее голос раздавался едва слышно.
Вдруг кто-то схватил ее за щиколотку – будто невидимая рука высунулась из-под земли, и Гуннхильд пронзил ледяной ужас. Тролль?
– Госпожа! – выдохнул рядом хриплый голос. – Не кричи! Это я!
– Халле!
Ее отпустили, и Гуннхильд присела, протягивая руку, которую тут же кто-то схватил.
– Я здесь. Головой треснулся. Сейчас…
Опираясь на ее руку, Халле с трудом сел.
– Лошадь… надо уходить быстрее… ее слышно… – бормотал он.
Гуннхильд понимала, что он хочет сказать: лошадь, видимо, сломав ногу, билась на земле и своим ржаньем указывала преследователям путь.
– Вставай!
Девушка потянула Халле за руку и помогла подняться, едва сама не упав под его тяжестью. Молодой и худощавый, рослый парень весил больше, чем она.
Держась друг за друга, они двинулись через заросли, все так же прочь от моря. Гуннхильд уже не думала, куда они идут и какое спасение смогут там найти; ведь корабль Бергрена, даже если он еще не ушел, остался на берегу, они сейчас от него удаляются. Сейчас она помнила только о том, что их преследуют и люди Горма уже совсем близко. А ведь Асфрид предостерегала: у нее, Гуннхильд, есть враги, которые могут среди суматохи убить ее и тем навсегда избавиться от опасности породниться с ютландскими Инглингами.
Вдвоем с Халле они продирались сквозь можжевеловые кусты, с трудом находя дорогу между камней. Беглецы сами не знали, куда идут, и лишь надеялись, что преследователям будет так же нелегко их отыскать в темноте. А когда рассветет, они что-нибудь придумают…
– Тише! – Халле вдруг застыл и сжал руку девушки.
Гуннхильд замерла и тоже услышала позади шум – кто-то пробирался сквозь заросли. Несколько человек. Вдруг она осознала, что больше не слышит ржанья: надо думать, люди Горма обнаружили лошадь и забили ее, зато теперь им точно известно, с какого места беглецы пошли пешком.
Деревья и заросли вдруг кончились, впереди было ровное пространство. Халле потянул было Гуннхильд назад и в сторону, надеясь укрыться в зарослях, но шаги доносились и с другой стороны.
Послышался свист, ему ответили. Преследователи разделились и прочесывали рощу. Тогда Халле пустился бежать через пустошь, почти волоча за собой девушку; так они неслись, задыхаясь, пока не наткнулись на каменную стену. Халле сунулся было в сторону, надеясь обойти препятствие, но оно оказалось слишком большим; тогда он, ощупав его, подхватил Гуннхильд и подсадил наверх.
– Беги! – выдохнул он, а сам развернулся, извлекая из ножен меч и скрам.
Опять вышла луна, и Гуннхильд едва успела пригнуться. На пустоши показались три человеческие фигуры. Лунный свет блеснул на клинке в руке Халле, темные фигуры испустили дружный крик – его увидели. А он метнулся в сторону и пустился бежать; люди Горма устремились за ним.
Гуннхильд, боясь встать в полный рост, поползла дальше на четвереньках, и хорошо сделала: она проползла всего шага три, как наткнулась на обрыв! Улегшись на живот, она протянула руку как могла дальше, но не нащупала ничего; если бы она шла как обычно, а тем более бежала, то упала бы и свернула шею.
Она проползла немного в сторону, и там тоже обнаружился обрыв. О боги, она очутилась на большом камне, размером пять-шесть шагов в длину и ширину!
Из темноты, куда убежал Халле, послышались крики, звон железа… Раз-другой… и все стихло. Луна спряталась. Гуннхильд лежала в полной темноте, съежившись на камне, на тонкой подстилке из мха и нанесенной ветром хвои, зажмурившись и чувствуя себя на самом дне мрака и неизвестности.
Одна на всем свете, как первая женщина по имени Эмбла, еще до того как три аса благих и могучих нашли ее на берегу и вдохнули в нее жизнь.
* * *
Рагнвальд начал поединок так же весело, как перед этим вел беседу. Меч его так и порхал вокруг Харальда; тот сам не шел вперед, а только защищался, однако успевал отразить каждый удар. От столкновения клинка с умбоном во тьме летели искры, домочадцы Горма кричали, и крики их воодушевляли Рагнвальда, хотя зрители поддерживали вовсе не его. Что за важность: ему даже нравилось сознание, что он здесь один против всех и такая смерть принесет еще больше славы.
Однако в эту ночь ему уже пришлось потрудиться, и вскоре он начал выдыхаться. В то время как Харальд не выказывал никаких признаков усталости: мощный, выносливый, он с начала боя сберегал силы, и теперь это помогало ему. Понимая, что надо заканчивать быстрее, Рагнвальд внезапно шагнул вперед, ударил ногой по нижней кромке Харальдова щита и одновременно выбросил вперед руку, пытаясь колющим выпадом достать лицо противника. Зрители взвыли от ужаса, королева Тюра, вскрикнув, невольно бросилась вперед, так что ее едва успели удержать. Харальд принял выпад гораздо спокойнее: лишь слегка качнул головой, уходя из-под удара, так что вражеский клинок лишь рассек ему кожу на виске. Зато сам Харальд успел воспользоваться первым мгновением после выпада, когда противник был беспомощен, и его ответный мощный удар едва не снес Рагнвальду голову.
Тот чудом успел вскинуть левую руку, прикрываясь щитом, но и дальше Харальд не дал ему передохнуть: на щит обрушился целый град ударов. Пришло его время наступать, и сразу обнаружилось преимущество, которое ему давал более высокий рост и более длинные конечности, а также то, что он гораздо менее устал.
На миг они сошлись вплотную, и Харальд сильным толчком щита отшвырнул Рагнвальда к самым воротам, приложив спиной о бревна; стоявшие в этой стороне едва успели отхлынуть.
Однако Рагнвальд удержался на ногах. Подняв на левой руке щит, он положил конец клинка на его верхний, уже порядком разбитый край, образовав «домик», как это называют в дружине; таким образом оказывалась под прикрытием его голова и правое плечо. Он мог бы поймать противника, если бы тот снова стал нападать.
Но Харальд поступил иначе: выбросив вперед левую руку, он мощно ударил Рагнвальда щитом под подбородок и одновременно нанес удар мечом снизу. Клинок ударил в бедро Рагнвальда, под нижним краем щита. От боли и от силы удара Рагнвальд не удержался на ногах, а Харальд шагнул вперед, поднимая меч.
И все было бы кончено для последнего из ютландских Инглингов, если бы не вмешалась та же сила, которая нынешней ночью уже изменила его судьбу.
Ингер вдруг бросилась вперед и с той же безрассудной отвагой повисла на правой руке своего брата Харальда.
– Нет! – завопила она, изо всех сил вцепившись в его кисть, сжимавшую рукоять меча.
Харальд безотчетно попытался ее стряхнуть, но она почти повисла на нем, вынуждая опустить руку.
– Иди к Хель! – в ярости заорал Харальд, понимая сейчас только то, что ему мешают добраться до врага.
В это время общий гомон прорезал истошный женский крик. И его издала вовсе не Ингер – он донесся из кучки женщин, толпившихся вокруг Тюры, перед дверью девичьего покоя.
– Оставь его! Не трогай! – кричала Ингер, не выпуская руку Харальда.
Бросив щит, он нагнулся, пытаясь от нее отцепиться. Но поединок уже был прерван.
– Чего тебе надо?
Ингер не ответила: в это время оба они услышали крики поодаль, которые явно относились не к их борьбе и даже не к поединку.
Девушка повернула голову, отбрасывая растрепавшиеся волосы с лица, Харальд выпустил меч и оглянулся к женскому покою. Оба они различили голос матери и в тревоге кинулись на шум, забыв про Рагнвальда.
Меч и щит Харальда так и остались лежать на земле, в нескольких шагах от поверженного противника. Рагнвальд, сам в удивлении, что жив, ладонью зажимал рану на бедре, слегка кривясь от боли, но тоже пытался разглядеть, что произошло на другом конце двора.
А там, под покровом тьмы, случилось нечто еще более ужасное, чем схватка перед воротами при свете факелов. В тот миг, когда Рагнвальд упал, а Харальд вскинул меч, намереваясь его добить, Асфрид вдруг выхватила из ножен свой поясной нож и, слегка склонив голову направо, чтобы не мешало покрывало, полоснула лезвием себе по горлу с левой стороны. Метила она в яремную вену – такое повреждение ведет к почти мгновенной смерти. Однако лезвие ножа, хоть и острое, было коротким, а силы в старческой руке недостало. Кровь обильно хлынула из длинного пореза на горле, заливая одежду старой королевы.
Закричали Унн и Богута, стоявшие по бокам хозяйки, за ними и прочие женщины начали вопить, видя, как Асфрид падает, а возле нее разливается по земле черная лужа. Никто не понял, как это произошло, как могла во время поединка двух мужчин оказаться ранена старая женщина, стоявшая далеко в стороне. Нож выпал из ладони Асфрид и отлетел, затерялся под ногами толпившихся вокруг.
Женщины пытались поднять Асфрид, думая поначалу, что она просто лишилась чувств от горя при виде гибели внука. Но, прикоснувшись к ней, они ощутили горячую кровь, льющуюся им на руки и на колени, и в ужасе выпустили тело.
Поднял Асфрид только Харальд. Сперва он кинулся к матери, но обнаружил, что она невредима и кричит от страха, глядя на лежащую родственницу. Взяв старуху на руки, Харальд кивнул в сторону женского покоя. Ингер толчками разогнала женщин с дороги и открыла дверь. Громко требуя огня, Харальд прошел внутрь и в темноте положил Асфрид на первую попавшуюся лежанку.
Про Рагнвальда все забыли. Будь он ранен полегче, в эти суматошные мгновения мог бы сбежать, но ему не удавалось даже встать с земли.
В женский покой внесли факелы, торопливо оживили огонь в очаге, Тюра дрожащими руками перевязывала шею Асфрид льняным головным покрывалом – первым, что попалось в сундуке рыдающей Богуте. Обнаружили на приступке лежанки недопитый Гуннхильд отвар ивовой коры и попытались напоить Асфрид – он обладает свойством и останавливать кровь; но раненая не могла пить, и только залили ей всю подушку.
Асфрид лежала неподвижно, с закрытыми глазами. Ее можно было принять за мертвую, если бы не пятна крови, все шире расплывавшиеся на льняном полотне.
– О… она… сама… – продолжая рыдать и икая от ужаса, едва вымолвила Богута в ответ на сыпавшиеся со всех сторон расспросы. – Мы… стояли с ней, она вдруг… выхватила у меня свою руку, я даже не увидела, как она вынула нож…
– Но зачем? – Тюра дрожала и едва не плакала от потрясения. – Зачем ей понадобилось… лишать себя жизни?
Горм промолчал, но по лицу конунга было видно, что некий ответ на этот вопрос у него имеется.
– Это все из-за вас! – обронила Ингер. – Ты, конунг, пообещал выдать ее замуж, а мои братья ей годятся во внуки! Она не хотела такого позора на старости лет! Я бы тоже лучше умерла на ее месте!
– Она, наверное, подумала, что Рагнвальд погиб, – едва не щелкая зубами, проговорила Тюра. – Аса, завари гусиной травы!
– Но я не успел… – начал Харальд.
– Она не хотела этого видеть. Откуда же она могла знать, что Ингер… Ох, девочка моя, ты-то зачем опять полезла под меч? – Тюра горестно всплеснула руками.
Когда дети малы, их подстерегает множество опасностей, но для взрослых жизнь не становится спокойнее. Тюра очень живо представляла собственные чувства, если бы на холодную землю упал ее сын, а не внук Асфрид.
– Похоже на то. – Харальд кивнул. – Если бы я его добил, то Асфрид осталась бы единственной наследницей своих земель. А если бы она умерла, то все права перешли бы к девушке, а та сбежала! И если старуха умрет, они так и уйдут от нас! Останься она жива, без внучки ей самой пришлось бы выйти замуж за Кнута…
– Может, за тебя! – язвительно возразила Ингер.
– У меня уже есть жена! – Харальд нашел глазами Хлоду, которая вяло рылась в ларе с сушеными травами.
– Это не настоящая жена!
– Мне хватит. У королей-христиан по одной жене.
– Ты просто не хочешь жениться на старухе!
– Странно бы я выглядел, если бы хотел! Но она досталась бы Кнуту. Он ведь был женихом внучки, значит, и бабка ему. А где Кнут? – вспомнив о брате, Харальд огляделся.
– Он взял людей и поехал искать свою невесту, – ответил Горм.
– Слава асам, догадался!
– Хлода, ты нашла что-нибудь? – окликнула королева.
– А что надо?
– Гусиную траву, лапчатку, горечавку, мышиный горошек, да хотя бы дубовой коры! Хоть что-нибудь найди наконец, а то она истечет кровью!
– А ты какого тролля влезла? – Харальд повернулся к сестре. – Я уже почти его убил!
– Тебе дай волю, ты всех перебьешь. А я не хочу, чтобы он умер.
– Это еще почему? – Харальд упер руки в бока и надвинулся на Ингер.
Но она не дрогнула: нашел кого пугать!
– Потому что это мой жених! – заявила она, горделиво и упрямо глядя брату в лицо. – Ты что, не слышал – он приехал из-за моря ради любви ко мне!
И вот тут Харальд согнулся пополам и захохотал. Напряжение всех ужасных и нелепых происшествий этой ночи сокрушило наконец и его.
* * *
Казалось, темнота будет длиться бесконечно, как в те века, когда боги еще не отделили ночь от дня. Гуннхильд сперва лежала на камне, съежившись, потом поднялась и встала на колени – лежать было слишком холодно. Она видела, как в темноте рощи мелькали огни факелов, слышала, как раздавался стук копыт, чьи-то голоса выкрикивали ее имя, но не шевелилась, лишь плотнее куталась в плащ. От всех потрясений и усталости этой ночи она впала в оцепенение и плохо понимала, на земле ли она или уже погрузилась в темные глубины Хель. Вокруг были только тьма и пустота, холод и отчаяние, страх и одиночество. Даже в теплом шерстяном кафтане и плаще на меху она мерзла и дрожала среди зимней ночи на холодном камне, но боялась сделать шаг – со всех сторон ее окружала бездна.
Нужно дождаться рассвета, чтобы хотя бы узнать, куда она попала. Но какой в этом смысл, ведь ей все равно некуда идти. Ее брат остался в Гормовой усадьбе и, наверное, погиб, Альрик и Халле тоже погибли, корабль ушел. Ждать до утра он уж точно не станет. Она была одна, совсем одна в этом мире холода, тьмы и пустоты. Гуннхильд склонилась на камень, почти не чувствуя своего тела, не обращая внимания, закрыты ее глаза или открыты – было одинаково темно. Она не знала, чего ждать, на что надеяться, чего хотеть. О каком чуде просить богов? Только том, чтобы заснуть навсегда.
Сознание уплывало, прячась от страха и одиночества. И вот уже твердая поверхность валуна стала чем-то мягким, облако тепла окутало лежащую девушку, и будто бы чья-то нежная рука мягко коснулась ее волос, чей-то дружеский голос шепчет слова утешения. И Гуннхильд видит себя не здесь, а в каком-то чудесном саду, где светло, на пышных деревьях колышется листва цвета червонного золота, а за их вершинами поднимается к сияющей голубизне крыша огромного дома, будто гора, покрытая золотыми щитами…
* * *
– Не может быть! – Харальд, усталый, осунувшийся за эту ночь, покачал головой. – Не могла она добраться до корабля одна. Если вы убили всех, кто за ней приехал, она осталась одна. Если она нашла корабль, это просто чудо!
Усадьбе Эбергорд так и не пришлось отдохнуть в эту ночь: близился рассвет, но никто не спал. Женщины ушли в девичий покой, мужчины собрались в грид, куда только что возвратился Кнут – он с десятком хирдманов был у моря, преследуя людей Рагнвальда. Вернулись они, приведя чужую лошадь, но этим и ограничивался их успех. Двоих незнакомцев удалось убить, но корабля Кнут и его люди не видели. Дочь Олава, пропавшая из усадьбы во время ночного переполоха, исчезла бесследно.
– А вы точно знаете, сколько людей с ним было? – спросил Горм. – Узнайте у самого Рагнвальда, он ведь в сознании?
– Да чего спрашивать? – отмахнулся Холдор. – По следам выходит, было четыре лошади. Две остались здесь, две ускакали.
– Одну лошадь мы поймали, одну пришлось забить, – кивнул Кнут, тоже усталый и утративший свой обычный жизнерадостный вид. – Ногу сломала в камнях.
– Ну вот! – подхватил Харальд. – Две лошади остались – которые назначались для нее и Рагнвальда. Но ускакали только две, и на одной был кто-то из тех парней с той красоткой. Двух лошадей вы нашли, у нас два трупа. Значит, она осталась одна и без лошади где-то в лесу возле берега. Надо искать дальше, если ты хочешь вернуть свою невесту! А то вторая невеста, знаешь ли, перерезала себе горло, а если женщина до такой степени не хочет за тебя выходить, я бы не стал ее принуждать!
– Перестань! – Кнут поморщился, ему было не шуток. – Сейчас опять пойдем искать. В темноте не было толку. Мы кричали, но она не отзывалась. Она могла тролль знает куда уйти за ночь, свалиться куда-нибудь… Уже светает, да? Надо взять побольше людей.
– Надо взять пару собак, – поправил Регнер. – Они живо ее выследят.
– Надеюсь, сыновья мои, вы найдете ее так или иначе, – заметил Горм. – Желательно живой, но если она мертва, хотелось бы и это знать наверняка.
При этих словах оба его сына переменились в лице: Кнут принял еще более опечаленный вид, а Харальд – более суровый и отчасти раздосадованный.
– А вот если мы совсем ее не найдем, это будет очень плохо, – продолжал конунг. – Если останется хотя бы вероятность того, что она попала на корабль и ее увезли… Это обещает нам в будущем еще немало неприятностей. Ведь ее пожилая родственница… в ее возрасте, и потеряв столько крови… если она выживет, это будет просто чудо, как ты сказал.
– Ах, конунг, неужели ты все еще хочешь взять эту старую женщину в жены кому-то из твоих молодых сыновей? – Епископ Хорит сокрушенно покачал головой. – Хоть ты и не знаешь христианской заповеди милосердия, но разумный человек не станет поступать с чужой матерью так, как он не хотел бы, чтобы поступали с его матерью…
Едва зреющий рассвет позволил разглядеть дорогу, люди Горма снова отправились на поиски. Теперь с ними были две охотничьи собаки; их привели на то место, где лежала мертвая лошадь со сломанной ногой, а там дали понюхать накидку из сундука Гуннхильд. Собаки сразу взяли след, и, попетляв немного по роще, привели погоню… к Серой Свинье.
– Стой! – шедший впереди Харальд вдруг схватил собаку за ошейник и взмахнул другой рукой, призывая спутников остановиться.
На огромном камне виднелись две женские фигуры. Одна лежала, свернувшись в комок, а вторая сидела рядом, положив руку на голову лежащей. Но в тот самый миг, как Харальд их увидел, сидящая женщина исчезла – так быстро, что он успел лишь отметить чье-то присутствие, но не разглядеть хоть что-нибудь. Осталось впечатление вспышки света – мягкого, отрадного. Мелькнули в сознание дивные видения: сияющее солнце, деревья с багряной листвой…
Присев на корточки и держась за собачий ошейник, Харальд застыл, пытаясь прийти в себя. Будто заглянул в мир альвов через приоткрытую дверь в скале, которая тут же и закрылась.
– Да, это она! – радостно воскликнул рядом с ним повеселевший Кнут. – Понятно, почему мы в темноте ее не нашли! Кому же пришло бы в голову искать на Серой Свинье?
– Да как же она туда залезла? – заговорили хирдманы.
– Только живая ли она?
– Замерзла!
– Ее не зарезали? Вишь, лежит, будто жертвенная овца!
– Да кто же мог?
– Или сама что-то сделала с собой… Эти бабы из Хейдабьора такие бешеные!
– Тише все! – Харальд опомнился и встал. – Сидеть! – прикрикнул он на собак. – Регнер, обойдите с той стороны на всякий случай. А мы пойдем и заберем ее.
Он кивнул брату, и вдвоем они направились к камню. А когда приблизились настолько, что уже не могли видеть его поверхность, оба слегка растерялись. Уважение к священному камню исключало мысль о том, что на него можно залезать. Да и как это сделать? Поверхность была довольно гладкой, на боках камня виднелось лишь несколько неглубоких выемок.
– Как она туда забралась? – вполголоса удивился Кнут.
– Со страху. Ее наверняка подсадили. Подсади меня!
Более высокий ростом и худощавый младший брат оперся на согнутую спину старшего, подтянулся и взобрался-таки на Серую Свинью. Девушка по-прежнему лежала, отвернувшись и сжавшись в комок.
Неслышно ступая, словно шел по спине спящего дракона, Харальд приблизился и обошел Гуннхильд спереди. Взобравшись на священный камень, он будто попал в страну богов и духов. Пусть это всего лишь каменный островок посреди суши, в длину и ширину по пять шагов.
С одной стороны на поверхности камня имелся выступ, который считался головой «свиньи». А под этим выступом было углубление, куда ветер накидал целую кучу палых листьев и сосновых игл. На этой лесной перине и лежала беглянка.
Харальд вдруг ощутил себя Сигурдом Убийцей Дракона, героем преданий. На самой вершине мира перед ним лежала спящая валькирия и ждала, пока он ее разбудит. До того он видел в Гуннхильд, дочери Олава, лишь представительницу враждебного рода, ведьму. Даже красота ее отталкивала, потому что делала ее лишь опаснее. Попытавшись сбежать, она вполне доказала, как мало можно полагаться на ее мнимую покорность и дружелюбие. Но здесь, на этом камне, она находилась под защитой богов.
Харальду вспомнилась вторая женская фигура, растаявшая от брошенного на нее взгляда, как тает тьма под лучом света. Кто это был? Фюльгья? Неведомый иномирный покровитель – дух предка или даже божество? Предки всегда заботятся о потомках, а в предках Инглингов – сами божественные ваны.
Харальд застыл, не решаясь ее потревожить. Никогда еще дочь ютландских Инглингов не казалась ему такой красивой: с закрытыми глазами, бледная, осунувшаяся, с длинной красной царапиной на щеке. Пятнышко крови в углу рта, видимо, из той же царапины придавало этому тонкому лицу нечто жутковатое и в то же время внушающее благоговение: она была похожа на богиню, явившуюся за своей долей жертвы. И в то же время казалась невесомой, прозрачной, зыбкой, как отражение. Дева из рода светлых альвов, случайно попавшая на землю. Прикоснись к ней – и она растает. Было чувство, что если он потревожит ее, даже просто шевельнется, то разобьет что-то огромное, хрупкое и очень важное.
Что он скажет этой валькирии, когда она проснется? Что услышит от нее? Та ли это девушка, что уже много дней жила в их доме – или совсем иное существо, лишь принявшее облик дочери Олава?
– Ну что там? – донесся снизу приглушенный, полный тревоги голос Кнута. – Харальд! Она жива? Что ты застыл? Что с ней?
Опомнившись, Харальд шагнул еще ближе, присел на корточки, поднял руку и снова замер, не смея прикоснуться к девушке.
Но тут – то ли голос Кнута вторгся в ее хрупкий сон, то ли ощущение чужого присутствия, – Гуннхильд проснулась сама. Дрогнули ресницы, поднялись веки, бессознательный взгляд невольно упал на лицо склонившегося над ней мужчины. И ему снова показалось, что это существо спало здесь, на вершине мира, долгие сотни лет и страшно чуждо, при всей своей красоте, окружающему пространству и людям.
Но это длилось лишь мгновение: Гуннхильд вздрогнула, опомнилась, глаза ее изумленно расширились, она бросила недоумевающий взгляд по сторонам.
Как она сюда попала?
И тут же, прежде чем Харальд успел что-то сказать, Гуннхильд все вспомнила.
В глазах ее отразился ужас. После всего пережитого она проснулась, обнаружив, что заснула, а тем временем к ней вплотную подошел тот самый человек, которого она более всего опасалась!
Гуннхильд приподнялась, прижалась спиной к камню, будто желая отодвинуться от Харальда как можно дальше, но бежать было некуда, Харальд преграждал ей выход из углубления на шее каменной свиньи.
Но ее порыв к бегству был так очевиден, что Харальд, повинуясь чувству охотника, подался к ней и схватил за обе руки.
– Пусти! – хрипло выдохнула она и попыталась вырваться.
– Тихо! – повелительно и властно, как собаке или лошади, одновременно воскликнул Харальд. – Ты как сюда залезла?
– Не твое дело! Пусти!
– Харальд, ну что там? Гуннхильд! Что с тобой? – кричал снизу Кнут. – Да подсадите меня кто-нибудь! – воззвал он наконец к хирдманам, которые предпочитали из осторожности не подходить ближе к священному камню. Пусть конунговы сыновья объясняются с богами, потомки все-таки.
Однако подсаживать его никто не решился, да и Харальд крикнул сверху:
– Не надо! Мы сейчас спустимся. Ну, пойдем! – обратился он к Гуннхильд и встал, по-прежнему держа ее за обе руки и собираясь поднять. Теперь он сердился на виновницу всего произошедшего. – Довольно ты набегалась! Чем тебе не спалось у матери в покое, что захотела поспать на камне? Может, желала увидеть вещий сон? И как, понравилось? Я-то за эту ночь такого навидался!
Гуннхильд не шевелилась, и он сам поднял ее на ноги. Однако она так замерзла и все ее члены так онемели, что стоять она не могла и снова почти упала на свою подстилку из рыжей сухой хвои.
– Ч-что с м-моим братом? – еле выговорила Гуннхильд.
Об этом она подумала в первую очередь, когда осознала свое положение.
Уже рассвело – стало быть, так или иначе все кончено!
– Я у-убил его! – рявкнул Харальд, и его постоянное заикание в сочетании со слабым, дрожащим и хриплым голосом девушки придавало этой беседе нелепое и жуткое звучание. – Как же вы мне надоели, Инглинги! Вашей тупостью и отвагой я сыт по горло!
Убил… Ее брат убит… как она и думала… и сейчас она вернется в усадьбу, и все пойдет по-старому, только теперь уже почти без надежды на благие перемены…
Харальд по-прежнему держал Гуннхильд за обе руки, не давая упасть. Стоя вплотную к нему, она высвободила одну руку. Он выпустил ее, полагая, что девушка уже может обойтись без поддержки. Она скользнула взглядом по его фигуре и заметила пятна и брызги крови, усеявшие подол рубахи и кюртиль из синей шерсти. А еще заметила два ножа: небольшой поясной нож и скрамасакс – с левой стороны. Скрам слишком длинный, его не вытянешь из ножен одним движением…
Незаметно опустив руку, она коснулась ремня Харальда, будто в поисках опоры, а потом быстро выдернула из ножен поясной нож и со всей силы ударила Харальда в бок.
Он скорее ощутил ее движение, чем почувствовал боль; с коротким криком он отшатнулся, одновременно хватая ее за запястье руки с ножом. Гуннхильд дернула руку на себя, но безуспешно; Харальд так стиснул ее запястье, что едва не вывихнул. Он заломил ей руку, и Гуннхильд вскрикнула от боли, сгибаясь пополам. Харальд вырвал нож. Лезвие его было слишком коротким, и, благодаря трем слоям шерстяной одежды, погрузилось в тело не более чем на сустав пальца. К тому же лезвие было предназначено лишь для разделки мяса, а рука Гуннхильд после этой ночи была не так сильна, как у валькирии на поле битвы. Тем не менее кровь шла из раны на боку под ребрами; Харальд бранился, но не решался выпустить руку Гуннхильд и что-то сделать со своей раной.
– Да что у вас там происходит? – кричал снизу Кнут, который слышал какие-то подозрительные звуки, но ничего не видел.
– Дерутся! – кричали поодаль стоящие хирдманы, способные видеть поверхность камня.
– Она его убила!
– Зарезала!
– Тролли, да подсадите вы меня!
Несмотря на мнимое убийство, хирдманы медлили: Харальд стоял на ногах, держал ведьму за обе руки и не был похож на человека, которому нужна помощь. Наконец он подтолкнул Гуннхильд к краю Серой Свиньи, схватил за запястья и с криком: «Лови!» – спихнул вниз.
Гуннхильд вскрикнула, вдруг повиснув в пустоте и ударившись о боковую поверхность камня. Но тут уж Кнут не растерялся: живо подхватил ее, поставил на землю и обнял, чтобы не упала.
– Что с тобой? – В глаза ему бросилось смазанное пятно свежей крови у нее на руке. – Ты ранена?
– Нет, это я ранен! – злобно крикнул Харальд, спрыгивая наземь. – Твоя ведьма пыталась меня убить моим собственным ножом!
– Так тебе и надо! – К Гуннхильд наконец вернулся дар речи. – Жаль, нож у тебя короткий и тупой, как ты сам! Ты убил моего брата – так что мне было, поцеловать тебя?
– Да он не убил его! – закричал Кнут. – Твой брат жив, только ранен! Ингер не дала его добить!
– Тоже лезет куда не надо… – сердито ворчал Харальд, зажимая рану на боку. – Эй, что смотрите, дайте что-нибудь перевязаться!
Кто-то оторвал полосу от подола, Харальд снял пояс, расстегнул кюртиль, его спешно перевязали прямо поверх нижней рубахи.
– Пошли уже! – Он взмахнул рукой. – Тролли б вас всех взяли! Слушай, ты, ведьма!
Харальд решительно вырвал Гуннхильд из объятий Кнута, схватил за плечи и притиснул к священному камню.
Она смотрела ему в глаза, ожидая, что сейчас он ее убьет, но скорее надеясь на это, чем страшась. И он, увидев в голубых глазах девушки некое оцепенение решимости вместо страха, вдруг утих. Внезапно он осознал, что в его руках существо пусть и слабое телом, но не менее сильное духом, готовое действовать, как велит долг, и не боящееся смерти. Это было совсем не то, чего он ждал от хорошенькой смешливой девушки, и Харальд даже слегка растерялся, хотя по-прежнему был зол на нее.
– Слушай меня! – повторил он, склонившись к самому ее лицу и прижав оба ее запястья к камню. – Твой брат жив, хотя стоило бы его убить. И твоя бабка жива, хотя она пыталась себя убить у всех на глазах, и это ее кровь у меня на одежде. Решимости вам не занимать, да вот руки слабы. И теперь только от тебя зависит, будут ли они оба жить и дальше. Если ты попытаешься что-то сделать с собой, то я своими руками вырежу ребра твоему брату. А за твоей бабкой никто не станет ухаживать, и она умрет, как больная собака. Ты п-поняла?
Он требовательно смотрел ей в глаза, ожидая ответа. Гуннхильд кивнула, почти невольно, подавленная этим натиском. Он приковал ее к камню, и она ощущала себя полностью во власти этого сильного и злого человека. Но главное, он сказал, что ее родичи живы и нуждаются в ней.
– Поклянись, что больше ничего не выкинешь, пока мы хотя бы не вернемся в усадьбу, – потребовал Харальд.
Сейчас она готова была пообещать что угодно, лишь бы ей позволили еще хоть раз взглянуть на Асфрид и Рагнвальда. Но не могла вымолвить ни слова: глаза Харальда были так близко, почти вплотную, и Гуннхильд растерялась, почти забыв, о чем они говорят.
И его взгляд вдруг изменился, будто он тоже подумал о чем-то другом. Вдруг мелькнуло чувство, что сейчас он поцелует ее, и почему-то эта мысль так взволновала ее, что стало жарко.
– Клянусь… Фрейей, – прошептала Гуннхильд.
И при этих словах им обоим вспомнилось видение сада с багряной листвой и крыша с золотыми щитами. У Гуннхильд мелькнуло в памяти ощущение ласкового тепла, согревавшего ее этой холодной ночью на жестком камне, а у Харальда – женская фигура возле лежащей беглянки, исчезнувшая от одного его взгляда, мгновенно и беззвучно, тает легкая как рябь на воде.
* * *
Когда они вошли в усадьбу, Гуннхильд сразу бросилось в глаза заплаканное лицо Богуты. Заслышав крики: «Идут!», та вышла встретить свою молодую госпожу. Гуннхильд выглядела и впрямь будто лесная ведьма: растрепанная, исцарапанная, бледная, с прилипшей к плащу хвоей и следами мокрой земли. И пахло от нее влажным камнем, мхом и хвоей. Кнут вел ее за руку, Харальд шагал позади, не спуская с нее глаз. Пусть она и поклялась, ему все казалось, что эта девушка может когда угодно превратиться в кошку и убежать, растаять, провалиться сквозь землю…
И вся толпа обитателей усадьбы глазела на нее, будто на чудо морское. В десятках жадно устремленных на нее взглядов Гуннхильд видела любопытство, смятение, даже страх. Этой ночью неоднократно пролилась кровь, и каждый раз это было так или иначе связано с ней. На нее смотрели как на Гудрун, сидящую на брачном ложе с окровавленным мечом в руках, как на Сигню, готовую шагнуть в пылающий дом, как на королеву Асу, уже держащую в руке факел и намеренную подпалить жилище собственного отца, полное людей.
Не сговариваясь, сыновья Горма первым делом направились в грид – предъявить добычу отцу. Конунг выглядел озабоченным и не таким добродушным, как обычно. Увидев окровавленную повязку под расстегнутым кюртилем Харальда, он поднял брови, но Харальд молчал, и Горм ничего не спросил.
– Рад видеть тебя живой и довольно невредимой, девушка, – приветствовал он Гуннхильд, не показывая, каким большим облегчением для него было убедиться, что она все же не уехала за море. – Хотя весьма огорчен твоим поведением. Зачем ты все это устроила?
– Я ничего не устроила, – спокойно, безучастно отозвалась Гуннхильд.
– Но ты хотела тайком покинуть мой дом!
– За мной приехал мой брат. Как я могла идти против его воли? Ведь я не пленница у тебя в доме, Горм-конунг! – Гуннхильд твердо взглянула ему в глаза. – Я сама пришла к тебе и имею право сама уйти, когда захочу.
– Ты все же сомневалась в этом, раз пыталась убраться тайком, да еще через ограду возле отхожего места!
– Я свободная женщина и могу выбирать, каким образом мне покинуть чужой дом! – Гуннхильд попыталась улыбнуться, а всем вдруг бросилось в глаза ее сходство с Рагнвальдом: брат Гуннхильд в эту ночь тоже выказал немалую охоту шутить среди огня.
– Больше она ничего такого выбирать не будет! – заявил Харальд у нее за спиной. – Отныне, конунг, за ней будут хорошенько присматривать. И лучше всего было бы посадить ее под замок!
– Конунг! – В грид вошла служанка Тюры. – Королева послала передать, что госпожа Асфрид очнулась и очень хочет видеть молодую госпожу Гуннхильд. И тебя она тоже просит прийти.
– Вот как? – Горм поднялся. – Тебе, девушка, наверное, хочется повидать твою родственницу? Ты ведь еще не знаешь, что произошло?
– Что? – Гуннхильд вздрогнула.
– Она пыталась перерезать себе горло, когда увидела, что твоему брату грозит смерть.
– Но ты сказал, она жива… – Гуннхильд оглянулась на Харальда.
Неужели он ее обманул, чтобы заставить покориться?
– Она жива, но… иди, раз уж она еще способна говорить с тобой! – с досадой подтвердил Горм. – А то ведь можно не успеть!
Он пытался сохранять властный и суровый вид и невольно хмурился, чтобы подавить досаду и жалость. В его руках были две женщины, одна юная, другая старая, обе они были беспомощны, но пытались противиться его воле изо всех сил. Горм чувствовал себя почти так же гадко, как если бы сам попытался перерезать старухе горло поясным ножом и теперь был вынужден рассказывать об этом ее внучке. К тому же обе эти женщины были родственницами его жены, и он чувствовал себя так, будто в его доме разворачивается внутриродовая распря.
В это время кто-то потянул Гуннхильд за рукав: обернувшись, она увидела Богуту. Вендка дрожала, по лицу ее катились слезы.
– Идем скорее! – пробормотала она и всхлипнула. – Короле…ва Асфрид…
– Что? – холодея, прошептала Гуннхильд.
– Она зовет тебя… скорее…
Гуннхильд вырвала свою холодную руку из ладони Кнута и побежала к дверям.
В женском покое было почти темно, лишь два светильника с китовым жиром освещали его слабыми огоньками – один на приступке лежанки, другой на большом ларе. В полутьме Гуннхильд едва разглядела Асфрид – бабушка вдруг показалась такой маленькой, хрупкой, слабой. Она лежала, поднятая на подушках, и едва дышала. На ее шее была многослойная льняная повязка, желтая от сока целебных трав, с проступившими пятнами свежей крови. Лицо изменилось, осунулось, глаза запали, вокруг них была коричневатая тень, они смотрели словно уже из иного мира, страшно далекого отсюда.
Гуннхильд едва сдержала крик и зажала ладонью рот. Перед ней была уже не та женщина, к которой она привыкла с рождения, у которой на коленях выросла. Это было иное существо, знающее больше смертных и живущее иными заботами. Хотелось разрыдаться от страха и потрясения, и Гуннхильд призвала все свое мужество, чтобы хотя бы промолчать.
Увидев внучку, Асфрид попыталась поднять руку, но та лишь дрогнула на одеяле. Гуннхильд бросилась к бабушке, села на край лежанки и сама схватила ее руку. Та была влажной, слабой, мягкой.
– Ты вернулась… – прошептала Асфрид. – Ты…
– Прости, у нас ничего не получилось. – Гуннхильд только сейчас полностью осознала, что замысел побега провалился и значительно ухудшил дело. – Мы заблудились в темноте, не нашли корабль, Халле и Альрик погибли. Рагнвальд… я не знаю, что с ним, но мне сказали, что он жив и ранен.
– Да, он жив… но теперь не он, а ты будешь защищать его… – шептала Асфрид так тихо, что Гуннхильд приходилось склоняться к самым губам, чтобы что-то расслышать.
У нее было чувство, что бабушка, ее последняя надежда и защита, ускользает, как тень, как волна отлива, и никак нельзя удержать ее, сколько ни сжимай эту слабую холодную руку. Это лишь видимость, будто она еще здесь, на самом деле между ними уже пролегла пропасть. Асфрид дышала очень слабо, говорила с перерывами, из последних сил торопясь сказать самое важное. Глаза ее были полузакрыты.
– Где… где Горм? Пусть он придет… сейчас…
Услышав движение позади, Гуннхильд оглянулась: вошел Горм, за ним оба сына, Холдор, Регнер, потом появилась Ингер. Еще какие-то люди толпились у двери.
– Ко… нунг… – Асфрид перевела взгляд на Горма, и тот, подойдя еще ближе, наклонился к ней. – Хорошо… что ты пришел с людьми. Я должна… сказать… Я… согласна. Пусть будет, как ты… хотел. Слиасторп – приданое моей… Гуннхильд, дочери Олава. Она… одна… только ее имущество. Я отдаю… отдаю ей все, чем владел наш род. Она… последняя. Госпожа Кольца. Все принадлежит ей. Поклянись, что… все будет по закону…
– Я понял тебя! – Горм выпрямился. – Сейчас, пока силы еще не оставили ее, эта знатная женщина, Асфрид, дочь Одинкара, сына Сигфреда, признает свою внучку, Гуннхильд, дочь Олава, наследницей усадьбы Слиасторп и всего, что к ней прилагается. Как глава рода, оставшаяся после смерти, бегства и пленения мужчин семьи, госпожа Асфрид назначает Гуннхильд, дочь Олава, единственной наследницей и дает согласие на ее брак с моим сыном Кнутом на условиях, о которых мы говорили раньше. Я, со своей стороны, обещаю, что Гуннхильд, дочь Олава, будет законной женой моего сына Кнута со всеми вытекающими из законного брака правами и почетом. Ты хочешь, чтобы все эти люди были свидетелями нашего уговора? – Он наклонился к Асфрид, принял трепет ее век за согласие и снова выпрямился. – Пусть свидетелями будут мои сыновья Кнут и Харальд, с благословения их матери Тюры, дочери Харальда, Регнер, сын Хагена, из усадьбы Беркеторп, и Холдор, сын Гуннара, по прозвищу Могучий, из усадьбы Тью. Поклянитесь, что вы слышали условия нашего договора с госпожой Асфрид.
– Призываю в свидетели Одина и асов! – первым отозвался Харальд, казавшийся очень серьезным, за ним все остальные.
– Воз… возьми… – с трудом выговорила Асфрид и двинула рукой, потом повернула голову. Но Гуннхильд ее не поняла, и она добавила: – Кольцо… Фрей…
Сообразив, Гуннхильд осторожно просунула руку под подушку и нащупала там мешочек из плотного шелка. Он был завязан плетеным шелковым же шнурком, а на шнуре виднелась бирка из ясеня, с «вязаной» руной, что защищает сокровище и грозит тяжкой карой тому, кто попытается его похитить.
– Теперь оно твое, – чуть слышно шепнула Асфрид, увидев мешочек в руках внучки.
И закрыла глаза, будто завершив все дела.
Тюра сделала мужчинам знак выйти, сама села рядом с больной. Гуннхильд стояла на коленях, уронив голову и уткнувшись лицом в край бабушкиной подушки. Харальд, прежде чем уйти, бросил долгий пристальный взгляд на ее затылок и упавшую на пол рыжую косу, растрепанную, с застрявшими хвоинками.
Тюра вытерла платком лоб Асфрид, потом взяла ее за руку. Гуннхильд изо всех сил старалась подавить рыдания, но слезы текли неудержимо. Она помнила тот разговор с Асфрид, когда та рассказала о своей молодости: оставшись одна из всего рода, она приняла наследство и вместе со своей рукой передала его победителю, чтобы обеспечить роду хоть какое-то будущее, чтобы ее предки получили возможность возродиться с долей конунгов, а не рабов. И то, что теперь Асфрид сама передала то же наследство Гуннхильд, означало, что она не видит для внучки иного выхода и другой надежды. Без поддержки племянника, без возможности через брак дочери найти поддержку у шведов, Олав ничего не сможет сделать. Своему сыну госпожа Асфрид уже ничем не могла помочь, из всей семьи она могла спасти только внучку. И она сделала это, отдав последние силы и последние мгновения своей долгой жизни.
Горм принял ее условия, отныне судьба Гуннхильд была решена и устроена. Но она осталась одна – как Асфрид сорок лет назад. И Асфрид умирала – та, что уже многие годы заменяла ей мать, учила, защищала, была для нее хранительницей старины, драгоценным звеном в цепи поколений знатного рода, воплощением Фригг. Казалось бы, всего лишь старая женщина – но сейчас Гуннхильд осознала, что все это время именно близость бабушки поддерживала в ней дух и давала надежду, делала смелой, будто все это лишь веселая игра. Все еще жила в самой глубине души детская вера, что пока бабушка рядом, все будет хорошо, ведь она все знает, все умеет, может дать совет, одолеть любую беду. Пока она спокойна, ничего по-настоящему страшного не происходит – а старая королева была спокойна всегда. И, к чести Асфрид, женщина королевского рода и в старости умела держаться так, что ее считали опорой, а не обузой. Гуннхильд мечтала в ее годы быть такой же, но не верила, что у нее получится.
– Да будет благосклонна к тебе дочь Локи, отныне твоя королева! – раздался у нее над головой тихий и печальный голос Тюры. – И ты, Хель, прими достойно эту прекрасную женщину, знатную, мудрую, справедливую, во всем искусную и отважную.
И словно бы мягкая, невесомая ладонь ласково коснулась затылка Гуннхильд. Не желая верить в то, что должны были означать слова Тюры, она подняла заплаканное лицо. Черты Асфрид, освещенные пляшущим огоньком светильника, застыли, веки были полуопущены. Тюра осторожно протянула руку и закрыла глаза своей старой родственнице. Потом будто украдкой смахнула слезу со щеки. Их с Асфрид связывала общая кровь старинного рода, слава и память предков, да и за время совместной жизни в этом доме они прониклись взаимным уважением.
– Не грусти, дорогая! – Тюра повернулась к Гуннхильд и наклонилась, чтобы обнять ее. – Асфрид и жизнью, и даже смертью своей сделала честь вашему роду. Теперь ты моя дочь. Твоя бабушка позаботилась о тебе, сделала все, что от нее зависело. Ты будешь вслед за мной королевой всей Дании. Всегда помни, расскажи своим детям, что в груди твоей бабушки Асфрид билось мужественное и решительное сердце, которое сделало бы честь и мужчине.
Не отвечая, Гуннхильд вцепилась в застывшую руку Асфрид и зарыдала, пряча лицо на смертной подушке.
Невесомая старческая рука в ее ладони медленно остывала.
* * *
Еще день, а может, два Гуннхильд провела как в тумане. У смертного ложа бабушки она впала в оцепенение, не то сон, не то обморок, и почти не заметила, как ее подняли и унесли. Она не то спала, не то впадала в забытье; просыпаясь, сразу вспоминала все, что случилось, и торопилась заснуть опять, словно пытаясь спрятаться от этого ужаса. Совсем рядом с собой она видела Рагнвальда; брат был жив и довольно бодр, даже пытался подбадривать ее, но его слова не доходили до ее сознания, и она снова засыпала, успокоенная отчасти тем, что хотя бы один близкий человек остается с ней.
И все время ей снился Харальд: она снова видела его серо-голубые, светлые глаза совсем рядом, вплотную, видела его взгляд, изменившийся, наполненный особым смыслом… Мерещилось, будто он сейчас где-то близко, лежит возле нее, обнимает. Странно было ожидать утешения от него, ее врага, но Гуннхильд чувствовала, что именно он мог бы оказать ей наилучшую поддержку, и невольно тянулась к нему. И сейчас, во сне, ощущение его близости наполняло Гуннхильд не тревогой, как наяву, а глубокой радостью, обнимавшей тело и душу, теплым чувством блаженства.
После ночи на холодном камне и всех потрясений Гуннхильд могла бы заболеть, но этого не случилось. Ей снова мерещилось, будто некое существо, похожее на нее, но во сто крат прекраснее, сидит возле изголовья, и само присутствие этого существа согревало и наполняло силами.
«Твоя бабушка умерла!» – сказал суровый голос в голове, едва сознание выпуталось из сна. Мысль о том, что больше нет бабушки, которая стала бы лечить ее и ухаживать за ней, а еще о том, что некому, кроме нее, позаботиться о раненом брате, заставила ее довольно быстро прийти в себя. Гуннхильд не знала, один день прошел или два, но вот она проснулась, уже с довольно ясной головой, и попыталась осмыслить положение.
Оказалось, что после ночи неудавшегося бегства их с Рагнвальдом обоих заперли в чулан, служивший ранее кладовкой, а теперь – хранилищем для опустевших ларей и бочонков. Вот откуда запах тухлой рыбы, раздражавший ее день и ночь – ей устроили постель, бросив пару тюфяков на доски, уложенные на несколько составленных вместе бочонков из-под соленой рыбы. И хотя под присмотром хозяйственной Тюры их тщательно вымыли, этот запах окончательно истребить невозможно. Так же была устроена постель и для Рагнвальда.
Поднявшись, Гуннхильд первым делом осмотрела рану Рагнвальда. Та оказалась чистой и вид имела довольно неплохой – обошлось без нагноения.
– Чем тебя лечат? Здесь нужны березовые почки, сейчас самое время их собирать. Жаль, дуб еще не выпустил листочки, они бы пригодились. Болит? Здесь нужна белая кувшинка и еще рогоз…
– Королева меня лечит. Все же мы ей родичи, и она не может бросить нас без помощи. Говорит, что Асфрид смотрит на нас и не простит небрежения ее внуками.
– Бабушка и сейчас нам помогает, – вздохнула Гуннхильд. Горло перехватило, глаза наполнились слезами. – Ну зачем, зачем она это сделала?
Рагнвальд помолчал.
– Это из-за нас, – обронил он чуть погодя. – Мне рассказала молодая госпожа Ингер. Горм сказал, что раз уж ты сбежала, то он выдаст Асфрид замуж за своего сына. А она не хотела на старости лет оказаться женой парня, который ей годится во внуки, и не хотела, чтобы права на нашу землю ушли к Кнютлингам вместе с ее рукой. Она надеялась, что ты сумела уехать, и тогда, если бы она умерла, права на наследство уехали бы вместе с тобой. И когда ей показалось, что меня уже убили…
– Выходит, это все из-за меня! – от слез Гуннхильд едва могла говорить.
– Ну, ты не виновата, что не смогла уехать! – Рагнвальд лежа протянул руку, стараясь коснуться ее. – Я уже слышал, как все было. Кнут перекрыл вам дорогу к кораблю, а Халле, бедняга, до последнего пытался увести тебя…
– Он погиб, – всхлипывая, добавила Гуннхильд. – Посадил меня на камень и погиб.
– Он уже в Валгалле. Хоть рода он был не знатного, но умер как мужчина.
– Я думала, ты тоже погиб.
– Я сам так думал! – Рагнвальд усмехнулся. – Меня спасла Ингер.
– Почему это? – Гуннхильд подняла на него мокрые от слез глаза, вытирая щеки.
– Я ей понравился! – Рагнвальд тихо рассмеялся. – Я тут изображал того норвежца, Франмара, который дал на йольском пиру обет, что возьмет в жены Ингебьёрг, дочь конунга Ингвара из Гардов, или умрет. Говорил, что явился сюда, чтобы похитить Ингер, о красоте которой известно по всем Северным Странам.
– Да неужели она тебе поверила? – недоверчиво спросила Гуннхильд.
Она знала, что дочь Горма горда и честолюбива, но ведь не глупа!
– Может, и не так чтобы поверила, но ей определенно понравилось! Ведь это приятно, когда ради тебя сын конунга является из-за моря и в одиночку лезет ночью во вражескую усадьбу? Это прямо сага, пусть и не совсем правдивая. А она, кстати, и правда ничего себе.
– Ничего себе! Да она красавица! Прямо как из саги вышла! И смелая к тому же.
– Это кто тут вышел из саги? – раздалось от двери.
Брат и сестра обернулись – на пороге стояла именно та, о которой они говорили.
– Ты проснулась наконец, спящая валькирия? – Ингер кивнула Гуннхильд. – А я уже хотела позвать Харальда, чтобы он тебя поцеловал, как Сигурд Брюнхильду, а то думала, ты так и будешь спать еще сто лет.
– Почему это Харальда? – Гуннхильд покраснела, вспомнив свои сны.
И что это на нее нашло – наяву мысль о том, чтобы целоваться с Харальдом, казалась удивительно нелепой.
– Ах, ну да, лучше Кнута! – Ингер усмехнулась. – Но ведь это Харальд лазил за тобой на Серую Свинью. Говорят, ты спала там беспробудным сном, как Брюнхильда на своей горе. Может, он там уже целовал тебя, чтобы разбудить, пока Кнуту не было снизу видно?
– Ничего подобного! – запротестовала Гуннхильд, хотя у нее мелькнула мысль, что, если бы Харальд это сделал, она могла бы не заметить во сне. – Он не больше хочет целоваться со мной, чем я с ним. Он ведь считает меня ведьмой, от которой вам один вред!
– Может, ты и права. Ему все меньше нравится то, что Кнут собирается взять тебя в законные жены. Но теперь больше нечего делать – ведь Асфрид объявила тебя единственной полноправной наследницей, Госпожой Кольца, у вас ведь так это называется? И если кто-то из моих отважных братьев возьмет тебя просто в наложницы, все права перейдут к вашему родственнику Олаву. А пока он жив, он ведь еще может найти себе поддержку. Что мешает твоему отцу снова жениться? Или поискать поддержки у дальней родни. Говорят, у Инглингов в Гардах очень много земли и людей и они весьма воинственны.
Брат и сестра помолчали, думая об одном. Если Олав отправится за помощью в далекие Гарды, в этом году его едва ли стоит ждать обратно.
– Но мы говорили о тебе, – вновь начала Гуннхильд. – Как ты могла на такое решиться?
– На что?
– Зачем ты полезла, когда меня тянули через частокол?
– Но не могла же я допустить, чтобы мой брат лишился невесты, а род – прав на Южную Ютландию! Мой отец может стать властелином всей Дании, а ты вдруг надумала сбежать!
– Но как ты решилась вмешаться – ведь тебя могли убить!
– Меня? – Ингер выразительно удивилась.
Природной робостью она не страдала, зато с детства привыкла к мысли о своей неприкосновенности. «Да кто же посмеет меня тронуть?» – говорил ее взгляд.
– Тебе очень повезло, что там был я, – заметил Рагнвальд, пристально глядя на нее. – Другой на моем месте мог бы просто перерезать тебе горло, чтобы наступила тишина.
– Ты тоже был со мной невежлив! – Ингер потыкала пальцем себе в лоб, где осталась красная ссадина от соприкосновения с бревнами частокола.
– Это заживет.
По первоначальному замыслу Рагнвальду полагалось ждать сестру за стеной усадьбы снаружи, а встретить ее во дворе и подсадить в петлю для подъема должен был Кетиль Заплатка – тот, что теперь наряду с прочими изображал недоумение и искусно делал вид, будто он здесь ни при чем. А тот, хромой волк, битый жизнью и не знающий жалости к другим в борьбе за собственное выживание, без колебаний полоснул бы красотку ножом по горлу и тем обеспечил благополучный исход побега. Рагнвальд не смог этого сделать, поняв, что имеет дело со знатной молодой женщиной, скорее всего невесткой или дочерью Горма. За что и поплатился провалом всего дела. Правда, сейчас, глядя на Ингер – ее статную фигуру, белое лицо с правильными чертами, пышные вьющиеся волосы, будто водопад белого золота, – он ничуть не жалел о своей доброте. К тому же она потом с ним рассчиталась, не дав Харальду его добить.
– Я должна тебя поблагодарить, – промолвила Гуннхильд. Она тоже понимала, что обязана Ингер провалом бегства, но зато и спасением брата. – Ты сохранила ему жизнь…
– Да. – Ингер смерила Рагнвальда небрежно-оценивающим взглядом. Он пристально смотрел на нее. – Я подумала… сама не знаю, что я подумала. Должно быть, мне понравилось совершать подвиги!
На самом деле Рагнвальд был прав: ей понравился он сам. Ведь Рагнвальд, сын Сигтрюгга, был не только знатен родом, но и весьма красив, хотя ранее не было случая указать на это. Немного выше среднего роста, сильный и ловкий, он имел правильные, хоть и грубоватые черты лица, а длинные светлые волосы носил завязанными в хвост. Несколько обветренная кожа позволяла серо-голубым глазам сиять еще ярче; взгляд их, когда он разговаривал с девушками, обычно принимал ласковое и немного шальное выражение; в широкой улыбке удивительным образом сочетались детская простота и самоуверенность, если не наглость человека, знающего себе цену. А тот, кто сам знает цену себе, всегда будет ценим окружающими, особенно иного пола. Рагнвальд везде привлекал внимание женщин и считал, что именно о нем сложена старая пословица: «Кого все женщины любят, тот горя не знает». Голос его, низкий и звучный, производил на женщин самое чарующее впечатление. К тому же он был отважен, находчив, всегда весел, никогда не терял присутствия духа и здравого смысла.
Возможно, своей красоте и веселой, немного шальной, соблазнительной улыбке он был обязан тем, что даже использование Ингер в качестве живого щита не уронило его в ее глазах: она видела в этом решимость и способность быстро соображать, качества вполне похвальные. И ей нравилось вспоминать о том, как он держал ее, прижимая к себе. Даже при таких условиях его объятия утоляли ощущение томительной пустоты внутри, которая нередко ее мучила; ей часто хотелось прижаться покрепче к кому-нибудь сильному и теплому, нравился запах мужчин, их прикосновения – отсюда и выросло это глупое свидание с хирдманом Асгейром, приведшее к таким важным последствиям. Но теперь Асгейр был забыт, как детская игрушка подросшей девушки. Появился сын конунга – красивый, веселый и отважный. Ингер и впрямь не поверила, что Рагнвальд явился сюда ради нее, но слышать это тем не менее было приятно.
К тому же… встречая его взгляд, в котором таился веселый соблазн и лукавый вызов, она думала, что он лишь слегка поторопил события и сказал правду, еще сам того не зная! Она была бы дурой, если бы допустила смерть такого человека. А то, что Рагнвальд, сын Сигтрюгга, из рода ютландских Инглингов был врагом ее рода и с его смертью у Кнютлингов стало бы гораздо меньше забот, для Ингер было не важно. Гораздо важнее то, что с его появлением ей вдруг стало так весело жить, что ни за какие сокровища она не согласилась бы этого лишиться.
Часть 2
В ближайшие дни Гуннхильд удалось выйти из чулана только один раз: на погребение Асфрид. Столь знатную женщину, к тому же родственницу королевы Тюры похоронили возле могилы Хёрдакнута, там же, где намеревался упокоиться со временем и сам Горм. Рагнвальд еще не мог встать, и Гуннхильд была на погребении и поминальном пиру единственной из близких покойной. Кнут бросал на нее обиженно-жалостливые взгляды, Харальд, кажется, вовсе на нее не смотрел, но главной заботой Гуннхильд было сохранять спокойный вид и не заливаться слезами на глазах у людей. А это было очень трудным делом: рассказывались саги и исполнялись висы, посвященные наиболее прославленным людям рода, а ей самой пришлось перечислить всех своих предков, начиная от Скъёльда, как доказательство того, что она достойна принять наследство. Но мысли ее были с бабушкой – с той, что растила ее и была рядом каждый день жизни. О чем бы Гуннхильд ни подумала, на память приходила Асфрид; мерещилось, она и сейчас совсем рядом, вот-вот прикоснется к плечу, но сколько ни верти головой, увидеть ее больше нельзя. И так теперь будет всегда. А новая встреча после смерти казалась такой далекой, что при мысли об этом громадном времени разлуки щемило сердце.
Потом Гуннхильд вернулась в чулан. Вновь эти тесно сомкнувшиеся дощатые стены, вечная полутьма, разгоняемая лишь тусклым фитильком в плошке с китовым жиром, холод, вонь от бочек из-под соленой рыбы. Вечером Гуннхильд дозволялось выйти в грид и недолго погреться возле очага. Рагнвальд, пока не имея возможности ходить, был лишен и этого. Хорошо, что уже наступила настоящая весна, близилось летнее тепло, и можно было жить без очага, но все же ночами она еще зябла. Как рассказала Ингер, это Харальд настаивал, чтобы Гуннхильд держали взаперти до самой свадьбы. Дескать, она не достойна доверия и не понимает хорошего отношения к себе.
Свадьбы… Из темного, холодного и вонючего чулана Гуннхильд выйдет в тот день, который сделает ее будущей королевой Дании, но она никак не могла начать этому радоваться. Раньше Кнут был ей вовсе не противен, но теперь мысли о нем сделались неприятны. Однако этот брак неизбежен. Возложив на внучку наследство рода, Асфрид дала ей право самой решать свою судьбу, но разве у Гуннхильд был выбор? От ее решения зависела судьба не только ее самой, но и Рагнвальда. Ибо, как сказал он сам, одно дело быть просто пленником, а другое – братом будущей королевы.
– Но как же отец! – Гуннхильд страшилась того, что ей предстояло совершить. – Ведь если я дам согласие выйти за Кнута и объявлю об этом в Хейдабьоре, отец останется ни с чем!
– Из него выйдет отличный морской конунг! – усмехнулся Рагнвальд. – Даже лучший, чем правитель куска земли.
– Боги и предки проклянут меня, если я ограблю собственного отца и заставлю его на старости лет податься в морские конунги, после того как несколько поколений предков владели державой!
– Не переживай, бабушка уже сделала это за тебя! – с невеселой улыбкой возразил Рагнвальд. – Ведь это она лишила Олава наследства и отдала все тебе. Ты выполняешь волю старшей женщины в роду, наследницы Одинкара и самого Годфреда Грозного. Она сама в молодости поступила так же, а что было хорошо для нее, должно быть хорошо и для тебя.
– Но она тогда оставалась одна из всего рода Годфреда!
– Похоже, перед смертью она посчитала, что и ты осталась одна.
Гуннхильд прижала руки к лицу, будто пытаясь удержать слезы. Наверное, единственный раз в жизни Асфрид дрогнула и поддалась слабости: убила себя, не желая видеть, как погибнет ее внук. Она ведь не могла знать, что Ингер вмешается и сохранит ему жизнь. Но что такое жизнь в плену для наследника конунгов? Может, и лучше ему было бы погибнуть. Правда, Гуннхильд так не считала. И Ингер тоже.
Ингер приходила каждый день, и ей не казалось ни скучным, ни зазорным проводить столько времени в вонючем темном чулане. Общество Рагнвальда возмещало в ее глазах все недостатки этого покоя, и они подолгу беседовали о самых разных вещах. Гуннхильд почти не вмешивалась в их веселую болтовню, лишь дивилась присутствию духа своего брата: раненый, плененный, с самыми темными ожиданиями на будущее, он неизменно был весел, всегда имел что рассказать, охотно слушал, даже складывал висы о своем положении! И никогда еще Гуннхильд не видела, чтобы самоуверенная и надменная дочь Горма кого-то слушала с такой охотой и так легко соглашалась с чужим мнением. По утрам она ходила в рощу искать первые ростки целебных трав, чтобы делать ему примочки, сама перевязывала, по просьбе Гуннхильд принесла свежую березовую ветку, чтобы изготовить руническую палочку с заклинанием здоровья и скорейшего заживления ран. Свойствам растений и целящим рунам Гуннхильд училась у Асфрид, и пришло время применить ее знания.
Однажды Гуннхильд, возвращаясь вечером из грида, случайно услышала, как эти двое прощались.
– Твой брат может быть недоволен, что ты так много времени проводишь со мной, – сказал Рагнвальд вслед уходящей девушке.
– Ты мне дороже, – обронила Ингер, обернувшись от самой двери.
И тут же вышла, почти столкнувшись на пороге с Гуннхильд.
Та не была уверена, что слышала именно эти слова. А Рагнвальд после ухода гостьи сразу перестал улыбаться и лежал с открытыми газами, о чем-то напряженно думая. Гуннхильд не решилась его расспрашивать. Да и узнать ей хотелось только одно: о котором из братьев Ингер он говорил?
Обоих сыновей Горма она видела редко, только когда выходила в грид погреться. Кнут имел непривычно серьезный вид, даже скорее унылый: его очень огорчило то, что невеста пыталась от него сбежать.
Зато епископ Хорит часто навещал пленников в их чулане: садился и заводил разговоры о Христе, сыне Марии, о его милосердии и заботе о страждущих. Гуннхильд это все только причиняло досаду, но Рагнвальд слушал внимательно и оживленно поддерживал беседу.
– Уж не думаешь ли ты податься в христиане? – как-то спросила его сестра.
– Я думаю об этом. – Рагнвальд серьезно кивнул.
– Многие становятся робкими, изведав раны, – только не говори мне, что это произошло и с тобой!
– Нет, конечно. Но неужели ты не понимаешь, что он хочет нам сказать?
– Что?
– Он не так глуп, чтобы… Поди сюда! – Рагнвальд знаком предложил сестре пересесть на его лежанку и зашептал ей в самое ухо: – Он не может говорить в этом доме прямо, что он и его король поддержат нас с тобой и наши права, если мы станем христианами. Он как раз это имеет в виду. Разве ты не помнишь: он сейчас произносит те самые слова, которые говорил в прежние годы у нас дома, когда разговаривал с Олавом и предлагал поддержку своего архиепископа и короля, если твой отец согласился бы креститься или хотя бы выплачивать церковную подать с наших земель. А теперь, когда дела наши стали плохи, у него гораздо больше надежды добиться своего – об этом он и говорит.
– И что мы должны делать?
– Я намекаю, что понял его. Но, чтобы мы могли воспользоваться поддержкой Оттона, нам надо как-то выбраться отсюда. Для Оттона нет большой разницы между нами и Гормом. Кто первый примет условия, тот и станет другом Оттона.
– Но как же мы выберемся?
– Пока я вижу только один путь. Если ты выйдешь за Кнута, между нашими родами установится близкое родство. А потом, если мне удастся получить в жены Ингер…
– Вот ты уже о чем думаешь! – воскликнула изумленная Гуннхильд.
Значит, те слова ей не померещились!
– А почему нет? – Рагнвальд удивился ее изумлению. – Мы с ней настоящая пара, во всем ровня друг другу, и она тоже этого хочет, можешь не сомневаться! Если она станет моей женой, мы уравняемся с Кнютлингами. И тогда я смогу получить наши родовые земли как ее приданое!
– Пока что это мое приданое! – пробормотала задетая Гуннхильд.
– Вот так сложилось, что эти земли должны быть принесены в приданое дважды, чтобы вернуться к прежним владельцам, – усмехнулся Рагнвальд. – В жизни много удивительного, ты не замечала? Но Горму должна понравиться эта мысль: он прочнее удержит власть над Хейдабьором, если там будет править его зять, к тому же прямой потомок прежних владельцев.
– Но скорее Горм отдаст эти земли… Харальду. – Гуннхильд с явным неудовольствием произнесла это имя. – Сыну, а не дочери.
– А вот когда ему придется выбирать, нам поможет поддержка епископа и Оттона. К тому же Харальд… сложный человек. Он может погибнуть, может поссориться с отцом – мало ли что?
И Рагнвальд подмигнул ей. Гуннхильд не знала, как это понимать: как простую попытку подбодрить или намек на еще какой-то замысел из тех, строить которые ее брат деятельно начал еще в то время, когда рана мешала ему делать что-либо другое.
Ингер тоже подталкивала их к действию.
– Ну что, ты надумала выходить за Кнута? – однажды вместо приветствия почти набросилась она на Гуннхильд. – Сколько можно тянуть?
– Но что я решаю? Это в воле твоего отца – назначить обручение.
– Ему мешает Харальд! – По возбужденному виду Ингер было ясно, что она только что присутствовала при бурном споре родичей. – Он звереет, когда кто-то из нас заговаривает о вашей свадьбе! Не знаю, что ему не нравится! В Хейдабьоре же ясно сказали, что не желают других конунгов, а если мы попытаемся взять вик силой, они скорее отдадутся под покровительство Оттона! Там много христиан, а прочим придется хоть поневоле креститься, чтобы избежать мести богов! Они ведь клялись вашим предкам в верности именами Фрейра и Ньёрда! А Харальд говорит, что Отта поддержит тех конунгов, кто перейдет в Христову веру!
При этих словах Рагнвальд бросил на сестру взгляд: об этом и он говорил ей.
– А Харальд говорит, что скорее сам согласится креститься и при поддержке Отты получит Хейдабьор, чем допустит родство с Инглингами! – яростно продолжала Ингер.
Гуннхильд ясно видела, что нежелание брата родниться с Инглингами сильно задевает саму Ингер. Рагнвальд и в этом был прав.
– Успокойся! – Рагнвальд потянулся, поймал Ингер за руку, притянул к себе и посадил на ложе рядом. В последнее время он уже не лежал, а больше сидел на своем ложе, хотя вставать и ходить еще не мог. – Твой отец – благоразумный и мудрый человек. Он сумеет укротить вашего гордеца. Зачем нам Отта-кейсар, все эти саксы, христиане, епископы, римский папа, хромой тролль? Горму не больше других надо, чтобы его из самого Рима учили, как жить и править своей страной. Мы, даны, со своей землей и своими делами разберемся сами. Инглинги и Кнютлинги – потомки одних и тех же богов. И гораздо лучше нам укрепить связи с богами наших предков, чем искать чужих. С Хейдабьором нельзя не считаться, в этом все мы согласны. И Хейдабьор примет правителя, который будет состоять в родстве с Годфредом Грозным и являться его законным наследником. Это может быть твой брат Кнут, если он женится на моей сестре. Да и ты сама могла бы стать королевой в Слиасторпе, разве нет? – Он сжал руку Ингер и подмигнул. – Разве ты не хочешь быть королевой? Ты ведь ничем не хуже твоей сестры Гунн, которая была королевой в Норвегии. По мне, так гораздо лучше.
– Ты так думаешь? – с сомнением, но и с удовольствием отозвалась Ингер.
– Я в этом не сомневаюсь! – заверил Рагнвальд и приобнял ее за талию. Она сделала вид, будто не заметила, а это был хороший знак. – Ты была бы великолепной королевой. Имея достойного тебя супруга, разумеется!
– Где же такого достать? – Ингер бросила на него лукавый взгляд.
– У меня есть один парень на примете – из потомков Годфреда Грозного, а уж как хорош собой, умен и отважен, этого никакие скальды не перескажут!
Гуннхильд засмеялась, слыша такое откровенное самовосхваление брата, но в то же время была уверена, что он ничуть не отклонился от истины.
– При чем здесь вообще Харальд? – продолжал Рагнвальд. – Его эти дела вовсе не касаются. Он не может вступить в брак ни с кем из наследников Годфреда и Одинкара, а значит, пусть ищет себе доли в викинге[4]. Как и подобает младшему сыну.
Ингер устремила задумчивый взгляд на Гуннхильд, сидевшую напротив.
– Я вот порой думаю… – начала она и умолкла. – Я вот иной раз думаю… а если бы самому Харальду предложили жениться на тебе, может, он и не был бы так против родства с Инглингами? Может, он так сильно возражает, потому что жениться на тебе предстоит Кнуту?
– Да что ты говоришь? – Гуннхильд вспыхнула, не веря этому и в то же время ощущая жар волнения. Это волнение было слишком похоже на радость, хотя чему тут радоваться? – Он терпеть меня не может!
– Похоже на то, но не обязательно, что правда! Порой он так на тебя смотрит, что… Я бы на твоем месте попробовала как-нибудь его поцеловать и поглядела, что из этого выйдет. Может, он тогда и не будет так упрямиться.
– А может, ты пока попробуешь поцеловать меня, и поглядим, что из этого выйдет? – оживленно предложил ей Рагнвальд.
Гуннхильд опустила глаза, не замечая возни, которую затеяли эти двое. Нет, не может быть! Когда мужчине нравится женщина, он ведет себя совсем иначе! Вот, как Кнут, например. Старается приобрести ее дружбу… как Рагнвальд – дружбу Ингер.
И в то же время мысль о том, чтобы попытаться подобным образом укротить неприязнь Харальда, наполнила ее не только волнением, но и радостью. Почему бы не попробовать, в самом деле? Не укусит же он ее!
Вот только одна загвоздка: выйти ей все равно придется за Кнута. А если вдруг случится так, что сыновья Горма из-за нее перессорятся… выиграет Ингер, а значит, Рагнвальд.
Одобрила бы эти замыслы бабушка Асфрид? Но что ей остается делать? Если она не готова, по примеру древних героинь, прямо сейчас поджечь дом и зарезать нежеланного супруга, надо как-то спасать и себя, и брата, и родовые земли.
* * *
Но просуществовали эти замыслы недолго. Уже на другой день Ингер прибежала в чулан с известием, что Гуннхильд надо как можно скорее привести себя в порядок, расчесать и уложить волосы, одеться понаряднее и выйти в грид.
– Там к тебе приехали люди из вашего Хейдабьора! – возбужденно объявила она. – Желают тебя видеть, как наследницу Асфрид!
– Откуда они знают, что я наследница Асфрид? – удивилась Гуннхильд.
Богута уже раскладывала на ее лежанке, сделанной из досок и бочек, нарядные одежды, принесенные из девичьего покоя, а Унн принялась расчесывать Гуннхильд волосы, чтобы потом уложить их сзади в красивый узел.
– Ну, это они узнали уже здесь. Они хотели видеть саму Асфрид, потому что у них там рассказывают, что все прочие погибли: и ты, – она кивнула Рагнвальду, – и даже ваш отец. А когда услышали, что Асфрид умерла и перед смертью все отдала тебе, то пожелали говорить с тобой.
Вскоре Гуннхильд вышла в грид, в сопровождении Ингер и служанок. На ней была сорочка из тонкого беленого льна, шерстяное синее платье, украшенное вышитыми полосками шелка, с позолоченными нагрудными застежками и ожерельями. После чулана она была еще бледна, и от ее волос слегка несло рыбой, но, к счастью, приехавшие не подходили так близко, чтобы это заметить.
Здесь она увидела знакомые лица: Торберн Сильный, фриз Альвбад, с которым Торберн постоянно ругался, но тем не менее их редко видели не вместе, а еще Горе Гуннар и старый Улф. Подмигивал, широко улыбаясь, Хрольф Хитрый, тот самый, что собирался просто продать ее Кнуту и уже прикинул примерную цену. Все они желали увидеть ту, что сейчас являлась Госпожой Кольца и воплощала благополучие вика Хейдабьор.
– Предки наши давали клятву верности Годфреду-конунгу и его роду, и этой клятве мы были верны в течение многих поколений, – говорил Торберн. – Мы не можем нарушить эту клятву, ведь тогда боги покарают нас, а нам, торговым людям, нельзя ссориться с Фрейром, подателем урожая, и Ньёрдом, дающим удачу в морских путешествиях, охоте, рыболовстве и торговле. Мы будем верны роду наших древних конунгов, пока хоть кто-то из них остается в живых. А если, – Торберн и его товарищи бросили выразительные взгляды на Горма, – род Годфреда окончательно прервется, лучше для нас будет, – так решил тинг! – принять саксонскую веру и отдаться под покровительство Христа, сына Марии, ибо лишь он сможет помочь нам взамен наших прежних покровителей.
– Это верно, очень верно! – охотно поддержал епископ Хорит. – Вы рассуждаете как мудрые и сведущие люди! Ибо Господь наш…
– Ну а пока вопрос с наследием Годфреда не ясен, Хейдабьор не будет платить податей никому! – отрезал Торберн. – Однако если королева Асфрид и впрямь перед смертью передала Кольцо Фрейи внучке, Гуннхильд, дочери Олава, то мы хотели бы знать, как она намерена этими правами распорядиться.
– Да, королева Асфрид… передала мне свое наследство… – Гуннхильд кивнула, с усилием сохраняя невозмутимость. Услышать из чужих уст давно не звучавшие слова «королева Асфрид» было очень тяжело – ожила в душе притупленная было тоска по временам славы ее рода! – И я…
Она запнулась, не в силах выговорить те самые слова, которые свяжут ее навсегда.
– Асфрид перед смертью одобрила обручение молодой госпожи Гуннхильд и моего старшего сына Кнута, которому предстоит, таким образом, сделаться со временем конунгом всей Дании, – доброжелательно помог ей Горм.
– Обручение состоялось?
– Мы думаем назначить его на День Госпожи – это наиболее удачный срок для такого дела, ведь верно? И я буду рад, если вы останетесь и будете присутствовать – чтобы потом рассказать достойным жителям Хейдабьора об этом событии, как свидетели. Заодно мы обговорим условия для тинга, на котором ваши люди увидят своего будущего конунга.
– Мы хотели бы услышать от госпожи Гуннхильд, что она согласна на все это, – заметил Улф, седой старик, хорошо помнивший празднества по поводу рождения дочери Олава. Невеста больше напоминала пленницу.
– В ее согласии не стоит сомневаться, если она хочет, чтобы ее брат выздоровел и вновь получил свободу, а не был повешен или продан как раб, – сказал Харальд, пристально глядя на Гуннхильд. – И я прошу богов, чтобы мой брат не пожалел об этой женитьбе! Не всякий выдержит такую близость… с богами! Не раз бывало, что боги избирали человека себе на забаву, сводили его с ума и толкали к гибели!
Гуннхильд вспыхнула: гнев вытеснил из души тоску, и она уже хотела ответить, но мысль об Рагнвальде заставила ее сдержаться. Как все же хорошо, что ей предстоит выйти за Кнута, а не за Харальда!
– И еще я хочу сказать, – упрямо продолжал Харальд, – если вик Хейдабьор надумает обратиться к Христовой вере, то ему не придется искать себе подходящего конунга в чужих землях. Может найтись такой, кто пойдет навстречу разумным пожеланиям достойных людей и станет христианским конунгом в христианской стране. Родство со старыми богами ему тогда не понадобится!
– Это пока преждевременно! – твердо оборвал его Горм, недовольно хмурясь.
Взгляд его смягчился, перейдя на Гуннхильд:
– Ну так что же ты ответишь нам, девушка? Все уважаемые люди, что здесь собрались, желают услышать твое решение.
– Я хочу быть королевой там, где правили поколения моих предков, – ответила Гуннхильд, и голос ее звучал твердо. – В Южной Ютландии и в Хейдабьоре. И так сложилось, что быть там королевой я могу лишь при условии, что стану женой сына Горма. Поэтому я согласна.
Принятое решение неожиданно доставило ей самой облегчение и удовольствие: она спасала брата, устраивала свою судьбу, а еще получала возможность отомстить Харальду, сделав то, чего он так не хотел.
– Да услышат боги твои слова! На празднике Дня Госпожи мы призовем их в свидетели вашего обручения. А я могу быть только рад, что в мою семью входит женщина, исполненная стольких достоинств: знатная родом, красивая собой, отважная, разумная, верная своему долгу и преданная чести рода! Надеюсь, что и моему роду ты будешь так же верна, когда войдешь в него! – Горм улыбнулся, намекая на недавний ночной переполох. – Ты создана быть королевой Дании, единственной королевой! Ты станешь достойной преемницей моей дорогой супруги, королевы Тюры, и будешь украшением этой страны, истинной Фрейей, подательницей добра и благополучия.
– Благодарю тебя, конунг, – ответила Гуннхильд.
Такое красноречивое восхваление требовало ответа, но она не была уверена, что Горм не пытается лестью подчинить ее дух.
Впрочем, чтобы не расслабляться, стоило лишь взглянуть на застывшее, хмурое лицо Харальда. Хороший же из него выйдет христианин! Епископу придется немало потрудиться, прежде чем он сможет внушить этому викингу понятие о смирении и любви к своим врагам!
Эта мысль позабавила Гуннхильд, и она улыбнулась – как раз тогда, когда Харальд вдруг взглянул на нее. В ее улыбке он увидел торжество и ожесточился еще больше.
– Стало быть, тогда и мы останемся до вашего обручения, – кивнул Альвбад. – Жители Хейдабьора и торговые люди должны иметь надежных свидетелей передачи прав.
В тот же день Харальд уехал, забрав жену и своих хирдманов. Его собственная усадьба располагалась недалеко, и он мог добраться туда засветло: дни уже удлинились настолько, что были почти равны ночи. Вот-вот должно было наступить весеннее равноденствие, а вслед за ним, в первое новолуние, праздник начала лета – День Госпожи. Судя по намекам Ингер, перед отъездом Харальд еще раз серьезно поговорил с отцом и братом, хотя этот разговор уже ничего изменить не мог – решение было принято и объявлено.
Гуннхильд по поводу отъезда Харальда испытывала противоречивые чувства. Зная, что его рядом нет, могла расслабиться и отдохнуть душой; однако без него дом и усадьба опустели. Казалось, во всем наступил застой и настоящая жизнь начнется только тогда, когда он вернется. Он здесь не живет, у него свой дом, и в Эбергорде он бывает только, чтобы навестить родичей. Под одной крышей они никогда жить не будут. Но и это к лучшему, зачем ей враг в собственном доме? – убеждала себя Гуннхильд, стараясь не думать о другой опасности, которой ей могло бы грозить постоянное присутствие Харальда.
Согласие на обручение принесло ей благие перемены: она могла больше не сидеть в заточении и вернулась в женский покой.
В общем, и Рагнвальд тоже мог больше не жить в чулане, но предпочел остаться там до полного выздоровления – чтобы иметь больше тишины и покоя, как он говорил, хотя Гуннхильд знала, что особым ценителем этих благ ее брат никогда не был. Скорее, ему нравилось, что Ингер может навещать его там без лишних глаз и ушей. Днем она теперь приходила вдвоем с Гуннхильд, зато вечерами прокрадывалась туда одна. И в женский покой возвращалась не скоро…
Однако, занятая своими делами, Ингер не упускала из виду и чужих. Возможно, именно знакомство с Рагнвальдом сделало ее особенно проницательной и позволило разглядеть за внешней ожесточенностью брата против Гуннхильд нечто совсем иное.
– Неужели ты, конунг, ничего не замечаешь? – однажды сказала она Горму, зайдя к нему в спальный чулан, когда он уже готовился ко сну. – Не может этого быть, при твоем-то уме и мудрости!
Настало весеннее равноденствие, и в ожидании новолуния Горм пригласил владельцев всех окрестных усадеб и дворов, чтобы обсудить празднование предстоящего Дня Госпожи. Только Харальд не приехал. Отсутствие сына огорчило Горма, и он все еще хмурился.
– Ты думаешь, что твой брат всерьез задумал отойти от наших богов и принять крещение? – Горм повернулся к дочери.
– При чем тут крещение? – Ингер воздела руки к резной голове дракона на столбе лежанки. – Тут все дело в Гуннхильд. Я уверена, она ему нравится и только поэтому он не хочет, чтобы Кнут на ней женился.
– Ты так думаешь? Признаться, мне это приходило в голову, но… даже если бы у него не было жены, Гуннхильд он все равно не получил бы. Я не могу отдать такую невесту младшему сыну. И Кнут, пожалуй, добровольно от нее не откажется, а я не хочу, чтобы мои сыновья передрались из-за женщины, пусть она и принесет в приданое половину страны.
– Но это может случиться рано или поздно. Когда она окончательно поселится здесь, Харальд будет часто ее видеть…
– Я надеюсь, осенью мы справим свадьбу и они уедут на зиму в Слиасторп.
– Харальду от этого не станет легче. Он будет знать, что потерял и девушку, и владения.
– Так что ты предлагаешь? – Горм был готов выйти из терпения. – Она нужна нам, ты ведь слышала, что Хейдабьор…
– Ах, конунг, ну при чем здесь Хейдабьор! Хейдабьору ничего не нужно знать. Завтра будет обсуждаться празднование Дня Госпожи, да, ведь для этого ты пригласил людей? Надо разыграть особое действо, где Гуннхильд будет Сунной, а на поединке между Тором и Зимним Турсом будут сражаться Кнут и Харальд. Пусть Харальд подерется за нее и отведет душу.
– Но он проиграет!
– И пусть. Он в обиде не останется. Нужно начать вот с чего…
Ингер оглянулась на дверь и зашептала, наклонившись к самому уху Горма. Слушая ее, конунг менялся в лице, в чертах его отражалось любопытство, сомнение, опасение.
– Ну а если… – начал он, когда дочь договорила, – а если ты все же ошибаешься и ничего такого тут нет? Если он не выносит ее как дочь Инглингов и просто не желает родства с ними, то он может… Увидим ли мы ее потом? Я знаю, покойная Асфрид опасалась, что Харальд хочет погубить ее внучку… не могу поручиться, что старуха была совсем уж не права!
Но на гордом и прекрасном лице Ингер не отражалось ни малейшего беспокойства за судьбу подруги и будущей невестки.
– Вот заодно и проверим, правда ли, что ей покровительствует Фрейя, – невозмутимо заявила она. – И если это неправда, то нам такая не особо и нужна.
– Нам очень нужен Хейдабьор.
– А на этот счет у нас есть ее брат. А когда он женится достойным образом, его супруга станет Госпожой Кольца.
При свете бронзового светильника, привезенного из похода на франков, Горм встретил взгляд своей дочери. Уж не затеяла ли она все это с целью разом избавиться от всех соперников в борьбе за Хейдабьор – Гуннхильд с Кнутом, Харальда – и расчистить путь себе, в союзе с Рагнвальдом? Однако уверенность и твердость Ингер были таковы, что казалось, ее вдохновляет некая сила свыше. Она была как валькирия, выполняющая поручение и передающая волю самого Отца Богов.
И Горм промолчал. Пожалуй, это будет неплохой случай проверить удачливость и верность расчетов самой Ингер.
* * *
Об этом разговоре Ингер ничего не сказала ни Гуннхильд, ни даже Рагнвальду. Ни словом не намекнула. Весь следующий день был посвящен приготовлениям к завтрашнему празднику: варили яйца в огромном количестве – каждому из сотни гостей понадобится дать не менее одного. Варили их в насыщенном отваре луковой шелухи – для этой цели ее собирали всю зиму. Гуннхильд поделилась секретом, которому ее научила когда-то Асфрид: на каждое яйцо надо приложить маленький листик, и тогда на красновато-коричневой скорлупе получится красивый золотистый узор в виде листика, и каждая жилочка будет видна. Таким образом, яйцо как символ новой жизни само становится полем, на котором вырастают листья и цветы! Женщины Эбергорда ахали от восторга. Пекли круглые пшеничные булочки, похожие на золотистое солнце, большие хлебы, предназначенные для пира. Суеты хватило на весь день, поэтому Гуннхильд порядком устала.
Ингер с утра не было в усадьбе: Гуннхильд подозревала, что та ездила за своим братом Харальдом. Его отсутствие огорчало родителей и Кнута, но не менее и саму Гуннхильд, хотя она и не выражала своего огорчения так явно. Вернулась Ингер одна, чем повергла Гуннхильд в тайную печаль: сам веселый праздник, пришествие Госпожи Лета, потеряет для нее половину ценности, если не даст возможности увидеть Харальда! Она сама себе не могла объяснить, почему так много думает не о своем женихе, а о его брате, но без Харальда сам праздник казался бессмысленным. Однако Ингер молчала, и Гуннхильд не решалась ее расспрашивать. Она надеялась, что он появится завтра, уже прямо в святилище. Может, хотя бы ради праздничного дня он посмотрит на нее не так хмуро. Неужели они так и не смогут поговорить как люди, хотя бы возле священного камня или на пиру? Ведь завтрашний день принесет мир и радость всем людям! Захваченная своими надеждами и мечтами, Гуннхильд не заметила ничего подозрительного в поведении Тюры или Ингер, когда готовилась ко сну. Засыпая, она думала о Харальде – никакие другие мысли не помогали ей так сладко заснуть и не приносили такие приятные сны. Во сне он не смотрел на нее сердитыми глазами и не говорил колкостей. Ей снилось, что он опять стоит, прижимая ее руки к камню, но во сне было то, чего не случилось наяву: он наклонялся и целовал ее. Во сне она клала руки ему на плечи, и от яркого ощущения тепла его близости ее охватывало блаженство. И вот он обнимает ее, поднимает на руки, она кладет голову ему на плечо, чувствует, как его мягкие волосы касаются ее лица, а она обвивает его шею руками…
А потом… Гуннхильд не сразу поняла, где кончается сон и начинается явь. Какие-то люди вдруг подняли ее, завернули в плащи и куда-то понесли, для нее это было полной неожиданностью. И полная тишина – никто из женщин не подал голоса, хотя едва ли злоумышленники могли незамеченными пробраться в сердце усадьбы, туда, где спали жена и дочь конунга!
Ее завернули во что-то плотное, тяжелое; она чувствовала прикосновение грубой шерстяной ткани, в которую была укутана с головой. Неужели в этот раз ей приснился тот первый день, когда Харальд принял ее за ведьму и принес в усадьбу, завернув в плащ? Этот сон ей не нравился: под плащом было душно, она едва могла дышать и отчаянно извивалась. Во сне часто бывает, что руки и ноги будто набиты шерстью и бессильны, так что едва можешь сделать шаг, когда надо бежать, спасаясь от чего-то ужасного. Гуннхильд же сейчас владела своим телом и лишь чувствовала, как ей препятствует что-то снаружи. Кто-то крепко держал ее сквозь ткань, не давая шевелиться. Правда, в этот раз ее не били по голове, предоставляя трепыхаться сколько угодно. Но чем лучше она осознавала, что не спит, тем менее понимала, что происходит.
Вот ее положили на что-то твердое, а потом все это пришло в движение. Гуннхильд расслышала громкий скрип колес. Страдая от духоты, она продолжала мотать головой, и вот стало легче: ткань сдвинулась, в щель хлынул холодный влажный воздух.
– Что такое? – закричала она, хотя сомневалась, что из-под покрывала ее кто-нибудь слышит. – Где я? Кто здесь?
Ей не ответили, хотя какие-то голоса поблизости раздавались. Покачиваясь, в сопровождении скрипа, она лежала и одновременно продвигалась вперед. Ее, похоже, везли в повозке навроде той, в которой разъезжала Асфрид. Повозка была невелика: закутанной в ткань головой Гуннхильд упиралась в передний бортик. Постепенно холод проник сквозь несколько плащей, в которые она была укутана с ног до головы, и она начала зябнуть.
А повозка все ехала, и Гуннхильд не знала, что и подумать. Ее увезли из усадьбы, но кто, куда, зачем? Обошлось без шума, значит, похищение произошло с ведома хозяев усадьбы? Не так давно ее пытался похитить собственный брат, и сейчас мелькнула было мысль об отце, но Гуннхильд ее отбросила: Олав не стал бы увозить дочь, будто овцу, завернув в плащ. Но кому это могло быть надо?
Впрочем, один ответ у Гуннхильд имелся, и она не верила ему только из-за того, что слишком часто думала о чем-то подобном. Плащ, в который ее завернули, отчетливо источал запах Харальда. Этот запах она ощущала яснее, чем другие, и он нравился ей: от ощущения этого теплого запаха все в ней оживало, будто внутри расцветают цветы, пробирало волнение и теснило дыхание. Ей часто снился этот запах, и вот сейчас она была вся окутана им. Харальд… Но что ему нужно? И не бросят ли ее сейчас в холодное море, прямо в этом плаще? Или он задумал тайком отправить ее подальше, продать как пленницу, раз уж помешать ее обручению с Кнутом не получилось? Гуннхильд закрыла глаза – все равно она ничего не видела, – и призвала на помощь Фрейю.
Ответ пришел мгновенно – будто звон серебряной чаши, по которой ударили кончиком ножа. Богиня рассмеялась где-то в вышине, как гость, который стоит уже на пороге и готов войти…
Повозка остановилась. Потом закачалась, и, судя по глухому звуку, кто-то спрыгнул с нее на землю. Гуннхильд почувствовала, что больше ее никто не держит, и немедленно выпуталась из-под толстой ткани.
Но сразу пожалела об этом. На ней была надета лишь тонкая сорочка, пусть и шерстяная, и сейчас ее охватил холод, и она поспешила вновь натянуть на себя плащ со знакомым запахом.
Вокруг стояла ночь – непроглядная ночь новолуния. Зато пылали факелы – два… нет, три. Один из них держал хирдман Харальда – Гуннхильд не знала его имени. Он стоял впереди, держа под уздцы запряженную лошадь, и встретил изумленный взгляд девушки с полной невозмутимостью. Гуннхильд не ошиблась – ее привезли на повозке, даже больше чем у Асфрид, богато украшенной резьбой, насколько она смогла разглядеть при свете одинокого факела. Два других горели впереди, но не удавалось различить ничего, кроме самого огня. Лишь тени мелькали – не то людей, не то великанов. Из темноты в круг света одинокого факела вошла рослая фигура, и Гуннхильд невольно закрыла глаза. Ее снова подняли, сняли с повозки и понесли. Несущий ее человек шел с усилием, как будто поднимался по крутому склону. А потом ее опустили куда-то вниз, но не успела она испугаться, повиснув в пустоте, как снизу ее перехватили, снова взяли на руки, еще немного понесли и опустили на что-то мягкое и довольно высокое – не на пол и не за землю.
Открыв глаза, Гуннхильд увидела огоньки светильников – трех или четырех. Тут же она приподнялась и попыталась оглядеться. А потом, онемев от изумления, долго рассматривала необычное жилье, уверенная, что это – новый странный сон.
Она очутилась в помещении шагов пять-шесть в длину и ширину. Затхлый воздух был разбавлен весенней свежестью, но эти два запаха – затхлости и весеннего ветра – еще не перемешались и ощущались отдельно. Запах плесени исходил, вероятно, от стен, обшитых досками, ставшими старыми и трухлявыми. На стенах висели шкуры разного цвета и размера – одни казались новыми, другие совсем обветшали. Гуннхильд лежала на кровати с высокими резными столбами по всем четырем углам, вдоль прочих стен стояли резные сундуки и лари на подставках. На крышках их горели бронзовые светильники, их мерцание и позволило ей, когда глаза привыкли, все это разглядеть. Сундуки тоже были старыми, зато очень дорогими – из резного дерева, отделанные узорной костью или литыми полосами бронзы, с позолотой, частью покрыты кусками самых дорогих шелков – вытертая золотая вышивка тускло поблескивала при огне.
Но мало того – весь пол, покрытый шкурами, в этом удивительном жилье был усыпан различными дорогими вещами. Здесь были чаши и кубки, бронзовые, медные, серебряные, мерцающие позолоченными боками, пояса с серебряными бляшками, украшения – шейные цепи и гривны, браслеты и нагрудные застежки, нитки бус. Перстни валялись под ногами, будто простые камешки. Немало было оружия, причем тоже дорогого – франкские мечи с узорными рукоятями, скрамасаксы, копья, ножи, несколько щитов – одни целые, другие изрубленные. То, что она поначалу приняла за ремни, оказалось различными частями конской упряжи, в основном от снаряжения верхового коня. На полу, на ларях, на стенах висели и лежали роскошные одежды. Рубахи, плащи, греческие и франкские, из разноцветного шелка, с вытканными изображениями крылатых псов, всадников, еще каких-то чудовищ.
Самыми новыми оказались простыни и подушки на лежанке. Одеяло из мягкого черного меха – куницы или соболя, она не могла разглядеть, – на ощупь было гладким и чистым.
Вдруг Гуннхильд сильно вздрогнула – в дальнем темном углу кто-то стоял. Кто-то высокий, выше человеческого роста, застыл как каменный, и лишь огромная позолоченная гривна на его груди тускло мерцала. Лица не было видно, и такой силой вдруг пахнуло на Гуннхильд, что она невольно приподнялась и прижала к себе плащ, которым была укрыта.
– Это Фрейр, – раздался смутно знакомый голос из другого угла. – Твой р-родственник, так что не пугайся.
Гуннхильд перевела взгляд в ту сторону и вздрогнула еще раз, хотя не так сильно: там на ларе сидел Харальд. То есть она подумала, что это он, с трудом различив очертания знакомой фигуры и голос, но рядом с ним не было света.
– Ф-фрейр? – неуверенно повторила она.
– Да. А это все, – Харальд поднял глаза и обвел ими тьму наверху, – называется Дом Фрейра. Это и есть его курган, в котором его похоронили.
– Ч-то ты говоришь? – Когда до Гуннхильд дошло, что он имеет в виду, у нее застучали зубы. Теперь она разглядела, что в углу стоит резное деревянное изображение бога плодородия со всем, что ему полагается. – Тот курган – в Швеции!
– Это шведы так думают. А у нас все знают, что это тот самый курган.
Гуннхильд не стала спорить. Известно, что в разных странах есть «курганы богов», причем тех же самых, разные горы и пещеры, из которых по ночам выходит Один или Тор, и все жители уверены, что у них-то и есть настоящий.
– З-зачем я здесь? – проговорила она, подавляя мелькнувшую догадку, что…
– Тебя решили принести в жертву, – спокойно, без досады или злорадства ответил Харальд.
– Ты шутишь! – Гуннхильд ему не поверила. – Разве так приносят жертвы?
– У нас Фрейру приносят жертвы именно так. Видишь, отсюда нельзя выйти.
Харальд еще раз обвел помещение взглядом. Последовав его примеру, Гуннхильд убедилась, что он прав: здесь не было дверей, лишь два черных оконца над головой смотрели в пустоту, по одному на каждой стороне двускатной кровли. Высоко, не достать, даже если встать на лежанку или лари. Да и не пролезть человеку в такие оконца, разве что он обернется белкой.
– Жертву наряжают в лучшие одежды и оставляют здесь, в Доме Фрейра, – продолжал Харальд. – Пока она не умрет. Правда, обычно связывают, чтобы не металась. А потом закапывают вот здесь. – Он показал в пол. – Там довольно много юных дев вроде тебя или парней, на которых пал жребий. Это, правда, случается нечасто, последний случай был, еще пока правил дед Хёрдакнут. Лет тридцать назад.
– Ну и где мои лучшие одежды? – надменно и недоверчиво спросила Гуннхильд.
– Рядом с тобой. – Харальд кивнул на мешок на краю лежанки.
Потянувшись, она подтащила мешок к себе. Платье из тонкой белой шерсти, хенгерок из красного тяжелого шелка с золотой вышивкой, золоченые застежки – ее собственные, те, что достались от бабушки. Красный плащ, тот, что подарил ей Харальд и который она почти не надевала. Кстати, там же обнаружились высокие вязаные чулки из белой шерсти, тоже ее собственные, и Гуннхильд немедленно их натянула – в Доме Фрейра было холодно. А потом надела и платье. На дне мешка лежал кафтан на меху, так что вскоре она была полностью одета. Только гребня не было.
– Возьми вот этот. – Харальд подобрал что-то с пола и бросил ей.
Это оказался гребень из белой кости, тончайшей работы, с резьбой, изображающей каких-то людей в пышных одеждах.
– Ну а ты тогда что тут делаешь? – спросила Гуннхильд, принимаясь осторожно расчесывать волосы, спутавшиеся за время ночного приключения. – Тебя тоже принесли в жертву? Больших же бедствий ожидает держава Горма, если ради отвращения их решено пожертвовать девушкой и молодым мужчиной королевского рода! Почему я ничего об этом не слышала?
Одеваясь, она окончательно пришла в себя и почти успокоилась. Да, она внутри кургана, это несомненно. Во время похорон Асфрид ей показывали издали рукотворный холм, перед которым были выложены белыми камнями очертания ладьи, и сказали, что он называется Дом Фрейра. Теперь представился случай взглянуть на него изнутри. Гуннхильд уже приходилось видеть, как готовят погребение знатных людей: при жизни последних двух-трех поколений знатные люди Северных Стран возводили для умерших родичей курганы с деревянным помещением внутри, где держали погребальные дары и даже коней. Именно так был похоронен ее прадед Олав Старый, а потом дед Кнут, дядя Сигтрюгг, и по праздникам на их могилах приносились жертвы. Теперь она узнавала стены из вкопанных стоймя толстых деревянных плах, со столбами по углам, пол, усыпанный соломой – кое-где она была видна из-под шкур и наваленных грудами разных богатств.
Только это был курган не для обычного покойника, пусть и знатного, а для бога. Место покойного здесь занимал идол Фрейра, а все это – жертвенные дары. Судя по тому, как они лежали беспорядочными кучами, все вперемешку, но в основном под оконцами, их сбрасывали сюда сверху в разное время – в годовые праздники, по случаю разных важных событий, когда смертным нужна поддержка и помощь богов. Возможно, Харальд говорит правду – и людей, выбранных в жертву, тоже могут помещать сюда. Но это чушь – никогда Горм не поступит так с ней, наследницей Инглингов, еще до свадьбы и даже до обручения! Если не жалость к юной девушке, то понимание собственной выгоды не дадут ему это сделать. А чтобы на подобное решился Харальд без согласия отца, она не верила – может, он сумасшедший немного, но не настолько. Да и что здесь тогда делал бы он сам?
Харальд молчал, глядя, как она расчесывает волосы – при свете ближайшего светильника они вспыхивали пламенем, будто золотые нити. Девушка держалась невозмутимо, да он и сам чувствовал, что после первого потрясения она уже успокоилась. А ведь он не солгал: в паре шагов от кровати, на которой она с удобством расположилась, под земляным полом кургана и впрямь были зарыты кости нескольких древних жертв. Этот курган с домом внутри был сооружен не так давно, при Хёрдакнуте, на месте старинного жертвенника Фрейра. А жертвенник располагался на месте еще более древнего, многовековой давности, кургана. И возможно, что предание, связавшее его с именем Фрейра, не сильно отклонилось от истины. Ни один, даже самый знатный покойник в Северных Странах не имеет такого просторного посмертного жилья. Фрейр может даже принимать гостей…
Оба они были сейчас его гостями. Харальд ясно ощущал незримое присутствие хозяина дома – для этого ему не надо было смотреть в угол, где стоял деревянный идол, тоже изготовленный при Хёрдакнуте нарочно для этого сооружения и украшенный бронзовой позолоченной гривной, такой огромной и тяжелой, что ни один живой человек не устоял бы на ногах, вздумай он надеть ее на шею. Нет, здесь был сам дух Фрейра, и Харальд, как представитель королевского рода с божественной кровью в жилах, чувствовал его так же ясно, как зрячий видит огонь. Чувствует ли Гуннхильд то же самое? Наверное, да, иначе сейчас дрожала бы от страха. Многие испугаются, обнаружив себя в могиле, да еще могиле бога, откуда нет выхода. Но Гуннхильд не боялась, а спокойно приводила себя в порядок – будто приехала в гости к родичам.
Харальд не зря принес ее сюда, после того как Ингер поделилась с ним своим необычным замыслом. И уж конечно, сестра, особа умная, хитрая и себе на уме, рассказала далеко не все. Дескать, отец-конунг решил, что для прочного скрепления будущего союза, столь важного для всей Дании, нужно пригласить на праздник богов и дать им подходящие вместилища. Правда, Кнуту, как старшему, более пристало бы изображать Зимнего Турса, а Харальду, как младшему – Фрейра, Владыку-Лето. Но поскольку обручиться с Гуннхильд должен Кнут, ему и быть Фрейром.
Харальд сразу согласился, едва поняв, что предлагает Ингер – провести время в Доме Фрейра наедине с Гуннхильд: как богиня весны, та должна перед летним оживлением земли спуститься на три дня в подземный мир. Мысль прожить здесь три дня он отверг – в силу некоторых естественных причин это никак невозможно, – но на одну ночь согласился охотно. Само пребывание этой девушки в жилище бога поможет ему наконец выявить ее суть. Кто она – богиня или ведьма? Она так красива, что неудивительно, если сама Фрейя и правда является к людям в ее облике. Но почему ему так не по себе под ее взглядом, почему все мысли устремляются к ней и он думает о ней днями и ночами как завороженный? Почему ожидание того, что она станет женой брата, вызывает дикую досаду? По сравнению с Гуннхильд все прочие женщины, в том числе и собственная жена, показались тусклыми и вялыми. Только в ней горел огонь жизни, возле которого хотелось погреться.
Будь она ведьмой, она не была бы сейчас так спокойна. Будь ее красота лишь наведенными чарами, сейчас они растаяли бы и он увидел бы ее в истинном облике – наверняка уродливом. Но нет, она оставалась так же хороша… и даже лучше. Сидя на лежанке бога и расчесывая волосы, цвета темного янтаря в золоте, франкским гребнем слоновой кости, который кто-то из викингов пожертвовал в благодарность за удачный набег, она сияла не отраженным светом, а своим собственным, струящимся изнутри. От лица с точеными чертами и чуть вздернутым носом, от белых нежных рук с тонкими пальцами, привыкшими лишь к рукоделью… Фрейя, приходившая к Кнуту, не могла быть настолько хороша.
И, подумав это, Харальд почувствовал, как оборвалось сердце. Не дочь Олава сидела перед ним на лежанке, но сама Фрейя. Вот она подняла глаза и устремила на него лукавый, обольстительный, выжидающий взгляд, и от этого взгляда стало жарко.
– Вы, должно быть, надумали потешить богов и порадовать людей поединком Фрейра и Зимнего Турса за обладание богиней Сунной? – спросила она, не дождавшись ответа. – И если я заточена здесь с тобой, значит, ты и есть Зимний Турс? Ведь не мог же Горм в здравом уме принести в жертву своего наследника, которому суждено прославить род и оставить по себе вечную память?
– Я… – Харальд с трудом нашел слова для ответа, отчетливо понимая, что к нему обращается богиня. – Прославить род… вечную память… Ты уверена, что так будет?
– О… Да! – Сперва она сама вроде бы удивилась тому, что сказала, потом будто прислушалась к чему-то и кивнула. – Я уверена! По тебе это сразу видно. Ты из тех людей, в ком слишком много сил, больше, чем надо для мирной жизни под закопченной кровлей. Твой путь – это путь подвигов, сражений, опасностей и славы. Ты видишь свою дорогу и ведешь за собой других, ты чтишь богов и обычаи, но сам устанавливаешь для себя законы и правила. Именно такие люди остаются в памяти потомков, когда остальные скрываются под холодными волнами веков.
– Что же будет с-со мной? – спросил Харальд, боясь спугнуть это чудо – живое присутствие богини.
Он ловил каждое ее слово и одновременно впитывал всем существом ее красоту, от вида которой по жилам разливалось горячее блаженство.
– Ты, разумеется, станешь конунгом, единственным конунгом всей Дании.
– Но когда? В старости?
– Нет, уже скоро.
– Скоро? Но как же Кнут…
– Твой брат Кнут останется в памяти людей под прозвищем Радостный – радостна была жизнь его, радостной будет и смерть, и умрет он весело, как все, что делают молодые.
– Он умрет молодым?
– Да. Он войдет в Валгаллу, открыв тебе дорогу к земной власти и славе. А ты будешь владеть не только Данией, но и частью Норвегии, и ее конунги будут подчиняться тебе.
– Конунги Норвегии?
– Ну конечно! Не забыл ли ты о том, что твоя сестра Гунн замужем за Эйриком-конунгом и у нее есть сыновья? Сейчас они еще дети, но чужие дети растут быстро!
– А я… будут у меня сыновья? – поспешил Харальд задать тот вопрос, который волновал его уже лет пять.
Прежде чем ответить, богиня снова прислушалась, устремив рассеянный взгляд куда-то во тьму над его головой.
– О да, – негромко, задумчиво подтвердила она потом. – У тебя родятся сыновья… и дочери. Они в полной мере разделят судьбы всех земных владык: будут в ней и власть, и слава, и несметные богатства, и сражения, и блестящие победы, и тяжкие поражения… Не все из них умрут своей смертью… будет и вражда между родичами… и изгнания… Я знаю, как велика твоя жажда иметь сыновей, но и доброе зерно, будучи брошено в дурную почву, принесет дурной плод… горький плод… ядовитый плод…
– О чем ты? – В беспокойстве Харальд вскочил с ларя, на котором сидел. – Говори! Я хочу знать всю правду!
Но она молчала, широко раскрытыми глазами глядя вроде бы на него, но взгляд ее рассеивался и улетал в пустоту, не достигая Харальда. Он шагнул ближе: лицо ее слегка исказилось, будто она видела что-то неприятное, пугающее.
– Я хочу знать, пусть даже самое страшное! – Харальд в несколько шагов пересек тесное подземное жилье, схватил девушку за плечи и тряхнул, будто пытался силой вытрясти застрявшие речи.
А вот этого делать было нельзя, он и сам бы это понял, если бы дал себе хоть мгновение подумать. От его прикосновения девушка вздрогнула и очнулась, словно проснулась от сна наяву и подняла на него уже иной взгляд – недоумевающий, испуганный. И Харальд, коротко выбранившись, выпустил ее плечи. Вот что он натворил, дурак, – вытряхнул дух богини из тела дочери Инглингов!
– Что ты делаешь? – воскликнула она, и теперь это снова была Гуннхильд, дочь Олава. – Решил меня задушить наконец? Хотя бы с третьей попытки?
– Нет, – с досадой ответил Харальд и отошел обратно к своему ларю, но не сел, а повернулся вокруг себя и опять взглянул на нее со вновь пробудившейся надеждой. – Ты не помнишь, что ты видела?
– Где?
– Вот сейчас!
– Тебя…
– Да, меня, меня! Что со мной было? – Харальд снова подошел, глядя ей в лицо так пристально, будто надеялся разглядеть там отражения улетевших видений, как тень облаков на воде.
– Ты сидел там… а я здесь… – недоуменно отозвалась Гуннхильд. – Ты бросил мне гребень… – Она опустила взгляд на резную вещицу, которую все еще держала в руке, – и я стала причесываться… а больше я ничего не помню! – Будто прозрев, она подняла глаза на Харальда.
– Ничего?
– Ничего. А… что-то было?
– Еще как было! – Харальд горько рассмеялся. – Ты предрекла мне судьбу.
– Наверное, ничего хорошего. – В ее голосе слышалось «так тебе и надо».
– Почему же? Много всего очень хорошего. Например… – Он запнулся, вдруг сообразив, что обещанная ему ранняя смерть брата обещает Гуннхильд такое же раннее вдовство. – Что я стану конунгом всей Дании… ну, со временем… когда-нибудь. И даже частично Норвегии. Ничего в этом нет необычного, ведь моя сестра замужем за одним из тамошних конунгов – ну, старшая сестра, Гунн, которая за Эйриком.
– А потом?
– Самого любопытного ты не сказала.
– Чего?
– Как я умру, конечно. И о моих детях. Ты сказала, что их у меня будет немало, но в жизни их ждет много превратностей. Под конец увидела что-то уж совсем нехорошее, но не успела сказать. Ты не могла бы попробовать еще раз?
– Чего?
– Ну, как ты это делала? Как ты входишь в состояние сейда?
– Я вовсе не умею входить туда! – Гуннхильд слегка обиделась, поскольку «сейдконы», иначе вещие жены, умеющие предрекать будущее и говорить с умершими, хоть и пользуются уважением, но их сторонятся и опасаются. – Я никогда в жизни этого не делала!
– Делала. Вот сейчас, я сам видел.
– Но разве я перед этим стучала в бубен, ела сердца всех домашних животных? И где двенадцать женщин, поющих вардлок?[5]
– Здесь не надо бубна и вардлока. – Харальд многозначительно огляделся. – Здесь иной мир так близок, что в него совсем несложно заглянуть. Мы ведь находимся с тобой в мире мертвых.
Оба они невольно посмотрели на идол Фрейра, и обоим одинаково показалось, что он прекрасно их видит и ясно слышит их беседу, как всякий живой свидетель.
– Если это так легко, посмотри сам.
– Мужчинам это не дано и не к лицу. Кроме Одина.
– Подожди. – Гуннхильд вдруг махнула рукой, чтобы он помолчал, и наморщила лоб.
Какая-то смутная мысль вертелась около сознания… не ее мысль, будто бы пришедшая со стороны… образ… имя…
– Его зовут… звали… будут звать… в общем, его имя Свейн, – наконец сказала она. – Но не спрашивай меня, кто это, я не знаю!
* * *
Здесь это было как во сне: разговаривая с Харальдом, Гуннхильд не чувствовала прежней тревоги, досады, ни со своей, ни с его стороны. Будто все эти дурные чувства не посмели войти сюда, в дом божества, и остались снаружи, на холоде. Здесь, внутри кургана, было, как ей теперь казалось, довольно тепло – она даже сбросила кафтан и сидела, лишь прикрыв ноги меховым одеялом. Непривычная обстановка оказывала на нее странное действие: и будоражила, и убаюкивала.
Но более всего ее волновало присутствие Харальда: все существо ее заполняла радость от того, что они наконец начали разговаривать между собой по-человечески. Даже жаль было тратить время на сон, но завтра, сколько она знала по опыту, ей предстоит немало трудов.
Харальд тоже сел на лежанку, у нее в ногах, и ей было приятно, что он так близко.
– Долго мы здесь пробудем? – спросила она. – Неужели три дня, как полагается?
– А тебе страшно? – усмехнулся Харальд, сам в это не веря.
– Понимаешь, – со значительным видом начала Гуннхильд, – за три дня у человека неизбежно возникнут некие потребности, отправлять которые в доме бога как-то нехорошо! А выйти отсюда нельзя. Богиня Сунна не бегает туда-сюда из Хель по нужде.
– Поэтому мы пробудем здесь только до утра, – кивнул Харальд. – А утром явится мой доблестный брат, – при этой мысли он вдруг помрачнел, – убьет меня и освободит тебя, дабы ты подарила весну земному миру.
– А зачем понадобилось уносить меня ночью из постели? Неужели нельзя было объяснить? Я бы все поняла.
– Где же это видано, чтобы Зимний Турс предупреждал Сунну о похищении? – Харальд выразительно приподнял бровь. – Может, еще скажешь, он должен был попросить ее согласия?
– А почему бы и нет, ведь она согласилась бы!
– Вот как? – оживленно переспросил Харальд, который отнес это к себе. – Согласилась бы?
Переменив положение, он опустил руку, чтобы опереться о лежанку, и его ладонь будто случайно попала между вытянутых ног Гуннхильд.
– Ну, конечно! – Ей нравилось прикосновение его руки, и она сделала вид, будто ничего не заметила. Он тоже. – Ведь земля должна отдохнуть от летних трудов, должна спать какое-то время, как человек бодрствует днем и спит ночью. Зима – ночь земли. А богиня в мире Хель – как зерно в земле, которое должно пролежать здесь какое-то время, набраться сил, напитаться соками, чтобы потом уже прорасти и выйти на свет ростком, стать цветком…
Харальд едва вникал в смысл ее слов – она сама казалась каким-то волшебным цветком, искрой божественного огня в подземелье, согревающим землю изнутри. Кто она сейчас – смертная или богиня? Или то и другое сразу? Ведь люди королевского рода всегда несут в себе частицу божественного духа – не зря же они прямые потомки богов. И в Гуннхильд эта связь с богиней проявлялась ярче, чем в ком-либо, кого он знал. Сейчас Харальд удивлялся, почему не замечал этого раньше. Что за тролль ему запорошил глаза, вынуждая видеть в ней какую-то ведьму, заставлял бояться ее красоты? Ее красота – божественный дар, который надо принимать с благодарностью. Благоговением… Восхищением…
Он смотрел нее, а она на него, будто ждала чего-то. У него не шло из головы то, что она сказала ему – вернее, что богиня сказала ее устами. Теперь он знал об этом, а сама Гуннхильд – нет. Он знал, что ее брак с Кнутом будет недолгим – но насколько недолгим? Несколько лет? Несколько месяцев? Дней? Может, лучше ей вообще не выходить за него, остаться в девушках, найти со временем другого супруга, которому суждена более долгая жизнь? Ведь богиня не сказала, что будет с самой Гуннхильд!
– О чем ты задумался? – окликнула Гуннхильд, видя его изменившееся лицо. – До утра еще далеко. – Она взглянула наверх, пытаясь увидеть небо сквозь оконца в земляной кровле. – Расскажи мне, как у вас отмечают День Госпожи. Что еще мне предстоит делать?
– Ты сама все поймешь. Ничего особенного.
– Вы забыли мои башмаки. Так что светлому Фрейру завтра придется нести меня до дома на руках.
– Ничего страшного. – Опустив глаза, он стал слегка поглаживать ее ногу. – Я сам готов… нести тебя хоть отсюда и до Эбергорда…
Гуннхильд молчала, сердце ее сильно билось, дыхание перехватывало от волнения. В первый раз он дал ей понять, что она нравится ему. Неужели Ингер была права? Все в ней кипело, она и тревожилась, и боялась упустить этот миг, когда между ними наконец все пошло как надо. Едва они перестали смотреть друг на друга как на врагов, она осознала, что ее всегда к нему тянуло. И теперь его ласковые прикосновения сделали эту тягу неодолимой.
Харальд поднял глаза, потом сел совсем близко к ней. Гуннхильд положила руки ему на плечи, обмирая от волнения и блаженства; он потянулся к ней, она подставила ему лицо и ощутила, как его теплые губы прижимаются к ее губам. Волоски бороды мягко щекотали кожу. Сердце оборвалось, по жилам потекло блаженство. Харальд крепко обнял ее, потом опустил спиной на подушку. Он продолжал целовать ее, его руки скользили по ее телу, ласкали грудь, рождая в ней все более горячее желание; она отвечала на его ласки, и вся мощь пробужденного мира текла в ее жилах, будто вода в весенних реках.
В подземном покое вдруг стало тепло, даже жарко, она больше не зябла – Харальд источал жар, и ее влекло к этому жару, как все живое тянется к солнцу. Забылись все их раздоры, тревоги, сомнения, недоверие, все растворилось в этом влечении, которое сами боги вкладывают в тела и души смертных. Она чувствовала, как он просовывает руку ей под подол и гладит по бедру, и каждая частичка ее кожи трепетала от блаженства его прикосновений. Когда он склонился над ней, она поняла, что сейчас произойдет, но это ее не смущало и не пугало. Все было не важно, кроме неистового желания слиться с ним, стать единым целым, раствориться в нем. Даже если бы ей сказали, что вслед за тем она сразу умрет, это ее не остановило бы. Божественное влечение любви всегда больше отдельных людей, и им не дано противиться реке возрождения, когда она захватывает их и несет. Даже самые благоразумные и волевые люди бессильны перед любовью, а те, кому случится устоять, жалеют об этом, зная, что упустили самое важное в жизни.
Даже неизбежная боль ее не отпугнула: эта боль тоже была неотделимой частью священного таинства любви, доказывала, что все происходит на самом деле. Но вскоре боль утихла, и Гуннхильд застонала от блаженства, ощущая, как вливается в ее жилы поток силы. Она стала деревом, тем самым, на котором держится мир, ее жилы стали ветвями, растущими в бесконечность, и по ним текла горячая кровь вселенной, наполняя неистовым счастьем. Само ее существо стало огромным, как все девять миров. И никогда еще она не ощущала себя такой сильной, полной и цельной, как сейчас, когда отдавалась во власть мужчины, своего вечного соперника и верного друга, божественного соратника по созданию вселенной.
* * *
Наутро возле усадьбы Эбергорд собралось множество народу. Жители всех окрестных дворов и усадеб были здесь; иные встали среди ночи, чтобы успеть вовремя, иные пустились в путь еще вчера и прибыли ночью или вечером, чтобы дождаться утра праздника у костров или в шатрах. Еще висели над миром серые сумерки, но близился рассвет. Даны, вынув из дорожных мешков лучшие крашеные одежды, столпились у ворот. Зазвучали трубы, ворота стали открываться; народ радостно закричал. Показался сам Горм, одетый в тяжелый греческий шелк с золотым шитьем. В одной руке он нес священный молот, применяемый при обрядах, а другой вел Ингер.
Девушка была одета в белое платье, с красным хенгероком и красным шерстяным плащом; свежий ветер раздувал золотистые завитки волос, уложенных в красивый пышный узел на затылке, и она казалась неким живым цветком, самим воплощением юного расцвета. «Богиня Идун» несла корзину, где лежали крашеные яйца и вялые зеленые яблочки, заботливо сохраняемые всю зиму нарочно для этого дня.
– Вот и пришел радостный весенний день, открывающий дорогу лету! – весело кричал Горм, одолевая гул толпы. – Приветствую вас, даны, дети Гевьюн, в День Госпожи! Растаяли снега, отогрелась земля, готовая принять семя! Сегодня Госпожа выйдет из подземного заточения, примет поцелуй Господина, светлого Ингве Фрейра, откроет дорогу лету, теплу, изобилию!
Видно было, что он и впрямь искренне рад; несмотря на почтенный возраст, Горм сохранил способность радоваться, которую унаследовал его старший сын Кнут. Кнут шел позади отца и сестры, тоже одетый в лучшие одежды. В руке он нес копье, за поясом у него был боевой топор с золотым узором на обухе, а в руке шлем – старинный, уже не первый век передаваемый в роду по наследству. Он выглядел совсем не так, как современные шлемы, и был богато отделан: его сплошь покрывали чеканные золотые пластинки с изображениями богов и чудовищ. В битвы в нем не ходили и использовали только для священных праздников, как сейчас. Все это сияло, и можно было подумать, что и правда из ворот рассвета выходит Тор, вооруженный молнией.
– А где же твой молот, которым ты будешь биться? – кричали ему весельчаки из толпы.
– А я метнул его в великана в самом дальнем углу Йотунхейма, и он еще не вернулся назад!
– Невеста заждалась тебя в подземелье!
– Ей там так холодно, отогрей же ее скорее! – смеялись женщины.
Вся округа знала, что сегодня будет обручение и они видят жениха.
Девушки, тоже одетые в белое с красным, выбирались из толпы и попарно пристраивались позади Ингер. Не все могли позволить себе роскошные одежды, большинство были одеты в некрашеную белую шерсть, где-то сероватую, где-то желтоватую, а красного на ком-то был платок, на ком-то всего лишь ленточка, зато все держали корзины с крашеными яйцами и свежие ветви березы.
Под предводительством Горма с сыном и дочерью толпа двинулась к холмам. Горм все так же шел впереди с Ингер, за ними Кнут со своим солнечным оружием, потом знатнейшие воины дружины – Регнер и Холдор. За ними следовали трое хёвдингов из Хейдабьора в качестве почетных гостей, а далее прочие домочадцы. Харальда, Гуннхильд и самой королевы Тюры не было видно.
Сначала шествие направилось к холмам, где бил между камней священный источник. Когда толпа приблизилась, стало видно, что возле источника, на гранитных плитах, омываемых бегущей водой, стоит величавая женщина, вся одетая в белое, с белым покрывалом на голове и с тяжелой связкой ключей у пояса. Люди, конечно же, узнали свою королеву Тюру, но радостно закричали – сегодня в ее облике им навстречу вышла сама богиня Фригг.
– Приветствую вас, даны, в этот радостный день пробуждения земли! – воскликнула она, подняв руки к небу. – Сегодня мы собрались здесь, возле этого священного источника, чтобы встретить богиню Сунну, солнце земного мира! Омойте руки ваши, чтобы чистые дары поднести богине, омойте лица и глаза ваши, дабы ясным взором узреть Деву Весны!
Она наклонилась, зачерпнула в горсти холодной блестящей на солнце воды и омыла лицо. Вслед за ней к источнику подошла Ингер и девушки, потом женщины и только потом мужчины, начиная с Горма и его сына. Вот все снова выстроились несколькими широкими кругами возле источника.
Королева Тюра обернулась лицом к востоку, и все последовали ее примеру. По мокрым лицам еще ползли капли воды, мокрые волосы прилипли к лбам, люди тяжело дышали после движения, пения и крика, но все затихли, с благоговением глядя на восточный край неба. Там уже играли лучи рассвета, и все ждали чуда: появления солнца, несущего с собой долгожданное лето.
– Теперь мы можем приветствовать ее, белую Деву Дня! – напевно и вдохновенно заговорила Тюра, простирая руки к небу, будто готовясь принять в них величайшее благо – солнце, тепло, жизнь. Голос ее звенел, как у матери, которая со слезами радости готовится обнять наконец долгожданную любимую дочь. – Мы приветствуем тебя, о свет с востока, белая дева в сияющей силе! Шагни к нам сквозь ворота рассвета, блистающая, поднимающая копье дня, приносящая дары дня! Мы приветствуем и тебя, могучий Тор! Возвращайся из страны турсов, твои зимние битвы закончены. О ты, гроза великанов, владыка молний, мы приветствуем тебя! А еще мы привет шлем тебе, Ингве Фрейр, тот, кто приехал на солнечной повозке, чтобы выпроводить зиму из наших пределов! С сияющим рогом оленя мы видим тебя, владыка лета! Гони прочь тьму, и холод, и голод, и недуги, и все зимние невзгоды – больше у них нет над нами власти!
И вся толпа ликующим криком отозвалась на слова королевы – всякий верил, что невзгоды ушли, если не навсегда, то до следующей зимы, а сейчас тепло и свет одержали победу и Бог Лета дарует свои блага людям.
– Но где же она? – Горм выразительно огляделся. – Я вижу тебя, моя королева, моя Фригг, владычица очага, я вижу нашу дочь Идун, я вижу нашего сына Тора с его молотом, но почему я не вижу невесту его, прекрасную Сунну?
– Разве ты не знаешь, о конунг? – с показательным удивлением ответила Тюра. – Невеста его Сунна пребывает в мире Хель, и могучий Зимний Турс стережет ее, не позволяет выйти и ответить на наши призывы.
– Но что же делать? – в тревожном недоумении Горм воздел руки. – Неужели нет средства спасти ее?
– Конечно, есть! Сын твой Тор силен и отважен! – Тюра кивнула Кнуту, и тот шагнул ближе. Он старался хранить решительный и суровый вид, но против воли улыбался, его округлое лицо лучилось радостью и предвкушением веселья. – Он владеет чудесным молотом, которым сумеет победить любого великана, даже могучего Зимнего Турса.
– Это хорошо! Твои слова, Госпожа, вдохнули в меня надежду! Но как же нам попасть в мир Хель?
– Это нелегко сделать. Есть только один проход туда – через Дом Фрейра.
– Знаешь ли ты дорогу туда? Укажешь ли ты ее нам?
– Думается, только я знаю дорогу туда, но охотно покажу ее этому доблестному воину и всем добрым людям, готовым ему помочь! – важно кивнула Тюра. – Следуйте за мной, отважный Тор! Следуйте за мной, добрые люди!
Она направилась вниз с пригорка, вся толпа повалила за ней. Не решаясь даже болтать, только посмеиваясь, лихорадочно дрожа, люди торопились вслед за королевской четой, будто боялись, что если они не успеют, то богиня-солнце навсегда останется в подземелье и лето не настанет. Вот впереди показался Дом Фрейра. Уже совсем рассвело, и огромное сооружение предстало во всей красе: покатые склоны, поросшие травой, белая каменная ладья у подножия.
Над толпой взмыла целая буря изумленных и испуганных восклицаний. Земля в верхней части склона, неподалеку от оконца, была разрыта, зеленый дерн снят, и стали видны ворота в Иной мир! Это была лишь дверца, в которую едва мог пролезть человек, зато окованная для прочности бронзовыми полосами и с бронзовым кольцом. Бронза сияла, будто золото, и казалось, что изнутри холма вырывается свет. Свет от плененного солнца, Девы Дня!
Тюра взмахом руки предложила всем остановиться.
– Теперь пришел твой черед, о Тор, сын мой! – обратилась она к Кнуту.
Он приблизился, надев шлем и тем самым окончательно перевоплотившись в могучего бога, грозу великанов, и она сделала благословляющий знак молота над его склоненной головой.
– Благословляю твои руки – пусть не знают они усталости. Благословляю твое оружие – пусть разит оно без промаха. Благословляю твое сердце – пусть не знает оно страха. Не отступай, сражайся за свою невесту, принеси нам наше солнце!
Народ закричал, и в ответ на этот вопль внезапно дверь в склоне кургана распахнулась изнутри. Ликующий шум толпы сменился испуганным, многие отшатнулись и едва не бросились прочь – казалось, сейчас из-под земли вырвется чудовище. Оттуда и правда выскочило довольно крупное существо – рослое, одетое в какие-то грязные лохмотья, неровно сшитые куски шкуры, а лицо его закрывала маска медведя. В руках оно держало боевой топор на рукояти в человеческий рост. С грохотом захлопнув за собой дверь, существо воздело к небесам свое оружие и издало не то вой, не то рев, отчего народ попятился от кургана еще дальше.
– Я – Зимний Турс! – провыл выходец из-под земли смутно знакомым голосом. – Кто вы и чего вам здесь надо?
– Я – Тор и пришел за моей невестой, богиней Сунной! – Кнут отважно выступил вперед.
Хотя и он бы не был в глубине души полностью уверен, что перед ним – его родной брат Харальд, а не какой-нибудь подземный тролль.
– Она моя! – прорычал Зимний Турс с такой суровой уверенностью, что каждый понял: этот так просто своего не отдаст. – И вам не добраться до нее! Только моя секира, что зовется Ключ от Счастья, способна открыть эту дверь. Но вы не получите ее, пока я жив, и никогда тебе не увидеть этой девы!
– Я убью тебя и открою эту дверь! – крикнул Кнут и шагнул вперед, занимая место внутри ладьи из белых камней, где проводились судебные и обрядовые поединки. – Иди сюда, вонючая шкура! Я отправлю тебя на погребальный костер, там тебе самое место!
Вот Зимний Турс вступил внутрь священной площадки, и Кнут, как истинный Тор, смело бросился на врага. Исход поединка был известен заранее, но обставить все следовало как можно лучше – из уважения к богам и для удовольствия людей. Оба рослые и статные, противники различались как день и ночь: светловолосый Кнут в ярких одеждах, с золотыми украшениями, с золотой отделкой оружия и старинного шлема сверкал, как молния, как живое воплощение небесного огня; в то время как его соперник, в темной рваной одежде, в косматых и засаленных шкурах, со звериной мордой вместо лица, казался таким же явным воплощением тьмы и всех ужасов подземелья.
Противники кружили, то обмениваясь ударами, то вновь расходясь. Каждый выпад, каждый удар сопровождался воплем толпы: радостным – если его наносил Кнут, и испуганным, если шел в ход топор Зимнего Турса.
Внезапно тот словно копьем ткнул рукоятью секиры в нижний край Торова щита, а затем нанес удар сверху так сильно и быстро, что Кнут едва успел увернуться. Не давая ему опомниться, Турс рубанул над самой землей, метя в ноги. Ловко подпрыгнув, так что лезвие прошелестело у самых его подошв, Кнут в свою очередь ударил в голову, но Турс принял выпад на древко, вскинув секиру перед собой и врезал Кнуту обухом в ухо, так что шлем зазвенел на всю округу.
Ошеломленный Кнут попятился, а Зимний Турс ринулся на него, вскинув топор. Используя длину рукояти, он рубил по щиту противника, не позволяя тому приблизиться, и теснил к краю площадки. Кнут с трудом оборонялся, подставляя щит под углом, чтобы лезвие соскальзывало с него, но было ясно, что долго он так не продержится. Уж не забыл ли брат, кто должен победить в этой схватке?
Выбрав мгновение, Кнут бросился вперед; щит его хрустнул под страшным ударом, зато Кнут сумел подойти к противнику почти вплотную. Удар топора была нацелен Турсу в левый бок, но тот чуть сместился, снова прикрылся древком секиры и, зацепив им за выемку в лезвии топора, рванул.
Золоченый топор Кнута взмыл в воздух, сверкая будто молния, и полетел под ноги зрителям. Вопль ужаса и отчаяния прокатился по толпе, но старший сын Горма недаром получил право носить в этот день имя Тора. Не растерявшись, он тут же метнул свой расколотый щит в лицо противнику и сам прыгнул на него, обеими руками вцепившись в рукоять ростового топора. Несколько мгновений они боролись, каждый тянул древко в свою сторону, но более тяжелый Кнут одержал победу: рванул Ключ от Счастья к себе, он немедленно так же резко толкнул его, заставив Турса потерять равновесие, и подбил ему ноги. Зимний Турс рухнул на спину, а Кнут вскинул к небесам обретенное оружие и с силой вонзил лезвие в землю возле самой головы поверженного врага.
Народ кричал от восторга, и казалось, ликующие вопли достигают небес.
Поверженного Турса забросали соломой и начали здесь же, внутри каменной ладьи, складывать погребальный костер. А победитель Тор направился на вершину кургана.
Общий дружный крик сменил прежние разрозненные веселые выкрики. Кнут приблизился к дверце, блестевшей начищенной бронзой, и торжественно стукнул в нее обухом секиры три раза. Потом наклонился, потянул за кольцо и откинул крышку.
– Здесь ли ты, моя дорогая? – крикнул он, склоняясь к черной дыре. – Жива ли ты, мое солнце весны?
– Я здесь! – Гуннхильд, стоя под самым отверстием, помахала ему рукой снизу. – Ты наконец пришел освободить меня?
– Да, Зимний Турс повержен, ты свободна! – На расстоянии и за криками толпы никто не слышал их беседы, кроме богов, но все должно быть проделано как следует. – Готова ли ты выйти в земной мир и озарить своей сияющей красотой небосклон?
– Я готова! Но тебе понадобится веревка!
– Она у меня есть! Моя мудрая мать посоветовала мне запастись веревкой!
Кнут сбросил вниз конец веревки, и Гуннхильд привязала к ней верхнюю перекладину лестницы, которая до этого была спрятала под Фрейровой кроватью. Потянув за веревку, Кнут поднял верхний конец лестницы к лазу и придерживал, пока Гуннхильд осторожно поднималась.
– А мою обувь вы так и не принесли? – спросила она, когда Кнут, подав руку, помогал ей выбраться наружу.
– Обувь?
– Понятно. Значит, дальше ты понесешь меня на руках, богиня ведь не может ходить по мокрой земле в одних белых чулках!
Ступив на землю, Гуннхильд встала на откинутую крышку – влага земли быстро проникла сквозь чулки двойной вязки – и уже тогда, рука об руку с Кнутом, повернулась к людям, чтобы все могли видеть освобожденную богиню.
И каждому подумалось, что только истинная жительница Асгарда может быть так прекрасна: окутанная волнами янтарно-рыжих волос, спускавшихся почти до колен, в красно-белом ярком наряде, с золотом на руках и груди, Гуннхильд испускала сияние и была так хороша, что у смотревших на нее перехватывало дух и выступали слезы счастья. Казалось, сейчас она шагнет с вершины холма прямо на небо и пойдет по нему, озаряя сиянием земной мир.
– Радуйтесь, люди! – воскликнула Тюра. – Вот королева победы занимает свое место на небесном престоле, вот солнце и краса Дании выходит в путь по небесному синему кругу!
И по знаку королевы все, кто собрался возле священного холма, подняли руки, приветствуя живое солнце Дании, и запели старинную песнь, знаменующую высшую точку праздника.
Кнут взял на руки свою богиню и осторожно понес с холма вниз.
– А теперь давайте наконец избавимся от этого чудовища! – Горм указал на то место, где валялся «убитый» Зимний Турс, прикрытый соломой.
Однако за то время, пока Кнут вытаскивал Гуннхильд из холма и никто сюда не смотрел, Зимний Турс «превратился» в чучело, сделанное из соломы последнего снопа, который хранили для этой цели с осеннего праздника урожая. Было оно в рост человека и одето в те рваные шкуры, в которых Турс сражался. Внутри ладьи из белых камней уже сложили костер, на который теперь с победными криками перетащили чучело, и Горм сам выбил огонь, чтобы его поджечь. Высушенная у очагов солома вспыхнула быстро, ярко, огонь почти мгновенно охватил поверженного врага.
Пока он догорал, Ингер подошла к Гуннхильд, за ней девушки несли корзины. Начиная с королевской четы, все присутствующие стали подходить к ним, и каждому они вручали дары: Ингер – яблоко, а Гуннхильд – крашеное яйцо как знак вечной молодости, возрождения и плодородия. Каждый отвечал двум юным богиням подарком. Горм и Тюра подарили обеим девушкам по ожерелью и шелковому покрывалу в знак того, что вскоре им предстоит покрыть головы и стать хозяйками. Знатные хёвдинги дарили гребни, новые маленькие ножи, которые носят на цепочках под нагрудными застежками, круглые застежки на плащ, а простой народ и дары подносил простые: мотки шерстяной пряжи, крашеные яйца взамен получаемых.
Раздавая и принимая дары, Гуннхильд все смотрела в толпу, ожидая, желая и где-то боясь увидеть Харальда. Все, что случилось во тьме, казалось сном, но каков он предстанет перед ней при дневном свете? С кем все это происходило – с ней или с богиней, занявшей ее тело? Она знала только, что никогда не испытывала такого потрясения и никогда не была так счастлива, хотя счастье это было окрашено пугающей близостью бездны. И кто был с ней там – Харальд, сын Горма, или иное существо, один из богов, возлюбленный и супруг Сунны – сам Тор?
Зато теперь она поняла, почему Харальд с самого начала их знакомства вызывал в ней такие сильные и противоречивые чувства, почему так притягивал и восхищал ее, одновременно внушая некий страх своей грозной силой. Никогда еще Гуннхильд не встречала человека, в котором так ярко и полно воплотилась бы божественная сила и дух Тора. Даже внешность Харальда – высокий рост, светлые волосы и золотисто-рыжая борода, светло-голубые, как небо, глаза – наводила на мысль о повелителе молний. В нем жил неукротимый и бестрепетный воинственный дух, непримиримая враждебность ко всем злобным и темным силам, но в то же время прямота, открытость, веселость, неизменная бодрость и решительность. И даже то, что он был наделен неутомимой жаждой любви – как она сама теперь знала, – было даром Тора: ведь его, рыжебородого, а не Фрейра, называют своим покровителем земледельцы.
При воспоминании о ночи Гуннхильд охватывал жар. А если учесть, что думать о чем-то другом у нее сейчас получалось плохо, не покажется удивительным, что она была румяна, глаза ее сияли звездами, лицо светилось, и в толпе непрерывно звучали возгласы восхищения ее красотой. Ей было неловко думать о своем женихе, стоявшем от нее по другую руку, но она знала: все случилось так, как и должно было случиться. Сам Тор под личиной великана обнимал в подземелье свою солнечную супругу, и без этого весна могла бы не наступить. Пока шел обряд раздачи даров, чучело Турса успело полностью сгореть. И только тогда наконец появился Харальд.
Завидев младшего сына – уже в человеческом облике, с мокрыми волосами и веселой улыбкой на лице, – Горм сделал знак хёвдингам. Снова зазвучали трубы, и из-за холма вывели коня светло-серой масти. Он был взнуздан и оседлан, причем все металлические детали его снаряжения были сделаны из позолоченной бронзы. Народ затих. Коня подвели к подножию холма, его окружили хёвдинги во главе с Гормом и обоими его сыновьями. Умелой и привычной, сильной еще рукой Горм ударил его в лоб священным каменным молотом. Ноги коня подогнулись, хёвдинги отскочили, и животное рухнуло на свежую траву.
– Сегодня, при свидетельстве людей и богов, мы объявляем обручение моего старшего сына Кнута и Гуннхильд, дочери Олава, – сказал Горм, подойдя к ним с освященным молотом и делая благословляющий знак над склоненными головами пары. – Сегодня они подают друг другу руки и называются женихом и невестой, чтобы через полгода, во время осенних пиров, была справлена их свадьба и далее они назывались бы мужем и женой.
– Мы благословляем их и желаем счастья! – Вслед за мужем королева Тюра возложила свою ладонь на соединенные руки будущих супругов. – Пусть боги пошлют им долгую жизнь, многочисленное славное потомство, богатство и изобилие во всем, кроме бед и несчастий.
– Я дарю тебе это, мой жених и будущий супруг, в знак моей любви и желания жить одной семьей! – Гуннхильд подала Кнуту красную рубаху, сшитую ее руками и украшенную вышивкой поверх полос синего шелка.
– А я дарю тебе это, моя невеста и солнце Дании! – Кнут в ответ подал ей ожерелье из хрусталя и сердолика с серебряными подвесками.
Потом Гуннхильд обменялась подарками со всей родней жениха: часть из них они с бабушкой заготовили еще дома, собираясь в эту поездку, остальное она выбрала главным образом из оставшихся после Асфрид дорогих вещей, тканей и украшений. Хлоде досталось ожерелье из сердоликовых граненых трубочек, желтых круглых стеклянных бусин и бронзовых подвесок в виде фигурок валькирий, а Харальду – позолоченная застежка на плащ в виде кольца, искусной работы, с головами драконов на концах.
Принимая ответный подарок, Гуннхильд едва могла поднять на него глаза. Он выглядел почти спокойным, только слишком серьезным: в день обручения старшего брата ему полагалось бы выказать немного более радости.
Отведя глаза, чтобы не смотреть на него, Гуннхильд невольно уронила взгляд на лицо Хлоды – и поразилась его выражению. Сжимая в руках подаренное ожерелье, наложница Харальда смотрела на нее с неприкрытой злобой и негодованием, будто знала все, что произошло в кургане. Неужели Харальд что-то ей сказал? Да нет, не мог, ведь если бы узнал кто-то еще, рано или поздно дошло бы до Кнута, а Харальд ведь не хочет рассориться со старшим братом. Скорее, Хлода негодовала по поводу того, что ее муж провел ночь наедине с красивой девушкой, к которой и раньше был не совсем равнодушен. И если с враждебностью Харальда теперь покончено, то дружбу Хлоды ей не приобрести – именно из-за того, что она обрела дружбу Харальда.
Но не Хлода сейчас занимала ее больше всего. Когда Гуннхильд глядела на Кнута – такого оживленного, радостного, – сердце ее сжимали тоска, сожаление, сострадание. В глубине души ее жило предчувствие беды, именно Кнута избравшей своей мишенью.
Однако Гуннхильд старалась ничем не выдать своих истинных чувств и улыбалась, отвечала на добрые пожелания. Вот появилась резная высокая повозка – на ней-то ее и привезли сюда ночью, – на повозку водрузили разделанную тушу коня, голова и ноги которого остались в жертвенном кругу. Туда же поднялись Кнут и Гуннхильд, родственники жениха пошли впереди, и повозка тронулась назад к усадьбе Эбергорд. Ликующая толпа провожала ее до самых ворот, Гуннхильд улыбалась, держась за руки Кнута, и солнце обливало золотыми лучами эту прекрасную пару, чей брак должен был принести столько блага объединившейся Дании.
* * *
Вечером в усадьбе был устроен пир. Среди прочего подавали похлебку на мясе жертвенного коня – разделяя трапезу с богами, люди еще раз приобщались к их благодетельной силе. Даже Рагнвальд в первый раз покинул свое заточение. За прошедшие три с лишним недели его рана настолько зажила, что он мог понемногу передвигаться, опираясь на костыль. И хотя до прежней силы и ловкости ему было еще далеко, на его уверенность и веселость хромота никак не влияла. Глядя, как он оживленно беседует с людьми, Гуннхильд еще раз подумала: никакой телесный недостаток не может испортить по-настоящему сильного и уверенного человека. Взять хотя бы Харальда – даже его заикание нравилось ей, делало его особенным. Ингер же лучилась радостью, подходя к Рагнвальду, чтобы наполнить его кубок или предложить еще кусочек мяса.
Епископ Хорит, разумеется, предпочел бы не присутствовать на языческом жертвенном пиру и провести время за молитвой в уединении, но Горм, возможно, не без тайного лукавства, послал за ним Регнера и Холдора: частью учтивыми речами, а частью и силой, подхватив под локти, те убедили епископа присоединиться к пирующим.
– Ты наш почетный гость, мы никак не может допустить, чтобы в день всеобщего веселья ты оставался в стороне! – приветствовал его Горм. – Садись на свое обычное место и порадуйся с нами! Подайте епископу чашу!
Ингер поднесла Хориту красивую серебряную чашу. Епископ опасливо взял чашу и с тревогой заглянул в нее, опасаясь, не жертвенная ли кровь там, но внутри обнаружилось красное вино. Не самое лучшее, судя по тому, что на лице его не отразилось блаженства, когда он пил.
– А теперь попробуй мяса! – продолжал Горм, и по приказу Тюры Хлода поднесла гостю миски с мясом и отваром на деревянном блюде. – Это главное угощение на нашем пиру, и ни один почетный гость не должен быть им обнесен!
– Но, конунг! – воззвал епископ. – Это ведь жертвенное мясо! Это конина!
– Именно так! Ты мой самый почетный гость, приехавший от самого Отты-кейсара! Я должен непременно почтить тебя, и будет непоправимым упущением, если ты будешь лишен самого главного дара сегодняшнего дня!
– Но, конунг, моя вера запрещает мне принимать участие в жертвенных пирах! – Епископ сидел очень прямо, словно стараясь уберечь нос от запаха мяса, которое уже стояло на столе прямо перед ним. – Апостол Павел писал: «Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести».
– Никому не рассказывай об этом! – Горм замахал руками, будто стремился сохранить тайну. – Если хоть один человек откажется принять участие в пире, боги разгневаются на нас и не дадут урожая и мира, о котором мы молили их сегодня весь день. И если виновником этого окажешься ты – боюсь, даже я не сумею защитить тебя от людского гнева! Тогда тебя, да и всех христиан заодно, посчитают виновниками войн и неурожаев, которые смогут случиться, и это грозит самыми страшными последствиями. Многие из ваших уже отказывались от жертвенного мяса и тем навлекали много бед на себя и других! Дети Гевьюн снова, как уже бывало, примутся изгонять христиан, разрушать церкви, даже убивать служителей Христа! Я ни за что не могу допустить, чтобы в моей стране произошли подобные бедствия, которые надолго рассорят нас с Оттой, а мы ведь всем сердцем желаем быть с ним в как можно более хороших отношениях!
– Скушай хоть кусочек! – смеясь, убеждала епископа Ингер, будто упрямого ребенка. – Совсем маленький кусочек, от этого тебе вреда не будет!
Епископ тяжело вздохнул. Из речей Горма он понял одно: отказ может привести к плохим последствиям для христиан в Дании и всего дела Христовой церкви во владениях норманнских королей. Поэтому он, вскинув глаза и, вероятно, вознеся молитву, быстро перекрестил поднесенное, отщипнул несколько жестковатых волокон мяса и положил в рот – с таким видом, будто это яд, от которого он должен будет немедленно умереть. И поспешно запил вином, стараясь не разобрать вкуса съеденного.
– Ну вот и хорошо! – одобрила Ингер.
Хорит сидел с закрытыми глазами и плотно сжатыми губами, будто боялся: то ли того, что нечестивая пища будет отторгнута его благочестивым чревом, то ли того, что за первым кусочком может последовать второй.
– А остаток доест Хлода. Ешь, тебе полезно! – насмешливо обратилась Ингер к невестке. – Может, Фрейр и Фрейя наконец вспомнят о тебе и пошлют Харальду сына.
С этими словами она ушла к матери за женский стол. Хлода проводила ее глазами, но доедать мясо не стала.
– Я уже пять лет просила старых богов послать мне дитя, – вполголоса обронила она, глядя в спину Ингер. – Но они меня не слышат. И я стала уже подумывать, что, может быть, мне стоит попросить об этом какого-то другого бога, более сильного? Что ты скажешь об этом, епископ?
– Ты очень здраво рассуждаешь… добрая женщина, – глотнув из чаши, чтобы смыть вкус языческой пакости, Хорит кивнул. – Если ты обратишься к Христу и матери Его, святой Деве Марии. Они непременно помогут тебе.
– Хотела бы я знать, что мне нужно делать, чтобы добиться их милости?
– Я охотно расскажу тебе об этом, но, пожалуй, завтра или в другой день. Сейчас время неподходящее для такой беседы.
Кивнув, Хлода удалилась, оставив миску на столе перед епископом.
– Если ты больше не хочешь конины, не возражаешь, если я доем? – раздался рядом бесстыдный в своей непринужденности голос.
Обернувшись, Хорит увидел Кетиля Заплатку, уже протянувшего грязные руки к миске.
– Не следовало бы тебе этого делать, сын мой, но… для тебя это определенно меньший грех, чем для меня, так что забирай! – с явным облегчением позволил епископ.
И Кетиль, забрав миску, поспешил со своей добычей к двери, где среди других непочетных гостей ждала его тощая дочь, как всегда, с немытыми волосами. Ибо светлый праздник, День Госпожи, всем равно приносит тепло и радость – и конунгам, и нищим.
* * *
После Дня Госпожи, открывавшего летнюю половину года, по всем Северным Странам спускали на воду корабли. Миновало зимнее затишье, сообщение оживилось, появились торговые гости, а с ними и новости. С первым же кораблем из Бьёрко Гуннхильд и Рагнвальд получили весть, что Олав-конунг находится именно там, надеясь уговорить шведского конунга Бьёрна оказать ему поддержку. Но, как говорили торговые люди, Бьёрн не очень-то спешит, хотя Олав тоже на День Госпожи приносил жертвы «за победу».
Гости, зимовавшие у Горма, разъезжались по домам, даже нищие поползли потихоньку по другим усадьбам. Еще некоторое время они везде будут желанными гостями, так как смогут рассказать много любопытного: приезд женщин Инглингов, попытку похищения Гуннхильд, поединок, смерть Асфрид, необычно пышное празднование Дня Госпожи, обручение! Гуннхильд думала, что и Кетиль со своей дочерью по имени не то Замарашка, не то Злюка тоже тронется в путь, но эта пара оставалась в Эбергорде. Вероятно, Рагнвальд имел намерение в будущем снова прибегнуть к их помощи – ведь о том, что они причастны к попытке увезти Гуннхильд, так никто и не узнал.
В прежние годы Кнут или Харальд, а чаще оба сразу, снаряжали в это время корабли для походов. Нередко они присоединялись к войску своего зятя Эйрика – он когда-то владел Норвегией, но уж лет пятнадцать как был свергнут и изгнан своим сводным братом Хаконом и каждый год предпринимал походы ради добычи. Братья королевы Гуннхильд, дочери Горма охотно присоединялись к нему, но тягаться с Хаконом, к чему их постоянно подбивал зять, они не брались.
Однако в этом году Горм не считал разумным отпускать сыновей за море. Пока Олав, живой и даже наладивший связи со шведами, оставался в Бьёрко, Горм предпочитал сохранить все свои силы под рукой.
Но однажды, дней десять спустя после празднества и обручения Гуннхильд, прибыл гость, который заставил весь дом забыть об Олаве и обратить свои взоры совсем в другую сторону.
Под вечер в усадьбу прибежали люди с вестью, что в гавань входит большой боевой корабль, под красно-белым полосатым парусом, незнакомый, однако с белым щитом на мачте в знак мирных намерений. Осторожный Горм немедленно приказал дружине на всякий случай изготовиться и послал гонца за Харальдом и его людьми. Королева Тюра тоже приказала женщинам начинать готовить пир: если белый щит не лжет, обладатель такого корабля, кто бы он ни был, заслуживает самого почетного приема.
Королева оказалась права. Владелец корабля имел самые мирные намерения, которые и подтвердил немедленно, как только сошел на берег. Это был человек лет пятидесяти, невысокого роста, плотного сложения и внушительного вида; в рыжеватых волосах уже проглядывала седина. Никто еще здесь его не видел, однако, когда он назвал свое имя, сам Горм вышел ему навстречу. Не будучи королевского рода, этот человек пользовался известностью и уважением не меньшим, чем иные конунги. Это был ярл из Хладира, по имени Сигурд Щедрый, по праву считавшийся одним из самых мудрых людей в Норвегии. В свое время он помог пятнадцатилетнему Хакону, младшему сыну прославленного Харальда Прекрасноволосого, убедив бондов признать его конунгом, и впоследствии Хакон назначил его правителем области Трёнделаг.
В Эбергорде устроили пир, и сама Тюра, когда Сигурд вступал в дом, поднесла ему окованный позолоченным серебром рог. Его усадили на самое почетное место – напротив помоста, на котором сидел Горм, – и угощали гостя Ингер и Гуннхильд. Сигурд оказался очень приятным человеком, полностью заслужившим свою славу – мудрым, рассудительным, дружелюбным и щедрым. Таких подарков, какие он поднес каждому члену Гормовой семьи, они не получали давно: здесь были серебряные чаши тонкой работы, ларцы, украшенные резной слоновой костью, позолоченные блюда, златотканые одежды.
– Если обе эти прекрасные девы – твои дочери, то скажу я, что давно не видел столь счастливого отца! – заметил он Горму, показывая на девушек, которые наливали ему вина и подавали мясо.
– Я не был так счастлив изначально, но боги одарили меня приобретенным благом, – ответил конунг. – Только одна из этих дев – моя дочь. Вторая, та, что с волосами цвета янтаря, – Гуннхильд, дочь Олава, из ютландских Инглингов. На День Госпожи мой старший сын Кнут обручился с ней, на осенних пирах мы думаем справить свадьбу, и тогда она тоже станет моей дочерью.
– Желаю будущим супругам всяческого блага! – любезно кивнул Сигурд. – А твоя собственная дочь ведь еще не обручена?
– Пока нет. Моя дочь – сокровище нашего дома, и мы не спешим выдавать ее за кого придется.
– Это очень мудрое и правильное решение! – одобрил Сигурд. – Твоя дочь может украсить собой дом любого конунга, даже самого богатого и могущественного, и я уверен, что боги пошлют ей счастливую судьбу.
Ингер улыбнулась, благодаря за пожелание. И, как заметила Гуннхильд, внимательно за ней наблюдавшая, метнула украдкой взгляд на Рагнвальда.
Мудрые и учтивые гости не спешат с порога выкладывать, зачем прибыли через море, а мудрые и учтивые хозяева не торопят их. Сигурд-ярл прожил в Эбергорде несколько дней, прежде чем приступить к делу. По вечерам он охотно рассказывал о своем повелителе, Хаконе-конунге, носившем прозвище Добрый за стремление со всеми жить в мире – что сильно отличало его от сводного брата Эйрика, который славился как задира среди конунгов и ссорился со всеми, с кем приходилось встречаться. Тюра и Горм уже не раз пожалели в душе, что отдали за Эйрика старшую дочь, к тому же он не оправдал надежд и утратил державу своего отца, Харальда Прекрасноволосого.
– Правду говорят, что в Хаконе-конунге возродился его отец Харальд? – спрашивала Тюра. – Мы от многих слышали об этом.
– Не совсем так, королева! – отвечал Сигурд-ярл, в задумчивости пропуская свою небольшую рыжеватую бородку сквозь пальцы, на которых сверкали драгоценные перстни удивительной работы. – Бывает, что герои древности рождаются вновь, но для этого им ведь нужно умереть в старом обличье прежде, чем родиться в новом. А когда умер Харальд-конунг, Хакону было уже пятнадцать лет. Но это правда, что когда он приехал из Бретланда, где воспитывался, к нам в Трандхейм, многие люди, увидев его, сказали, что это вернулся Харальд Прекрасноволосый и снова стал молодым – так Хакон был приятен видом, учтив и разумен, так мудро и складно держал речь перед людьми, что и впрямь дивно для пятнадцатилетнего. Только в одном было отличие: Харальд-конунг отнимал землю у людей, которые не желали ему подчиняться, а Хакон поступил наоборот: он пообещал вернуть эти землю прежним владельцам, если они признают его конунгом и станут во всем поддерживать. Так и получилось, что у нас в Трандхейме его признали конунгом всей страны, и после того поддержали его тинги в Упплёнде и Вике.
Что за этим последовало, рассказывать было ни к чему: Хакон набрал войско, с которым изгнал из страны Эйрика. Поэтому Сигурд говорил о другом: о мудрых и справедливых законах, которые учредил Хакон, о расширении прав бондов на тингах.
– А это правда, что Хакон принял в Бретланде Христову веру? – спросил Горм, бросив взгляд на Харальда, который явно хотел задать тот же вопрос.
– Поскольку он воспитывался у Адальстейна-конунга, его с детства учили Христовой вере, но он принял лишь неполное крещение. Адальстейн не настаивал на ином, понимая, что иначе Хакону будет трудно добиться власти над норвежцами. Теперь он исповедует веру в Христа, сына Марии, но тем не менее принимает участие в жертвенных пирах, чтобы не оскорбить людей и богов той страны, которой правит.
– Вот видишь! – кивнул отцу Харальд. – Это можно сделать!
– Но что такое неполное крещение? – Горм посмотрел на сидевшего здесь же епископа Хорита.
– Неполное крещение принимают многие норманны, которые не решаются так сразу порвать с прежними заблуж… верой в старых богов, – ответил тот. – Так называют обряд оглашения, «прима сигнацио», иначе «первое знамение». Человека осеняют крестом и читают молитвы, отгоняющие дьявола, иной раз дают освященную соль, крестящийся произносит слова веры и отрекается от дьявола. После этого он еще не христианин, но уже и не язычник. Те, кто принял знамение креста, уже почти братья по вере для христиан и могут рассчитывать на их помощь в любом деле.
– По-моему, хорошее решение! – оживленно воскликнул Харальд. – Можно принять неполное крещение, хотя бы поначалу, и тогда Отта и другие христианские короли не будут смотреть на нас как на лесных троллей. Но и люди не получат оснований жаловаться, что-де мы предали старых богов и поэтому у нас войны и неурожаи.
Хлода кивнула в знак одобрения, не решаясь, однако, подать голос. После Дня Госпожи Гуннхильд не раз уже замечала жену Харальда беседующей с епископом: та нарочно ради этих бесед приезжала из своей усадьбы. Хорит рассказывал ей о Христовой вере и о том, как можно стать христианином, и Гуннхильд не сомневалась, что дома Хлода пересказывает эти речи Харальду.
Но вот тут она кое-чего не понимала. Нетрудно догадаться, зачем христианство нужно Хлоде: пленница, последняя из своего погибшего рода, она не имела на земле ничего и могла надеяться только на любовь Христа ко всем слабым и обиженным. А заодно ей нужен повод заставить мужа внимательно ее слушать, а не смотреть на чужих красоток. Но зачем это Харальду? Почему он, в ком живет бог грома Тор, хочет отказаться от асов? Скорее он видит в христианстве путь к власти – ведь ему, как младшему сыну, не так легко будет найти для себя державу.
Сигурд еще немало рассказывал о Хаконе и его попытках распространить веру в Христа в своей стране, что было испортило хорошие отношения между конунгом и подданными. Однако все понимали, что это – лишь вступление. Если бы для Хакона важнее всего было дело Христовой веры, он послал бы своего ближайшего друга и соратника к кому-то из христианских королей. Горм ждал, что речь зайдет о его зяте Эйрике. Но Сигурд не жаловался, а напротив, подчеркивал, как прочна власть Хакона и как велика любовь к нему подданных и даже богов, ибо годы его правления выдавались в основном благополучные, урожайные и прибыльные на суше и на море.
– Единственное, что огорчает Хакона-конунга, так это то, что нет у него королевы, знатной женщины и мудрой хозяйки, что вела бы его дом и помогала советом и делом, – сказал как-то Сигурд.
Тюра слегка переменилась в лице: именно этого разговора она ждала уже некоторое время.
– Известно ему, что тебя боги одарили дочерью, чья красота так же велика, как ум, и которая унаследовала мудрость и способность ко всяческим женским искусствам от твоей жены, величайшей королевы Северных Стран, – продолжал Сигурд. – И подумалось Хакону-конунгу, что такой брачный союз принес бы пользу и радость всем: он обрел бы достойную жену, Норвегия – прекрасную королеву, а к тому же и мир. Ведь не станет Эйрик-конунг нападать на землю своего родича, особенно если ты, их общий тесть, попросишь этого не делать.
– И королевой Норвегии снова станет наша сестра! – воскликнул Кнут.
– Правда, уже другая сестра, – проворчал Харальд.
– Ты хочешь, чтобы я навек рассорилась с Гунн? – вознегодовала Ингер. – Она не простит, если я займу ее место!
– Но ведь это место в Норвегии, а не в постели Эйрика!
– Уж этого она точно не вынесет!
Незаметно было, чтобы слова Сигурда обрадовали Ингер – а ведь она всегда мечтала стать королевой! Что может быть лучше для честолюбивой младшей сестры, чем занять престол своей же старшей сестры, – не только сравняться с ней, но и превзойти.
– Какое любопытное предложение! – Горм рассмеялся. – Чем бы ни кончилась борьба за Норвегию между сыновьями Харальда Прекрасноволосого, победит ли в итоге Эйрик или Хакон, или они опять поменяются местами – так или иначе король Норвегии будет моим зятем!
– Ты верно ухватил самую суть! – Сигурд тоже рассмеялся. – Хакон был уверен, что ты сумеешь оценить выгоды такого союза.
Гуннхильд снова глянула на Ингер: судя по лицу, та вся кипела, но молчала. Что она могла сказать? Чем оправдать свой отказ? Ни родом, ни положением, ни личными качествами она не могла попрекнуть Хакона. Тот славился как человек жизнерадостный, красноречивый, умный, любезный и простой в обращении, удачливый. Считалось, что из всех сыновей Харальда Прекрасноволосого именно он унаследовал победоносный дух и удачу отца – а это главное. Не каждому удается в пятнадцать лет добиться престола и удерживать его много лет, вопреки постоянным нападкам врагов. Отказ такому жениху сам по себе служит достаточным предлогом для войны. А Горм ни за что не захочет ссориться с могущественным конунгом Норвегии, когда ему связывает руки незавершенная борьба с Олавом.
Принять решение и дать ответ сразу Горм не мог: такое важное дело, как брак конунговой дочери, нуждается в обсуждении и утверждении на тинге. Весенний тинг должен был собраться уже скоро, через пару недель, на праздник Ингве Фрейра. Но мало кто сомневался в исходе: Эйрика никто в Дании не любил, и хёвдинги почти несомненно предпочтут союз с его удачливым соперником. В эти дни Ингер не навещала больше Рагнвальда в его чулане – Гуннхильд сама слышала, как Тюра запретила ей это, дескать, чтобы не пошли нехорошие слухи. Королева боялась, что Сигурд заметит эти встречи. Ингер была вынуждена подчиниться и виделась с Рагнвальдом только в гриде, где едва могла обменяться с ним взглядом. Но после сватовства Харальд пригласил Сигурда немного погостить и увез в свою усадьбу Эклунд. Вероятно, хотел без помех поговорить о том, как живется конунгу-христианину и велики ли надежды обратить норвежцев. Сам-то Сигурд неукоснительно почитал богов, но, как человек разумный, мог оценить положение дел, не поддаваясь чувствам.
В тот же день Гуннхильд, зайдя к брату, увидела, что они с Ингер сидят на лежанке бок о бок с такими выразительными лицами, что стало ясно: эти двое задумали весьма решительные действия.
– Это ты! – с облегчением выдохнул Рагнвальд. – Хорошо, что пришла. Скажи Злюке, пусть ее отец как-нибудь проберется ко мне сюда ночью, но чтобы никто не видел.
– Что ты задумал? – с тревогой спросила Гуннхильд.
– Лучше тебе этого не знать. Подошли к Злюке твою служанку, они сумеют переброситься парой слов незаметно.
– Чего тут не знать, у вас по лицам видно! А где Кетиль, я не знаю, его уже два дня нет.
– Троллева мать, я забыл – он ушел в Эклунд. Не нравится мне, что Харальдова жена вдруг ощутила такое влечение к Христовой вере. Боюсь, Харальд намерен нас обойти в этом деле.
– Это ты Кетиля послал туда?
– Неплохо будет, если он потрется среди тамошней челяди и разведает, что и как. От самой Хлоды или Харальда мы ничего не узнаем, а челядь всегда все слышит. Пусть твоя служанка скажет Злюке, чтобы немедленно шла за своим отцом. Он мне срочно нужен.
Идти за Кетилем Злюка, по словам Богуты, отказалась, уверяя, что он скоро вернется сам. И правда: едва Харальд с гостем прибыл к себе домой и там стали известны новости, Кетиль немедленно пустился в обратный путь и прихромал так быстро, как только смог. Но и за это недолгое время Ингер успела выдержать несколько громких разговоров с матерью, а один раз и с отцом. Родители считали сватовство Хакона очень даже подходящим и надеялись убедить дочь его принять.
– Чем такой человек может не нравиться? – удивлялась Тюра. – Я всегда хотела, чтобы ты стала королевой, и боги послали нам для этого наилучший случай.
– Они уже посылали такой случай Гунн – она уже была королевой Норвегии!
– Я уверена, тебе повезет гораздо больше. Хакон – надежный человек. Сигурд признавался, что Хакон был весьма огорчен необходимостью обидеть нас тем, что изгнал из страны нашу дочь вместе с ее супругом. Но Эйрик сам виноват – ни за что не хотел делить отцовское наследство.
– Он и сейчас не хочет. Они опять будут воевать, и, может, вы хотите, чтобы мы с Гунн тоже взяли по мечу и сошлись на поле битвы, будто валькирии?
– Ну что ты такое говоришь?
– Как я могу остаться в дружбе с сестрой, если наши мужья будут соперничать за одно и то же королевство?
– Эйрику хватит земли в Бретланде, он ведь владеет пятой ее частью, а в придачу еще подчинил Оркнеи. Им с Гунн этого достаточно, даже если они родят еще пятерых сыновей в придачу к тем, что уже есть. А при помощи твоего брака мы наконец помиримся с Хаконом. Ты сама понимаешь, что при нынешних делах нам не нужны лишние враги.
– А вот если мы ему откажем, то он скорее заключит союз с нашим соперником, чем с нами, – добавил Горм и мельком глянул на Гуннхильд.
– Ничего не выйдет! – отрезала Ингер. – У Олава нет другой дочери, а у Хакона – вовсе никакой. Кстати, а почему он до сих пор не женат, ему ведь уже лет тридцать? Может, он не очень-то силен по любовной части?
– Не говори глупостей!
– И не станет он объединяться с нашими врагами – он ведь не викинг! Он ни разу в жизни не ходил в морской поход! Может, он просто трус, этот ваш дружелюбный и красноречивый Хакон! Потому он и позволяет бондам стянуть с него последние штаны и насильно кормить жертвенным мясом, лишь бы остаться со всеми в дружбе! Он и места конунга добился только тем, что разбросал и растерял все завоевания своего отца, отдал обратно все то, ради чего тот сражался всю жизнь! Не хочу даже думать, что пришлось бы перенести мне, если бы я стала его женой!
– Скорее всего, тебе придется перенести неполное крещение, – ответил отец. – Но это не смертельно, и епископ подтвердит.
– И ты согласишься, чтобы я приняла крещение? – изумилась Ингер. – Отказалась от наших богов?
– Гунн же крестилась вместе с мужем и детьми.
– Вот за это ее боги и наказали потерей всего! – нашлась Ингер.
– Зато Хакону Христос, сын Марии, отдал это все! – усмехнулся Горм. – Я всегда считал, что боги на стороне сильного и удачливого, и все равно, каким именно богам он поклоняется! Хакон еще раз это доказал. Все будет хорошо: Кнут и его жена останутся верны богам наших предков – как и мы с тобой, моя королева, мы уже стары менять веру! А наши дочери и их мужья пусть будут христианами. Если что, мы попросим богов за вас, а вы – за нас.
– А Харальд?
– Харальд… Не знаю, как он, а вот его жена, я смотрю, не на шутку задумалась.
– И правда, ей, бедняжке, наши боги не очень-то помогли, – вздохнула Тюра. – Я уже говорила Харальду, что придется подыскать ему вторую жену, но он и слышать об этом не хочет.
Гуннхильд опустила глаза: не очень-то ей было приятно слышать о том, как сильно Харальд привязан к своей наложнице, к тому же бездетной. Но и если бы он обзавелся еще одной женой, Гуннхильд это не порадовало бы.
– И давно ты говорила с ним об этом? – спросил у жены Горм.
– Да вот только что, на пиру в День Госпожи.
– Ну да пусть Хлода попытает счастья у Христа и матери его Марии, – махнул рукой Горм. – Если они и правда так добры к убогим, может, Хлода наконец родит и Харальду не понадобится другая жена. Зато я, если мне удастся женить Кнута на Гуннхильд и выдать тебя за Хакона, буду считать этот год одним из самых удачных в жизни.
Судя по лицу Ингер, она-то вовсе не считала год своего предполагаемого брака с Хаконом таким уж удачным. Однако твердость намерений своих родителей она поняла и больше не стала спорить.
Кетиль Заплатка вернулся на следующий день, и Рагнвальд сам увидел его в гриде. Но разговор их если и состоялся, то глубокой ночью и втайне, и Гуннхильд ничего об этом не знала. Зато лицо Ингер, когда они увиделись наутро, значительно прояснилось.
Гуннхильд понимала, что затевается нечто нешуточное, но предпочитала ни о чем не спрашивать брата. Если ему понадобится помощь, он сам обратится к ней, а если справится сам, то лучше ей потом иметь возможность поклясться, что она ничего не знала!
Из разговоров хирдманов она уловила, что у Фроди Гостеприимного сейчас стоит три или даже четыре купеческих корабля. Два из них идут к Хейдабьору, два – в другую сторону, в Бьёрко.
И поэтому, когда еще через два дня оказалось, что ни Ингер, ни Рагнвальда нет нигде в усадьбе, Гуннхильд нисколько не удивилась.
* * *
Накануне Ингер говорила матери, что хочет съездить в Эклунд, поэтому поначалу Тюра лишь удивилась, что дочь поднялась так рано и ни с кем не простилась. Хватились не ее, а Рагнвальда, и то ближе к полудню. Рана его настолько зажила, что он уже ходил, опираясь на костыль, но куда он мог отправиться из усадьбы? Убедившись, что гостя-пленника нигде нет, Горм переменился в лице, нахмурился и приказал немедленно отыскать Ингер и Гуннхильд. Но нашли только вторую – она смирно сидела возле Тюры. А когда ее спросили, где ее брат и конунгова дочь, лишь побледнела и схватилась за щеки.
– Я думал, она тоже исчезла! – Горм посмотрел на жену.
– Но почему! – невольно вскрикнула Гуннхильд, пораженная пришедшей мыслью. – Почему они не взяли меня с собой!
– Куда не взяли? – Горм повернулся к ней.
– Я не знаю! Но если ты думаешь, что они сбежали…
– Я думаю именно так! – сурово подтвердил Горм.
– Они же могли… – прошептала Гуннхильд, только сейчас сообразив: если ее брат задумал побег с одной девушкой, что ему мешало взять двух?
Пока у нее были одни подозрения, она не задавала брату вопросов. Но сейчас, когда поняла, что с нее могут спросить ответа за этот побег, ей сразу стало ясно: лучше бы и она бежала вместе с теми двумя.
Хотя нет. После первого всплеска чувств она вспомнила о своем долге: ведь она дала обещание стать женой Кнута, добровольно объявила о своем согласии. Как же она теперь могла бежать – боги не простили бы ей нарушения клятвы в священный день на священном месте. И та же клятва защищает ее: Горм не обидит невесту своего старшего сына и наследника. Да и Ингер, отдавшись в руки одного из Инглингов, обеспечила оставшейся у Кнютлингов Гуннхильд безопасность.
Эти рассуждения заметно укрепили ее дух. Но только до тех пор, пока не приехал спешно извещенный Харальд – с перекошенным от ярости лицом. Вид у него был такой свирепый, что Гуннхильд захотелось спрятаться.
– Как ты могла! – накинулся он на нее с таким гневом и досадой, что она едва не разрыдалась от обиды. – Я думал, тебе можно верить, а ты…
– Я здесь ни при чем! – закричала Гуннхильд. – Я не больше вашего знаю, что случилось и где они! Они мне ничего не говорили!
– Зря я тогда сохранил ему жизнь! Надо было зарубить его, как поросенка, а теперь он увез мою сестру!
– Она сама ушла с ним!
– Это еще хуже! Рагнвальд одурачил ее!
– Не кричи так! – взмолилась Тюра, которая от горя и волнения едва удерживала слезы. – Ты хочешь, чтобы об этом узнали все Северные Страны?
– Если мы их не вернем, избежать огласки едва ли выйдет!
– Но, может быть, еще удастся…
– Тогда это будет настоящее чудо! Я сам уже был у Фроди – сегодня на рассвете ушли три корабля, два в Бьёрко, один в Хейдабьор! Фроди клянется, что ни на один не садился Рагнвальд или вообще какой-то мужчина с девушкой, хотя он никак не мог бы не узнать дочь своего конунга! Но ведь любой из этих кораблей мог подобрать их уже после того, как они покинули Гестахейм. А их хозяева – не наши люди, они не знают Ингер в лицо и им вовсе не покажется странным, что какой-то мужчина едет с сестрой или рабыней… Уж не знаю, за кого он теперь вздумает ее выдавать. И кем она станет на самом деле!
– О, Харальд! – Теперь королева Тюра не сдержала слез. – Что ты такое говоришь?
– Я-то ладно. А вот погодите, что будут говорить по всем Северным Странам! Что твоя дочь стала шлю…
– Молчи, Харальд, я запрещаю тебе так говорить о сестре!
– Мы попробуем их вернуть, – решил Горм. – Я уже велел приготовить два корабля. Один пойдет в Бьёрко, другой в Хейдабьор. Если нам повезет, мы догоним их и отобьем ее.
– А если не повезет? – язвительно уточнил Харальд.
– Хотя бы будем знать, где она и что с ней.
Горм велел обыскать лари Ингер: исчезла самая простая некрашеная одежда, в которой она объезжала пастбища, зато пропали и все ее украшения и драгоценные вещи. Тем временем один рыбак пришел с известием, что у него ночью увели лодку. Подтвердилось предположение Харальда, что беглецы сели на корабль уже после того, как он ушел из усадьбы Фроди.
– Но как она могла? – плакала Тюра, закрывая лицо краем белого шелкового покрывала. – Моя бедная дочь… не такой участи для нее я ждала! Такой жених… она могла бы стать королевой Норвегии уже этим летом… не могу поверить, что наш дом постигло такое бесчестье…
– Может быть, она и не сама все это задумала, – вдруг подала голос Хлода, приехавшая заодно с Харальдом.
– Конечно, не сама! – огрызнулся Харальд. – Этот негодяй…
– Но Рагнвальд не мог увезти ее силой из ее собственного дома, да еще чтобы никто ничего не заметил! – возмутилась Гуннхильд. – Она сама этого хотела! Уж тебе ли не знать, что твоя сестра отважна, как валькирия, упряма и всегда умеет поставить на своем!
– Вот именно! – со злорадным торжеством подхватила Хлода. – Она сама захотела. А почему она захотела? Почему это вдруг такая разумная, гордая, честолюбивая девушка, как Ингер, бросила дом, свой род, отказалась от возможности стать королевой и вместо этого сделалась то ли наложницей, то ли рабыней какого-то беглого викинга!
– Мой брат не викинг! – с негодованием крикнула Гуннхильд. – Он королевского рода и ничуть не хуже других!
– Сейчас у него нет ничего, кроме штанов, что на нем надеты! И если такая девушка, как Ингер, вдруг прельстилась подобным наглецом и голодранцем, поневоле приходит на ум, нет ли тут какого колдовства!
Все затихли, пораженные словами Хлоды.
– Вот оно что… – пробормотал Кнут.
Казалось, это единственное подходящее объяснение странного, если не безумного поступка Ингер.
– Но неужели вы не понимаете, что она могла его полюбить… – почти прошептала Гуннхильд. Сама она слишком часто думала об этом в последние месяцы. – Любовь – такая удивительная вещь… порой она привязывает нас к такому человеку, какого никогда не выбрал бы наш разум…
И невольно взглянула на Харальда: то ли именно его она более всех желала убедить, то ли потому что сама никак не могла избавиться от неразумного и ненужного влечения.
– Это верно! – жестко отозвался Харальд, глядя прямо перед собой и ни к кому в отдельности не обращаясь. – Иной раз от любви люди сходят с ума и видят богиню в какой-нибудь… ведьме или троллихе! И совершают поступки, о которых потом горько жалеют!
– Хотя говорят, что в таких случаях не обходится без ворожбы! – Хлода уколола Гуннхильд злобным взглядом. – Бывает, что и женатые мужчины смотрят на сторону, если их приворожат. А бывает, что и девушки дают себя одурачить, потому что им в постель подложат руническую косточку!
– Какую еще косточку? – нахмурился Горм. – Ты что-то знаешь?
– Ничего я не знаю. – Хлода попятилась. – Но я слышала немало рассказов о таких делах. Когда хотят навести на человека некие чары – чтобы он заболел, или загорелся каким-то желанием себе во вред, например, вернуться в те края, где ему грозит убийство из мести, или начал страдать от любви к кому-то – этому человеку в постель подкладывают косточку, на которой рунами вырезано заклинание, и такой человек погиб! Помните, жена Фроди болела три месяца, пока в тюфяке не завелись мыши. А когда стали перетряхивать постель, чтобы их выгнать, нашли руническую косточку, и она выздоровела, как только косточку сожгли.
Харальд повернулся к Гуннхильд и устремил на нее пристальный взгляд. Он пронзал как клинок – так твердо и холодно смотрели эти серо-голубые глаза.
– Что ты так на меня смотришь? – воскликнула Гуннхильд. – Хочешь сказать, что это я приворожила Ингер к Рагнвальду?
– Трудно найти другого человека, которому это было бы нужно. А сам он едва ли смог, это дело не для мужчин.
– Асфрид много знала о рунах и умела делать амулеты на все случаи, – вспомнила Тюра и взглянула на Гуннхильд со страхом. – И ты говорила, я помню, что она многому научила тебя…
– Асфрид никогда не учила меня злой ворожбе! Это не к лицу королеве, она ведь не какая-нибудь старая ведьма! – Нападки на бабушку задели Гуннхильд даже сильнее, чем на нее саму. – Никогда в жизни она не наводила на людей болезнь или безумие! Она только помогала, лечила и меня учила только этому.
– Что толку спорить, – сказал Горм. – Пусть пойдут и поищут в постели у Ингер, нет ли там чего лишнего.
Гуннхильд первой устремилась к двери, но не успела сделать и двух шагов, как железная рука схватила ее за плечо.
– А ты сиди! – Харальд почти толкнул ее к скамье. – Без тебя обойдутся.
Тюра и Хлода ушли в женский покой и приказали служанкам перерыть лежанку, на которой спали Гуннхильд и Ингер. Гуннхильд осталась в гриде, рассерженная, обиженная и негодующая. Сильнее всего ее ранило это ожесточение и холод в глазах и словах Харальда. Выходит, он думает, что она могла испортить его сестру зловредной ворожбой! Он, который… А она уже почти поверила, что он ее любит! Невозможно было не верить после той ночи в кургане Фрейра, да и потом она не раз замечала в глазах его, устремленных на нее, тепло и радость, смешанные с затаенной грустью. И вот все это исчезло. Он снова думает, будто она ведьма! Как будто сам не знает, что из-за любви люди совершают поступки, которые остальным кажутся странными, а им самим – единственно верными. А хотя…
Гуннхильд невольно выпрямилась на скамье. А что, если Харальд подумает, что она и его приворожила к себе? А что, если… если и ее саму кто-то приворожил к Харальду, из-за чего она вот уже несколько месяцев не знает покоя?
Пораженная этой мыслью, она смотрела перед собой невидящими глазами и даже не заметила, как женщины вернулись. Вдруг осознав, что вокруг стало очень тихо, она подняла взгляд и увидела Тюру – та смотрела на нее с таким потрясением и ужасом, будто девушка у нее на глазах превратилась в троллиху, поросшую мхом.
– Что такое? – похолодев, спросила Гуннхильд.
– Там… – Тюра взглянула на мужа, беспомощно потыкав рукой в сторону двери. – Там… нашли… лежит…
Можно было подумать, что в постели Ингер лежит живой дракон.
– Ну, вы принесли? Покажите! – потребовал Горм.
– Что ты, конунг! – ответила Хлода. – Разве мы посмеем прикоснуться к такой пакости?
– Пойдем посмотрим, – сказал Харальд.
Но сам не сдвинулся с места, а за ним и остальные, пока Гуннхильд не поднялась и не шагнула к двери. Она вышла первой, прочие за ней. И вот вся семья Горма и домочадцы, кто мог поместиться, проследовали в женский покой, где умерла Асфрид и откуда исчезла Ингер. Вся постель девушек была перерыта, подушки разбросаны по углам, тюфяк откинут, одеяла слетели на пол.
– Вон она! – Хлода ткнула пальцем во что-то на одеяле с таким видом, будто там была ядовитая змея. – Бера нашла ее и уронила с перепугу.
Служанка рыдала в углу и лихорадочно терла о подол мокрые руки, будто пытаясь стереть с них ядовитые следы злой ворожбы.
В покое было слишком темно, но Горм велел принести факелы. При свете удалось рассмотреть обломок кости, длиной с палец или чуть больше, покрытый множеством темных черточек.
– Это руны! – ахнула Тюра. – В самом деле! И на них что-то темное… должно быть, кровь!
Харальд стоял, стиснув зубы, с напряженным видом, и явно тратил все силы на то, чтобы сдержать свою ярость. С того давнего случая с сестрой Гунн и ведьмой Ульфинной любой намек на злобную ворожбу выводил его из себя настолько, что он терял способность здраво рассуждать. По крайней мере, в первое время.
– Давайте попробуем разобрать, что там начертано, – предложил Горм. – Думаю, нам надо позвать Регнера. Слышал я, что Сигурд Щедрый знает руны чуть ли не лучше всех в Северных Странах. Но…
– Но ему-то и незачем знать, что здесь произошло, – закончил за него Кнут. – Если кто-то узнает, что на Ингер навели чары, это опозорит нас всех, а она никогда не выйдет замуж, даже если удастся придушить того ублюдка…
– Конунг, только не прикасайся! – Тюра схватила мужа за плечо, когда он было нагнулся к косточке. – Вдруг эти чары испортят любого, кто их тронет!
– Хозяйка, ты от страха немного того… переволновалась. – Горм успокаивающе похлопал жену по руке. – Тебе ли не знать, что руны действуют только на того, на кого направлены, а я ведь не молодая девушка на пороге замужества! Ты же не думаешь, что я воспылаю противоестественной страстью к Рагнвальду, если прикоснусь к этому огрызку!
– Лучше не говори таких ужасов, конунг! Как мы можем знать, на что способны ведьмы!
Трогать косточку руками больше никто не стал: послали в кузню за клещами и ими ухватили жуткую вещь. Кузнечные клещи сами по себе способны отогнать любое зло, и многие ждали, что от их прикосновения вредоносная кость рассыплется в прах, но Горм держал ее осторожно, и она была благополучно доставлена во двор, под яркий солнечный свет.
Заслышав о пугающей находке, сбежались все домочадцы: хирдманы, женщины, челядь. Харальд хмуро велел разогнать всех лишних и закрыть ворота. Гуннхильд стояла, едва помня себя, однако замечая, что к ней стараются не подходить. Неужели все думают, что это сделала она? Только Кнут приблизился и вроде даже сделал попытку взять ее за руку, но глянул на Харальда и замер. Вид у него был расстроенный, лицо омрачилось – будто солнце зашло за тучи.
А Гуннхильд едва верила своим глазам: так в постели Ингер и правда был вредоносный амулет? Она негодовала на нелепую выдумку Хлоды, и вот все оказалось правдой! Неужели любовь Ингер выросла из ворожбы, приворота!
– Посмотрим… – Держа кость кузнечными клещами за кончик, Горм повернул ее к свету.
– Не говори ничего вслух! – поспешно предостерегла Тюра. – Это может повредить всем, кто слышит!
Щурясь, конунг разглядывал кость с разных сторон.
– Как я и думал, – сказал он наконец. – Ничего особенного, хотя и ничего приятного. Здесь трижды повторены три руны волшбы, то есть Турс-руны, всего их получилось девять. Те самые, что наводят на человека похоть, безумье и беспокойство.
Он поднял глаза на Гуннхильд, вслед за ним на нее посмотрели и остальные.
– Я здесь ни при чем! – побледнев, тем не менее твердо ответила Гуннхильд. – Клянусь Фрейей, никогда в жизни я не делала косточек с Турс-рунами, ни для Ингер, ни для кого другого.
– Конечно, отец, она не могла! – воззвал к Горму расстроенный и тоже побледневший Кнут. – Подумай, какое это ужасное обвинение, тем более для знатной женщины! Такими делами занимаются только какие-нибудь старые ведьмы…
– Каждый может сказать, что он ничего не делал! – вставила Хлода, прячась за плечом Харальда. – Но вот ведь доказательство!
– Разве кто-нибудь видел, как я делала эту кость или подкладывала в постель… в свою собственную постель! – сообразила Гуннхильд. – Ведь я тоже спала здесь, разве я стала бы подкладывать Турс-руны себе самой!
– Но ты так же уверена, что этого не делал твой брат? – спросил Горм, выглядевший очень суровым.
– Нет, разумеется! Мой брат – мужчина королевского рода, он не станет заниматься ворожбой, что пристала старым злобным бабам!
– Но кроме тебя и его, здесь никому не нужно было, чтобы моя дочь воспылала такой безумной страстью, что решилась бы бежать с ним вопреки рассудку и родовой чести!
– Кто-то решится обвинить меня? – Гуннхильд вскинула голову.
Пусть она одна здесь, последняя из ютландских Инглингов, а кругом враги, но она скорее умрет, чем уронит родовую честь! После первого потрясения она уже опомнилась и призвала всю свою решимость.
– Ты, конунг? – Она прямо взглянула в лицо Горму, и он едва не опустил взгляд перед этими сияющими голубыми глазами. – Только помни, что я – королевского рода! И тот, кто обвинит меня в тяжком преступлении, должен будет пройти испытание вместе со мной, кто бы он ни был!
Повисла тишина. Нести раскаленное железо, опускать руку в кипящий котел или быть брошенным в море со связанными конечностями никто не хотел, но дело было даже не в этом. И перед лицом страшной угрозы, которую несла покрытая царапинами косточка, никто из дома Горма не хотел верить, что это сделала Гуннхильд. За прошедшие месяцы все привыкли к ней и уже видели в ней члена своей семьи; это всегда была приветливая, веселая, добрая девушка, и образ ее не вязался с мрачной тенью злобного колдовства.
– Я клянусь богами, Ингве Фрейром, что был моим предком, и сестрой его Фрейей, что никогда не творила злых чар против Ингер, дочери Горма, или, – Гуннхильд прямо взглянула на застывшее лицо Харальда, – кого-то другого из рода Кнютлингов. Если я лгу – пусть боги немедленно покарают меня! – Она с вызовом вскинула лицо к небесам, будто ожидала сей миг ответа. – Если же я говорю правду, – она подняла руки, так что тело ее стало подобно руне Альгиз, лебединой руне защиты, – пусть боги покарают того, кто виновен в этой ворожбе и пытается очернить меня!
Ветер развевал ее янтарные волосы, как языки небесного огня, и всякий, кто способен был чувствовать, ощутил вдруг, что само небо спустилось сюда и слова ее проникают в самое сердце мироздания. Каждый дрогнул и переменился в лице, Кнут хотел что-то сказать…
А Харальд вдруг ощутил некое движение у себя за плечом. Почти ожидая увидеть там посланца богов – скорее посланницу, Шлемоносную Деву в кольчуге и с копьем, – он обернулся и увидел, что Хлода без единого звука падает к его ногам. Он попытался ее поднять, но женщина была без чувств и висела у него на руках.
– Что ты с ней сделала! – в негодовании крикнул он. – Ты призвала на нее гнев богов, потому что она тебя обвинила, а ты ведь знаешь, почему она тебя так не любит! У нее есть для этого причины!
– Ни у кого нет причин обвинять меня в черном колдовстве! – дрожа, но стараясь сохранить присутствие духа, ответила Гуннхильд, сама немного испуганная действием своих слов.
И в то же время она вовсе не удивилась, что гнев небес пал именно на Хлоду. Какая-то мысль бродила на границе сознания, но Гуннхильд никак не могла ее ухватить.
– Отнесите ее в покой! – распорядился Горм. – А это… – Он снова взялся за клещи и посмотрел на косточку, лежащую на земле. – Огонь в очаге горит? Надо уничтожить ее поскорее, а то безумие и беспокойство распространяется все шире! А тебе пока лучше посидеть в том чулане, – обратился он к Гуннхильд. – Люди волнуются, так будет лучше для всех.
– Но конунг, ты же не веришь, что… – Кнут схватил Гуннхильд за руку.
– Я не знаю, во что мне верить! – теряя терпение, воскликнул Горм. – Нужен сам Один, чтобы разобраться, откуда все эти напасти! У меня нет еще ни одной настоящей невестки, зато бабьей злобы, безумия и даже черной ворожбы уже полон дом!
* * *
И вот Гуннхильд снова в знакомом и привычном чулане. Ее лежанку из бочек и досок давно убрали, но постель Рагнвальда, на которой он спал только вчера, осталась нетронутой. На ней и сидела Гуннхильд, еще дрожа от возбуждения и пытаясь собрать мысли в кучу. Она была полна негодования и знала, что согласится на любое испытание, лишь бы избавиться от обвинения в черной ворожбе. Можно решиться на что угодно, чтобы избавить от бесчестья род, которому и так грозит исчезновение! Рагнвальд… Она не знала, чем обернется его бегство – гибелью или спасением. Спешно снаряжали два корабля, сыновья Горма бросили жребий, кому плыть в Хейдабьор, а кому на Бьёрко – никто ведь не знал, на какое судно сели беглецы. Но если их настигнут на полпути, то Рагнвальда непременно убьют, а Ингер вернут домой и выдадут за Хакона Доброго. Если, конечно, удастся скрыть ее бегство от Сигурда, которому послал приглашение погостить Фроди.
Настал вечер, в доме улеглись рано, за стенами все стихло. Фитилек еще мерцал в светильнике, но Гуннхильд свет был не нужен: она сидела без всякого дела, но и спать не могла. Через какое-то время к ней зашел Кнут. Вид у него был странный: потрясенный, опечаленный и обрадованный одновременно.
– Ты знаешь, что оказалось! – с порога начал он возбужденным шепотом.
– Что? – Гуннхильд подняла глаза.
– Мать сказала, Хлода беременна! Она поэтому упала в обморок, а не из-за тебя!
– Вот как? – Гуннхильд постепенно соображала, что означает эта новость. – Впервые за пять лет… Наверное, все очень рады.
– Еще как!
– А что теперь твои родители думают об этом деле?
– Они не знают, что думать. – Кнут сел рядом с ней на лежанку. – Отец говорит, нужно расспросить людей, не видел ли кто чего, ну, насчет кости. А я завтра на рассвете уйду в Бьёрко. Мне досталось по жребию. А Харальд – в Хейдабьор. Он хочет, чтобы ты до его возвращения сидела здесь, – он окинул взглядом чулан, – хотя велел, чтобы Хлоду завтра отвезли в Эклунд.
– Не знаю, желать ли тебе удачи, – грустно сказала Гуннхильд. – Я хочу, чтобы вы с Рагнвальдом не встретились. Иначе… я боюсь потерять одного из вас, а вы дороги мне оба.
– Ну зачем он это сделал! – Кнут в досаде ударил себя по колену. – Такой славный парень, веселый, смелый! Мы подружились. Я думал, он друг нам. Думал, мы станем родичами и будем всегда заодно…
– Вы станете родичами и будете всегда заодно, – без особого подъема заверила Гуннхильд. – Он к этому и стремился.
– Но зачем же так!
– А разве твой отец отдал бы за него Ингер?
– Ну… Однако, согласись, он был нашим гостем, мы обошлись с ним по-доброму, раз уж он брат моей невесты, а он поступил вероломно!
– Не могу отрицать. Но, видишь ли, он ведь тоже сын конунга. И тоже хочет быть конунгом во владениях своих предков, как и ты. И если он успеет заключить брак с Ингер, то вам придется считаться с ним как с родичем.
– Как он может заключить брак, если ее родичи не давали согласия? Отец очень разгневан.
– А если родичи не дадут согласия, она станет всего лишь его наложницей, как Хлода у Харальда. Вы разве хотите такой участи для вашей сестры и дочери? У Хлоды хотя бы никого нет, кто мог бы ее защитить, а вас в семье трое взрослых мужчин! Это такое бесчестье и беда, что…
– Но чтобы он мог заключить с ней законный брак, нам придется пойти на договор, дать ей в приданое…
– Хейдабьор, – докончила Гуннхильд. – То самое, что я собиралась принести в приданое тебе.
Кнут помолчал.
– Ну вот видишь, – промолвил он потом. – Мне ничего не остается, кроме как догнать его по пути и убить. Если уж у нас с ним на двоих одно приданое. Видят боги, я не хотел бы так обойтись с твоим братом. Но судьба не оставляет нам выбора.
Они молча сидели бок о бок, думая о последствиях. Если жених Гуннхильд станет убийцей ее брата, они будут жить, как Атли и Гудрун – соединенные на ложе и разделенные обязанностью кровной мести. Такое бывает нередко и ничем хорошим не кончается. Приняв обязанность мести, Гуннхильд погубит свой род, а отказавшись от нее – опозорит.
– Я люблю тебя, – грустно сказал Кнут, взяв ее руку. – Клянусь богами, ничто в жизни меня так не огорчало, как все эти события. Но что я могу сделать?
Гуннхильд молчала. Она верила, что он говорит правду о своей любви и что он действительно мог сделать? Закон родовой чести и ему не оставлял выбора.
Кнут поцеловал ее, но она будто не заметила. Пока она не вышла замуж, благо собственного рода для нее важнее. Она не могла пожелать Кнуту удачи, но и неудачи тоже не могла.
– Путь свой вершите, как дух ваш велит! – прошептала она, вспоминая сагу о братьях Гудрун. – Не мы резали жребии своей судьбы, но от нас самих зависит пройти предначертанный путь с честью.
– Ты говоришь, будто норна.
– Каждая женщина немного норна.
– Харальд считает, что ты ведьма. Но я всегда знал и буду знать, что ты – богиня!
– Ты верен своему слову. – Гуннхильд постаралась улыбнуться. – Мы должны исполнять свой долг, а боги выберут достойного и ему отдадут победу. Иди. Я должна остаться одна. Мне нужно… послушать шум ясеня…
Кнут еще раз поцеловал ее и вышел. У двери он на миг остановился, обернулся, потом шагнул через порог. Гуннхильд еще некоторое время смотрела на закрывшуюся за ним дверь. Она была благодарна Кнуту за веру в нее и доброе отношение, но знала, что он ничем не может ей помочь. С этой бурей она должна справиться сама.
Задумавшись, она ничего не слышала и вздрогнула, вдруг различив тихий скрип двери. Внезапно ее пронзил ужас, как будто самые страшные порождения злобной ворожбы должны были прийти к ней из ночной темноты. Она вскинула голову – на пороге стоял Харальд и пристально смотрел на нее.
Гуннхильд невольно вскочила, будто хотела бежать, но бежать в тесном чулане было некуда. Вид у Харальда был насупленный, но уже не такой свирепый, как во дворе, а скорее чуть-чуть растерянный.
– Зачем ты пришел? – надменно спросила она. – Или считаешь меня великим эрилем и хочешь попросить начертать для твоей наложницы Повивальные руны? Они тебе понадобятся еще не скоро, эти дела быстро не делаются.
– Так это не ты? – спросил Харальд, который не мог заснуть, не зная ответа на этот вопрос.
– Я уже сказала, что не я. Сказала самим богам, и они услышали. А если кто глухой, то ему нужны Целящие руны. Вот их я знаю, им меня научила Асфрид. А за черной ворожбой обращайся к другим.
– Ну и кто, по-твоему, мог это сделать? – Остыв немного, Харальд и сам подумал, что с обвинением Гуннхильд что-то не вяжется.
– Откуда я знаю? Но мне этим заниматься было бы просто нелепо! Как и нелепо перед тобой оправдываться. Я сама спала на этой лежанке – что же, я подложила Турс-руны себе самой? Да и разве было похоже, что на Ингер напали похоть, безумие и беспокойство?
Еще не договорив, Гуннхильд встретила насмешливый взгляд Харальда и поняла ответ на свой вопрос. Да, Ингер выглядела именно такой в последнее время!
– У нее это началось еще до того, как Рагнвальд здесь появился, – вспомнила Гуннхильд. – Еще пока его здесь не было, у нее что-то затевалось с одним человеком… у тебя в дружине есть парень, я не помню…
– Асгейр. Да я знаю! – Харальд в досаде махнул рукой. – Яйца оторву гаду!
– Не трудись, она ведь бежала не с ним! Рагнвальда еще здесь не было, и я не могла знать, что он появится. Зачем я стала бы привораживать ее к твоему Асгейру? А когда Рагнвальд появился, если бы мне уж так понадобилось чарами помочь им сойтись, то я сделала бы совсем другое заклинание!
– Это какое же? – Харальд наконец подошел ближе и сел на дальний край лежанки.
– Я составила бы для них заклинание любви и счастья, а не безумия и горя! Соединила бы в одну руны Тейваз, Уруз и Гебо, что помогло бы моему брату достичь цели в любви к девушке. Или сделала бы вязаную руну из Тейваз и Соулу, что привлекло бы к нему ее сердечное тепло. Руны Гебо, Уруз и Дагаз издавна известны как помощники для мужчин в любви. Я знаю, как рунами защитить от зла, привлечь удачу, процветание, помочь уйти от опасностей. И это еще не все! Только самые неумелые эрили режут подряд злые руны девять раз подряд, а я знаю гораздо больше! Я бы вырезала добрые руны на фиалковом корне или ветви яблони, дала бы моему брату, чтобы он носил с собой или клал под подушку три ночи, а потом бросил бы в море… Любовь привлекают добрые руны. Почему же вы все так легко поверили, что любовь – это зло?
– Иногда зло, – ответил Харальд, отведя глаза.
Гуннхильд промолчала. Пожалуй, он прав.
– Мне вот еще любопытно, – начал он чуть погодя. – Почему Хлода забеременела именно сейчас, после пяти лет ожидания – потому что на днях Хорит ее окрестил или потому что я на День Госпожи так хорошо послужил Тору и Фрейру?
– Первое, – с горечью отозвалась Гуннхильд, едва отметив важную новость, что Хлода таки стала христианкой. – Если бы Тору и Фрейру были угодны твои труды, то забеременела бы… какая-нибудь другая женщина!
– Я не хотел, чтобы это случилось. Не собираюсь быть отцом собственного племянника.
– Тогда зачем ты…
– А ты зачем?
– Это была не я. Это была Фрейя.
– Может, и Фрейя, – ответил Харальд, знавший о событиях той ночи даже больше самой Гуннхильд. Ему все казалось, что в теле этой девушки борются богиня и ведьма, по очереди вытесняя одна другую. – Но ведь троллихи тоже просят переспать с ними мужчин, которых встречают в лесу.
– Я тебя ни о чем не просила, так что иди ты… в лес. Больше ничего подобного не будет, – отрезала Гуннхильд. Она вспомнила, что Харальда в детстве сильно напугала какая-то ведьма, из-за чего, наверное, он до сих пор так болезненно переживает малейший намек на ворожбу. – Я сделаю для самой себя руническую палочку, чтобы отогнать от себя эти… безумье и беспокойство.
– А для меня? – Харальд поднял глаза.
– Что – для тебя?
– Для меня руническую палочку, чтобы я мог не думать о тебе?
– Уж не считаешь ли ты, что я тебя приворожила?
– Но откуда же это все взялось?
– Зачем мне это было бы нужно? – Гуннхильд всплеснула руками. – Ты – младший сын. У тебя есть жена, зачем мне твоя любовь? У меня есть жених, он старший и будет королем всей Дании! Если бы я так мало надеялась на себя и свои достоинства, то приворожила бы его, Кнута, чтобы он поскорее взял меня в законные жены и любил всю жизнь. Но не тебя! Как бы я хотела знать, кто меня приворожил к тебе! Убила бы его! – пылко воскликнула Гуннхильд, и Харальд снова опустил голову.
Потом встал и подошел. Гуннхильд больше не пятилась и смело встретила его взгляд. Он приблизился вплотную и взял ее лицо в ладони. Само это лицо казалось драгоценностью, на которую хотелось смотреть вечно. Само солнце, сияющий лик Сунны, красы Асгарда.
Она смотрела на него, забыв в эти мгновения все случившееся и помня об одном: сколько ни есть на свете мужчин, никто не может быть лучше него. Какое счастье они дали бы друг другу, если бы их роды не разделяла борьба за власть над племенем данов, длящаяся уже не первое поколение. Но сейчас все это исчезло, они вновь остались вдвоем на свете, как тогда, в кургане. Как ненавидела она сейчас эти препятствия, которые мешали ей видеть его таким всегда! В теле разливалась томительная пустота, слабость, хотелось прижаться к нему, ощутить его тепло – вот это важно, а все остальное казалось таким мелким и незначащим.
– Ну, пока ты еще не сделала все эти отворотные палочки…
Харальд наклонился к ее лицу совсем близко, и Гуннхильд закрыла глаза. Поцелуй был таким же долгим, нежным и страстным, как тогда, в Доме Фрейра, где солнце новой весны набиралось сил под толщей земли. От его запаха у нее блаженно кружилась голова, и хотелось раствориться в этом чувстве – в последний миг на краю бездны. Только этот миг был настоящим, и хотелось прожить его полностью, а что будет потом – не важно. Жизнь не пропадет зря, если она пойдет навстречу этому желанию.
Она ждала, что сейчас он отпустит ее, но поцелуй все продолжался, руки Харальда ласкали ее, как будто он тоже забыл обо всем прочем. И она обняла его за шею, прижалась к нему как могла крепко, наслаждаясь этой близостью и тем, что наконец-то может дать волю своим давно зревшим чувствам. Он стал целовать ей шею, потом вдруг взял на руки и уложил, и она на миг испугалась, что его роста и тяжести это жалкое ложе из бочек и досок не выдержит. Он продолжал покрывать поцелуями ее шею и грудь через длинный разрез сорочки, борода щекотала кожу. Гуннхильд запустила пальцы в его волосы, просунула ладонь за ворот рубахи, чтобы коснуться кожи на плече, но вдруг за стеной чулана что-то стукнуло, оба они разом вздрогнули и замерли. Гуннхильд опомнилась: какой будет позор, если их кто-то застанет здесь – девушку с братом жениха! А если сам Кнут все же решится прийти попрощаться с ней еще раз?
Харальд, видимо, тоже вспомнил, что теперь-то они не в кургане и его брат где-то рядом, в этом же доме, а кругом люди. Он быстро выпрямился и провел рукой по волосам.
– Уходи, – торопливо прошептала Гуннхильд, будто спеша спастись, пока не поздно. – Даже если… даже если Фрейр пошлет нам мир между нашими родами, мы не должны никогда…
Харальд еще некоторое время смотрел на нее, потом молча сделал шаг к двери.
– И обыщи как следует свою постель, а то вдруг и там какая-нибудь косточка! – посоветовала Гуннхильд ему вслед.
– Я уже поискал, – бросил он.
– И… Постой! – Гуннхильд вдруг прыжком настигла его и вцепилась в рукав. – Почему косточка? Какая, к троллям, косточка? Моя бабка всегда делала рунические палочки и брала нужное дерево для каждого дела: прорицание, здоровье, торговля, урожай, улов, приплод скота и так далее. Для одних заклинаний лучше всего годится дуб, для других береза, или яблоня, или ясень, или можжевельник! И я умею делать рунические палочки. Кость мне не пришло бы в голову использовать ни для какого дела. И откуда, скажи на милость, Хлода знала, что у нас в постели именно косточка? Не палочка, не береста, не камешек, не кусок кожи, не черепок?
Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу. Гуннхильд не решалась высказать вслух то, о чем подумала и на что указывало немало обстоятельств, а Харальд с усилием пытался не пустить в сознание ту же мысль. Наконец он решительно потряс головой.
– Нет! Она клялась, что не делала этой косточки. Да она и не могла бы. Она почти ничего не знает о рунах…
– Тот, кто это сделал, тоже почти ничего не знает о рунах… – прошептала Гуннхильд.
– Я не могу так думать о той, что наконец-то станет матерью моего сына!
Харальд еще раз тряхнул головой и вышел, закрыв дверь. Гуннхильд села на лежанку. Ей-то ничто не мешало думать, стань Хлода матерью хоть одиннадцати сыновей. Ну да и тролли с ней. Завтра на рассвете Харальд спустит на воду корабль, надеясь привезти домой свою сестру Ингер – и голову ее соблазнителя. Никакие рунические палочки тут ничего не переменят, будь они хоть с Иггдрасиль величиной. Каждый из них будет исполнять свой долг перед родом. И Гуннхильд не верилось, что даже сам Один сумеет выправить безнадежно запутанные руны их судеб.
* * *
На следующий день, еще до полудня, Горм сам зашел в чулан и предложил Гуннхильд вернуться в женский покой: держать ее взаперти он не считал нужным. К тому же дом его совсем опустел: Ингер бежала, оба сына уехали за ней, Хлоду увезли домой в Эклунд – из всей конунговой семьи в Эбергорде остались только сами Горм и Тюра.
– Не сердись, что вчера мы… так растерялись, – сказал конунг. – Ведь это очень серьезное дело, люди были сильно напуганы, нужно было дать им время прийти в себя.
– Я тоже была напугана. И сейчас еще не вполне успокоилась. У меня было время подумать, и вот что я надумала: почему мы все вчера решили, что кость предназначалась Ингер? Ведь мы с ней обе спали на той постели. Вполне может быть, что она предназначалась мне.
Горм в изумлении уставился на Гуннхильд: такое ему не приходило в голову. Поскольку обнаружение кости совпало с побегом Ингер, он, естественно, объяснил опрометчивый поступок своей дочери действием ворожбы.
– Из-за побега Ингер вы подумали, что кто-то пытался ее испортить. Но тебе ли, конунг, не знать, каким пылким и решительным нравом боги одарили твою дочь! Она вполне способна поступить по-своему даже и безо всякой ворожбы. А вот у меня могут быть здесь враги.
– Но кто это?
– Я не знаю. – Гуннхильд слегка покривила душой, не желая заводить разговор о ревности Хлоды. – Но вполне могут найтись люди, которым не по нраву, чтоб твой старший сын обрел законную жену и детей от нее.
– Не желают этого только твои собственные родичи, но я не думаю так плохо о моих старинных недругах! – усмехнулся Горм.
– У Кнута есть сын. Его мать умерла, но, возможно, у нее осталась родня? Если у Кнута не будет других детей, то Харальд-младший имеет неплохие надежды сделаться когда-нибудь конунгом. Я совсем не знаю этих людей и не пытаюсь их обвинить. Лишь пытаюсь понять, кому выгодно погубить меня. И еще… Не хочу делать то, что вчера сделала Хлода… Но теперь, когда она собирается наконец подарить Харальду сына, ей тоже не нужно, чтобы у него появились соперники в будущей борьбе за власть.
Горм помолчал.
– Я пошлю людей выяснить, как поживают родичи Харальда-младшего, – сказал он потом. – И прикажу присматривать за Хлодой, если она еще раз сюда приедет.
Гуннхильд поблагодарила его, но на сердце у нее легче не стало. Даже Турс-руны сейчас были не самой страшной угрозой для ее будущего.
В перемещениях по усадьбе ее никто не ограничивал, она вольна была даже выйти пройтись у моря, что было так приятно сейчас, поздней весной, когда все вокруг уже зеленело и было тепло совсем по-летнему. Даже нищие выползли погреть свои больные промороженные кости на солнце. Когда Гуннхильд уже шла обратно, ее окликнул Кетиль Заплатка. Он сидел неподалеку от ворот усадьбы, прямо на траве, разложив на просушку свои длинные обмотки, рваные и сшитые из кусков разного цвета и ширины.
– Я могу кое-что сказать тебе, девушка, насчет той кости с Турс-рунами, – заявил он, когда она остановилась. – Я пока не знаю, кто ее сделал, но можно сказать кое-что о том, кто ее принес.
– Кто ее принес? – Гуннхильд вонзила в него пристальный взгляд. – Я дам тебе скеатт, если скажешь!
– Моя дочь видела, что Хлода, когда приехала с мужем в усадьбу, первым делом зашла в женский покой. При этом она оглянулась, как будто не хотела, чтобы кто-то ее заметил.
– А твою дочь она не видела?
– Нет, моя красавица умеет немного отводить глаза и делаться незаметной. Это полезное умение для бедных людей, которых всякий может обидеть…
– Ну и что дальше? – Гуннхильд в нетерпении прервала привычные жалобы нищего.
– Она хотела подобраться поближе и посмотреть, что Хлода будет делать, но та вышла обратно почти сразу. Она пробыла внутри несколько мгновений.
– Значит, если она принесла с собой руническую кость, то могла сунуть ее в постель?
– Тебе в постель, девушка. Кто-то очень хочет, чтобы тебя одолели безумье и беспокойство.
– Не удивлюсь, если это Хлода! Послушай! – Гуннхильд шагнула к Кетилю и понизила голос: – Ты ведь был там, в Эклунде?
– Да, твой брат посылал меня туда – тот, что так хорошо добился своей цели одурачить конунгову дочку…
– Молчи! Тебя не выгнали оттуда?
– Нет, почему же? Епископ заступается за меня, он добрый человек. Он окрестил эту женщину, и теперь кормить нищих – ее путь к спасению души.
– Я хочу, чтобы ты вернулся туда и проследил за Хлодой. Она теперь не будет часто выходить из дому, но, может быть, удастся напасть на след того, кто сотворил эту ворожбу. Ту кость сделал довольно слабый эриль, какой-то доморощенный умелец. Постарайся найти этого человека, и я тебя награжу. Может быть, какая-нибудь старая кормилица или бывший воспитатель… Ах, нет, она же со Съялланда и была привезена сюда в одиночестве. Но она могла найти кого-то здесь.
– Охотно возьмусь за это дело! Хлода теперь щедра к нищим, а если она знается с ворожбой, это погубит ее душу, я должен помешать этому, как добрый христианин, епископ меня похвалит…
Гуннхильд хотела уже идти прочь, но снова обернулась.
– Кетиль… А почему ты взялся помогать моему брату и мне? Он обещал тебе награду, дом и хозяйство? Я дам тебе все это, если ты будешь служить мне втайне и помогать, ведь я здесь совсем одна, не считая двух служанок.
– Дом и хозяйство хотел бы иметь всякий бедняк, только домовитые хозяева не очень получаются из тех, кто привык жить, как птицы небесные и цветы полевые, не заботясь о том, что поесть и во что одеться.
– Тогда я прикажу всю жизнь кормить и содержать тебя и твою дочь в том доме, в котором в конце концов стану хозяйкой, где бы он ни был.
– За это Христос наградит тебя, да и Один тоже! Но твой брат уже сделал для меня кое-что. Там, в Бьёрко, одни люди посчитали мою дочь ведьмой, которая сглазила их товарища. Хотя если человек пьет пива без меры и сам не видит, что шагает через борт, кто же еще виноват? Они сами его напоили, а нас хотели повесить за его смерть – надо же было им как-то оправдаться в том, что им теперь достанется треть его товаров и денег. Но твой брат случайно услышал, как я беседую с богом перед скорой встречей, и выкупил нас у тех людей. Он сразу понял, что мы ему пригодимся.
Гуннхильд улыбнулась, представив эту «беседу с богом».
– Я знаю короткую дорогу к богам, – добавил Кетиль, и под взглядом его блекло-серых глаз, один из которых был полуприкрыт, ее пробрала дрожь.
Кривой, как Один, хромой, как ездовой козел Тора, весь собранный из лоскутов, обрезков и кусочков, Кетиль Заплатка определенно был не обычным существом, а стоящим на грани и ходящим за грань. И его непринужденные отношения с любыми богами служили тому подтверждением.
– Найди этого колдуна, – снова попросила Гуннхильд. – Я здесь одна, и меня ждут ужасные беды, это почти неизбежно. Нужно найти хотя бы того врага, с которым я смогу справиться.
– Так я прямо сегодня и пойду, – кивнул Кетиль.
Не было смысла просить его быть осторожным. Ни одна крыса не могла бы быть более осторожной, чуткой, внимательной и безжалостной к тому, в ком заметит опасность.
* * *
Когда красивая молодая пара – парень и девушка – сошли с купеческого корабля на причал вика Бьёрко в Корсхамне – Крестовой гавани, – мало кто мог бы догадаться, что это будущий конунг Южной Ютландии и его нареченная невеста. На них была простая некрашеная одежда, и лишь уверенный и гордый вид выделял этих двоих из толпы простонародья, сновавшего по своим делам на пристанях.
Рагнвальд, сын Сигтрюгга, уже не раз бывал в вике Бьёрко на берегу озера Лёг, в самом сердце земли свеев. Зато для Ингер это было первое большое путешествие в чужие земли, и она с большим любопытством осматривала все, что открывалось по мере приближения к цели: множество мысов и островов на озере Лёг, в которое корабль вошел из моря, королевскую усадьбу на ближнем острове Адельсе, священную скалу под названием Борг, видную еще с моря и господствующую над поселением Бьёрко, две гавани примерно в тысяче шагов от нее – Куггхамн и Корсхамн, Корабельную и Крестовую. Рагнвальд сказал, что, по преданию, в эту гавань епископ Ансгар сто лет назад бросил крест, но подробности обещал в другой раз.
Еще на подходе было тесно от кораблей, что стремились к причалам из заполненных камнем срубов. В детстве Ингер какое-то время прожила в вике Рибе на западном побережье Ютландии, но плохо знала быт торговых поселений, и теперь у нее разбегались глаза. Множество кораблей подходило к причалам и уходило в море или в озеро, вглубь земли свеев, стояло на погрузке и разгрузке, лежало на берегу для починки – не считая тех, что были упрятаны в корабельные сараи. Она даже растерялась, чуть ли не впервые в жизни, и крепче ухватилась за руку своего жениха. Ей было так странно вдруг оказаться в большой, шумной толпе, где каждый занят своим делом, а на нее никто не обращает внимания! Ингер, дочь Горма, привыкла быть на виду, привыкла, что перед нею все расступаются и на нее устремлены все взоры – но тут ни один человек не знал, кто эта рослая, красивая девушка с вьющимися светлыми волосами, и не думал даже выражать ей почтение.
Впрочем, красота ее как раз и привлекала внимание: не раз Ингер с возмущением замечала на себе похотливые бесстыдные взоры, а однажды какой-то бородач в распахнутом кафтане нарочно толкнул ее в толпе и чуть не схватил за грудь. Однако Рагнвальд не растерялся и так пихнул наглеца, что тот отлетел на груду корзин со свежей рыбой, обрушил всю башню и был погребен под водопадом еще шевелящейся трески, после чего ему пришлось вступить в неприятные объяснения с торговцем, только что купившим улов. Назревала драка, но Рагнвальд не остался посмотреть и утянул Ингер прочь.
– Как он посмел! – Девушка задыхалась от возмущения, привыкнув, что ее красотой восхищаются на расстоянии.
– Лучше тебе прикрыть голову накидкой! – посоветовал Рагнвальд. – Тут таких любителей много, а если мне через каждые три шага придется вступать в драку, мы и до вечера не доберемся до дому.
Ингер послушно спрятала лицо и волосы, однако по пути их еще дважды останавливали какие-то неприятные люди и спрашивали у Рагнвальда, не рабыня ли эта красотка и не хочет ли он ее продать!
– А что ты хочешь, здесь один из крупнейших рабских рынков, – объяснил ей Рагнвальд. – Отсюда всех, кого захватили викинги, увозят по Восточному пути к Миклагарду и в Серкланд. Но не волнуйся, я тебя не продам даже за золото! – шутливо заверил он и поцеловал ее в кончик носа. – Ты мне слишком дорога!
Миновав пристани, они вступили в поселение. Составляли его дома и склады торговых гостей – часть из них, как и в Хейдабьоре, была обитаема только летом, но сейчас под каждой крышей вился дым. Узкие улочки между дворами были ограждены плетнем. Отдельно располагались дома «варингов», как их здесь называли – сильных мужей, служащих конунгу свеев, что ходили с ним и сами по себе в военные и торговые походы, добывая там добычу и славу.
К одному из этих домов ее и повел Рагнвальд. Хозяин его звался Атли Сухопарый – увидев его, Ингер поняла, откуда это прозвище. Атли, человек лет сорока, прежде был славным воином и отличался в битвах, но вследствие болезни непомерно растолстел – настолько, что даже ходил с трудом, и челядь носила за ним небольшой, но очень крепкий дубовый табурет, чтобы хозяин мог в любое время присесть и передохнуть. С приятными чертами лица и мягким взглядом, он носил длинные, слегка вьющиеся волосы распущенными, заплетая две тонкие косички по сторонам лица, а на его любимую красную рубаху ушло столько шелка, как шутили гости, что можно было сшить парус. На нее пошли две какие-то привезенные из походов одежды: обе красные, они отличались узором.
Младший сын состоятельного и уважаемого бонда, Атли в юности вступил в дружину свейского конунга Бьёрна, тогда еще тоже молодого и сильного, и не раз прославился в битвах. В Бьёрко он построил себе усадьбу с большим домом; опорные столбы «теплого покоя» были украшены резьбой с изображениями подвигов Тора, за что дом получил название Торсхейм. Из последнего похода Атли привез молодую жену, ирландку знатного рода, по имени Дейрдра, а тем временем и сын его Ацур, от первой жены, настолько подрос, что его пора уже было обучать воинским искусствам.
Раздавшись, Атли возмещал свою малоподвижность гостеприимством. В усадьбе что ни день гремели пиры, пиво лилось рекой, обглоданные кости громоздились грудами, и не было такого угла в обширном доме, где не храпел бы какой-нибудь отважный воин, до ушей налитый брагой или пивом. Причем сам хозяин оставался на пиру обычно до самого конца, и даже самым упорным и выносливым гостям не удавалось его пересидеть.
Как человек дружелюбный и миролюбивый, он поддерживал хорошие отношения даже с теми людьми, которые терпеть не могли друг друга. Сочувствуя Олаву Ютландскому, он вытребовал себе право принять его в дом, хотя знал, что Бьёрн шведский недоволен делами своего дальнего родича и отказался ему помогать. Но Рагнвальда, остроумного и уверенного, здравым смыслом и умением со всеми ладить далеко превзошедшего дядю-конунга, Атли поистине полюбил. Поэтому, увидев на пороге грида своего молодого приятеля, Атли на радостях даже попытался встать с резной хозяйской скамьи, покрытой шкурами, но тут же опустился обратно.
– Рагнвальд! Ты все-таки вернулся! А мы уже и не надеялись тебя дождаться! – радостно воскликнул он. – Ты хромаешь? Ранен?
– Здравствуй, Атли, вижу, ты опять похудел! – приветствовал его Рагнвальд. – Должно быть, голодаешь, бедняга.
– Да ты привез твою сестру! – Атли заметил, что за плечом Рагнвальда прячется красивая девушка. – Эй, пошлите скорее за Олавом! – крикнул он челяди. – Твой дядя пошел в Борг приносить жертвы. Он опять в печали который день, говорит, боги его забыли и ничего у него не получается. Наш конунг непримирим и слышать не хочет о том, чтобы дать ему войско, и даже сыновьям своим запретил связываться с Олавом – считает, что, кроме несчастья, тот ничего своим друзьям не приносит.
– Эта девушка – не моя сестра, – усмехнулся Рагнвальд. – Мою сестру привезти не удалось, но она вполне довольна своей участью. Зато мне досталось кое-что не хуже.
– Кто же эта красивая девушка и где ты ее раздобыл?
– Я украл ее, а как же иначе? Как еще знатный, но изгнанный из родных краев мужчина может раздобыть себе жену? Если враги захватывают твой дом, что может быть лучше, чем поехать к ним и похитить величайшее сокровище их дома?
– Какого дома?
– Кнютлингов, конечно! Я оставил Кнуту, сыну Горма, мою сестру в жены, раз уж они так полюбили друг друга, а взамен взял его сестру.
– Так эта девушка – дочь Горма? – Атли вытянул шею, разглядывая Ингер и не в силах поверить в столь невероятное событие. – Ты шутишь?
– Конечно, это дочь Горма. А я о чем тебе толкую? Разве не видно, что столь красивой и статной может быть только настоящая дочь конунга?
– Но как это тебе… ой, да что это я, старый дурак! – Атли хлопнул себя по лбу. – Вы же прямо с дороги, да? Кто вас привез? Эй, тролли, позовите жену, пусть она отведет молодую госпожу в баню и даст ей поесть! – крикнул он челяди. – И тебе сейчас принесут. Садись, расскажи, как это получилось?
– Я и правда сперва хочу поесть, а расскажу обо всем, когда вернется мой дорогой родич Олав.
Молодая жена Атли, ирландка Дейрдра – красивая женщина, только малоразговорчивая, – увела Ингер мыться и отдыхать, а Рагнвальд, не смущаясь своего потрепанного вида, сел к столу и приналег на пиво и мясо. Через какое-то время вернулся Олав-конунг, спешно извещенный о приезде наследника. Ему было немного за сорок, но казался он старше: на обветренном красноватом лице резко выделялись морщины. На затылке красовалась обширная лысина, словно ветры странствий слизали все волосы, и только по сторонам еще оставалось немного рыжей поросли. Свою рыжину Гуннхильд унаследовала от него, и это было единственное, что объединяло отца и дочь. Пожалуй, к счастью для нее. В вислых усах, в бороде на щеках уже виднелась седина.
– А я как раз ходил в Борг принести жертвы за твое возвращение! – крикнул Олав, раскинув руки для объятий. – Думал, никогда больше не увижу ни тебя, ни Хильду, а ты, говорят, вернулся, да еще с девушкой! Где она?
– Я вернулся с девушкой, но это не та девушка.
– Как – не та? – Олав нахмурился, и его только что сиявшее лицо резко омрачилось. – Где Хильда? Кого ты подобрал? Сейчас не время заниматься глупостями! Ты вообще-то был у Горма или где тебя тролли носили все это время?
– Я был у Горма.
– Он привез дочь самого Горма вместо твоей! – крикнул Атли, не утерпев.
– Что?
– Это правда, – невозмутимо подтвердил Рагнвальд. – Это не глупость, это, возможно, самый умный мой поступок в жизни.
– Я хочу ее видеть! – вспыхнул Олав. – Ты смеешься надо мной?
– Сейчас схожу за ней. – Рагнвальд отставил поданный ему старинный кубок ирландской работы – точно так же он мог бы пить и из простой берестяной чарочки, не замечая разницы, – и вышел.
Вернулся он с Ингер – хозяйка сделала ей прическу с узлом из волос, откуда пышный хвост серебристо-русых кудрей свешивался до талии, дала кое-что из своего платья, так что сейчас она, привезя из дома только украшения, выглядела истинной дочерью конунга. Немного отдохнув, Ингер повеселела и с легкой улыбкой оглядела изумленное собрание, пораженное как ее именем, так и красотой. Нечасто случается, чтобы дочь прославленного и могучего правителя на самом деле была одной из прекраснейших девушек страны!
– Я уже почти верю, что это дочь Горма! – воскликнул Олав, оглядев ее и встретив горделивый взгляд голубых глаз.
– До сих пор не было случая, чтобы меня называли дочерью кого-то другого, – насмешливо, звучным голосом ответила Игнер, с вызовом глядя на будущего родича.
– Но как тебе это удалось? – Олав перевел взгляд на племянника, и недоверие в его голосе боролось с ликованием. – Как же ты сумел ее увезти, вас ведь было только трое? Кто тебе помогал?
– Я был один, – с небрежным самодовольством подчеркнул Рагнвальд. – Мои люди, Халле и Альрик, увы, погибли в первые же дни, когда сам я был ранен и попал в плен. Я мог бы погибнуть – Харальд, сын Горма, собирался меня зарубить, но вот эта прекрасная дева не дала ему этого сделать. А потом она по доброй воле последовала за мной, чтобы стать моей женой. Ведь так было угодно богам! – с едва заметной насмешкой добавил он, передразнивая привычку дяди чуть что ссылаться на волю богов.
– О боги! – Олав схватился за голову. – Я знал, что они не могут совсем оставить меня! О могучий Ингве Фрейр, мой предок и покровитель! Клянусь принести тебе в жертву трех коней в благодарность за такую великую удачу! Ведь это означает…
– Да. – Рагнвальд с усмешкой полуприкрыл глаза, подтверждая невысказанные соображения дяди. – Это означает, что даже если мы не отобьем Южную Ютландию силой оружия, мы мирно получим ее в приданое за этой прекрасной девой! Ведь Горм не захочет, чтобы его дочь считалась наложницей его злейших врагов!
Ингер переменилась в лице. До сих пор она старалась не думать о том, что отдала себя, свою жизнь и, что еще важнее, честь во власть тех самых людей, которые уже не первое поколение были соперниками и кровными врагами ее собственного рода.
– Не тревожься, любовь моя! – успокоил ее Рагнвальд. – Я ни за что не совершил бы такого опрометчивого поступка, не вырвал бы тебя из родительского дома, если бы не убедился за все то время, как сильно твои родители и братья любят тебя, гордятся тобой и исполняют все твои желания. Это было бы слишком плохой благодарностью за то, что ты спасла мне жизнь. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в том, что твое бегство свяжет им руки и заставит считаться с нами, я не отнял бы у тебя возможности подыскать другого жениха. Но лучше меня ты не найдешь – уже то, что ты меня полюбила, доказывает, как богато я одарен удачей.
– Вот этого у подлеца не отнять! – с удовольствием рассмеялся Олав, а за ним и остальные.
Вечером Атли устроил пир в честь возвращения Рагнвальда с невестой, позвал всех «варингов», кто сейчас находился в Бьёрко и не ушел в летний поход. Конунг свеев повелел, чтобы часть его дружины каждое лето оставалась дома, дабы не покидать без защиты собственный вик. Удивительные это были люди. Вик Бьёрко служил крайней северной точкой знаменитого Восточного пути, который, начинаясь здесь, уходил на юго-восток через земли множества племен и народов, а дальний его конец терялся где-то в песчаных и жарких землях Серкланда. Многие варинги Бьёрна Шведского были одеты в кафтаны, распашные, сшитые из цветной шерсти и даже шелка, с серебряными пуговицами от ворота до пояса, с нашитыми поперек груди узкими полосками шелка или тесьмы из шелковой и серебряной нити – эту одежду сначала привозили с Востока как добычу, а потом в Бьёрко научились шить такую же. Сейчас, летом, в вике было немало торговых гостей из разных земель – западных вендов и куршей, фризов и франков, эстов и восточных вендов, то есть из Гардов. Постоянно бывая в военных и торговых походах, эти люди уже мало отличались друг от друга по внешности, да и объяснялись между собой на языке, в котором смешались северные и вендские слова.
И все они с большим вниманием слушали рассказ Рагнвальда о пережитом: о неудачной попытке увезти Гуннхильд, о поединке с Харальдом и ранении, о смерти Асфрид, о помолвке Гуннхильд с Кнутом. Олав снова помрачнел, услышав о смерти своей матери, но согласился, что она умерла достойно.
– Я не видел причин мешать обручению моей сестры с Кнутом, сыном Горма, даже если бы и мог как-то это сделать, – продолжал Рагнвальд. – Как только она стала законной наследницей Асфрид и через нее Годфреда-конунга, вечного покровителя Хейдабьора, Горм был вынужден признать необходимость ее законного брака с его сыном. Она принесет ему в приданое права на Хейдабьор, и Горм, как их новый законный владелец, немедленно передаст их мне как приданое своей дочери и тем самым вынудит меня, – хотя не скажу, чтобы мне этого так уж не хотелось, – заключить столь же законный брак с его дочерью. Таким образом, честь обеих знатных девушек не пострадает, обе они станут женами и хозяйками, госпожами теплого покоя с ключами на поясе, а наши наследственные земли останутся в нашем роду.
– Все это так прекрасно, что сами боги задумали и научили тебя! – ликовал Олав, который от выпитого пива становился весьма многословен. – Друзья мои и верная дружина! В этот замечательный день, который оправдал все мои надежды, я хочу сказать вам: велика удача наша! Долог был путь нашей славной дружины. Начинался он в те далекие дни, когда…
Слушатели усмехнулись и принялись за пиво. Олав Ютландский имел прозвище Красноречивый, иначе Говорун, потому как обожал произносить речи – почти так же, как сражаться. Его пиры и советы с дружиной, которые он устраивал по всякому поводу, продолжались целыми днями – было много крика, много споров, много воспоминаний о прошлом и рассуждений не по делу, но прийти к какому-нибудь решению почти никогда не удавалось. Чаще всего он действовал прорывами, не советуясь ни с кем, из-за чего вся жизнь его походила в ссорах с тингом и хёвдингами, а нередко и с собственной дружиной. По этой причине ему редко удавалось добиться настоящего успеха, несмотря на его храбрость, изобретательность и неутомимость в поисках удачи.
Но все переменилось в один день, и теперь Олав ликовал, сияя радостной улыбкой, снова напоминал всем, что боги на его стороне, весь вечер говорил речи, потребовал арфу и принялся петь. Наутро он отправился на Адельсё сообщить радостные новости конунгу свеев. Выслушав его, Бьёрн-конунг удивился, что Говоруну так широко улыбнулась удача, и передал приглашение Рагнвальду и Ингер – он желал их видеть. А поскольку из своей удачи Олав Красноречивый никогда тайны не делал, вести быстро разлетелись по Бьёрко и окрестностям. И можно было не сомневаться, что каждый из многочисленных торговых кораблей добавит их к своим товарам, и уже зимой не останется ни одного уголка на Восточном, Западном и Северном пути, где бы не знали, как Рагнвальд, сын Сигтюгга, похитил младшую дочь Горма.
* * *
Оказавшись ввиду Бьёрко, Кнут, сын Горма, приказал сначала править к острову Адельсё. Так полагалось, ибо он прибыл во владения – более того, к родовой усадьбе – другого конунга и привел дружину на боевом корабле. Его приближение не осталось незамеченным, и, несмотря на вывешенный белый щит, к тому времени, как лангскип подошел к причалу, там его ждали уже с полсотни вооруженных людей под началом Рагнара-ярла.
– Кто ты такой и чего тебе здесь нужно? – крикнул тот, едва стало можно его расслышать.
– Я – Кнут, сын Горма, конунга Дании! Дома ли Бьёрн-конунг и можно ли мне его увидеть?
– Смотря какие у тебя намерения.
Кнут заверил, что намерения у него самые мирные – по отношению к Бьёрну-конунгу и его людям, во всяком случае, – и ему позволили сойти на берег, имея при себе лишь десять хирдманов без оружия. Вскоре он предстал перед конунгом свеев. Будучи стар и болен, тот никогда не покидал усадьбы, разве что по праздникам бывал в Борге, где приносились жертвы, два раза в год посещал тинг, проходивший там же, да иной раз его вывозили в лодке подышать морским воздухом.
С длинными, совершенно седыми волосами и такой же бородой до пояса, конунг свеев напоминал снежного тролля, тем более что из-за болезни спины не мог сидеть прямо на своем помосте и казался перекошенным, хоть и опирался на посох. Посох прежде принадлежал какому-то франкскому епископу и был привезен почтительным сыном из похода.
– Да, Олав Ютландский находится здесь, – желчно подтвердил он, взирая на молодого гостя из-под седых кустистых бровей. – Нет, не у меня в доме. Я не принимаю моего родича у себя в доме уже пять лет, и все об этом знают! – Он сердито глянул на Кнута. – Да, нехорошо отказывать родичу, пусть и дальнему, в приюте и помощи, но этот ваш Олав Говорун и мертвого выведет из терпения! Я считаю, что у него нет удачи, и потому не желаю с ним связываться! И если у вас есть к нему какие дела – не надо быть мудрецом, чтобы догадаться, зачем ты здесь, Кнут, сын Горма! – то я в эти дела не вмешиваюсь!
Ничего более отрадного Бьёрн Шведский не мог сказать своему гостю – кроме как если бы Олав внезапно умер.
– Но, может быть, ты подскажешь, где мне его найти?
– Подскажу! Ищи его в Бьёрко! Они там правят сами собой, я не вмешиваюсь в их дела! Но я не хочу, чтобы мой вик пострадал, поэтому ты не пойдешь туда со всей твоей дружиной! Иди вот с этим десятком, который при тебе. У вас дело семейное, и я так понимаю, ты сам хочешь уладить его по возможности мирно. По крайней мере, я тебе это советую! – Бьёрн-конунг стукнул посохом о помост, на котором стояло его украшенное резьбой сиденье. – Если ты просто перебьешь Олава с племянником и их людьми и заберешь девушку, я вот буду знать, что твоя сестра была наложницей Рагнвальда! И даже если обмыть вашу родовую честь кровью врага, такой же чистой и блестящей она уже не будет!
Кнут стиснул зубы и опустил голову. Сбывались худшие предположения Горма: догнать беглецов по пути не удалось, что помогло бы избежать огласки, и теперь о побеге Ингер знает и Бьёрн Шведский, и сотни торговых гостей. Огласка не оставила Кнютлингам другого выхода, кроме как помириться с Инглингами, чтобы заключить законный брак между Рагнвальдом и Ингер.
А тем самым Кнут терял половину своего будущего королевства. Ведь Рагнвальд потребует в приданое Южную Ютландию – ту самую, что Кнут надеялся получить, но еще не получил за собственной невестой! Однако родовая честь дороже всех на свете земель, поэтому он лишь кивнул и пошел прочь.
– Твоих людей и корабль оставь у меня! – крикнул Бьёрн ему вслед. – Тебе дадут лодку, чтобы перевезти тебя и твой десяток на Бьёрко.
Когда вслед за тем Кнут с десятком хирдманов – у каждого был лишь меч у пояса, ибо ходить совсем без оружия им было бы неприлично, – высадился на причал Корабельной гавани, тратить время на поиски сведений о сестре ему не пришлось. Грузчики, болтавшиеся на пристани в ожидании работы, тут же указали, в чьем доме он найдет свою сестру, и предложили показать дорогу. Охочие до новостей жители вика поняли, что у саги о похищении Ингер есть продолжение и оно уже вот сейчас будет рассказано.
Когда ему показали Торсхейм, Кнут сразу направился внутрь, не посылая предупредить хозяина о своем приезде. Он хотел увидеть всех сразу: Олава, Рагнвальда и, главное, Ингер. Его, привязчивого и глубоко чувствующего, сильно огорчило предательство сестры: он не мог поверить, что его родная кровь так резко оборвала все связи и ради похоти предалась в руки врага. И ладно бы Ингер жертвовала только собой – она почти порушила честь всего рода Кнютлингов! И теперь эта честь не могла быть восстановлена без существенных потерь. Иногда у него брезжили некие мысли – Кнут был вовсе не глуп, – что Ингер вполне сознательно устроила все так, чтобы Южную Ютландию отдали ей и ее мужу, а не Кнуту и его жене. Но она ведь могла стать королевой Норвегии! Кто поймет этих женщин! Свой первый брак Кнут не считал слишком удачным и в дальнейшем воздержался бы от «даров богини Вар». Но обстоятельства были сильнее, и он лишь надеялся, что Гуннхильд, умная девушка, не доставит ему в будущем хлопот.
И все же, хоть Кнут, сын Горма, и шел сюда от пристани самой короткой дорогой, вести его опередили. Впрочем, прятаться от него или хвататься за оружие никто не собирался. Зная, что у его врага с собой всего десять человек, к тому же почти безоружных, – Олав встретил гостя с видом гордым и самоуверенным. Все товарищи-варинги Атли Сухопарого собрались поглядеть на их с Кнутом встречу и теперь сидели на скамьях вдоль стен – в нарядных цветных кафтанах, с хазарскими серебряными бляшками на треххвостых поясах, у иных даже висела в левом ухе серебряная хазарская серьга. Люди Олава, как менее почетные гости, сидели ближе к дверям и не могли похвастаться ни собственным видом, ни богатством одежды. К чести Олава, он охотно раздавал собственные вещи нуждающимся хирдманам, но сейчас и сам был вынужден пользоваться заботами хозяина дома, ибо все его имущество осталось за морем в Слиасторпе.
Когда Кнут вошел, его встретил сам Атли, ради такого случая поднявшийся с сиденья, и его жена с большим питейным рогом. Стремясь быть в хороших отношениях со всеми, Атли старался примирить противников и часто выступал посредником в спорах.
При виде столь тучного человека в роскошной красной рубахе из греческого шелка Кнут застыл, едва не забыв, зачем сюда явился.
– Приветствую тебя в моем доме, Кнут, сын Горма! – провозгласил тот. – Я – Атли, сын Ацура, по прозвищу Сухопарый, и рад повстречаться с сыном и наследником великого Горма-конунга! Надеюсь, встреча наша не будет омрачена раздором. Прими же этот рог как знак нашего уважения к тебе и твоему роду, и давай вместе попросим богов, чтобы мудрость их помогла разрешить все споры к общему удовольствию!
– Здравствуй, Атли, сын Ацура. – Кивнув хозяину, Кнут окинул взглядом покой позади него и сразу увидел своих врагов: Олава, с самодовольным видом сидевшего на почетном сиденье, Рагнвальда на ближайшем к нему краю гостевой скамьи и даже Ингер. – Я пришел сюда для разговора вон с теми людьми!
– Эти люди – мои гости, как и ты! – Атли пошевелился, будто хотел заслонить данов от напряженного взгляда Кнута. При его обширном теле это было не так уж сложно. – Хорошо, что боги привели вам повстречаться здесь, где все вы – мои гости, и мы, люди Бьёрна-конунга, поможем вам разрешить ваши противоречия.
– Ну что, Кнут, синяк-то прошел? – весело воскликнул Олав. Ему самому воспоминания о той зимней драке, когда он ударил Кнута ковшом по лицу, уже казались смешными, и он едва ли понимал, что гостю они весьма неприятны. – Подходи сюда, наверное, ты хочешь увидеть твою сестру! Иди к нам, мы рады будем примирению с тобой!
Сидя в обширном покое, где длинные скамьи были заняты внушительного вида воинами, Олав держался как хозяин и повелитель всего этого и, возможно, даже думал, что так и есть.
– Прошу тебя, пообещай хранить мир под моим кровом! – торопливо обратился к Кнуту Атли. – А я обещаю тебе уважение, почет, приличный твоему высокому роду и доблести, гостеприимство и помощь!
– Не моя будет вина, если мир будет нарушен… под твоим кровом, – отозвался Кнут, державшийся непривычно серьезно. – Позволь мне поговорить с… этими людьми.
– Проходи сюда!
Переваливаясь, Атли повел его к собственному хозяйскому помосту, который ради такого случая уступил двум представителям конунговых родов, благо размеры сиденья, рассчитанного на Атли, позволяли им усесться там вдвоем. Это была замечательная скамья, с высокой спинкой, на которой с большим искусством был вырезан Тор, бьющийся со змеем Ермунгандом.
– Садись! Сейчас подадут мясо, и всем твоим людям тоже дадут мяса и пива!
Не слишком Кнуту хотелось делить скамью с Олавом, но делать нечего – в чужом доме приходилось принимать хозяйские правила.
– Здравствуй, Кнут, сын Горма! – Олав широко улыбнулся, будто при виде лучшего друга. – Когда мы в последний раз с тобой виделись, ты ведь не думал, что такой будет наша новая встреча! Когда ты изгнал меня из моей страны и занял мой дом, ты не думал, что найдешь меня, окруженным верной дружиной!
– Не стоит поминать старое, конунг! – намекнул Рагнвальд, еще пока Кнут не успел ответить. – Сейчас самое время забыть все прежние обиды, мы ведь теперь в близком родстве. Кнут, сын Горма – уже почти муж твоей дочери Гуннхильд, а я – муж его сестры Ингер. И только от его воли зависит, чтобы оба эти брака принесли честь и радость нашим родам. Не сомневаюсь, что мы все одинаково сильно этого хотим.
– Конечно, мы всегда стремились забыть раздоры и жить в мире с нашими соседями Кнютлингами, – согласился Олав. – Это им всегда было мало их земли.
Сейчас он чувствовал себя в силе: на почетном хозяйском месте в богатом покое, полном воинов, он невольно видел себя Одином в Валгалле, а ощущение силы толкало его высказать наконец все наболевшее, и выразительные взгляды племянника ничуть на него не действовали.
– Рагнвальд очень верно говорит! – торопливо вмешался Атли. – Теперь он – муж сестры Кнута, а Кнут – муж госпожи Гуннхильд, вы все близкие родичи, и вам нужно лишь обсудить кое-какие дела – о приданом, о том, как лучше справить обе свадьбы, и все иное, что обсуждается, когда заключают союз два старинных королевских рода!
– Да уж конечно, нам нужно обсудить эти свадьбы! – воскликнул Олав. – Я думаю, Горм-конунг не откажется дать в приданое своей дочери те земли, которые он незаконно захватил. Мы согласимся сыграть свадьбу моего племянника с ней только на этом условии, а иначе… Да ведь Горм и сам не захочет лишить свою дочь королевства!
– Не забывай, конунг, что Кнут, сын Горма, обручен с твоей дочерью Гуннхильд! – напомнил Рагнвальд, и в его внешне почтительном голосе звучал металл. Он знал, что дядю-конунга надо осаживать, иначе он все испортит. Сознание силы и успеха, пусть и мнимого, всегда било Олаву в голову, как крепкое франкское вино. – И мы должны оказывать всяческое уважение ему и его сестре, если хотим, чтобы с нашей сестрой тоже обходились как с дочерью конунга!
– Вот парень сказал правду! – пробормотал один из людей Кнута, Торлейв. – Племянник-то поумнее дяди будет!
– Чтобы мы могли отдать Южную Ютландию в приданое за Ингер, сперва нужно, чтобы он по закону… чтобы тинг признал наш род его владельцем, – поправился Кнут, не желая подтвердить слова соперника о том, что пока-то эти земли захвачены военной силой, без всяких законных оснований. – А это случится лишь после того, как Гуннхильд станет моей законной женой. Поэтому ты сам понимаешь, Олав, что сейчас, пока моя свадьба с ней не состоялась, я никак не могу передать эти земли кому бы то ни было.
Он хотел еще раз намекнуть, что Гуннхильд ведь тоже еще не стала его законной женой и находится в доме Горма как заложница. Но Олав слишком уверился в своей силе, чтобы понимать подобные намеки.
– Но мы можем сделать иначе! – воскликнул он. – Вы ведь ушли от фьорда Сле, ну так поклянись от имени твоего отца, что вы больше не будете посягать на наши наследственные владения, и мы обменяемся невестами для закрепления уговора, как равные.
– Я смогу это сделать, только если свадьба моей сестры Ингер будет справлена как можно скорее. Жаль, конечно, что мы не можем предварительно устроить обручение, как принято, но обстоятельства не позволяют медлить.
– Но как мы можем справить свадьбу с твоей сестрой, если не справлена твоя свадьба с моей дочерью! – возмутился Олав.
– Я обручен с Гуннхильд по обычаям, с согласия моих родителей и ее родственницы, Асфрид, дочери Одинкара, твоей матери! В присутствии хёвдингов и Средней, и Южной Ютландии мы обменялись клятвами и назвали срок свадьбы – осенние пиры. Я не отступлю от моего слова, но и торопить свадьбу, нарушая уговор, не стану. Это не послужит к чести ни моей, ни жены.
– Мы не станем справлять свадьбу, пока вы не справите вашу!
– Но постойте, можно ведь сделать… – вмешался Атли, видя, что лица его знатных гостей все больше омрачаются, а в глазах сверкает ожесточение. – Кнут, сын Горма, заключил по обычаю помолвку с твоей дочерью, Олав-конунг, и не отступит от своего слова. Пусть сейчас Рагнвальд также по обычаю заключит помолвку с Ингер, и Кнут благословит ее, как старший брат и наследник отца, и даст мирные обеты от имени своего рода. И пусть сроком свадьбы тоже будут названы осенние пиры. Таким образом, будет соблюдено полное равенство.
Кнут бросил вопросительный взгляд на своих людей – считают ли они это предложение достойным?
– Это хорошее решение! – кивнул Регнер-ярл, и гости Атли на скамьях принялись с важностью кивать, соглашаясь.
Кнут немного подумал. От него хотят клятвы, что Кнютлинги больше не станут посягать на Южную Ютландию. Но права на нее переданы Гуннхильд вместе с Кольцом Фрейи, и теперь только она может передать их кому-то еще – как мужу, так и отцу с братом. А ведь ее выбор еще неизвестен. Кнут не говорил с ней об этом, но верил, что невеста, став женой, предпочтет отдать владение мужу и сделать наследниками собственных будущих детей, а не племянников, к тому же двоюродных. Возможно, Кнютлинги ничего не потеряют. А вот добиться, чтобы Рагнвальд дал клятву взять Ингер в законные жены, было необходимо, иначе никакие владения не возместят урона родовой чести. Так почему бы ему не пообещать, что Кнютлинги не станут посягать на фьорд Сле военной силой? Без согласия Гуннхильд и без Кольца Фрейи права Инглингов немногого стоят.
– Я согласен! – Кнут уверенно кивнул. – Пусть будет так. Я дам обет от имени моего рода не покушаться вооруженной рукой на ваши владения в Южной Ютландии, а вы заключите помолвку Рагнвальда с моей сестрой, и чтобы свадьба была справлена на осенних пирах.
– Вот замечательно! – с искренним воодушевлением воскликнул Атли. – Мы заключим помолвку сегодня же, мы устроим пир! Мы пригласим и Бьёрна-конунга – может, он и не приедет из-за нездоровья, но вы не должны обижаться, он старый человек.
– Мы пригласим его! – кивнул Рагнвальд. – Ведь все мы – потомки Одина, ветви одного древнего рода.
Атли сделал знак, чтобы вновь подали большой рог, окованный серебром и наполненный свежим пивом. Олав-конунг встал, огладил свои седеющие, но длинные рыжие усы и привычным движением поднял рог. Некоторые из гостей едва заметно поморщились, ожидая долгой и выспренней речи. И он не разочаровал их:
– Давно уже между родами Инглингов и Кнютлингов тлеет вражда. Еще в те годы, когда дед мой Олав Старый привел свои корабли из Свеаланда и шелковые их паруса покрывали собой все море…
Тут Олав принялся перечислять родню, вспоминать предания о прадедах, мельком коснулся старинных ссор и обид, которые теперь готов был великодушно предать забвению; то и дело он отвлекался, следуя за прихотливым течением собственной мысли, и начинал рассказывать о делах и подвигах своей молодости. Окончательно запутавшись и забыв, с чего начал, он тряхнул лысеющей головой, словно отгоняя лишние мысли, имеющие привычку некстати ее осаждать, и завершил речь, на что уже никто не надеялся:
– Так вот, я хочу поднять этот рог за то, чтобы наши ссоры закончились и Светлые Асы даровали нам мир и благоденствие!
Слушатели облегченно перевели дух и закивали, поднимая чаши и кубки. Олав отпил из рога и передал его Кнуту.
– Я призываю в свидетели асов и ванов, – начал тот, поднявшись, – наших божественных предков, и обещаю, что не стану посягать военной силой на Южную Ютландию и вик Хейдабьор, владение Инглингов, при условии, что сегодня будет заключена помолвка между Рагнвальдом, сыном Сигтрюгга, и моей сестрой, Ингер, дочерью Горма. Прошу быть свидетелями также всех знатных и свободных людей, присутствующих здесь, а если нарушу я клятву, то пусть поразит меня мой меч!
С этими словами он свободной рукой до половины вытянул из ножен меч, висевший на перевязи у пояса. Это было замечательное оружие, с ножнами, отделанными узорной бронзой, с крупной мозаичной бусиной в рукояти. Потом он отпил из рога и хотел передать его Рагнвальду. Тот уже поднялся и открыл было рот, собираясь тоже сказать что-то подобающее случаю, но ему помешал голос, донесшийся из дальнего конца помещения, где среди менее почетных гостей сидели люди Олава:
– А откуда у тебя, Кнут, сын Горма, этот меч?
Кнут замер, протянув рог Рагнвальду, Рагнвальд замер, простирая руки к рогу, и все в доме обернулись на говорящего.
Дружина у Олава Красноречивого была ему под стать. На людей, которые плохо его знали, он обычно производил самое лучшее впечатление, ибо был представителен внешне, общителен, дружелюбен и всегда очень хорошо относился к слабым, к тому, кто зависел от него и нуждался в нем. Оказывая покровительство таким людям, он чувствовал себя могучим и щедрым героем сказаний.
Его хорошие стороны привлекали к нему людей отовсюду, поэтому недостатка желающих вступить в дружину Олав не испытывал даже в худшие свои дни.
В последней битве перед Слиасторпом пал один из его старых соратников, фриз по имени Перингер, но место его занял сын, Годперт. Это был невысокий темноволосый парень с тонкими усиками; самодовольного вида, какой бывает у недалеких людей, которым нечем хвалиться, кроме славы предков. В дружине его не любили за склочный и мстительный нрав, но сам конунг привечал. Лишившись отца и покинув свой дом в Хейдабьоре, Годперт сейчас во всем зависел от Олава и потому казался ему вернейшим человеком.
Обычно сонный, в эти мгновения взгляд Годперта горел злобой и не отрывался от меча у пояса Кнута.
– Откуда у меня этот меч? – Кнут было удивился вопросу, потом что-то сообразил и помрачнел, но тем не менее ответил твердо: – Он был взят мной в битве у фьорда Сле, и все видевшие его единогласно признают, что этот меч – замечательное сокровище!
– Уж кому, как не мне, об этом знать! – Годперт встал и с вызывающим видом упер руки в бока, будто мог похвастаться дорогой одеждой или серебряным поясом. – Ведь этот меч принадлежал моему отцу, Перингеру, сыну Эллингера, а до него моему деду, Эллингеру, сыну Удальрика, а до него другим моим славным предкам, которых я мог бы перечислить, если бы ты был достоин знать имена ограбленных тобой!
– Незачем нашему конунгу знать имена этих жалких людишек! – рявкнул Торкель Ворон, один из наиболее заслуженных людей в дружине Кнута, оскорбленный не только словами, но и вызывающе наглым видом фриза. – Они не стоят рыбьей кости, если родили такого ублюдка, что потерял в бою хороший меч! Меч-то хорош, да вы, сыновья рабынь, не достойны даже удара его рукояти, а не то что права владеть им!
Годперт вскрикнул от негодования и схватился за то место у пояса, где привык находить рукоять меча, но сейчас все оружие гостей лежало у Атли в сундуках под замком.
– Кнут, твой человек оскорбил моего человека! – возмутился Олав, и его лицо, только что сиявшее дружелюбной улыбкой, враз ожесточилось и приняло так знакомое его людям выражение тупой решимости, предвещавшее ссору. – Я этого так не оставлю! Вы должны быть повежливее, если хотите, чтобы мы договорились! Я не позволю опорочить меня при всех этих людях!
– Прекратите, конунги, прошу вас, опомнитесь, не надо ссориться! – Атли попытался подняться, но не смог и только замахал руками. – Не надо оскорблять друг друга в моем доме!
– Атли прав, мы очень плохо отплатим ему за гостеприимство и помощь, если устроим ссору! – поддержал его Рагнвальд.
– Мы не позволим всякой швали оскорблять нашего конунга! – рычал Торкель.
Люди Кнута глухо роптали, лица посуровели. Их здесь было всего десять, но это не повод глотать оскорбления!
– А он оскорбил моего человека! – горячился Олав.
– Годперт тоже не прав – сейчас не время выяснять, кому когда не повезло в сражении!
– Я получил этот меч как военную добычу! – возмущался Кнут. – Я владею им по праву!
– Только люди моего рода могут владеть им по праву! – кричал Годперт, которого уже осаживали несколько мужчин.
– Руки их плохо держали оружие!
– Это вы напали на нас вероломно и коварно!
– Кнут-конунг, твой человек должен заплатить виру за оскорбление моего человека!
– Он должен заплатить мне за убийство моего отца!
– Да, Кнут, что ты скажешь об этом? – оживился Олав, который был, с одной стороны, щедр, а с другой – будучи вечно стеснен в средствах, напряженно искал хоть малейший случай поживиться и не брезговал любой мелочью.
– Где это видано, чтобы платили виру за убитых в бою? Это не может считаться беззаконным убийством!
– Пусть Бьёрн-конунг нас рассудит! Он стар и мудр!
– Да прекратите же вы! – завопила Ингер, не выдержав. – Что вы разгалделись, будто чайки над тухлой рыбиной! Вы говорили о нашей помолвке! Закончите дело, а потом хоть уши друг другу отгрызите!
Варинги на скамьях засмеялись, прочие немного опомнились, услышав вдруг женский голос.
– Она права! – поддержал невесту Рагнвальд. – Давайте закончим наше дело. А потом, если кто-то считает, что его честь задета, он сможет разобраться с этим согласно обычаю.
– А чего они… – как обиженный ребенок, еще ворчал Олав, но все же смирился.
Все утихли, Годперт опустился на свое место и взялся за пустую кружку. Атли торопливо махнул челяди, чтобы несли еще пива. Кнут тоже сел, постепенно остывая и приходя в себя. Он сокрушался в душе, что не предвидел такой возможности – ведь знал, что Олава сопровождают остатки дружины, разбитой перед Слиасторпом. Но неужели из-за этого он должен стыдиться своей добычи? Пусть стыдятся ее бывшие владельцы!
– Ты уже послал за Бьёрном-конунгом? – обратился Кнут к Атли. – Ведь он знает, что моя сестра, – он посмотрел на Ингер, – находится здесь. Пусть он своими глазами увидит, как ее обручат с Рагнвальдом, и услышит, что на осенних пирах будет справлена свадьба.
– Да уж, иначе вам потом не вернуть своей чести! – самодовольно усмехнулся Олав. – Это потому, что боги на нашей стороне!
– Что же они тогда так плохо тебе помогают? – Кнут этого не стерпел. – Где же были боги, когда мы разбили вас у вас же дома?
– На рыбалку уехали! – крикнул Торкель, и его люди засмеялись.
Варинги Бьёрна их поддержали, а Олав снова завелся.
Увлеченно следя за беседой конунгов, которая все больше напоминала перебранку, никто из присутствующих больше не смотрел на Годперта. И не заметил, как он, выпив почти одним духом две кружки пива, встал и шагнул к столу.
Ингер, с негодованием видя, что разговор опять ушел в сторону, хотела что-то сказать, но не успела. С дальнего края стола раздался стук, похожий на звук глухого удара, а потом неистовый вопль: Годперт вдруг вскочил на стол и прямо по мискам, кружкам и разложенным ножам бегом бросился прямо к почетному помосту! На бегу он сбросил несколько кувшинов, пиво плеснуло на пол и на колени сидящим, люди невольно отшатнулись от стола, чтобы не попасть под ноги безумца. А Годперт вопил, будто берсерк, в высоко поднятой руке держа занесенную для удара секиру.
Кнут, увидев, что по столу к нему мчится обезумевший враг, успел лишь вскочить и вырвать меч из ножен. Но не более. В этот самый миг Годперт был уже рядом и со всего размаху обрушил секиру на своего оскорбителя.
Метил он в голову, но немного промахнулся, и лезвие вошло между плечом и шеей. Тут же Годперт вырвал оружие, готовясь нанести еще один удар; Кнут рухнул прямо на Олава. Кровь хлестала рекой, заливая кричащего Олава и резную скамью; в волнах крови резной деревянный Тор поднимал молот на Мирового Змея, будто решающая схватка вечных противников уже началась и настало Затмение Богов.
– Ах ты ж… – с несвойственным ему выражением ненависти воскликнул Рагнвальд и шагнул вперед.
Ожидая нападения со стороны людей Кнута, Годперт обернулся к ним; в это же время Рагнвальд схватил убийцу за ногу и сильно дернул. Тот упал прямо на стол, лицом вниз, а Рагнвальд вырвал из ножен скрамасакс и с размаху вонзил ему в спину, пригвоздив к доскам стола. Потом вырвал и вновь вонзил, будто одного удара было мало, чтобы выразить все его негодование.
– Что ты делаешь? Рагнвальд! – кричал Олав, выхватив собственный меч и держа наготове.
Будучи человеком отважным и порывистым, он уже вступил бы в схватку, если бы только знал, на кого броситься. Но даже он не смог ударить мечом собственного племянника, а к тому же не понимал, что происходит. Весь залитый кровью, он был нелеп и страшен.
В просторном покое стоял дикий шум: визжали женщины, прижимаясь к стенам и разроняв кувшины и блюда; мужчины, наоборот, кинулись вперед, хватая кто меч, кто скрам, а кто и поясной нож за неимением чего-то другого. Один из людей Олава, ирландец Арт, тоже вскочил на стол и прыгнул, пытаясь ухватить за горло Регнера – тот бросился вперед, еще пока Годперт бежал по столу, но не успел его задержать. Но Рауд Мороз огрел Арта по затылку тяжелым оловянным кувшином, и тот обмяк. Здоровяк Рыжий Орм с проклятием метнул в товарищей Годперта блюдо с бараньими костями и тут же согнулся – его ударила в глаз метко брошенная кружка.
Опрокинулся еще один стол; в руках замелькали ножи и скрамасаксы. Кто-то кинулся к оставленному на лавках оружию, Торгест Стервятник ловко поставил подножку одному из бойцов Кнута, размахивающему клинком, и насел на него сверху. Торольв Пять Ножей удерживал сразу двоих хирдманов Олава, ухватив одного за пояс, а другого за шиворот. Этот человек, добродушный толстяк с вечно прищуренными слабыми глазами и широкой улыбкой, величиной брюха успешно догонял Атли, однако в драке отличался силой и удивительной поворотливостью.
Сам Олав, с налитыми кровью глазами, норовил напасть на кого-нибудь, но Рагнвальд почти висел у него на плечах, не давая обнажить оружие.
– Держите их, Торгест, Хрод, держите! – кричал Атли, не имея возможности вмешаться самому.
При виде крови варинги перестали ухмыляться и взялись за дело: вскочив, они образовали живую стену между людьми Кнута и людьми Олава, кто-то перевернул стол, кто-то схватил скамью, чтобы использовать вместо щита, если будет надобность.
– Всем стоять! – кричал Рагнвальд, понимая, что теперь не время шутить. – Ни с места! Поднимите Кнута! Уберите эту падаль со стола!
– Рагнвальд, ты сошел с ума, это мой человек! – вопил Олав. – Он служил мне!
– Этот гад убил моего нового родича! Он все испортил! Ты опять хочешь войны с Кнютлингами?
– Мы отомстим за нашего конунга! Конунг убит! – Даны рвались к телу своего вождя, еще лежавшему на залитой кровью хозяйской скамье.
– Он отомщен! Успокойтесь! – сдерживали их варинги. – Ваш враг уже мертв!
– Даны, я убил подлеца! – кричал им Рагнвальд. – Ваш вождь отомщен! Мы отрекаемся от этого человека, Годперта, сына Перингера! Он совершил беззаконное убийство, и я, как родич Кнута, отомстил за него! Так и расскажите вашему конунгу Горму!
– Не рад будет Горм услышать, чем закончились эти переговоры! – Регнер-ярл наконец овладел собой и сделал знак, чтобы его пропустили к телу Кнута, показывая пустые руки. – Мы не ждали ничего хорошего от этого брака, но кто бы мог подумать…
Бойцов, успевших сцепиться, растащили; кто-то сыпал руганью и угрозами, кто-то зажимал рассеченное ножом запястье, но убитых больше не было. Атли, с огромным мокрым пятном от пролитого пива на красной шелковой рубахе, горестно взывал к богам и сокрушался о позоре дома: кровь конунга пролилась перед этими родовыми столбами! Ингер с рыданиями бросилась к телу брата, попыталась его перевернуть, не замечая, что сохнущая кровь обильно марает лучшее платье госпожи Дейрдры.
Однако покойный оказался слишком тяжел и сполз со скамьи на помост, а Ингер бессильно склонилась над ним, громко плача. Она рыдала больше от потрясения, еще не в силах поверить, что ее родной брат лежит мертвый, с глубокой раной между плечом и шеей – так неожиданно, так глупо!
– Рагнвальд, что ты наделал! – Олав, которого племянник наконец отпустил, имел растерянный вид. – Ты сам убил своего человека!
– Этот мерзавец не мой человек! Я говорил тебе, не бери в дружину всякую дрянь, лишь бы с виду походила на бойца! – орал Рагнвальд, весь красный от гнева и досады, утративший свою обычную насмешливую невозмутимость. – Вечно ты набираешь всяких ублюдков, и вот к чему это привело! Мы уже почти помирились, уже почти получили с него клятву не трогать нашу землю. А теперь у нас снова будет кровная вражда, месть, война! Дайте боги, чтобы Горм не стал мстить нам с тобой, мой дорогой родич, за убийство, которое совершил «твой человек», этот тролль бесхвостый, пес переодетый! Поскорее скажи им, что он не твой и ты не желаешь за него отвечать, иначе нам будет плохо!
– Нет, я не сделаю этого! Я не отрекаюсь от моих людей, которые шли за моим знаменем…
– А от своей родной дочери ты, выходит, отрекаешься? Хильда осталась у них, об этом ты подумал? Что с ней теперь будет, когда мы тут убили Гормова сына и ее, между прочим, жениха! Теперь она и не сможет стать его законной женой, разве что в кургане! Помогите Фрейр и Фрейя, чтобы Горм до этого не додумался! Теперь она не сможет стать женой Кнута, а Ингер, выходит, не сможет стать моей женой! Все пропало!
– Боги помогут нам…
– Да я и сама не хочу входить в род таких негодяев! – Ингер подняла залитое слезами лицо. – Будьте вы прокляты! Он пришел к вам с миром, а вы убили его, как подлые собаки! Но мой отец этого так не оставит! Мой брат Харальд этого так не оставит! У Кнута остался сын – он еще мал, но он вырастет и отомстит вам за все, если еще понадобится, если вас еще не утащат тролли в Хель к тому времени!
– Любимая моя, успокойся! – Рагнвальд кинулся к ней. – Прости меня, я ни в чем не виноват! Я отомстил за твоего брата, он уже отомщен! Он пал как мужчина, с мечом в руке, и сейчас уже стучится в ворота Валгаллы! Один примет его с почетом и посадит на самое лучшее место, рядом с великими героями древности: Сигурдом Убийцей Дракона, с Гуннаром и Хёгни, с нашими предками…
Преодолевая некоторое сопротивление, он обнял Ингер, стоя на коленях над телом Кнута, и стал утешать ее, бормотать всякую бессмыслицу, поглаживая по растрепавшимся волосам. Ингер продолжала рыдать, но уже не отталкивала его. Ее положение ухудшилось не менее, чем положение Гуннхильд. Дочь Олава лишилась жениха, потому что он погиб, а дочь Горма лишилась возможности стать законной женой своего похитителя, потому что два рода больше не могли обменяться невестами в знак равенства и дружбы. И на пути к соглашению теперь лежало окровавленное тело.
– Ну что ж, по крайней мере, боги послали им равенство, которого они так желали, – заметил Торгест Стервятник. – И у Кнютлингов, и у Инглингов теперь осталось в роду по двое взрослых мужчин…
* * *
На третий день ожидания Гуннхильд, не находя себе места от беспокойства, тайком сделала рунный расклад. Но, едва глянув, зажмурилась и смешала руны на белом платке: защита богатства сопровождалась угрозой смерти от врагов так явных, так и тайных. Горм и Тюра держались с невозмутимым достоинством, но были более обычного молчаливы и даже немного рассеянны, чего сами не замечали. И их мысли вращались вокруг отсутствующих детей, из которых каждому по-своему грозила серьезная опасность. Гуннхильд подозревала, что и они пытались вопрошать о будущем руны, но и их ответ не порадовал. Не случайно Горм принес жертвы – по барашку к камню Фрейи и к Дому Фрейра, пытаясь выкупить у богов и судьбы удачу для рода. Или хотя бы жизнь своих детей.
Однако новости нашли ее сами. Прогуливаясь неподалеку от усадьбы, Гуннхильд увидела бредущего до дороге Кетиля Заплатку.
– Как поживают в Эклунде? – спросила она, когда нищий со своей клюкой доковылял до нее и поклонился.
– Не сказать, чтобы очень хорошо. – Кетиль покачал растрепанной полуседой головой и многозначительно подмигнул. – Тамошняя хозяйка связалась с дурными людьми.
– Хлода? – Гуннхильд еще раз огляделась, но, к счастью, никого поблизости не было.
– Она сказала правду, когда поклялась, что не делала ту руническую кость. Ее сделал кое-кто другой. Там в лесу за усадьбой живет одна дурная женщина, что знается с ворожбой. И госпожа знает к ней дорожку – я сам видел, как она однажды ходила туда под вечер, а все домочадцы в это время думали, что она лежит у себя в спальном чулане. Она притворилась, будто ей дурно, и улеглась в постель, а сама тайком вышла и пустилась бежать через лес, так что я, хотя меня не тошнит, едва смог за ней угнаться. Зато госпожа привела меня прямехонько к такому дому, что впору в нем гнездиться троллям. На всех хуторах в округе про этот дом знают. Там живет ведьма – и мать ее была ведьма, а отец, должно быть, какой-нибудь тролль. Уллой ее зовут, но только никто ее к себе-то не зовет, а если кому есть до нее нужда, то ходят к ней туда, в лес. Говорят, она умеет наводить порчу, отнимать ветер, красть улов – еще пока он в море. К ней ходят, если кому нужен попутный ветер – она продает его. Ну, в этом люди сознаются. Если кто хочет навести болезнь, или безумие, или смерть на своего врага, о таком ведь не станешь говорить. И если госпожа из Эклунда подружилась с такой женщиной, это к добру не приведет.
– Ну уж если она связалась с настоящей ведьмой, то сильно похоже на правду, что та кость предназначалась мне. Но ничего у них не вышло – Асфрид сделала мне палочку с рунами защиты, а уж она разбиралась в рунах получше, чем какая-то лесная троллиха! Я даже не успела лечь в ту постель, куда она сунула свою пакость, и Хлода в тот же час сама о ней рассказала. Она думала, что меня обвинят, но совать руки в кипяток вместе со мной не захотела. А гнева богов так испугалась, что упала в обморок! Несчастная! – Со смесью презрения и досады Гуннхильд покачала головой. – Надеюсь, теперь она будет думать о своем ребенке, а не о том, как бы погубить кого-нибудь.
– А может, и не так, – возразил Кетиль, с таким непринужденным видом, будто они толковали о погоде. – Может, теперь она еще больше озлобится против тех людей, что грозят ее будущему ребенку.
– Но я-то ничем ему не угрожаю!
– Сдается мне, молодая госпожа говорит неправду. – Кетиль поклонился со смиренно-лукавым видом, за который его так любил епископ. – Из-за молодой госпожи та бедная женщина может лишиться мужа, а ее будущий сын – королевства.
– Рано ему делить с кем-то королевство. Оно достанется Кнуту, после него – его сыну Харальду, Гормову внуку, потом – моим сыновьям от Кнута. И только после них всех – Харальду и его сыну! Да и вообще – может, Хлода еще родит девочку! – мстительно предположила Гуннхильд.
– Нет, она родит мальчика, – уверенно ответил Кетиль. – И всего две задницы будут греть для него конунгово сиденье.
– Что?
– Сдается мне, чтобы стать конунгом, ему надо будет пережить только деда и отца. А для Харальда было бы лучше, если бы этот ребенок вообще не родился. И самое лучшее было бы избавиться от него и его матери сейчас, пока еще не поздно.
Гуннхильд застыла, сомневаясь, верно ли расслышала. Ее возмущало поведение Хлоды, но и в голову не пришло бы ответить чем-то подобным.
– Ты что же… думаешь, что я способна подложить ей такую же пакостную косточку? – со смесью изумления и возмущения пробормотала она. – Да… Харальд сразу убьет меня, если что-то подобное найдут у нее!
– Верно, поэтому лучше сделать иначе. Если мы отдадим богам Хлоду с ее ребенком, тебе и твоим детям ничто не будет грозить, да и для Харальда так будет лучше.
– Отдадим… богам? – Гуннхильд с трудом верила ушам.
– Это хорошая жертва. – Кетиль кивнул, будто осматривал свежевыловленную рыбину. – Госпожа как-никак дочь конунга, хоть и не самого удачливого. И сын ее – королевского рода с двух сторон. Если ты принесешь такую жертву за Харальда, то у него будет много сыновей, но ни один из них не помыслит на него зло и не соберет войска.
– Я… принесу?
Гуннхильд была как во сне. Ей предлагают принести человеческую жертву? И кто – не совет хёвдингов перед войной, не тинг в неурожайный год, а какой-то хромой одноглазый нищеброд… Одноглазый… будто сам… Она знала немало преданий о таких делах, но все они относились к древним временам. К тем давним темным годам, когда, по преданиям, дочери конунга были валькириями. А это означает, что женщины семьи конунга, как самые знатные в племени, служили посредниками между богами и смертными, провожая умерших на тот свет: павших в битве или избранных в жертву. Но сейчас! Она не помнила, чтобы ее предки в Ютландии предпринимали нечто подобное – хотя, возможно, им мешала близость христианской Страны Саксов. Не стоит забывать и о том, что под давлением обстоятельств крестились ее дед и отец, а мать была рождена и воспитана в христианской семье. Истинно непреклонной последовательницей старины в роду оставалась только Асфрид. Гуннхильд выросла под большим ее влиянием, но все же не решалась взяться за подобное дело. Сама Асфрид если когда и совершала подобное, то не рассказывала внучке.
– Не тревожься, я помогу тебе. Я умею это делать. – Кетиль снова кивнул с таким спокойствием, будто его попросили залатать дыру в сети. – Я умею и заклать, и раздать…
– Но ты же… христианин! Четыре раза крестился!
– Если боги живут внутри человека, маловато будет макнуть его в купель, чтобы смыть их! Даже четырех раз маловато. А Харальд попробует всего один раз. Как бы ему вместе с богами не смыть удачу! Удача не любит, когда вместо своей силы человек начинает уповать на волю Божью. Скажи ему об этом сейчас – ведь когда он попытается это сделать, тебя рядом с ним уже не будет…
У Гуннхильд кружилась голова; она прижала руки к глазам, потерла веки, потом снова глянула на Кетиля – и ничего не увидела. Какое-то серое туманное пятно колебалось на том месте, где стоял нищий в своем лоскутном одеянии. И это пятно говорило знакомым хриплым голосом:
– Конунги – потомки богов. Они знают, что боги не спускают с них глаз и ждут, что потомки будут их достойны. Кто знает, что ему это не по силам, тот пытается спрятаться за чужого бога, который хочет только смирения – щита и меча слабых. А Харальд достоин, в нем живет сам Тор. Прятаться от богов для него значит прятаться от самого себя. Эти игры не доводят до добра…
Гуннхильд поморгала. Серое пятно исчезло, перед ней снова был седой, хромой, наполовину беззубый нищий с полуприкрытым глазом. Откуда у нее чувство, будто сейчас с ней говорил кто-то другой – тот, кто тоже крив и должен склоняться к источнику Мимира, чтобы взглянуть на мир двумя глазами: одним сверху, другим снизу…
– Ну, ты согласна? – Кетиль поморгал и почесал в спутанной бороде. – Мы легко это устроим. Моя дочь поможет, я кое-чему ее научил.
Гуннхильд молча покачала головой.
– Подумай еще. Этим ты очень-очень поможешь Харальду, а заодно и себе.
– Ах, если бы я могла помочь моему брату! – вырвалось у Гуннхильд.
– А твой брат справился и сам. Лекарь нужен не здоровым, но больным, – так говорил Христос, сын Марии.
* * *
Гуннхильд часто думала об этом разговоре. Наутро Кетиль снова ушел в Эклунд, а она подолгу бродила у моря, пытаясь понять, что все это значит. Не безумен ли он, не пытается ли ее обмануть? И что еще принесет ей «дружба» Хлоды с лесной ведьмой?
Но мысли о брате, о Кнуте, о Харальде занимали Гуннхильд еще сильнее. Почти невозможно, чтобы после бегства Ингер уцелели все трое: жених-похититель и оба брата. Но за все сокровища мира Гуннхильд не смогла бы выбрать, кого из троих ей легче потерять, поэтому не знала даже, на что надеяться. Любой исход принес бы ей горе, и она ждала этого горя, стараясь заранее привыкнуть к мысли о нем и держаться достойно, когда жребий норн станет ясен.
Иногда она злилась на Ингер: ведь из-за дочери Горма дела сложились так печально, своим своеволием та подорвала хрупкий мир между Инглингами и Кнютлингами. Ингер сделала свой выбор – с той решимостью и пренебрежением всем, кроме своих желаний, которые были ей от рождения свойственны. Но потом со вздохом признавала: если бы ей, Гуннхильд, Харальд предложил бежать от родных, чтобы всю жизнь быть вместе, она тоже… пожалуй… не могла бы поручиться за свою верность родовому долгу. Так всегда бывает: для любящей девушки ее избранник равен всему прочему миру, а может, и больше него.
Мысли о Харальде мучили, пожалуй, сильнее прочих. Он и пугал, и притягивал ее; он видел в ней угрозу и в то же время признавался, что не может не думать о ней. Его влекло к ней так же, как ее к нему, и так же не имел права давать волю своему влечению. Иной раз ей казалось, что если бы именно он не вернулся из этого похода, в первое время она переживала бы эту потерю тяжелее прочих, но после того успокоилась бы и дальше жила счастливо.
Впрочем, одна маленькая надежда у нее оставалась. Если Рагнвальд и Ингер направились не домой, к фьорду Сле, а на Бьёрко, к Олаву-конунгу, и именно Кнуту выпадет повстречаться с ним, то Кнут гораздо легче Харальда пойдет на переговоры, а благодаря миролюбивому нраву сумеет провести их благополучно. Правда, при самом лучшем исходе она, Гуннхильд, теряла Южную Ютландию как приданое, но разве это цена за жизнь брата? Или жениха? Или даже брата жениха…
– О боги, пусть они поедут на Бьёрко, пусть Кнут не догонит их по пути и встретит только там, под защитой Бьёрна-конунга! – молила она, глядя, как солнце садится над морем или встает, и посылая свои мольбы прямо в Асгард по багряно-золотой дороге через небо и море. – Пусть они сумеют договориться!
Дорога что до Бьёрко, что до Хейдабьора была не такой уж длинной, а вести все не шли. Дни тянулись все дольше и мучительнее. И Гуннхильд, и Горм с Тюрой понимали, что, возможно, уже что-то произошло, дело так или иначе решено и только они еще живут в неведении, молят богов за того, кого уже нет, и надеются на то, что уже никак невозможно.
– Не умеешь ли ты, девушка, видеть вещие сны? – как-то спросил вечером Горм у Гуннхильд.
– Асфрид учила меня писать «сонные ставы», – осторожно ответила Гуннхильд. – Но ведь если несведущий человек их увидит, он снова испугается злой ворожбы.
– Нам сейчас не до того, чтобы оглядываться на несведущих людей.
– Мне жаль, но сонные ставы, которые я знаю, применяются только зимой, когда ночь длиннее дня. Сейчас, когда ночи стали коротки, вещий сон не успевает найти дорогу к человеку.
– Очень жаль. Он бы нам так пригодился!
– Но почему бы тебе, конунг, не попробовать уснуть на склоне Дома Фрейра? Уж к тебе-то он дойдет.
– Я мог бы… но думаю, у тебя получится лучше. Ведь именно ты побывала внутри! Если ты попросишь у богов вещего сна о твоем брате или наших сыновьях, они, возможно, тебе не откажут.
Гуннхильд подавила вздох. Харальд снился ей без всяких просьб уже две ночи подряд. Во сне она видела, что он уже вернулся, уже рядом с ней, она видела его ясное лицо, веселую улыбку, поднимающую правую сторону рта и обозначающую ложбинку на щеке под золотистой бородой. Его серо-голубые глаза сияли, от него исходило тепло, и его присутствие во сне наполняло ее блаженством. И не менее сильным было ее горе, когда, проснувшись, она вспоминала, что этого никогда не будет наяву. Даже если Харальд вернется, он вернется ее кровным врагом, о поцелуях даже мечтать будет больше нельзя.
– Если ты хочешь, я попробую, – подавляя вздох, согласилась она.
– Но все же странно, конунг, что ты хочешь доверить такое важное дело молодой девушке! – воскликнул Фроди из Гостевого Двора, приехавший узнать, как тут дела. Большая часть дружины ушла в поход с сыновьями Горма, в гриде теперь казалось пусто. – Не лучше ли тебе попробовать самому? Или королеве Тюре, мудрой женщине?
– Мы с королевой знаем, чего боимся и на что надеемся! – вздохнул Горм. – А Гуннхильд не знает, и ее желания не повлияют на то, что она увидит.
– Как бы не было ночью дождя! – заметила Тюра. – И сейчас уже накрапывает. Как ты думаешь, конунг, боги не будут против, если поставить маленький шатер?
Собираясь провести ночь на кургане, Гуннхильд постоянно вспоминала ночь перед праздником Госпожи. Как бы ей хотелось, чтобы Харальд и сейчас был там с ней! Одной ей было страшно, неуютно, но ради вестей о Харальде все и было затеяно. И она скрывала тревогу, старалась направить свои мысли в нужное русло. Но чувствовала, что чего-то ей не хватает.
– Конунг, вот что мне нужно! – Взгляд ее вдруг упал на секиру Ключ от Счастья, висевшую на стене позади хозяйского сиденья на широкой медвежьей шкуре. Ее использовали только во время обрядовых поединков, тем не менее она всегда была как следует наточена, вычищена и расклинена, как все оружие в доме у приличного человека. – Как хорошо, что я сообразила! Без Ключа я едва ли попаду на тропы духов. Позволь мне взять его.
– В первый раз слышу, чтобы для вещего сна требовался боевой топор! – удивился Горм. – Но если ты считаешь, что он поможет, возьми.
Гуннхильд улыбнулась: она знала, что владельцем Ключа от Счастья считается Зимний Турс, то есть Харальд. И ей казалось, что вместе с секирой и сам он незримо будет с ней.
Ставить на кургане-святилище шатер Горм посчитал чрезмерным, но согласился, что боги не будут против маленького шалаша из еловых ветвей – ель ведь тоже является деревом вещих снов. Когда слуги ушли, Гуннхильд осталась одна. Под изголовье приготовленной лежанки она спрятала еловую дощечку с заклинанием из пяти рун, призывающим вещий сон, и попросила богов послать ей весть о ее брате и сыновьях Горма. Но просто лечь и попытаться заснуть мало: сперва нужно прогнать все тревожные и досужие мысли, успокоить чувства, освободить и очистить душу, как сосуд, в который боги вольют немного своего надвечного знания.
И это получилось легче, чем Гуннхильд ожидала. Здесь, на вершине кургана, самого высокого холма в округе, она успокоилась, как будто страхи и тревоги не посмели подняться сюда и остались внизу – как в ту ночь, которую она провела в Доме Фрейра вместе с Харальдом. И даже воспоминание о нем сейчас приносило отраду вместо прежней боли. Как никогда ясно, Гуннхильд видела, с каким незаурядным человеком свела ее судьба. Вот кому она охотно доверила бы и себя, и все свое наследство, и будущих детей… Как они могли бы быть счастливы, если бы судьба не развела их по разным сторонам поля сражений, не нагромоздила препятствий, возникших до рождения Гуннхильд, а то и их обоих… Перед ней стояло его лицо – с золотисто-рыжей бородой и ясным взором серо-голубых глаз, светлое, будто солнце…
Закутанная в синий плащ из толстой шерсти, Гуннхильд сидела на вершине кургана и сквозь входное отверстие шалаша смотрела, как гаснет закат вдали, над невидимым отсюда морем. Солнце пылало, погружаясь во тьму, над ним клубились багряные и черные отблески среди облаков, и казалось, будто там вьется бесчисленное множество духов. Отпустив мысли, Гуннхильд просто смотрела, погружаясь взором в нескончаемые оттенки голубого, серого, сизого, тускло-желтого, бледно-лилового, но сильнее всего притягивало расплавленное золото, разлитое по самому краю небосклона. Ворота иного мира открывались, чтобы впустить домой богиню Сунну, утомленную дневными трудами. Вот она входит в пышный сад, где ветви деревьев пылают червонным золотом, тоже чернеющим к ночи. Мать усадит ее к огню, служанка снимет с нее башмаки, подаст молока и хлеба, и мать станет расчесывать ее янтарно-золотые волосы, спутанные ветрами поднебесья. Равномерно и бережно скользит золотой гребень по янтарной волне, из волос Солнечной Девы вылетают искры – вон те, что еще вспыхивают среди чернеющих облаков… Золотое кольцо закатилось за тучи, и сумрачные великаны будут искать его всю ночь, шарить в потемках, надеясь осветить свою унылую страну… А завтра Сунна вновь вынырнет из моря, сияющая, освеженная сном, и от улыбки богини зарумянятся облака, тронутся в путь, будто овцы, которых юная пастушка гонит на зеленые склоны…
И чувство счастья, легкое и вроде бы беспричинное, вдруг наполнило душу Гуннхильд, потекло теплом по жилам. Она так отвыкла от этого ощущения легкости и душевного тепла – наяву, – что невольно закрыла глаза и задержала дыхание. И ее понесло туда, в край текучего золота на черно-синем шелке неба…
– Госпожа, проснись же ты!
Кто-то дергал ее за ногу. Гуннхильд не сразу пришла в себя, но в нос ударило душной вонью немытого тела и мгновенно вернуло ее из мира сновидений. Она лежала на подстилке в шалаше из еловых веток, под боком ощущалось что-то твердое, а над ней наклонился человек, которого она не видела в темноте, но легко опознала по запаху – Кетиль Заплатка.
– Что такое? – Гуннхильд приподнялась и торопливо отстранилась. – Что ты здесь делаешь? Зачем ты залез на курган?
– Пытаюсь тебя разбудить!
– Зачем? – Гуннхильд в ужасе села и отвела волосы от лица. – Да ведь я же пришла сюда увидеть вещий сон! Ты все испортил!
– Сон подождет! Сейчас самое главное творится наяву! Дурное дело творится! Эта госпожа, что из Эклунда, сегодня задумала что-то уж совсем нехорошее! Они с той колдуньей из леса, Уллой, устроились на холме неподалеку, и пусть меня стопчет Слейпнир, если это две потаскухи не затеяли петь вардлок!
– Что? – Спросонья Гуннхильд плохо соображала, тем более что сообщение Кетиля казалось невозможно жутким.
– Да пойдем же со мной! – Кетиль схватил ее в темноте за руку своей заскорузлой рукой, и Гуннхильд поспешно высвободила пальцы. – Я тебе их покажу! Это здесь недалеко! Для вардлока нужно выбрать местечко повыше, но залезть на Фрейрову могилу они не посмели и засели со своим трехногим котлом на другом холме. Тут и двухсот шагов не будет! Идем со мной скорее, иначе вещих снов уже не понадобится!
Гуннхильд встала и вслед за Кетилем выползла из шалаша. Пошарив среди ветвей, забрала и Ключ от Счастья. Ростовой топор – не самое подходящее оружие для девушки, но другого не было, а идти к ведьме с пустыми руками было слишком жутко.
Ключ от Счастья очень пригодился Гуннхильд как посох – когда она спускалась по крутому склону кургана по невидимой во тьме тропинке и потом шла за Кетилем, ничего не видя под ногами. Была уже полночь, круглая луна сияла в вышине и освещала вершины холмов, но здесь, у подножий, разливалось море мрака.
– Вон они! – Ковылявший впереди Кетиль вдруг остановился, и Гуннхильд невольно наткнулась на него. – Видишь, наверху?
Гуннхильд всмотрелась. На вершине ближнего холма тлел огонек.
– Это они: госпожа из Эклунда и Улла. Домочадцы думают, что госпожа спит у себя, а она бегает по лесам! Будь дома ее муж, эта хитрость у нее бы не прошла, но пока он за морем, она вольна скакать ночами, как волчица, и наводить порчу на добрых людей!
– Но надо же позвать кого-нибудь! Сказать конунгу…
– До конунговой усадьбы далековато для моих старых ног, я и так едва дышу! Пока будем бегать, они уже закончат свое черное дело.
– Я могу сама пойти в Эбергорд! – прошептала Гуннхильд.
И тут же ужаснулась, представив, как будет одолевать этот путь, на каждом шагу ощупывая дорогу рукоятью секиры.
– Сдается мне, молодая госпожа упадет замертво у ворот конунговой усадьбы! Ведь на кого, как ты думаешь, направлена их ворожба, для кого они скликают духов, распевая там вардлок?
– На меня?
– А на кого же? На меня? Или, может, это мне в постель подсунули руническую кость с проклятьем, или меня пытались обвинить, будто я испортил конунгову дочку? Или это я мешаю будущему ребенку наложницы стать конунгом?
Кетиль был прав, и Гуннхильд содрогнулась. Хлода не оставила попыток от нее избавиться, а сейчас, пока Харальда нет дома и она сама себе хозяйка, у нее развязаны руки.
Ничего не добавив, Кетиль стал подниматься на холм, и Гуннхильд двинулась за ним сквозь поросль мелких елок, раздвигая ветви Ключом от Счастья и стараясь не шуметь. Кажется, здесь имелась тропка, потому что порой случалось пройти шагов десять, не наткнувшись на куст, дерево или валун, но вот найти свободный проход в темноте удавалось не всегда. Даже Кетиля Гуннхильд почти не видела, лишь слышала впереди легкий шорох, когда нищий мудрец задевал за ветки. От волнения и движения ей стало жарко, хотя ночь поздней весны была довольно прохладна, и она сбросила плащ прямо наземь. «Буду жива, найду утром», – мельком подумала она.
Вот подъем кончился, они выбрались на вершину и остановились отдышаться, прячась за кустами и камнями. Шагах в двадцати впереди горел костер, возле него виднелись три фигуры: девушка, женщина средних лет и старуха – эта была закутана во что-то темное и пряталась в тень поодаль от костра, так что ее едва можно было разглядеть. Женщина сидела с закрытыми глазами на куске медвежьей шкуры, а девушка – это оказалась Хлода – стояла рядом, тоже опустив веки, и распевала заунывную, монотонную песню – вардлок. Обычно она носила головное покрывало, как подобает замужней женщине, но сейчас ее волосы были распущены, чтобы высвободить силу для ворожбы, и это непривычное зрелище усиливало пугающее впечатление. Колдунье, призывающей духов, всегда нужны помощники, чтобы петь вардлок – сама она общается с духами и не может в это время петь. Старуха подтягивала тонким скрипучим голосом, доносящимся как будто с очень большого расстояния, но смолкла, едва Гуннхильд и Кетиль вышли на вершину.
Гуннхильд было подумала, что они обнаружены, но у огня ничего не изменилось. Среди углей стоял трехногий котелок, в котором что-то кипело, поднимался пахучий пар: ведьма варила колдовские травы, что наряду с песней приманивают духов. В этом котелке варилась ее, Гуннхильд, гибель! Кипели чары, призванные ее погубить! В ней вдруг поднялся гнев, начисто смывший страх. Да кто они такие, жабы и змеи, что задумали зло на нее, внучку Фрейи!
– Сдается мне, я был прав! – прошептал Кетиль, схватив ее за свободную руку. – Они думают, что плетут здесь чары на гибель тебе, но всякое копье, пока оно не пробило грудь, можно подхватить и метнуть обратно. Помнишь, что я говорил? Давай сейчас отдадим богам эту женщину – это будет как два человека вместо одного. Боги любят жертвы конунговой крови. Потаскухи уже созвали духов – если сейчас прольется кровь, я сумею заставить их делать то, что нужно нам. Я знаю, чего ты хочешь – чтобы и брат твой был жив, и оба сына Горма были живы. Не все из этого возможно, но для того, кто тебе дорог, ты можешь сейчас обеспечить более долгую и уж верно более удачливую жизнь.
Гуннхильд не успела даже придумать ответ, как вдруг в памяти ее прояснилось. «Не все из этого возможно», – сказал Кетиль, и эти слова были будто факел, внесенный в темный дом и осветивший все до дальних углов. Она вспомнила свой сон – тот, что видела, когда Кетиль разбудил ее. Во сне она вновь была внутри Дома Фрейра и разговаривала там с Харальдом: он задавал вопросы, а она отвечала. «Твой брат Кнут… радостна была жизнь его, радостной будет и смерть, и умрет он весело, как все, что делают молодые… Он войдет в Валгаллу, открыв тебе дорогу к земной власти и славе… будут у тебя сыновья и дочери. Они в полной мере разделят судьбы всех земных владык… не все из них умрут своей смертью… доброе зерно, будучи брошено в дурную почву, принесет дурной плод… горький плод… ядовитый плод…»
Придерживая локтем рукоять ростового топора, Гуннхильд закрыла лицо руками, будто пыталась защититься от вспышки этого ужасного знания. Но чувство ужаса держалось лишь краткий миг – а потом исчезло, и вместе с ним исчезла Гуннхильд, дочь Олава. В груди вспыхнуло пламя, огонь потек по жилам, будто лава проснувшегося вулкана, в душе вскипела ярость и жажда смести с земли эту черную пакость – ворожбу, посягающую на благо потомков богов.
Ни о чем не думая, Гуннхильд с яростным криком выскочила из-за кустов. Метнулась к костру и концом древка опрокинула котелок – варево выплеснулось, наполовину затушив костер. Зашипели угли, взметнулось облако пахучего пара, вскрикнула Хлода.
Когда пар развеялся, Гуннхильд увидела их обеих. Хлода пятилась, глядя на нее с ужасом: наверное, думала, что пением своим призвала случайно какого-то особенно сильного и опасного духа. Вторая женщина – колдунья Улла – не пошевелилась, но глаза открыла. Она была закутана в широкую накидку, кажется, из мелких шкурок, но голова ее оставалась непокрытой, жидкие волосы рассыпались по плечам. Лица ее не удавалось разглядеть в неровном свете луны и отблесков костра. Надо думать, она не сразу вернулась в свое тело из мира духов и поняла, что колдовству помешали.
– Что вы тут затеяли, твари? – гневно вопила Гуннхильд. – Хотите погубить нас всех? Я вам покажу! А ну проваливайте прочь отсюда, а не то я разобью ваши дрянные головы, как старые горшки!
Хлода, наконец узнав ее и сообразив, чем ей все это грозит, вскрикнула и в безрассудном страхе бросилась прочь. Улла зашипела, забормотала что-то, высвободила из-под накидки руку с колдовским жезлом, вскочила и двинулась к Гуннхильд в обход костра.
– Бей ее! – кричал поблизости Кетиль. – Не давай ей говорить!
У Гуннхильд шумело в ушах, перед глазами плыли темные пятна. Но Ключ от Счастья, как живое существо, сам рвался в бой; ей нужно было только поднять его, а там уж лезвие под действием собственной тяжести, скопившее в себе силу многочисленных обрядовых боев, само делало остальное. Не Гуннхильд его, а он ее нес в битву; она прыгнула навстречу Улле и с размаху обрушила на нее секиру. Никогда раньше Гуннхильд не держала в руках боевого оружия, но тысячи раз на протяжении всей жизни наблюдала, как обращаются с бродексом. Улла увернулась, и лезвие вонзилось в землю; колдунья на карачках отползла, потом вскочила, уронив жезл, и теперь у нее в руке оказался нож. Она подалась было в сторону, надеясь убежать и исчезнуть в темноте, но с той стороны вдруг выскочил Кетиль и преградил ей дорогу. Улла замахнулась на него ножом, он отбил ее выпад какой-то палкой. И в этот миг Гуннхильд ударила снова.
Во второй раз она, приноровившись, не промахнулась. Тяжелое лезвие обрядового топора вонзилось в затылок колдуньи и разрубило череп до основания. Улла рухнула наземь, утягивая за собой топор, и Гуннхильд невольно выпустила древко.
Оставшись с пустыми руками, она утратила опору и обессилела – пошатнулась, сделала несколько шагов прочь от костра, пытаясь обрести равновесие. Пламя тем временем выровнялось, и она ясно видела, что рядом с костром лежит тело с засевшим в голове лезвием. И тут же сама Гуннхильд без сил опустилась на землю. Ее ярость прошла, словно вся утекла в этот последний замах, погас огонь внутри. Божество покинуло ее, от усталости и потрясения задрожали ноги.
– Вот это хороший удар! – Кетиль подковылял и выдернул секиру, упираясь ногой в тело мертвой колдуньи. – Сразу видно, что молодая госпожа из рода доблестных вождей!
– О боги, что я наделала…
У Гуннхильд стучали зубы. Но она не помнила, как все это вышло – будто вместе с силами ее покинула и память о недавних мгновениях. Она видела лишь тело женщины с разрубленной головой и черными от крови волосами и Кетиля, вытирающего лезвие секиры о подол убитой.
– Кто ее… кто это сделал? – Гуннхильд еще надеялась, что убийцей стал сам Кетиль.
– Сдается мне, это была Фрейя! – глубокомысленно отозвался он и вручил Гуннхильд Ключ от Счастья. – Я видел ее. Она пришла, помогла тебе спастись от ворожбы и ушла опять. Поблагодари ее. Она спасла тебя.
– Благодарю… – Гуннхильд подняла глаза к сияющей луне, но среди серо-сизых облаков, озаренных бледно-желтыми лучами, не увидела никого.
– Что же ты наделала! – донесся шепот из темноты.
Гуннхильд обернулась, стиснув древко секиры и ожидая увидеть духа. Из тьмы выступила Хлода, при свете луны и впрямь похожая на дух. С распущенными волосами, с выражением досады и бессильной ненависти на красивом лице – как сказала когда-то Асфрид, лицо Харальдовой наложницы выдает пылкость желаний и холодность сердца, – она была похожа на ту женщину-тролля, что ездит по лесам на волке со змеями вместо поводий.
Гуннхильд поднялась, опираясь на Ключ от Счастья и готовая вновь пустить его в ход. Но руки Хлоды были пусты, она не творила заклинаний, а только смотрела на Гуннхильд.
– Какая же ты дура! – с горестным отчаянием проговорила Хлода. – Зачем ты помешала нам?
– Зачем? – в изумлении повторила Гуннхильд. – А по-твоему, я должна была молча смотреть, как вы пытаетесь меня погубить чарами? Может, еще надо было вам подпевать?
– Да, надо было нам подпевать! – раздраженно подтвердила Хлода. – Тебя! Вовсе не на тебя мы плели эти чары!
– Не на меня? Так я тебе и поверила! После того как ты принесла для меня ту гадкую кость, а потом еще пыталась меня обвинить, что это я испортила Ингер!
– Догадалась! – Хлода горько дернула ртом, но усмешки не получилось. – Да, тогда я еще думала, что надо избавиться от тебя, чтобы мой муж опять стал любить меня. Но с тех пор все изменилось.
– Что изменилось?
– Я узнала, что у меня наконец будет ребенок! И мне больше не нужен муж! У меня будет сын, и благодаря ему я получу почет и уважение на всю жизнь, а потом он будет конунгом, а я – матерью конунга, как мне и положено по рождению. Мне больше не нужен Харальд!
– Так ты хочешь сказать… – Гуннхильд едва не задохнулась. – Что это на Харальда вы тут пели заклинания… Но как ты могла? Он ведь твой муж!
– Он убийца! Они с Гормом убили моего отца и брата! И твоего отца, и твоего брата он убьет, если не сейчас, так через год. А может, и уже завтра! Если бы ты не помешала нам, Харальд упал бы мертвым прямо сейчас, если он не спит, или не проснулся бы наутро. И твои родные могли бы уцелеть. Я пять лет назад ничего не могла сделать, чтобы помочь моим, а ты могла бы! Понимаешь теперь, какая ты дура! Ты могла их спасти! А я могла отомстить за моих родных, раз уж воскресить их невозможно. Вот поэтому ты должна была подпевать нам, а не мешать.
Гуннхильд не отвечала. Вот оно что… Как героиня сказаний, Хлода все эти пять лет, притворяясь покорной, таила в душе ненависть и ждала своего часа. Пока она была лишь наложницей младшего конунгова сына, ей приходилось скрывать свои истинные чувства, но теперь, когда она уже почти стала матерью конунгова внука, муж и правда стал ей не нужен и она смогла дать волю своей ненависти. И сама она, Гуннхильд, могла бы стать такой… и еще должна будет стать, если…
Мелькнуло в памяти что-то ужасное, что открылось ей в эту ночь… или приснилось, или ведьма успела что-то сказать, прежде чем умереть… Гуннхильд не помнила, да и в чем заключается обещанный ужас, тоже не помнила.
– Но еще не поздно! – продолжала Хлода. – Улла рассказала мне, что нужно делать. Ты можешь заменить ее! Ты ведь умеешь, я знаю, Горм и Тюра говорили, что ты способная… Ты отправишься в полет вместо Уллы и сама настигнешь его, а я буду помогать тебе и петь. Я отомщу за своих родичей, а ты спасешь своих.
Но не успела Гуннхильд ничего ответить, как в круг света угасающего костра торопливо прихромал Кетиль.
– Госпожа, давай сделаем это сейчас! – воскликнул он, размахивая длинным ножом мертвой колдуньи с рукоятью из кривого отростка оленьего рога. – Это удобный случай! Это нож мерзкой бабы, мы сделаем это, а люди будут думать, что это сделала ведьма! Ты можешь выкупить жизнь твоих родичей – двое за двоих!
Он повернулся к Хлоде, по его лицу женщина сразу все поняла. Двое за двоих!
Не издав ни звука, Хлода развернулась и бросилась бежать в темноту, прочь от костра, вниз по склону. Вскрикнув от досады, Кетиль бросился за ней, но куда ему, хромому старику, было угнаться за молодой проворной женщиной, спасающей две жизни, свою и ребенка! Беременность Хлоды была еще совсем не заметна и не лишала ее резвости, даже наоборот, придавала сил.
– Беги же за ней! – крикнул Кетиль, но Гуннхильд не двинулась с места.
Тогда он метнул нож в темноту, туда, куда убежала Хлода; донесся глухой звук – лезвие вонзилось в дерево.
– Сдается мне, госпожа еще пожалеет об этом! – с досадой бормотал Кетиль, хромая обратно. – Ну, теперь уж ничего не поделать. Лучше нам теперь уйти отсюда – как бы эта троллиха не привела людей и не сказала, что это мы тут творим дурную ворожбу и жжем колдовские травы!
Гуннхильд опомнилась: уйти отсюда поскорее ей очень хотелось. Она сделала несколько шагов прочь от костра, но потом вспомнила кое-что и остановилась.
– Постой! Здесь же была третья женщина… старуха… Она стояла вон там и тоже пела, когда мы подошли.
– Госпожа тоже заметила? Сдается мне, это была не живая старуха… Она из тех, что не оставляют следов на снегу и на песке. Но теперь уж она далеко – ей пришлось убраться, когда прекратили петь вардлок и выплеснули «пиво духов».
Гуннхильд передернула плечами и пошла прочь. Опираясь на рукоять Ключа от Счастья, она осторожно пробиралась вниз по склону среди камней и кустов и даже наткнулась на свой брошенный плащ – что было очень кстати. Когда возбуждение схлынуло, от напряжения чувств и растраты сил она начала мерзнуть так, что стучали зубы. А может, к рассвету холодало.
* * *
Когда Гуннхильд проснулась, было уже светло. Она ничуть не удивилась, обнаружив себя на вершине Дома Фрейра, в шалаше из еловых ветвей, на подстилке из лапника и шкур. Она прекрасно помнила, почему и зачем здесь оказалась и почему у нее под рукой лежит ростовой топор. И вещий сон, ради которого она сюда пришла, помнился совершенно отчетливо. Гуннхильд содрогнулась, бросив мысленный взгляд назад в ночь: три норны у костра варили злые чары, чтобы погубить Харальда, а потом…
Гуннхильд положила руку на рукоять секиры. Твердое дерево было выглажено мужскими ладонями, многократно его сжимавшими, и ей было приятно к нему прикоснуться, как к руке самого Харальда. Каких же ужасов не приснится! Будто она своими руками убила одну из норн – среднюю…
А младшая из норн имела лицо Хлоды. Всплыл в памяти разговор, который они вели, и Гуннхильд села на подстилке. Внутри похолодело. Это был… не сон?
Она вопросительно взглянула на секиру, будто та, как живое существо, могла подтвердить или опровергнуть ее догадки. Еще там был Кетиль Заплатка, который и привел ее на холм норн… или ведьм, но он исчез, растворился во тьме, после того как проводил ее сюда. Да и был ли он, хромой нищий, послуживший ей духом-проводником? Нет, наверное, это был все же сон. Уж слишком все это напоминало путешествие колдуна, владеющего искусством сейда.
Но неприятное чувство не проходило. Гуннхильд помнила, что минувшей ночью ей открылось еще нечто ужасное… нечто непоправимое, какое-то большое горе… Она что-то знает, но память вытесняет это знание, не хочет допустить его… Однако придется вспомнить. Сейчас она встанет, пойдет назад в Эбергорд, и там Горм и Тюра спросят ее, какой сон послали ей боги. Надо будет отвечать. Беду от Харальда она отвела, но кто-то другой…
Хлода говорила, что лишь ценой смерти Харальда можно обезопасить ее собственных родичей, отца и брата. У Гуннхильд упало сердце: неужели она, помешав ведьмам загубить Гормова сына, тем погубила свой род? Она закрыла лицо руками, не желая даже думать о возможности такого выбора.
И тем более о том, что она, судя по всему, уже его сделала…
Но разве могла она поступить иначе? Что было бы, если бы после этой ночи Харальд не проснулся – там, в Хейдабьоре, умер бы во сне? Хлоду, конечно, никто бы не заподозрил. А вот ее, Гуннхильд, вполне бы могли. Она-то ночевала вне дома, в священном месте, с обрядовым оружием, собираясь обращаться к богам! Люди решили бы, что она сделала совсем не то, что обещала: не пыталась увидеть вещий сон, а при помощи сейда отправила свой дух в полет и погубила врага своей семьи! При таком совпадении даже Горм, явно к ней благоволящий, усомнился бы в своей правоте.
Или она должна была отдать в жертву себя, лишь бы спасти двоих последних мужчин своего рода? Возможно, Асфрид решила бы, что так. Пожертвовать собой… и Харальдом… Умереть, броситься в бездну, увлекая за собой врага… Может, ей и следовало так поступить, но разве она принимала решение? Гуннхильд помнила вспышку силы, наполнившей ее в те мгновения. Иное, высшее существо действовало ее руками. Это оно смело злые чары, сожгло, будто пламя факела паутину в углу, а ей оставалось лишь повиноваться воле богов. Значит, боги на стороне Харальда. А ей, как и многим героям древности, подобает с достоинством и твердостью принимать предначертанное.
Но нельзя же было вечно сидеть на вершине Дома Фрейра, будто валькирия на кургане, в обществе ростового топора. Солнце давно встало, под плащом и шкурами было жарко. Пришла пора выбираться из мира духов обратно к людям.
Гуннхильд выползла из шалаша и стала осторожно спускаться, используя древко секиры как посох. Подумать только, да неужели она ходила здесь глухой ночью, в темноте, почти бегом! Как только шею не свернула?
Она устала и проголодалась, хотелось умыться, расчесать волосы, поесть, отдохнуть в доме на лежанке… И все же Гуннхильд брела не спеша, опираясь на Ключ от Счастья, будто ночные образы еще цеплялись за подол.
Вот показался Эбергорд, и Гуннхильд удивилась – ворота были распахнуты, вокруг никого. Она вошла, оглядела пустой двор. Что такое? Усадьба будто вымерла.
В женском покое она обнаружила Унн и двух пожилых служанок Тюры, но больше никого.
– Куда все подевались? Где королева? Где конунг?
Три женщины как-то странно посмотрели на нее, и Гуннхильд похолодела.
– Пришел корабль… – пробормотала Унн. – Приеха… привез… Они все там.
Гуннхильд прислонила к стене Ключ от Счастья и бегом бросилась в конюшню.
Но не проскакала она и половины пути до моря, как завидела впереди на дороге целое шествие, идущее навстречу. Гуннхильд придержала коня, поехала шагом. Она уже различала повозку, окруженную людьми; в повозке виднелась какая-то фигура. Еще приблизившись, она увидела, что в повозке сидит Тюра, сгорбившись и закрыв лицо руками. Горм почему-то шел рядом, держась за борт; его коня вели следом.
Потрясенная этим зрелищем, Гуннхильд соскочила с седла. Идущие навстречу тоже ее увидели, и шествие остановилось. Вдруг стало тесно в груди, задрожали ноги, закружилась голова. Медленно, как старуха, Гуннхильд пешком двинулась дальше, опасаясь упасть и жалея, что у нее нет больше Ключа от Счастья, чтобы на него опереться. Под ногами был точно хрупкий лед, который вот-вот проломится, и она упадет в холодное бездонное море.
Множество людей вокруг повозки стояли тихо: ни гомона, ни крика. При виде ее люди расступались, и лица у них были такие же странные, как у женщин в доме. Гуннхильд шла сквозь толпу, ничего не видя, пока не наткнулась на Горма, стоявшего возле резного борта повозки. Кто-то осторожно тронул его за рукав. Конунг обернулся, и ее поразило, как вдруг заострились черты его лица. Как углубились морщины, будто время провело по ним резцом, сделав его разом на десять лет старше.
Увидев бледное лицо измученной девушки, он подумал, что она уже все знает, и молча посторонился.
Гуннхильд никак не могла сообразить, где Кнут и почему Тюра в повозке так расстроена. При ее появлении королева не пошевелилась, не взглянула на нее.
А потом Гуннхильд увидела то, что лежало в кузове повозки рядом с Тюрой, и поняла, откуда идет сильный неприятный запах. Это было что-то, похожее на бревно, плотно обмотанное просмоленной шкурой и обвязанное веревками.
Сквозь шкуру было не видно, что там внутри. Но Гуннхильд вдруг поняла: она и так знает. Размер и очертания свертка, горестное лицо Тюры, запах дали ей ответ. «Умрет он весело, как все, что делают молодые»…
Там внутри – Кнут. Мертвый. Вот какое знание она вынесла из этой жуткой ночи.
Неясно было, что поразило ее сильнее: смерть жениха или то, что она знала об этой смерти заранее и ее предвидение сбылось. Грудь пронзила острая боль, все вокруг поплыло. Гуннхильд попыталась уцепиться за борт повозки – той самой, на которой ее с женихом торжественно везли домой в День Госпожи, – но бессильные пальцы лишь скользнули по резному дереву, и она без чувств повалилась прямо под ноги Горму. Ее рыжие волосы разметались по земле, будто лучи заходящего солнца.
Часть 3
– Посмотри, госпожа, вон уже видно Борг! – Регнер-ярл остановился рядом, придерживаясь за канат, и кивнул куда-то вперед, по ходу корабля. – Вот туда тебе стоит отправиться первым делом и поблагодарить богов за то, что все твои дела сложились благополучно. Кто был мог ожидать… без милости богов этого бы не случилось.
– Я так и сделаю, – безучастно кивнула Гуннхильд и подавила вздох.
Она сидела в кожаной палатке на корме, с откинутым пологом, чтобы можно было смотреть по сторонам. Сейчас погода выдалась хорошей, дождь не шел, в укрытии не было нужды. Близилась ночь, солнце садилось над зеленой равниной впереди. Над пылающим шаром поднимались столбы желтого света, а по сторонам облака были залиты красным, будто кровь умирающего светила… Но за время плавания палатка не раз пригодилась: когда дул ветер, заливая корабль брызгами, или шел дождь. Мужчины, одетые в кожаные рубахи, привычно не замечали неудобств, а вот женщины, сопровождавшие Гуннхильд Унн и Богута, совсем измучились и с нетерпением ждали конца путешествия.
А конец уже близился. Озеро Лёг, проливами соединенное с морем, походило на большой морской залив и отличалось от него лишь пресной водой. За проливами теснилось множество островов и островков, большей частью необитаемых; говорили, что их многие тысячи. Ближе к морю лежали низкие, голые камни, торчащие из моря, необитаемые и пустые, если не считать множества морских птиц и тюленей. Между ними еще не так сложно было находить дорогу, главное было не терять направления, следя за солнцем. А дальше пошли внутренние острова: они были уже выше, иной раз как целые горы. На серо-бурых скалах, местами прикрытых тонким слоем почвы, рос лес, мох или трава. Здесь уже кое-где жили люди, охотники на морского зверя и птицу, рыбаки. Дерновые крыши домишек терялись среди зелени берез и сосен.
Проход к населенным островам Адельсё и Бьёрко и внутренним областям земли свеев прикрывали заставы. На заставах старый Бьёрн-конунг держал корабли и дружину. Враждебно настроенным гостям они преграждали дорогу, мирным указывали путь и давали кормчего: ничего не стоило заблудиться среди сотен и тысяч островов и островков.
Гуннхильд замечала, что в иных местах на высоких скалах нанесены известью белые пятна – указатели пути. Здесь уже было похоже, будто плывешь не по заливу или озеру, а по широкой реке со множеством проток. На иных островах зеленый лес спускался к самой воде по серым скалам, где-то их разделяла узкая, видная только вблизи полоска песчаной отмели. Сейчас, на середине лета, земля пестрела множеством цветов; у берегов на мелкой воде, прогретой солнцем, качались сотни круглых листьев кувшинок с белыми цветами, доказывая, что вода здесь пресная. Было красиво: в темно-голубой воде отражалось небо, а над зеленым лесом висели густые белые облака, будто вершины заснеженных гор. Регнер рассказывал, что в Норвегии горы именно такие, огромные и с вечно снежными вершинами.
– Рассказывают, что именно в этих местах Гюльви-конунг когда-то беседовал с богиней-девой Гевьюн, – говорил Регнер по пути. – И разрешил ей в награду за мудрые речи взять себе столько земли, сколько она успеет вспахать за сутки на четырех быках. Тогда она превратила в могучих огромных быков своих четырех сыновей и за ночь пропахала такую огромную борозду, что отделила целую страну. На месте этой земли теперь озеро Лёг, а островки образовались от комьев земли, которая летела из-под плуга Гевьюн. Потом она утащила эту землю дальше в море, и теперь это остров Съялланд. Люди говорят, озеро и остров похожи по очертаниям, так что, наверное, это правда. А поскольку Гевьюн стала женой Скъёльда, сына Одина, и жила с ним на Съялланде, конунги Съялланда говорили, что все остальные конунги данов произошли именно от них и должны признать их старшими.
Гуннхильд кивала: эту сагу она знала с детства. Но Скъёльдунгов со Съялланда больше нет, и последняя их представительница теперь живет у Кнютлингов как «рабыня конунга».
Хотя ей предстояла встреча с родичами, Гуннхильд не стремилась поскорее сойти на твердую землю. Она чувствовала себя глубоко несчастной и не ждала, что перемена места, прибытие в Бьёрко или Хейдабьор, принесет ей утешение. Регнер считал, ей следует благодарить богов за доброту, и она соглашалась, чтобы не обидеть асов и ванов. Да, для нее все могло сложиться гораздо хуже. Кнютлинги могли сделать ее наложницей Харальда или самого Горма, или подарить кому-нибудь из хёвдингов, или продать как рабыню, или просто назначить посмертной спутницей Кнута! Иной раз в самые горькие часы у нее мелькала мысль, не лучше ли было бы так.
При мысли о Кнуте Гуннхильд вновь принималась плакать, хотя прошло уже немало дней. Вся жизнь ее рухнула. За эти месяцы она привыкла к Эбергорду, к семье и домочадцам Горма, привыкла к мысли, что останется здесь на всю жизнь и даст продолжение этому роду. Харальд волновал и притягивал ее больше, чем его старший брат, но внезапную гибель в расцвете лет своего жениха она переживала очень тяжело, страдая как за него, так и за себя. Если бы не Харальд, они с Кнутом отлично поладили бы и прожили прекрасную долгую жизнь, как Горм и Тюра. Да и Харальд не смог бы ей помешать – Гуннхильд надеялась, что со временем брак с Кнутом излечил бы ее от ненужной страсти к его младшему брату.
И, сколь ни кажется это противоречивым, при мысли о Харальде ее слезы начинали литься сильнее. Горм отослал ее до того, как его младший и ныне единственный сын вернулся из Хейдабьора, и Гуннхильд перед отъездом не успела его повидать. Горм считал, что так будет лучше. Он знал, что Харальд и раньше недолюбливал дочь Олава, свою будущую невестку, а теперь, когда его брат погиб, встреча не сулила ничего хорошего. Не видя ее, Харальду будет легче держать себя в руках и рассуждать здраво. Впрочем, увидеться им еще придется – он приедет сюда, вернувшись из Хейдабьора, чтобы от имени рода принять участие в свадьбе Ингер. Но после случившегося Гуннхильд страшила эта грядущая встреча: представляя, как увидит ненависть в его сверкающих голубых глазах, она жмурилась и думала, что лучше ей умереть, чем дожить до этого.
Когда Регнер вернулся из Бьёрко с мертвым телом Кнута, заодно он привез требование Олава прислать к нему его дочь. А иначе он, мол, продаст Ингер какому-нибудь работорговцу, уезжающему в Серкланд. Даже вычислил примерную цену, которую за нее можно будет получить. Всем в окрестностях Эбергорда – и хирдманам, и хёвдингам, и простым бондам – это требование и угроза показались непомерно наглыми. Сам собой собрался тинг, и люди сказали Горму, что желают немедленно снарядить корабли, чтобы отмстить за смерть Кнута и вернуть Ингер домой. Но Горм, ко всеобщему удивлению, решил совершенно иначе и сразу принял требование своего соперника!
– Ведь у них остается Ингер, – напомнил он Регнеру и прочим, кто жаждал мести. – И если мы не вернем Олаву Гуннхильд, наша дочь может стать рабыней.
– Но если мы вернем Олаву его дочь, у него будет заложница, а у нас нет! Или он обещал вернуть и Ингер?
– Нет уж, этого не надо! – Тюра с заплаканным лицом и покрасневшим носом горестно покачала головой. – Если еще наша дочь вернется, побыв наложницей Рагнвальда… Как будто мало горя на нас свалилось!
– Мы думаем, что для чести рода и для самой Ингер ей лучше оставаться там, где она сейчас, – кивнул Горм. – Если, как ты говоришь, она и Рагнвальд привязаны друг к другу…
– У меня создалось такое впечатление, – хмуро подтвердил Регнер. – Очень жаль, что никто из нас не приметил этой привязанности раньше!
– Что о том тужить, чего нельзя воротить? Нет, сейчас нам больше нельзя углублять раздор с Инглингами. Даже мстить еще рано. Это вовсе не значит, будто я намерен оставить без отмщения смерть моего старшего сына. Просто она должна будет осуществиться вовсе не через дочь Олава. Я поговорю об этом с Харальдом, когда он вернется. А Гуннхильд… я хочу, чтобы ты, Регнер, отвез ее на Бьёрко и передал родичам. А с ней приданое моей дочери Ингер и согласие на брак при условии, что Южная Ютландия остается во владении Инглингов и впоследствии будет передана детям Ингер. Когда вернется Харальд, он приедет на Бьёрко, чтобы присутствовать на свадьбе – ведь ждать осенних пиров больше ни к чему… Но боги не так суровы к нам, как может показаться, – попытался Горм утешить жену и приближенных, хотя сам лишь с большим усилием сохранял бодрый вид. – Ведь теперь может случиться лишь одно из двух. Если боги с нами, то чуть раньше или чуть позже они дадут нам возможность отомстить и возместить все потери. А если не с нами… что ж, в Южной Ютландии станет королевой моя дочь. Разве это плохо? Ты ведь всегда хотела, чтобы Ингер стала королевой.
И Тюра, и дружина видела, что Горм не говорит всего, о чем думает, но спорить с ним никто не стал. А он приказал позвать Гуннхильд, которая почти не выходила из женского покоя.
– Собирайся в дорогу, девушка, – сказал он ей. – Ты поедешь в Бьёрко, к твоему отцу и брату, как они того пожелали.
Гуннхильд глянула на него в удивлении: из невесты старшего сына превратившись в члена рода кровных врагов, она не ждала для себя ничего доброго.
– Также я прошу тебя быть доброй родственницей моей дочери Ингер. Ее свадьба с твоим братом должна быть вскоре справлена по закону, – продолжал Горм. – Не знаю, приведется ли нам еще увидеться, но я прошу тебя помнить, что мы были добры к тебе… И мне очень горько, что из-за… что судьба лишила меня радости видеть тебя женой моего…
Он умолк, не в силах дальше говорить об этом. Гуннхильд, сама едва сдерживая слезы, не поднимала глаз. Она понимала, что Горм идет против обычая, но уважала его за великодушие и силу. Нужно ведь очень много силы духа, чтобы не мстить тому, кто слаб и находится в твоей власти.
– Сколько бы мне ни пришлось прожить, я всегда буду помнить твою доброту и великодушие, – с трудом выговорила она. – Поверь, мне больно… что я должна уйти из твоего дома, когда я… уже думала, что останусь здесь навсегда…
– Увы! – Горм вздохнул. – Я тоже был уверен, что в твоем лице Дания обретет новую королеву, которой будет гордиться. Но теперь я вынужден вернуть тебя в твою семью… у меня ведь больше нет для тебя жениха.
Гуннхильд не поднимала головы.
– Я, признаться, подумывал предложить Харальду… – начал Горм. – Но мне показалось, что у тебя с ним… не складывается дружбы. И к тому же Хлода теперь беременна и родит ему первого, старшего ребенка. Насколько я знаю Харальда, он не захочет отослать мать своего ребенка. А ты ведь не захочешь жить в одном доме с Хлодой?
– О нет! – Гуннхильд содрогнулась, вспомнив их последнюю встречу – на вершине холма, при свете костра, в облаке пара от колдовских трав.
Ей очень много хотелось бы сказать – и Горму, и самому Харальду. Да, она верила, что он не захочет отослать мать своего ребенка, чтобы взять другую жену, пусть гораздо более выгодную и даже более милую ему. И не подозревает, что будущая мать наследника желала и готовила ему гибель! Но как Гуннхильд могла об этом рассказать? Она бросила испуганный взгляд на Ключ от Счастья, будто тот мог ее выдать. Но топор молча висел на своем обычном месте, над помостом, за спиной сидящего конунга.
Гуннхильд и сейчас не была полностью уверена, что события той страшной ночи ей не приснились. Как она объяснила бы, что сама попала на тот холм? Выдать Кетиля она никак не могла – кроме двух служанок, он оставался ее единственным сторонником здесь, единственной опорой на случай каких-то неприятностей. И пришлось бы рассказать о том, как она своими руками убила ведьму! Обвинить Хлоду в умысле колдовством погубить собственного мужа! А та могла бы сказать, что Гуннхильд все выдумала, или свалить вину на нее. Гуннхильд не хотела рисковать: ведь их с Хлодой положение в один день изменилось самым решительным образом. Гуннхильд из будущей королевы стала никем, а Хлода из наложницы – матерью будущего конунга.
Вопреки ожиданиям, ни в усадьбе, ни в округе не было разговоров о случившемся той жуткой ночью. Кетиль дал ей понять, что избавился от тела колдуньи и убрал все следы колдовства и драки на холме. Хлода по понятным причинам молчала, и похоже было, что все это осталось тайной.
Участь Харальда тревожила Гуннхильд, но она надеялась, что без Уллы Хлода не сможет причинить ему вреда. А может, и не захочет: ведь Горм стар, сын Кнута – шестилетний мальчик, ее собственный ребенок еще не родился, и кто станет защитой семьи, если она изведет последнего взрослого, сильного мужчину в роду? Неужели мстительность в ней заслонит разум?
Так Гуннхильд и покинула Эбергорд. Уехала, чувствуя себя изгнанницей, хотя для рода Инглингов все складывалось очень хорошо. Южная Ютландия останется в их владении, сама Гуннхильд сохранила и Кольцо Фрейи, и свою честь. Но на сердце у нее было тяжело, и вид острова Бьёрко, обозначавший конец путешествия, не порадовал.
Именно в молодости, когда впереди вся жизнь и тысячи возможностей, любое крушение надежд и желаний кажется окончательным, непоправимым несчастьем. Лет через десять, когда возраст принесет опыт, в том числе опыт разочарований и потерь, человек узнает, что в жизни много концов и много начал. Но эти концы уже не кажутся такими горькими, а надежды не так радуют и окрыляют, как в юности. Свежесть чувств и острота восприятия мира с годами утрачиваются, и первые разочарования навсегда остаются в памяти как самые тяжкие из всех. Поэтому Гуннхильд не так уж ошибалась, когда думала, глядя на вырастающую над волнами священную скалу Борг, что всю жизнь, сколько бы она ни продлилась, придется ей нести в душе эту тяжесть, эту боль, эту тоску по счастью, которого и не было, и не могло быть…
Как ей повезло, она начала осознавать лишь тогда, когда встретилась с родными и увидела на их лицах даже больше изумления, чем радости. Особенно на лицах Рагнвальда и Ингер – Олав сиял, заранее уверенный, что Горм не посмеет пренебречь его требованием. Рагнвальд с невестой далеко не так были в этом уверены и не ждали ничего хорошего как для Гуннхильд, так и для себя. Ведь если бы Горм нехорошо обошелся с Гуннхильд, Олаву и Рагнвальду родовая честь предписывала бы так же обойтись с Ингер. Продать ее в Серкланд, конечно, Рагнвальд бы не позволил, но и назвать своей законной женой никак бы не смог и вынужден был бы предложить любимой девушке место наложницы.
Поэтому благополучное возвращение Гуннхильд, означавшее готовность Горма к примирению, привело их в восторг и ликование. Когда Регнер привел в Торсхейм грустную рыжеволосую девушку в синем плаще, на нее смотрели как на вернувшуюся из Хель. А она едва замечала объятия родных, радостные крики дружины, зато с Ингер поздоровалась более оживленно: их объединяла общая скорбь по Кнуту. Обе они считали, что Рагнвальд поступил правильно, убив Годперта, хотя едва ли Горм и Харальд согласятся, что месть свершилась и раздор завершен. Но так сохранялась хотя бы надежда на примирение, а останься Годперт в живых, получилось бы, что Олав берет на себя ответственность за смерть Кнута.
– Только ему все равно было не жить, – сказала Ингер, когда девушки ушли в женский покой Торсхейма отдыхать и разбирать сундуки с приданым Ингер. – Я знаю Регнера: будь у него десять человек, будь у него хоть один человек, он все равно не уехал бы, оставив этого пса переодетого в живых. Так или иначе он бы его достал. Это был слишком ничтожный человечишка, чтобы конунги марали в его крови свое оружие; Регнер убил бы его, чтобы он не смел ходить и гордиться, что на его руках кровь конунга, а уж с Олавом разобрался бы потом мой отец.
Гордый Олав немедленно послал на Адельсё уведомить Бьёрна-конунга о своих успехах. Оставалось дождаться Харальда, чтобы справить свадьбу – без родичей невесты она не будет иметь законной силы. Однако и невеста, и сестра жениха были далеко не так веселы, как обычно в таких случаях. Смерть человека, дорогого им обеим, угнетала.
К вечеру Гуннхильд отдохнула и взяла себя в руки настолько, что уже могла выйти к гостям Атли Сухопарого, сохраняя если не веселый, то хотя бы невозмутимый вид. Она не сомневалась, что все варинги, все лучшие люди Бьёрко соберутся поглядеть на нее. И действительно: выйдя в грид, чтобы занять почетные места за женским столом, две девушки, такие красивые каждая по-своему, такие решительные и отважные, привлекли к себе все взоры и вызвали целую бурю приветственных криков.
– А у нас тут есть еще один гость! – закричал Олав, уже раскрасневшийся от духоты и пива, когда они подошли ближе. – Вы обе с ним знакомы, и я знаю, будете рады вновь встретить такого учтивого и мудрого человека!
Девушки обернулись туда, где один из гостей на лучших местах поднялся, чтобы их поприветствовать, и обе переменились в лице. Перед ними стоял невысокий, представительного вида мужчина, лет пятидесяти, с аккуратно причесанными рыжеватыми седеющими волосами и такой же бородкой, одетый в синий кафтан с отделкой из красного шелка, с серебряной цепью на груди и множеством дорогих перстней. Сигурд Щедрый, ярл Трёнделага!
Ингер вспыхнула, увидев его, и невольно стиснула руку Гуннхильд; последняя просто удивилась. После бегства Ингер говорить о ее браке с норвежским конунгом Хаконом, конечно, уже не приходилось. Горм проводил Сигурда с богатыми подарками для Хакона и уверениями в дружбе, но, конечно, славы им столь бесславное завершение сватовства не прибавило.
– Что, Ингер, испугалась? – кричал со своего места веселый Олав. – Думаешь, Сигурд опять за тобой приехал? Нет, мы своего уже не отдадим!
На лице Ингер ясно отразилась надежда, что дядя ее будущего мужа свалится за борт в первый же раз, как выйдет в море. Сигурд-ярл тоже с некоторым трудом сохранял невозмутимость, и лишь один Олав думал, что весело шутит, напоминая собеседникам о неприятных для них вещах. Ингер ослушалась родителей и убежала из дома с врагом рода, к тому же пока не стала его законной женой, а Сигурд потерпел неудачу, к тому же честь его конунга была задета не на шутку.
– У меня хорошая новость для тебя, Хильда! – Олав, не замечая, как мрачнеют лица вокруг, поднял рог с пивом. – Есть один замысел, который принесет счастье и честь нам всем! Ты лишилась жениха, а Хакон-конунг лишился невесты, которая убежала от него, ха-ха! Но теперь все устроится! Сигурд-ярл уверен, что Хакон-конунг будет рад назвать тебя своей законной женой и королевой, и я сказал бы, что ничего лучше нам и не придумать!
Гуннхильд в изумлении взглянула на отца, потом на Сигурда и отправилась к своему месту за столом – такие новости легче переваривать сидя.
Как выяснилось, Сигурд-ярл находился в Бьёрко уже некоторое время, но замысел о будущем Гуннхильд возник только сегодня, когда она благополучно вернулась. До того Олав уже вовсю раздумывал, с кем бы заключить союз путем ее брака; Бьёрн-конунг был слишком стар, Олав, его сын, уже имел двух жен и многочисленное потомство. Наиболее выгодным казалось поискать жениха для дочери в Стране Саксов: сам Отта-кейсар несколько лет назад овдовел, да и среди его родичей и приближенных можно было найти подходящего жениха.
Рагнвальду не нравился этот замысел, поскольку предполагал крещение и обязательство утверждать Христову веру в Южной Ютландии, платить церковную подать и так далее – а это грозило бы большими внутренними сложностями. Но Олава это не смущало. Он предполагал для начала отправить дочь к Отто – на правах родственницы искать приюта и защиты, а там, глядишь, она приглянется вдовому королю. Вон ведь как ловко она обошла Кнютлингов! Но с появлением Сигурда, ярла все изменилось: Олав предпочел союз с норвежским королем. Он быстро смекнул, что Хакон, оскорбленный бегством Ингер, охотно протянет руку врагам Горма и поддержит их в борьбе за утраченные владения. А когда Гуннхильд вернулась, привезя Кольцо Фрейи, Олав и вовсе расцвел, уверенный, что боги и судьба вновь обратились к нему лицом.
Судьба Гуннхильд была решена даже раньше, чем она об этом узнала. Но ей понравилась мысль об этом браке. О Хаконе-конунге она слышала только хорошее, к тому же он был сильным правителем обширной страны. После всего случившегося ей хотелось уехать как можно дальше от Дании, забыть Горма и его семью.
– Но отец… – Лишь одно соображение ее смущало. – Ведь Хакон-конунг – христианин. Вероятно, он захочет, чтобы я тоже приняла Христову веру.
– Это будет зависеть только от твоего желания, – ответил ей Сигурд-ярл. – Я полагаю, Хакону-конунгу будет приятно, если жена захочет разделить его веру, но если твоего желания на это не будет, хёвдинги и бонды не позволят ему тебя принуждать. Им скорее доставит радость, если королева сохранит приверженность старым богам, и таким образом род наших конунгов не утратит никого из небесных покровителей.
– Тогда я согласна. – Гуннхильд подавила вздох. – После свадьбы я передам Кольцо Фрейи Ингер, дочери Горма, жене моего брата, и с ним права Госпожи Кольца.
Она вынула из мешочка сокровище Инглингов, и золотой браслет со сквозным узором в виде листьев, с красными самоцветами в чашечках цветов заиграл при свете огня. Со всех сторон раздались изумленные и восхищенные возгласы. Гуннхильд снова вздохнула и прижала Кольцо Фрейи к груди. Жаль было расставаться с этой вещью, последней памятью о королеве Асфрид. Казалось, вместе с Кольцом Фрейи от нее уйдет и светлый дух богини, что так часто выручал в беде. Но нельзя увозить его из Дании насовсем, ведь в нем заключено благополучие вика Хейдабьор.
Олав подошел к ней и высоко поднял ее правую руку с браслетом, чтобы все могли видеть; торжествующие крики зазвучали сильнее. Гуннхильд стояла у очага посреди палаты, между столбов, на которых были вырезаны подвиги Тора; гости Атли Сухопарого приветствовали ее как будущую королеву Норвегии. Олав пригласил Сигурда-ярла подойти и торжественно передал ему руку Гуннхильд – левую – в знак согласия на ее брак с Хаконом Добрым.
– А ведь это забавно – две королевы Норвегии подряд будут носить одно и то же имя! – воскликнул Олав. – Правда, Сигурд-ярл?
– Определенно, в этом можно увидеть волю судьбы! – значительно кивнул тот, пощипывая свою рыжеватую бородку.
Гуннхильд отвела глаза. Лучше бы отец не напоминал ей о предыдущей королеве Норвегии, Гуннхильд, дочери Горма… и вообще о Горме. Потому что при любом упоминании о Кнютлингах на ум ей приходил Харальд, и тогда болезненная тоска вновь пронзала сердце. Так может вспоминать яркое солнце тот, кто обречен прожить всю жизнь во мраке. Но, как говорил мудрый Горм, что о том тужить, чего нельзя воротить?
Теперь оставалось дождаться Харальда. Обеим сторонам было желательно справить свадьбу здесь, в Бьёрко, где свидетелем ее будет сам Бьёрн Шведский, и тогда никто уже не сможет утверждать, что дочь Горма осталась в наложницах Рагнвальда, сына Сигтрюгга.
Радостный Олав пригласил даже больше людей, чем мог вместить дом Атли Сухопарого при всей его обширности, и беспрестанно предлагал все новые развлечения: воинские состязания, лодочные состязания, бой коней, состязания скальдов. По торгам, пристаням, улицам Бьёрко каждый день ходили зазывалы, оповещая всех имеющих уши о предстоящем радостном событии. Девушки разбирали вещи, приводя в порядок все приданое, залежавшееся в сундуках. Сразу после свадьбы брата Гуннхильд предстояло отбыть к собственному жениху. Обе почти не говорили о предстоящем, и всякий, кто увидел бы этих двух невест, знатных и красивых, каждой из которых предстояло стать королевой, подумал бы, что они мало радуются своей участи. Но причина заключалась в другом: обе понимали, что кровные распри между конунгами не заканчиваются так легко.
– Но неужели Харальд… просто приедет, выпьет на свадьбе и уедет? – однажды спросила Гуннхильд, не выдержав наплыва тревожных мыслей. – Примет выкуп за Кнута… и уедет?
– Если он так сделает, значит, это вовсе не мой брат Харальд! – в сердцах ответила Ингер. Она не желала обманывать ни себя, ни будущую золовку. – Никогда еще так не бывало, чтобы люди моего рода хранили своих сыновей и братьев в кошельке!
– Я знаю, – тихо ответила Гуннхильд.
Обе они помнили предания о вражде, которая разделяла четыре поколения их семей. И о том, сколько мужчин полегло в этой борьбе и было отомщено.
– Это очень кстати, что тебя выдают за Хакона, – добавила Ингер. – Мой отец не захочет воевать с Олавом и Хаконом сразу. Разве что в союзе с Отта-кейсаром, но на это все нужно время.
– А что потом?
– Откуда я знаю? Я не пророчица!
Гуннхильд помолчала.
– А ты не думаешь… – начала она, отчаянно не желая произносить эти слова, но зная, что это необходимо. Лучше высказать самое страшное предположение заранее, чем молча ждать, пока оно осуществится. – Ты не думаешь, что твой отец… Им нужно, чтобы ваш брак с Рагнвальдом был заключен по закону, ради чести рода. Поэтому пока свадьба не состоялась, моим родичам ничего не грозит. И Харальд приедет, и будет сидеть на свадьбе, и подтвердит хоть при самом Одине, что отдает от имени отца свою сестру в жены Рагнвальду при таких-то условиях… А когда все закончится, ему уже ничто не помешает искать мести! Ведь если он убьет Рагнвальда до свадьбы, ты останешься наложницей викинга, как они говорили, и это опозорит род. А если Рагнвальд умрет после свадьбы, то ты останешься законной вдовой молодого конунга… ну, наследника конунга. А это совсем другое дело, и потом ты сможешь выйти хоть за… за того же Хакона.
– У Хакона уже будет жена! – Ингер криво усмехнулась. – Ты тоже об этом думала…
– Ты согласна, что так может быть?
– Да! Если я хоть немного знаю моего отца и брата Харальда, именно так они и думают! И так они и сделают!
– Но как же быть! – Гуннхильд вскочила с сундука, на котором сидела, и заломила руки.
– Я могу придумать только одно. – Ингер продолжала сидеть, глядя перед собой. – Свадьбы не будет. Скажем… придумаем что-нибудь. Что тебе приснился вещий сон.
– Почему мне?
– Потому что тебя посещает Фрейя. Что этим летом нельзя справлять свадьбу, боги не желают. Твой отец послушается воли богов. Мы все уедем в Хейдабьор. За зиму можно успеть договориться с Отта-кейсаром. Ну, принять христианство, если так уж надо, пообещать платить ему эту несчастную церковную подать… Да и не так уж плохо быть христианским королем, даже Харальд это понял.
– Это выход. Но как же ты? Без свадьбы ты останешься наложницей, и если у тебя родятся дети, их будут звать детьми рабыни!
– Имея за спиной таких союзников, как Хакон и Отта, можно добиться настоящего примирения. Все-таки Рагнвальд хорошо сделал, что убил того гада. А я… лучше я буду считаться наложницей живого Рагнвальда, чем вдовой мертвого. Я не хочу, чтобы он умер ради моей чести!
– Ничего не выйдет, – раздался от дверей мужской голос.
Обе девушки обернулись: увлеченные разговором, они не заметили, как в женский покой вошел Рагнвальд и встал у порога.
– Ничего не выйдет, моя дорогая, – повторил он, прошел внутрь и обнял Ингер, вставшую ему навстречу. Гуннхильд еще раз отметила про себя, как хорошо они подходят друг другу: почти одного роста, оба светловолосые, красивые, они, казалось, были созданы богами из одного и того же куска дерева. – Ты уже однажды спасла мне жизнь. Этого достаточно, позволь теперь и мне себя показать. Я не собираюсь выкупать свою жизнь ценой твоей чести. Мы справим свадьбу, и я буду сам защищать и свою жизнь, и свою жену. Но мне приятно, что ради меня ты готова на жертву!
С этими словами он нежно поцеловал ее в кончик носа, и сердце Гуннхильд пронзила острая зависть. Как бы ей хотелось, чтобы тот, кого она любила, вот так же обнял ее и так же открыто мог выражать ей свою любовь, нежность и преданность.
– Но я не позволю вам, девушки, так низко оценивать мою доблесть и удачливость! – Рагнвальд с усмешкой повернулся к сестре. – Почему ни одна из вас не предположила, что это я убью Харальда? Я не такой уж никчемный воин, в прошлый раз мне просто не повезло.
Гуннхильд грустно покачала головой:
– У тебя ничего не выйдет. Я точно знаю одну очень нехорошую вещь. Не говорите никому. Харальда убьет его собственный сын. А ты ведь ему не сын?
– Надо у матушки спросить, – по привычке пошутил изумленный ее словами Рагнвальд. – Откуда ты это взяла?
– Ингер знает откуда. Меня посещает Фрейя…
* * *
Время тянулось рывками. Гуннхильд томилась, всем существом желая скорее увидеть Харальда, и поэтому каждый день напрасного ожидания тянулся долго-долго; но когда она вспоминала, что может последовать за его появлением… Сердце обрывалось от ужаса, и казалось, что время летит стрелой и все это случится уже вот-вот! Ей слышался лязг клинков, глухой стук меча о щит, яростные возгласы и крики боли; перед глазами мелькали видения дерущихся мужчин, она видела лицо Харальда, напряженное, раскрасневшееся, свирепое, искаженное гневом и полное жажды убийства. С Ингер они больше не говорили об этом, но, судя по тому, какой беспокойной и неприветливой была невеста в дни перед свадьбой, ей мерещилось все то же. За кого из противников они боялись больше? Ингер хотя бы уже сделала свой выбор, а для Гуннхильд любой исход был непоправимой бедой. Она уже потеряла Кнута. Еще одна потеря – Харальда, Рагнвальда, отца – грозила разрушить весь ее мир.
При каждом звуке открываемой двери, шагов, голосов Гуннхильд вздрагивала и оглядывалась, боясь и надеясь, что долгожданный гость прибыл. Но первыми Харальда увидели Олав и Рагнвальд. За ними прислали от Бьёрна-конунга: оказалось, что Харальд уже приехал, но не на Бьёрко, а на Адельсё.
– Этот старый тролль принял его у себя в доме как гостя – моего врага! – возмущался Олав по возвращении. – Меня, своего родича, он не принял, а моего врага принял! Да кто он Бьёрну, этот Харальд!
– Он ему сын одного из самых могущественных конунгов Дании, – с улыбкой отвечал Рагнвальд. – Бьёрн не хочет, чтобы мы поубивали друг друга и заодно сожгли его вик. Он же сам сказал и поэтому взял с нас всех клятву, что мы не будем разбирать свои обиды на его земле.
– Наш конунг очень мудр! – усмехнулся Торгест Стервятник. – И учится на ошибках.
Как рассказал девушкам Рагнвальд, Бьёрн-конунг вообще не хотел допускать Харальда в свою страну, пока здесь остается Олав, ибо помнил, чем кончилась такая же встреча с его братом Кнутом. Но Харальд на это ответил, что в случае с Кнутом в раздоре виновен не он, а люди Олава, и вот этого последнего Бьёрну не стоило допускать в страну, если он не желает раздора.
Только на свадьбе Рагнвальда Гуннхильд наконец увидела Харальда – ради этой свадьбы он и приехал, и только в этот день единственный раз ступил на серый камень острова Бьёрко. Он явился последним, когда все прочие гости уже собрались и сидели за столами, и привел с собой десять хирдманов без оружия – в этом был и намек на приезд Кнута, укоряющий Олава, и вызов, и выражение собственного бесстрашия. Только у самого Харальда имелся меч у пояса, ибо явиться на люди без меча ему, представителю рода конунгов, было почти так же неприлично, как без штанов.
Принимая в гостях трех человек королевской крови, Атли Сухопарый устроил на своем помосте для них особый стол: в середине сидел жених, рядом с ним Олав, как ближайший родич, а для Харальда было оставлено место по другую руку от Рагнвальда.
Ингер сидела в середине женского стола, Гуннхильд рядом с ней. Обе нарядные, в тонких льняных сорочках со множеством пышных складок, в цветных платьях, с золотыми украшениями, с волосами, уложенными на затылке в пышные красивые узлы, они были прекрасны, как богини, и гости то и дело бросали на них восхищенные взгляды. Варинги Бьёрна-конунга знали толк в красавицах! Вот только обе были бледны и молчаливы, да и Рагнвальд, в красной рубахе с шелковой отделкой и тщательно причесанный, мог выдавить лишь весьма напряженную улыбку.
Гуннхильд не сводила глаз с дверей. Когда Харальд появился, когда она увидела издали его светловолосую голову, возвышающуюся над всеми, кто пришел с ним и его встречал, ей стало жарко, ее пронзила дрожь, в ушах зашумело. При входе в дом знатного гостя встретили госпожа Дейрдра и сам Атли. Харальд принял рог, отпил, что-то сказал в ответ на приветствие, потом Атли проводил его в палату. Гуннхильд не сводила с него глаз, но он прошел мимо, даже не глянув на женский стол, и остановился перед очагом, ближайшим к почетному столу. К счастью, это было довольно близко, Гуннхильд могла хорошо видеть и слышать его.
– Прежде чем мы сядем за стол и выпьем свадебное пиво, мы должны сделать еще кое-что! – сказал Харальд, уперев руки в бока и глядя на Олава. Тот невольно встал. – Мой брат Кнут был предательски убит в этом доме твоим человеком. Я знаю, что Рагнвальд, сын Сигтрюгга, убил негодяя, отомстив тем самым за брата своей будущей жены. Я признаю, что у него есть такое право. Никто из моего рода никогда не хранил братьев в кошельке, и я не принял бы виру за смерть моего брата не чем иным, кроме крови убийцы. Но сейчас я требую виры не за смерть моего брата, которая отомщена, но за обиду, что это убийство совершено человеком из твоей дружины, Олав, сын Кнута. Пока эта обида не выкуплена, никакие договоры, в том числе брачные, между нами невозможны.
– Это требование справедливо, – согласился Олав, заранее предупрежденный людьми Бьёрна, что Харальд его выдвинет. – Я признаю… что обида твоему роду пришла из рядов моей дружины, – ему было тяжело выговорить эти слова, но он сделал над собой усилие, – и должна быть выкуплена. Прошу, прими от меня это обручье в качестве виры.
Он вышел из-за стола и приблизился к очагу с другой стороны. Теперь его и Харальда разделяло яркое пламя. Оба отступили на шаг назад и вынули мечи из ножен. Гуннхильд невольно стиснула руку Ингер; пальцы невесты были холодны как лед. Обе они столько раз видели это самое в своем воображении – их родичи-мужчины напротив друг друга, кровавые отблески пламени на обнаженных клинках, – что сейчас перестали дышать. Сердце замерло в жутком ожидании: а вдруг они сейчас бросятся друг на друга?
Олав снял с запястья правой руки широкий золотой браслет, надел его на конец клинка и над огнем протянул клинок Харальду. Харальд в свою очередь поднял руку с мечом, концом клинка снял браслет с меча Олава и только после этого взял его в левую руку и надел на свое правое запястье. Никак иначе эта вира не могла быть получена: передав ее обычным образом, из рук в руки, они признали бы, что их связывают отношения кровной мести, и тогда договор между ними и свадьба родичей стали бы невозможны. Но клинки мечей и пламя разорвали эту связь, позволяя тем не менее выплатить виру. Теперь на пути к примирению не было внешних препятствий, и Харальд наконец обернулся к женскому столу.
Гуннхильд снова содрогнулась, пытаясь поймать его взгляд, но он посмотрел только на свою сестру и кивнул. Не улыбнулся, никак не выразил радость от того, что видит ее.
Ингер встала и вышла к очагу. Рагнвальд тоже подошел – нарядно одетый, он выглядел непривычно серьезным и едва мог улыбнуться.
– Я, Харальд сын Горма, сына Хёрдакнута, конунга Дании, – начал Харальд, взяв девушку за руку, – при свидетельстве всех этих свободных и достойных людей отдаю мою сестру, Ингер, дочь Горма, в жены этому мужчине, Рагнвальду, сыну Сигтрюгга, сына Кнута, конунга Южной Ютландии. От своего отца и матери она получает приданое, состоящее в хороших мехах, крашеных одеждах, серебряных кубках, медных блюдах и прочей утвари. В случае развода это имущество возвращается к ней, как и свадебные подарки от мужа. В случае ее смерти бездетной это имущество возвращается в наш род. В случае ее смерти после рождения детей это имущество переходит к ее детям.
– Я, Рагнвальд, сын Сигтрюгга, сына Кнута, беру в жены эту женщину, Ингер, дочь Горма, – ответил жених. – И плачу за нее выкуп: вот этот меч.
Из-за спины его вышел хирдман и вынес на вытянутых руках меч в ножнах. На поверхность навершия и перекрестья были набиты тонкие полоски красной меди, латуни и серебра, что создавало строгий трехцветный узор. Переливаясь при свете огня, они придавали оружию вид сверкающей драгоценности.
Харальд взял меч и извлек из ножен: на клинке возле рукояти имелось клеймо, указывающее на лучшую мастерскую Рейнланда.
– Этот меч зовется Синий Зуб, – сказал Рагнвальд. – Ему уже очень много лет, еще дед мой Кнут добыл его в Стране Франков. Это самое лучшее сокровище из тех, которыми мы владеем, и я отдаю его на выкуп за то, что отныне будет дороже всего в моем доме – моей жены Ингер, дочери Горма.
Ингер слегка улыбнулась, польщенная: чем выше стоимость выкупа, тем больше чести невесте и ее роду, а Рагнвальд прямо заявил, что отдает за нее самое дорогое из родовых сокровищ.
Лицо Харальда несколько смягчилось: он оценил и качество меча, и желание Рагнвальда оказать честь Кнютлингам.
– Я принимаю выкуп.
Сам Атли поднес рог пива сперва Харальду, потом Рагнвальду, и они отпили понемногу. Потом госпожа Дейрдра поднесла на длинном полотенце серебряную чашу и подала ее сперва Рагнвальду, потом Ингер.
– Слава жениху и невесте! – с несколько натянутой бодростью, зато громко, первым закричал Олав, и гости дружно подхватили.
Под гром приветственных криков Рагнвальда и Ингер отвели к столу и усадили. Рог подали Олаву, он выпил, пожелал новобрачным счастья, заговорил было о старых раздорах и своих надеждах на их преодоление, но Рагнвальд сильно толкнул его ногой под столом, и Олав, о чудо, послушно завершил речь и передал рог Харальду. Рог пошел по столам, каждый из знатных гостей отпивал немного и произносил пожелания, несли блюда, пир пошел своим чередом. Ингер и Гуннхильд снова встали и вышли с Дейрдрой, чтобы подать «сыр невесты»: нарочно для пира изготовленную голову, такую огромную, что Дейрдра и Гуннхильд держали ее на деревянном подносе вдвоем, а Ингер, обходя столы, отрезала по кусочку и вручала каждому из гостей, получая взамен подарок. А поскольку место за свадебными столами нашлось только для знатных и богатых гостей, то подарки собирали идущие следом служанки и складывали к очагу, где все могли видеть, как блестят в свете огня серебро, бронза, пушистые меха и цветной шелк.
Начали девушки, конечно, с почетного стола. И вот тут Харальд наконец взглянул на Гуннхильд, даже кивнул ей. Ее руки, держащие поднос, задрожали; в душе вспыхнула радость, но и тоска: он подчеркнуто не уделяет ей внимания, будто обижен за что-то или все еще считает ее членом враждебного рода. Ведь они помирились, он принял выкуп за невесту и виру, и мог бы хотя бы на свадьбе быть повеселее!
– Я слышал, молодая госпожа собирается замуж? – пристально глядя на нее, спросил Харальд.
– Да. Надеюсь, в этот раз мне больше повезет, – ответила Гуннхильд, задетая враждебностью его голоса и холодом в глазах.
– Не надейся.
Гуннхильд не была уверена, что правильно расслышала его слова: кругом стоял шум, а они уже должны были идти дальше со своим подносом. Неужели он так сказал? Что это значит?
Вопреки тревожному началу, свадебный пир шел весело: ведь большинство присутствующих составляли знатные жители Бьёрко, а им было не о чем печалиться. Олав уже успел сложить вису в честь подаренного меча и теперь услаждал слух собравшихся, звучным голосом перекрывая шум пира:
Словом скальд восславит Клык луны ладейной, В пляске крепких лезвий Блещет рыба крови. Дар от Фрейра брани Тору грома стали, Выкуп Сунны сыра – Синий зуб кольчуги.Затевались разные забавы, игры, устроили состязание между женатыми мужчинам и молодыми парнями: мужчины старались вырвать Рагнвальда из толпы парней в знак того, что теперь он принадлежит к женатым, а те не отпускали. Вышла настоящая драка, и в итоге Рагнвальд, с совершенно растрепанными волосами и в надорванной рубахе, истошно вопя, чуть не влетел в огонь очага. То же самое полагалось проделать с невестой, но из девушек на пиру была только Гуннхильд, поэтому они с Дейрдрой разыграли довольно вялую потасовку, несмотря на подбадривающие крики мужчин. Обе больше оберегали свои праздничные наряды, и Дейрдра довольно быстро отвоевала и перетянула на свою сторону Ингер, которая не слишком старательно пряталась за спиной Гуннхильд.
Ближе к полуночи десяток знатных свидетелей, вооруженных факелами и обнаженными мечами, повели молодых к постели, впервые устроенной для них в спальном чулане. Свидетели оглашали дом пьяными криками, призванными напугать и разогнать злых духов. Гуннхильд, в изнеможении прислонившись к стене, была вынуждена признать, что своей цели они добились. Несомненно, все злые духи, что водятся на острове Бьёрко и соседних ему, утопятся в море со страху.
А затем и она пошла спать. Харальд больше ни разу не взглянул на нее, и на душе у нее было так тяжело, что хотелось остаться одной.
Вот такой же должна была быть ее свадьба с Кнутом, думала она, лежа в темноте пустого женского покоя – все служанки еще оставались на пиру, – и невольно пытаясь различить в шуме голос Харальда. И примерно такой же будет ее свадьба с Хаконом-конунгом. Но, не в силах заснуть, Гуннхильд долго еще сдерживала слезы, отгоняя образы той свадьбы, которую хотела бы увидеть: где она стояла бы возле очага напротив Харальда, и отец ему передал бы ее руку, и им Ингер, уже в покрывале замужней женщины, поднесла бы чашу со свадебным пивом… Гуннхильд так остро ощущала то счастье, которое могла бы при этом испытывать, и боль от мысли, что этого никогда не будет, и ей хотелось сейчас же умереть, чтобы не чувствовать больше ничего. И Харальд смотрел бы на нее с доброй мягкой улыбкой, нежно и бережно держал бы за руку в знак того, что отныне она навсегда принадлежит ему и находится под его защитой…
Еще раз она увидела Харальда наутро – точнее, ближе к полудню, когда если не все, то половина гостей проснулась и вновь уселась, с помятыми лицами и опухшими глазами, за столы в гриде, чтобы присутствовать при выносе невестиной каши. Эту кашу из пшеницы со сливками молодая жена варит наутро после свадьбы и впервые выходит с ней к гостям в белом покрывале замужней женщины. Причем люди Харальда еще ухитрились украсть котел с кашей из кухни и потребовали выкуп со всех женщин, включая новобрачную – по поцелую. Похмельные гости жаждали сейчас явно не каши, но тем не менее честно съедали каждый по ложке и восхищались искусством молодой жены. Тем более что вслед за кашей каждому подавали то, чего действительно хотелось – свежего пива. Светлые кудряшки Ингер были больше не видны под длинным белым покрывалом из шелка, но так она выглядела еще более величественно – настоящая валькирия, угощающая эйнхериев.
Пиры в Торсхейме продолжались еще несколько дней, но Харальд больше не приезжал, оставаясь на Адельсё у Бьёрна-конунга. Потом прошел слух, что он уехал. Пришла пора и гостям радушного Атли собираться восвояси: Олаву не терпелось вернуться в Слиасторп и вновь вступить во владение наследственными землями. А Сигурд-ярл, отклонив приглашение погостить в Южной Ютландии, спешил домой в Норвегию, чтобы наконец привезти своему конунгу долгожданную невесту. Гуннхильд предстояло отправиться с ним прямо отсюда, благо все ее приданое находилось при ней.
Миновала уже середина лета, и хотя еще стояли долгие теплые дни, терять время перед дальней дорогой не стоило. По словам Сигурда, Хакон-конунг это лето проводил в Вике, на восточном побережье Норвегии, чтобы поскорее встретить будущую жену, но и туда добираться было довольно долго. Будучи стеснен в людях и средствах, Олав-конунг не мог послать с дочерью корабль и дружину, и ей предстояло ехать к будущему мужу на корабле Сигурда-ярла, в сопровождении тех же двух служанок, что приехали с ней зимой из Слиасторпа: Унн и Богуты.
Перед ее отъездом Олав и Рагнвальд вновь устроили пир. Перед всеми свидетелями Гуннхильд передала Ингер Кольцо Фрейи – теперь дочь Горма стала Госпожой Кольца! Гуннхильд без возражений подала руку Сигурду – он замещал жениха в обряде обручения, даже улыбалась одними губами. В душе у нее было пусто, и впереди лежала пустота. Харальд уехал, не попрощавшись, не показавшись даже на Бьёрко. А она отправляется в Норвегию, где займет место его старшей сестры, королевы-изгнанницы, что тоже не прибавит ей любви Кнютлингов. Она никогда больше не увидит Харальда, сына Горма… Того, в ком к ней пришел сам Тор, того, кто превосходил в ее глазах всех на свете мужчин – силой, отвагой, решимостью. Умный, сведущий в разных делах, честолюбивый, всегда бодрый и веселый, он сиял в ее душе, как солнце.
Когда у нее родится сын, она назовет его Харальдом – вот единственное, чем Гуннхильд сейчас утешала себя. Это имя носили многие конунги севера, даже отец ее будущего мужа, и никто не удивится такому выбору. Собственно говоря, Хакон и не позволит никакого другого. Сейчас ей казалось, что всю жизнь, произнося имя своего сына, она будет испытывать отраду при воспоминании о том, кому не суждено было стать отцом ее детей…
* * *
Перенесли и поставили под палубное покрытие последний сундук. Олав, Рагнвальд и Ингер по очереди обняли Гуннхильд возле сходней. Она плакала, и Ингер плакала, Рагнвальд пытался шутить и подбадривать их, обещал приезжать к Хакону в гости на все праздники. Олав бодрился, но выглядел удрученным. Возможно, они видятся в земной жизни в последний раз! В душе Гуннхильд вновь ожила боль от потери Кнута: что бы ни говорили о Хаконе-конунге, сколько бы его ни восхваляли, он может оказаться далеко не таким добрым и приятным человеком, каким был ее прежний жених. Да и выйди Гуннхильд за Кнута, от родных берегов фьорда Сле ее отделяли бы лишь несколько дней пути при хорошей погоде; теперь же она уезжала в Норвегию, в далекую страну, где не знала ни одного человека.
Даже тот жених, к которому она ехала, еще не знал, кого именно ему предстоит встретить и ввести в свой дом. Гуннхильд как-то спросила у Сигурда, уверен ли он, что Хакон-конунг ей обрадуется – ведь он посылал своего ярла совсем за другой невестой! Однако Сигурд заверил ее, что сомнения напрасны.
– Через брак Ингер Горм породнился с Олавом. Можно сказать, что вы с Ингер теперь принадлежите к одному и тому же роду. А что до прочего, то я не вижу, чтобы одна из вас хоть в чем-то уступала другой. Уверяю тебя, Хакон-конунг будет очень рад такой невесте.
Вот отошел назад и отдалился оживленный берег Бьёрко, а потом остался позади и Адельсё, где проживал старый и сердитый Бьёрн-конунг, владыка этих мест. Потянулись вдоль бортов берега внутренних островов, серо-бурый камень, расцвеченный веселыми пятнами зелени всех оттенков, какие способны дать листва, хвоя, трава, мхи и лишайники. На возвышенностях выглаженных ледником скал виднелись рыбацкие домики, бегали дети, женщины чистили рыбу возле воды, меж камней паслись козы, собаки лаяли на проплывающие суда, сновали туда-сюда лодки, поднимался в голубое небо столб серого дыма откуда-то из-за леса, – но Гуннхильд вся эта оживленная, зелено-голубая страна на воде казалась пустыней. Она смотрела вперед, туда, куда в переплетение островных проток несколько дней назад ушел «Железный Ворон» Харальда, и жаждала скорее выйти в море. Нет, конечно, Харальда она больше не увидит – он уже за проливом. Но море хотя бы отделит ее от всего, что остается позади, и обратит взоры в будущее. В конце концов, может быть, она еще полюбит Хакона-конунга и будет счастлива вопреки всему! Рано считать, что жизнь кончена. Ей всего восемнадцать лет, она здорова и легко может прожить еще столько же!
Осталась позади внутренняя застава Бьёрна-конунга, где они поменяли кормчего, потом и вторая, последняя. За ней начинались внешние острова, и здесь кормчий сошел, чтобы потом отправиться обратно с кораблями, идущими со стороны моря. Впереди оставалось еще несколько больших островов, поросших лесом, но необитаемых, а за ними – лишь низкие и голые прибежища птиц и тюленей, предваряющие просторы Эгировых владений.
Гуннхильд огляделась, отыскивая взглядом Сигурда. Если он не занят, можно попросить его рассказать еще что-нибудь о Хаконе – ей полезно побольше знать о будущем муже. А заодно такой разговор отвлечет ее от мыслей о том, кто ее мужем никак не может стать.
Они шли по протоке, напоминавшей реку в изгибах берега – почти со всех сторон виднелась земля, то есть скалы с пятнами зелени. Вдруг внимание ее привлекло какое-то движение за мысом оставшегося позади острова. Одновременно кто-то вскрикнул, указывая туда же.
Из-за острова вышел боевой корабль. Но не успели люди Сигурда оглянуться, как из-за соседнего островка, через протоку от первого, показался еще один такой же.
Лицо Сигурда стало суровым, и в это время спереди раздались тревожные крики. Из-за узкого длинного мыса, прикрывавшего небольшой залив, вышел третий корабль, самый большой из всех: со спущенной мачтой, благодаря чему его раньше нельзя было заметить, он на веслах шел навстречу Сигурду. На носу его бросался в глаза красный щит – знак войны.
Это была засада – два корабля позади отрезали обратный путь, не позволяя искать помощи на Бьёрновой заставе или попытаться уйти, затерявшись в протоках. Оставалось единственное решение – попытаться проскочить вперед. До открытого морского пространства оставалось не так далеко, а ветер дул в сторону моря, помогая норвежскому «Волку» и мешая его противнику. Сигурд-ярл крикнул, отдавая приказ своим людям. Но и противники налегли на весла, пытаясь отрезать путь в открытое море.
Гуннхильд дрожала, глядя на длинный, скамей на двадцать пять по борту, корабль, летящий им наперерез. Она узнала его – он звался «Железный Ворон», и она не раз видела его у причала усадьбы Эбергорд. Как узнала и человека, стоящего на носу с копьем в руке. Шлем с полумаской не мешал ей – слишком хорошо она знала эту рослую фигуру, серую кожаную рубаху под кольчугой. В душе поднялась целая буря чувств: изумление, тревога – и, несмотря на все, сумасшедшая радость! Внезапная встреча с тем, кто несколько дней назад якобы ушел в море, ничего хорошего никому не обещала, и все же Гуннхильд не могла подавить безумного ликования. Харальд здесь, а не за проливом!
Но долго любоваться ей не дали: спешно подошел Сигурд, уже в шлеме, и взял за локоть.
– Госпожа, тебе надо спрятаться. Сейчас будет битва.
Гуннхильд вздрогнула, сообразив, что вот-вот произойдет. Здесь, на корабле, начнется сражение.
– Иди сюда! – Сигурд подтащил ее к люку, который уже откинули его люди, и кивнул туда: – Скорее полезай. Так будет больше надежды, что ты уцелеешь.
Корабль имел дощатый настил, отгораживающий подпалубное пространство, в котором лежали камни, нужные для остойчивости. Свободного места там оставалось так мало, что можно было только лежать. Несмотря на явное неудобство этого ложа, жесткость и грязь, Гуннхильд торопливо подобрала подолы и юркнула туда, проползла по грязным, неровно уложенным камням как могла дальше, держа собственную косу в зубах, чтобы не цеплялась. Мельком порадовалась, что надела в дорогу самую простую некрашеную одежду, которую не жаль испачкать.
Вслед за ней заползли шепотом причитающие Унн и Богута, и люк за ними захлопнулся. Стало почти темно, лишь в щели сверху проникало немного света. Волны бились о доски борта совсем рядом, было холодно и душно, тем не менее все три девушки могли только радоваться, что у них есть «крыша», которая защищает от того, что сейчас начнется наверху…
– Суши весла! – расслышала Гуннхильд крик у себя над головой.
А потом… Корабль содрогнулся от страшного удара – это он столкнулся с «Железным Вороном», который все же успел отрезать ему путь в море, приняв борт «в скулу», как говорят. Затрещали доски обшивки и ломающиеся весла, одновременно послышались крики боли – тем, кто не успел убрать весла, их рукоятями при столкновении переломали кости. Корабль закачался на поднятой волне, женщины невольно кричали, жмурясь – их болтало по камням, и даже было не за что ухватиться.
– Руби канат! – донесся еще один крик, едва пробившись сквозь плеск воды, вопли раненых и треск дерева.
Это с «Железного Ворона» бросили «кошки» – одна из них впилась в борт так близко от укрытия женщин, что они расслышали треск, когда железные когти вонзились в дерево, и ощутили толчок. Тут же по борту ударил топор, отсекая канат, но это мало помогло. Борт «Железного Ворона» был выше, и к тому же на нем было раза в полтора больше людей, чем обычно – готовясь к нападению, Харальд усилил его дружину за счет тех двух кораблей, что служили загонщиками.
Сигурд-ярл в это время стоял возле мачты: там его и выбрал целью Харальд, собираясь, по обычаю, начать битву броском копья во вражеского вождя. Сигурд, уже снаряженный для боя, с мечом и щитом, уклонился от броска, но копье прибило к мачте край его плаща. Норвежец замешкался, освобождаясь от плаща, а Харальд одним из первых перепрыгнул вниз, на «Волка», тоже с щитом и мечом – тем самым Синим Зубом, что был ему дан как выкуп за Ингер. Это был и впрямь очень хороший меч, и Харальд мог это оценить.
За ним лавиной бросились его люди. Закипела схватка, и каким же тесным казался в это время большой боевой корабль!
Гуннхильд в своем укрытии съежилась, закрывая голову руками и стараясь поменьше биться о камни, но корабль болтало, никто им не управлял. Шум сражения над головой оглушал – треск щитов, крики боли, лязг и скрежет железа, яростные вопли. Жутко было подумать, что сталось бы, останься она наверху – ее затоптали бы, не заметив.
Она не знала, как долго это продолжалось: то казалось, что очень долго, а то – что считаные мгновения, но сколько ужаса они принесли! Шум немного сместился, а потом раздался звук, от которого Унн и Богута завизжали и попытались уползти еще дальше, прижались к Гуннхильд. Над ними подняли люк, в проем хлынул свет.
– Конунг, женщины здесь! – закричал кто-то.
После этого сперва ничего не происходило, и они даже не сразу разобрали, что шум битвы почти стих. Потом еще чья-то голова свесилась над люком и позвала:
– Выходите!
Унн и Богута и не подумали послушаться. Тогда кто-то из данов спустился и потянул за ногу Унн, лежавшую ближе к краю. Визжащая служанка была вытащена на свет, за ней Богута. Гуннхильд двинулась к люку сама и сердито отмахнулась от чьей-то протянутой грязной руки – она не позволит, чтобы ее тянули, как крысу из норы!
Тем не менее, выбравшись на свет и жмурясь, она сейчас мало напоминала дочь одного конунга и невесту другого – в испачканной одежде, с пятнами грязи даже на щеках и на лбу, со спутанными волосами, сбившимся на сторону плащом, со ссадинами на руках от камней.
– Вот она, конунг, – сказал кто-то.
Гуннхильд с усилием открыла глаза, вновь привыкая к свету.
Но лучше бы ей было по сторонам не смотреть. Недавно столь прекрасный корабль напоминал воина, павшего в битве. Над его правым бортом возвышался «Железный Ворон», прикованный кошками; с этой стороны нелепо торчали обломки весел, скамьи у обоих бортов были сбиты с мест, тут и там лежали тела – иные шевелились и стонали, иные нет. Кругом темнели пятна крови, валялись обломки щитов, прямо под ногами лежала секира на сломанном древке – хорошо, не чья-то голова.
Гуннхильд бросила взгляд в сторону кормы: там столпились уцелевшие люди Сигурда, уже обезоруженные. Но, по крайней мере, Харальд не стал «очищать корабль», то есть убивать и сбрасывать в море всю вражескую дружину целиком. Сигурд-ярл, к счастью, живой, лежал возле мачты, двое мужчин возились рядом, перевязывая ему раненое бедро и руку.
А прямо перед Гуннхильд стоял Харальд – еще в шлеме, под которым его лицо казалось особенно свирепым.
– Пойдем! – Он взял ее за руку и потянул в сторону своего корабля, прикованного к «Волку» кошками.
Однако Гуннхильд уперлась и высвободила руку.
– Что ты натворил? – с гневом, возмущением и болью закричала она. – Зачем ты здесь? Зачем тебе все это нужно? Почему ты напал на нас?
– Я не хочу, чтобы ты уехала в Норвегию и вышла за Хакона, – прямо ответил он. – Потому что не хочу, чтобы потом еще и Хакон мстил мне за твоих родичей.
– За моих родичей? – повторила Гуннхильд. – Что ты хочешь сказать? Ты ведь помирился с моими родичами! Ты не имеешь права!
– Вот мое право! – Харальд хлопнул себя по бедру, возле которого висел на перевязи меч Синий Зуб. – И другого еще ни один из моих предков не просил!
– Ты же принял виру! Ты больше не должен нам мстить!
– А я и не мщу. – Харальд усмехнулся. – Теперь пусть твои родичи приезжают, если хотят тебя получить обратно, и мстят мне! Пусть они попробуют тебя отбить, если так уж желают выдать тебя за Хакона. И посмотрим, все ли они уйдут восвояси живыми!
– Но ты сам согласился на этот брак, теперь они родичи и тебе!
– Я не желаю таких родичей!
– Твой отец хочет этого!
– Мой отец не хочет, чтобы его дочь называли рабыней твоего брата. И этого не будет, потому что я принял выкуп и теперь она его законная жена, выкупленная даром и словом! И если теперь она овдовеет, это не опозорит ни ее, ни нас! Она даже успеет уехать вместе с Сигурдом и выйти за Хакона!
– Не получится! – запальчиво возразила Гуннхильд. – Теперь его невеста – я!
– Если я убью Рагнвальда – за Хакона выйдет Ингер. А если Рагнвальд убьет меня – мне будет все равно, выходи хоть за тролля морского!
– А сейчас тебе не все равно? Почему ты мешаешь мне жить? – со слезами на глазах закричала Гуннхильд. – Ненавижу тебя! Это низко и недостойно, ведь ты согласился на примирение!
Ей хотелось наброситься на него с кулаками. И то, что этот человек казался ей привлекательнее всех прочих мужчин, только делало ее положение еще более унизительным.
– Ты думаешь, смерть того слизняка утешит нас? – с негодованием крикнул Харальд. – В нашем роду стало на одного мужчину меньше, и это из-за вас! Я не успокоюсь, пока и у вас не станет на одного мужчину меньше! Теперь я буду ждать их здесь, и пусть боги нас рассудят! Вырубайте «кошки», пошли отсюда! – крикнул он своим людям и без дальнейших разговоров потащил Гуннхильд на «Железный Ворон».
У борта он взял ее на руки и передал наверх кому-то из своих хирдманов. Слышался стук топоров – даны вырубали «кошки», чтобы отцепиться от норвежского «Волка». На «Вороне» Гуннхильд ушла к мачте и села, сжавшись в комок. Кое-как поправила одежду, посмотрела на свои грязные руки, серым от грязи рукавом потерла лицо, не слишком веря, что это поможет. Хороша невеста, из-за которой один конунг напал на людей другого! Почти как Замарашка, дочь Кетиля Заплатки.
Один за другим люди Харальда поднимались назад на «Ворона», помогали перебраться раненым, перенесли несколько своих убитых. На разоренном «Волке» остался Сигурд с изрядно поредевшей дружиной и мертвые тела. До Норвегии он теперь не дойдет.
Харальд, положив по привычке руки на пояс, остановился перед Сигурдом. Того уже перевязали, и он сидел, прислонившись к мачте, в наброшенном на плечи кафтане, под которым рубаха была вся испятнана кровью. Рука его лежала на перевязи, нога была вытянута.
– Я не хотел причинять тебе вреда, Сигурд, – сказал Харальд. – Но мне нужна эта женщина, и я знал, что по доброй воле ты мне ее не отдашь. Против тебя я ничего не имею. Возвращайся на Бьёрко и передай Олаву с племянником, что она у меня и что я жду их здесь, за последней заставой. Пусть приходят, если хотят получить назад свою девушку. Если им повезет, они даже сумеют отправить ее к Хакону. Но только после моей смерти.
– Ты пошел на большой риск, Харальд, сын Горма, – сдержанно и хмуро отозвался Сигурд. – Ты второй раз оскорбил Хакона-конунга. Вы нанесли ему оскорбление, когда признали вашу сестру законной женой того, кто ее похитил, уже после того как дали согласие на ее брак с Хаконом-конунгом. И теперь ты пытаешься отнять у него уже вторую невесту. Не кажется ли тебе, что ты много на себя берешь?
– Не могу сказать, что был лучшим другом Хакона-конунга, – кивнул Харальд. – Но все могло бы сложиться еще хуже. Моя сестра сбежала без ведома родичей, но если бы мы не признали ее брака с Рагнвальдом, она или осталась бы у него в рабынях, или вернулась бы опозоренной. А такая невеста Хакону-конунгу не подойдет. А если бы я позволил ему взять в жены эту девушку, – он кивнул на Гуннхильд, которая прислушивалась к их разговору, – то вскоре Хакону пришлось бы мстить мне за родичей жены. Я избавил его от этой необходимости, тем более что моя сестра Гунн и ее муж уже поссорили нас с Хаконом. Когда Хакон хорошенько подумает, он поймет: я причинил ему наименьшее зло, какого требовали обстоятельства. А теперь прошу тебя вернуться на Бьёрко и передать Инглингам то, что я сказал. У тебя осталось достаточно людей, чтобы управлять кораблем. Можете не спешить – я никуда не уйду отсюда, пока не увижу Инглингов.
Люди Харальда тем временем немного прибрались на «Волке», то есть просто выкинули за борт негодные весла и обломки щитов. Харальд перепрыгнул на «Ворона», последнюю «кошку» убрали, и два корабля разошлись. На «Волке» разобрали весла и потихоньку двинулись обратно в протоки, а «Ворон» подошел к ближайшему островку. Неровные серо-бурые скалы гладкими уступами поднимались от воды, и здесь было довольно удобно перебраться на берег. Чуть выше росли ели, на вершинах сгущаясь в целый лесок. Хирдманы один за другим прыгали на берег.
– Хочешь выйти на остров? – Харальд, уже без шлема, снова подошел к Гуннхильд.
– Хочу! – мрачно ответила она. – Очень даже хочу!
И с сердитым видом протянула руку, давая понять, что он должен ей помочь. После проделанной части пути и всех переживаний ей требовалось отойти в заросли.
Харальд подсадил ее на борт, потом спрыгнул на камень и поднял руки, чтобы ее принять. Гуннхильд соскользнула почти ему в объятия; смеясь, он прижал ее к груди и не спешил поставить наземь, но девушка вырвалась и торопливо стала взбираться к ельнику.
В глубине ельника Гуннхильд нашла в каменистом углублении воду – не то большую лужу, не то маленькое озерко. Глянув на свое отражение, она ойкнула и принялась торопливо распускать волосы, чтобы причесаться – гребень висел у нее на цепочке под нагрудной застежкой – и заново заплести косу. Потом она умылась, постаравшись оттереть грязь со щек и лба, и вытерлась подолом сорочки.
Теперь можно было вновь показаться на глаза людям. Вот только не очень хотелось.
Пока все было спокойно, и ждать быстрого развития событий не приходилось. Пройдет немало времени, пока Сигурд с остатками дружины доберется назад на Бьёрко, пока передаст огорчительные новости, пока Олав и Рагнвальд соберут людей и прибудут сюда… Пожалуй, и ночь пройдет, и решающая встреча состоится только наутро. Впрочем, сейчас, в середине лета, светло было почти круглые сутки: длинные сумерки едва успевали смениться ночной темнотой, как утренняя заря вновь нетерпеливо отдергивала небесный полог.
Со стороны корабля слышались голоса, стук топора, над вершинами прибрежных елей взлетели клубы дыма. Похоже, дружина тоже располагалась провести здесь ночь и готовила ужин. Вокруг в ельнике раздавались шаги, треск сучьев: хирдманы собирали сушняк для костра. Один прошел совсем рядом с Гуннхильд, вопросительно глянув на нее: дескать, чего это девушка сидит на стволе упавшей ели, такая угрюмая, будто троллиха? Гуннхильд ответила ему сумрачным взглядом: идти на берег к людям ей совсем не хотелось.
Рано она обрадовалась, что все закончилось. Харальд принял выкуп и виру за обиду, даже признал, что Рагнвальд отомстил за Кнута и другой мести не требуется – но вовсе на этом не успокоился. Кнютлинги потеряли мужчину, и он намерен так или иначе сравнять счет. И для этого сам нанес обиду Инглингам, вынудив их отбивать Гуннхильд. Завтра поутру ей придется наблюдать еще одно сражение на воде – на этих островках, на неровных лесистых скалах, дружины из нескольких десятков человек не найдут места для битвы. И здесь все не обойдется одним ранением, как с Сигурдом. Завтра кто-то из них умрет – или отец, или Рагнвальд, или Харальд. Уже не в первый раз Гуннхильд с ужасом ждала этого события, но теперь надежды разойтись миром нет совсем – встреча назначена. Если Харальд победит, Сигурду придется уехать без нее. Если победят ее родные, она еще может стать королевой Норвегии. Но что для нее будет значить тот или другой исход, если она потеряет отца? Или брата? Или… Харальда?
– Зачем, зачем! – в невыносимой тоске воскликнула Гуннхильд, глядя на воду сквозь вершинки ниже растущих елей, как в оконце.
Ведь она уже мысленно простилась с Харальдом! Уже почти свыклась с мыслью, что эта разлука навсегда, что в дальнейшем она сможет произнести имя «Харальд» только после того, как родится и будет наречен ее сын от Хакона-конунга. Она уже почти повернулась спиной к прошлому и устремила взгляд вперед. Но он опять явился, как тролль из-под земли, разбил ее надежды на иное счастье, ее будущее! Вновь вернулась тоска неизбежной разлуки, его присутствие бередило сердечную рану, томило необоснованной надеждой, что все еще может как-то измениться. Гуннхильд почти ненавидела его за то, что он причиняет ей эти страдания и никак не желает оставить в покое!
– Ч-что ты здесь сидишь? – раздался поблизости знакомый голос. – Если ты г-голодна, сейчас будет каша. Пойдем. Они еще не скоро сюда приедут.
Гуннхильд повернулась. Харальд стоял под елью – без кольчуги, но в той же серой кожаной рубахе с черными пятнами крови на подоле, с взъерошенными светлыми волосами, с Синим Зубом у пояса. Он подошел и протянул руку, но Гуннхильд отстранилась и вскочила.
– Не трогай меня!
– Что же ты так неприветлива с родичем? – Харальд усмехнулся. – Сидишь здесь, как тролль!
– Сам ты тролль! Видеть тебя не хочу!
– Да ты и злая, как тролль! – Харальд усмехался, что можно было бы принять за бесчувственность, но Гуннхильд уже знала, что так он усмехается, когда разговор ему неприятен. Что ни говори, ей он тоже был не лучшим другом. – Еще укусишь. Посиди-ка лучше вот здесь!
С этими словами он вдруг схватил Гуннхильд и, подбросив, посадил на кривое ответвление елового ствола. Гуннхильд завопила, внезапно оказавшись почти на высоте собственного роста над землей, и вцепилась в ствол, чтобы не упасть; кое-как она утвердилась на этом сиденье, под смех Харальда одернула задравшиеся подолы. После болтания по камням она была вся в синяках, которые уже начали болеть, и внезапное водворение на жесткую ветку не улучшило дела.
– Да уж я бы тебя укусила! – в негодовании крикнула она, теперь глядя на него сверху вниз, гневаясь и чувствуя себя глупо. – Ты мне всю жизнь испортил и хочешь сделать еще хуже! Я могла бы стать королевой Норвегии, а ты мне помешал! Почему ты не оставишь меня в покое? Я лишилась уже второго жениха, и на этот раз из-за тебя!
– А за первый раз благодари своих родичей! Но не огорчайся. Если Хлода родит девочку, я сам возьму тебя в жены.
– Я тебе откажу! – крикнула Гуннхильд, готовая в этот миг на все, лишь бы ему досадить. – И все равно ничего не выйдет, потому что она родит мальчика! И этот мальчик станет твоим преемником, но только ты этому не обрадуешься!
– Откуда ты знаешь? – Харальд нахмурился и шагнул к ней. – Это… Ты опять…
– Это ты опять! Опять ломаешь мою жизнь! А я просто вспомнила то, что было… в кургане. Я вспомнила, что сказала мне Фрейя. Вспомнила, когда увидела, как твоя жена вместе с ведьмой из леса созывает злых духов, чтобы тебя погубить! У нее теперь уж почти есть сын, ты больше ей не нужен, и она может мстить тебе за своих родных, она сама это сказала! Так что тебе лучше не ходить по морям и не встревать в чужие дела, а сидеть дома и заниматься своими собственными!
– Что ты говоришь? – Харальд метнулся к ней и схватил за колени, будто хотел немедленно сдернуть назад на землю.
– Не трогай меня! – Гуннхильд покачнулась на своем насесте, вскрикнула и крепче вцепилась в ствол. – Хочешь, чтобы я упала и сломала шею?
– О какой ведьме ты говоришь? – настойчиво допрашивал Харальд, вновь ставший очень хмурым и даже свирепым. – При чем здесь Хлода?
– Я говорю о ведьме, что жила в лесу за вашей усадьбой. Ее звали Улла… или как-то так.
– Что? – У Харальда мелькнула дикая мысль, что ведьма его детства ожила и вернулась.
– Улла, или Ульвин, или еще что-то такое, мне было некогда разбирать.
– Как она выглядела?
– Я плохо рассмотрела в темноте.
– Старая или молодая?
– Ну… не очень старая. – Гуннхильд помнила лишь размытую фигуру с растрепанными волосами. – Но я знаю, это она сделала ту рунную кость, которую нашли в постели, и сделала ее для меня! А вовсе не для Ингер! Хлода принесла ее в тот самый день и подложила мне, чтобы меня свести с ума и погубить, а когда узнала, что в эту самую ночь сбежала Ингер, то сама же повела всех искать кость и обвинила меня в колдовстве! Она пять лет не могла забеременеть, пока не связалась с той ведьмой и та не помогла ей своими заклятьями. А когда она забеременела, то уговорила ведьму погубить тебя, пока ты был за морем!
– Ты лжешь!
Лицо Харальда исказилось яростью; он сдернул Гуннхильд с дерева и прижал спиной к стволу, стиснув ей руки так, что она вскрикнула от боли.
– Нет! Я не лгу! – в гневе выкрикнула она ему в лицо. – Знать вас не хочу! Я хотела уехать в Норвегию и больше никогда не видеть ни тебя, ни твою жену, ни ваших ведьм! Ты сам мне помешал!
– Хлода не могла связаться с ведьмой!
– А почему тогда у нее пять лет не было детей, а потом вдруг появился этот ребенок?
– Так бывает и безо всяких ведьм!
– Я сама видела их вдвоем, и Хлода пела вардлок, пока ведьма говорила с духами.
– Где это было? – В памяти Харальда мелькнуло полузабытое воспоминание: черная фигура с факелом во мраке. – За ельником, где круг из стоячих камней?
– Нет, это было на холме неподалеку от Дома Фрейра. Такую ворожбу творят на местах повыше, но никто ведь не позволил бы ведьме построить помост, чтобы звать духов на гибель конунгову сыну. И Хлода сама сказала мне, что мстит за своих родичей. И что я могу обезопасить своих, если помогу ей. Я отказалась, и она сказала, что я дура! Она была права! Я и правда ужасная дура! Я должна была помочь ей, и тогда ты сейчас не мешал бы мне и не угрожал бы моим родичам!
Харальд выпустил ее и попятился, продолжая пристально глядеть ей в лицо. Гуннхильд нервно оправляла одежду и волосы, сама несколько испуганная действием своих слов: видно было, что он потрясен до глубины души и пытается осмыслить услышанное. Вся жизнь заново проходила у него перед глазами, одни заботы сменялись другими. Только что он думал, главное для него – рассчитаться с Инглингами. А вдруг оказалось, что главный его враг, тот, что преследовал его с семилетнего возраста, затаился дома. Гуннхильд ведь не могла знать о том давнем случае… Или могла?
– Тебе кто-то рассказывал? – сумрачно спросил он.
– О чем?
– О ведьме. Из-за чего я… которая еще в детстве насылала мне дурные сны…
– Ах! – Гуннхильд вспомнила кое-что, и ей стало понятнее его волнение. – Ты о той ведьме, из-за которой… не можешь гладко говорить? Да ты же сам мне и рассказывал!
– Я?
– Да, когда я появилась у вас, и ты принял меня за ведьму и чуть не убил. Я заболела, а ты потом пришел, когда я очнулась, и рассказал, что в детстве тебя напугала одна ведьма, из-за чего ты стал заикаться, и поэтому ты не любишь ведьм.
– Я сам это рассказывал? – с неудовольствием уточнил Харальд.
– Ну да.
– А еще кто-то говорил об этом?
– Твоя мать рассказала, что эту ведьму убили. Вот и все, что я знаю.
– Ту ведьму звали Ульфинной, – помолчав, добавил Харальд. – Про нее рассказывали, что она из старухи снова стала молодой. И ее убили, когда… моя сестра Гунн уехала в Норвегию. А теперь… не могу поверить, что она снова выползла из-под земли! И принялась за старое! Вот почему я опять видел тот сон!
– Какой сон?
– Будто меня хоронят заживо! Вот какой. Кто-то еще… может подтвердить… это все? Ну, что ты видела ее и Хлоду?
– Есть… еще один человек, который все это видел. Но я… не скажу тебе, кто это. Я думаю… больше ведьма не причинит зла, – поколебавшись, добавила Гуннхильд. – Она мертва.
– Мертва? Кто ее убил?
– Сдается, это была Фрейя! – повторила Гуннхильд слова Кетиля и даже попыталась улыбнуться. – И Ключ от Счастья.
Но Харальд не улыбался. Перед его глазами вновь встало видение: сумерки, стоячие камни, две темные женские фигуры с факелом… две черные птицы… потом яма, падающая земля… тяжесть на груди… удушье… темнота. В последние месяцы этот сон повторялся уже трижды, каждое полнолуние. А ведь перед этим он много лет его не видел! Он думал, что в возвращении сна виновата Гуннхильд. Так неужели старая ведьма вернулась в облике его собственной жены?
Вот почему говорили, что ведьма состарилась, а потом помолодела – это значит, что место прежней ведьмы может занять другая, если в сердце ее достаточно злобы. Но Хлода… А ведь в этом нет ничего невероятного. Она может, она даже должна мстить ему за своих родичей, убитых на острове Съялланд. И Хлода вполне на это способна: у нее хватит и решимости, и силы духа. Ему ли ее не знать!
И что же он делает? Воюет с Инглингами, пренебрегая возможностью примирения, начисто забыв о том, что Скъёльдунги со Съялланда не исчезли без следа – последняя из их рода живет в его собственном доме, спит в его собственной постели! Он оставил за спиной мстительницу, кровного врага, а теперь пытается сделать такого же врага из другой женщины – той, при мысли о которой уже полгода сердце бьется чаще и на душе светлеет. Он стоит на краю пропасти – еще шаг, и он погубит себя и Гуннхильд. И он сам пришел на этот край, силой притащил ту, что ему дороже всех женщин на свете… Это проклятые чары ведьм сделали его таким безумцем, врагом самому себе!
– Конунг! – вдруг закричали с берега. – Корабли!
Еще погруженный в свои мысли, Харальд почти неосознанно сделал шаг в ту сторону. А Гуннхильд подняла глаза и ахнула: в проеме еловых ветвей ей была видна протока, из которой выходили два больших боевых корабля.
Харальд проследил за ее взглядом, окончательно опомнился и бегом бросился вниз, к своим людям. Гуннхильд поспешила за ним.
Так скоро! Но это просто невероятно – не могла же пройти целая ночь, пока она умывалась и разговаривала с Харальдом. Но корабли были уже здесь – целых три, и из них два больше «Железного Ворона». Все они были полны вооруженных людей, но, сколько ни шарила Гуннхильд взглядом по рядам шлемов, не могла найти никого похожего на отца или Рагнвальда.
Хирдманы Харальда прыгали на борт и разбирали весла. Два других его лангскипа, стоявшие чуть поодаль у этого же острова, тоже готовились отчалить.
– Это не Олава корабли! – вскрикнул кто-то рядом. – Это Бьёрна!
– Вон Торгест Стервятник, я его запомнил! Он мне показывал этот свой шлем!
– Оставайся здесь! – Харальд махнул Гуннхильд рукой и последним перепрыгнул на уже отходящий от скалы корабль.
Опустив руки, Гуннхильд смотрела, как «Железный Ворон» удаляется, выгребая на свободное пространство. Потом торопливо взобралась на скалу повыше, откуда было лучше видно. Наконец наступала короткая ночь середины лета: спрятавшееся за облака солнце окрасило небо в разные оттенки желтого и лилового, и те же цвета, только темнее, отражались в воде. Отражался и лес на скалах, и через этот подводный призрачный лес, по дороге тусклого золота шли сюда три больших корабля. И они уже достаточно приблизились, чтобы можно было разглядеть стяг Бьёрна-конунга.
«Застава!» – сообразила Гуннхильд. Конечно, Сигурд не мог успеть добраться до Бьёрко за это время, но дойти до ближайшей заставы, внешней, ему вполне хватило времени. И эти корабли вышли оттуда, вместе с ярлом, чей был черед охранять проходы к вику. Это оказался Торгест Стервятник, один из тех, кто в эти дни не раз пировал у Атли Сухопарого: крепкий мужчина лет тридцати, с нагловатыми глазами и очень волосатыми руками; из-под шлема по спине спускалась коса длиной до пояса, и бородку он заплетал в две косички.
– Эй, Харальд, сын Горма! – закричал он, размахивая копьем. – Послушай, что велел передать тебе Бьёрн-конунг!
– Что хочет сказать мне Бьёрн-конунг? – крикнул Харальд.
– Бьёрн-конунг велел передать тебе следующее. Это его собственные слова. Он велел сказать, что если вы, Инглинги и Кнютлинги, не перенесете ваши троллевы раздоры куда-нибудь в Йотунхейм с его земли, то ноги вашей больше не будет на его торгах. Ты ведь давал клятву не трогать Инглингов на его земле!
– А я и не трогал их на его земле! Здесь вода, и к тому же уже почти море.
– Дело твое, но Бьёрн-конунг велел сказать, что ему это надоело. Он хочет, чтобы ты немедленно вернул госпожу Гуннхильд родичам и убрался отсюда, иначе тебе придется биться с нами. Каково твое решение?
Стоя на скале над морем, будто одинокая валькирия, Гуннхильд не сводила глаз с Харальда. Он обернулся и посмотрел на нее.
– Уходи! – в отчаянии воскликнула она, хотя знала, что отсюда он ее не услышит. – Уходи, пока тебя отпускают! Я не хочу увидеть, как тебя убьют шведы или как ты убьешь моего отца! Иди своей дорогой!
– Я принимаю условия Бьёрна! – крикнул Харальд и махнул Торгесту. – Я ухожу! Забери молодую госпожу отсюда и доставь на Бьёрко!
– Гуннхильд! – закричал он, обернувшись к ней.
Она шагнула еще ближе к краю скалы.
– Я тебе не верю! – закричал Харальд, приложив ладони ко рту.
– Как хочешь, – тихо ответила она, не заботясь о том, чтобы он услышал.
Пусть Харальд не верит в то, что она рассказала о Хлоде. Он уходит, никаких сражений не будет. Все остальное сейчас не имело значения.
– Ты не отказала бы мне! – снова закричал Харальд, а потом отвернулся к своим людям, которые уже поднимали парус.
Ветер дул в сторону моря.
* * *
«Сын конунга вернулся!» – говорили одни в округе усадьбы Эбергорд. «Сын конунга вернулся один!» – говорили другие. Люди ожидали разного от этой поездки: кто-то боялся, что Харальд тоже сгинет и Горм останется вовсе без сыновей, кто-то думал, что он привезет назад или свою сестру, или хотя бы бывшую невесту покойного брата. Но он вернулся, живой, здоровый – и в одиночестве. В округе много болтали об этом, но мало знали наверняка. На самом деле даже родители, Горм и Тюра, с трудом добились от Харальда рассказа о поездке на Бьёрко. Весть о благополучной свадьбе их порадовала, краткое известие о нападении на Сигурда-ярла – куда меньше. Горм нахмурился, но промолчал; Тюра взволновалась, всплеснула руками, тревожно глянула на мужа – но тоже промолчала. Они понимали, что Хакону Доброму нанесено оскорбление, но подумали одно и то же: Харальд не смог отпустить дочь Олава в Норвегию. Желание предотвратить союз Инглингов и Хакона – только предлог.
– Но… ты мог бы спросить у Олава, не отдаст ли он свою дочь в жены тебе, раз уж… ее первая помолвка расстроилась, – сказал наконец Горм. – Пусть мы не говорили с тобой об этом, но ты знаешь, что мы хотели принять эту девушку в семью и были огорчены тем, что ее пришлось отослать назад к родичам. Мы не стали бы противиться, если бы у тебя возникло желание…
– Сейчас не время говорить об этом, – угрюмо отозвался Харальд. – Сперва я должен разобраться… У меня должен родиться сын, и до тех пор… Не будем об этом.
– Но твой ребенок родится только к йолю! – воскликнула Тюра. – А Олав такой прыткий – до тех пор он успеет выдать ее замуж! Я уверена, теперь он попытается найти для нее жениха среди саксов!
– Тем хуже для саксов. А теперь простите, мне нужно вернуться домой.
В тот же день Харальд уехал к себе в Эклунд. Но не потому, что сильно скучал по жене. С Хлодой, вышедшей ему навстречу, он едва поздоровался, лишь смерил ее пристальным взглядом с головы до пят.
– Еще рано, конунг! – добродушно шутили домочадцы, обрадованные благополучным возвращением хозяина. – Заметно будет только через пару месяцев.
Но Харальд не улыбнулся в ответ. А когда он не принял рог с пивом, по обычаю поднесенный женой при входе в грид, улыбки увяли и разговоры стихли.
– В чем дело, Харальд? – спросила Хлода, сурово сдвинув брови. Что ни говори, это была мужественная женщина. – Ты не хочешь принять у меня рог? Ты не рад меня видеть? Не рад вернуться домой? Может быть, ты за морем нашел себе другую жену?
– Я рад вернуться домой, – холодно ответил Харальд. – У меня здесь есть несколько очень важных дел.
Хлода еще пару мгновений пристально смотрела в его суровое лицо, потом сунула рог служанке и быстро вышла. Домочадцы стояли, неуютно ежась и тревожно переглядываясь.
Спать в эту ночь Харальд устроился в дружинном доме и последующие ночи тоже проводил там.
Наутро он позвал кое-кого из домочадцев и задал вопрос: что слышно о ведьме, которая, как говорят, живет за ельником?
Люди удивились. Все знали историю, приключившуюся с Харальдом в детстве, и привыкли к тому, что при нем даже не стоит упоминать о ведьмах. Привычка была столь сильна, что и теперь люди не сразу решились говорить, переглядывались, подталкивали друг друга: «Пусть вон Траин расскажет. Я не умею… – А я что, вон, Сигге спросите, он на охоту часто ходит, может, видел чего…» В конце концов выяснилось, что о ведьме все знают, хотя мало кто мог похвастаться, будто ее видел. Но порой люди встречали в лесу неизвестную женщину, собиравшую хворост, или примечали ее у моря. Живет она, да, за ельником, такие ходят слухи, однако кто же ее знает?
– Если у конунга есть нужда, так можно ведь пойти и поискать! – сказал бродяга Кетиль Заплатка. Появившись здесь прошлой зимой, он прижился в округе и перемещался между ближними усадьбами, где его охотно принимали за разговорчивость и осведомленность. – Если это живая женщина, а не дух, то она оставляет следы на земле.
– Я не пойду! – воскликнул Траин. – То есть… если ты, Харальд… если ты прикажешь, но… нет в этом ничего хорошего, и добрым людям ходить к таким женщинам не годится!
Вокруг закивали.
– Это правда, добрым людям там делать нечего, – согласился Кетиль. – Это даже и опасно. Но я могу пойти поискать, если ты хочешь. Я много на веку повидал, к тому же я крестился четыре раза, а сила Христа, сына Марии, хорошо помогает против ведьм, это и епископ подтвердит.
– Если ты найдешь ведьму, я дам тебе это! – Харальд показал ему серебряный скеатт. – И сможешь кормиться у меня в усадьбе сколько пожелаешь.
– Ты щедр!
– Но никто не должен знать, что я ищу ведьму. И никто не должен ходить туда, кроме Кетиля. Всем ясно?
– Да кто же туда пойдет?
Только один человек, Арне, знал о еще одном приказе Харальда: следить в эти дни за хозяйкой и сразу дать знать, если Хлода пытается уйти в лес или займется чем-то подозрительным.
Не прошло и двух дней, как Кетиль после утренней еды подошел к Харальду, еще сидевшему за столом, и поклонился.
– Ты нашел ее? – спросил Харальд вполголоса, чтобы не слышали женщины, убиравшие посуду.
– Нашел дом. Сдается мне, кроме ведьмы, никто там жить не будет. Самой мерзавки нигде не видно, в доме тихо.
– Отведешь меня туда.
– Как прикажешь.
Харальд взял с собой пятерых хирдманов – самых надежных, тех, кто не растеряется, даже если ведьма на глазах превратится в волчицу, но и не станет потом болтать. Кетиль служил проводником. Харальд давно не бывал в ельнике – кажется, с того осеннего вечера, когда много лет назад увязался за старшей сестрой. За двадцать лет местность изменилась: лес наступал, тропки зарастали, одно хорошо, что болото подсохло. Удивительно было, как Кетиль ухитряется находить здесь дорогу, однако хромой уверенно пробирался через лес.
Внезапно открылась поляна, и Харальд вздрогнул. Стоячие камни ничуть не изменились, да и что им сделается? Вокруг и между ними росла трава, не похоже было, чтобы кто-то посещал это место.
Хирдманы в изумлении молчали: в округе имелось немало священных мест, в том числе каменных выкладок, где приносили жертвы, но об этом круге никто не знал.
– Там дальше начинается тропа получше. – Кетиль взмахом руки указал вперед. – Видно, она от своего дома часто сюда ходила, хотя трава в последнее время поднялась.
Они обогнули круг из камней, стараясь не приближаться к валунам, и с другой стороны действительно обнаружили довольно заметную тропинку – узкую, как ремешок, вытоптанную ногами всего одной женщины.
Дальше вновь пришлось идти через лес. Здесь стоял старый ельник, толстые буро-черные стволы уходили ввысь, земля была рыжей от старой хвои, а лапник смыкался, почти не пропуская свет. Часто попадались большие валуны.
– Вон он, ее дом. – Кетиль остановился. – Видишь, конунг?
Харальд взглянул, куда он показывает, но не сразу различил зеленую крышу, поросшую мхом, среди таких же замшелых валунов.
Дальше двинулись тихо. Хирдманы держали наготове копья, точно шли на медведя, но не менее каждый надеялся на палочку или косточку с защитными рунами, спрятанную под рубаху.
Харальд знаком велел своим людям окружить хижину. Сам он с Кетилем и Арне подошел со стороны двери. И вздрогнул, застыл на месте, будто наткнулся на стену. Перед ним был домик из его детского сна – маленький, из почерневших толстых плах, наполовину вросший в землю, с ярко-зеленой от мха и травы крышей. Только во сне дверь была распахнута и внутри пылал огонь, а сейчас она стояла закрытой.
Давний ужас всплыл из глубин памяти. Показалось даже, что он, Харальд, провалился в прошлое и вновь стал семилетним мальчиком. Напрасно он столько лет думал, что победил тот страх, что ведьмы нет и ему ничто не угрожает. Ведьмы давно не было, но ее чары жили. Они жили в этом лесу, в этой избушке… в его душе. Они только заснули, приглушенные защитной ворожбой, но теперь пробудились и властно заявили о себе. Почти двадцать лет они ждали здесь, сторожили, когда он вновь появится. И он должен был появиться рано или поздно.
Стиснув зубы, Харальд изо всех сил старался не показать своих чувств. Он уже давно не мальчик, он мужчина, а мужчина умеет идти навстречу своему страху и одолевать его.
– Я пойду первым, если хочешь, – невозмутимо предложил Кетиль.
Не похоже было, чтобы нищий сколько-то боялся.
– И-иди. – Харальд кивнул.
Кетиль похромал к двери. Харальд и Арне ждали поодаль. Бродяга толкнул дверь, потом налег на нее – она не была заперта, но открылась с трудом. Нищий заглянул внутрь, потом обернулся.
– Здесь никого нет.
Харальд подошел и заставил себя заглянуть в домик. И отпрянул. Внутри не было ступенек и пола – прямо за порогом зияла яма, та самая, четырехугольная, в которую он провалился без малого двадцать лет назад. И до сих пор не выбрался по-настоящему, как оказалось.
– Стой! – Он безотчетно схватил Кетиля за лоскутный рукав. – Куда ты лезешь? Там же яма!
– Яма? – Кетиль обернулся, его перекошенное лицо выражало удивление. – Где ты видишь яму?
– За порогом. Там нет пола, там провал, ты что, слепой?
– Не может быть. Разве ты тоже видишь яму? – Нищий обернулся к Арне.
Арне, плотный рослый мужчина, ровесник Харальда, с намечающейся лысиной и брюшком, что не мешало ему проявлять силу и ловкость, подошел ближе и тоже вгляделся.
– Нет… я вижу обычный земляной пол. Где яма? Там, дальше?
– Да нет же! Прямо за порогом! Глаза протрите оба!
– А давай мы проверим! – Кетиль взял у Арне копье и, вытянув его наконечником вперед, пощупал за порогом.
Харальд видел, что наконечник упирается во что-то, а вовсе не проваливается.
– Там твердая земля. Попробуй сам. – Кетиль передал ему копье.
Харальд пощупал землю за порогом и убедился, что ямы нет. Сейчас он и сам видел землю – обычную утоптанную землю, немного рыжей хвои, залетевшей снаружи.
И все же что-то было не так. В ельнике стояла тишина, будто сам лес затаил дыхание и ждал, что будет. Сумрачный свет, влажный воздух, насыщенный испарениями близкого болота, делал это место частью особого мира, куда обычным людям лучше не соваться.
Пересилив себя, Харальд сделал шаг вперед, с копьем в руке встал на порог и заглянул вниз.
Сначала он увидел землю. А потом она вдруг разверзлась, открыв черную пустоту. Внизу, на непонятной глубине, появилось лицо… черное лицо с расплывчатыми чертами… череп с пустыми глазницами – тот самый, что наклонялся над ямой, когда он, Харальд, лежал на дне… И это лицо ухмылялось, будто подстроило ловушку и дождалось, пока в нее попалась добыча!
Харальд отшатнулся. Но яма и черное лицо по-прежнему стояли перед глазами, голова кружилась. Было трудно дышать – тяжесть земли давила на грудь.
– Сжечь ее! Сжечь ведьму, этот дом, все, что в нем есть!
– Погоди-ка! – Кетиль безбоязненно взял его за локоть. И видения вдруг пропали, Харальд опомнился. – Сжечь мы всегда успеем. Надо сперва посмотреть, нет ли там чего любопытного. Если ты не хочешь идти, я пойду. Мне нечего бояться. Я повидал немало ведьм, и мне они не страшны.
Даже не взяв никакого оружия – впрочем, у него висел на поясе длинный нож с рукоятью из кривого отростка оленьего рога в простых ножнах, – Кетиль шагнул за порог.
– Здесь никого нет… – долетал изнутри его приглушенный голос. – И давно нет, это ясно. Зола остыла и засохла, тут огня не разводили много дней… Никакой еды…
Слышно было, как он там гремит и передвигает что-то.
– Пара горшков… один котел колдовской, на трех ножках… всякое тряпье вшивое… всякая дрянь… Ого! – вдруг воскликнул Кетиль. – А вот это любопытно! Никогда бы не подумал!
– Что там такое? – в нетерпении крикнул Арне. – Что ты нашел?
Из темного провала показалась полуседая растрепанная голова. Харальд невольно напрягся, ожидая, что нищий вылезет из ведьминого логова непоправимо изменившимся, превратившись наполовину в зверя или тролля… Но Кетиль был точно таким же, каким ушел, лишь держал какую-то тряпку.
– Посмотри-ка! – Он приблизился к Харальду и развернул тряпку.
Тот хотел отстраниться, невольно кривясь от отвращения, будто ожидал увидеть в руках нищего живую змею, но сдержался и глянул… И вытаращил глаза.
Такого он никак не ожидал. В серый шерстяной лоскут, засаленный, рваный и выпачканный в саже, были завернуты настоящие сокровища. Две овальные наплечные застежки для женского платья, серебряные, позолоченные, покрытые дивным тонким узором из крученой серебряной проволоки. Харальд отлично знал их, ибо сам когда-то подарил жене, и не раз она надевала их на пиры по случаю праздников и жертвоприношений. Еще здесь лежали три нити бус с подвесками: из граненого хрусталя, похожего на льдинки, из ярко-рыжего сердолика. Серебряные бусины, густо усаженные крошечными шариками зерни. Круглые подвески с изображением чудных зверей. Ожерелье из ребристых трубочек сердолика, желтых и зеленоватых стеклянных бусин и подвесок он узнал – его подарила Хлоде Гуннхильд в день своего обручения. Харальд даже вспомнил, как спрашивал Хлоду, почему она никогда его не носит, а та лишь фыркнула презрительно, и он усмехнулся, думая, что жена из ревности не хочет носить подарок той, которую считает своей соперницей. И не без оснований считала…
Он все смотрел на украшения в грязной тряпке, веря и не веря глазам. Гуннхильд сказала правду. Хлода дружит с ведьмой и отдала ей украшения в уплату… за что? Неужели она в самом деле хотела его погубить? А может…
– Да как же ведьма сумела украсть хозяйкины украшения? – в изумлении воскликнул рядом Арне. – Ведь это хозяйки, я хорошо помню.
– Украла? – повторил Кетиль. – У хозяйки? Из дома, из ларя? Уж верно, такие дорогие вещи хранятся под хорошим замком!
– На то она и ведьма! Что ей двери и замки? Это только защитными рунами…
– Слава Одину, ведьмы не умеют красть вещи на расстоянии и из-под замков! Иначе ни один добрый человек не уберег бы своего богатства. Ты вот, Арне, проснешься завтра утром, а штанов твоих нету, украли ведьмы!
– Что ты за бред несешь! – Арне толкнул нищего. – На кой тролль ведьмам мои штаны?
Харальд молчал. Дело не в замках. Если эти вещи были ведьмой украдены, почему Хлода молчит? Почему не объявляет о пропаже, не ищет? Она не могла не заметить, что лишилась почти всех украшений.
Ответ один. Она знает, где ее вещи… И почему они здесь.
Харальд взял тряпку со всем содержимым из рук Кетиля, резко развернулся и пошел прочь с поляны.
* * *
С этого дня люди стали замечать, что Харальд вообще не разговаривает с женой. Вернувшись из леса, он не сказал Хлоде ни единого слова, но приказал управителю распорядиться, чтобы за ней наблюдали день и ночь. Днем служанкам было велено не оставлять хозяйку одну, даже если она прикажет всем выйти. А ночью мужчины несли дозор возле дверей спального чулана, где она ночевала теперь одна. Домочадцы были напуганы, никто ничего не понимал. Хлода тоже замкнулась в молчании: по лицу нельзя было прочитать ее чувств, она не жаловалась, не задавала вопросов, не искала случая поговорить с мужем.
Об их разладе скоро узнали в Эбергорде, а наверное, и в усадьбах по соседству. У всех имелось объяснение: Харальд желает взять в жены бывшую невесту брата, Гуннхильд, дочь Олава, даже пытался похитить, чтобы не допустить ее брака с Хаконом, но она отказалась входить в дом, где уже есть одна хозяйка, а теперь Харальд ждет рождения ребенка, чтобы отослать Хлоду. В разговорах этих содержалось зерно истины: Харальд не хотел ничего предпринимать насчет жены, пока она не родит его долгожданного сына. Ведь даже Гуннхильд, которую Хлода пыталась погубить и обвинить, сказала, что именно ребенок Хлоды станет преемником и наследником Харальда. Вернее, устами Гуннхильд это сказала сама Невеста Ванов. Харальд не знал, как поступить с наложницей после родов, и даже был рад, что до этого события еще почти полгода. Отослать ее назад к родичам, как обычно поступают в таких случаях, было нельзя: ведь она осталась одна из всей семьи, во владениях Скъёльдунгов со Съялланда теперь сидел Годмунд-ярл, назначенный Гормом.
Но прошло какое-то время, и Харальду пришлось изменить свое решение не разговаривать с женой. За ним прислали из Эбергорда: королева заболела! Встревоженный Харальд, прискакав в родительскую усадьбу, нашел мать не столько больной, сколько расстроенной. С трудом держа себя в руках, Тюра рассказала, что с некоторых пор ее стали тревожить зловещие сны. Уже третье подряд полнолуние она видит во сне двух черных старух без лиц, которые сидят по обе стороны от тлеющего сизого огонька и заунывными голосами распевают бессловесную песнь-заклинание. Отчего-то Тюра была уверена, что черные женщины плетут чары на погибель Харальду, ее единственному оставшемуся в живых сыну.
Харальд стиснул зубы, чтобы себя не выдать. Он сразу понял, кто эти черные женщины. Две мертвые колдуньи, мать и дочь, наставница и ученица. Ульфинна и Улла. Одну из них утопили почти двадцать лет назад, вторую уничтожила совсем недавно сама Фрейя – так сказала Гуннхильд, и это подтвердил потом Кетиль.
– В ведьминой норе уже давно никто не бывал, – говорил он в тот день по дороге домой. – Это по всему видно: там не разжигали очаг, не приносили никакой еды, не трогали утвари и вещей, не убирали объедков. Сдается мне, ведьма сгинула, и живыми ногами она по земле больше не ходит.
Живыми ногами она больше не ходила, в это Харальд поверил – ведь Хлода не пыталась куда-то пойти или передать кому-то весть. Она тоже знала, что ее помощница мертва. Но что касается встреч на темных тропах мира духов… Здесь Харальд был бессилен проследить за женой и даже не знал, умеет ли она ходить туда! И это женщина, с которой он прожил пять лет!
Он даже, пересилив себя, попытался поговорить с Хлодой, но она молчала, только отрицала все обвинения. Нет, она не виделась с ведьмой. Даже не знает, что за ведьма такая. Разве у него есть свидетели? Выведенный из себя Харальд швырнул перед ней на постель найденные украшения, и вот тут Хлода немного оживилась, спросила, у кого их нашли. Оказывается, застежки и ожерелья украли. Почему она не сказала раньше? А она сама не замечала пропажи, ведь в последнее время у нее совсем нет случаев наряжаться! Их нашли в хижине ведьмы? Надо же, значит, кто-то из челяди связался с мерзкой бабой.
Харальд так и ушел, ничего не добившись: Хлода ни в чем не желала признаваться, а подвергать ее испытаниям он не мог как ради здоровья, так и ради чести своего сына и наследника. Нельзя допустить, чтобы про будущего конунга говорили «ведьмин сын»! Он слишком долго ждал этого сына, чтобы теперь рисковать им и его будущей честью. Ему и так нелегко придется – ведь он сын наложницы, «рабыни конунга», и этого уже никак не изменить.
Рассказ Тюры о черных женщинах очень встревожил и Харальда, и Горма. Конунг распорядился устроить жертвоприношение, прося богов о защите. Вся округа собралась в святилище, испуганная слухами о болезни королевы. Правда, Тюра сама пришла, нарядная и бодрая, но слухи не утихали.
– Я знаю, как нам быть! – сказал однажды Горм. – Мы пригласим Инглингов на осенние пиры. Внучка Асфрид многому у нее научилась и, возможно, даст хороший совет. К тому же нам уже пора помириться с Ингер…
Он вздохнул, ибо скучал по младшей дочери, такой своенравной и любимой. Тюра обрадовалась необычайно: оставшись одна в доме, без дочери, без Гуннхильд и Асфрид, к которым успела привыкнуть, даже без Хлоды, которая больше не бывала у родителей мужа, она скучала и тосковала, чувствуя себя слишком одиноко. Но теперь все изменилось, королева повеселела в ожидании дочери; никому не говоря, она надеялась услышать от Ингер радостную весть об ожидании еще одного внука. Приглашение передали с первым же кораблем, что шел мимо на юг, королева занялась хлопотами по подготовке к пирам и приему гостей.
Харальд в это время жил больше в Эбергорде, чем у себя дома, наказав, однако, домочадцам по-прежнему не сводить глаз с Хлоды. Впрочем, она и сама уже почти не покидала спального чулана: ее беременность становилась заметна и давалась нелегко. В первые три месяца ее часто тошнило, она похудела, была бледна, слаба, ела очень мало и редко выходила из женского покоя, а то и вовсе целые сутки проводила в спальном чулане, зато очень часто пробиралась к отхожему месту. Потом тошнота почти прошла, зато началась одышка и головокружение. Женщины поговаривали, что беременные, которые так тяжело дышат в это время, и рожают тяжело, зато одышка обещала крупного ребенка. Это походило на правду: и сам Харальд был крупным мужчиной, и у брата его Кнута родился крупный мальчик, который и сейчас, в шестилетнем возрасте, обгонял в росте всех сверстников.
Лето шло к концу, на полях уже убирали урожай. Близилось то время, когда лишний скот забивают перед зимой и запасают мясо впрок на зиму. Хёвдинги возвращались из летних походов, готовя рассказы о приключениях и подвигах, чтобы удивлять ими домоседов долгими темными вечерами. Каждый из троих, Горм, Тюра и Харальд, по-своему предавался невеселым думам. Минувший год принес им мало хорошего: Южная Ютландия остался в руках Инглингов, они потеряли сына и брата, а в значительной мере – и Ингер. Даже мысли о будущем сыне не радовали Харальда. А до их первой встречи оставалось уже недолго – ребенок должен был родиться на йоль.
* * *
В Южной Ютландии вторая половина лета прошла гораздо спокойнее, чем первая. Инглинги вернулись в Слиасторп – без Асфрид, о которой очень жалели в округе, зато с новой молодой хозяйкой – госпожой Ингер. На радостях, что прежние владыки, обладатели Кольца Фрейи и потомки Годфреда Грозного, возвратились и прежние клятвы остались нерушимы, хёвдинги Хейдабьора по очереди давали пиры в их честь, а торговые гости развозили новости по всему Восточному, Западному и Северному пути. В Хейдабьоре Олав застал епископа Хорита, но и тот вскоре уехал, добившись-таки согласия на выплату церковных податей. Сам Олав считал свое новое положение, как родича Горма, вполне устойчивым и без того, но Рагнвальд убедил его, что еще один могучий союзник им сейчас дороже денег.
Гуннхильд родичам совершенно неожиданно привез утром Торгест Стервятник, сняв с пустынного островка – в то время как они с Олавом еще только снаряжались на битву. Мужчины не очень-то поняли, почему Харальд так стремительно передумал и ушел, оставив добычу. Шведы предпочитали считать, что его смутила угроза Бьёрна-конунга, Олав бахвалился, что-де Харальд испугался биться с ним, а Рагнвальд и Ингер вдвоем порешили, что Харальд просто не смог преодолеть свое чувство к Гуннхильд, но отступил, когда она отказалась последовать за ним.
И только сама Гуннхильд знала, что дело не в ней, а в ведьме. Она очень много думала об этом, сопоставляла свои воспоминания, слова Харальда, выспросила у Ингер все, что та знала о старой Ульфинне и ее наследнице, Улле. Мнения расходились только в одном: кто-то считал, что Улла – это воскресшая и помолодевшая Ульфинна, а другие возражали, что это просто ее дочь. Сходство имен могло означать и то и другое с равным успехом. В конце концов Ингер выболтала даже то, что ее старшая сестра Гунн еще до замужества бегала к Ульфинне обучаться колдовству – об этом она впоследствии узнала от матери. И нынешняя слава норвежской королевы-изгнанницы вполне это подтверждала.
Теперь Гуннхильд многое стало ясно: и то, почему Харальд так разъярился, увидев, как якобы одна и та же женщина возле Серой Свиньи показывается в облике то старухи, то молодой. Почему он так ненавидит ведьм и так злился, заподозрив ее в склонности к этому. Даже совпадение имени ее и его сестры-колдуньи должно было его раздражать. Она лишь надеялась, что больше он ее не винит. И что он, пусть не поверив ей, все же будет осторожнее с женой и не поддастся злым чарам, если Хлода вздумает продолжать свои дела.
«Если у Хлоды родится девочка, я сам возьму тебя в жены…» Эти слова вспоминались ей часто, причиняя столько же боли, сколько и радости. Он мог бы стать ее мужем, но Гуннхильд знала, что этому не бывать, и несбыточная возможность мучила ее сильнее, чем даже его нелюбовь. Если бы она знала, что он не любит ее, то сумела бы взять себя в руки, вырвать любовь из сердца, как рыбак рвет крючок из горла пойманной рыбы, успокоиться и жить счастливо с кем-нибудь другим. Асфрид рассказывала когда-то, что жены страдают по отсутствующим или погибшим мужьям не более трех лет, а потом забывают. Через три года она уже не будет так мучиться, мир не будет казаться таким пустым и застывшим. Три года – это много, но их можно перетерпеть. Но теперь она часто думала, что, наверное, и Харальд страдает в разлуке с нею, и к собственной боли прибавлялись жалость и сочувствие.
Однако, хотя брак с кем-нибудь другим и мог бы исцелить ее от любви к Харальду, от замужества в ближайшее время Гуннхильд решительно отказалась. Обрадованный «бегством» Харальда Олав думал, что Сигурд все же увезет ее в Норвегию, но Гуннхильд решительно сказала «нет». Боги явно против ее замужества – смерть одного жениха и нападение на посольство другого вполне ясно указывают на их волю! Боги желают, чтобы она, внучка Асфрид, и дальше была хранительницей Кольца Фрейи. С этим Олав спорить не стал, и между ними было условлено, что до следующего лета разговоров о замужестве больше не будет. Ингер без возражений вернула ей священный браслет, и Гуннхильд вновь утвердилась в правах Госпожи Кольца.
Лето проходило, торговые гости разъезжались. К осенним пирам закончатся морские путешествия, и до весны никаких новостей больше не придет. Гуннхильд уже сейчас томилась от неизвестности: ее мучила тревога за жизнь Харальда, и она с большим вниманием выслушивала рассказы каждого, кто приезжал в Хейдабьор с севера и мог хоть что-то сказать о Кнютлингах.
Приглашение Горма и Тюры, переданное старым знакомым – Фроди Гостеприимным, который перед окончанием летних плаваний собрался на торг Хейдабьора, и обрадовало, и смутило ее. Фроди уверял, что Горм и Тюра очень хотят видеть всю семью Олава без исключения, а значит, и ее. По ней скучают и в Эбергорде, и в округе: люди успели полюбить невесту Кнута, приветливую и веселую, и очень жалеют, что она не станет их королевой.
Но просто так уехать на осенние пиры в чужой край было нельзя: ведь и о своем хозяйстве надо заботиться, и в Хейдабьоре нужно приносить жертвы перед началом зимы. Раньше всем этим заправляла Асфрид, а ныне лишь тетка Одиндис могла помочь советом двум молодым хозяйкам. Правда, теперь, при угасании солнца, главные обязанности принадлежали пожилой вдове, а не девушке и молодой жене. Одиндис распоряжалась заготовкой мяса, вместе с Олавом приносила жертвы, а Гуннхильд лишь вынесла и положила на жертвенный камень Кольцо Фрейи, чтобы потом забрать назад и бережно отчистить от засохших кровавых брызг. Вик Хейдабьор опустел – торговые гости, летом составлявшие не менее половины его населения, разъезжались, дома запирались, перед дверями сохли, привлекая тучи сонных мух, остатки жертвенного мяса, выложенного хозяевами перед дальней дорогой к зимнему жилью.
Зато в усадьбах, да и в домах хёвдингов зашумели пиры – праздновалось совершеннолетие сыновей, из-за чего устраивалось много воинских состязаний. Олав не пропускал почти ни одного пира и охотно принимал приглашения. Гуннхильд обычно сопровождала отца, но время для нее тянулось мучительно медленно. К йолю ей предстояло вновь увидеть Харальда – или хотя бы оказаться в доме его родителей. Но она не верила, что найдет его прежним. В душе ее произошло за это время столько переворотов и перемен, что и во внешнем мире она не надеялась найти хоть что-то на старом месте.
Но вот отшумели пиры, и хотя снег еще не шел, наступила зимняя половина года. Запасшись подарками, Олав-конунг с дочерью, племянником и невесткой отправился вдоль восточного побережья Ютландии на север. Шли на четырех кораблях – на одном Олав с дочерью, на другом Рагнвальд с молодой женой, еще на двух хёвдинги Хейдабьора со своими дружинами: Торберн, Альвбад с сыном и Оттар Синий.
После осенних пиров по морю уже не ходят. Строго говоря, и большой необходимости в этом не было, поскольку от Хейдабьора на север через всю Ютландию шла древняя дорога под названием Ратный путь, а у Олава имелось достаточно лошадей, чтобы перевезти семью и все дорожные припасы. Сопровождавшие его хёвдинги тоже могли бы поехать верхом, а хирдманы и пешком дойдут, им не привыкать. Однако Олав не внял голосу благоразумия: вновь утвердившись в правах владения, он жаждал явиться к недавним врагам, как положено богатому и прославленному владыке, на многочисленных кораблях с дружиной. Здесь было, при удачной погоде, лишь несколько дней пути, и он надеялся, что обильные жертвы на осенних пирах обеспечат им эту малость.
И поначалу казалось, что он был прав – первый день дул попутный ветер, и корабли летели с сумасшедшей скоростью. Но на второй начались приключения. Ветер внезапно стих, парус повис, будто тряпка. После обычного шума тишина показалась оглушающей, и Гуннхильд высунулась из палатки на корме.
– Рею долой! – рявкнул во весь голос Олав. – Троллевы дети, шевелись, йотуна мать!
Гуннхильд вскинула глаза и ахнула. До того на небе плыли лишь легкие облака, но теперь, откуда ни возьмись, повисла огромная черно-синяя туча. Граница между ней и довольно ясным небом была так хорошо видна, что туча напоминала плащ исполина, брошенный над морем. И этот плащ приближался, несомый ветром, грозя вот-вот накрыть корабли своей губительной тенью. Море стало такого же черно-синего цвета, и все вместе это напоминало челюсти исполинского чудовища, зажавшие крохотную скорлупку-кораблик и уже готовые сомкнуться!
Гребцы вскочили, задвигались; над судном зазвучали выкрики, ругань, сразу вспомнили всех троллей и турсов по именам и родственным связям. Налетел резкий порыв ветра – с противоположной стороны, встречный. Живо убрали парус, спустили на воду весла и принялись грести изо всех сил. Море вспенилось, казалось, за несколько мгновений, поднялись волны, корабль начало швырять из стороны в сторону. Вокруг потемнело – плащ бури расстилался уже над головами, – Олав орал, но за шумом моря и ветра его почти никто не слышал. В воде за бортами бесились все морские великаны; волнение было такое, что то и дело случались «холостые гребки» и кто-то из хирдманов, не найдя воды нижним концом весла, летел кувырком от собственного усилия.
– Якорь! – кричал Олав.
Корабль развернуло по ветру. Сбросили якорь – большой камень, обвязанный веревками. Глубина была небольшая, и он лег на песчаное дно, однако зацепиться ему было не за что, и корабль по-прежнему тащило назад. Судно плясало на волнах, Гуннхильд и ее служанки вцепились во что смогли, от страха не имея сил даже визжать, а мужчины передвигались по судну почти ползком. Ветер выл, как сто великанов, судно скакало, будто дикая лошадь. Зажмурившись, Гуннхильд всем существом ощущала, как носятся рядом злобные духи стихий, норовя погубить их. Мельком подумалось, что если они сейчас утонут, Кольцо Фрейи пропадет вместе с ними и навек ляжет на морское дно.
Кольцо Фрейи! Свое сокровище она не оставила дома, и сейчас оно висело у нее на шее, в том же красном шелковом мешочке. Отцепив одну руку, Гуннхильд сунула ее под кафтан и стиснула мешочек. О Фрейя! О Тор, помоги нам! Усмири великанов, прогони злобных морских троллей!
И вдруг ей стало жарко, будто от прикосновения к Кольцу Фрейи в тело влился огонь. Вспомнилось, как ее обнимал Харальд, ощущение его силы и тепла; в миг смертельной опасности, когда все чувства ее пришли в возбуждение, вспыхнула такая жажда жизни, что Гуннхильд с невероятной силой потянуло к Харальду – казалось, еще немного, и мощь этого желания поднимет ее и понесет над волнами. Казалось, в его объятиях она могла бы укрыться от бури, ветра, дико беснующегося моря, от всех опасностей и невзгод. В этот миг она думала, что, если только останется жива, никакие раздоры не смогут разлучить ее с Харальдом, ибо все это мелочь и суета; она готова была простить все и примириться с чем угодно, лишь бы быть с ним. Буря смыла и отбросила все внешнее, сила собственной любви предстала перед ней во весь рост. Только с Харальдом она сможет жить по-настоящему, а без него придется лишь притворяться, будто живет – отведи ей судьба еще хоть сорок лет! Только бы не пойти на дно вместе с кораблем, только бы выжить, увидеть его снова!
– Сни… а… ать… а… – доносились какие-то обрывки воплей сквозь вой ветра, но хирдманы поняли, что конунг приказывать снять мачту.
Это было сейчас самое разумное. Мачту опустили и положили на дно судна, между скамьями, там, где уже лежала рея с парусом. Поставили второй плавучий якорь, чтобы судно не рыскало задней частью. Подняв голову, Гуннхильд обнаружила, что уже вполне отчетливо слышит голос отца, а значит, море поуспокоилось и непосредственной опасности для жизни уже нет.
Зато хлынул дождь – проливной, водопадом, так что она едва успела юркнуть обратно в палатку. Вскоре он кончился, но через какое-то время начался опять, потом еще и еще, так что вся ее одежда пропиталась влагой, а хирдманы вымокли, несмотря на кожаные рубахи и плащи из тюленьих шкур. Однако теперь уже не страшно было подойти к берегу и искать место для отдыха и ночлега.
– Вот у нас молодые и испытания прошли! – смеялся Олав у костра, когда все четыре корабля встали у пустого дикого берега, чтобы дать людям отдых. – Как положено на праздник зимних ночей!
– А нам обещали, что это будет повеселее! – бормотал шестнадцатилетний парень по имени Гисль, впервые взятый в поход.
Гуннхильд не смеялась, зябко кутаясь во влажный, тяжелый плащ. Вспоминая бурю, она все более убеждалась, что этот разгул стихий случился неспроста. У нее есть враги не только в явном земном мире.
Настала темная половина года и близятся дни, когда мертвые возвращаются, а значит, ей нужно быть готовой к неприятным встречам.
* * *
– Неладно дело, конунг!
Однажды, уже после осенних пиров, к Харальду подошел Грим управитель, а с ним его жена Сигрид и Орре, парень из челяди Эклунда. Увидев своего человека, Харальд нахмурился – его приезд в Эбергорд означал новости из дома, а хороших новостей он не ждал.
– Тут вот Орре приехал. – Грим показал на парня, будто Харальд сам его не узнал. – Прислали Арне и Финна. Финна всю ночь была с хозяйкой, и говорит, неладно у нее дело.
– Что происходит? Говорите, нечего язык жевать!
– Это нам бы лучше с королевой поговорить…
– Почему с королевой?
– Ну, это, конунг, женские дела, нам в них встревать не годится.
– Женские дела! – Уж конечно, ворожба всегда считалась женским занятием. – Что такое, говори сейчас же!
– Финна говорит, как бы хозяйке ребенка не потерять, вот что!
– А! – В первый миг Харальд испытал облегчение, но тут же вновь нахмурился, одна причина для тревоги сменилась на другую. – Да, это надо сказать королеве. Пойдем.
Выслушав посланца, Тюра немедленно стала собираться. Что бы она ни думала о жене своего младшего сына, потерять внука не хотелось.
В тот же день Тюра и Харальд поехали в Эклунд и прибыли туда незадолго до вечера. Навстречу им вышла Финна, мать Арне, мудрая женщина, руководившая служанками и заправлявшая во время нездоровья хозяйки всей усадьбой.
– Ох, королева, какое счастье, что ты приехала! – Она всплеснула полными руками. – А я уж не знаю, что делать! Надо принести жертвы дисам и Фригг, а не то наша хозяйка вот-вот родит!
– Но еще рано! – воскликнул потрясенный Харальд. – Говорили же, что к йолю!
До йоля оставалось еще почти два месяца, и он никак не ждал так быстро.
– То-то и оно! – Финна озабоченно покачала головой, потом знаком предложила Тюре отойти на пару шагов и зашептала, чтобы не слышали мужчины: – У нее с утра пошли боли, говорит, будто рукой кто-то сжимает изнутри, и тяжесть, крови немного на сорочке я видела. За спину тоже хватается и стонет.
– Пойдем к ней, – заторопилась Тюра. – Харальд, останься пока здесь. Если будет совсем плохо, позовем отца.
Харальд кивнул с растерянным видом. Роды, как сугубо женское темное дело, его смущали, хотя от него ничего, разумеется, не требовалось. Зато Горм мог помочь в самом крайнем случае, ибо конунг наложением рук способен исцелять немало хворей.
Хлода лежала в постели – не поднималась с утра. Тюра давно ее не видела и ужаснулась, как плохо выглядит невестка: живот был уже велик и топорщился под широкой сорочкой, лицо стало отечным, подурневшим, немытые волосы слиплись.
Увидев свекровь, женщина вздрогнула – поняла, что дело серьезное, иначе бы ее не позвали. Но тут же немного расслабилась: теперь будет кому за ней присмотреть и помочь, насколько это возможно.
– Здравствуй, Хлода, – приветливо сказала Тюра. – Как мы давно не виделись! Что же ты не послала сказать мне, если чувствуешь себя плохо?
– Я всегда… всегда чувствую себя плохо… всю мою жизнь… – Хлода опустила голову на измятую подушку и уткнулась в нее лицом. – Лучше бы мне умереть поскорее!
Она говорила с трудом, будто совсем отвыкла от человеческой речи за месяцы молчания.
– Успокойся, все будет хорошо. Расскажи, что с тобой.
– Болит… – Хлода положила руку на нижнюю часть живота. – И дергает… и сжимает…
– Ребенок шевелится?
– Да. Сильно шевелится. И так мокро…
– Ложись на левый бок, – распорядилась Тюра, бросив взгляд на Финну: ее тревоги подтвердились. – На спину не ложись, от этого схватки будут сильнее. Может быть, еще удастся остановить роды и ты доносишь до срока. Пусть заварят пустырник, вот, я привезла. – Она сунула в руку служанке мешочек с сушеной травой. – Финна, давай лохань. В отхожее место ей не дойти, а надо срочно освободиться. И ей нужно выпить побольше воды.
Пока Финна возилась с лоханью и поила Хлоду водой, Тюра произнесла молитву к дисам, а потом начертила на животе Хлоды руну Исс, стараясь затворить чрево, остановить то, что уже начиналось, но слишком рано.
Однако руна Льда не помогла: Хлоду лихорадило, а мокрое пятно на сорочке расползалось все шире. Сорочку уже поменяли, но и на новой появилась кровянистая влага.
– Не сдержать, хозяйка! – шептала Финна Тюре, принюхиваясь. – Я уж сколько родов приняла, я по запаху чую – она скоро родит! Надо взывать к дисам, чтобы все прошло благополучно!
Она наклонилась вытереть Хлоде лоб.
– Уйди! – вдруг вскрикнула молодая женщина так истошно, что Финна в испуге отпрянула. – Уйди, я не хочу тебя знать! Он не твой! Он мой, я не отдам! Ты же умерла! Тебя же убили, тебе раскроили голову, я видела!
– Что с тобой? – охнула Тюра, холодея от страха.
– Я знаю, ты мертва! – Хлода вскинулась, привстала, прижавшись спиной к подушке, и мимо женщин смотрела куда-то в угол. Ее и без того большие глаза сейчас стали огромными, в них отражался ужас. – Проваливай обратно в Хель, дохлое чучело, нечего тебе здесь делать!
В покое было почти темно, лишь два светильника горели на сундуке. В углах сгущались тени, и Тюре вдруг почудилось, что рядом стоит еще кто-то, кроме нее и служанки. Кто-то стоял и слушал слова, обращенные не к ней и не к Финне.
Дрожа, Тюра обернулась туда, куда был устремлен невидящий взгляд Хлоды. В углу стояла сотканная из сумрака фигура без лица. И тогда вскрикнула сама Тюра, пошатнулась, – она узнала черную женщину из своего сна!
Невольно она кинулась к двери, желая бежать, но оглянулась и увидела, что в углу пусто. Тюра остановилась, привалилась к стене, прижав к груди руку и стараясь отдышаться.
– Что с тобой, хозяйка? – К ней шагнула испуганная Финна. – Тебе тоже мерещится? Мне все чудится, будто кто-то тут стоит… какая-то баба черная, страх такой, прямо бы и убежала! С прошлой еще ночи она тут, я не смела сказать… Стоит, будто ждет чего. Стоит и ждет…
– Это она! Ведьма! – Хлода елозила по постели, будто искала, как бы спрятаться среди подушек, смятых простыней и сбившегося одеяла. В сорочке, растрепанная, изможденная, она была лишь тенью прежней красавицы и сама напоминала не то ведьму, не то привидение. – Она не может здесь стоять, она умерла! Спросите ту рыжую! Она сама ее убила, этим Харальдовым топором, которым он бьется на праздниках! Убила! Улла мертва. Она больше ничего не может!
Вдруг лицо ее исказилось и стало совсем бессмысленным от страха; Тюра и Финна подались друг к другу и разом глянули в темный угол.
– Это ее мать! – вскрикнула Хлода, и голос ее сорвался на визг. – Та старая ведьма, что хотела съесть Харальда маленького! Она пришла за ним! За моим ребенком! Но я его не отдам! Она дала мне его, но сказала, что заберет, но я не отдам!
– Кто дал тебе… что дал? – прошептала Тюра, снова приблизившись и глядя на невестку с таким ужасом, будто та на глазах начала обрастать волчьей шерстью.
Хлода связалась с ведьмами! Занималась колдовством! А Харальд все думал, будто дочь Олава повинна в чем-то таком, и проглядел ведьму у себя дома!
– Дала мне… рунную кость, – отвечала Хлода, но едва ли понимала, кто с ней разговаривает, ибо смотрела все в тот же темный угол. – В ту ночь перед праздником Госпожи, когда Харальд спал в кургане с этой рыжей… Он был в кургане. Я знала, что он там с ней вдвоем, я пошла к Улле, и она сказала… Сказала, что я понесу, но отдам ей ребенка, когда…
– Но как же ты согласилась? – Тюра в испуге и негодовании всплеснула руками.
Ей не показалось удивительным то, что невестка, мучимая ревностью и страхом за свою участь, прибегла к помощи какой-то колдуньи. Все в округе давно считали наложницу Харальда бесплодной, а это позор и для нее, и для рода; вот-вот ей грозило быть отосланной на дальний хутор, чтобы дать место более удачливой и любимой дисами женщине, и только великодушие Харальда спасало ее от изгнания. Многие женщины, не дождавшись пользы от жертвоприношений, обращаются к духам. Но отдать ребенка ведьме?
– Мне нужно было… иначе он взял бы ее… Но я – мать его наследника… Я буду матерью! У меня будет сын! Я не отдам! А-а! – Хлода болезненно вскрикнула и схватилась за живот.
– Ляг на левый… – начала было Тюра, но Финна махнула рукой.
– О дисы, воды отошли! Началось!
Схватки были частыми, и промежутки между ними выдавались куда короче обычного. Тюра испуганно косилась на темный угол, и туда же бросала взгляд Хлода, когда могла открыть глаза.
– Лежи на боку! – наставляла ее свекровь, помогая удерживать нужное положение. – Все идет слишком быстро, а у ребенка еще совсем мягкий череп, ты раздавишь его!
– Уходи! Я не отдам! – задыхаясь, выкрикивала Хлода, не замечая двух женщин, которые хлопотали возле ее лежанки, и разговаривая с кем-то, кого они не видели.
– Нужно посылать за конунгом! – Тюра обернулась к Финне. – Скажи Харальду, пусть за ним кто-нибудь съездит, иначе не успеть!
Финна кинулась вон; когда дверь открылась, чтобы ее выпустить, по всему дому разнесся истошный крик, такой дикий, будто его издала троллиха. Сама Тюра, опытная, стойкая женщина, с трудом сдерживала желание убежать, но это была ее невестка, ее внук. Потеряв недавно любимого сына, она страстно жаждала найти ему замену в новом члене рода, мечтала увидеть, как древо Кнютлингов снова разрастется, и не могла допустить, чтобы засохла эта малая веточка, отпрыск ее ныне единственного сына Харальда. Женщина, кричащая на измятом ложе, должна была дать жизнь новому конунгу данов! И Тюра изо всех сил старалась помочь ему появиться на свет.
Не глядя назад, она всем существом ощущала, как из темного угла наползает тьма, и стремилась своей спиной загородить от нее роженицу. Ее трясло, зубы стучали, по коже прошел мороз. В ушах шумело, перед глазами плыло – сама ее королевская кровь, текущая от богов, сопротивлялась натиску злого колдовства. Финна уже сидела на полу, привалившись головой к лежанке, и медленно сползала, будто во сне.
Вдруг распахнулась дверь. Тюра обернулась и с громадным облегчением увидела, что это муж. Она не ждала его так скоро.
– Мне не сиделось дома, я понял, что надо ехать к вам! – воскликнул Горм. – Ну что?
– Ты должен помочь, здесь рядом ведьма! – Тюра вцепилась в его руку окровавленными пальцами и обернулась к темному углу. – Она там! Эта глупая женщина забеременела с помощью колдовства и обещала отдать ребенка ведьме! Она пришла за ним!
– Где это видано, чтобы Кнютлинги отдавали детей ведьмам? – возмутился Горм. – А ну, дрянь такая, иди сюда!
Он выхватил меч и шагнул в темный угол. Там было пусто.
– Помоги! – Тюра снова позвала его к ложу.
Горм с размаху вонзил меч в щель стены в самом углу, запечатав путь темным силам, и вернулся к жене.
– Положи руки вот сюда! – наставляла Тюра. – Видишь, уже головка выходит!
Схватив руку Хлоды, она начертила угольком на ладони роженицы три руны – Беркана, Йер и Манназ, помогающие в таких случаях.
– Вот так. Финна, ты пеленку подогрела? Да очнись же, старая коза, нашла время сомлеть!
Финна встрепенулась и принялась неловко подниматься, испуганная более от того, что заснула не вовремя и рассердила хозяйку. Потом побежала на кухню, где Тюра еще раньше велела подогреть возле огня несколько пеленок.
– Давай сюда! Клади вот так. Хлода, потерпи, осталось чуть-чуть. Дисы, помогите нам!
Наконец младенец выскользнул на подложенную пеленку – крошечный, красно-бурый, нелепый, похожий на маленькое чудовище. Тюра, ждавшая этого мгновения, стремительным движением рассекла поясным ножом пуповину, чтобы кровь не утекала из крошечного тельца, и перевязала ее.
И вдруг… В тесном душном покое стало так холодно, что Горм невольно охнул. Прямо за лежанкой встала высокая черная тень, с другой стороны – вторая.
– Они! – взвизгнула Тюра и отшатнулась, взмахнула окровавленным ножом с коротким лезвием.
Она узнала черных женщин из своего сна. Все это время они незримо присутствовали где-то рядом, заглядывали из небытия, ждали своего часа. И он настал, их добыча была готова.
Обе тени одновременно потянули тонкие длинные руки к крошечному существу на пеленке. Казалось, эти руки могут тянуться бесконечно, на любое расстояние.
Тюра порывисто шагнула вперед и успела первой схватить ребенка.
– Не отдам! – в ужасе и ярости крикнула она и попятилась, наткнулась спиной на закаменевшего Горма. – Он наш! Я не отдам моего внука! Убирайтесь прочь, мерзкие твари! Пусть Тор поразит вас!
Горм безотчетно обнял ее сзади, желая защитить и женщину, и ребенка, но вдруг опомнился, повернулся, кинулся в угол, схватил рукоять своего меча, вырвал его из стены и взмахнул над головой Тюры, отсекая тянущиеся к ней черные тени.
– Прочь! Именем Тора – прочь!
Меч сверкнул, распарывая воздух, и черные тени пропали.
Еще какое-то время Горм и Тюра стояли неподвижно, только дрожали с головы до ног: конунг в одной руке держал меч, выставив его вперед, другой обнимал жену, прижавшую к себе окровавленный комочек. Они не знали, сколько прошло времени, но наконец беспокойство о ребенке заставило Тюру очнуться.
– О дисы! Финна! Давай пеленки! Нужны теплые пеленки, пусть их непрерывно греют! Иначе он у нас замерзнет. Позови еще кого-нибудь, уже все кончилось! Конунг, поди пока в грид, нам нужно ее помыть.
– Уж больно он у нас маленький да хлипкий! – вздыхала Финна, принимая у Тюры младенца и обмывая теплой водой. – Сомневаюсь я, чтобы из этого вышел толк!
– Из него непременно выйдет толк! – Горм наконец решился убрать меч в ножны и потер руки. – Позовите уже Харальда! У него сын родился! Надо скорее его окропить и дать имя. Я сам это сделаю!
– И помогите… – Тюра наклонилась над роженицей, взялась за одеяло, чтобы ее укрыть. – Надо ее вымыть, и все тут поменять. Исса! Гейра! Идите сюда, все уже кончилось. Что вы встали, девушки? В первый раз видите недоношенного ребенка?
Еще две служанки протиснулись к Хлоде и застыли возле лежанки, не зная, за что приняться, не понимая, жива ли хозяйка. Хлода лежала на спине, неподвижно, веки ее были полуопущены. Обильно продолжала идти кровь, расплываясь на простыне широким черно-багровым пятном.
– Заварите скорее гусиной травы! – распоряжалась Тюра. – Финна, у тебя тут есть гусиная трава?
В грид созвали всех домочадцев, Тюра вынесла обмытого и завернутого в согретую пеленку младенца. Подали чашу с освященной водой и пару веточек можжевельника, ребенка вручили Харальду. Затаив дыхание, люди смотрели, как он берет на руки сына, тем самым признавая свое отцовство: помня о разладе между супругами, люди шептались, что, возможно, Харальд откажется от ребенка. Но он взял его и замер, боясь дышать и не в силах поверить, что это крошечное существо, скорее похожее на лягушонка или мокрого котенка, чем на человека, будет следующим после него конунгом данов.
– И я даю этому мальчику, сыну моего сына Харальда, имя Свейн! – провозгласил Горм, побрызгав на младенца водой. – В честь моего прадеда, Свейна, сына Сигфреда, он был очень крепкого здоровья и прожил почти семьдесят лет.
Водою младенца Я освящаю, Пусть будет здоров он Роду на радость. Мечи не коснутся Свейна в сраженье, И невредимым В битвах он будет.– Лив, где ты? – Финна деловито расталкивала домочадцев, отыскивая служанку, что родила пару месяцев назад. – Покорми его. Хозяйка… еще не очнулась.
– Да и вообще не стоит ей кормить, – Тюра вздрогнула, вспомнив крики и черных ведьм, которых Хлода сама впустила, пообещав отдать им ребенка. – Вот почему мне снились в последнее время эти черные женщины! Ей не суждено было стать матерью, но она пыталась колдовством обмануть судьбу. А этого делать не следует: если самому пытаться переделать пряжу норн, силой вырвать то, чего тебе не положено, судьба отнимет что-то другое, чтобы вернуть равновесие.
– Пойдем взглянем, как она. – Горм кивнул Харальду, который, к своему облегчению, уже отдал младенца новоназначенной кормилице.
Тюра первой тихонько приоткрыла дверь спального чулана и вошла. При звуке ее шагов служанка Исса повернулась, на лице ее отразились испуг и растерянность.
– Я не виновата! – шепнула она и горестно всплеснула руками. – Мы поили ее гусиной травой, но она не хотела пить и все пролила. Я думала ее укрыть получше, а смотрю…
Тюра шагнула ближе. Хлода лежала на спине, веки ее были полуопущены, лицо застыло.
– Она еще сказала…
Не отводя глаз от бледного лица невестки и разметавшихся влажных волос, Горм взял безвольно лежащую на одеяле руку Хлоды и пощупал запястье. Жилка не билась.
– Что сказала?
– Сказала, «ах так, ну ладно»… Или «значит, вот как». Что-то в этом роде. Я Финну позову…
Служанка выскользнула за дверь, еще раз испуганно оглянувшись на пороге. Тюра взялась за руку мужа и глянула на Харальда. В этом тесном покое их уже было не четверо, а трое. Хлода пыталась обмануть судьбу, а судьба поступила с ней честно: дала, что просили, и взяла то, что причиталось взамен. Дав ребенка, забрала жизнь. Так всегда бывает с теми, кто желает больше, чем ему суждено.
* * *
Хлоду опустили в землю через два дня, почти тайком. Пышных похорон не стали устраивать: не годится это для женщины, что связалась с черной ворожбой. Точно знали об этом только Горм с женой и сыном да Финна, которой строго наказали молчать. Тюра сама начертила на ладонях покойной защитные руны и приказала положить ей в могилу все вещи, одежду, посуду, утварь, чтобы покойная у Хель ни в чем не знала нужды. Все же она была королевского рода и дала жизнь одному из Кнютлингов. Шел дождь, на открытом поле за святилищем, где хоронили умерших, дул ветер, и Тюра зябко ежилась под плащом.
Как различны могут быть судьбы женщин, рожденных ровней! Дочь королевского рода может сама стать королевой и получить после смерти высокий курган, в который уйдет с рабынями, лошадьми, повозкой, кроватью и прочей утварью, что достанет на целый дом. А может сделаться пленницей, наложницей, умереть первыми же родами и быть уложенной в могилу, почти как простая служанка, только платья у нее с собой будет побольше. И то потому, что Тюра не хотела отдавать платья Хлоды никакой другой женщине, будто в них таилась зараза.
Радовало, что крошечный мальчик, Свейн, сын Харальда, хоть и родился недоношенным и слабеньким, все еще был жив, ел, спал. Его постоянно держали в нагретых пеленках – с недоношенными так делают первые два месяца жизни, пока не настанет настоящий срок им выходить из материнской утробы. Понимая, сколько раздоров и опасностей подстерегает род Кнютлингов, в котором осталось лишь двое взрослых мужчин, Тюра хотела непременно сохранить этот крошечный отпрыск своего рода, способный дать со временем новую поросль.
Горм и Харальд не были на погребении Хлоды, но не потому, что не хотели проститься с женой и невесткой. В тот самый вечер, когда она умерла, в Оружейную долину, что возле святилища, начали съезжаться бонды. С незапамятных времен, еще пока здесь не было конунговой усадьбы, два раза в год все свободные мужчины Средней Ютландии от восемнадцати до пятидесяти пяти лет собирались сюда, на древнее священное место, на оружный смотр. Весной вожди смотрели, сколько людей у них есть, оценивали их снаряжение и боевой дух и в соответствии с этим замышляли летние походы. Осенью, когда собирают урожай и подсчитывают добычу, оценивают также и потери – сколько бойцов не вернулось из летних походов. Несколько дней парни и зрелые мужи проживали в шатрах и шалашах, в походных условиях, сами, без женщин и челяди, готовили еду и посвящали время различным воинским упражнениям и состязаниям. А главное, учились действовать на поле боя сообща: держать строй, ходить и бегать, не ломая его, выстраивать стену щитов и разбивать вражеские построения, слушать и понимать сигналы рога. Именно благодаря таким учениям жители Северных Стран собирали внушительное войско. Ведь мало «владеть» оружием, то есть иметь старую секиру на стене за сиденьем; нужно еще уметь с ним обращаться, да не в одиночку, а вместе с соратниками.
В прежние годы, с тех пор как сыновья Горма подросли, Кнут и Харальд разбивали бондов на два войска и противостояли друг другу: на поле, в лесу, устраивали игры с обходами и засадами. Теперь Харальд остался один, и вождем второго войска стал сам Горм. Немаловажной частью этих действ было обучение и посвящение парней: подростки начинали посещать оружные смотры вместе со старшими родичами лет с десяти, и отрокам из знатных семей на очередном сборе, в двенадцать-тринадцать лет, торжественно вручали мечи. Прочие в течение нескольких лет упражнялись и состязались между собой, а в шестнадцать-семнадцать сдавали испытания на право считаться полноценным бойцом: метали сулицы в цель, сражались учебным тупым оружием – топором, копьем, мечом. Проводился забег в полном вооружении со щитом, да еще с преодолением реки или озера. Те, кто достигал цели в числе первых, получали на завершающем пиру почетное место рядом с конунгом и приглашение в хирдманы.
На эти дни в усадьбах оставались одни женщины да рабы. Поэтому хоронить Хлоду Тюра отправилась одна, взяв с собой только челядь. Помощь, причем без всяких просьб, ей взялись оказать Кетиль Заплатка с его дочерью. Отъевшись за зиму у щедрых хозяев, Злюка уже не была такой тощей и прозрачной, хотя и красавицей не стала. Кетиль проявил при этом печальном действе распорядительность и немалый опыт: сам взялся перенести покойницу в повозку, вел лошадь под уздцы, потом сгрузил, уложил, так что приведенной из усадьбы челяди оставалось лишь немного ему помочь.
– Давай-ка я это сделаю, госпожа! – сказал он, когда из мешка извлекли черного петуха, и ловко отрезал ему голову длинным ножом с рукоятью из кривого отростка оленьего рога.
– Ты, должно быть, немало занимался такими делами! – воскликнула Тюра, глядя, как он со знанием дела обрызгивает могильную землю и тело покойницы петушиной кровью и потом укладывает тушку в ногах.
– Да уж, хозяйка, люди вроде нас часто сталкиваются со смертью, – подтвердил Кетиль, моргая здоровым глазом.
Здесь, у свежей могилы, он в своей лоскутно-заплатной рубахе, с хромотой и прикрытым глазом, был как нельзя более у места, казался каким-то стражем границы между Мидгардом и Хель. Даже неясно было сразу, к какой стороне он принадлежит и не вылез ли из этой ямы, как из окна в тот свет, пробитого для покойной.
– Больше скажу тебе: мы часто сталкиваемся с дурной смертью! С неведомой смертью! У нас есть обычай: если встретишь на дороге покойника, омой его, причеши, закрой глаза и придави камешками. Приведи в приличный вид, собери все, что при нем есть, до последней малости и уложи в могилку. Ну, если очень нужно… Скажем, если твои башмаки совсем прохудились и подметки веревочкой привязаны, а у покойника еще ничего, то можно взять их за услугу, только надо поговорить с хозяином, чтобы он не обиделся и не думал, будто его ограбили. А то ведь следом пойдет, чего хорошего? Я вот знал одного, за ним десять лет ходил покойник, у которого он нож и миску взял. Он уж давно тот нож в море бросил, а миску сжег, да не помогло, мертвец так и ходил за ним: и в Бьёрко, и в усадьбах Вестеръётланда, и на Готланд за ним перебрался! Я когда его встретил, он ждал корабля на Сюслу: думал, туда мертвец за ним не пойдет, но да я сомневаюсь… А надо по-хорошему: так, мол, и так, я тебя похоронил, друг, а ты мне за это отдай свои башмаки, ведь в Хель они тебе уже не понадобятся, там ты иные дороги будешь топтать…
Тюра содрогнулась, вообразив разговор нищего с незнакомым мертвецом, таким же бродягой, умершим где-нибудь под осенним хмурым небом, среди торфяного болота… И невольно бросила взгляд на башмаки Кетиля, но те, к счастью, оказались почти новыми, видно, подарил кто-то из соседей. Он по-прежнему носил обмотки, сшитые из кусков разной ширины и разных цветов, и ей подумалось, что часть этих обрывков тоже может быть наследством незнакомых мертвецов…
Так или иначе, но с грустным делом погребения женщины, которая связалась с ведьмами и умерла нехорошей смертью, Кетиль справился ловко. По обычаю уложив покойницу в устланный шерстяной тканью кузов от повозки – ей ведь ехать в долгий путь до самой страны Хель, – он разместил вокруг разную утварь: вертел, чашу, кубок, котел, нож, оселок, ларец с разными мелочами. Полюбовался на дело своих рук.
– Знаешь, хозяйка, а я бы еще ей кол в грудь вогнал, – сказал он, когда оставалось лишь закрыть покойницу плащом. – Как бы не начала она вставать…
– О асы, что ты говоришь! – Тюра в ужасе всплеснула руками.
– Ну, или хотя бы руки колышками ко дну прибить. Сдается мне, так будет лучше.
– Нет, это слишком! – Тюра покосилась на служанок и двух рабов, стоявших с лопатами и готовых засыпать могилу. – Если мы это сделаем, пойдут слухи, что жена Харальда была ведьмой. Моего внука будут звать сыном ведьмы. Я не могу этого допустить.
– Но кто же будет болтать? – Кетиль поморгал. – Я не буду. Я понимаю эти дела. Ты тоже не будешь.
Тюра показала глазами на слуг. Кетиль сделал легкий знак, указав вниз, в могилу. И Тюра поняла: он предлагает ей убить после погребения четырех лишних свидетелей!
– Нет, нет, не стоит! – Она зябко сжала у горла ворот плаща, и без того прочно сколотого круглой позолоченной застежкой, и отошла на несколько шагов.
– Как знаешь, хозяйка! – Кетиль пожал плечами. – А сдается мне, это ты напрасно!
Могилу засыпали и сделали невысокий холмик. Кетиль, вспомнив о том, что покойная минувшим летом успела принять крещение, пробормотал молитву, в которой никто не разобрал ни слова. Потом все отправились в Эклунд, где Тюра хотела побыть с новорожденным внуком, пока мужчины не вернутся с оружного смотра.
Погода не радовала: дождь, начавшийся во время погребения, продолжался до самого вечера, и женщины вздыхали, жалея мужчин, которые сейчас под открытым небом мечут сулицы и учатся ходить строем, держа щиты перед собой. В очаге горел огонь, но Тюра куталась в плащ на меху: ей было холодно, неуютно, пробирала дрожь.
С наступлением темноты вернулись воспоминания о черной женщине в углу. Тюра все посматривала на Лив, рослую, румяную молодую женщину, которой было велено не спускать конунгова внука с рук и менять гретые пеленки. Мальчик вел себя спокойно, Лив дремала, не забывая его укачивать. У нее было уже четверо своих детей, а ее последнего младенца сейчас держала ее сестра-подросток.
Тюра оглядывалась, вздыхая. Дом выглядел так, будто в нем давным-давно нет хозяйки: скотина в хлеву унылая, вокруг очага полно старой золы, некоторые камни вывалились, котлы почищены кое-как, по углам кости и всякая плесневелая ветошь, под столом рыбьи головы, в доме воняет, в кладовых почти пусто… Хлода в последнее время совсем не следила за хозяйством.
Но уж новая хозяйка первым делом наведет порядок, хотя бы ради того, чтобы стереть всякий след и память о хозяйке прежней. Как хорошо, что на осенние пиры пригласили Олава с семьей. Если он еще не нашел жениха для Гуннхильд, теперь снова станет возможным то, что было задумано в конце прошлой зимы… Конечно, свадьба без предварительного обручения считается несерьезной, и чем дольше помолвка, тем больше чести, поэтому-то многие знатные люди обручают своих детей еще маленькими. Правда, в этом случае есть риск, что жених или невеста не доживут до свадьбы. Асфрид рассказывала, что у ее внучки был жених, один из внуков Бьёрна Шведского, но погиб на Восточном пути, когда ему было всего четырнадцать лет. А потом она была обручена с Кнутом… Хм, а нельзя ли как-то перенести обручение старшего брата на младшего и считать, будто Харальд обручен с Гуннхильд уже полгода? Ведь родные братья – это почти одно и то же…
Какие странные мысли лезут! Это оттого что голова болит… Так всегда бывает: когда голова болит, легче разговаривать с богами… или это голос бога, проникая в сознание, порождает боль?
– Что-то ты дрожишь, хозяйка! – заметила Финна. – Хочешь, я тебе заварю шиповника?
– У Харальда что-нибудь осталось от того бочонка вина, который подарил Хорит?
– Должно было остаться немного. Хозяйка его берегла. – Финна вздохнула.
– Подогрей мне вина и положи туда меда и шиповника. Так будет лучше.
– Да уж… – Финна поднялась и пошла в спальный чулан.
Там, поближе к хозяйскому ложу, хранилось дорогое красное вино, которое в Дании видели нечасто.
– Уж теперь новая хозяйка у нас будет, свои порядки наведет… – бормотала женщина по пути.
– О чем ты? – остановила ее удивленная Тюра.
– Да уж теперь Харальд женится на той девушке, что была обручена с Кнутом, – обернулась Финна.
– С чего ты взяла? – изумилась Тюра, которая сама только что об этом думала.
– Да чего уж? Все знают. Раз она была невестой старшего, то теперь младшему надо ее взять за себя. А он-то давно на нее поглядывал, я примечала…
Вот так. Сам Харальд еще не знает – или делает вид, будто не знает, – что теперь-то ему непременно сосватают дочь Олава, а челядь говорит об этом как о решенном деле!
Тюра выпила горячего вина с шиповником и медом, а еще заботливая Финна добавила туда отвара ивовой коры, которая помогает при лихорадке, снимает жар и головную боль. От напитка королева согрелась, приободрилась, взяла у Лив ребенка, снова задумалась, держа его на коленях. Надо попробовать вынуть руны для него. Раз ему уже дано имя, значит, он настоящий человек и у него есть судьба.
Вдруг в гриде повеяло холодом. Тюра подняла голову, хотела крикнуть, чтобы болван закрыл дверь как следует – и осеклась. Никто не подходил к двери и не открывал ее, но сразу в двух дальних углах она увидела темные фигуры. У них не было лица, они словно были закутаны с головой в черные плащи. Но она сразу поняла, что это женщины: одна из них стара, а вторая средних лет. Как норны. Норны всегда приходят к новорожденному, чтобы наречь ему судьбу. Но их бывает три. Где же третья, младшая?
Тюра огляделась. В покое, бок о бок с ней, сидели люди: женщины шили, рабы возились со всякой мелкой ручной работой, дремали дети, свернувшись калачиком, лежали собаки. Но ей казалось, она здесь одна, вернее, с младенцем на руках, и от всех остальных их отделяет невидимая преграда.
И едва она подумала о третьей норне, как увидела ее прямо перед собой, в нескольких шагах. Эта женщина тоже была в черном, но Тюра увидела ее лицо – лицо Хлоды.
– Отдай мне его! – произнесла призрачная гостья. Тюра слышала ее голос совершенно ясно и в то же время знала, что никто другой его не слышит. – Я вернулась за ним. Он мой. Я дорого за него заплатила и не хочу расставаться с моим сыном.
– Нет, – шепнула Тюра и крепче прижала к себе мальчика.
Это единственное, что она могла сделать, руки и ноги не слушались. Да и куда убежишь от тех, для кого стены и расстояния не преграда?
– Отдай. Я заберу его. Вы погубили мой род, вы погубили много славных родов, стремясь собрать все земли данов в свои руки, и вам это не пойдет даром. Проклятья ваших врагов обрушатся на вас. Отдай мне моего ребенка. Только он может стать наследником моего мужа.
– Не отдам, – шепнула Тюра, хорошо понимая сказанное: если она отдаст младенца, род Кнютлингов не получит продолжения.
– Вам так суждено. Или я заберу моего мальчика, или он отомстит за меня, когда вырастет. Он будет преемником отца, но он же принесет гибель своему отцу. Он станет славным конунгом, а его сын – еще более славным, и Датская держава на многие века сделается сильнейшей из всех стран Севера. Но дорога к славе Дании лежит через вражду отца и сына, и тот, кто одерживал победы, сам будет побежден. Отдай мне его, отдай мне последнее, что осталось мне от моего рода.
– Это мой род…
– А если он войдет в твой род, то станет оружием моей мести.
– Уходи! – выдавила Тюра и, с трудом подняв онемевшую руку, начертила в воздухе знак молота.
Призрак исчез. Тюра быстро глянула по углам – тех двух черных женщин тоже не было. Но она дрожала так сильно, что едва удерживала ребенка. Голова кружилась, в ушах шумело.
– Давай-ка, хозяйка, ложись-ка спать! – заявила Финна, с беспокойством на нее поглядывая, и забрала младенца. – Лив, возьми. А мы пойдем ложиться. Хозяйка устала – и страхи все эти, и ночи не спать, и в поле еще сегодня ходила…
Она увела Тюру в спальный покой и уложила, натянула на ее ледяные ноги высокие шерстяные чулки, тоже сначала погрев их у огня, накрыла хозяйку двумя одеялами и медвежьей шкурой, заварила целебных зелий: гусиной травы, ивовой коры, белой кувшинки, чтобы снять жар, головную боль и помочь заснуть.
Всю ночь Финна и еще две служанки не спали, охраняя покой госпожи, подносили отвары, вытирали ее потный лоб. Тюра не то спала, не то впадала в забытье, ее трясло, бросало в жар и холод. Иногда она бормотала что-то, с кем-то разговаривала, иногда слабо вскрикивала, и тогда Финна держала ее за руки, пытаясь успокоить. Кашляла, постанывая от острой боли в груди.
– Нет… нет… не отдам… – бормотала она, будто отмахиваясь от кого-то. – Во славу… Дании…
Утром лучше не стало, и тогда Финна решилась послать в Оружейную долину за конунгом.
* * *
Когда наконец приехала молодая госпожа Ингер, оба дома – Эбергорд и Эклунд – пребывали в ужасе, горе и беспорядке. Служанки рыдали, убежденные, что на род Кнютлингов обрушилось проклятье и не будет от него покоя, пока не умрут все – или хотя бы все женщины. Мужчины ходили мрачные. В усадьбах толпились хёвдинги и хирдманы, самые смелые из соседних хозяек пытались как-то управлять челядью, готовить погребение и поминальный пир, но не знали толком, где что есть и есть ли вообще, а спрашивать Харальда и Горма не смели. Оружный смотр, хоть уже закончил дела, не разъезжался: всем хотелось знать, что будет дальше.
Прибытие гостей из Южной Ютландии в эти мрачные дни пришлось не очень кстати, зато среди них были две женщины, и это облегчило положение Горма и Харальда. Известие о внезапной смерти матери обрушилось на Ингер, едва она переступила порог родного дома. Гуннхильд тоже была потрясена: она успела привязаться к Тюре, истинной королеве, мудрой, доброй, справедливой и отважной женщине. А к тому же она была матерью Кнута и Харальда! Только за то, что она произвела его на свет, Гуннхильд чувствовала к ней нежность и благодарность, не говоря уж о том, что к ней самой и к Асфрид Тюра всегда была добра.
Однако после смерти родича у оставшихся есть одно спасение: в ближайшие дни им просто некогда предаваться скорби, а неизбежные заботы смягчают первый удар и дают возможность как-то свыкнуться с мыслью о потере. Люди одобрительно отзывались о твердости, с какой держались в эти дни Ингер и Гуннхильд, а они просто не имели времени плакать, ибо надо было привести в порядок оба дома, оставшиеся без хозяек, собрать вещи для погребения Тюры, подготовить поминальный пир.
– Я очень благодарен вам обеим, – сказал им Горм утром на четвертый день, после того как Тюру уложили в могилу, над которой впоследствии предполагалось насыпать большой курган. – Вы справились, как настоящие королевы.
– Ты что-то решил насчет поминального камня? – спросила Ингер.
– Да, я велел Офейгу заняться этим.
– А что там будет написано?
– Разве могут слова передать, какой прекрасной женщиной и истинной королевой была ваша матушка? Мы напишем просто: «Горм сделал этот камень для своей жены Тюры. Во славу Дании».
Гуннхильд вздохнула. Действительно, настоящая любовь не вмещается в слова, но и не нуждается в словах. Никто не может вполне передать достоинства умершей, но и тысячу лет спустя люди будут видеть этот камень и знать, что ее любили. Любовь, запечатленная в камне, проживет века.
Невольно она бросила взгляд на Харальда. В эти дни они часто сталкивались, но почти не разговаривали, только по делу. У Гуннхильд разрывалось сердце от сострадания и невозможности как-то ему помочь. Ничего нельзя сделать, когда человек теряет мать, потому что никто и никогда ее не заменит.
– У нас прибавился один, а потеряли мы двоих, – добавил Горм. – Нужно как-то восстанавливать равновесие… и численность нашего рода. И нам обязательно нужна хозяйка в доме – не могут же две королевские усадьбы быть брошены на попечение одной челяди. Особенно когда в этих усадьбах живут два короля, двое мужчин в расцвете сил! – Он попытался улыбнуться. – Ингер придется уехать в свой новый дом, но ты-то хотя бы останешься с нами?
Он взял Гуннхильд за руку, и у нее потеплело на сердце. Горм смотрел на нее с добротой и грустью, и хотя за эти дни он сильно осунулся и постарел, глаза запали, а седины прибавилось, он был еще очень даже неплох как мужчина.
И она снова глянула на Харальда – что он об этом думает?
Харальд отвел глаза.
– О чем ты говоришь, конунг? – в смятении пробормотала Гуннхильд.
– Я хочу, чтобы ты, возможно, с отцом вместе, осталась у нас на зиму. На йоле мы могли бы справить обручение, а весной, в День Госпожи, и свадьбу. Ибо никогда, с тех пор как Тюра была молода, не встречал я женщины, столь достойной быть украшением Дании.
– Но о ком…
– Ты сможешь сама выбрать, кто из двух женихов тебе больше подойдет – лето или зима, Тор или Зимний Турс. – Горм снова улыбнулся, бросив взгляд на мрачного сына. – А если Харальд не пожелает ввести в свой дом новую хозяйку, я-то уж не откажусь от своего счастья.
– Спасибо, конунг.
Гуннхильд отошла, подавляя улыбку. Она давно знала, что так или иначе сумела завоевать сердце Горма, и он готов увидеть в ней если не невестку, то невесту. Вот ей и представилась возможность стать не просто королевой Дании – без промедления, – но и мачехой Харальда!
* * *
Гуннхильд проснулась раньше обычного срока, даже раньше, чем служанки пошли к коровам – теперь ей приходилось следить за тем, чтобы они не проспали. Перед самым пробуждением она видела сон и теперь помнила его совершенно ясно. К ней будто бы подошел Сигурд Щедрый и подарил руническую бляшку – деревянный кружок, где была вырезана вязаная руна. Гуннхильд помнила, что во сне принялась внимательно разглядывать руну, пытаясь понять, что она означает, и сейчас знак отчетливо стоял у нее перед глазами. В том была некая странность: вязаные руны наносят на амулет, ради отвращения зла или привлечения блага, но во сне появление любой руны нужно скорее рассматривать как предостережение или пророчество. Но о чем ее предупреждают боги? Руна была «одноногая», то есть включала знаки с единственной продольной чертой. Основой служила руна Тюр, это несомненно. Еще здесь читалась руна пути и руна текущей воды, особенно любимая Гуннхильд. В отношении вязаных рун всегда остается простор для догадок – в том-то их сила, что никто не может точно знать их смысла, кроме создателя-эриля. В переплетенных чертах можно было увидеть и одно, и другое. Но Гуннхильд чуяла, что знак обещает резкие и неожиданные перемены, потери чего-то, но и обретение.
Она вздохнула, пытаясь опять заснуть. Последний год ее жизни был сплошной чередой изменений, потрясений, потерь и обретений. Но подобный сон она увидела впервые. Означает ли это, что ее путь наконец-то приблизится к какому-то итогу?
Но заснуть она не могла, напротив, ее не оставляло ощущение, что нужно встать и одеться. Она действительно села и поправляла чулки, собираясь поскорее раздуть угли и заново разжечь огонь, как дверь девичьего покоя вдруг открылась, кто-то вошел.
Этот кто-то был высок, явно мужчина. Почему-то Гуннхильд сразу исполнилась уверенности, что это Харальд, и сердце оборвалось.
Он подошел к ее лежанке, наклонился и тут разглядел, что она уже не спит.
– Ты проснулась? Хорошо, – вполголоса произнес он. – Вставай и буди всех.
– Что-то случилось?
– Да. Приехали люди… На нас идет твой жених Хакон с целым войском. Если ветер не переменится, он будет здесь уже сегодня.
– О боги! – Гуннхильд поднялась на ноги. – Но если ему не повезло как моему жениху, то виновата не я.
– Знаю. Это я виноват, тебя я не виню. Может быть, он за тобой и явился. Но я больше не стану мешать тебе жить. Если хочешь пойти к нему, я постараюсь это устроить. Не потому что я испугался его войска, тролли б его драли… – Харальд вздохнул, подавляя досаду. – А потому что… На нас, похоже, и впрямь лежит проклятье, и я не хочу, чтобы ты разделила его с нами.
– Никуда я не пойду! – Гуннхильд подалась ближе и вцепилась в его руку.
И даже сейчас тепло его тела, ощущение мышц его предплечья под двумя рубахами были ей приятны и успокаивали. Казалось, рядом с ним не может грозить никакой опасности. Они слишком долго были врагами, но сейчас, когда то свадьбы, то похороны наконец сделали их ближе, рядом с ним она чувствовала себя защищенной и не намеревалась расставаться с этим блаженным чувством. Наконец-то она в доме, который он, ее Тор, будет защищать!
– Даже если мой отец пожелает этого, я не пойду к Хакону. Я останусь с вами.
– Ты решила стать моей мачехой? – усмехнулся Харальд и накрыл ее ладонь своей. Он был почти спокоен, в его смехе слышались усталость и решимость.
– Всегда мечтала о таком сыне, как ты! Мне нравится ваш дом, я привыкла к этим краям и ни в какую Норвегию не поеду!
– Твой отец тебя к Хакону не пошлет.
– Он уже знает?
– Да, мы мужчин первыми разбудили. Олав уже держит речь перед хирдманами, что все даны должны забыть раздоры и сплотиться перед норвежской угрозой. Его любовь говорить речи порядком утомляет, иной раз хочется отобрать у него рог и разбить о его голову, но на сей раз он прав. Ну, давай, одевайся! – Харальд отцепил от себя ее руки и подтолкнул к лежанке. – Готовьте как можно больше еды, режьте скотину, варите кашу, не жалейте ничего. Слава Одину, у нас еще две тысячи человек в Оружейной долине! Надо их накормить перед боем.
– На две тысячи у нас тут котлов не хватит! – Гуннхильд едва не испугалась огромности этой задачи.
– Отбирайте припасы, которые можно послать туда. Они уже собирались разъезжаться сегодня, потому что свои подъели. Я послал людей сказать, чтобы готовились драться. Все пиво, что есть, тоже туда. Завтра нас уже накормит Один.
Он вышел, а Гуннхильд, разбудив служанок, лихорадочно принялась одеваться. Теперь стало ясно, что за испытания и перемены обещал ей сон. И вот почему рунный знак ей вручил Сигурд Щедрый – перемены несут норвежцы. Что ж, этого следовало ожидать. У Хакона Доброго отняли подряд двух знатных невест: одну Инглинги, другую Кнютлинги, и все ради того, чтобы с помощью этих девушек взаимно породниться. Свадьбу Ингер и Рагнвальда Сигурд видел своими глазами, и у него же Харальд отнял Гуннхильд – пусть он не сумел увезти ее с собой, но и с Сигурдом она дальше не поехала. Хакону, как и его мудрому ярлу, нетрудно было сделать вывод, что за этим последует. Хакон был воспитан в христианской вере, славился миролюбием и стремился со всеми ладить, но все же и он не более других северных королей способен был прощать столь явные оскорбления. Видимо, осенний оружный смотр в подвластных областях и его снабдил войском, пригодным для отмщения. Именно сейчас, в начале зимы, когда никто ничего подобного не ждал.
Одно Гуннхильд знала твердо. Из Дании она не уедет так же верно, как погребенная в этой священной земле Тюра. И если ей суждено стать королевой, то только здесь.
* * *
Харальд не ошибся: ветер не переменился, и корабли Хакона лишь немного отстали от легкой ладьи с острова Фюн, предупредившей о нашествии. Собирать суда, чтобы посадить на них все воинство из Оружейной долины и встретить врагов в море, времени не было, и Горм намеревался дать сражение на суше. Окрестности Эбергорда предоставляли для этого достаточно ровных пространств.
Гуннхильд и Ингер хлопотали все утро, стремясь приготовить еду и распределить припасы. Из кладовых Эбергорда выгребли все соленое и вяленое мясо, рыбу, весь ячмень и пшеницу. Но Горм велел ничего не жалеть: если мы победим, то живой наживает, а если нет, зачем оставлять добро врагу?
О том, что будет с ними в случае поражения, Гуннхильд и Ингер сейчас было некогда волноваться. Прощаясь с войском, они старались думать, что это ненадолго, и вселять уверенность в мужчин своим бодрым видом. Они даже успели переодеться в крашеную одежду и причесаться, так что, поднося уходящим вождям рог, снова были похожи на двух валькирий. Отпивая понемногу, каждый из вождей поднимал рог к небесам и плескал на землю, прося покровительства у воинственных богов – Одина, Тюра, Тора и Фрейи.
Олав облачился в кольчугу, грязную кожаную рубаху, повидавшую немало всяких превратностей, зато шлем у него был новый – подарок Атли Сухопарого. Привезенный с Восточного пути, этот шлем был не похож на привычные северные – высокий, с накладками из золоченой бронзы и узорами вроде резных листьев, с двумя шипами на уровне висков, похожими на маленькие рожки.
– Вперед, сыны Гевьюн! – восклицал Олав, прохаживаясь среди дружины. Ожидание близкой драки воодушевило его и прогнало подавленность. – Мы победим, пусть бы хоть все нынешние и старые конунги норвежцев, восстав из могил, явились к нам!
И радостно размахивал мечом. У этого человека было много недостатков, но в храбрости и присутствии духа перед боем ему никак нельзя был отказать.
Гуннхильд не слышала, что сказала Ингер Рагнвальду, подойдя проститься с ним. В эти мгновения их лица были озарены особым светом, падавшим только на них двоих. Даже Гуннхильд ощущала, что брат, проживший с ней всю жизнь в одном доме, теперь так близок с этой молодой женщиной, словно это у них общая кровь – не одинаковая, а именно общая, делающая их единым целым каждый миг жизни. Это та любовь, о которой говорится в сказаниях, от которой свободные знатные женщины пронзают себя мечом на погребении погибшего и добровольно уходят из жизни – пусть в мир мертвых, лишь бы вместе с ним.
Подойдя с прощальным рогом к Харальду, она молчала. Она могла бы сказать, что он для нее лучший на свете из мужчин, ее Тор, единственный, ради которого ей хочется жить. Что она уже твердо знает – ее место рядом с ним. Ей все равно, какой державой он будет править и будет ли; она готова разделить его судьбу, какой бы она ни была, преодолевать вместе любые испытания, потому что только с ним ее жизнь будет иметь смысл. И она не отступит, даже если жизни этой придет конец уже сегодня к вечеру.
Но она не могла этого сказать, будто зачарованная. Едва ли он сейчас вообще думал о ней – он, на днях похоронивший жену, а затем и мать, увидевший новорожденного сына, а потом – непримиримого врага возле своего дома. Что ему до нее?
Харальд тоже ничего не сказал, но, вернув рог, наклонился и поцеловал ее. У Гуннхильд оборвалось сердце, она даже не знала, как понять это – как знак привязанности или всего лишь дань обычаю? Но как бы то ни было, она хранила в памяти этот поцелуй, тепло и мягкость его губ, колкое прикосновение усов и бороды, как некий залог их будущей встречи – не важно, в каком из миров.
Она оглянулась на Горма. Так и осталось неясным, кто из двоих, отец или сын, станет ее новым женихом. Да и глупо думать об этом, пока неизвестно, доживет ли до вечера хоть кто-то из них троих! Все мыслимое будущее сейчас умещалось в сегодняшнем дне.
Но Горм не смотрел на них. Впервые Гуннхильд увидела его в боевом облачении и должна была признать, что Горм в кольчуге и шлеме, с копьем в руке, мечом у пояса и щитом на плече выглядит точь-в-точь, как любой из древних конунгов, кого она воображала, слушая сказания. Еще крепкий мужчина, до сих пор не прекращавший воинских упражнений, он излучал твердость и отвагу, объяснявшие, почему этому человеку покорились все земли данов и ютов.
Гуннхильд стояла перед ним с рогом в руках, но он смотрел куда-то мимо нее. Она оглянулась через плечо – там не было ничего особенного.
– Спасибо, Тюра! – с теплом и нежностью в голосе произнес он. – С тех пор как я впервые увидел тебя – мне тогда было всего шестнадцать, а тебе пятнадцать, и ты показалась мне прекрасной, как юная богиня! – ты оберегала и поддерживала меня, и я знаю, что мы не расстанемся до самого смертного часа.
И на миг опустил веки, улыбаясь, точно подтверждая обещание.
У Гуннхильд похолодело внутри, даже волосы на голове шевельнулись. Она бросила взгляд на Харальда: он тоже слышал слова отца и был ими потрясен. Горм видел Тюру! Но помнил ли он в эти мгновения, что она мертва и ему явился лишь призрак? А если помнил, то его уверенность означает… И жену ли он видел или свою фюльгья, которая приняла наиболее желанный для него облик?
Когда все ушли, Гуннхильд и Ингер остались во дворе усадьбы вдвоем, не считая челяди. Ингер подняла голову, будто высматривала кого-то среди быстро бегущих серых облаков.
– Попробуйте только к нему подойти! – тихо, но с суровой угрозой произнесла она. – Он мой, и никому из вас я не советую тянуть к нему ваши жадные руки!
Гуннхильд вынула Кольцо Фрейи из красного шелкового мешочка и надела, спрятав под рукав. В ближайшее время ей понадобятся все ее силы – и даже больше.
* * *
Войско двигалось между сжатых полей, растянувшись толстой пестрой змеей. Потом остановилось на равнине неподалеку от моря. Здесь были знатные хёвдинги с собственными дружинами и стягами, бонды со взрослыми сыновьями и работниками, простые рыбаки с побережья – все те, кто собрался в Оружейной долине на смотр и теперь был вынужден выйти навстречу врагу. А впереди реял стяг самого Горма – черный ворон на красном шелковом поле, вышитый когда-то молодой королевой Тюрой. Каждый конунг бьется под своим собственным стягом, который вручает ему мать, жена или сестра, а по прошествии лет с этим же стягом он ложится в могилу, дабы и в Валгалле его бывшие воины – ждут ли они уже там или последуют за ним через какое-то время – сразу могли увидеть вождя и вновь занять свое место в строю.
Большинство пришло пешком, лишь знатные люди сидели в седлах. Каждый, от конунга до рыбака, надел свои лучшие одежды: если сумеешь победить, возместишь урон за счет врага, а если погибнешь, то не идти же к Отцу Ратей в обносках?
Небо было серым, моросил легкий дождь. На серой глади моря виднелись паруса. Много парусов. Многие принялись считать.
– Если сейчас побежим, то успеем к берегу раньше, чем они высадятся, – заметил Олав, подъехав к Горму.
– Не стоит этого делать, – покачал головой тот. – Если придется бежать, то весь строй рассыплется: одни отстанут, другие запыхаются, и придется потратить много времени, чтобы опять собрать и построить людей. Не думаю, что Хакон даст нам это время. Вот удобное место, зачем его менять? Это же Хакон так жаждет с нами повидаться, что отправился в дорогу чуть ли не зимой, вот пусть и пошевелит ногами!
Слышавшие его слова засмеялись.
– Он малость припоздал!
– Мы уже съели все жертвенное мясо!
– Норвежцы будут глодать кости!
– Они ничего другого и не заслуживают!
– Это всегда были голодранцы, что ходят по гостям, лишь где почуют дым над котлом!
Горм тем временем обратился к Олаву.
– Такому опытному и прославленному воину, как ты, я доверю самое ответственное место. Под твое начало отойдет еще пятеро хёвдингов с их дружинами, но ты будешь над ними старшим, как подобает конунгу. – Умный Горм давно понял, как нужно обращаться с новым родичем, если хочешь добиться от него толка. – Ты встанешь с ними на правом крыле, и я буду спокоен за него. Вы не отступите ни на шаг. Идти вперед не нужно, просто держать правый край. Это будет нелегко, но я не сомневаюсь в тебе.
– Ты прав, родич! – воскликнул Олав. – Я не отступлю ни на шаг! А может, нам лучше…
– Прошу тебя, сделай, как я сказал, – мягко, но твердо перебил его Горм. – Главное для нас действовать согласованно, и все получится как надо, если каждый будет делать свою часть общего дела.
Олав всегда не любил исполнять замыслы, созданные кем-то другим, и поэтому всю жизнь ссорился со старшим братом Сигтрюггом Злодеем; но, поскольку он сам часто призывал воинов послужить общему делу, против этих слов Горма у него не нашлось возражений.
Войско выстроилось, перегородив долину стеной щитов. Это было величественное зрелище: после летних походов все обзавелись новыми щитами и выкрасили их, так что теперь долина пестрела яркими пятнами, будто весенний луг. Цветы войны, подумалось Харальду. Он стоял на левом крыле, откуда ему была видна вся протяженность строя. В середине трепетал черно-красный стяг Горма, справа – белый вепрь на синем поле, стяг Олава, посвященный Фрейе. Ведь она из тех богинь, что одной рукой несут жизнь, а другой – смерть. Харальд ясно видел ее сейчас: прекрасная рыжеволосая дева, сидящая верхом на вепре с золотой щетиной, улыбалась ему с призывом и лукавством, как старому знакомому.
Да, и он давно ее знает… Давно? Он впервые увидел ее чуть более полугода назад, но уже тогда ему показалось, что он знал ее всегда. Эту рослую стройную фигуру с пышной высокой грудью, волны янтарных волос, ясные светло-серые глаза, золотистые веснушки на немного вздернутом носу, румяные губы, так легко и охотно расцветающие улыбкой – всю ту пленительную, манящую, вдохновляющую, порой пугающую и все равно желанную стихию женщины, чья природа так отлична от его мужской природы и именно поэтому является ее неотделимой частью. Фрейя провожала его на этот бой, молчаливо обещая дождаться и встретить: на этом свете или на том, в усадьбе Эбергорд или в небесных палатах, где щиты вместо кровли. Главное, они будут вместе. Это так же верно, как то, что каждый из них является собой, ведь это единство заложено в сути каждого из них. Однажды ему открылась эта истина, и больше он не забывал о ней, хотя и не всегда ему удавалось примирить свою человеческую судьбу со своей божественной природой, что дремлет в каждом человеке из рода конунгов. Но сейчас, чувствуя где-то рядом тень богини Хель, Харальд знал: смешно и нелепо пытаться загасить в себе этот божественный огонь. Если такие, как он, сделают это, тьма повиснет над всем человеческим миром.
Ну да хватит об этом. Тряхнув головой, Харальд вернулся мыслями к настоящему и подозвал к себе невысокого молодого хирдмана с длинными и пушистыми, на зависть любой девушке, светлыми волосами.
– Слушай меня, Тьяльви! Сейчас ты возьмешь Флоси с сыновьями, – Харальд кивнул на сухенького мужичка в рубахе из грубой некрашеной шерсти, окруженного тремя рослыми юношами, – и подбери еще человек сорок, помоложе. У каждого должен быть лук или не меньше трех метательных копий. Я распорядился взять их с запасом. – Он кивнул на несколько вязанок сулиц, лежащих на земле. – С этими людьми ты встанешь позади строя. Место здесь ровное и открытое. Когда начнется, веди своих в обход и напади на норвежцев сбоку и со спины. Не ввязывайтесь до времени в ближний бой, действуйте стрелами и копьями.
– Звучит не слишком-то достойно, – криво ухмыльнулся Тьяльви.
– Когда станешь хёвдингом, будешь рассуждать, что достойно, а пока делай что говорят. Скажи людям, я на них рассчитываю. И никто не останется без награды… из тех, кто уцелеет, – пробормотал Харальд почти про себя, когда Тьяльви отошел.
Впрочем, каждый из пришедших на это поле отлично знает, что у него лишь две возможности: либо остаться в живых, либо погибнуть. Но в том и в другом случае, как учит старая притча, надлежит рубить мечом обеими руками, не щадя себя, так что разницы никакой.
В свой отряд Тьяльви отобрал бедняков или молодых парней, которые еще не бывали в походах и даже не обзавелись шлемами («шапка валькирии», как их называют скальды, удовольствие недешевое), зато имели резвые ноги и острый глаз. Вскоре позади строя щитоносцев и копейщиков собрался разношерстный отряд сплошь из рыбаков и земледельцев. Возглавлявший их Тьяльви в своей красной рубахе и начищенном шлеме смотрелся как яркий мак среди прошлогодней стерни. Чем не хёвдинг?
– Подошли к берегу! Высаживаются! Высадились! – время от времени разлетались по войску вести от гонцов.
Но и высадившись благополучно на берег, Хакон не спешил посылать своих людей в наступление.
– Уснули они там, что ли? – ворчали истомившиеся ожиданием хирдманы и ополченцы.
– Штаны мокрые меняют.
– Да сколько ни меняй, все равно обмочатся со страху.
– Их конунг молится своему богу. А это дело долгое, я в Бьёрко видел.
– Идут!
Наконец норвежцы показались у входа в долину. Строй растекался, как вода, прямо с ходу вытягиваясь в стену щитов. Олав только выругался, глядя на это: его, часто меняющей состав, дружине о такой выучке оставалось лишь мечтать. По рядам данов прошло движение: люди надевали шлемы, поднимали стоявшие у ноги щиты, в последний раз проверяли оружие.
Приблизившись на расстояние полета стрелы, войско Хакона замерло, словно давая врагу время себя рассмотреть и устрашиться этой молчаливой мощи. Харальд отметил обилие стягов знатных людей: видимо, его зять Эйрик в это лето не нападал на норвежские берега, дав Хакону возможность сохранить войско в целости. Подвел дорогой родич… А ведь часть людей Хакон еще оставил охранять корабли.
Из рядов противника вышли несколько воинов, прикрывавших щитами рослого человека в синем плаще. Его лицо было гладко выбрито, голова непокрыта: богато отделанный золотом шлем с узорчатой личиной он нес на сгибе локтя. Над его головой трепетало белое шелковое знамя с изображением воина, поражающего мечом жуткого змея. Все думали, что здесь изображен древний герой Сигурд, убивающий дракона Фафнира, и только сам Хакон знал, что это святой Георгий, поражающий совсем другого гада.
Навстречу им из рядов датчан вышли телохранители Горма. Сам конунг не торопясь шагал рядом со своим знаменосцем. Остановившись на половине пути, он первым, как и надлежало хозяину, окликнул пришельцев:
– Кто вы такие и зачем пришли на мою землю с оружием и под боевыми стягами? Чего вы здесь ищете?
– Ты знаешь меня, Горм, сын Хёрдакнута, – надменно отозвался хозяин золоченого шлема. – Я – Хакон, сын Харальда, конунг Норвегии. Нетрудно было бы тебе догадаться, кто пришел, после того как за одно лето ты и твой новый родич Олав, конунг Южной Ютландии, дважды нанесли мне оскорбление! Ты позволил Олаву отнять у меня твою дочь, обещанную мне в жены. Я, как подобает христианину, готов был простить вас и принять другую жену, равную ей по роду и достойную моего положения – дочь самого Олава. И тоже получил согласие родичей девушки, обручился с ней при посредстве моего ярла, но на сей раз ее предательски, как викинг, отнял твой сын Харальд! Или вы думали, что я разиня и увалень, которого всякий может оскорблять как пожелает! Что я позволю говорить обо мне, что с меня любой желающий хоть штаны может стащить? Никогда этого не допустит сын моего отца! Но я готов сохранить тебе жизнь, Горм, и даже не стану подвергать твою землю разорению, если вы вернете мне невесту со всем приданым и вирой за нанесенную обиду.
– Так какую же невесту ты хочешь получить? – Горм поднял брови. – Первую или вторую?
– Я хочу увидеть их обеих и выбрать ту, которая мне придется по нраву.
– Моя дочь уже замужняя женщина, купленная даром и словом, твой ярл знает об этом, ибо присутствовал на свадьбе. Дочь Олава еще в девушках, но видишь ли… – Горм помедлил, мучая своего собеседника. – Несколько дней назад мы разом овдовели – я и мой сын Харальд. Мы еще не решили между собой, кто из нас посватается к дочери Олава, но уж никому другому мы ее не отдадим. Об этом и речи быть не может.
– Скажу тебе честно, Горм, сын Хёрдакнута: я не был такого низкого мнения о тебе, чтобы ждать, что ты примешь мои условия, – усмехнулся Хакон. – Пусть Бог рассудит, кто из нас достойнее. Готовьтесь к смерти.
– Тогда прощай, Хакон, сын Харальда, – учтиво кивнул Горм. – Когда бы ни случилось нам умереть, после смерти мы уже не встретимся. Но если ты передумаешь и придешь стучаться в ворота Валгаллы, я, так и быть, замолвлю за тебя словечко: сын Харальда Прекрасноволосого всегда будет этого достоин, ибо носит титул конунга от рождения. Тебе перед отцом не будет стыдно, что ты поклонился какому-то чужому британскому богу?
Хакон поджал губы в досаде, потом сказал, как выплюнул:
– Да смилуется милосердный бог над вашими душами, язычники!
– Конина-то была вкусная? – крикнул кто-то из ближних рядов Гормовой дружины, и все засмеялись.
По всем Северным Странам известен был рассказ, как норвежские бонды на йольском пиру силой принудили своего конунга-христианина поесть жертвенного мяса.
Плюнув в гневе, Хакон вернулся к своему войску. Стена щитов раскрылась, принимая его, и сомкнулась вновь.
– Ну, теперь-то наконец начнется, – проворчал бородач справа от Харальда.
– Пора бы, а то еще обед пропустим! – поддержал его другой голос, молодой и звонкий.
Харальд ухмыльнулся. Он стоял во втором ряду, вооруженный секирой на длинном древке – это оружие, хорошо подходившее к его высокому росту, длинным рукам и ногам, он любил более других. Меч Синий Зуб висел у бедра.
Прозвучал рог, и Хакон двинул своих людей в наступление. Стена норвежцев быстро надвигалась. Люди Хакона шли скорым шагом, уверенно держа строй. Датчане пока стояли, изготовившись к короткому броску навстречу врагу.
Коротко и хрипло взвыл датский рог: захлопали тетивы луков. Кто-то из норвежцев завалился назад со стрелой в глазнице, кто-то уронил щит. Потом взвились в воздух метательные копья – с сухим треском они вонзались в щиты, втыкались в землю под ногами наступающих, ранили и убивали. Норвежцы не отвечали, лишь прибавив шаг и пригнув к щитам венцы шлемов, будто шли против сильного ветра.
Когда до противника осталось меньше десятка шагов, датский строй шагнул вперед. И тут же, словно только этого и ждали, в норвежском войске тоже прозвучал рог. Высокий и чистый звук пронесся над полем. Норвежцы разом ударили копьями – почти в упор. А из середины норвежского строя с яростным ревом вперед устремился клин – прямо туда, где вился на высоком древке стяг Горма.
На острие вражеского клина, прикрывшись щитами, шли два великана, выделявшиеся свирепым видом. С жутким воем вломившись в ряды датчан, берсерки, не ведающие страха и боли, косили врагов клинками, будто колосья. Сразу за ними следовал воин в белой одежде, гладко выбритый, как и сам Хакон-конунг, с поднятым бродексом. Это был ирландец Донах из ближней конунговой дружины, который вместе с ним прибыл в Норвегию из Англии. Перед боем Донах поклялся принести голову Горма или умереть. Теперь он рычал не хуже берсерка, нанося во все стороны страшные удары.
Норвежский железный клин смял датский строй и схлестнулся с телохранителями конунга. Одному берсерку начисто снесли голову ударом секиры, другой сцепился сразу с тремя конунговыми хирдманами. Донах рванулся вперед, делая широкий замах: его страшный удар разрубил древко знамени и лицо знаменосца. Стяг с черным вороном рухнул под ноги, и его мгновенно затоптали. Неистовый Донах вновь поднял оружие, метя в шлем конунга с золотым драконом на гребне. Лишь один удар отделял его от выполнения клятвы. Но сразу два копья приняли ирландца и отшвырнули тело в кровавый водоворот сражения. Телохранители Горма попятились, но не отступили, смыкаясь над павшими и яростно обороняя своего вождя.
* * *
На правом крыле датского войска сражались Инглинги со своими людьми и теми, кого Горм отдал им под начало. Все шло как обычно: Олав отличался личной храбростью, но совершенно не думал о пользе дела. Вернее, думал так, как сам ее понимал, а не как ему советовали умные люди. О просьбе Горма – держать свой край и не рваться вперед – он начисто позабыл.
– Там впереди все лучшие люди Хакона! – завопил он, увидев, как вражеский клин сминает строй посередине. – Убьем его, и победа будет нашей! Вперед! За мной!
И, широко взмахнув мечом, ринулся на врага. Целью его был белый стяг Хакона.
– Вперед! – ревел он, неистово работая клинком. – О нас сложат песни! Прославим наш стяг!
Поначалу Олаву удалось довольно глубоко ворваться во вражеские ряды, но следом за ним устремились лишь его собственные люди. А их было не так много, и это были не столь могучие герои, чтобы противостоять лучшим воинам Норвегии, которых Хакон поставил в голову клина. Вскоре одни ютландцы отстали, другие были убиты или ранены. Вырвавшийся вперед Олав оказался среди врагов один. Лишь Рагнвальд держался позади него, ловко орудуя копьем под прикрытием дядиного щита – собственный щит он закинул за спину, чтобы иметь обе руки свободными.
Но по сторонам от конунга никого из своих не было. Олав вскинул руку с мечом, чтобы нанести очередной удар – и в этот миг в его открытый правый бок вошло копье кого-то из норвежцев. Кольчуга была порвана, Олав споткнулся, захлебываясь криком и кровью, и тут же боевой топор ударил его по голове, опрокидывая на землю.
– Ко мне! – отчаянно заорал Рагнвальд. – Конунг ранен!
Стоя над телом Олава, он ожесточенно колол копьем во все стороны. Один из норвежцев опрокинулся, получив удар прямо в глаз, другой, сунувшийся было вперед, покатился по земле, оглушенный копьем, как дубиной.
– Ко мне! – вновь закричал Рагнвальд и вдруг поперхнулся.
Кто-то из норвежцев вырвал из тела под ногами сулицу и метнул. Острие попало Рагнвальду в грудь и пробило кольчугу. Он пошатнулся от удара; жесткий холод перебил дыхание, враз ослабели сжимавшие оружие пальцы. Рагнвальд упал прямо на тело родича, словно и в последний миг желая его защитить.
* * *
На левом крыле сражение развивалось для датчан более успешно. Благодаря твердому руководству бойцы Харальда не отступили ни на шаг.
– Держать строй! Бей их, бей! – во все горло орал Харальд, нанося удары по вражеским головам поверх собственного строя.
Тьяльви со своим легковооруженным отрядом не подвел. Когда правое крыло норвежцев втянулось в бой, его люди выбежали вперед, обходя их с боку. Стрелы и сулицы засвистели, легко находя поживу, вонзаясь в незащищенные бока и спины – кольчуги были даже не у каждого десятого, а щит прикрывал воина лишь спереди.
Люди Хакона пришли в замешательство, многие стали разворачиваться лицом к новой опасности, кто-то отвечал на выстрелы. Норвежский строй дрогнул, напор ослаб, и Харальд понял, что время пришло. Нельзя упускать миг удачи.
– Вперед! – проревел он, перекрывая шум битвы. – Вперед! О-о-дин!
Его секира, будто молот Тора, обрушилась на вражеский щит; пытаясь прикрыться от удара сверху, норвежец пропустил укол копья, согнулся и упал.
– Вперед! Боги видят нас!
Широкое лезвие бродекса почти начисто снесло голову норвежцу, стоящему чуть правее. Свирепый и неукротимый, будто сам бог грома в вековечном сражении с великанами, Харальд развалил грудь еще одному противнику, не успевшему освободить застрявшее лезвие топора. Вокруг сражались его хирдманы, прикрывая вождя с боков. Строй норвежцев начал разваливаться, стремительно откатываясь назад.
Нижний острый выступ бродекса, скользнув по чужому шлему, застрял в кольцах бармицы. Харальд рванул оружие на себя, подтягивая врага, как пойманную рыбу, и кто-то из его людей поспешил того прикончить. Освободить секиру не получалось. Харальд бросил ее, выхватил из ножен Синий Зуб, телохранитель поспешно сунул ему в руку поднятый с земли щит. И вовремя: возле умбона тут же вонзилась брошенная сулица.
* * *
Сам Хакон-конунг в бою не участвовал, стоя позади рядов в окружении знаменосца и телохранителей. В середине построений, куда он бросил личную дружину, шла дикая рубка. Стяг Горма упал, но противник продолжал ожесточенно сопротивляться. Бой слева перешел в мешанину из отдельных схваток, где с каждой стороны было по несколько человек.
Отважный и необдуманный порыв Олава изменил многое: оба строя распались, но датские бонды со своими отрядами, сплотившись вокруг вождей, продолжали биться. Раненый знаменосец, венд по имени Яр, с обычным молчаливым упорством удерживал синее знамя Олава, и большинство участников боя даже не знали, что конунг погиб. Справа же норвежцы дрогнули и покатились назад: спереди на них давила дружина Харальда, а сзади продолжали осаждать стрелами и сулицами молодые воины Тьяльви.
– Сигурд, как же мне тебя не хватает! – пробормотал Хакон.
Далеко не молодой ярл еще не настолько оправился от ран, чтобы пойти в новый поход, и Хакон передал ему на это время свои полномочия в Норвегии. Не думая, что пожилой воин сможет заметно повлиять на ход сражения, Хакон тем не менее был угнетен его отсутствием. Его языческий «крестный», принявший младенца при появлении на свет и давший ему королевское имя, Сигурд с отрочества оставался его ближайшим родичем, другом, советчиком, наставником, и даже разделившие их вопросы веры не нарушили этой связи. Хакон, давно уже взрослый, зрелый мужчина и отважный воин, без Сигурда чувствовал себя будто без любимого меча – сражаться можно и другим, но той уверенности нет.
В это время сбоку закричали: «Конунг!» Хакон обернулся: один из его людей, Эгиль Паук, отчаянно махал синим плащом – судя по богатой шелковой отделке с вышивкой, женским, будто хвастался добычей. Хакон понял этот знак.
– Труби отход! – через плечо велел он оруженосцу.
Заслышав сигнал «Все ко мне!», норвежцы потянулись назад, сбиваясь в тесный строй вокруг знамени. Как всегда, кто-то в горячке боя не услышал рога, кто-то не смог пробиться к своим. Схватка шла по всему полю. В иных местах бойцы рубились один на один, не замечая никого, кроме противника и его меча, в котором сосредоточились жизнь и смерть.
* * *
Натиск в середине поля ослаб. Люди Хакона отступали, и теперь Горм повел своих людей вперед. В его годы нелегко было выдержать столько усилий, но он ничем не показывал усталости. И уж тем более он не боялся смерти. Горм был уже тех лет, когда мужчине стоит опасаться позорного рабского конца на постели; по примеру легендарного Харальда Боевого Зуба, седеющие конунги нередко затевают войны с соседями лишь затем, чтобы найти славную гибель на поле боя. И Горм сейчас не замечал усталости: его несла волна невероятного воодушевления, он чувствовал себя защищенным, будто его укрывает невидимый щит, и в то же время необычайно остро ощущал все происходящее вокруг, слышал каждый звук, видел каждую мелочь.
А главное, он видел ее, свою валькирию. Прекрасная дева лет пятнадцати, с распущенными волосами, одевающими ее золотистым облаком, точно такая, какой он впервые увидел ее без малого сорок лет назад, находилась где-то рядом: ни спереди, ни сзади, ни сбоку, ни даже сверху. Она просто была с ним, как часть души – лучшая часть. И вместе они пребывали в ином мире – в том, где сами боги молоды.
* * *
Берсерк Тормод Бык из дружины Хакона с проклятием столкнул с себя мертвое тело. Это был еще довольно молодой, в расцвете сил крупный мужчина, с намечавшимся брюшком, круглолицый, с кудрявыми волосами ниже плеч и ярким румянцем на щеках. В самом начале боя они с Асвардом Белым шли на острие клина, но потом битва разлучила их. Тормода оглушили ударом по шлему, сбили с ног, а потом его завалило телами убитых. Однако он был жив и через какое-то время опомнился настолько, что смог разбросать кровоточащие, стынущие, тяжелые, будто бревна, тела и выбраться на волю. Без шлема, в залитой своей и чужой кровью рубахе из черной бычьей шкуры, он поднялся и под обломками разрубленного щита нашарил рукоять своего меча.
Не замечая боли в разрубленном бедре, за шумом крови в ушах не слыша призывов рога, Тормод видел лишь врагов. Обеими руками он сжал рукоять меча; жуткая ухмылка сияла во всклокоченной бороде. Пьяный от боя и запаха крови, Тормод шагнул навстречу Горму. Он шатался, но был огромен и грозен, как ходячая гора. Ничего человеческого в нем не осталось – ни страха за себя, ни способности чувствовать боль, ни жалости к врагам; его несло боевое безумие, он был воплощением всесокрушающей стихии войны.
* * *
Тень упала на лицо Горма, и он быстро повернулся. Перед ним был человек-гора – страшный, огромный, залитый кровью, с занесенным над головой мечом. Вздыбившиеся волосы вились над головой, будто грозовая туча.
Горм привычно вскинул щит, принимая страшный удар; треснуло дерево, щит раскололся до умбона. Конунг шагнул вправо, ударил мечом – и отличный франкский клинок начисто отсек противнику левую руку. Но берсерк будто не заметил! Удерживая оружие в правой, он пнул нижний край Гормова щита, освобождая оружие, и снова ударил. Брызнули звенья кольчуги, тяжелый клинок, рассекая ключицу, глубоко вошел в тело.
Горм упал навзничь и уже не видел, как воины добивали воющего берсерка. Над ним раскинулось огромное, ярко-голубое небо с бегущими облаками, и он вдруг различил в них фигуры прекрасных всадниц. Вспышка света ударила по глазам – юная Тюра в радостном порыве протянула к нему руки. И поле боя, залитое кровью и заваленное телами, вдруг оказалось где-то далеко-далеко внизу…
Сбив строй и лишь иногда оборачиваясь, чтобы отогнать наиболее ярых преследователей, норвежцы отходили к кораблям. Датчане наседали со всех сторон, но, измотанные и израненные, не спешили класть головы. Харальд сорвал голос, пытаясь за всеми уследить и всех направить куда надо. Он видел, что из четырех вождей остался единственным на поле.
И тут его внимание привлек крик позади:
– Смотрите, дым! Усадьба горит!
* * *
В грид ворвалась служанка с вытаращенными глазами:
– Сюда идут норвежцы!
Ингер и Гуннхильд разом вскочили, а в грид уже валила толпа челяди, оставшейся в усадьбе.
– Норвежцы! Идут сюда! – К ним устремился управитель, напуганный, как и все прочие. – Хозяйка, надо уходить!
– Но где же конунги?
– Идет сражение!
– Но разве… норвежцы уже прорвались?
– Нет, это другой отряд, они пришли в обход поля! Не похоже, чтобы они участвовали в сражении, они не ранены, и все у них в порядке.
Гуннхильд и Ингер переглянулись. Такого они не ожидали.
– Много там людей?
– Человек двадцать!
– Да что ты, Грим, все пятьдесят! – загомонили вокруг.
– Бежим! – Ингер схватила Гуннхильд за руку и потащила к выходу.
– Но постой, может быть, нам запереть ворота и отбиваться? Здесь крепкий частокол!
– Кто будет отбиваться? Мы с тобой разве что, остальные тут глупые бабы да рабы! Даже если раздать им топоры, разве они смогут отбиться от хирдманов? А если те выломают ворота бревном? Или закидают нас горящими стрелами, тут все загорится, и мы окажемся в ловушке!
Ингер была права, и Гуннхильд больше не спорила. Толпа челяди устремилась наружу впереди них. За воротами все сразу увидели вражеский отряд: человек тридцать спешили сюда через пустошь. Шедший впереди показался смутно знаком.
– Я помню того человека! – подтвердила Ингер, бросив взгляд в ту сторону. – Он приезжал с Сигурдом!
– Точно! – на бегу подтвердила Гуннхильд, лучше знавшая Сигурдову дружину. – Это Эгиль Паук, я его хорошо помню.
– Чего ему тут надо?
– Вон они! – долетел до них голос Эгиля, словно отвечавшего на этот вопрос.
Копьем в руке он указывал на двух женщин перед воротами, одну в синем плаще, другую в красном.
Хакон-конунг имел цель не только отомстить Кнютлингам и Инглингам. Не собираясь терпеть славу одураченного, он вознамерился любой ценой раздобыть хотя бы одну из отнятых у него невест, а если получится, то и обеих. Только здесь он узнал, что у Горма в гостях новоявленные родичи – и вероломный Олав, и его дочь. Это увеличивало силу, с которой норвежцам предстояло столкнуться, но и давало возможность рассчитаться сразу со всеми обидчиками и захватить дочь или невестку Олава, не предпринимая плавание до фьорда Сле.
Увидев перед собой большое, хорошо вооруженное и сплоченное войско вместо нескольких конунговых и хёвдинговых дружин, Хакон понял, что ему, возможно, и не удастся пройти к усадьбе. И тогда он выделил три десятка человек одному из бывших спутников Сигурда, Эгилю Пауку, и послал его к Эбергорду с задачей захватить женщин. Едва ли Горм оставил много людей в усадьбе, собираясь встретить врага почти у ворот, а разогнать челядь труда не составит.
Эгиль Паук не просто помнил окрестности усадьбы – он знал в лицо обеих ускользнувших от Хакона невест. Да и любой бы сразу понял, где они, когда из ворот усадьбы выбежала напуганная толпа – две женщины в ярких нарядных одеждах выделялись в толпе серых и бурых рубах, будто цветы на груде золы. Одна из них, с женским покрывалом на голове, была в синем платье с красным хенгерком, а другая – в синем плаще. Они будто нарочно постарались, чтобы норвежцам было легко их узнать.
– Вон они! – рявкнул Эгиль, указывая копьем. – Обеих! Взять обеих! Но не повредить, иначе конунг убьет вас!
– Врассыпную! – взвизгнула Ингер, когда увидела, что норвежцы бегом устремились к ним.
Даже в этот тревожный миг у нее хватило ума сообразить, что ловить сорок женщин поодиночке гораздо сложнее, чем всех вместе. Гуннхильд выхватила у нее свою руку и со всех ног кинулась к лесу. Туда же через ближний выгон устремились и другие – бежать в открытое поле, где было святилище и курганы, или к морю, где кипело сражение, не имело смысла. Как подхваченные ветром листья, неслись женщины по широкой тропе к опушке, а за ними топотали норвежцы, издавая негодующие восклицания.
Кто-то из женщин постарше уже запыхался и повалился в траву, но на них никто не обращал внимания. Рабынь можно переловить и потом, а целью конунга были две знатные женщины. Их красное и синее платья было хорошо видно издалека, на фоне жухлой травы и полуоблетевших деревьев.
Гуннхильд давно сошла с тропы и влетела в лес так далеко от Ингер, как только могла. Она поняла: ловить будут именно их. Служанка могла бы затаиться где-нибудь и спастись, но не она.
Кто-то вдруг выскочил перед ней из-за ствола.
– Вот ты где!
Гуннхильд подалась в сторону, будто испуганная лань, но тут же узнала Кетиля Заплатку. Нищий тяжело дышал, распространяя еще более сильную вонь, чем обычно. За ним стояла его дочь.
– Давай скорее!
Без лишних слов он кинулся к Гуннхильд и, как ей показалось, попытался схватить за горло, но он всего лишь расстегнул золоченую застежку ее плаща и набросил его на плечи своей дочери.
– И это давай! – Он содрал с головы Гуннхильд шаль из белой шерсти с шелковой отделкой и тоже бросил дочери.
Злюка тут же нахлобучила его на свои жидкие волосы, а Гуннхильд с трудом убрала от лица свои, совершенно перепутанные.
– Теперь бежим! – Кетиль схватил Гуннхильд за руку своей заскорузлой ладонью и потащил за собой.
Как ни неприятно ей было его прикосновение, она не имела сил противиться. Увлекаемая нищим, она успела заметить, как Злюка, прикрыв лицо ее белой шалью и придерживая у горла синий плащ, бежит в противоположную сторону. Из-под плаща виднелся подол серой обтрепанной рубахи, да и ростом и статью она уступала дочери конунга, но едва ли у людей Хакона сейчас будет время и возможность все это заметить. Бежала Злюка так резво, что они просто не успеют ничего разглядеть, кроме знакомого сине-белого пятна между стволов.
– За нее не бойся, она уведет их подальше, а потом бросит одежду, отведет глаза и спрячется! – на ходу оглядываясь, утешил Гуннхильд Кетиль.
Честно говоря, она сейчас боялась за себя и за Ингер гораздо больше, чем за Злюку.
– А как же Ингер? – крикнула она, на ходу уворачиваясь от бьющих по лицу веток и стараясь не поскользнуться на мокрых гниющих листьях.
– Всякому своя судьба! Твой брат велел мне поберечь тебя, и я сделаю это!
Гуннхильд мельком подумала: если бы Рагнвальду пришло в голову повторить просьбу перед битвой, он скорее поручил бы заботам Кетиля свою молодую жену. Но Рагнвальд, наверное, давно забыл об этом человеке. А тот тем не менее считал, что его долг за спасение от виселицы еще не выплачен.
– Куда мы идем? – крикнула она.
– Не в Эклунд – туда могут прийти, – отрывисто бросал через плечо Кетиль, ковыляя изо всех своих сил. – Норвежцы знают это место. Мы пойдем туда, где нас никто не найдет. Я знаю хорошее укрытие. Ничего не бойся.
Вскоре они перешли на шаг: старый хромой нищий устал и запыхался сильнее, чем крепкая девушка. Гуннхильд отняла у него руку, но вонючий и драный плащ Злюки, собранный из разных кусков, пока не сбрасывала с плеч. Оглядываясь, она не замечала в лесу ничего подозрительного, крики позади давно смолкли.
Едва ли норвежцы найдут их здесь – этой местности не знала даже она сама, хоть и прожила в Эбергорде всю весну и лето. Они миновали поляну, где над пожухлой травой возвышалось кольцо стоячих камней, и Гуннхильд прошла мимо с трепетом, будто это были живые существа, загадочные и опасные. Потом начался ельник: даже осенью в нем царил зеленый сумрак, едва заметная тропа была завалена обломанными ветками – значит, никто здесь не бывал.
– Вот здесь мы укроемся. – Кетиль кивнул вперед.
Однако Гуннхильд не увидела никакого укрытия, пока он не подвел ее к холмику и она не обнаружила в этом холмике дверь. Это оказалась избушка, построенная из старых, почерневших и подгнивших плах, заросшая мхом и травой. Позеленевшая дверь почти сливалась с дерновой крышей. Издали хижина напоминала большой, местами замшелый валун.
Кетиль по-хозяйски уверенно толкнул дверь. Внутри был провал в темноту.
– Кто здесь живет? – Гуннхильд остановилась, не решаясь лезть в эту сырую нору. – Ты?
– Дочь моя думает пожить тут немного, здесь ведь никто не потревожит. Но хозяев нет, они умерли. Ты лучше всех это знаешь, ты ведь сама отправила хозяйку этого дома навек поселиться у Хель.
– Что? – Гуннхильд не сразу сообразила, что он хочет сказать. – Здесь жила… та ведьма?
– Точно так. – Кетиль кивнул. – Зато никто тебя не найдет. Про это место и здешние-то толком не знают, а уж норвежцы и подавно не сыщут. Тут можно отдохнуть. Заходи.
Он первым вошел в низкую дверь. Гуннхильд шагнула туда со страхом; ей подумалось, что можно подождать и снаружи, но она устала, очень хотелось присесть, укрыться от ветра и моросящего дождя.
Войдя, она остановилась сразу за порогом, только сместилась в сторону, чтобы не загораживать свет. Когда глаза ее привыкли к тьме, она разглядела очаг в середине, стол, какие-то полки с горшками, широкую скамью-лежанку, вроде бы ларь в углу – и все. У входа были свалены дрова – сушняк, наломанные сучья.
– Жаль, подкрепиться здесь нечем. – Кетиль с сожалением огляделся. – Вода, если захочешь пить, там, – он махнул рукой в стену, – в распадке есть ручей, видать, она туда ходила за водой. А я пойду назад, гляну, как там дела.
Он с неохотой поднялся с ведьминой лежанки и поковылял к двери.
– Не уходи никуда, – велел он, оглянувшись. – Я разведаю, за кем остался верх, и приду за тобой. Тогда и подумаем, как дальше быть.
Он вышел. Гуннхильд выглянула в дверь, но его рядом уже не было – нищий растворился в ельнике, ушел под землю, как тролль.
Она прошла к лежанке и села на краешек. Дверь закрывать не стала, чтобы не остаться в полной темноте. Сердце успокоилось, настала тишина. Полная тишина леса: если послушать такую несколько мгновений, начнет казаться, что и тебя самого вовсе здесь нет. Гуннхильд глубоко вдохнула. В избушке пахло затхлостью и прелью – она была необитаема уже несколько месяцев, запах дыма, живого человека совсем выветрился. Это если считать, что ее прежняя хозяйка была живым человеком…
Где же теперь Ингер? Удалось ей найти где-то укрытие или ее схватили норвежцы? Нет, женщина в длинных ярких одеждах, хорошо заметная и среди деревьев, и среди своих служанок, убежать от мужчин не могла. И если ее не спасло чудо… Но едва ли боги так расщедрились, что послали по чуду каждой из них. Что же будет с бедной Ингер? С Рагнвальдом? Он не вынесет, если его жена попадет в руки Хакона, он немедленно отправится ее спасать.
Рагнвальд… Отец… Горм… Харальд… Все, кто был ей дорог, в эти мгновения яростно бились с войском норвежцев. Звуки боя не могли долететь на такое расстояние, но Гуннхильд отчетливо сознавала: сейчас решается и ее судьба. Что с ней станется, если… Если ее отец и брат погибнут, это еще не будет гибелью Южной Ютландии – Кольцо Фрейи у нее. Гуннхильд в испуге вцепилась в собственное предплечье и с облегчением вздохнула – браслет был на месте, она не потеряла его во время бешеного бега через лес.
Гуннхильд вынула из-под рукава свое сокровище и положила на колени, любуясь переплетениями сквозного узора. Алые самоцветы в чашечках цветов сейчас казались черными, а сам браслет, удивительно искусное драгоценное изделие, был как слеза солнца, случайно упавшая во тьму подземелья.
Что же будет? Если отец и Рагнвальд погибнут… Если Горм окажется разбит… Кетиль выведет ее отсюда, наверное, поможет добраться до фьорда Сле: к счастью, туда можно попасть по суше, вдоль Ратного пути. Надетых на ней колец и ожерелий с избытком хватит, чтобы купить в какой-нибудь усадьбе лошадей, оплатить ночлег и еду, даже нанять кого-нибудь для охраны по пути. А дома хёвдинги Хейдабьора поддержат ее, тем более что она – Госпожа Кольца, и Кольцо Фрейи она сохранила.
Но женщина не может править страной одна, ей нужен муж, конунг! А она… Гуннхильд опустила голову: даже то, что Южная Ютландия останется без конунга, волновало ее сейчас гораздо меньше, чем то, что она может потерять Харальда! Собственная судьба заслонила все прочее. Если ее родичи погибнут, она сама отдаст владения Горму или его наследнику. Если нет больше Инглингов, Кнютлинги – лучшие вожди, которым ее родной край может себя поручить. Только бы Харальд был жив! Он не может погибнуть, ее Тор, тот, кто придает миру устойчивость. Другие мужчины по сравнению с ним казались лишь бледными тенями, и никогда она не найдет иного мужа, которого смогла бы полюбить.
Но не только норвежские мечи грозят ему гибелью. Горм рассказывал ей, как умирала Хлода и какие нехорошие гости при этом присутствовали. Одна ведьма охотилась на Харальда с детства, а другую, ее дочь, позвала его наложница, чтобы принести ему гибель. Нетрудно догадаться, почему это так. Любой из нынешних правящих родов – и ее собственный, и Кнютлинги, и шведские Инглинги, и норвежские короли, потомки Прекрасноволосого, – по пути к успеху одолели за века множество соперников, таких же племенных вождей, но менее удачливых. Страшно подумать, сколько они совершили убийств, предательств, сколько чужих родов стерли с груди богини Йорд, сколько домов сожгли со всеми обитателями. Сколько проклятий овдовевших жен, осиротевших сестер, дочерей, матерей обрушивалось на них! Предсмертных проклятий гибнущих врагов! Сколько раз они продолжали свой род при помощи жен, взятых как пленницы, после убийства всех родичей-мужчин, так что в кровь нового поколения с рождения, с зачатия, нередко насильственного, закладывалась жгучая ненависть к самому себе!
И Харальд шел тем же путем – его жена Хлода была взята как пленница. И все эти годы она таила в себе ненависть, призывала к нему злых норн, которые и так уже сторожили его.
Гуннхильд обеими руками вцепилась в Кольцо Фрейи, вглядываясь в переплетение золотых ветвей, будто пытаясь найти среди них добрый совет. Наверное, так же сияют золотом ветви и листья Иггдрасиля, могучего мирового дерева, у корней которого бьет священный источник мудрости, а рядом собираются боги и садятся норны, чтобы ткать нити человеческих судеб и резать жребии – кому добрый, кому худой…
Вокруг была полутьма – как самое начало короткой летней ночи, когда солнце где-то близко, но его не видно, когда вроде бы светло, но странный призрачный свет делает все вокруг каким-то необычным, будто под водой. Огромный ствол уходил вверх, и хотя Гуннхильд ясно слышала шум ветвей, она даже не поднимала головы, пытаясь увидеть ветви – это так же невозможно, как нельзя обычному человеку, стоя на земле, заглянуть за облака.
Перед ней бурлил источник, но окружавшие его камни были пусты. Боги завершили совет и разъехались по делам, и норны не сидели на траве со своими прялками.
Единственным живым существом здесь был сам источник Мимира – не спящий никогда, он бурлил, бросая с недостижимого дна прозрачные искристые струи. Казалось, в нем кипит не вода, а некий сгущенный дух, само знание вселенной. От этих струй каждое утро ложится роса на каждый лист и стебель земного мира, и благодаря этому Один знает обо всем, что происходит в мире: ведь второй его глаз, лежащий на дне источника, видит все, что отражается в капельках росы.
Гуннхильд взглянула и отвела глаза – не настолько она дерзка, чтобы посягать на мудрость Одина, иначе можно невольно отдать в уплату собственное зрение. Но она успела заметить, как на светлые воды источника пала тень – и обнаружила, вскинув глаза, что перед ней стоит… некто.
Сперва это была просто тень. Потом Гуннхильд узнала очертания женской фигуры, с головой закутанной в темный плащ. А потом проступило лицо – знакомое лицо, красивое, с большими глазами чуть навыкате и пухлыми губами, чей яркий цвет так не сочетался с холодом этих глаз. Сейчас они казались двумя кусочками серо-голубого льда, грязного, подтаявшего, в распущенных волосах запутался сумрак. Лицо, жуткое в своей красоте, было серым, будто измазанным землей и золой, к одежде пристали кусочки глины, на щеке застыли брызги петушиной крови. Так Хлода могла бы выглядеть, если бы на другой день после похорон выбралась из могильной ямы.
– Ты все-таки пришла… – прозвучал знакомый голос, но лицо темной норны Харальда оставалось неподвижным, губы не двигались. – Зачем?
– Я хочу знать мою судьбу, – с вызовом ответила Гуннхильд.
– Его судьбу, ты хотела сказать?
– Это и моя судьба!
– Ты так думаешь. Но у тебя еще есть выбор. На Кнютлингах лежит проклятье. Как и на всех, кто добивается в земной жизни слишком больших успехов – слишком много зла им приходится сотворить по пути. Слишком много прав попрать, слишком много крови пролить, родов прервать, клятв нарушить, сокровищ расхитить… Все это тянется за ними, как хвост дракона, становясь с каждым поколением тяжелее. Дракон начинает кусать сам себя – возникает раздор между родичами. Моя мать прокляла Харальда, сына Горма: он погубил ее сыновей, и она попросила богов перед смертью, чтобы его погубил собственный сын. Боги услышали ее – это исполнится. А я пошла еще дальше – я родила этого сына. Мститель за мой род вышел из моего чрева. И не важно, что за это мне пришлось заплатить жизнью. Не вздумай причинить ему вред! Предначертанного не изменить. И если мой сын не успеет стать взрослым, его месть возьмет на себя другой сын Харальда – рожденный тобой!
Гуннхильд вздрогнула, представив подобное, а Хлода продолжала:
– Теперь я – его норна, и я буду преследовать его, пока жизнь не опротивеет ему и он сам не станет искать смерти.
Пока она говорила, за плечами у нее будто росли черные крылья – сперва чуть заметные, как тени, они густели, становились плотнее. И вот за спиной норны Хлоды уже стоят еще две женщины. Они были закутаны в черное, но и сквозь покров Гуннхильд видела и узнавала их. Одна, средних лет, была такой же, какой она видела ее ночью на вершине холма. И в тот раз ведьма Улла была одета в сумрак. А вторая, Ульфинна, уже много лет была его неотделимой частью, так что от ее лица остался лишь голый череп.
Неколебимые, будто стоячие камни, они застыли, преграждая Харальду дорогу к счастью. Злые темные норны забрали в руки его судьбу.
Чужие проклятия волочатся за родом Кнютлингов, как драконий хвост, грязный и вонючий…
Гуннхильд опустила взгляд в источник. Там живет вся мудрость мира, так может, и ей перепадет хотя бы крошечная капелька!
А из источника на нее вдруг глянуло лицо – хорошо знакомое лицо с кривым шрамом и полуприкрытым глазом, с клочковатой полуседой бородой. «Сдается мне, Фрейя знает, что делать!» – насмешливо сказал седой и подмигнул. Глаз остался закрытым.
И как можно было раньше его не узнать?
Гуннхильд почувствовала себя увереннее. Ощутив за спиной чье-то присутствие, мельком оглянулась. Позади нее тоже стояли две женщины – старая и средних лет, со светлыми лицами в светлых одеждах, с белыми покрывалами на головах и связками ключей у пояса. Их лица она тоже отлично знала. Всю ее жизнь, от рождения до последних нелегких времен, эти две женщины, мать и бабушка, помогали и поддерживали ее и всех, кто был ей дорог.
– Помогите мне! – крикнула она и вдруг бросилась на Хлоду.
Та не ожидала ничего подобного и лишь слабо вскрикнула, когда Гуннхильд вцепилась в нее и со всей силы толкнула в источник. Сумеречная женщина сразу погрузилась с головой, а Гуннхильд, стоя на коленях, крепко держала ее за плечи, снова и снова погружая в кипящие струи.
С птичьим криком две темные норны кинулись на нее, но отлетели, как хлопья золы под порывом ветра: старая норна с лицом Асфрид встала у них на пути и подняла посох: попробуйте подойти, старые замарашки! Хлода вопила, если ей удавалось поднять лицо над водой; вот она схватилась за руку и платье Гуннхильд и потянула за собой. Но та норна, что с лицом Тюры, встала позади и крепко обхватила Гуннхильд за талию, не давая Хлоде утянуть ее в воду. Асфрид не подпускала к ним тех двух, а Гуннхильд изо всех сил кунала Хлоду в источник, одной рукой придерживала, а другой старательно терла ей лицо и волосы, пока они не стали совсем белыми. А потом вдвоем с Тюрой выволокла ее обратно на берег.
Хлода стонала, лежа на зеленой траве меж камней. Искрящаяся вода стекала с ее волос и одежды, стремительно испаряясь и собираясь наверху жемчужным облаком. Но теперь молодая женщина стала чистой, как из бани: струи источника съели все дурное и грязное, что в ней было. Кожа сделалась белее снега, волосы золотились, даже глаза, когда она их открыла, были не тусклыми кусочками тающего льда, а голубыми самоцветами вроде тех, что украшают франкские и греческие кубки.
– Теперь ты не сможешь причинить ему вреда! – выдохнула Гуннхильд, в изнеможении опустившись на траву.
Она запыхалась и тоже была вся мокрая, капли стекали по волосам и падали наземь. Но она сделала то, о чем мечтает каждый неудачник: отмыла добела свою черную судьбу, отчистила грязь. Отрубила хвост дракона.
– Этого… мало… – простонала Хлода, повернувшись к ней, но не вставая. – Мир… меняется. Новым королям мало быть потомками богов – они предпочтут стать рабами нового бога, лишь бы захватить еще больше власти на земле! Тот, кто сохранит верность старине, – проиграет. И Харальд знает об этом… Он сделает выбор – между богами и властью. Ты… отмыла меня… теперь он сделает тот выбор, что пойдет на пользу ему и Датской державе. Не знаю, какой это будет выбор. И ты не узнаешь. Пока ты с ним, он не сможет расстаться с памятью о богах, потому что ты, Фрейя, отчистила его судьбу и всегда теперь будешь рядом…
– Но сейчас ты зря теряешь время. – Кто-то тронул Гуннхильд за плечо, она обернулась и увидела склонившуюся над ней Тюру. – Он ищет тебя, свою богиню. Ищет в темном лесу своей судьбы. И если сейчас он не увидит огонь в твоей открытой двери, то может пропасть в чаще навсегда.
Гуннхильд поспешно вскочила, оттолкнувшись ладонями от травы. Нужно бежать!
И едва она подумала об этом, как обнаружила, что сидит где-то в темноте, а руки ее сжимают Кольцо Фрейи так крепко, что золотые края браслета впились в ладонь.
Сердце стучало, в ушах шумело. В глазах было темно… нет, это просто вокруг было темно. Она осторожно положила браслет на то, на чем сидела, нашла глазами открытую дверь. Уже темнело, снаружи повисли сумерки – густые осенние сумерки, вовсе не похожие на жемчужный полусвет возле источника Мимира. Да, она на земле, в ельнике, в домике ведьмы. А Харальд…
«Он ищет тебя! – настойчиво произнес в ушах голос Тюры. – Он должен увидеть свет в твоей двери!»
Гуннхильд вскочила, пошатнулась, уцепилась за край лежанки, чтобы не упасть, и принялась торопливо складывать из сухих веток и лучин на очаге подобие шалашика.
* * *
Кетиль Заплатка давно отстал – сел прямо на мох, уронив рядом свою палку, и безнадежно махнул рукой: иди сам, я больше не могу. Харальд едва оглянулся и устремился дальше. Дорогу он помнил. А если бы не помнил, то снес бы к троллям весь этот проклятый ельник. Даже усталость после битвы не могла его остановить.
Войско Хакона оттеснили обратно к морю: отряд под предводительством Эгиля Паука, не участвовавший в общем сражении, прикрывал норвежцев, пока они садились на корабли, и пал весь целиком. Половина судов осталась на берегу: для них просто не хватило гребцов. Стяг Хакона еще трепыхался на ветру, будто Сигурд-Георгий воинственно грозил мечом остающимся. Иные из датских хёвдингов хотели посадить людей на вражеские корабли и пуститься вдогонку, но Харальд отверг это предложение. От его войска тоже осталась половина. Люди были измучены, изранены. Никого из соратников-вождей он не видел и уже послал их разыскивать. Стяг Олава нашли – он виднелся ярко-синим краем из-под тела убитого знаменосца. Тело Горма искать не пришлось – его люди видели гибель конунга и уже вынесли его с поля. Харальд подошел туда, когда норвежцы отчалили и он смог вновь повернуться лицом к своей земле.
Между плечом и шеей Горма зияла страшная рана, залитая черной засохшей кровью. Но лицо его было спокойно, почти радостно, как будто перед смертью он увидел что-то необычайно отрадное. Харальд стоял, свесив голову, ветер теребил его упавшие на лицо светлые волосы. Хирдманы молчали, столпившись вокруг тесным кольцом.
– О такой смерти любой конунг может лишь мечтать! – сказал наконец Регнер, тоже осунувшийся, опирающийся на обломок копья. – В палатах Валгаллы Один с радостью примет нашего старого конунга. Но так как не годится данам оставаться без конунга хотя бы на один день, мы должны немедленно найти себе другого.
– Далеко ходить не придется! – Бродди поднял глаза на Харальда. – Да славен будет Харальд, сын Горма, конунг данов!
Хирдманы закричали, еще нестройно, но с оживлением. Принесли щит, Харальд встал на него, и четверо хирдманов подняли его на уровень плеч, чтобы все, кто выжил после битвы, знали: у данов есть уже конунг, достойный преемник прежнего!
Осталось найти женщину, что вышьет ему собственный новый стяг.
Сойдя наземь, Харальд велел выставить дозор у моря, а остальным собирать раненых, которым еще можно оказать помощь. Он и сам ходил по полю, пока не нашел Олава и Рагнвальда – один лежал поверх другого. И тела обнаружились совсем не там, где им полагалось бы… Харальд вздохнул: Олав и здесь явно шел впереди. Будь у него ума столько же, сколько сил и отваги – получился бы величайший герой! Но зато он умер так, как всегда хотел.
Поначалу показалось, что дядя и племянник, последние из ютландских Инглингов, ушли в Валгаллу вместе. Но, когда тела перенесли и осмотрели, выяснилось, что Рагнвальд еще дышит. В груди его зияла такая глубокая рана, что надежд на выздоровление почти не было. Однако Харальд велел все же перевязать его. Несмотря на все их раздоры, он не мог не уважать младшего Инглинга, а к тому же боялся представить отчаяние Ингер.
И, подумав о сестре, решил вернуться в усадьбу – там ведь тоже нужно готовиться к приему раненых и уцелевших.
В усадьбе его встретила растерянная челядь. Норвежцы Эгиля Паука на обратном пути подожгли было одно из строений, но слишком спешили вернуться к своим, и пожар удалось потушить – мокрая солома крыши горела плохо. Но кроме челяди, никто не вышел ему навстречу.
– Где женщины? – Харальд в беспокойстве огляделся. – Моя сестра, Гуннхильд?
– Молодые госпожи убежали… – бормотали старые служанки, недостаточно легкие на ногу, чтобы последовать их примеру. – Здесь были норвежцы. Молодые госпожи убежали в лес, те гнались за ними…
Харальд похолодел. Пока они там воевали на поле, женщины в усадьбе остались беззащитны. Но кто мог подумать, что Хакон пойдет на такую подлость?
Он выбежал за ворота. На поле было пусто.
– Где девушки? – заорал он так, что его услышали во всей усадьбе сразу. – Ингер! Гуннхильд! Кто-нибудь их видел?
– Я видела, норвежцы несли плащ и шаль госпожи Гуннхильд, – подала голос одна из служанок.
– А ее саму? – Харальд схватил ее за платье на груди.
– Не знаю… – Та в испуге сжалась. – Я видела ее синий плащ и ее белую накидку, она в них убежала. А потом Ингер велела рассыпаться, чтобы не бежать всем вместе, и мы все разбежались в стороны, и они тоже. Побежали в лес. А потом… я не знаю, я пряталась.
– Я тоже видел плащ госпожи, – подтвердил один из рабов-водоносов. – Норвежцы бегом бежали из лесу и несли его. Самой госпожи не видел.
Харальд немедленно приказал всем, кто есть в усадьбе, до последнего старика идти в лес и искать. Велел выпустить собак, но те не могли взять след, затоптанный десятками ног.
Вооружившись факелами, челядь и сколько-то хирдманов, кто не был ранен, устремились через поле в лес. Шагах в двадцати от опушки нашли Грима-управителя: он был ранен в двух местах и лежал за кустами, перетянув рану на бедре обрывком своего подола, а глубокий порез в плече зажимая ладонью.
– Конунг… – с облегчением простонал он, увидев Харальда. – Госпожа Ингер… вы нашли ее?
– Где она? – Харальд порывисто наклонился к нему.
– Ее схватили норвежцы. Поймали здесь недалеко, она зацепилась за ветку, и ее схватили. Она дралась с ними как бешеная, но они ее скрутили и унесли на руках.
– Куда унесли?
– Туда. – Грим слабо кивнул в сторону моря. – Я больше ничего не видел.
– А… вторая девушка? Гуннхильд?
– Она сперва убежала в лес, потом я видел, как она мчалась вдоль опушки – так мчалась, будто у нее восемь ног. Потом видел, два норвежца несли ее плащ и белую шаль.
– А она сама?
– Ее саму я не видел.
– Я могу сказать тебе, где вторая девушка, – вдруг раздался рядом голос.
Резко обернувшись, Харальд увидел Кетиля. Нищий выглядел усталым, тяжело дышал, кашлял и покачивался, хоть и опирался на палку.
– Ты знаешь это место. Ты был там раз, летом еще. Помнишь избушку…
– В ельнике? – сразу понял Харальд. – За стоячими камнями?
– Да, она там.
– Откуда ты знаешь?
– Как же мне не знать, коли я сам отвел ее туда и просил никуда не уходить?
– Пойдем!
Они пустились через лес так быстро, как позволяли усталые ноги хромого, но вскоре Кетиль сел на поваленное бревно среди мха, выронил палку.
– Ты теперь знаешь дорогу, – кашляя, прохрипел он. – Не собьешься с пути. А я… свое дело сделал.
Впрочем, Харальд уже не нуждался в проводнике. Он бежал так, будто мог не успеть к уходящему кораблю – последнему кораблю в вечность. За прошедшие часы он осознал, что произошло. Олав и Горм мертвы… как и Тюра. Рагнвальд едва ли выживет. Ингер увезли. Он, Харальд, остался один из всего своего рода, не считая двух маленьких детей. Опустел дом, погас очаг, остынет зола. Жилье без женщин – стылая могила, а он потерял даже Хлоду. Но и Гуннхильд тоже осталась одна. Хакон был общим их врагом, и Гуннхильд была последней, что судьба позволила ему сохранить. Казалось, не окажись ее там, в той избушке – и он останется один в мире. Навсегда.
Продираясь сквозь ели, Харальд сбавил шаг. Сгустились сумерки, второпях он потерял и без того едва заметную тропинку, но знал, что цель близка. Это должно быть где-то здесь. Продвигаясь вперед, между стволами и валунами, перелезая через бурелом, он все время оглядывался, боясь пропустить низкую дерновую крышу.
И вдруг где-то сбоку мелькнул огонек. Харальд сразу успокоился и пошел медленнее. Огонек рос, становился ярче, и вот показался крошечный домик, будто выросший из мха, дерева и валунов, застрявший на грани человеческого обжитого и троллиного дикого мира. Но дверь была отворена настежь, и внутри пылал огонь – как в том доме, куда зашел сам Один, странствуя по миру, чтоб населить его людьми.
Неслышно ступая по мху и хвое, будто боясь спугнуть судьбу, Харальд приблизился к двери.
Она была там, внутри: подкладывала сучья в огонь и наклонялась, раздувая сбоку, чтобы горело поярче. Отсветы огня румянили ее щеки, золотили янтарные волосы, и она отбрасывала их назад, чтобы не подпалить ненароком. И такая волна счастья вдруг поднялась в душе Харальда, что он молча шагнул вперед, подхватил девушку и прижал к груди. Она здесь. Он успел поймать это видение, светлого альва, пока тот не ускользнул обратно в высокое небо.
Гуннхильд только и успела ойкнуть от неожиданности, но тут же торопливо обняла его за шею обеими руками, будто боялась, что он так же неожиданно бросит ее и убежит.
– Ты! – Она прижалась щекой к его бороде, потом отстранилась, чтобы взглянуть в лицо. – Харальд! Ты жив! О боги!
Она снова прижалась к нему и стала целовать с такой лихорадочной поспешностью, будто поцелуи душили ее изнутри и она должна была поскорее выпустить их. Харальд наконец поставил ее на землю, снова обнял, целуя с таким жаром и напором, что она ахнула и отстранилась.
– Ты что, хочешь меня съесть?
– Хочу! Я страшно голоден после всего этого! – Он огляделся. – Тут ничего нет?
– Может, если пошарить под лежанкой, найдется парочка старых костей. Но я их искать не хочу. Говорят, здесь раньше жила ведьма, так что кости могут оказаться человечьими.
Еще держа Гуннхильд в объятиях, Харальд опять огляделся и только сейчас осознал, где находится. В прошлый раз он даже через порог шагнуть не мог, потому что видел черную яму с ухмыляющейся мертвой ведьмой на дне. А сейчас нет там никакой ямы, обычный земляной пол. И ни следа прежнего холодного, давящего страха в душе. Даже запах прели и затхлости из углов не вызывал в памяти прежнего ужаса перед могилой. Так как вышло? Куда все делось? Обычная гнилая изба, развалюха, пригодная для старой бабки, но уж никак не для будущей королевы всей Дании!
– Не к лицу королеве сидеть в такой норе, – сказал он и накрыл ладонью затылок Гуннхильд. – Не лучше ли нам пойти в более пригодное для нас жилье?
– Чем все кончилось? – Обеими руками держась за рубаху на его груди, будто еще боясь, что он все-таки убежит, Гуннхильд заглянула ему в лицо. – Где… остальные? Мой отец? Рагнвальд? Где Ингер, вы нашли ее? Она сумела убежать?
Харальд помолчал и вздохнул.
– Можно считать, что никого больше нет, – прямо сказал он, понимая, что не найдет столько осторожных, бережных слов, чтобы сообщить ей о множестве их потерь. – Никого! Они все погибли: мой отец, твой отец. Рагнвальд еще дышал, когда я его в последний раз видел, но у него такая рана, что… на моей памяти, от таких никто не оправлялся.
– Нет! – Гуннхильд пошатнулась, зажмурилась и уткнулась лицом ему в грудь.
Харальд подвел ее к ведьминой лежанке и усадил.
– Рагнвальд, похоже, пытался защитить Олава или хотя бы отбить тело. Потом поищем свидетелей, но он лежал на дяде, когда их нашли. Даже ваш стяг уцелел. И мой отец мертв. В его годы это удача, и я буду гордиться им до самой моей смерти. А когда придет мой час, я хочу умереть точно так же.
– Ты умрешь еще не скоро… – прошептала Гуннхильд, думая, что хотя бы это достанется ей в утешение.
Она еще не могла плакать, страшные вести оглушили и придавили даже источник слез.
Да, еще не скоро. Тот, кто принесет Харальду смерть, еще издает жалкий писк, лежа в подогретых пеленках. Ему даже родиться по-настоящему срок придет лишь через два месяца!
Харальд подвинулся, чтобы сесть поудобнее, задел что-то рядом с собой и ловко поймал золотой браслет со сквозным узором, который покатился по землому полу.
– Это что? Это у ведьмы такие игрушки?
– Нашел игрушку! – Гуннхильд забрала свое сокровище. – Это Кольцо Фрейи.
– То самое? Это хорошо, что оно здесь.
– Почему?
– Видишь ли, Гуннхильд, дочь Олава… Я теперь остался один из своего рода, и мне нужна хозяйка в доме. Ты тоже осталась одна из своего рода, тебе нужен муж, а твоей земле – конунг. Догнать Хакона едва ли получится, он ушел в море и теперь изо всех сил гребет к Фюну. Мне придется в ближайшее время собрать кого найду, сесть на корабли и идти следом, чтобы он там не расположился зимовать на моих землях. У нас мало времени. Ты выйдешь за меня по доброй воле или мне все же придется завоевывать и вас?
– Не выйду! – Гуннхильд помотала головой, не отрывая лба от его плеча. – Как где-нибудь каркнет ворона, ты скажешь, что это ведьмы и что я среди них первая.
– Н-не скажу. Я больше не боюсь ведьм. Я понял, что полюбил тебя, как только увидел, и так испугался, что эта любовь сведет меня с ума, что начал делать глупости. Я и до того сотворил немало глупостей. Взял в жены женщину, которая жаждала моей смерти, но она молчала, и я думал, что она покорилась. Теперь понял, что был не прав. Пока женщина жива, никто не может быть уверен, что победил и подчинил ее. Но если добиться ее любви, она сама подчинится и отдаст все свои силы во благо тебе, а не во вред.
– Вот это правда. Я ведь поймала твою норну и отмыла ее! Она теперь чистая и добрая. Она не навредит тебе, а дальше ты сам справишься.
– Но ты почти дала согласие стать хозяйкой в нашем доме. Было два жениха, остался один. У тебя больше нет в-выбора.
– Ну, я могу найти кого-нибудь еще… в Стране Саксов, например.
– Я его убью! П-пожалей человека, он в-ведь ни в чем не виноват!
Гуннхильд отметила, что, несмотря на изгнанный страх перед ведьмами, заикаться Харальд не перестал. Но это ее не огорчало. Если бы он вдруг излечился, она бы, пожалуй, не обрадовалась. Он стал бы не похож на себя, а ей он нравился как есть. Сильного и привлекательного человека даже изъяны красят.
– У тебя было несколько случаев стать королевой, – продолжал Харальд, – но нынешний – самый верный. Меня уже провозгласили конунгом. Если ты сейчас на этом «кольце клятв» пообещаешь стать моей женой, то мы выйдем отсюда как король и королева всей Дании! Впервые за столько веков! К этому стремились все поколения наших предков – и твоих, и моих.
Стало жутко, когда Гуннхильд представила всех этих предков – всех конунгов из рода Инглингов, Скъёльдунгов, Кнютлингов, что отчаянно сражались между собой, убивая тысячи людей, проливая реки крови. А все ради того, чтобы один, тот последний, кто останется победителем, смог наконец назвать себя единовластным правителем всей Датской державы, которой еще никогда по-настоящему не было и которая жила лишь в мечтах племенных вождей. И вот мечта становилась явью. Они, две последние ветви своих родов, сидели рядом в этой тесной избушке, будто в норе, а на коленях у них лежало «кольцо клятв», священный дар Фрейи. Будто маленькое солнце, готовое озарить ярким светом будущее новорожденной Датской державы.
Но не конунги и державы волновали сейчас Гуннхильд. Она не находила слов, чтобы выразить свое счастье – он, единственный для нее мужчина, сам Тор, наконец сказал, что видит в ней свою любовь, жену и королеву. Не так чтобы это искупало все ее потери, но открывало дверь в будущее и позволяло идти вперед, оставив прошлое за спиной. Ее родные мертвы, но у нее есть возможность дать роду достойное продолжение, а значит – все потери преходящи.
Она потянулась к Харальду и снова обняла, желая сказать, что хочет быть с ним всегда, до самой смерти и после нее! Счастье пылало в ней огненно-золотым шаром, и казалось, из этой темной избушки она выйдет прямо на небо. Как и полагается солнцу Дании.
Харальд пылко целовал ее лицо, шею, грудь, давая выход своему напряжению, облегчению, жажде жизни. Неистовое желание слиться с ним и ощутить снова жизнь во всей ее ярчайшей полноте заставляло забыть обо всем, и Гуннхильд уже не смущала старая лежанка ведьмы и потасканный плащ нищенки, который на ней расстелили.
– Предки уже не смотрят! – шепнул ей Харальд. – У старых троллей хватит совести отвернуться…
* * *
Когда они шли через ельник обратно, Кетиля Заплатки уже не было на поваленном бревне. Только обломанная палка лежала на мху, больше не нужная вечному страннику.
Сноски
1
Фризы – германоязычный народ, древние жители побережья Северного моря. (Здесь и далее прим. автора.)
(обратно)2
День Фрейи (у кельтов – День Бригиты), первый день весны, отмечается 1–2 февраля.
(обратно)3
Госпожа Кольца – термин древнескандинавского права, обозначавший женщину, которая осталась единственной наследницей всего родового имущества. Кольцо считалось символом богатства вообще.
(обратно)4
Викингом назывался собственно морской военный поход.
(обратно)5
Вардлок – особая колдовская песнь, призывающая духов.
(обратно)


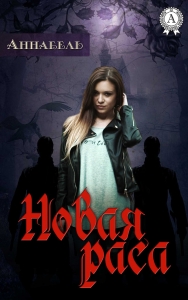









Комментарии к книге «Гуннхильд, северная невеста», Елизавета Алексеевна Дворецкая
Всего 0 комментариев