Вероника Мелан Путь к сердцу. Баал
«…если Любовь как чувство, как посылаемую энергию перестать дозировать, у мужчин растет не только сила воли, но так же излишняя агрессия, тяга к власти и управлению (а так же к самоуправству), развивается желание доказать собственное превосходство, что неизбежно приводило и будет приводить к войнам и кровопролитию. Масштабы катастрофы огромны: в детстве – уличные драки, хулиганство; в зрелости – разработка и использование оружия массового поражения. Мужчины, лишенные женской Любви полностью, становятся злыми, гневливыми и мстительными – страх «меня не любят» впоследствии довлеет над всеми их поступками, формирует неадекватное поведение, порождает тягу к насилию, превращает людей с хромосомой Y в животных. Доказательством тому служит обитающее в лесах вокруг Женской Конфедерации количество «диких», не поддающихся перевоспитанию особей мужского пола, на пути которых стоит единственная преграда – Великая Конфедерационная Стена, спасающая общину Фемид от нападений. Уважаемые гражданки, жительницы Конфедерации, будьте благоразумны и всегда соблюдайте правила «дозирования» посылания Любви мужчинам, описанное в Своде Правил п.5.15.6, ибо только так вы поможете сохранить нашей великой державе спокойствие, процветание и мир…»
Из учебника по Истории. Колледж. 11 класс.Часть 1. Танэо
Глава 1
Алеста
Толстое стекло разделяло комнату надвое: верхний, выше по уровню и похожий на бункер, этаж, и нижний, залитый солнечным и электрическим светом, «загон». В загоне совершенно голые – без единого лоскута ткани на ступнях или бедрах – на приземистых табуретках сидели трое молодых мужчин. Молчаливые, потупившиеся в пол, с неестественно выпрямленными спинами – так принято. Самый левый – голубоглазый блондин, чьи руки дрожали так сильно, что их приходилось прижимать к коленям, – нервничал; Алеста видела. Он то и дело порывался поднять голову и рассмотреть находящихся за стеклом женщин, но закон не позволял: ошибешься на собеседовании – попадешь не в державу, а за Стену, в лес. И ни тебе профессии, ни зарплаты, ни жены, ни потенциальных детей. И, конечно, ни капли женской любви. Блондин изо всех сил душил любопытство в зародыше и голову не поднимал. Другие двое нервничали меньше (или же так казалось?) – сидели спокойно, руки держали там, где их держат большинство мужчин, – на обнаженных причиндалах.
Хельга, допущенная вести собеседование в третий раз и оттого непривычно важная и деловитая, стояла у стекла, смотрела вниз и улыбалась – ее алые от новой помады губы растянулись в неприятной улыбке. Из угла, где разбирала и сортировала бумаги, Аля поглядывала на нее изредка. Поглядывала и не узнавала: и ведь не скажешь, что сестра – власть меняет людей. А ведь это только третий раз; как изменится Хельга за год? А за следующий? Она и за последний-то месяц растеряла остатки женственности – не принимала это качество и раньше, а теперь и подавно: волосы остригла по плечи, очки стала носить с квадратными стеклами, обувь исключительно на плоской подошве. Все старалась походить на старших коллег – Тильду Богдановну и Улу Валентиновну, сидящих сейчас слева от Хельги и церемонно наблюдающих за процессом «посвящения».
«Посвящение в граждане Конфедерации» – важность-то какая – Аля поморщилась. Благо, помещение темное, и никто не увидел.
А Хельга улыбалась акулой.
– Назовите ваше имя, – приказала она блондину, и тот от резкого звука, усиленного в загоне динамиками, вздрогнул. Неуверенно поднял голову и тут же получил словесный подзатыльник. – Смотреть в глаза без разрешения запрещено! Опустите голову!
Блондин смиренно склонился; Тильда Богдановна и Ула Валентиновна благосклонно кивнули – жесткость в общении с мужским полом здесь ценилась и почиталась.
– Имя!
Аля никогда не слышала в голосе сестры столько стали – первые два собеседования Хельги она пропустила – на стажировку прийти не смогла по причине досдачи последних экзаменов в колледже. Досдала. И теперь полноценно стажировалась в Комитете по приему в Женскую Конфедерацию мужского населения. Когда-нибудь собиралась занять должность Хельги – по крайней мере, на этом настаивала мама.
«Достойно, и люди будут гордиться. А с каким почтением станут относиться к нашей семье!»
Еще бы Аля имела право на выбор…
– Т…тимур Л. литецкий, – прозаикался блондин.
– Возраст?
– Восемнадцать лет.
– Образование?
– Полное высшее. Колледж мужского воспитания.
Хельга постучала себя по щеке ручкой; Але некстати вспомнился брат Савка – однажды и он будет сидеть на этом стуле, проходить собеседование. Через три года. Всего через три года – как быстро летит время. А, помнится, она держала его на руках, играла с ним и безмерно любила его, чем выводила из себя мать, которая орала, что Алеста с детства «залюбит» Савелия – испортит его, превратит в чудовище, ведь не благими ли намерениями устлана дорога в ад?
А потом Савку забрали.
Ей было десять, ему пять. И через три года они увидятся снова – каким он стал? Сильно ли изменился? Возмужал, наверное, вырос, вытянулся. Остались ли его волосы светлыми, какими были в детстве, или же потемнели, как у нее, у Альки? Хельга красилась в блондинку – дома забыли, с какой шевелюрой она родилась.
Собеседуемый Тимур, тем временем, отвечал на вопросы; «Урсулы» – этим единым словом Алеста мысленно объединяла Тильду Богдановну и Улу Валентиновну – придирчиво рассматривали его внешность. Ощупывали глазами, причмокивали губами, отпускали неприличные комментарии по поводу размера «недоросшего» причиндала.
– А ну-ка встань! – скомандовала Хельга, и щуплый парень поднялся с табуретки. – Руки по швам!
Дрожащие руки повисли вдоль боков.
– Двое других, встать тоже!
Соседи по загону подчинились приказу.
– Да нормальный у него член! – удовлетворенно констатировала сестра, и Аля вдруг испытала за нее стыд – ну, зачем в микрофон-то? Да, пусть мужчины, но они ведь тоже люди, тоже живые – зачем унижать-то? Хельга, однако, стыда не испытывала. – У этих двоих, конечно, получше, но и у блондина, когда встанет, вытянется. Детей будет чем заделать. Что думаете, коллеги?
«Урсулы» заперешептывались; Тильда хрипло и неприятно рассмеялась.
Алеста с полыхающими щеками уткнулась в бумаги – хорошо, что ее из-за стекла не видно.
– А тебе, Алеста, который нравится?
Хельга направила взгляд зеленых глаз на Алю – вопрос не был праздным. Этим вечером старшая сестра заберет одного к себе – лишать девственности – привелегирует, так сказать.
Провалиться бы сквозь землю, но как не отвечать? Не отвечать нельзя, она ведь следующая, кто займет эту должность, – Аля расправила юбку, вышла из-за крохотного стола с бумагами, приблизилась к окну. Ей нужно держать лицо, нужно соответствовать – «Урсулы» смотрят. А еще мать – что она скажет, если дочь подведет до официального поступления на работу? Опозорит семью, разрушит надежды.
Алеста прокашлялась. Смотреть на мужчин не хотелось, но она заставила себя.
«Не такими они должны быть – не забитыми, не зашоренными». Все это было как-то неправильно, в корне неверно – их робкие взгляды, их сутулые, несмотря на прямой позвоночник, плечи, отсутствие в глазах интереса. Не мужчины – чахлые взращенные цветы вместо гордых деревьев – эхо былых времен, о которых рассказывала бабушка.
Мужчины за стеклом ждали вердикта, кто краше, – ей стало их жаль.
«А если бы вот так ее? Или Хельгу? А «Урсулы» бы вообще тест на «красоту» не прошли», – эта мысль развеселила.
– Ну, сестренка, с каким бы ты позабавилась этим вечером?
«Ни с каким».
Аля вообще не хотела ни с кем забавиться. И девственность она берегла не потому что надеялась встретить кого-то особенного – ей все равно идти в храм, рожать от Богини, – а потому что не желала видеть рядом с собой в постели робкого и неуверенного, постоянно прячущего взгляд человека.
– Среднего.
Она выбрала наугад, не присматривалась.
– Почему?
Хельга впивалась игольчатым взглядом из-под очков.
Пришлось мужчин рассмотреть – не детально, поверхностно.
– Грудь шире, волосы гуще.
– И яйца у него ниже висят, в руке плотнее будут.
Тильда Богдановна чувством такта не отличалась тоже.
– А я бы крайнего справа, – с зевком отклонилась назад рыжеволосая тетка Ула Валентиновна, и Аля правому не позавидовала – заберет ведь. – Люблю, когда хрен толстый.
«Хрен».
Это слово продолжало звучать в голове Алесты и два часа спустя, когда собеседование завершилось и все вопросы – кем хотите работать, какую получать зарплату, готовы ли начать садовником? – нашли свои ответы.
«Интересно, а как называют мужской член с любовью, если не хрен?»
Хотелось на улицу, на солнце, к киоску с лимонадом. Хотелось пройтись по парку, подышать напоенным сосновой смолой воздухом, послушать гвалт на детской площадке, посидеть у озера.
«Может, и Ташка сможет?»
Едва Аля толкнула толстую дверь Комитетского управления, вышла на улицу и поставила лицо теплый солнечным лучам, «хрен» был забыт.
Лето.
Лето – это пора, когда хмельной от ароматов трав ветер забирается под тонкую ткань белой блузки, когда он – озорник – теребит кружевные рукава и распущенные локоны. Ноздри щекочет запах пестрых цветов, жужжат на лужайках выползшие из кладовых газонокосилки, хозяюшки в разноцветных шляпах полют рыхлые грядки.
Лиллен утопал в растительности, как тонет в пышных юбках любительница балов, – благоухал пряными травами, поглаживал калитки нежными листьями, кивал тысячами голов распустившегося тульника. Шумели липы, шептались вдоль аллей кусты ельховника, блестела под лучами солнца умытая дождем черепица крыш; из распахнутых окон домов через один тянуло пирожками.
Алеста Лиллен любила.
Выросшая на этих ласковых улицах и водимая некогда маминой рукой сначала в садик, затем и начальную школу, она едва ли могла представить, что раньше этот город звался иначе – неприветливо и неказисто – Курдан. Нет, слово «Курдан» этому месту не подходило совершенно. Хотя, раньше, до прихода Конфедерации, и само место было другим – все было другим: страны, люди, обычаи, жизнь. Тогда, еще до Алькиного рождения, когда Женская Конфедерация не воцарилась во всем своем текущем великолепии, как теперь, стран, согласно учебнику истории, было несколько, и все они управлялись мужчинами-диктаторами. И те воевали за все: за плодородные земли, за расширение границ, за власть, за воцарение мира во всем мире. Воевали, и ничего не добились. Зато разрушили храмы Богинь, которых когда-то существовало восемь, – тогда и свершился Уход. Разгневанные небожители покинули мир, превратив почти всю его площадь в Холодные Равнины – сравняли с землей людей и города, обратили почву в камень, оставили людей без благоволения и удачи. Из восьми осталась лишь одна – Дея – покровительница женщин и плодородия, чей храм по случайности остался нетронут, – она и помогла Алькиным прародительницам восстановить мир, а заодно и создать Конфедерацию. И стало тепло и уютно, стало светло и спокойно, и на месте Курдана вырос утопающий в цветах Лиллен. Алькин Лиллен – маленький и любимый.
«Зачем воевали? – часто пыталась понять Алеста. – Зачем что-то бесконечно делили? Почему сразу не могли жить в гармонии?» И не понимала. Силясь разобраться в хитросплетениях истории, она перечитывала школьные учебники по много раз, некоторые места выучила наизусть, но сути – зачем нужны войны? – уловить так и не смогла. А теперь просто радовалась, что их нет. Потому что прежних хватило – если бы не они, до сих пор бы цвела земля Равнин, и жили бы на ней люди, а не демоны. Демоны, которых боялись все – даже дикие мужчины из лесов. И хоть последние умели воевать и до сих пор чинили оружие, с Равнин живым не вернулся никто.
«Вот так-то, – размышляла Алька, и вздыхала. – Дураки. А ведь все могло быть иначе».
Но зачем думать об этом, когда вокруг лето? Когда вокруг жужжат шмели, когда розовеют у оград бутоны, когда свободной и счастливой жизни осталось еще целых три месяца. А потом…
Потому тоже будет жизнь, только другая, новая. Жизнь после Похода.
Ташка смогла.
Пересдала задолженность по философии и теперь сидела на разложенном у самой кромки озера одеяле, щурила зеленые глаза от пробегающих по водяной глади солнечных бликов и ела мороженое – свое любимое, апельсиновое.
Аля облизывала вафельный стаканчик, по краям которого стекал шоколадный пломбир; плюхал лопастями по озерной ряби катамаран, макушки сидящих на нем женщин припекало послеполуденное солнце. Свою рыжую и курчавую голову Ташка прикрыла розовой и почти сползшей на затылок шляпкой, невероятно ей «не идущей», но насчет последнего Алеста, как всегда, промолчала – ей запрещалось комментировать внешность подруги. Ташка – она же Талия – с ранних лет считала, что не удалась, ибо Дея в момент сотворения дочери для Эльзы Геннадьевны – мамы Ташки, – должно быть, пребывала не то в творческом ударе, не то маялась с нектарного похмелья. Иначе откуда бы взялись эти противные веснушки, медные кудри, маленькие зеленые глаза и тонкие губы? Это, что, гармонично? Талия так не считала.
У Али, впрочем, веснушки тоже были, но не на щеках, а россыпью на переносице. И побледнели они, как только Алеста вышла из подросткового возраста, – почти растворились. И Ташка завидовала – не зло, но со вздохами: тебе, мол, и кожа белая досталась, и волосы блестящие каштановые, и глаза карие – не темные, а красивые, кофейные, – и губы пухлые, – а мне что? Рост в метр с шапкой и отсутствие груди. И это почти в двадцать два!
«В двадцать один», – поправляла ее Алеста. А раньше говорила «в восемнадцать», «в шестнадцать», «в тринадцать». Они знали друг друга с первого класса начальной школы – как сели вместе за парту, так и шли по жизни рука об руку – разные, но привыкшие друг к другу, научившиеся ладить, ибо дружба – это всегда ценно. Кто, если не друг, прикроет тебя перед учителем, даст списать, сбежит с тобой с последнего урока в ботанический сад смотреть на бабочек? Кто будет спать с тобой на чердаке под одним одеялом, слушать утром про твои сны, плести тебе косы и помогать воровать из шкафа на кухне печенье? Кто разъяснит философию, сам же посмеется над ней, поддержит, если вдруг упал духом, и придет есть с тобой у озера мороженое? Правильно, Талия. И пусть она всегда завидовала Алькиным губам так, что иногда в шутку лезла целоваться, за что так же в шутку несколько раз получала в лоб пеналом, зато она была другом. Настоящим.
– Хорошенькие сегодня были?
Алеста не стала спрашивать «кто» – и так ясно. После каждого собеседования Ташка напористо выведывала подробности: рост мужчин, цвет глаз и шевелюр, разворот груди, длину «брынки», а так же имена и приписанные им должности. Алька не пыталась скрыть информацию: во-первых, та не являлась секретной, а во-вторых, если уж Ташка делалась напористой (а напористой она делалась всегда, как только разговор касался мужчин), проще было сдаться без боя.
– Нормальные. Обычные, – и она описала внешности.
– И ты никого не выбрала?
– Нет, конечно, – Алька поморщилась, – зачем мне выбирать?
– Ну, Хельга наверняка опять уведет одного. На пробы.
– Да пусть ведет хоть всех.
Подруга шумно всосала в себя растаявший верхний слой мороженого, причмокнула губами и воззрилась на Алесту.
– Неужели тебе не интересно попробовать, как это – в постели с мужчиной – до Похода? Ведь так и родишь девственницей.
– И что?
– Ну, это старомодно.
– А лежать в постели с… – какое-то время Алеста не могла подобрать нужного слова, – рабом – это модно?
– Ну, они не совсем рабы…
– Рабы. Подчиняются каждому твоему слову.
– А как должно быть, Алька? Подчиняются, потому что так надо, потому что так правильно, потому что иначе было бы, как раньше.
Они говорили об этом не в первый раз – наверное, в сотый, даже в тысячный. И каждый раз Ташка была на стороне Конфедерации, а Аля выступала инакомыслящей. Неким индивидом, не способным понять причину установленных правил, – борцом за справедливость. Хотя, за какую справедливость, если, вроде бы, все справедливо?
Она могла бы не ходить к Богине – отказаться. И выбрать мужа. Жить с тихим, подчиняющимся каждому ее слову человеком, родить мальчика (ведь от мужчин рождаются только мальчики – проклятье Неба), после отдать его в воспитательный дом и заниматься карьерой. А к Богине могла бы сходить позже – положим, в тридцать или даже сорок – Дея была благосклонна в любом возрасте. Но как быть с матерью, которая либо изобразит сердечный приступ, либо свалится с настоящим, если Аля откажется собираться в Поход?
«Ведь только от Деи рождаются девочки! Ты разве не хочешь родить дочь, снискать уважения в обществе, подкрепить собственный статус?»
Дочь Алеста хотела. А на уважение и статус ей было плевать. Хотелось романтики, хотелось любви, хотелось, чтобы все было так, как рассказывала бабушка.
– Ждешь большого чувства? – Ташка прочитала Алины мысли – теперь она смотрела второй катамаран, присоединившийся на озере к первому; солнце медленно описывало дугу и клонилось к стене. – Твоя бабушка жила в другие времена – теперь такого не бывает.
Аля молчала.
– Теперь нет сильных мужчин – мы не позволяем им. Потому что грань слишком тонка, потому что если любить их, как раньше, начнутся войны.
– Может, не начнутся.
– Хочешь проверить, зайдет ли на круг история? Зайдет.
– Но мы выделяем им всего по несколько минут в день. Этого мало!
Ташка вновь задела «живую» тему.
– Не мало! Как раз. Хочешь развить им силу воли, выпрямить им спину? Как только они почувствуют, что ты мягкая и прогибаешься, начнут сосать из тебя, требовать, давить.
– Ты становишься, как моя мама.
– А кто сказал, что твоя мама не права?
Альке, несмотря на теплый и почти безветренный день, вдруг расхотелось сидеть на берегу. Захотелось не домой, нет, но туда, где можно побыть одной, – побродить, помечтать, поразмышлять. И, может быть, тогда найдутся ответы на все вопросы – на главный вопрос: почему она – Алька – не такая? Почему не может жить, как все; почему каждый день ощущает, как что-то скребет душу, не дает ей покоя. Почему не хочет идти к Дее, почему не желает подчиняться правилам? Почему-почему-почему…
– Я пойду, Таш.
– Эй, ты чего?
– Ничего, устала после собеседования.
И, ощущая на себе растерянный взгляд подруги, – «я сказала что-то не то?» – Алеста поднялась с одеяла.
* * *
«Мы возвели новые дома. Без мужчин.
Мы вымостили дороги. Без мужчин.
Мы вывели инфраструктуру на новый уровень. Без мужчин.
Мы отстроили новые города. И снова без них.
Мы научились жить в мире без драк, алкоголизма, наркотиков и насилия.
Мы – лучшая часть этой планеты, независимая от выживания, покуда с нами Дея – да благословит ее деяния Господь. Да здравствует Дея! Вечная, милостивая к дочерям своим и щедрая на плоды земли и чрева…»
Из учебника по Религии. Колледж, 4й класс.
Аля мечтала любить – открыто, честно, в том объеме, в котором желало сердце, – и то была единственная несбыточная мечта из всех ее маленьких и больших мечтаний.
Нечестно.
Почему женщинам дозволялось любить все – дом, семью, животных, детей (девочек), – но только не мужчин? Женщин, к слову сказать, заставляли любить все вокруг, поскольку ученые считали, что если Источник Любви, расположенный в женской груди в переплетении энергетических каналов, бездействует, то Любовь обращается в Злобу – противоположный ей тип энергии. И, значит, Любовь должна, обязана течь. Хотя бы куда-то, иначе она, не выпущенная на свободу, все разрушит.
Но какими правилами можно прописать, куда именно течь любви? Почему решили, что можно избирательно направить энергию на какой-либо объект? А как же собственное желание, тяга, потребность любить то, что любится, а не то, что приказывают?
Аля маялась.
Она любила свою семью и свой город, но тяготилась от навязанной избирательности.
Да, у женщин есть Источник Любви – доказано. У мужчин Источник Любви тоже есть – тот, что помогает женщинам стать женственнее, – от него современное общество отказалось без раздумий – мол, нам неважно быть женственными. А вот что на самом деле важно, так это не дать мужчинам взрастить волю, ведь именно Любовь женщины взращивает в мужчине веру в себя, веру в свои силы – Мужественность. А излишняя Мужественность ведет к войнам и агрессии, и, значит, Любовь придется дозировать. Мужьям выделить по полчаса Любви в день, неженатым мужчинам по пятнадцать минут. И настроили ведь специальные дома, куда эти бедолаги ходят, получают свою порцию ласки, становятся временно счастливыми.
И становятся ли?
Аля не понимала, как можно «ласкать» по заказу? Неужели у кого-то выходит здесь «любить», а здесь «не любить»? Это как переключать положение выключателя – лампочка горит, лампочка не горит?
О том, «как» и «когда» женская Любовь стала разменной монетой, Алеста знала из учебников истории, вот только принять этот факт до сих пор не могла. Не логикой даже – сердцем. Женщины испокон веков были – не ниже, нет – другими. С другой ролью, другими целями в обществе, никогда ранее они не стояли в иерархии выше мужчин – неправильно это. И за подобные слова Алю бы оштрафовали, как однажды бабушку Агафью, которая и втолковывала маленькой еще тогда внучке собственное мнение:
– Вот отец мой, твой прадед, – он был романтик. Он умел завоевывать, понимаешь? Умел добиться женщины, настоять, сделать ее своей. Умел быть и мягким, где надо, и жестким, когда требовалось. А что сотворила с нами Конфедерация? Ты вырастешь, внученька, ты все увидишь.
Алька выросла. И увидела, что все, вроде бы, правильно, вот только мысль про прадеда и его умение завоевывать женщину прочно засела в памяти – совсем как сказочная история, в которую хотелось верить.
А жизнь уже расписана – жизни нет. Потому что есть мать, и ее желание видеть дочь на административной должности. Хельгу туда уже пристроили, затем пристроят и Алесту. После сгоняют обеих до храма Деи, встретят на пороге уже беременных и девять месяцев спустя примутся радостно растить внучек – новых гражданок Великой Женской Державы.
Хотелось плеваться.
И еще не хотелось отпускать от себя детство.
– Детство, Алечка, – говорила бабушка, – это безмятежность. Это когда твой мозг не затуманен страхом, чувством вины и обидой. Не из любви рождается злоба, Аленька, совсем нет – из вины. Потому и мужчины в лесу дикие, потому что виноватые.
– А в чем виноватые, бабушка?
– В том, что их никто не любил. И, значит, не были они достойны, значит – плохие. Чувство вины все рушит, не любовь. Так что люби все, что захочется, Алюшка, а вот вину не копи, не живи для других.
Но на дворе июнь. А через три месяца день рождения и Поход. Иначе мать, иначе разочарования, иначе Алька плохая.
«Не копи», – учила бабушка.
Правильно учила. Но чувство вины разрасталось.
* * *
– Представляешь, Альке опять никто не понравился.
– Не зови ее Алькой.
– Почему, если она Алька?
– Она – Алеста!
Мать чинно восседала во главе стола, Хельга спиной к телевизору, отец ютился с краю. Ел он всегда, понурив голову, во время разговоров молчал, газет не читал – ему запрещалось. Он читал их по ночам, втихаря, когда Ванесса Терентьевна, завершив вечерний моцион с последовательным наложением на лицо пяти увлажняющих масок, уплывала из ванной в спальню, гасила ночник и спустя несколько минут начинала посапывать. Тогда скромный Антон Львович – в обращении жены просто «Тошик» – спускался вниз, уединялся в кладовой и при свете тусклой лампочки перебирал периодику: пожелтевшие от времени газеты и старые, оставшиеся еще от деда, журналы. Несколько раз он порывался оформить подписку на новую «Науку и Технику», но жена лишь строго поджимала губы, и «Тошик» неслышно вздыхал. Альке хотелось сделать ему подарок на следующий день рождения – оформить подписку на себя и тайно подкладывать «Науку и Технику» в кладовую, но мать, узнав про такое, взмылила бы головы им обоим. Приходилось страдать – отцу без подарков, дочери без возможности их делать.
– Он тебе не отец! – давила мать, если Алька пыталась что-либо возразить. – Он отец Савки. И просто мужчина, который числится в нашей семье моим мужем. А ты рождена от Деи, и не забывай этого! Молись.
Аля молилась, но Антона Львовича отцом считать не переставала. Ну и что, что не родной отец? Читать маленькую учил? Учил. Кататься на велосипеде учил? Учил. Мороженым в парке кормил – чем ни отец? И ведь любил по-своему, как умел.
Ужин продолжался.
Дожевав салат, мать положила себе из сотейника пару котлет, обильно полила их соусом и задумчиво, погрузившись в воспоминания, посмотрела на Алесту.
– А ведь я хотела назвать тебя Констанцией. Сильно хотела.
Алька едва не поперхнулась – Констанцией? Это громоздкое и неповоротливое имя почему-то напоминало ей ржавый, лежащий на свалке развороченной кучей металла локомотив. Монументальный, неподъемный и совершенно не гибкий.
Не то что «Алька». Алька – это что-то уютное, родное, где пахнет дождем, где по шалашику из веток стучат капли, где за стенами шумят сосновые ветки. Алька – это когда утром кофе с корицей, а в окно солнце, Алька – это легкие шаги по улице, а пальцы касаются листьев кустов; Алька – это бесконечный мир фантазий – живой, подвижный и пахнущий сказкой. Ну и подумаешь, что Хельга произносила «Алька» по-ругательски, с насмешкой. На то она и сестра. Вредная и старшая.
– Это все Тошик. Он настоял на Алесте – сказал, красивее. Единственный раз тогда поддалась его уговорам и до сих пор жалею.
Алька посмотрела на отца, на секунду встретилась с его виноватым взглядом, после чего тот быстро опустил голову – он молчал, всегда молчал. Сносил все шпильки, унижения, а Алесте отчаянно хотелось, чтобы он вспылил. Вдруг поднялся, повысил голос, ударил кулаком по столу и сказал «хватит!» – чтобы все вокруг увидели, что – да, он мужчина, – но, главное, он ЧЕЛОВЕК!
Но отец не поднимался – делал вид, что разговоры его не касаются, что обиды ему чужды, что он вообще находится не здесь, а где-то еще – за стеной собственного невидимого мира.
Алька вздохнула; котлеты в горло не лезли. На экране телевизора плыл ряд из незнакомых лиц – все девушки, все одеты в военную форму, и у каждой в глазах такая гордость, будто это она только что защитила грудью Храм Деи. Не менее гордо звучал из-за кадра и голос ведущего:
– …Община гордится, что в этом году число рекрутов превысило прошлогоднюю численность почти вдвое – на постоянную воинскую службу с начала месяца заступило три тысячи окончивших Военный Колледж фемид. Мы гордимся вами, Женщины, – Женщины с большой буквы. Мы спокойны, зная, что периметр Стены охраняют такие доблестные Воительницы, славные последовательницы покинувшей нас богини Боллы…
Телевизор продолжал вещать; мать никогда не выключала военный канал – прислушивалась к нему и сейчас.
– Кстати, Алеста, ты еще не готова к Походу? Все чего-то ждешь?
– У меня еще три месяца боевой подготовки впереди.
– Ты прекрасно владеешь мечом, у тебя отличные отметки. Зачем дополнительная практика?
Именно за это Алька ненавидела ужины: за то, что во время них неизменно, не нарочно, но крайне очевидно оскорбляли отца, и за то, что именно сейчас – в мирные вечерние часы – за столом поднималась тема ее Похода.
Неужели мать не понимала, что Алеста не готова, что она попросту боится идти? Конечно, Дея вроде бы охраняет дорогу к храму – храму, который, к слову говоря, находится за Стеной, – но как быть с засадами? А если ее утащат в лес Дикие? Что, если сделают своей рабыней, привяжут в одной из хижин и будут по очереди измываться над ее телом – мстить, избивать, чернить его? Бить, конечно, не сильно – чтобы могла рожать. Каждый год – мальчика за мальчиком. Ведь им как-то нужно продолжать свой род…
Плен был хуже смерти. Уж лучше в Равнины, лучше монстрам на съедение, лучше за последнюю черту.
– Я… не готова.
Алька чувствовала, что злится. Злится не на шутку, всерьез, той обидой, что остается после в душе на годы.
– Не готова? Трусиха!
– Пусть так!
– Я два раза туда ходила, и ничего со мной не сделалось!
– Живи и гордись.
– Алеста!
Уходить из-за стола до матери считалось дурным тоном, но пальцы сами легли на скатерть, а ноги спружинили – Алька поднялась и бросила в тарелку скомканную салфетку.
– Своевольная, да?! – взревела Ванесса Терентьевна. – Гонор начала проявлять?! А ведь еще двадцати двух нет…
Ее лицо, обрамленное мелкими, похожими на собачьи букли кудрями, покраснело; тонкие брови грозно съехались к переносице.
– Не голодная, спасибо.
И Алька поспешила в коридор.
– Нет, вы только посмотрите! Это она в кого такая, в тебя? – в моменты злости мать почему-то забывала, что родила Альку от Деи, а не от Антона Львовича, и лила на последнего раскаленную мстительную лаву. – В тебя? Это все, потому что имя неправильное! Была бы Констанцией, была бы послушной!
Хельга деловито звякала вилкой; отец молчал.
Под напряженное, похожее на бычье, сопение матери телевизор залил комнату пафосным гимном Женской Конфедерации.
(Fox Amoore – Myre)
Грусть всегда выплескивалась у Альки в потребность любить. Упереться взглядом во что-то хорошее, светлое, залипнуть глазами в картину и мысленно хотя бы на минуту перенестись туда, затискать сидящих на крытом пледом диване плюшевых игрушек. Проследить за тянущимся через комнату косым солнечным лучом, прокатиться по его перемеженной пылинками спине, поверить, что из светлого пятна на полу может вырасти солнечный цветок. Чем тяжелее делалось на сердце, тем сильнее хотелось верить в чудо и тем жаднее росла потребность обратить себя в хорошее.
Комната из-за заката светилась оранжевым – напиталась сочным мягким апельсиновым светом и бережливо плескала его от стены до стены, от окна до окна. Хорошо, когда окна на первом этаже – всегда можно вылезти наружу, побродить по саду, добежать до прохладного пруда и окунуть в него руки, ненадолго потеряться в растущем на опушке ельнике.
В ельник не хотелось, к пруду тоже. Теплый ветер качал растущие на подоконнике медунки; по саду, обнаженный по пояс и одетый в синие заляпанные штаны, ходил босой садовник – таскал за собой свернувшийся змеиными кольцами шланг, поливал грядки. Иногда он бросал шланг у ягоды и брался стричь кусты, чавкал босыми пятками в меже у малины.
Садовник появился в их доме две недели назад – молодой парень со светлой вихрастой макушкой, тихий и нетребовательный. Ел в подсобке, спал в сарае, голову никогда не поднимал, не спорил, работал от заката и до рассвета. Садовник-мужчина – прихоть матери, ее способ продемонстрировать соседям зажиточный статус.
«Ну и что, что дорого? Мы можем себе позволить…»
Позволить новый гарнитур из орехового дерева, катанский ковер в прихожую, сервиз из тончайшего стекла с золотым орнаментом, садовника…
Как можно позволить себе человека, ведь он не игрушка?
«Для матери – все игрушки», – мелькнула злая мысль, и сидящая у окна Алька уткнулась грустным взглядом в обнаженную жилистую спину.
А ведь он совсем один – ни друзей, ни соседа, чтобы перекинуться словом, ни питомца, чтобы приласкать. Просыпается один, работает один, засыпает один. За личность его не считают, о желаниях не спрашивают, платят крохи – чем он живет? Где находит в себе силы, чтобы не сдаться, во что верит, чтобы держаться на плаву? Может, в какую-то одному ему известную мечту?
Ощущая жалость, нежность и щемящую тоску к тому, чьего имени ей даже знать не дозволялось, Алеста вдруг сделала запретное – позволила сердцу открыться и мысленно направила золотой сияющий поток женской любви на стоящего у кустов паренька – ведь никто не видит? Пусть ему на секунду станет теплее, пусть он почувствует неизвестно откуда взявшуюся поддержку, пусть ощутит, как его изнутри коснется ласковая материнская рука – «ты не один, сынок…», – пусть…
Додумать она не успела. Позади щелкнул замок, и в комнату вошла Ванесса Терентьевна – Алькино сердце моментально сорвалось в галоп – ведь она не увидела, не успела, не засекла?! Поток любви прервался, как обрубленный, дыхание застряло в горле.
А мать увидела.
Потому что решительным шагом приблизилась к дивану, потому что с красным от злости лицом отвесила дочери такой подзатыльник, что та едва не кувыркнулась на пол; потому что долго стояла со сжатыми в полосу губами и полыхала злыми глазами так яростно, что едва не прожгла Алесте череп, а вместе с ним и каменную кладку стены сзади.
– Ты, – прошептала она наконец тихо, но оттого не менее свирепо, – ты… Если ты еще раз нарушишь закон и пошлешь Любовь какому-то отбросу, я самолично отведу тебя в Холодные Равнины и там оставлю. Поняла меня, дура?
Дура, которая Алеста, которая не Констанция.
– Как ты вообще могла от меня родиться? Такая.
Последнее слово прозвучало ругательством куда худшим, чем дура.
Глядя на то, как прародительница твердой, почти солдатской походкой выходит из комнаты, Алька стерла со щек слезы.
«Действительно. Как?»
Любить больше не хотелось, мечтать тоже. Вообще больше ничего не хотелось.
* * *
Наверху пахло досками, стружкой, рассохшимися шкафами и сложенными в углу одеялами. Одним из таких Аля укрылась, забравшись на скрипучую софу, и теперь лежала, глядя на далекие перемигивающиеся за раскрытым чердачным окном звезды.
Ночь.
Из распахнутых створок тянуло скошенной травой и тиной с пруда; уснул сад, давно скрылся в сарае садовник, давно посапывали в собственной спальне родители. Даже Хельга, которая сразу после ужина ушла в собственную квартиру, чтобы «покувыркаться» с блондином, наверное, тоже уже спала.
Только Алька бодрствовала. Алька и куча сверчков в росистой траве.
Глаза не слипались, а перед мысленным взором стоял Храм Деи – стоял таким, каким Алеста его себе представляла: белокаменным, с колоннами, с широкой мраморной лестницей у входа, пахнущий свечами и воском изнутри. На самом деле Храм мог оказаться совершенно другим – его никто никогда не описывал и почему-то не рисовал – например, темным сводчатым или же кирпичным с башнями, – но Альке он всегда чудился снежно-белым. Что будет там, внутри – прислужницы? Выйдет ли ее встречать сама Богиня? Как произойдет процесс помещения в чрев дитя? Это больно? Неизвестно, а книги по религии называли сей процесс «священным таинством» и описывать его запрещали.
Ну и ладно. Не больно-то и хотелось знать, как, и вообще идти туда. Вот только надо, придется: сначала через главные ворота по пропуску, где ее будут провожать сотни молящихся горожанок – ритуал; – затем по кромке леса; затем несколько километров по священному тракту – с одной стороны возможны засады «диких», с другой – Холодные равнины; потом в гору. Говорят, в гору недалеко – там проще всего…
Скоро она сама все увидит.
Мысли о Храме не несли ничего, кроме тоски. Алька плотнее укуталась в тонкое одеяло и отвернулась к стене, закрыла глаза. Почему она решила спать на чердаке – потому что здесь всегда сквозняк и свежо? Потому что сюда никогда не поднимается мать? Потому что здесь до сих пор пахнет бабушкой?
Бабушка жила на чердаке два последних года – сюда ее «вселила» мать. У Агафьи болели ноги, и потому вниз она спускалась редко (почти никогда) – на чердак еду носила Алька. Но если уж Агафья все-таки по-старчески упиралась и, опираясь дрожащими морщинистыми руками на шаткие перила, спускалась-таки вниз, на семью неизменно обрушивались ссоры. Спорили всегда насчет одного и того же – воспитания и системы.
– Одумайся уже, окаянная, – орала бабушка на Ванессу, – ты что творишь-то? Я, понятное дело, дура была, когда поверила в Конфедерацию, – тебя воспитала, эгоистку, а потом еще и Хельгу помогла, – но ведь одумалась! Посмотри по сторонам, Ванесса, неужели не видишь, во что превратился мир? Что мы творим, что, безбожные, делаем?
И Ванесса всякий раз вскидывалась так, что багровела лицом:
– Из ума выжила, старая! Я тебя в дом престарелых не сдала только из любви…
– Из какой любви? Ты забыла, что это такое! Забыла! Затюкала в доме всех, самоуправством занялась, чванливая стала. Кого я вырастила? Кого воспитала?
– Да у меня зарплата…
– Да забудь ты про свою зарплату – все на деньги, да про деньги! В кого превратилась ты – матрона напыщенная! Еще и Хельгу копией своей сделала. Но Альку я не дам! Не дам из нее дуру сделать – не порть мне вторую внучку!
Иногда Алька думала, что мать ненавидит ее из-за Агафьи – из-за крепкой любви бабушки к младшенькой, из-за возможности рассказать той, «как на самом деле устроен мир». Ведь не перестанешь кормить родительницу? Не запретишь Альке носить наверх еду – не самой же?
Так Алеста и жила меж двух огней. Часто сидела на чердаке, слушала истории из далекой и молодой Агафьиной жизни, учила по бабушкиным словам историю – не ту, что написана в учебниках, а другую – настоящую, – и разрывалась в попытках понять, где есть гармония – там, где мужчины свободны, или там, где они «рабы»? Потому и в колледже принялась углубленно изучать «мужскую психологию» и выпускную диссертацию решила писать на тему: «Природа Женской Любви. Ее свойства, биохимическое устройство и возможности влияния».
Написать-то написала, вот только что «хорошо», а что «плохо», несмотря на сотни прочитанных книг, так внутри до конца разобраться и не сумела – лишь чувствовала, что гармония должна быть где-то посередине, не в крайностях.
А чердак постепенно навевал сон; стихли за окном цикады, поглаживал листву кустарников ветер, плеснула в пруду рыбина. Чердак пах бабушкой.
Глава 2
Эти отличались от тех, которых она видела вчера в загоне, как небо и земля. Как домашняя кошка отличается от дикой пумы, как розовый молочный поросенок от свирепого лесного вепря – то есть полностью. Нет, Аля, конечно, читала, что «дикие» ростом и физическим развитием превосходят мужчин внутри Стены, но чтобы настолько? Каким трудом можно раскачать до подобных бугров плечи, до состояния нагрудника огромную, будто вздутую изнутри, грудную клетку, до жилистых стволов ноги? Сколько нужно бегать, соревноваться, драться, выживать?
Судя по злым глазам – много.
А взгляды у двух пленников были не просто злыми – они стирали весь строй аккуратных, одетых в выглаженные юбочки и расставленных вдоль стены пай-девочек в крошку – жгли его, дробили, ненавидели. Их – двух «диких» – выловили сегодня у самой Стены – те рыскали в ближайшем ельнике с луками наперевес – выискивали точку, чтобы сбить стражниц. Если стражниц сбить, откроются ворота, а если откроются ворота, есть шанс организовать нападение и прихватить с собой пару «баб».
От слова «баб» Алесту тошнило. А еще ее тошнило от вида грязных стоп, нестриженых ногтей, длинных сальных волос, кустистых бород и исходящего от огромных тел аромата – смрада немытой потной кожи. Еще меньше хотелось смотреть на дородный, судя по всему, «орган», колышущийся при каждом движении (толчке в спину) под набедренной повязкой.
Толкали «диких» стражницы – не менее злые, нежели пленники. Дергали за опутывающие запястья за спиной цепи, пихали кулаками в затылок, при любом движении впивали острые наконечники пик под колени. От очередного такого тычка мужик с черными путаными волосами гортанно взвыл – ругаться словесно ему не позволяла воткнутая в зубы, как это часто делали с конями, деревяшка. Второй, выше ростом, сносил унижения молча, лишь злобно скалился.
– Вот с кем вам, возможно, придется встретиться за Стеной! Теперь это понятно? Наглядно? Редко какая группа учениц имеет возможность посмотреть на «диких» вживую, а стоило бы! Так и будете размахивать мечами, как дирижерской палочкой? Так и будете танцевать вокруг манекенов, как на балу, надеясь, что пронесет? А если не пронесет?! – желчно вопрошала затянутая в кожаную с металлическими пластинами броню стражница. – В курсе, что будете каждый час раздвигать ноги перед таким вот… уродом?
На этот раз «уроды» от негодования взвыли оба; Алю затошнило сильнее – непроизвольно сжались пальцы, легко и слишком гулко, неправильно застучало сердце. Ей совсем не хотелось представлять, как подобный мужик громоздится на нее, как силой раздвигает ноги, как всовывает внутрь огромный немытый, как и все остальное, член (она точно видела по очертаниям, что огромный), дрыгается на ней, хрипит. А что, если еще и будет бить? Что, если будет делить с дружками? Вдвоем, втроем… Говорят, они продолжают совокупляться даже с беременными, а если та выкинет, то насилуют ее уже на следующий день, чтобы зачала опять.
Шагая по залитой утренним светом улице к школе, она не думала, что через полчала будет леденеть от страха. А теперь леденела, судорожно сглатывала, старалась не сталкиваться с «дикими» глазами, не дышать. Как туда идти? Как прикажете не бояться, если такие вот так близко? Одно дело было читать о них в учебнике, другое – видеть наяву.
Наяву оказалось страшнее. Этим утром Алеста Гаранева впервые допустила мысль о том, что права Конфедерация, а не бабушка – не надо им любви, не надо им тепла, не надо ласки. Убивать таких. А если и не убивать жестоко, то отпугивать так далеко, чтобы вообще не приближались к Стене! От осязаемости величины предстоящего риска ей впервые в жизни захотелось истерить – вернуться домой и кричать, что никуда она не пойдет! И пусть она трус, пусть она предатель и все рухнувшие материны надежды в одном лице, пусть она кто угодно, лишь бы не в Поход!
Но то внутри.
А на лицо Алеста не изменилась – лишь плотно сжала зубы и с отстраненной остервенелостью решила, что драться она научится. По-настоящему, жестоко и больно. Чтобы наверняка.
– Эй, ты что! Ты что?! Изрубишь меня на куски!
Одетая в сползший набок защитный шлем и прижатая к самой стене Ташка выставила перед собой руки и вытаращила глаза.
– Прекрати! Алька, остановись!
Второй деревянный меч уже валялся метрах в трех на полу, ловко выбитый предыдущим ударом, – потная Алеста все наступала.
– Сдаю-ю-юсь! – заверещала подруга так громко, что подоспела тренерша – дернула Альку за плечи, гулко хлопнула по шлему, резко развернула к себе лицом.
– С ума сошла, Гаранева! Меч, хоть и деревянный, но это меч! Поругались, так выясняйте отношения по-другому!
Взмыленная Алька очнулась только сейчас – до этого она видела перед собой не подругу, а «дикого», желающего навсегда ее поработить – и била его, била, била…
– Прости…
Хриплого выдоха из-под шлема не услышал никто. Вокруг них, оказывается, уже собралась толпа – все смотрели на бешеную ученицу – ее потную спину, израненные деревянной рукояткой до пузырей ладони, дрожащие пальцы – шушукались, обсуждали, толкали друг друга локтями.
– Простите, я… забылась.
– Забылась она! Марш в душ, и чтобы сегодня я тебя больше не видела!
Шлем давил виски, форма липла к телу – она остыла и теперь холодила кожу, – ладони зудели, а перед глазами чередовалось то испуганное лицо Ташки, то выпученные глаза «дикого» – я тебя подомну под себя, иди сюда, непокорная баба…
Смущенная собственным поведением и чувствуя себя сбрендившей, Алеста развернулась и зашагала к выходу из зала. Ей действительно нужно остыть, успокоиться, принять душ и унять не на шутку разыгравшееся воображение.
* * *
«…Господь создал мир и других Богов. Он создал нас – женщин, – дабы мы Любовию своей прославляли его, несли в дома уют, воспитывали детей и хранили тепло семейного очага. Он так же создал и мужчин, дабы они славили его трудом, подвигами и благими делами. И никто не повинен в том, что нынешнее поколение мужчин – нечета бывшим праотцам нашим – те были достойны почестей, и потому, храня уважение к далеким корням, Конфедерация оставила новорожденным право именоваться сразу после имени Отчеством, а не Матчеством, как то было бы верно исходя из сложившейся ситуации.
Мы чтим наших далеких Отцов, как чтим и Господа нашего, ибо все в этом мире есть дети его. Ныне матери могут избирать детям то Отчество, которое сочтут наиболее благозвучным, независимо от того, чей это ребенок – мужнин или рожденный от Великой Деи…»
Осознав, что зачиталась совсем не тем, Алька отложила в сторону оставленный кем-то на столе томик «Религии в социальном устрое» и вернулась к газетам.
Она провела в библиотеке уже три часа – искала данные о похищениях «дикими» женщин Общины, – но статистика, словно ловкий жонглер, укрывала цифры.
«Не о чем беспокоиться, – призывали успокоиться статьи, – ситуация под контролем. Пропадают немногие. Почти никто. Редко. Мы работаем над тем, чтобы восстановить порядок и правосудие и однажды свести цифры к нулю…»
Но какие цифры? Скольких похищали на пути к Храму? Многих?
Этот вопрос сделался для Алесты болезненным.
В пустом в этот час зале витало эхо – прохаживался у дальних стеллажей библиотекарь, изредка поглядывал на посетительницу – не начнет ли втихаря рвать страницы книг на память? – потом успокоился, уселся за стол, притих.
От голода ныл желудок; в косых солнечных лучах танцевали пылинки, хотелось чихать, но Алеста домой она не спешила. Вот отыщет данные, узнает правду, а потом отложил в сторону газеты. Потому что если не узнает…
И вдруг мелькнула странная мысль: а если узнает, станет легче? Пусть прочтет, что исчезает три или четыре человека в месяц – что это изменит? Ведь даже если до тебя не было ни одного, всегда можно стать первым, так?
«Страх – это фантом, который рисует в твоем воображении картины, Аленька. Он показывает тебе не то, что случится – оно ведь может никогда и не случиться, – а то, чего ты боишься. То есть не реальный мир, а вымышленный, искаженный твоей собственной боязнью. Всегда гони его, внучка, не позволяй над собой властвовать…»
Бабушка была мудра. Мудры были и вторившие бабушкиным словам учебники по психологии, которых Алька прочитала достаточно, вот только смелость от них не рождалась. От них рождалось лишь понимание, что в правильной пропорции страх способен уберечь человека от опасности, а в неправильной вызвать излишнюю тревогу, волнение и даже нервный срыв.
Судя по сегодняшним выпученным глазам Ташки, страх в голове Алесты сместился к пропорциям крайне неправильным.
Да уж.
И как же теперь вернуть все обратно?
Полдничала Аля в одиночестве – все на работе: отец на бумажной фабрике, Хельга в Управлении труда, мать, как всегда, в центральном отделе статистики.
«Наверное, как раз подделывает те самые цифры в газетах».
Вчерашние котлеты казались вкуснее холодными; с летней кухни домработница Клавдия не зло покрикивала на какого-то Нила – Алька не сразу поняла, что Нилом зовут молодого садовника.
Сегодня на него смотреть не хотелось, не после «диких» – в районе затылка ползали неприятные мысли: «а что, если мать права? Перепошлешь такому любовь, и он сделается, как те?»
Котлета, еще котлета, кусочек ржаного хлеба, компот.
Телевизор молчал; неровно тикали оставшиеся от бабушки часы на комоде – внутри рассохшегося деревянного ящика устало покачивался медный маятник, чучельная кукушка давно не высовывалась из отверстия – сломалась.
Вот бы ходить к Дее с охраной, со стражницами, да только пробовали – и возвращались ни с чем. Каждый раз одно и то же: если стражницы проводят девушку хотя бы до половины пути, то оплодотворения не произойдет. Почему? Загадка.
Может, Дея любит исключительно смелых?
Абрикосы в компоте сморщились и разбухли одновременно – Аля выудила их со дна ложкой, съела мякоть, отложила косточки на блюдце и поднялась из-за стола. Перемыла посуду, вытерла ее вафельным полотенцем и поставила на полку – мать не терпела беспорядка. Конечно, если оставить на столе, уберет и Клавдия, но зачем ей дополнительные заботы, когда и у домочадцев руки целые?
Ну, почти целые.
Алеста хмуро взглянула на стертую кожу ладоней, вздохнула и отправилась в ванную за мазью.
Она точно знала, куда идет, хоть и не желала себе в этом признаваться.
Миновала ровные ряды жилых улиц с аккуратными домами и палисадниками, прошла мимо автобусной остановки – туда, куда ей нужно, автобусы не ходили, – вышла на центральную аллею.
Лиллен грелся в теплых лучах солнца – еще не закатного, но уже давно миновавшего зенит. По правую сторону звенел фонтанами парк – в глубине за оградой желтели скамейки, вдоль них прогуливались молодые мамы с колясками; малышня с яркими совками возилась в песочницах на детских площадках. Тянуло сладкой ватой, цветущей лавелией и нагревшимися за день листьями папоротника.
Лето только началось. В половине шестого уже не жарко, но исключительно хорошо для ситцевой блузки, открытых туфелек-лодочек и развевающейся на теплом ветру, ласкающей колени юбки.
Еще бы знать, что впереди только хорошее, что когда пролетят эти три месяца, будущее расстелится безмятежной гладью – спокойной и манящей. Знать бы.
«Уверенность есть вера, – всплыли из ниоткуда строчки из учебника, – а вера достигается усилием и решимостью верить в хорошее. Осознанным выбором, склоняющим чашу весов от негативного к позитивному. Чтобы научиться верить, требуется внутренний запас сил, который восполняется сразу же, стоит вере занять прочное место в сомневающемся сознании…»
Где бы только ее взять – эту решимость?
Алька неслышно вздохнула и направилась прочь от парка, от центральных улиц, к окраине. Шла долго, даже устала, но сорок минут спустя достигла цели – широкой асфальтированной дорожки, тянущейся вдоль Великой Стены.
Здесь никто не прогуливался – сюда вообще старались заглядывать как можно реже – все-таки Стена, а за ней опасно – лишь расположившиеся на удалении друг от друга стражницы отдыхали в тени деревьев.
Одна из таких, одетая в военную форму, курила неподалеку от Алька, изредка поглядывала на Стену; из-под дерева плыл табачный дым.
В городе курили редко – считалось немодным. Мужчинам эту пагубную привычку запрещали совсем – нечего портить качество спермы, – а вот женщины изредка баловались тонкими папиросками, вставленными в длинный мундштук. Аля не курила. И таких толстых коричневых сигарет, как держала в пальцах стражница, до этого никогда не видела.
– Ты чего здесь забыла? – спросила та, стоило Алесте приблизиться. Не зло спросила и не добро – просто поинтересовалась. – Заблудилась, что ли?
– Нет.
У Альки не то от волнения, не то от мази зачесались ладони. Кто еще сможет ответить на ее вопрос, если не женщина в форме? Ведь она дежурит здесь сутками, а, значит, знает куда больше, чем лживые газеты. Вопрос лишь – скажет ли?
– Я… – нервы дали о себе знать запершившим горлом, – мне… мне идти скоро.
– Туда, что ли?
Женщина с короткой стрижкой качнула головой в сторону Стены.
– Туда.
– А-а-а…
«А-а-а» прозвучало непонятно – не то сочувственно, не то равнодушно.
– И я волнуюсь.
– Ну. Все волнуются.
Было видно, что стражнице диалог не нужен, и Алька заторопилась объяснить, пока ее не отправили восвояси.
– Нам просто «диких» сегодня показывали – какие же они… страшные.
– Те, которых сегодня изловили?
– Да, двоих.
– Слышала.
– И я… я подумала спросить,… а часто похищают?
Незнакомка в форме в какой-то момент напряглась, поджала губы, взглянула из-под фуражки неприветливо – на Стене в башнях перекликивались дозорные, – затем уловила в Алькиных глазах настоящих испуг и чуть размякла.
– Не велено нам говорить. Но часто, да. В месяц человек шесть-семь.
«Шесть-семь?!» – это много, очень много! Гораздо больше, чем вещала благостная газетная статистика. Какое там «не о чем беспокоиться»?
– Только сегодня вот одну опять… умыкнули. Гады недоделанные. Не отбили мы ее.
Стражница наклонилась и аккуратно затушила окурок о землю.
– А назад? Многие из них возвращаются назад?
Але отчаянно сильно хотелось верить в хорошее, невероятно хотелось.
– Назад? – дама в фуражке посмотрела на незнакомку, как на умалишенную. – Дура, что ли? Назад никто не возвращается. Никогда.
И она взглянула наверх, на башни, над которыми безмятежно и легко плыли по синему небу далекие белые облака.
Ташка перестала дуться после троекратного «прости». Важно кивнула Альке, слезла с деревянной скамейки за собственным домом и со словами «ты же еще не ужинала» убежала внутрь. Вернулась с двумя пластиковыми баночками йогурта и ложками – Алеста по-доброму хмыкнула: чем бы ни ужинали Эльза Геннадьевны и ее дочь, котлетами это точно не являлось. Здесь не готовили ежевечерний ужин, не садились за стол вместе, не вели чинных разговоров.
«Не компостировали друг другу мозги».
После Похода к Дее мать Ташки мужа заводить не стала – не пожелала осквернять тело мужскими прикосновениями, и потому в доме часто царила тишина – сама она читала наверху, дочь находила дела внизу. А еще, наверное, из-за отрицательного отношения матери к мужскому полу, Ташка приобрела к нему же интерес исключительно положительный – ей во что бы то ни было хотелось «попробовать мужчину», но она пока не решалась.
– Ешь!
Тощая рука с веснушками решительно пододвинула к Альке йогурт; крыльцо задней веранды утопало в саду – не ухоженном, как в родном доме, а диком, заросшем всем подряд и оттого почему-то уютным. Натуралистичность нравилась и Ташке, и Альке, но только не хозяйке дома, однако денег на садовника все равно не было – управляя химчисткой, Эльза Геннадьевна зарабатывала немного. И неубранный сад шумел, колыхался листьями лопуха, пестрел цветущим осотом.
Алька посмотрела на йогурт, поджала колени теснее к груди и отвернулась. Прищурила глаза, процедила отрывисто:
– Я не хочу. Туда. Идти.
Они обе знали «куда».
– Так не ходи!
Подруга уже облизывала ложку, причем не как все, поворачивая ее выпуклостью вниз, а наоборот – бугорком кверху, языком снизу. Когда-то Альку злила подобная «неправильная» манера, потом привыкла.
– Я не могу. Я должна.
В «должна» пролилось все накопленное за последние месяцы отчаяние.
– Да никому ты ничего не должна, – вскинулась Ташка.
– Должна! Матери. Я ей все должна.
– Нет.
– Да.
– Нет.
– Да!
– Просто возьми и слейся.
– Что значит «слейся»? – удивилась Алька.
– Ну, возьми денег сколько сможешь, билет на автобус до дальнего города и начинай новую жизнь, свою жизнь – для себя, не для нее.
– Ага, чтобы она занесла меня в список «отвергнутых»?
– Ты что?! – Ташкины глаза стали круглыми. – Она такого не сделает!
– Сделает, – Алька в этом даже не сомневалась. Если дочь пойдет наперекор приказам, оскорбленная Ванесса Терентьевна пойдет на все, чтобы показать, насколько она обижена и оскорблена, в том числе и жестко отомстит – поместит собственного отпрыска в список тех, кто не «уважил» волю родителей, чем лишит последнего права на любую достойную должность и зарплату во веки веков, аминь.
– Ну, не изверг же она?
Это Алька комментировать не стала, лишь вздохнула, потерла чешущийся глаз и проморгалась. Опять подумала о том, что неухоженный сад – это чем-то красиво. Не все и всегда должно быть ухожено, рафинировано.
– Ну, тогда вариант номер два, – пустой стаканчик от йогурта стукнул донышком по поверхности стола и под порывом ветра едва не перевернулся. – Ты будешь?
Ташка указала на второй йогурт; каштановая голова качнулась.
– Тогда я съем. Так вот, вариант номер два – просто сделай так, как тебе удобно, и выдай все это за случайную ошибку.
– Не понимаю тебя.
– Ну, смотри. Тебе ведь не хочется идти к Храму?
– А тебе хочется?
– Я еще не решила.
На самом деле Ташке уже решила – ей хотелось мужа. И секса. И они обе об этом знали.
– Ладно-ладно, – замахала руками рыжая хитрюга, – мне не хочется к Дее. Но меня и не заставляют.
– Везет…
– Ты слушай! Делаешь проще: находишь мужчину, который тебе не противен, ложишься с ним в постель, как бы случайно беременеешь, затем приводишь его к матери и говоришь: «Прости, маман, так получилось – я хотела просто развлечься, но залетела».
– Она меня удавит!
– Не удавит! Все женщины развлекаются, так? Она сама, типа, не развлекалась до Похода?
– Не знаю.
– Так она тебе и сказала, если спросишь. Я почти уверена, что развлекалась. Так вот, ей придется принять тот факт, что сначала ты родишь сына, остепенишься, повременишь с получением крутой должности, заведешь мужа, а потом уже сама решишь, нужна тебе Дея или нет. Вот голову даю – твоя маман к тому времени остынет, размякнет из-за внука, поумерит амбиции…
Насчет последних двух пунктов Алеста сомневалась кардинально: чтобы мать размякла от мальчика? Рожденного не от Деи, а от какого-то мужика? Да ее инфаркт хватит. Сначала инфаркт, а потом накроет приступ бешенства. И амбиции к тому времени не уменьшатся, а точно увеличатся, ведь Алеста своим проступком станет должна втройне.
К тому же мысли о сексе с незнакомым мужчиной не рождали в голове Алесты ничего, кроме смутной тревоги.
– Как-то все это… противно.
– Мой план противный?
– Да план, может, и не плохой, а врать противно.
– А тут вранья будет мало. Ты и скажешь, что хотела все сделать, как «ты велела. Знаю, мама, ты была права – ты всегда во всем права, – но так получилось…»
– Лизнуть предлагаешь?
– А кто на это не велся?
– Все равно противно.
– Ну, если противно, тогда тебе остается только одно.
– Что?
Неужели существовал еще вариант номер три? Алька взглянула на подругу, но, к своему удивлению, наткнулась не на смешливые, а на совершенно серьезные серые глаза:
– Тогда учись драться. Драться так, чтобы, – она запнулась, – …если уж не отбиться, так хоть помереть достойно.
– Тьфу! Чего бы доброго!
И Аля, пытаясь проплеваться, принялась издавать губами неприличные звуки.
– Говорю же, родить легче! – захохотала Талия. – Ты только скажи, а там мы тебе приличного мужика найдем!
И она с удовольствием принялась доедать второй йогурт.
Глава 3
Баал
– Вставай.
Это слово могло прозвучать мягче, будь в него добавлена нотка ласки, прошения, нежности или хотя бы заискивания, но Баал не вложил в него ничего, кроме равнодушия.
Он сел на край кровати, сложил мощные руки на голые колени и принялся ждать.
За спиной зашуршали простыни.
– Уже?
Он не стал оборачиваться – и так знал, что там лежало: пара хороших титек; крепкие, как у гнедой кобылы, слишком жилистые, на его вкус, ноги и приятное, если бы не исказившее его в этот момент раздраженное удивление, личико. Другой бы описал гостью иначе – жгучей томной рыжеволосой красавицей; Баал же описал ее парой титек, за которые пять минут назад держался. Вот они были хорошими, все остальное – так себе.
– Одевайся.
Девица (он забыл, как ее звали. Или не спросил?) приподнялась и уселась за его спиной.
– Но еще только полночь. Давай я уеду утром, как все приличные девушки.
«Приличные девушки не раздвигают ноги перед первым встречным», – этого он вслух говорить не стал. В конце концов, ему нужна была «неприличная», потому что у нее имелось то, куда можно было воткнуть вставший член – он виноват, что член у него время от времени стоял? Родился бы просто демоном и не испытывал бы подобных мук, но Регносцирос родился наполовину человеком и, значит, имел человеческое тело. А у мужских человеческих тел, черт бы подрал их физиологию, иногда стоял член. Не все же время терпеть?
Гостья, тем временем, решилась сменить тактику и протянула руку к его голове, попыталась погладить.
– Не трогай мои волосы.
Теперь разозлилась она. Не надула губы, как сделала бы при другом – поняла, что при Баале подобный номер не сработает, – попросту скинула маску и изменилась в лице.
– За волосы трогать нельзя! Книги твои трогать нельзя! К камину подходить нельзя! Продукты в холодильнике можно потрогать?
– Потрогаешь в магазине, когда выйдешь.
И он, чтобы избежать прикосновений, поднялся первым. Поддел брошенные на кресло джинсы, прошел в ванную, заперся, включил воду. Уже стоя под тугими горячими струями услышал, как в комнате что-то разбилось, а затем хлопнула, едва не обрушив стену, входная дверь.
Они всегда что-нибудь разбивали – человеческие женщины. Слишком много эмоций испытывали, слишком часто злились.
Вазу с кофейного стола он нашел в виде осколков на ковре, когда вышел из ванной. Сходил в кухню за совком и веником, принялся убирать беспорядок.
Нет, человеческие женщины не были плохими, просто созданы они были для человеческих мужчин и подходили ему лишь телом. Если бы одна из них могла просто прийти, раздвинуть ноги, позволить кончить в себя, а после молча уйти, Регносцирос был бы счастлив, но таких он пока, увы, не нашел. Все о чем-то просили, и все чего-то хотели: слов, комплиментов, чувств, свиданий, отношений, обещаний, совместного время провождения, подарков. И если первое он попросту не мог им дать, то последнее не хотел – зачем? Лицемерить и платить за секс? Но ведь они сами на него соглашались – на голый секс без обязательств. Он при этом не врал: один, скучаю, готов трахнуть. И они шли следом – зачем, если знали правду? Все равно на что-то надеялись, во что-то верили, думали, он шутит.
Но Баал никогда не шутил – не умел.
Осколки отправились в урну. Наверное, часть из них – мелких – до сих пор утопала в ковре – пригласить, что ли, завтра уборщицу, пропылесосить? Недолго думая, Баал откатил столик к стене, быстро скатал ковер рулоном и выбросил его на газон в сад – проще заменить новым. Не любил он уборщиц, как не любил и гостей в своем доме. Эту-то привел первой за год. И то лишь потому, что устал терпеть жжение в яйцах, устал ждать, что кончит во сне, устал пытаться распалить фантазию, чтобы сработали собственные руки… Тьфу.
Вернулся в комнату, аккуратно заправил кровать, уселся в черное кожаное кресло перед камином, посмотрел на экран браслета.
«Книги ей потрогать…», – мелькнула и ускользнула прочь злая мысль.
Браслет мигал – работа на сегодня есть.
Четыре адреса, четыре вызова.
Четверо сегодня умрут.
«Родился один – умрешь один» – не стиль жизни, не убеждение – карма. Он был обречен на одиночество и всегда знал об этом. Знал еще с тех времен, когда маленьким спрашивал мать об отце, а та, глядя на его лицо, морщилась от отвращения. Знал, когда стоял наказанный за незначительные проступки в темном пыльном чулане; знал, когда били за необщительный характер в школе сверстники, когда бил их сам. Когда предсказывал людям судьбу и болезни и думал, что помогал этим, а на самом деле лишь зарабатывал еще больше отвращения и злости в ответ.
За что? За то, что не такой, как все? Он не выбирал демона в отцы, не выбирал мать-алкоголичку, не выбирал тот мир, где так и не прижился.
Но выбрал другой – Мир Уровней. И прижился.
Здесь его полудемонические способности оказались нужны и востребованы, здесь нашелся человек, способный увидеть в них пользу, а в Баале – личность. Им, этим человеком, оказался Дрейк Дамиен-Ферно – начальник отряда специального назначения, куда Регносцироса приняли рядовым бойцом. Бойцом – это на бумаге, а на деле – Карателем. Проводником душ из мира в мир, чистильщиком.
Прекрасная работа, правильная для него, подходящая.
И Баал в кои-то веки научился радоваться жизни. И даже в какой-то мере тому, кем родился. Чем плохо убивать по заданию, «по показаниям»? Не он, так кто-то другой. Любой, к кому его направляли, уже отжил свое в этом мире и должен был покинуть его, и не потому что Баал плохой или плохая Комиссия, но потому что совершил проступок, потерял искру или же просто сдулся. Зачем Уровням слабаки?
Регносцирос подался вперед, встряхнул длинные, вьющиеся кольцами темные волосы, забрал их пятерней назад, стянул в хвост. Довольный, не чувствуя более тяжести в чреслах, поднялся с кресла, принялся натягивать джинсы.
Нет, он не умел, как коллега Мак Аллертон, выслеживать «жертв» на расстоянии, не мог находить их внутренним взором на мысленной виртуальной карте, но умел другое – читать эмоции, воздействовать на них при необходимости. Совершать предсмертную анестезию, изучать, анализировать. И, хотя все люди за много лет работы начали казаться ему похожими друг на друга, как близнецы, – одни и те же желания, эмоции, потребности, – все же работа до сих пор доставляла удовольствие.
Проводит сегодня четверых, вернется, поспит.
А завтра сходит на матч по артболу, которого давно ждал.
Квартира пахла помойкой: лежалой пиццей, немытыми стаканами, засорившимися трубами, тухлой урной. В осязаемые ароматы вплетались и другие – неосязаемые: страха, отчаяния, мрачной безнадежности.
Перешагивая порог чужого дома, Баал поморщился – зачем доводить себя до такого? Если ты жив, если у тебя есть руки и ноги, голова на плечах – нормальная работающая голова, – зачем погребать себя заживо под лавиной сомнений, самобичеваний, тонуть в пучине неверных действий, влекущей за собой неподъемную тяжесть вечной вины?
Странные люди. Непонятные. Безнадежные.
Этот оказался наркоманом.
Он сидел в углу неубранной гостиной, в темноте, под окнами, за которыми шумел ливень. Стулья перевернуты, свет отключен, вокруг разбросаны пустые шприцы; из мисок на столе тянуло химией.
Когда высокорослый, одетый в черный кожаный плащ мужчина вошел в комнату, хозяин дома – молодой еще парень – очнулся, поднял голову, сфокусировал мутный взгляд на госте и почти сразу же завозился, захрипел:
– Застрели меня! Застрели! Только не режь, не мучай!…
Почувствовал.
Они все его чувствовали – люди, – хотя их интуиция не развивалась выше определенного предела. Но смерть не почувствовать невозможно. Довел себя до безнадежного состояния? Расхотел жить? Жди гостя.
Дрейк не направлял к тем, у кого оставался хотя бы шанс исправиться – приказывал «чистить». А как еще быть со слабаками в мире, где естественная смерть отсутствовала? Регносцирос понимал подобные приказы, более того – был согласен с ними.
А глядя на этого, был согласен на все сто.
Он медленно, стараясь не ступать на рассыпанные чипсы и обрывки жженой бумаги, обошел софу, коротко оглядел комнату – пару протертых кресел, ковер в пятнах, старый телевизор, пустые, прикрепленные к стене полки, – остановился напротив окна. Напротив отброса. Долго смотрел на наркомана, молчал.
А тот все сучил по полу грязными босыми ступнями – пытался слиться со стеной, чувствовал холод:
– Только не мучай… Застрели…
Баал всегда этому удивлялся – они думали, ему нравится мучить? И он пришел для того, чтобы оттащить бедолагу в спальню, раздеть его, привязать к кровати, разложить маньяко-ящик с инструментами и начать с наслаждением вырезать внутренние органы? Такой они представляли свою кончину? Или это его лицо наводило их на подобные мысли?
Лицо как лицо; Регносцирос не стал смотреться в зеркало – он выглядел, как человек. Как небритый, здоровый брюнет, которому хочется поспать – ну, по крайней мере, ему так казалось. Они же видели его другим – опутанным сероватым свечением, с дымчатыми за спиной крыльями, с черными омутами вместо глаз. Перед смертью люди видят больше – миры истончаются и проникают друг в друга, сдвигая сознание.
Вообще-то, он мог бы просто усыпить бедолагу, что и собирался сделать, пока ехал сюда – приложить ему руку ко лбу, погрузить в беспамятство, а после проводить душу туда, куда ей предстояло перейти. Мог даже руки ко лбу не прикладывать – просто заглянуть внутрь и отключить жизнь, – но этот однозначно просил «застрели».
– Застрели-застрели-застрели…
Наркоман продолжал сучить по полу пятками; у его губ пузырилась пена. Жалкая картина: неубранный дом, прогнившие обои, вонь протухшего тела и сознания. И почему ему не досталась работенка поприятнее? С песнями, лепестками роз, блеском начищенных люстр, звенящим смехом красавиц? Наверное, потому что смерть всегда связана с кровью и грязью. Почти всегда.
– Как хочешь.
То была единственная фраза, которую произнес Регносцирос, прежде чем положил пальцы на рукоять пистолета.
Что его всегда удивляло, так это людская эгоистичность. Все они боялись не смерти, нет, они боялись за себя – не жить, не существовать, не чувствовать, не быть.
А что же станет со мной? Меня больше не будет? Я уйду навсегда?
Всегда «со мной», всегда «я» – их извечное единоличное пресловутое «я».
Почему не интерес – а что находится «за пределом»? Куда состоится Переход? Почему не восторг, не азарт, не счастье, ведь смерть – всегда движение, всегда «дальше». Куда именно «дальше» – вопрос другой, – но почему, в конце концов, не любопытство, а как именно осуществляется Переход, какие в нем присутствуют процессы?
Нет, их интересовало лишь собственное бренное тело – оно перестанет чувствовать, думать, видеть, слышать и дышать. Все, конец мира, трагедия, тлен.
Да, тлен, но уж точно не трагедия и не конец – не в их привычном понимании.
Обо всем этом Баал размышлял, выводя свой седан с узкой парковки на заднем дворе. Ливень усилился, щетки едва справлялись с потоками – не стирали их, лишь сдвигали траекторию движения воды, чтобы через секунду она вновь залила стекло волнами.
Ну и ладно.
Через минуту он вновь остановил машину в тупичке, приоткрыл стекло, закурил. Регносцирос всегда курил «после» – восстанавливался перед следующим «клиентом», стабилизировал собственное состояние, восполнял потраченную энергию.
На сегодня еще трое.
Такие же потерянные, бесполезные?
Других он пока не видел.
Нет, видел – приговоренных к «дематерилизации» с Уровней за совершение преступления; даже если те оставались в добром здравии и с огромным желанием жить и исправляться, их принудительно выкидывали за пределы Мира, в который когда-то пригласили. И верно – нечего гадить там, где живешь. Криминалы, как ни странно, сопротивлялись дольше всего, и с ними было интереснее.
Сигарета тлела быстро; грохотал по асфальту дождь – пузырился лужами, брызгал на все, на что мог набрызгать, одновременно загрязнял и умывал улицы. Зато свежо.
Регносцирос всегда философствовал в перерывах. Во-первых, потому что заняться, кроме измышлений, все равно было нечем, во-вторых, пожелай он поговорить об этом вслух, собеседников не нашлось бы. Разве что сам Дрейк, но тот вечно занят. Коллеги же при разговорах о смерти быстро впадали в уныние – достаточно созерцали ее в силу профессиональной деятельности ежедневно, чтобы еще и за кружечкой пива обсуждать в удовольствие.
А вот он удовольствие от философии получал – больше, когда ты один, не от чего.
Спустя несколько минут ливень начал стихать; все еще капало, но уже лениво, по-доброму. Блестела под фонарями освеженная листва кленов; окна здания, у которого стоял автомобиль, не горели. За окном половина третьего утра.
Вновь завелся мотор седана; низкий гул отразился от кирпичных стен.
С остальными оказалось проще: первый спал и ничего не почувствовал, вторая восприняла его приход с благодарностью – так устала жить, третий кричал, но недолго.
Тела он всегда оставлял в квартирах – их следом подчищали представители Комиссии – спасибо, хоть от этой грязной части работы избавили. Утром ему на счет упадет внушительная сумма – плата за каждого «уведенного» – работа «карателя» и по совместительству проводника хорошо оплачивалась.
Баал вознаграждению не противился – не радовался ему, но и не просил. Умел жить с деньгами, умел жить без них. Домой он ехал ленивый, расслабленный и довольный. Довольный, потому что дел на сегодня не осталось, потому что завтра пойдет на игру, потому что успеет до нее выспаться. Ночью движению не мешали ни поставленные на дежурный режим светофоры, ни пешеходы.
Регносцирос ехал и думал о том, что живая вагина все-таки куда приятнее собственных ладоней. Ему вспоминалась шарообразная упругая грудь под пальцами, закинутые на плечи ноги, вид собственного скользкого ходящего взад-вперед члена…
Мда, это стоило разбитой вазы. Завтра он купит новую.
* * *
Его накрыло на следующий день прямо во время матча, как раз когда он собирался откусить очередной кусок запеченной в тесте сосиски, запить его лимонадом, а после выкрикнуть, чтобы номер четырнадцать двигался быстрее.
От волны гнева, которая неожиданно разлилась внутри, почти свело внутренности, разум затянулся красным.
«Нет-нет, только не это…»
Возможно, это не «прилив», возможно, это просто приступ раздражения – совсем обычный, какой случается у людей, когда некий, одетый, должно быть, по ошибке в белую униформу жирняк, не может пробежать и десяти метров, чтобы не упасть.
Баал застыл и на время перестал слышать толпу, рев, улюлюканье, перестал замечать слишком тесные кресла и надоедливых, постоянно орущих и хрустящих кукурузой соседей. Вместо этого прислушался к себе, к тому, что происходило внутри, – его черные глаза все еще смотрели на зеленый стриженый газон поля, но фокус временно улетучился.
Внутри клокотала ярость. Слишком сильная, чтобы родиться из обычного раздражения на игрока под номером четырнадцать. Может, она родилась не из-за жирняка, а из-за того, что его места соседствовали с двумя быдло, болеющими за конкурентов? Из-за прогорклой сосиски, из-за того, что лимонад вызвал изжогу, из-за недосыпа, черт его дери?
Но он доспал. Он встал в двенадцать – за два часа до начала игры, как раз вовремя.
Хотелось придушить кого-нибудь. Хотелось подняться с места, развернуться и натянуть заляпанный грязью кепон соседа тому сквозь макушку на шею, а после затянуть его узлом. Хотелось выбежать на поле, догнать жирняка и напинать того по слишком выпуклому заду, по этим толстым и лысым, как у бабы, ногам. Пилинг он, что ли, делал, сука его дери?
Регносцирос едва удержал собственный зад прижатым к казенному пластиковому стулу.
Э-э-э, нет, так не пойдет.
Это не раздражение, не неудовлетворенность, не злоба. Это, мать его, самый настоящий гнев – настоящий настолько, что если сейчас же не уйти со стадиона, кто-нибудь не просто пострадает – кто-нибудь очнется с жопой, натянутой на уши.
Баал быстро наклонился, поставил лимонад на пол, толкнул туда же пакетик с картошкой – та рассыпалась (и плевать), – поднялся с места. Задевая ногами бесконечные колени и не глядя на лица «куда прешь, мужик?», дабы не спровоцировать приступ, быстро протолкался к ближайшему выходу с трибуны.
Вот и посмотрел игру.
Вот и дождался матча, сходил, развлекся.
Он вел машину быстро, но аккуратно – надо успеть в загородный дом, пока не накрыло. Иначе он придушит кого-нибудь прямо на улице, иначе не сдобровать вполне себе здоровым гражданам, никоим образом не утратившим «искру».
Начальник не похвалит.
Черт!
Водитель выругался и ударил рукой по рулю. Почему сейчас? Почему так быстро, ведь с последнего «прилива» прошла всего неделя? Раньше они случались не чаще раза в месяц, а то в два. Слишком быстро…
«Это не прилив, не прилив…»
Но это был он.
Приливы – а именно волны неконтролируемого гнева – случались с Регносциросом почти с рождения, и он, как умел, справлялся с ними. Пытался игнорировать, душить в зародыше, не замечать, пересиживать в запертом помещении – не помогало: ярость всегда вырывалась на волю и проходила только тогда, когда обрушивалась на чей-то хребет. Чаще всего безвинный. Хорошо, если заканчивалось увечьями, но иногда исход ужасал даже его самого. Слишком много разрушений, слишком много жертв.
Первым этот феномен пояснил Дрейк:
– Это все потому, что у тебя человеческое тело и душа демона, Баал. Видишь ли, человеческое тело дается людям вкупе с эмоциями, ибо контроль над эмоции – самый сложный процесс, который предстоит постичь каждому. Тому, кто не сможет, – круг Сансары, по-другому – Перерождения. От эмоций зависят мысли, намерения, желания и поступки. И настроить эмоциональный круг на гармонию можно лишь одним способом – уравновешиванием каждой из них, что значит, каждой эмоции должно стать поровну – не больше и не меньше, чем другой. Только тогда они все превращаются в чувство, а чувство есть, как известно, только одно – гармонии. Они зовут его удовлетворением от жизни, истинным счастьем.
Тогда Дрейк говорил долго. Объяснил, что избыточная радость всегда обратится в печаль, избыточное чувство вины всегда выльется в агрессию, страх при должном понимании может обратиться в силу. Но гнев может уравновесить только любовь. Любовь, которой Баал никогда не испытывал.
Оттого и «приливы». Стоило чему-то спровоцировать щелчок, задеть невидимый триггер в сознании, и гнев моментально начинал возрастать, ничем не уравновешенный, в океанскую волну. И волна эта разрушила бы его изнутри, если бы хоть раз не вырвалась на волю.
– Нельзя эмоции держать взаперти. Либо их нужно уравновешивать, либо они возьмут под собственный контроль тебя.
Так случилось и с ним. Тогда он, помнится, с надеждой спросил:
– Какой для меня выход, Дрейк?
– Выход? Нет выхода, если не позволишь себе почувствовать недостающую деталь – Любовь.
– Любовь?
А после едва не взревел – какая может быть любовь у демона? К чему – к жизни, к самому себе, к кому-то еще? Да Начальник, должно быть, издевается! Давит на больное, ковыряет пальцем в черной ране!
Но Дрейк не давил – констатировал факт. А после сказал, что поможет найти выход.
И нашел.
Второй дом, в котором Баал почти не жил, находился на самой границе четырнадцатого уровня. Старый, деревянный, похожий на сарай: несколько комнат, кухня, подвал. В подвале находилось самое ценное – специально установленный для Баала портал в мир Танэо.
– Ходи туда, когда припрет. Бей, режь, отпускай гнев на волю. А после возвращайся сюда нормальным.
– Ты меня недооцениваешь – я убью там всех…
Чем Начальник думал? Почему не берег местных? Но тот лишь хитро усмехнулся, сверкнул серо-голубыми глазами и жестко произнес:
– В этом мире есть проклятое место – Холодные равнины. Некогда там жили люди, но после Боги прокляли их, и Равнины заселили монстры – адские твари, не признающие ни чужих, ни своих. Пока они находятся далеко от границ, люди в безопасности, но монстры плодятся быстрее, чем успевают найти достаточно пропитания, а потому движутся все ближе к поселениям. Вот их и режь.
Резать тварей? В неограниченных количествах? Звучало привлекательно.
– Не нарушу ли я баланс?
– В смысле, не спасешь ли многих местных от гибели? Скорее всего. Таким образом, сделаешь два добрых дела – поможешь тамошним и выпустишь пар. Устраивает тебя такой расклад?
Регносцирос попытался не выказать радость – слишком долго он пытался бороться с самим собой иными методами: стать более человечным, медитировать, изрубать в куски деревянных манекенов, сковывать себя цепями.
– А если я вырежу всех?
– Вот уж сомневаюсь.
– Их так много?
– На твой век хватит.
На его век.
Учитывая, что время в Мире Уровней не текло, а, значит, век Баала мог растянуться надолго, тварей на Танэо хватало.
Осталось добраться до дома.
Он бы купил продуктов – всегда покупал их для неразговорчивой соседки – девчонки, которая заселилась недалеко от его сарая несколько месяцев назад (не то пряталась от кого-то, не то просто устала от людей – ему плевать), – но уже не успевал. Добраться бы до окраины за час, завалиться в помещение, сбросить с себя одежду, нацепить наручи, взять в руки меч… и в Портал. Где на час, на два, на целые сутки он сможет стать демоном. Не человеком более, не существом с сердцем, но ведомым гневом самим собой.
– Полюби – всегда советовал ему Дрейк.
Наверное, он так шутил. Так же неумело, как и сам Баал.
Кто отстроил тот дом – одноэтажную хибару метрах в двухстах от его сарая, – он никогда не знал, но, когда впервые увидел возле нее ржавый пикап, сильно удивился. Сосед? Соседка? А следом мысль: «До ближайшего магазина два часа езды…» Два часа туда, два часа обратно – не далековато ли?
Пикап был брошен у забора, свет внутри не горел, и Баал не стал волноваться – у него брать нечего, воров он не опасался. Может, кто залетный? На дворе стоял январь; снег на окраине Уровня никогда не выпадал, температура здесь всегда держалась не ниже пятнадцати, а летом, ввиду непонятной ему аномалии, не распространяющейся на остальную территорию четырнадцатого, иссушала почву до состояния камня. Может, кто сделал вынужденную остановку на пару часов?
«Скрывался? Случайно набрел на заброшенный дом и решил переночевать?»
Тогда он не стал ничего выяснять – ни подъезжать ближе, ни стучать в дверь, ни задавать вопросов. Переключился на свои дела и выбросил из головы увиденное. Вернулся к этому позже – спустя неделю, – когда обнаружил, что пикап стоит на том же месте, а от хибары на версту несет человеком.
Отчаявшимся, угнетенным и измученным голодом человеком, который, судя по всему, прижился на новом месте, а вот продуктов питания прикупить забыл.
«Дура», – рыкнул Регносцирос мысленно (к тому моменту уже ощутил, что жилец – девка), хлопнул дверцей машины и направился к чужой двери. Постучал в нее грубо, выждал около минуты, хотел уже, было, войти непрошенным, но ему открыли. Худая, одетая в грязные штаны и майку, похожая на пугало особа женского пола. Немытые волосы разбросаны по плечам, глаза бесцветные – решила назло всем уморить себя голодом?
– Ты чего не жрешь? – без обиняков спросил он.
– Нечего, – так же просто ответили ему.
Баал фыркнул.
Его грозный вид новоиспеченную хозяйку дома изрядно напугал – как-никак на целую округу лишь они одни, – но от двери отступить не заставил. Даже взгляд, сучонка, не опустила. Он хотел огрызнуться, что пусть тогда помирает – он труп вынесет, чтобы не вонял, – но что-то заставило передумать, выплюнуть другое:
– Буду возить раз в неделю. Будешь мне пыль мести, полы мыть.
Какое ему дело до пыли? Да пусть ее хоть тонна навалит. И до чистых полов столько же…
А девка… Девка удивилась и кивнула.
Вот и договорился. Пришлось уйти, а через полчаса вернуться со своими запасами. Пакет с парой сэндвичей, бутылкой минералки, куском недоеденной колбасы, сыром и пачкой крекеров он оставил у двери.
Дожидаться, пока откроют, не стал. Именем не поинтересовался тоже.
Июнь, а пикап стоял на том же месте.
Изменилось немногое: вокруг дома уменьшилось количество сорняков, выросла пара грядок, заблестели окна. Безымянная девка из худой превратилась в почти нормальную. Мыла она, когда он не видел, на глаза ему почти не попадалась, на привезенную жратву не сетовала, денег за нее, впрочем, тоже не оставляла. И пусть – та обходилась недорого. Пыль, что ни странно, из его сарая полностью исчезла.
Вот и теперь, приближаясь к дому, Регносцирос по привычке потянул носом воздух – не пахнет ли голодом? Голодом воздух не пах. Отчаянием тоже, только немного обидой. На жизнь, мужиков? Нет ему дела – помирать соседка не собирается, и ладно.
Ключ нашелся под ковриком; привычно и сухо скрипнула деревянная дверь – впустила в дом высокую мужскую фигуру и жаркий воздух, затворилась с лязгом.
Баал быстро стянул с себя взмокшую от пота одежду, подошел к умывальнику, плеснул в лицо холодной водой и отфыркался. Затем заперся изнутри – нечего сюда ходить, пока он дома, – и заторопился в подвал.
Глава 4
Лиллен.
А лето текло мимо.
С тополей, словно теплый снег, летит пух – Алька с утра пораньше отжимается. Во дворе у соседки пестро цветут лазуритки – Алька в лесу бегает кросс с препятствиями. Вылупились и запорхали тысячами крыльев над лугами стаи бабочек – Алька с мечом и щитом наперевес нападает на деревянный манекен. У подружек новые юбки в оборочку – у нее мозоли на ладонях; у них шитые бусами шлепки на каблучках – у нее под ситцевыми рукавами рельефно перекатываются бицепсы.
Бицепсы.
Совсем, как мужик стала, – проворчала бы, наверное, бабушка, – жилистая и тощая. Девушке такой быть не к лицу, некрасиво это.
А куда ей «красиво»? Для кого? Зато меч в руке все чаще казался родным, уже лежал, как влитой, и бегать до горы по утрам становилось все легче – прибежишь назад и уже на зеленую траву не валишься на час, как бывало вначале. Дышать легче, икры не болят, вот только поясницу по вечерам ломит – не до танцев. Утром тренировки, после обеда практика в Управлении – бумажки, статистика, документы, учеба. Новые лекции, новые задания, новые знакомые – все по большей части занудные.
Лето Алеста видела только из окошка. Когда утром вместе с рассветом бледнел на чердаке мрак и сквозь тонкие щели в досках протягивались, словно струны, ровные золотистые лучи. И вечером, когда те же лучи, только мягкие и розовые, почти пушистые, стелились через сад. Вызрела клубника, наливалась малина, подставляла бока солнышку пузатая вишня – все грелись, все наслаждались, все напитывались теплом, только она, Алька, наблюдала за жизнью, как из бункера, изнутри собственной черепной коробки и вздыхала, когда бросала короткие взгляды на бледную, совсем без загара кожу.
Мать, возвращаясь с работы, демонстративно беседовала только с Хельгой, отец захворал и сразу после ужина уединялся в комнате; Ташка уехала в Карлин к бабушке – сплошное одиночество. Из развлечений: наблюдать за садовником Нилом да таскать из библиотеки книги. Все интересные уже перечитаны, а на неинтересные нет ни сил, ни желания.
Алька грустила.
Два летних месяца уже прошагали мимо. Остался третий.
И он, как пить дать, прошмыгнул бы так же, как остальные – скучно и неприметно, – если бы не одно событие…
Тайник.
Тайник обнаружился случайно и, конечно же, на чердаке; в какой-то момент блеснула в свете заходящего солнца щель между досками, и Алька тут же отправилась ее исследовать.
И что нашла! Две старые и почти рассыпающиеся от прикосновений книжки, несколько выцветших черно-белых фото в жестяном ящике – на них Агафья обнимала незнакомого мужчину – Алькиного деда (ведь, деда?).
Алеста хмыкнула: «А кого же еще обнимать?»
Но зато как обнимала! Искренне, радостно, не выделяя ему, по-видимому, «пятнадцатиминутку». Неужели любила по-настоящему? Почему же тогда не рассказывала о самой себе, только о других – из-за матери?
Глядя теперь на обиженное и одновременно восхищенное выражение лица внучки – глаза горят, в них плещется любопытство, рот приоткрыт – Агафья бы, наверное, смеялась. Она вообще любила смеяться. И тайники, видимо, любила, иначе, зачем сделала бы один в стене?
«А, может, специально, для меня?» – руки все тянулись к найденным сокровищам.
Нет, это вряд ли. Скорее, для себя.
Тут и потускневшие от времени украшения, и старые на жухлой, как крылья высохшей бабочки, бумаге письма, открытки: от отца, брата, подруг…
Часть истории. Часть бабушкиного прошлого.
Спешно бьющееся в собственной груди сердце и невероятно сильное чувство, что отныне что-то обязательно изменится.
Письма Алеста читала только по ночам. Всегда с чувством стыда, но с великим упоением – так в старину читали запрещенных поэтов – взахлеб, сразу в кладовую памяти, чтобы наизусть. После подолгу вспоминала строчки и перебирала их, словно жемчужные бусины: с какой заботой писал дед, когда находился в другом городе, с какой нежностью отвечала ему бабушка, с какой любовью эти двое заботились друг о друге. Она тонула в чужих чувствах, словно в океане, и не желала из него выплывать – ее качало, пьянило, влекло, убаюкивало незнакомым течением.
Значит, чувства есть и не по графику. Значит, они бывают.
А по ночам ей снился дед – в фуражке, улыбающийся, почему-то всегда с цветами, как на фото.
Потом письма закончились, и настало время книг.
И все, и Алька потерялась для общества окончательно. Бабушка будто специально для нее сохранила не занудную и полную великих мыслей прозу, не чьи-то пыльные мемуары, не заскорузлые научные труды неизвестного политика или ученого – нет, она сохранила любовные романы. Те, старые, аутентичные, еще не подвергшиеся цензуре.
Такие (как значилось в истории) когда-то жгли на площади тоннами. Все выжгли – так говорили, а оказалось – не все.
И они – эти романы – окончательно потрясли Алькино воображение. А как еще? Ведь, оказывается, мужчины тоже умели любить! И не только любить, но быть сильными, смелыми, ре-ши-тель-ны-ми (а она и забыла, что это слово могло применяться к самцам). Умели быть справедливыми и щедрыми, заботливыми и ласковыми, проявлять инициативу, разрешать конфликты, быть опорой семье.
Как-как-как… Нет, не так – почему? Почему все изменилось?
Теперь Але, куда бы та ни шла, постоянно мерещились воображаемые герои – гордые, серьезные, с бугрящимися мышцами, мудрые и рассудительные – каких не бывает в жизни. Они спасали своих дам, скакали на конях, воевали только при наличии правильной причины – и не воевали даже, исключительно защищали своих. И она всматривалась в мужские лица – любые, которые встречала на пути, – уборщиков, садовников, посудомойщиков, кочегаров, дворников…
«Где же они, где?»
Ведь должны были такие остаться? Не могли все исчезнуть, не могли забыть природы. Она верила, что узнает такого из толпы – по одному лишь взгляду, по наклону головы, по презрительно поджатым губам. И взгляд этот – внешне покорный – будет выдавать всю глубину сдерживаемых чувств. «Я – мужчина! – будут говорить сверкающие глаза. – И горжусь этим».
Алька бредила.
Ей скоро идти, а она еще девственница, она никогда не любила, ей никогда не позволяли. А день рождения уже через неделю – неужели она не успеет? Совсем ничего не успеет?
Она благословила тайник и свою находку, но в моменты отчаяния его хотелось проклясть.
Лучше бы не находила, лучше бы не мучилась. Вот только забыть то, что узнал, невозможно.
Этот поступок был в стиле импульсивной Ташки, а совсем не уравновешенной Алесты, но именно последняя занималась теперь невообразимым, а именно: уже третий день накачивала садовника Нила любовью. Накачивала, не жалея сил и энергии, наплевав на все запреты, – занималась этим утром, в обед и вечером – всякий раз, когда не видела мать.
И тот постепенно расцвел. Сначала начал все чаще поднимать лицо, рассматривать окружение, как-то по-особенному просветлели его глаза, один раз даже мелькнула на лице беспричинная улыбка. А к вечеру третьего дня садовник принялся напевать – Алеста возликовала: работает!
Ее метод работает!
Размышляла она просто: да, на улице нужный человек не встретился. Общество запугало мужчин, заставило их забыть собственную роль и значение в социальном устройстве. Так почему бы не помочь одному из них вспомнить? Кому? Кому-нибудь знакомому, не противному, даже симпатичному.
Выбор пал на садовника.
Ведь в романах как? Любовь – она приходила не сразу, а зачастую после телесной близости. Значит, – ликовала Алька, – надо эту телесную близость организовать. Таким образом, она познакомится с интимной стороной жизни (уже не пойдет в храм девственницей и будет что рассказать Ташке), а заодно, возможно, пробудит чувства в мужчине. Затем вернется, воспитает в нем самоуважение, гордость, чувство собственного достоинства и, вопреки приказам матери, возьмет-таки Нила в мужья, и станут они жить душа в душу. Может, не так здорово, как бабушка с дедушкой, но как-то похоже – в семье, где царит идиллия и равенство. Нет, конечно, афишировать этого не будут – умный мужчина, если он умный, поймет, что выпячивать привилегированное положение не стоит, – зато внутри собственных стен они оба обретут гармонию. Алеста получит возможность любить столько, сколько захочет, а Нил получит возможность быть постоянно любимым.
А что пока нет чувств? Так они ведь еще толком не знакомы.
Запел? Принялся мурлыкать себе под нос?
Значит, сегодня вечером она отправится к нему в сарайчик с визитом.
Думая об этом, Алеста жмурилась, как сытая кошка.
Темноты было дожидаться невтерпеж. Мать после ужина все продолжала сидеть за столом – смотрела телевизор; Алеста нетерпеливо кружила наверху. Хельга, как назло, тоже осталась дома.
Может, отложить?
Этим вечером садовник долго вазюкал шлангом по саду – поливал-поливал-поливал и все никак не мог угомониться. То там подстрижет, то здесь сорняк выдернет, то замешает очередную смесь удобрений – трудяга.
Алька наблюдала за ним коброй.
Разглядывала светловолосый затылок, жилистую спину, все никак не могла придумать, с чего начать разговор, – наверное, все нужно объяснить как есть? Рассказать свой план без обиняков, предложить попробовать – ведь не откажет?
Не откажет. С чего? Ташка говорила, что мужчины падки до женской ласки, Хельга лишь подтверждала эту теорию, а сегодня Алька вознамерилась предложить именно ее – эту самую ласку. Щедро, душевно и задаром.
Интересно, ей понравятся на ощупь его волосы? А вес его тела? Какого это будет – гладить его восставшую плоть, сжимать ее пальцами, ощущать чужие ладони на коже? Так же трепетно, как в бабушкиных книгах? Закружится ли у нее от восторга голова, приятно ли будет слушать звучащие в порыве страсти нежные слова? Понравится ли вкус его дыхания?
«Эх, Нил! Знал бы ты, что тебя ждет…»
А что ждет ее?
Особенно, если узнает мать?
В десять вечера погрузилось во тьму кухонное окно; то, что вело в спальню Хельги, – на пятнадцать минут позже. В десять сорок одну Клавдия выключила свет в летнем домике, а без пяти одиннадцать свет погас и в сарайчике садовника.
Одетая в легкое платьице (под которым лишь кружевной бюстгальтер и трусики), Алька бесшумно выскользнула за дверь – пора. Озираясь, спустилась по лестнице, тенью прокралась к прихожей и скрипнула массивной входной дверью. На секунду остановилась, прислушалась – ни звука, – лишь отбойным молотом грохотало собственное сердце.
«А Нил, вероятно, не ожидает гостей…»
Конечно, не ожидает – кого ему ожидать? Хозяйскую дочку? Он, наверное, и предположить не может, что одна из них внезапно сбрендила и решила отдаться первому встречному.
Аля волновалась. Тихонько шлепала расстегнутыми босоножками по тропинке и все думала, хорошо ли выглядит? Понравится ли избраннику? Ведь не уродина, не глупа, помылась…
Ночь пахла влажной землей, сочной травой и распустившимися в темноте бархотками – от них стелился по саду сладковатый и приторный, как материны духи, аромат.
Тряслись ладони, тряслись поджилки, скрутило от нервов внутренности.
В ветхую дверь сарая Алеста постучала ровно четыре раза.
Для того чтобы он открыл, потребовалось несколько секунд. Чтобы посторонился, впустил и выслушал, минута. Для того чтобы, наконец, кивнул и позволил сесть на кровать, еще целых пять.
Слишком долго!
А теперь этот олух (по-другому и не назовешь) стоял на расстоянии в несколько шагов и, стараясь не выдать испуга, смотрел, как Алеста расстегивает пуговицы на платье. И выглядел он при этом, как неспособная сходить по-большому сова, – волосы взъерошенные, глаза круглые, рот распахнут. Свет не зажигали, но она и без того видела, что Нилу страшно. Вместо того чтобы рассматривать ее с вожделением, он едва не выдавливал спиной дверь. Кажется, его мысли грохотали в воздухе: «А что, если войдет Ванесса Терентьевна? А что будет, если она узнает?»
Аля злилась.
Ее руки тянут вниз бюстгальтер, а придурошный садовник думал вовсе не о ее груди, а о себе! Что с ним будет, что с ним будет!
А как же ее чувства?
«Спокойно, у тебя еще нет чувств, у него тоже. Их надо пробудить».
И все равно раздеваться самостоятельно было унизительно; Аля сжала зубы и расстегнула застежку бюстгальтера. Стянула кружево, положила его рядом, закинула ноги на узкую лежанку, подвинулась к стене. Не удержалась, грубо спросила:
– Так и будешь там стоять?
– Я…
С тех пор как она вошла, он только и делал, что односложно мычал: «Я… мы… мы не должны… а вы уверены?»
– Вы точно… возьмете на себя ответственность?
– Возьму, – сквозь зубы прошипели с кровати.
«Спокойно, Аля, спокойно…»
Наверное, поначалу бывает всякое – ему нужно расслабиться, отвлечься, а дальше все пойдет, как по маслу. Должно пойти. Они оба возбудятся, тяжело задышат, начнут липнуть друг к другу – черт, как Хельга это делает? Ей не противно?
– Ну?
Нил медленно приблизился и выглядел он при этом, как приговоренный к расстрелу.
– Послушай, если не хочешь…
Раздражение перевалило за отметку «слишком сильное».
Они шептались, как два школьника – эмоционально, порывисто, зло.
– Я… Хочу…
– Тогда долго я тут буду одна лежать?
Он, наконец, сел рядом – прямой, как доска, напряженный.
– Я… раньше…
– Что?
– Я… не был с женщиной.
– Я тоже не была, – Аля фыркнула. – Ни с женщиной, ни с мужчиной.
– Что я… что мне делать?
В блеклом лунном свете, сочившемся сквозь маленькое занавешенное окно, Нил выглядел растерянным, испуганным насмерть – возбуждения это не добавляло. Алеста силилась видеть его мужественным, красивым, решительным, но… получалось слабо. В сарае пахло несвежей постелью и мужским потом.
– Коснись меня.
В ее сторону протянулась дрожащая ладонь, легла на плечо. Она показалась ей теплой и липкой, как перележавшая на солнце медуза.
– Груди.
Ладонь послушно переместилась на грудь – зависла над ней сверху, медленно припечаталась.
– Ну…
– Что «ну»?
– Потрогай ее.
– Я трогаю…
Хотелось рычать.
«Помассируй, погладь, поводи кругами… Пососи, в конце концов!»
То ли от недовольного блеска ее глаз, то ли от пыхтения, партнер на секунду очнулся – сжал пальцы, попробовал грудь на ощупь, потрогал сосок.
Аля закрыла глаза и попыталась расслабиться – ну, где же оно, хваленое возбуждение? Где ее собственное тяжелое дыхание, где страсть, где… все?
– Ляг рядом. Обними меня.
Нил подчинился.
– Поцелуй.
Когда его лицо приблизилось, и сухие губы ткнулись в щеку, она не выдержала:
– Вас что, ничему не учат?
– Чему… не учат?
– Как быть с женщинами?
– Нет.
– А природа что говорит?
– Что? Я…
«Я не знаю», – она могла бы завершить фразу за него.
Нет, это провал – полный провал. Ей не жарко, не сладко, не томно – ей… противно. Его волосы – она все-таки попробовала зарыть в них пятерню – казались жесткими, как щетка, кожа пахла химикатами и чем-то… чужим, не родным, но Аля стойко держалась.
– Расстегни ширинку.
Должна же она хотя бы «подержаться»?
Зашуршала ткань, послышался звук расходящейся в стороны молнии.
– Приспусти штаны и трусы…
– Но…
– Давай!
– Но…
Пока Нил кочевряжился, Алеста сунула ладонь под резинку, нащупала что-то мягкое, словно тряпичное на ощупь и попыталась это сжать.
Это… пенис? Какой-то… Какой-то морщинистый, неприятный… совсем не такой, как описывали. В книге он был «твердый, как сталь, бархатный, огромный»… А этот, может, и бархатный, но в руке лежит, словно детский спонжик.
Ей вспомнилась губка-утенок, с которой Алька купалась в ванной.
– Почему?…
– У меня трусы грязные, – наконец выдавил Нил, и ее рука тут же отдернулась.
– Тьфу ты!
– Я не знал!
– Все, с меня хватит.
Теперь ей было противно до отвращения. Она неуклюже перевалилась через горе-партнера – тот ойкнул, – впотьмах нащупала у стены свой бюстгальтер, сгребла его и выпрямилась. С негодованием прошептала:
– Только подумай сказать об этом матери!
– Я не…
– Урою! – прошипела Алька и направилась к двери. Никогда в жизни она не была ни грубой, ни жестокой, но в этот момент впервые в жизни была готова придушить человека голыми руками.
И пусть мать ищет нового, пусть причитает, пусть орет так, что стены рухнут. Как вообще теперь смотреть на этого Нила? А она еще любовь ему посылала, тьфу!
Убожество! Ничтожество! Мужик…
Последнее слово прогрохотало в ее голове и вовсе уничижительно.
После душного сарая ночной воздух показался ей умопомрачительно свежим.
Глава 5
Холодные Равнины.
За последние три недели он находился здесь во второй раз – его «болезнь» прогрессировала. Если так пойдет и дальше, Дрейк вообще перестанет видеть его на работе – «не айс».
Откуда он подцепил это странное выражение?…
Баал напряг воображение, попытался вспомнить и спустя секунду кивнул – Бернарда. Его притащила из своего мира Бернарда.
Она много чего притащила. В том числе и хорошего.
Мысли от спутницы Дрейка свернули обратно на оставленную за спиной гору трупов – скольких они убили сегодня? Два десятка? Три?
Достаточно, чтобы сделать этот мир «лучше».
Его «войско» слонялось неподалеку, ждало новых команд, но Регносцирос молчал. Сидел, одетый в кожаную броню и плащ, на холодном валуне, смотрел по сторонам, поглаживал пальцами залитую кровью рукоять меча; небо хмуро клубилось, дул нескончаемый здесь промозглый ветер.
Войско.
Он никогда не звал их – пришли сами. Когда Баал впервые появился на Холодных Равнинах, он вообще поначалу не мог понять, кто и против кого здесь дерется? Все против всех? Оказалось, нет. Местных он быстро разделил на три категории. Первая – хищные кошки. Не пантеры, не пумы, но некто зубастый и четырехпалый – примитивные и донельзя агрессивные животные без ушей, с черной шерстью и длинным с иглой на конце хвостом. Демоно-кошки. «Демокошки». Они кидались на все, что шевелилось; жрали всех, кто оказывался мягче камня; изредка нападали на своих – страшные, безмозглые, когтистые и вечно голодные твари – таких он раньше не видел. Кошек сегодня убили всего штук пять. Шутка ли, когда зверь доходит тебе до середины груди, а ты сам почти два метра ростом? Тут хочешь – не хочешь от шестой побежишь наутек – закончатся силы.
Пять кошек – хорошо.
Вторая группа – «жралы». Некая низшая примитивная категория существ, похожих на людей лишь внешностью: две короткие ноги, две длинные жилистые руки, мощное тело, приплюснутая голова, полное отсутствие носа. Еще более голодные, нежели кошки, уроды с такой пастью, которой позавидовала бы и акула. Двойной ряд зубов, маленькие глаза, все до единого лысые. Какие Боги могли выдумать подобных мутантов? Точно не добрые и верно не трезвые. Жралы гонялись за кошками, кошки гонялись за жралами, а Баал, если встречал, рубил и тех, и других.
И лишь в свой второй визит он встретил тех, кого категоризировал в третью группу – полудемонов. Нет, не демонов наполовину, как он сам, а странных «недоделок» – способных соображать особей с совершенно черной, без единой полоски света душой. Получается, демонов. Но не тех, что приходят за чужими душами, а после сопровождают их вниз, а, скорее, других, «проклятых» – он назвал их «солдатами».
Солдаты умели говорить, правда, на каком-то своем, лишь интуитивно понятном ему языке, слонялись по Равнинам в поисках пищи, друг на друга не нападали, работали слаженно. Даже после долгих размышлений он так и не смог понять, откуда они взялись – не из проклятых ли Богами людей? Возможно, ибо «демонами», коими оно счел их поначалу, они не являлись.
Первый «солдат» приклеился к нему сам – шестым чувством уловил в нем хорошего воина и вожака. Разрешения не спросил, просто вклинился в кучу уродов, которыми Баал на тот момент был окружен, и положил добрую четверть из них. Затем долго зыркал – прогонят ли? Дадут ли забрать добычу? Баал позволил забрать все – падаль из монстров он не жрал.
И солдат спустя час после того, как утащил в неизвестном направлении мертвую кошку и двух жрал, вернулся уже с тремя, как две капли похожими на него, товарищами. Те коротко склонили голову в поклоне и, не спрашивая разрешения, двинулись за чужестранцем в плаще, куда бы тот ни пошел.
Регносцирос поначалу озлился – на кой ему компания? Вырезать их всех к чертовой матери? Потом решил, что не стоит – солдаты ни о чем, кроме добычи не просили, следили за каждым его жестом, подчинялись по взмаху руки и дрались, в общем, хорошо. Притом интуитивно улавливали, что гость приходит сюда не за чем-то иным, а именно «повоевать», и потому оставляли ему большую часть нападавших.
Вот и сложился союз – Баал и человек двадцать пять неизвестного сословия. Здоровые, выше него, одетые в похожие на каменистые панцири, с масками на лицах, переговаривающиеся гортанными звуками.
Хер их поймет, кто такие? Но жить они ему не мешали.
Они не спрашивали его имени, а он их. Ни того, где живут, ни чем дышат, ни зачем прозябают в подобном месте. Заселили их сюда? Вот и пусть ходят. Домик бабки – выходная часть Портала с этой стороны – окружен защитным полем, так что ей не страшны ни монстры, ни демоны, а посему он спокоен.
Взмах руки, резкий жест, характеризующий слово «свободны!», и воины принялись расходиться. Кивнули ему напоследок, выстроились в ряд, загрохотали подошвами жестких ботинок по острым камням.
Он какое-то время смотрел им вслед.
Странное место, вечно стылое. От горизонта до горизонта лишь заваленные булыжниками холмы. Мелкие камни, крупные камни, светло-серые, темно-серые, черные – вот и все разнообразие. Ни деревьев, ни поселений, ни дорог; изредка с холодного неба валил снег.
Интересно, на что эта земля походила раньше? Высились ли здесь города, светило ли солнце, была ли плодородной почва? Наверняка и температура была другой. Что за странная история приключилась с этим местом?
Изредка затылок Регносцироса зудел от любопытства, но попыток что-либо выяснить не предпринималось – Дрейк запретил приближаться к границам жилых мест. Сколько здесь государств? Одно-два, два десятка? Кто правит, как живут, что выращивают, как выглядят? Ему было интересно все. Однажды он даже спросил Начальника:
– А в Мире Уровней есть кто-нибудь с Танэо?
Дрейк загадочно улыбнулся:
– Есть.
– Много?
– Тебе статистику?
Понятное дело, что статистику Дрейк Дамиен-Ферно не предоставил бы никому. Баал отстал, но лишь временно, вернулся к этому разговору неделей позже.
– А бабка в домике по ту сторону Портала зачем? Занимается выборкой претендентов? Набирает к нам людей?
– Людей к нам набирают специально обученные представители, а не бабки.
– А бабка штаны протирает?
– Чаи гоняет, пыль вытирает, газеты читает.
Своих тайн Начальник никогда не раскрывал, но Баал все же думал, что бабка сидела там не просто так – точно не затем, чтобы фиксировать, когда полудемон с пропуском «вошел» на Равнину, когда «вышел».
– Ну, они хоть люди?
Это он спросил о жителях Танэо. А то вдруг там все выглядят, как жралы? Как тогда отличишь, хорошего убил или плохого?
– Люди.
Дрейк временами был не только терпелив, но и насмешлив.
– Мужчины и женщины?
– И те, и другие. Детей рожают, богам молятся. И выглядят они хорошо. Как ты. Красивые.
Опять пошутил?
Тот разговор Регносцирос прокручивал в голове, сидя на валуне. Вокруг ни кошек, ни жрал, ни солдат, лишь холодный ветер, пучки чахлой травы вокруг того места, куда уперлось лезвие, и ни души.
После многочасового боя гнев улетучился, осталась приятная, чуть звенящая в ногах и голове усталость. Хотелось спать, есть; хотелось в тепло. Были бы здесь сучья, он разводил бы костры, грелся, сидел, смотрел на огонь, отдыхал перед возвращением, а так бесполезно стыл вместе с Равниной. Черт, здесь стыло все, включая небо и землю – может, поэтому сразу после самого первого возвращения с Танэо Баал заказал в особняк камин?
Выдернув из земли меч, Регносцирос поднялся – хрустнули под подошвами камни, – убрал оружие в ножны, огляделся и потянул носом воздух: жильем пахло с востока – бабкой и ее пыльной хижиной. Не раздумывая, Баал направился в ту сторону.
А после боя всегда наваливалась сентиментальность. Удивительный феномен – «сентиментальный Баал», – ненадолго, на час-два, иногда три, случался За это время он как раз успевал добраться до Нордейла, помыться, переодеться в домашнее, разжечь камин и развалиться в кресле – лучшие минуты жизни. Потому что гнева нет, а на его месте лишь странная дремлющая пустота – отголосок прошлого, которое так и не сбылось.
Воображаемое будущее, которое давным-давно пришлось отпустить; жизнь – странная штука. А на полке когда-то стояло фото: светловолосый мужчина со шрамом на щеке, жгучая улыбающаяся брюнетка посередине и сам Баал – тогда еще не разучившийся смеяться. Братья, члены прежнего отряда специального назначения – отзвуки прошлого.
Они все ошибались – все, кто думал, что он не способен любить. Он умел, и он любил. Ее – Ирэну Валий – женщину, однажды раскрошившую его сердце в порошок. Тогда они все были молоды – не возрастом, который на Уровнях не менялся, но душой, мировосприятием – они были наивны. По крайней мере, он был.
Держал ее хрупкие ладони в своих и верил, что обрел счастье. Заглядывал в темные омуты ее глаз и тонул в них, представляя, каким сияющим может стать их совместное будущее, шептал ей на ухо нежные слова, ласково перебирал лежащие на его груди локоны – берег ее, холил, лелеял. Тогда ему верилось, что он достоин любви, пусть маленькой, но радости, своего крохотного райского уголка. Тепла, прибежища, уюта.
Он – боец отряда – думал так. Она – химик-генетик и по совместительству его коллега – думала иначе. Ей всегда хотелось большего: богатства, власти, побед, свершений, признания, почета, славы, наград. Странно, он думал, что дал ей все – свою любовь, – но любовь Ирэне была чуждой – лишним элементом в ее химической системе. Жаль, он понял это слишком поздно – после ее фальшивой, инсценированной ей же самой смерти; после того, как провел месяцы в трауре, оплакивая ту, которую потерял (а на деле не имел): уже после того, как получил удар в спину, узнав, что его попросту променяли на другого – коллегу по имени Андэр [1].
Всему свое время, всему свое место – так говорил Дрейк. И пониманию тоже.
Что ж, понимание пришло и к Баалу: любовь не для него. Нет, он не ожесточился, не сделался деревянным в принципах, не отверг само существование светлого чувства – просто принял истину: такого, как он – демона, – никто любить не может. Любовь – для людей, – например, для его коллег. Для Халка, который всегда с нежностью поглаживает руку Шерин и плюет на то, видят его другие или нет (Регносцирос всегда восхищался подобной открытостью и отсутствием стеснения), – они через многое прошли вместе, многое преодолели – честные, понимающие, достойные друг друга люди. Любовь существовала для Мака, который всегда с тлеющими в глазах углями смотрел на чертовку Лайзу – слишком дерзкую, по мнению Регносцироса, девку, – но кто он такой, чтобы судить? Чейзер счастлив? Счастлив. И это главное. Снайпер нашел свою половину после покушения на его же собственную жизнь (хе, еще и троекратного), доктору пришлось лезть за счастьем в дыру под названием Криала… Интересно, в какую задницу, чтобы обрести хоть что-то подобное, нужно залезть ему – Баалу?
Ни в какую.
Он поднялся с кресла, плеснул в стакан виски, вернулся к камину, положил на пуф ноги – черт бы подрал эти приступы «слюнявости». И все-таки они лучше гнева.
Нет, в дыру ему лезть не придется. Пусть рыжей Мег восхищается Дэлл, пусть находят друг друга вечные странники на Магии, пусть будет счастлив Дрейк (вот уж кому действительно несказанно повезло: его Бернарда – достойная спутница на все времена). А он, Баал, расслабится дома, посидит в тишине, почитает, подумает, отдохнет.
Он поверил однажды, и тогда его вера разожгла внутри яркую искру, а после эта самая искра обросла по периметру черными слоями тоски, обиды, разочарования, горечи и боли. И он слишком долго жил этой болью – неслышно выл по ночам, изнывал от отчаяния; искал, чем он не вышел, в чем виноват; безрезультатно пытался развенчать в голове манящий женский образ – хватит.
Теперь все просто: женщины – для людей. И иногда для того, чтобы унимать жгущую чресла похоть, от которой, если бы мог, он бы избавился навечно. И почему Дрейк до сих пор не изобрел склянку с чудо-жидкостью, после приема которой похоть исчезала бы, как по волшебству? Он бы даже подумал о том, чтобы лишиться этого врожденного «человеческого» дефекта насовсем.
Регносцирос отхлебнул виски, задумчиво посмотрел на выступающий на джинсах бугор и хмыкнул – нет, пожалуй, «насовсем» – это перебор. Но разок бы «анти-стоячную» настойку принял точно, а то опять через какое-то время придется распалять воображение и работать руками.
«Чем больше думаешь, тем быстрее встанет».
И он откинулся в кресле. Ощутил спиной чистые влажные волосы, пошевелил давно отогревшимися пальцами ног, закрыл глаза и улыбнулся.
Очнулся, отдохнувший, почти час спустя – пора работать.
Поднялся, взял со стола браслет, нажал на кнопку – экран тут же сообщил, что на сегодня имеется семь клиентов. Двое с четырнадцатого, один с одиннадцатого, один с девятого, два с седьмого и один – Баал присвистнул – со второго.
Удивился он потому, что на Уровнях с первого по шестой редко доходили до состояния «забери меня, смерть». Новоприбывшие в этот мир долго держали мотивацию и интерес, а потому начальные Уровни Регносцирос почти не посещал. Редко. Когда кого-то приговаривали к дематериализации, а, значит, предварительно помещали для суда в Реактор, откуда он будущих смертных и забирал.
А сегодня придется покататься – благо, на каждый Уровень есть выход из здания Комиссии – местной пространственной оси. Но пока доедешь до адресата, пока проводишь, пока вернешься, – мда, ночка расписана до самого утра. Однако он не роптал, потому что так и предпочитал – дни для себя, ночи для работы.
Телефон зазвонил, когда часы пробили половину восьмого – Баал как раз завязывал волосы в хвост.
– Слушаю, Канн.
Увидев, что звонит стратег-тактик, он понадеялся, что Дрейк подкинул боевое задание – иногда лучше пострелять, чем в очередной раз выслушивать «только не режьте меня». Интересно, приди он к «клиенту» в гневе, наверное, точно порезал бы на кусочки…
«Угу, и кишки по стенам развесил».
– Привет, старик, как поживаешь?
Для того чтобы предложить поход на боевую, голос Аарона звучал слишком весело – надежда сменить род деятельности этой ночью тихо взмахнула крылом и улетучилась.
– Хорошо поживаю, лучше всех. Как сам?
– Нормально сам, – «ничего нового» – прозвучало негласно, – сегодня дохтур наш всех приглашает на барбекю на заднем дворе. Овощи-гриль, мяско, пиво, петарды. Придешь?
– Не приду – работа.
А душа уже тянулась к отдыху: зад тут же представил, как хорошо было бы развалиться в тканевом кресле, нос принялся втягивать воздух, силясь уловить в нем запах дыма, стриженого газона и румяного мяса, пальцы потянулись к браслету – снять. Баал вынудил себя остановиться, невнятно рыкнул в трубку.
– Слышь, да подождут твои «жмуры»! Они и так смерти столько ждали, что, еще сутки не протянут?
«В том-то и дело, – Регносцирос вздохнул, – на то, чтобы убрать заявленного в списке «жмура», ему выделялось двадцать четыре часа. Если смертник после этого времени все еще будет числиться в живых и излучать сигнал, деньги на счет в банке не поступят».
– Не могу.
– На прошлой неделе ты отказался идти к Чейзеру, а на яхте, между прочим, было хорошо, славно погуляли…
– Да-да, а на позапрошлой я не пошел к Дэйну, который звал всех на фильм. Я понял, я – говно.
Закончил за стратега демон и приготовился положить трубку.
– Ты не говно, – тактично поправил Аарон, – ты просто погряз в работе. Я бы еще понял, если бы ты торопился помочь им выжить, но умереть?
По этому вопросу в голосе друга всегда звучало завуалированное недоумение.
– Давай, хорошо вам повеселиться.
Баал-таки положил трубку, не дождавшись ответного прощания. Невежливо, да. А вежливо намекать на то, что его профессия попахивает смрадом и не несет в себе никакой пользы? А ведь мало кто знает, что умирать тоже надо с умом, потому, если без ума, можно и после смерти далеко уйти. Причем в совершенно неверном направлении. Да что они знают о смерти и о «проводах»? Сильно ли разбираются в энергии и том, что происходит после «перехода»?
Люди.
Баал фыркнул. Друзья, но все равно люди, а, значит, и судят по-людски.
А настроение-таки просело.
Даже в машине он не стал включать радио. Вместо этого думал о том, что всего каких-то несколько лет назад все могло пойти по-другому. Совсем. Тогда, когда в последний раз, нацепив на себя чужое человеческое тело, в гости приходил отец.
– Давай, – горячо убеждал он, – пойдем уже, решайся! Там внизу ты скинешь эту дрянь (имелось в виду уже личное тело Баала), станешь духом, демоном – кем ты, собственно, и родился.
– Не хочу.
– Как не хочешь? Ты – демон!
– Я наполовину человек.
– И тебя это радует? Эти… слабости, эмоции, перепады настроения, вечные желания, поиск счастья и смысла жизни, потребность жрать? Мы сотворим из тебя демона, тебя примут, научат, разовьют…
– Научат чему?
– Твоему истинному ремеслу – заключать сделки.
– Я и сейчас умею их заключать.
– Ах да. И как я забыл? Кстати, а ты ведь хорошо устроился, ты мог бы на этом сильно выгадать, знаешь?
План, который предложил воплотить в жизнь отец, звучал безупречно: Баал занимается той же работой – провожает умерших, вот только перед смертью он спрашивает их о последнем желании и воплощает его в жизнь. А взамен получает душу, которую по пути туда, куда он жмура ведет, доставляет в Нижний мир. В обмен на энергию, конечно. На знания, силу, дополнительные умения, мощь. Таким образом, его Начальник ничего не замечает – жмуры покидают Уровни, а люди возвращаются домой уже без души – сами продали. Легко? Легче легкого!
Вот только Баал отказался, сказал, что желает сохранить сущность человека.
– Остатки, дурак!
– Пусть остатки.
– Мы редко выбираем в пары человеческих женщин, и я надеялся, что ты станешь достойным продолжением рода!
– Ты просто развлекался.
В том была своя правда – Баал знал об этом. Демонам плевать на чувства, их всегда интересовала лишь личная выгода.
– Зачем тебе человеческая душа? Тьфу! Дрянь собачья, ничтожество, мусор…
– Тогда что тебя смущает?
– Что в тебе она есть!
– И, значит, ценность ее велика. Иначе бы ты и тебе подобные за ней не гонялись.
– Ты еще придешь! – взревел отец, или то, что представляло на тот момент его оболочку – потрепанный, жухлый бедолага, похожий на доцента – лысоватый, тощий, в очках. Бледное лицо, не принадлежащее в тот момент хозяину-человеку, покрылось пятнами. – Придешь, когда поймешь, ЧТО именно потерял…
С тех пор отец в гостях не появлялся, а Баал гнал от себя мысли о последней встрече, о разговоре, о мнимой потере. Лишь помнил, что все могло пойти иначе, и раздраженно злился, воображая, что там, наверное, никто бы не стал называть его профессию никчемной.
Не то, что здесь.
Но это все издержки. В людской жизни есть хорошие стороны и хорошие качества, пусть даже часть из них никогда не станет ему доступной.
* * *
Лиллен.
В этом году ее день рождения совпал с днем празднования Величия Женской Общины, и Алька осталась дома. Не пошла на рынок, не стала самостоятельно составлять список продуктов для обеда, не отправилась в парк на прогулку. К чему спотыкаться о толпы ликующих и скандирующих лозунги во благо страны женщин? Женщин с гордыми лицами, женщин с флажками, женщин с лихорадочно блестящими от радости глазами – праздник. Праздник, но там, в городе, не ее. Сегодня все улицы будут усыпаны лепестками белой розалии – символом женской независимости, – сегодня на площадь приведут «диких» – будут напоминать о том, чего благодаря новому устройству удалось избежать, будут снова жечь остатки запретной литературы (библиотеки будто случайно находили каждый год по паре подходящих книжиц – хранили на складах?), изо всех динамиков будут литься бодрые гимны.
Алька скрипела зубами. В день рождения ей хотелось другого: чтобы этот день был только ее – вот так по-детски и эгоистично. Чтобы все только для нее: лето, солнце, лужайки, разноцветные шары, гости, подарки, мороженое. В такой день хотелось, чтобы мир вращался вокруг тебя, а не ты чувствовал себя мелким жерновком в огромном колесе Конфедерации. И потому приготовлением обеда занималась расторопная Клавдия.
Гости – пять одноклассниц из колледжа – пришли вовремя, к двум. Мать чинно рассадила всех на лужайке, потрепала Алесту по голове, поцеловала в щеку (с утра пребывала в благодушном настроении – как же, через пять дней дочь отправится в Поход), даже подарила одну из своих деревянных шкатулок для украшений.
Шкатулку Алька оставила стоять в комнате на первом – складывать в нее все равно было нечего – украшений накопилось за жизнь раз-два и обчелся. А бабушкина брошка не считается – такой всегда место в тайнике.
И полился по стаканам лимонад, застучали о тарелки столовые приборы; шумно щебетали девчонки.
Она знала их всех еще с начальной школы: тощую и застенчивую Микаэлу, живую и чернявую Лизу, белокурую Ванду, очкастую Гилию и, конечно, Ташку. Все радостные, все довольные и голодные, набросившиеся на стряпню Клавдии с двойным аппетитом. Говорили о школе, о том, как это здорово, что она осталась позади, вспоминали уроки, проделки, учителей – шутили, смеялись, по-доброму подначивали друг друга. Не забыли и о подарках: в этот день «коллекция» Альки пополнилась набором для рисования, состоящим из пятнадцати кистей и тридцати тюбиков с акварелью, широкоформатным альбомом из плотной бумаги, коллекцией заколок, новым вышитым поясом (подойдет и для юбок, и для брюк), кошельком и даже давно желанным сертификатом на выбор котенка.
Глядя на золотое тиснение бумаги из кошачьего дома – «приходите и выбирайте пушистого товарища на любой вкус», – Алька вздыхала. Куда ей теперь? Это когда вернется, тогда уже будет и рисовать, и новый пояс примерит, и сходит за мурчащим другом – выберет себе «товарища».
Двадцать два, надо же. Совсем женщина, совсем уже не ребенок – вот и пройдена невидимая черта. А на дворе август – ласковый и теплый, – август, которому нет дела до возраста. Ему все равно – семь тебе, десять или же пятый десяток – над стеной все так же восходит яркое солнце, отцветают в садах ирисы, набухают на кустах шиповника ягоды, хозяйки примеряются собирать скорый урожай: готовят стеклянные банки, сушат травки, запасаются приправами. В августе небо еще пронзительно синее, но уже чуть прозрачное, далекое – ему будто нет дела до того, что происходит внизу, и лишь смотрят вдаль далекие белые облака.
Куда-то туда же вдаль внутри собственного воображения смотрела и Алька. Получала пинки под столом от Ташки, спохватывалась, возвращалась к разговору, пыталась смеяться вместе со всеми, силилась ухватить нить беседы, но уже через минуту снова уплывала за облаками.
Вот и случился день рождения.
Случился и прошел.
Ночью, когда стемнело, она ушла к пруду и долго сидела на старенькой, сколоченной из грубых досок лавочке. Кто сколотил – может, дед? Ей хотелось в это верить, в некую чудесную историю, в то, что каждый предмет хранит ее. Недвижимая под светом луны вода застыла, сделалась, как стекло – ни плеска рыбины, ни шороха высокой травы; безветренно. Позади светились окна дома, впереди неизвестность.
Сегодня Алеста переступила невидимую черту и теперь прощалась со старой жизнью. Все, как раньше уже не будет, ничего не будет – не чувствовала, просто знала. Она сходит в Поход, вернется уже другой, наверное, более смелой, уверенной в себе, отдавшей, наконец, долг и матери, и обществу. Вернется, если Дея позволит, беременной, продолжит практику в Управлении, получит должность, а затем и отпуск – будет растить малышку. Интересно, как назовет? Ведь надо как-то назвать…
Радоваться. Нужно радоваться, но радость не шла. Тоскливо, одиноко, пусто; в отдалении, в рощице, выводили монотонные трели сверчки. Тонкие облачка то наползали на небесный фонарь, то уплывали прочь, и тогда поверхность пруда снова ярко блестела.
Она пыталась, ведь так? Искала любовь, верила в нее бесконечно и горячо, даже ходила к Нилу – Нилу, который сдержал слово – ничего не рассказал матери, здоровался теперь скованно, глаз не поднимал.
Алька вздохнула.
Все безрезультатно. Ей придется подчиниться чужой воле, а о собственных желаниях забыть. Вспомнить о них когда-нибудь, чтобы однажды с грустным вздохом сказать дочери: «А знаешь, ведь у меня была мечта, да-да, я умела мечтать…»
Дочь – еще один член общества почетной Женской Общины.
Чтоб им всем пусто было со своими флажками и транспарантами…
Задрав голову к небу и вцепившись пальцами в теплое дерево лавочки, Алька с чувством прошептала:
– Небесный Отец, пожалуйста, сделай так, чтобы планы моей матери не сбылись. Пожалуйста.
Попросила. Посидела еще минуту. И пошла в дом.
Глава 6
Вещи выдали по списку: один длинный меч, один кортик, один короткий нож, два сапога из мягкой кожи, походный мешок, уложенный сухой паек, флягу с водой и свернутое в рулон тонкое одеяло-коврик. Сначала Алька фыркнула на всякое отсутствие комфорта: в пайке не оказалось шоколада, в сумке средства от комаров, а в сапогах даже пружинящих стелек. Но, как только вышла за высокие ворота, куда ее проводили под аплодисменты, жалостливые взгляды и бравурную музыку (стоя в толпе среди прочих, мать плакала сквозь плохо скрываемую радость, а сестра просматривала заметки в блокноте), и прошла первые сто метров, мнение свое изменила: к черту стельки – с ними бы не дышали ноги. А шоколад и лишние бутыльки добавили бы веса, который совершенно ни к чему, когда лямки и так давят на плечи.
Все. Отсюда только вперед.
Пока окружала толпа, она храбрилась, а стоило толпе кончиться, сдулась.
Вокруг день, солнечно, жарко. И тихо. Нет, не слишком тихо, но как-то безрадостно.
«А все потому, что ты по другую сторону стены».
Точно. И оттого жутко.
«Тебе пройти всего три дня. Три дня туда, три обратно. А пойдешь быстро, так, может, и быстрее…»
– Дея защищает, Дея защищает, – бубнила под нос зазубренный из учебника текст Алеста – бубнила и не верила в него. Вот позади остались первые триста метров, первые пятьсот, примерно километр…
Стена монолитно тянулась справа. Раньше она казалась защитой, а теперь непреодолимой преградой – прочь, чужак, теперь ты снаружи, и, значит, не друг.
Сапоги болтались вокруг икр, ножны хлопали по бедру, неудобно кренился неравномерно набитый заплечный мешок – поправить бы, вот только останавливаться не хочется.
Белые цветы, казалось, смотрели на путницу настороженно, шмели летали вокруг насмешливо, будто пытались выжужжать: «Это мы тут в безопасности, но не ты», в спокойствии солнечного полудня мерещилась некая мрачность.
«Зловещность».
Алька разозлилась на саму себя – это все страх! Просто угол зрения, просто ее собственное отношение. Вот гуляй бы она тут с Ташкой, стало бы легче? Разум тут же ответил «нет». Ах да, все потому, что она с обратной стороны стены. А гуляй они вместе по «правильную» сторону стены, где-нибудь недалеко от Лиллена на солнечном лугу, казался бы ей этот милый полдень зловещим? Конечно же, нет! Они разложили бы на траве одеяло, упали бы на него в купальниках, принялись бы разглядывать облака, делиться мечтами и хохотать.
А тут хохотать не хотелось – чертов страх. Тут хотелось вести себя, как можно тише, потому что за каждым кустом Альке мерещился «дикий», в каждой мирной чаще ее дожидалась засада, в каждом внешне спокойном объекте виделась угроза.
Сбрендила. Да, просто сбрендила. Нервы.
Сапоги поднимали сухую пыль; дорожка – не узкая, но и не широкая, желтая от глины и сухая, – бежала вперед, через пятьдесят метров уводила направо. Чуть вверх на подъем, затем вниз, потом и вовсе прочь от Стены.
От Стены Алесте не хотелось. Ей вдруг, как никогда сильно, захотелось обратно внутрь – в собственный дом, к матери, к сестре, к нелюбимой работе. Пусть лучше унылые вечера и привычность, пусть противная карьера и отсутствие галочки «Поход» в книжке достижений, пусть чердак, потертые книжки и разбитые, теперь уже навсегда похороненные мечты. Но зато привычные дороги, знакомые люди, безопасные улицы.
– Община, прими меня назад, Община. Без Деи, без этой чертовой проверки, без новой девочки-гражданина. Я буду хорошей…
Собственных слов Алька устыдилась и потому быстро замолчала.
Обедала она, забравшись в тень листвы молодого пролеска. Жевала сухарь и пыталась прикинуть, через какое время слева, за самим пролеском, потянется граница Холодных Равнин? Говорили: скоро. Уже через четыре километра все станет просто: справа чаща «диких», слева мертвая земля – держись посередине. Но посередине – это прямо на виду, разве нет? Может, лучше красться по границе Равнин – не опасно? Или все-таки шагать по дороге? А, может, прямо здесь, среди молодых деревьев, – так ее почти не будет видно из чащи?
Сухарь хрустел на зубах и застревал в горле острыми крошками; вода во фляге отдавала тиной.
В этот день она испробовала все: около часа кралась вдоль границы Равнин, больше не выдержала – унылый стылый и неживой пейзаж, так разительно отличающийся от привычного, вызывал стойкую неприязнь – почти два часа спотыкалась о корни, прячась в молодняке. В какой-то момент устала, сбила пальцы ног до синяков, решила, что, если так будет продолжаться, она вообще не дойдет до Храма, в который раз ругнулась на Дею (и мысленно извинилась – вдруг услышит?) и выбралась обратно на дорогу.
Дальше шагала по обочине. Зорко всматривалась в стоящий стеной напротив глухой и неприветливый лес, кидала взгляды на горизонт, то и дело сжимала рукоять меча и вспоминала пройденный на тренировках боевой материал: как вовремя присесть, как отбить секущий под сорок пять градусов, как заметить подсечку и не выпустить из поля зрения лезвие врага. Помогало. Почти до самого вечера она продвигалась вперед, монотонно переставляя ноги, и почти не испытывала страха. Пребывала в некоем режиме полуготовности – внимательная, собранная, готовая ко всему.
А потом устала. Внезапно, как только скрылось за верхушками деревьев солнце. Замедлилась, почему-то резко и одновременно почувствовала боль в плечах и ступнях и приняла решение устроить ночевку. Свернула обратно в пролесок – в самую густую его часть, – сбросила в траву сумку-пожитницу, отвязала стягивающие одеяло веревки.
А потом, лежа на нем посреди высокой травы и гоняя от лица комаров, молилась о сне. Да, пусть еще не стемнело окончательно и от голода бурчит желудок (еды мало, еду надо экономить), пусть она прилегла рановато, но отдых так нужен.
Пожалуйста, приди сон. Приди.
И не дай ей эта ночь замерзнуть.
Рассвет пробивался сквозь деревья блеклыми розоватыми лучами. Прохладно, сыро, чешутся щеки и руки – за ночь ее искусали всю. А еще за ночь Алька продрогла так, что пакет с пайком не открывала – почти рвала зубами. А после грызла все, что попадало в руки: печенье, хлеб, овсяные батончики, выгребала пальцами кашу из банки, запивала все это тухлой плещущейся на дне фляги водой…
Интересно, почему с собой дают так мало? Она, наверное, за раз съела больше половины припасов, а ведь еще идти и идти. И где набрать воды? Углубляться в хмурый лес? Или же где по дороге есть неупомянутый никем ручей?
Накатывала злость. Шалили нервы, сильно чесалась кожа.
Вот почему бы не ходить парами? Ведь вдвоем веселее. Она согласилась бы на любую компанию – на молодую болтливую девчонку, на чопорную старуху, на эгоистичную, похожу на Хельгу, особу – лишь бы не одной. Сейчас бы разработали план, а ночью бы дежурили по очереди. Поговорили бы о Храме, поделились бы мыслями о том, как все может происходить внутри, да просто подбодрили бы друг друга, черт возьми! Что за ритуал такой – с мечом наперевес и в одиночку? Ну и рожали бы одних мальчиков – фиг с девочками! И Община бы рухнула уже через пару десятков лет!
Блин.
Нет, так нельзя. Ходят же другие в Поход? Возвращаются из него, рожают. Могут, значит, может и она – нечего хныкать.
Аля смела с рубахи крошки, поплотнее заткнула брючины в сапоги, свернула сырое после травы одеяло и принялась паковать рюкзак.
Осталось два дня. Два туда, три обратно. Уже на день меньше, чем вчера.
Она много раз представляла этот момент.
Видела его во снах (всегда в кошмарных), воображала в различных вариациях, прокручивала в голове и убеждала себя не бояться. И всегда в собственном воображении она дралась – самоотверженно, бесстрашно, зло.
А теперь стояла, как соляной столп, судорожно сглатывала ставшую вязкой слюну и не могла пошевелиться, попросту приросла к земле – ватные ноги, ватные пальцы, ватная голова. Даже меч, кажется, сделался ватным.
Рассвет едва задался, верхушки деревьев только начали золотиться, а меж стволов еще темно.
Сердце колотилось, как бешеное; если бы проспала еще минут пять-десять, то попала бы в засаду. Ее попросту скрутили бы спящую, взвалили на плечо и унесли…
Их было трое. Все рослые, волосатые, затянутые в какие-то лохмотья, но крадущиеся по кромке леса бесшумно. Дикие.
Драться. Она мечтала драться. Верила, что сумеет.
– Ты всегда притягиваешь то, чего боишься…
Бабушка, черт возьми, пусть бы твоя философия хромала на одну ногу.
И двигались они к ее ночной стоянке. Знали! Не иначе, как знали, что она будет здесь сегодня, что доберется именно до этого места, ждали. Но как? Неужели среди стражниц есть продажные? Те, кто делится информацией об уходящих? А как же честь, справедливость? Что могут эти «дикие» предложить взамен? Что-то могут? Или совпадение?…
В совпадения Алеста не верила. Тем более не после того, как обернулась и увидела, что с обратной стороны к ее стоянке подбираются еще двое, – окружают, берут в кольцо.
Они точно знали о ее присутствии.
Куда? Куда же теперь? В чащу? Попытаться пробраться мимо них втихую? Спрятаться? Пересидеть? Раньше она мечтала о битве. Не столько о славе, сколько о победе, и в этих мечтах она, Алька, всегда выглядела прекрасно: в сверкающих доспехах, с блестящим разящим мечом, с улюлюканьем на губах – мол, эй, гады, посмотрите, как мы, женщины, воевать научились…
Вот только слова тренера так и не позабылись:
– Думаете, сможете хоть когда-нибудь сравниться с «дикими»? Холите надежду? Дуры! Они мужики, они всегда сильнее, они живут битвами и ими же выживают. Никогда у девушки не будет шансов против «дикого», никогда!
– Но зачем же мы тогда учимся? – растерянно спрашивали ученицы.
– А затем, чтобы верить, что эти шансы есть. А на деле только хитростью, только тактикой, но никогда прямой битвой! Не стройте на этот счет иллюзий.
И Алеста не строила – знала, в бою она проиграет. Не будет победных кличей и сверкающей брони, не будет под ней вороного коня, а конь – вонючий, потный и с огромным членом, – будет двигаться «на» ней. Мужики. Они притащат ее в лагерь, как и других, и будут иметь по очереди, по кругу. Они, скорее всего, привяжут ее к стволу или корням, и она будет сидеть на виду у всех голая, грязная, дожидаясь, когда член-кувалда встанет у очередного искателя наслаждений. А потом будут мальчики – много мальчиков, – те, которых она родит…
Нет!
В этот момент Алька дернулась. Не стала анализировать, почему именно «туда», лишь знала, что ее местоположение засекли; «дикие» перестали прятаться, загомонили, перешли на бег.
Ничего, она тоже бегала – все лето бегала, целых три месяца бегала. И пусть ноги у нее не такие длинные, а мышцы не такие сильные, добежать до границы она сумеет.
От резкого напряжения и смены темпа легкие моментально захрипели; под ногами захрустели ломающиеся сучья. В чащу нельзя – там их дом, там они каждый сантиметр знают; мимо нельзя, драться нельзя. Выход один…
Она сама еще не верила в то, что задумала. Не верила, когда неслась через пролесок с выпученными от ужаса глазами, когда спотыкалась о папоротник, о листья лопуха, когда цеплялась рубахой за стволы. Не верила, когда молодняк поредел, а впереди показался серый унылый пейзаж – нет, она не дастся в руки этим шакалам, она не для того росла, она их перехитрит.
И на всех парах Алеста выскочила к границе Холодных Равнин. Выскочила, резко остановилась, качнулась на носках и, прежде чем сделать шаг вперед, позволила себе секундную передышку.
Они туда не сунутся, не сунутся! Не посмеют, ведь так?
А она? Посмеет?
Сзади послышался треск веток и хрипящие, бубнящие злые мужские голоса.
Алька судорожно вдохнула, трясущейся рукой нарисовала вдоль груди защитный символ и шагнула вперед.
– Вернись, дура! Умрешь там!
– Надо ж, пугливая…
– Все сначала пугливые, потом стонут.
– А красивая… Хорошая самка. Моей будет.
– Она Хромому полагается, твоей не будет…
– Ничего, сразу после него. Авось, зачнет-таки от меня…
Зачнет? Самка?! Полагается Хромому?! Да никому она, нож им в спины, не полагается! А ведь она знала – ее продали! Кто-то предал ее там, еще в городе, сообщил «диким» о дате выхода, снабдил информацией.
Сучки, а не стражницы! Вот вернется она когда-нибудь и обо всем сообщит Общине. Заставит их устроить допрос с пристрастием, подключит Хельгу, подключит маму, а уж Ванесса Тереньтевна этого так просто не оставит – дойдет и до главы Конфедерации, Великой Кираиды Вениаминовны! Пусть тогда посмотрят! Всех, всех попересадят!
Все эти бравурные мысли маршировали фоном, в то время как разум залепил страх. Глаза выхватывали разрозненные детали: огромные мышцы, грязные колени, босые ступни, кривые желтые зубы, злые жадные, лапающие ее фигуру взгляды, сильные жилистые пальцы, заляпанные чем-то бурым лезвия старых мечей.
Ее меч… Он тоже однажды окажется у них?
Копытами сбрендившего коня стучало сердце.
Нет, нет. Нет.
Алька сделала шаг назад; под подошвой хрустнули и перекатились камни.
– Стой, ненормальная!
– Сожрут ее там!
– Возвращайся, с нами будет лучше.
Лучше? С ними? С этими… мужланами? Да лучше на виселицу, лучше в тюрьму и гнить там без белого света, лучше всю жизнь с Нилом, лучше… навсегда в Равнины.
«А ведь они не пошли за ней, – эта мысль посетила голову только теперь, – остановились прямо у черты, у невидимой границы, а дальше ни ногой. Почему?»
Алька, конечно, надеялась именно на это, но до сих пор не верила собственному счастью. Или несчастью? Почему, если они считали ее такой нужной некому Хромому, не побежали за ней дальше, чего (или кого) напугались?
Теперь у нее дрожали не только колени – все тело. Тряслись от паники внутренности, нервно дрожали ладони, подрагивали губы.
За что, Дея, за что? Или ты помогаешь «им», а не нам?
«Дикие» откровенно бесились – вожделенная «самка» не возвращалась, но преследовать ее более никто не желал. Все всматривались куда-то за ее спину, щурили глаза, опасливо перетаптывались на месте и изрыгали проклятья:
– Дура безмозглая…
– Я б ей всыпал, сучке… Самки – они все такие, как куры – мозгов нет…
– Зато сиськи есть. Я б ей вдул, до-о-о-олго бы вдувал…
У того, кто это прорычал, уже стоял – Алька видела, как под углом в девяносто градусов стоит край его грязной, сшитой из шкуры юбки, – разве что «головня» не видна.
Мама, ты этого хотела? Такой судьбы для меня?
Противно, страшно, холодно, а она одна. Что делать, как выбираться, куда идти?
Одно понятно наверняка: стоять и ждать, что «дикие» уйдут сами, бессмысленно – нужно убираться самой. Чтобы не видеть, не слышать, чтобы оторваться, в конце концов…
Алеста развернулась и, не опасаясь нападения со спины (хотели, могли бы раньше), зашагала вглубь Равнин. А следом неслось:
– Сожрут!
– Самка, ты и часа не протянешь!
– Вернись, дура безмозглая! Вернись, пока еще не поздно…
И было в этих криках столько скрытого, но неподдельного страха, что ее морозило.
Решение выглядело простым и логичным: забраться вглубь настолько, чтобы ее не стало видно с горизонта, пройти вдоль линии границы километр или два, затем вернуться и посмотреть, не ушли ли «дикие»? Если ушли, выждать еще часок, затем вернуться на дорогу. Нет, не на дорогу, на этот раз пролеском и только им.
На деле все оказалось сложнее.
Чем дальше Алеста уходила от нормальной земли, которая, если обернуться, теперь почему-то казалась бесцветной и невероятно далекой, будто она не шаг шагнула, а в другой мир попала, тем холоднее становилось вокруг. Холоднее, пасмурнее и… страшнее. Вокруг одни камни, впереди заваленные булыжниками холмы, на горизонте кружат тяжелые тучи, а вокруг будто кто-то есть – кто-то не видимый. А впереди – что это – снег?
Тело стыло, ступни леденели, кожа покрылась пупырышками; тоненькие волоски на запястьях встали дыбом.
Забираться далеко страшно, а обернешься – фигуры все еще там, все пять. Идут вдоль границы, машут руками, что-то орут – слов уже не разобрать.
Мама, Дея… куда она попала? За что?
Алька оборачивалась, спотыкалась, брела все дальше, мерзла, оборачивалась снова. В конце концов спряталась за большим черным валуном, опустилась на корточки, прислонилась к нему спиной и принялась растирать бегущие по щекам слезы.
Ей было жаль себя.
Жаль оставленную за спиной жизнь – прозрачную и спокойную, – жаль сбитых об острые камни сапог и расцарапанных ладошек – два раза упала, – жаль всего. Почему? Почему с ней?
– Если боишься, тянешь к себе плохое…
Уйди, бабушка, уйди – не до нотаций.
А изо рта пар – так холодно, и рубашка уже не греет, а горизонта уже и не видно. Она ведь не заблудится, не сгинет в этих молчаливых просторах, где лишь зловещая тишина и воет в камнях ветер?
Ей рано погибать, ей всего двадцать, чуть-чуть за двадцать – ей еще жить и жить. Хотелось пить, но воды лишь на дне, хотелось есть, но почему-то тошнило, хотелось в тепло. А, может, назад? Все равно ведь попробует сбежать, все равно придумает, как выбраться, все равно ведь не убьют? А здесь? Здесь слишком тихо, нехорошо тихо; здесь, в этих землях, обитает что-то нездоровое, жуткое; здесь ей, одинокой девчонке, слишком страшно. И уже, кажется, выпадает из рук сделавшийся слишком тяжелым меч.
Она все-таки заблудилась. И осознала это лишь тогда, когда попыталась вернуться к границе. Вроде бы шла назад, по своим же следам (которых не видно), вроде ведь верно запомнила?
А теперь стояла на высоком пригорке, дрожала на пронизывающем ветру, обнимала себя за плечи – бледная, почти белая, – и затравленно озиралась вокруг.
«Нормальной» земли не видно, «диких» не видно – никого не видно.
Куда дальше? Позади пологий и тянущийся в бесконечную сырую туманную даль холм, слева и справа каменистая без единого куста равнина, перед глазами однообразный, унылый, состоящий лишь из угловатых спин булыжников пейзаж. В какую сторону теперь?
Куда?
Алька попыталась не поддаться подступающей все ближе панике, зашагала туда, откуда, все еще думала, она пришла, но не успела дойти до ближайшего нагромождения валунов, когда из-за них тихо выскользнула, выплыла на мягких лапах она.
Кошка.
По крайней мере, сначала глазам показалось, что это именно кошка. А уже через секунду стало ясно до вставших на затылке волос – НЕ КОШКА. Это зверь, монстр с клыкастой пастью, слишком огромный, чтобы быть домашним, слишком злой, чтобы думать, будто он не собирается ей пообедать…
И Алька рванула. Со всех ног, на предельной скорости, нелепо размахивая в такт собственным движениям мечом. Завыла от страха, метнулась сначала вбок, затем свернула, потом услышала, как ее нагоняют, и с хрипом, с ужасом ожидая взглянуть смерти в лицо, развернулась.
Она бы не убила его сама – попросту не смогла бы.
Как убить тушу, размером дважды превышающую собственное тело?
Но споткнулась. И все случилось одновременно: пружинистый прыжок хищника, рев из раззявленной пасти, собственный захлебывающийся в отчаянии крик, падение и вылетевший вперед для баланса меч. А через мгновенье шерстяное горло, случайно насаженное на лезвие, секундное удивление в глазах с вертикально вытянутыми зрачками и невероятно сильная боль в своей спине.
Алька кричала так долго, что перестала слышать себя, окружение, зверя. Смрадный запах из пасти, сомкнувшиеся возле подбородка клыки, сама она лежит на камнях, сверху что-то тяжелое, как будто бетонное, а одежда пропитывается теплой кровью – не своей, кошкиной.
Та не рассчитала. Прыгни она секундой раньше или позже – Алька была бы съедена. Разодрана на части, в клочья, и эти самые клочья быстро перекочевали бы монстру в желудок. А теперь она рыдала, придавленная случайно поверженным противником, чувствовала, как пульсирует в последних судорогах покрытое жесткой черной шерстью тело, и рыдала. Стонала, выла, забывшая собственное имя от ужаса, скулила и чувствовала спиной каждый осколок, каждый краешек, каждый острый угол чертовой земли Равнины.
В этот день она дралась еще дважды. На этот раз остервенело и осознанно. Не потому что обрела остатки растерянной храбрости, а потому что из последних сил вдруг захотела выжить. Стало не до направления, не до жалости, даже не до мыслей – остались одни инстинкты.
Кошку она скатила с себя с трудом – дрожали от усталости руки, из горла неслись шумные хрипы; мышцы, казалось, треснут. А не скати, задохнулась бы под ней, как под обвалившейся крышей собственного дома. После почти сразу увидела их – других. Не людей, но странных созданий без носа и с плоской головой, и вот тут уже включился боевой режим, включился на полную, как учили, как тренировали последние три месяца: разворот, удар, отслеживание нападающего сзади противника, присед, секущий через глотку…
Теперь ей страшнее всего было не заблудиться, не окончательно потерять дорогу или никогда не дойти до Храма, но быть заживо съеденной. Пусть ее убьют в бою, пусть свернут шею или перебьют позвоночник, но только не грызут живую, не терзают острыми зубами, пока еще дышит. Тех двоих она убила, чувствуя себя машиной – остекленевшей, без эмоций, даже без прежнего ужаса (он временно спрятался где-то в затылке) – просто крутилась, просто дралась, не думала. Следующего «безносого», которого встретила какое-то время спустя, уже заколола с клокочущей внутри расчетливой яростью.
А теперь, усталая и пустая, снова сидела у камня.
Вокруг туман, холодно, но тело вдруг перестало чувствовать озноб, как перестали чувствовать боль спина и колени – Алька знала – временно. Что-то переключилось внутри (сломалось?), превратились в локаторы уши, в сканирующие устройства глаза, в стальные клещи ладони, в пустой звенящий колокол голова.
Она так долго не протянет.
Да и стоит ли?
Ела все, что вытаскивала из рюкзака – не смотрела на еду, просто складывала в рот все, что нащупывали пальцы – грызла, жевала, перемалывала, глотала. Запивала мелкими глотками воды, не смотрела на пропитанную своей и чужой кровью одежду.
Ей не выжить в холоде и голоде, ей вообще здесь не выжить. Правы были «дикие» – с ними лучше. И она бы вернулась – не тогда, а теперь, – но уже не могла.
Окончательно потеряла дорогу.
А этих, странных, увидела уже под вечер – людей – не людей? Воинов – не воинов? Здоровых, покрытых странной защитной одеждой, как панцирем, гигантов. Сначала засекла одного – на горе – и спешно затаилась. Затем правее уловила движения еще двух фигур – отчаянно стукнуло сердце, – Алька решила нырнуть в сторону, обойти. Или переждать, пока уйдут сами, не заметят? Нет, тут все всех замечают – пришлось по возможности бесшумно, не обращая внимания на сбитую кожу рук, ползти прочь. Скрипеть от боли зубами, сдерживать рвущееся наружу вытье. Боль в какой-то момент вернулась, не просто вернулась – усилилась, обросла неприятными оттенками.
Того, который был ближе всех за спиной, она заметила не сразу, но как только заметила – поднялась и тихо побежала вперед. Ей не уйти от такого количества врагов, ни за что не уйти. А вот если сесть по ту сторону склона, слиться с камнями, то, может, ее все-таки не заметят? Если уже не заметили.
Заметили.
Она поняла это тогда, когда вдруг увидела, что их не трое и не четверо, как ей казалось вначале, – их человек двадцать, и ее медленно берут в кольцо. Не торопятся, не несутся навстречу, как прежние твари, с криками, но задавливают внутри круга, наступают со всех сторон.
Задвигались трясущиеся губы, зашевелился, считая фигуры, палец:
– Семь, восемь, девять… тринадцать, четырнадцать,… восемнадцать…
Ей не уйти – это конец.
Совсем-совсем конец – тот, о котором она никогда всерьез не думала, существование которого для себя почти не допускала. Она молодая, красивая, она… ей жить да жить – так когда-то верилось, так хотелось.
Но она умрет. Сегодня. Одна против двадцати не справится.
Сколько у нее – минута? Две?
Чтобы собраться с силами, чтобы «посидеть» на дорожку, чтобы окончательно осознать близкий конец.
Минута. Или меньше – они близко и с каждой секундой все ближе. Не кошки, не «безносые» – выше, страшнее.
Рукоять меча в окровавленных пальцах скользила, стучали зубы. Одеревенели руки, налились бетоном ступни, вновь липкими и тяжелыми сделались мысли, но поплыли в воображении воспоминания – яркие, как конфетные фантики, притягательные и уже почему-то ненастоящие. Вот Алька маленькая, стоит у надувного бассейна на стриженой лужайке, а по бликам плавают желтые пластиковые уточки.
– Хельга, помоги сестре снять одежду!
И Хельга – молодая, не старше двенадцати, – одетая в светлый купальник на завязках. Еще без очков. Волосы длинные, губы улыбаются, а в глазах нет гордыни и одновременно равнодушия. Она такой, оказывается, была – Алька забыла. А потом Савка – крохотный, пахнущий сладким молоком, с бархатной кожей, довольными любопытными глазами и мягкими, еще сморщенными ладошками – только принесли из родильного дома. Она читала ему сказки совсем маленькому – несколько дней от роду, – а бабушка – тогда она еще не жила на чердаке, – смеялась:
– Не поймет пока, Аленька. Ты попозже почитай, как подрастет…
– А я и потом почитаю. И сейчас.
Ей казалось, что лежащий в люльке маленький Савелий все прекрасно слушал и даже понимал, и не важно, что маленький.
Она не узнает, каким он стал.
Увитые вьюнком стены дома, деревянная калитка позади сада, пруд – Алька не могла понять, по чему именно она будет скучать сильнее всего.
Мертвые не скучают.
Ну, скучала сейчас, отсчитывая последние секунды собственной недолгой жизни. Она уже не сомневалась, что умрет – просто знала это – гиганты ее не отпустят, живой не выпустят; пусть бы только сразу, а не постепенно…
И уже не задавалась вопросом «за что» – им было время задаваться раньше.
Рыжая Ташка, ее заброшенный сад, красный пенал, с которым та ходила в школу. У них были схожие рюкзачки: у Ташки с розовым мишкой на перекидной застежке, у Альки со златовласой рисованной куклой – подруга завидовала и предлагала «махнуться». И махнулись. Правда, не в первый год, а через – уже в третьем классе.
А мать ее, Алесту, наверное, любила – ну, как умела. Хотела для дочери лучшего, верила, что все пойдет хорошо.
Я не держу на тебя зла, мама.
И с бабушкой ругалась зря. Какие они в жизни – приоритеты, – разве важно? Важно, когда теплые руки держат твои и кто-то любит, любит не за что-то, а просто так; когда в глазах напротив светится поддержка.
Прощаю, мама. И ты не держи зла.
И Хельга любила тоже, по крайней мере, раньше, когда не ушла с головой в работу.
Люблю тебя, сестра.
Ту, которую была. Или которой стала. Не важно.
И Савку тоже.
Ты меня помни живой, ладно?
Пусть все думают, что она у «диких» – так будет проще. Надеются, что прижилась там, что обрела подобие счастья, что нянчит на грязных коленях выводок из мальчишек. Главное, что жизнь продолжается; главное, пусть где-то там, но дышит.
А что не успела многого? Так важно ли теперь?
Лишь бы только убили сразу, лишь бы не мучили. А она заберет с собой столько, сколько сможет.
Собравшись силами, Алька сжала меч – чиркнуло о камни лезвие меча – и, опираясь битыми ладонями о камни, поднялась с земли.
(Within Temptation – Stand My Ground)
Она выходила на свой последний бой изменившаяся внутри, постаревшая, «отжившая» свое. Готовая. Разум собран, тело звенит, кровь кипит – в таком состоянии не живут: сил не хватит, – в таком воюют в самый последний раз.
Зато все именно так, как она хотела. Внутри не храбрость, но пустота, внутри темно и почти не страшно – Алька боец, настоящий боец – пусть совсем ненадолго. Зато она запомнит себя не скулящей, не молящей о пощаде, но жесткой, даже если где-то неумелой, настоящей и честной. Той самой Алькой из собственной мечты.
Глупая.
Глупая, да. Злая, грустная, улыбающаяся.
Ее уже ждали.
За короткое время они подобрались удивительно близко – затянутые в броню «нелюди» с масками на лицах, и, стоило выйти из укрытия, как она бросилась на ближайшего. Атака, удар – отбит, замах и еще удар – снова отбит легко и играючи.
Они обступали ее, как загнанную в ловушку бешеную псину, приближались, все теснее смыкали кольцо, а Алька все крутилась, все размахивала мечом, все воевала – одна против всех; жалобно и резко звенел металл. И лишь спустя какое-то время заметила, что «панцирные» не нападают. Защищаются от ее неуклюжих потуг ранить, но в бой не идут.
Играются с ней? Дразнят? Ждут кого-то?
Она на секунду остановилась, опустила руки, позволила себе отдышаться. Еще злее, чем раньше, еще собраннее, еще чернее внутри.
Точно. Ждут. Кольцо из великанов расступилось мгновением позже и пропустило вперед новую фигуру, при взгляде на которую волосы Алесты зашевелились.
Человек. Не человек. Черноволосый, лицо жесткое, а за спиной – плащ или крылья? Нет, не человек – демон, – у людей таких черных глаз не бывает. Страшный, но не внешне – внутренне, – единственный без маски – он ужасал ее куда сильнее всех прочих. Так это для него ее припасли «нелюди»? Для главаря?
Алеста вполне могла себе представить, что сделали бы, поймай ее, «дикие», но этот? Тут логика отключалась, тут думать страшно. Такому не нужно тело, такому нужна душа – проклятый, нечеловек, настоящий зверь. Хуже Кошек, хуже плосконосых, хуже всех… Она и сама не понимала, почему едва не ударилась в панику – наверное, потому что ветер; наверное, потому что так страшно хлопают за его спиной в тишине полы черного плаща; наверное, потому что слишком бездонные без луча света глаза…
И она кинулась первая.
Ему? Живой она не достанется никогда. Никогда-никогда-никогда!
И вновь зазвенела сталь, засвистел вокруг стали воздух, пискнули от боли мышцы. Первый удар демон отбил лениво, второй не менее спокойно, от третьего, выбросив вперед руку, едва поморщился.
И этот тоже не нападает?
Алька скрипела от ярости зубами. Играет с ней, чтобы замучить позже? В груди вдруг проснулась невиданная доселе ярость – сволочь. Унижает ее на глазах у всех, наслаждается собственным превосходством, дожидается, пока все убедятся – он лучше, быстрее, сильнее. Главный здесь он.
Ну и пусть.
Рука сама потянулась к скрытому карману в штанах, и, пока меч вращался, отвлекая внимание противника на себя, Алька вытащила зазубренную на концах звездочку и резким движением метнула ее в главаря.
Не заметил! Пропустил! Так ему, так!!!
На темной ткани, прикрывающей ничем не защищенную грудь, медленно растекалось темно-красное пятно.
Попала!
Радость кончилась, когда она увидела, как меняются его глаза – как наполняются гневом, как темнеют, хотя темнее уже некуда, как от злости сжимаются челюсти…
Ну все, Бог мертвых зол, вот теперь по-настоящему зол – теперь потанцуем…
Она не ошиблась. Мгновенный выпад, и лезвие вражеского оружия просвистело так близко от лица, что Алька отшатнулась, едва не завалилась назад, кое-как ушла с линии. А после резануло по груди, а потом по ногам, и икры взвизгнули от боли, потому что подпрыгнула она в самый последний момент и резко. Потом захрипела лодыжка, потому что приземлилась она именно на нее – сломала? Ногу сковал спазменный жгут; Алеста закричала и начала оседать.
Черноволосый шагнул вперед.
Нет, она не умрет, стоя перед ним на коленях.
Встать!
А нога орет от боли, сопротивляется.
Встать!
Из пореза на груди льется кровь – на этот раз ее, горячая, родная. И почему-то скользким вдруг стал сжатый ладонью меч. Она тоже в крови? Аля не видела ее – чувствовала.
Встать! Ради матери, ради себя, ради тех, кто учил тебя бою. Встать!
Как же больно, как страшно, как холодно. А до конца жизни осталось несколько секунд. Звездочку в груди враг не простит. Кажется, она успела срезать ему несколько прядей длинных волос – не простит и их, но, главное, он не простит унижения – его, пусть несерьезно и смешно, но ранила девчонка.
Мужики не прощают девчонкам, ничего не прощают.
Она умрет. Да, умрет. Но не на коленях.
Встать!
И Алька поднялась. С рыком, с хрипом, почти с пеной у рта, потому что нога орала, нога молила о пощаде, а тело слушалось из последних сил – «помоги мне, хозяйка, вылечи».
Уже не вылечит, уже не успеет. Прости, тело.
Она стояла и пошатывалась напротив Бога мертвых, а за ее кончиной наблюдали великаны. Наблюдали молча, терпеливо – знали, что это ее последние секунды, к чему торопить? И стало вдруг все равно. Что вокруг воет ветер, что подобно крыльям колышутся за спиной врага полы черного одеяния, что в его глазах нет больше гнева – она все искупила. Уже почти.
Давай, бей, гад. Чтобы наверняка.
Стынет на ветру собственное тело, толчками вытекает из порезов кровь, капает на черные камни. Сколько камней здесь полито чьей-то кровью? Наверное, каждый. А боли уже нет, почти нет. Она где-то далеко и уходит все дальше.
Бей, гад.
Алеста взглянула в черные глаза, подбадривая. Безо всякой доброты улыбнулась.
Давай, мол, я все равно не дамся живой, так чего же…
И демон, став вдруг равнодушным и почти отрешенным, шагнул навстречу. Отвел руку назад, дождался, пока очередной порыв ветра уберет с глаз налипшую прядь, резко выбросил меч вперед.
И лезвие завибрировало от скорости, лезвие вспороло ткань тонкой рубахи, обожгло холодом кожу…
Секунда. Две. Три.
А боли нет.
Алька боялась открыть глаза, которые зажмурила в самый последний момент.
Может, люди умирают без боли? Может, уже все? Медленно и как-то безжизненно стучало в груди сердце – и толчки эхом, грохотом отдавались в собственных ушах. Еще секунда. А полы все трепещут, ветер все воет, ноздри тягают туда-сюда безжизненный и безвкусный воздух Равнин.
И она открыла глаза. Опустила голову, тяжело, почти слепо посмотрела на прошедшую между бочиной и рукой, прямо подмышкой, холодную сталь. Подняла взгляд, и, не веря себе, какое-то время созерцала поверх великанов на набухшее серое небо. Затем взглянула на демона и безмолвно, одними глазами, не чувствуя привкуса эмоций, привкуса жизни, ушедшей, казалось, с последней каплей боли, спросила «почему»?
А тот не ответил. Лишь неторопливо вытянул меч из «чужого» тела, неспешно заткнул его в ножны и посмотрел исподлобья. В глазах ни злости, ни мести, ни радости – ничего. Какое-то время на ветру трепетали не только его длинные волосы, но и раздувающиеся, будто принюхивающиеся к чему-то широкие ноздри, затем распахнулся рот-щель и наружу вырвался звук, значение которого ускользнуло.
Рык, команда. И круг вдруг рассыпался – великаны безмолвно подчинились «командиру», принялись убирать оружие, расходиться.
И уже через минуту на Равнине, на холодном пронизывающем ветру, вымокая под каплями начавшегося промозглого дождя, стояла лишь она одна – Алька. С мечом в скользких пальцах, с раной на груди, с немеющим телом и «неходячей» ногой.
Вокруг Кошки и камни, вокруг лишь пустырь, холод и пустота. А внутри ни сил и ни жизни.
Она опустилась на землю. Какое-то время сидела, сгорбившись, силясь унять боль. Затем скорчилась, легла.
* * *
Он редко забирал «добычу» себе, но на это раз принял решение не отдавать.
Не пришлось. Ни командовать, ни драться за нее, ни спорить. «Солдатам» та оказалась неинтересна – то ли не вкусна, то ли привыкли к «жралам» и кошкам, то ли была еще причина, о которой он не знал. Плевать. Но «подчиненные», потеряв интерес к несостоявшемуся бою, попросту разошлись – переглянулись, обменялись неслышными ему фразами и разбрелись по Равнинам в поисках лучшей наживы.
А он все сидел под холодным дождем и не понимал, что с ней делать – с девкой.
Нет, на бой не злился – она дралась, потому что хотела выжить, даже звезду метнула. Вот попала бы в горло – другое дело, а так… Дура. Застрявший в груди металл Баал выдернул и выбросил, почти восхитился скоростью, с которой тот прилетел, почти удивился, что не заметил броска. Ловко.
И как, спрашивается, она тут оказалась – обычный человек – в Равнинах? Не просто человек – женщина. Одна. С дурацким, каким-то игрушечным ржавым мечом, без щита, без нормальной одежды. Бросить ее тут? Пусть сожрут? Так ведь нормальная, не «мутант», как остальные обитатели. Помрет сама? Может быть. А, может быть, ей помогут.
Ему бы домой, ему бы уже идти, он и так провел в чужом мире слишком много времени – решил, что если качественно выпустит пар, то в следующий раз вернется нескоро. А задержался, и принимай на себя дополнительную ответственность.
Мало ему ответственности в жизни? Он и ту, что есть, терпеть не может.
Баал зло ругнулся, сплюнул на блестящие от дождя камни, откинул со лба мокрые волосы и посмотрел туда, где в отдалении прямо на земле лежало маленькое скрюченное тело – два сапога, замызганная рубашка, ворох из спутанных волос и игрушечный, кажущийся ему ненастоящим меч.
И куда ее, спрашивается, девать?
Он подошел ближе и теперь смотрел на нее в упор: бездыханное тело, залитая кровью одежда, лица не видно. Может, уже мертва?
Регносцирос принюхался, принюхался по-особенному, как умел только он, и смерти не почувствовал – нет, жива. Пока. Отнести ее к границе? Еще бы знать, где она – граница. Притом не ближайшая, а та, где живут люди. Ведь просил Дрейка – дай карту, – а тот уперся, мол, ни к чему тебе.
Вот и к чему – как знал, когда спрашивал.
В этих землях Баал не чувствовал ничего, кроме бабкиного домика, откуда приходил – тот, будучи Порталом, действовал на него, как магнит, – а более не ощущал вокруг ни одного строения. И сильно сомневался, что они тут вообще были. «Солдаты» – и те, наверное, жили в каких-нибудь пещерах, – он так и не удосужился выяснить.
Девка, тем временем, тихонько застонала, но не пошевелилась; все сильнее мочил ее одежду дождь, все холоднее становилась земля.
Он взглянул на небо, фыркнул – температура падала, через минуту-другую полетит снег.
Надо бы что-то решить, не бросать же ее здесь? Черт бы подрал мягкую часть души и проклятую прилагающуюся к ней совесть – иногда Регносцирос воистину ненавидел в себе все человеческое, потому что вот как теперь не мог просто развернуться и уйти – внутри свербело.
Допустим, он найдет границу и вынесет непутевую вояку – примут ли ее обратно? Сомнительно. Наверняка эти земли носят славу чумной, а вышедшие из нее обратно люди – прокаженными. Вот нисколько он не удивится, если ее, вернувшуюся, умертвят или же сошлют обратно. Нисколько. Люди всегда славились наличием страхов, и страхи эти зачастую застилали им и ум, и глаза.
Тогда куда? Отнести «солдатам» и понадеяться, что выходят? Он уже увидел полное отсутствие с их стороны интереса. Оставить кошкам? Нет, Баал никогда не страдал ночными кошмарами, но в этом случае усомнился, что не начнет.
Куда, мать ее за ногу, куда?
Срывающиеся с неба капли, как он и предполагал, превратились в крупу; начало мести.
Регносцирос недобро зарычал, наклонился, подхватил легковесную «обузу» на руки и пошел в единственном направлении, которое никогда не путал – к бабкиному дому.
– Осатанел? – Зантия слов не выбирала. – Неси ее отсюда! Не положено!
– Уже положил, и, значит, положено.
Баал кивнул на широкую скамью у стены и осклабился – хорошая игра слов вышла, жаль, бабка не оценит.
Зантия не оценила.
– Не положено, говорю! Выноси!
– Не люблю слушать одно и то же.
Баал сощурил черные глаза, и смотрительница тут же сменила тон, почуяла, что такого, как этот, атаковать бесполезно, лучше в обход.
– Миленький, так правила же у меня…
– Вызови Комиссию.
– Зачем?
– Скажешь им, что это – претендент на переселение.
– Да отсюда не принимают!
– А ты пробовала?
– Так не было же никого?
– А теперь есть.
– Да она ж, – бабка заквохтала и сложила руки на груди, – помрет же, пока они доедут. Ты посмотри на нее – куда она такая? Едва живая.
– Вот и зови быстрее.
Ему эта перепалка порядком надоела. Хотелось домой, в душ и спать.
– А ежели не возьмут?
– Значит, сами решат, что с ней делать – не твои заботы.
– Ну, так как же не мои, ко мне же принес? Как мне ее выхаживать?
– Не зли меня, Зантия. Открывай Проход, и пошел я. Что делать знаешь, – он был уверен – она знала, – а клушей прикидывалась из-за того же, из-за чего прикидывается большинство – не желала ответственности. К черту. Свою «ношу» он уже «отнес», теперь бабкина очередь. – Открывай Портал.
Какое-то время старуха дулась, смотрела на него и щурилась, поджимала губы. Затем направилась к простому на вид деревянному столу, в недрах которого скрывалась многофункциональная панель, и скрипуче предупредила:
– Если спросят, кто принес, я скажу. Не буду врать, что сама приползла.
– Сама бы она не смогла – вокруг щит.
– Врать не буду!
– Не ври.
– Имя назову.
– Называй.
– И…
– И открой уже Портал.
* * *
Все, что Алька видела и слышала, казалось ей сном.
Мир покачивался и болел. Нет, наверное, болело ее тело; дополнительные страдания причиняли чьи-то жесткие руки, холод, тающий на коже снег, ломота в висках и звук перекатывающихся камней под чьими-то тяжелыми подошвами.
Ее забрали «панцирные»? Или «плосконосые»?
Ужас стучался в заплывшее дымкой сознание, ломился под закрытые веки, но на него не хватало сил – Алька устала, смертельно устала. И еще ей хотелось перестать чувствовать – совсем, – чтобы, когда буду жрать, когда будут…
Дальше она не додумала – временно провалилась в беспамятство. А глаза открыла уже под крышей, лежа на жесткой лавке, и в этот момент окончательно уверилась, что бредит: посреди комнаты с невысоким потолком стоял он – Бог Смерти, ее недавний противник – ей была видна его шея, волосы, жесткий, будто высеченный из камня профиль. Не «панцирный», не «плосконосый» – тот самый человек. Если он был человеком… И он с кем-то говорил – с кем, она не видела.
«Претендент на переселение», «открой Портал» – о чем все эти слова? Где она? Почему в доме тепло и почему в нем… женщина? Женщина среди Равнин?
– Имя назову.
– Называй.
– И…
– И открой уже Портал.
И вскоре все стихло. Ей, с упавшими на лицо волосами, рассмотреть удавалось немногое – деревянный потолок, льющийся откуда-то свет; слышались легкие шаркающие шаги и незлое ворчание.
Зачем этот… человек забрал ее? Спас? Или просто новый этап мучений?
Пульсировала голова, свербело в затылке, ногу простреливало так отчаянно, что Алька стонала – кажется, вслух. А потом щелчок, протяжный электронный писк, и женский голос зазвучал вновь – на этот раз спокойный, собранный, требовательный:
– Экстренный случай. Претендент на переселение – Портал номер… (дальше шли цифры, много цифр – их она не запомнила). Перед проведением тестов на пригодность требуется медицинский осмотр, пришлите специалистов.
И снова темнота. Ни голосов, ни шагов, ни звуков.
– Назовите ваше имя.
Вопрос удивил и почему-то поставил в тупик.
Алька сидела на стуле посреди маленькой комнаты – второй по счету в этой лачуге, которой, как она уже поняла, владела бабка. Может, не владела – работала.
– Вы помните ваше имя?
Помнила ли она его? Конечно. Вот только вопрос: зачем?
А перед ней сидели двое. Мужчины. Таких она раньше не видела: ухоженные, коротко стриженные, аккуратные, одинаково одетые – в серебристых куртках и штанах, сбоку по ткани белая полоска. Близнецы? Нет. Лицами разные, но выражениями схожие – безучастные, почти равнодушные, слишком спокойные, как будто и не люди вовсе.
Когда она очнулась в очередной раз, голова уже не болела – ей что-то дали, какую-то таблетку, принесли стакан с водой. Потом сделали укол, долго осматривали ногу, на порез на груди наложили мазь и повязку, заклеили странной лентой – прижали, и та теперь держалась сама.
– Кто вы?
То был первый вопрос, сорвавшийся с ее губ вслух.
Один из незнакомцев сидел на деревянной табуретке напротив – волосы посветлее, второй стоял у узкого стола, брюнет, упаковывал сумку с медикаментами. Интересно, а где ее собственная сумка? И меч? Остался в Равнинах? Наверное, и сама она осталась в Равнинах – лежит на камнях, бредит, думает, что попала в теплую хату, что видит спасителей. Неужели все мерещится?
Наверняка мерещится. Потому что мужчин – таких мужчин – она не встречала никогда. Интеллигентные, образованные, с чувством собственного достоинства – не «дикие». Как будто не мужчины вовсе, а холеные игрушки – мужья женщин-управителей Конфедерацией. Да и будь они мужьями, им не позволили бы главенствовать. А эти вели себя, как главные.
– Мы все объясним чуть позже. Пока, пожалуйста, ответьте на вопрос.
– Какой?
– Назовите ваше имя.
Думать, что она все еще лежит на холодных камнях и истекает кровью, пока сознание играет с ней злую шутку, было обидно.
– Алеста.
– Фамилия?
Зачем им фамилия? Хотя, почему нет?
– Гаранева.
– Алеста Гаранева, в связи со сложившимися обстоятельствами и тем, что вы попали внутрь Портала, мы имеем шанс предложить вам одну вещь…
– Какую?
Почему ничего не болит? Разве одна таблетка может унять боль так, как будто той не существовало? С каждой секундой Алька верила происходящему все меньше – этим стенам, этой полутьме, диковинной избушке, живущей в ней бабке. Почему ее измученное сознание вообразило именно таких визитеров? Не родной дом, не врачей-женщин, не уютные стены собственной спальни, не хотя бы бабушку?
– Вы бы хотели временно покинуть мир Танэо и пожить в другом месте?
– Долго?
Она почему-то не спросила «где», спросила «долго?» – как будто это важно.
– Столько, сколько захотите.
Точно, лежит на камнях и истекает кровью.
– А, когда захочу, вернусь?
– Да, когда, захотите, вернетесь. Для проведения дальнейших тестов и обследования вашего физического и психологического состояния, нам нужно получить ваше предварительное согласие.
– На переселение в другой мир?
– Да.
Это загробный? Странно, что туда приглашают.
– Я умираю?
Гости молчали, смотрели вопросительно.
– Я уже умерла?
– Вы живы, насколько я понимаю. Показатели вашего здоровья в относительном порядке.
Они странно говорили и странно себя вели.
Но, если это сказка, шутка воспаленного воображения, почему бы не пойти с ними? Главное ведь не очнуться на камнях, когда тебя, возможно, уже едят, главное, ничего не чувствовать.
– Так вы согласны?
Алеста еще раз обвела взглядом темные бревенчатые стены, низкий потолок, «воображаемых» гостей, подумала о том, как это хорошо, когда в теле не больно, и кивнула.
– Согласна.
Часть 2. Мир Уровней
Глава 7
Уровень 2.
Город Ринсдейл.
Полгода спустя.
Утро началось хорошо: с маленькой кухни, зеленых кленов за окном и шума дождя по густым кронам. Капли по подоконнику, свежий ветер в форточку; ароматно пах свежезаваренный кофе.
Алеста достала из холодильника сыр и масло, положила на блюдечко два хрустящих хлебца, расстелила под блюдцем бумажную салфетку, расслабленно втянула воздух – тишина, выходной – и приготовилась завтракать.
Утро и продолжилось бы хорошо, если бы минуту спустя в кухню не прошлепала бы босыми ногами Хлоя, не уселась бы, одетая в растянутую футболку и короткие шорты, на соседний стул, не скорчила бы недовольную гримасу.
– Я опять видела его во сне, представляешь? Он ждет меня там, ждет. Скажи, а тебе еще долго?
Аля знала, что все это означает.
«Долго?» переводилось во фразу «ну, сколько же ты провозишься? Я ведь страдаю без него, я умираю, неужели тебе все равно?». «Его» означало Тима, а «снова видела его во сне» приравнивалось к целому дню страданий, ибо, если сегодня Хлоя останется дома, она примется ежеминутно допекать Алесту душевными муками, состоящими из фраз: «Я должна попасть на третий. Обязательно должна, потому что это – любовь, а любовью не раскидываются. Даже если ты не любила, ты должна понять…»
– Аля, пожалуйста, ну, сделай это уже…
Сыр и хлеб вдруг потеряли свой вкус, аппетит пропал, даже цветастая салфетка, до того радовавшая глаз, превратилась в обычный кусок аляпистой бумаги с некачественно пропечатанными красными цветами. Блюдце было отодвинуто в сторону, кофе горчил.
– Ты не понимаешь: даже если я расшифрую эту бумагу, может оказаться, что это вовсе не место расположения тайного перехода на Третий, а всего лишь набор из идиотских знаков, ерунда.
– Но это же шанс! Ты сама говорила – скорее всего, переход!
Вздох. Сколько раз Алька уже пожалела, что поделилась своей странной находкой и мыслями о ней с подругой? Десять, двадцать? Если так, то скоро будет тридцать.
– Это засекреченный коридор и принадлежит, скорее всего, Комиссии. Если ты пройдешь по нему, тебя могут наказать.
– Я знаю.
– Тебя могут…
– Мне плевать, что они могут. Тим ждет меня там!
Тим Баркинс, скорее всего, никого на Третьем не ждал. Скорее всего, он уже давно забыл старых знакомых, забыл собственное прошлое и радостно окунулся в новую жизнь. Все забывали, все, только она – Алеста – по странному стечению обстоятельств все помнила. И тогда, и теперь.
– Он мог потерять память.
– Не мог. Не мог! Слышишь? Не мог! Ты меня отговариваешь? Ты просто против меня? Да? Если так, то так и скажи!
Утро окончательно превратилось в кошмар; Аля вздохнула еще раз, тяжелее.
Хлою она помнила еще с Монтаны, с Уровня номер один, с тех времен, когда они вместе проходили тесты на пригодность к жизни в новом мире, когда боролись за ценные места в списке, когда во что бы то ни стало верили, что впереди ждет удивительная счастливая жизнь в неизведанных краях.
Жизнь и вправду оказалась чудесной. Несмотря на то, что при переходе на Второй Хлоя начисто забыла подругу, несмотря на то, что они случайно встретились уже здесь – в Ринсдейле, несмотря на то, что теперь жили в маленькой двухкомнатной квартирке на Парк Авеню.
«Зря я заново предложила ей дружбу. Просто притворилась бы, что никогда ее не видела, и она ничего не вспомнила бы…»
Так оно и было бы, вот только поздно. Аля, которая всегда ценила друзей, не смогла пройти мимо, когда увидела старую знакомую в коридоре учебного корпуса – подошла, представилась тощей черноволосой девчонке заново, предложила пообщаться. А после и съехаться.
И теперь страдала.
Не потому что похожая на тощую взъерошенную птичку с тонким носиком и огромными глазами Хлоя была плохой, а потому что на свою беду здесь, на Втором, она встретила Тима Баркинса – байкера, который, получив разрешение на переход на Третий, позвонил подруге и бросил в трубку: «Дорогая, встретимся уже там. Целую. Мне пора».
И теперь Хлоя бесконечно бредила, что ее безумно любят, что ждут «где-то там», что попросту не могли, не имели права забыть. Что страдают, испытывают те же чувства, что поминутно, как и она сама, маются разбитым сердцем.
Чушь. Но сколько бы Алеста ни пыталась объяснить, что Любовь – это нечто другое, совсем другие ощущения от человека, жизни и мира, ее сожительница свято верила, что по-настоящему любят именно так – пугаясь неизвестности, изнывая, тоскуя, опасаясь, что забудут, разрывая собственную душу (а заодно и душу соседки) в клочья.
Как будто это доставляет удовольствие, честное слово.
– Я не могу быть ни в чем уверенной. Это просто найденная между листами старой книги бумажка. Просто чья-то записка, может быть, шутка, не имеющее смысла странное послание.
Она и сама не сразу поверила, что однажды, сидя в библиотеке и роясь в истории города, наткнулась на что-то значимое. Начала убеждаться в этом лишь тогда, когда поняла, что символы – не просто набор рисунков, но принадлежащая некому сложному языку письменность. А после нашла словарь – потертый и единственный в своем роде – и тогда уже убедилась наверняка: в записке шифр. Слова «переход», «три» и ряд координат. Причем координат, находящихся за пределами, обозначенными на карте Уровня. И с тех пор жадная до тайн Алька потеряла покой: рылась, копалась в старых листах, расшифровывала, а после не удержалась, поделилась открытием с Хлоей.
Зря. Хотя, откуда было знать? На тот момент еще не было Тима, не было разбитого сердца, не было гримас по утрам, не было фраз «ну, когда ты уже?».
Тогда Хлоя не болела любовью, которую Аля называла «страхом – меня не любят, меня забыли, я срочно должна туда попасть».
– Пожалуйста, поторопись. Я долго не выдержу!
«Я тоже».
– Я стараюсь. Но, если это окажется не тем…
– Ну, окажется и окажется.
– И я с тобой туда не пойду.
– Не ходи!
– И не смей никому говорить, кто помог тебе найти этот коридор.
– Не буду.
– А если окажется, что этот самовлюбленный Тим тебя все-таки забыл…
– Я знаю-знаю, я ни в чем не буду тебя винить.
В последнем Алеста сильно сомневалась – люди любили винить, обожали, и почему-то не себя, а других. Во всем: в бедах, в том, что не сложилось, в том, что сложилось не так, в отсутствии помощи, в ее навязывании, в беспричинном равнодушии, в переизбытке ненужных эмоций.
А ей бы тишины. И спокойно доесть свои два хрустящие хлебца, чтобы только она, кухня, зеленая мокрая листва за окном и выходной.
Через полчаса Хлоя куда-то ушла.
Ничего не сказала; натянула на тощие ноги серые джинсы, накинула на плечи кожаную куртку – дань моде Тима и его байкерской команде, – накрасила губы ярко-красным и щелкнула замком входной двери.
Аля, к тому моменту уже успевшая убрать со стола, теперь просто сидела на скрипучем стуле и смотрела в окно, наслаждалась одиночеством и покоем без извечного «ну, Аля, ну, Ал-я-я…»
Зря она оставила собственное имя, когда те люди в форме задали вопрос: «Как желаете зваться в новом мире?»
Она могла выбрать любое: Лисса, Милена, Лиана, Андреа, Констанция, на худой конец…
Констанция.
В воображении тут же всплыло лицо матери и застывшее на нем выражение легкого недовольства, даже брезгливости, мол, и почему мир такая сложная штука? Почему все просто не может быть так, как я хочу?
Они так и не заставили ее забыть, не смогли.
А ведь назови она тогда другое – Гленда, Изабелла, Джулия – Хлоя не тянула бы теперь извечное и монотонное «А-а-аля-я-я…»
Хорошо хоть полного варианта имени подруга до сих пор не знала – думала, что Алька – это не то Алина, не то Айлина, не то вообще Альмира. Пусть. Бабушка всегда говорила: «Людям ни к чему знать все твои имена, Аленька. Пусть зовут, как хотят. Чем меньше знают, тем сильнее защищена душа».
А бабушка не ошибалась.
Алька и фамилию оставила прежнюю – Гаранева, – не потому что любила ее, а потому что помнила про «дань уважения далеким предкам». И кем бы ни был ее далекий и забытый дед, он, наверное, хотел, чтобы его род с гордостью носил его фамилию. И она носила. Не с гордостью, но честно и не размениваясь на псевдонимы.
Дождь усилился, застучал громче, напористей; гуще зашелестели блестящие кроны, и на душе вдруг снова сделалось хорошо. Выходной, свободный день, а за окном новый мир – мир, который она к своему стыду и удивлению успела полюбить.
Ей до сих пор не верилось в то, сколько всего произошло за последние полтора года. Много. Очень много. Иногда казалось, что слишком много, а иногда казалось – все сказка, сон, – вот сейчас она вздрогнет, а вместе с ней вздрогнет существующий лишь в ее воображении Мир Уровней, и иллюзия треснет по швам.
Она все ждала, а мир все не вздрагивал, оказался на удивление реальным – эта скатерть на столе, пион на окошке, гудящий в углу холодильник… Реальными оказались и улицы, и дома, и пешеходы. Деревья, парки, скверы, огромные районы, кварталы, небоскребы, Комиссия…
Комиссия.
Алька до сих пор помнила ту битву на Равнинах, как будто та случилась только вчера – холод, снег, боль. Те люди в бабкином домике говорили, что она постепенно все забудет, уверяли, что процесс произойдет безболезненно, но то ли что-то в их лаборатории пошло не так, то ли Алькин мозг был устроен по-другому – она помнила. И Танэо, и Лиллен, и мать.
Помнила, но не скучала.
Ее уверили – вы вернетесь тогда, когда захотите. Вернетесь в тот же самый момент и в то же место, которое покинули. Когда будете готовы. Просто найдете способ дать нам знать, а мы услышим – она им верила. Пообещали: время в ваше отсутствие на Танэо идти не будет, а старения в новом мире нет, как нет, впрочем, и детей. Сначала это показалось ужасным, почти чудовищным – позже Алька поняла устройство местного строя и незаметно для себя приняла его, решила – она просто учится, просто живет, просто набирается опыта. Ведь не стареет? А когда поймет, что «пора», уйдет обратно (интересно, а как уходят те, кто «не помнит?»). И к этому моменту, возможно, она поймет, как вернуться с Равнин на дорогу, как справиться с засадами «диких», как дойти до Храма и вернуться домой.
А мать, отец и Хельга ничего не будут знать. Ни о ее приключениях, ни о событиях, которые ей пришлось пережить, ни о том, что за Стеной она едва не погибла. Для них пройдут дни – для нее месяцы и годы. Однажды они просто дождутся дочь и сестру домой, порадуются ее возвращению, закатят праздничный ужин, а она не будет говорить им, что она уже не прежняя Алька, а другая – повзрослевшая не внешне, но внутренне, побывавшая в диковинных местах. Людям вообще не нужно говорить всего, даже родным – жаль, она изменила своему принципу с Хлоей, ну да ладно, чего теперь…
Помнила она и демона с Равнин – Бога Смерти.
Он все-таки спас ее, а не убил. Принес в домик, походатайствовал, чтобы ее приняли к зачислению, дали шанс на переселение.
Странный человек. Встретить бы снова.
«Зачем? Что ты скажешь ему?»
«Не знаю. Спасибо?»
А дальше было многое: Уровень первый и красивый шумный город Монтана. Выделенное во временное пользование жилье, некоторая сумма наличными и море удивления – удивления от всего. От того, что в новом мире правили (негласно, но факт) мужчины, что женщины расценивались ими как любовницы, служанки, уборщицы, иногда друзья, но почти никогда как равные. Где это видано, чтобы во главе стола сидели мужчины? МУЖЧИНЫ? Но удивлялась Алька, скорее, не столько гендерному перевороту в социальном строе, сколько осмыслению факта, что при мужском правлении (а в Комиссии, как она поняла, женщины не числились – по крайней мере, за тот короткий срок, который ей удалось провести внутри их здания, Алеста не увидела ни одной) государство процветало. Да-да, процветало – ни войн, ни нападений, ни столкновений. А что говорили Женщины Конфедерации: «Допустите их к власти, и мир рухнет»? – так они, очевидно, ошибались. Мужчины бывают разными. Да-да, очень разными.
Вот, например, те, что работали в Комиссии – она их видела только в самом начале и никогда позже, – отличались неприметной внешностью, полным отсутствием эмоций, холодной сдержанной вежливостью и вниманием к деталям. Они все носили одинаковую форму и никогда не намекали на неравенство полов – вели себя в крайней степени корректно, хоть и равнодушно. Они ей даже чем-то нравились.
А вот мужчины-жители городов, не в пример описанным выше, отличались необузданным нравом, несдержанностью, раскованностью, излишней самоуверенностью и почти полным отсутствием почтения к женскому полу. Для выросшей в иной атмосфере Алесты сие едва не стало ударом – несколько раз она даже вступала по этому поводу в стычки: два раза на улице, один раз в магазине и трижды по телефону, когда решила, что ей невежливо ответили, презрительным тоном использовав обращение «дамочка».
Привыкание давалось тяжело, но она привыкла. К тому, что у мужчин в мире Уровней больше возможностей, больше власти, больше денег и больше гонора. А вместе с привыканием обнаружилась и еще одна странная вещь – ей больше не хотелось делиться с ними Любовью, с местными мужчинами. Если на Танэо Любви было много – на улице, в городе, в воздухе – и ей хотелось делиться с первым встречным, если там она бесконечно искала, на кого бы излить порцию ласки, то тут неожиданно обнаружила, что Источник временно притих, угомонился. Не сиял, не полыхал факелом, не пытался облагородить первого встречного порцией ласки, сохранял все для себя или же для кого-то особенного.
Этой формулировкой Алька и спаслась, когда обнаружила новые и странные поначалу напугавшие ее в самой себе изменения. Может, она потеряла способность любить? Может, что-то хрустнуло в ней тогда, на Равнинах? Но позже поняла – нет, она просто хранит свет для одного-единственного – того, кто еще не встретился.
На том и успокоилась.
И хоть ей изредка попадались экземпляры приятные внешне, холеные и даже на первый взгляд интеллигентные, на свидания ходила редко, а до постели вообще не доводила.
Вот бы Ташка посмеялась. Она бы много над чем, наверное, смеялась: что Алька так медленно привыкает, что с опаской смотрит на местных – ведь привлекательные? – что на пушечный выстрел к себе никого не допускает – почему? Ну, попробовала бы, посмотрела бы, оценила. Но ведь Алька – она и есть Алька – натура сложная, любящая все проанализировать, закопаться по самые уши в психологию и самоанализ.
Эх, Ташка… Как хорошо было бы жить здесь с ней вдвоем, а не с Хлоей.
Но есть то, что есть. Хлоя теперь живет с ней в одной квартире не просто так – Алька выплачивает ей долг, дань уважения за оказанную помощь, за спасенную некогда жизнь.
Это случилось давно, еще на тестах.
Алька и не знала, что бывают такие тесты. Тогда она много чего не знала: ни о том, что в Равнинах есть будка-Портал, ни о других мирах, ни о том, что один из них имеет шанс ей понравиться.
А Комиссия тестировала жестко: делила новеньких на группы, помещала в странные условиях, выдвигала странные требования – «не трогать красную подушку», «не покидать установленного пространства», «ни с чем не соглашаться», «перечить», «не перечить», «молчать», «говорить», «делать», «не думать»… Иногда их проверяли у экранов компьютеров, иногда изолировали друг от друга, а один раз даже закинули посреди ночи на остров и попросили переплыть реку. Для чего – проверяли физическую форму и выносливость?
Вот как раз там Алька, имевшая за плечами небогатый опыт купаний в озере, и спеклась – гребла в темноте, в холодной быстрой воде, пока хватало сил, но в какой-то момент почувствовала, что выдохлась и едва не пошла ко дну.
Моментально нахлынувшее отчаяние помнилось ей, как теперь: три последние недели она исправно выполняла все задания – всегда храбрая, всегда первая, всегда смелая, – а тут домой? Неужели, если не доплывет, ее просто выбросят обратно на Равнины? И это после всех усилий? Вода кусалась холодом, обжигала кожу, морозила внутренности, тянула за лодыжки на дно.
И Алеста, возможно, ушла бы под воду – предпочла бы смерть возвращению, – но чья-то тонкая рука вдруг ухватила ее за запястье, помогла вынырнуть, вытянула на поверхность, а после дотянула до берега.
Хлоя.
Маленькая девочка-тростинка с огромными вечно грустными глазами, черной шапочкой-каре и острыми коленками. Она ничего не попросила в обмен на помощь – даже не дождалась короткого «спасибо» – мокрая и дрожащая, просто кивнула и отошла в сторону. А Алька долго не могла поверить, что справилась. Они. Справились.
К концу недели их группа с двадцати человек сократилась до тринадцати. Через три до девяти.
Жить на Уровнях оставили семерых: Альку, Хлою и еще пятерых – самых «правильных», самых подходящих.
В тот вечер, когда на руки выдали новенькие блестящие удостоверения личности с голограммой Комиссии и Мира Уровней, «выпускницы» напились.
Она не стала говорить, что «не забыла».
Не пошла жаловаться к управленцам, не попросила «дотереть» ей память, не стала пытаться найти ответ на вопрос «почему» – просто скрыла.
Помнит и помнит – кому какое дело?
В шумной Монтане, которая напоминала Але «пересадочную станцию» для поездов – сюда вечно вплывали потоки новичков, чтобы через день-два-неделю исчезнуть, – она прожила недолго, около двух месяцев – неделю до тестов, три недели с ними, месяц после. Раздумывала, чем бы заняться в дальнейшем, присматривалась к городу, обвыкалась в выданной во временное пользование комнате.
Монтана душила ее слишком сочным обилием ночных огней, толпами пешеходов на улицах, богатой ночной жизнью – сюда будто приезжали повеселиться. Все лихие, безбашенные, с веселым блеском в глазах – мол, или выпадет счастливая карта, или… О втором «или» думать никто не хотел, а потому прибывшие кидались в водоворот развлечений, как в омут, с разбега – «а вдруг это последний день?»
Этот чужой «последний день» мешал ей сосредоточиться и понять, чего же она хочет дальше.
Работать. Приносить пользу обществу – это понятно. Но кем? На какие курсы записаться? Чему обучиться?
Как только Алеста определилась с выбором – она пойдет работать секретарем-референтом (спасибо Хельге, научила обращаться с бумагами и документами), – как в почтовый ящик упало уведомление: «Вам доступен Переход на Уровень номер два. Желаете принять?»
Прочь из Монтаны? Да хоть сегодня.
Алька желала.
На выбор предоставили два новых города – Вельтон и Ринсдейл.
Внимательно прочитав информационную страницу, Аля от Вельтона отказалась – такой же шумный, как предыдущий, слишком большой и, судя по изображениям, похожий на муравейник – ей он не понравился. Зато Ринсдейл сразу пришелся по душе: зеленые парки, узкие улочки, уютные домики; меньше населения, пестроты и рекламы – его и выбрала.
А как ступила на «живую» улицу, сразу же влюбилась, попала будто в сказку – туда, куда всегда мечтала. Здесь было много растительности и мало суеты, здесь вдоль дорог росли высокие клены, а дворики утопали в тишине, здесь у каждого особнячка цвели почти такие же, как в родном Лиллене, ухоженные сады.
Прекрасное место: каменные стены домов, вьюн по заборам, приветливые люди – и жить сразу стало легче, свободней. Сразу же захотелось здесь просто «быть», гулять, работать, строить планы, дышать, смотреть на клумбы, улыбаться собственным мыслям, мечтать.
Тут и осела.
Получила на руки первоначальный, положенный «новоприбывшим» капитал, выбрала спокойный район, сняла маленькую квартиру, записалась на курсы, а через два месяца, когда заканчивала их, в Ринсдейл прибыла и Хлоя.
Так и закрутилось.
* * *
Януш Навец нравился себе всем без исключения: спортивными ногами, разворотом плеч (не очень широким, но кому нужны переборы?), достаточно рельефно выступающими бицепсами, модно стрижеными темными волосами, триммированной ровно под два миллиметра ажурной бородкой и брутальной щетиной-усиками, от которой приобретал манящую, как он считал, сексуальность. Так же, разглядывая себя в зеркало, он гордился своими темными загадочными глазами, властным разлетом бровей, в меру пухлыми и чувственными губами и белоснежной улыбкой. И есть ли кому-то дело, что для приобретения последней ему пришлось три раза пройти процедуру отбеливания эмали? Болезненную, надо сказать, процедуру, но она того стоила – дамы ловились.
А оттого, что он нравился противоположному полу, Ян нравился самому себе еще больше.
А как же иначе?
Три из шести дам шли к нему в постель сразу после первого свидания, две после второго, букета цветов и парочки комплиментов, одна – особо упертая (а такие встречались редко) – после незамысловатого подарка и уж точно после романтического ужина при свечах.
Он был доволен.
Был.
До того, пока не встретил в офисе новую секретаршу – Алесту Гараневу.
Чертова недотрога, королева, равнодушная и немногословная искусительница.
И чего он на нее запал? Из-за шелковистых, струящихся волнистых волос, которые на ощупь, наверное, мягче ваты? Из-за больших, чуть удивленных глаз кофейного цвета? Из-за точеной фигурки с отчетливо прорисованной тонкой талией и полной, кажущейся сочной даже сквозь одежду налитой груди?
Нет, навряд ли. Януш вообще-то предпочитал блондинок – высоких белокурых красавиц со стройными ножками и маленькими титьками – такие возбуждали его куда сильнее, – но встреченная две недели назад Алеста напрочь изменила его представления о собственных вкусах.
Он потерял покой, потерял часть своей самоуверенности, всерьез усомнился, идет ли ему модная стрижка и триммированная бородка. А все потому, что эта чертова мадам совершенно не реагировала на его потуги сократить дистанцию – не краснела от его комплиментов, не улыбалась, когда он говорил «привет», не смотрела в его сторону, когда он входил в ее кабинет, чтобы в очередной раз проверить ее компьютер «на неисправности» или установить на жесткий диск новую программу.
Недоступная сучка. Недостучка.
Она совершенно спокойно отвергла все его подарки в количестве трех (!) штук, не приняла цветы, отказалась от коробки конфет. И все это без жеманства, ничуть не чувствуя себя польщенной, безо всякого чувства вины или угрызений совести. Вот этим и взяла – полнейшим равнодушием, которого он раньше в девушках не встречал. И ведь не лесбиянка, не фригидная – такое чувствовалось на расстоянии, – не сектантка со странными убеждениями – нормальная, вроде бы, баба. И такая холодная. И чем незаинтересованнее вела себя новенькая, тем сильнее он заглатывал внутрь невидимый крючок – как голодная и тупая рыбина, – и ведь заглотил уже по самые гланды.
«По самые яйца».
А теперь она, видите ли, сделала одолжение – согласилась пойти с ним в кафе. Сидела напротив, откровенно скучая, помешивала сахар в кофе, лениво поглядывала на заказанный десерт и по большей части смотрела не на него, а в окно.
А он – дать бы самому себе по черепу! – пялился во все глаза на нее – любовался точеным лицом, мысленно зарывал пятерню в ее черные густые, которые она никогда не собирала ни в хвост, ни в пучок, волосы и чувствовал, как совершенно не к месту теснеет в паху.
Черт, он бы ее… Хоть бы на грудь посмотреть – расстегнуть бы блузку, достать бы их – сочные дыньки – из бюстгальтера, взвесить в ладонях.
– Не нравится кофе?
– Не очень, он здесь горький.
– Тогда, может, чай?
– Не сейчас, спасибо.
– Как десерт?
– Я его еще не пробовала.
Нет, она его, видите ли, не пробовала – а зачем заказала? Зачем вообще пришла сюда – дразнить его близостью и еще большей недоступностью? И чего такого интересного за окном? Ну, закат, ну, тихая улочка, ну, дорога, жилой дом с супермаркетом на первом этаже напротив, перекресток, светофор, редкие машины. И Ян решился действовать напрямую, понял, что намеки не помогают.
– Если бы ты не была столь избирательна, мы могли бы уже жить вместе.
– Зачем?
От этого «зачем» он ошалел. Полностью. Вопрос не прозвучал с намеком: «с тобой, что ли, козел?» или «какая мне от этого выгода?». Не содержал он так же притягательного намека на флирт, мол, «когда-нибудь» или «куда ты так торопишься»? Нет, это был обычный, без подтекста или двойного смысла вопрос – до обидного просто «зачем».
А зачем люди вообще живут вместе? Чтобы жить, чтобы быть, чтобы видеть друг друга по утрам и вечерам, чтобы по ночам заниматься любовью. По крайней мере, Януш хотел именно последнего – и не только по ночам, но так же по утрам, обедам и вечерам. Вот натрахает он эту Алесту до опустевших помидор, тогда и наваждение пройдет.
А она – «зачем». Может, правда, больная?
И вдруг неожиданно для себя разозлился:
– Подарки не те? Так ты скажи – я куплю другие.
Спутница удивленно взглянула на Януша и промолчала.
«Цену себе набивает?»
– Могу одежду тебе покупать, обеспечивать. Квартплату за тебя платить…
– Да я и сама могу себя обеспечивать.
– Тогда чего? Чего ты хочешь? – он распалялся все сильнее. – Давай, скажи! Разве не видишь, из-за тебя я уже всем своим принципам изменил…
Ее темные глаза, кажется, все так же равнодушно и незаинтересованно, как и их обладательница, насмехались. «Не стоит изменять своим принципам, – говорили они, – никогда. Иначе это ветхие и неправильные принципы».
Ян злился.
– Может, ты вообще мужиков не любишь, а-а-а? Ну, так чего ты мне мозги-то…
Он не договорил, потому что в этот момент Алеста вдруг резко подалась вперед, шумно выдохнула и до побелевших костяшек сжала лежащую на столе с пятнышком кофе по краю салфетку. И смотрела она не на Януша – она смотрела в окно.
– Ты должна попробовать.
Так бы сказала Ташка.
– Иначе никогда не узнаешь, что из этого могло бы выйти.
И Алеста «пробовала».
Уступила, пришла сюда, хоть и не хотела, сидела теперь напротив этого напыщенного хлыща и все думала: ну когда же всколыхнется? Когда сердце пропустит удар, когда вдруг захочется первого поцелуя – ведь симпатичный, ведь харизматичный, ведь самец по всем параметрам: сильный, напористый, смелый… Смелый? Нет, в смелости сидящего напротив субъекта Алеста сомневалась. Скорее, наигранно самоуверенный, излишне дерзкий.
Сердце молчало. И ситуация чем-то неуловимо походила на ту, которую она никогда не хотела бы вспоминать – с садовником Нилом.
Что случится, если она пойдет домой с Янушем? Будет та же никому не нужная возня в чужой постели, поцелуи без возбуждения, большие волосатые руки на груди? Да, руки на этот раз умелые – не как те, робкие и неуверенные, – вот только Аля сомневалась, что получит хоть какое-то наслаждение, скорее, будет сильно жалеть, когда впервые почувствует, как по ногам течет теплая сперма. Оно ей надо?
Эх, Ташка, Ташка…
А Ян становился все напористее. Подарки? Одежда? Оплата половины ее квартиры? Какая неслыханная щедрость. И как много мужчина готов предложить лишь за то, чтобы один (два, три?) раза спариться. Все-таки в чем-то Конфедерация была права – примитивизм.
И ведь здесь, в мире Уровней, дело не в детях, которых любой другой уважающий себя самец хотел бы заиметь – нет, в удовольствии. Так ведь удовольствие рождается из чувств, а не из взаимного похотливого лапанья чресел друг друга. Какой идиотизм; ей хотелось скрипеть зубами.
Может, у нее просто бесчувственное сердце? Или тело? Ну почему она не умеет влюбляться, как та же Хлоя? Страдала бы сейчас, мучилась, но ЧУВСТВОВАЛА бы. А так, как будто совсем не чувствует – ни любопытства, ни интереса, ни удовольствия от общения с противоположным полом.
Она странная? Вполне возможно. Ну, кого ей, спрашивается, надо – какого мужчину? Полгода прошло, а она на них лишь смотрит, как на музейные экспонаты – смотрит и тут же забывает. Ага, мол, бывают: рыжие, блондины, тощие, толстые, наглые, скромные, приятные, неприятные и так далее – запишем, поставим галочку.
– Может, ты вообще мужиков не любишь, а-а-а? Так ты скажи…
А Ян, похоже, злился не на шутку и этим медленно, но верно выводил Алесту из себя – теперь она знала, зачем пришла сюда – чтобы отказать ему. Навсегда и насовсем. Чтобы объяснить этому самодовольному хмырю, что…
И в этот момент сердце пропустило удар.
Оно среагировало быстрее разума, быстрее интуиции – один взгляд, и тишина в груди, и шум в ушах.
«Не может быть, чтобы он, так? Но как похож…»
Аля увидела незнакомца лишь со спины – тот вышел из затормозившей у дома напротив машины, хлопнул дверцей, повернул голову – не до конца, ровно настолько, чтобы показался абрис профиля.
Бог Смерти.
Он.
Он?
Он…
Нет, быть такого не может.
Ей вдруг стало трудно дышать; пальцы мяли салфетку, голос Яна остался в другой реальности.
Хотя, почему «не он»? Ведь она с самого начала знала, что тот мужчина, спасший ее на Равнинах, знал о доме бабки, о Портале, о Мире Уровней – знал, значит, возможно, и жил здесь – она ведь размышляла об этом раньше.
Только не думала, что когда-нибудь увидит его снова.
Кафе, Януш, горький кофе, не попробованный десерт на тарелке – все оказалось забыто. Алеста во все глаза смотрела, как высокий темноволосый человек обогнул машину, положил ключи в карман и направился к углу дома, завернул за него.
Он. Он? Он.
«Просто похож».
Да какое ей дело? Чего она так разволновалась? Не сама ли только что думала о том, что бесчувственная, что не умеет испытывать любопытства? Оказывается, умеет.
А внутри все дрожало от странного, внезапно накатившего возбуждения. Зачем он ей? Что она скажет ему, если встретится лицом к лицу, – спасибо? Да хоть бы и так. Ей есть, за что сказать ему «спасибо».
– Ты меня слушаешь вообще? Зачем притащила меня в кафе, чтобы в окно пялиться?
Всколыхнулась не злость даже – холодная ярость; она уже и забыла про этого… клопа.
– В кафе пригласил меня ты.
Незнакомец из-за угла не показывался. Она не отрывала взгляда от окна. Может, все-таки показалось? Но те же волосы, тот же профиль, тот же рост, даже движения… Она помнила его движения – плавные, грациозные, хищные, неуловимо опасные. Как забыть? Ведь дралась с ним.
– И что? Ты зачем согласилась, чтобы дразнить меня? Чтобы просто сидеть напротив…
Он говорил-говорил-говорил, выговаривался, а на душе делалось все гаже. Лучше бы выбрала другое место, лучше бы посидела в кафе одна, насладилась бы кофе и тишиной, подумала бы над загадкой зашифрованного послания, в котором сегодня вдруг раскрыли смысл еще два символа.
«Не пришла бы в это кафе, не увидела бы его».
Значит, не зря.
– Януш, давай уже со всем определимся.
Она оборвала его на полуслове – тот икнул, промычал что-то невразумительно и нехотя заткнулся.
– Вот именно. И я про что.
И, похоже, вознамерился услышать, наконец, то, чего так долго ждал – выдвинутые вслух условия ее готовности пойти с ним в постель. Откинулся на диванчике, сложил руки на груди, довольно ухмыльнулся.
– Я не буду с тобой спать.
И ухмылка тут же погасла; лицо с бородкой превратилось в застывшую маску с двумя красными пятнами на щеках.
«Какой чувствительный».
– Недостучка.
Странное слово. Ей показалось?
– Ты мне не симпатичен и не подходишь. А в кафе я с тобой пришла, чтобы в этом убедиться.
– Да кто ты такая? Что ты мнишь о себе? Думаешь, распустила волосы, похлопала глазками и можно…
Дальше она не слушала – все это уже слышала раньше; ее взгляд вдруг привлекло движение на углу дома – длинноволосый брюнет возвращался в машину. Быстро. Сколько прошло – минута? Полторы? Две? Сколько они ругаются?
Ей нужно за ним – не упустить, не потерять. Даже если не лицом к лицу, то хоть узнать, куда направляется. А ведь рядом только машина Яна, своей пока нет; Алеста быстро повернулась к похожему на разъяренного буйвола спутника и сухо, по-деловому спросила:
– Поможешь мне? У тебя ведь под окнами машина.
– Чем?
Гневная тирада в который раз оборвалась, но пятна на щеках не исчезли.
– Видишь вон того мужчину? Мне нужно за ним проследить.
– Ах ты!… – пятен стало больше. – Сидит в кафе с одним, а смотрит на другого…
– Так не поможешь?
– А ты со мной после этого переспишь?
– Нет.
– Тогда пошла ты! Больная! Вот ты кто – больная!
Алеста потянулась к сумочке, достала деньги, бросила их на стол и ровно, с достоинством ответила:
– Я не больная. А вот тебя, похоже, никогда не любила ни одна женщина, включая собственную мать. Потому ты и сам себя не любишь.
Тот, кто пришел с ней в кафе, теперь сидел, беззвучно открывая и закрывая рот – натужно подыскивал достойный ответ, который, судя по паузе, в воспламенившийся от ярости мозг не шел.
Аля не стала дожидаться новой порции яда – спешно поднялась, поправила кофточку, закинула на плечо сумочку и заторопилась к выходу из кафе.
Прощаться ни к чему.
Ей бы не опоздать.
– Такси! Такси-и-и!!!
Он еще не уехал – тот, черноволосый, – не успел. Но машину уже завел, руки положил на руль и на нее, орущую по другую сторону дороги, не смотрел.
– Такси-и-и-и!!!
Альке бы подошло, что угодно: старое ржавое корыто на колесах, частник, дорогой лимузин, скоростной трамвай, но лучше все-таки просто такси. И быстро. БЫСТРО! Ну, пожалуйста!
Должно быть, сверху ее кто-то услышал, так как такси вывернуло с соседней улицы через секунду; Алька в бешеном темпе замахала руками. Желтая машина с неулыбчивым водителем притормозила у обочины.
– Девушка, вам куда?
Она не забралась – шумно ввалилась на заднее сиденье и ткнула пальцем в отъезжающий от обочины черный автомобиль.
– За ним!
– Эй, я вам не герой какого-нибудь третьесортного боевика в «догонялки» играть…
– Просто езжайте! Я плачу. И не упустите его.
– Дама, я же объяснил…
– Я много плачу!
– Ну, ладно, – почти миролюбиво проворчали с переднего сиденья, – тогда поехали.
Плавно тронувшееся такси отразилось в том же окне, через которое во все глаза на Альку смотрел Януш.
Она помахала ему рукой.
Водила оказался умелым и бензина не жалел – исправно давил на газ, а на газ приходилось давить постоянно – преследуемый ехал быстро. Водила ворчал, бубнил себе под нос: «нашли гонщика», нервничал все сильнее, потому что ехали долго – минут двадцать. Сначала через центр, затем через восточную окраину, потом и вовсе за город – вскоре по обочинам встал стеной лес, затем кончился и он – потянулись поля.
А Алькино сердце колотилось, не унимаясь – она не разглядела незнакомца детально, но отчего-то – интуицией, шестым чувством – знала: в машине впереди находился именно он. Он. И ехал, по-видимому, далеко не домой. Может, в загородную резиденцию?
Номера на черной машине отсутствовали – будь они там, она бы разглядела еще возле кафе, но их не было. Черт. Они бы ей пригодились – нашла бы базу, узнала бы детали, имя.
– Девушка, ваш знакомый все ускоряется, моя колымага не тянет…
Он не ее знакомый. Не совсем. Некогда объяснять.
– Быстрее.
– И так давлю, как проклятый.
– Плачу двойную таксу.
– Да что мне такса – машина не тянет.
– Тройную.
И снова тишина в салоне. Ненадолго, еще на несколько минут. А после новый поворот; черный автомобиль нырнул в него, скрылся за зарослями не то из кукурузы, не то из несъедобных сельхоз культур – и… пропал.
Свернувшее следом такси зашуршало, было, колесами по гравию, но уже через минуту чихнуло и встало.
– Почему…
– Да где он? Где? Вы его видите?
Алька не видела. Впереди узкая колея, щебенка, шум созревающего под небом и ветром урожая, тишина. И ведь ни поворота впереди, ни нужной ей машины – пустота, даль до самого горизонта.
– А сворачивать тут некуда, – водила посмотрел на навигатор, который стрелкой указывал, что находятся они и вовсе не на дороге, а на незаселенной и необжитой местности – номер шоссе, равно как и его обозначение, отсутствовали. – Мы вообще черт знает где находимся, никогда раньше тут не бывал. Тут и дорога не обозначена, видите? А ведь я последние обновления накануне залил, чтобы… Тьфу!
Кажется, водитель, который к этому моменту постепенно вошел в гоночный раж, расстроился не меньше Альки.
– Куда бы ему деваться?
– Может, вперед проедем?
– Да вы издеваетесь? Давайте лучше обратно, я старался, как мог.
Он действительно старался. На языке вдруг появился привкус горечи и разочарования – а ведь она нашла его, почти нашла. И почти догнала.
Ушел.
Хотелось плакать.
Нет, он не нужен был ей – этот мужчина – не нужен ни за чем конкретным, а вот сердце рвануло следом, четким компасом указало путь и крикнуло: «гони!».
Гнала. Что толку?
– Ну, так что? Обратно?
Алеста тяжело вздохнула, крепче сжала сумочку, мысленно прикинула, хватит ли денег на оплату поездки, и успокоилась – хватит. Сегодня она как раз получила аванс, хотела купить новую обувь и костюм – ничего не купит. Зато расплатится, и, может, еще что-то останется.
А навигатор впереди продолжал мигать в поле курсором. Алька подалась вперед и четко, до мельчайших подробностей запомнила карту – номер трассы слева, номер дороги справа, координаты. Затем вздохнула еще раз, посмотрела в окно – не то на рожь, не то на кукурузу – до сих пор не разбиралась в местных растениях – и скрепя сердце кивнула.
– Обратно.
Такси плавно тронулось; зашуршали по щебенке шины.
Глава 8
Дался ей этот темноволосый незнакомец. Далась ей чертова записка из найденной в библиотеке книги.
Забыть бы, перестать бы думать о них, вот только не выходило. И записку, и «Бога Смерти» объединяло нечто общее – тайна; и Алькино любопытство не унималось. А еще казалось, что присутствовала между этими вещами невидимая связь. Какая? Пока нет ответа, но он, возможно, появится.
Куда подевалась машина? И это в чистом-то поле?
Почему кто-то зашифровал на листке неведомые координаты и подписал: «Третий»? Не на тот ли самый «Третий» через несанкционированный для прохода коридор уехал длинноволосый брюнет? Не сойдутся ли точки на карте и на бумажке, не окажется ли, что местоположение их общее?
Шанс маленький, но он есть.
Дура. Она, наверное, просто романтично настроенная после прочтения нескольких приключенческих романов дура. А, ну и ладно! Зато благодаря загадкам присутствовало в жизни что-то интересное, интригующее, а наличие интереса и вспыхнувшую в собственной груди искру Алька ценила.
Перед тем как вернуться домой, она заехала в библиотеку и попросила бесценный словарь на руки – тетка-библиотекарша, к тому времени уже собравшаяся домой, неприязненно поджала губы.
– Такие книги с собой не даем.
– Пожалуйста, мне только на день.
Библиотекарша бы не дала, но она знала Алесту уже давно – та посещала тихие залы почти ежедневно (не то, что некоторые – лентяи и бездельники, необразованный народ!), – и потому смилостивилась.
– Только на день. Под личную ответственность.
– Спасибо, спасибо, я все верну!
И теперь этот самый словарь – ветхий, с надписью «Иуррейская письменность» – лежал в ее комнате поверх подушки. А с желтых хрупких страниц, помахивая мятым углом в такт вращению лопастей вентилятора, гоняющего по комнате теплый воздух, загадочно смотрела оставленная неведомым искателем приключений записка.
Осталось два символа – две координаты. А еще ключ из восьми цифр – наверное, код, который нужно ввести на входе, – так ей думалось. Никакой уверенности, просто догадка.
Палочка, а рядом кружочек – это номер шесть. Семерка обозначалась странной загогулиной с точкой сверху, а вот следующего значка Алеста до сих пор не встречала – пришлось опять листать книгу.
Кем были эти самые «иуррейцы», где жили и в каком году, она найти не смогла – ни слова, ни полслова (да и не сильно старалась). Но письменность создали, и, значит, где-то когда-то существовали. Бог с ними…
Незнакомый знак оказался девяткой, дальше шел двойной апостроф – во всех знакомых ей языках «долгота». Затем восемь, затем два…
К полуночи она расшифровала все послание – пропустила ужин, пропустила, запершись в комнате, приход Хлои, и, лишь когда тихо пикнули, показав цифру «00:00», прикроватные часы, подняла голову и почти что слепо посмотрела в окно – черное небо, далекие облака, ночь.
Ей бы поесть. И ноутбук.
Поесть не срочно, а вот ноутбук срочно. Или наоборот. Но в битве желаний голодного желудка и логики, победил рациональный мозг – сначала ноутбук.
– Хло, ты спишь?
Чужая спальня почему-то казалась неуютной. Темной, мятой и слишком душной.
«Поставила бы тоже вентилятор, ведь не продувается же…»
Из-под простыни не донеслось ни звука – только ровное сопение; чужой ноутбук стоял на столе.
– Хло, я возьму твой ноутбук? Хло… Мне ненадолго.
Возня на кровати, недовольный стон – чего, мол, разбудила?
«Надо было купить свой. Ведь давно хотела», – попрошайничать было обидно.
– Хло, компьютер твой возьму? Эй, проснись.
Простынь сдвинулась, показалась взлохмаченная голова – неестественно черная на белом. Остатки красной помады светились даже в темноте – как она умудряется ее не съесть за день? Или красит губы на ночь?
– Алька, ты?…
– Да. Ноутбук дай.
– Блин, свой надо иметь, – хрипло раздалось в ответ. – Тебе чего, в чат? Познакомилась, что ли, с кем?
Алеста почти обиделась. Почти. Но перед глазами стояли расшифрованные и записанные в блокноте координаты, и полноценная обида, как ни старалась, улечься в груди не смогла.
– Ты к Тиму хочешь или не хочешь?
Соседка моментально проснулась, распахнула черные глаза, даже приподнялась.
– А, так ты для этого? Чего сразу не сказала? Бери.
Цифры сошлись.
Все.
Не точно, но почти все – координаты коридора и неведомая, не указанная на карте дорога находились примерно в одном и том же месте.
Сошлись.
Он уехал именно по ней – по той самой гравийке, ширина и долгота которой совпадала с зашифрованными в записке данными.
Не может быть.
На секунду подобное совпадение показалось Алесте недобрым знаком, почти зловещим и почему-то неправильным; екнуло от нехорошего предчувствия сердце.
Хотя… Чего она напугалась? Ведь могла бы сегодня не ходить в кафе с Янушем, не увидеть черную машину и ее водителя, не начать преследование и никогда не узнать о наличии загадочной параллели между двумя не менее загадочными фактами. А, может, коридор только один? Тот самый, который ведет на Третий? Может, он вполне законный (просто граждане без права на переход его не видят), и именно поэтому незнакомец вместе с машиной исчез именно там?
Вот только когда он успел выйти наружу? Когда набрал код? И на какой двери, если никакой преграды она не заметила? Может, у него стоял дистанционный пульт в машине?
В новых технологиях этого мира Алеста разобралась еще не до конца, но уже научилась полагать невозможное возможным. Потому что, как она заметила, многие вещи были помечены галочкой «невозможно» лишь в ее голове, а наяву, между прочим, работали, и еще как.
Может, завтра ей сходить с Хлоей туда, к коридору? Не передавать подруге бесценный листок из блокнота, не учить, как проехать, а составить компанию? Ведь можно же просто посмотреть, просто… понять, как все устроено?
Тайна. Манящая точка в пространстве. И, кажется, скоро Аля уже что-то поймет об этом загадочном мире, о том, как он устроен, о его скрытой от посторонних глаз части – это ли не здорово?
Вот завтра обрадуется Хлоя! И ведь соберется быстро, даже не позавтракает, запросто отложит все дела и сорвется с места. Они обе, похоже, сорвутся…
«А как же работа?»
Так ведь они ненадолго – это ее соседка пойдет туда «насовсем», а Алька только посмотрит, всего-то одним глазком. Потому что не успокоится, пока не узнает, что это за место такое – «80'128'79.2», потому что не сможет спать, если не поймет, где вводится ключ, потому что…
Любопытство. Оно однажды ее погубит.
На душе скребли кошки, на душе неспокойно. А за окном ни ветерка, ни прохлады, ни шелеста застывшей в ночи листвы.
Нужно как-то заснуть.
* * *
Раньше люди были сильнее, их нервы крепче, а принципы устойчивее. Раньше была тяга к жизни, несгибаемая воля, желание бороться, несмотря на препятствия. А сейчас?
С каких пор ему приходится мотаться на Второй (на Второй!), чтобы избавить бедолагу по имени Джек Лингли от жизненного бремени, которое из-за увольнения с работы стало тяготить того слишком сильно? Ему сказали: «вали отсюда»? Свободен? А он сразу же решил, что дальнейшая судьба никогда не засияет радужными красками?
Идиот. Слабак. И хорошо, что ушел, потому что сколько таких вот «нет» стоит на пути к любой цели? Десятки, сотни? А этот спекся от одного-единственного – туда ему и дорога.
Ладно бы из-за разбитого сердца, хоть как-то можно понять.
Баал ругался всю дорогу до дома.
А еще это такси… Какого ляда оно следовало за ним почти до самого служебного квадрата? Кто в нем сидел – какая-то девчонка? Вероятно, спутала его со своим дружком, попросила водилу «догнать». Мда.
Нет, он не убегал, просто фыркал, глядя в зеркало – знали бы, кого они пытаются догнать. Его, Баала, люди хотели видеть в последнюю очередь.
Дурацкий день, не проблемный, но тяжелый.
А дома ждал чемодан с оружием, которое нужно было почистить: пистолеты, ножи, два короткоствольных автомата. Хорошо бы еще протереть меч…
Когда Регносцирос налил чашку крепкого кофе, разложил чемодан и чистящие средства на столе, воздух в комнате позади дивана зазвенел – он знал этот звон. Так в его дом приходил только один гость – телепортер отряда специального назначения – Бернарда Дамиен-Ферно, дама Великого и Ужасного Начальника.
А заодно и его друг.
Да, вот так странно, но лишь к присутствию всего одной женщины Баал относился толерантно и даже с некоторой долей радости – к ее, Бернарды.
– Заходи, – бросил он, не оборачиваясь, – садись. Кофе на кухне и горячий, если хочешь.
Кто-то бы решил, что с ней он «душка» – как бы не так. Просто помнил и ценил ту помощь, которую эта девчонка однажды ему оказала, избавив от многодневной душевной боли [2].
– Привет. Не занят?
– Для тебя – нет. Для всех остальных – да.
Она смешливо фыркнула из-за дивана и сразу направилась прочь из комнаты. Вернулась уже с чашкой кофе, подвинула чемодан в сторону, выставила на стол печенье.
Удивительно, но он был ей рад.
Динка. Девчонка из другого мира – с ней он мог поговорить. Не потому что умная, не потому что питал какие-то чувства, помимо дружеских, – просто она слушала и умела слышать. А это редкость.
– Как живется?
Он взглянул на нее коротко. Все, как обычно: русая челка набок, серо-синие веселые глаза, чуть задумчивый вид. Одета легко, по-летнему – значит, из дома, не из других миров. А то бывало всякое – придет, на плечах куртка не по погоде, и даже пахнет иначе.
– Нормально. Дрейк скоро собирается уезжать в какую-то командировку. Нагрузил нас с Тайрой заданиями, лекции читает, нудит.
– Значит, командировка серьезная. Дрейк не нудит понапрасну.
– Знаю.
Они помолчали. Он разбирал пистолет, она прихлебывала кофе, смотрела в сторону незажженного камина, думала о своем. Затем встрепенулась:
– А у тебя как – все «провожаешь»?
– А то.
Как будто было еще кому. Динка была единственной, помимо Дрейка, кто, кажется, всерьез уважал его профессию. Наверное, потому что понимала сложность процессов, потому что сама занималась подобным – работала с материей. А душа – материя тонкая, тоньше некуда.
В комнате снова повисла тишина. Иногда Баал не знал, зачем она приходила, но никогда не задавал дурацких вопросов – пришла, значит, захотела с ним посидеть. Принесла тему для разговоров, значит, вывалит, а нет – так просто помолчит – он не против. Даром, что женщина, зато собеседник хороший. И Ди, наверное, единственная, кто по-настоящему умеет любить – ему делалось в ее компании теплее.
Правда, в этом Баал не признался бы и под пытками.
Судя по затянувшейся тишине, особенных тем для разговоров гостья в этот раз не приберегла – Баал внутренне расслабился. Иногда он напрягался, когда думал, что у него могут спросить умного совета, а он подведет, не найдется с ответом. Глупый страх, беспочвенный.
– Слушай, ты слышал про эти будки «Вторая половина»?
– А кто про них не слышал? По-моему, половина населения городов в них уже побывали.
– Не скажи, некоторые боятся.
– Может, не боятся, а уверены в собственном выборе?
– Может, и так.
Паста для чистки выдавилась на тряпочку ровным червячком; руки принялись привычно втирать ее в длинное, покрытое пятнами лезвие.
Динка улыбалась. Ей одной, как он понял, было комфортно в его компании и отделанном в темных тонах жилище – хватало внутреннего света.
– А на днях туда сходила Клэр. Захотела убедиться, что Антонио – ее судьба.
– Зачем? Сама себе не верила? Или ему?
– Нет. Наверное, просто захотела увидеть, что все так, как она считает, что все правильно.
– Значит, сомневалась.
– Нет, бывает, людям просто приятно увидеть подтверждение.
– Не знаю. Может быть. Убедилась?
– Да. Экран высветил шеф-повара Рена, после чего она, счастливая, пошла в магазин кухонных товаров и принадлежностей, купила самый дорогой белый колпак и расшила его изображениями пирожных.
– Идиотизм.
– Да не идиотизм, а романтика.
– Любовь делает людей дураками.
– И это ли не здорово? Что можно, наконец, скинуть эту серьезную маску с лица, расслабиться, дать волю чувствам и побыть раскрепощенным?
– Главное, не заигрываться.
– Главное, не бояться заигрываться.
Как обычно. Они стояли по разные стороны одной и той же темы, но не злились друг на друга – просто спорили.
– Знаешь, – Дина дотянулась до пачки с печеньем, взяла один из кругалей, утыканный шоколадной крошкой, и откинулась в кресле, – мы слишком часто пребываем в серьезности. В ненужной серьезности. Ходим с этим лицом, думаем с ним, верим, что кажемся умнее и неуязвимей.
– А на деле?
– Да ну бы его нафиг – это лицо. Правильно говорил Мюнхгаузен: «Все глупости на земле совершаются именно с этим выражением лица…»
– Это кто – философ?
– Почти.
Регносцирос промолчал, но мысленно согласился с неизвестным ему мыслителем – люди часто слишком серьезны и принимают все близко к сердцу. Потому что строят долгосрочные планы, потому что не осознают собственную смертность – только некоторые и в теории, – потому что копят богатство, которое не смогут забрать с собой. Ни монеты, ни слитка, ни куска стены от квартиры, в которой живут.
– Я знаешь, о чем подумала?
– М-м-м?
Тикали часы; меч стал почти как новый – сталь под тряпочкой блестела, отливала в тусклом комнатном свете желтым и коричневым.
– Хочу взять отпечатки пальцев одного знакомого и отнести их в будку.
– В какую из?
– Ну, в ту самую – по поиску второй половины.
– Хочешь взять их без его разрешения?
– Да. И посмотреть, есть ли кто-то на свете для него?
– И, даже если есть, дальше что? Займешься сводничеством?
– Думаешь, это плохо? Ведь Дрейк часто вмешивается в судьбы, и он не всегда не прав.
Баал хотел сказать, что Дрейк всегда прав, но на то он и Дрейк, чтобы знать, куда вмешиваться, а куда нет. Однако тактично промолчал – вдруг Ди обидится?
– Ты, конечно, можешь, так сделать, – он отложил меч и принялся за пистолет – притянул чемодан, достал из него Кольт, принялся разбирать, – вот только в случае вмешательства ты примешь ответственность за течение его судьбы на себя.
– Но ведь мы каждый день вмешиваемся в чью-то судьбу?
– Неосознанно.
– Большая разница?
– Ты и сама знаешь.
Дина отвернулась, вздохнула. Иногда она бывала «девчонкой-девчонкой», как он ее про себя называл. И не смотрите, что дама, не смотрите, что статус высокий, не смотрите на умения. Девчонка. С вечно добрыми желаниями, сияющими радугой идеями, верой в хорошее.
– Почему ты не хочешь попросить Дрейка? Или спросить его совета?
– Не в случае с этим человеком – он откажет.
– Да что же это за человек такой? Я его знаю?
– Знаешь. И если назову имя, откажешься говорить со мной тоже.
– Заинтриговала. И что, собираешься втихаря ему найти вторую половину?
– Думаю об этом.
– Я тебя предупредил.
– Я тебя услышала, – она помолчала. Какое-то время смотрела в свою кружку, потом на чемодан, на пистолет в его руках. Затем спросила как-то по-детски, беззащитно. – Скажи, а ответственность за чужую судьбу – это сложно?
Регносцирос временно отложил оружие, потер глаза. Все-таки она пришла за советом, за глубоким неоднозначным советом. Вздохнул. Долго думал, прежде чем открыть рот:
– Ты ведь сама сказала, что мы во что-то вмешиваемся каждый день, так?
– Да. А ты сказал – «неосознанно».
– Вот так и тут. Даже если ты будешь думать, что делаешь это осознанно, не уверен, что ты действительно будешь осознавать, какие процессы запустишь.
– Значит, мне удастся избежать «кармы»?
По ее лицу растеклась хитрая улыбка.
– «Кармы» никому не удается избежать. Просто с глупого и спрашивают меньше, чем с умного, а ты, если возьмешься за это, будешь глупой.
– Значит, можно?
Она улыбалась так искренне, так широко, что Баал смутился и пожал плечами.
– Это твое решение.
Бернарда шумно втянула воздух, кивнула в ответ каким-то своим мыслям и принялась жевать печенье.
Тьфу. Лучше за нож, безопаснее, потому что, кажется, он только что подписал кому-то «любовный приговор».
* * *
Вообще-то обычно она говорила мало, все больше молчала, а тут, как прорвало – шла и тараторила все, что шло на ум. Волновалась, нервничала – лишь бы не молчать.
– Я ведь не знаю, что там… А, может, и не найдем? Может, это шутка какая была в записке? Может, там заслон, стена, и должна быть дверь… Куда-то ведь код вводить надо, а я не видела никакой двери. И стены не видела. И вообще…
– Аль.
На этот раз молчала Хлоя. И только изредка, чтобы прервать никчемное словесное излияние, повторяла короткое, чуть укоризненное «Аль». И умолкала вновь.
До поля они добирались почти два часа. А все, потому что на перекладных, на странных незнакомых маршрутах, потому что на такси нельзя – какой адрес назовешь водителю, если адреса не существует? Да и опасно, наверное. Вот и слонялись от остановки к остановке – то на транспорте, то пешком, постоянно сверялись с мятой картой, на которой Алеста сделала пометки.
К тому самому повороту, за которым начиналась прямая, «слизнувшая» накануне черный автомобиль, добрались, когда закат почти догорел – еще минут пятнадцать, и на горизонте погаснет последний всполох, стемнеет.
Вокруг густо пахло листвой и почвой; кукуруза стояла себе, нетронутая, изредка шевелила листьями, шуршала стеблями; жаркий день превратился в такой же жаркий безветренный вечер. Душно.
Про встреченного вчера незнакомца и про свой интерес в этой истории Алеста упоминать не стала – ни к чему. Пусть Хлоя думает, что соседка вызвалась помогать по доброте душевной. Или по глупости. Да ей, наверное, и не до того – размышляет, как там Тим, что сказать при встрече, как себя повести, как объяснить скорое появление на Третьем. Мозги у подруги работали так натужно, что Але мерещился их скрип; хрустела под ногами щебенка.
– Долго еще?
Они продолжали шагать по той самой «прямой».
– Я не знаю.
Хлоя вырядилась, как на парад – при прическе, при макияже, на высоких каблуках, с объемным рюкзаком, куда сложила свои лучшие вещи – сразу видно, собралась не на день, не на два – жить.
«А если она вообще его не найдет, Тима?»
Тратить время на мысли о том, через какие душевные терзания пройдет в этом случае почти уже бывшая «соседка», не хотелось – хватало собственной нервозности.
Где же эта стена? Где дверь? Где-то здесь ведь должен находиться коридор – как он может выглядеть? И как они найдут его, если совсем стемнеет? А впереди только дорога, по бокам поля, и все такое пасторальное, обычное, мирное, без… необычностей.
Еще десять метров вперед, еще сто, еще двести; а сумерки все гуще.
А что, если они вообще его не найдут – тайный ход? Наверное, Хлоя напьется с горя, наверное, будет ходить кругами и донимать Алесту упреками и видом смазанного от слез макияжа, мол, я тебе верила, а ты!..
Плохо быть авантюристом, когда ни ума, ни точных данных, одни лишь предположения и совершенно ненаучный интерес. А ведь она так и не прояснила вопрос о том, что случается с теми, кто совершает Переход без разрешения – хотела почитать об этом в местной Конституции, но сходу не нашла таковой и время на более глубокие поиски не выкроила – зря.
Ладно. Она ведь только посмотрит, ведь не собирается же на Третий «переезжать»? Ну, может, сходит туда раз или два, погуляет по незнакомым улицам и вернется. Будет жить в квартирке одна и знать, что у нее за пазухой имеется тайна – не какая-то примитивная, а самая что ни на есть настоящая. И эта мысль будет греть ее одинокими вечерами, когда вокруг тихо, когда стучит по кленовым кронам дождь. А всколыхнется любопытство, так и позволит себе сходить на запретную территорию еще разок-другой. Кто знает, вдруг встретит того черноволосого?
«А Януш, наверное, обиделся…»
Может, где-то нужно свернуть в листву? Может, мы давно пропустили нужный поворот? Но ведь вокруг ни примятых шинами стеблей, ни просеки…
Отрывочные мысли и ответы без вопросов так и слоились бы в голове, как коржи блинного торта, если бы в этот момент не случилось странного – шагающая чуть впереди с опущенной головой Хлоя вдруг ойкнула, зашипела от боли, резко остановилась и принялась тереть лоб.
– Я обо что-то ударилась. Прямо башкой, блин!
Алеста мысленно возликовала; взволнованно заколотилось сердце – это оно!
Вперед она двигалась медленно – шаг, другой, третий. А, миновав подругу, наткнулась вытянутой рукой на то, что искала, – на упругую и совершенно невидимую глазам преграду.
Они добрались до стены.
А она ведь знала… знала. Каким-то образом чувствовала, что все правда. Что Комиссия – те еще жуки, что их технологии такое позволяют – создать невидимый барьер, а в нем дверь.
Дверь.
Где же она?
Алеста водила перед собой ладонями – стена по всему периметру ощущалась одинаковой и вперед не пускала: глазами смотришь – прозрачная поверхность, а попытаешься протолкнуться, так и мягко спружинит. Мда, задачка.
– Аль… Аль!
– Что?
– Смотри!
– Куда? Я дверь ищу, темнеет уже. Если не найдем…
– Да вот же она! – оказывается, Хлоя, пока Алька тыкалась, как слепой котенок, в преграду, отошла на несколько шагов назад и теперь взирала на барьер чуть издали. – Когда ты касаешься, она светится.
– Где именно?
– Да вся светится. Это все – и есть дверь.
– Думаешь?
Хлоя оказалась права. Они поменялись местами, и теперь Алеста своими глазами сумела различить в сумерках очевидное при касаниях свечение.
– Точно. Это все – она. Но куда вводить код?
Приделанная к столбику сенсорная панель отыскалась несколько мгновений спустя – в кукурузе, скрытая листьями: девять кнопок, решетка, линия и звездочка – мелкий пульт управления.
«И когда Бог Смерти успел выйти из машины и ввести данные? – мелькнула быстрая без вопросительного подтекста мысль. – Да он не вводил – в машине пульт, не иначе».
Вот почему автомобиль сразу пропал, не сворачивая, вот почему…
– Ты скоро? Давай уже, столько шли, не могу больше ждать!
Теперь волновалась и ерзала на месте Хлоя, а вот Алька – та самая Алька, которая торопилась, нервничала и все куда-то спешила, – вдруг замедлилась, засомневалась.
– Слушай, я введу, и что – ты, правда, пойдешь?
– Ну, конечно, пойду! Я же столько ждала!
– Не боишься?
– Это ты у нас вечно чего-то боишься.
– Лучше бы поблагодарила, – вдруг накатила какая-то детская безосновательная обида – мол, я ведь столько для тебя сделала! – Может, не увидимся больше? А ты ни разу «спасибо» не сказала.
Упрекнула и устыдилась. Хлоя ее когда-то из воды вытянула, жизнь спасла, место на Уровнях обеспечила.
– Аля, спасибо!
И в этом спасибо не было никакого «спасибо». А только «ну, пожалуйста, быстрее!»
Алька вздохнула.
Последовательность цифр она помнила наизусть. Вот только бы решить – она сама-то туда пойдет? Наверное, нет. Или только чуть-чуть, если недалеко, чтобы посмотреть, где кончается сам коридор. Ведь не длинный?…
Нажимаемые кнопки под пальцами засветились. Она касалась – они зажигались, а после гасли.
Интересно, не ошибся ли тот человек, который писал записку? И кому он ее писал, для чего? Может, был в той тайный смысл и конкретный адресат, а она…
Мысль оборвалась, потому что Хлоя, которая все это время держалась (уже в полной темноте) за стену, вдруг хрипло произнесла:
– Ее нет. Исчезла.
– Что?
Во рту моментально пересохло; записочный «доброжелатель» не наврал – код сработал.
– Стена исчезла – путь свободен!
И подруга, несмотря на высокие каблуки, с радостным криком подпрыгнула и издала длинное «У-у-у-ух!»
Пульт теперь светился равномерно, будто ждал.
Интересно, у прохода есть срок «открытости»? Должен быть, ведь не навсегда…
– Ты идешь?
Налетел откуда-то прохладный ветерок, прошелся по верхушкам растений, как по океанским волнам, заколыхал посевы; Алька поежилась.
– Идешь или нет?
В голосе теперь уже точно бывшей соседки слышалось откровенное нетерпение.
– Иду. Наверное.
– Боишься?
– Не боюсь.
Алька врала.
Она боялась, и сильно.
* * *
Гул невидимых сирен взвился спустя двадцать шагов – она считала. И только затем уже возник, будто из ниоткуда, шорох шин, машины, ослепительный свет прожекторов и они – люди в серебристом.
Сердце теперь колотилось испуганно и вяло, будто уже сдалось, таким же вялым сделалось вдруг сознание и тело.
Через проход было нельзя…
Нельзя.
Она знала, но интуицию не послушала… Какая теперь разница?
Появлению Комиссии жмурящаяся от слепящего света лучей Алька почему-то почти не удивилась.
Глава 9
Суд промелькнул перед глазами, как обрывок сна.
Кажется, суд был нереальным.
«Вход на воспрещенную территорию… Умышленный взлом системы Комиссии… Попытка совершения Перехода без разрешения…»
А вот камера была реальной.
И время в ней тянулось очень даже реальное – долгое, липкое, тягучее, какое-то бесконечное.
Не камера – кладовка: два метра до противоположной от кровати стены, еще два от входной двери до «задника». Клоповник. Чистый, почти стерильный, совершенно без мебели, если не считать жесткую лежанку и единственный, стоящий в углу стул.
Одна фраза, произнесенная холодным равнодушным голосом, звучала в Алькиной голове особенно часто – «приговаривается к покиданию Мира Уровней через дематериализацию».
Дема-те-ри-а…
Какое сложное слово – что это? Это значит, что Альку разберут на части? Перед смертью разложат на молекулы, атомы, распылят? Зачем? Не проще ли пристрелить…
Ее трясло. Она спала. Иногда, кажется, бредила – не потому что спятила, потому что боялась. Смерти. Чтобы вытолкнуть обратно в Равнины, ее должны будут убить. Когда, скоро? Какой метод используют? Сколько ждать? Может, ее посадят в страшное кресло, привяжут к нему, а по проводам пустят электрический ток? Может, повесят? Как тут принято казнить преступников?
А ведь она не преступник, она сделала по тому коридору только несколько шагов, она вообще…
Да есть ли теперь разница?
Проблема даже не смерти «теперь», а той, которая случится сразу после – настоящей. Как долго она продержится на Равнинах без оружия? Сумеет ли выйти к границе? Навряд ли. И вот тогда мать потеряет дочь по-настоящему, уже навсегда.
Время все тянулось и тянулось; в какой-то момент погас свет – ночь.
А ей было жаль себя. Не себя даже – той жизни, которую она так и не увидела: не успела толком привыкнуть, прижиться в этом мире, не успела вдохнуть, насладиться, «побыть». Так и не познакомилась ни с кем стоящим: не смеялась, не обнимаясь, не кружилась в танцах, не задыхалась от любви… Она вообще, кажется, ее – любовь – потеряла. Всю способность. Сразу и целиком.
Ночь тянулась долго. Слишком долго.
В редкие моменты сна, когда она, нервная и измотанная, умудрялась в него соскользнуть, ей мерещился длинный белый коридор и собственные шаги – все, это конец. Там, на выходе, случится ее последний шаг – шаг прочь из жизни, прочь из тела, – и Алька, вздрагивая, просыпалась.
Снова в кромешной тьме сидела на кровати и смотрела прямо перед собой.
Ее морозило. Иногда кидало в жар.
Иногда приходили вялые мысли о Хлое, но тут же ускользали прочь. Теперь не до Хлои, теперь навряд ли увидятся.
А в какой-то момент дверь «клоповника» открылась.
* * *
Он не уставал поражаться – «Уровень 2. Правонарушение: взлом системы, попытка несанкционированного Перехода».
Перехода куда – на Третий? Они что, там все сбрендили? Уже со Второго ломятся, как крысы с тонущего корабля, а ведь только пришли, только попали в новый мир. Люди. Не люди – людишки, не умеющие ценить того, что имеют, – жадные до нового и «побольше» стяжатели.
Так им и надо. И ведь еще девка… Баал бы проплевался – ему казалось, что в рот попал деготь – он ненавидел «малолетних» преступниц.
«Сейчас одной из них станет меньше».
Дверь в указанную камеру отворилась беззвучно; тот, кто сидел на кровати, съежился.
Когда он включил свет, пленница, было, подалась вперед, а на ее лице застыла мольба, которую он видел много раз – «пожалуйста, только быстро, только без боли…», а потом… она рассмотрела его, и ее огромные затравленные до того глаза сделались в пол лица, рот приоткрылся.
В этот самый момент он узнал ее тоже.
Не запнулся, не изменился в лице, ничем узнавания не выказал. Но в груди что-то дрогнуло, а привкус дегтя во рту усилился.
– Ты?
Его встречали по-разному. Со скулением, со страхом, в панике, в желании забиться подальше, но никогда с удивлением. И еще почему-то с облегчением.
– Ты.
Он не верил собственным глазам – она радовалась. Чему? Тому, что за ней пришла смерть? Или тому, что смерть пришла в виде огромного патлатого мужика? Нет, таких сумасшедших он еще не встречал. А потом скользнула странная мысль: «Может, она не забыла?»
Быть такого не может. Все забывают.
Жаль, что не забыл он.
Всегда знал, что не нужно никому помогать, что не нужно впрягаться, не нужно брать ответственность за чью-то судьбу. Взял? Сделался «провожатым» ее жизни? Вот теперь придется провожать к смерти, обратно на Танэо.
Регносцирос оглядел крохотную камеру, нашел единственный, стоящий в углу стул, выдвинул его, оседлал. Сложил руки на спинке, протяжно вздохнул, отвернулся, долго смотрел в сторону.
От девчонки почти не пахло страхом. От нее пахло любопытством, удивлением и… надеждой. Зря. Зря она не прижилась здесь, ведь он дал шанс, поручился за нее; зря так быстро переступила закон, зря не приняла новые правила, чем сократила себе многие годы жизни. Почти бесконечные годы там, где не стареют, где так просто не умирают.
Ему почему-то было грустно. Без проблем – он сделает, что должен, уведет и ее – просто, получается, зря радовался, что сделал кому-то добро, что помог тогда, подарил вторую жизнь. Зря не оставил ее в Равнинах.
Все зря.
Он перевел взгляд обратно на девчонку и вновь удивился ее взгляду – та смотрела на него с теплотой – так смотрит на долгожданного, приехавшего из города внука деревенская бабушка. «Тебе еще пирожков? Ты съешь, внучек, съешь, родненький…»
В памяти всплыл какой-то другой далекий и совсем забытый мир.
И взгляд этот ощупывал его жадно и почему-то ласково; Баалу сделалось не по себе – так смотрят на найденный перед смертью клад, на осуществившуюся мечту, на внезапно исполнившееся заветное желание.
Бред. Он не мог быть ничьим заветным желанием.
Она просто сумасшедшая, а ему надо приступать к процедуре. Вот сейчас, да, сейчас – он только посидит минутку, соберется с мыслями и начнет.
* * *
(Marina And The Diamonds – Valley of the Dolls)
Она действительно радовалась.
А перед глазами вертела задом-хвостом непростая судьба – нет, это же надо было столько пройти для того, чтобы встретиться вновь. Думала, догонит на такси, отыщет, навестит, а оказалось, чтобы навестил он, стоило один раз переступить закон. Кто же знал?
Ей почему-то стало легче. Что пришел не один из этих равнодушных в серебристой куртке, не кто-то чужой, а он – почти что «родной», почти что знакомый. И пусть она до сих пор не знает его имени, но он не убил ее однажды, и тем самым как будто искупил все свои будущие грехи. Ну, почти все. И если убьет теперь – значит…
Алеста вздохнула.
Вот только лучше он, чем кто-то другой.
Наверное, она бредила. Но ей было тепло – радовала маленькая удача в самом конце пути.
Она нашла, кого так долго искала – вот так глупо, но нашла, и теперь, прежде чем покинуть этот мир, она успеет сказать ему «спасибо».
Сидящий на стуле мужчина молчал.
Кто он – приводящий в исполнение приказ палач? Скорее всего. Ей впервые в жизни удалось как следует рассмотреть Бога Смерти: жесткое лицо, гладко выбритый подбородок, бездонные черные глаза, широкие брови. Тогда, на Равнинах, было не до того – тогда звенела сталь, тогда сбивалось дыхание, тогда они были врагами (она была), а он отбивался. Не дал убить ее «панцирным», не зарезал сам, отнес к бабке в домик. Интересно, что он делал там, на Танэо?
– А зачем ты приходил в Равнины?
Спросила тихо, и глаза гостя – всего на мгновенье, на долю секунды, – расширились в изумлении. Да, он тоже не думал, что она помнит, а она помнила.
– Ты часто там бываешь?
Мужчина не ответил, и Аля устыдилась. Наверное, она ведет себя странно, спрашивает не о том, но ей хотелось поговорить. Сколько у нее времени в запасе? Минута, две, десять?
А какие у него густые волосы. Гуще, чем мои…
– Мне все равно умирать, знаю, ты просто… поговори.
Она смущенно потерла лицо.
– Это ты будешь… приводить приговор в исполнение, да?
Тишина. Они оба почему-то молчали.
Каратель смотрел на нее странно, будто с упреком. Будто немо говорил: «Что же ты? Я тебя сюда переселил, помог когда-то, а ты…»
– Лучше ты, – попросила она тихо. И, глядя в сторону, добавила. – Чем они.
Показалось или нет, гость неслышно вздохнул, опустил голову, стал смотреть на собственные ладони, изучать их.
Хорошие ладони, настоящие, мужские.
Повезло ему с внешностью. Жаль, не встретились при других обстоятельствах.
Вернулась печаль, вернулся страх, а вместе с ним и горечь – последние минуты ее жизни. В который уже раз… Но ведь есть эти последние минуты, так почему бы не спросить о важном, пока еще есть шанс?
Алька не знала, как обратиться к нему – к гостю, – какое-то время лишь открывала и закрывала рот – не скажешь ведь «дядя»?
– Послушай… – на нее вновь тяжело и невесело взглянули черные глаза, – а у тебя есть карта?
Какая карта?
Вопрос прозвучал немо, без слов.
– Карта Холодных Равнин. Ведь после смерти здесь я окажусь там, да? Я не выживу без карты.
Из обрамления густых волос на нее смотрела застывшая маска.
– Там… кошки. Может, есть оружие? Ты можешь мне дать с собой хотя бы нож? Я умру там. А мне не хочется умирать два раза. Не так быстро.
Она грустно улыбнулась.
Как это странно – просить об одолжении собственного палача.
– Так есть у тебя карта?
Тишина длилась и длилась, тишина давила. Казалось, гость размышлял о чем-то своем – невеселом и по-вселенски тяжелом, тонул в думах о вечном. Наверное, ему уже пора приступать к исполнению, наверное, он полагает, что она тянет время; Алька встрепенулась. Если она не скажет ему «спасибо» теперь, то не скажет уже никогда – не успеет.
– А знаешь, я ведь из-за тебя оказалась здесь.
Она улыбнулась снова – на этот раз почти весело.
– Да, здесь, – кивнула, когда увидела в черных глазах секундное удивление, – в этой камере. Я бы ни за что не пошла на Третий, но вчера увидела тебя в Ринсдейле возле кафе. Не думала, что вообще увижу… Я поймала такси, сказала, чтобы водитель следовал за тобой, а ты… твоя машина… в общем, она просто исчезла на том поле. И я пошла туда. Думала, перейду… схожу сюда, отыщу тебя…
– Зачем?
То было первым словом, произнесенным вслух, и Алеста поежилась от хрипотцы и странной интонации, которую услышала в нем.
– Я, – она смутилась окончательно, – я просто хотела сказать тебе «спасибо». За все, что ты сделал для меня. Тогда. Давно.
Челюсти мужчины сжались, он вновь перевел взгляд на собственные руки.
Она сказала что-то не так? Сделала что-то не так?
А может… От пришедшей в голову мысли Альке вдруг сделалось не по себе – может, он не помнит ее, забыл? А она рассказывает ему, что все, что случилось, случилось «из-за него», практически обвиняет в случившемся.
– Прости, – ей стало холодно и неуютно. – Я не знала… что все окончится так. Здесь. Прости.
Повторила. И тоже отвернулась к стене.
Наверное, ему пора начинать?
* * *
«Спасибо».
Она только что сказала ему «спасибо».
Почему-то не забыла, все помнила – сознание Баала разъезжалось в стороны.
Убить. Он просто должен ее убить, как и остальных, – она задание. На сегодня, вероятно, будут и другие задания, он должен успеть вернуться, пройти через ось, «прошвырнуться» по другим Уровням – работа не ждет.
«Спасибо».
Это недолго. Загасить ее разум, проводить душу обратно; он почему-то не двигался с места, сидел на стуле, как приклеенный.
Она здесь из-за него? Совпадение.
«Если бы не ты, она не оказалась бы в камере».
И на этом Уровне. Вообще на Уровнях.
Хотелось скрежетать зубами. Что-то не сходилось, расплывалось, рушилось, собиралось в неверной последовательности – все просто: он должен подсесть к ней на кровать, заглянуть в глаза, усыпить разум.
«Увидела тебя у кафе в Ринсдейле…»
Черт, да, он был там вчера – забирал какого-то хлюпика. И даже помнил, как какая-то полоумная все кричала: «такси-и-и!», да так громко, что у него закладывало уши, а потом в этом самом такси следовала за ним до самой «служебной» зоны.
А теперь она сидела в камере на кровати. Готовая умереть за свои грехи, попросившая напоследок карту. Или нож.
Ее сердце затихнет через несколько секунд, тело обмякнет. Его заберут чистильщики – расформируют, дематериализуют, перебросят обратно – он проводит душу.
Алеста Гаранева.
Теперь он знал, как ее зовут. С разумом будто в дымке, он поднялся со стула, тяжело поправил плащ за спиной – зачем вообще сегодня его одел? – пересел к ней на кровать. Хрипло произнес:
– Больно не будет.
Она сидела – маленькая и сгорбленная, – смотрела в сторону, какое-то время морально готовилась. Затем повернула к нему бледное лицо, кивнула. И… взяла его за руку.
– Я подержу, ладно? И ты… меня подержи. Тогда не так страшно.
Ее холодные пальцы держались за его, как за спасительный плот.
«Подержи. Не так страшно».
Она цеплялась за собственного палача, странным образом доверяла ему.
Лучше ты. Чем они.
У Баала внутри что-то двоилось. Он все никак не мог сосредоточиться, смотрел «жертве» в глаза – в распахнутые, покорные, ожидающие смерти глаза – и все никак не мог начать. Не мог понять ни себя, ни собственных чувств.
– Это работа.
– Она – своя.
– Она не твоя лишь потому, что ты ее когда-то спас.
– Она – та самая девчонка с Равнин.
«Вы дадите мне нож? Там кошки…»
Да, там были кошки. Много кошек. Он оборвет ее жизнь здесь, они – там. Сколько понадобится времени – несколько минут? В лучшем случае часов…
Блестящие зрачки, радужки кофейного цвета, бледная кожа, тихое, почти неслышное дыхание.
– Она не преступница.
– Она – задание.
– Она умрет на Танэо.
– Тебе нет до этого дела.
Но почему-то есть дело до руки, которая сжимает его пальцы. Еще никто никогда не сжимал его пальцы перед собственной смертью, вверяя себя целиком и полностью.
Ты можешь.
Тишина.
Ты должен.
Тишина.
Делай уже, мать твою!
И Баал вдруг чертыхнулся – нет, он не мог! Резко поднялся с кровати, зашуршал длинным плащом, заходил по комнате и рявкнул: «Пошли отсюда!» так громко, что Алеста скукожилась на кровати.
– Пойдем, я сказал! Дважды повторять не буду.
И она, крайне напряженная, будто сделанная из пластика, негибкая, поднялась с кровати, выпрямилась, отрешенно посмотрела на него – решила, что он решил сменить антураж перед «убийством», – пошла.
Баал рыком распахнул дверь камеры.
* * *
Он не демон, он дерьмо собачье.
Сопливый слабак с человеческой душой – с ее ошметками.
Убить не смог? Дожился. Пощадил тогда, пощадил сейчас – что с ним станет дальше? Начнет ходить к злоумышленникам с платочком, вытирать им сопли, выслушивать про трудный жизненный путь? А после хлопать по плечу, говорить: «да, не повезло тебе, мужик/баба, крепись»? Может, еще пить начнет с ними вместе? Или колоться?
Она не злоумышленница.
Да начхать. Она – задание, которое он только что не выполнил, которое везет через дождь в собственной машине прочь от Реактора.
«У тебя на каждого клиента двадцать четыре часа» – ага, время еще есть.
Он очехренел, лишился остатков разума.
Пока Регносцирос поносил самого себя на чем свет стоит, Алеста – от шока и еще не случившейся смерти молчаливая – смотрела в окно. Не то на стекающие по стеклу капли, не то на мокрый городской пейзаж.
Она не спросила ни «куда едем?», ни «большую ли я получила отсрочку?» – вообще ничего не спросила. Шла за ним через коридоры Реактора, через этажи, а он делал вид, что так и надо, что он ведет ее «по делу», кивал знакомым ребятам из Комиссии.
«Что скажет Дрейк?»
А Дрейк вообще может ничего не узнать, если он не скажет, если увезет ее из зоны слежения маяков.
Сдурел. Он точно окончательно сдурел. Мысленно ругался, вел машину, а сам думал о том, что она так и окажется там, на Равнинах, в этой одежде – в этой бежевой длинной юбке, легкой белой блузке, в шлепках-сандалиях на босу ногу. А там снег.
Дай ей карту… Дай ей нож. Да на кой ей этот нож? Не спасет. Даже его бы не спас.
Щетки растирали по стеклу мокрые потоки, а сверху лилось так, что не видно дороги.
Ну и куда ее?
Ответ очевиден – только в загородную хижину, на окраину четырнадцатого, через несанкционированные порталы, через сигнальные зоны, через посты. Надо было уж тогда через Реактор… Черт.
– Сейчас мы заедем в одно место, я вынесу тебе кое-что, выпьешь. Потом поедем дальше.
Пассажирка, не поворачиваясь, кивнула. Интересно, если он вынесет ей яду, она все равно выпьет? Не будет же он рассказывать ей о том, что собирается напоить лабораторной сывороткой, которая на время гасит «идентификатор» тела – путает систему слежения Комиссии подменой химического состава крови? Действие сыворотки продлится несколько часов, за это время он успеет вывезти Алесту с Третьего.
Он рехнулся. Окончательно и бесповоротно.
Баал, не отрывая взгляда от дороги, устало потер подбородок.
Может, пойти к Начальнику, рассказать ему эту историю, как есть, без прикрас, и выслушать мудрый совет? Дрейк, скорее всего, девку заберет; отправит назад или не отправит – уже будет решать сам, но Баал тогда от всякой ответственности освободится. Причем выйдет из ситуации чистым, «справедливым» и не солгавшим.
Подумал. Посмаковал идею. И разворачивать машину почему-то не стал.
* * *
Она живая или уже мертвая?
Живая, если чувствует запах кожи салона, что с улицы пахнет дождем, если все еще способна слышать и видеть. Надолго ли?
Алеста потерялась во времени и пространстве: за окнами плыли незнакомые улицы, из-под колес разлетались брызги, сквозь лобовое стекло заглядывало серое и вспененное, как рельеф застывшего океана, небо. Желудок терзал голод; попытка вспомнить, когда и что она ела в последний раз, результатов не принесла – наверное, еще там, на Втором, в другой жизни.
Их было уже много – других жизней.
Ее день рождения, когда-то давно: подруги, подарки, сертификат на котенка – другая жизнь. Чердак, найденные книги, шкатулка бабушки – другая жизнь. «Загон» на работе у Хельги, голые мужики, занудные вопросы «кем хотите стать?» – другая жизнь. А еще в одной из таких других жизней Алька сидела у пруда на лавочке – о чем она попросила тогда? Чтобы планы матери не сбылись? Что ж, они не сбылись, как и ее собственные. Нужно было просить другое.
Но что?
Спросила себя, и не нашлась с ответом.
«Счастья» – явилось запоздалое откровение. Нужно просто просить счастья, в чем бы оно ни заключалось.
Водитель на нее не смотрел, но она чувствовала его присутствие кожей. Завяжи ей глаза, заткни уши и ноздри, а она все равно с точностью смогла бы сказать, что он находится рядом. А все из-за странного поля, которое его окружало; Алька никогда еще не чувствовала чью-то ауру так отчетливо: мощь, силу, тяжесть, что-то темное, клубящееся, пугающее. Оно, наверное, пугало всех других, но почему-то не ее – ее успокаивало. Может, потому что старая память: прошедшее между рукой и телом лезвие, зов расходиться, теплые руки, несущие сквозь снег, – а, может, просто потому что она устала бояться. Так или иначе, рядом с этим странным человеком она чувствовала себя куда лучше, чем с людьми в серебристой одежде или в одиночку в камере.
В нем не чувствовалось злости – вот почему; она поняла это с запозданием.
Машина ехала долго; в какой-то момент Алеста начала клевать носом. Проснулась оттого, что салон качнулся и застыл.
– Сиди здесь.
Она и так никуда не собиралась, кое-как разлепила глаза, кивнула.
Ее хмурый, как погода за окном, сосед, откинул волосы за спину, вынул ключи и вышел из машины; жестко хлопнула дверца, с улицы влетел порыв влажного свежего воздуха.
Он вернулся через несколько минут все такой же хмурый, только сухой плащ стал мокрым, и на волосах блестели капли.
– Пей.
Протянул ей стеклянную колбу, заткнутую крышкой. Маленькую, почти ампулу.
Алька повозилась с резиновой пробкой, достала ее, понюхала содержимое – то никак не пахло.
– Не яд, – рыкнул водитель.
Она и не собиралась спрашивать – выпила бы, даже если яд. Потому что так гуманней – дать человеку непонятное содержимое, добавить: «не яд», а после смотреть, как тот медленно засыпает. Хорошая смерть, не жестокая. В какой-то момент Алька даже пожалела, что это «не яд».
Выдохнула, заглотила содержимое колбы-ампулы, поморщилась – на языке стало горько.
– А теперь спи.
«Я есть хочу», – хотелось мяукнуть ей, но слова застряли в горле. Наверное, узникам не положено просить. А, может, она и правда по-тихому заснет и уже никогда не проснется?
Когда машина выехала с парковки, ее голова уже покачивалась на подголовнике, а веки сомкнулись.
Ехали долго.
Закрытыми ли или же открытыми были ее глаза, неизменным оставалось одно – дождь. Менялись улицы, пейзажи – городские и загородные, – поднималась и опадала стрелка спидометра, переключались на приборной панели цифры часов – снаружи все время лил дождь. Але начало казаться, будто он зарядил по всей планете.
Несколько раз они проезжали зоны, когда сквозь все ее тело – грудную клетку, мозги, колени и даже ступни (в последних это ощущалось отчетливее всего) – проходила невидимая тугая волна, и сразу же после этого пейзаж менялся. Еще час езды – еще волна. Затем еще. Выезжали из каких-то «служебных» секторов?
Водитель молчал, Аля молчала тоже.
Ей хотелось есть, пить и в туалет – насчет последнего она решила-таки заикнуться, и моментально получила ответ: жди.
Долго?
Нет ответа. И она ждала.
После бесконечно вьющейся сначала через горный массив, затем через ухоженные поля, а следом сквозь заросшие бурьяном степи дороги черный автомобиль, наконец, остановился. На ровном, покрытом короткой, будто ее недавно кто-то косил, травой участке, перед старым одноэтажным домом.
Еще не заглушив мотор, водитель бросил:
– Писай за домом.
Алька не стала спрашивать, есть ли там туалет или специально выделенное «для этого» место, – распахнула дверцу, едва не упала, поскользнувшись на сырой траве босоножкой, и бросилась к строению.
Дом был старым, добротно сколоченным из потемневшего от времени бруса. Моментально намокла, собрав влагу с высоких стебельков, юбка, колючка оцарапала лодыжку, но Альке было наплевать – она быстро примяла траву и уселась в ней, как наседка. Блаженно вздохнула.
Вокруг стоял туман. Такой плотный, что конец луга тонул в нем полностью – приглядывайся или нет, не поймешь, что там – овраг, степь, лес?
И пахнет так хорошо…
Последний приют. Осознав, что это место может стать ее последним пристанищем, Алеста поежилась и растеряла крохи накатившего вдруг блаженства, нахмурилась. Поднялась, поправила одежду, взглянула на сырой подол и отправилась назад – узнавать свою дальнейшую судьбу.
Он сидел на крыльце – человек в плаще. Почему-то не вошел в дом, расположился прямо на ветхих ступенях и смотрел прямо перед собой, в туман. Его влажные волосы сделались тяжелыми и завивались крупными кольцами; она подошла и осторожно села рядом – прямо юбкой на доски. Ну и что, что испачкается? Уже грязная.
Какое-то время молчали.
Затем плащ зашуршал. Водитель достал из кармана пачку сигарет, вытащил одну, бросил пачку на крыльцо, щелкнул зажигалкой – над его головой потянулся белый извивающийся дымок. Лицо непроницаемое, почти равнодушное, только стынет в черных глазах недовольство – не то на себя, не то на нее – не разберешь.
Она долго не могла начать разговор, не знала, с чего, затем тихо спросила:
– Ты меня помнишь?
Человек слева от нее кивнул.
– И я тебя помню.
Он уже знал об этом, она говорила в камере.
– Я-то ладно, – раздался его голос, – а вот ты почему?
– Не знаю, – она посмотрела на собственные ладошки – сморщенные и почему-то пыльные, вытерла их о юбку. – Что-то не сработало. И я не забыла.
– Так не должно было быть. Кто-нибудь знает?
Алька покачала головой. Затем сообразила, что собеседник на нее не смотрит, и добавила вслух:
– Нет, никто.
Тишина. Ни сверчков, ни ветерка, ни шороха листвы.
Вокруг дома местность была ровная; справа стоял покосившийся забор – доходил до середины двора и там заканчивался. Ни входа, ни калитки – не пойми, зачем такое ограждение.
– И каково это – жить, когда помнишь оба мира?
Каково? Она пожала плечами.
– Нормально. Если… понимать.
Что «понимать», пояснять не стала – была уверена: поймет.
– А мы… – хотела спросить «зачем здесь?», но не рискнула, вдруг запнулась. Побоялась услышать ответ.
Человек в плаще посмотрел на нее в упор, понял вопрос. Смотрел долго, тяжело, потом еще тяжелее вздохнул. Когда начал говорить, в голосе его послышалась сталь.
– Я в последний раз это делаю, поняла? Помогаю тебе. Если еще хоть раз переступишь закон, если попадешь в суд, и мне прикажут тебя убить, я тебя убью, ясно?
– Ясно, – Алька вздрогнула. Не то оттого, насколько пронзительным казался в тот момент его взгляд, не то от довершавшего общую картину мрачного неулыбчивого лица. Пристыжено отвернулась, затем спросила: – А почему не убил сразу?
– Когда? Тогда, на Равнинах, или в камере?
Ей, конечно, хотелось узнать и про Равнины, но шанс на то, что ее сосед ответит на оба вопроса, был минимальным, и потому пришлось выбрать:
– В камере.
– А за что? Ты невиновна.
– Виновна. Я переступила закон – пошла туда, куда нельзя было.
Мужчина фыркнул; сигарета в его пальцах дотлела, он бросил ее под ноги. Поинтересовался глухо, безо всякого интереса:
– Убить сейчас?
– Не надо.
Она поежилась снова. По инерции – не потому что страшно. И в этот момент вдруг поняла, что этот человек – Каратель, – наверное, один из самых страшных людей на Уровнях, – не собирается ее убивать, дает шанс остаться в живых. Снова.
– Почему ты помогаешь мне?
Не удержалась, спросила, и выдавший волнение голос сел почти до шепота.
– В этом доме будешь жить две недели, – не опускаясь до объяснений, ответили ей. – Через две недели данные о тебе сотрутся из всех баз Комиссии, тогда и…
Что «тогда», вновь осталось висеть в воздухе, как спущенный с неба и обрезанный на середине канат.
– И еще. Есть два «запрещено». Номер один: выходить с территории этого двора, поняла? Когда я говорю «запрещено»…
– Это значит «запрещено», – закончила фразу Алеста, – я поняла.
От ее понятливости взгляд черных глаз мягче не сделался, кажется, даже наоборот.
– А второе: не спускаться в подвал. Никогда и ни за что.
Она даже не стала интересоваться, что там, в подвале – нельзя и нельзя, пусть будет так.
– Не буду.
– Молодец.
И вновь никакого одобрения в голосе – равнодушие.
– А что случится, когда пройдут две недели? Что будет после?
– Не знаю, – сосед с длинными волосами смотрел прямо перед собой. Огромный, но уставший, как будто перешагнувший через самого себя. – Там видно будет.
Не успела Алька втихую порадоваться – ей не померещилось: они что-нибудь придумают, придумают! Она будет жить, – как ей вдруг выдали неожиданное задание.
– Пройдись по дому, осмотрись, составь мне список того, что тебе привезти. Чтобы для жизни. Я куплю.
Зашуршал плащ; ей в руки впечатался маленький блокнот и прилагающаяся к нему ручка.
– У тебя тридцать минут.
И он потянулся за второй сигаретой.
Дом. Две спальни в разных концах помещения, крохотная кухня, прихожая, гостиная. Этажность: один. В спальнях по кровати, в гостиной зачуханный и просевший от времени диван, перед ним стол, на кухне и вовсе монашеские условия. Тарелок нет, кружек нет, столовых приборов нет – в шкафах пустота, только паутина под сушилкой. Старенькая трехкомфорочная плита обнаружилась в углу, но кастрюли отсутствовали. Не было ни чайника, ни жидкости для мытья посуды (хотя, какой посуды?), ни даже тряпок. А еще ни половичков, ни скатертей и ни занавесок на окнах. В углу гудел и изредка трясся холодильник. Тоже пустой.
Хорошо хоть электричество присутствовало, и лампочка по щелчку выключателя зажигалась исправно. Правда, в дневном свете казалось, что она и не светит вовсе, но на вечер, наверное, хватит.
Аля обошла всю кухню, похлопала дверцами шкафчиков, сделала пометки. Прошла в спальню, оглядела кровати – подушки, вроде бы, есть, одеяла тоже. Обогреватели тут не нужны – лето, – затем вдруг спохватилась, едва не стукнула себя по лбу – она ведь не новую квартиру обставляет! Не переезжает сюда насовсем, не остается жить, не нанялась работать дизайнером – менять мебель и создавать уют. Ее сюда пустили лишь на две недели, и хорошо, что вообще пустили. Какая разница из чего есть и на чем спать? Лишь бы не голодать и лишь бы не сильно мерзнуть, а она?
Глаза пробежались по длинному списку, стреловидные брови нахмурились – вычеркнуть ненужное? Но ведь здесь все нужное, все полезное и важное…
Заела жадность. Или въевшаяся под кожу еще с Лиллена прагматичность; Алька не стала вдаваться в анализ.
Вычеркивать из списка что-либо, впрочем, не стала тоже.
– Вот.
Через какое-то время она протянула блокнот обратно, честно приложила ручку.
Мужчина принялся читать:
– Ведро, тряпка, веник, таз. Таз? Совок, мыло, полотенце, белье…
Он запнулся.
– Это нижнее, что ли?
Алька покраснела. А в чем ей ходить, если выстирает то, что на ней?
– Да.
– А размер?
Она покраснела еще гуще. Не умея сказать наверняка, она обтянула юбку вокруг бедер руками и показала – смотри, мол.
Взгляд темных глаз переполз на ее бедра, затем на грудь и только после этого обратно на лицо, но уже с другим выражением. С таким, которое можно было истолковать, как «досталась же ты на мою голову…»
Послышался вздох. Водитель взял блокнот, не читая больше, спросил: «Продукты написала?», дождался кивка и поднялся со ступеней. К машине зашагал, не оглядываясь.
Алька смотрела, как широкоплечая фигура в плаще исчезает в тумане, затем перевела взгляд на покосившийся забор и лишь спустя секунду поняла, что не спросила о главном – она собирается жить здесь одна или…?
Или.
* * *
Лохудра почему-то не открывала.
Он стучал, кажется, вот уже полчаса, и никогда еще хозяйку не приходилось ждать так долго. Спит она, что ли? Померла?
– Эй, соседка, я знаю, что ты дома. Отпирай уже!
Чтобы понять, что та жива, даже воздух нюхать не приходилось. Жива, еще как, только чем-то, по-видимому, напугана.
Дверь отворилась через минуту, когда Регносцирос собрался уходить. В щели, затянутой хлипкой цепочкой, показалось мятое лицо, и он спросил грубее, чем намеревался:
– Что, жрать больше не хочешь?
– Это ты?
Соседка воровато оглядела окрестности.
– А ты кого ждешь? Божьего прихода? Или любовника к ужину?
– Да иди ты…
Да, она тоже с ним не церемонилась, и ему это даже чем-то нравилось. Прямота хороша, пока не переходит в излишнюю грубость. У лохудры не переходила.
– Тебе продукты нужны или нет?
– Нужны.
– А сразу сказать было нельзя? Я часами должен колотить?
– Ты… это, не кипятись. Просто зачастили тут ходить всякие, вот и не открываю. Вообще стараюсь не выходить.
– Что значит «всякие»?
Баал напрягся. Эта зона официально считалась «зоной вне Уровня» – по ней всякие не ходили. Во-первых, потому что это место не числилось на карте (Создатель знает, как здесь появилась лохудра, но к ней он давно привык), во-вторых, потому что добраться сюда было крайне проблематично – приходилось на скорости преодолевать невидимую стену.
Но случалось, однако, раз или два на его памяти, когда на Окраину забредали-таки непонятным образом беглые преступники. Давно это было; тогда он помог им найтись.
Женщина в мятой белой майке пояснила:
– Пару дней назад появились. Рыскали у твоего дома, пытались вскрыть мой замок; я зашумела изнутри – ушли.
Он недобро хмыкнул.
– Могли и не уйти, а пристрелить.
– Знаю. Но что мне, надо было тихо сидеть и ждать, пока вломятся?
Не вариант, не поспоришь.
– Опиши.
– Да два хмыря в потасканной черной одежде. Тощие, коротко стриженные, не пойму, с оружием или нет. А ты надолго уезжаешь? Может… помог бы?
Регносцирос напряг челюсти – помог бы? Да, по-видимому, придется. Вообще-то он хотел съездить за продуктами, привезти их сюда и с чистой совестью отчалить (по возможности надолго). Теперь же придется менять планы – не оставишь ведь Алесту в хибаре одну? А если придут – зря спасал ее?
– Поможешь?
– Тьфу ты!
Он развернулся и сплюнул. Не на крыльцо – мимо. Зло процедил:
– Двери пока никому не отпирай. Вернусь, стукну пять раз.
– Ага.
Белобрысая голова закачалась вверх-вниз, как у болванчика.
Он не собирался делать ничего из того, что делал. Ни забирать ее из Реактора – раз. Ни привозить ее в хижину – два. Ни теперь ходить по ярко-освещенным проходам гипермаркета и выбирать, мать его, совки для мусора – три. И уж точно не планировал оставаться жить в доме с Порталом, чтобы следить за безопасностью района.
А придется.
Какие варианты? Он мог бы оставить Алесту в одиночестве и через пару дней найти ее хладный труп на веранде, так? Хороший вариант, спокойный, но его не устраивал. Мог бы изначально придушить ее в камере, экспресс-методом доставить душу на Танэо и с чистой совестью поставить галочку в программе на планшете. Мог бы? Мог. Не сделал. Мог, на худой конец, отвести ее к Дрейку, но опять же не отвел – что с ним случилось? Сам же накануне говорил Бернарде: «Не бери ответственность за чужую судьбу, ты становишься ее «отцом» – тем, кто в какой-то мере ведет». Хорошие советы он, конечно, раздавать мастак, а вот следовать им…
Пластиковые совки отыскались сразу за швабрами – яркие, красные, режущие глаз. С белым прямоугольником липучей этикетки на непыльной еще пока поверхности.
Баал какое-то время смотрел на них – красные были квадратными, синие – округлыми, – наклонился, бросил в корзину синий. Прочел в блокноте слово «веник», покатил тележку дальше.
Все планы наперекосяк.
На работу придется ездить издалека – полтора-два часа в одну сторону, но это не самая большая из бед. Спать придется на жесткой кровати, жрать что попало, жить без камина, душа и телевизора, как-то объяснять друзьям, почему почти все время недоступен по телефону… Хотя, он зачастую ведет себя, как отшельник, – те не удивятся. А вот Начальник неудобные вопросы задавать начать может – эту мысль Регносцирос откинул с пометкой «возможно, пронесет».
И так целых две недели?
Еще до веника он наткнулся на отдел женского белья. Какое-то время почти что неприязненно разглядывал сваленные в кучу с пометкой «распродажа» разноцветные труселя, затем шагнул вперед, стиснул зубы и принялся перебирать уцененку.
Совсем как заботливый папаша.
В куче ему ничего не приглянулось – то форма не та, то какой-то школьный фасон, то зачем-то кораблики, то и вовсе как будто сшитые для лохудры; он переместился к стендам с зажимами, где висели готовые, к радости и облегчению, кружевные комплекты, и сгреб все, что висело в первых четырех рядах.
Сама разберется с размерами.
Что там еще в списке? Из шестисот пунктов осталось всего пятьсот? Таким макаром он проваландается в магазине до глубокой ночи, а тележка все полнится барахлом.
Сжав зубы, он двинулся дальше.
Баал никогда не курил дома – негласное табу. Только в машине или на улице, в помещениях редко, если только в чужих. А теперь смолил, сидя в кресле перед камином, морщился, думал. Заехал, чтобы собрать кое-какую одежду и… завис.
Существовал еще один вариант – без двух недель. Можно было бы проводить Алесту на Танэо через Портал. Пройти через бабку, дать той на лапу, чтобы молчала, отыскать карту Равнин и отправиться в поход к границе ее земель. Вот только было одно «но».
Еще в те далекие времена, когда Дрейк впервые заговорил о незнакомом, полном монстров мире, он упомянул, что огнестрел с собой туда брать нельзя. Были, мол, у них времена, когда пистолеты и автоматы наличествовали, но спустя десятилетия и пару катаклизмов их с целью сохранения мира уничтожили. И с тех пор только ножи, щиты, мечи – сплошной, как говорится, антиквариат.
Но без огнестрела справиться с кошками и жралами будет непросто. Он дерется хорошо – ладно, а вот Алеста плохо и неумело. Его одного не хватит, если нападут кучей. Трех или четырех он, положим, убьет, а если больше? Что, если кошки умнее, чем ему до того казалось?
Жаль, что так ничего не разузнал про «солдат» – теперь бы они пригодились. Вот только ни средства связи с ними, ни способа управлять или командовать – до этого жили, обмениваясь жестами, на доброй воле и взаимной выгоде. Да, попросить бы, чтобы «проводили», вот только где найти, как просить?
А если не «солдаты», то могли бы помочь свои. Рен Декстер, например, или тот же Аллертон – оба хороши с мечами, оба вылеплены для ближнего боя и отлично тренированы, – если взять с собой сразу двоих, то шанс дойти до границы есть. Большой или нет – вопрос, и риск (куда бы ему деваться?) присутствовал. И как объяснять друзьям нужду в подобной миссии? «Я спас от наказания девку, давайте доставим домой? Нет, Дрейк не знает…» Доставят, помогут, вот только… Вот только не чувствовалось пока в этом плане правильности, да и острой необходимости, в общем, тоже. А, может, она вообще не хочет возвращаться, эта пресловутая Алеста?
Вот взял же грех на душу.
Спохватившись, что так и продолжает сидеть перед камином с истлевшим бычком в руке, в то время как гостья в далекой хибаре продолжает (на радость залетным) прозябать одна, Регносцирос чертыхнулся, бросил окурок в камин и поднялся с кресла.
* * *
Ей встречались разные люди, все по большей части доброжелательные и воспитанные. Говорили то, что другие хотели услышать, вели себя тактично, улыбались «впопад», поддерживали на словах, хлопали, если нужно, по плечу.
Люди вообще любят называть себя «доброжелательными». Спросил «как ты себя чувствуешь?» – добрый. «Чем тебе помочь?» – заботливый. «Принести/унести/подсказать?» – внимательный, чуткий. «Дать тебе совет?» – понимающий.
Мать выстроила за дочь планы на дальнейшую жизнь – желала добра. Хельга подначивала колкими замечаниями – желала сестре поднабраться ума, то есть тоже желала добра. Отец не вмешивался и по большей части молчал – тоже хотел, как лучше, чтобы у дочери не возникало проблем – по-своему желал хорошего.
И только один человек в этом мире никогда ей ничего не желал и не спрашивал – темноволосый незнакомец. Не задавал «добрых» вопросов, не интересовался «тепло ли/холодно ли ей?», не выказывал показной заботы – просто делал. Дважды не убил сам, дважды увел от тех, кто мог убить после.
Он не говорил – он делал.
Здесь, в этой темной комнате, на окраине чужого мира понятия «хорошо» и «плохо» в голове Алесты медленно смещались.
Дождь прекратился. Сырое одеяло она откинула в сторону – в спальне и так душно; окно не открывалось – заело щеколду. За стеклами темень, тишина, в доме и того тише. Лежа на жесткой кровати, на застиранных до серого цвета простынях, Аля водила пальцами по шершавой стене и размышляла – о жизни, о судьбе, о человеке с длинными волосами.
Как странно, что она встретила его уже дважды – как будто стрелка компаса сводила их вместе. Да, при неблагоприятных обстоятельствах, да, неудачно, но ведь сводила. Может, не зря? И как получилось, что тот, кто, казалось бы, должен был оказаться злее всех других, на деле имел чуткое и щедрое на благие поступки сердце?
Да, рычал – дикий, – норов у него такой. Да, грубил, часто отмалчивался – нелюдимый. Но ведь не злой. С виду страшный, гневливый, необузданный, а внутри… правильный и чуткий.
Это другим, наверное, кажется, что с таким лучше не связываться – ведь внешность, ведь профессия, да и как зыркнет, мало не покажется, – а на деле с ним мирно и спокойно, как в собственной уютной будочке. Пусть некрашеной и неказистой, но надежной и крепкой, как скала.
Его, наверное, много обижали когда-то, – решила она для себя, слушая, как стекло снаружи царапает ветка клена, – и не любили никогда. Не могло быть так, чтобы он не открывался хотя бы когда-то, кому-то. Просто недодали тепла и света, просто не обнимали и не заботились, оттого и напускная грубость – для защиты. Так многие себя вели – раненые, – чтобы защититься, чтобы не дать боли проникнуть внутрь – она читала о таком в учебниках по психологии.
И, значит, нужно просто ему «додать».
Подумала и обняла мысленно. Укутала золотым светом, накрыла заботой, принялась напитывать любовью.
«Вот и сердце ожило, – подумала, засыпая, – и как хорошо, что здесь никто не ограничивает Любовь во времени…»
В какой-то момент она проснулась – хлопнула входная дверь, – какое-то время слушала стук тяжелых подошв по скрипучим половицам и беззлобное ворчание (хозяин что-то носил туда-сюда), затем мысленно попросила у желудка прощения за голод, пообещала, что с утра они обязательно позавтракают, и вновь провалилась в сон.
Глава 10
Разлеплять глаза не хотелось; с непривычки от долгого лежания на тонком матрасе поверх ржавых пружин ныла спина.
Чем-то пахло. Чем-то особенным.
Баал никогда раньше не ночевал здесь – приходил, когда нужно, и уходил сразу же после очередного похода – садился в машину и был таков. Но за то время, что провел здесь, он привык к одной вещи – этот дом никогда ничем не пах, кроме досок. В дождь он пах мокрыми досками, в жару сухими. И чуть-чуть пылью. Все.
А теперь по комнате плыл аромат чего-то жареного; на кухне шкворчало.
Он разлепил-таки глаза, перевернулся на бок и едва не грохнулся с узкой лежанки на пол – черт! С нее всю ночь свешивалась то согнутая в локте рука, то ступня – треклятая кровать. Не мог он прикупить чего-нибудь пошире? Кто же знал, что пригодится.
Накануне он почти до полуночи таскал из багажника накупленное барахло: ящики, коробки, коробочки, контейнеры, полиэтиленовые упаковки, мешки и пакеты, а после почти столько же потратил на то, чтобы разложить еду в холодильник, а остальное распихать по углам, дабы впотьмах не сбить ноги.
Не зря старался. Алеста, по-видимому, нашла все, что хотела, и теперь колдовала над плитой. Интересно, во сколько она встала, если сейчас всего лишь начало восьмого утра?
На кухне его ждал завтрак: сырники. Красовалась рядом с тарелкой граненая баночка с джемом, из горлышка торчала новая сияющая ложка. Для чего-то рядом стояло чистое блюдце-пиалка, слева стакан с соком.
Баал сел на скрипучий стул и взглянул на сковороду, на которой дожаривался завтрак. Одетая во все вчерашнее – мятую блузку и грязную юбку, – по кухне порхала Алеста. Свежая, если не считать одежды.
«Надо было купить ей что-то на смену».
Он привез только белье. Не подумал.
– Булочки я пока испечь не смогла, еще не разобралась с духовкой, – послышалось от плиты; вилка в умелых руках ловко перевернула творожные оладушки золотистой стороной кверху. Пахло вкусно, но Баал проворчал:
– Я – мужик. Я на завтрак мясо ем.
– Мяса пока нет, – без раздражения отозвалась новоиспеченная хозяйка. Подошла к холодильнику, карандашом сделала какую-то запись. Он только сейчас заметил, что на дверце прикреплен листок «для пометок».
Она вписала туда мое пожелание?
– А мясо с чем? – ему адресовали теплую улыбку; от прозвучавшей в голосе заботы Регносцирос даже растерялся.
– Мясо.
И ничего больше не добавил, почему-то почувствовал себя идиотом. Чтобы скрыть промелькнувшее на лице смущение, принялся за сырники. Один попробовал без джема, второй намазал ягодной массой – вкусно.
Оказывается, он не привык ни к присутствию посторонних в доме, ни к лишних звукам, ни к запахам, теперь чувствовал себя находящимся не в знакомой хибаре, а гостем в придорожном мотеле. На кухне хозяйка, а он – посетитель, зашедший спозаранку перекусить. Ну и ну.
Сок с сырниками сочетался плохо, хотелось чего-то горячего.
– А кофе есть?
– Есть.
Она уже, оказывается, отыскала чайник и распаковала его. Нашла удлинитель, бросила по полу, воткнула туда вилку и теперь открывала предварительно водруженную на полку банку с растворимым кофе.
Когда все успела?
А гостья сегодня выглядела иначе – спокойной, умиротворенной, по странной причине почти счастливой. На него смотрела с улыбкой и добро, взгляда не прятала и смущения, похоже, не испытывала.
Быстро освоилась.
Он не мог понять – раздражает его это или радует?
С одной стороны, забитый и запуганный человек в доме – источник плохого настроения, с другой, он к таким привык и знал, как с ними себя вести. А как себя вести с девкой, которую он и знать не знает? Кто она такая вообще? Что ему известно о ней, помимо имени и названия родного мира? Ничего.
Баал хмурился.
– Не нравятся сырники? Я к обеду другое сделаю, все успею, ты не думай…
Он не думал. Точнее, думал, но о другом.
– Слышь, ты обратно на Танэо не хочешь?
Аля на мгновение вздрогнула и заиндевела, затем осторожно покачала головой – волосы по ее плечам заскользили струями. Представила Равнины – он увидел по глазам, – побледнела.
– Я… здесь хочу, – она вновь стала затравленной, сжатой, – если можно.
– Здесь – это где? В этом мире?
Еще один кивок. Он так и подумал – в этом мире. Не в этом же доме?
Что ж, он должен был спросить, уточнить, не мается ли она, сохранив память, не скучает ли по дому, а то продумал бы план, над которым размышлял накануне, обратился бы к ребятам, проводили бы.
Ее радость заметно угасла, лицо сделалось напряженным, губы поджались.
Неужто подумала, будто я передумал и убью ее?
Он даже пожалел, что спросил. Улыбающаяся, как ни странно, она нравилась ему больше.
– Садись, поешь. И перестань трястись, я просто спросил.
Она положила себе сырников. Поставила перед ним чашку с кофе, придвинула открытую картонную пачку с сахаром, села. Пододвинула к себе завтрак, вздохнула.
– Я тебе здесь мешаю, да?
– С чего ты взяла?
– Ты про Танэо спросил.
– Я не из-за «мешаешь» спросил. А из-за того, что ничего не знаю об этом мире – вдруг ты по нему скучаешь?
– Не скучаю.
– Почему?
– Потому что.
Дальше они ели молча. Пока Баал, допив кофе, не спросил:
– Расскажи мне про него.
– Про мой мир?
– Да.
– Что?
– Что хочешь. Я вообще ничего не знаю.
– А зачем ходишь туда?
Ей не ответили. И Аля вздохнула во второй раз.
– Там не только Равнины. Я вообще не знаю, большие ли они по площади. Думаю, этого никто не знает, – она ковыряла сырники вилкой; один развалился полностью и превратился в крошки, второй вскоре ждала та же участь. – Говорят, Равнин раньше не было – так пишут в учебниках. Раньше на их месте был иной мир – хороший и продвинутый, но очень техногенный. Наши предки ушли вперед куда дальше нас.
Он заметил странную штуку: пока он не донимал ее расспросами, Алеста выглядела умиротворенной, даже довольной, а стоило спросить о родной земле, как насупилась, сделалась… блеклой. Не хотела говорить? Да он и не нажимал.
Кусочек сырника отправился в рот, пережевался; Аля снова завозюкала вилкой, заговорила без радости.
– Они много изобретали, больше нас. Всякие сложные штуки, связь через расстояния, умели на чем-то летать – не знаю, на чем, – учебники скрывают.
– Хорошие у вас учебники.
Хотя, зачем он язвит? То ведь известный факт почти в любом из миров – перекраивать историю по своему усмотрению. Может, поэтому здесь, в Мире Уровней, история, как предмет был исключен вовсе? Дрейк не желал недосказанности, а потому просто молчал. Глупый ход? Хитрый? Кому судить?
– Я рассказываю то, что знаю. А Храмов по всей земле было восемь, это в начале. И Богинь было столько же.
– Богинь? Не Богов?
– Может, и Богов. В истории скрыты имена – известны только некоторые. Люди перестали молиться, перестали их почитать, и Небожители разозлились.
– На отсутствие молитв?
Его всегда удивляла мифология. И уж тем более, когда она являлась воплощением чьей-то реальной жизни.
– На то, что те люди – предки – разрушили почти все Храмы. На хаос, на бесконечные войны, на отсутствие почтения к кому бы то ни было. И наслали проклятье: развитая цивилизация сравнялась с землей, а на ее месте появились эти… монстры. И Равнины.
– Везде?
– Не знаю. Может, где-то за Равнинами есть и другие страны, но их никто не видел.
– И вы живете на обломках?
Она не была похожа на пещерного человека. Интеллигентная, обученная, тактичная. Даже заносчивая, он бы сказал. Пояснение этому факту последовало дальше.
– Нет, не на обломках. Тогда, в той катастрофе погибли почти все мужчины, но остались женщины – их спасла Дея, чей Храм остался стоять. Дала жителям… жительницам новый шанс встать на ноги. И они встали. Организовали новую большую страну – Конфедерацию, окружили ее высокой Стеной, стали править без войн. Я родилась тогда, когда многие десятилетия на Танэо уже было спокойно. Моя семья жила в достатке, в покое… хорошо жила.
Регносцирос не заметил, что закурил прямо на кухне. Теперь дым, извиваясь над столом, улетал к приоткрытому окошку, лениво вытягивался наружу; Аля не морщилась, вообще, казалось, не замечала, что он курит. И почему-то молчала; ее глаза от воспоминаний сделались стеклянными, неживыми. Ему стало любопытно, что же случилось дальше.
– Так почему все разладилось?
– Что разладилось?
Она не поняла.
– Ну, если твоя семья жила хорошо и спокойно, как получилось, что ты оказалась на Равнинах? Пошла погулять? Надоела сытая жизнь?
– Нет, – Аля снова долго молчала. Отчего-то сделалась еще мрачнее лицом, нехотя пояснила: – Я пошла, потому что в определенном возрасте всех девочек отправляют в Великий Поход – поклониться Дее за милость. А ее Храм находится в трех днях пути за Стеной.
– А почему не в пределах Стены?
– Не знаю.
– А мальчиков туда не отправляют?
– Мальчиков в Общине мало.
– В Общине?
– Да, в Великой Женской Общине.
О-па! Баал от неожиданности едва не закашлялся – в Великой Женской Общине? Так вот, оказывается, откуда его гостья.
– В смысле, у вас мальчиков вообще нет?
– Есть.
Ему казалось, она что-то недоговаривает. Умалчивает избирательно и правильно, как агент спецслужб со стажем.
– Но они не кланяются Дее?
– Нет.
– Почему?
– Потому что Дея – покровительница женщин и богиня, дарующая плодородие. Девочки ходят туда, чтобы… зачать.
– От Богини?!
Сигарета обожгла пальцы.
– Да.
– А от мальчиков не зачинают?
– Зачинают. Те, кто выбирает.
– А ты, значит, не выбрала?
– Меня послала мать.
После этих слов Аля окончательно набычилась. И по ее лицу читалось: «Я не хотела идти. И я бы не пошла, вообще никогда бы не высунулась за проклятую Стену».
– А зачем тебя туда отправила мать? – теперь его голос звучал вкрадчиво, почти мягко – очень хотелось услышать ответ.
– Потому что почетные жительницы Общины всегда зачинают не от мужчин, а от Деи.
Вон оно что. Все любопытнее и любопытнее.
– Моя мать хотела, чтобы наша семья приобрела еще более весомый статус, а для этого ее дочь, как и она сама, должна была родить от Деи. Хельга отказалась.
– Хельга – это сестра?
– Да.
– А ты, значит, лысая?
– Что?
Алька хлопнула глазами.
– В смысле, крайняя?
– Да.
Затушенный о край блюдца бычок отправился в урну. Новую сигарету Баал в помещении закурить не решился.
– Ну, хорошо, – протянул задумчиво, пытаясь сложить детали рассказа воедино, – пошла ты к Дее. А почему не дошла?
– Потому что на меня напали.
– Кто? Кошки?
– Нет, – было видно, что Алеста от пояснений устала. Ей хотелось чем-то занять руки – перемыть посуду, окна, пол и подоконники, перемыть что угодно, лишь бы не сидеть и не разъяснять то, что разъяснять не хочется. – За Стеной живут мужчины. Только не те воспитанные, которых Община специально готовит и после впускает в предел Стены, а другие – «дикие». Они напали на меня.
Теперь Баал точно не знал, смеяться ему в голос или же попытаться сохранить серьезное выражение лица, – «Община специально готовит?» Интересно, готовит как? И что за мужчины получаются у женщин после подготовки? С промытыми мозгами?
И он бы, ей-богу, вывалил весь этот ворох вопросов на сидящую перед собой собеседницу, вот только сдержался. Не из-за тактичности, а просто потому что не привык кого-либо с жаром допрашивать. Его, насколько он помнил, давно не интересовала какая-либо тема, а тут надо же, почти захлебнулся от любопытства.
Ему вообще должно быть наплевать – кто перед ним сидит и почему. Какая, в самом деле, разница? Нет уж, раз начал, теперь бы «допонять».
– И что эти Дикие хотели с тобой сделать? Убить? Съесть?
– Нет.
Тишина.
– Догнать. И…
– И?…
– Изнасиловать.
– Чтобы ты зачала от них, а не от Деи?
– Да.
– И что тогда было бы?
– Я родила бы мальчика.
– А ты не хотела рожать мальчика?
Ее глаза сделались пластиковыми, как у плюшевой игрушки, и почти пустыми; Баал скривился от внезапно накрывшей его смеси презрения и отвращения:
– Или просто не хотела спать с мужчиной?
И, не дожидаясь ответа, поднялся со стула, вышел с кухни.
* * *
Ладно, раз уж он здесь, сделает что-нибудь полезное. Обыщет местность на предмет чужих следов, займется стайкой – давно хотел ее построить для хранения инструментов. Даже доски привез месяц назад, да так и оставил лежать под навесом.
Планшет мигал сообщением: «0 вызовов».
Странно, работы пока нет? Редкий день. Баал даже проверил связь – работает. Хмыкнул, какое-то время посидел на узкой кровати, затем поднялся и стал переодеваться. Нужно заглянуть к лохудре, спросить про чужаков – не видала ли? Затем прогуляться, присмотреться, «понюхать» воздух. Если «залетные» где-то рядом, он их почувствует.
В кобуру на поясе отправился заряженный пистолет – не столько нужен, сколько по привычке. Убить он мог и издалека (это при необходимости), а без необходимости пугать никого не стоит. По-хорошему, поймать бы да отвезти к Начальнику – пусть тот сам разбирается. Регносцирос может находиться на этой территории? Может. Значит, вопросов не последует, а про Алесту, авось, не спросит.
Подумал. И решил, что чужих «лучше убить». Или хотя бы нейтрализовать тихо, без вмешательства Дрейка: все-таки вопросы – вещь неудобная. Лучше бы им пока не встречаться.
Местность выглядела спокойной, без присутствия чужаков – колосились сорной травой луга, шумел ельник, пахло сыростью. Сезон дождей в этих краях длился недолго – все больше жара, – но сейчас стоял именно он; по небу, словно наблюдатели, плавали тяжелые тучи, в низинах стоял туман.
Баал шагал по узкой тропке, смотрел по сторонам и думал. По большей части о том, кого именно, как оказалось, он привел в дом – лесбиянку. Да-да, лесбиянку – женщину, взращенную Великой Общиной Фемид; женщину, предпочитающую родить от Богини, нежели от человека; женщину, не желающую иметь среди своих детей мальчика.
Тьфу.
Ему некстати вспомнилось лицо собственной матери: выражение отвращения на поджатых губах, презрительно сощуренные при взгляде на него глаза, едкие фразы:
«И почему я не родила девчонку? Даже если бы она была таким же отребьем, как ты, я радовалась бы больше».
Регносциросу хотелось сплюнуть прямо в высокую траву. Некоторым женщинам нельзя рожать – попросту нельзя. Ни зачинать, ни вынашивать, ни воспитывать, ибо, если в голове слишком много тараканов, то ребенок категорически противопоказан. Он, например, был бы крайне признателен собственной матери, если бы та никогда не встретила бы его отца-демона, а после не сломала бы жизнь единственному сыну полным отсутствием умения любить.
Вот и Алеста…
Наверное, хорошо, что она изначально не хочет пацаненка – правильно. Нечего еще одному чаду расти в неправильной семье, быть мелкой сошкой-зернышком в колесе диковинной Общины, жить с покалеченным умом, а после и сердцем.
Надо же какой странный мир – этот Танэо. А он еще корил себя, что не узнал о нем больше – и хорошо, что не узнал. Потому что, если бы прочухал раньше про Великое Общество Лесбиянок и про то, что «мальчиков» к вступлению в общество они специально готовят, ни за что бы не стал спасать незнакомку на Равнинах – оставил бы ее лежать на камнях и еще порадовался бы – одной станет меньше.
А теперь поздно. Теперь она в его доме, теперь он обещал, что через пару недель поможет, теперь дал слово, и только выполнять.
Лесбиянка.
Это слово кружило в мозгах, как зеленая надоедливая муха, и вызывало все новые приступы отвращения – Баал был ярым сторонником натуральных союзов.
А ведь красивая, если подумать: фигуристая, с ладным лицом, большими глазами, да и хозяйка хорошая. Не лесбиянка бы, так и подумал, может, чтобы взглянуть на нее попристальнее.
А так…
Во рту стоял прогорклый привкус сырников; теперь понятно, почему заносчивая – ведь он мужчина. Тем более, мужчина «дикий», неподготовленный, недостойный – что за судьба ему встречать на пути женщин без любви и сердца? А ведь с утра вела себя ласково: смотрела по-доброму, спрашивала заботливо, пыталась угодить. Зачем это – потому что спас?
Он злился. Встретил бы чужаков прямо сейчас – убил бы. Просто, чтобы выплеснуть гнев.
«Забудь, – твердил себе Регносцирос, не переставая, – она того не стоит. Всего две недели, а там все».
Твердил, а сам грустил о том, что одна-единственная любящая женщина – Бернарда – досталась не кому-то, а самому Начальнику. Другой такой уже не встретится.
Наверное, так и правильно. Так и должно быть.
С лугов он вернулся к обеду. Мрачный от собственных мыслей, злой от того, что никого так и не встретил – даже следов чужаков не уловил. Вернулся и сразу же занялся стайкой: принялся таскать из гаража доски, стянул с плеч отсыревшую от плотного тумана майку, достал инструмент – завизжала пила, посыпалась на землю стружка.
Алеста подошла к нему, когда он обработал три доски и хотел взяться за четвертую – сначала постояла молча, затем поняла, что внимания на нее обращать не собираются, обошла Баала спереди и с решительным выражением лица заговорила:
– Ты… утром… Меня неправильно понял. Я хорошо отношусь к мужчинам, я их уважаю.
Тьфу ты, – он недобро улыбнулся, – она еще оправдывается. Не хочет, чтобы он считал ее виноватой.
– Да наплевать мне.
– Нет, дай я скажу. Те мужчины, что живут в лесу, – они на самом деле «дикие», понимаешь? Они ловят нас и издеваются…
– В смысле, трахают? Большинству нравится.
– …держат на привязи, обходятся, как с рабынями…
Как и вы с ними в пределах Стены, видимо.
– …не уважают, не лечат, если заболеваем, только бьют…
Ну, надо же, как страшно.
Будь он поглупее, и сам бы рад наколотить такую вот клушу. Да вот только совесть, и рука не поднимется.
Вслух же Баал сказал другое:
– Иди уже. Приготовь что-нибудь на обед. Должна же быть с тебя какая-то польза.
И Аля ушла. Все еще полная намерений отстоять свою девичью честь и разочарованная, оттого что не вышло.
Он ухмыльнулся, глядя ей вслед, и снова взялся за пилу.
А перед обедом заглянул к Лохудре:
– Никого не видела?
– Нет. Ночью спокойно было.
– Утром тоже?
– Я бы сказала.
Регносцирос переступил на крыльце, задумчиво пожевал губы.
– А ты, я слышала, пилишь чего?
– Тебе какое дело?
– Никакого.
Он помолчал. Она заговорила вновь.
– А ты один живешь? Кажется, я женский голос сегодня слышала.
Черные глаза недобро прищурились, зло сверкнули:
– Хочешь сплетни собирать, езжай обратно в город.
«А иначе без жратвы останешься», – прочитала соседка по лицу и тут же примирительно залепетала:
– Да я так спросила, ты не это… Никого не видела, никого не слышала. А увижу – скажу.
Регносцирос на прощание фыркнул, как разъяренный бык.
– Значит, говоришь, в лесу мужики совсем-совсем «дикие»?
Алеста молчала. Наварила мяса, потушила овощи, выложила все это ему в тарелку с высокими бортами и теперь сопела, не желая отвечать.
А его так и подмывало ее подразнить – не унималась злость.
– Так, может, если бы вы их приласкали, они бы и «дикими» быть перестали? Не пробовали?
«Пробовали, – зло сверкнули карие глаза, – не помогает».
– А то ведь, – скалился Баал, – от ласки любой мужик шелковым станет. Просто погладить надо правильно и там, где надо. Главное, понежнее.
Обед получился вкусным, наваристым – ему по душе. Балык на кости сочным, бульон ароматным, овощи пряными, почти что ресторанными – точно, хорошая хозяйка, прямо жаль, что «повернутая».
Далось ему это слово – лесбиянка. Видать что-то задело внутри, и потому непривычно желчная ирония так и лезла наружу.
– Женщина – что она может дать другой женщине? Что предложить? Погладить друг друга в постельке, поцеловать нежненько? Но это ведь не то? Она ни взять, как следует, не умеет, ни навалиться, ни силу показать, ни до правильного экстаза довести. Да и зачинать вам приходится от Богини – от мужиков разучились, – стыдно, честное слово.
Щеки Алесты пошли красными пятнами. Такими же алыми от прилившей крови стали и кончики ушей, а после и шея. А стоило Регносциросу задать вопрос: «Ну и как они тебе в постели, бабы-то?», как гостья громко хлопнула дверцей шкафа, бросила полотенце, которым вытирала руки, и молча покинула кухню.
«Гордые они, розовые-то», – хмыкнул Баал мысленно и принялся шумно хлебать бульон.
* * *
Дикий! Эгоистичный! Дурак! Вот почти такой же дурак, как и остальные мужчины, – даром, что красивый и что на добрые поступки горазд – все равно глупец. Как поддеть – так туда же! Почему не дослушал, почему не попытался понять? Сделал идиотский вывод и тут же принялся цепляться, как пацан, который нашел пыльную колючку и теперь лепит ее на все, на что та прилепится.
Болван!
Алеста шлепнула сырой тряпкой по доскам, пихнула таз с водой в сторону и переползла на новое место – туда, где еще не мыла.
Она ведь пыталась ему объяснить, что сама не была довольна таким раскладом в Обществе, что восставала против установленных порядков, что боролась, как умела, против матери и системы, но разве он слушал? Сразу же решил, что она ненавидит – да что там, презирает – всех мужчин поголовно и готова смотреть исключительно на женщин.
Фу, гадость-то какая!
И сам же разочаровался – по лицу видно, – что привел в дом такую гостью.
«Может, даже жалеет, что спас».
От этой мысли делалось противно. Какое-то время Аля сидела на полу в спальне, рассматривала тусклые в свете единственного окна стены, боролась с по-детски прилипчивой, как та же колючка, обидой.
Ну и что, что жалеет? Не все ли равно? Две недели пройдут-пролетят, а потом их дороги и не пересекутся более. Спасибо она уже сказала, что еще нужно?
Ничего.
А обида – два печальных глаза из темноты – не уходила, готова была разразиться внутри горючими слезами.
Алька медленно втянула воздух, какое-то время терла пол под кроватью, затем в который раз отложила тряпку и задумалась. Обида – это что такое? Это страх. Страх «меня не уважают/не ценят/ не понимают». А если не понимают, значит, и не любят – тут параллель сама проводится. Люди потому и обижаются, потому что хотят, чтобы их любили, – она не исключение. Ведь и рассказывать все стала для того, чтобы «услышали», а ее не просто не услышали, а еще и неверно поняли. Но в каком случае понимают неверно? – пришлось вспомнить учебник психологии, – когда страх находит на страх. Свой на чужой, как на заслонку, на фильтр, на грязный щит. Если хозяин дома так взбрыкнул при мысли о том, что она «розовая», если моментально ощетинился и обозлился, это может означать только одно: сама мысль об этом его обидела. А почему?
«Да потому что в его глазах я оскорбила всех мужчин».
Всех до единого. Унизила их тем, что жила в Общине, росла с ее законами и следовала им. Согласилась родить от Богини.
«Вот он и решил, что мне проще на смерть, чем попасть в лапы к мужику».
Алька хмыкнула – верно, в общем-то, решил. Вот только не учел, что от одних она бежала, как от огня, а к другим (другому – одному-единственному, если найдется) очень даже стремилась.
«Получается, что первой неосознанно обидела его я. А в итоге обиделась на его же обиду, которая вылилась в злых словах – замкнутый круг».
Мрачная до того Алеста вдруг улыбнулась – зря она так! Она объяснит, дорасскажет, и он услышит. А если нет, так просто наполнит его Любовью – вчера наполняла, сегодня наполняла и завтра будет. И все потому, что «любить» его легко, потому что благодарности внутри через край, потому что, если бы не он, давно бы ей уже лежать растерзанной на Равнинах.
Комната вдруг показалась ей не такой мрачной, а настроение сделалось веселее.
«А ведь я так и не спросила, как его зовут».
На пол шмякнулась и завозила разбухшая от воды тряпка.
«Надо это исправить».
Он уехал сразу после обеда: зашел к ней в комнату, оставил пистолет, сказал, что по делам и что стрелять надо по всему, что движется.
– А если это будешь ты?
– Меня ты не увидишь.
Она ему поверила. Высокий и крепкий, он умел передвигаться незаметно и тихо – она несколько раз уже в этом убедилась, когда случайно обнаруживала его за спиной, но не слышала шагов.
– Я не умею.
«И не хочу».
Ее научили.
Тяжелое и прохладное оружие теперь все время лежало рядом. Нет, Аля не боялась гостей – просто сказали, потому и держала. Если мыла полы, клала его рядом с тазом, если вытирала пыль, то на стол в пределах видимости, если готовила, то на стул у плиты.
До заката, который в этих местах выглядел не закатом, а более тусклым из-за тумана, нежели днем, серым светом, она успела все: приготовить ужин, прибрать комнаты, отдраить прихожую, постирать тряпки, три раза в ожидании вскипятить чайник и даже помаяться со скуки.
Вечером, когда морось из-за показавшегося вдалеке солнца на несколько минут озолотилась, Аля вышла на крыльцо с чашкой чая в руках, долго сидела на скрипучих досках, смотрела на покосившийся забор, на раскинувшийся за ним луг, чужой дом в отдалении. Интересно, там кто-нибудь живет?
Юбка совсем испачкалась, а переодеться не во что. Если эту выстирать, то ходить не в чем – хоть в простынь заматывайся, – а просить новые вещи стыдно. Ничего, перетерпит, выдержит две недели, будет стирать одежду перед сном, а надевать утром сырой – не беда.
Второй день. Ей не верилось.
Она здесь второй день; миры перекрестились, словно шпаги: прошлое – одна линия, настоящее – другая, будущее – третья, еще не сформировавшаяся. Каким оно будет – будущее? Что именно собирается придумать безымянный незнакомец, чтобы вернуть ее в мир Уровней на законных основаниях? И на законных ли? А если так, не попадет ли ему самому за проступок?
Почему-то все это время он был добр к ней – насмешки не в счет. Не гнал прочь, терпел, несмотря на расхождение во взглядах, даже оружие оставил для защиты. Почему так?
Наверное, потому что внутри него много хорошего. Есть такие люди: снаружи злые, как черти, а внутри океан нерастраченной любви, которая попросту не нужна никому. Предлагать ее они не умеют и просить, чтобы их полюбили в ответ, – тоже.
Вот и он – Бог Смерти – рычит, с виду кусается, близко не подпускает, а прочь не гонит.
Вспомнилось его лицо – красивое, словно гранитное, волевое: подбородок жесткий, нос лепной, будто скульптурный, глаза чернющие, разлет бровей вольный. А эти волосы… Надо же, как могут красить сильного мужчину длинные вьющиеся волосы. И ведь не делают его похожим на женщину, наоборот…
Женщины.
Алька вдруг усмехнулась собственным мыслям – подумала о том, что даже представить не может себя с одной из них в постели. Лесбиянка – как это? Это надо восхищаться чужой грудью? Тонкой талией? Стройными ногами? Да ей с высокой горки плевать, у кого какие ноги, – даром ей не сдались. А чтобы еще и щупать… Воображение в чужие женские трусы идти не хотело – не желало рисковать моральным здоровьем. Ну не виделись ей собственные пальцы на чужих кружевных плавках, а тем более под ними. А при мысли о том, чтобы взять в рот чужой сосок вообще чуть не стошнило.
Какое-то время она хрюкала на крыльце в одиночестве – тихонько давилась смехом, пила чай, развлекалась. Потом дала волю думам иного направления: а что, если среди женщин должна тоже встретиться одна-единственная? Что, если Бог Смерти прав – вдруг она лесбиянка? Ведь не зря Ташка все это время удивлялась, почему подруга все еще девственница? Неужели не хочет попробовать? Нил ее тогда совсем не возбудил, голые мужики в «загоне» тоже особенной реакции не вызывали, и Алеста вопреки всякому здравому смыслу вдруг задумалась – «а что, если?».
Икнула от удивления и долго сидела с распахнутыми глазами, пока в кружке остывал чай.
Хозяин вернулся поздно, уже стемнело. Аля не спала, прислушивалась к звукам, стоя у двери – гадала, сразу ляжет спать или же посидит на крыльце, выкурит сигарету? Если посидит, она присоединится – может, получится поговорить?
Урчащий мотор стих, хлопнула дверца. Через несколько секунд под ботинками скрипнули доски, но входная дверь так и не открывалась – значит, решил посидеть снаружи. Отгоняя прочь страх «а что, если прогонит?», Алеста выскользнула из спальни и двинулась вперед по темной прихожей.
– Как прошел твой день?
Тишина.
– Все ли, что хотел, успел закончить?
Тишина.
Над их головами плыл сигаретный дым; Аля ерзала от смущения. Сырели в тумане оставленные после дневной работы во дворе доски; от мужчины пахло городом: улицами, дождем, чуть-чуть бензином. Скоро и она вернется туда – в город.
– А я на ужин котлеты сделала – мясо. Как ты любишь. А еще полы везде помыла, окна протерла, пыль смела.
Она сама не знала, зачем рассказывала. Не хвалилась, просто не хотела молчать.
– Ты не голодный?
Ей не ответили. Лампочка над крыльцом не горела; луны не видно – небо затянуто тучами, в воздухе морось.
– В подвал тоже не ходила.
Добавила и умолкла. Что еще сказать?
Сосед курил молча, о чем-то думал. Явного недовольства от него не исходило, но и доброжелательности не чувствовалось; ее хотя бы не гнали, и уже хорошо.
– Хочешь, расскажу тебе еще про свой мир? – спросила тихо и наперед вздрогнула, предчувствуя отказ, но его, как ни странно, не последовало – все та же тишина. И она, сидя на темном крыльце рядом с незнакомцем почему-то расхрабрилась. – Мой город называется мягко и нежно – Лиллен. А раньше носил другое название. Совсем…
И понеслось.
Перед глазами встали зеленые улицы, кованые калитки, разноцветные улицы, знакомые названия. Имена булочницы, цветочницы, мороженщицы, мощенные булыжником аллеи, летящий с тополей пух, родной забор – белый, с приделанным к двери лазурным почтовым ящиком.
– И я учила в школе историю, только бабушка говорила не верить ей. А еще психологию – она мне сильно нравилась. Я все думала, поможет в жизни разобраться…
Может, он думал, что она зануда? Что заучка? Да и Бог с ним; Аля говорила без умолку. Про все: про систему, про правящих Женщин, про постоянную армию, про призывы по весне и осени, про то, как раньше не решалась даже подходить к Стене. И вместе со словами летели по воздуху картинки-открытки: накрытый скатертью стол во дворе, лицо матери, портрет отца, младшего братишки, а следом за ним флер из несказанного «я скучаю». Вспыхнуло в памяти лицо сестры, а следом и бабушки. Про последнюю Аля говорила много и с удовольствием – не заметила, что сосед уже давно докурил, но не перебивает, слушает – зачем-то рассказала ему про шкатулку, про найденные в ней письма и книги.
– Так чего же ты не хочешь вернуться? – то был первый вопрос, который он задал вслух хриплым голосом. – Ведь все такое красивое – зеленое, пышное, цветущее? Если так любишь семью…
– Люблю. Но нет мне там места.
– Почему? Я мог бы проводить тебя. Попытаться довести до границ Равнин, чтобы не разодрали Кошки.
Она вдруг испытала к нему такой прилив благодарности, что временно не нашлась с ответом – сидела и ощупывала кончики собственных пальцев, будто впервые обнаружила, что они у нее есть.
– Я не хочу назад.
– Почему?
Он действительно не понимал – она чувствовала по голосу.
– Не хочу жить по тем законам, не хочу становиться почетной гражданкой, не хочу идти к Храму. А бабушки уже давно нет… Никого родного нет.
– Не хочешь рожать от Богини?
– Не хочу.
Молчание. И беззвучный вопрос в воздухе.
– Я хочу от мужчины. Только не от таких, как у нас. Понимаешь, мы испортили своих мужчин, убили их – убили в них их самих. Они теперь либо слишком рафинированные, наученные – слушаются тебя, как рабы. Либо «дикие». Сильно… дикие. А нормальных нет.
– А какие это – нормальные?
– Такие, про которых рассказывала бабушка. Я хочу… хочу не такого, как в Лиллене.
– А в других городах?
– У нас все одинаковые.
Бог Смерти теперь смотрел на нее – его взгляд она ощущала кожей. На этот раз в нем плескалось любопытство.
– Опиши.
– Идеального мужчину?
– Да.
– Ну, – Алька на секунду замялась, – хочу, чтобы он был… сильным. Чтобы мог сам решить, что хорошо, что плохо, чтобы умел защитить семью, чтобы умел… дерзить. Не слушался моих слов беспрекословно, не подчинялся, не ходил на задних лапах. Пусть лучше грубый, пусть лучше кулаком по столу, но со стержнем внутри…
Сбоку послышался сдавленный хохот:
– Прямо меня описала.
– Ну… да.
Она сама удивилась тому, что и в самом деле похоже.
– А, знаешь, – добавила задумчиво, глядя в туман, – такого, как ты, я бы смогла полюбить. Насовсем.
Хохот прекратился. Над крыльцом вдруг повисла такая тишина, будто на сотни миль вокруг ни души – ни скрипа, ни дыхания, – только биение собственного сердца.
– Я… Я сказала что-то не то? – Алька резко встрепенулась. – Ты прости, я не имела в виду… Послушай. Я… – требовалось срочно переключить тему, – все хотела спросить, как я могу тебя отблагодарить за доброту? Ты столько для меня сделал…
– Отблагодарить? – оборвали неожиданно грубо. – Не лезь ко мне. Вообще, поняла?
И ее ставший вдруг мрачным сосед резко поднялся с крыльца, дернул на себя входную дверь – едва не сорвал ту с петель – и скрылся внутри.
Алька, выпучившись, смотрела на белеющий в тумане покосившийся забор.
* * *
Память хранит не только воспоминания. Она так же хранит весь пережитый опыт, который, словно бусины из шкатулки, можно по желанию доставать и перебирать – память делает человека тем, кто он есть.
Баал много раз жалел, что не стер ее. Что не забыл тот дом на узкой улице с высокими деревьями, названий которых он не знал, что не забыл их убогую квартиру, в которой все дешевое, вышарканное и напоказ, что не забыл лица матери.
Лучше бы забыл. А вместе с ним все то, что пережил в детстве, – ворох из разноцветных обид, сомнений, тревог и бесконечных дней без ласки.
«Я могла бы тебя полюбить…»
Сколько раз он пытался сделать так, чтобы его полюбил самый дорогой на земле человек? Сколько раз приносил маме полевые цветы, которые она, не таясь, при нем же выбрасывала в урну, сколько их совместных портретов нарисовал – карандашом, криво и как умел – и все они отправились следом за цветами? Сколько раз принуждал себя сесть за уроки, оценки за которые так и не принесли желаемого счастья, – думал, станет умным, талантливым, умелым, и она полюбит его.
Не полюбила.
Нет ничего сложнее в жизни, чем выпрашивать чью-либо любовь. Нет ничего бесполезнее и глупее.
«Я могла бы…»
Могла бы она. Ерунда! Люди, которые могут, не говорят, что они «могут», – они просто делают.
Регносцирос даже не злился, вместо этого чувствовал страшную всепоглощающую пустоту – вечно это сослагательное наклонение с частицей «бы». И что ему нужно будет сделать, чтобы «могла бы» Алесты переросло в уверенное «люблю»? Остричь волосы, заново изучить манеры, стать рафинированным, как мальчики из ее родного общества?
Ну уж нет. Хватит ему этих «могла бы». Он тоже думал, что мать «могла бы» – сильно старался, – а она не смогла.
На улице жарко, а ему было холодно. Все в жизни хорошо, а ему грустно. Звонил Аллертон, звал в гости в следующую среду, Дрейк так ни о чем и не спросил, заказов было не много и не мало – на жизнь хватало и не утомляло, будни двигались своим чередом.
Но ее «я могла бы тебя полюбить» что-то задело внутри.
И глазам снова увиделся сидящий на подоконнике темноволосый мальчик, ждущий с работы мать и все еще верящий – уже с долей грусти, но все же, – что чудеса случаются.
* * *
Алька ворочалась в другой комнате.
Странно, но именно в этот вечер она вдруг поняла, что должна достучаться до него. Продолжать колотить в запертую дверь столько, сколько нужно, чтобы та поддалась. А все потому, что за той дверью находилось что-то волшебное, что-то очень ей нужное, что-то жизненно необходимое.
Да, он брыкается, рычит и плюется, да он к себе не подпускает, но именно так и ведут себя раненые люди. Не хотят добра, лишь бы не было и зла, – боятся боли.
У нее получится.
Зачем? Станет видно. Но если бы раненой была она, благодарила бы Бога, если бы кто-то стучался в ее дверь, если бы кому-то было не все равно.
«Хороший ты мой…»
Она мысленно гладила мужское лицо кончиками пальцев и представляла, как ее сосед, наверное, уже спящий в соседней комнате, успокаивается, расслабляется, становится умиротворенным, как жесткие складки вокруг губ расслабляются, как расходятся в стороны нахмуренные брови.
– Я тебя не оставлю. Все будет хорошо, – шептала в темноту, – верь мне.
Среда.
Утро.
Чего хотят удрученные предыдущим жизненным опытом люди?
Чтобы от них отстали.
Да-да, гонят прочь, ругаются плохими словами и выглядят злыми и несчастными. И чем хуже опыт, тем злее слова и тем агрессивнее будут гнать.
Алька приготовилась – морально точно. Пусть гонят. Она потерпит, она понимает, что обида – не вариант, она найдет в себе запасы безграничного терпения, как уже нашла решимость использовать в этой «борьбе» все средства и варианты.
Не хочет, чтобы к нему «лезли»?
Она будет делать ровно обратное. Потому что тот, кому тяжело, должен знать, что есть человек, который не уйдет в трудную минуту только потому, что ему сказали «отвали».
И она не отвалит; настроение танцевало воздушное танго.
Да, косметики, конечно, нет, юбка грязная (вечером так и не выстирала), волосы спутанные, но это не беда – легко расчесать. И пусть в этих условиях ее внешность подхрамывает, зато все с лихвой компенсирует радостный блеск глаз. Главное ведь не то, что снаружи, главное то, что внутри.
* * *
Кухня встретила его приготовленным завтраком: тарелкой с жареными полосками мяса, помидорами в соусе и хрустящим хлебом; над кружкой с горячим кофе вился пар. Красота. Баал уселся за стол, не поздоровавшись, тут же принялся за еду – с удовольствием вонзил зубы в хрустящие поджарки, откусил свежий мякиш.
Алеста, вероятно, уже позавтракала, так как сидела тихо, пила чай и задумчиво смотрела в окно. На ее лбу четко прорисовалась морщинка, брови нахмурены, взгляд сосредоточен и рассеян одновременно – с таким видом решают сложнейшие математические задачи.
Какое-то время Регносцирос с любопытством наблюдал за гостьей, пытался разгадать, о чем та думает, затем не удержался, позабыл про собственную просьбу «не лезть» и спросил:
– Ворочаешь мозгами?
Ответом ему послужило задумчивое «угу».
– На тему?
Она будто ждала этого вопроса – повернулась к нему, задумчиво потерла щеку и с готовностью ответила:
– Вот ты сказал, что я могу быть лесбиянкой, так?
Баал едва не поперхнулся. И об этом у нее мысли с утра? Ужас. Судорожно проглотил едва не вставший поперек горла кусок, запил все кофе и не нашелся, что ответить.
– Понимаешь, я думаю о том, что ты можешь быть прав. Но как мне об этом узнать?
Он взялся за хлеб, но откусить так и не смог.
Тьфу ты, нелегкая…
– Откуда мне знать?
– А я знаю! – Алеста заулыбалась. – Все просто. Поцелуй меня!
– Что?!
Если он думал, что ничто не может огорошить его больше, то ошибся.
– Просто поцелуй! Один раз. И тогда я сразу пойму, нравятся мне мужчины или нет.
Веселые глаза, порозовевшие щеки и крайне хитрое выражение на лице – вот засранка! Он взревел:
– Я тебе что – машинка для целования? Бычок для проверки женственности на вшивость?
– Ну, один раз…
– Достаточно с меня!
С этими словами он отпихнул от себя тарелку, с грохотом отодвинул стул и не вышел – почти выбежал из кухни, – не ведая о том, что за его спиной продолжают загадочно улыбаться.
Так, крепежные втулки выточил, фундамент залит, сегодня бы выложить пол и поставить опоры…
Мысли путались, настроение скакало, как крышка от чайника с выкипевшей водой, дело не ладилось.
Недоеденный завтрак она вынесла ему прямо во двор: разложила все на стульчике, приставила рядом свежий кофе и упорхнула, но Баал его так и не съел.
Вместо этого он злился. Кое-как смог сосредоточиться на работе – перетаскал поперечные доски, скрепил их, выдолбил выемки, приготовился тягать вертикальные столбы – три часа пролетели незаметно. Не успело настроение вернуться к отметке «приемлемое», как ему вынесли и обед – поставили его на тот же стульчик, приволокли тазик с теплой водой и полотенце, чтобы обтереться. Добавили к этому чистые салфетки и встали рядом, готовые услужить.
Он едва не лопнул от раздражения:
– Сколько раз тебе говорить – иди уже!
Девчонка не двинулась с места.
– Сначала скажи мне, как тебя зовут.
И ласково улыбнулась.
Да что б ей!
– Ты мое терпение проверяешь? Оно не железное.
– Не злись, я просто подумала, что могу посидеть рядом, рассказать что-нибудь, чтобы тебе веселее работалось, а ты мне расскажешь о себе…
– Алеста.
Он впервые назвал ее по имени, и прозвучало это так грозно, что окрестности содрогнулись. Взглянув в его лицо, она легко и совершенно не обиженно пожала плечами, развернулась и удалилась.
Регносцирос понял, что если сегодня поступят заказы на забор «жмуров», он точно придет в гости с чемоданом для пыток и открутит кому-нибудь яйца.
* * *
Он снова уехал. И снова рядом лежал забытый ею пистолет.
Аля не знала, чем себя занять, и потому стояла у раскрытого окна, наслаждалась порывами свежего ветерка – небо чуть растянуло – и смотрела на нагромождение досок, которым вскоре предстояло стать не то стайкой, не то сараем. И хоть хозяин укатил в неизвестном направлении – ему позарез вдруг понадобился в городе не то новый шуруповерт, не то болты (в ворчании она не расслышала), – ей продолжал видеться в отдалении образ высокого темноволосого мужчины в джинсах и с пилой в руках.
Зачем она рискует? Зачем дразнит его, провоцирует, нервирует своим присутствием? Ведь могла бы сидеть тихонько с утра до вечера в комнате, не мозолить глаза, пить чай, а по вечерам выходить на крыльцо и смотреть на звезды. И две недели пролетели бы незаметно, спокойно, а там… новая жизнь. Равнины или Мир Уровней – она справилась бы (как-нибудь), ведь главное продержаться сейчас, не вести себя неадекватно и странно, не удивлять саму себя сумасшедшими порывами и идеями.
Но она удивляла. Ей хотелось… Нет, не так – ей до отчаянной тоски не хотелось сидеть в комнате, вести себя тихо и быть тише воды, ниже травы.
Но почему?
Ответ долго не шел; качалась у крыльца трава, шелестели деревья; плыли в неизвестном направлении далекие тучи.
А потом вдруг стало ясно – да потому что. Потому что, несмотря на то, что она находится Бог знает где, на окраине некого странного места, ее жизнь вдруг расцвела и наполнилась красками. В ней неожиданно появилось то, чего не было раньше – запахи и звуки, нечто настоящее. Интерес?
Конечно, через две недели все изменится – Алька вернется к цивильному существованию: будет вновь искать работу, учиться жить в новом мире, мечтать о спутнике жизни, а тот будет тенью ускользать. Будут надежды и планы, а того, кто будет колыхать сердце, снова не станет.
А пока он был.
Да, вот так странно. Почему-то именно этот незнакомец – дикарь, вредный упрямец, иногда просто осел – взял и оживил ее изнутри, будто влил в сухой колодец воды. И пусть эта вода иногда казалась мутноватой и странновато пахла, но она все равно была свежей, была живой, она была тем, чего раньше не было. Колодец не должен быть без воды, а вода без колодца – неуклюжее сравнение, но другое на ум не шло.
И да, у нее два варианта развития дальнейших событий: тихо выждать две недели и удалиться прочь, гадая, что могло бы быть, будь она посмелее, или же быть посмелее.
Алька выбирала последнее.
Нельзя бояться. Если в кои-то веки очнулось ото сна собственное сердце, было бы глупо логикой перекрывать ему дорогу – ну и что, что незнакомец рычит? Зато реагирует.
Вспомнив мрачное и крайне удивленное лицо этим утром, Алеста рассмеялась – надо же, как испугался, что придется ее поцеловать, шутку не распознал! Заартачился так, будто она уродливее всех на свете, едва ноги не сломал, как ломился из кухни. Ей бы обидеться, да вот только вместо обиды внутри плескалась нежность – она вновь задела его за живое. И за что-то болезненное. А теперь думала о мужчине, кого сама прозвала «Богом Смерти», и невыносимо сильно хотелось его обнять – приблизиться и осторожно погладить.
Да уж, погладишь. И как, интересно, его на самом деле зовут? Такому ни одно имя не подходит – все кажутся либо чужими, либо чрезмерно мягкими. Вениамин? Джерад? Лиам? Нет, она совершенно не могла представить его Лиамом…
Текли минуты. На мгновенье выглянуло солнце; доски сделались почти золотыми и ярко зажелтели в зеленой траве. Мысли переключились в иное русло, и брови нахмурились – одна вещь волновала Альку уже не первый день – Любовь. Точнее, то количество именуемой этим словом энергии, которым она напитала мрачного соседа за последние трое суток. Сколько она влила в него, как вычислить – литры, куболитры?
«Три бассейна и одно море».
Губы вновь растянула улыбка. Нет, правда, если бы она сделала что-то подобное дома, мать выпорола бы ее ремнем, а после собственноручно выселила жить в Равнины, дабы дочь не позорила женский род идиотской и неуправляемой щедростью. Где это видано, чтобы какому-то мужчине и столько сразу?
А ей хотелось. Хотелось обнимать незнакомца, хотелось растопить его, утешить, позолотить изнутри. Хотелось хоть раз увидеть на его жестком лице улыбку и отблеска тепла в глазах, хотелось знать, что у нее получилось…
Получилось? Согласно учебникам в школе, единственное, что у нее могло из этого процесса получиться, – это нагнести обстановку, потому как ничего, кроме приступов неконтролируемой ярости, агрессии и самолюбования, Любовь в мужчине вызвать не могла – не в таких количествах.
Оно подтверждалось и на деле: чем больше Алька старалась, тем хуже пока выглядел результат.
Пока.
Вот только она продолжала верить не учебникам, а словам бабушки, которая утверждала, что настоящая Любовь – это смесь ласковой нежности, гармонии, понимания и заботы, – а как подобный коктейль мог вызывать ярость? Никак.
Перед глазами вновь встал знакомый уже образ: хмурые брови, жесткие складки у губ, сильная шея, мускулистые руки. Один Создатель ведал, как сильно ей хотелось зарыть пальцы в черные густые локоны, а там хоть трава не расти, хоть в пропасть с разбега…
Алька вздохнула – взялась она за задачку. Но теперь поздно – если отступит, никогда себе этого не простит.
Звук шагов – непривычно тихих и легких – раздался на крыльце, когда она стояла у ведущей в подвал двери и прислушивалась, пытаясь понять, что за ней.
Шаги?
Алька вздрогнула. Если хозяин, то надерет ей уши, но это не он – не может быть он, его ботинки стучат иначе. Значит, гость.
Гость; глухо стукнуло сердце – она оставила пистолет лежать на стуле рядом с подоконником – дура. Стараясь не шуметь, Алеста бросилась наверх, успела к оружию первой, осторожно выглянула в окно и… с облегчением выдохнула.
Они смотрели друг на друга с изумлением – Алеста изнутри дома и… гостья снаружи – незнакомая женщина в белой застиранной майке, гетрах и с копной русых нечесаных волос. Его знакомая? Случайная прохожая? Кто такая и почему с ведром и шваброй в руках?
– Ух ты! – незнакомка очнулась первой, удивленно улыбнулась и положила ключ, который достала из-под крыльца и которым собиралась отпереть входную дверь на стол. – Оставлю тогда.
Алька несколько раз хлопнула ресницами.
– Вы кто?
– Я? Я этот дом убираю. Когда хозяина нет.
– А-а-а… Не надо, я его уже вчера убрала.
Они какое-то время рассматривали друг друга с любопытством.
– Я – Ева, – качнулась русая голова.
– Аля.
Ведь ничего, если она выдаст свое имя? Фамилию говорить не будет, незачем.
Поскрипывал прикрепленный к балке пустой цветочный горшок; громче, будто тоже участвуя в диалоге, зашумела роща.
– Ты живешь здесь?
Что ответить? Мысли заметались.
– Временно.
– Ну… тогда, пока ты тут, я не буду приходить убирать. Я убираю, а он мне еду привозит.
– Кто?
– Хозяин твой. Зверь этот лохматый.
Да, после такого описания не спутаешь, о ком речь; Алька не стала объяснять, что «зверь» – не ее хозяин – пусть думает, что хочет.
– Да, пока не нужно, я сама.
– Ладно тогда, пойду я.
Женщина с ведром развернулась, шагнула с крыльца, затем остановилась, посмотрела на Альку с еще большим любопытством и даже уважением.
– Слушай, а разве с таким можно жить? – спросила без обиняков.
– С любым можно.
– Он же рычит все время?
– Это точно.
– Хм. Вот уж точно, на любителя. Ну ладно, я вон в том доме обитаю, – тощий палец указал за виднеющийся вдалеке соседний дом, – заходи, если что, поболтаем.
Алька замялась, переступила с ноги на ногу, незаметно положила пистолет на стул, чтобы не держать.
– Мне… запрещено.
Блондинка почему-то даже не удивилась.
– Ничего. Просто вывесь на забор наволочку, если хочешь, чтобы я пришла. Увижу, приду.
И, гремя ведром и шваброй, зашагала по двору прочь.
– Хорошо, – кивнула Алька обтянутой свободной майкой спине и вороху русых волос, дождалась, пока гостья обогнет забор, после чего вышла на крыльцо и сунула лежащий на столе запасной ключ от двери в карман юбки. Решила, что так надежнее, успокоилась.
* * *
Он планировал просто: заедет в пару магазинов, купит необходимое и сразу же вернется – на все хватит часа, от силы двух, – но вышло сложно. Дрейк позвонил, когда Баал въезжал в Нордейл, – сообщил, что есть срочное дело, приказал прибыть, мол, «ЧП».
При этом словосочетании Регносцирос покрылся испариной – Начальник прознал про Алесту?
Оказалось, «ЧП» заключалось в другом: на Уровней «Война» в который раз взбунтовались солдаты – захватили казармы, заминировали склад с оружием, потребовали свободу, а не то… В чем заключалось это самое «не то», они с коллегами по оружию так и не узнали, так как первые часы после прибытия на секретный уровень планомерно зачищали периметр, а после того, как бунтарей повязали, таскали на собственном хребте ящики с оружием и гранатами. И все для того, чтобы, если рванет…
Дэлл Одриард – местный сапер – сработал чисто. Но долго. К тому моменту, когда он поднял голову от проводов, отложил в сторону инструменты и произнес «все», они успели перенести в отгороженное бетонной стеной помещение весь склад. А это сто сорок три ящика…
Нещадно болели плечи, ныла спина, Баал матерился. Хотел приехать засветло, а возвращается уже по темноте – несется обратно на окраину, чтобы завтра вновь совершить это ненужное и бесполезное путешествие «Хибара-Нордейл».
Хотелось есть, хотелось спать, хотелось просто закрыть глаза и повесить голову на грудь. Черт, сейчас ему хватило бы не кровати, но любого самого неудобного кресла и тишины.
С «Войны» вернулись уже в шесть. После был магазин, покупки, продукты-тряпки-инструменты, а потом пришли заказы на «проводы» жмуров. И, если с утра ему казалось, что последних он собственноручно придушит с радостью, да еще и поизмывается напоследок (спасибо Алесте за настроение), то на деле, выходя из подъезда последнего клиента, Баал едва переставлял ноги. Еще два с половиной часа работы, еще три «перехода» – шутки ли для энергетического состояния?
В общем, он выдохся целиком и полностью.
А впереди еще двадцать километров пыльной дороги; слипались веки.
(Betsie Larkin & Rafael Frost – Made Of Love (Made With Love rework)
Он не помнил, где поставил машину, не помнил, что ел, – помнил, что нашел что-то съедобное в холодильнике и запихнул это в рот холодным, а после, сбросив с плеч майку, почему-то обосновался в темной и пустой гостиной – наверное, слишком долго мечтал о скрипучем кресле, – к нему и пошел.
Когда спустя несколько минут скрипнула дверь и уединение размыло пролившимся из коридора светом, Баал как раз думал о том, что устал. Не так, как обычно, и даже не из-за сегодняшней физической работы, а в целом: от предсказуемости жизни, от ее медлительности и быстротечности, от ее заторможенности и ее же сюрпризов. Он уже не в первый раз хотел уйти – уйти насовсем. Как и когда не продумывал – еще не переступил черту, но иногда подходил к ней так близко, что пугался сам. Нет, не боялся смерти, но часто гадал – куда попадет при переходе его собственная душа? Кто проводит ее? И не окажется ли, что «там» хуже, чем здесь? А потому все еще цеплялся за привычные спокойные мелочи, за то, что радовало, хоть такового и было немного. Да-да, совсем немного.
Алеста вошла в комнату, сделала несколько шагов вперед.
«Дряная девчонка. Почему она не может просто оставить меня в покое?»
Ему бы разозлиться по-настоящему, подняться, состроить страшную мину, выпалить что-нибудь погрубее, выпереть ее из комнаты, но сил не хватало, и Регносцирос продолжал сидеть. Только бросил, не оборачиваясь:
– Вали отсюда.
– Я тихо.
– Я устал.
– Я знаю.
Она придвинулась еще ближе – он слышал ее дыхание. Шаг вперед, другой; ее руки мягко легли на его плечи, и Баал вздрогнул, как старый побитый пес, чьей шерсти впервые коснулись теплые пальцы.
– Не трогай меня…
– Ты посиди, я тихо, правда. Я совсем не буду болтать, – и она, не спрашивая разрешения, принялась разминать ему мышцы – поглаживать их, продавливать, массировать.
Беспредел. Выпороть бы ее, поставить бы хоть раз как следует на место… Почему она пришла именно сегодня, когда он не мужик, а пустой мешок из-под картошки, и даже рук поднять не в состоянии? Оставалось обиженно рычать:
– Ты всегда болтаешь.
– В этот раз не буду.
– Будешь.
– Тс-с-с…
Мягкие круговые движения, нажатия, скольжение подушечек пальцев и тепло чужого человеческого тела – ему против воли стало хорошо. Не продолжающему сопротивляться уму, а телу. Тело млело, тело плавилось, тело превращалось в воск.
Нет, надо же, ему практически насильно делают массаж, а он сидит и молчит, даже не сопротивляется – полный нонсенс. Наверное, он устал больше, чем понимал сам, – выдохся.
Ну и пусть… Один раз. Всего один раз.
Женские пальцы аккуратно собрали тяжелые локоны, свернули их в жгут и переложили на грудь, затем вернулись к трапециям, продолжили их мять.
Баал млел. В кои-то веки позволил себе отпустить тяжкие думы, отвернулся от забот, выпустил беспокойство наружу и… расслабился. Просто сидел, просто чувствовал, просто наслаждался. Где-то посильнее, где-то послабее – она массировала именно так, как ему нравилось. Долго гладила шею, продавливала точки вдоль выйной линии, ласкала мочки ушей, потом прошлась подушечками пальцев по всей коже головы.
Сколько прошло времени? Пять минут? Десять?
Его продолжали гладить; мышцы постепенно расслабились, размякли, как размякло и что-то внутри – Регносцирос неожиданно поймал себя на совершенно чуждой ему мысли: он счастлив. Да, счастлив – здесь и сейчас, – оттого, что сидит, оттого, что тихо, оттого, что так хорошо. И пусть дальше неизвестность, а позади темнота, жизнь вдруг подарила ему этот момент – теплый, уютный, почти домашний, и кто-то что-то сделал для него просто так.
Для него.
Он слышал, как бьется в ее груди сердце, как шелестит, когда Алеста переступает с ноги на ногу, юбка, как поскрипывают половицы, слышал ее спокойное дыхание и вдыхал ее запах. Не духи, не мыло, не изощренный парфюм, но запах ее кожи – чистый, такой же спокойный, как биение сердца, такой же расслабляющий.
А потом окончательно смежил веки и… заснул.
Проснулся Баал в полной темноте – такой плотной, что хоть выколи глаз, – встрепенулся и неосознанно дернулся. И в этот же момент почувствовал три вещи: первая – с него скатилось одеяло. Его укрыли? Черт возьми, когда он успел заснуть, как?… В чужом присутствии? Вообще размяк, болван, – погладили, и задремал.
Во-вторых, у него под головой лежала маленькая подушка – та, которую он несколько раз видел во второй спальне (в которой теперь спала Алеста), – принесла, чтобы ему удобнее отдыхалось? Эта мысль вызывала смешанные чувства, которым Регносцирос предпочитал обычное раздражение.
В третьих, ОН ЗАСНУЛ. Заснул, когда должен был сначала выставить ее из комнаты, убедиться, что она легла в постель, пройти в собственную спальню и тогда уже, зная, что запер дверь, отправляться на боковую.
Как получилось, что он расслабился настолько, что даже не заметил, как соскользнул в дрему? Не почувствовал, что его укрывают, что ему под голову что-то подсовывают, не услышал, как закрывают дверь, не уловил шагов? Рычать бы, привычно злиться, метать, вот только не получалось – тело отдохнуло, шея не затекла, короткий сон помог восстановить силы. Наклонившись вперед, Баал поднял с пола одеяло и долго смотрел на него, пытаясь вспомнить, укрывал ли его кто-нибудь?
Не вспомнил. Аккуратно свернул, отложил в сторону и заставил себя вылезти из скрипучего кресла.
Он услышал ее еще до того, как вышел на крыльцо – из коридора, через приоткрытое окно.
– Ну, чего ты там сидишь? Иди сюда.
Алеста сидела на ступеньках и нежно увещевала – кого-то звала.
– Слышишь? Иди сюда, я тебя поглажу…
Снаружи темно и тихо; на небесном покрывале высыпали звезды. Он старался двигаться как можно тише – интересно, кого она там зовет? Зовет ласково, будто боится спугнуть. Кого еще черт принес? Баал не удержался, подкрался к окну, выглянул наружу и почти сразу же увидел ее – сидящую посреди двора черную облезлую кошку. Он уже видел ее раньше, у соседского домика, побирающуюся и пугливую.
– Заходи в домик, живи, будешь третьей…
(Она уже приглашает гостей?)
– Хозяин тут хороший, не злой, еда есть…
Кошка продолжала недоверчиво вертеть ушами, слушать шуршащую за спиной траву.
«Хозяин», которого только что назвали «не злым», расслабился, медленно втянул ночной воздух, выпустил его наружу и негромко произнес.
– Меня зовут Баал.
Девчонка на крыльце вздрогнула; он оттолкнулся от подоконника, развернулся и отправился к себе в комнату – досыпать.
Глава 11
Следующие три дня прошли мирно и спокойно; на смену дождливой погоде заступила жара – парила пропитанная влагой земля, выпорхнули из укрытий прятавшиеся до того шмели и бабочки – запорхали, зажужжали над лугами; синело над головой безоблачное небо. Красная линия термометра, висевшего на кухонном окне, почти доползла до отметки «тридцать».
Баал работал и отдыхал одновременно.
С той ночи, когда он приехал уставший, Алеста не донимала его разговорами, все больше молчала, о чем-то думала, а он, довольный оттого, что его оставили в покое, наслаждался жизнью – махал молотком, работал пилой, собирал, шкурил, строил. Мотался в город, закупал продукты, относил часть соседке (которая теперь почему-то тоже молчала, но взирала на него с тройным любопытством), шерстил просторы вокруг хибары, искал «чужаков». Мог бы и не искать – просто сходил бы к Логану – местному хакеру, – попросил бы одну из Комиссионных систем слежения и специальный код к ней, установил бы на крыше камеры и автоматически наводящуюся снайперскую винтовку и… свалить отсюда к едрене фене.
Но почему-то не валил.
То ли оттого, что работать на воздухе оказалось в разы приятнее, чем он предполагал – еще пару недель, и его кожа станет бронзовой от загара, покоричневеет, – то ли оттого, что убаюкивала степенная размеренная жизнь – завтрак всегда готов и подан, обед и ужин всегда на плите, дом всегда вылизан. Пришлось нехотя признать, что такая жизнь ему (как и любому мужику) по сердцу – что тут добавишь? Хорошо, когда о тебе заботятся и когда не достают.
Да и вроде как не один – непривычно и по-своему здорово.
Сарай, опять же, подрастал на глазах – польза.
Настоящая же причина заключалась в другом, и Регносцирос знал о ней, хоть и не желал облекать последнюю в слова, – здесь, в этом доме, рядом с Алестой, он не злился. По непонятной ему самому причине не испытывал больше ни гнева, ни щемящей тоски, что всегда накатывала в городе. Каждое утро просыпался и ждал, что вот сегодня (или сегодня? Или вот в следующее «сегодня»?) его накроет, но – день за днем – не накрывало. Настроение не портилось, перемешанная с горечью тоска не возвращалась, и злиться не хотелось. Почему? Он не понимал.
Нет, раздражаться он раздражался – все больше на девчонку, когда та лезла в личное пространство, – но гнев? Тот самый – подминающий под себя, сокрушительный, жуткий – куда делся он?
Загадка. Баалу хотелось разгадать ее, и одновременно не хотелось знать ответ – а что, если это временно? Может, просто спокойная полоса жизни, случайность?
И он вновь и вновь отмахивался от назойливых мыслей – пусть так, пусть случайность. Главное, на душе тихо, на сердце спокойно: луга цветут и пахнут, сарай с каждым днем все выше, а вокруг дома шныряет гостья в цветастой юбке и довольно мелодично (пока полет/скребет/готовит/моет) что-то напевает – чем ни жизнь?
Отличная жизнь. Можно сказать прекрасная.
* * *
Он привез ей две новых юбки и блузки – Алька радовалась.
И радовалась вдвойне, потому что он сделал это сам, без намеков и напоминаний, без строчки в списке между продуктами.
Она порхала; значит, думал о ней, помнил, размышлял, заботился, как умел. И почему-то больше совсем не рычал. С тех пор как представился на крыльце, просто бросал на нее мрачноватые взгляды, отвечал односложно, но больше не грубил и не хамил – подальше не отсылал и «валить» не приказывал.
Да она, в общем, и не лезла. Нет, вовсе не забыла о нем – продолжала каждый день укутывать «Бога Смерти» любовью, напитывала его энергией нежности, – а сама (благо никто не видел), втихаря наблюдала за ним.
И с каждым днем все больше маялась.
Дело в том, что окно ее спальни оказалось ближе всех к тому месту, где шла стройка, и, если спрятаться за занавеской, было хорошо видно не только сарай, но и самого «строителя» – обнаженного по пояс мужчину. Мужчину, с бугрящимися мышцами, лоснящейся от пота кожей, с рельефно выступающим при каждом взмахе топора прессом.
Алеста отчего-то закусывала губу, когда смотрела на него.
Сначала она думала, что виной всему простое любопытство – ну, не видела она раньше таких… красивых экземпляров, они ей попросту не попадались (и уж точно не полуобнаженные). Те, что у Хельги в «загоне» – не в счет: им специально не позволяли «раскачиваться», потому что, как писали учебники по социальному женскому праву, «так безопаснее».
Да, безопаснее. Наверное.
А вот с буграми на плечах и опаснее, и внушительнее и завораживает куда сильнее.
Вот и получилось, что вначале она посвящала разглядыванию приковывающего внимание могучего торса по минутке в перерывах, потом по две между перерывами, потом и сама не заметила, как засмотрелась – «залипла» на зрелище, как муха на клейкую ленту.
Ох, Ташка бы возрадовалась – наконец-то, Альку проняло! Подруга бы прыгала вокруг и радостно смеялась, а Аля бы смущенно поджимала губы – да уж, проняло, – что есть, то есть. Где это видано, чтобы она (она!) и на мужчин засматривалась? Всегда чинная, всегда спокойная и уравновешенная, всегда, как дразнила Ташка, «ледяная».
А вот вам и не ледяная. Иначе с чего бы каждый раз при взгляде на сильные пальцы и запястья в груди теснило, а дыхание сбивалось?
Совсем как теперь, когда она вновь таилась за занавеской в душной комнате, вместо того, чтобы идти на кухню, раскладывать еду по тарелкам. Резвилась в мужских пальцах пила, перекатывались на спине мышцы, кончик хвоста, мокрый от пота, завивался мелкими колечками – она до сих пор помнила ощущение тяжелых густых волос на своих ладонях.
Широкие плечи, жилистая талия, мощные (даже отсюда видно, даже под джинсами) ноги – при взгляде на знакомую фигуру и черты лица у Альки почему-то сладко тянуло живот, а мысли путались.
Она хотела его.
Эту, поначалу показавшуюся ей безумной мысль она приняла не сразу, а после шока, который прошел далеко не сразу, – она хотела этого мужчину, Баала, хотела как женщина. Коснуться его, обнять, почувствовать на себе его руки. А потому пряталась и не показывалась ему на глаза – боялась, что тот заметит на ее коже испарину и то, как блестят при виде него ее глаза.
И, в конце концов, хотеть мужчину – это ведь нормально? Ей двадцать два года, а она еще никогда никого… не хотела. И захотела – да – в таком вот странном месте и такого странного человека – что ж теперь, вновь отмахиваться от желаний?
Удручало другое: Алька на «Бога Смерти» смотрела, а тот на нее нет. Как на гостью – коротко, – да, а вот как на женщину…
К вечеру она приняла странное решение – нужно это исправить. Если уж интерес проявился у нее, нужно, чтобы интерес к ней проявился и у Баала.
А иначе она попросту сгорит, не дождется, пока пройдут две недели.
Через час натужных размышлений явилась и нужная мысль.
* * *
Он как раз собирался заканчивать на сегодня – стоял и смотрел на кипу обрезков и опилок: сжечь или выкинуть? Или же пустить на заделку щелей? А, может, на декоративное покрытие? С каких пор ему вообще интересно декоративное покрытие?
Когда сзади послышались привычные легкие шаги, даже не обернулся, не отвлекся от размышлений.
– В баке вода кончилась.
– Долго плескалась? – спросил на автомате.
– Не долго, как обычно. Стирала только.
Баал обернулся. И замер. Алеста стояла непривычно голой (или же так ему показалось): с мокрых волос стекала вода, влажная юбка липла к бедрам, а верхнюю часть туловища вообще не закрывало ничего, кроме прижатого к груди… кхм… грудям… кома сырого белья.
– Стирала…
На мгновенье он забыл, что собирался сказать, и вообще не вспомнил, что полагалось говорить в таких случаях. Бак? Вода? Глаза скользили по ее лицу – розовому от мыла, без грамма косметики, но оттого не менее красивому, – по покатым плечам, тонким, но не тощим рукам, по прижатым одеждой полукружьям грудей – еще бы сантиметр вниз, и открылись бы соски…
– Вода … – про что это он? Ах да, – насос слабый. Теперь жди, пока бак наберется заново.
Давно бы его сменить – этот насос, – вот только кому оно надо было? Сам он мылся в простенькой, приделанной к боковой стене хибары душевой от силы пару раз в год, потому и не потрудился обзавестись ни автономной котельной, ни нагревателем, ни нормальной системой подачи воды.
– Я не домылась.
– Быстрее надо было.
Кажется, он отвечал на автопилоте; взгляд против воли продолжал ощупывать ее фигуру – по ощущениям куда более голую, нежели если бы она вообще стояла без одежды. Сквозь мокрую ткань юбки он никак не мог разглядеть очертания трусиков – они вообще на ней были? И еще это тряпье спереди, вздымающее полушария куда лучше корсета. А там было что вздымать…
– А через сколько он наполнится?
– Через час.
Алька вздохнула, но сожаления на ее лице не читалось:
– Я уже высохну. А домыться негде?
Регносцирос кое-как заставил себя отлепить взгляд от чистых босых ступней и перевел его на лицо.
– Это тебе не курорт.
– Ясно.
Она собралась уходить.
В этот момент он кое-что вспомнил и удивился тому, что не подумал об этом раньше:
– Озеро есть.
Нахмурившаяся Алеста радостно встрепенулась.
– Озеро?
– Да.
– Далеко?
– За домом. Если обогнешь хибару с левой стороны, там тропинка. По ней через холм, а там сразу низина. И озеро.
– Вот спасибо!
Она искренне обрадовалась. Развернулась, подхватила юбку одной рукой, чтобы та не мела подолом землю, и зашлепала розовыми пятками по примятой траве по направлению к дому.
А он все стоял и смотрел на мелькающие под сырой юбкой круглые ягодицы, пытаясь понять, «есть на ней трусики или нет»?
Баал никогда не покупал журналы эротического содержания – не видел в них смысла. Какая разница, какой длины у женщины ноги или какой формы грудь, если не знаешь, что у нее – этой женщины – внутри? А вдруг дама, призывно глядящая на тебя со страницы и касающаяся пальчиком собственных ярко накрашенных губ, дура? Или лгунья? Или капризная эгоистичная фифа, неспособная ни слушать, ни понимать других? Сдались тогда кому-то ее ноги…
По той же причине он едва ли обращал внимание на проходящих мимо по улице женщин – длинная ли юбка, короткая ли, глубокое ли декольте, виднеется ли что-то в вырезе – плевать. Пока не поймешь, что она за человек внутри, фасад его интересовал мало. Исключения составляли лишь те леди, которых он «отлавливал» в моменты нахлынувшей похоти – в такие моменты он вообще не интересовался ни нутром, ни изнанкой, лишь хотел «за что-нибудь подержаться» и «куда-нибудь вставить».
А с Алестой получилось странно, потому что наоборот. Ее внутренний мир он уже худо-бедно знал и теперь желал узнать внешний. Да-да, без прижатого к груди белья, без юбки, вообще без какой-либо ткани. Зачем? Логика ответов не давала – молчала, как утративший способность принимать частоты радиоприемник, а вот тело реагировало однозначно, посылая сигналы мозгу, – «хочешь увидеть – иди и посмотри».
И он пошел.
Практически сразу же, стоило мокрой юбке и гордо расправленным лопаткам скрыться за углом хибары, отложил инструменты в сторону и, беззлобно коря себя за любопытство – больше для вида, нежели для дела, – двинулся следом. Нет, не стал притворяться, что возьмет с собой полотенце или мыло – мол, вдруг ей понадобится? Он шел посмотреть – увидеть то, что хотел увидеть, – к чему ненужные игры?
Над озером висел белесый туман – спасибо Создателю, неплотный, едва различимый, как невесомая вуаль – добавлял пикантности общей картине. Закат, ранние сумерки, стрекот сверчков, застывшая по краям от входа в заводь высокая остролистая трава. На водной глади, напоминая фотообои, замерло перевернутое небо – синее, сероватое, со всполохами оранжевого.
Алеста – совершенно голая – сидела на берегу и что-то втирала в волосы; белье лежало рядом. Регносцирос затаился в высоких кустах и непроизвольно залюбовался точеной шеей, линией позвоночника, четко очерченной талией и, конечно же, ягодицами – округлыми, женственными, приятно выпуклыми. Девчонка его не видела и не слышала – занималась волосами: разделяла их на пряди, пропускала сквозь предварительно смазанные чем-то не пенным – кондиционером? – пальцы, терла, массировала.
Как когда-то его шею.
А он, как любопытный мальчишка, все пытался разглядеть грудь – округлые формы той то показывались из-под руки при повороте туловища, то вновь укрывались от взора – ему хотелось подойти ближе. Вот только, если шагнет вперед, то спугнет, а он пришел не для того, чтобы увидеть часть – чтобы увидеть все, что сможет.
Через несколько минут моцион с волосами завершился; Алеста потерла пальцами ступни ног, поднялась, наклонилась, чтобы отряхнуть песок.
Регносцирос тяжело задышал – а ладная девка-то. Прямо сочная, как и полагается настоящей женщине, – мягкая, приятная. Попка чуть шире плеч, форма ног правильная, икры упругие, лодыжки изящные. На такой зад он мог бы смотреть вечно; член под тонкой тканью его штанов налился, засвинцовел.
«Русалка», тем временем, вошла в воду – раздался тихий плеск, по озерной глади пошли круги – и поплыла. Плавала долго, наслаждалась, а он все стоял, смотрел, не мог заставить себя уйти. И не уйдет, пока не увидит грудь – зря, что ли, как школьник, притащился следом? И плевать, что потом каким-то образом придется унимать проснувшуюся похоть.
Купание длилось и длилось; над озером сгущались, тяжелели сумерки. Вот уже оранжевые всполохи на небосводе погасли – облака сделались серыми, фиолетовыми, пурпурными, – туман над поверхностью воды теперь напоминал молоко.
Черт, еще пара минут, и стемнеет. И тогда он не увидит всего, зачем пришел.
Он как раз раздумывал над тем, а не отправить ли ей мысленный посыл – мол, выходи, пора уже, накупалась, – когда Аля самостоятельно поплыла к берегу. Нащупала ногами дно, оперлась на него, пошла, отталкивая руками гладкие ласковые волны, вперед.
И в этот момент он вышел из кустов и двинулся навстречу. Без стеснительности, без притворства – приблизился, чтобы посмотреть.
Интересно, как она отреагирует – убежит? Спрячется? Накричит на него, потребует убраться к черту?
Баал усмехнулся.
Завидев гостя, девчонка на секунду застыла – она как раз стояла по пояс в воде (верх тела прикрыт прилипшими к мокрой коже волосами), затем (он удивился и не поверил собственным глазам) как ни в чем не бывало двинулась вперед. Вперед. Прямо к нему. Прямая, спокойная, без смущения.
И тогда замер он сам. Не дошел до воды метров десять, остановился, жадно разглядывал все новые открывающиеся взору детали: округлые бедра, ямку пупка, темный треугольник вьющихся волос под ним – она, оказывается, старомодна – не бреет там, как другие. Ах да, она же из другого мира и помнит об этом…
Вид небритого треугольника заставил и без того набухшие чресла напрячься сильнее – интересно, какая она там? В своей скрытой пещерке? Недотрога…
Нагая Алеста вышла из воды и остановилась прямо напротив него. Удивила его по полной – не выказала страха, не издала ни звука, не вымолвила ни слова – просто остановилась и теперь смотрела с любопытством и… скрытым вызовом? Ух ты как! Голая, без стеснения, без дурацкого и никому ненужного жеманства – такого он не ожидал. Даже восхитился.
Восхищения, впрочем, выказывать не стал – улыбнулся, протянул к ее телу руки и медленно убрал за плечи мокрые волосы. Открыл грудь, какое-то время смотрел на нее. Затем придвинулся еще ближе, не спрашивая разрешения, взвесил «богатство» в ладонях – приподнял, опустил, приподнял еще раз. Темные соски блестели от влаги, на прохладной от воды коже играли капельки.
Он посмотрел ей в лицо: рот чуть приоткрыт, губы подрагивают, зрачки расширены, глаза блестят, но страха так и нет. Молодец, девка, – не просто ладная, еще и смелая. Ему все тяжелее давалось «неподдавание» зову похоти, но никакого соития в планы изначально не входило.
– Знаешь, даже жаль, что ты не любишь мужчин.
Усмешка. А во фразе проскользнувшая нотка грусти.
– Почему же не люблю?
Ее голос был хриплым, обволакивающим, под стать атмосфере. Воздух вокруг озера застыл; их обнимали теплые синеватые сумерки.
– Потому что ты ни одним из них не пахнешь.
– Потому что я ни с одним до того не была.
– А чего ж всем отказывала? Не нашла достойного?
И, не дождавшись ответа, убрал руки – развернулся, зашагал прочь, оставил ее стоять на берегу, смотреть ему вслед.
Нет, он не зря приходил – такую грудь стоило увидеть и уж тем более стоило потрогать – прохладную снаружи, но горячую внутри, плотную, увесистую, прекрасную.
Однозначно стоило.
Спину Баала жег ощутимый через расстояние настойчивый женский взгляд.
Расплата оказалась жестокой – он бодрствовал полночи. Не мог унять поднявшуюся плоть – два раза ходил мыться в душевую на улице, окунался под холодные струи, сливал бак подчистую, даже раздумывал о том, чтобы дойти до озера – погрузиться в него целиком, – но едва вспоминал о том, что до того в нем купалась голая женщина, как понимал – не поможет. Станет только хуже.
Заснул он уже на рассвете, умаявшись, когда за занавесками начало сереть.
* * *
– Имя. Каким ты хочешь, чтобы оно стало?
Наутро они оба делали вид, что ничего особенного не случилось.
Ну, подумаешь, накануне она стояла рядом с полуобнаженным мужчиной, а тот трогал ее за интимные места. Подумаешь, горела потом полночи, как в аду; утро – оно на то и утро, чтобы вещи в нем выглядели иначе – более резко, но менее значимо, непонятно и размыто.
Баал сидел за столом и притворялся, что Алесты не существует – той, вчерашней Алесты, – а к сегодняшней он относился, как обычно: чуть дерзко, с усмешкой, со знакомым напускным равнодушием.
Ей хотелось дать ему в лоб.
Или сесть на колени. Запустить пальцы в волосы, поцеловать – первый раз попробовать мужские губы на вкус. Они должны быть особенными, в нем все должно быть особенным – она чувствовала это кожей. Но ведь не подойдешь, не сядешь – сгонит. Нужно терпение, нужно выждать.
Они оба играли.
– А имя менять обязательно?
– А как ты собираешься возвращаться? Скоро данные о твоей личности будут стерты, и в Город вернется другая Алеста, которая уже не Алеста.
Алька помрачнела. Имя менять не хотелось – она к нему приросла.
– У меня ведь еще есть время подумать?
– Думай. Но документы надо делать заранее, иначе приживешься тут.
Повисло многозначительное молчание.
Наверное, хозяин вложил в последнее предложение уничижительное значение – мол, будешь бездомной, – а Альке почудилось другое – ей вдруг представилась жизнь тут – их совместная жизнь. С ним, с Баалом. Она бы нашла, чем занять себя, он бы возвращался по вечерам домой, а она встречала бы его – ласково и жадно, любила бы, как женщина любит мужчину. Доверяла бы, уважала, заботилась.
Какие странные мечты. Бред… наверное.
Она, вон, и так шлет ему Любовь ежедневно, а результата ноль – почему вчера ушел? Почему не позволил себе большего – не понравилась?
В это Алеста не верила. Видела, как вздыбились его штаны, и полночи пыталась не думать о том, что под ними.
Вот как бы его подтолкнуть? Уходить из этого дома, не попробовав того, к чему тянулось не только сердце, но и тело, казалось неразумным. Тоскливым.
– А я тебя плохо кормлю?
– Что?
Хозяин о чем-то задумался, и вопрос выбил его из колеи.
– Говорю, я плохо готовлю?
– Нет. Я что – не жру?
Вместо ответа она улыбнулась. Баал «жрал» и жрал за обе щеки.
– Так я бы и осталась. Прижилась бы.
Он счел ее слова не то глупой шуткой, не то завуалированным оскорблением.
– Ты, давай, думай насчет имени, – черные глаза прищурились, и у Альки вновь невпопад заныл живот, – я тебя не на постой привел.
– А если я свой постой отрабатывать буду?
– Чем? Жратвой?
– Уборкой, заботой, любовью.
Желваки на квадратных и небритых челюстях напряглись, недобро поджались губы. Даже воздух в кухне похолодел.
«Вот так всегда…»
– В понедельник я должен отдать данные. Поскрипи мозгами.
– Хорошо, – ответили ему смиренно, – поскриплю.
* * *
До самого вечера Аля изнывала от вопроса, пойдет ли этим вечером Баал на озеро? Двинется ли следом, если она вновь отправится на берег? И как сделать, чтобы он ее заметил? Не подойдешь ведь, не скажешь: «я пошла купаться, в кустах постоять не хочешь?», не позовешь с собой так, чтобы не вульгарно.
А позвать хотелось.
Чтобы снова пришел, чтобы смотрел,… трогал.
Алькин мозг мутился и плавился от грешных мыслей. Все, – как бы сказала Ташка, – она целиком и полностью «запала», а если быть точным – пропала. Изводится от тоски по мужику, который не желает сближаться. Уже изошла вся на пар, «изослалась» любви, издергалась душой и телом от приходящих на ум картин, от желания воплотить хотя бы одну из них наяву; чувствовала: в этот раз будет не так, как с Нилом, будет… здорово, по-настоящему. Хотя бы потому, что трепещет, а не молчит сердце, потому что бурно реагируют гормоны.
Залипла.
И потому Алеста несколько часов занималась клумбой у дома: выдергивала из земли сорняки, высаживала рядком голубые цветочки – зачем? Да просто так, чтобы занять руки, чтобы отвлечь мысли. Потом мела крыльцо, готовила, бегала в спальню, чтобы постоять за занавеской, посмотреть на почти что ненавистный (потому что недостижимый) обнаженный мужской торс.
Ну, нельзя же, в самом деле, быть таким привлекательным? Необузданным, диким – не в плане интеллекта, но внешне. Дерзким, сексапильным, жарким; Любовь лилась из нее, как лава из прожженного жаром ковша.
«Подумаешь, потоком больше, потоком меньше – сама начала этот эксперимент, сама же на него и попалась».
А после обеда Баал куда-то уехал. Не сказал ничего, даже не посмотрел в ее сторону – сходил в душевую, поел, переоделся и хлопнул дверцей машины.
У-у-у.
От «нетерпячки» и возбуждения у нее потели ладони. А еще чесались шея, щеки, и зудело все, что выше юбки, и все, что под ней. Впервые за всю свою жизнь Аля испытывала то, чего никогда не испытывала раньше, – влечение, желание, страсть. И если подобное, глядя на ребят в загоне, каждый раз испытывала Хельга, то теперь (в кои-то веки) Алька прекрасно понимала сестру – мало того, не просто понимала – поддерживала. Она бы и сама сейчас взяла за ручку такого, как Баал, и отвела бы его к мягкой постели, разложила бы на простынях и перепробовала бы все, чего не разрешала попробовать себе раньше.
«А он грудь мою потрогал и ушел».
Внутри клокотал протест против текущего положения вещей.
Она должна его заинтересовать, должна сделать так, чтобы он испытал то же самое – нестерпимый жар в теле и мыслях.
И она справится – он увидит, – она найдет метод.
Часом позже отвлекла соседка, которая принесла в пластиковом ведерке крыжовник.
– Эй, твой, поди, не возит такое?
Алеста удивленно покачала головой.
– А у меня кусты за домом растут. Я давно еще высадила, думала, не приживутся, а прижились. Только ягоды много, куда девать не знаю. Возьмешь?
Аля взяла. А потом долго глядела соседке вслед, думая о том, что той, наверное, очень хотелось поговорить, раз пришла, несмотря на отсутствие белой наволочки на заборе.
«Интересно, они общаются? И если да, то насколько тесно?…»
Додумать не успела; едва гостья скрылась из вида, как заурчал мотор – приехал Баал и новые доски для сарая; вновь застучал молоток, весело зажужжала пила; веселее стало и на сердце.
Вечер навалился душный, обволакивающий, безветренный – самое оно для купания.
Она как раз разглядывала сложенную кучей черепицу – темно-красные глиняные плитки, которые прибыли сегодня вместе с новыми досками и которыми собирались крыть крышу сарая, – когда на крыльце, отужинав, показался и сам хозяин.
С распущенными волосами, с перекинутым через плечо полотенцем, в свободно подвязанных широких штанах и с зажатым в руке бутыльком шампуня.
У Алесты екнуло сердце.
«В душевую? Или к озеру? В душевую? К озеру?»
Пусть бы к озеру, пусть бы на берег, только бы не в тесную кабинку за занавеской…
Когда широкоплечая фигура миновала вход в узкую пристройку (не свернула в душевую! Не свернула! Не свернула!), сердце пустилось выбивать такой бешеный галоп, что затеснило грудную клетку.
Недолго думая, Аля отложила черепицу, подобрала юбку и, стараясь не шуметь, побежала следом.
Вот они и поменялись ролями – сексапильный мужчина в воде, а она в кустах. Смотрит на озеро, затаив дыхание, замерев, полностью позабыв, как двигаться и как думать.
Она умирала и возрождалась. Наблюдала за темноволосой головой, за мощными размеренными гребками, за тем, как расслабляются и прорисовываются на плечах выпуклые мышцы – горела, плавилась и знала одно наверняка: сегодня, когда он выйдет из воды, то прочувствует то же, что и она накануне. Да-да. А она ни в чем себе не откажет.
«Бог Смерти» неспешно наслаждался прохладой и, кажется, знал о ней – о тайном присутствии в кустах девчонки, – так ей чудилось.
Сброшенные штаны белели на берегу кляксой; рядом, наполовину утопленный в песок, стоял шампунь; время от времени, когда пловец нырял, над водой на секунду показывался голый зад.
Он дразнит ее?
Хотелось стонать.
Над озером раздавался плеск, фырканье, летели в сторону брызги. Зачерпывали воду ладони, скользило в волнах мощное тело, мелькали пятки…
А потом все стихло.
Почти. Осталось лишь мягкое покачивание исходящей кругами поверхности и тихий шелест наползающих на берег волн – «нарушитель» озерного спокойствия неторопливо шел из воды.
И тогда Алька двинулась навстречу.
Совсем как и он прошлым вечером, не испытывая смущения (ну, почти), выбралась из укрытия и отправилась вперед – к желанному торсу, мокрым волосам, мощным ногам и прекрасному, покрытому влагой лицу.
Она чувствовала себя собачкой, глядящий на самый аппетитный в мире окорок, опьяненной похотливой развратницей, горячей нимфой, женщиной, целиком и полностью одержимой мужчиной – одним определенным мужчиной….
«Кто бы думал…»
Они приблизились друг к другу.
И, как прошлым вечером, его лицо не выказало никого удивления, лишь насмешку – мягкую и дерзкую – мол, решилась?
Так кто же кого дразнил?
А не важно. Стало не важно в тот самый момент, когда взгляд Алесты, ощупав каждую черточку знакомого лица, шеи, груди, напрягшихся сосков и пупка, добрался туда, куда все это время хотел добраться, – до покачивающегося под черными кудрявыми зарослями ствола. До толстенькой, почти что жирненькой налитой сосиски. Пока еще висящей, но уже под углом, в направлении нее.
И с каждой секундой становящейся все толще, поднимающейся все выше.
Она не удержалась. Слушая грохот собственного сердца, протянула дрожащую руку и коснулась пальцами набухающей мужской плоти – коснулась впервые в жизни и испытала от этого такое острое наслаждение, что захотелось стонать, – осторожно обхватила ее – полумягкую-полутвердую – пальцами, сжала.
Наверное, она слишком дерзкая? Может, неумная? Безрассудная? Совсем дурочка?
Но как хорошо…
Глаза Баала теперь смотрели иначе, как будто через такую же пьяную дымку, а смотрели, кажется, не на нее, а куда-то прочь, в свои собственные мысли и желания.
Аля дерзко заглядывала в мужское лицо.
– Думаешь, ты один хотел потрогать? – прошептала хрипло.
Ей не ответили. И она переместила руку в то место, которого так же желала коснуться – к мошонке. Обхватила пальцами тугие яички (здесь у мужчин хранятся детки), легонько сжала их, шумно выдохнула. Поняла, что еще чуть-чуть, и она не удержится на ногах – ее собственное тело полыхало, кровь кипела, разум почти отключился, сочась единственной мыслью – еще, ближе, ближе…
А ближе нельзя.
«Бог Смерти» хоть и «терпел» сладкую муку, позволял играть с собой, но сдаться бы пока не сдался – Алька ощущала это наверняка. Еще не время, он еще не дозрел, не унял внутренних демонов, а потому оттолкнет.
Ничего, она даст ему время.
Она, все еще держась за мошонку, привстала на цыпочки и медленно приблизила свое лицо к его, поцеловала краешек губ. Затем сдвинулась, прижалась к мягким и жестким одновременно губам своими, коснулась их языком, едва удержалась на ногах. Глубоко вдохнула запах распаленного мужчины и его страсти, заулыбалась от того, что ее собственное опьянение усилилось, почувствовала, что сделалась дурочкой целиком и полностью – счастливой и одурманенной близостью крепкого желанного тела.
Нет, ей сегодня не заснуть.
– Так что? Все еще думаешь, что я не люблю мужчин?
Она, кажется, знала, почему он молчал – боялся, что шелохнется и утратит контроль. И потому оставила его, как и он ее, – отняла руку от упругой и нежной на ощупь мошонки, еще раз ласково сжала пальцами теперь уже горячий и очень твердый вздрагивающий под пальцами пенис – подивилась его размеру, – попрощалась с ним, развернулась и, покачивая бедрами, поплыла прочь.
И пусть теперь мужской взгляд жжет ей спину. Пусть хоть испепелит, глядя на ее женский триумф.
Ступая сначала по сырому, а затем и по сухому песку, Алька покачивалась.
Алька балдела.
Алька ликовала.
Полчаса спустя стемнело.
Ее трясло в комнате. Между ногами пульсировало, жар перекатывался по телу волнами, а сознание разрывало от противоречивых мыслей. Может, она не должна была сегодня вот так? Может, слишком дерзкая? Может, навела его на мысли, что ей нужен от него лишь секс, что он – объект для испытания мужчин и ее самой на совместимость?
«Барашек для проверки женственности?»
Да она и так уже ощущает себя женственнее некуда!
Алька изнывала от навалившихся чувств, от постоянно всплывающих перед глазами картинок вьющихся на груди влажных темных завитков, от ощущения под пальцами сморщенной кожи яичек.
Нет, нужно пойти и сказать ему, что все не так… просто. Что ее тянет к нему – тянет по-настоящему и глубоко, – что она никогда не взялась бы за чей-то пенис, не имея на то серьезных оснований, что не приблизилась бы к кому-то без чувств. И пусть знает. Пусть оттолкнет, если хочет, пусть зарычит, зато не обидится, что она ушла вот так… едва коснувшись. А то вдруг решит, что она «понюхала» его и решила, что он тоже ей не подходит?
А ведь подходит, еще как подходит…
Боже, о чем она думает?
Как раз ни о чем не думает, раз уже соскользнула с кровати. Двигаясь к выходу в полной темноте, Аля поймала себя на мысли, что от волнения совсем не чувствует ног.
– Эй, ты спишь?
Она стояла за дверью.
За его дверью. А из чужой спальни доносились странные звуки – не то шорох, не то поскрипывание. Тихое, но уловимое, равномерное.
Нет, не спит. Значит, выслушает, так? Главное, сказать, что хочешь, быстро и без задержек, чтобы не успел…
Она не стала додумывать. Силясь не растерять решимость, просто толкнула деревянную дверь и вошла туда, куда раньше заходила лишь для того, чтобы убраться, но никогда в чужом присутствии. А теперь обнаглела окончательно, зашла и… застыла прямо на пороге.
Он сидел в свете ночника на кровати.
Голый.
И держался за… за собственный пенис. Не просто держался – сжав его, быстро двигал ладонью вверх-вниз, – при виде нее даже не остановился, лишь взглянул на вошедшую мутным, будто пьяным взглядом, тихо застонал.
У нее сперло дыхание – он ласкал себя.
Из-за нее.
Сердце забилось быстро-быстро, теперь уже так, что загрохотало в ушах, что пересохло во рту, что от прошедшей по телу сладкой судороги едва не подкосились колени.
– Что… ты… делаешь?
Он ответил хрипло, отрывисто, зло.
– Выкидываю тебя из головы.
Вместо того чтобы уйти, она стояла, завороженная, – смотрела на разметавшиеся по плечам тяжелые черные волосы, на напряженные запястья, на большие теплые пальцы, обхватившие член, на их ловкое скольжение.
– И как… получается?
С кровати зарычали. И рык этот, вместо того, чтобы напугать ее, прошелся по телу еще одной сладкой волной – Аля, едва понимая, что делает, потрогала себя за грудь, расстегнула пуговицы на ночнушке и двинулась вперед.
Баал от напряжения потел – в свете лампы его кожа лоснилась. Она теперь от возбуждения потела тоже. Подошла к постели, спустила с плеч сорочку.
– Дай… я помогу.
Она никогда не умела этого делать, но ей было все равно – ей хотелось его почувствовать – как-нибудь, где-нибудь… она поймет… как.
– Уходи.
– Нет.
– Иди… уходи.
– Нет. Я хочу…
И, наблюдая за работой обхватившей толстый ствол ладони, она опустилась у его ног на колени. Приблизила свое лицо к выглядывающей головке – ближе, еще ближе, – лизнула ее, зажмурилась от удовольствия.
– Чертова… девка…
Плевать. Ей стало настолько плевать на слова, что выкинуть ее теперь из комнаты можно было, лишь прервавшись, лишь вытолкав насильно, войлоком уперев за волосы.
«Какая… она… прекрасная».
И Алька накрыла верхушку члена ртом – принялась облизывать ее, обсасывать, ласкать языком. Не стала мешать чужой руке, но приноровилась к темпу и… дала себе волю. Нежно водила языком по тугой бархатной коже, причмокивала, наслаждалась, смаковала, все старалась поместить в рот побольше и прочувствовать, обласкать каждый миллиметр.
Она больше не думала – растеряла все мысли; голова плыла, кружилась, между собственных ног пульсировало – Алька протянула туда руку, чтобы коснуться, а потом…
Потом ей прямо в рот ударила горячая струя. И она до самой последней капельки влаги была выпита, вылизана, просмакована и проглочена.
В комнате стихло.
Баал, закрыв глаза, обмяк, а она, словно наевшаяся сметаны кошка – дурная от собственной дерзости и все еще облизывающаяся, – сидела у его ног.
Затем тихонько поднялась – тихо скрипнула половица, – запахнула ночнушку и, шатающаяся, глупая и отчего-то необъяснимо довольная, вышла из его комнаты.
Закрывая дверь, подумала, что если ее теперь выкинут из хибары, то выкинут как человека, отважившегося совершить главное ограбление мира, то есть полностью счастливую.
Глава 12
Он припер ее домой с улицы – толком не помнил, что говорил, как уболтал ехать с ним – как-то уболтал, – и теперь, доставив домой, шумно дыша, раздевал.
Красновато-каштановые кудри, округлое лицо, кофточка, под ней топик…
Стены особняка дрожали под напором страсти. Вот только страсть была фальшивой – чрезмерно пахнущей цветочными духами, мажущаяся красной помадой, чужая, будто не его собственная – Баал силился не видеть этого.
Он должен был утихомирить похоть. Как-нибудь…
Топик трещал, бюстгальтер тоже – на свет выглянули груди. Он уставился на них растерянно.
– Ну, чего же ты медлишь, красавчик? Давай…
Женщина, чьего имени он не знал, старалась помочь ему – извивалась, шумно дышала, стягивала с себя одежду, цеплялась за его штаны пальцами с длинными накрашенными ногтями.
– Не медли, возьми меня…
А он стоял. Через секунду пересилил себя – положил руки на чужие холмики, сжал их пальцами, взвесил – не то.
Не то, черт подери!
– Не смогу.
– Что?
Ему в лицо смотрели удивленные глаза. Почему-то зеленоватые. Чьи они, кому принадлежат?
– Не смогу с тобой кончить.
– Да ты ведь еще не пытался? Давай, я сейчас помогу… Ротиком.
В его ширинку вцепились, попытались вытащить наружу увязший в трусах и джинсовой ткани член – вцепились слишком сильно. А груди под руками казались не такими – вялыми, хоть и большими, дрябловатыми; соски отливали вишневым.
– Нет.
– Что?
– Нет, говорю.
На этот раз «ЧТО?!» пропечаталось на лице незнакомки – злое, осуждающее, с ноткой растерянности. Она не подошла? Почему? Ведь сам увязался на улице, сам говорил «пойдем», сам смотрел так призывно, что она не удержалась, уступила, – а теперь «нет»?
– Ну ты и сволочь…
– Я…
Он не стал долго разговаривать – ждать скандала, оскорблений, новых потоков злости, – просто положил руку ей на лоб и отправил жесткий энергетический сигнал – «спи».
Практически сразу же глаза незнакомки закатились – она вздрогнула, будто неслышно икнула и сползла по стене неуклюже, как мешок, до самого пола – он едва успел подхватить ее на руки. Уложил головой на плинтус, долго смотрел, дышал, думал, как избавиться от тела так, чтобы не обидно. Одеть, высадить на лавочке в парке? Узнать адрес, отвезти домой, оставить у порога?
Так ничего и не решив, опустился на корточки и принялся прилаживать друг к другу поверх обнаженной груди лоскуты порванной одежды.
* * *
(Boral Kibil – You & Me)
Если он переспит с ней – к чему в итоге придут их отношения?
А не переспать уже не сможет.
Ловушка. Ловушка, черт подери, в которую он сам себя постепенно загнал. Ведь видел, что шагает к краю, но шагал к нему, предпочитал слепоту – предпочитал опасную игру. В первую очередь с собственным сердцем.
Незнакомку он отвез по указанному в ее правах адресу, оставил у двери – слышал, внутри кто-то есть, и, значит, найдут. Вернулся домой, пытался забыться, злился, что не может выпить – снова за руль, – несколько минут посидел у камина, потом почувствовал, что нечем дышать.
Душе нечем дышать.
Пошел в парк.
Баал не любил парки – в них всегда царило людское умиротворение, благодать, покой – ложные для него благодать и покой, но хотелось тишины – не домашней, внешней. И теперь, совершенно не вписывающийся в обстановку, одетый во все черное, слишком грузный внутри и снаружи, он сидел среди деревьев на выкрашенных в ярко-желтый досках.
«Цепной пес в песочнице».
Просто не ехать бы никуда, не возвращаться, да нельзя. Почему он не установил на крыше хибары винтовку?
Потому что хотел быть там. Защитить ее там. Хотел быть с Алькой.
Дурак. Он был идиотом раньше, а теперь стал им еще больше.
Его отец когда-то сказал, что демона нельзя загнать в ловушку, но человеческая часть души сына однажды даст брешь и доведет того до беды – так и случилось. Не хотелось признавать, но прародитель оказался прав. Неизвестно, что все это время Баал пытался надежнее удержать в узде – свою черную часть или же белую? Ту самую белую, которой вдруг понравилось находиться на краю мира вместе с определенной девушкой, которой нравилась забота, светящаяся в карих глазах нежность, кроткость и необидчивость. Той самой части нравилось допускать сентиментальные мысли, нравилось смотреть, представлять, думать, мечтать…
Мечтать. Он, должно быть, в конец забылся! О каких мечтах может идти речь? Он – демон, она – обычная девчонка. Стоит ей пронюхать больше, как сантименты кончатся. Узнает, что у него крылья, – пнет по самым яйцам; скажет про отсутствующую половину души – и покатится, отвергнутый, по всем овражкам. Не он ли уже пробовал эту дорожку, думал, что женщинам можно доверять, что им можно открываться, что можно хотя бы надеяться на понимание?
Верил когда-то. Дурак.
Почему сам не видел, что допускает то, чего не должно было случиться? Завтраки – ладно. Обеды, ужины, уборки, близкое соседство (а куда ее было селить?) – ладно. Но зачем было подглядывать за ней на пруду? Зачем было идти туда следующим вечером? Почему не смог выгнать, когда позже вечером она вошла в комнату? Почему допустил то, что случилось после?
Ему хотелось стонать, рычать, хотелось вырвать на себе волосы – он ослаб.
Давно не пинали в пах? Не всаживали нож в спину?
Вспомнилась Ирэна – бывшая пассия, – на душе сделалось гадко.
– Ты сможешь полюбить меня такого?
– Я ведь с тобой.
– Полюбить сможешь, скажи?
– Почему ты допрашиваешь меня, милый?
– Просто скажи…
Она так и не сказала. Очевидного. Демона любить нельзя – демона можно либо использовать, либо бояться – другого не будет.
В его голове всплывали обрывочные фразы и далекие голоса – матери, учительниц, злых на язык соседок: «Нахал… Не уверена, что человек… Ты – проклятье! Отродье! Лучше бы ты родился девочкой…»
Он не родился девочкой, не сумел. И всю жизнь вбивал себе в голову, что ни одна женщина, если уж мать не смогла, не сможет его полюбить. Почему начал надеяться вновь?
Не начал!
Начал.
Не начал!
А кому позволил вчера войти в комнату? О ком думал последние несколько ночей? Чьим вниманием наслаждался за завтраками? К чьим шагам постоянно прислушивался? За чьим настроением, делая вид, что не следишь, пристально следил?
Крыть было нечем.
Следил, да. Она стала ему небезразлична – девчонка с каштановыми волосами и необыкновенно красивыми глазами. Дерзкая и податливая одновременно.
Людская часть… Людская часть… Людская часть. Он на секунду позволил взять ей верх – принялся представлять то, что могло бы получиться. Не могло, но на мгновенье он погрузился в иллюзию, вообразил, как он и Алеста лежат на кровати, как она подушечками пальцев нежно гладит его лицо…
– Ты – мой мужчина. Я тебя выбрала.
– Почему?
– Потому что люблю.
– Правда?
Он не стал бы спрашивать, правда ли это, он бы почувствовал. Все увидел бы по ее глазам и… открылся. Допустил внутрь себя, рассказал все секреты, не стыдился бы плакать у нее на плече. Будучи мужчиной, он всегда оставался мальчишкой, и ему часто хотелось плакать – не позволял себе в детстве. Много чего не позволял, но слезы точно были табу. Поэтому сейчас хотелось. Он никогда и никому не признавался в том, насколько уязвим – не внешне, внутренне. Насколько всегда жаждал быть любимым, мечтал об этом, корил себя за это, обзывал последними словами, наказывал внутреннего мальчишку так же, как наказывала мать. Хуже. Хуже, потому что знал, что в любви ему отказано, – в мимолетной ласке, в трахе, в притворной нежности – нет, а в любви – настоящей, глубокой, честной – да.
А он хотел ее. Чтобы кто-то стал навеки его, желал стать для кого-то единственным и самым нужным. Мечтал стать для семьи опорой, для жены – своей (именно своей) женщины – надежным мужем, защитником, домом.
«Твоя человеческая часть подведет тебя».
Она его и подводила. Уже подвела – он вновь позволил себе мечтать. Хоть на минуту, но допустил это, и, значит, придется страдать. Пока вновь не вытравятся кислотой плохие слова надежды, пока не захлебнутся в потоке рационального мышления мечты, пока он вновь не поверит, что демон.
Просто демон. И ничего более.
* * *
Она не позавтракала, не застелила постель, не отправилась облагораживать клумбу или мыть полы – ничего не стала делать. Не могла. Сидела на краешке кровати в полутемной спальне и смотрела наружу, на недостроенный сарай, над которым на бескрайнем синем небе ветер гонял кудрявые облака.
Глаза сухие, на сердце тоска. И страшно.
Она что-то сделала не так, ошиблась, ступила на запретную территорию, и теперь он уехал. Впервые не позавтракал, даже не зашел на кухню, не поздоровался. Прошел мимо – не посмотрел, – обдал холодом равнодушного выражения лица и укатил.
Не вернулся и к обеду.
Аля не просто печалилась – страдала, – и не могла понять, чего боится больше? Собственного поведения (что нашло на нее вчера?) или же возвращения хозяина? И если первое было объяснимо: между женщиной и мужчиной всегда может случиться притяжение (оно и случилось), то второе – возвращение Баала – что принесет оно?
Кружили, как вороны, черные мысли.
Он выгонит тебя. Придет и скажет – уходи.
А она не хотела уходить, не теперь. Боялась этого странного желания и того, что ей тоскливо без него и пусто. Его нет, а ей хочется плакать, ей хочется его назад – лишь бы был рядом, лишь бы ходил, стучал молотком, лишь бы просто… присутствовал.
Впервые в жизни Алеста изливала любовь в тоске – думала, такое невозможно. Жалела себя, почти ненавидела, что пропустила странный момент – момент осознания неизбежного. Она хотела быть рядом с кем-то. Сильно.
С ним, с Баалом.
Дурочка-дурочка-дурочка.
А он приедет и теперь, наверное, прогонит.
Обед не сварен; солнце перевалило через зенит.
Как быть дальше, что делать?
Еще два часа в бессмысленном кружении по дому, в тревогах и сомнениях – а на сердце все тяжелее, все сложнее разобраться в собственных чувствах. Ведь раньше хотела уйти, ждала, пока пройдут две недели, почему не ждет теперь?
К горлу подкатывала истерика; дрожали ладони.
В какой-то момент Алька не выдержала – сдернула с подушки наволочку, сложила ее вчетверо и вышла на улицу, в пустой двор. Постояла на крыльце, потерянная, затем шагнула на тропинку. Подошла к покосившемуся забору, перекинула через нее ткань, расправила ее, постояла так с минуту. Затем двинулась дальше.
Еще никогда она не бывала у соседки – не было ни необходимости, ни повода, а теперь пришла. Постучала в дверь, не зная, что сказать, лишь кивнула, когда открыли.
А ее не стали спрашивать лишнего – бросили: «проходи».
Усадили за стол, налили чай, сочувственно посмотрели.
– Вы чего – поругались? Думаешь, я зря здесь живу? Тоже поругалась со своим когда-то. Эй, послушай, ну, бывает. Как поругались, так и помиритесь… Ну, не реви, не реви…
А Алька уже не могла – рыдала. Закрыв лицо ладонями, сидела на чужом стуле и сотрясалась от плача, от накатившего ощущения горя, неизбежной беды, от того, что внутри прорвало.
– Не реви. Образуется.
И ее потрепала по плечу женская рука.
(Спустя несколько минут).
– Он не такой, он не страшный…
– Может быть.
– Ты его просто не знаешь!
– А ты? Знаешь его?
И гнетущая тишина. Распухшие красные веки, закапанный слезами чай.
– Хочу узнать.
– Дорожка это непростая, девочка. За любовью гонимся, настигаем, а удержать не знаем как. Ты, главное, головы не теряй, – тяжелый вздох, – так и себя потерять недолго. А уж с таким, как он… Он же замкнутый очень, – ты не обижайся только, – дикий.
– Дикий, – кивнула Алька.
И почему-то улыбнулась.
* * *
Раньше бы он сделал иначе – попросту не вернулся бы.
Теперь не мог – что-то изменилось. Понимал простую вещь: если они сделают вид, что ничего не случилось, и будут игнорировать взаимное притяжение, то умаются оба. Она – от тревоги и непонимания, он – от похоти, и потому этим вечером Баал принял странное для себя решение – он позволит им сблизиться. Хотя бы физически. Просто не будет лгать, не будет лелеять ложных надежд, но и отталкивать не будет – впервые в жизни осознанно позволит себе быть с кем-то. Пусть и временно.
Все объяснит, будет честен, а там либо пусть принимают таким, каков есть, либо отказываются от предложенного.
Зато без лжи.
Всю жизнь он избегал отношений, ненавидел разборки, терпеть не мог эмоциональные «скрепки», а тут переступил через себя.
Вечер; Нордейл все дальше, хижина все ближе.
И будь, что будет.
Вернувшись в дом на окраине, Баал обшарил в поисках еды холодильник, что-то съел, затем налил себе оставшегося в бутылке кваса и опустился на скрипучий стул. Долго смотрел в окно, за которым пали на луга сумерки, даже на крыльцо не шел курить – мучился.
В комнатах тихо, но Регносцирос присутствие гостьи ощущал кожей – она сидела в собственной спальне, – тоже не выходила, чего-то боялась. Его? Нет, вроде бы, не его. Себя? Своей тяги к нему?
В груди свербело от непонятных чувств.
А он, оказывается, соскучился по этому месту – несколько часов отсутствовал, а уже затосковал. С Алестой здесь стало иначе: уютней, теплее – он незаметно для себя отогрелся. И пахло здесь по-другому: травами с окна, жиром от плиты, выполосканной в порошке, сохнущей на краешке ведра тряпкой.
В какой-то момент в коридоре послышались шаги.
– Я не варила сегодня ничего, ты извини.
Голос робкий, тихий, глаза в пол.
– В холодильнике полно еды.
– Да, там со вчера осталось…
– Я все нашел.
Она потопталась на пороге, будто ожидая чего-то, потом ушла.
Он вновь остался один. Наедине со своими мыслями, тягучей тоской и сомнениями.
Может, он уже не нужен ей? Поняла вчера, что не по нраву, одумалась? Значит, все пойдет по-старому, как он изначально и хотел, – просто доживут вместе две недели, «добудут», а после отправит ее прочь от себя – в мир, навстречу вольной жизни.
Будет скучать, конечно, но, наверное, не по самой Алесте – не по ее мягкому телу, которого никогда не коснется, и теплым глазам, – а по чему-то несбыточному, по мечтам, что изначально не имели шанса когда-либо воплотиться. По пальцам, гладящим его затылок, по доброй улыбке на губах, по напевам, что все эти дни слышались вокруг крыльца.
И он все еще хотел ее. Сильно. Давно уже не девчонку, но созревшую красивую женщину, не пахнущую ни одним мужчиной. Вероятно, еще долго будет хотеть, наблюдать издали за ее жизнью, злиться, если увидит с другим, мучиться, когда поймет, что нужно как-то отпустить, что изначально не имел на нее прав.
Он – демон – ни на кого не имел прав. И ни на что – даже на мечты. Тем более, на них.
А Алеста в этот момент ступила на кухню снова. Сначала молчала, затем заговорила быстро и сбивчиво – он смотрел в окно, – что-то лепетала о том, что ни за что не ступила бы к нему в комнату, если бы не чувствовала притяжения, если бы не желала этого сама. Может, обидела? Так, она не хотела, просто не знала, как помочь. Она вообще хотела другого – чтобы он знал…
Чтобы он что-то знал; Баал не слышал слов.
В какой-то момент он повернулся от окна, посмотрел ей в глаза и хрипло спросил:
– Я тебе нужен?
И речь оборвалась – как обрубили. Аля моргнула – карие глаза распахнулись, рот приоткрылся, а сердце заколотилось так быстро, что даже он услышал.
– Я тебе нужен? Хотя бы сегодня?
И она вдруг изменилась лицом, просветлела, а кухня моментально пропиталась ее радостной решимостью – он удивился такой мгновенной перемене и незримо осел, – выходит, боялся ответа.
– Нужен? – несмелый шаг ему навстречу; кисти ее рук дрожали. – А можно не только на сегодня? Можно на дольше? Потому что нужен. Очень нужен…
И обняла его. Сама.
Он не мог ей предложить ничего из того, что должно было присутствовать в первой ночи: ни широкой мягкой постели, ни золотого на столбиках балдахина, ни уютного освещения, – но мог предложить себя. Пусть лишь этим вечером, но зато всего – целиком и полностью.
Он умел чувствовать людей, как никто другой – умел знать их желания, позывы, стремления, ощущал мечты и теперь впервые в жизни радовался этому умению, ибо применял его для хорошего. Растекался, чувствуя под руками податливое тело, впитывал его жар, движения навстречу, мягкость губ. Вздрагивал сам, когда вздрагивала она, ловил каждый вздох, каждый отзвук дыхания, каждый мимолетный позыв. И ласкал так нежно, как думал, не умеет.
Он гладил, лелеял, он дарил. А ему дарили в ответ – нежность, доверие, волны любви.
Она оказалась еще мягче, чем он предполагал, но с жаром, со страстью, с неуемным желанием отдавать. Руки неумелые, но ему и не нужно, губы дрожат, но он умеет успокоить сам. Налитая грудь – та самая, правильная, – тонкая талия, стройные ноги; ее сердце и тело пели под ним – он чувствовал, слышал. Понимал, когда нужно нежнее и медленнее, ощущал всю готовность и неготовность, вошел тогда, когда стало можно…
И ночь потеряла очертания. Узкая неудобная кровать превратилась в бескрайний шелковый ковер, стены ветхого дома в самое теплое в мире пристанище, и весь мир вдруг сосредоточился в единственной точке пространства – самой нужной и самой правильной.
Он не закончил сам – не стал пугать ни диким темпом, ни бешеным напором.
Дождался, когда под его телом стихнут судороги, когда ее колени, губы и руки перестанут дрожать, когда отзвучит стон, и откатился, лег рядом. Притянул Алю к себе, уложил ее голову себе на плечо, прижал.
Тесно; его локоть упирался в стену. Вокруг стояла нетронутая звуками глубокая ночь.
А рядом лежала женщина.
Смотрела, как и он, в потолок, гладила его подушечками пальцев по груди, молчала и иногда вдруг вздрагивала вновь. И тогда он успокаивал ее поглаживанием.
Теперь она пахла мужчиной.
Она пахла им.
Глава 13
Он думал, что знает, как выглядит счастливая женщина, – оказывается, не знал.
Алька светилась. От счастья, от физически ощутимого разлившегося вокруг нее умиротворения, будто от какого-то недоступного ему знания, которое вдруг сделало ее мир особенным.
А Баал ходил напряженный – не знал, как себя вести, и потому помалкивал. Молчал и за завтраком, только спросил, придумала ли она себе имя, – ему с улыбкой покачали головой – и ушел строить сарай.
Он старался забыться в работе: орудовал инструментами до седьмого пота, таскал бревна – иногда, кажется, таскал их бесцельно – и знал, всему придет конец. Он обещал ей быть честным, но не мог решиться на разговор – не осмеливался стереть с ее лица блаженное выражение, щадил.
Себя или ее?
В обед на кухню его приманил запах мясных лепешек.
Теперь она напевала, когда накладывала еду, когда заварила чай, когда зачем-то взялась месить тесто.
– Хочу сделать сладкие пирожки. Любишь?
– Не знаю.
Он действительно не помнил, когда в последний раз ел сладкие пирожки.
– А я люблю. Мама их сама не пекла, но пекла Клавдия.
– Кто это?
– Экономка.
У них, оказывается, была экономка. Интересно, Алеста скучала по своему миру?
Лепешки он уминал быстро, хотел поскорее уйти с кухни – дергался оттого, что никак не мог выработать собственную линию поведения. Осчастливленная, как и у Али, часть его души, просилась показаться наружу и тоже желала запеть – он не давал ей хода. Неизвестно, долго ли идиллия продлиться.
«Может, уже сегодня я не стану ей нужен».
Хмурился, хлебал морс, смотрел в сторону; напевы от плиты не прекращались.
– А твоя мама что-нибудь пекла?
– Не помню.
– А ее саму ты помнишь?
Регносцирос нехотя кивнул.
– Она хорошая была? Твое детство было хорошим?
– Не хочу об этом говорить.
– А ты давно ее видел?
– Давно.
– Она живая?
– Надеюсь.
– Надеешься?
Он помрачнел еще сильнее; брови на лице Альки взлетели – вопрос повис в воздухе.
– Сказал же, не хочу об этом говорить.
– Ну и не надо.
Ему улыбнулись. На него смотрели с любовью.
Ближе к вечеру, когда жара начала спадать, она принесла ему на стройку стакан с морсом – поставила его, запотевший от холода, на сложенные бревна. Спросила:
– А ты сегодня не уедешь?
– Куда?
– На работу.
– Сегодня нет.
– А завтра. Ты ведь завтра тоже работаешь?
– Если не вызовут, не уеду.
– Это хорошо.
Баал почти докрыл крышу, думал о том, что брус нужно пропитать, а антисептика нет. Купить бы еще лак да покрыть пол – ладно, купит в следующий раз, когда будет в магазине.
Ветер развевал ее длинные волосы – мягкие, чистые, блестящие. За то время, что она гостила в этом доме, Аля никогда не убирала их ни в валик, ни заплетала в косу – ему нравилось. Напекало солнце; день стоял чуть ветреный, погожий.
– А тебя всегда вызывают, чтобы кого-то наказать?
– Я не наказываю.
– А что ты делаешь?
– Привожу приговор в исполнение.
– А приговоры всегда плохие?
Ему не хотелось об этом говорить, но он кивнул.
– Всегда.
Карие глаза смотрели на него без осуждения, с любопытством.
– Это трудно? Твоя профессия трудная?
– Непростая.
– Я так и подумала, – она какое-то время сидела на пеньке, затем поднялась, отряхнула юбку и взглянула прямо ему в лицо. – Приходи, как закончишь, на озеро. Я буду тебя ждать.
И, может от страсти, что тлела в ее взгляде, а, может, от того, что страсть эта перемешалась с теплой ласковостью, Баалу сделалось жарко.
Он пришел туда час спустя – старательно сдерживался, чтобы не броситься к уходящей за дом тропинке сразу же. Кое-как выиграл у себя самого этот поединок.
– Искупайся, – приказали ему ласково.
Та, что позвала его на озеро, сидела на песке с влажными волосами, нагая. Рядом лежало полотенце; Баал подчинился. Поплавал, чуть остыл – не внутри, но хоть снаружи, – а когда вышел на берег, ему почти сразу же преградили путь.
Когда Алеста опустилась перед ним – ошарашенным, – на колени, он даже не успел отреагировать – ни вымолвить полслова, ни удержать ее от этого, ни даже скрыть удивления.
– Научи меня.
– Чему? – прохрипел смущенно и едва не закашлялся, когда его пениса коснулись теплые пальцы.
– Я не умею ртом. Но хочу знать, как. Научи.
Он не научил.
Стоило его плоти вздыбиться, он кончил почти сразу же.
Летние сумерки пахли травой, корнями и влагой; с озера тянуло тиной. Лениво тлел над горизонтом закат, небо над головой уже потемнело; над водой стоял туман.
Они лежали на одеяле, которое Аля предусмотрительно принесла с собой – лежали рядом, смотрели, как меркнет высь, слушали размеренные трели цикад.
Баалу больше не хотелось разговоров – никаких, никогда, – ему хотелось остановить мгновенье. Чтобы вот так вечно: над ухом теплое дыхание, под рукой покрытое пупырышками мягкое плечо, над головой счастливая, уходящая вдаль бесконечность. И покой.
Алька о чем-то тихонько рассказывала. Временами он прислушивался, временами нет – мог бы повторить ее рассказ слово в слово, но предпочитал не вникать в смысл – тек вместе со временем, жил этим мгновеньем, растворялся вместе с сумерками.
– …тридцать минут в день. И это, если мужчина заслужит высокое положение в обществе – станет мужем. Всего тридцать минут, представляешь?
Она говорила о любви. Наверное, все женщины любят о ней говорить; а ему было плевать, о чем – просто нравился ее голос.
– Я до сих пор не знаю, как у моей матери получалось переключаться в этот режим и быть ласковой с отцом в те самые отведенные полчаса. Как вообще можно переключаться? Ведь либо ты любишь, либо нет, разве не так? Знаешь, я много думала об этом. С самого детства нас учили, что посылать Любовь мужчинам опасно. Что мужчины становятся с нее агрессивными, излишне самоуверенными, но я всегда в этом сомневалась. Не поверишь, не могла понять, как доброта может вызвать злобу, как хорошее может перетечь в плохое? И знаешь, к какому выводу пришла?
Ему не хотелось разлеплять губы; сами собой смыкались веки – не от сна, от странного ленивого умиротворения. Как же хорошо, оказывается, жить без гнева…
– Какому?
– Что это женщины боялись. И боялись себя, а не мужчин.
Интересный вывод.
– Почему боялись себя?
Алеста приподнялась на локте; в вечернем свете ее глаза казались еще темнее и глубже – в них не было дна.
– А потому. Они боялись, что начнут любить, как любили раньше, еще давно – необузданно, страстно, всей душой. И залипнут. А если так, то вновь начнут страдать – они боялись боли, того, что их любовь отринут. Вот и вышло, что, ограничивая мужчин, они в первую очередь ограничили в чувствах себя. Чтобы не бояться, чтобы не болеть, не тосковать, понимаешь? И, чтобы ни у кого из девочек не возникло сомнений, приписали нашей женской энергии отрицательные свойства, солгали нам всем.
– Думаешь?
Он ухмыльнулся. Незло, подшучивая над ее кропотливым мыслительным процессом.
– Уверена.
– Значит, ты не хочешь обратно в то общество?
– Нет, – она даже не задумалась, сразу же замотала головой, – зачем мне? Мне здесь хорошо… здесь. – Ему показалось, хотела добавить «с тобой», но не добавила. – Разве ты не чувствуешь, как это прекрасно – любить без ограничений? Не по тридцать минут в день, а каждую минуту, постоянно?
Баал не ответил, но внутри кольнуло сердце, будто в него всадили маленькую иголочку; над озером высыпали первые звезды.
* * *
Следующие три дня он жил, будто во сне, не узнавал сам себя, – сделался покорным, зависимым от нее. В те редкие моменты, когда пробуждалась темная сторона, корил себя, осыпал проклятьями, призывал очнуться, но не мог – в нем побеждал человек – та светлая его часть, которая впервые в жизни вырвалась на волю, потянулась к чужому свету. И как не тянуться, когда с утра его встречали улыбкой, кормили, поили, заботились; когда ждали, если уезжал; когда встречали жадными руками, теплыми губами, объятьями? Не мог оттолкнуть, не мог преодолеть себя, хуже – не хотел. И с каждой минутой все глубже тонул в ставшей реальностью о счастливой жизни иллюзии.
По пути на работу бормотал ругательства, изнывал от собственной мягкости и бездействия, а назад летел, как на крыльях, – терзал машину, выжимал из нее максимальную скорость и просил у неба еще хотя бы день – еще один такой же день жизни, в которой он кому-то нужен.
Проклинал все на свете: себя, ситуацию, отца-демона, человеческую сущность, – готов был плакать от редких и непродолжительных вспышек злости – не на нее, на себя. И почему этот вечно запертый во тьме мальчишка – недолюбленный и недоласканный – взял верх именно теперь, когда нельзя? Когда опасаться бы любого сближения, когда прислушиваться бы к тревожным колокольчикам, когда нарастает в груди тревога, ведь чем сильнее прикипит, тем больнее будет отдирать. Себя от нее – ее от себя.
И чем решительнее становился – все, сегодня они обязательно поговорят, он признается ей во всем, – тем быстрее слабел, стоило увидеть знакомые карие глаза. Сам себе дивился.
А Алеста оказалась ненасытной: окружила его любовью не только душевной, но и физической, да еще в таком количестве, какое он навряд ли мог ожидать получить от недавней еще девственницы. Изнывала в его руках по вечерам, горела по ночам, плавилась по утрам, и он, подобно ей, все пил, пил и пил из источника и все никак не мог утолить жажду – становился все голоднее.
Вот и на этот раз все пошло по кругу.
Обед, жара, а у дома мельтешат аппетитные нагие бедра – Аля решила дополоть клумбу и, чтобы юбка не мешала и не маралась, повязала ту вокруг талии.
Зря повязала, потому что клумба окажется недополотой.
Он тащил ее в дом, как охотник тащит дичь в пещеру – барахтающуюся на плече. Поставил у стены в коридоре, сдернул юбку прочь, а когда под руками оказались знакомые сочные, выпавшие из лифа дыньки, перестал помнить сам себя – врубался между ног так сильно и глубоко, как никогда прежде не позволял, – рычал, бесновался, все пытался забрать что-то ценное, что-то невидимое, принадлежащее ему одному.
Алеста стонала, царапалась, сочная и скользкая, охотно принимала его внутрь, и, в конце концов, Баал излился с таким яростным рыком, что испугал сам себя.
Затих, долго стоял в прохладном полутемном коридоре, опирался ладонями в шершавые стены – его грудь прижата к ее, под губами влажный от пота висок.
Медленно и степенно успокаивался ритм сердца, и чем сильнее успокаивался, тем отчетливее наваливалось ощущение раздрая – ему хорошо снаружи, но плохо внутри. Он вновь поддался искушению, снова вцепился в нее, словно клещ, он все сильнее нуждается в ней и все меньше способен удержаться вдали. Слабак.
Вместе с всколыхнувшимся раздражением выскользнул из теплого лона обмякший член; Аля вздрогнула, прижалась носом к его плечу.
– Извини, если я… слишком резко.
– Мне понравилось, – прошептала так тихо, что он едва расслышал.
Черт, она, наверное, даже не достигла разрядки, а ему было не до того – не проследил; раздражение на себя усилилось. Кажется, в последнее время он занимался только коллекционированием ошибок – совершал одну за другой, чтобы через пять минут выдать следующую. Что с ним происходит, черт возьми? Он должен, ДОЛЖЕН, наконец, разозлиться, должен все это закончить, должен провести финальную черту.
– Ты придумала себе новое имя? – спросил невпопад и сразу же почувствовал, как мягкое и расслабленное до того женское тело напряглось, сделалось, как стальной канат. Аля вывернулась из его рук, посмотрела с укоризной, подняла с пола мятую юбку и, сверкая голыми ягодицами, вышла из комнаты.
Молча.
Баал чувствовал себя дураком.
* * *
А двумя часами позже он вновь перестал узнавать самого себя, только на этот раз не по причине излишней мягкости и податливости, а наоборот – несвойственной ему доселе жестокости.
Уровень четыре. Город Тимбертон.
Он лежал на полу и рыдал – немолодой уже толстый мужчина в мятой, заношенной рубахе: сальные волосы, запах перегара, шлепки поверх немытых босых ступней, а на ногах струпья – расчесанные загноившиеся места – следствие сбитого в организме обмена веществ.
– Я жить хоч-у-у…
– Уже пожил.
– Я так и не начал…
– Теперь поздно.
Сопливый мужчина вызывал у Баала не просто раздражение – приступы мстительной и веселой злобы, желание издеваться.
– Не убивайте, дайте шанс, ведь я не плохой…
– Не плохой? Ты уже убил сам себя, теперь не мешай мне.
– Я живой. Живой… Еще живой.
– Уже нет.
Уже да. Стал им, когда растерял все человеческое – уважение к себе и другим, когда напитался презрением и гневом на все вокруг, когда обиделся на мир, когда тот не смог, не захотел ему помочь. А мир и не помогает – никому и никогда, – помогает каждый себе сам.
– Кто жрал все это время, как не в себя? – Баалу хотелось подпнуть лежащую на полу тушу ногой, но он не стал. – Кто запустил себя так, что стал похож на мешок с отходами?
– Спина болит…
– Спина? А голова у тебя не болит? От тупости?
– Болит. Болит-болит-болит…
– У тебя все болит. И знаешь, почему? Потому что, имея все для того, чтобы решить свои проблемы, ты ничего не предпринимал. Не мог отказаться от лишнего куска? Не мог заняться спортом? Не захотел и пальцем о палец ударить? Взялся, как за спасение, за бутылку?
Он никогда не читал лекций. Раньше. Людям не нужны лекции от воплощенной в человека Смерти, но они нужны были ему самому – Баалу. Нужна была эта злость, которую он теперь копил и копил с избытком, – нужна была в качестве топлива, в качестве решимости, чтобы изменить что-то свое, а жесткие слова звучали, будто в назидание не тому, кто лежал теперь на полу, а самому себе.
Себе, идиоту.
– Никто за тебя ничего не сделал, так? И никогда не сделает. Если не сам, то жизнь потечет не в том направлении, куда тебе нужно, а очнешься ты уже слишком поздно. Когда уже больно, когда уже ничего не изменить, когда поймешь, что мог – должен был что-то сделать раньше, но ничего не сделал. И вот тогда ты сдашься.
– Не хочу… умирать.
Регносцирос больше не слушал раздающийся от стены голос – он беседовал сам с собой – наставлял, учил.
– Жизнь – она не спрашивает, чего ты хочешь, – она просто предлагает. Ложку дерьма, например, – будешь? Если откроешь рот, оно в тебя вольется; сумеешь держать закрытым, останется снаружи. А будешь безвольным, она будет кормить тебя дерьмом с ложечки три раза в сутки, пока не отупеешь, пока не поймешь, что стал никем – пустым местом, – что ничем больше не управляешь…
– Не делайте мне больно…
– А если уж стал пустым местом, так будь добр, найди в себе силы хотя бы уйти с достоинством. Не как последний козел.
– Я не козел.
От стены икнули.
Нет, лежащий на полу, наверное, не был козлом – просто слабаком. Как и Баал.
– Пожалуйста, не делайте мне больно.
Регносцирос долго сидел молча, слушал тишину чужой квартиры, варился в неудовольствии собой и усилившемся вдруг чувстве беспомощности, ощущал, что срочно должен что-то с этим делать. Но что? Затем поднялся со стула, вздохнул, подошел к мужчине и опустился перед ним на корточки. На короткий миг вдруг пропитался сочувствием.
– Не бойся, больно не будет.
И положил руку на покрытый редкими сальными волосами затылок.
А после задания его вдруг беспричинно вызвал к себе Дрейк.
Долго держал в кабинете, ни о чем конкретном не спрашивал, водил беседу вокруг да около – интересовался погодой, настроением, течением дел.
Баал отвечал односложно – «хорошо, хорошо, все хорошо».
Везде хорошо. Совсем. По-другому и быть не может; глаза Начальника смотрели ему сквозь лобовую кость, куда-то в череп.
– Что-то изменилось в тебе, мой друг. Только не могу понять, что?
Регносцирос молчал. Раньше бы ухватился за возможность поговорить, теперь же сверлил взглядом идеально белую стену. Считал секунды до момента, когда сможет уйти.
– С работой все ладится?
– Как обычно.
– Не устаешь?
– Нет.
– Здоровье как?
– Как у быка.
– А в личном?
– Что в «личном»?
– Все так же?
Серо-голубые глаза Дрейка напоминали глаза статуи оракула – застывшие, неподвижные, смотрящие в неведомую глубину. Голос то ли шутливый, то ли серьезный – не разобрать.
– Ничего нового.
– Уверен?
И в кабинете надолго повисла тишина. Регносцирос впервые понял, какого это – быть пойманным с поличным, – и взгляд его стал беспокойным, как будто даже вороватым. Тьфу ты, напасть…
«Не теперь, Дрейк, не теперь. Когда не разобрался сам».
– Не расскажешь мне, что происходит?
– Нет.
Секунда тишины. Две, три, четыре.
Его отпустили. Без допроса.
* * *
– Думаешь, денег у меня нет? Думаешь, живу за чужой счет да на чужих продуктах, потому что бедная? А вот и нет. Видела бы ты дом, который остался в городе, видела бы мои хоромы – я все сама обставляла, сама дизайнера нанимала…
Ева говорила, как дышала.
Аля приходила сюда в третий раз и сама ничего не рассказывала – ее не спрашивали. Соседке нужно было выговориться, даже если со стенами, с глухим радио – хоть с кем-нибудь; Алеста ее не перебивала. Сидела молча, тянула чай, думала о своем.
«Ты выбрала себе новое имя?»
Он отдался ей телом, но не душой. Душу держал взаперти, как и свои мысли. Тело-то она распалила – велика ли наука, если родилась женщиной? – но как быть с остальным? А Баал – теперь Аля знала это совершенно точно – был нужен ей целиком. До последнего завитка на тяжелых локонах, до каждой реснички, до каждой сокровенной мысли и мимолетного переживания.
Переживать-то он переживал, вот только не открывался. И она стояла, словно в прихожей – вошла в одну дверь и уперлась лбом в другую, в тяжелую, которую не могла сдвинуть с места. И потому изредка приходила сюда – силилась отвлечься, забыться, подумать на фоне чужих речей – авось придут в голову дельные мысли о своем?
– …мне его ревность жизнь испортила. Ну, подумаешь, один раз я приласкала другого, но ведь один раз! А Давид сразу же взвился. Да как – потемнел лицом, начал вынашивать план мести и сразу ведь ничего не сказал, собака, не поверил, что люблю, вознамерился убить…
«Один раз приласкала?»
Никак не удавалось вникнуть, о чем речь. И зачем ласкать другого, когда любишь предыдущего? Неясно, чуждо. Откуда такая логика? Если бы Алеста «приласкала» другого, то ушла бы сама, не дожидаясь ни сцен, ни ревности. А тут еще и «люблю».
Но ей ли судить?
Она теперь и сама любила–любила так, что готова была опуститься и до сцен, и до ревности и до ползанья на коленях. Только к чему? Если мила – будут вместе, если нет…
И хорошо, что Ева ни о чем не спрашивала, потому что Алька вместо ответов только рыдала бы – пускала бы слюни и пузыри и бесконечно спрашивала: «что теперь делать-то?»
– …если вернусь сейчас, сразу же найдет. Вот и сижу тут, выжидаю чего-то. Может, того, что забудет, может того, что что-нибудь изменится… Сюда, один черт, не доберется.
Изменится. Аля знала это совершенно точно. Жизнь всегда меняется.
(Lara Fabian – Deux ils deux elles)
До вечера она ходила потерянная. Слонялась по двору, долго стояла перед почти достроенным сараем, трогала шероховатые стены.
Это его руки их строили.
Касалась ручки топора – отполированного места, которое чаще всего сжимали пальцы Баала, – смотрела на беспокойное, затянутое тучами неба. Погода менялась, жизнь менялась вместе с ней.
Перемены. Пришло их время; она знала это совершенно точно. Пришло время выбора – их совместного выбора, а ей не хотелось выбирать. Ей хотелось просто жить с ним, любить его – хотелось мирного покоя, тишины, устойчивости. Их страсти, будней, размеренного течения жизни – вместе, все вместе.
Хотелось плакать – из души изливалось что-то неведомое – ласковое, нежное, печальное.
В чужой спальне Аля долго перебирала мужскую одежду – расправляла на ней складки, как воровка, подносила к лицу, украдкой вдыхала знакомый запах.
Возвращайся. Просто приезжай, обними. У нас все получится.
И ей без разницы, что там внутри, что так тщательно скрывал Баал – какие секреты, тайны, обиды прошлого. Она излечит их все, ей хватит терпения, ей хватит любви, ей всего-всего хватит.
Только бы не скоро уходить, не выбирать имя, не разлучаться.
Перед глазами все время стояло его лицо: небритый подбородок, темные волосы и глаза, густые брови, красивый нос…
Аля кутала Баала внутри в золотое одеяло, как любимую куклу, как сломанную игрушку, как умирающего ребенка. Боялась, что не успеет чего-то важного.
Ей бы остаться, ей бы шанс, ей бы понять, как быть и что правильно.
А машина все не возвращалась.
Пустой двор, рваные порывы похолодавшего ветра, тишина.
На белую, пропитанную потом футболку закапали слезы. Утерев лицо, Аля отправилась ее стирать.
* * *
– Просто не уходи. Я не знаю, что там внутри, но… не уходи.
Ей хотелось сказать так много – «я вылечу», «я залатаю», «впереди счастливые времена», «я тебя люблю», наконец, – что из этого будет правильно?
Он приехал не обнимать ее, он приехал говорить – она видела это по напряженной челюсти, по сделавшейся негибкой фигуре, по стеклянным глазам – глазам готовым к боли.
Не надо боли, не надо, пожалуйста…
Алю трясло. Она сидела рядом с ним на крыльце и боялась раскрыть рот. Не успела спасти сломанную куклу, больного ребенка, не успела – ошиблась где-то раньше. И трясло не то от холода, не то от голодных спазмов, усилившихся вместе с расшатавшимися, как гнилые зубы, нервами.
– Что? Не тяни… не мучай.
Сидеть и не быть способной коснуться – нет пытки хуже. Отдери любящего от объекта любви – вот и медленная ядовитая смерть, вот и сердце без кожи.
– Говори. Говори уже… Что не так?
– Помолчи.
Ее оборвали не грубо – грустно, – и ей захотелось взвыть. Лучше злой Баал, лучше недовольный, чем печальный. Только не пустота в его глазах, не готовность к худшему.
– Не уйду, – вдруг прошептала Алька зло. – Не уйду, даже если будешь гнать!
Повернулась к нему, посмотрела мегерой, человеком отчаявшимся, лишенным самого ценного.
– Дура.
Такое же печальное, как и предыдущее слово; Алька поняла – сейчас заревет. Пусть будет дурой, но только с ним, только не отдельно. Хотелось обвить его руку ужом, хотелось повиснуть на ней и разрыдаться.
– Не гони. Баал. Пожалуйста, не гони…
Никогда не думала, что будет так цепляться за мужчину, а цеплялась. Потому что любила и уже не могла остановиться, потому что – ловушка или нет, – а залипла в это чувство полностью, впустила его в себя. Вместе с мужчиной, с его теплыми руками, с душой.
– Да в чем же дело? Скажи мне! Не мила я тебе? Не любима, не нравлюсь?
Пусть лучше прозвучит сразу, пусть хлестанет по голому сердцу, пусть наповал.
– Нравишься.
Сжимавшие сердце тиски медленно и с грохотом разъехались в стороны, разжались.
Нравится.
Нравится. Нравится…
Значит, не в ней проблема; Алеста вдруг воспарила фениксом – если нравится, все остальное можно решить. Можно преодолеть, можно справиться.
– Баал…
– Аля…
Он никогда не звал ее коротко и ласково; горло сжал спазм.
– Баал… Все будет хорошо.
– Не будет. Все, что произошло между мной и тобой, это…
– Ошибка?
В этом слове прозвучал весь всколыхнувшийся внутри ужас. Нет, только не это, она – Аля – не «ошибка». Быть такого не может.
– Исключение из правил. Которого не должно было случиться.
– Если случилось, значит, должно было, – возмутилась с жаром.
– Нет.
– Почему?
Тишина.
– Почему? Почему? Почему?
Баал повернулся и посмотрел так тяжело, что ей показалось, что на плечи лег заполненный цементной крошкой мешок.
– Я – демон.
Несколько секунд она переваривала эти слова – выражение лица растерянное, в глазах пустота.
– Что это значит? – спросила, наконец. – Ты ешь людей живьем?
– Нет.
– Душишь младенцев?
– Нет. Ни одного еще не задушил.
– Ты постоянно что-то разрушаешь? Ломаешь? Портишь?
Баал вздохнул – от ее предположений ему хотелось грустно улыбаться; Алеста явно сравнивала его с существами, которых видела на Равнинах. До того демонами она считала именно их.
– Скорее, строю.
Ему вспомнился сарай и забор. Хоть и покосившийся, но поставленный своими руками.
– Тогда что это значит – «я – демон»? Ты проводишь какие-то сектантские ритуалы?
– Нет.
– Портишь людям жизнь?
– Нет.
– Делаешь их хуже?
– Не хуже, чем они уже есть.
Аля жевала губы и напряженно размышляла – собственным поведением она напоминала ему не то прокурора – «как давно вы занимаетесь разбоями и криминалом?», – не то адвоката – «мы сумеем вас защитить, если выясним, что вы невиновны». О да, сейчас она пыталась выяснить степень его виновности, пыталась переложить это на себя, на «них» – их совместную жизнь, мечты о которой – он видел – уже плескались в ее глазах.
И вместо злости или страха, его топила нежность. Она старалась выяснить и понять для себя его изъян не для того, чтобы оттолкнуть или обвинить, а для того, чтобы жить с этим.
Она пытливо смотрела на него, а он в пол.
Да, легкого разговора не выйдет – эта женщина так просто не сдастся.
Баал не мог понять, рад он этому или нет.
Они переместились на кухню.
Полумрак, в углу жужжит холодильник, и больше ни звука, если не считать бьющуюся о стекло муху. Поверхность плиты источала запах вчерашнего жира – с утра ее никто не включал.
– Объясни мне.
Ее голос впервые звучал требовательно, как будто Алеста уже имела на него права.
«Жена, да и только».
– Объяснить что?
– Ты – демон. Что это значит?
– Что мой отец был демоном.
– А мать?
– Мать – человеком.
– Значит, ты демон только наполовину?
– Да.
– И что? В чем заключаются твои обязанности как демона?
– Доставлять души людей в ад.
Аля умолкла. Подошла к холодильнику, достала оттуда морс, не спрашивая, хочет ли он пить, разлила в два стакана – она всегда все делила на двоих – ему это нравилось.
Села перед ним за стол, отпила вишневого напитка, утерла губы, спросила жестко, как протрезвевший полицейский-алкоголик:
– И что, много уже доставил?
– Пока ни одной.
И, глядя на ее вытянувшееся от удивления лицо, Регносцирос улыбнулся.
Он видел, что она готова запереть его в комнате, на чердаке или в подвале, чтобы он, наконец, заговорил. Чтобы не тянуть наружу по слову, а чтобы все сразу, чтобы информации хватило, чтобы ей удалось, наконец, сделать окончательный вывод – «быть или не быть».
И он не стал противиться – в конце концов, ждал этого разговора сам. А степень открытости? Да пусть знает все, без утайки. Он и так уже открылся настолько, что не спастись. Стоит ли пытаться?
– Алеста, – начал он со вздохом, – как я тебе уже сказал, я – демон. Да, демон наполовину. Потому что родился в далеком от этого мире, от обычной человеческой женщины. Я должен был сказать тебе сразу, но не думал…
«Не думал, что все зайдет так далеко, что этот разговор вообще понадобится».
– Как это случилось?
– Что? Что я родился?
– Расскажи мне все с самого начала и по порядку.
– Все? Зачем тебе?
– Надо.
И угрюмое выражение лица, не растерявшее решимость.
– Все-все?
– Да. И без утайки. Я пойму.
Может, и не поймет. Но постарается; мысль утешала.
Он начал с самого начала – с собственного детства. Рассказал о том, как и от кого родился, как рос, как жил и где, о матери. О том, что та не умела или не хотела его любить, о том, как наказывала, как наказывали другие – за то, что другой, за то, что видел человеческие чувства, за неконтролируемые эмоции, за вспышки гнева, за неумелое желание исправиться, стать таким, «как все».
– А я не мог быть, как все, понимаешь? Не мог, потому что жила во мне чернота, жажда мести, заложенная изначально отцом внутри лютая ненависть против человечества.
– Но ты не ненавидишь людей.
– Я их и не люблю.
– Но ты отказался быть таким, как «он».
Она имела в виду отца.
– Да, отказался. Только что толку? Любить людей я больше не стал.
– Но ты не позволил взять злобе верх.
Она верила в него. Истово, до конца. А он сидел, смотрел на собственные руки и почему-то чувствовал себя старым и больным.
– Знаешь, что у меня в подвале? – спросил после паузы устало.
– Нет. Ты приказал, и я туда не ходила.
– А я тебе скажу – там Портал. На Танэо, в твой мир. Тот самый, через который я туда попадал. Знаешь, для чего он?
– Чтобы ты туда ходил.
– Железная логика. Только для чего я туда ходил, знаешь? Потому что впадал в гнев, в неконтролируемую ярость, жаждал кого-нибудь убить. А началось это еще с детства. Я, в отличие от всех других, видел смерть, видел, как она приходит, как забирает, как человек становится «пустым». А еще видел, куда именно уходит душа, мог воздействовать на ее путь – какое-то время даже чувствовал себя всесильным, сделался невыносимым в характере, многое о себе возомнил. И потерял всех, с кем общался, – тех малых друзей, которые меня окружали, себя, в конце концов. А Дрейк – мой Начальник – он меня спас. Предложил ту работу, которой я занимаюсь сейчас – провожать души.
– Но не в ад?
– Нет. Туда… так и не смог.
– Тогда куда ты их провожаешь?
– В их прежний мир. Туда, где после смерти на Уровнях, воплотится вновь физическое тело. Наблюдаю за тем, чтобы оно очнулось не пустым, а с душой, с накопленным опытом. Слежу за тем, чтобы ее не перехватили по пути.
– Значит, ты хороший!
Какой однозначный и легкий вывод – он усмехнулся. Как же люди любят вешать ярлыки – «хороший», «плохой» – он просто такой, какой есть, и к красивым словам это не имеет никакого отношения.
– Я просто сделал выбор.
– Не быть, как отец.
– Да, не быть. Вот только я все равно ходил убивать. Туда, к вам, на Равнины…
Баал боялся, что повернется и увидит в ее глазах осуждение – «убивать плохо, убивать нельзя». Повернулся, потому что должен был узнать ее истинные чувства, должен был понять их сейчас, чтобы продолжать тешиться несбыточным. А когда повернулся, опешил, потому что в глазах Алесты застыл злой и веселый огонек.
– И хорошо, что ходил, – произнесла та спокойно. – Кто-то должен истреблять этих тварей.
– Я?
– Пусть ты.
– Значит, я «хороший»? – он покачал головой.
– Самый лучший.
Она произнесла это настолько уверенно, что Регносцирос так и не понял, плакать ему или смеяться.
Они разговаривали до самого вечера, до густых синих сумерек.
– А меня ты тоже должен был проводить на Танэо?
– Твою душу. Да.
– Но не проводил.
– Как видишь.
Этим вечером, когда Баал вернулся домой, она думала, что все, что это конец – ее мир рушился. А теперь они лежали на кровати в темноте, и она гладила его по лицу. Насколько сильно боялась час назад, настолько же сильное облегчение испытывала теперь – нет, не конец, – начало. Она ему нравится, у них все получится. А то, что демон… Почему-то она боялась услышать нечто пострашнее – что ее не любят, что есть другие препятствия, – а их нет. Нет, не умаляла значимости раскрытого секрета, но и не переоценивала его – ничего, пусть ее мужчина – демон. Ведь только наполовину? А наполовину человек. Мало ли в мире одноруких инвалидов, умеющих плавать? Мало ли тех, кто передвигается на одной ноге, кто с половиной души умеет любить так, как иной не умеет с целой?
Он здесь, рядом. Она чувствует тепло его тела, касается небритых щек, подбородка, волос. Она с ним – остальное не имеет значение. Жаль только, что не видит глаз…
– А почему ты оставил меня в живых на Равнинах?
Уже задавала этот вопрос когда-то, но так и не получила на него ответ. Не получила и сейчас. За окном темно, сквозь занавески пробивается синий сумрак, из звуков лишь стук его сердца.
– Почему?
Тишина.
– А после не убил во второй раз? Потому что полюбил?
Она гнала коней и знала это, но не могла остановиться – ей хотелось услышать это сладкое слово «люблю». Люблю тебя, Алька… Всей душой, всем сердцем.
Не гнела даже тишина – Аля улыбалась. Она была готова подарить ему целый мир, себя, сказать, что это ничего, что есть препятствия, что у них будет не так, как у других. Зато будет. Они выстроят новую жизнь, свою собственную, на своих условиях, со своими правилами, и в этой жизни будет море любви, океан – в этой жизни вместе будут двое…
– А я обратила на тебя внимание сразу, знаешь… Не могла не обратить. Не знала, зачем, но искала, все это время искала, потому что чувствовала…
Что чувствовала? Как объяснить? Чувствовала, что он – нечто правильное для нее, хоть и неизведанное и далекое. Не умела не искать, рвалась к нему против всякой логики.
– И нашла. Я тебя нашла, Баал. И теперь все будет хорошо…
Ей казалось, что его тело рядом с ней напряжено, что оно почему-то все не расслабляется, хотя должно бы. Ведь сейчас тот самый момент, когда все уже сказано, когда все позади – теперь можно лежать, обниматься, смеяться, утыкаться друг другу носом в щеки, строить планы, признаваться в сокровенном.
– Баал… я люблю тебя.
– Аля…
Рука на ее запястье сжалась; мускулы заиндевели.
– Что? Родной, люблю. Очень люблю. Никогда не любила, а тут насовсем, понимаешь?
Ей чудилось, что ему больно. Но почему?
– Ты не думай, я не предам, не оставлю…
– Аля!
– Что, Аля?
Она же обещает ему целую жизнь? Счастливую, радостную – зачем грустить?
– Нельзя, – хриплый шепот, – не надо…
– Почему? – испуганно заколотилось в ее груди сердце. – Но ведь уже свершилось, и это…
Это «здорово» – она хотела сказать, но не успела, перебили.
– Я… – слова давались ему тяжело. Вздох. Пауза. Ей хотелось начать хлестать его по щекам, чтобы очнулся, чтобы понял, наконец, что ей можно довериться, чтобы открылся, наконец, и принял сказанное. – Не тот человек, которого… можно любить.
– Как ты можешь такое говорить? – Альку вдруг неожиданно захлестнула обида, даже злость. Как можно решить за другого? Она уже сделала свой выбор. Как можно его оспаривать? – Ты мой выбор. Мой. И даже не смей…
– Ничего не выйдет, Алеста. Я не человек, созданный для семьи.
Не хочет? Он не хочет семью? Его нужно просто связать, посадить у стены, держать там на привязи и кормить, пока не одумается – затуманенная расстройством, она не замечала, что мыслит, как ребенок.
– Ты – человек, которого можно и нужно любить. Человек, которого я уже люблю, неужели не понимаешь?
– Нельзя.
Это одно-единственное слово прозвучало в темноте жестко, как пощечина.
– Нельзя?
Она и не заметила, когда по щекам покатились слезы.
– А что еще нельзя? Что? – зашипела кошкой. – Желать тебя нельзя? Мечтать о тебе нельзя? А о детях мечтать можно?
– Что?
Секундная тишина резанула слух; гулко стукнуло в груди его большое сердце.
– О детях! – Алеста приподнялась на кровати, уселась, утерла кулаком слезы. – Я бы хотела родить тебе дочку. Или сына… Кого выберешь или… кто получится…
Она не заметила, что человек рядом застыл до состояния льдины, что перестал дышать, что его широко распахнутые глаза теперь смотрели не на нее, но насквозь – в них застыл ужас.
– Мы могли бы уехать, – продолжала она с жаром, не замечая ничего, кроме собственной мечты, – ни ночи за окном, ни этих стен, ни чужого напряжения, – туда, где идет время, где женщины рожают. Построили бы собственный дом, и я родила бы тебе сынишку или дочку – ведь здесь нет Богини, чтобы определять пол, и, значит, мог бы получиться такой же очаровательный бесенок, как ты…
Сказала. И заткнулась. Поняла, что выбрала неверное выражение, хоть и не имела в виду дурного. Осознала слишком поздно.
– Дура!
Еще никогда она не слышала в его голосе столько презрения и почему-то обиды.
– Дура… – уже тише, – как ты можешь?…
Слова застревали у него в горле, будто их утыкали шипами – они драли ему глотку, царапали ее, не шли наружу, будто и не слова он пытался вытолкнуть, а разбившуюся внутри вазу.
– Как ты… вообще?… Кем будет такой ребенок – еще одним демоном?
– Но ты же не демон! Наполовину. А ребенок будет лишь на четверть…
– Бессердечная.
– Я не бессердечная! Тебе хватило половины души, чтобы стать лучшим человеком в мире, почему нашему ребенку не хватит трех четвертей?
– Что ж ты… делаешь… Зачем?
Баал не договорил – слишком больно. Резко оттолкнул ее руку в сторону, вскочил – почти взлетел – с кровати, ринулся к двери и с грохотом вывалился из спальни.
А ему смотрели вслед и размазывали по щекам соленую и горькую лаву.
* * *
За всю сознательную жизнь он испытывал ужас лишь единожды: в тот день, когда, в очередной раз увидев Смерть – ее черный, мутный силуэт, – пошел за ней в непредназначенный для живых Коридор. И уже почти зашел в него, когда Смерть обернулась и посмотрела на него – глаза в глаза. Вот тогда он испытал настоящий, ничем не прикрытый панический ужас.
Нечто схожее ощутил и теперь. Когда Алеста заговорила о детях.
Детях. С ним, с Баалом.
Он чувствовал себя внутри уродливой жабой, гнилой, покрытой слизью корягой, усыпанным язвами существом, которому только что предложили «отпочковаться». Стоял на коленях на сыром песке, смотрел на неподвижно застывшую у лица озерную воду и хотел одного – завыть.
Девочка. Или мальчик. С таким же, как у него, изъяном – отсутствием души. Проклятые изначально, изгои, новые демоны… демонята.
Еще никто, никто не смел с ним говорить о детях. А он не смел даже думать о них – не просто табу, немыслимый эгоизм, кощунство…
Дети.
Дети!
Дети…
Баал не плакал с самого детства – не имел права на слезы, – а теперь чувствовал, как они жгут веки.
Мужик. Он же взрослый, он не имеет права, а они текли по щекам. Регносцирос сложился пополам, опустил голову, уткнулся лбом в запястья и застыл, почти что умер в этот момент на берегу от боли. Не мог остановиться, дрожал, чувствовал себя не просто маленьким, но полностью беззащитным, оголенным, таким же уязвимым, как в детстве, хуже…
Дети.
С такими же, как у отца, приступами неконтролируемой злобы? Дети, которые будут спрашивать: «Пап, а кто наша бабушка? Почему мы никогда не видели деда?». Что он скажет им про деда? Что?! И что сделает, если этот дед придет и попытается переманить их на свою сторону – объявит войну всем демонам? Испепелит ад, выжжет его к чертям собачьим?
Дети…
Он будет водить их с собой на Танэо, чтобы выпустили пар? Маленьких, одетых в броню, с мечом наперевес? Будет болеть, глядя в затуманенные гневом глаза, будет знать о том, как это тяжело – быть демоном. Не демоном и не человеком. Уродом. Никем.
Она – Алеста – этим вечером не просто задела его за живое – она выпотрошила его досуха, выскребла до самой кожи. С обычным «я тебя люблю» он мог бы справиться – мог бы со временем принять его, поверить, даже ответить чем-то схожим, но дети…
Регносцирос плакал.
Мать не имела права давать жизнь такому, как он. А он не имеет права даже думать о том, чтобы наплодить себе подобных.
Не имеет.
Больно. Больно. Она не понимает, как больно…
У самого лба тихо плеснула озерная вода – черные волосы стелились по ней кудрявыми водорослями.
* * *
(Laleh 2012 – Here I Go Again)
Алеста никак не могла понять, зачем ей пистолет. Застрелиться?
Утром Баал был немногословен:
– Я уезжаю. Через два дня я вернусь, чтобы отвезти тебя в город. Имя, – небритые челюсти сжались, – раз ты не выбрала, я выберу сам. Любое. Пистолет у тебя есть.
И, прошуршав полами черного плаща, скрылся за дверью. Взревел двигатель; через несколько секунд растаял газовый выхлоп.
Пистолет. Зачем?
Ах да, для защиты, наверное.
Она сидела на крыльце, смотрела на двор. Пусто, тихо, неестественно тихо.
С отъезда прошло не больше пятнадцати минут, а казалось, что в этой хибаре уже десятки лет никто не жил – вросли вдруг в землю стены, обветшала крыша, стал трухлявым пол. Еще через десятки лет сгниет и развалится недостроенный сарай, зарастет бурьяном двор, окончательно припадет к земле щербатый забор.
И будет еще тише, чем теперь.
Этот дом, который еще совсем недавно казался Алесте райским островом, вдруг стал точкой отсчета, перепутьем, откуда придется выбрать новую дорогу – налево, направо, прямо?
Она бы пошла назад, но назад нельзя, назад не ходят.
А вперед не хочется.
Никуда больше не хочется, совсем никуда.
Какое-то время она сидела тихо, с сухими глазами – держалась за окруживший спасительный пузырь – не теплый и не холодный, но временно отгородивший от страшного внешнего мира.
Во что она никак не могла поверить, так это в то, что Баал уехал насовсем. И теперь не вернется, чтобы обнять, чтобы провести с ней день, чтобы просто побыть. Не войдет в дверь, не скажет, что ошибся, что любит – всегда любил.
Пройдет двое суток, и он приедет мрачнее, чем прежде. Посадит ее в машину, доставит, как посылку, в город, скорее всего, даст денег и новые документы, скажет: «иди». Иди, куда хочешь.
Куда иди?
Зачем?
Зачем ей теперь вообще куда-то идти в этом мире, где она постоянно будет его искать? Ведь не забудет, не вытравит из сердца, не выбросит из памяти – даже пытаться не будет, потому что так не обходятся с ценными воспоминаниями, не обходятся с любимыми и дорогими людьми.
Она желает помнить свою любовь, потому что любовью не разбрасываются.
И поэтому, когда придет время, она просто не сядет в машину; мысли плыли в никуда – без внимания и интереса, недоласканные, никому не нужные.
Целый день голода, тишины и покоя. Не того покоя, который приносит силы и отдых, а того, который изматывает, вынимает душу. Целый день Аля бродила по дому, как старуха, держалась за стены – старалась не видеть, не слышать, не думать. Не давала воли ни слезам, ни мыслям.
Сама не заметила, как пришел вечер. Другой вечер – свободный. Свободное небо, не ограниченное этим местом, широкий мир, бесконечное количество дорог. И везде шуршат на деревьях листьях, везде хлюпает под ногами грязь – где-то светит солнце, где-то идет дождь. Разные лица, города, улицы, пути. Разные судьбы, бесконечный выбор, множество вариантов.
Тот факт, что вдруг стала свободной, она осознала внезапно – остро и болезненно.
Свободна.
Той самой свободой, которая не принесла счастья, но сделала ее бесконечно одинокой.
Кому она нужна – такая свобода? Почему? Кто ее просил?
По щекам ручейками побежали слезы; продержавшийся почти целый день мыльный пузырь пошел трещинами.
* * *
Целый день в работе. Он помогал «жмурам» уйти рьяно, грубо, без капли жалости – ничего не говорил им перед смертью, чем пугал еще больше, не источал сантиментов, не наставлял перед уходом.
Он плохой, вот и должен вести себя, как плохой.
А вечером бутылка коньяка на голодный желудок.
А сверху ликер.
А сверху виски…
Еще никогда Баал так не напивался – в стелечный драбадан, – не слонялся по дому, не рычал, не бил вещи. Не радовался тому, что почти все, что бьется, залетные бабы разбили до того.
Усеянный осколками пол – ему можно, он плохой. И не стоит об этом забывать.
Позвонил Аарон, сказал, что они сидят в баре – не желает ли Баал присоединиться? Баал желал. Уже через полчаса, досмерти напугав водителя такси пустым взглядом, он ввалился в двери «Кленового листа» и шумно поприветствовал товарищей. Еще через минуту попытался вклиниться в текущий разговор – и вклинился, как ему показалось, с умом и смекалкой, – но над столом почему-то повисла тишина, и заметались в поисках друг друга удивленные взгляды.
А он что? Просто позволил себе пошутить… На привычную тему. Вот только на какую, он почему-то уже забыл…
А еще через несколько минут, он вытащил из-за стола Аарона, отволок его в сторону и предложил:
– Давай уйдем отсюда, а? Убьем кого-нибудь…
– Эй, друг, ты чего?
– А чего?
Регносцирос шатался, тяжело опирался Канну на плечо и пах, как заброшенный пивзавод.
– Давай… Дураков много, прирежем кого-нибудь – мир станет лучше.
– Ты перебрал.
– Нет, я – плохой. И просто забыл об этом. А ты помнишь?
– Ты…
– Я ведь должен убивать, да? Иди жрать людей. Душить младенцев…
– Про каких, мать твою, младенцев ты говоришь?
Коллега его не слышал – смотрел в стену тяжело, быком.
– Или я хороший, скажи? Может, хороший? Тогда, может, я должен их плодить? И, знаешь, может, у одного из ста будет счастливая жизнь? Не такая дерьмовая, как у его отца, а хорошая, достойная. Как думаешь, может так выйти? Сколько их для этого надо наплодить?
– Стив! – негромко позвал Аарон, и доктор повернулся в его сторону. – Подойди.
– Сколько? – продолжал допытываться пьяный демон. – Как думаешь…
– Стив, этот товарищ перебрал.
– Я уже заметил.
– Надо бы его протрезвить, пока он кого-нибудь не зарезал.
– …у них есть шанс? – только сейчас осознав, что на фоне его беседы, ведется речь о нем же самом, Регносцирос недобро сверкнул мутным взглядом в сторону доктора. – Не подходи, док. Если протрезвишь, я точно кого-нибудь зарежу, обещаю.
А когда демон обещал – они знали, – всегда исполнял. Процедура протрезвления была тут же вычеркнута из планов.
– Тогда усыпи его.
Вопросительный взгляд дока.
«Выхода нет», – качнул головой серьезный Аарон.
Последнее, что увидел Баал (но не успел среагировать), прежде чем впал в забвение, был Стивен – не его лицо даже, а приблизившийся вдруг ежик отливающих золотом волос.
– Док! – предупреждающий рык.
А потом его лба коснулась теплая рука.
– Что с ним такое?
Они положили спящую тушу на пол и теперь смотрели на него – пьяного кабана – сверху.
– Если б я знал. Психоз. Отвел меня в сторону, предложил пойти кого-нибудь убить.
– На полном серьезе? – Лагерфельд удивился.
– Да если б я знал. Все бормотал что-то о младенцах – я так и не смог понять, что… В общем, надо бы его домой. Пусть проспится.
– Да уж, пусть.
Подходили товарищи, спрашивали, все ли в порядке – стратег и доктор отмахивались – мол, сами разберемся, просто перебрал наш демон.
– Поговорим с ним позже, – решил доктор, – когда проснется. А проснуться ему надо не раньше, чем поспит часов двадцать, а то и все сутки.
– Уверен, что не встанет раньше и придушит кого-нибудь?
Шрам на виске Аарона в свете ламп выделялся кривой линией.
– Уверен. Сомневаешься в моих способностях?
– Никогда не сомневался.
– Вот и повезли его домой.
Им пришлось оставить и недопитые стаканы, и компанию.
* * *
Ночь она провела в слезах, не сомкнув глаз и прижимая к щеке ворот мужской рубашки. Перебирала в памяти самые ценные моменты: вспоминала каждое касание, каждый взгляд, каждое сказанное слово и все то, что не прозвучало, что сама услышала между ними.
Наверное, она услышала больше, чем там было.
Позволяла себе реветь, с судорогами изрыгала из себя горе, прощалась со своей любовью – короткой и уже ушедшей, но которая в ее жизни все-таки была, морально готовилась к следующему шагу.
Она не многое знала о Баале, но в одном была точно уверена: решил уйти – уйдет. И не вернется, пока сам не изменит мнения, – не помогут ни слезы, ни разговоры, ни угрозы, ни увещевания. А в том, что в ближайшее время он возвращаться не собирается – не за ней, как за любимой женщиной точно, – она была уверена наверняка.
Что ж, он не вернется за ней, а она не поедет обратно в Город.
Мир Уровней – не ее мир. Он хороший, красивый, со своим укладом и течением, приятный во всех отношениях, но ей нечего там делать. Она уже нашла того, кого искала.
Нашла. В прошедшем времени.
И с самого начала знала – не логикой, но сердцем, – что ей не нужна его помощь: не нужны ни деньги, ни документы, ни новое имя – ей нужен Баал. Поэтому когда-то и нарушила закон. А пойдет следом, нарушит его еще раз. И еще, и еще, до бесконечности. Будет биться о невидимое стекло, пока не разобьется, пока не выдохнется окончательно и не свалится обессиленная.
А бороться она будет до конца – на то она и Алька, – с таким уж характером родилась.
Вот только навязывать себя не будет.
Она уже предложила ему все: себя, свою любовь, будущих детей – от всего отказались. Плакать? Плакала. Просить? Просила. А теперь не хотела дожидаться момента, когда ей привезут новые бумаги, скажут: «собирайся», посадят в машину и смотают кулем немногочисленные шмотки, чтобы забросить их на заднее сиденье.
Она хотела запомнить все другим – не таким, каким оно стало теперь. Прежним.
* * *
Короткий сон не принес ничего, кроме ощущения опустошенности и внутреннего дрязга.
Алеста встала, заставила себя умыться, прошла на кухню. Принялась доставать из холодильника все, что можно было сварить или поджарить – перед уходом, она приготовит Баалу еду (приедет – поест) и тем самым отдаст последний долг. Прибираться не будет – ни к чему. Когда-нибудь наведается Ева и все вычистит и выдраит.
А Алька стала здесь чужой. И ей скоро уходить.
Куда? Варианта два.
Либо на Танэо, либо обратно в Город – только в Город не с Баалом (не нужны ей ни его деньги, ни документы), а самостоятельно, пешком. Дорогу найдет, все начнет с нуля, сама, все сама, – но это вариант «Б». Вариант «А» ей хотелось притворить в жизнь больше, но для этого требовалось одно условие – чтобы открылась дверь в подвал.
Откроется та или нет, Алька собиралась проверить сразу же после того, как зальет шипящее на сковороде мясо водой и оставит его тушиться, переключив плиту на малый огонь.
Дверь открылась.
Не сама, а с помощью кончика ножа, которым удалось отодвинуть язычок замка.
А впереди ждала неизвестность. Что, если Портал окажется невидимым? Или же настроенным только на одного человека – хозяина? Или для прохода через него нужен будет код, которого у нее нет? Или она вообще его не найдет, так как тот будет оформлен в виде шкафа, зеркала или другого предмета мебели?
В голову лезли дурацкие мысли.
Чтобы прогнать их прочь и не терзаться понапрасну, она просто толкнула дверь.
И почти сразу же почувствовала вибрацию – не звук, который можно услышать ушами, а нечто невнятное, ощутимое кожей, сродни беспокойному в теле зуду.
Он стоял в самом центре полутемной комнатушки: с виду дверь, только внутри рамы-косяка не деревянная преграда, а светящееся марево; по стенам плавали отсветы – вход на Танэо.
Почувствовав секундную дурноту – напугавшись, что скоро придется делать туда шаг, – Алька попятилась задом и вывалилась из комнатушки. Шатаясь, взобралась по лестнице, отправилась проверять мясо.
Вернулась позже – полная решимости, со сжатыми губами, вспотевшими ладонями и холодным от горя сердцем. Осмотрела сложенные у стен вещи: мечи, щиты, кольчуги, наплечи – чего-то просто коснулась пальцами, что-то попыталась поднять; в опасной близости вибрировал Портал.
Большой меч она с собой не понесет – даже от земли его оторвать не сможет, не говоря уже о «вскинуть над головой», – и потому возьмет самый маленький. Кольчугу не решится – чужая, – щитом пользоваться все равно не умеет. Наплечи ей не нужны, шлем большеват.
Вот и все.
Завершив осмотр, она вновь поднялась наверх, в последний раз проверила мясо, вышла на улицу, уселась на теплые ступени крыльца.
Над двором висел туман. Как и тогда, в самый первый день, когда она только здесь появилась. Тогда, помнится, мир казался другим – опасным, но интересным, а, главное, нужным ей.
Теперь все изменилось.
Ее трясло не то от страха, не то от неизвестности – Аля пыталась успокоить саму себя: она ведь может никуда не ходить. Может, сидя здесь, дождаться Баала, получить на руки документы о своей новой личности, запастись деньгами и свободой и… отправиться заново покорять мир.
Мысли об этом казались ей безликими, чужими.
Не отправится – знала. Не забудет его и возвращаться тоже не захочет.
А на Танэо идти страшно. Портал ведет на Равнины, а там кошки, там страшные плосконосые существа с зубами – ее там порвут. Может быть. А, может, ее защитит Дея, – если помнит о ней, если заботится.
Если Дея вообще существует.
Здесь, на Уровнях, Альку ждала известная судьба: она всю жизнь будет искать его – своего демона. Будет надеяться случайно встретить его снова, будет страдать, никого к себе не подпустит – такая уж родилась. Однолюбка.
В родном же мире она никого не будет искать – наоборот, заживет тихо, попробует выяснить, действительно ли таких девчонок, как она, предают стражницы, попытается отыскать правду и справедливость, дойти, если придется, до самого верха. Там у нее в запасе будет меньше времени, чем здесь, ну да ей хватит – она свое-молодое уже отжила, отлюбила.
Вспомнилась бабушка – ее счастливое с дедом фото.
А после всплыло в памяти знакомое лицо, а следом мысль о том, что все могло быть иначе.
И снова закапали на юбку обиженные горькие слезы.
Выходить решила сразу после обеда – побоялась, что в Равнинах стемнеет. До того зашла в чужую спальню, отыскала теплые штаны, натянула на себя. Подвязала поясом, болтающиеся штанины подвернула – получились эдакие колокола с вставленными в них ножками-спичками.
Теплее, чем в любой юбке, и это главное. Отыскала и тонкую кофту, одела ее поверх блузки. После положила в небольшую заплечную сумку плотно завязанный в целлофан контейнер с едой, бутылку воды, заткнула за пояс пистолет – главный козырь против равнинных мутантов. Долго пыталась вспомнить, сколько в обойме патронов (ей ведь говорили), но не вспомнила, а как выяснить, не знала – придется проверять на месте.
Обулась в свои же поверх носок босоножки, долго стояла во дворе, прощаясь, смотрела на недостроенный сарай.
Полдень давно перевалил в ранний вечер; пора – двинулась обратно в хижину, заторопилась вниз по лестнице.
* * *
Зантия включала телевизор крайне редко – мнительно полагала, что шум-таки может привлечь в домик незваных гостей (мало ли, что там говорит Комиссия про щиты?), – но сегодня не удержалась – в шестичасовом выпуске программа обещала показ «Танцев под куполом».
А акробатические номера Зантия любила. И пусть ее тело уже немолодо и негибко, но память цепко хранила воспоминания о том, как это когда-то было – танцы, стройность, подвижность. Любовь, романтика, чувства,… эх!
Смотрительница вздохнула.
– И пусть лучше эти их щиты сработают, – проворчала беленым стенам, – телевизор все равно не выключу.
Звук, который раздался из-за перегородки минутой позже, она вначале приняла за неудачный саундтрек к рекламе – какофоничный, нескладный и потому сейчас модный. Выругалась, хотела временно переключить канал, но, когда с тихим скрипом отворилась дверь, за которой не находилось ничего, кроме входа в Мир Уровней, отвесила челюсть до пола и напрочь забыла про зажатый в руке пульт.
В комнату, крадучись, ступила девчонка.
Зантии она почему-то показалась знакомой – это лицо, стянутые в хвост темные волосы, большие глаза… Кажется, это ее тогда Баал принес раненную, а после выхаживали и забрали с собой представители Комиссии. Ее. Да, точно ее!
– Ты? – спросила удивленно.
Что она здесь делает? Почему одна? И куда, спрашивается, собралась?
– Здравствуйте, – отозвалась гостья хрипло. На бабку едва посмотрела – выискивала глазами дверь на противоположной стороне дома.
– Эй, ты куда! Нельзя тебе туда. Нельзя тебе, опасно там!
– Знаю.
– Ты что вообще…
«здесь делаешь?» – закончить вопрос Зантия не успела, ее перебили:
– У вас есть карта Танэо?
– Карта? – близорукие глаза мигнули за стеклами очков. – Нет карты. Зачем она?
– А в какую сторону до ближайшей границы?
– Эй, ты даже не думай, – смотрительница, кажется, начала понимать, что гостья задумала – вот ведь проходной двор нашли, а она потом отвечай! Ведь уйдет сейчас прямо в глухую степь, скроется за горизонтом и ищи-свищи ее потом, разодранную на части. – А кто-нибудь знает, что ты здесь?
Хотела спросить «Баал», потом подумала, а вдруг та не знает имени своего спасителя? Имена нельзя, имена запрещено.
– Кто тебя пропустил? Как ты?…
– Значит, нет карты? – уточнили разочарованно. Кофта явно велика, штаны и того пуще, глаза грустные и дикие. В руках огромный меч.
– Ты даже не думай… Не ходи туда!
Но девка уже шла к двери.
«Уйдет ведь… уйдет сейчас! Что делать?»
– Погодь! Да погодь ты! – чувствуя, что не успевает – упускает некий важный момент, – Зантия зашаркала к столу. – На!
И протянула незнакомке компас.
– Ближайшая граница будет, если идти туда, где цифра пятнадцать – видишь, на нее стрелка указывает?
– Вижу, – компас жадно сгребла холодная дрожащая ладонь. – Спасибо.
И тут же открылась входная дверь – впустила в теплый дом клуб мокрого стылого воздуха. Едва гостья скрылась за ней, как бабка на полном старушачьем ходу зашаркала к столу, к телефону. Кому звонить, – ой, беда, – кому? Комиссии? Так ведь и ей настучат по шапке за то, что пропустила, – скажут, вообще из ума выжила, никчемная? А если с работы уволят, где новую искать? Она ведь немолодая, не быстро учится, для многих работ уже не годится – совсем не как те, что выкруживают номера под куполом…
И Зантия, то и дело сверяясь с приклеенным к стене кусочком прозрачной изоленты листком, принялась набирать номер единственного человека, способного помочь, – Баала Регносцироса.
* * *
А здесь было холоднее, чем она думала. Плоские подошвы скользили на острых и мокрых камнях, носки почти сразу же промокли, изо рта шел пар.
Алеста цепко сжимала в руке компас и постоянно следила за стрелкой – на цифру пятнадцать, на цифру пятнадцать. Если ей хватит времени и патронов, сегодня, завтра или через день она с Равнин выйдет.
Над пологим холмом висели тяжелые тучи; спасительный порог домика оставался все дальше за спиной. Кошек пока снаружи видно не было, но они скребли на душе.
* * *
– Ну, возьми же ты трубку… Возьми! Из-за тебя ведь пропущу не только программу – все пропущу. И где тебя носит, спрашивается?
Восемнадцать гудков. Двадцать. И это четвертый или пятый набор кряду.
«Может, Регносцирос сменил телефон? Может, забыл оставить новый номер?»
Экран старенького телевизора показывал, как на арену выходит первая акробатическая пара; Зантия взглянула на нее и заругалась-заматерилась пуще прежнего:
– Трубку возьми, черт волосатый! Так все выступят, а я даже не увижу! Какая еще бабке радость? Бери же! Бери!
* * *
У него нещадно трещала голова. Свинцовые веки не разлеплялись, пить хотелось так, что он готов был нырнуть в цистерну, только бы промочить горло; в нагрудном кармане надрывался телефон. Хотелось разбить его, вытащить и швырнуть о стену, чтобы замолчал, чтобы не ездил трелями по ушам; Баал никак не мог взять в толк, почему лежит в собственной гостиной на диване одетый.
И обутый; он пошевелил затекшими ступнями.
И что было сегодня утром? Или уже вчера?
Память выдала ноль-подволь и новый приступ головной боли; Регносцирос зарычал и помассировал виски. Затем неуклюже, едва не выронив, достал неугомонный аппарат, взглянул на экран и уже хотел погасить телефон – номер поначалу показался незнакомым, – затем подумал, что это может быть Дрейк. Ведь может? Кто его знает, с каких номеров он звонит?
– Алло…
Собственный голос – хриплый и посаженный – заставил поморщиться даже его самого. Если окажется, что кто-то ошибся номером, он отыщет его – собаку – приедет домой и заткнет сотовый тому в глотку. А еще лучше сломает пальцы, чтобы не тыкали куда попало; в груди взметнулась волна гнева.
Ого, давно не было – он ему, как старому знакомому, даже обрадовался.
– Алло!
– Регносцирос?
Его редко звали по фамилии. Тем более, всякие бабки. Сознание мутилось, пить хотелось все сильнее, телефон раскрошить все нещаднее.
– Он самый.
– Это Зантия. Зантия, помнишь?
Никакой Зантии он не помнил.
– Смотрительница Портала!
Вращающееся вокруг непонятной орбиты сознание на секунду застыло – Зантия? С чего бы ей звонить ему на мобильный? Раньше не звонила.
– Помню тебя… – хотел добавить «карга», вовремя опомнился.
– Ты почему так долго не брал – сто раз пришлось набирать!
Угу, он еще не оправдывался спросонья – не дождется. Ни она, ни кто-то другой.
– Тут девка проходила, – вещала трубка быстро и сбивчиво, – девка. Нужна твоя помощь!
Какая еще девка? Ему было на всех плевать. Если с Равнин в домик забрела еще одна, ему нет до этого никакого дела. Что он – спаситель для всех девок в мире?
– Выгони ее.
– Да она сама уже ушла!
– И прекрасно.
– Как прекрасно? Как прекрасно?! Спросила, где ближайшая граница земель, я дала ей компас…
– А я причем?
– Вообще рехнулся? Ты для того ее спасал, чтобы она потом сбежала?
– Кого спасал?
Баал никак не мог взять в толк, о чем речь.
– Девку эту! – орала трубка противным бабкиным голосом. – Ты же сам ее с Равнин притащил, окровавленную. А теперь она с той стороны пришла, с твоей, а на Равнины вышла…
У него на секунду вновь помутилось сознание – на этот раз к общему недомоганию примешалась тошнота и накативший приступ слабости; Баал едва не свалился с дивана.
– Давно?
– …а кому мне звонить? Не в Комиссию, ведь она через твой Портал вышла… Думала, тебе позвоню, спрошу, что скажешь. А так ведь выгонят с работы, что делать буду?
– ДАВНО?! – заорал он в динамик не своим голосом.
– Что? Давно ли ушла? Да минут пять, как…
– Еду.
И он дрожащим пальцем отключил сотовый.
А когда набирал следующий номер, никак не мог попасть в нужные клавиши. Трясся, матерился и не верил тому, что только что услышал, – Алеста ушла. Ушла через Портал, в Равнины. Только не это…
– Алло?
– Бернарда?
– Да. Баал, в чем дело?
– Прыгни ко мне. Только быстро, пожалуйста, быстро…
– Уже в пути.
Она очутилась в его доме практически сразу же – обутая и одетая, как будто только что из ресторана. Может, там и была? Нарядный вид, прическа, каблуки – он не стал спрашивать.
– Ди, помоги, мне надо… сейчас…
Глаза скользили по снимкам в фотоальбоме телефона – где же он, где?
– Баал, у тебя все хорошо?
– Нет! – рыкнул он так громко, что вновь, несмотря на проглоченную таблетку обезболивающего, тяжело и монотонно запульсировали виски.
– Она где-то здесь, я сейчас найду.
Он искал фото. Единственное фото сарая, которое сделал несколько дней назад для того, чтобы в магазине подобрать металлические уголки – не хотел ошибиться с размером. А теперь молился, чтобы оно сохранилось в галерее.
– Нашел! – он протянул телефон Бернарде. – Перенеси меня сюда, пожалуйста. Только быстро, очень быстро, потому что она уже ушла…
– Кто ушла? Так может, перенести тебя сразу к ней?
Он едва не взвыл от тоски, потому что уже думал об этом. Почему, ну почему он ни разу не сфотографировал Алесту? Почему не сделал ни единого портрета? Потому что боялся, что, глядя на него, будет тосковать – вот и добоялся!
– Нет у меня ее фото. Только в базе Комиссии… А если пойдем туда, попросим разрешение на доступ к файлам… если… Даже если к Логану, потеряем слишком много времени.
– Поняла.
Глаза Ди внимательно изучали вид его двора на телефоне.
– Сможешь?
Его ладони дрожали – от недавнего перепоя, от нервов?
– Да. Возьми меня за руку.
* * *
К бабке он ввалился в полном обмундировании – в кольчуге, перетянутый тяжелым поясом, с двумя мечами наперевес.
– Где она?
– Ушла, – Зантия нехотя оторвалась от телевизора – чувствовалось, ей хотелось вернуться к просмотру передачи, но ситуация не позволяла – чужак на Равнинах, несанкционированный переход, почти ЧП.
– Что ты ей сказала про компас? Научила пользоваться?
– Сказала, чтобы держала направление на цифру пятнадцать.
– Давно? Сколько прошло с ее ухода? Сколько? Точно!
– Да не считала я! Минут двадцать где-то. Может, чуть больше. Быстро ты, однако…
– Никому больше не звонила?
Смотрительница опасливо качнула головой.
– И не звони.
Баал, звеня броней, на полном ходу пронесся к выходу.
Он бежал вперед и всматривался в сырые сумерки; на Равнинах быстро темнело.
Куда же она, на ночь глядя? Куда вообще?…
Принюхивался, не смотрел под ноги, поскальзывался, изрыгал проклятья, был готов изрубить любого, кто попадется ему на пути, лишь бы Алеста…
Алька.
А если поздно, если не успел? Если уже лежит где-нибудь бездыханная, и ее глодают кошки? Как он будет тогда?… До конца жизни не сможет смотреть на себя в зеркало. Да что там зеркало – вообще жить не захочет.
Он думал об этом без пафоса и без драмы – глухо и серьезно. Здесь, на сыром склоне вдруг понял: ему давался шанс – любить, быть счастливым, принять что-то от жизни. Он отказался. И от счастья, и от женщины, ему его предлагавшей…
Только бы она не умерла…
Холодно, морось, полумрак. Пахнет плесенью и сыростью, пахнет мокрым камнем и бесплодной землей, пахнет чужим присутствием – Регносцирос выискивал глазами в темноте белесое пятно человеческого тела. Взбирался на очередной холм, обходил завалы из булыжников и боялся, что за одним из них увидит ее… неживую; по венам пульсировала сокрушительная злость.
Если так случится, он умрет, да. Но сначала умертвит всех жителей здешних мест, напоследок оправдает репутацию демона – отправит их всех в ад.
– Аля! – не удержался и закричал он, зная, что кричать бы не стоило. Но как еще ее найти, если след слабый, а сумерки уже пали? – А-а-а-аля-я-я!
Тишина вокруг; ни шороха, ни ветра. Над головой мрачное тяжелое небо.
Куда идти? Куда указывает цифра пятнадцать? Почему же он не сделал ни единого ее фото? Вот догонит, вернет и нафотографирует…
Был бы у бабки второй компас, но второго компаса не нашлось.
Баал вновь принюхался, тщетно пытаясь отыскать след единственного в Равнинах человека, и заорал вновь:
– А-а-а-аля-я-я-я-я!!!
Их привлек не то его крик, не то запах, не то шаги, но напали почти одновременно: сначала две кошки – он прирезал их жестко и предельно быстро – два секущих удара (по одному на животное), – затем трое «жрал» – с ними Баал возился чуть дольше. Крутился, избегал цепких когтей и зубов, ориентировался исключительно по звуку.
Черт бы подрал эту тьму – с каждой секундой все гуще.
Гнев был его топливом и вел вперед. Гнева хватало.
– Аля! Где ты! Отзовись!
Трупы врагов он оставлял за спиной – они привлекут еще больше падали, плохо. Во мраке кошачья шерсть почти не различалась, но монстров выдавали едва заметно светящиеся глаза – приходилось быть зорким.
И быстрым.
Справа бесшумно метнулась тень – он отсек ей лапу на лету – раздался неприятный нечеловеческий визг. Минус кошка.
Слева мельтешили еще две, но в отдалении, не достать.
– А-а-аля!
Теперь уже плевать, что громко – враги и так рядом. Да где же она? Он до сих пор не увидел ее, не нашел, а шансов на то, чтобы остаться в живых с каждой секундой все меньше.
– А-а-аля-я-я-я-я!
В отдалении вдруг метнулось что-то белое – показалось? Мелкое пятно, далекое. На мгновенье застыло неподвижно, затем сместилось влево. Приглушенно звякнула о камни сталь не его меча.
Алька? Алька! Регносцирос до боли напряг глаза.
– Аля! Аля-я-я-я! – заорал он диким голосом и чуть не надорвал связки, почти моментально осип.
А пятно далеко, вокруг него тени. Чтобы добраться, надо спуститься в лог, пересечь его, подняться на возвышение – черт, далеко! И он, задыхаясь и хрипя, рванул по камням. Одновременно отстегнул с пояса щит, которым почти не пользовался – тяжело; сбросил лишнее и сразу же ускорился.
Не сбить, не подвернуть бы ногу… Надо было взять с собой… кого-нибудь… в подмогу…
Умные мысли – они всегда после. А теперь сам, один, потому что дурак.
В этот момент с плато, к которому он бежал, раздался выстрел.
* * *
Она билась на последнем издохе – замахивалась, ударяла, отбивалась и теряла последние силы. Алька плакала. Что затея ее провальная, она поняла уже давно – когда еще в самом начале пути расстреляла почти все патроны – не думала, что кошки настигнут так быстро, не думала, что их будет так много. И что так быстро стемнеет.
А теперь, когда услышала знакомый голос, зовущий ее, закрутилась еще быстрее, и ручьем потекли слезы – себя погубит и его погубит. Ладно, когда один, а когда в могилу тащишь родного человека…
– Не ходи сюда, Баал… Не ходи. Их слишком много, – хрипела, отбиваясь, знала, что не услышит, но все равно шептала. Сзади плосконосый, сбоку еще два, вокруг даже смотреть не хочется – там камни и тени, там кошки, там страшно… Да сколько же их всего?
Меч двигался в сумерках серебристой змеей – иногда что-то вспарывал, иногда скользил наугад – один раз в цель, один раз мимо; нещадно болели мыщцы – она давно не тренировалась. Свист, хрипы, звон стали и рыки – страшные рыки, голодные, предвещающие близкую смерть.
– Аля-я-я-я! – раздалось уже ближе, и Алеста едва удержалась от того, чтобы повернуться на звук, чтобы не броситься навстречу – не дадут. Догонят и разорвут; и потому билась.
К тому моменту, когда Баал приблизился настолько, что его фигура стала различимой, она убила двоих плосконосых – одному попала по шее, второму по животу – тот теперь ползал по камням и хрипел. У самой текло по спине, по бедру и плечу – разодрали.
Остался еще один – из тех, что рядом; если сможет убить его, то рванет навстречу, а там они уже вдвоем, они справятся…
В тот момент, когда она собиралась развернуться к оставшемуся врагу и вскинуть меч, Алька вдруг увидела, что за Баалом бежит кошка – не бежит, летит, догоняет, настигает, готовится к финальному прыжку – и это со спины! Рука непроизвольно метнулась к кобуре, вытащила пистолет, подняла – глаза зло прищурились, мысли пропали.
Одновременно с грохнувшим выстрелом на нее со спины напал оставшийся в живых мутант.
* * *
Баал рубил его – плосконосого – так долго, что разрубил все тело: отсек голову от туловища, раздробил конечности, изуродовал лицо – мстил. Орал, вскидывал и опускал руку сотни раз, слушал хруст ломаемых костей, никак не мог утешиться количеством нанесенных увечий…
Он напал на Альку. Напал на нее! Уронил головой на камни.
И только после того, как убедился, что враг не просто никогда не встанет, а вовек не будет узнан никем из сородичей, оторвался от его тела, шатаясь, поднялся и склонился над Алькой. Поднял ее показавшееся ему чересчур легким и худым тело на руки, захрипел и побежал вперед.
Быстрее, быстрее, к доктору… Нужно вернуть ее домой, вылечить!
Она вовремя выстрелила в кошку, убила ее – спасла ему жизнь. Ему спасла, а свою не сохранила – дурочка… сбежала из хибары… дурочка…
Он слышал свое хриплое дыхание – доносившиеся, как у загнанного коня, из легких сипы, – но не чувствовал ее пульса. Живая? Нет? Не мог определить, не мог остановиться – несся, как оголтелый, вперед. Потому что если остановится здесь, им обоим смерть.
Он донес ее до окружившего бабкин домик невидимого щита – ощутил его кожей, – шагнул внутрь и тут же положил Алю на землю. Теперь знал точно – пульса нет. Сердце не бьется, мозг не подает импульсов, душа уходит. Ее – душу – он как демон чувствовал точно, и она уже начала Переход. Спешно лег рядом на землю, обнял теплое еще тело рукой, закрыл глаза, растворился – начал энергетический процесс – из человека, как делал сотни раз до того, превратился в Демона.
– Отдай.
И в третий раз в жизни он шагнул не просто в собственный страх – в худший из ужасов – посмотрел в глаза Смерти.
Он ненавидел это – смотреть ей в глаза; один раз попробовал и с тех пор не мог забыть, видел кошмарные сны, – а теперь снова смотрел в них, в эти колодцы-провалы, мучился, трясся, боялся, как никогда в жизни, но заставлял себя терпеть.
– Отдай. Человек. Мой.
Здесь, в тонком Мире, говорить получалось плохо – лишь мыслями-импульсами. Обрывками желаний, намерений.
Он ступил не просто на запретную территорию – он перечил тому, кто имел право увести душу с собой, – он рисковал всем. А Коридор для Алькиной души за темным силуэтом уже был открыт – Баалу, а точнее тому, кем он стал в этом мире – неприкрытым сгустком текучей энергии, – хотелось смотреть не на Смерть, на нее – Альку. На слепящий и невероятно чистый свет ее души; он не отдаст ее. Никому, ни за что. Даже Ей.
– Имя.
Прошелестел голос, и Баал дернулся от ужаса – этот голос не мог принадлежать никому, кроме худшего воплощенного кошмара, – Владычице темного мира.
Имя.
Имя?
Она спрашивала об Истинном имени души. Знай он его, и она отступила бы сразу. Но, черт, Баал его не знал – откуда? Такие вещи узнаются после пронесенной через века связи, через абсолютное доверие, через протянувшуюся между душами Любовь.
– Нет. Имени.
– Не отдам, – прошелестел голос. И Алька, будто привязанная к Смерти на веревочке, вздрогнула – ее душа качнулась в направлении Коридора.
Баал вздрогнул.
– Моя. Женщина, – зарычал зло. – Моя.
– Пришло. Время.
– Пришло. Не сейчас. Придет.
Смерть молчала.
Раньше он формировал такие Коридоры сам, но вели они не в Вечное, а создавали ходы между мирами – если Алька в такой шагнет, ее не вытащить, не удержать.
– ОТДАЙ!
Ему показалось, или же за его плечом кто-то встал? Защитник? Светлый Ангел? Может быть… Он видел его раньше, однажды. Может быть, мерещится; Регносцирос не отрывал от Смерти взгляд – знал, что та сразу же уйдет.
– Дай. Ей. Выбрать!
Действительно. Теперь Смерть смотрела на кого-то другого, стоящего позади него – из-за спины лился яркий свет. Ответила нехотя, ему показалось, со скрытой ненавистью.
– Пусть. Выбирает!
И веревочка, держащая маленькую светлую душу, пропала.
– Демона. Не выберет, – прошелестела Смерть мстительно. – Нет.
– Посмотрим.
И он вздрогнул. Потому что Алька – то, чем она теперь была, – повернулась и посмотрела на него. На него, состоящего из белого и черного, его, как переплетение светлого и мрачного, со всем внутри добром и злом – настоящего Баала. Теперь она видела его без масок, без кожи, без тела – таким, каким он на самом деле был, – Баала-получеловека, Баала-демона. И больше всего он боялся, что, увидев его – Баала-урода, – она ни за что не шагнет в его сторону.
Щит спасал от кошек, от «жрал», от любых тварей Равнин, но он не спасал от дождя, который теперь лил с неба в полную силу. Дождь мочил кольчугу, проникал сквозь звенья, заставлял мышцы судорожно сокращаться. Дождь стучал по крыше и залитому теплым желтым светом подоконнику; из-за стены бубнил телевизор:
– …кто же победит в полуфинале акробатических состязаний, мы с вами узнаем уже в пятницу, в шесть часов на том же самом канале. А сразу после рекламы вас ждет очередная серия шоу «Битва за престол» – не переключайтесь…
Лязгали от холода зубы, тряслись ладони.
Баал прижимал к себе мокрую темноволосую голову – гладил спутанные, залитые кровью пряди и утирал смешанные с дождем слезы.
Алька дышала – у нее снова был пульс.
Глава 14
Он, как больной, как самый настоящий неврастеник, за час несколько раз заходил к ней в спальню – проверял, есть ли пульс. Ужасался, что войдет в следующий раз, а его – призрачного биения под кожей – снова нет.
Пульс был.
Был.
Живая.
И лишь после очередной проверки позволил себе выйти на крыльцо – сел на ступени, оперся спиной на столбик перил, вытащил из нагрудного карманы сигареты. Закурил. Долго смотрел прямо перед собой – не на двор, не на туман или сарай – смотрел внутрь себя, вспоминал.
Она выбрала его – он до сих пор не верил. Выбрала его – Баала. Долго смотрела на него там, изучала, пыталась узнать, а потом… двинулась в его сторону.
И Смерть зашипела с презрением:
– Человек. Выбрал. Демона?
– Человек. Выбрал. Человека.
И он обнял Альку. Всем черным и белым, что было в нем, всем своим существом – своей душой. И принялся выстраивать для нее новый Коридор.
А кто стоял за спиной? Он до сих пор не знал, не повернулся, но теперь мысленно отправил ему – своему защитнику – спасибо. И благодарил долго, искренне, от сердца. А все потому, что здесь, уже не под стылым дождем, а на сухих ступенях крыльца, с живой Алькой в спальне, он чувствовал себя новым. …Чистым.
Впервые в жизни в нем что-то щелкнуло настолько, что слетело внутреннее к себе презрение, и появилась вера в хорошее.
А она, наверное, и не вспомнит. И пусть. Пусть никогда не помнит, что Смерть пыталась в неурочный час прибрать ее к рукам. Пусть не помнит, как шла за ней, как близко находилась к финальной черте, как выбрала его после.
Помнит он. И всегда будет помнить – это главное.
Смешно, но Баал за всю жизнь – прошлую и будущую – не верил и не поверил бы ни одной женщине – не смог бы. Ни словам, ни клятвам, ни заверениям. И никому не дал бы шанса. Ибо он попросту не был способен верить в то, что достоин любви, не смог бы ни в чем себя убедить.
А она смогла. Женщина, что увидела его без маски, без кожи, без лица и без тела. Женщина, которая увидела его душу и шагнула навстречу.
Алька.
Его Алька.
* * *
Дрейк позвонил в полночь, и разговор вышел странным, необычно коротким.
– Баал, ты уже сутки не появлялся на работе. Не думаешь, что нам стоит поговорить?
– Думаю.
– Подъедешь ко мне?
Регносцирос нервно сглотнул – он не любил перечить Начальнику, никто не любил, – но попросту не мог ответить согласием.
– Не могу.
На том конце помолчали.
– Хочешь, чтобы к тебе подъехал я? Объяснишь мне все?
– Да. Объясню. Подъезжай.
– Хорошо, скоро буду.
И он принялся ждать разговора, который откладывал так долго.
Они устроились в тесной и полутемной гостиной – Дрейк на диване, Баал в кресле. Ни вина, ни дружеских жестов, ни разговоров о погоде – уже давно миновали стадию наигранного вранья. Дрейка Дамиена-Ферно Баал, как ни странно, считал кем-то вроде отца – защитником, помощником, другом, наконец. Хотя, Дрейк, наверное, никому и никогда не был другом.
Но ему он мог доверять.
– Она выбрала меня там, между мирами, – рассказывал он хрипло после того, как показал Начальнику спящую Альку. – Выбрала, Дрейк. Никто бы не выбрал, а она – да.
Тишина. Долгая, длинная, томительная.
Регносцирос маялся – знал, что нарушил множество правил. Дергался оттого, что собирался нарушить еще.
– И что? – спросил, наконец, человек в кресле. – Что будет дальше?
– Я как раз хотел об этом поговорить.
– Вернешься на работу, сделаем вид, что ничего не случилось, заживем счастливо? У меня нет тебе замены, Баал. Души провожать некому, а за ними всегда охотятся.
– Демоны. Такие, как я, – Баал горько ухмыльнулся. Посмотрел в сторону. – А она выбрала демона.
– Она выбрала человека.
Дрейк, сам того не зная, только что повторил те же слова, которые Регносцирос озвучил Смерти. Он один в него верил – собственный Начальник, – больше никто. И Алеста.
– Я хочу уйти.
– Что?
– Хочу уйти, Дрейк.
– Куда? Нашел новое место? Надоели старые условия?
Серебристая форма напряглась вместе с плечами, недовольно зашуршала, когда человек в кресле подался вперед.
– Помнишь, ты однажды дал мне обещание, что я смогу попросить тебя о чем угодно? [3]
– Ты хорошо подумал?
– Да.
– Точно хорошо?
Брови Дрейка сошлись на переносице – он предчувствовал напряженный момент.
– Хорошо, – пальцы Баала то расслаблялись, то вновь сжимались так, что белели костяшки – напряжение. – Ты поможешь мне с тем, о чем я попрошу?
– Я же обещал.
– Тогда… Дрейк,… я хочу уйти с работы.
– Почему?
Жесткий вопрос, а в глазах растерянный огонек, оттенок мольбы. Показалось?
– Потому что хочу жить в другом месте. Переехать туда, где идет время. Чтобы мы – я и Аля – могли построить свой дом и… создать семью.
– Создавайте здесь.
Кажется, Начальник сразу же соглашался на все условия, лишь бы демон не уходил.
– Здесь… не получится, – неловкая пауза. – Аля хочет детей. Хочет родить от меня…
– А ты?
Регносцирос впервые в жизни видел, чтобы Начальник позволил выражению своего лица принять крайнюю форму удивления. Даже возликовал внутри, что единожды в жизни сумел по-настоящему его удивить.
– Я… тоже этого хочу. Подумал, что, если я с половинчатой душой все-таки могу быть человеком, то они – с тремя четвертями – смогут тоже. Я надеюсь.
Теперь он смотрел в пол. Не мог смотреть собеседнику в глаза, ибо до сих пор удивлялся себе сам.
Он и дети – он принял эту мысль. Не сразу, но принял.
– Баал, ты, правда, хочешь уйти?
Они долго смотрели друг на друга в тишине.
– Ты мне… как сын.
Никогда и никому Дрейк не говорил таких слов. Теперь сказал. У Баала раздувались ноздри и тряслись ладони.
– Знаю.
– И у меня нет тебе замены. Нет другого Карателя.
– Это я тоже знаю.
– И где я должен его взять? Кого обучить? Кем тебя заменить? А ребята – твои друзья – с ними ты видеться не хочешь?
Хочет, конечно, хочет – нельзя давить на больное.
– Зря я тогда дал тебе это обещание.
– Но теперь ты не можешь отказать.
– Не могу! – начальник злился – подобной реакции Регносцирос не ожидал, но, тем не менее, был готов стоять на своем.
– Отпусти меня.
– Не могу. Не хочу.
– Ты обещал.
– Дай мне подумать.
– Ты обещал!
– А я и не отказываюсь ничего выполнять, но дай мне подумать, ладно?
– Ладно.
– Два дня.
– Два дня.
Когда Дрейк покинул хижину, Регносцироса трясло.
В шкафчике на кухне он нашел закрытую бутылку со скотчем, резко отвернул крышку и приложился к горлышку. Дрожь внутри начала униматься.
* * *
Чего Ева не ожидала с самого утра, так это стука в дверь и соседа с котомкой продуктов в руке.
– Свари мне суп, – попросил он с порога и протянул сетку с луком, морковью, чесноком и еще бог знает чем.
– Овощной?
Она, как всегда, не успела даже причесаться. Всегда представала перед ним лохудрой и мало переживала по этому поводу.
– Какой получится.
– Мясного без мяса не выйдет.
– Я не знаток. Свари, чтобы не густой. Чтобы подошел… для восстановления.
– Заболел кто?
«Меньше спрашивай», – зыркнули в ответ черные глаза.
Все, как обычно, – доброе утро, сосед.
– Сварю.
Через час она несла в чужой двор украшенную синими цветами эмалированную кастрюльку.
* * *
Он кормил ее с ложки. Дул на нее, подносил к ее рту, хотя Алька могла есть самостоятельно. Раны, конечно, болели, и встать она пока бы не рискнула, но ложку бы удержать сумела.
– Ева варила?
– Кто?
– Соседка твоя.
– Наверное. Я не знаю, как ее зовут.
Алеста проглотила еще порцию пресноватого бульона, поморщилась, потому что все-таки обожглась, заметила на автомате:
– Я бы положила больше специй.
– Будешь варить сама, тогда и положишь.
Раздраженный тон ее не покоробил, она к нему привыкла; Баал отставил тарелку с ложкой прочь и молча вышел из комнаты.
Альку печалило другое – она его подставила. Баала. Отправилась на Равнины без разрешения, не смогла далеко уйти, стащила чужой пистолет, заставила ради себя рисковать. А если бы его ранили? Убили?
Нутро скрутила апатия.
Все тщетно. Смотреть в его хмурое лицо больно, потому что до сих пор любит, а разговаривать им не о чем. Ее спасли, теперь доставят в Город и даже хорошим словом не помянут. А на Танэо ей самой теперь, увы, не добраться.
В обед спросила:
– Ты проводишь меня назад в мой мир?
Тишина. Губы поджаты, волосы убраны в хвост, брови нахмурены – хозяин дома не желал с ней говорить. Алька его не винила, только расстраивалась.
– Я не дойду одна…
Об этом он уже знал – видел ее потуги.
– …а здесь мне делать нечего.
Хотелось не пресного супа, а мяса. Или сырного пирожка. И еще свербело в груди при мысли о том, что он и сам может быть ранен. А еще из-за нее снова пропустил работу – выхаживает, откармливает, все раны обработал и залепил пластырем.
– Тебя не ранили там? Самого? – спросила тихо и не удивилась, когда вновь не получила ответа. – Пожалуйста, проводи меня. Проводи обратно, ты ведь предлагал…
– Нет.
Жестко, хлестко. И ее вновь оставили одну.
Алька вытерла одинокую слезинку и стала смотреть в окно. Раньше ей предлагали дорогу домой, сопровождение.
Теперь не предлагали ничего.
* * *
Верил ли он, что у них что-то получится? Видел ли совместное будущее безоблачным, знал наперед, что оно обойдется без стычек, что любой проблеме сразу же найдется решение, а ссоре компромисс?
Нет.
Но был готов дать этому шанс. Ей и себе.
Регносцирос снова сидел на крыльце, смотрел на ночное небо, курил. Сегодня он кормил ее четыре раза, она дышит, поправляется, все будет хорошо.
Вот только Дрейк… С какими новостями к вечеру завтрашнего дня появится он? Отпустит ли? Сдержит слово?
Сдержит, всегда держал – Регносцирос в Начальнике не сомневался. Только почему-то волновался – как мальчишка, как в детстве, когда приносил матери цветы.
Сигаретный дым, похожий на белесые, растянувшиеся до горизонта облака, подхватывался ветерком и уплывал за угол.
* * *
А утром со двора доносился стук молотка и долетал свежий ветер.
Солнечно.
То принималась жужжать пила, то замолкала, уступая место спокойному пению птиц и шороху трав, то двор вдруг вновь сотрясался от рубящих ударов, постукивания друг о друга плиток черепицы, вжиканий рубанка – Баал работал.
Аля поднялась с кровати, смогла. Ныло бедро, болела спина, не поворачивалась вправо шея – застудилась, что ли, той ночью? Ничего, отойдет.
Какое-то время сидела на кровати, свесив ноги на пол – водила ступнями по шероховатым доскам. Все хотела вписать в список новый половик – постелить в спальню, – не успела. Когда-нибудь забудется и это. Бабуля учила, что все проходит – пройдет и это, – просто пережить.
А утро чирикало воробьями, искрилось теплым светом, носилось за окном вместе со шмелями от цветка к цветку – хорошее утро.
Еще бы мысли не такие мрачные, еще бы проблеск надежды в душе и лучик солнца внутри, чтобы разогнать мрак, но… хватит и достойного прощания, чтобы без слез.
Алька много думала этой ночью – расставляла детали по полочкам, вспоминала, тонула в сладких грезах несбыточного и жестких мыслях о реальности. Решила, что нужно извиниться, – это главное, – а там идти своей дорогой.
Встала. Запретила себе плакать.
Позавтракает, а там во двор.
Она подошла к нему со спины и долго любовалась ей: рельефными мышцами, мощной шеей, широким разворотом плеч, выступающим рисунком бугорков – знала, какими они ощущаются под пальцами. Теплыми, тугими, сильными. Помнила, какой гладкой от пота может стать кожа, какими шелковыми и тяжелыми ощущаются вьющиеся локоны, обожала покусывать мочки ушей…
Вновь едва сдержалась, чтобы не расклеиться. Не в такой солнечный день.
– Баал, – позвала тихо, и мужчина у стены сарая застыл. – Мне пора.
Он не обернулся.
– Я придумала себе имя. Пусть меня зовут Эльзой, ладно? А фамилия может быть любой – Кристи, например. Или Риттон – без разницы.
Тишина; скрип старого флюгера на крыше, покачивание цветов у крыльца.
– Эльза Кристи, говоришь?
– Да, – Алеста смутилась. – Не звучит?
– Нет.
– А Эльза Риттон?
– Тоже.
Он ударил молотком по стене три раза – вколотил по самую шляпку торчащий гвоздь.
– А какое звучит?
– Думай. Время есть.
Нет у нее времени, совсем нет, надо уходить.
– Я… – Алька замялась, – …хотела сказать тебе спасибо за одежду. И за то, что спас, – за все.
Стали холодными ладони, ватными ступни, замутило живот. Ей не хотелось уходить, не хотелось, чтобы это все – утро, диалог и прощание – вообще происходило, но разве судьбу выбирают? Иногда она выбирает за тебя.
– Ты отвезешь меня в город?
– Нет.
Пауза.
Придется идти самой?
– Тебе некогда сейчас? Тогда, может, позже?
– Нет.
Интересно, сколько километров до города, – сможет ли она дойти? А телефона здесь нет, такси не вызвать. Да и, опять же, куда без документов? Наверное, теперь он откажет ей и в этом.
Что ж…
– Пожалуйста, отвези меня.
Ей вдруг захотелось перейти на «вы» – сказать «отвезите». Стало одиноко и неуютно стоять здесь, в чужом дворе – Алька никогда не умела ни клянчить, ни выпрашивать, но как добраться самой?
– Пожалуйста…
– Нет.
– Я ведь пешком не дойду!
– Не дойдешь.
– Ну, хотя бы вызови мне такси – я потом накоплю… отдам. И за пистолет отдам, за все…
За все, что скажешь.
– Не буду я ничего этого для тебя делать.
Баал, наконец, обернулся. Отложил молоток, откинул со лба волосы, посмотрел хмуро и исподлобья.
– Но почему? Почему? Я ведь не прошу о многом – вызовите такси, доставьте в Город, и Вы (она все-таки перешла на «вы») никогда меня больше не увидите.
– Нет.
Он, кажется, ее «выканья» даже не заметил.
По щекам покатились слезы, стало обидно.
– Но почему? Я ведь не прошу многого…
– Да потому что, – грубовато ответили ей и уперли мощные руки в бока, – если я сделаю тебе новые документы, вызову такси и отпущу в Город, кто тогда будет рожать мне детей?
Алька не верила собственным ушам.
Стояла, обдуваемая ветром, слушала, как стучит собственное сердце, – точнее, как оно сначала силится выдать хоть удар, а потом переходит на галоп, – чувствовала, как жар расходится от груди к ладоням, от ладоней обратно к груди, как пересыхает во рту, как отчего-то немеет затылок, и не могла выдавить ни слова.
Кто… будет… рожать… детей?
Секунда. Две. Три.
Ему… детей?
И вдруг – сквозь недавнюю обиду, сквозь слезы – расцвела. Расплылась в робкой и одновременно радостной улыбке, шагнула навстречу, распахнула руки и обняла его – соленого от пота, крепкого, на две головы выше ее – мужчину. Вредного демона, самого невыносимого в мире человека, своего персонального «дикого».
– Правда? – спросила срывающимся голосом. – Правда?
– Правда.
И ее прижали носом к пахнущей летом, солнцем, а еще чем-то очень нужным и родным обнаженной груди.
* * *
Дрейк приехал вечером. Попросил Баала сесть к нему в машину, долго молчал, прежде чем начать, смотрел не на подчиненного, а почему-то на собственные, покрытые светлыми волосками и вдутыми прожилками вен руки.
– У меня есть план, – начал издалека.
Регносцирос напрягся и расслабился одновременно. С какими бы новостями Начальник не приехал, появился он, судя по голосу, в хорошем расположении духа, а это всегда к добру.
– Какой план?
– Хочу предложить тебе не совсем то, о чем ты просил. Ты еще не передумал уходить?
Салон машины пах кожей; Регносцирос вдруг поймал себя на мысли о том, что почти отвык от городских запахов и не желает к ним возвращаться. Разве что ненадолго. Может, устал, а, может, просто «не его».
– Нет.
– Я так и думал. Но попробую найти компромисс. Готов?
Готов ли он? Можно ли вообще быть готовым к компромиссам Дрейка, когда тот смотрит так загадочно и с хитрецой? Нет, он однозначно что-то задумал.
– Я попробую угодить и «вашим», и «нашим». Думаешь, у меня выйдет?
– Поделись уже, – буркнул Баал, заинтригованный.
И Начальник, явно довольный собой и собственными идеями, заговорил.
Невдалеке, сразу же за покосившимся забором, стоял вросший в землю от времени дом. В доме светилось окно – единственная лампочка под потолком, дребезжал холодильник, и колыхались новые занавески на окнах.
В доме готовили ужин.
Эпилог
Ее счастливый взгляд неизменно приводил его в трепет. В радости эти глаза – не то ореховые, не то шоколадные – становились такими теплыми, лучистыми, будто с искорками, – Баал таял. А сейчас этот взгляд выражал не только счастье, но одновременно удивление и растерянность – Алеста без конца озиралась вокруг: на высокие зеленые деревья, на стелющиеся за лесом луга, на густую сочную траву – пейзаж был ей незнаком.
Но чаще всего ее голова поворачивалась в сторону поляны, на которой, аккуратно сложенные, отдыхали смолистые бревна – много бревен. А так же мох, войлок, пенька в рулонах, рубероид, металлические скобки, новая бензопила. Мешки с цементом, щебнем, песком, болты, баки с пропиткой…
– Что это все?.. Зачем?… Где мы? Баал, где мы?
– Тебе на какой из вопросов ответить первым?
Он улыбнулся. Подошел к Альке вплотную, обнял, а сам при этом смотрел на стройматериалы, и глаза его в этот момент светились не меньше, чем ее. Запечатлей их в этот момент фотограф, и получился бы живой и эмоциональный портрет молодой пары – счастливой пары, – стоящей на пороге новой жизни.
– Мы в твоем мире. На Танэо. Не узнаешь?
Алеста ахнула и непроизвольно зажала рот рукой. Заозиралась; к радости тут же примешался испуг.
– Ничего не бойся, мы в безопасности.
– Ты уверен?
– Конечно. Ты мне веришь? – он развернул ее к себе лицом, нежно погладил пальцами по щеке. – Веришь?
Ответ дался ей нелегко – осознанный ответ, честный:
– Верю.
– Вот и хорошо. А на этой поляне будет стоять наш дом, который я построю для нас сам. Знаешь, я всегда мечтал построить дом с нуля. Для себя. Но для одного себя не хотел, а больше… не для кого было.
– Раньше, – прошептала она тихо.
– Раньше.
Сбоку от ее лица качнулись его локоны.
– А где именно мы находимся на Танэо? И как сюда доставили материалы? И кто проложил этот ход – Портал?
Регносцирос улыбнулся; в уме всплыл разговор с Начальником недельной давности.
* * *
Глубокий вечер, салон машины и руки на руле.
– На Танэо, в десяти километрах от их Великой Стены, – говорил Дрейк, – есть прекрасное местечко – безымянное пока. Оно расположено в противоположную сторону от Храма Деи. Туда не ведут хоженые дороги – разве что тропки, – там нет ни местных женщин, ни местных мужчин.
– «Диких».
– Что?
– Это они их так зовут.
– Ясно. Ну, как бы то ни было. Там вообще никого нет. Так вот, я предлагаю вам поселиться там: природа отличная, время идет, стройтесь и живите, рожайте детей.
При этих словах Баал ожидал уловить в голосе Дрейка сарказм, но сарказма там не было – лишь отеческое пожелание добра.
– На Танэо небезопасно. Если не «дикие», рядом наверняка Равнины, а мамай бы селился с ними рядом.
– Ошибаешься. Это место от Равнин далеко, а, насколько ты знаешь… Пардон, ты не знаешь, – так вот, мутанты с Равнин никогда не выходят на территорию людей. Никогда. То ли Боги им так прописали, то ли сами не в состоянии, но исключений нет – я проверил.
Он проверил. Интересно, какими методами он это проверял – с датчиком движения по периметру стоял ночами?
Однако если Начальник в чем-то заверял, обычно он не ошибался.
– А если на нас наткнутся местные женщины?
– Я поставлю щит, такой же, как на дом Зантии, и на вас никто и никогда не наткнется – к этим щитам и близко не подходят, – они заранее отводят в сторону. Сверху вас тоже не засечь – самолетов в этом мире нет.
Баал удивленно крякнул – все продумано.
– А почему Танэо?
– Потому что избранница твоя однажды захочет повидать родителей.
– Откуда ты…
– Просто знаю, поверь мне. Может, не через год или два, но захочет. Да и проще ей будет на родной земле. Плодороднее.
Регносцирос не стал спрашивать, как именно Дрейк выяснил и этот факт, какие датчики использовал на этот раз.
– Материалы для дома я доставлю, щит установлю. Когда тебе, дураку, надоест махать топором и возиться с бензопилой, дай мне знать – пришлю бригаду строителей.
– Я сам.
– Сам он… – проворчали с водительского сиденья. – Сам ты умаешься за месяц-два, поверь мне, и захочется видеть готовый результат. Так что, когда «насамкаешься» – дай знать.
– Хорошо.
К чему спорить?
– Дом, щит, «живите-рожайте», будьте счастливы, – Баал смотрел на хижину. Смотрел спокойно, с внутренним спокойствием – знал, у них с Алей впереди новая счастливая жизнь. Долгая, интересная и впервые наполненная смыслом. А ее смысл – как раз то, что от него постоянно ускользало. А теперь оно пришло, поселилось в душе, как знание, как маячок во тьме, и на сердце стало легко и спокойно. – Что ты хочешь за все это взамен?
Начальник повернулся и взглянул на него с притворным удивлением.
– Как что? Тебя. Всего и с потрохами. Будешь ходить, как и раньше, на работу, а после возвращаться домой, к семейной жизни. Где еще я буду брать демона-проводника? Нового искать? Увольте. Не молод я, за демонами бегать…
А тут был сарказм, но не злой, скорее, веселый.
– Для «ходить на работу» мне нужен Портал.
Глаза Дрейка поблескивали в полумраке салона.
– А что, я щиты ставить не разучился, а Порталы разучился?
– А ты достаточно для этого молод? – не удержался, ввернул шпильку Регносцирос.
– Поговори мне еще, будущий папаша. Глядишь, посмотрю на тебя, и точно вспомню, какого это – быть молодым.
Баал, сколько ни силился, так и не понял, какая доля шутки в этой шутке. А что, если и правда?…
Подумал, отпустил – не его дело.
– Так что, – подвел итоги Начальник, – это беспроигрышный вариант, не находишь? Работа при тебе, женщина при тебе, друзья тоже. Зарплата хорошая, я рядом. Ну что, порадуешь старика согласием? Я старался, продумывал, мозговал.
И правда, старался.
Баал сидел в чужой машине и испытывал такую благодарность, которая не уместилась бы ни в этот салон, ни в целый двор, ни в целый мир. Его собственный отец не сделал бы больше…
– Согласен, – ответил хрипло, – конечно, согласен.
Слева втянули воздух. И облегченно выдохнули.
* * *
– Наш дом? Правда, наш?
– Да.
– И ты построишь его сам?
– По крайней мере, постараюсь.
– И помогать мне позволишь?
– Позволю.
Алька ликовала.
– Буду еду тебе варить, да? Мыть тебя, расчесывать, ухаживать за тобой. Ласкать по вечерам…
– Почему только по вечерам?
Она ничуть не смутилась, хотя над головой висело яркое солнце, а зеленый лес весь изрезан резкими бликами – день-деньской.
– Хочешь начать прямо сейчас?
Улыбнулась хитро и нежно.
– Хочу, – и его руки потянулись к вырезу ее блузки. – Кого будем делать первым – девочку или мальчика?
Алька смеялась:
– Девочку, чтобы на тебя была похожа. Или мальчика, чтобы на меня.
– А если мальчик будет похож на меня, а девочка на тебя?
– Тоже идеально!
– Или, – Баал уже не мог оторваться от этих сочных теплых губ, – пусть будут… похожи… на обоих…
– Согласна…
Последнее слово получилось скомканным, почти неслышным из-за ласк. Когда ее груди показались наружу из расстегнутого выреза платья и Баал сполз губами к ним, он подумал о том, что, наконец, понял, зачем старый лис Дрейк, наряду с брусом, цементом и рубероидом, приволок к стройке кучу одеял.
Целую. Кучу. Одеял.
Понял.
И усмехнулся.
* * *
Танэо. Лиллен.
Год спустя.
Утро как утро – ничем не примечательное: залитые косыми рассветными лучами сады, мощенные плиткой дорожки и ухоженные клумбы, блеск покрытой росой травы – самое что ни на есть обычное.
И да, непримечательное, если бы не одно событие – разбросанные повсюду компакт-диски: по лавочкам в парках, во дворах, на ступенях крыльца, у входа в школу, на подоконнике магазина. Все диски в хрустких бумажных конвертах, на всех одна и та же надпись – «Жителям Лиллена». Без почтовых штемпелей, без конкретного имени, без обратного адреса.
Тильда Леонидовна – полная розовощекая тетка-кухарка, работающая в общественной столовой, – нашла такой, когда выходила из дома. Валяющимся на клумбе между розами. Ступила в сырую травку, замочила ноги в туфлях, прошептала: «Безобразие!» – и долго крутила находку в руках. Что это – послание жительницам от правящей Общины? Почему без указания тематики и рекомендуемого времени просмотра? Положила диск в сумочку, решила расспросить на работе бабку Тосю – та всегда знала все обо всем, да еще и самого утра.
– Не могли пригласить всех на собрание? Раздать эти диски на руки? Зачем розы мять? Безобразие.
Леонидовна вышла из калитки и зашагала вдоль по пустынной еще в этот час улице.
Вторым человеком, нашедшим в то утро заветный диск, оказался дворник Савва – молодой вихрастый парень в бежевом рабочем балахоне, с метлой в руках. Он тоже долго изучал находку – прикидывал, на чем бы устроить просмотр, если в съемной комнатушке нет проигрывателя? – через минуту сунул конверт в карман и принялся за работу.
Еще через час конверты массово пошли по рукам жителей – их находили все и всюду: Розалина Митина рядом с собственным забором, старушка Алла Акимовна на скамейке в парке, собравшиеся для игры в мяч на спортивной площадке подруги Тамара, Малика и Нонна – перед входом на стадион.
Сотни конвертов, тысячи конвертов – они попадались старым, молодым, мужчина, женщинам – всем.
К обеду дошли и до правительственных лиц. До любопытных стражниц, до бесшабашных школьниц, до воспитательниц, чиновников, работниц рынка. И отовсюду в разное время дня с экранов вдруг зазвучал Алькин голос. И всегда все начиналось с одного и того же предложения:
– Жительницы Лиллена! Меня зовут Алеста Гаранева, и я – дочь Ванессы Тереньтевны Гараневой, прежде проживающая, как и все вы, в Лиллене.
Шушукались, глядя на экран, три соседки по улице Гринная:
– А не та ли это Алеста, которая в прошлом году пропала? Не сестра ли Хельги, что в управлении?
– Она самая.
– И посмотри! Живая и здоровая, а говорили – сгинула не то у «диких», не то в Равнинах.
– И ребенок у ней на руках сидит. Девочка! Черненькая какая, принцесска-то! Неужто Алеста эта до храма все-таки добралась? Мир ей и счастье, спасибо Дее!
И одна из соседок нарисовала над грудью пальцами символ плодородия.
– Вы, наверное, удивлены, что я отправляю вам послание спустя столько времени, но, поверьте, в этом есть важный смысл и цель, ибо я хочу развенчать многое из того, во что верила сама, во что верите сейчас вы, во что нас заставили поверить…
– Кто эта такая?! – возмущенно кричала, а час дня Рустама Григорьевна – председатель по связям с общественностью. – Если это – ЭТО! – увидит ее правящее величество Микаэлла Дроновна…
При этих словах два секретаря-исполнителя, находившиеся в шикарно отделанном рабочем кабинете на верхнем этаже здания Правления, приглушенно охнули, а лица охранниц напряженно застыли. Некая цветущая на вид девчонка в этот момент говорила такое, от чего у Рустамы Григорьевны сводило одновременно и челюсти, и живот:
– Нас предают, уважаемые женщины. Предают ваших дочерей. Договоренность верхов с «дикими» очевидная – обе стороны имеют с этого некую выгоду. Думаете, девушки – ваши доченьки, ваши кровинушки – просто пропадают в неизвестном направлении? Думаете, их судьбу решает благосклонность или неблагосклонность Деи? Ошибаетесь…
– Да как она смеет, мерзавка!…
– …Дея здесь совершенно ни при чем. Кое-кто из стражниц, осведомленных о графиках выхода девушек в Поход, передает эту информацию за Стену, а там нас уже поджидают «дикие» в своей полной боевой готовности. Поверьте, мне кое-как удалось от них скрыться, но перед этим я слышала слова, подтверждающие мою теорию – слова от них же самих… О да, – девчонка на экране невесело рассмеялась, – поверьте, они умеют говорить…
– Уберите эту гадость! Выключите! И изымите эти чертовы диски, пока люди… пока Микаэлла Дроновна… Что же будет? Что же?…
Рустама Григорьевна подбежала к окну, посмотрела вниз, на площадь, и увидела то, чего боялась увидеть больше всего – задранные вверх головы, удивленные выражения лиц, перешептывания, бушующую, как штормовое море, перед зданием толпу.
– Черт, черт, черт… Кто ей сказал? ИЗЫМИТЕ ЭТИ ДИСКИ! Срочно!
Охранницы кивнули и заторопились из кабинета.
– И подготовьте для людей объяснительную речь! Правдоподобную, успокаивающую!
На этот раз кивнули секретари.
– У вас на все есть один час!
И Рустама Григорьена нарушила правило – закурила прямо в кабинете при закрытых окнах. А открывать побоялась.
– Мне повезло не просто остаться в живых, но и найти свою любовь…
В три пятнадцать, сидя дома в полном одиночестве, безымянный диск смотрела Ташка. Смотрела и не могла глазам своим поверить – с экрана смотрела живая и здоровая Алька. А ведь они ее похоронили, попрощались с ней, Ванесса Терентьевна, помнится, много плакала, когда не дождалась дочь назад.
– Вы думаете, мой мужчина «дикий»? А вот и нет. Невероятно образованный, интеллигентный, умный, с прекрасным характером. А так же справедливый, сильный, способный защитить. Красивый, наконец, не правда ли?
– Вот это да-а-а-а!
Когда в кадре показался герой Алькиного рассказа, челюсть Талии брякнулась об пол – с экрана, улыбаясь и обнимая Альку, смотрел настоящий Воин – огромный, как скала, накачанный, длинноволосый, действительно выглядящий, как «дикий».
– Умный? Интеллигентный? – кого-кого, а после такого описания Ташка ожидала увидеть в кадре очкастого ботаника с понурыми плечами и глазами в пол, а вовсе не писаного красавца со звериным взглядом и манящей полуулыбкой. – Алька, ты где такого взяла! Вот это секси! А там еще такие есть? Алька, Аленька, ну скажи, куда за такими идти?! ТЫ ГДЕ ЕГО ОТЫСКАЛА?!
Ташка подпрыгивала на диване; пустая комната молчала.
А счастливая Алеста улыбалась с экрана.
– Мам, это же Алька… наша Алька…
Хельга плакала. Слезы текли из-под очков в квадратной оправе; рядом, застывшая как изваяние стояла побледневшая мать – ее подбородок дрожал.
– Специально для родных: это ваша внучка – Лаура. И родилась она не от Деи, а от мужчины – да-да, того самого, которого вы только что видели в кадре, – самого лучшего папы в мире. Да, Лаура? У нас самый лучший папа в мире, скажи?
Пухлощекая девочка поняла руку и радостно агукнула; по щекам Ванессы Терентьевны текли теплые ручейки – ее внучка. Ее живая и родненькая внучка – личико розовое, глаза чернющие, волосики кудрявые… Лаура.
Ей ведь даже не придется накручиваться.
Позади Хельги и Ванессы Терентьевны стояла Клавдия, смотрела на экран, слушала, тихонько утирала кухонным фартуком слезы – она только что забыла про пироги в печи.
– Надо же, Алька наша…
– Мы просто не умеем любить и скрываем это. Мы думаем, что, ограничив свою Любовь тридцатью минутами в день, мы возьмем противоположный пол под контроль, но это не так. Давайте просто признаем – МЫ БОИМСЯ любить. Боимся быть женственными, мягкими, боимся сделаться зависимыми от собственных чувств, боимся раскрываться и кому-либо довериться. Как вы думаете, кто в этом случае остается в проигрыше? Мы сами. Посмотрите на моего мужа, посмотрите на него внимательно – он выглядит забитым? Выглядит принужденным к чему-либо? Покорным? А я люблю его все время, постоянно, я никогда не ограничивала идущий от меня к нему поток любви. Почему? Потому что верила, что любовь неспособна причинить кому-то вред. Какие еще вам нужны доказательства?
Вошел в комнату и остановился позади Клавдии и Антон Львович. До того он слушал знакомый голос из коридора – боялся, что выгонят, если войдет без приглашения, а теперь не удержался – хотел взглянуть на лицо дочери и внучки. Хотя бы раз, хотя бы одним глазком; его руки дрожали.
– А если бы нас любили по тридцать минут в день? Хорошо нам было бы? Задумайтесь об этом! А еще о том, почему от нас прячут истинную историю и те книги, что хранятся в специальных секциях библиотек. Зачем мы позволяем жечь на площадях наше истинное прошлое, наши корни, то, чем являлись до того? И пусть, если в этих книгах описаны ошибки предыдущих поколений, мы будем учиться на них, а не позволять верхам обворовывать нас в знаниях…
Ванесса Терентьевна не могла оторвать взгляда ни от живой дочери, ни от маленькой и совершенно чудесной на вид внучки. Девочка… Надо же, девочка. От мужчины…
– Поверьте, если следующим у нас родится мальчик, я никогда не отдам его на воспитание в специализированные лагеря – какой в том смысл? Сделать из него еще одного покорного и безликого члена Женской Общины? Да чем мы сами стали в этой Общине? Кем?
– Алька-Алька… – беззлобно качала головой Хельга. – Что же ты наделала? Что теперь будет?
В этот момент Лиллен притих. Лиллен смотрел странное и небывало смелое послание девчонки, которая сумела выжить после Равнин. И, значит, после Равнин тоже есть жизнь – совсем другая жизнь, другие законы, правила, места – люди смотрели, впитывали, качали головами, охали. Верили и не верили. Кто-то злился, кто-то радовался, кто-то негодовал, кто-то ругал правительство, кто-то матерился на Альку – по привычному укладу пошли волны, невидимая рябь.
– Женщины, любите. Не ограничивайте себя, не принижайте других. Ведь в принижении мы не возвышаемся сами, мы лишь унижаем. А униженные, поверьте, не бывают счастливыми. Что способен дать вам такой человек? Ощущение власти над ним? Ощущение собственного превосходства? Безопасности? Да безопасность – она ведь рождается в доверии, в уважении и почитании друг друга. Во ВЗАИМНОЙ любви, понимаете?
Лиллен смотрел. Лиллен слушал.
Антон Львович тихо вышел из комнаты, улыбающийся. Он шел в кладовку – хотел достать журналы, чтобы не читать их больше по ночам, когда болят глаза и не помогают очки, – он хотел читать днем.
Какая малость, а как здорово – читать днем. Что-то новое, что-то для себя.
– Спасибо тебе, – прошептал тихо. – Люблю тебя, дочка.
Конец.
Сноски
1
детали этой истории описаны в книге «Игра Реальностей. Том 2»
(обратно)2
подробности описаны в книге «Игра Реальностей. Дрейк» – прим. автора
(обратно)3
эти события подробнее описаны в книге Мистерия – прим. автора
(обратно)
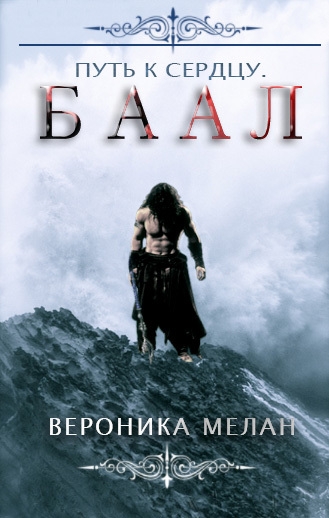




![Когда пробьет двенадцать... [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/610353/primary-medium.jpg)

![Ведьма в Стоунской академии [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/619360/primary-medium.jpg)




Комментарии к книге «Путь к сердцу. Баал», Вероника Мелан
Всего 0 комментариев