Карина Демина ВНУЧКА БЕРЕНДЕЕВА В ЧАРОДЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ГЛАВА 1, где речь идет о необходимости высшего образования для правильного обустройства личной жизни
— А ждет тебя, милая, дорога дальняя и дом казенный, — бабка отмахнулась от жирной мухи, которая норовила пристроиться на бабкиной морщинистой щеке.
— Чего?
— Того, Зосенька, учиться тебе надобно…
Разговор этот бабка заводила уж не первый раз. И говоря по правде, без особого успеха.
Учиться мне не хотелось. Вот никак… хотелось замуж, и сильно, до того сильно, что аж в груди щемило. А поелику Божиня от щедрот своих грудью меня наделила обильной, то и щемило крепко.
Я отвернулась от бабки, которая нарочно энто гадание затеяла… как же, на женихов… сама опять про свою учебу…
Бабка вздохнула и листы, двойным крестом разложенные, сгребла.
— Зосенька, сама подумай, какие тут женихи…
— Ивашка…
Правда, бегает он за Марьянкою, только родители его этакой невестушке не обрадуются. У Марьянки из приданого — две куры рябые да полкозы, и то с сестрицею поделиться не могут, кому какую половину.
Бабка поджала сухонькие губы:
— Не будет на чужом горе ладу, — сказала строго. — Аль и вправду думаешь, что стерпится — слюбится?
Нет, тут-то она права, про Ивашку, это я не подумавши… ну посватаюсь… матушка его заставит… или батюшка… да только Марьянку свою он, небось, по их велению не разлюбит.
И будет к ней бегать.
А я?
Защемило сильней. А может, не в тоске любовной дело, но просто рубаха тесная? Только вот отступать я не привыкла.
— Тогда Демьян…
— Вдовый.
— И что?
— Трижды вдовый, — с намеком произнесла бабуля.
И вновь права. Нет, Демьян — мужик хороший, и нет его вины в том, что женки его мрут, да только мне-то с того не легче.
Прокляли, небось.
Поговаривают, что будто бы еще дед евоный знахарку местную бросил за-ради мельничихиной дочки, вот та и осерчала… не мельничиха, а знахарка.
Дурень, что и сказать. Кто ж в здравом-то уме знахарок злит? Говорят, та в лесу на осине повесилася, а перед тем деда Демьянова и весь его род прокляла. Нет, поначалу-то я не верила, но как за три года трех девок схоронили, тут-то народец и припомнил и батюшку Демьянова, который невесту в иных краях сыскал, и что прожила она недолго, и деда его добрым крепким словом помянули.
Нет, не рискну я за Демьяна идти. Да и он боле не пробует свататься. Так и будет в одиночку сына растить, бедолажный…
Муха все ж таки села на высокий бабкин лоб, крылцы сложила, лапки знай трет, довольная такая… к хлопотам, стало быть.
— Степка…
— Маменькин сынок, а с Глуздихою у тебя ладу не будет. Станете жить да гавкаться.
И то верно. Степка — парень славный, да только без маменьки своей он и до ветру не сходит. Она же, к единственному сыночку прикипевшая, только и поучает… трижды всех барсуковских девок перебрала и не нашла той, которая дорогого Степочки достойная.
— Ганька? Тимошка-скороход…
Я перечисляла имя за именем, но впустую. Оно и правда, пусть село наше, Большие Барсуки, и вправду велико, да только парней в нем не так чтобы и много. Девок всяк больше. И каждой замуж охота, и каждую щемит, гонит бабья тоска, страх перегореть-перелететь юные годы… они ж быстрые. Вчера девка, сегодня — баба, а завтра уже и старуха седая, дитями да внуками окруженная. Аль одинокая, что старостина сестрица, сухопарая да лядащая, с глазами завистливыми, с языком гадючьим. Слова-то доброго от нее не услышишь. А все почему? Потому как крепко в молодые годы женихов перебирала, вот и не заметила, как безмужнею осталась, бобылкою горькой.
— Ты вот говоришь, что учиться тебе не надо, — бабка подсела поближе. — Да только ж, Зосенька, ты об ином подумай… поступишь в Акадэмию… выучишься, диплому получишь и мантию. Вернешься в Барсуки не знахаркою, а ведьмой царскою!
Бабка подняла заскорузлый палец.
А что, и вправду хорошо звучит… только есть одно обстоятельство, которое мне вовсе не по нраву.
— Так когда ж это будет, бабулечка? Сколько учиться надобно?
— Пять годочков всего.
И глаза хитрые-хитрые, серые, что галька речная, водой до блеску обласканная.
— Всего?!
Да пять годочков — это… это ж, прости Божиня, почти треть моей жизни! Это ж сколько мне будет-то… двадцать один… или нет, двадцать два. Я на свете, ежель разобраться, семнадцать годочков цельных прожила, а за энти годочки так никто и не посватался.
В груди заныло так, что я всхлипнула от жалости к себе… нет, невеста я солидная, с приданым немалым, да и собой хороша, только… сторонится наш люд тех, кого Божиня даром наделила.
— Тю, какие это годы, — бабка придвинулась еще ближе, сели локоток к локоточку, как некогда, в детстве моем далеком. Того и гляди, сунет руку под душегрею, вытащит калачик сахарный да сунет с утешением. Мол, не след печалиться в этакий-то день.
Солнышко.
Аль дождь, но он все одно землице нужен, пусть напьется-напитается, наберется сил… и когда бабка говорила так, то я слушала, а обиды, выдуманные, настоящие ли, но уходили.
— Для ведьмы — это и не девичество даже, детство горькое… колдуны, они поболе обыкновенных людей живут.
Ее правда, но… это ж я пока доучусь, всех приличных женихов поразбирают!
Но бабка от моих резонов отмахнулася.
— Ой, и дурища ты, Зоська… вот мы ж с тобою твоих женихов перебрали и никого подходящего не нашли, верно?
Я кивнула.
— Так чего ж о них горевать-то? Оженятся? И пущай себе, а за пять лет новые появятся… — она смахнула-таки муху, которая поднялась с тяжким гудением, небось, недовольная тем, что ея от этакой премудрой беседы отлучили. — А не появятся, то и… ты ж, Зосенька, дальше Бузькова торжища не выезжала.
Ее правда, да только и не тянуло меня странствовать. Хватит, маменька моя настранствовалась… дай, Божиня, доброго посмертия ея душеньке.
Бабуля моя, обрадованная тем, что я молчу, слухаю и не перечу, взяла меня под локоток.
— Вот гляди. Акадэмия — она где?
— Где? — послушно переспросила я.
— В столице! — На сей раз бабулин палец с кривым синеватым ногтем уткнулся мне в нос. — А в столице сколько народу?
— Много…
Всяк поболе, нежели в наших Барсуках. Может быть, даже пару тысяч наберется. Я попыталась представить себе столько люду, но не сумела. Отчего-то подумалось, что теснотень должна быть в этой столице. Небось, сидят один у одного на головах.
Жуть.
— Очень много! — со значением произнесла бабка. — А женихов средь них — что рыбы на нересте…
Я призадумалась.
Была в бабкиных словах своя правда. Отчего-то до нынешнего дня я про учебу думала как про пустую трату времени. И так умею все, чего людям местным надобно.
И пацуков выведу, и тараканов.
Банника приструню.
С кудельником договориться сумею, хмарь да хворобу из тела выгоню. Со скотом управлюся, с амбарами… бабка, небось, так учила, что куда там царевым Акадэмиям.
Она же, почуяв во мне слабину, заговорила сладеньким голосочком, аккурат таким, каким с мельничихой беседу вела, которая про меня трепалась, что будто бы я ея сыночка ненаглядного на сеновале за какой-то надобностью сманила и что вернулся он с того сеновалу мятый-премятый и уставший. Оно-то правда, утомился он быстро, хоть и здоровьем его Божиня не обделила. Только куда человеку супроть одержимца? Я ж мельничихе про то говорила… и сынок ейный хороший парень, жаль, что в позатом годе оженился… а мальничиха про женку будто и позабыла, знай языком себе мелет-мелет…
Интерес у нее.
С того интересу да со сладкой бабкиной беседы и выскочил на языке чирь чирьем. Мельничиха потом неделю не то что говорить — есть не могла. Схудала, сошла с тела да повинилась: не меня она оговаривала, невестку воспитывала, которая сыночком ее дорогим помыкает больно, хотела дурной девке показать, что жена — не стена, ее и подвинуть можно.
Но та история — давняя…
— И женихи тамошние — не чета нашим… там и купцы тебе, солидные люди… и служивые, ежель более по нраву. И мастера всякие. А то и боярина какого прихватишь…
Я мотнула головой: это бабка уже лишку хватила.
— А что? — Серые глаза ее блестели молодо, ярко. — Ты ж у нас и сама не из простых… да при даре… да при грамотке царевой… такой жене кажный рад будет!
В общем, уговорила она меня.
Нет, я по-прежнему полагала, что пользы от этой самой Акадэмии мне не будет, но и вреда, авось, не приключится. А там, буде Божиня ласкова, я и вправду счастье свое справлю.
На том и порешили.
Отъезжала я на десятый день, с обозом. И купец Панкрат, мужчина видный, в теле и с животом, каковой есть вящее свидетельство жениной об муже заботы, весьма тому порадовался.
Он мне и местечко на своей телеге обустроил. Соломки свежей положил, дерюжкою накрыл, бабка пыталась сунуть подушки, да только я отказалася: куда мне в столицы да с подушками?
— Хорошие! — Бабка оскорбленно поджала губы. — Гусиным пухом набитые!
А то я не знаю! Сама тех гусей щипала, сама и сыпки шила, и с пухом мешала сон-траву, истертую в порошок, чтоб на подушках этих спалось легче.
Только вот огромные оне.
— А на кого ж ты меня покидаешь… — Бабка вспомнила, что на нее люди смотрят — провожать меня вышли всем селом, старуха Микитишна, месяц лежмя лежавшая, и та поднялася — подушки сунула старосте, который принял их с поклоном да сестрице передал.
— И чего ей неймется? — Та скривилась. — Попортят девку. В столице той одни охальники…
— Такую попорти… — буркнул Михей, который в прошлым годе, захмелевши крепко на Весенний день, с поцелуями ко мне полез.
А я что?
Рука у меня крепкая, дедова…
— Ай деточка… ай кровиночка… — Бабка раскачивалась, при том успевая перебрать в который раз нехитрые мои пожитки. — Кошелек при себе держи, подвяжи к ноге тесемочкой.
— Уже подвязала.
— А грошиков отсыпь в зарукавники… уезжаешь в край далекий… — выла она знатно, протяжно, даром мою бабку на все похороны зовут. Она одним голосом любого разжалобит. И староста шмыгнул длинным красным носом. — Кто ж за мною-то, старою, глядеть будет…
Заблестели глаза и у старостихи, она мяла расшитый фартук да покачивалась, готовая по старой привычке подхватить жалобную песню. Поникли мои подруженьки, которые за-ради этакого поводу принарядились, Маришка и та в косы новую ленту вплела. Небось, Ивашкин подарок.
— Ой, ноженьки мои не ходю-ю-т, — продолжала голосить бабуля. — Кошель с документами на шею повесь…
— Повесила.
— Ой, рученьки мои не держат… Зося тебе там пирожков завернула с капусточкой и грибочками… ой, глазы-ы-ньки мои не видят… гляди, у торговок не бери, вечно они порченое сунуть норовят. Потом будешь всю дорогу животом маяться.
— Ба!
— Молчи и слушай старших. Ой, ушеньки мои не слы-ы-ы-шат…
— Бабуль, ты ж меня вроде провожаешь, а не хоронишь…
— Да? — Она смахнула платком крупную слезу. — А хорошо ж идет… ай, остануся одна… сирота-сиротинушка…
Девки подвывали.
Лузгали семки.
И глазами стреляли, подмечая, что у кого нового объявилось. Вон, Тришка душегрею нацепила хорошую, плюшеву… небось, маменька для этаких проводов не пожалела. А у Славки на шее монисты висят. И серьги крученые в ушах покачиваются, которых я прежде не видела. У меня этаких нету… ничего, я себе в столице, небось, и покраше найду.
— Ай, буду век вековать… горе-горевать… летит моя лебедушка, крылья расправила… да вьются по-над нею ястребы сизые… ястребы сизые, с когтями острыми… закогтят мою лебедушку… заклюют белокрылую…
— Бабуль, я ж и остаться могу.
Сухонький кулачок уперся в мой нос.
— Гляди там, Зоська… не балуй, а то ты ж меня знаешь!
Панкрат, взопершись на воз, свистнул, хлопнул кнутом… тронулись, стало быть.
— Ай, одна ты у меня оставалася… ай, как мне тепериче жить…
Бабку уже обступали сельчане, и старостина сестрица сунула ей подушки, которые бабка обняла, потому как добром своим не привыкла разбрасываться. Подушки она прижала к животу, не прекращая причитать. Это уже потом, когда телега за пригорочком скроется, бабка замолчит да пригласит сельчан к столу, чтоб, значит, проводили честь по чести покойницу…
Тьфу ты… студентку.
Будущую.
Я же подперла кулаком подбородок, поерзала на соломе, устраиваясь поудобней, и принялась мечтать, как приеду в столицу…
ГЛАВА 2 Дорожная, в которой случаются новые знакомства и добрые советы
До столицы я ехала три седмицы. Сперва-то обозом, на Панкратовой телеге, которая пробиралась от деревеньки к деревеньке, постепенно заполняясь нехитрым товаром.
В Медунищах взяли меду в липовых аккуратненьких баклажках.
В Сивцах — вяленой рыбы да полотна узорчатого, которое тамошние мастерицы ткут хитро, что на обе стороны узор выходит. Я опосля Сивцов целый день все полотно мяла, разглядывала, силясь понять, как оно у них вышло, но не докумекала. И спрашивать бессмысленно, не расскажут. Оно и верно, кто ж в здравом-то уме этакою тайной поделится? Брал Панкрат и горшки глиняные, и лисьи шкурки, рога оленьи, про которые сказал, будто бы столичные лекари из них порошок делают от мужской слабости. Вот смех…
Как бы то ни было, но вскорости на телеге места почти и не осталось. А там и на тракт вышли, широченный, желтым камнем вымощенный. А по нему люд, что пеший, что конный, что с телегами, как и мы… тут-то и выяснилось, что до столицы Панкрат не едет, а надобно мне на постоялом дворе в возок почтовый проситься. Оно хоть и дорого выйдет, зато и быстро.
Панкрат сам энтот возок и сыскал. Хороший он мужик, и бабку мою крепко уважает.
— Езжай, Зосюшка, — меня расцеловал в обе щеки. — Езжай и покажи там, в столицах, где раки зимуют…
Носом шмыгнул от избытка чувств.
И я едва не расплакалась: все ж таки последний знакомый человек… кто знает, как оно там, на чужбине сложится. Впрочем, горевала я недолго. Долго не умела.
Почтовый возок оказался мелким, что коробка мышиная, и тесным. Лавки внутрях стояли узенькие, твердые, выглаженные до блеску. И главное, что на лавку эту мне одной как уместиться, но в карету четыре человека влезло.
— Потеснись, девка, — велел парень болезного виду. Бледненький, тощенький, зато при шабле да в камзоле. Камзол вот, в отличие от парня, мне глянулся. Сукно дорогое, густого зеленого колеру, да с золотым шитьем. Ружи, значится, по подолу, а на грудях — птички чудные, с короткими крылами да хвостами длинными. А главное, что шитье это хитрое, я такого не видела… хотела пощупать тайком, да парень скривился.
— Убери руки, холопка!
Я и убрала. Мне чужого не надобно.
Хотела сказать, что не холопка вовсе, но вольная от рождения, и матушка моя вольною была, и дед, да смолчала.
— Понаберут всяких… — парень нос задрал и к окошку отвернулся.
Напротив нас устроился сухонький старичок с обильною лысиной и тетка в годах. Стоило карете стронуться, как она достала подушечку пухлявую да сунула к стеночке, прислонилася и уснула. Как же я ей позавидовала, а часу не прошло, как с сердешною тоской вспомнились бабкины пуховые подушки… вот бы хоть одну…
Возок, четвериком запряженный, летел.
Трясся.
Скрипел и не разваливался, видимо, чудом да моими молитвами. А молилась я истово, как никогда-то прежде… кажется, даже вслух. Точно вслух, потому как парень, до того глядевший в окошко — как будто бы на этакой скорости разглядеть чего можно, — процедил сквозь зубы:
— Заткнись уже.
И зыркнул на меня этак недобро. Тут-то я и решила, что и вправду хватит… ежель возок до этого дня не рассыпался от подобной езды, то и нынешнюю дорогу как-нибудь выдержит.
Смиривши дрожь в коленях, я повернулась к спутнику.
От, хоть и видно, что боярского роду, да все одно без жалости на такого и не взглянешь.
Недокормленный какой. Вон как щеки запали. Нос крючковатый торчит. Губы ниточкой. И подбородок востренький, упрямый, а на нем бороденка курчавится, да реденькая.
— Репейным маслом натирай, — сказала я, в бороденку мизинчиком ткнув. Папенька мой, будь Божиня к нему милосердна, помнится, учил меня, что просто пальцем в живого человека тыкать — это неманерно. А ежели мизинчиком, то очень даже красиво выходит.
Правда, молодец сего жесту не оценил. Он поерзал, верно, будь лавка поширше, отодвинулся б. Вот олух. Я ж ему от чистого сердца советую! У нас вон девки все опосля бани с репейным маслицем волосы чешут, чтоб гуще росли и блеску прибавляли, а после отваром из дубовой коры да березовых листьев споласкивают.
— Главное, тепленькое возьми. На паровой баньке нагрей, но не чтоб кипело. Как закипит, то разом всю пользу поутратит, — я говорила тихо, вполголоса, дабы не потревожить спящую женщину. Хотя та спала крепко, вон, похрапывала даже.
Парень зубы стиснул так, что ажно заскрипели.
Ох ты ж, бедолажный…
— А это у тебя от глистов…
— Нет у меня глистов! — сдавленно произнес он и обеими руками за шаблечку ухватился. Сам-то невелик росточком, и оружия такова ж. Не оружия — смех один… этакою шаблей только курей и гонять. Вот, помню, тятькину… тяжеленная, с меня, малую, высотою будет.
Да при эфесе узорчатом.
На стали клеймо, и на пятке эфесу камень гербовый. Красивая была, жаль, что сгинула вместе с тятькой. Вспомнилось, и разом такая тяжесть на плечи навалилась, что хоть волком вой.
И десять годков уж минуло, а все не успокоится сердце.
— Есть. — Я заставила себя думать не о своих бедах, но о благе ближнего, который, как и многие ближние до сего дня, блага своего осознавать не желал. — Зубами ты скрипишь. А энто — первый признак глистов!
На впалых щеках вспыхнули багряные пятна.
— Замолчи!
— Да чего ж молчать? Нету в глистах срама… у каждого случиться могут. Гонять их надобно… вон, погляди на себя, какой ты…
— К-какой?
Волнуется.
Аж заикаться стал от волнения, и пятна уже не только на щеках. И на шее, и на лбу. Уши и вовсе пунцовыми сделались.
— Худенький, — жалостливо сказала я. — Это из-за глистов… вот они обжились у тебя внутрях.
Я ткнула мизинчиком во впалый живот.
— И жруть.
— К-кого?
— Так еду твою жруть. Вот ты, скажем, пирожка съел там… аль яблочко… аль еще чего. Да только ты не себя накормил, а глистов.
Парень замолчал, верно, задумавшись над сказанным. А и права бабка моя, что главное в беседе с человеком — верное слово найти. И я, вдохновленная этаким своим успехом, продолжила:
— И жиреют они с того корму. А ты худеешь.
— Я… не худой. — Он произнес это сдавленным шепотом. — Я изящный. В кости.
— Бывает и такое… когда с малых лет глистов не гоняют, тогда и кость не растет, — согласилась я, заметив, что к нашей беседе и дедок прислушивается, причем с немалым интересом. Вот сразу видно человека пожившего, опытного.
— Ты… ты…
— Помочь тебе хочу. — Я улыбнулась, потому как улыбка — она к душе чужой дорогу мостит. Про то наш жрец сказывал, а ему я верила, почти как бабке. — Ты, главное, не откладывай, а то оно может по-всяк повернуться. Вот у нашего старосты хряк был. Здоровущий такой хряк. И вот он вдруг тощать начал… не ест ничего, только лежит и вздыхает. И что ты думаешь? Едва не помер! А бабка моя как глянула, так сразу и сказала, что из-за глистов все. Ему черви кишки забили… как мы тех червей гоняли…
— Спасибо. Обойдусь без подробностей. — Парень прикрыл рот ладонью.
Оно и верно.
Мы цельный котел глистогонного зелья сварили. А уж как тому хряку в пасть лили… он-то, хоть и ослабевший, а всяк сильней человека. И скотина, к увещеваниям глухая…
— Я тебе зелье-то дам…
И открыла туесок дедов.
— Для хряка? — уточнил парень.
Красные пятна сошли, ныне он был бледен, да так, с прозеленью.
— Оно и людям сгодится… по три капли натощак. С седмицу пропьешь и сам увидишь, как оно полегчает. Главное, в первые дня два поблизу отхожего места держися. Потому как глист пойдет…
— Я п-понял…
Пузырек с зельем сам в руку нырнул.
— С-сколько? — парень его в рукаве широком спрятал. А я покачала головой: зелье-то простенькое. Масло пижмы, семена тыквы, чесночный сок да капля силы. За что ж тут деньгу-то брать?
— А вы, значит, знахарка? — вступил в беседу дедок, до того молчавший.
— Так и есть. — Я важно кивнула.
— Молоды вы больно…
— Бабка учила…
Он пошевелил вялыми губами и поинтересовался:
— А вот у меня спина болит… чего посоветуете?
Я покосилась на парня, который так и застыл, повернувшись к окошку. Правою рукой за шаблечку свою держится. А в левой — кошель худосочный сжимает.
— Так это надобно знать, как болит, — важно ответила я. — Тянет аль ноет? Или стреляет? И куда отдает? В подреберье? Или, может, вниз…
Старик вновь губами пошевелил, но ответил…
Так мы с ним и проговорили к обоюдному удовольствию до самого вечера. А поутру, когда пришла пора возку отправляться, то выяснилось, что давешний парень решил не ехать.
Верно, зелье мое принял.
И правильно, глисты — дело такое… чем раньше спохватишься, тем оно легче повывести будет. Вон, в нашей-то деревне их все гоняют, да по два разы на год, оттого и нету в Барсуках этаких заморышей.
ГЛАВА 3, где речь идет о столице и академии
А столица мне не по нраву пришлась.
Не спорю, город, конечно, большой, аж занадто, да только и какой-то неустроенный. Вот у нас, в Барсуках, пусть дороги и не мощеные, да ровные, чистые, убирают потому как с них и коровьи лепешки, и конские яблоки… и траву мужики по обочинам косят, не ленятся.
Туточки травы не было. Да и как ей быть, когда кругом один камень?
Дымно.
Суматошно. Грязно. Дома в черноте какой-то, в копоти. Воздух спертый, вонючий. Я аж сперва спужалася, что дышать не сумею.
Ничего, задышала.
Только нос платочком прикрыла, потому как шибало смрадом крепко.
На окраинах столицы растянулись мастеровые слободки. Тут и кузни стояли, и пекарни, и гончарные мастерские, где будто бы делали посуду особую, легкую да звонкую, да крепости небывалой… тяжелыми черными горбинами вытянулись скотные дворы и бойни, от которых шел особо мерзотный дух, привлекая всех бродячих собак окрест.
О бойнях и мастерских мне рассказал старичок.
Он отодвинул желтую тряпицу, каковая висела тут заместо шторки, и показывал, что одно, что другое… возок уже не летел — полз. И все одно тряслася по горбылю. И тряска эта отзывалась во всем моем теле, а особливо в нижней его, неделикатной части, которую я всю об лавку пооббила…
— А вот там, сударыня Зослава, малый рынок, — старичок именовал меня со всем почтением, видно, пришлась по нраву мазь, по бабкиному старинному рецепту сделанная. И пусть сперва к ней Михайло Егорыч отнесся с немалым подозрением, в пальцах баночку крутил, нюхал, то одной ноздрею, другую пальчиком зажимая, то другой, то обеими… мазь-то пахла хорошо, воском да перепель-травой, которую мы с бабкой на полную луну собирали. Тогда-то трава в самой силе своей, и пахучая, что диво… запах ее и вонь бобровой струи перешибает.
А Михайло Егорыч этот запах шандаловым назвал.
Что ж, мне понравилося… пускай себе шандал, главное, что от спины больной — первейшее средство. Ему, как решился испробовать, разом облегчение вышло.
Вот ныне он и сидел пряменько, руками поясницу не мацал.
— Ежели вам вздумается прогуляться, то будьте осторожны. В последние годы ворья на этом рынке развелось немеряно…
Спутница наша, всю дорогу проспавшая, всхрапнула и во сне губами зачмокала.
— Он невелик, однако по-своему интересен. Порой там крайне занимательные вещицы найти можно, особенно если магического толку. А вот видите белое строение? Это дом часовой гильдии… недавно воздвигли. Иноземцы.
Строенье было солидно, как три общинных амбара, один на другой поставленных. Да с оконцами резными. Да из белого камня, который ажно светился на солнышке.
— На самом деле часовщиков среди них не так и много. В прежние-то времена часы диковинкой были, а ныне их любой имеет.
Сказал, что в душу плюнул.
В столицах-то, может, у кажного встречного оборванца часы за пазухой имеются, а вот у нас, в Барсуках, часы были лишь у старосты да у нас. Старостины — махонькие, серебряные, с крышечкой. На крышечке той — младенчик кучерявый намалеван, да до того хитро, что куда часы ни сдвинь, младенчик энтот на тебя глядит. Вот наши с бабкой часы — дело иное. Их еще мой дед поставил, когда к бабке сватался по человечьему обычаю. Солидные оне, в дубовом коробе, медведями изрисованном. С циферблатой медной, которую мы дважды в месяц чистим, со стрелочками узорчатыми, с шишечками да прочими кунштюками.
Хорошие часы.
Бабка их страсть до чего любит… бережет… оно и понятно, что памятью они о муже осталися.
Но Михайло Егорыч про те часы не знал, а потому и разливался:
— Ныне же они иной точный инструмент готовят. Скажем, компасы аль навигационные махины… или иные какие механизмусы. Говорят, что в царском дворце стоит золотой павлин, который всю царскую еду пробует. И если почует отраву, то мигом закричит.
— Так и почует? — в этакое диво я не больно-то поверила.
— Тысячу ядов различить способен, — подтвердил Михайло Егорыч. — А еще есть такой механизмус, который царское повеление по всем городам вмиг разносит. Сидит при этом механизмусе маг обученный да стучит особой иголочкой по пластине. Оттого рождается волна, которая во все стороны расходится, и как доходит до иного города, так там другая пластина звенеть начинает. И иголочка сама по ней пляшет, а меж пластиной и иголочкой — бумага тонкая папиросная лежит. Вот на ней-то и выкалываются знаки, которые уже иной городской маг считывает.
Я только и могла, что головой покачать: неужто и вправду подобное возможно?
— А вот там, сударыня Зослава, видно и здание Акадэмии… да-да, те самые красные крыши, что над стеною поставлены. Это башни, которые еще при Болеславе Добром строили, чтоб собирать со всего миру талантливых детей да учить их магической грамоте. Тогда же Акадэмии были дарованы всяческие вольности…
Крыши я видела, острые, со шпилями, на которых красные звезды сидели. Издали они гляделись невзаправдошними, какими-то леденцовыми. И страсть хотелось высунуть руку в окошко, дотянуться до шпиля-палочки и обломать себе одну звезду. Тут я вспомнила, что не ела с раннего утра, а утром ела трактирную еду, потому как бабулины пирожки давным-давно закончилися.
На воспоминание это живот мой отозвался урчанием.
Ничего.
Потерпится.
— Студиозусы, если они, конечно, не отчислены, — продолжал меж тем рассказывать Михайло Егорыч, — не подлежат суду царскому. А ежели учинят какое непотребство, то город пишет жалобу, по которой в Акадэмии разбирательство устраивают. И там уже определяют меру вины.
Он замолчал, упершись в подбородок сложенными щепотью пальцами.
— Конечно, имелись прецеденты, когда студиозусы не просто шалили, но совершали самое настоящее преступление. Тогда их прилюдно лишали студенческого звания, запечатывали дар и передавали уже на цареву милость. К счастью, такое происходит редко. На самом деле Акадэмия занимает довольно-таки обширные территории. С каждым годом от основания их прибывало, поскольку каждый царь понимал, что сильна страна не только пушками да пушкарями, но и магами… что и показала последняя война.
Сказал и вновь замолчал.
Потерял кого?
Все тогда кого-то да потеряли… бабуля моя — деда… я — родителей… да только не век горю душу глодать. Божиня, чай, велела детям своим не слезы лить, а жить да жизни радоваться.
Только до чего тяжко порой исполнять ее заветы.
— Студиозусы не только учатся, но и живут на территории Акадэмии… если, конечно, будет на то их желание и ректорское дозволение. Иные предпочитают в городе и столоваться, и квартирку снимать… но ты, думаю, захочешь остаться.
Я кивнула: была бы печаль деньгу тратить, когда тебе все забесплатно дают?
О том мне тоже Михайло Егорыч поведал. Следовало сказать, что про Акадэмию он знал много и рассказывал охотно, а проведав, что я поступать собралася, вовсе обрадовался несказанно и с той поры именовал меня сударыней Зославой, будто бы я уже грамоту получила. Нет, приятно, что уж тут, но страсть до чего непривычно. Я-то по первости робела да краснела, но дню этак к третьему пообвыклася.
— Всего факультетов шесть, — меж тем продолжил Михайло Егорович. — Общей магии. Теоретической магии. Магии стихийной, разделенный на четыре кафедры. Факультет мертвых сфер. Целительства и нестандартных практик. И боевой. Вы, сударыня Зослава, полагаю, на целительский поступать будете?
Я об этом еще не думала, мне представлялось, что надобно добраться до Академии, а после оно уже само собою решится. О том я и сказала Михайло Егоровичу, который от энтих слов пришел в большое возбуждение.
— Вы в корне неправы, дорогая моя! — Он аж на седушке заерзал. — Категорически! От вашего нынешнего выбора зависит многое! Да что там многое! Вся ваша будущая жизнь!
Соседка тоненько засопела, приоткрыла глаза, но убедившись, что возок худо-бедно движется, вновь провалилась в полудрему.
— Вот, скажем, представьте, что человек, не имеющий к тому природной расположенности, пожелает целителем стать. Разве выйдет с того толк? И ему на всю жизнь мучение, и пациентам его — погибель…
Я задумалась: а ведь и верно… вот вспомнить Михася нашего, которого тятька евоный все хотел грамоте выучить, чтоб Михась не шкуры выделывал, а при управе боярской службу нес легкую, чистую. Да только не лезла наука в Михася. Уж пороли его, пороли, да природа свое взяла. Зато на отцово дело у него рука сразу стала. И нет во всех селах, что ближних, что дальних, такого мастера, который с Михасем сравнится. Он и за тяжелые бычьи шкуры возьмется, и драгоценную лису не спортит… как есть призвание.
— Или вот человек малосильный, допустим, попытается в боевики пойти… желание — оно-то ладно, да только куда ему потом, когда он только и способен создать, что шар-огневик? Или бывает еще, что родители желают видеть дитятко в ученых, а в нем сила кипит, не дает покоя… так что, сударыня Зослава, надобно хорошенько свой выбор обдумать. Вот чего вам от жизни надобно?
Чудной какой вопрос.
Того же, чего и всем людям.
Мужа доброго, деток справных, да чтобы дом — полная чаша, и житья мирного.
Так я ему и сказала. Михайло Егорович хмыкнул, взгляд кинул хитроватый да бороденку куцую в кулачок зажал.
— Экие у тебя желания… правильные.
— Отчего правильные?
Только за бороденку себя дернул и поинтересовался:
— А что ж ты, сударыня Заслава, за своими желаниями аж в Акадэмию поехала?
— Так я того… не за желаниями, я за женихом…
Михайло Егорович аж крякнул. И пришлось пояснить:
— В дома-то нету никого… нет, парни есть, да все…
— Не те, — задумчиво произнес он. — За женихом, значит… что ж, цель не хуже иных прочих. Во всяком случае, конкретная и честная. Но тогда, сударыня Зослава, тебе не на целительский факультет поступать надо. Там девки одни, парней раз-два да обчелся…
Замолчал Михайло Егорович, да только я и сама поняла. Где девок много, а мужиков мало, там грызня. Небось, замуж не только мне охота, вот и будут одна перед другой рядиться, казать свои стати да умения, пока край не потеряют. Видела я такое в позапрошлым годе, когда старостин молодший сын еще холостым был. Ох и грызлися помеж собой девки, что собаки за бычий мосел. А он, ирод такой, знай себе ходил гоголем да приговаривал, что самую лучшую выберет… долго ходил, пока батька евоный за хворостину не взялся.
Сам женку и подыскал.
Нет, не хочу такого…
— На факультет общей магии лишь бы кого не возьмут… теоретический… боюсь, сударыня Зослава, с некоторых пор сей факультет уже и не магический, пристанище для младших дворянских детишек, которым образование надобно, как этой карете пятое колесо. Но родители платят золотом. А золота, сами понимаете, мало не бывает.
Золото у меня имелось, но вот были и подозрения, что на учебу его не хватит…
— Тем более нынешний год… Стихия… тут надобно иметь ярко выраженную доминанту, которой у вас нет.
— Отчего ж нет?
— На ауре отразилась бы, — ответил Михайло Егорович. — Стихийники имеют весьма четкие метки, но силой вас Божиня не обделила. Остаются два факультета. Мертвых сфер и боевой… некромантия, подозреваю, вас не привлечет.
Я мотнула головой: уж не было печали с мертвяками возиться. Девушка я крепкая, конечно, но уж больно брезгливая…
— Значит, боевой… — Он окинул меня цепким взглядом, точно барышник лошадку. — А скажите-ка, сударыня Зосенька… как вас по батюшке?
— Вильгельминовна, — розовея, призналась я.
— Вот даже как…
— Зослава Вильгельминовна Берендеева, — я произнесла полное имя и глянула с вызовом. И что, что батюшка мой был не из наших краев? Он о той своей жизни и вспоминать-то не любил, повторяя, что ничего-то хорошего в ней и не было. Зато и прижился тут, и жил, пока не сгинул, за эту самую землицу и сгинул, как за родную.
— Берендеева… а дед ваш часом…
Я вновь кивнула.
— От и чудесно… просто замечательно, — Михайло Егорыч прям-таки разулыбался весь. — Смело идите на боевой… там вы точно себе жениха подыщете… там этих женихов — целый факультет.
И хихикнул так странненько.
— А если вдруг завернуть попробуют, то покажите им вот это. — Михайло Егорович протянул серебряную монетку с дыркой…
ГЛАВА 4 О столицах и первых сложностях поступления
— И позвольте узнать, откуда у вас эта… вещь? — Люциана Береславовна, мою монетку увидав, ажно с лица спала.
Правда, того лица на ней…
Но верно, сказывать надобно по порядку.
Возок наш остановился перед трактиром «Зеленая голова», однако же Михайло Егорович — вот любезный человек, не чета иным, — отсоветовал в нем нумера брать. Дескать, комнатки тесные, грязные и просют за них втридорога, думая, что ежели человек не из местных, да притомившийся с дороги, то ему недосуг новое пристанище искать. Михайло Егорович выловил мальчишку, каковых у трактира крутилось множество — от бездельники! — и велел проводить меня к «Вяленой щуке».
Там я и заночевала.
Признаться, спала крепко и мысли всякие пустые меня не тревожили. Проснувшись спозаранку, я и принялась готовиться к поступлению.
Проверила бумаги отцовские, взгрустнула слегка — он бы, верно, за меня порадовался…
Умылась студеной водицей.
Косу переплела.
И из дедова туесочка наряды свои достала, впервые пожалев, что взяла-то всего пять… три — простенькие, на каждый день, а два — уж на особый случай.
На споднюю тонкотканную рубаху надела горничную[1] из алого шелку с рукавами в десять локтей. Самой подбирать их оказалось жуть до чего неудобно, но ничего, справилась. Запястьями узорчатыми сверху прижала, оно и ладно вышло.
Поясочком перехватила.
А сверху летник накинула, тоже красивый, из темно-зеленого переливчатого аксамиту, отрез которого еще моим тятенькой куплен был. Шили-то уже мы с бабкой, а расшивала я, как водится в Барсуках, самолично. Вот и вился по подолу вьюнок, поднимал робко розовые колокольчики цветов… помню, долго нитки искала, чтоб ложилось гладко да славно. А теперь от гляжу и понимаю, что не зря мучилася.
Ленты в косы.
Бусы в семь рядов на шею.
Перстни, серьги и венчик узорчатый. Кривые чеботы из бархату да на каблучке. Новехонькие, ни разу не надеванные… иду, и каблучки звенят-цокают.
Люд встречный расходится.
Сама себе не пава — лебедушка… не иду по мостовой — плыву… и плыла бы так до самой Акадэмии, да только энта мостовая уж больно грязною оказалась.
Да и идти неблизенько.
И солнце с каждою минутой выше подымается, щедрей припекает. А еще подумалось, что пока я пешью дойду, то у ворот Акадэмии очередь выстроится.
Пришлось брать бричку.
И главное, мужичок хитроватый попался, увидел меня этакою раскрасавицей и цену несусветную заломил — в полтора рубля серебром. Небось, не думал, что торговаться стану. А я что? Я ж, пусть и вырядилась, барыня барыней, так то неспроста, но по случаю. Деньгами ж раскидываться я вовсе привычки не имею.
Долго рядились.
Сговорились на десяти грошах.
И он после еще всю дорогу плакался, будто бы я его в разорение ввожу… но ничего, доехали аккурат к полудню. К самым воротам подвез. А ворота те распахнуты. И люду у них — великие толпища, небось, и на ярмарке ежегодной я столько не видела.
Аж сердце заняло.
Неужто все в Акадэмию собралися?
А мужичок знай себе в бороду усмехается: мол, не ждала, красавица?
— Дяденько, — я протянула ему на пять грошей сверх оговореного. — Сподмогните советом. А то ж совсем в ваших столицах потеряюся.
И лицо сделала жалостливое, едино слезу не пустила.
Он разом приосанился, бороденку рыжую всклоченную ручищей огладил и молвил так:
— Ты, девка, не пужайся. Народу тут много, особливо по нынешней поре. Но ищи студиозуса… вон хотя б того, — он указал на парня в черном коротком кафтанчике. — Видишь, по форме он… и с эмблемою на грудях. Значится, или студиозус, или из магиков кто. Вот к нему и иди, говори, что ты, мол, на экзаменацию документы отдать желаешь.
— Спасибо, дяденька, за ласку, — отвечала я и поклонилась до самой земли, небось, спина не переломится, а человеку приятственно.
— Эх, девка-девка… чего ж тебе дома-то не сиделось? — Дядька подобрел, хотя монетки все взял да в кушак упрятал.
— А остальные-то кто?
— Кто из родичей, вовнутрь-то только соискателей пущають. А иные соискатели не одныя, вот как ты, а с мамками-тятьками, бывает, что и с нянюшками, с холопами и холопками… вона, поглянь.
Он указал пальцем налево.
А там… возки один другого краше. И о двух колесах, и о четырех. И преогромные, с домину величиной, и крохотные, будто бы детские. С золочением, с червлением, с резьбою всяко-разною… а при возках тех иной люд вертится.
Тут и конюшие, и служивые с бердышами важно прохаживаются. И барыни в шубках одна перед другою красуются, ведут беседу неспешную, и бояре в высоких каракульчовых шапках стоят, истуканы истуканами. А промеж них суетится дворня. Кто с подносом, кто с коробом. С кувшинами запотевшими, со стаканами аль полотенчиками… и скачут помеж возков карлы шутейные, кривляются всячески.
— Это же ж…
— Бояре, — сказал мужичок да на землю сплюнул. — Только и им в Акадэмию ходу нет, а ты, девка, иди… и пусть Божиня за тобою приглядит…
Вышло все так, как мужичок и говорил.
Я ухватила того самого парня, в черном кафтанчике, и сказала, что, дескать, в Акадэмию, он только кивнул да вздохнул тяжко, видать, крепко умаялся.
— За мной, — велел он и пошел к воротам. И главное, что так ловко, угрем скользил меж людями, что я едва-едва поспевала. Меня-то пропускать не торопилися. Напротив, норовили то дорогу заступить, то локотком острым ткнуть, то прошипеть чего недоброго вослед.
Провел парень меня через калиточку и, махнув рукой на желтую дорожку, велел:
— Иди прямо. Никуда не сворачивай. Там и выйдешь к главному зданию.
Я и пошла.
Не особо спешила-то, потому как прелюбопытно мне было поглазеть. Там-то еще неведомо, как оно сложится-сойдется, вдруг да выпадет домой возвертаться. И станут меня спрашивать, что про столицу, что про Акадэмию. Так и чего сказать будет?
Шла… дорожка пряменькая.
Чистенькая.
Слева травка растет. И справа тоже… зелененькая, нарядная… пригляделась — клевер один. Хорошее сено вышло бы, да только незаметно было, чтоб туточки косили. Кусты еще заприметила дивные, что и не кусты будто бы, а конь вот зеленый стоит… или змей преогромный протянулся… попервости даже испужалась, а после поняла, что стригли их этак хитро.
Были тут и деревца, да какие-то махонькие, будто бы заморенные, и камушками вокруг еще обложенные… и сами каменья из земли торчали, то там, то тут, зубами гнилыми, мхом заросшими.
Так и дошла.
Что сказать, строения была огроменной.
Длинная, что общинный коровник, только и высокая. По краям — четыре башенки красных, а из крыши еще одна подымается. И на ней уже блестят на солнышке часы преогромные. Я так и стала, этакой красой любуясь. Вместо цифирей на том циферблате звери дивные, каковые, должно быть, на краю земли только и водятся, а стрелки узорчатые, кружевные будто бы. И самая тоненькая знай скользит по циферблату, скачет от зверя к зверю, время отсчитывает.
А над часами — четверик коней на дыбы поднялся. И голый мужик немалых статей повис на поводьях, должно быть, укорот коням дать желая. Но как по мне — не сдюжил бы… верно, оттого и мужика перекосило.
Во внутрях тоже было красиво, как в палатах царских. Нет, мне-то не случалось в них бывать, однако же ежели где и имелось подобное роскошество, то только там.
Полы каменные, гладкие да узорчатые. Стены — янтарные. И колонны числом в дюжину, тоже янтарем обложены, и свет сквозь островерхие окна льется, янтарь золотит… и ступить-то страшно. Хотя люди вон ступают смело…
— Помочь? — рядом со мною появился парень в черном кафтане, будто бы из-под земли выскочил. — Ты документы подавать? Я провожу.
От провожатого отказываться я не стала.
В этом благолепии и заблудиться недолго… вона людей сколько ходит-бродит с лицами презадуменными. Иные и губами шевелят, не то молятся, не то с собою спорят. Лбы морщат. За носы себя щиплют…
— Сначала надобно зарегистрироваться у секретаря…
Паренек был щупленький и верткий, что ерш. И волосы его, стриженные коротко, на голове подымались аккурат что иглы ершовые. Так и тянуло их пригладить.
Вел он меня быстро, и опомниться не успела, как встала перед дубовою дверью, после была другая дверь, и третья, и четвертая… и вскорости я уже сама со счета сбилась.
Заявление.
И еще одно.
И ходатайство, которое я писала с образца, дивясь тому, до чего гладенько оно составлено, так, небось, не каждый боярский писарчук сподобится.
Говоря по правде, от бумаг голова шла кругом.
Мне совали то одни, то другие, то третьи… и то писать надо было, то черкать, то еще чего… и когда я, наконец, добрела до экзаменаторов, сил на волнение уже не осталось. Я глядела на очередные двери, вновь же солидные, с резьбою и медными, начищенными до блеска ручками, и думала, что хоть пополам тресну, поступаючи, а сумею в энту Акадэмию пробраться.
Из упрямства свово урожденного.
И чтоб не зазря переведены были все те бумаги, мною исчерканные…
— Заходи, — раздался тоненький дребезжащий голосок, и из двери выглянул домовой. Был он под стать хозяйству, солиден без меры, важен. И длинный красный нос драл в гору, и всем видом своим выказывал ко мне, гостье, неуважение. Оно и верно, меня-то пока уважить не за что, да только и ему, хозяину, в этакой манере чести немного. — Ну, чего встала?
И кулачком еще пригрозил.
Смотрю, совсем они туточки страх потеряли. Но промолчала, покачала головой укоризненно и вошла. А как вошла, то и обомлела.
Камень?
Камень как есть, да только не теплый янтарь, и не мрамора, которую я тоже успела повидать и пощупать сумела, нет, нынешний камень был полупрозрачным, точно и не камень — лед. И неуютно стало… холодно… окна закрыты, а будто бы сквознячком по ногам тянет… и холод пробирается, что сквозь летник, что сквозь рубахи. Запястья и те заледенели. А бусы — что рябина мерзлая, инеем покрылись.
ГЛАВА 5 Про экзамены и экзаменаторов, а также ущемление прав по сословно-половому признаку
— Девушка, вы там долго стоять собираетесь? — раздался скрежещущий голосок, и я очнулась.
И вправду, встала, что баран перед воротами, осталось только рот от удивления раззявить, и совсем ладно будет.
На ковер, бело-синий, узорчатый, я ступила смело. Хотя и сквозь ковер, и через чеботы, чувствовался тот самый, нездешний холод.
А ковер лег дорогой от дверей к окнам.
У окон столы стали широченные. А вдоль них — лавки протянулись, застланные мехами плотно, густо. Экзаменаторы и вовсе в шубах сидели.
И шубейки-то не из простых.
Вон женщина, по виду ну чисто боярыня, в чернобурку кутается, а рядом с нею мужик сидит преогромный, что камень-вывертень, который еще с тех времен остался, когда Святогор-горошек со Змеем землю делили. Говорят, этакие камни по всей границе стоят. Некогда великой силы полны были, берегли землю Росскую, да, видать, поиссякла сила.
Не уберегли.
Лицо у мужчины безбородое, будто голое. И брови черные лохматые на нем глядятся жутко, за ними и глаз не видать.
К нему сухонькая старушка жмется, что ива к старому дубу, и вид у старушки ласковый, глядит на меня, улыбается, а глаза мертвые. Я руки за спиной кукишем скрутила. От этаких взглядов и волос сыпаться начинает, и кожа вянет, а то и вовсе ночные сны дурными становятся. А шуба у старушки самая богатая, из темных, почти черных, соболей. И накинута этак на плечики легко, так, что видно и платье, расшитое скатным жемчугом, и ожерелье-нагрудник, и широкие, не чета моим, запястья.
— Значит, ты, деточка, в Акадэмию поступить решила? — заговорила она, а голосок-то оказался звонкий, детский будто бы, никак краденый.
Слышала я о таком, когда колдунья-чернодейка подсовывает дитяти дудку из мертвой березы, изнутри вересковым медом мазаную. Вот голос-то на мед и выманивается. А колдунья его опосля и выпивает, а дитяти свое хриплое карканье отдает, если не хуже… бывает, что и немеют дети, и маются опосля всю жизнь.
Нет, не понравилась мне эта старушка.
А девка, по правую руку ее сидевшая, тем паче. Эта в шубы-то закуталась по самый нос, а нос оказался длинен невмерно и еще широк. Оттого и казалось, что нет на этом лице ничего, помимо носу. Зато он был зело подвижный. То шмыгнет, то складочкой пойдет, то вовсе покрасневший кончик его, на котором проклюнулось зерно бородавки, круга опишет, будто бы девица принюхивается.
Чего чует?
— Отвечай! — велела она и по носу ладонью мазнула. — Не тяни время… и без того умаялись уже.
Голос ее я узнала, тот самый, скрипучий, точно ставни несмазанные.
— Тише, деточка, — старушка к ней и не повернулась. — Не видишь, девушка оробела. Пусть успокоится, придет в себя… а ты, милая, не чинись, ближе подойди.
И пальчиком меня поманила.
Пальчики тоненькие.
На них — колечки с каменьями, на каждом по два, а то и по три, и каменья переливаются, искрятся. Я только и сумела взгляд отвести, у самого стола оказавшись.
Это что такое было?
— Не сердись, Берендеева дочь…
— Внучка, — поправила я.
— Берендеева внучка, — старушка вновь усмехнулась, да только глаза ее не отжили. — Я лишь хотела избавить тебя от ненужных страхов…
— Я не боюся…
— Вот и ладно. Тогда, будь столь любезна, подай бумаги Мирославе.
И девка со скрипучим голосом руку протянула. У нее перстенек был только один, да и тот без камня, простое колечко на мизинчике.
Папку с бумагами, мне врученную, я протянула не без опаски. Видно же, что характера сия девка самого препаскудного. А ну как учинит какую каверзу?
— Зослава… Вильгельминовна, — сказала девка, пролистав мои бумаги. — Из села Большие Барсуки… Божиня милосердная… Большие Барсуки…
И перекривилась, будто бы чего непристойного прочла. А что? Село как село. Немаленькое, за между прочим. У нас и храм свой имеется, и гостинный дом, в котором, правда, гости случаются нечасто, затое есть где собраться и старикам, и молодым зимою, гистории всякие послушать, песни попеть или в игры сыграть…
— Напрасно, Славонька, кривишься, — сказала старушка, в голосе ее ледок зазвенел. — Не всем же столичною родней хвастать.
Мирослава вспыхнула.
— Дамы, — мужчина покачнулся, а мне подумалось, что ежели он вдруг повалиться вздумает, то стол энтот его не выдержит, хоть и дубовый, солидного виду. — Давайте уж делом займемся. А вы, девушка, кладите руки на шар.
И пальцем ткнул в энтот самый шар, выточенный из того же камня-стекла. Был шар невелик, с телячью голову, да только холодком от него тянуло крепко.
Руки? Так и отморозить недолго.
— Не надо бояться, деточка. Мы лишь измерим уровень твоей силы.
Да не боюся я! Не пужливая уродилась. И шар обеими ладонями накрыла.
— Хорошо. А теперь глаза закройте.
Закрыла.
— И попытайтесь его согреть.
От это дело не из легких. В руках — не шар, живая поземка, которая за руки эти кусает, пробивает кажный пальчик сотнею игл. И бросить бы, да только я бросать дело на половине не привычная. Шар сжала, зубы стиснула.
Согреть?
Согреет.
Жар рождался внутри.
Как в кузнечной печи… как в черной яме, в которой ходит болотная руда, прежде чем прольет слезы сырого железа… и этот жар плавит меня саму.
Одолеть норовит.
Да только не на ту напал. Я губу закусила, верно, до крови, потому как стало во рту солоно. И шар треклятущий держу, лью в него новорожденное пламя. Тесню холод…
— Достаточно, — раздался над самым ухом глухой рокочущий голос. — Мирослава, отметьте, пожалуйста, что испытуемая подняла планку до седьмой ступени… даже восьмой.
— Седьмой, — упрямо проскрежетала Мирослава.
— Если вам так будет легче.
Я глаза открыла.
Шар был… желтым? Янтарным. Да с переливами…
— Восьмой, седьмой… — проворчала женщина в чернобурках и, вытащив из муфты руку, поднесла ее ко рту. — Какая разница… для целительницы и третьей хватит. Заканчивайте уже… собеседоваться.
Говорила она томно, негромко, однако же на слух Зося не жаловалась.
— А я не к целителям пойду. — Руки жгло, и ладони покраснели, будто бы я их и впрямь в печку сунуть глупость имела.
— Куда еще? На отделении общей магии конкурс высокий. И там вы, милочка, уж простите, не пройдете. Сила-то у вас имеется, да к ней и знания надобны…
Я мотнула головой.
— К теоретикам? — женщина вытащила другую ручку, беленькую холеную, с ноготочками розовыми, аккуратными.
— К боевикам… — Я и подбородок задрала, чтоб выше казаться, хотя ж рост мне Божиня дала не девичий… небось, в нашем селе выше меня только Миклухо-кузнец, да и то на два пальца всего.
— Куда?
Мирослава хихикнула.
Мужчина поднялся. А поднимался он неторопливо, будто бы и вправду из камня выточенный. И шуба медленно сползала с широких его плеч.
— Дурная шутка, — пророкотал он.
— Я не шучу, дяденька. — Я глядела на него снизу вверх и думала, что, небось, мой дед был таким же… преогромным… и люди сперва крепко его опасалися, пока не поняли, что норову он спокойного. — Я…
— Не шутишь, стало быть…
Он обходил меня кругом, ступая мягко, неслышно.
И сам себе ответил:
— Не шутишь… что ж, Зося, возражений не имею.
— Фрол Аксютович! — воскликнула женщина, тоже поднявшись. — Вы это серьезно?!
Он лишь пожал плечами, а у меня прям от сердца отлегло, преисполнилась я уверенности, что теперь-то точно поступлю.
— Вполне. Не вижу причин для отказа.
— Но она же… она же женщина!
— Айиры тоже женщины. Но воюют. И учатся. Напомнить прошлогодний выпуск? Там их четверо было.
— Исключение!
— Где одно исключение, там и другое. — Рокочущий его голос заполнял зал, и стены его темнели, будто бы не по нраву им, стеклянным да холодным, был Фрол Аксютович.
— Но… но она же…
— Вы спешите, дорогой Фрол, — сладенько пропела старушенция, которая вставать и не подумала. — Сами подумайте, какой скандал разразится… чтобы простая девка, холопка, почитай, вчерашняя…
— Я не холопка, — ответствовала я и кошель стиснула.
— Конечно, конечно… из вольных, деточка, холопам тут делать нечего…
— И не из вольных.
Отцовские грамотки я протянула Фролу Аксютовичу, в котором углядела человека серьезного да ко мне расположенного. Этакий не станет пакостить зазря.
— Интересно, — он развернул пергамент пальцем. — Весьма интересно…
— Да что там может быть интересного!
Женщина подошла и требовательно протянула руку.
— Надо же, — произнесла она спустя минуту. — А вы у нас, выходит, долусийская княжна…
— Быть того не может! — носатая Мирослава тоже вскочила, но тут же опустилась на лавку.
— Отчего не может… может… все законно. Свидетельство о браке… заключен, как и положено, в двух храмах… патент офицерский… выписка из геральдической книги… перевод, заверенный по всем правилам… и вновь выписка… гербовый договор… титул ее батюшки принят Царскою палатой, а значит, все законно.
Фрол Аксютович протянул бумаги мне.
— Это ничего не меняет, — женщина в чернобурке развернулась на пяточке. — Вам ли не знать, что в Далусии князей больше, чем собак бродячих. Любой оборванец при шпаге вам о великих предках расскажет…
— Пусть так, но и по нашим законам девушка княжна… хотя мне, признаться, едино. Мне ли вам напоминать, любезная Люциана Береславовна, что по уставу Академии все студиозусы равны?
— Еще скажите, что и вправду в это верите?
Он хмыкнул, не пойми, не то согласился, не то наоборот, но больше ничего не сказал. А Люциана Береславовна одарила меня раздраженным взглядом.
— Милочка, вам все же лучше в знахарки пойти…
Вот чего я никогда не любила, так это того, когда мне указывали, чего мне лучше будет. Тогда-то отцова кровь, кипучая, и просыпалась.
— Нет. — Я подбородок подняла.
Быть может, энта самая Люциана Береславовна и колдунья немалое силы, и боярского роду старинного, а все одно, не хозяйка она мне.
И жизнь не ее, моя решается.
— Деточка, подумай… чего тебе среди боевиков-то делать?
Я прикусила язык: сдается мне, что не оценят тут правды, а лишь поводу для отказу сыщут. Уже вон ищут. Хмурится Люциана Береславовна, стучит коготочком по столу. Улыбается недобро Мирослава. Старушка глаза прикрыла, только пальцами шевелит, будто паучиха старая паутину плетет.
И разом похолодело внутри.
Нет уж. Не отступлюсь. И пальцы сами веревочку нашарили, на которую я монетку дареную подвесила, для надежности, стало быть.
— Вот, — сказала я. — Возьмитя. А я все одно боевиком стану…
И Фрол Аксютович усмехнулся, показалось, с пониманием…
ГЛАВА 6, в которой все же таки решается судьба Зославы
Ох и не по нраву им пришлася монетка.
Мирославу перекривило аж, навроде того мужика мраморного, который коней держал, старушка налилась нехорошею краснотою, за сердце схватилася, заохала.
Люциана Береславовна и вовсе сделалась бледною.
— Все равно, — сказала она очень тихо, да только слух у меня от деда, а он в стоге сена мышиное гнездо по шубуршанию вытрапить способный был. — Это… невозможно!
— Будто бы у нас есть выбор, — так же тихо ответила старушка.
— Он… он окончательно потерял край! В конце концов, этот его поступок… он явно свидетельствует о душевном нездоровье…
— Аккуратней, милочка. И у стен есть уши… но куда печальней то, что у нашего Мишеньки имеются покровители…
Старушка подняла меховой воротник, и речь ее сделалась вовсе неразличима.
— Но они разумные люди… и быть может, задумаются над тем, что слишком уж потворствовали его прихотям…
— И вы хотите сказать, что… — Люциана Береславовна склонила голову, разглядывая меня с этаким интересом. — Нет… все-таки это как-то совсем уж чересчур…
— Отчего? Мы лишь подчиняемся его воле…
— Но наследник престола и это… простите, недоразумение… на одном курсе…
— Именно, дорогая моя… недоразумение, которое, полагаю, в самом скором времени будет улажено.
Ох и не нравился мне энтот разговор. Вот вроде и слышу каждое словечко, а все одно ничегошеньки не разумею. Только чую, что не след мне от этаких беседов добра ждать.
— В следующий раз он, возможно, будет лучше думать, кому давать рекомендации… — Люциана Береславовна подвинула монетку ноготком и, обратившись уже ко мне, голосочком сладеньким произнесла: — Это в корне меняет дело! И если вы уверены…
Не уверена.
Ни на грошик.
Да только не отступлю, потому как упрямая… и гордость княжеская, каковая прежде спала крепким сном, вдруг очнулася. Не могу я. Не сейчас. Не перед ними.
И я кивнула.
— Уверены… что ж, тогда, быть может, сразу и решим вопрос со специализацией? — Люциана Береславовна соизволила одарить меня улыбкой, да от той улыбки пожалуй что и вода в речке замерзнуть могла. — Какое направление вас привлекает?
— А… какие есть?
Зажмуриться бы да и представить, будто бы я дома. Сижу на лавке, семки лузгаю да с девками о своем, девичьем, беседы веду, неспешные, важные. А бабка в доме хозяйствует и разговор наш слушает. Завсегда слушает, только я о том подруженькам не сказываю, обидятся еще.
Бабка ж, она не специательно, а потому как слух у ея такой же вострый.
Зато и самовару она сама б затеяла, и кликнула бы всех…
Эх, хорошо дома…
— Всякие есть, — ответствовала мне Люциана Береславовна с тою же сладенькой усмешечкой. — Есть кафедра драконоборчества…
Я покачала головой: откудова в Барсуках драконам взяться? Нет, мужики поговаривали, что в тот год, когда война только-только отгремела, в наших лесах поселился змейник да повадился скот таскать, баб пугать. Вот старосте и пришлося облавою на него идти, пока он, подросши, на людей не перекинулся.
С того змейника все нашие, кто в облаве шел, пояса себе поделали.
Бабка и мне справила, хороший, гладенький да крепкий, такому сто лет сносу не будет. Но то ж змей, а драконы… драконы с виверниями в горах обретаются, которые от наших Барсуков далече. Я же опосля учебы домой возвернуться хочу.
— Значит, не устраивает…
Милослава тож заулыбалась, гаденько так…
Фрол Аксютович тяжко вздохнул и сам заговорил, видно было, что не по нраву ему этакая экзаменация, да только супротив баб он рта не откроет. Оно и верно, с бабою злою спорить, что кошку голыми руками ловить. Может, и не задерет до смерти, да потреплет знатно.
— Есть еще кафедра борьбы с нечистью. Там учат, как упокоить упыря или вурдалака, управиться с ожившим покойником. Одолеть мавку или мару…
Вот он говорил спокойно, только на меня не глядел. И я вновь головой покачала: упырей с вурдалаками в Барсуках отродясь не было, а если вдруг и объявятся, то с ними и без Акадэмии разговор короткий. С мавками наш люд ладит, и с русальницами…
— Есть кафедра средств и методов защиты от магии и магических созданий… думаю, она вам подойдет.
И я вновь кивнула.
А что? Чем плохо? Дом-то завсегда охота оборонить…
— Вот и славно, — старушка подавила зевок. — Будем считать вопрос закрытым.
И ручкой этак махнула, мол, можешь, Зосенька, идти…
Я и пошла.
— Погоди, — пророкотал вслед Фрол Аксютович. — Найдешь кого, скажи, чтобы к общежитию проводили…
Найду.
Как-нибудь да не заплутаю.
Вышла я через другую дверь, за которою узкий коридор обнаружился.
— Ну, — недовольно поинтересовался домовой. — Чего встала? Иди уже…
Я и пошла.
Только почти сразу и остановилась, за стену ухватилася, потому как вдруг разом колени ослабли и такая немота на все тело накатила, что спасу нет.
Закричать?
Так и слова не смогу вымолвить, сердце то колотится, то обмирает, перед глазами мушиный рой пляшет. В ушах гудит. Ни руки поднять не могу, ни пальчиком даже шелохнуть.
— Присядь, — велел кто-то и в плечо толкнул, я и упала… упала бы, когда б не лавка, у стены поставленная. На нее и плюхнулася, к стеночке прислонилася.
Помру.
Как есть, Божиня, помру… и в вырай ли попаду аль в огненную реку, где Змей грешные души жреть… в огненную реку никак не хотелося.
— Ты вдыхай глубоко, через нос, — говорил кто-то и по щекам хлопал, легонько этак, а я все вдохнуть силилась. — Давай, а то не отпустит…
Дышала.
Так дышала, что аж груди ломить стало, и ребра заныли, и закашлялась, и кашляла так, что пополам согнулася, а откашлявшись, поняла, что полегчало мне, и крепко.
— Спасибо, — сказала я, а после только глянула на того доброго человека, который мне сподмогнул.
Парень.
Высоченный такой. И в плечах широкий, и лицо белое, чистое… нашим бы девкам понравился. Волосы только длинные отрастил, впору самому косу плести. А он стянул шнурочком кожаным. На шнурочке том — серебряные обережцы болтаются.
Одет же скучно, в черный кафтанчик, что и у всех, только у него — поношенный крепко, и на рукаве — латочка квадратная, аккуратненькая. Черные штаны с кожаными кругами на коленях, небось, тоже продралися. И сапоги истоптанные, некрасивые.
Небогатый, сразу видать.
— Новенькая? — спросил, присев рядом. — Долго что-то они тебя мурыжили. Замерзла?
Я кивнула, поняв, что и вправду продрогла до самых до костей, а то и глубже. И теперь холод отзывался дрыжиками.
Зубы клацали.
Пальцы тряслись.
Красавица, нечего сказать…
— На от, выпей, — парень протянул флягу. — Чай это с малинкой. Быстро согреет.
— Спасибо.
Выпила.
Чай и вправду хороший, духмяный, и тепло от него по всему телу разлилось-расплылось…
— А ты тут…
— Дежурю, — сказал он. — Ловлю тех, кому плохо становится. Еще Весь есть, но он отошел… вернется скоро. А ты…
— Зослава, можно Зося. Меня все так называют.
— Я — Арей.
И замолчал настороженно.
— Красивое имя… нездешнее…
— Азарское…
А теперь понятно, отчего молчит. Небось, после войны азаров туточки крепко не любят, и ему доставалося…
— Не больно-то ты на азарина похожий.
— В отца пошел, — сказал сухо, зло даже. И голову вскинул. А я себя укорила: негоже так с человеком говорить. Он-то мне помог, усадил, чаем напоил.
— Арей… а с чего это я тут вдруг… — Поглядела на свои руки и подивилась, до чего страшными сделались они, не белые — серые, а ногти и вовсе посинели, будто у мертвяка. — Ох ты ж, Божиня…
— Пройдет. — Арей присел рядышком и, руку взяв, тереть принялся. — Это комната такая, силы тянет, что магические, что живые. Видела, каким камнем обложена?
Мне было неловко, хотя ж ничего-то дурного он не делал.
— Погоди, их размять надо, а то видишь какие пальцы? Если размять хорошенько, то потом набегаешься по целителям. Белынь-камень на проклятом острове добывают… там, говорят, ничего живого нет, да и неживого. И люди там тают быстро, оттого и ссылают на тот остров самых страшных лиходеев, какие только есть. А глядят за ними маги-отступники. Им-то за год, на острове проведенный, все грехи прощаются… только тот год редко кто выдерживал.
Он говорил тихо, а в глаза отчего-то не глядел.
— Здесь две комнаты с белынь-камнем. Зал экзаменационный и карцер…
Щека его дернулась.
И мне вдруг захотелось погладить Арея по волосам. Вона, рядышком макушка, руку протяни… только как бы не обидеть.
— А зачем они тут…
— Чтобы посмотреть, сумеет ли человек дар раскрыть хоть сколько бы… и поберечься… было дело, огневик так разволновался, что с пламенем не совладал. Если бы не камень, спалил бы весь зал… стихийники — они очень неустойчивые, а боевики часто злятся и не всегда себя контролировать способны. Специфика такая.
Он поднялся.
— Сама-то до общежития дойдешь?
Кивнула.
Слабость отступила. И ноги держали. И голова кругом не шла, и только в сон клонило, но ничего, вот дойду до этой их общежитии…
— По коридору прямо. А там — по дорожке. Красное пятиэтажное здание. Не пропустишь…
— Спасибо тебе!
Поклонилась бы, да только показалось вдруг, что не по душе придется новому моему знакомцу этакая любезность… ничего, после найду, как отблагодарить.
Небось, в нашем роду добро забывать не принято.
Как и зло.
ГЛАВА 7, где рассказывается о Зосиной жизни, а также о ее семье
Поселили меня под самою крышей.
Пять этажей.
Лествица широченная со ступенями крутыми.
И комендантус, сурьезного вида мужчинка в красном долгополом кафтане, долго вздыхал, на меня глядючи. А так хитро глядел! То левым глазом прищурится, то правым.
Губы вытянет.
Причмокнет.
Пятерню в бороду сунет, а она и без того всклоченная, неопрятная.
— Вот и чего с тобою, девка, делать? — спросил он, как будто бы я знала. — Боевики все на пятом этаже обретаются, да только женских покоев там нетути. Цельную комнату тебе одной отдавать?
Покачал головою и вновь за бороденку свою принялся.
— Таки не боярыня, чай… и немашека комнат лишних. Никак немашека…
Он вновь губами причмокнул, каковые были крупными, розовыми и лоснились еще.
— Стало быть… стало быть, одно остается…
А по ступенькам комендантус скакал бодро, козликом молодым. Со студиозусами, когда встречались на пути, вел себя по-разному. С одними раскланивался, других будто бы и вовсе не замечал, а третьих увидав, хмурился, бороду свою мочальную дергал. Однако же люду в доме энтом, который сперва показался мне огроменным, едва ли не больше Акадэмии, оказалось на диво немного.
— Это сейчас, — ответил комендантус, когда я решилась вопрос задать. — Вот вакации закончатся, тогда и приедут… идем. Умывальни в подвалах. Читальная зала и столовая — на первом этаже. Там же — комната для отдыха и игр. Хотя… она для боярских детей, с тебя и читальной залы будет.
С лестницы он свернул в узенький коридорчик, в котором пришлось пробираться бочком, благо был он невелик и заканчивался не тупиком, но обшарпанною дверью. Такую в Барсуках и на скотный двор не поставят.
— На. — Комендантус снял с пояса связку с ключами и, перебрав все, вытащил один, кривой да поржавленный. — Владей. Уберешься сама. И за порядком дальнейшим на вверенной тебе территории тоже сама следишь. Снедать будешь в столовой. В комнате скоропортящихся продуктов не держать. Конечно, ежели на стазис-ларь расщедришься, то дело иное… тряпки в каморе возьмешь.
Он указал на соседнюю дверцу.
— Белье домовой опосля принесет. Меняем раз в две седмицы. В остальном усе просто: не пить, не шуметь… девок…
Он поперхнулся и исправился:
— Мужиков гулящих не таскать.
— А есть такие? — Про девок гулящих мне слыхать доводилось, но чтоб мужики этаким делом промышляли…
— Это столица! — комендант ткнул пальцем в мой живот. — Тут есть все…
И ушел.
Я же осталася в закуточке с ключом в руке.
Что сказать… в этакую комнатушку только мышей и селить. Узенькая, зато с окошком, в которое самонастоящее стекло вставлено. Толстое, прозрачное.
То бишь некогда оно было прозрачным.
Я провела пальцем по стеклу и вздохнула: если тут и убиралися, то не в нынешнем годе.
Клочья пылищи по полу гуляют, углы паутиной затянуло плотно, густо. А железная кровать, красивая, с шишечками, и вовсе ею заросла. И то сказать, что помимо кровати в комнатушке энтой был крохотный столик и закуточек, в котором я обнаружила таз с рукомойником да ночную вазу прехорошенькую, в цветы расписанную… и куда ж мне ее носить-то с пятого поверха?
Это я у домового и спросила, когда заявился с бельем — и матрацу принес, соломой набитую, и подушку, пусть и скуденькую, легенькую, да все лучше, чем ничего. Зато простыночки накрахмаленные, накатанные до гладкости и пахнут хорошо.
— Деревня, — укоризненно покачал головой дедок, выглядевши не в пример дружелюбней того, акадэмического. — Тут центральная канализация. Ничего и никуда носить не надобно. Гляди.
Он взял кувшин и плеснул в ночную вазу.
Что-то скрежетнуло, и водица разом исчезла.
Вот оно как… а куда ж все девается-то?
— В подвалы, в чаны специательные. — Домовой огладил круглый живот, который был, однако, не столь велик, чтоб им можно было похвастать. Видать, хлопотно ему тут живется, оттого и не растут ни живот, ни борода… — С тех чанов опосля на поля, для удобрения-с.
Это я уже разумела.
И домового за науку поблагодарила от чистого сердца. Хлебом бы угостила, да не взяла с собой свежего… надо будет в столовой их глянуть, авось и сыщется кусочек для дедушки.
С домовыми я завсегда в ладу жила, оттого и дом наш был доглежен, и пироги ходили ладно, и молоко не кисло, а когда и кисло, то по просьбе. Сыры у бабули получались знатные, этаких во всей деревне не сыскать. А про квас и вовсе молчу.
— А ты, гляжу, девка рукастая. — Домовой прошелся по комнатушке, которую я худо-бедно привела в порядок. — Не чураешься грязное работы… не то что иные… хочешь, Зося тебе половичка принесу? Из списанных… там дырочка малехонькая, заштопаешь…
Конечно, я хотела.
Нет, ежели бабке отпишусь, то пришлет она мне и половичков узорчатых, и занавеси на окна, те, с георгинами, которые я самолично расшивала, и покрывало на кровать, и подушки… и многое иное, да только пока оно соберется, пока дойдет…
Принес он и не только половичок…
— Ты, Зося, на иных не гляди… взяли себе моду… дескать, князья оне… бояре… а значится, ручков своих белых пачкать не моги… а им тут прислужниц нетушки, вот и бесятся… то это надобно, то другое… ты, Зосенька, главное, их не слухай. Будут говорить, что, значится, это обычай в Акадэмии такой, чтоб одни студиозусы другим прислуживали, не верь. По уставу вы все меж собою ровныя…
— А как бы это мне на устав сей глянуть?
Чует мое сердце, что неспроста этакое упреждение домовой сделал.
— Отчего ж не глянуть, принесу тебе книжицу, читай…
И вправду принес, и устав, и поднос цельный с едой. Был тут и сыр козий, и мясо вареное, щедро рубленою зеленью посыпанное, и расстегаи с рыбой, и кувшин холодного взвару.
— Благодарствую, — сказала я домовому, как оно по чести водится. — Но и вы, Хозяин, не побрезгуйте, разделите со мною хлеб гостевой…
Разулыбался он, довольный, что я верное обхождение знаю, и отказываться не стал. Ели мы молча, неторопливо, как оно меж их народа водится. Аккуратно, чтоб ни крошечки хлебной на стол или же, упаси Божиня, на пол не скатилось. И лишь когда разлил Хозяин взвар по высоким узорчатым кубкам, которые вытащил из-под полы, тогда и нарушилось молчание.
— Спасибо тебе, сударыня Зослава, за приглашение. И раз уж ты столь ласкова к старику, то, может статься, попотчуешь его и рассказом?
— И об чем же поведать тебе, добрый Хозяин?
— А о себе и поведай. Откудова ты родом… из каких краев, в какой семье росла…
Что ж, добрый Хозяин в своем праве, а мне стыдиться нечего.
На свет я появилась в жнивне-месяце. Хорошая пора, горячая. Зерно уж клонится к земле, оттого и спешат снять его, идут на поле с холодным железом, со свежею требой земле-родительнице, и кланяются, льют пот, что слезы, гонят хлебного волка от краю до краю…
Однако же не о жатве беседа наша.
О семье моей.
И сказывать, верно, надобно с бабки и с того, как село наше едва вовсе пепелищем не стало. Она о том вспоминать не любила, оно и ясно, но порой и на нее нападала тоска глухая по деду, тогда-то гишторию и говорила свою.
В те времена, когда бабка моя только-только в девичью пору вошла, азары в набеги частенько ходили. Много их родила степь, да только прокормить не могла, вот и выплескивалось дикое азарское море на паши берега, разбивалось на ручьи и ручейки, летело, скакало многоногим чудищем.
И Змеев вал уже не был преградой.
Многие беды несли с собой азары.
Смерть сидела в тулах их. А горе рядышком бежало, за стремя ухватившись… и не было, почитай, во всем царстве Росском человека, у кого б не погиб родич от азарское стрелы аль в полон не был угнан. Плакали люди, молили Божиню, да только без толку. Вновь да вновь погребальными кострами поднимались к небу что деревеньки, что села, что целые города.
И Барсуки не минула участь сия.
Бабка про набег тот сказывала скупо. Налетели спозаранку. Огненными стрелами хаты обсыпали, мужиков, кто за оружие схватился, порубали, а кто не успел, тех скрутили. Говорила, что потешались они, когда людей ловили… кого на копье возьмут, а кого и сетью опутают… говорила и лицом темнела.
Сама-то она в лес успела выскочить, но псы азарские дело знали, встали на след. И быть бы бабке моей или мертвою, или полонянкой горемычной, да бежала она, ног под собой не чуя, вот и выбежала к запретной поляне, на которой камень старый стоял… там-то ее дед и повстречал.
Глянулась она ему чем-то, ежели вступился.
А может, просто пожалел девку человеческую, потому как и звери на жалость способны… заломал он собак. И азар, тех, которые по следу пошли…
Она на той поляне три дня провела.
Возвращаться и боялась, и стыдилась: она-то уцелела, не то что иные люди… правда, опосля добавляла, что никто уцелевших не виноватил. За счастье было спастись.
Этаких, спасшихся, осталось едва ли с дюжину. Да все то бабы, то дети горькие… и сгинули бы взимку, когда б не дед. Нет, опосля-то и иные возвертаться стали. Азары те, когда полон гнали, на княжие войско наскочили. Бойка была. Многих тогда порубали, что азар, что княжиих людей. Но полонян отбили. Бабуля повторяла, что добрый князь был, только каждого третьего в холопы примучил, а мог бы и никого не отпустить. Но по мне та доброта мало лучше полона азарского. И то, не столь уж велика разница, где воли лишаться, у нас аль в степях…
Главное, что пока люд с того полону в Барсуки возвертался, дед успел хату поставить, ту самую, которая ныне общинным домом стоит. Бабы зерно худо-бедно собрали, он же каждый день на охоту ходил, носил что оленей, что лосей, а однажды и вовсе тура поднял.
Бабка сетовала, что сам поранился крепко…
Слег.
А она за ним ходила. Тогда-то и поняла, что привязалась к нему всем сердцем, что вовсе не боится нечеловечьего его обличья. И он бабку мою крепко любил, баловал…
Вот только Божиня лишь одного ребеночка им послала. Дед говорил, что среди берендеев редко бывает, когда больше. И в матери моей души не чаял, избаловал ее вконец.
Матушка моя долго невестилась, женихов перебирала, да не нашла никого по сердцу. Бабка боялась, что по-за гордости своей останется Берендеевна бобылкою, да сама взялася свадьбу сладить, но матушке моей сие не по нраву пришлось. Вот и сбегла она судьбинушку искать… и нашла… году не прошло, как вернулася с мужем. Да не просто мужем — князем цельным. Правда, сам он смеялся, что все княжество евоное — на клочке пергаменту. А из сокровищ в нем — кошель пустой да сабля. Но с дедом они поладили…
Помню их.
И матушку свою… и отца… и деда, как сажал на колени да сказки рассказывал, свои, берендеевы, которые обыкновенным людям глухим ворчанием чудятся.
Столько лет уж минуло, а будто бы слышу его голос, и каждое словечко помню. И теплоту рук огромных… и то, как садил меня, малую, на ладонь, подымал к самому потолку. А я смеялась от счастья, что была выше всех…
— Сгинули? — спросил домовой, смахнувши слезинку кончиком бороды.
— Сгинули… как полетела стрела царская, весь люд супротив азар созывая, так и пошли… дед мой, и отец… и матушка за ним. Она дедову науку воеву крепко знала. А меня вот бабке оставили…
Я замолчала, горько было вспоминать тот вечер.
И вновь чудится, будто бы отцовы усы, пропахшие табаком-самосадом, щеку щекочут…
— Не грусти, княжна моя, — он подкидывает меня и ловит. — Вот поглядишь, вернемся, привезем тебе гостинцев. Чего хочешь?
Мать улыбается, только я, пусть и мала годами, да вижу, что улыбка эта — не от сердца. Бабушка и вовсе плачет, уткнувшись в дедово плечо, а он гладит ее да говорит тихонько.
— Возьми меня с собой… — Я хватаю отца за руку.
— Маленькая еще.
— Не маленькая!
Он же, шагнув к стене, одним движением вогнал меж бревен нож свой, с гербовой печаткой, и сказал:
— От как дорастешь до рукояти, тогда и возьму…
…Четырнадцать мне стало, когда доросла.
— Тогда многие сгинули, — сказала я домовому.
— Так-то оно так…
ГЛАВА 8, в которой Зослава сводит знакомство с иными студиозусами и понимает, что не все в Академии происходит согласно уставу
Встала я засветло, по давней привычке, и только глаза открывши, вспомнила, что нет в том нужды. И в одночасье взгрустнулось. Вспомнилась и бабка, и корова Пеструха. Кто ее доит-то? Кто на поле гонит, повязавши на шею ленту с зачарованным бубенчиком? Пеструха — корова важная, не шалит, что иные, но и ступает — барыня барыней, только башкою рогатою с боку в бок поводит, кивает милостиво. И никогда-то подлости не сотворит. Иные-то копытом ведро опрокинуть норовят, аль хвостом хлещут, что оглашенные, аль и вовсе бодучие, злые… нет, Пеструха — не корова, а золото. И молоко у ей жирное… сюда бы хоть кувшинчик, то-то Хозяин порадовался б.
На сердце и вовсе тягостно стало.
Я вздохнула.
Спать? Так сна ни в одном глазу. И бока болят, отлежала с непривычки-то. Кровать неудобная, скрипучая. Матрац соломенный с комками, и каждый я чуяла, и мерещилось еще вовсе небывалое, что будто бы в соломе копошатся, ползают клопы.
Нет, этакого страху Хозяин точно не допустил бы.
Встала, потянулась.
Умылась.
Волосы расчесала гребешком, вновь вспомнилась бабка, которая сама любила косы мои заплетать, да все с наговорами, с пришептываниями, чтоб не падал волос, чтоб толстым был и крепким, блестел.
Я шмыгнула носом, но все ж плакать была непривычная.
Делом бы… а дел-то и нету…
Окромя черной книжицы, которая на столике лежала. Стало быть, сдержал Хозяин данное слово, принес Устав. Занятное чтение оказалось. Писана, конечно, мудро, но на то она и Устав. Я цельное утро над нею просидела, да после выяснилось, что сидела не зря…
В столовую я вышла, принарядившись, а то мало ли, вдруг да случай выпадет жениха встретить, а я и не прибрана?
Женихов в столовой не было.
Да и вовсе люду было немного, но о том горевала я недолго, поелику сама столовая… я так и обмерла.
Красотень!
Это тебе не корчма придорожная с потолком закопченным, где дымно, душно и тесно, на полу солома гнилая да скорлупа ореховая, столы жиром заросли, а пахнет едва ль не хуже, чем из места отхожего. Акадэмическая столовая была просторна и нарядна, с полом каменным, со стенами белеными, расписанными преудивительно. Тут тебе и дерева преогромные ветками переплелись, да и то не скажешь, дуб то аль осина, на березу-то и вовсе не похожие… нет, таких деревов я не видела.
А уж зверье-то…
Птицы златокрылые по веткам порхают, гады лазоревые да огненные под корнями гнезда свили, и ступает осторожно индрик-зверь. Затаился на толстой ветке Баюн шестилапый, и лезет, крадется по изрезанному морщинами стволу диво-василиск…
— Эй ты, девка, — окликнули меня, вырывая из мечтаниев. Я уж вообразила, как ступаю по сему предивному лесу к замку зачарованному, в котором ждет меня царевич. Лежит в труне шкляной, златокудрый, белолицый, распрекрасный, прям как живой. То есть, живой, конечно, только маленько зачарованный. Я уж и к устам сахарным его склонилася, желая проклятие разрушить, а тут меня и выдернули. — Да, ты, подойди. С тобой боярыня Ализавета Алексевна беседовать желают.
Боярыня поднялась.
Была она молода, моих годочков, гонору немалого, да, видать, не из столичных, ежель при Акадэмии столовалась. Но богата, по всему видать, вона как вырядилась.
Рубаха горничная цвета давленой вишни по вороту золотом да жемчугом расшита.
Наручи золотые, узорчатые.
Летник из желтое переливчатое ткани, каковой я отродясь не видывала, а поверх летника и шубка плюшевая с откидным рукавом.
Рукав длинный, узкий, едва ли не до самое земли спускается.
В ушах — серьги с каменьями, на пальцах — перстни.
И сама-то хороша, статна, дебела. Лицо круглое белилами покрыто густо, брови насурьмянены, губы — малина… глаз не отвесть от красоты этакой.
— Здраве будь, боярыня…
— Ализавета Алексевна, — соизволила сказать она, глядючи на меня с превосходством немалым.
Я ж заробела прямо.
Наша-то боярыня, старая княжна Добронрава, изредка в Барсуки наезжала, когда вовсе невтомно становилось ей в старом доме. Была она грузна и красна лицом, в возке своем сидела важно, этаким истуканом, в меха укутанным.
С возка и кивала старосте.
А детям, когда случалось у нее настроение-с, как выражался хитроватый приказчик, при боярыне поставленный, кидала мелкую деньгу, на сласти, стало быть. Поговаривали, что некогда Барсуки были под княжею рукой, и с той поры Юрсуповы спят да видят, как бы село утраченное возвернуть, но на то закону нету.
Ализавета Алексевна разглядывала меня придирчиво и знай мизинчик прикусывала, никак от великого волнения.
— Ты, девка, сейчас пойдешь в тридцать четвертую комнату и наведешь там порядок, — произнесла она наконец. — И гляди, чтоб к моему возвращению все чисто было! Увижу хоть пылинку — выпороть велю!
Верно, будь я урожденною холопкой, поперед себя кинулась бы поручение сие исполнять. Да только из вольных я, да и сама, ежели подумать, роду не худого…
— Извиняйте, боярыня, — ответствовала так, глядя в серые глаза Ализаветы Алексевны, — да только у меня и иных делов хватает.
— Что?!
Боярыня аж в лице переменилась.
— Ты… девка… понимаешь, с кем разговариваешь?
— С тобою. С вами, то бишь.
— Да я, — она приосанилася. — Ализавета Алексевна Бартош-Кижневская! Единственная дочь боярина Кижневского! Да у моего тятеньки этаких наглых девок плетьми учат!
— Вот у тятеньки и учитя.
— Стоять! — боярыня ножкой притопнула. — Да как ты смеешь со мною столь дерзким тоном разговаривать?! Да если я велю… если я велю…
Она оглянулась.
Верно, дома-то рядом с нею безотлучно и няньки были, и мамки, и холопки, и иная дворня, каковая ныне осталась за воротами Акадэмии.
— Сударыня Ализавета, — я вдруг ощутила, что тут, ныне, в своей силе, и ничего-то не сделает мне боярин Бартош-Кижевский со всем его золотом, — туточки Акадэмия. И по уставу ея все студиозусы равны меж собой, невзирая на то звание, каковое они имели прежде…
Боярыня ротик приоткрыла да так и замерла.
— И прописано там, что, дескать, кажный студиозус за собою сам ходит…
— Ты… да я… да я папеньке отпишусь!
И вновь ножкой топнула, скривилась, в слезы собираясь удариться, да только опомнилась, что некому будет утешать. Никто-то не заголосит, не поднесет ни петушка сахарного, ни пряника печатного, ни орехов, в меду варенных. Не залепечет сказки да былины, от слез отвлекая…
Я от души боярыню пожалела: небось, тяжко ей придется.
— Отпишитеся, — сказала я ласково. — Оно-то верное дело… пущай купит для вас дому… аль снимет… чего вам тут бедовать? Будете жить в городе царевною, а сюда только на учебу и ездить…
Личико боярыни тотчас разгладилось.
— Отпишусь! Пущай папенька купит мне туточки дом! Не дело это, чтоб боярыня Бартош-Кижевская в конуре жила и объедками кормилась, будто холопка какая!
И подбородок этак задрала.
— Только не думай, что я про тебя забуду! Тоже напишу! Пусть папенька и тебя купит и выдерет!
От девка дурная, балованная! Саму бы ее выдрать разок хорошенько, глядишь, и подобрела б к людям.
Боярыня Ализавета Алексевна из столовой удалялась неспешно, видать, чтоб боярскую гордость не уронить. Голову задрала, ручки крючочками согнула, локотки расставила, чтоб рукава шубки свисали… идет, покачивается, и звенят бубенчики, в эти рукава зашитые…
— Молодец, — раздался знакомый голос. — Так дальше и держи. Чуть попустишь, мигом на шею сядут и ноги свесят.
Арей стоял, скрестивши руки на груди, и вслед боярыне глядел недобро. Потемнело красивое лицо, и сделалось иным, хищным будто бы. Разом стало заметно, что и нос у Арея крючком, и подбородок жесткий, точно каменный, и видится в этих чертах чужеродное, азарское…
…а бабка сказывала, будто бы азарское племя не Божиней сотворено было, но от демонов, Огненной речкой рожденных, пошло. Оттого, сколь бы ни минуло времени, да жив тот огонь в крови, жжет человека, мучит душу…
— Доброго дня, Арей… — сказала я тихо и за руку тронула.
Он аж вздрогнул. Повернулся ко мне.
Усмехнулся кривовато.
— И тебе, Зослава, доброго…
— Не будешь ли ты столь ласков помочь мне? А то я вовсе потерялася…
Отпускало его.
И огонь, который я чуяла, уходил, прятался.
— Идем… вот смотри, все просто… берешь поднос, идешь к раздаче. Там ставишь, чего и сколько хочешь…
Сам он ставил тарелку за тарелкой.
— Не стесняйся. Тут готовят на всех, да только столуется едва ли не треть. Прочие предпочитают или на дому, или из рестораций обеды заказывать.
— А ты?
— А я не прочие.
Усмехнулся уже широко, клыки показав. От теперь-то я и поверила, что он азарин наполовину, хотя прежде азар вживую не видела.
— Извини… напугал?
— Да нет. У меня и поболей будут… — Я сама оскалилась. И пусть бы дедовой крови не достанет, чтоб полный оборот совершить, да только мне оно и без надобности. Мне и среди людей неплохо живется. От улыбки моей Арей не отшатнулся… а незнаемые со мною парни шарахалися, когда я, шуткуючи, клыки показывала…
— Ты…
— Из берендеев, — подсказала. — Дед был…
— Никогда живого берендея не видел.
— А я азарина.
Не обиделся, хмыкнул только:
— Я наполовину азарин.
— А я берендей и вовсе на четвертушку…
— Садись, четвертушка, — велел он, указавши на столик. — И завтракай…
— А ты…
Замялся, но сказал все ж:
— Пойду я… не надобно тебе со мною разговаривать.
— Отчего же?
Я нахмурилась: непривычная в одиночестве трапезничать, этак и кусок в горло не пойдет.
— Или я нехороша?
— Скорее уж я нехорош. — Арей огляделся и все ж присел.
— Из-за того, что азарин… наполовину?
Оно и верно, азар никогда-то не любили, а опосля той войны, когда, как сказывали, полегло их, что колос под серпом острым, да только и наших не меньше, и вовсе возненавидели люто.
Слыхала я, как калики перехожие сказывали о той бойке, что длилася три дня, три ночи, да еще полдня. И про то, что от воронья, на мертвяков слетевшегося, небо стало черным-черно, а волчий вой разносился по-над полем, и кто слышал его, тот глох. Про стрелы, которые, в землю воткнутые, прорастали, до того земля эта кровью напоенная была, про копья, что становились кустами аль деревами, про то, как девка одна ходила от мертвяка к мертвяку, все кликала суженого, спрашивала у каждого, не видал ли. И капельку крови на требу клала, пока крови этой вовсе не осталось, но и тогда искать она не прекратила.
Многое говорили про тот день, что сочиняли, что правдой было — я не знала.
Да только ж навряд ли Арей воевал, молод больно.
— Да нет, — он сцепил пальцы, — из-за того, что я раб.
И добавил зачем-то:
— Беглый.
ГЛАВА 9, где речь идет о человеческой благодарности, законах и правилах Академии
В отличие от азар, рабов мне видеть случалось.
Были холопы боярыни, которые, хоть и не рабы, но все люди подневольные, ходят, от земли взгляд не отрывая, над каждым словом трясутся, что бедняк над лишним грошиком, но все ж холопа по нынешнему часу хозяин ни убить, ни покалечить не может, разве что опосля вольную даст и иной выкуп, как то в Правде сказано.
А раб… раб — дело иное.
Бывали оне на ярмарке.
Вот, к примеру, тот челядин-чужеземец с бритою головой, клейменный аккурат меж бровей. И лобастый, страшный, он похож скорей на зверя лютого, понеже человека.
И сидит, точно зверь, на цепи.
А хозяин, всем и каждому, сказывает, до чего его челядин свиреп, что в бою он за троих стоял, и не с мечом добрым, но с деревом, которое сам из земли выдрал…
…налево деревом махнет — и падает люд княжий оружный.
…направо — и лошади ложатся.
Сказывал да бил себя кулаком во впалую грудь, что не иначе, как чудом, пустил он стрелу, которая и уязвила чудо-воина. А после сети веревочные набросили, спутали…
Раб сидел.
Молчал.
Может, вовсе нем был, а может, устал от тех разговоров, от зазывал, которые приманывали сельских парней силушкой помериться. Всего-то за три грошика! А ежели случится одолеть кому чудо-воина, то целых три золотых рубля дадут!
За три золотых корову купить можно, вот и шли, дурни, несли гроши.
Был и иной раб, старый, если не древний, в белых одеяниях, сидел на коврике, качал головою да брался по ладони читать. Тридесять по тридесять болезней различить умел. А еще столько же — по глазам.
Были мастеровые и просто люди, что служили купцам, спали под телегами, стерегли хозяйское добро… и хозяева верили им.
Или не верили.
И били, бывало, что и до смерти, за любую провинность, а то и вовсе без оной. И горек был рабский хлеб, как бабка говаривала, да воля тяжела.
Выкупиться?
Это ежель родичи есть, которые цену, хозяином названную, осилят. А ежели нет, то собирают рабы деньгу по грошику, коль хозяин столь милостив, не отбирает. Иные, говорят, и сами собирают, и дети их, а после и внукам кошели оставляют в надежде, что хоть им-то воля случится. Бывает, что и сам хозяин вольные дает, за геройство какое аль за службу верную, а бывает, что невмоготу рабу милости этакой ждать, вот и бежит он в белый свет.
Случалось, и убегает.
Да только за беглыми охотятся, магов нанимают, потому как на каждом клейме — печать особая, и эту печать ни ножом срезать, ни огнем свести. Одного взгляда человеку сведущему хватит, чтоб распознать беглого раба, а где распознают, там и возьмут.
В колодки закуют.
И отошлют хозяину с поклоном, тот сам уж наказание выберет. А коль случается, что, побег учиняя, раб на хозяина руку поднял, тут-то супротив него и суд царский, и правда.
И казнь.
Снимут шкуру с живого, кишки выпустят, а после, не дав умереть, и сунут в котел с кипящим маслом…
— Могу уйти, — тихо сказал Арей и взгляд отвел.
Вот оно как… может, ему бы и простили то, что он наполовину азарин, но вот того, что раб беглый… его, небось, и за человека тут не считают.
Брезгуют.
И ненавидят, потому как нету в Акадэмии рабов… равны все…
— Если сам того желаешь. — Я разломила хлеб пополам. — Дед мой сказывал, что Божиня всем своим детям волю дала, а остальное уже люди придумали…
— Божиня на небе. А люди рядом.
Он не встал.
И половинку хлеба принял.
— Спасибо, Зослава…
Он сам заговорил, я не стала бы вопросами пытать, не полезла б в больную душу. Да только и Арей, видать, устал от молчания.
— Матушка моя, Ирчадай из рода Белой Искры, была дочерью Энунг-авара, любимой, балованной. Ни в чем не знала она отказа и оттого верила, будто бы мир добр и все люди в нем добры.
Его щека дернулась.
А глаза вновь потемнели, что небо грозовое.
— Когда встретила она моего отца, то полюбила его с первого взгляда. Он был полонянином… Энунг-авар ранил его в стычке, но не убил. В дом свой привез. Доктора личного приставил, шаманов. Он велел отцу письмо писать о выкупе. Так многие делали, и пусть бы много золота стоила бы свобода, но видит Божиня, получил бы он ее.
Тих был его голос, и мне приходилось наклоняться, чтобы не упустить ни словечка. А сказ Арея был куда интересней, нежели все истории, доселе слышанные.
— Матушка же моя была птичкой редкой… так он сам говаривал… и смеялся, что птичку доверчивость сгубила. Сказал он ей, что никогда-то Энунг-авар не выпустит пленника, и уж тем паче не отдаст за него свою дочь. Бежать подговорил. Многое она могла, Ирчадай-легконогая, Ирчадай-смелая. И сама-то из дому вывела, и лошадей приготовила быстрых, таких, которые от ветра рождены да степью вскормлены. Взяла с собой золота, чтоб погоню со следа сбить. Думала, будет ей счастье на той стороне… он ведь обещал жениться.
Я покачала головой: нехорошо поступил отец Арея.
Не по-людски.
И не по-божески.
Говорят, что Божиня женские слезы, те, что от сердечных обид идут, в ладони свои собирает. А как наполнятся до краев, так и выплеснет их на мир. И потонет он, омоется да очистится…
— Только вот был женат уже… но и то ладно. Матушку мою рабыней сделал. И Энунг-авару написал письмо длинное, в котором сказал, как оно было. С того письма и умерла моя матушка для родичей. Азары девичью честь строго блюдут. На Энунг-авара она не злилась.
— А на твоего отца?
Ох, не след было спрашивать. Вовсе черны стали глаза, а на виске проступила темная кровяная жила. И бьется, рвется она, что струна.
— Она любила его. До последнего дня любила… верила, что не мог он иначе. Нет, он ее не бил… он поселил ее в тереме, в своих палатах, и наряжал, что барыню. Каменьями одаривал, шелками, да только ты же знаешь, что все имущество раба принадлежит хозяину. И дети, если рождаются, то сразу рабами. Он говорил, что даст мне вольную, позже, когда подрасту… что сын его меня на два года моложе всего. И если освободить сейчас, то боярыня его не поймет… и родичи ее тоже не поймут. Хватит, что матушка моя для них была, что бельмо на глазу. Не знаю, может, и дал бы волю, но…
— Случилось что?
Я подала стакан с ягодным взваром, который Арей принял, выпил, даже не глянув, что пьет. Видать, крепко нагорели на душе старые обиды.
— Случилось… помер он четыре года как… на охоте убился до смерти… ты его не видела. Он медведя заломить мог бы… извини.
— Ничего.
— Привезли его… хоронить. — Теперь каждое слово давалось ему с трудом. Арей вцепился в край стола, голову наклонил, сделавшись похожим на шального пса. — А боярыня и говорит, что надобно по старому обычаю собрать свиту. Не дело такому славному боярину в Божинины чертоги одному заявляться. И раз уж матушка моя жила при нем, что жена мужняя, то ей за Огненную реку и ехать… если Божиня пустит азарку в свои чертоги. Все потом говорили, что, мол, крепко она мужа любила, если такой красивой рабыни не пожалела. Я пытался их остановить.
Он стиснул кулаки добела.
— Да только по голове дали и в погреб, а как выпустили, все уже закончено было… только, думаю, что она бы и сама за ним пошла… ведь пошла же сюда, а Божинины чертоги немногим дальше. Я вот остался. Наверное, боярыня б и меня отправила, но побоялась, что люди осудят. Да и… без того нашла бы, как извести. Отец-то не раз и не два говорил, что отправит меня на мага учиться, что раз дар имеется, то и использовать его надобно. А после смерти вдруг все забыли словно… и то, кому охота с боярыней из-за рабынича ссориться? И кабы не боялась она сплетен, давно бы и в могиле лежал бы.
Я лишь головой покачала: и вновь неладно поступила боярыня. Кажный знает, что воля мертвых исполнена быть должна, потому как иначе не будет счастья ни тому, кто его нарушить посмел, ни семье его.
— На конюшни меня сослала… я-то лошадей люблю и ладить с ними умею. Но… вскоре одна слегла… и другая… и тут уж боярыня заговорила, будто бы я их отравил. Пороть велела… раз, другой… на третий-то я понял, что мне не жить. Сегодня лошади слегли, а завтра и человека уморит. Скажут, что я виноват… тогда-то ей перед людьми не стыдно будет, напротив, жалеть станут. Мол, пригрела на груди змею азарскую. Я и не стал ждать. Сбежал…
— Сюда?
Арей руки разжал, поглядел на них с удивлением.
— Слышал, что магам никто не указ, что своею правдой живут, а не Царской… и что только сила да талант нужны. Сила у меня была. Талант… тут я не скажу, одно, что учиться был готов и день и ночь, лишь бы вырваться.
— И тебя приняли…
— Не все так просто, Зослава, — вновь кривоватая недобрая усмешка. — Меня пропустили ворота, как пропустили бы любого одаренного. Мне повезло не только прийти сюда, но и встретить человека, который не погнал. В Академию-то берут тех, кто старше семнадцати. А мне только-только пятнадцать минуло. Еще два года… я бы их не прожил попросту. До поступления же я, как есть, рабынич… и вернуть они меня обязаны были. Так мне сказали и за барыней гонца послали, а меня спутали заклятьем, чтоб беды не натворил. Хорошо, на шум Михаил Егорович выглянул. Он-то меня и пожалел. Взял к себе в личные ученики… ох, что было, когда это услыхали… как его только не обихаживали, чтоб меня вернул. Тут еще и боярыня явилась, принялась кричать, что я, ирод такой, сыночка ее извести хотел, и что место мне — на площади, где с меня шкуру драть станут. Да только Михаил Егорович не тот человек, который угроз побоится. Не отдал. С тех пор так и живу…
Он ловко провернул в пальцах ложку.
— Первый год вовсе старался местным на глаза лишний раз не показываться. Он меня, пока суть да дело, в библиотеку пристроил. Сказал, что заодно теорию подучу… в библиотеке-то тихо, книги, чай, не люди. Им все равно, кто их в руки берет, лишь бы руки эти бережные были.
Я кивнула, думая о своем.
Вот оно как выходит по жизни… несправедливо. А деда, помнится, сказывал, будто бы на заре времен, тогда, когда мир, Божиней сотворенный, лишь очнулся от сна, не было несправедливости вовсе.
И в мире жили, что звери, что люди.
Охотники на охоту выходили за-ради мяса и шкур теплых, а требуху да кровь спускали лесу, чтоб сила и душа звериная к истокам возвернулась, а там и возродилась с новою памятью… и дед повторял, что так оно и надобно, что звери-то помнят заветы Божини. Люди же…
Он мрачнел, когда речь заходила о барских забавах, навроде лисьей охоты, или вот медвежьей травли, или иного какого баловства…
…и того, что одни люди над другими поставлены. Все мол, дети Божини…
Что бы он Арею сказал?
— Клеймо с меня так и не сняли. — Арей дернул высокий воротник кафтана, будто бы находилось под ним нечто раздражающее.
— Если доучусь, тогда… маг не может быть рабом.
— Доучишься, — спокойно сказала я.
— Стараюсь… последний год остался. Пока Михаил Егорович ректором, то меня не тронут. А ректором он будет и дальше, потому как царю нынешнему дядька родной… и как бы ни пыхтели бояре, которым нынешние порядки крепко не по сердцу, но подвинуть его не смогут.
Это прозвучало зло.
— А если…
Я ведь помнила Михайло Егоровича и уже не сомневалась, что судьба хитромудрая свела меня с единственно правильным человеком. Небось, не будь той встречи, сидела б я серед целительниц, половина из которых барского знатного роду. Но вот в годах Михайло Егорович, и немалых, и спина опять же. Нет, от больной спины не помирают. Небось, старый мельник который год к бабке за мазью ходит, да все стонет, что одной ногою в могилу сошедши, да только вторая на землице грешное крепенько стоит.
И если помрет, не от спины…
…но ведь Арей сам сказывал, будто бы батюшка его тоже здоровьем был крепок. И где он ныне?
— Тогда, — глаза Арея вовсе черными сделались, — мне лучше самому в петлю, потому как…
— Отдадут?
— Или отдадут, чтоб с Сухомлинскими не ссориться. Или… маги — товар редкий, Зослава. А уж хорошие защитники… сама увидишь, будет вас с дюжину, а то и меньше. Вот и предложат мне сделку, от которой отказаться не выйдет. И буду я снова до конца дней своих сидеть за чужим забором. Нет, пороть навряд ли станут, но и за человека держать не будут…
Горько.
И жаль его, бедолажного, не по своей вине в этакую гишторию угодившего, но я жалость при себе держу: немало в Арее нерабской гордости.
Не примет.
Оскорбится еще…
— Но я привык на лучшее надеяться, — не особо искренне произнес он. — И раз уж мы обо мне поговорили, может, и о себе расскажешь? Чего внучку берендееву потянуло-то к людям?
Я фыркнула: экий скорый.
Однако же нехорошо за откровенность молчанием платить.
— Жениха себе найти хочу…
Арей аж хлебной крошкой подавился.
ГЛАВА 10, в которой речь идет о женихах и неожиданных трудностях
— Жениха?.. — переспросил он престранным голосом.
— А то… — Я вздохнула и принялась пересказывать. Про себя и про Барсуки, про бабку с ея гаданием, которому у меня веры не было нисколько, потому как для гадания брала бабка листы пользованные. А всяк знает, что надобно только на чистые.
И на скатерочку свежевыстиранную их класть.
Да не поутру, когда солнце в силу свою входит, но к полуночи ближе, и то не листы малеванные, чужеземную забаву, отцом привезенную, но миску и воду родниковую, чистую.
Колечко золотое.
И волос свой.
Свечи восковые… заговоры… нет, так-то я тоже гадала, как водится, на Зимней неделе, когда дни короткие, что хвосты мышиные, а ночи долгие, темные. Когда волки свадьбы играют, и звезды спускаются к самой земле, порой ветер сбивает их в спутанные космы древних елей.
И серебрится, переливается снег дивными сокровищами.
Тогда-то и бани топят, и девки идут мыться, да не просто так, но со свежими караваями, каковые складывают у дальней стены, с куколками самошитыми, обряженными, точно барыни, с бусами из сушеной рябины да тыквяных семечек…
И моются.
И песни поют. И банник, нечисть заполошная, выползает из норы девок послухать, перебирает корявыми пальцами хлеба, отщипывая от каждого. И где поверху возьмет, значит, вскорости ждать надобно сватов богатого дому, а где у донышка, то и не судьба девке хорошее замужество справить. Иль вовсе никто не посватается, иль посватаются, да жизни не будет…
Напевшись, намывшись, волосы чешут одна одной, и волоски-то подбирают, кидают в печь, глядят на пламя, а там выходят и рябину сеять на птичье гадание…
Много их есть.
Да только ни в одном я судьбу свою не видала, даже в том, которое с родниковою водой и с колечком. Шли волны, успокаивались. И волоса моего хватало, чтобы миску обвить, но вот… иные видели… и охали, ахали, закрывали рот руками, чтоб неосторожным словом счастье свое не порушить.
— Вот оно как. — Арей слушал внимательно, одной рукой щеку подпер, другою скатерочку гладит. А скатерочка-то простенькая, без шитья, без узоров.
Но оно-то кому здесь узоры шить?
— А я уж думал, что ты как эти… за царевичем.
— За каким царевичем? — удивилась я и огляделась.
Царевичей поблизости не было.
Жаль, я б поглядела, каков он из себя, царевич. Потом бы отписалась. Небось, все б девки от зависти изошли… или не поверили б?
Я подумала и решила, что вот точно не поверила б, скажи кто, что царевича сблизу видел.
— Обыкновенного. Наследного.
— А он тут? — Я переспросила шепотом и на всякий случай вновь огляделась. А то мало ли… но нет… стоят столы рядком. И лавки, мелькают меж ними смазанные тени — домовые с домовятами суетятся, порядки наводят. И надо бы уйти, не мешать Хозяевам, да больно уж под дивным деревом намалеванным сидится славно.
— Будет тут. Похоже, ты одна не слышала… видишь ли, Зослава, наследник престола традиционно получает помимо обыкновенного образования и академическое. Делается это для того, чтобы будущий царь умел не только с боярами сладить, но и в магических делах разбирался. А то ведь маги ничем не лучше прочих людей, за ними тоже пригляд нужен.
Тут я согласилась. Маги аль нет, но царь Божиней над прочими людьми поставлен. Так жрецы говорят, и еще что кажному человеку надобно свое место в мире знать и иного не желать, потому как от энтого желания и происходит всяческое беспокойство.
Царю — царево.
Холопу — холопье… а о рабах и вовсе речи нету. Главное, чтоб каждый жил, как оно по Правде положено, тогда и вознаградит их Божиня за земные страдания великой благодатью.
Про благодать не ведаю, конечно, но вот порою мнилось мне в тех словах нечто неправильное. Оно вроде и гладко выходит, да только… вон, Сидорскую старшую дочку отдали замуж в Ковалевцы соседние. Шла, соседи завидовали, что, мол, за богатого, будет жить да радоваться. С этакой радости уже два разы к тятьке своему сбегала, в ноги падала, молила, чтоб не возвертали мужу. Только батька ужо над нею не властный.
В супруговой воле.
Вот и получается, что терпеть ей выходит, на Божинину благодать уповая… не по мне этакая покорность.
— У Зимовита и вовсе магический дар имеется. А потому надо учиться. Вот и сама понимаешь, что его сюда поступление — такая тайна, о которой и последняя дворцовая крыса знала. И добавь, что царевич — молодой, не женатый… была за него сговорена боярыня Ольшана Раждовенска, да только прошлою зимой померла она от сухотки. Новую ж невесту подыскать не успели…
Он замолчал, но молчал недолго.
— Вот и поспешили все, у кого дочери на выданье имеются, сюда их пристроить, глядишь, и очарует какая молодого царевича… так что, Зослава, тяжко тебе с женихами придется.
— Это ежели б мне царевич надобен был, — возразила я. — А на кой ляд мне царевич? Что я с ним в Барсуках делать-то буду?
Арей усмехнулся.
А глаза-то посветлели, сделались светло-серыми, точно заячья шкурка… и лицо обыкновенное, мягкое такое лицо.
Человеческое.
— Экая ты… нечестолюбивая…
— Чего?
— Того, Зослава. Сама подумай, что тебе ерша ловить, когда можно сома вытащить?
— Не всякого сома вытащить силенок хватит. Я девка негордая и в своем розуме. Небось, с мужем-царевичем и свекровь царицею будет…
Арей засмеялся.
Громко.
И так хорошо, что я сама разулыбалась, хотя ж и не поняла, что такого смешного сказала-то? Две бабы да в одном доме, да при одном мужике. Небось, конечно, царица не станет невестушке своей косы драть, скалкою охаживать аль в чеботы сухую крошку сыпать, да только у нея и иные способы негодную невестку извести сыщутся.
Нет, выходить замуж за царевича я не собиралась.
— Царевич, — медленно повторила я, — пущай боярыням достается, мне бы кого попроще… вот взять, к примеру, тебя…
Арей вновь захохотал, во все горло, да так, что голос его отразился от каменных сводов.
— Экая ты… Зослава…
— А что? Чем плохо? Парень ты крепкий. И с норовом. И разумный. Рукастый, думаю, самый по мне муж…
— Не забудь добавить, что в ошейнике, — он перестал смеяться и глаза отер. — Или сама примерить захотела? С моей мачехи станется. Не забывай, Зослава, что с законом не шутят. Пока я раб, то и любая, которая за меня пойти вздумает, рабою сделается.
— Пока. — Я поднялась. Конечно, у меня не выйдет, как у той боярыни, ступать медленно да поважно, и шубки нету с бубенцами на рукавах, и летника длинного, чтоб подолом пол мел, да мне и так ладно. — Ну так и я замуж не сегодня выйти собираюсь.
Арей тоже встал.
— Спасибо тебе, Зослава.
— За что?
— За разговор, — ответил он серьезно. — На душе легче стало. А на смех мой не обижайся. Не думал я о женитьбе… да и не могу… права не имею. Даже когда Академию закончу, то кем я буду?
— Магом.
— Магом… без дому, без семьи, без гроша за душой. И каждый в этом городе, а то и во всей стране знать будет, что я — бывший раб. Думаешь, много мне работы будет? Нет, Зослава… я уже решил, что уеду.
— Куда?
— Не знаю. Куда дорога ляжет… может, к азарам… хотя и там я чужим буду. Может, к лигойцам или еще куда. Мир велик. Где-нибудь да найдется для меня местечко. Уж не серчай, что твои планы порушил.
Я фыркнула.
— Не было у меня никаких планов. Это так… сказала… не подумавши… Мужа выбирать — не чеботы купить. Ошибешься, по ноге не перешьешь, так и будешь всю жизнь маяться. Пять лет у меня есть. Буду учиться. Глядеть. Приглядываться… а там как-нибудь оно и сладится.
Сказала и сама себе поверила.
Ажно восхитилась, до чего премудро вышло.
— А я тебе помогу, если вдруг совет станет нужен. Или информация. Я тут многих знаю. И вижу порой… чересчур уж много вижу, но в твоем деле лучше больше, чем меньше. Так что, Зослава, примешь помощь? — Арей протянул руку.
И я приняла.
Помощь лишней не бывает.
— Вот увидишь, найдем мы тебе жениха такого, что все боярыни местные обзавидуются…
Сказал и вновь рассмеялся… весело ему, значит. А и ладно, смех не слезы, с души не обеднеет.
ГЛАВА 11, где пишутся письма и съезжаются женихи
Дорогая моя бабушка, Ефросинья Аникеевна, — я от усердия аж язык высунула. Оно, конечно, случалось мне и прежде писать письма, но то — под диктовку, что старосты, что кузнеца, а что еще кого из сельчан. Народ-то в Барсуках грамотный, однако же попробуй-ка, удержи в кривых пальцах, больше привычных к молоту аль косе, тонкое гусиное перышко. Вот и шли ко мне, мол, у меня буковки одна к другой, аккуратненькие, ровненькие, любо-дорого поглядеть. А я что, только рада была…
Я вздохнула и прикусила деревянную палочку… нет, железное перо всяк сподручней гусиного, и сделано хитро, не всяк кузнец тонкую работу сдюжит.
Пишет тебя внучка твоя единственная, Зослава, с превеликим почтением.
Поведать желаю об том, что добралася я милостью Божининой до самое столицы, и до Акадэмии тож.
Я вздохнула.
За письмо я села, знаючи, что бабка оного письма ждать будет со всем нетерпением, а еще волноваться начнет. В ее-то годы волнения, чай, вредны. И потому писать следовало не только красиво, но и успокоительно.
Приняли меня туточки с превеликою радостью, однако поведали, что на целительском факультете, — незнакомое слово я выводила с особым старанием, с того удовольствие немалое получая. Небось, в Барсуках про факультеты этия тож не слыхивали, — мест нетушки. В нонешнем году целительниц больно много, и все-то боярских знатных крывей. А все потому, что сам царевич пожелал образованию получить и с нонешнего года почтит Акадэмию своим присутствием.
Это я услышала из разговору двух боярынь, каковые, пусть и сплетничали, будто бы подружки давние, а все одно глядели друг на дружку ревниво, примеряясь да гадая, нужна ли такая подруженька, у которой и коса гуще, и бровь сурьмяней.
Упреждая вопросу дядьки Сеня, скажу так, что царевича я не видала. Кажуть, что никто-то его не видал, поелику матушка евоная стереглася больно, чтоб не сглазили, не прокляли ненароком. Вот и рос он где-то, а где — то неведомо. И явится не просто так, но с дружками своими верными, которых будет ажно пятеро. А может, и того большь. Все девки только о том и говорят, рядятся, кажной в царицы попасть охота. Но не подумай, дорогая моя бабушка, Ефросинья Аникеевна, что и внучка твоя в царицы метит. Мне то без надобности, не вовсе глупа я, пребываю в разумениях, что царицыно место не медами мазано.
Я перечитала. Гладенько выходило, красиво, прям как Арей учил.
Вспомнила и задумалась.
Писать ли про него?
С одное стороны, охота, потому как не было у меня от бабки ни тайн, ни секретов даже. И страсть до чего об новом знакомце поведать тянет. С другое… не любит бабка азар, страсть до чего не любит. Оно и ясно, что дед мой от них сгинул, что матушка, что отец… и выходит, мне самой любить их не за что, да только нет у меня к Арею ненависти, благодарность только.
И не он на том поле стоял.
Не он убивал.
Нет на нем вины, но вот только… поймут ли?
Мыслю я так, что третьего дня, как начнется учеба, то и пригляжуся к людям, которые при Акадэмии обретаются. Многие-то в городе квартируются, а на учебу возками ездют, но сие как по мне дюже неудобственно, хоть и гонор в том немалый.
Иное дело — студиозусы, что при Акадэмии постоянно пребывать изволют. Они и не из столицы родом, а значится, звания не сильно высокого, и достатку невеликого, но с талентом, иначе б не взяли их на учение. Талент же, как мне объяснили, дело тонкое, и магиков, которые воистину на многое способны, царь при себе держит, золотом осыпает. Да только одного таленту мало, надобна еще старательность и розум немалый. Оно и верно, куда глупцу великая сила? Сколько бед натворить способный…
Я прервалась.
Все ж писать следовало не о бедах, которые, быть может, случатся, а может, и нет, но о вещах обыкновенных, приземленных.
Вот и буду я искать такого мужа, чтоб и с талентом был, и с разумением. Звание же его боярское, коль будет оно, то и без надобности.
Тут я несколько слукавила. Небось, хотелось примерить боярскую шапку, высокую, из красное парчи да с жемчугами. И сапожки к ней сафьяновые, на отворотах.
Перстеньки надеть бурштыновые.
И бусы в несколько рядов.
Ох, красива я бы была… боярыня Зослава…
С тем и кланяюся я, дорогая моя Ефросинья Аникеевна. А еще тоскую премного по тебе, и по селу нашему. Кажную ночь во сне только и вижу. Глаза закрою, и туточки они, березки две, которые мы с тобою у колодца сажали. И сад наш вижу. Скажи, управилась ли ты с яблоками? В сё лета они особо уродить должны были.
Я вздохнула.
Яблоки родили через год, и в нынешнем аккурат пора пришла. Яблони еще дед сажал, своим особым словом заговаривая, оттого и выросли могутными, раскинули ветви. И яблоки зрели одно к одному, крупные, красные, с искрою.
На них всегда охотников имелось.
И на ярмарку когда возили, то прям очередями люди стояли. Справится ли бабка одна с урожаем? Иль сподмогнут? Небось, люд у нас в Барсуках отзывчивый, простой… а пасека как? Ее-то в последние годы я обирала.
И еще огород… бабке тяжко с ним…
Вновь тоска скрутила, и такая, что хоть бросай все да сама беги с письмецом этим. А то и вовсе возвертайся домой. Небось, там немногим хужей, чем в столице.
Всхлипнула я, мазнула по глазам, стирая слезы.
Нет уж, коль вернусь, то бабка самолично меня за косы оттаскает за глупство девичье. И права будет. Вот найду себе жениха, и тогда…
А еще скажи, будь ласкова, дядьке Витольду, что на Поприщах мы были, и нету там коров по три рубля, разве что вовсе заморенная. А есть по семь и по десять. И еще дороже, но редкое заморское породы. Красивые. Рудой масти, с мордами белеными, с боками крутыми, а вымя у них до самое земли свисает. И небось с той коровы молоко само льется, доить не надобно. Да только и ядуть они один клевер и еще муку.
Видала тако ж пряжу, как у Матюковой, только похужей, неровную, но крашену в красный и синий колеры. То по семь копеек за пук. Пяльцы же всякие есть, что махонькие, что огроменные, каковые на специательну механизму крепять.
Дядьке же Саврасу передай, что тарелков всяких в столицах имеется, а не токмо глиняные. Но ежели и глиняные, то такой красоты, что с этой тарелки одно по красным дням снедать да перед людями особыми на стол ставить. Небось, у боярыни нашей такие от, размалеванные синими петухами. Есть и с ружами, и с серебрением, а иные и вовсе — золотыми узорами расписаны, что глаз не отвесть. А на рынку видала ж из шкла посуд и из парпору. Энто такая материала, навроде глины, только беленькая и посуд из нее тонюсенький-тонюсенький, вся чашка напросвет видна. И сама-то крохотулечка, будто для младенчика сделанная. А пьют из оных чашков кофий — сие напиток азарский, ныне дюже моднючий. Он черен, что деготь, но пожиже. Горький — сил нету, оттого и заедают его всякоразными сластями, тож азарскими.
В дверь постучали, и я с преогромною радостью отложила перо. Все ж таки тяжкое это дело — писать родному человеку, да заодно всему селу. Вспомнилось, что так и не глянула для старостихи кур, чтоб не рябые, а белые, без малейшего черного перышка. И для деда Архипа — табак надобен, ему писать придется много, конкретне, хотя в табаках я вовсе не разбиралася. Манюшка, подруженька моя малолетняя, про нитки спрашивала, чтоб лазоревого чистого колеру. Она у нас вышивальщица знатная, за нею многие бабы приглядывают, ждут, когда в невестин возраст войдет…
— Зослава? — Арей никогда-то не входил сам, пусть бы и было на то ему мое дозволение. Он стучал и ждал, пока открою.
Вежливый.
С того нашего разговору минуло две седмицы, однако же Арей от своих слов не отступился.
— Туточки я! — Я скоренько огладила волосы, каковые имели обыкновение растрепываться при работе, хотя ж бы и была сия работа исключительно умственного свойства.
— Зослава! — с упреком произнес Арей.
И поклонился этак хитро, не то поклоном, не то кивком. Но хорошо у него выходило. А мне, стало быть, отвечать ему, приседая, будто бы сама я боярского роду.
Приседать выходило плохо.
Зад оттопыривался, а колени норовили в боки разъехаться. И пыхтела я от натуги, краснела, а надобно, чтобы сия экзерсиса исполнялась легко, без принуждения.
— Нельзя говорить «туточки». — Арей подал руку, помогая подняться с этой присядки.
— А как можно? — удивилась я. — Здеся?
— И «здеся» нельзя. Надо говорить — «я дома». А лучше ничего не говорить. — Он нахмурился.
И вздохнул.
И я тоже вздохнула, потому как тяжкое это дело — боярская наука.
— Что ж, сударыня Зослава. — Арей покосился на мои руки, и я глянула, охнула — успела-таки чернилами изгваздюкаться — да спрятала за спину. — Не желаете ли совершить променаду?
— Чего?
— Прогуляться… на женихов потенциальных посмотреть.
На женихов смотреть я завсегда готова! Только руки оботру…
…а еще, дорогая моя бабушка, учуся я всяким полезным наукам. Как ходить красиво, павою, будто бы барыня нашая. Как говорить, чтоб правильно. Как улыбаться. И прочим этикетам, поелику сказано мне было, что ноне невеста не токмо собою хороша быть должна, но и кругом благолепна, иначе будет ея супругу опосля большое неуважение.
Это я уже мысленно добавила к письмецу, решив, что, как вернуся, то и напишу, и про этикеты, и про женихов… и про Арея, быть может.
Он же вел меня не к воротам, а к башне часовой. Сказал только:
— Оттуда видней будет.
Может, и правда, потому как спешили к воротам Акадэмии, верно, все девки, какие только были. И главное, принарядилися невмочно: кто по пять платьев надел, кто по семь. И все-то вразлет, с шитьем да узорами, одно другого краше. Кто шапочку бисерну на ходу поправляет, кто монистою звенит, перстнями слепит… лица набеленные, щеки нарумяненные.
От красоты такой в глазах рябит.
А я-то, я, дуреха, в обычном платье вышла…
От мысли этакой, обидное, я остановилась. Не пойду. Вернуся. Письмецо вот допишу, а с женихами… завтра, как занятия начнут, так и познакомлюся.
— Зослава? — Арей нахмурился.
— Да я… как-то вот…
Мимо проплыла боярыня Велимира, дочь посадного князя Раждовенского, девица статная, собою хорошая, а ныне и наряженная так, что от блеска камней на парадном ея платье глаза слепило. Меня она одарила презрительным взглядом, под которым я мигом ощутила свою бедность, и скудность, и вовсе ничтожность. Тоже, решила мужичка в люди вылезти… небось, такой, как я, не по садам Акадэмии разгуливать надобно, а сидеть смирнехонько на лавке, а то и под лавкой, радуясь, что вовсе допустили ее к этакому-то месту.
— Не думай о дурном, Зослана, — сказал Арей. — Никто тебя не увидит. А ты поглядишь… приглядишься, кто тебе по нраву. С Часовой башни оно сподручно.
ГЛАВА 12 О Часовой башне и иных строениях академических
Его правда.
Башня сия стояла аккурат перед воротами, была невысокою, пузатою, с плоскою крышей и огроменными бронзовыми часами, везли которые с самое Аустрии да на сотне подвод, а после уж мастеровые и собирали их туточки.
Я-то еще в первый день ходила к башне, полюбоваться на этакое-то диво, а вот написать про него не сподобилася, потому как, пиши иль нет, а не поверят в Барсуках.
Цифирьблат их в поперечнике сажени этак на три будет, а то и на четыре. Сам из бронзы царское, а цифири, каждая с аршин, золоченые.
Стрелки кружевные ползут.
А как доползают до полудня, так и отзываются на то часы боем колокольным, разноголосым.
Благолепие!
Арей же к этому благолепию был равнодушен, верно, попривык уже. Он обошел башню стороною и отворил дверцу, которая взялась, а откудова взялась — непонятно.
— Чары тут, — пояснил он, — чтоб не лазили, кому ни попадя.
Во внутрях башни было темно да пыльно, и огненный шар на ладони Арея темноту кое-как разгонял, правда, при том шкворчал, как кабаний бок на сковородке.
И паленым пахло.
— Давненько тут не был, — Арей смахнул узорчатую паутину. — Заросло все… ты мышей не боишься?
— Не боюся… и крысюков не боюся.
— А кого боишься?
Я подумала и… призналась:
— Лягух. Склизкие они…
— Лягух тут точно нет…
И то ладно, не то чтоб я сильно уж боялась, верещать бы, как наши девки, мыша завидев, верещат, я б точно не стала, но вот… есть в лягухах нечто мерзотное, от чего меня всю аж перетрясывает.
Мы поднимались.
Узкая лестница приклеилась к стене и гляделась ненадежною, но Арей ступал смело, а мне не хотелось признаваться еще и в том, что я отродяся на этакую верхотурину не поднималася. В Барсуках-то, небось, выше старостиного дому, построенного дивно, в два поверху, зданиев нетушки.
Арей все идеть, а мне и остается только, что следом.
Ступени скрипять.
Лестница проседает. Того и гляди сверзнемся, небось, не птахи Божинины, крыльцев немаймо, чтоб взлететь… больно будет.
Я покосилась вниз.
Темень глухая, и в ней что-то ворочается, вздыхает, ухает… меня такая жуть пробрала, куда там лягухам! Дай Божиня милости хоть шажок сделать, а то ж Арей вона уже далече, и шар его шкворчащий искоркою малой виднеется. Этак я и остануся одна, впотьмах, дура дурою… думаю так про себя, а все одно сил нет никаких, чтоб ноженьку поднять.
Коленки трясутся.
Коса и вовсе ходуном ходит. Но ничего, губу закусила, велев себе думать не про лестницу энту, а про женихов. Небось, пока я тут на страдания исхожу, всех поразбирают. Верно, мысля была правильной, потому как попустило. Только сердце в грудях ухало тяжко, куда там часам акадэмическим.
За Ареем едва ль не бегом кинулась.
Догнала.
Еле удержалась, чтоб за рукав не схватить… чинно пошла, не павою, конечно, но утицей так точно.
Он оглянулся.
— Уже почти пришли.
Рукой перед собою провел, и еще одна дверца возникла.
— Я тут часто бывал прежде… за часами приглядывал. И просто так. Тихое место. Спокойное…
Он сказал бы что-то еще, но осекся, спохватился, что и без того чересчур уж много поведал. А я не стала вопросами мучить.
Захочет — сам откроется.
— Прошу вас, сударыня Зослава. — Арей вновь поклонился и, ручку крендельком скрутив, подал. Я и уцепилась.
В дверцу энту, из которой сквозило прилично, входила бочком, с опаскою, и не зря: вывела, коварная, на балкону.
Ох ты ж, Божиня милосердная!
Я балконы этакие только со стороны и видала, туточки, в столице. Красивые… если снизу глядеть. Этакие беленькие, чистенькие, аккуратные, что ласточкины гнезда. На иных еще и кветки росли, для пущей глазам отрады, но вот что люди на балконах стоят — так это…
— Не бойся. — Арей положил мою ладонь на оградку, которая показалась мне еще более ненадежною, чем давешняя лестница. — Он крепкий. И не так уж тут высоко…
Для него, привычного, может, и не высоко, а как по мне… дух заняло. Сердце обмерло, ухнуло в самые пятки, а пятки от того ледяными сделались. И тело в жар бросило, как в баньке, а опосля в холод.
— Зослава… если хочешь, можем уйти. Извини, я не знал, что…
Я покачала головою. Нет уж, не для того я подвиг совершала, в выси нечеловеческие поднимаясь, чтоб тепериче попросту взять и уйти.
— Где? — просипела, губы облизав.
— Что «где»? — не понял Арей.
— Женихи где? Сам говорил, глядеть будьма…
— А… — Он рассмеялся. А хорошо смеется, бабка моя говорит, что душа человеческая, она не только в глазах обретается, она и в слезах себя кажет, и в веселье. Оттого и веселятся люди по-разному, и горюют кажный на свой лад. — Будем, Зося… всенепременно будем глядеть на твоих женихов. Но еще, видать, не подъехали.
— Ты откудова знаешь?
— Откуда, — поправил меня Арей. — А знаю, потому как ворот не открывали. Сама услышишь… пока попробуй оглядеться.
Попробую, чего уж тут. Раз вперлась на башню, то надобно притерпеться, авось и выйдет.
Глядела поначалу с немалой опаской, боясь и голову повернуть, не то чтоб самой. Да только балкончик не спешил рушиться, а вокруг же… красота…
Прямо под балконом — дорога мощеная широким полотнищем легла, от самых от ворот да и до центрального здания Акадэмии. Оно-то, беломраморное, о многих поверхах, было мне знакомо. Однако же и ныне из башни гляделось иначе.
И мужик с коньми, который не просто так стоял, а аллюзией власти человеческой над души страстями, махоньким гляделся, несурьезным. Про аллюзию мне Арей поведал. Он-то премудрых словесей множество знал. Оно сразу видно, что при книгах человек обретался, вот и налипла к нему премудрость всякая.
— Строили его по проекту одного венецианца…
— Кого?
— Мастера, чужеземца… говорят, его в те времена в полон взяли, рабом сделали. Да только хозяин, когда понял, кто к нему попал, отпустил на волю и еще денег дал, чтоб, значит, мастер домой добрался. А он в благодарность проект нарисовал, по которому Акадэмию и построили. Хозяин, боярин Вышко Глузный, тогдашнего царя брат младший, первым ректором и стал. Он и устав создал. Оттого и есть там слова, что на землях Акадэмии все меж собою равны.
Сказал Арей и усмехнулся этак кривовато. И верно ведь, написать-то легко, а поди ж ты сделай так, чтоб столбовая дворянка чернавку ровней себе признала.
Но глядела я на Акадэмию.
Любовалась.
И на девок, что вдоль дороги ходили, прогуливались. Сверху-то они вроде и крохотные, что ляльки деревянные, которых дед Микей на ярмарку режет. Правда, его-то старуха в простенькие платьица лялек тех рядит, а энти… и издали сияют золотом, серебром боярские роскошные наряды.
И где мне на них ровняться-то?
Да и сами девки хороши… красуются друг перед дружкою, раскланиваются вежливо… аккурат как наши, деревенские, перед хороводом.
Но Арей на девок поглазеть не позволил, тронул за руку и, указав куда-то, спросил:
— Вот там, левее, видишь?
Вижу, сие здание обыкновенное, конечно, для столицы. В Барсуках, небось, ничего подобного нетути.
— А еще левее…
Сад предивный. В него я тоже заглянуть пыталась, да только сад тот оградою обнесен был. А в ворота никого не пускали. Сверху-то видать, но мало: забор и дерева, что над забором высятся, да только не разобрать, то яблони, груши аль сливы. Хотя, может статься, и вовсе некие диковинные, названиев которым я ведать не ведаю, знать не знаю.
— Насмотришься еще, как практика подойдет. Теперь направо, — Арей развернул меня в другую сторону. — По стене…
Стена вилась змеею каменной да огибала некрасивое плоское строение, будто бы вдавленное в землю. И ежели б не камень, из которого сложено оно было, земля б вовсе его проглотила.
— Там некромантусы учатся. Мертвецкая у них. Лаборатории. Не самое приятное местечко. Говорят, прямо из подземелья ход имеется на городское кладбище…
— Жуть. — Я коснулась лба, призывая Божиню очистить меня и от этакого, пусть и далекого, но все ж присутствия тьмы. — А нашто им на кладбище?
— Так ведь трупы постоянно нужны. Конечно, от города отписывают. Когда бедняков, которых хоронить не за что, рабов опять же… — Он помрачнел и тихо добавил: — Особенно когда старые становятся или калечные. Зачем кормить лишний рот, когда продать можно?
— Живыми?
Божиня милосердная!
— Живых Акадэмия не покупает, но… довести человека до смерти не так уж сложно.
Его правда.
Вспомнился вдруг старик-приблудыш, прибившийся в Барсуки позатою зимой. Был он худ, волохат и бледен, людей дичился, поселился в раскопе под корнями старое сосны. Там и жил. Наши-то, барсуковские детишки ему хлеб таскали, а старик им глиняные свистульки лепил.
Беглый ли?
Наверняка. Да только такого искать не станут. Но все одно прятался… и зиму хотел в том же раскопе пересидеть, только староста наш силою вытащил.
В дом отвел.
Отмыть велел, причесать, одежонки дал какой-никакой, а после посадил со старухами, небось, мелкое работы в хозяйстве завсегда хватит. И жил старик, до самое весны дотянул, даже мяса на костях прибавил, а все одно сгубила его лихоманка.
Бабка сказала, оттого, что слабый.
А еще сказала, что не такой уж старый он, четыре десятка годочков, перетруженный просто. И ежели так, то много ли ему надо было?
Всяк хозяин волен над рабом своим, так человеческая Правда глаголе, а вот Божинина о милосердии говорит. Но только далеко до Богов, люди, чай, ближе.
Не успела я додумать, потому как раздался протяжный сиплый звук, будто бы кто-то грубит в рог преогромный. От звука ли этого аль сам по себе, ветер поднялся, плеснул в лицо духмяною цветочною волной.
— Вот и женихи твои едут, — нарочито веселым голосом произнес Арей. — Теперь гляди…
А поглядеть было на что!
ГЛАВА 13, где Зося знакомится-таки с женихами, правда они об этом не ведают
Рожки гудели.
Гремели барабаны. Золотом червленым стяги отливали. Ступали нога в ногу царские стрельцы в алых кафтанах, поясами широкими подвязанных. Все, что один, высоки, бородаты, бердыши на плечах несут, да до того острые, что солнечный свет режут, тот и падает да под ноги ковром преудивительным.
Девки охают.
Ахают.
Теснят друг дружку, позабывши про гонор боярский. Кажной охота поближе подойти, поглазеть, что на стрельцов, что на царевича, пусть бы и твердил Арей, будто бы спрячут, а все одно. Да и без царевича молодцев хватало.
Только стрельцы вдоль дороженьки выстроились, перекрестили бердыши, девок не пуская.
А там уж и рынды царские пошли, в белое ряженые. И тоже высоки, грозны. У них кафтаны с позолотою, заместо бердышей — палки особые, гладенькие. И вроде смех, а не оружие, да только слыхать и мне доводилось, что палки эти зачарованные, они и доспеху пробьют, и стену каменную, а мечи и вовсе об них ломаются, будто былье.
На рынд я загляделась.
Справные молодцы.
И лица бреют гладенько, на норвинский манер…
— Не туда смотришь. — Арей не дал подумать, бреют ли рынды и головы, как о том говорят, а ежели бреют, то на кой ляд? Небось, лысой голове неудобственно. Летом солнышко ея жарит, а зимою морозы студят… хотя оно под шапками и не видать, авось, врут люди. — Вот, смотри…
Первым в воротах показался вороной жеребец.
А и ладный конь! Этаких на шкатулках малюют. Ноги тонюсенькие, шея гнутая, голова махонькая. Грива до самых копыт спускается, а в ней, черной, золотые ленты поблескивают. Всадник тоже хорош, под стать коню. Сидит боком, поглядывает на девок свысока… сам в золотую чешую доспеха упрятанный… снял шелом, и охнула я.
Не только я.
Под шеломом, за личиною кованою, золоченой, не видать-то, что всадник — азарин. А как снял, то и ясно стало. Вона, лицо круглое, смуглое, будто бы копченый бок свиной. И лоснится-то, что маслом намазанное. Губы пухлые, вывернутые, а нос и вовсе по-девичьи курносый.
— Благородный байша Кирей-иль-Хасаим, — тихо произнес Арей, а после добавил: — Дядька мой.
— Родный?
— А как иначе? — Арей облокотился на перила.
Любопытно ему было?
Мне вот — любопытно, потому как не чаяла я в наших-то краях живого азарина узреть. Да еще не полонянина, вона, небось, полоняне на таких-то конях не ездят. А у самого волосья длинные, что грива конская, и масти такой же.
И с лентами.
— В последней войне многие полегли… азары не только в вашу сторону ходили, под рукой кагана сто земель и еще с полста лежали, а еще сто дань платили. Но у кагана врагов, что собак бродячих на городском пустыре. — Арей говорил спокойно, однако же взгляда не сводил с дядьки, который вовсе не выглядел дядькою, но был Ареевых лет, может, чутка старше.
Ишь, улыбается.
И клыков не прячет. Руку поднял, откинул копну темных волос, и стало видно, что не просто азарин, но из благородных. Вона, торчат изо лба рога темно-красные, загнутые.
Кто-то из девок, из тех, что послабей, завизжали, кто-то даже чувств лишился от страху этакого.
— Бунтовать стали… поначалу игоры, после и бхеи, а там и Волошия поднялась. А где бунты, там и смута… порезали кагана и всю семью его.
Арей отстранился, и не диво, потому как осадил вдруг азарин своего жеребчика да так, что, норовистый, тот свечою стал. Но не сбросить ему всадника, небось, не зря говорят, будто азары с седлом меж ног на свет родятся.
— И стал каганом мой дед. Он же с вашим царем и подписал вечный мир. А залогом отдал сына своего, единственного, который был… который тогда был, — уточнил Арей. — У азар много детей родятся, потому как жен берут себе столько, сколько прокормить способны. Теперь у меня дядьев не то семеро, не то восьмеро. Этот — девятый. Он с вашим царевичем рос. И вырос. И учиться будет…
Не понять было, рад Арей этакому известию аль не рад.
Азарин же держал коня и головою вертел.
Улыбка его исчезла, а лицо сделалось таким, что… сразу видно — не человек.
— Так ты, выходит…
— Раб я, Зослава. Беглый. И только. — Арей поднял волосы со лба, и я увидела два круглых пятна. — Что для людей, что для азар… ни один азарин, коль жив, не допустит такого позору. Скорей умрет, чем позволит.
Пятна были сухими.
— Кто…
— Отец. Решил, что этак я больше на людей походить буду. — Он отер лицо. — Извини… не думал, что так… нехорошо будет.
— Уйдем?
— А женихи?
— Насмотрюсь еще.
Арей лишь головой покачал и улыбнулся. Вымученно так улыбнулся.
— Я тебе сказал это, чтоб знала… Кирей меня за родню не признает. И потому, коль по нраву он придется, то… лучше держаться от меня стороной.
По нраву?
Азарин?
— Сын кагана. — Арей отстранился от перил и к двери даже попятился. — Ведьмак силы немалой, ежели пустили. И трон ему занять не позволят, да только… он и спрашивать не будет, ежели решит, что желает на белой кошме сидеть.
Азарин тронул коня, пуская широкою рысью. Разглядел, чего желал? Не понять по лицу-то.
— И жен у него пока нет ни одной, а значит, первою станешь. Главною. Сына родишь, так вовсе по левую руку сажать станет. Золотом осыплет, каменьями самоцветными…
Я головой покачала.
Каменья?
Как-нибудь и без каменьев проживу, небось, бабка меня не поймет, коль за азарина замуж пойду. Да и… нехорош он мне, темный, смуглявый, да еще с рогами.
— А вон боярин Лойко Жучень, — Арей указал на молодца, что сидел, подбоченясь. И вновь конь хорош — огроменный, копыта что миски — а всадник так того лучше. Этот лик за шеломом не прятал, оно и понятно, ни к чему.
Кругл боярин, белокож.
Волос золотом вьется, глаз синий сверкает, на девок поглядывая. И вправду, жук такой… небось, хоть дворянского роду, да своего не попустит. А девки, дуры, млеют, цветочки кидают под копыта коню.
— Единственный сын рязенского урядника, в котором ни батюшка, ни матушка души не чают. Говорят, что боец знатный, справный, а вот дару в нем еле-еле, но и того хватило, чтоб в царевичевы друзья пойти…
Наклонился вдруг боярин с седла, выхватил девицу, что прошмыгнула меж бердышами, да под свист, улюлюканье поднял в седло.
Поцеловал да прямиком в губы.
Срамота!
Нет, с этаким мужем жить — девок гонять… а еще и говорить станет, что раз боярского роду, то и закон ему не писан…
— Экая ты переборливая, — засмеялся Арей. — А вон, глянь, Илья Мирославич, царев родственник, но не из любимых. Батюшка его, на Круческую губерню поставленный, проворовался, а после и вовсе со смутьянами дружбу свел, через то головы-то и лишился. Боярыню в монастырь спровадили, грехи мужнины замаливать, девок — к царице на воспитание, а Илью — к царевичу в друзья…
— Откуда ты…
Арей будто и не услышал.
— Норову Илья тихого, не в отца пошел. И воевать не любит…
Конь под ним неплох, но не сказать, чтоб хорош, мышастое масти. Сидит боярин, глядит перед собою, но не понять — видит ли, разумеет, что вокруг. Лицо его худо и бледно, волосы пегие в хвост стянуты. Доспех простой…
— Книжная душа. Михаил Егорович говорит, что талант у него большой, и не к силе ведьмовской, но к ее пониманию, а это — ценней. Заклятье-то выучить любой может, но не любой заклятье составит… Илья из таких. Дальше — Игнат, братец мой…
Рыжий конь, всадник сидит подбоченясь, пытаясь походить и на азарина, и на Лойко, да только не хватает ему лихости, ловкости… и дивно мне было видеть в том боярине старого знакомца, которому глистов давече спровадить помогла. С тое-то поры не переменился, худляв и бледен, но в седле сидит крепко, за шабельку свою держится.
А с Ареем — ни малейшего сходства, видать, в боярыню пошел Игнат.
— Неплохой парень, хоть и балованный. Матушка его берегла… боялась, что сглазу, что оговору… уже потом, когда я… ушел, то и отправила к царевичу в друзья… решила, верно, что мстить стану.
— А ты станешь?
— Брату? — Он дернул плечом. — Ему-то за что? Он в бедах моих невиновный. Да и… никто, наверное, не виновный. Сложилось так. Судьба, значит. Но вон там, гляди…
Сразу трое.
Кони идут широким шагом, всадники красуются.
Кони вороные, упряжь с серебром, с колокольчиками зачарованными, коль звон их и на Часовой башне слыхать. Шеломы сверкают, кольчуги на булгарскую манеру, чешуею рыбьей…
— А этих не знаю. — Арей по всадникам скользнул равнодушным взглядом. — И тех тоже… из ближнее свиты, значит. И Зимовит серед них…
Глядела я, сугубо из любопытства бабьего, поелику как же ж так, не поглазеть-то при таком случае? Да только… конники-то с лица будто бы братья…
Но у царевича братов нет.
— А чего они… ну…
— А их царица нарочно выбирала, за сходство. И не просто выбирала, а из простых, из холопов, которые знают, что волею своею царице обязаны. Не только волей…
Холопы?
Не было ничего-то холопского в молодцах, что ехали по мощеной дороге. Все-то как один красавцы писаные, и сидят ровно, глядят смело. Этакие не станут ни спину гнуть, угодничая, ни шапку ломать. А плетью замахнешься, так и сами этою плетью выпорют.
— Верно думаешь, — сказал Арей, а я поежилась: уж больно догадливый он, этак и поверить недолго, что взаправду мысли читает. — Да только на то и расчет. Ничего-то у них за душою нет, кроме милости царской. Это для царевича они — сердечные друзья, а боярам — кость в горле. Вот не станет царевича, они мигом на плахе окажутся. Оттого и стерегут, оттого и верны, что псы цепные… и тайну царевичеву ни за деньги, ни за славу не выдадут.
— Хитро.
— Жизнь во дворце такая, что иначе никак. У вашего царя врагов не меньше, нежели у кагана. А детей вот…
И то верно, не оделила Божиня государя наследниками. Но про то говорить было не принято.
— Не станет царевича, тогда и под царем трон зашатается, — продолжил Арей, а я слушала.
Нехорошая то беседа, смутою отдает.
Услышь кто… но на счастье Ареево тихо было в Часовой башне, безлюдно.
— Вспомнят бояре, что иные рода и подревней царского будут… небось, те же Миславичи… или вот Велимиры батюшка… но у него самого сыновей нет, зато спит и видит, как бы дочку свою да на царский трон усадить. Только и царица не глупа-то, понимает, что сегодня он друг, а завтра, как наследник у дочери народится, то и нет. При малолетнем-то правителе стоять куда как сподручней. Оттого и не допустит царица к сыну Велимиру, а случай выпадет, так и вовсе на дружке царском оженит, из тех, которые холопы. Умная она женщина. Таких беречься надобно.
Сказал и замолчал, вниз глядючи.
И я глядела, хоть бы и пропала радость всякая, и замуж аж перехотелось.
ГЛАВА 14 Об Академии, учебе и берендеях
Встала я вновь засветло.
А что поделать? Привычка… туточки, конечно, нет надобности ни корову доить, ни кур выпускать, разлупила глаза и лежи, гляди в потолку, думай думы всякия… а думалось о разном. О курах, само собою, потому как бабка собиралась какую на яйцы садить и к курячьим подкинуть пару гусиных, у Аксамитихи взятых. И вот любопытственно мне было, высидит кура гусяток аль нет?
О корове вот тож думалось, с печалью, она-то у нас балованная, абы кого к себе не пустит… зато молоко такое жирное, что сливок — едва ль не с половину ведра. Ни у кого в Барсуках боле такой коровы нет… и что бабка с тем молоком делать станет? Она-то старенькая ужо, а там и сцедить надобно, и отстоять, и разлить, что киснуть на сметанку, что в масло взбивать… творог опять же, сыры.
Нет, дома работы много, не присядешь спозаранку.
А летом и огородик еще, куда только по холодку и выходить, поелику к полудню такая спякота стоит, что сорняк сам ложится. Тут же… тоска… и женихи еще эти, всю ночь снилися, покою не давали. То один сунется с колечком, то другой. И Лойко глазами подмигивает, мол, пойдем-ка, Зося, до сеновалу жениться, азарин скалится да рогами трясет, аккурат что старостин козел, редкостно дурного норову скотина… эх, надо было спросить у Арея, правду ль бают, что у азар хвост есть, махонький, навроде свинячьего… а если есть… глянуть бы одним глазочком…
Но думать надо было не о коровах и хвостах, но о том, что ныне — первый день моей учебы, и оттого боязно мне было, так боязно, что хоть под одеялом сховайся да и не выглядывай.
И в животе бурчало нехорошо так.
И вставать ужо надо было б, собираться… вона, и побудку прогудели.
А руки занемевшие, пальцы в косе путаются, гребень то и дело падает, а когда не падает, то вязнет в волосах, и дерет, и того и гляди все выдерет.
Одевалась я медленно.
Сбежать бы… куда мне в науки боярские лезти? Небось, не войдут в голову… а коль полезут, то и вылезут, повыветреются… захотелось девке в воителки… вот будет-то смеху всем.
А и пускай.
Подвязав рукава рубахи, я натянула сарафан, из тех, которые попроще, чуяло мое сердце, ныне придется мне тяжко… и Арей не заглянет.
Сам вчера сказал.
Не стоит мне с ним видеться… а оттого на сердце тяжко, будто бы предала… не поймут… не примут меня, коль стану с рабыничем дружбу водить. И замуж не выйду, а я ведь за-ради мужа сюда и ехала… и все ведь правильно он сказал, толково, как умел, только оттого и горше.
Шла я на учебу, будто бы на казню.
Благо, дорогу знала, Арей еще когда показал, велел запомнить. Не одна я шла, гуськом потянулись боярыни, одна другой краше. Вновь наряженные, с лицами белеными, с бровями сурьмяными, в каменьях да атласах. Были тут девки и попроще, купеческого звания, а то и вовсе простого, крестьянского, но те держались в стороночке, тихонечко и выглядели серыми да блеклыми. Меня они сторонились, будто бы боясь, на боярынь же глядели кто с завистью, кто с опаской. И верно, лучше уж на гадюку наступить, чем боярской дочери на подол платья, даром что подолы эти на византийскую манеру хвостами вытянулись, метут дорожки…
Вновь загудел рожок, поторапливая.
Да только не в боярской-то натуре спешить, собственную честь роняя. И девки простые не смеют поперек боярских дочек соваться, только шеи тянут, что гусыни, на двери отверстые поглядывая со страхом. А меня-то такая злость взяла… тоже мне, ученицы-знахарки этакие, ежели и видели кого болезного, то издали…
— Пропустите, — сказала я, раздвигая двух боярынь, которые от этакой наглости аж обомлели. — Не слышали? Рожок гудит. Еще дважды прогудит, а потом двери закроются.
Это я сама придумала.
Боярыни плечами пожали, небось, привыкли, что перед ними любая закрытая дверь по первому же стуку отворяется.
— Пустите… извольте поторопиться… в стороночку…
Ох, и тяжелы же дворянские девки, а вроде глянешь на такую, пущай и дебелая, но все одно — девка, но попробуй-ка тую девку подвинуть… и злятся, главное, шипят.
Словами нехорошими грозятся.
Карами многими.
А что кары? Я, может, к знаниям тороплюсь.
— Извините, — я говорила, как Арей учил, вот только без толку.
— Куда прешься, девка?! — Перед самым носом моим возникла рука с плетью.
Рука была боярская, Велимиры-красавицы, которая нынешним днем обрядилась в парчу златотканую, а на плечи еще, для пущей красоты, шубку соболью накинула.
На шее жемчуга.
И в ушах.
И лента ими же шита, а поверх ленты — шапочка крохотная, ко всему перышком заморской птицы украшенная. И хороша собою Велимира. Личико точеное, кожа сама бела, без белил, румянец ярок. Губа-малина, глаз синий, яркий, что небо… вот только злой премного.
— На занятия спешу, — ответила я, в глаза эти, пресиние, глядючи.
— Поперед меня?
Спросила так, что поневоле захотелось поклониться и до самое земли, а еще испросить прощения у боярыни-матушки за дерзость свою холопскую, что едино от дурного норова происходит.
Захотелось.
И расхотелось.
— Здесь все равны. — Я сама онемела от собственной этакой смелости. — По уставу.
— Равны? — Велимира плеточку в другую руку переложила.
Приподнялись брови ее, темные, вразлет, этаким ни сурьма не нужна, ни соболиный волос, которые иные хитроумные девки рыбьим клеем крепят, чтоб попышней бровь гляделась.
И отступить бы мне, покаяться, глядишь, и прощена была б, да только натура берендеева, упрямая.
— Студиозусы Акадэмии — есть лица, меж собой равные, невзирая на тое, каким званием и имуществом владеют они же или ближние им лица по-за стенами Акадэмии, — прочитала я наизусть.
А боярыня лишь рассмеялась.
— Бойкая холопка… равные… — И рученьку нежную убрала, с плеточкой. — Но иди, беги… глядишь, и вправду чему научат.
Как я отступила, то и добавила тихонечко, верно, думая, что не слышу:
— Ишь ты, чему здесь учат… небось, тятеньке любопытственно узнать будет, где смута в головах холопьих рождается…
Не стала я боярыне ничего говорить, но лишь шагу прибавила. Успела я к двери.
И за дверь.
И до классу своего, который туточки именовался на латинскую манеру аудиторией. Вошла и обомлела: огроменная комната. Пол малахитом узорчатым выложен, да так хитро, что в прозелени его видятся картины всякие, будто бы трава растет, и деревья, и птахи вьются, порхают с ветки на ветку. И золотые прожилочки змеями.
Стены — беломрамурные.
На стенах — картины, да не те, наспех малеванные, каковые ноне по кабакам вешают для благолепности облику, но с физиями мужей лобастых, сразу видно — учености немалой. И хмурятся оные мужи, взирают на меня неодобрительно, и чудится, подойди поближе, высунут руку из рамы, за косу цапнут и станут тягать, приговаривая:
— Чего творишь, девка шальная?
— Куда прешь, девка шальная! — сказали вдруг над самым ухом, и я шарахнулася под обидный гогот студиозусов. А набралося их приличне.
Тут тебе и молодцы вчерашние, что ноне выглядят попроще, доспеху сняли, коней на конюшню спровадили… ото и верно, к чему коням в Акадэмиях учиться? Сами в рубахах простеньких с виду, да только рубахи те, хоть и скроены обыкновенно, да не суконные — шелковые. И расшиты по вороту красной да зеленою нитью.
— Ты, девка, — вышел вперед Лойко, руки на грудях скрестил да одарил меня взглядом насмешливым, — заблудилась, верно. Тебе в пятую классу, к целительницам…
И хохотнул этак баском.
— Если хочешь, провожу, — сказал и за ручку взять попытался. А у самого-то глаза, что у Матрениного кота, когда он слоик со сметаною видит… э нет, не позволю я всяким тут меня за руки мацать. С этакими-то женихами ухо востро держать надобно. Сегодня он до классы проводит, а завтра — и до сеновалу, там же счезнет, что тень в полдень, будто бы и вовсе его не было.
— Лойко, отстань от девки, видишь, онемела, тебя узревши, — это уже дядька Ареев произнес.
По-нашенски он говорил чисто, оно и понятно, что царевичевы няньки навряд ли по-азарски балакали. А сам-то глянул и бровку приподнял этак, любопытствуя. Сення в белой же рубахе, как и прочие. Волосы темные свои в косу заплел, которая вышла толстенною, и девка позавидует.
— Холопка, — хмыкнул Лойко. — Они все боязливые. Не бойся, болезная, Кирейка девок не трогает… по принуждению не трогает. Но коль охота, то еще как потрогает…
И вновь засмеялся.
Весело ему, стало быть.
— Лойко, — окрикнул его Илья. — Прекрати. А вам, девушка, и вправду поспешить стоит, если не желаете опоздать.
И рученькой этак махнул на дверь, чтоб, если уж совсем я, болезная, растерялася, то поняла, куда мне итить надобно.
— Спасибо. — Я Илью поблагодарила, однако же с места не сдвинулась. — Я правильно пришла…
Лойко вновь засмеялся, громко так, обидно… ажно затрясся весь. А я от него отвернулася. Не хочу такого в мужья… кто над слабым смеется, тот перед сильным сам шею гнет. А на что мне супруг гнутый?
Огляделась.
И улыбнулася, Ареева братца завидевши. Стоит, бледненький, в стороночке, мнется.
— Добрего вам дня, господине, — сказала превежливо и присела, как Арей учил, может, не сильно справно вышло, но так я ж только учуся.
Он кивнул и побледнел пуще прежнего.
И за живот схватился.
А это нехороший признак, стало быть, не помогло мое зелье. Всегда ж помогало, а тут… может, в городах какие-то особо ядреные глисты водятся, которым и зелье-то особое готовить надобно? Вот я и поинтересовалась:
— Как ваши глисты поживают?
— С-спасибо, х-хорошо, — процедил тот сквозь зубы, и на щеках красные пятна полыхнули. — То есть плохо… то есть никак! Нет у меня глистов!
Игнат это выкрикнул и рученькой за пояс себя мацнул, да только шабли-то при нем не было. В Акадэмиях с оружием ходить неможно.
— И вообще, отстань от меня! — Он вовсе невежливо спиною ко мне повернулся, сказавши царевичевым дружкам: — Прицепилась, что репей! Глисты ей, видишь ли, повсюду мерещатся… блажная, небось.
Обидно стало.
Вот оно как… я ему от души чистое помочь желала, а он блажною меня… и главное, прочие-то посмеиваются, весело им, стало быть…
— Блажных тут нет, — сказал другой царевичев дружок, который серед прочих выделялся статью. — Блажные за воротами остались…
Договорить ему не позволили.
Вновь загудело, а после дверца и отворилась, не та, в которую я вошла, но другая, каковой до сего моменту будто бы и не было. И вошел в нее мужчина преогроменный, небось, и на ярмарках таких не водют, а там-то всякого люду довольно, я давече сама глазеть ходила на бородатую бабу и теля двухголовое. И тут вылупилась…
Страшен, матушка ты моя родная!
Высоченный. Широченный. И с бородою косматой, которая, правда, в косицы заплетена, и этак хитро-прехитро. С каждое косицы лента спускается, а на ней — звоночек золоченый.
Голова же лысая, обритая и маслом духмяным натертая, видать, для пущего блеску. Я-то сразу запах учуяла, остальные же… остальные тоже глазели, позабывши про чины и смелость. Небось, сам Лойко, до чего высок, а все одно и до плеча оного мужчины не дотянется.
И выряжен тот престранно, в ремни какие-то, будто бы некто, видать, с остатку ума решил взнуздать оного великана, и взнуздал, а запрячь забыл.
Ремни широкие.
На одних — ножи крепятся, на других — штукенции непонятные, блискучие. На плечах его — обручья железные. И на запястьях. А от обручья к обручью идет рисунок, змеи красные да зеленые, и так славно рисованы, что будто бы живые.
— Доброго дня, господа студиозусы, — гулким басом произнес человек и поклонился. Стало видно, что голова его не полностью обрита, но на самом затылке имеется крохотный хвостик, ленточкою перехваченный.
ГЛАВА 15 О наставниках и последствиях мужского шовинизма
— Доброго дня и вам, сударь… — выступил старшой из царевых людей.
— Наставник Архип Полуэктович. Судари остались за воротами. Я же буду вашим учителем… и куратором. А это значится, что коли у вас вопросы появятся или еще какая блажь в головы дурные взбредет, то я буду и отвечать… ну или разбор учинять, взыскивать наказание с невиновных, награждать непричастных.
А ступал-то он легонько, будто бы и не было в нем весу вовсе.
И ноги босые.
— Наставник Архип Полуэктович, — повторил он, глядя в светлые глаза царевичева человека, и тот взгляд выдержал, ответил:
— Елисей.
— Евстигней, — представился другой, на рубашке которого виднелись черные бусины.
— Егор.
— Ерема.
Этот был рыжеват и чубат, а на носу веснушки проступали.
— Емельян…
Хмурый, серьезный, и не по вкусу ему наставник Архип Полуэктович…
— Еська, — широко улыбнулся последний, самый худой изо всех. — Но можно и Холера Ясная, откликнуся…
Называли себя и остальные, на ком наставник Архип Полуэктович задерживал свой взгляд. И до меня черед дошел.
— Зослава, — сказала я, холодея.
А ну как погонит?
— Зослава, значит. — Он не спешил гнать, но вдруг оказался рядом, руку протяни и коснешься, что ремней, что змей застывших. Вона, как уставились на меня рисованными круглыми глазьями. — Что ж, Зослава… нелегко тебе придется.
— Так она, — подал голос Лойко, — что, с нами учиться будет?
— Будет, — согласился Архип Полуэктович.
— Она ж баба!
— Женщина.
— Да кто ей вообще позволил…
— А это не твоего ума дело, студиозус… — Рука наставника Архипа Полуэктовича оказалась тяжелою, и от затрещины Лойко пополам согнулся. — Твоего ума дело — учить, чего скажут. Молчать, пока иное не дозволено. И надеяться, что, когда дурь из тебя повыбьют, хоть что-то да останется.
Лойко засопел, голову потирая. Хотел ответить зло, но смолчал, видать, доходчиво объяснял Архип Полуэктович.
— Что ж, вот и славно, ежели больше вопросов и возражений нет…
— Простите, наставник, — вперед выступил Евстигней, поклонился со всею обходительностью. — Никто из нас не ставит под сомнение мудрость тех, кто создал Акадэмию, однако же понятно удивление моих… собратьев.
Запнулся.
И стало быть, не почитал Лойко за собрата, то ли дело Ерема с Еською, которому не терпелось прям так, что он аж на месте приплясывал.
— Непривычно нам видеть женщину там, где издревле обучались мужчины… и мы беспокоимся единственно о здоровье сударыни Зославы, которое эта учеба способна подорвать…
Он говорил бы еще много, но был остановлен рукою Архипа Полуэктовича, каковой, я смотрю, оную руку для вразумления студиозусов использовал, не чинясь.
— Умный, стало быть?
— Не мне судить о том, — с притворною покорностью ответил Евстигней.
— Умник… а раз ты таков умник, то скажи мне, кого видишь. — И подтолкнул ко мне.
Как подтолкнул… от этакого тычка в плечи Евстигней на ногах не устоял, полетел, да прямехонько в меня, головою ткнулся в груди…
Еська засмеялся, но под взглядом Архипа Полуэктовича смолк.
Евстигней же, покрасневши, сделавшись с лица один в один, что свекла вареная, все ж нашел в себе силы поклониться.
— Прошу простить мою неловкость, сударыня Зослава…
А мне чего?
Простила.
Мне грудей для хорошего человека не жалко.
— Ты не расшаркивайся там, — прогудел Архип Полуэктович, — чай не во дворце, а говори, чего видишь…
Евстигней покраснел пуще прежнего и в бусину черную вцепился.
Вот странный человек, кто ж черные-то носит? Синие от шьют, из фирусы-камня выточенные, чтоб здоров был тот, кто рубаху носит, чтоб не тронул его ни взгляд дурной, ни лихоманка, ни тоска дорожная. Желтые, бурштыновые, на светлое сердце. Крас ные, из гернат-камня, на силу телесную и крепость душевную. Малахитовые — для спокойных снов да пути легкого, а вот черные… черными бусами мораньи пути усыпаны, а ходят по ним — души заблукавшие, которым нет дороги в вырай.
— Девку… простите, девушку вижу. Лет двадцати…
— Семнадцати! — поправила я. Ишь, вздумал девке годы набавлять! Сами набегут, оглянуться не успеешь.
— Семнадцати… по платью судя, не дворянского роду и не купеческого… из простых, хотя и не холопка, те иначе держатся.
— Умник, — хмыкнул Архип Полуэктович. — А все одно дурак. Я тебя не про платье и не про звание спрашивал… вот, подумай, коль встретил бы ты этакую вот… девушку… да ночью на пустой улице, испугался бы?
— Я?
— Ты, ты, кто ж еще… ладно, со страхом это я слегка перегнул, но вот, скажем, стал бы ты опасаться…
— Девки?
Евстигней аж головою затряс, верно, не желая и представлять себе этакого, чтоб он да девки испужался…
— Значит, нет… и когда б решила она напасть, ты б всерьез не принял?
— Ну… нет… то есть, конечно, не принял бы…
— И дурак… Зося, ходь суда.
Я и подошла, еще не понимая, чего хочет от меня наставник. Ну да мне-то с наставниками прежде дела иметь не доводилося, наш жрец, который грамоте учил, не в счет, был он стар, туговат на одно ухо, а потому имел нехорошую привычку все переспрашивать.
И орал еще…
— Вот, Зося, возьми. — Он скрутил кукиш, но как-то так хитро, и перед самым моим носом возник дрын. Ну, не совсем чтоб дрын, палка гладенькая, длинная. — А ты, Евстигнеюшка, попробуй-ка ныне оружию у Зоси да отнять. Ты, Зослава, не чинись. Он у нас парень крепкий, так что, коль разойдется, то садани разок-другой…
Евстигней покосился на дрын с неодобрением.
Похоже, оружных девок ему встречать не приходилось, небось, на царское усадьбе девки были иного толку. Слыхала я, что для молодых бояр выбирают холопок, чтоб и с лица хороша, и норовом ласкова… по мне уж, лучше в поле пахать, чем на этакой службе.
— Вы не могли бы отдать мне палку? — поинтересовался Евстигней.
Дружки его захохотали, засвистели.
— Будем считать это первым пробным боем, — сказал Архип Полуэктович, руки на грудях скрестивши. Он на студиозусов взирал ласково, да только от той ласки у меня по хребту мурашки побежали.
— Нет, — ответила я Евстигнею и дрын к себе прижала.
Не отдам.
Он же, понявши, что выглядит преглупо — у девки и дрына не забрать! — в два шага подошел ко мне и в палку вцепился. Рванул на себя… крепко так рванул, будь у меня силы поменьше, выпустила б, да только недаром я в деда пошла.
Удержала дрына.
И Евстигнея в грудки пихнула, легонечко, как показалось, да только он на ногах не удержался, отлетел, как-то по-хитрому перекувыркнувшися, аккурат, что кошак лядащий, который с крыши сверзся.
И вновь на ноги вскочил.
Кинулся, уже не просто так, с прискоком, будто бы танцуя. Дружки свистели, хохотали… подбадривали, значится. А он то подходил, то отступал, к дрыну примеряясь, пока мне все это не надоело. Оружия? Глядишь, милостью Божини, и не покалечу царевичева дружка… он сам взвизгнул тоненько и кинулся вдруг в ноги, да только я дрыну поставить успела.
Ох и бухнулся он в него головою! Аж в руках у меня гудение случилось…
— Готов, — Архип Полуэктович подошел и ногою Евстигнея попинал, тот не шелохнулся даже. — Ну, кто у нас там еще герой?
— А ежели я? — выступил вперед азарин, осклабился широко. — Не забоится девица-красавица? Ах и хороша…
Этот не плясал, стлался змеем да по каменьям, говорил, нашептывал… моргнуть не успела, как он уже рядышком, едва ли не в шею дышит.
Приобнял по свойски.
Дрын из рук выкручивает. Экий быстрый… а еще приговаривает, что будто бы волосы мои шелковые… тьфу, срамота!
Я крутанулась, хорошо так крутанулась, как тем разом, когда Михейка, подпивши, стал меня на сеновалу звать, и отпихнула боярина. А чтоб не баловал, то и дрыном по плечам переехала.
— Готов! — Архип Полуэктович улыбался во весь рот. А зубы у него острые были, подпиленные, и глядеть-то на этакие страшно. — Лойко?
Этот попер прямо, что медведь-шатун, за что и получил по лбу…
— Хватит. — Представление надоело Архипу Полуэктовичу, а я только-только во вкус вошла. Когда еще доведется по боярским спинам да палкою постучать?
Арей вот оценил бы… и оценит, как расскажу.
Однако наставнику перечить я не посмела и дрын вернула. Еська помог подняться Евстигнею, который голову щупал, а на меня поглядывал недоверчиво, но без злости, что хорошо. Лойко был мрачен, а по азарину не понять, стоит, улыбается, подмигивает то левым глазом, то правым. Может, это у него нервическое? Бабка сказывала, что у людей благородного рождения случаются болезни, которые от великого ума идуть аль от души, зело нежное. Оттого и боятся глядеть боярыни на всякое уродство… а тут я и дрыном.
— А теперь что скажете? — поинтересовался Архип Полуэктович и на пол сел, на азарский манер, ноги скрестив.
Кирей примеру воспоследовал, приглашения не дожидаясь. И Елисей сел. Еська устроился рядом, но руки Евстигнеевой не выпустил, и его сесть заставил.
— Девка с дрыном, — весело ответил Еська, — это сила!
— Сила. И без дрына… мораль сего урока такова, что не след недооценивать противника. Любой, кто выйдет против вас, будь то девка аль старик, дитя горькое, заслуживает уважения.
Сидеть на полу было твердо.
Неудобно.
Да и чувствовала я себя дура дурой, даром что при сарафане. Однако же и стоять, когда все посели, было неприличественно.
— Это первое… а второе — к любому противнику следует отнестись не только с уважением, но и с вниманием. Вот ты, Евстигней, на платье глядел, а не на Зосю. Платье-то что? Сегодня — одно, завтра — другое… была холопкою, стала барыней.
Лойко хохотнул, до того нелепо прозвучали слова Архипа Полуэктовича, правда, тотчас примолк и затылок почухал, вспомнивши тяжкую наставникову ладонь.
— Верно, сменить повадку сложней, нежели платье, однако же можно при умении… но мы сегодня об ином. К слову, Евстигней, ты ошибся, Зослава у нас княжеского роду…
— Чего?
Евстигней аж на ноги вскочил, но тут же устыдился, сел, но на меня все одно поглядывал этак с недоверием.
— Другое дело, что князья, Евстигней, разными бывают… род ее батюшки, ежели мне память не изменяет, древний зело, хоть и не особо богатый… но не о том речь. Видишь, дважды ты уже ошибся…
Архип Полуэктович замолчал, а Евстигней понурился. Обидно ему, должно быть, стало, что в первый же день он себя этак показал, умником, да без особого ума.
— Все ошибаются. — Наставник был спокоен. — Но умный человек ошибку свою запомнит, научится на ней и более постарается не допускать. Дурак же упорствовать станет…
ГЛАВА 16 О берендеях
Хлопцы заворчали: кому охота дураком прослыть?
Переглядываются.
На меня косятся.
— Так, может, кто скажет мне, отчего княжну Зославу приняли на боевой факультет?
— Ну… — Лойко сунул руку в растрепавшиеся патлы и затылок поскреб. — С дрыном ловко управляется?
Архип Полуэктович усмехнулся.
— Она и без дрына с тобой… управится.
— Сударыня Зослава, — осторожно, с опаскою даже, начал Евстигней, — весьма сильна… даже для девушки ее… телосложения.
— Верно. Еще что?
— Здоровая она, — влез Еська.
— И это верно… а еще… — На ладони Архипа Полуэктовича вдруг распустился зеленый огонек, а после полетел прямо мне в лицо.
Еле руку выставить успела.
— Быстрая… — Кто это сказал, я не услышала. От огонька рука зудела, и так крепко, будто я ее в крапиву сунула.
— И устойчива к магическому воздействию, — завершил Архип Полуэктович. — Если вы обратили внимание, то мертвый огонь с нее попросту соскользнул.
Это попросту? Да у меня рука волдырями пошла! Белыми, крупными, а они чешутся, что просто силов нет терпеть!
— Спокойней, сударыня Зослава. — Холодный голос наставника остудил мой гнев. — Уж простите, но мне требовалась наглядная демонстрация. Дайте вашу руку.
И говорит аккурат как бабка моя, которой поди-ка ты, не подчинися. Руку я протянула с опаскою, но наставник огнями кидаться не стал, провел ладонью, прошептал словечко, и зуд унялся, а пузыри вовсе поблекли.
— Обратите внимание, господа студиозусы, всего-навсего легкий ожог… — Руку холодило, но наставник не спешил отпускать. — Тогда как обыкновенный человек… или азарин, который от человека не так уж сильно отличается, руку потерял бы… в лучшем случае, только руку.
Это он об чем?
Эта огонюшка меня без руки могла оставить?
— И еще одно… чувство юмора у берендеев отсутствует напрочь… но сей факт скорее является предостережением вам, судари. Надеюсь, вспомните о нем, когда вздумается вам пошутить над Зославой.
— У кого? — спросил Кирей, аж вперед подался, вперился в меня глазищами своими. А у самого-то, что бурштнын медовый сделались, желты да ясны.
И видится мне в них…
Да мало ли чего девке сущеглупой в боярских глазищах примерещиться может? От такого видения у меня и обережец есть, подкова махонькая, железная, дедом еще даренная. Он мне так и сказал: на, мол, Зося, носи. И как примерещится неладно, аль будет какой, особо мерещливый, зазывать куды, сулить цветочки-платочки и иные женские малые радости, то схвати подковку в кулачок, да и бей аккурат промеж глаз.
Иного слова наглый мужик не разумеет.
— Берендеи, — со вкусом повторил Архип Полуэктович. — Ну-ка, умник, скажи, кто таковы берендеи?
Евстигней плечи и расправил.
— Берендей — суть медведь, способный принимать по хотению своему человеческое обличье и в оном обличье жить. Берендеи сильны невмочно, а еще в жены берут человеческих женщин…
Лойко скривило.
Небось, представил моего деда медведем… а и зазря. Нет, тот медведем был, я сама видела, но берендея с обыкновенным лесным хозяином равнять не след. Того хозяина деду на один зуб…
— Коротко… слишком уж коротко и неправда. Верней, не вся правда. Берендей — не только медведь, способный человеком стать, скорее уж обе сущности его, в отличие от перевертыша, что лишь на полнолуние волком становится, равноценны. Он и медведь, и человек. И не по очереди, но сразу. Слышишь, Лойко?
— Слышу… слышу…
— Берендеев мало осталось. Говорят, что их Божиня поперед людей сотворила. Они — ее дети любимые, милостью обласканные. И коли течет в ком кровь берендеева, то будет за ним и удача, и богатство немалое. Обойдут его семью беды и напасти…
— Тогда почему их мало осталось? — не утерпел Илья.
— Хороший вопрос… а потому, что не уживется берендей с берендеихой. Норов у обоих крут. И обиду всякую, самую малую, долго помнят, порою годами. Оттого и жить предпочитают наособицу. И пару себе ищут меж обыкновенных людей. Ну или серед медведей.
— Ч-чего?
— Того, Илья, что слышал ты. — Архип Полуэктович усмехнулся. — Берендеихи-то ищут женихов себе под стать, чтоб сильны, могутны, а где такого среди людей взять? Вот и примеряют второе свое обличье. От того и родятся… ежели в первом колене, то еще берендеи, а вот второе и третье — медведи.
Потер подбородок и взгляд отвел.
— Эти медведи, берендеевой крови, опасны весьма. У них розум есть, не человеческий уже, но еще и не животный. Такой вот… коль мирно медведь живет, то нет от того беды. С людями порой ладит и неплохо. В иных-то краях их чтут, оставляют подношения. А медведь за то поля стережет и охотникам помогает, а они добычу делят. Но коль уродится зверь злой или, паче того, попробует человеческого мяса, то тогда и беда… ему иного уже и не надобно.
Тихо стало вдруг.
Так тихо, что услышала я, как в животе моем урчит… они про мясо заговорили, а у меня с рання самого ни росиночки маковой во рту не было. И от мяса я б не отказалась. Ладно, человеческое — байки это все, глупство, потому как знаю, что дед порою и говядиною брезговал, коль не выжарена она до хруста, а я бы съела котлеточку… аль просто тушеного, да с капусточкой, да с морквой…
— Эт-то… выходит… — от волнения, не иначе, Илья заикаться стал, — что б-берендеи… п-плодят людоедов?
— Люди тоже плодят немало такого, за что потом стыд берет. Но да… порой, коль есть подозрение, что завелася в округе берендеиха, что ищет она женихов, то и собирают охотничков, магов зовут, знахарей, всех, кого можно. Ищут логово, чтоб, значит… наверняка.
Горько вдруг стало.
И жалко тех женщин, которые, хоть в обличье медвежьем, а все бабы… и деток малых…
— Недобрый то обычай, — добавил Архип Полуэктович. — И царский указ нарушает, ибо все берендеи — под государевою личною рукой ходят…
Эк оно… а я и не знала.
Да только что людям, которые наособицу живут, указ царский? Они про него тож ведать не ведают, а коль и ведают, то одно дело — царь в столицах со своими, царскими заботами, и другое — людожор, который, быть может, через годок-другой объявится…
— Верно мыслишь, Зослава… указ этот не блюдут и блюсти не больно-то собираются. Это ж еще доказать надобно, что забитый медведь берендеевого роду был. Вот и почти не осталось ваших.
— Значит, и она… медведица? — Братец Ареев вытянул палец в мою сторону, а сам осторожненько так отполз. Неужто решил, что прямо туточки перекинусь да жрать начну?
Зря… я до еды дюже брезгливая.
— Берендеева внучка, — поправил Архип Полуэктович. — И к обороту способности не унаследовала. Значится, матушка ее не медведя в мужья взяла, но нашла человека, по силе ей равного.
Не был батюшка столь уж силен.
Мамка-то поболе могла… как мельницу ставили, то с дедом наравне валуны с дальнего поля таскала, да такие, что не каждая подвода утянет.
Архип же Полуэктович усмехнулся, видел он мои мысли, прям как Арей…
— Я не о той силе, которая телесная, речь веду, но об истинной, которая сила духа. А еще о том, что, несмотря на кровь берендееву, Зослава человек и человеком останется. Вот если встретит она другого кого, в ком такая же кровь, тогда, глядишь, и появится на свет берендей-перевертыш. Однако же на то шанс невелик.
— А если с человеком? — Илья склонил голову набок, сделавшись похожим на нашего петуха. Тот, гонорливый, будто бы и впрямь дворянское крови, любил от так на лавку забраться, усесться да глядеть на людей честных. Выбирал кого послабше и кидался под ноги с кукареканьем. И еще клювой своею, желтою, норовил ударить. Скверного норову тварюка, а бабка в нем души не чаяла.
Голосистый, мол.
— Если такой любопытный, то попробуй…
Илья разом покраснел.
— От человека человек и народится. Но будет он сильней обычных людей. И милостью Божини овеян. Кровь берендеева густая, долго держится, колена до двадцатого, а может, и того болей, не ослабевает. Оттого в прежние времена за честь было взять жену берендеевого роду в дом… правда, чтобы с такою женою управиться, сила надобна… души, — сказал Архип Полуэктович и усмехнулся. А после добавил: — Это я вам гишторию рассказал, а к завтрему вы мне подготовьте. Ты, Кирей, про то, откудова азары пошли и что в вас такого, что от обыкновенных людей отличает. Ты, Илья, про перевертышей… Евстигней…
Кажному досталось.
И мне в том числе.
— А тебе, Зослава, про малую домовую нежить, откуда берется, чем опасная и как вывести.
— А… где?
— В библиотеке, — не позволил договорить Архип Полуэктович. — Небось, там вас уже заждались.
Скривился Еська, проворчал:
— Опять библиотека…
— А ты что, студиозус, думал без библиотеки обойтись?
Ему бы смутиться, взгляд отвесть, но Еська, похоже, не из таких, недаром его Холерою прозвали. И туточки не растерялся, грудь выпятил и сказал так:
— Так мы ж боевой факультет, а не книжный!
И Лойко Жучень кивнул, хлопнул себя по бедрам, стало быть, тако же думал. Оно и ясно, куда витязю да славному в книгочеи?
— Боевой, значится, — хмыкнул Архип Полуэктович, на ноги подымаясь. И так у него ладно вышло, плавненько, что я только диву далась. Вот сидел, а вот уже и стоймя стоит, покачивается. — Ничего… навоюетесь еще. Успеется… от завтра и начнем.
Сказал и этак, с усмешечкой, на меня поглядел.
А что я? Я в воительницы не хочу… мне бы замуж.
ГЛАВА 17, где повествуется о тяжких студенческих буднях
— Зося, живей, живей! — Архип Полуэктович вновь возник из ниоткуда, чтоб на самое на ухо рявкнуть. — Что ты волочешься, как брюхатая корова… догоняй женихов…
И хохотнул этак весело…
А что, ему-то хорошо… стоит на дороженьке, камнем мощенной. Над собою парасолю раскрыл, норманскую придумку из палочек тонюсеньких, поверх которых шкура натянута. Дождь по этой шкуре тарабанит, скатывается, а сам наставник сухеньким остается.
Не то что я… нет, дождь — это полбеды, дождя я не боялася, небось, не сахарная, но вот…
— Живей, Зося! — И по заднице перетянул розгою, не больно, но обидно. — Задницу не оттопыривай!
Да как ее не оттопыришь, когда она сама?
…Шел к концу первый месяц моего учения.
Пролетел так, что и глазом моргнуть не успела… что оставил?
Тихую ненависть ко всему вокруг, от Архипа Полуэктовича с его прибауточками, розгою да умением появляться, когда кажется, что никого-то вокруг и нету, что самое оно, времечко, прилечь, присесть, дух перевесть, пока оный дух в теле еще держится.
Ненавидела я и женихов.
Оные не посмеивались, поелику и самим доставалось, но… ежели б не они, ноги моей в этой Акадэмии не было б… бабку ненавидела с задумкою ее… себя, девку сущеглупую, которая на уговоры поддалася… ректора нашего с речами льстивыми… эх, ежели б не он, была б я серед целительниц, ходила б по саду заветному утицей, травки перебирала б да с наставницею своею вела б беседы премудрые.
А тут…
Грязюка под ногами, грязюка под животом — пятый день кряду дождь идет, и дорогу нашую, по которой мы кажное утро бегаем, развезло так, что кобыла потонет, не то что человек.
Бревна вымокли, осклизлыми сделались, попробуй-ка зацепись… сення и Еська скатился в лужу, а он, даром что мелкий, зато верткий и цепкий, что пацук. Про иных и речи нет. Изгваздалися все, Кирей и тот растерял свою обычную веселость.
Сидит под навесом, нахохлившись, рожек коготком скребет.
А хвостов у них нету… про то он еще во второй день сказал. Нет, я не спрашивала, но задание у него такое было, про азар поведать.
Поведал.
Хорошо поведал… Архип Полуэктович его похвалил даже… тогда-то нам мнилось, что весь день, да что день — все дни учебы и пройдут в нашем энтом классе. А хотелось иного.
Дохотелись.
Эх…
Я пошла по узенькому бревнышку, перекинутому через ручей… вода в нем студеная, а бревнышко ныне скользкое невмочно, но ничего, справлюся. Евстигней ноне с него сверзся и ругался при том так, что ажно Лойко заслушался, а его поди удиви руганью… я-то не все поняла…
— Живей, Зося, живей…
Архип Полуэктович сзаду идет, розгою помахивает, поторапливает, значит. А у меня желание зреет взять оное бревнышко да опустить на лысую макушку наставника. Вона как она поблескивает, будто бы маслом намасленная.
Но ручей я перешла. И овражец, грязью до краев заполненный, по камням перескочила. Стенка осталась, на которую подняться надобно, да тропа с кольями, ныне грязью прикрытыми.
…изучила я сию дорожку.
И не только я.
В первый-то раз еще на середине остановилась, решивши про себя, что пущай гонют, да только шагу больше не сделаю. Архип Полуэктович, глянувши на меня, грязью извазюканную, страшную, небось, только хохотнул:
— Что, Зося, тяжко тебе?
И мне бы согласиться, ан нет, натура моя, упертая, не позволила.
— Может, к прочим девкам пойдешь? — вкрадчивым голосом поинтересовался наставник. Я же головой мотнула, подол подняла и дальше побежала, кляня себя, что не послушалась Ареева совета… говорил же, что несподручно мне будет да в платье бегать, шальвары надобны… к домовому ежель обратиться, то принесет.
Положена студиозусам форма.
Вона, остальным выдали… а я… не добегла я до конца дорожки — доползла… гордость едино не позволила на нее рухнуть. И прямо глядеть заставила, и, видать, было в моем взгляде что-то этакое, отчего Лойко Жучень смехом своим подавился.
— Веселишься, боярин? — ласково спросил Архип Полуэктович, из-за спины моей выступая. — Сам-то, небось, с юных-то лет при мече?
— Ага, — не стал отрицать Лойко.
— И боец, думаешь, знатный…
— Есть такое. — Он подбоченился.
— Вот… и потому полосу эту ты не пробежать — пролететь должен, что пташка на крылах… а после не дыхать заморено, но еще песню мне спеть.
— К-какую?
— О любви. А вы, судари, подпевайте…
Подпевать никто не спешил. Еська вздохнул только, тоненько, жалостливо и, присевши на пяточки, сказал:
— Заморите вы нас, Архип Полуэктович…
— Тю, — подивился наставник. — А что, тебя так заморить легко? Вона, погляди на Зосю…
Мне вот вовсе не хотелось, чтоб на меня глядели, пущай даже в целях воспитательных. Не чувствовала я в себе готовности примером стать.
— Она, небось, в жизни этак не бегала… а ничего, отдышалась… ну, почти отдышалась.
Его правда, в жизни не бегала… нет, бегать-то случалось, как тем разом, когда в соседней Переселке шорникова невестка до сроку разродиться пыталася, а нас с бабкою только на другой день и кликнули, все думали, сама управится девка — в теле была, сильная. Ребеночек же поперек встал, тогда мало-мало обоих не схоронили. Ох, бабка и злая была… едва не прокляла и шорника, и шорничиху с ея советами… тоже, придумала дите медом выманивать, чтоб на сладенькое полз.
Дура.
Так не о том я, а про другое. Тогда-то бабка меня бегмя пустила, сама-то она в годах, не могла ужо споро, а мне что, подол поднять, косу прибрать и через поле напрямки, всего-то версты две и было. Я-то тогда споро долетела, запыхалась только маленечко. Но на тех верстах ни стенок не было, ни ручеев, ни бревен осклизлых, по которым бежать с мешком на плечах надобно.
Ишь, удумали, полосу препятствий… то на животе ползи, то на спине.
Срам какой!
— Зося злится, — заметил Лойко Жучень и на всяк случай в стороночку отступил.
— Конечно, Зося злится. Но как позлится, так подумает, что все это, — Архип Полуэктович на дорожку махнул. А в ней-то верст пять будет… и как это я сумела-то? — исключительно для ее собственного блага. И для вашего в том числе…
Это как?
Значит, что в грязи-то я для своей пользы валялася?
Нет, я слыхала, будто бы есть грязи особенные, от которых здоровья прибывает, а есть такие, что и красоты добавить способные. Вона, девки в Дальний карьер за глиною ходят, мешают ее с травами да медом, лица мажут, говорят, что кожа белеет, мягчеет. Не знаю, не пробовала.
Потрогала свое лицо, убеждаясь, что не дюже оно помягчело.
— Боевой маг — это не только и не столько чародей, который способен одним взмахом руки войско вражие повергнуть, — продолжил Архип Полуэктович. Он говорил и расхаживал на пятачке вытоптанной земли, а мы стояли.
Слушали.
Еська и тот не вздыхал, не желая наставника перебить.
— Это прежде всего человек, способный сражаться не только обычною силой, но и магией… или, скорее, не только магией. Боевым магам часто случается попадать в ситуацию, когда собственно магия становится им недоступна. Скажем, исчерпает резерв… или попадет под блокирующее поле. Или опоят его, сил лишат… или просто надобно добраться до места, внимания не привлекая. А магия — она что камень, в воду кинутый, от которого круги идут. После научитесь круги эти слышать. Главное, что не всегда использовать ее уместно, да и возможно. И потому каждый маг должен быть способен постоять за себя сам.
— Так… я уже способен… — сказал Лойко.
— Да неужели? Ходь сюда… — Архип Полуэктович поманил пальчиком, а когда Лойко приблизился, то и оплеуху отвесил, да такую, что Жучень кувырком по траве покатился. — И на что ты, бестолочь, способен? На ногах не держишься.
— Так я…
— Так ты, — передразнил наставник. — Не можешь на удар ударом ответить? Ладно, тогда увернись. Отскочи. Или сделай, чтобы сила твоего соперника слабостью оказалась… много способов есть. Только вас одному учат, с мечом на мечника… кольчугой на кольчугу…
— И что не так?
— Шуму много. — Архип Полуэктович позволил Лойко подняться, а когда тот бросился на наставника, в стороночку скользнул да пинком подсобил… от того пинка Лойко вновь на травку-то да и возвернулся. — Благородно, конечно… зрелищно, да только подобное умение хорошо на ристалище выказывать. Война же иного требует.
— Чего? — поинтересовался Евстигней и руку боярину протянул.
— Выносливости. Удачи. И желания в живых остаться… и еще умения думать головой, куда и когда надобно лезть, а когда — оно и лишнее.
Сказано это было для Лойко, который пробурчал в ответ, что знать-то он знает, да вот знанием оным не всегда пользуется.
— А потому, судари студиозусы, будем в вас воспитывать… и силу, и выносливость, и умение… а с удачей, тут уж к Божине, каждому она своей дала…
Произнес так и ко мне повернулся.
— А ты, Зосенька, к заврему-то дню подыщи себе одежонку иную, а то оно, конечно, презабавно глядеть, как баба в сарафане по бревну бежит, да только тебе-то самой, небось, неудобственно…
И стыдно стало.
Так стыдно, что полыхнула я алой краской, от носа до самых до пят, благо, пят оных под подолом не сыскалось. Хихикнул Еська, вывернувшись из-под Евстигнеевой руки, рожу скорчил.
…от холера шалена!
С того дня и повелось, что вставали мы на зорьке, а ныне и до зорьки, поелику сказал Архип Полуэктович, что, дескать, день короче становится, а это еще не причина безделье бездельничать, и бегли на треклятую полосу, которая с каждым разом будто бы длиньше становилася.
И хитрей.
Вот точно помню, что вчерась на обходное тропке никаких ямин не было. Не за ночь же их намыло-то? Или все ж таки… в общем, бегали мы, бегали… прыгали… ползали по грязюке, а наползавшись вдосталь, мылися, благо работали мыльни и денно и нощно.
После завтрак был.
И учеба… учеба и снова учеба, которое, в отличие от дорожки, ни конца-то, ни краю… и в библиотке нас уже встречали как родных. А вечером вновь дорожка, на добрый сон, как Архип Полуэктович выражался.
Только со сном не выходило: после ужина, когда страсть до чего хотелося лечь и не шевелиться, заявлялся Арей со своими этикетами. Мол, негоже боярыне, княжне цельной, да вести себя, будто бы чернавке… и что с того, что у оной боярыни кажную косточку ломит-крутит? А в голове ужо столько науки, что больше и не лезет…
— Ты, Зослава, — сказал как-то Арей, когда совсем уж мне невмочно стало, — конечно, можешь меня прогнать, и я уйду и не буду более тебя беспокоить, но разве ж тебе самой не хотелось бы боярыням этим показать, чего ты на самом деле стоишь?
Ох, и правду сказал.
Хотелось.
Еще как хотелось… каждый день — все больше… не то чтоб говорили мне обидное, нет, но… глядели… и ладно бы свысока, на то оне и боярские дочки, но с презрением, с отвращением даже, от которого самой мне становилось неудобственно, и поневоле начинала я за собою вину искать.
Не находила.
И, стиснувши зубы, учила еще и Ареевы премудрости, правда, сколь ни билася, а все одно не получалось ладно. И ходила я вразвалочку, и сидела, на поллавы развалясь, и руки растопыривала. В жизни не подумала б, что боярыням этак тяжко живется, и не дыхнешь-то лишний разок, каб чего не удумали. А уж до еды-то… Арей обмолвился, будто бы дочка боярская ест, аки пташка, там зернышко клюнет, сям медку пригубит и сыта, болезная… то-то, я и гляжу, что некоторые от этакой етьбы и бледны без белил. Где ж это видано, чтоб нормальный человек зернышком и медком сытый был?
Тут я с Ареем вошла в категорическую, как он выразился, оппозицию.
Нехай кони овес жруть, что пророщенный, по новое саксонское моде, которая велит девам есть лишь то, что росло, что обыкновенный, молотый. Я вот точно знаю, что у этаких диетических боярышень норов препаскудный… нет, ватрушка — лучшее девичье утешение.
А с леденцами и жизнь краше становится.
Арей, слушая мои этакие разговоры, лишь головою качал да усмехался, говорил, что я одна такая, мол, и те девки, которые из простых, уж мнят себя магичками, оттого и берут примеру с боярских дочерей… дуры, что ж тут скажешь?
В общем, так и училась.
С одежею моею и вовсе престранно вышло. В тот самый первый день, когда я еле-еле восперлась в комнатушку свою, чувствуя, как все тело прям-таки немеет и вот-вот растечется по кровати перебродившею опарой, в дверь постучали.
Вежливо так.
Как Арей делает, только чуть иначе.
Пришлось отворять.
На свою-то голову… за дверью стоял Кирей и, меня увидавши, поклонился, на нашу манеру, до самое земли, да еще рукою мазнул. Пришлось присесть, хотя ж ноги мои ноне этаких экзерцициев вытворять не желали.
— Доброго вечера вам, сударыня Зослава, — произнес Кирей и этак, с хитрецою, на меня воззрился, мол, чего скажу.
А чего сказать-то?
Была б бабка, взяла бы дрына да погнала охальника прочь, знал бы, как девок приличных в неурочный час беспокоить. Однако же занятия Ареевы не прошли даром.
Губы сами улыбку склеили.
И ласковенько так сказали:
— И вам доброго вечера, сударь Кирей.
— Кирей-ильбек, если вас не затруднит, сударыня Зослава…
Не затруднит, вот язык ныне у меня еще ворочается, ему что так произнесть, что этак…
— И чего надобно? — Верно, спрашивать следовало иначе, мне всегда вопросы тяжко давались, поелику от них Арей лишь вздыхал, а порой и лицо прикрывал руками, сидел так, опечаленный, задумчивый, а опосля объяснял, что да как говорить следовало.
— Не далее как вчера был я премного впечатлен вашею статью и красотой. — Кирей вновь поклонился, но уже иначе, видать, этак азары друг друга привечают. — И потому, сударыня Зослава, желал бы я выказать мое к вам безмерное уважение.
И сверток протянул.
— Что это?
— Подарок.
Экий шустрый… вчерась увидел, а сегодня ужо и с подарком. И вот как мне быть? Взять аль нет? Ежели не возьму, обидится… сам ноне рассказывал, какие азары горделивые да спесивые, и чуть чего — драться лезут. Устроит мне тут дуэлю, а я только-только в комнате порядки свои навела.
Взять… а не решит ли, что с того подарку я ему обязанною буду?
Нет, в Барсуках-то у нас всякие девки встречалися, были и такие, которые охотне подарки принимали, что от наших хлопцев, что от чужих, да только Зося Берендеева — не вертихвостка какая, которая всем улыбается, а никому в руки не дается…
— Нет, — я покачала головой. — Уж прости меня, Кирей-ильбек, однако же…
— Не спеши, сударыня Зослава. — Он рукой махнул, речь мою обрывая, будто нить. — Это от чистого сердца дар. И коль тяжко тебе будет просто принять его, то после отдаришься.
— Чем?
— А чем захочешь, — оскалился он, клыки показывая, и глаза этак ярко-ярко блеснули. — Я парень небалованный…
Ага, я так и поверила…
— …с меня и поцелуя доволи будет…
— А в лоб?
— Целовать в лоб? — Он нахмурился, а после рассмеялся. — Верно, ты, сударыня Зослава, не знаешь нашего обычая. В лоб мужчину лишь жена законная целовать может. Но ежели я тебе по нраву пришелся…
— Не целовать. — Я покачала головой: ишь чего удумали. Все-то у них не как у людей. — Дать в лоб. Могу. Дрыном.
Подумалось, что дрын мой остался у наставника.
— Или так… кулаком…
Кулак я ему показала. А что, знатный он у меня, мало меньше, чем у кузнеца нашего… мы с ним еще в том годе на кулачках мерились, так я победила.
Азарин же не испугался.
Расхохотался только.
— Веселая ты женщина, сударыня Зослава. Мало таких в вашей стороне…
— А в вашей?
Он пожал плечами:
— Не знаю, давно там не был. — И вновь поклонился. — Подарок возьми. Пригодится. А то не дело это, когда над товарищем смеются…
И только когда ушел, поняла я, о чем Кирей баил.
В свертке — не утерпела я, взяла, не оставлять же было подарок за порогом, да и любопытство меня мучило нещадно, хотелось узнать, что же там такого, — нашлись шальвары из ткани тонкое да прочное. Только у азар такая и есть. Видела, как на рынке подобною купец торговал, баил, будто бы сносу ей нету, в жару холодит, в холод греет… и сама-то красоты неописуемой, будто бы и красная, что маки, и тут же — рыжая, огненная, а вот иначе чуть повернешь — золотом солнечным отливает…
Стоит денег безумных.
А Кирей ее на шальвары.
И на рубаху с рукавами широкими, на завязках. А поверх рубахи да шальвар — безрукавка из оленьей мяконькой кожи… и сапожки еще… все-то новое, необмятое.
Дорогое — страсть.
Возвернуть бы надобно, но… как, не примеривши-то? Я и решила, что скоренько на себя прикину, авось еще не сядет, тогда и верну…
Не вернула.
Хотела… вот от сердца отрывая, хотела, ибо разумела, что за этакий подарок не скоро отдариться сумею, если сумею вовсе. А обязанною себя чувствовать — не люблю. И пусть хороши шальвары, свободны да лежат так, что сперва и не понять, шальвары то аль юбка хитрая. И пусть рубаха мягка, а жилетка — крепка, сапожек же и вовсе на ноге не чую, но…
Негоже девке да от случайного знакомца этакие подарки принимать.
Арей отговорил.
Ему и взгляда хватило, чтоб понять все. Я-то дареное не прятала, да и чего таиться-то? Он же глянул, дернул так плечом, будто свело его, и сказал:
— Кирей постарался?
— Отдам. — Мне вдруг стало стыдно: что обо мне подумают-то? Нет, что замуж мне охота, так я не скрываю, но вот чтоб прям так охота, чтобы за первого встречного, то нет…
— Не стоит.
— Почему?
Он руку протянул, будто бы желал шелк азарский пощупать, но не коснулся.
— Если женщина возвращает подарок, значит, мужчина не сумел ей угодить. Второй получишь. А потом третий… и так пока не примешь.
— Надо было сразу отказаться?
Арей плечами пожал, мол, может, и надо было, да только не его то дело.
— И как быть?
— Отдарись.
— Чем?
Нет у меня ни золота, ни даже серебра, ничего иного, годного в дар, чтоб равный был.
— А чем хочешь… вон, ленту для волос сплети.
И верно, волосы-то у Кирей-ильбека густые, черные, и ленты нынешние их не держат. А я знаю одну заговорку простенькую, которую девки барсуковские пользуют. Небось, больше не растреплется.
— Только… красного не вплетай.
— Почему?
— Красный — это невестин цвет… Синее дарят друзьям. Зеленое и желтое — близким друзьям или родне. Или побратимам еще… а вот красное — это или девице, которая по нраву пришлась, или жениху.
Нет… жениха мне такого не надобно.
Синяя, значит… а что, если лазоревым да по темно-синему узор вышить, оно и красиво выйдет, и со смыслом…
…две ленты, только вторую желтым да по синему. Может, Арей и не близкий друг мне, да только единственный, кого и вправду за друга почитаю.
— Арей…
— Да?
— А ильбек — это по-азарски «господин»?
— Наследник… он старший из сыновей. Только все одно не позволят ему на белую кошму сесть.
А он не отступится от своего… и жаль стало Кирея.
ГЛАВА 18 О хитростях медитации и некоторых последствиях
На меня плыл пирог… расстегай с рыбою… и небось, сальца подкопченного в рыбу кинули для жирности и аромату. Пирог не спешил, плыл медленно, поважно, будто бы ладья крутобокая. А река из квасу-то белого знай плескала волной на кисельный бережок. И от этакого зрелища невиданного в животе моем заурчало, напоминая, что завтрак был давно, а обеду стараниями наставника нашего мы пропустили.
От урчания я и проснулась.
Глаза разлепила, дабы аккурат перед собой узреть Архипа Полуэктовича, который присел на пол, подпер подбородок ручищей да и глядел на меня.
— Что, Зосенька, — поинтересовался этак ласково-ласково. — Не дается тебе медитация?
Я лишь вздохнула.
Ото ж… не дается… и кто этую мучению придумал? С дорожкою, вон, и то легше. Там все понятненько, бежишь себе, ногами грязюку месишь, скачешь по камушкам не то оленухой молодой, не то коровою, что белены объелась, — я подозревала, что второе мне ближе. А тут… сидишь, ноги скрутивши — у меня по первости от этакого скруту ныли страшно — и глаза закрывши, пытаешься отыскать в себе внутренний источник силы, а отыскавши, раскрыть его и достичь некоего внутреннего равновесия с собою.
Так Архип Полуэктович говорил. Прочие то ли понимали, то ли делали вид, что понимают, главное, не спорили. Оно и правильно, наставнику перечить — себе дороже. Вот и маялися.
В первые-то денечки еще по-божески было, сидели недолго, а ныне вот с самого утра… заместо лекций, аки сели, так и… я честно пыталась.
И глаза закрывала старательно.
И мысли всякие гнала, от которых в голове свербеж и беспокойство.
Правда, с мыслями не совсем чтобы получалось, верней, совсем не получалось… то одно в голову лезло, то другое… то беспокойствие за бабку, как она там? Получила ли письмецо мое? Я уже и другое писать начала… а ведь задождило, но то в столице, в Барсуках-то этакою порой обыкновенно сушь стоит… а вдруг и там развезло? Успели ли мужики сено убрать? А в нашем старом сарайчике крышу подправить надобно было, иначе сено это зимку не перележит. Чем тогда корову кормить?
Эти мысли прогонишь, так другие тут как тут.
Уговорил ли Ивашка родных посвататься к Марьянке? И ежели так, то что с приданым решили, с козою разнесчастною? И как оно у Бобыльчихи, которая вновь непраздною ходила. Разродилася ли? А ежели да, то мальчик аль вновь девка? За третью девку кряду, небось, свекровь ее со свету сживет… зловредная баба, а вот поди ж ты, пироги у нее самыми пышными на селе выходят.
— А знаешь почему? — продолжал допытываться Архип Полуэктович. — А потому, Зосенька, что не желаешь ты понять, что в медитации есть толк… Думаешь, что наставник тебе попался с придурью, перечить не перечишь, но и не стараешься.
И по лбу меня постучал, легонько, однако ж звук вышел гулким, будто бы и не голова у меня на плечах, но жбан глиняный.
— Стараюсь. — Я лоб потерла.
Уж до мозолей на заднице исстаралась вся, куда уж дальше-то!
— Плохо стараешься. Не так, Зося.
— А как?
— А это ты сама понять должна. — И усмехнулся этак хитро, аккурат как тот цыган, который в позапрошлым годе пытался бабке моей коровенку всучить, дескать, молочная зело, и не молоком — чистыми сливками доится, по три ведра на дню дает.
Сладкоголосый был… едва не окрутил.
— Иди, Зося, — вздохнул наставник, верно, по глазам моим понявши, что вновь одолели меня не те мысли. — Иди… и как найдешь в себе равновесие, так и возвращайся.
Сказал и глаза прикрыл.
Я некоторое время посидела еще, до сего-то дня меня с уроков не выгоняли, но после встала, небось, не курица, цыплянят не высижу.
Огляделась.
А хлопцы-то, хлопцы… все сидят со скучными мордами. Лойко, кажись, посапывает даже… а Игнат-боярин тайком бок себе чухает… и тоже не о высоком думает.
У Кирея же физия застывшая, будто каменная, по ней пойди пойми, спит он аль медитирует… Евстигней вот лик имеет возвышенный, хоть икону пиши в Божинин храм… а у Евсейки — напротив, задумчивый, аккурат как у нашего деда Звятко, когда он посеред поля присядет по великой нужде.
Еська ерзает да сквозь ресницы поглядывает, где да чего.
Емельян у дверей замер истуканом… а за месяцы-то эти похудел, с лица сбледнул, глядишь на такого, и сердце от жалости разрывается, так и тянет его, бедолажного, подкормить…
При мысли о еде в животе забурчало, и наставник нахмурился.
А что я? Я ничего… ухожу уже.
И дверцу за собою прикрою.
В столовой по неурочному часу было пустоватенько, что меня лишь порадовало. Не было ныне ни сил, ни желания видеть хоть кого-то. Вот на пироги, на те я поглядела с превеликою охотой, пусть бы и были они остывшими, а один — с почерствелою коркой.
Сразу вдруг вспомнилась и хата своя, родная, и бабка… мы-то пироги затевали частенько, и опару она самолично ставила в тихий теплый угол, прикрывала заговоренным полотенчиком, чтоб выходило после тесто мягким да крохким. А я уж с начинкою возилась… сейчас бы сюда тех пирогов, которые с брусникою, кисленькие… или вот с почками заячьими… или вовсе с дичиною, в которую я можжевеловую ягоду кладу для терпкости…
— Зослава, — от мыслей о высоком — пироги, чай, не какая-нибудь медитация, они сосредоточенности требуют, а туточки всякие да над ухом орут, полохают.
— Чего?
Я подняла взгляд на девицу в зеленом суконном платье, которое целительницам всем выдали, но носят их исключительно девицы простого сословия, кому родители не способны были сарафану нужного цвету справить. Девка была не то чтобы нехороша… хороша. Статна, кругла в меру, пока без бабьей рыхлости, к каковой ея фигура имела склонность. Но вот кожа темна, а руки, как у меня, грубы, хотя я своих не стесняюсь, а эта — за спиною прячет. И шею тянет, что гусыня, и голову дерет, глядит на меня сверху вниз, с презрением… так и захотелось за косу ее дернуть да поинтересоваться, чем же я душеньке ея не угодила-то?
— Тебя боярыня Велимира видеть желает, — произнесла девица сквозь зубы. И для пущей важности добавила: — Немедля.
— Немедленно.
— Что?
— Правильно говорить «немедленно». Или «сей же час», — вспомнилась вдруг ко времени Ареева наука. — Передай боярыне Велимире, что как трапезничать закончу, так и явлюся.
— Что?
Смуглявое лицо девки вытянулось, а на щеках румянец полыхнул.
— Боярыня Велимира…
— Обождет. — На меня вдруг снизошло такое спокойствие небывалое, какому надлежало бы явиться в зале для медитациев. Тогда, глядишь, и не погнал бы наставник. — А коль ей сильно невтерпеж, то пущай сама сюда придет…
— Да ты хоть понимаешь, холопка…
— Не холопка. — Тело мое сделалось легким, как и обещал наставник, невесомым почти, а где-то в груди, чуть пониже сердца, уголек засел, да такой горячий… но жар его не опалял, напротив, мне страсть до чего захотелось, чтоб уголек этот стал еще жарче.
Больше.
Он и стал.
Он вдруг разросся, расправил огненные крыла… и кровь моя перестала быть кровью, варом сделавшись, или даже не им, но подземным шалым огнем, который по лесным болотам гуляет, раскрываясь черными яминами…
Я сама была яминой.
И желала еды… не той, не человеческой… но и ее тоже. Коснулась пирогов — истлели, пополнивши силу моего жара. А затем истлела и миска… и стол занялся. Дымом запахло… кто-то заверещал тоненько, страшно, и мое пламя потянулось к голосу…
— Стой! — Меня перехватили, не позволив добраться. — Стой, Зослава…
Руки держали крепко.
И сами были горячи, сплетены из огня, но чужого. Я же знала откуда-то, что, ежель выпью это чужое пламя, то собственное мое взметнется до самых небес, а может, и выше, до чертогов Божининых.
Мне хотелось этого…
И я пила, тянула… задыхалась уже от жара.
— Зослава, послушай меня… это я, Арей… узнаешь?
Нет.
Лицо, из огня вылепленное, иное, не человеческое… как я вовсе могла его с человеком-то спутать? Люди слабые, никчемные, а в нем горит частица того, истинного пламени, которое пришло с изнанки мира. Оно мне нужно… нужней, чем ему…
— Сопротивляйся…
Зачем?
— Сопротивляйся, или сила тебя уничтожит.
Ложь!
Я и есть сила. Я и есть пламя, то самое, что, вырвавшись из печи, способно пройтись горячею волной что по лавкам, что по столам. Взметнуться, пусть и не до самых небес, но до крыши точно. И крышу поднять…
— Зослава!
Голос доносится издалека. Глупый-глупый человек, все же и человек тоже, потому как, будь он рожден подземным огнем, понял бы, поделился бы…
…скаредный.
И его огонь не желает становиться моим.
Больно!
И обидно… и снова больно, потому как я вот-вот сгорю… и тянусь, льну к нему, обнимаю уже не руками, но сонмами искр, что жалят пчелиным роем. А он терпит.
Принимает.
Боль сладка.
— Зослава, постарайся вернуться, слышишь?
Не хочу возвращаться.
Я танцую… иначе, чем девки, которые на летний перелом хороводы водят… пламени хороводы не нужны, а нужно…
— Зослава!
Я почти добралась, дотянулась, обвила змеем-полозом, приникла жадным ртом к нему, тому, который не желал делиться силой, жалел, как жалеют люди… ну и пусть… я бы забрала… сама бы забрала все, что мне надобно…
И глаза его видела, пережженные.
И страх в них. Он меня-нынешнюю лишь развеселил. Пускай… страх сладок, как еловая, просмоленная ветвь, что вспыхивает, лишь коснувшись короны костра.
— Зослава, не надо…
Он мог бежать, а не побежал.
И я остановилась.
Глядя в эти пережженные глаза, остановилась.
Сама.
Что я творю?
Покачнулась… почти вернулась, ставши человеком, пусть пламя во мне ревело немым голосом, буде бы человек — слабая подлая тварь… и я смешна, если хочу такою остаться.
А в следующий миг между мной и Ареем выросла стена слепящего огня.
— Прекрати! — Я слышала голос, но не смела отвести взгляд от этого, нового пламени, которое было сильным, сильнее моего. И уже меня саму тянуло склониться.
Поддаться.
Стать частью чего-то, несоизмеримо большего.
Искра к искре… как то заповедано было от сотворения мира.
— Кирей, ты ее…
— Замолчи.
Голос-удар. И наваждение уходит, оставляя меня совершенно без сил. Наверное, я бы упала, да не позволили.
Подхватили.
Усадили.
— Куда ты полез, мальчишка!
Я смотрела.
Видела.
Понимала ли, что происходит? Навряд ли. В голове моей еще мешались что огонь колдовской, что голоса. И солнечный свет, невероятно яркий, от которого глаза слезились да появлялось желание вовсе спрятаться под лавку, прятал сожженную столовую.
Сожженную ли?
Все было как прежде… вот стена, расписанная березками… стол… и скатерть цела… пироги обуглились, но и только.
— Пей. — К губам поднесли стакан, я попыталась вывернуться, потому как огонь не любит воду, а я помнила, что еще недавно была огнем, но увернуться не позволили. — Пей. Так надо.
Евсей?
Евстигней?
Еська… всех назвали, спрятали одного меж многих… хитро, да как бы самих себя перехитрить не вышло… путается все, что нитки старые, которые клубками в бабкиной корзинке. Она мне шалю обещалась связать, чтобы кружевом, чтобы с цветами. Бабка-то моя — мастерица, каких поискать.
А в чашке — отвар травяной, горький. На вкус я различила мелиссу, чернокорень и еще бадьянов лист, который, судя по отвратному запаху, брали верно, на третью ночь после новолуния.
Мерзость.
Зато в голове прояснение наступает. И стыдно становится… до того стыдно, что…
— Как вы ее вообще выпустили? — Арей тут же, стоит, руку к носу прижавши, да только помогает слабо. Кровь идет, да какая-то… розовая, будто бы… и не только из носу, вон, из уха поползла.
— К целителям! — рявкнул Архип Полуэктович, и взгляд его был тяжел, до того тяжел, что желание спрятаться под лавкой сделалось почти неодолимым. — И после поговорим, гер-рой… проводите…
Никто не шелохнулся.
— Я сам, — Арей руку от лица отнял, но кровь полилась, что водица. — Я…
— Евстигней. Лойко…
На лице боярина появилась такая тоска смертная, что прямо жаль его, бедолажного, стало.
— Сам он… сам ты этакою манерою на погост отправишься, — проворчал Архип Полуэктович, но уже не зло, скорее устало. — Теперь ты…
Я вдруг поняла, что сижу не сама, держат меня.
Кирей держит.
И видать, что дается ему это немалым трудом, вон, побелел весь, а глаза и вовсе черными сделались, как то самое пламя…
— Отпусти.
— Но…
— Зося, ты слышишь меня?
— Да.
— И понимаешь, кто я?
— Понимаю. Как не понять. Чай, не блажная…
Еська засмеялся, тоненько так, нервически.
— А это, Зосенька, еще как поглядеть… блажные, оне побезопасней будут. Отпусти, Кирей. Видишь, вернулась она.
И азарин руки разжал, сам же покачнулся и, верно, когда б не плечо Евсеево, не устоял бы.
— Спасибо.
— Не за что, — хмыкнул Евсей. — Садись. И пей.
Плеснул в мою чашку из фляги да в руки Киреевы сунул.
— Что со мною было? — Стыдно глядеть наставнику в глаза, да только дед меня учил, что, коль натворила беды, то будь добра ответить.
— Сила в тебе, Зосенька, проснулась… — Архип Полуэктович потер глаза. — Не вини себя. Мой недогляд… пошли, Зосенька.
— Куда?
— Отдохнуть тебе надобно. Отлежаться денек-другой, пока сила не успокоится…
Хотела я ответить, что и без отдыха ладно будет, да… смолчала.
Не винить себя?
А кого тогда… это ж во мне огонь вдруг появился, и не ушел, тлеют угли, подернулись пеплом, но живые. Чую их. И тронь, дунь на такие, проснутся, брызнут живыми искрами, а то и вовсе полетят…
— Зослава! — Жесткий голос наставника заставил очнуться. — Нельзя спать, Зослава… сила сожрет.
ГЛАВА 19 О силе
Это уж потом узнала я, что сила в человеке, она что родник, камнем придавленный. У иных камень тяжел, а родник мал, и люди этакие полагают себя обыкновенными. Живут, как живется, о магии и не помышляют. У других и камень меньше, и родник живей, у таких-то сила нет-нет да просочится наружу… бывает, что к добру, бывает, что и ко злу.
Видать, из таких Жихариха наша, старуха пресклочная, которая и мужа свела в могилу, и сынов, не говоря уж о невестках, всех пережила, а ныне одна дни свои мучит. Да что там мучит, бродит по селу, ищет, с кем бы полаяться, потому как мирная жизнь ей крепко не по нраву. Жихарихи сторонятся. Глаз у нее недобрый, глянет искосу, с прищуром, сплюнет под ноги, а после что у молодухи волос полез, что на лице чирье повыскакивало, а младенчики кричать начинают, да так, что прям криком заходятся.
Сглазливая она.
Завидущая.
И молоко от нее-то киснет… то есть не от нее самой, но от силы ее, которая выход находит да, смешавшись с душою грязною, застоявшейся, что вода в старом озерце, на людей выплескивается. Оттого, приправленные силой этой, и сбываются Жихарихины пожелания.
Желала б добра, глядишь, и ей бы прибыло.
Так наставник говорил.
Со мною сидел, и день, и ночь, и снова день. Спать не давал, все говорил… или вот у меня выспрашивал… и снова говорил, а я слушала да старалась отрешиться от огня, который не спешил уходить.
— Черпанула ты у Арейки крепко. — Архип Полуэктович лишь головой покачал. — А он дурень, что полез… сила-то, когда на прорыв открывается, она дикая, бесконтрольная…
…у третьих людей камень не камень, так, малая преграда. А силы, так напротив, не родник — река цельная, подземная. У таких-то сила с младенческих лет на волю стремится, да только разум человеческий ее не пущает. Архип Полуэктович объяснял, что сие есть — исключительно для пользы собственной, человеческой. Что дитя малое с силой своею не управится, что, пусти ее разум, то и само дитя сгинет, и многих прихватит.
…хорошо говорил.
А я вот слушала.
И пыталась управиться со своею рекой… и что, что оная река огненная? У всех-то по-разному… у большинства-то открывается помалу, и сила сочится, ширит свое русло, прибывает день ото дня. Самое оно легкое тогда, что для наставника, что для человека. А бывает так, как у меня, когда подопрет под край, переполнит сосуд телесный, а следом и плотину разума перехлестнет, разметает по ниточке, по мыслям. И тогда уж от человека зависит, сумеет ли он силу свою обуздать.
— А если б… не сумела?
— Тогда б сгорела ты, Зослава. — Архип Полуэктович не стал добавлять, что не сумела я еще, что сидим мы в комнате с белыми ледяными стенами, которые будто бы оковы, не потому, что наказана я. Не наказание сие, но лишь попытка спасти девку неразумную, магичить вздумавшую.
— Арей…
— Вовремя вошел.
— С ним все…
— Оклемается. Арейка — парень крепкий…
— Я его могла убить?
Жутко от того, но… второй день сидим, и иные разговоры закончились. А спать мне нельзя, никак нельзя, потому как не проснусь.
— Могла. — Архип Полуэктович врать не врет. И спасибо ему за то. — Но не убила. Остановилась.
— Остановили. Огонь…
— Кирей.
— Наверное, я огонь видела.
— Это его собственная сила. Он у нас рано открылся. Хаотичный прорыв, как у тебя… для азар такое вовсе не характерно, но у него в крови крепко всего намешано. Видать, мать была из наших…
— Тогда почему он на азарина похож?
— А у них по отцу наследуется. — Архип Полуэктович сидел, прислонившись к белой стене. И как ему не холодно было? Я вот мерзла, хоть от стен держалась, но все одно чуяла, как тянет от них… морозные… этак, чуть расслабься, и насмерть заморозят. — У азар женщины редко родятся, оттого и ценность имеют большую. За невесту азарскую отцу золотом заплатят, каменьями самоцветными, а порой и тем, что золота дороже.
Это чем же?
Но слушала я Архипа Полуэктовича. Складно баял. А я сказки люблю, даром что выросла.
— И в новом доме ее примут ласково, окружат заботой, именовать станут «гюль-иши», сиречь «драгоценная дева». Азары верят, что в женщинах сберегается истинное пламя. И сыновья, рожденные от «драгоценной», будут сильней, здоровей, удачливей всех прочих… не спи, Зослава.
— Не сплю.
Холодно.
И огонь внутри меня почти погас. Правда, наставник уверил, что огонь этот больше никогда не погаснет, разве что случится мне совершить какое злодеяние, за которое буду наказана Ковеном, но на то лучше и в мыслях не загадывать. А так-то силу, что вырвалась, уже не загонишь обратно.
И в том свое счастие.
Вот пообвыкнусь я с нею и сама не захочу расставаться, потому как станет она мне и руками, и ногами, и сутью моею второю. Он-то знатно объяснял, а у меня-то этаких словей и нет.
Поверила.
— Как уже говорил, женщин своих у азар мало, вот и приходят за нашими. Мы-то им по крови чужие, но не столь чужие, чтоб детки вовсе не рождались. Правда, нашим женщинам особого почету нет. Их порой и за людей не считают.
Пожевал Архип Полуэктович губу и добавил:
— И не только азары. Азарин, небось, на мать своих детей руку не поднимет. Какого бы роду ни была, но уважать станут… и уж точно своих детей рабами не держат они.
— Заложниками только.
Не удержалась я, потому как по рассказу его выходило, что мы хуже азар. Где ж приятно такое слушать?
— Заложники — дело иное, дело чести… Ковен клятву давал, что не будут заложников этих мучить или позору предавать, что в дома иных бояр войдут они если не сыновьями, то всяко родичами. И учить их станут. И беречь…
— Их?
Мне-то представлялось, что Кирей один такой.
— Десятеро было поначалу.
— Было?
— Пять лет тому царь разрешил им домой воротиться… всем, кроме Кирея.
И вновь замолчал Архип Полуэктович, а мне вот подумалось, что сказка нонешняя уж больно печальною выходит.
Получается, рос Кирей ни своим, ни чужим.
Вырос и вновь… наследник, которому наследовать не дадут, остановят. Коль не по закону, не знаю уж, каковы законы у азар, то иным путем. А путь оный — в сырую землю ведет, по путям костяным, по дорожкам туманным.
И от мыслей таких зябко стало.
Надобно греться собственным огнем, да только жутко мне, потянусь, да не дотянусь… трону и отступлю, а ну как вновь вырвется дикое, шалое пламя.
— Но мы ж не о том, Зосенька. — Архип Полуэктович будто бы и не замечает, сказал, что сама я с собою управиться повинна, а как — тут каждому свое. Он лишь глядеть будет, чтоб не причинила я вреда ни себе, ни людям. — Мы про то, что от азарина и у простой девки азарин родится. А вот коль отцом человек, то и выходит кровь мешаная…
Вновь замолк.
Задумался.
— Странно, что ты да огнем открылась…
— А чем должна бы?
Околею. Божиня видит, что еще немного, и околею… помнится, одного года, я тогда еще мала была, неразумна, нашли за ближним леском покойника. Зимою-то шел, да, видать, заблудился в метель. Сказывали, что синим он был, а на лице — улыбка пресчастливая. К бабке тогда ходили, кланялися, чтоб глянула по-свойму, нет ли за тем покойником беды какой.
…на меня и глянуть некому будет.
Схоронят туточки, у оградки. Добре, ежели куста ракиты на могилку мою не пожалеют, а то и вовсе не станут маяться, затянут травушкой зеленою аль какими иными, пользительными, растениями-с.
И жалко себя стало, ажно до слез.
Где мои годы младые? Не пожила, на мир не поглядела… и ладно бы надобен мне этот мир, но ведь и вправду, не пожила… кто обо мне вспомнит? Кто всплакнет? Кто на ночь духов поделится сметанкою и хлеба куском?
— Зослава, — грозно произнес Архип Полуэктович, — прекращай дурить.
А разве ж то дурь?
— Вы только моей бабке отпишитеся, что померла Зослава…
— Сама и отпишись, — отмахнулся наставник.
— Что померла?
— Что живая… эх, Зослава, Зослава… значит, батька твой не из местных, говоришь, был… интересно. Огненная стихия редко выбирает женщин.
— Почему?
— Огонь — разрушитель. А женской сути разрушение противно. От Божини вы созидательницы…
Выходит, что я…
— Не набирай в голову. — Наставник не позволил додумать. — Огонь хорош для боевого мага, я просто удивлен… думал, на твой зов земля отзовется, берендеев род к ней близок. Аль вода… тут же огонь…
— И что мне с этим огнем делать-то? — проворчала я.
Не от недовольства, не осталось во мне недовольства, только усталость одна.
— Управляться.
— Как?
— Думай, Зослава. Слушай себя.
Вот же ж упертый человек! И человек ли… слушай себя… слушаю я… в животе вон вновь бурчит, и громко, только голода не чую ни капельки. Сердце бухает ровно. Дышу вот… и пятка свербит. Как свербящая пятка с огнем управиться поможет?
Никак.
Слушаю дальше… угли, которые под сердцем.
И само оно, горячее, живое…
Себя слушать… а кто я есть? Зослава… это имя… дед придумал, так мне сказали. И матери моей оно по нраву пришлось, а отец вот именовал меня Зеей… говорил, что на его языке сие означает — жизнь.
Жизни лишили.
Его и матушку… и деда тоже. И бабку мою, которая в мире этом задержалась единственно потому, что неможно было дитё горькое кинуть. А больше я не дитё, и скоро отойдет она…
И моя жизнь сложилась иначе, чем могла бы.
Нет, никто-то не обижал сироту, да и не той я натуры, чтоб обидеть легко, но вот представилось вдруг, каково бы жить мне было, останься рядом и матушка, и отец… и дед. Он-то, мнилось, меня лучше других уразумел бы, медвежий человек.
Ушли.
Огонь вот оставили.
Прежде-то и вправду на зов мой земля откликалась. И вода меня слышала, а ветер — слабо… у Стефки из Завязья с ветром говорить сподручней выходило.
А огонь — тот никогда… откуда во мне?
Вода — от матери, я теперь вот вижу ее, гибкую, сплетенную будто бы из синей пряжи. И в бабке она есть, пусть голос ее и слаб, как и голос ветра. Земля — дедова стихия, и не стихия даже, но он, берендей, дитя ее, плоть от плоти. А вот огонь — отцов.
Наследие.
И даром такого наследия не надобно… а он уже еле-еле теплится, руку протяни, надави, и погаснет… и к лучшему, может. На кой мне огонь, с которым я сладить не умею? Земля ведь останется. И вода… ветер и тот, пусть с неохотой, но отзовется, коль сильно уж прогоню.
Держу я огонь в ладони.
Греет.
Ластится к пальцам, смирнехонький…
…а отца я помню слабо.
Матушку, ту хорошо. Запах ее сладкий. И голос. И смех, от которого окна в доме дребезжали… и деда вот помню тоже, как на плечи сажал и была я выше всех! Разве что конек с крыши поглядывал снисходительно, но и то… помню, как в лес водил, учил слушать землю и травы…
А отца вот нет.
Ведь было же… что было?
Красный платок с ярмарки привезенный. И бусы крупные, круглые, из бусин расписных. Два дня носила, не сымая, а после нитка порвалась, и так неудачно, во дворе… там аккурат трава росла, а в ней не только слепота куриная, но и крапива пряталась, да такая жгучая, чуть тронь — и пойдут по коже волдыри.
От обиды я разревелась.
Хороши были бусы! Ни у кого из девок не было, а отец сказал, что горе это — не горе вовсе… и сам по траве ползал, бусины собирая. И крапивы не боялся…
А потом сидел и нанизывал на нить другую, крепкую, вощеную.
Улыбку его помню, чутка кривоватую. Нос острый, с горбинкой…
…еще помню, как меня Андрейка, старший старостин сынок, за косы оттаскал, на спор… а отец ему розгою да по заднице переехал, и не забоялся со старостою спорить.
Как с дедом старую березу пилили… и сенокос тоже. Руки на рукояти косы, и ее тоже, блестящую, выглаженную этими руками до гладкости неимоверное. До сих пор в сарае висит, ждет руки умелой. К бабке не единожды мужики подходили, чтоб продала, уж больно справная она, да только бабка наотрез отказывалась.
Она и косы пожалела… а я от этакого дара сама едва не отказалась.
Подняла ладонь.
Коснулась огонька в ней губами, подула легонько.
Не надо.
Не уходи… не бросай меня вновь… я буду бережно с тобою обращаться.
Кто я?
Зослава.
Искра от искры.
Лист от древа. Капля от ручья студеного. Ветра толика… силы, даренной предками, едва не потерянное по глупости девичьей. И ныне не пугает больше сила.
Совладать с нею?
Разве ж можно? Она не конь норовистый, который без узды понесет. Она — это я… а с собою совладать просто.
И сложно.
Я открыла глаза.
— Здраве будь, Зослава. — Архип Полуэктович больше не улыбался. — Вижу, справилась с собой?
— Не знаю. — Во рту было сухо… и губы, небось, потрескались.
— Справилась. — Он встал и руку поднял. — А теперь иди, отдохни.
— А… можно?
— Нужно, — усмехнулся он.
Руку я приняла. Сила-то внутрях сидит, тело же мое вовсе ослабело. И спину вон свело, и в ногу пострельвает от сидения долгого.
— Поспи…
Мудрый был совет.
ГЛАВА 20 Про гиштории жизненные поучительного свойства
Отчего-то мне казалось, что с того дня, как очнулась во мне сила, все-то вокруг переменится разительным образом.
Не переменилось.
Сутки я спала, крепко, без снов.
После ела, и домовой лишь охал, ахал да головою качал, сочувствовал, значит.
После снова спала… а там и отдыху конец пришел.
И все стало как прежде. Побудка до света. Полоса клятая, по которой уже впотьмах бегать пришлося… и дожди, что зарядили, — осень же ж на дворе — тому не помеха.
Мыльня.
Завтрак.
Учеба… и внове учеба… о том, что случилось со мною, не заговаривали. Напротив, порой я сама начинала думать, что ничего-то не произошло. Мало ли, привиделось мне с устатку… бывает.
На семый день, когда я уж сама-то почти решилася искать идти, объявился Арей.
— Здравствуй, — сказал мне, кланяясь привычно.
И я присела, взгляд потупивши. Стыдно было, хоть ты под землю провалися, да только до земли далече, а пол дощатый, половичком прикрытый, для проваливания был мало годный.
— Что ж, вижу, у тебя много лучше получается. Я принес тебе учебник. — Он положил на стол книгу. — Почитаешь…
И отступил к двери.
— Погоди. — Я вдруг поняла, что сейчас Арей уйдет.
А я остануся одна, с учебником… и нужна мне самой, без него, этая наука?
— Извини, пожалуйста, за то, что я… — Вязкие слова, и не такие вежливые, какими должны быть. Со словами мне управляться куда тяжелей, нежели с деревянною палкою, которую наставник повадился совать, требуя представить, будто бы это не палка вовсе, а меч. — За то, что едва тебя не убила.
— Я сам виноват.
Ответил.
И взгляд отвел.
— Ты меня спас.
Кивнул.
Потом мотнул головой:
— Не я. Кирей. Моих силенок не хватило бы… а он…
Смолк.
— Ты поэтому уйти хочешь?
На лице Ареевом красные пятна полыхнули.
— Мне не место рядом с тобой.
— Тебе так дядька твой сказал?
— Он прав. Я… могу уничтожить твою репутацию.
— Чего?
— Зослава. — Арей вздохнул тяжко и потер переносицу. — К тебе уже приглядываются… примеряются… и ты хотела выйти замуж? Ты выйдешь. Боярынею станешь, коль будет твое на то желание… а я… я не та компания, которая подходит для молодой незамужней девушки. Думаешь, никто не видит, что я сюда хожу? И что после скажут?
Вестимо, что… соврут аль придумают, на придумки, небось, сплетники горазды. Только мне ль бояться злого слова?
— Присядь, — попросила я Арея. — Будь гостем в доме моем…
И пускай комната сия вовсе не дом, однако же не посмеет он отказать в этакой просьбе. Негоже гостям хозяев обижать.
Присел.
Спина прямая, глядит перед собой.
Руки в кулаки стиснул.
Злится? Или переживает… хороший он, хоть и азарин наполовину, да привыкла я к азарам, видать, ежели факта оная не вызывает в душеньке моей ни гнева, ни иной какой эмоции.
Я же на стол застлала скатерочку белую, которую самолично вышивала васильками да маками. Ладне получилось. На скатерочку и чайник поставила, высокий, заговоренный. Чай в нем долгехонько оставался горячим.
Чашки звонкие.
Варенье малиновое, сладкое. Меду…
— Не побрезгуй, гость дорогой, угощением…
— Прекрати, — сквозь стиснутые зубы произнес Арей.
Сушки.
И пряники, Хозяином принесенные, жалел он меня, страсть, вот и баловал. А я ему отдаривалась, когда рубашечкою, из лоскута скроенною, когда сапожками вязаными. Домовые, они что дети малые, всякое обновке рады, лишь бы с душою была. Мой-то некогда объяснял, что оттого и не важен им ни фасон, ни размера, что не самую вещь они примеряют, но намерение, с которым ее делали.
— Возьми. — Я самолично наполнила чашку духмяным травяным отваром. — И скажи мне, Арей, чем обидела я тебя.
— Ничем, Зослава.
— Тогда отчего ты думаешь обо мне так… дурно?
Он вздохнул.
— Ты не понимаешь…
— Не понимаю, — охотно согласилась я. — Объясни мне, дурище, отчего это все вдруг разом переменилось?
Чашку он принял. Аккуратно на ладонь поставил, а я приметила, что крепко Арей переживал, вон кулаки стиснул так, что и ныне на ладони отметины от когтей осталися.
— Зослава, если ты хочешь стать боярыней, тебе надо вести себя, как подобает боярыне. И значит, не якшаться со всякими… неподходящими личностями.
— С тобой, значит.
— Со мной.
— А если не хочу?
— Что? — Этакая мысль в Арееву светлую голову, видать, не заглядывала.
— А если, — говорю, в глаза его глядючи, — не хочу я становиться боярыней?
— Но…
Нахмурился.
Но пряника взял. Вцепился в него зубами. Жует, глядит в чашку, видать, ответ достойный думает.
— У нас вот в Барсуках жила одна девка… я-то сама ее не знала, не помню даже, поелику эта гиштория приключилась, еще когда меня и на свете не было… бабка сказывала, — я-то пряника в чай макаю, так оно и чай слаще, и пряник мягче. — Хорошая была девка… ладная… с лица и вовсе красавица такая, что глаз не отвесть. И вот увидел этакую красоту боярин один. И приключилась у них любовь превеликая. Такая превеликая, что боярин этот больше ни о ком, окромя своей зазнобы, и помыслить не мог. Увез ее из села родного, да не просто увез, а в храме поклявшись пред ликом Божини, что женою сделает.
— Соврал? — поинтересовался Арей.
— Не соврал. Сделал. И в город забрал. И хотя ж родители крепко против этакой невестки были, наперекор ихнему слову…
— Их.
— Их слову, — послушно поправилась я. — Он свою Матрену не обидел… научил… вот как ты меня учишь. Говорить научил. Ходить. За столом сидеть красиво. Прочим каким премудростям боярским. Она ему дитятко народила… и вот жить бы им да бед не знать.
— Не вышло? — Арейку отпускало.
Чуяла я, что и дышать стал ровней, и огонь его, сокрытый от глаз моих, приспокоился.
— Не вышло… много нашлось таких, которые стали говорить, что негоже чернавку в боярынях ходить, а там и выдумывать всякого, что, мол, приворожила, окрутила… а сама-то не чиста… сначала одно слово, потом другое… и третье подоспело. Боярин тот прям извелся весь, не зная, кому верить, жене аль дружкам-приятелям. А тут еще беда случилась, померла их дочь…
Малиновое варенье Арей принял с легким поклоном.
Попробовал.
Зажмурился… а и сама знаю, что хорошо оно, сладко и духмяно. Я в малину мятного листа кладу, для пущего аромату. И каплю меду.
— Горе людей или роднит, или разъединяет вовсе. Так моя бабка сказывала. Этих-то не разъединило, разрезало… угасла любовь. А тут еще боярыня старая шептать стала, что надобно иную жену искать, по роду, по достатку. Эта-то, мало того, что холопка, так еще и пустоцветна, коль только одно дитя слабосильное народила.
— Послушал?
— Развели их жрецы по разным сторонам, разрезали брачные узы. И отправилась Матрена домой, в Барсуки наши, только и там немного прожила. В пути-то еще от горя слегла с лихоманкою. Уж на что моя бабка лечить умеет, а не вытянула. Говорила, дескать, не было у Матрены желания такого, дальше жить. Душа ее от мира давно сбегла…
Арей молчал.
И я молчала: чего тут добавить.
Нет, не скрою, что были у меня мысли… всякие мысли были. Но и какая девка не мечтает, чтоб к ней во двор царевич молодой въехал, чтоб поразился ея красе девичьей да в седло поднял, увез за море-окиян, в чудо-страну, где реки молочные о кисельных берегах, а зерно в семь колосьев растет.
Но я ж разумею, что мечтать можно о всяком, а в жизни такому не случиться.
— Потому, коль боишься ты, что обо мне говорить станут, то не бойся. Сама знаю, что станут. На чужой роток не накинешь платок…
— Значит, не хочешь в боярыни.
— В посадские — нет.
— Тогда… уж прям не знаю, кого тебе в женихи сватать, — усмехнулся, но за теми словами послышалось мне облегчение превеликое.
— А просто хорошего человека…
Арей рассмеялся:
— Да уж, Зослава… задала ты мне задачу… боярина ныне отыскать куда легче, чем просто хорошего человека.
А вскорости состоялась у меня беседа иного свойства, после которой я лишь укрепилась в мыслях, что не желаю становиться столбовою дворянкой.
Девица, на сей раз боярского роду, но из мелких, захудалых, оттого и заносчивых невмерно, особливо перед такими, как я, простыми с виду, поднялась в мою комнатушку.
Постучала.
И, не дождавшись позволения, что было не по этикету — сие я уже успела зазубрить, — вошла.
— Боярыня Велимира видеть тебя желают, — сказала она, подбородок задирая.
А платье-то новехонькое, но перешитое, небось, из тех, что самой Велимире то ли малы стали, то ли нехороши по иной причине какой, вот и пожаловала. И девка-то знает, что платье дареное, и что иные за верную службу подарены будут, да и не одни платья, там боярыня от щедрости своей колечко пожалует, там — серьги аль браслетку какую… этак, глядишь, худо-бедно, а приданого соберется. Коль же выпадет угодить Велимире, услужить так, чтоб сия служба крепко боярыне по сердцу пришлась, то и иными милостями осыплют.
Сие девка разумела.
И старалась.
Вот только старания ее не хватало, чтоб собственную гордыню смирить. По глазам ее злющим видела я, что не раз и не два представляла она себя самое на месте Велимиры. Примеряла что платья ее, новые, парчовые, что шубки соболиные… драгоценности перебирала, задыхаясь от счастья. А после, очнувшись от этаких своих мыслей, и стыдилась их, и горела от несправедливости: чем хуже она княжеское дочери?
— Ты… — девка от меня отшатнулась вдруг, заслонилась рукой растопыренною, а я лишь моргнула.
Вот же… мне-то и прежде случалось в людей заглядывать. Не по своей воле, но… находило вот, случалось вдруг… неприятно, будто в чужую шкуру влезаешь, неудобную, жесткую, с колючим ворохом несбывшихся желаний, обид и всего иного, чего только в людях бывает.
— Да как ты… посмела… девка! — Боярыня разом вспомнила, что она-то — роду древнего, некогда славного, но…
…захирел он.
…ее прадед пил крепко… а дед все шику столичного желал, оттого и драл с холопов по семь шкур, чтоб платили за посуду серебряную, за ковры азарские, за иное какое баловство, и мерли холопы, безлюдели земли. Он их, обезлюдевших, продавал.
…отец же и вовсе только умел, что вздыхать по прошлым славным денькам да пить втихую. А матушка нарядов ждала… последнее спустили… и семеро дочек, да кому они нужны, без приданого-то? У нее-то, средней, махонький дар выявился, все надежда какая, шанс на жизнь. И шанс этот она не упустит. И служить будет, и выслуживаться…
— Боярыня, говоришь, ждет? Нехорошо… — Я отвела взгляд.
Стыдно было.
Неправильно это, за людьми подглядывать. Еще так, когда в самую суть, самую душу. И злость мне понятна, и обида.
И недоверие ее.
Но справилась с собой боярыня Изима, голову подняла, плечи расправила. Не шла — плыла лебедушкой. Руки в локоточках присогнуты, рукава шелковые с них струятся, юбки расшитые шуршат… и сама-то хороша, тонка, стройна, что березка молодая.
— Вздумаешь сказать кому, что увидела, со свету сживу. — Ко мне она не повернулась даже, знала, что иду следом.
И говорила тихо.
— А ничего-то я не видела… разве что… колечко свое ты в мыльне оставила. Спроси у хозяина, посули ему хлеба, он и вернет.
Фыркнула кошкою рассерженной. И плечиком дернула.
Промолчала.
— С боярыней подобные шутки шутить не вздумай только. — Голос ее меж тем потеплел. — Велимира, не я, подобной вольности не простит.
ГЛАВА 21 О тяжкой жизни боярской
Довела Изима до самых покоев боярских.
И в дверцу резную постучалась.
Ей и отворили.
— Проходи, девка… и помни, что тебе милость великую оказали. — Сама-то у дверей осталась.
Вошла я. Огляделась… вот оно как… все студиозусы меж собою равны, но гляжу я, что иные равнее прочих. Покои у боярыни Велимиры не чета моим…
— Проходи, Зослава, не чинись.
Комната огромная, пол шкурами медвежьими застлан, для теплоты, стало быть. Стены убраны коврами шелковыми, расшитыми. Да такими дивными, каких я от веку не видала. Тут тебе и гора вздымается, а на вершине самой ее — сосна кривобокая, клонится, тянет ветви в пропасть… а рядом змей-цмок вьется, раскрывает крыла узорчатые, щерится улыбкою да глядит на меня желтыми глазами.
Не глядит — приглядывается.
Тронь такого, выскочит-выпрыгнет, вопьется когтями своими кривыми да, заклекотав по-петушиному, в ковер и утянет.
А вот ветка вишневая дрожит на невидимом ветру…
— Нравится? — боярыня Велимира сама ко мне подошла. — Их батюшке из-за моря привезли, из земли, где живут люди с желтыми лицами.
Неужто такие бывают?
Но тут же устыдилась я своих сомнений. Небось, раз азары есть да берендеи, отчего б не быть желтолицым людям? Велик мир. И много у Божини детей в нем.
— А это из Саксонии…
Вдоль стен стояли сундуки резные, дубовые. Одни с покатыми крышками, с замками блискучими, другие — низенькие да подушками придавленные, стало быть, чтоб сиделось сподручней.
Были в покоях боярыни Велимиры и лапки.
И креслица.
И даже скамеечка махонькая, на которую надобно ноги ставить, чтоб отдых им был.
Имелся и стол со столешницею каменной, резною, с ящичками, где и бумага лежала, и перья железные, и чернильницы. И столик иной, девичий, с маслами да притираниями всякими, с зеркалом венецианским, которое мне Велимира протянула, сказав:
— Посмотри.
Я и взглянула, о чем пожалела сразу. Нет, мне случалось себя видеть, что в реке аль в ведре с водою поутряни, еще и бронзовое зеркальце имелось, гладенькое, да только…
В боярынином зеркале я была иной.
Некрасивой?
Нехорошей.
Лицо круглое, будто бы распухшее. Кожа темна, а еще и веснушки на носу проступили. И сам нос какой-то… вот у боярыни — востренький, хорошенький, мой же сидит шишка шишкой.
— Это батюшке купцы кланялись, заморские, желали торг вести. Присядь, Зослава. — Велимира указала мне на лавку. — Беседа у меня к тебе имеется.
Сама-то она в домашнем, простом платье, гляделась величаво.
И я лишь вздохнула, небось, мне-то этакой красавицею никогда не стать. Лицо у Велимиры и без белил белое, бровь без сурьмы темная да вразлет.
Глаз синий.
Яркий.
В ушах аккуратненьких серьги с фирузой покачиваются, а шею ожерелье-змея обвила, сама из фирузы, а глаза — бурштын, яркие, аккурат как у вышитого змея.
— Вот, Зослава, возьми. Выпей. — Велимира самолично подняла кувшин с тонким горлом, тоже, видать, заморский, у нас этаких не делают. Разливала она по стеклянным кубкам вино и мне подавала с поклоном, будто бы равной. — И скажи, вправду ли ты берендеевой крови, как о том бают?
Сама она вино пригубила чуть.
Я попробовала.
Кислое.
Мне больше по нраву взвар, да чтоб на меду… иль медовуха, а это…
— Дед мой… берендеем был, — сказала я. Отчего б и нет? Небось, не тайна сие страшная, да и стыдиться тут нечего.
— Дед… хорошо… понятно тогда… угощайся. — Велимира подвинула блюдо с орешками, в меду варенными. Вот до такого я великая охотница.
Бабка говорила, что это у меня от деда, тот, мол, тоже сластеною был.
— Скажи, Зослава, ты ведь сюда… не только за учебою явилась? Мужа ищешь?
— А кто не ищет?
— И то верно. — Велимира вдруг улыбнулась, не как боярыня, но искренне. — Но хоть кто-то в том признался открыто, а то все выдумывают, изобретают…
И ручкою своею белой махнула.
— Что ж, в таком случае тебе будет понятно и мое стремление отыскать себе супруга…
— Царевича?
Она бокал отставила, провела по краюшку пальчиком.
— А ты привыкла говорить, что думаешь… что ж, откровенность — это роскошь, но иногда можно себе и роскошь позволить. Нет, Зослава. Это мой батюшка желает, чтобы я за царевича замуж вышла.
Вот оно как…
— Знаешь, говорят, что берендеям в глаза смотреть не стоит. — Она села напротив, подперла щеку рукой и глядела прямо, с интересом. — Что видят они не только душу, какова она есть, но и помыслы человеческие, и захочешь укрыть, не укроешь. Правда это?
— Берендеем мой дед был. А у меня… бывает порой…
— Бывает…
Взгяда Велимира не отвела.
Напротив, мелькнуло в ее глазах что-то этакое, не то надежда, не то сомнение.
— И сейчас ты ничего не видишь?
— Ничего… необычного — ничего.
А даром она слаба, это-то я ныне вижу и без дедова наследия. Правда, еще не всегда, потому как взгляд иной тренировать надобно. Не выходит у меня, чтоб по первому желанию. Нет, прищуриться надобно, голову отвернуть, глянуть самым краешком глаза.
Вот тогда-то люди и меняются.
Кто красным полыхнет, кто зеленью… кто синевою. Аура сие, сиречь сила, которая людям от Божини перепала, и цвет ея, структура многое говорят, что про человека, что про таланты его.
Велимира отливала синевой.
Вода, значит.
Но едва-едва… и силы этой хватит, чтобы в Акадэмии учиться да век продлить свой, но и только. А большего ей и не надобно.
— Видишь, да? Божиня мне силы каплю плеснула, верно, решила, что от рождения и так всего вдосталь. Красотой наделила… разумом, смею думать. Богатством. Родом знатным. Живи и радуйся.
Только нерадостно как-то сие было сказано.
— Но я бы многое отдала за то, чтобы сила у меня была… настоящая сила, а не это… знаешь, почему?
— Почему?
— Потому что это был бы шанс свободу получить. Эти девки, которые в мои подружки набиваются, думая, будто не вижу я, чего их дружба на самом-то деле стоит, не разумеют, что получили от Божини. Им в мою клетку охота. А мне — их судьбы… свободы… выучиться да и жить своим умом, своим правом…
И тут я ее поняла.
Небось, что боярское дочери, что холопской — одна судьба: замуж по отцовскому-то слову. Правда, одной за соседа, другой — за царевича, а все одно доля, коль не с милым, то и неволя… да и после жить ей за мужем, слова своего не имея.
Другое дело, коль сила в бабе имеется колдовская. Небось, такую неволить никто не восхочет. И слушать ее будут. И слушаться.
— Ежели б не царевич, батюшка мой меня из горницы и не выпустил бы. — Велимира подняла стеклянный кубок. — Сказал, что я должна использовать свой шанс… и я использую… видит Божиня, использую… и ты мне поможешь.
Глянула так, что слова утешения, каковые я намеревалась произнести, в горле комом стали.
— Мне не надобен царевич, Зослава, — меж тем продолжила боярыня Велимира. — Доволи того, что сестрица моя, за него просватанная, померла… говорят, что слаба была здоровьем…
— А на деле?
— А на деле… не желает царица с нами родства. Потому, ежели вдруг случится мне за царевича выйти, то, чую, и у меня со здоровьем беда приключится.
— Тогда чего ж ты, боярыня, от меня желаешь?
Ах, до чего не по нраву был мне нынешний разговор, виделась в нем слабость боярыни, каковой мне случилось свидетельницею стать. Слабость пройдет, да только слово-то — не воробей, вылетит — не споймаешь, не возвернешь назад.
И как скоро пожалеет она о собственной откровенности?
— Помощи твоей желаю. — Бледная ручка Велимиры, тоненькая, легонькая, никогда-то тяжкой работы не знавшая, коснулась виска. — Потому и говорю все, как есть.
— А не боишься?
— Чего?
И сама себе ответила:
— Мой дед, когда жив был, многое мне сказывал… и про берендеев тоже… был у него дружок давний вашего роду. И говорил дед, что надежней того дружка никогда и никого не было, что верил он ему, как самому себе, а то и больше, потому как себе дед верил с оглядкою.
Все одно не понимала я. Берендеи, небось, как и люди, разные бывают. Но боярыне в прихотях ее видней.
— Да и сама я вижу… дар мой, хоть и слабый, а все одно полезный. Не станешь ты языком молоть, Зослава, попусту. Не в твоей это натуре. И не в вашей. Это первое. А второе… — она лукаво улыбнулась, растеряв на миг боярское свое величие, — ничего-то важного я тебе не сказала…
Эк у нее хитро получается, говорила, говорила, а теперь, мол, ничего важного… и как это понимать-то? Голова-то у меня, небось, не боярская, к этаким хитромудростям негодная, она и с наукою-то едва-едва управляется.
— А что до вопроса твоего, Зослава, то нужно мне знать, кто из них точно не царевич…
Сказала и замолчала.
Долго молчала, раздумывая, верно, не доволи ли с меня боярское ласки да бесед задушевных. Я же думала о своем.
Не желает боярыня за царевича идти?
Батюшка неволит?
А ей страшно… страх я чуяла, и еще отчаяние, темное, сокрытое на самом дне зеленых, стеклянных будто, глаз Велимиры. С такими глазами топиться идут. Или душу выносят на перекрестье дорог, отдавая в руки того, о ком и подумать-то страшно. С такими глазами творят вещи жуткие, о которых обыкновенный человек и помыслить не смеет…
— Не бойся, Зослава. — Боярыня отвела взгляд, и меня отпустило.
Эк оно… ежели и далее так пойдет, то вскорости буду людей чураться.
— Кто не царевич, я тебе сразу сказать могу. — Хоть и нету во мне хитрости, вот ни на грошик медный, но поняла, что не след об увиденном упоминать даже. Оно и верно бабка моя сказывала: молчи, Зося, глядишь, и за умную примут. — Илья Мирославович… а еще Лойко Жучень…
Чем не женихи для гордой боярыни? Небось, мне-то они не по чину, а ей — самое оно. Велимира лишь головой покачала.
— Думала я о том, да не согласится на этакую замену батюшка… и Кирея мне не сватай тоже.
— Нехорош азарин?
— Хорош. — Щеки Велимирины вдруг полыхнули маками, да только и схлынула краска эта, вновь сделалось лицо бледно, что сметаною намазано. И добавила Велимира много тише: — Куда как хорош, да… сама разумеешь, не могу я за азарина идти. Батюшка тогда не просто осерчает, от имени откажет своего, а то и вовсе проклянет.
Слыхала я про такое, да все диву давалась, как же так можно, чтобы родители да родную кровь проклинали-то? Небось, в Барсуках кажная мамка над дитятком своим трясется, и не важно, пять годочков дитю аль все полста… вон, Марушка Ляхова старшенькую свою, которая с боярским служкою любовь закрутила, а после осталася одна брюхатая, самолично за косы таскала. И била так, что ухват пополам переломился. После ж отошла, оттаяла, вдвоем сидели на лавке да выли над тяжкою бабьей долей.
И ничего, народилося дитятко.
Ростят.
Не знаю я, чего такого сотворить должно, чтобы родители прокляли. Разве что уродится человек душегубом, вывертнем с мертвою душой, да с таких проклены — вода с гуся.
…а ведь славная вышла бы пара.
— Больше ничего не скажешь мне, Зослава? — Велимира поднялась.
И я встала.
Что сказать? Не ведаю я, кто из шестерых царевич. И выспрашивать не стану, потому как сие — не моего ума дела.
— Что ж, — Велимира поклонилась первою, — коль вдруг пожелаешь со мною встретиться, передай перстенек…
И самолично с пальчика стянула.
Перстенек тоненький, из цельного камня выточенный. А камень тот красный, будто бы кровь спекшаяся. И диво дивное, уж на что у боярыни пальчики махонькие, тоненькие, а и на мой мизинчик налез. Сел, точно завсегда носила.
— А теперь иди, Зослава. — Боярыня самолично отворила дверь. — И пусть пребудет с тобою милость Божини.
— И тебе, боярыня, благ всяческих…
ГЛАВА 22, в которой сказывается обо всем и сразу
Разлюбезная моя бабушка, Ефросинья Аникеевна.
Пишет тебе внучка твоя возлюбленная Зослава, которая по тебе вконец истомилася, не чает уж до встречи дожить. Получила я твое письмецо, и не только его.
Благодарствую тебе премного за гостинцы, а особливо — за подушку пуховую и за одеяло.
Я подула на руки.
Похолодало.
В столицу зима пришла в одночасье.
Две седмицы дождя, который шел что днем, что ночью, и серым был, промозглым. Дорожку нашу развезло так, что и наставник вынужден был признать, что в этакой грязюке да по холоду не каждая лягуха выжить способная. Студиозусы, оне, конечно, лягух покрепче будут, да все одно твари подотчетные.
И утрешние пробежки сменились утрешними же занятиями в спортивное зале.
После первого же о дорожке я вспоминала с тоскою… она ж обычная, привычная даже. Бежишь себе, ногами грязюку месишь, думаешь о своем…
Спортивная же зала была огромною.
Холодною.
И всякой разною утварью заставлена. Туточки и матрацы соломенные, чтоб, значится, падать мягше было… правда, Архип Полуэктович пригрозил, что через месяцок-другой их уберет. Окромя матрацев имелися и лавки высоченные, на тонких ножках поставленные, и другие, пониже, и бревна на цепях, и иные какие штукенции, которые я от души возненавидеть успела. Я ж не скоморох какой, чтоб по бревнам скакать-выплясывать, а наставник знай себе покрикивает:
— Зося, равновесие держи!
А где ж его держать, когда бревно оное склизкое-склизкое, так и норовит из-под ног вывернуться.
Кольца трещат, но держат, клятущие, только вишу я на них дохлою рыбиной… тоже удумали, бабе подтягиваться. Архип Полуэктович знай посмеивается, говорит, что к весне я не то что норму выдам, но и кувыркаться буду.
Ох, боюся, не шуткует.
А мужикам-то ничего, нравится, скачуть, что шаленые, еще и палками махаются. Мечники, чтоб их… особливо Еська выплясывает, верткий, холера этакая, и язык — помело помелом… не раз бы ему битым быть, когда б споймать сумели.
Но то Еська… Лойко вот силою берет. Илья, при том, что неторопливый, тоже как-то поспевает, по нем не скажешь, что книжник. Про азарина и речи нету, он-то живой, что масло на воде… и даже братец Ареев как-никак, но справляется.
А я…
И бабке не пожалишься, потому как зело недовольная она, что я такую факультету выбрала. Оно и понятно, одно дело — целительница при грамоте королевской, что бабе и пристало, и достойно. А другое — воительница. Оно-то и выходит, что навроде и почет великий, да только с кем мне в Барсуках воевать-то? Там крупней пацука зверя нетушки.
Небось, опосля моего письмеца разговоров было седмицы на две, а то и на три.
И тепериче нет-нет, да вспоминают.
Вздохнула я и вновь на пальцы подула, эк мысля-то хитро вывернулась, начинала с подушек на гусином пуху, а пришла к тому, что воительница из меня выходит, что из коровы конь боевой.
Но справлюся.
По-иному тепериче никак… не могу я ни Михайло Егорыча подвесть, ни бабку свою. Она-то, мыслится, при сельчанах носу дереть, мол, так оно и задумано было… а коль отчислят, то и сказать ей нечего будет. Вовек не отмоешься… будут за спиною перешептываться, что, мол, возгордилася внучка берендеева, а может, ума лишилася, что с бабами на раз бывает, ежели сунулася в мужское дело. Погнали ея? И правильно, и поделом… нет, нету мне обратного пути.
А значится, надобно мне с кольцами сладить.
И с козелами, через которые скакать надобно. А я не скачу, я застреваю… но писать след о хорошем.
…третьего дня приключился у нас мороз, да такой лютый, что окна все на раз и затянуло. Бають, что для столицы оно-то самое времечко на морозы, но все одно непривычно мне, чтоб без снегу да морозно. Снегу, слышала, подолгу ждать приходится, да и не залеживается он в столице. Оно-то и понятно, что народу много, все топят, давече вышла в город — Божиня милосердная, дымно все, черным-черно. И от дыма тово едва оченьки мои не повылазили. Слезою изошла.
А в общежитии нашем печи тоже имеются, но хитрые оне, по романскому прожекту в стенах трубы упрятаны, а по тем трубам — вода горячая идет. Отчего не стынет, то магики ведають. Я спрошала, но толком и Хозяин не ответил. Только все печалился, что трубы тыя уж больно давно кладены, замена им надобно. В том-то годе котлы водяные новехонькие поставили, а вот чтоб трубы сменить, так то стены рушить надобно, вот и латають их магией.
Я поскребла нос самописным перышком. Не поверят барсучане в этакое диво, а ежели и поверят, то скажуть, что совсем люд в столицах одурел, ежели силы магические на воду горячую тратить. Небось, в Барсуках-то дровами обходятся аль углем, когда вовсе морозно становится. А тут…
Тут и печки-то нету.
Без печки мне тяжко, не хватает живого огня. А от окна, которое прежде меня радовало, холодком тянет. И пусть заложила я оконце то тряпьем всяческим, но не спасало оно. И стены вроде и теплые, но все одно того тепла маловато.
Мерзла я.
И с того становилась злою… и бросить все хотелося, и поплакать, и вычудить чего-нибудь этакого, а чего, и сама не знаю.
И главное, что тоска меня мучила смертная по дому.
Но все одно жалею я, дорогая моя Ефросинья Аникеевна, по печи нашее. Вспоминаю, как белила ее тем годом, а после цветами расписывала. Ты же говорила, что цветы энти — баловство одно. Да только вижу я их во сне. И тебя вижу. И дом наш, и двор… и село родное, про которое ты мне велела не забывать. И как забудешь его?
Кланяйся от меня всем. И старосте нашему скажи, что гвозди в столице дешевые, да только и работы дрянной, один длиньше, другой короче. Клепають их ученики, которых только-только до кузни допустили, оттого и выходит товар грошовый. С подковами и вовсе вязаться не след. Уж сколько ни переглядела я, да хоть немногое мыслю в деле кузнечном, но и то поняла, что негодные. Одна легонькая, другая тяжелая, третья крива на один бок. А главное, мастеровые, в глаза глядючи, брешуть, дескать, подкова сия сама собою на копыто сядет и дюжину лет держаться станет. Торг туточки принято вести бесчестно, и ежель видят пред собой покупателя несведущего, такого, который любой байке радый, то и спешат ему рассказать всякого, одно чудо поперек другого выдумывая. А как скажешь напрямки, что, дескать, в том нет правды, то и не стыдятся вовсе, но гневаться начинают, обзываться словами непотребными. Одна торговка, что пыталась продавать пироги с тухлою зайчатиною, которую крепко чесноком переложила для аромату, на меня стражу вызвать грозилася.
Я вновь отложила перо.
Про пироги оно понятно вышло. Сама виноватая, мне бы смолчать, небось, в столицах люд молчать привычный, это не Барсуки, где кажный человек знакомый, оттого и здоровьица желаешь, и расспрашиваешь, что про житье, что про здоровьице, что про скотину. Туточки, даже если случится тебе встретить кого, то сделают вид, что с тобою не знакомые.
Ох и правду говорит Арей, что не способная я об одном думать, и пытаюся с мыслями совладать, да они что зайцы по полю зимнему скачуть, кидают петлю за петлей.
То вот о гвоздях.
О подковах.
О торговке той краснолицей с пирогами ейными, от которых гнилью за версту шибало, невзирая на весь чеснок. О том, как ярилась она, махала руками, звала люд окрестный свидетелями быть, мол, дескать, на Божинином образку заговоренном готовая она поклясться, что свежие пироги… и образок тот мне в лицо норовила пихнуть… и не только мне.
И шарахнулась от этого образка, а может, не от него, но от торговки боярыня.
Статная.
Красивая, хоть и немолодая. Боярыни старятся иначе, чем сельские бабы. У тех-то краса, что дожди весенние, скоротечна. Сегодня девка в соку, завтра — баба при муже и детях, а послезавтра уже и морщины изрезали лицо, пожелтела кожа да руки сделались жесткими, что кора дубовая.
Нет, эта боярыня, пускай и лет была не юных вовсе, но лицо сохранила гладкое, без белил белое. Губы ее были красны, брови — соболины, а глаз вот, что стекло зеленое, ярок да холоден. Мазнула по торговке взглядом раздраженным, ручку вскинула, и мигом гайдуки оттолкнули суматошную бабу.
Та и сама, поняв, чего натворила, рада была сгинуть в людском море.
Оно-то и понятно: могут и плеткой перетянуть, а могут и вовсе обвинить, что сглазить боярыню желала. Или потраву учинить со своими пирогами.
Меня-то боярыня и вовсе будто бы не заметила. А может, и вправду не заметила? Проплыла мимо лебедушкой, только хрустела под коваными каблучками сапожек ее красных скорлупа ореховая. Но не на нее я глядела, не на сапожки, не на платье богатое, и не на старуху-чернавку вида прескверного, что следом за боярынею семенила. На братца Ареева, который боярыню под ручку держал.
На лицо его, худлявое, белое.
Чертами схожее.
И на Евсея, что держался вроде и в сторонке, а все одно рядом. Он-то меня заметил, но не кивнул даже, отвернулся, будто бы знать не знает.
Обидно?
Поначалу аж горячо в грудях сделалось от этакой обиды, а после… подуспокоилась я. Оно-то понятно, что Игнат матушку сопровождает, до храму ли, до лавки, аль просто погулять вышла боярыня, развеяться. Не целыми ж днями ей в тереме сидеть. И роду она знатного, славного, и сам Игнат, стало быть, тоже, об чем я в Акадэмии забываю постоянно. А значится, не с руки ему раскланиваться со всякими там девками. Что до Евсея, то он и вовсе царевичем может оказаться. Если же и не царевичем, то права в том боярыня Велимира: дружков своих царь будущий милостью не оставит. Пусть и рожденный холопом, выкупленный царицею, но буде он боярином. Пожалуют и звание, и земель, и деревенек с душами невольными, а значится, вновь же, не ему со мною знаться.
Странно… я о том происшествии, и не происшествии даже, но встрече, позабыла будто бы. А вот взялася письмецо бабке писать, и вылезла из памяти обида, что пух из дырявое сыпки.
А письмо дописывать надобно.
Учат нас, дорогая моя бабушка, крепко. Розги, как о том грозился наш жрец, не пользуют, поелику серед студиозусов множество детей боярских, которым с того ущерб великий чести случиться может. В прошлом-то, кажуть, секли, простой люд на земле, а благородного чину ежели, то на лавке, ковром застланной. Но ныне пришло высочайшее повеление розги запретить. Оно и верно, ежели в Акадэмии царевич учится, то как можно его да розгами? Еще и прилюдно? Кто ж, опосля такого, царя уважать станет? Однако же никакого ущербу учебе от запрету того не случилось, потому как науку всяческую в нас пихають много. Учать гиштории земли Росской от самодревних времен, когда не было самого царства Росского, но лишь княжества всяческие…
Гишторию я любила, поелику вел ее Фрол Аксютович.
Вот уж кто умел рассказывать! Аж порою сердце заходилось от беспокойствия, чи то за славный город Солоним, осажденный войском азарского кагана да осаду державший сто двенадцать ден, чи то за княжну Белеславу, которая в мужском платье через семь княжеств добралася, отца свово из полону вызволяя, чи то еще про кого.
Фрол Аксютович говорил неторопливо, двигался мало, порой и вовсе застывал посеред классу глыбиною гранитной, но вот… каждое слово его в душе отзывалось.
Видела я и княжества те, давным-давно сгинувшие, и князей, одних славою обуянных, других — позором заклейменных на веки вечные, третьих просто бывших да сгинувших, не оставивших порой после себя памяти иной, окромя имени…
…сказывають нам и про всякие иные страны, а еще про людей и нелюдей, в оных обретающих. Вчерась вот о харпиях расповедовали, сиречь женщинах-птицах. Живуть оные на самом краю мира, поелику страховидлы необычайные. И норову дюже скверного. Летать умеют, а летаючи, крадуть детей, особливо младенчиков женского роду, из которых ростят себе служек.
Про харпий, а тако же псоглавцев и антиподиев сказывала Милослава. Не могу сказать, что сия наука давалась мне тяжко. Конечно, Милослава была лишена того таленту, которым Божиня Фрола Аксютовича наградила, но и она расповедовала неторопливо, толково.
В классе ейном на стенах карты висели миру, рисованные так хитро, что самую крохотную речушку да что речушку, ручей разглядеть можно. И город любой, и деревеньку, и даже Барсуки свои я нашла, подивившись тому, что от столицы до них — на три пальца езды. А я вона сколько добиралася.
Это уж потом Арей объяснил про масштабу, про то, что карты энти вовсе не рисованные, а самого что ни на есть магического свойства, и что Милослава — лучший картограф.
В том ее особый дар.
Дар-то, может, и велик, не мне о том судить, ежели с картами у Милославы все ладно выходит и даже с царских палат к ней поклоны шлют с просьбами то одну, то другую составить. Да вот дело свое она не то чтобы не любит вовсе, скорее уж иного желает.
И о странах иных, о тварях всяческих сказывает сухо, без души. Но уж лучше она, нежели Люциана Береславовна, которая нас начертательной магии учит.
Ох и холодна боярыня.
Горда.
Оно и понятно, древнего она роду, славного, небось, и с царями Гожурские роднилися, и подвиги великие совершали, и магиков из их числа вышло множество.
Великою Люциана Береславовна не была.
Верно, именно это, а еще разумение, что никогда не подняться ей выше, равно как и не вернуться в отчий дом, из которого уходила она тайно, беглянкою, злило ее.
Хозяин как-то обмолвился, что желала Люциана Береславовна славы. Не боярынею замужней, годной царице в услужение, войти в палаты, но магичкою вольной, сильной, которая на саму царицу будет глядеть как на ровную, а то и повыше.
Старание в ней было.
А вот силы с талантом не хватило. И жгли Люциану Береславовну несбывшиеся надежды, мучили душу, травили… тем паче, что жених ее, брошенный за-ради великого будущего, вовсе о беглой невесте уж не помнил, новую отыскал, посговорчивей. И стала она, ни много, ни мало, а царицыною правою ручкой. От и поглядывала Люциана Береславовна на студиозусов ревниво, каждого почитая едва ли не врагом своим. А уж тех, кого Божиня и вправду наделила даром, и вовсе ненавидела.
На меня она глядела свысока, будто бы на пустое место. А коль случалось обратиться, то голос ее был холоднее зимней стужи. Но науку свою Люциана Береславовна знала крепко.
…линии всякие рисуем, стало быть, тонкие и толстые, прямые да кривые, главное, чтоб верным укладом. В ином разе, когда станешь сии рисунки силою питать, заклятье выстраивая, то рухнеть энтое заклятье, с чего беда превеликая выйдет.
Я поскребла пером нос.
Писать или нет, что сперва у меня с этою чертежною наукой не больно-то ладилось? Оно и понятно, поди, попробуй, запомни, какая из двух дюжин кистей для чего надобна.
А еще краски.
Правилы эти, незнамо кем выдуманные. И не спросишь у Люцианы Береславовны, отчего посолонь круг рисуется колонковою кистью третьего нумеру да краскою белой, а ежели в другую сторону, то надобно беличью брать на двойку либо пятерку, и тогда уж краску синего цвету.
И главное, что кажный рисунок хитромудрым получается.
Так я и мучилася, пока не дошла, что меж черчением сиим и шитьем невеликая разница. Небось, девки нашие узоры тож хитро кладут. Попробуй перейми, когда у той ж Маришки зелень в четыре оттенку, а коль цветы какие по подолу, то и вся дюжина…
А с кистями мне Арей сподмогнул.
Еще обмолвился, что, дескать, сам он не одну ночь над «Практическим руководством по начертательной магометрии» просидел.
Страшная книга.
От нея в сон клонить.
Додумать я не успела: громыхнуло вдруг, да так, что и на весеннюю грозу этак не грохоче, ажно все общежитие от подвалов до петушка кованого на крыше содрогнулося.
И уши заложило.
А после вовсе запахло паленым…
ГЛАВА 23 О взрывах
Письмецо я убрала в ящичек. И перо отставила, здраво рассудивши, что в суете пустой толку нету: коль не развалилась общежития до этой поры, то еще немного простоит.
За дверью кричали.
Плакали.
Кто-то звал на помощь… пахло дымом, терпко, едко, но огня было не видать. Да и, прислушавшись к себе, к дару своему, поняла я, что нету огня.
Дивно.
Чтоб дым, да без огня… и еще такой вот гадостный, что прям спасу нет. Белый. Смердючий. И глаза от него щиплет крепко. А главное, что с каждым мгновеньицем дыма этого все больше и больше. Вползает в коридору сизыми лентами, за стены цепляется. Иду по нему, что по ковру, уже сама не вижу, куда ступаю. А крики все тише… только вот взвыло внизу нечто дурным голосом.
Дым уже до колен поднялся, а после и выше колен.
В нос полез.
Глаза слезятся, в грудях дерет, оттого и кашляю… ажно страшно стало, вдруг да потрава какая? Так и помру я от науки да незамужнею, и похоронят на заднем дворе, а то и вовсе некроментусам сдадут, на эксперименты.
Горестно стало.
И от горести, а может, просто срок вышел, но дым поредел, и я обнаружила, что стою аккурат перед дверью. А дверь энта еще и приоткрыта, манит будто заглянуть. Нет, у меня нема привычки по чужим-то покоям шастать, но… вдруг да кому помощь надобна? Вдруг заблудился кто, как и я, в дыму?
Аль еще какая беда приключилась?
— Эй, есть туточки кто? — спросила я громко, как сумела.
Тишина.
И темень… то сперва мне почудилась, будто бы темень, а после ничего, притерпелася. Комнатушка была невелика, мало больше моей.
Кровать у стены.
Стол.
Окно… ковер на полу и человек на ковре. Лежит, руки раскинул, ноги растопырил, аккурат что Василька наш, когда перепьеть, ось так же на дорогу повалится и лежит, пока супружница его домой не отволочеть. Поговаривали, что прежде-то Василька статен был, не хватало у Нюськи силов волочь, так она ему из жалостности душевное одеялко приносила, подушечку, чтоб, значит, сподручней лежалось.
Подумалось и… передумалось.
Не видала я в Акадэмиях, чтоб пили много иль упивались до этакой степени.
— Эй. — Я присела рядышком.
Шею нащупала.
Живой.
Только сердце бьется слабо, с перебоями…
Перевернула я его.
Тяжелый… и знакомым мнится, да впотьмах не разглядеть, а пахнет от него отчего-то медом, и этак сильно, сладко, что сам запах этот неприятен.
И как мне быть?
Ощупала.
Целый, навроде… а неживой. По щекам постучала, поднять попыталася… ох и тяжеленный. А все одно иначе никак, не бросать же его, бедолажного, в дыму? Вскинула на плечо, радуясь силе дедовой. Небось, родилась бы я обыкновенным человеком, то пришлось бы за ноги волочь, аль за руки там… несподручно сие. На плече-то лежит ровнехонько, тихонько, аккурат что коромысло. Только с коромыслом оно как-то удобственней…
А дыму поменьшило.
И добрела так я до самое лестницы.
На ней же дыму — не продохнуть. Стоит серою стеною, колышется. И стена этая столь мерзопакостною глядится, что сил нет. Вся моя натура супротив того, чтоб в дым оный соваться, да только окромя лестницы иного ходу нема.
Сколько так стояла, не знаю, но стена вдруг треснула пополам, будто бы ее изнутри ножичком полоснули. А из трещины этой огонь потек, знакомый такой, темно-рудый да с переливами.
— Зося? — Ареев голос показался до того громким, что хоть уши зажимай. Я и зажала. Левое. С правого-то плеча несподручно.
Арей же выступил из стены.
Его пламя окутывало, оплело огненною паутиной. И дым, ее касаясь, шкворчал зло, будто бы желал он до Арея добраться, а не мог, оттого и ярился бессильно. Вона, следом потянулся, да силенок не хватило. Арей же от дымное сизой плети лишь рукою отмахнулся.
— Ты почему не ушла со всеми?
А сам-то злой, что кузнец наш с опохмелу.
— Куда?
— Туда. — И пальцем вниз ткнул. — Эвакуация была…
— Чего?
— Зослава!
Вот не надобно на меня кричать. Может, и была эвакуация эта самая, да только без меня. И Арей, видать, понял. А может, разглядел, наконец, что не одна я стою в коридоре.
— Твою ж… за хвост… — И еще пару слов добавил из тех, которых девкам знать не надобно. — Идем. Держись меня… шаг в шаг. И его держи. Сумеешь?
Чего ж не суметь? Чай, невелика хитрость.
Ареево пламя потемнело, расплылось, тесня дым.
— Давай. И… Зослава, поспешить придется.
Поспешу. Я-то в магических делах смыслю немного, да только по Арею видать, что надолго пламени его не хватит.
Узенький коридорчик.
Зыбкие стены, из огня плетенные, бабке о таком писать не буду: сердце у нее слабое, разволнуется еще… а иные не поверят, что бывает так.
Дым серый, клубами сбивается.
Переваливается, перекатывается, и наползают клубы один на другой. Валунами громоздятся, иную стену строят, и того и гляди обвалится она, прорывая тяжестью своей пламя. А оно то вспыхивает ярко, то гаснет. И спешит Арей, бежит почти, со ступеньки на ступеньку перепрыгивая.
Я следом.
Не шаг в шаг, но как оно умеется, бегу и думаю, что не зря Архип Полуэктович по полю тому нас гонял, коль жива останусь, то и поклонюся в ножки, поблагодарю за науку… а пламя бледнеет… и запах его, кузницы, кожи да земли, летним солнышком истомленной, меняется, блекнет. Сквозь него сочится иной, не запах — смрад.
Гнилья.
И смерти, той, позорной, которая для татей ночных положена. Но я не тать… и Арей… и страсть до чего помирать неохота… впору Божине молиться, о чуде просить.
Бледнеет пламя.
Уже становится коридорчик. А лестница вьется и вьется, ни конца ей, ни края не видать, только серость сплошная, темень непроглядная, с которой Арееву пламени не управиться.
Когда б один был, а то ведь трое…
— Погоди. — Он остановился.
Бледный весь, не белый — серый, что стены пыльно-каменные, которые уже не рухнуть грозились, но сомкнуться, стирая нас, будто мошкару какую.
— Вы… пойдете, и быстро. До выхода недалеко, а там… кто-нибудь из магистров… — каждое слово он из себя вымучивал. А я… я поняла, что не пойду.
Не брошу.
Не по-людски это… хотя, конечно, и глупство неимоверное. Да только я девка, мне глупою отродясь быть покладено, ежели иным людям верить.
— Зослава! — Ни словечка не сказала, но поди ж ты, понял все верно.
— Погодь. — Я взяла его за руку. — А ежели ты моей силы возьмешь…
Я о таком только слыхивала, да и то в сказках.
— Могу. — Он облизал истрескавшиеся губы. — Только… будет больно.
И не обманул, подлюка этакий… больно было. В сказках-то о боли ни словечка, там-то все просто… поделились друзи силою, и одолел холопий сын Змея-Людожора… и волю добыл, и цареву дочку… дочка-то царева мне без надобности, Арею, коль мыслю, тоже…
Силу тянет.
И с нею само мое нутро выворачивает… и холодно становится, будто бы не рокочет по сторонам грозное пламя, но ветра дуют северные, лютые.
Слышу я голоса их волчьи.
Иду.
Уже и не вижу, куда ступаю… ослепла, оглохла почти. Только и осталось от мира всего, что Ареева рука раскаленная… и голос его:
— Уже недолго осталось… давай, Зослава… ты сумеешь.
Сумею, конечно… как иначе-то? Выживу. Мне помирать никак неможно. Бабку на кого оставить? И корову… корова-то у нас знатная… со ступенечки на ступенечку.
И быстрей бы надобно, да не получается.
Я стараюсь. Честно стараюсь. За-ради бабки, за-ради матушки своей, которая слегла где-то там, а где, и не ведомо… и отец с нею… и дед… домой только и прислали, что весточку, мол, пали смертию героическою за Росское царство. Грамотка царская, на хорошей бумаге да зачарованная, сто лет не поблекнет, в огне не сгорит, в воде не потонет… во многих хатах такие стоят, в красном углу, рядом с ликом Божининым, с деревянными личинами предков.
И свечи перед грамотками теми ставят поминальные.
И хлеба им первый ломоть кладут.
И детям сказывают… про смерть героическую… а я вот… от туману… на лестнице, в общежитии слягу… и никакого в том героизма нету.
Все закончилось сразу.
Вдруг пахнуло в лицо холодом, да еще и ветром, который вымел, вытер шершавою ледяной лапой морок колдовской. Вновь задышала.
Дымом.
И терпким запахом сосновое смолы.
И еще хлебным, ласковым…
— Держись. — Арей подставил плечо, а иначе упала бы, прям где стояла, посеред черной грязной лужи. От была бы всем потеха… а народу-то… на ярмарке в торговый день и то меньше бывает… и все на нас глядят. — Целителя! Целителей, чтоб…
Ареев голос сорвался, да все одно услышали.
Толпа отхлынула, а после вперед подалась, и подумалось мне, что сейчас растопчут.
— Назад! — Этот голос я узнала, и не только я.
Фрол Аксютович взмахом руки остановил толпу.
— Всем разойтись. Старостам — провести перекличку. Список отсутствующих… разместить в классах… временно… четвертый и пятый курсы… нейтрализация…
От же диво.
Стояла и слушала, а слышала через слово, разумела и того меньше. И когда меня тронули за руку, удивилась, откуда взялася та девица в темно-зеленом платье.
— Отпусти его, — это я по губам прочла, а не услышала, только тогда и вспомнила про парня, которого из комнаты той вынесла.
Живой ли?
Живой…
Хоть и скатился с плеча на землю кулем, девица только охнула да на меня зыркнула недобро. А что? Я б положила осторожней, да сама еле стою… и плеча правого вовсе не ощущаю, будто и нету его… и руки нету… и вовсе землица качается… черно-белая, снегом припорошенная… да только снега того и не осталось. Сбили его ногами, смешали с грязью.
Незадача…
В городе снега чистого не отыскать, а мне, быть может, и полегчало бы, когда б снегом лицо омыть. А парня я знаю…
Евстигней.
Надо же… а у меня и удивиться сил не осталось… вовсе сил не осталось, только и могу, что стоять да глядеть, как хлопочут над Евстигнеем девки-целительницы, а после теснит их сама Люциана Береславовна, и хмурится, и губами шевелит, пальцами заклятье хитрое прядет… и девки глядят на нее, дыхание затаив…
Еська рядом мнется, головою рыжей трясет.
Евсей тут же… и прочие… и как вышло, что бросили? Они ж завсегда, почитай, вшестером… и только тем разом, когда с боярынею на рынке… а другого такого случая и не упомню, чтобы кто-то один остался…
Лойко мрачен.
Илья еще мрачнее, насупился, сделавшись похожим на ворона кладбищенского. Игнат переминается, взгляд переводит с Евстигнея на меня, а с меня — на Арея. Тоже не ушел, стоит в стороночке будто бы, смотрит. Губу закусил до крови…
— Зослава. — Меня позвали издали.
Обернулась.
Не издали. Рядышком Кирей встал, кланяется… я бы тоже поклонилась, да боюся, что, если хоть мизинчиком двину, то и упаду.
— С вами… — Он осекся, наклонился, и лицо стало… таким от недобрым стало лицо.
Пальцы в щеки мои впились.
И когти не убрал, ирод этакий, чтоб ему роги узлом завернулись. Правда, пожелание мое, от сердца данное, исполняться не спешило. А Кирей наклонился к самому лицу…
Надо же, и от него медом пахло, тем самым, неправильным, который слишком уж сладок.
Глаза увидела я желтые, птичьи будто, со зрачочком узеньким.
И нос-клюв.
И губу, которая задралась, белые десны обнажив. И зубы белые, ровные… небось, за такие на рынке рублей пять дали бы.
— Егор! Емельян! — на голос его подскочили двое.
Близнецы.
Нет, они не говорили, что близнецы, но как-то сходства помеж ними было больше, нежели серед других.
— Проводите боярыню к целителям…
Куда мне идти-то?
К каким целителям… не дойду, нехай простит Божиня за слабость… как есть, не дойду… не способная я ныне на прогулку. Вона, целителей целая поляна, хотя ж все и Евстигнеем занятые, но ежели попросить кого, то и на меня в полглазика глянут.
Да только объяснить Кирею не вышло, он уже от меня отвернулся.
Над Ареем навис коршуном диким.
Жуть.
— Мальчишка! — Рык его грозный прокатился по полю, заполонил все пространство, породивши в моей голове тягостное гудение, будто не голова это вовсе, но колокол. — О чем ты только думал?!
И ответа не дожидаясь, ударил.
Как стоял. С размаху.
Кулаком в зубы.
Арей, дурень этакий, уклоняться не стал. Мог бы, я ж знаю, а тут… я крикнуть хотела, чтоб разняли, да земля вновь подо мною закачалась, заходила ходуном да и сбросила с широкое своей спины. И не миновать бы мне свидания с лужею, но упасть не позволили.
— К целителям, — строго сказал Егор.
А может, и Емельян… кто их разберет, бесов рыжих.
Под ручки белые подхватили, поволокли, и мне бы радоваться, что волокли с обхождением, не за ноги, да только не шел из головы Киреев лютый рык.
Бледное неживое лицо Евстигнея, которому ни целительницы, ни боярыня не помогли… и дым этот… огонь Ареев… мы бы без того огня точно не выбрались бы. Да вот только… откуда Арей взялся в том коридоре? Шел ведь… точно шел.
Наверх.
И не меня искал вовсе. Удивился, увидевши… додумать у меня не вышло. Разум вовсе поплыл, стало вдруг так хорошо, как никогда-то и не бывает. Увидала я себя словно со стороны, будто бы лужок, зеленою травкой поросший, в ней — одуванчиков цвет золотыми рублями рассыпан… и бегу я, чую босыми ногами, что травка мягкая-премягкая.
Воздух сладок.
Мед, а не воздух. И тепло так, но не спекотно, как оно на летней заре бывает… а я вот бегу, знаю, что надо бы успеть, что ждет меня и не чает дождаться тот, кто судьба моя есть.
И спешу к нему, а не успеваю. Уже и лечу по-над травой, вижу его… не человека — тень яркую, солнечным светом окутанную, будто пламенем. Кричу, чтоб дождался. А он… только головой качает печально.
Не время еще.
И лица-то не разглядела, дурища этакая.
ГЛАВА 24, где речь идет о целителях и опасных вопросах
В себя-то я пришла уже у целителей. То есть поначалу-то и не поняла, где это лежу, только что лежу на лавке широкой, на перине мягонькой да у самого окошка, которое хитро, полукругом. И в окошке этом — стеклышки цветные узором. Солнце сквозь них проходит и ужо свои узоры рассыпает по подоконнику широкому. И такие красивые, глаз не отвесть.
Но я отвела.
Тогда-то и увидала, что комната, в которой пребываю, велика. Что лавок в ней с полдюжины стоит, да только иные застланы покрывальцами ткаными. Меж лавками половички лежат.
Тихо.
Чисто.
Благостно.
А у меня слабость страшенная, позвать бы кого, но не могу. Только рот разеваю рыбиною да языком своим же едва ль не давлюся. Но вовсе подавиться не позволили, скрипнула дверца, и в комнате показалась знакомая старушка, которая на экзаменациях сидела. А я уж, признаться, и увидеть ее не чаяла.
— Очнулась, деточка? — спросила она сладеньким голосочком. — Вот и умница, вот и разумница… а то ишь, переполошила всех…
Ныне, без соболей, без перстней, она гляделась почти обыкновенно, небось, у нашей-то боярыни ключница имеется, так чисто сестра родная. Та же кругленькая, сладенькая с виду, да только с глазом таким, что барсуковские девки на очи ей стараются не попадаться.
Старушка руки вымыла.
Полотенчиком белым вытерла.
Подошла ко мне, положила на лоб.
— Тяжко тебе? А что ты думала, Зославушка… небось, с волками-то жить… чтоб в игры боярские играть, боярином уродиться надобно, а иных — зашибут и не вспомнют.
А руки у нее славные.
Теплые.
И тепло это будто бы сквозь кожу сочится до самого моего нутра. И нутро отзывается, пьет его.
— А ты тем паче девка… в мои-то годы и помыслить о таком неможно было, чтобы девка да серед парней училася… чтобы вовсе девка училася…
Наклонилась она ниже.
А я вдруг заглянула в бесцветные ее очи.
Прозрачные.
Небо таким прозрачным на излете осени бывает, когда близки уже мороза первые, когда вот-вот грянет гроза сухая. И поплывут тогда по вышине этакой косматые тучи, снегом до краев набитые. Холодно станет. Сумрачно.
Но пока — гориг-догорает осеннее солнце, последним делится с озябшею землей. И ныне я была тою землей, а еще — холопкою малолетней, которая боярскому сыну приглянулась дюже. Хороша была на свою беду, до того хороша, что и невестиных лет ждать не стал, велел в дом вести.
Постелю стлать поставил.
Не был он злым, как пугали. Не пил, как тятька, не грозился ремнем, да еще и подарки дарил. Когда сластей кулек или колечко какое, с камушком, или ткани отрез… и за первую ночь, стыдную, страшную, о которой и помнить не хотелось, рублей отсыпал золотом.
А после еще давал.
Рубли я прятала. И пряталась, знала, что завидуют, что многим девкам боярин по нраву, что любая побежит, ежель только глянет в сторону ее ласково. И глядел, и бегали, да только после все одно меня постелю стлать звал.
…женился вот на излете лета. На молодой да круглолицей, роду не самого худого. Два села в приданое дали, а еще рабов с полсотни, иных — редкого умения. Боярыня была тиха да незлоблива, и пусть шептались, что изведет меня со свету, а она жалела.
Читать учила.
Писать.
И дар свой пользовать. Она ж и уговорила на учебу отправить, мол, будет при доме своя целительница. Чем плохо?
Многое видала… и года летели, что страницы книги, которую передо мной кто-то да листал, и не было гиштории интересней.
Ушел боярин.
И боярыня преставилась, и дочка их единственная, любая, уже на погосте давно… а моя жизнь иною сделалась, уже, небось, никто и не помнит, что была Маришка холопкой вольноотпущенною.
Боятся.
И не зря боятся…
Закрыла я глаза, а как открыла…
— Вот ты какова, внучка берендеева, — Маришка, точней, Марьяна Ивановна, присела на краешек моей постели, ручки сухонькие сцепила, глядела… с интересом глядела. — И многое видала?
Соврать бы, что ничего не видала, да только язык на вранье не повернется.
— Все почти.
— Все — это вряд ли, всего, сколько ни гляди, а не увидишь. Что ж, уповаю лишь, что хватит у тебя благоразумия помалкивать…
Она провела пальчиком по щеке, и не тепло ныне исходило от него, но холод лютый. Подумалось вдруг, что целители не только исцелять гораздые.
Сердце запустить.
И остановить.
Кровь заговорить, чтоб из раны не текла… или сделать густою, такою, что сама жилы запечатает.
— Не думай о плохом, девочка. — Марьяна Ивановна поднялась. — Но будь осторожна. Не все люди хотят, чтобы в прошлое их заглядывали. У каждого своя тайна есть…
Коснулась груди своей, цепочки витой, некогда боярином подаренной. И круглого медальона с портретом… чьим? Некогда сына носила, да он, дара не унаследовав, в могилу рано сошел… и внук, и правнук… и не хочу узнавать, поелику права она: у каждого есть своя тайна.
И не мне их бередить.
— Ты лучше скажи, Зославушка, полегчало ли? — И вновь улыбается ласковою улыбочкой, которой нету у меня веры. Знаю, не способная она ныне на ласку.
Почему?
Видела ведь, да… не разглядела. Может, и к лучшему оно? Секретов-то у Марьяны Ивановны, чую, за долгую ее жизнь набралося немало.
— Полегчало, — ответила я.
Голова еще кружилась, и слабость никуда не исчезла, но сделалась обыкновенною, человеческою, каковая случается после долгое тяжкое работы.
— А… что со мною было?
— Истощение. Сил ты много отдала, девонька. Гляди, осторожней будь, а то этак и до донышка вычерпают.
— И умру тогда?
— Умрешь. А если выживешь, то дара своего лишишься… бывает и так.
Отвернулась.
— Отдыхай.
Отдыхала я целый день. А после еще один… и еще… и от отдыха этакого на стену лезти уже готова была, на которой все трещинки наизусть выучила. Где ж это видано, чтоб девка цельными днями на лавке полеживала да в окошко глядела. Да только резоны мои для Марьяны Ивановны резонами не были.
Она заглядывала по нескольку раз на дню, щупала лоб мой, теплом своим делилась, отчего меня клонило на сон, и еще от голоса спокойного, который меня за излишнюю суетливость отчитывал. И главное, что сны она мне завсегда светлые дарила, ясные…
На четвертый день явился Кирей.
— Здравствуй, боярыня Зослава, — сказал он и поклонился до самое земли, рукой по половичку мазнул.
— И вам доброго дня, Кирей-ильбек.
Сразу подумалось, что лежу тут встрепанная, простоволосая, в одной сподней рубахе, и то не в своей, моя-то хоть и не тонкого полотна, а шитьем украшена. Эта же серая да скучная, а местами и застиранная вовсе.
Я одеяльце выше-то подняла.
Ох и срам-то, срам…
Кирей же моего маневру будто бы и не заметил.
— Рад видеть вас, боярыня Зослава, в добром здравии…
Это он, конечно, поспешил. И хоть сама-то я себя здоровою мыслила, да вот только подняться с постели силенок моих недоставало.
Пробовала.
Дважды. И ежели первого разу и сести не смогла, то вчерась села… посидела минуточку, может, и того меней, и на подушки упала — слабость меня обуяла страшенная. Ажно дух заняло. А Марьяна Ивановна опосля, посмеиваясь, так молвила:
— А чего ты хотела, Зосенька? Организму отдых надобен. Магическое состояние и на физическом сказывается. Потому лежи вон… книжку читай.
И сунула книженцию толстенную, где про всякую немочь магического свойствия сказывается. Интересная книженция. Страшная только. Куда там глистам супротив сухотки насланной аль мушиное гнили… бабка-то мне про этакие страхи и не сказывала.
— …отрадою для очей… с немалым восторгом…
Я моргнула.
Книженция, в отличие от Кирея, никуда не денется. А то неладно выходит. Он тут с беседою, а у меня на уме одна гниль… и та мушиная.
— Чего? — спросила я, приподнимаясь на подушках. От неудобственно было беседовать лежучи. Нет, я слыхала, что некоторые барыни этак и гостей принимают, на романскую манеру. Развалятся на коврах и подушках, кофий из парпоровых чашечек попивают да и беседы ведуть всяческие. Только я ж не на подушках, на лавке развалилася.
И парпоровой чашки у меня немашечки.
И кофию… кофий вовсе вредный для здоровья, ежели Марьяне Ивановне верить. Но не о том речь. Получается, я лежу, Кирей стоит, нависает… болбочет чего-то… не то благодарит, не то попрекает, не то хочет чего. Сразу видно — боярин урожденный, с младенческих годочков приученный к политесам. Простому человеку и не понять с ходу, чего ему надобно. А у меня от речей этаких и голова гудеть начала…
Отрада… для очей…
— Кирей-ильбек, — со вздохом сказала я, понимая, что больше слушать его не сдюжу. — Красиво ты говоришь. Да только я — девица простая, к этакой беседе не приученная. А потому скажи-ка мне просто, для чего явился-то?
Думала, обидится.
А только глазищами сверкнул да разогнулся, оно и вправду, несподручно, должно быть, стоять ему этак сгорбившися… ручку за спину заложил.
Другою подбородок свой острый подпер.
И пальчиком этак по щеке постучал.
На меня глядит, а чего думает — пойди-ка, докумекай. Одно слово, азарин… наши-то попроще будут. А этот… то болбочет, то молчит, пялится… и я на него. А вырядился-то, вырядился… штаны широкие, из красного шелку да золотом шитые. Сапоги из сафьяну белого, в таких, небось, только по коврам и выхаживать. Камзола долгополая с каменьями блискучими нараспашку, под нею рубаха видна, простая, правда, из шелку азарского, а потому дорогущая. И поясом перехвачена широким, на две ладони. Знаю я такие… на две стороны тканный драгоценными нитями, и узоры на нем живые, кажный день — новые.
И хорош азарин.
Глядишь на такого и понимаешь, отчего иные девки в полон азарский и сами бегчи радые.
Вздохнул.
И так промолвил:
— Ты, боярыня Зослава, не держи обиды на родственника моего.
Я и не сразу-то поняла, об каком таком родиче он речь ведет. А понявши, только и смогла, что кивнуть. Мне-то мнилось, будто бы не держит он Арея за родню… выходит, ошибалась я?
— Он не желал причинять тебе вред. А что вышло оно так, то исключительно по незнанию. Молод он. Горяч. И не сумел рассчитать сил, ни твоих, ни своих.
Обиды на Арея я вовсе не держала. Да и то, как обижаться на того, кто вывел? Ему я жизнею своею обязанная. Да и не только я.
— Так ведь ты, Кирей-ильбек, не сильно старше его будешь…
— Старше, — серьезно ответил он. — Но дело не в возрасте. По годам у нас разница невелика. А учили меня иначе.
Руку опустил.
Или не опустил. Сама упала бессильно, плетью мертвою.
— Мне было положено наследником стать над родом.
Взгляд отвел. Неужто опасается, что увижу я больше, чем он сказать желает?
— И ныне отец мой, пусть множатся годы его, не переменил решения…
…многим оное не по вкусу, небось, Кирея свои и за азарина не держат.
— …а потому лежит на мне ответственность за всех моих родичей и дела их.
Кулак стиснул, сильно, до белых пальцев. А глазищи так и полыхают, того и гляди, не удержится на краю, не управится с пламенем своим.
Но Кирей лишь вдохнул да выдохнул.
— А коль так, то и прошу я у тебя, боярыня Зослава, не держать обиды на Арея за поступок его. И во искупление вреда, тебе причиненного, а тако же во примирение наше принять скромные дары…
…слукавил, ирод азарский… не о дарах, о скромности.
Во примирение…
Да чтоб я еще этак с азарами замирялася!
Нет, тогда-то Кирей шкатулочку одну протянул, малехонькую, с кулачок младенческий. Я-то, грешным делом, и подумала, что не будет беды, ежель шкатулочку сию приму. Откажусь — оскорбится еще… или думать станет, что и вправду на Арея обиду держу… да и, чего уж тут душенькою кривить, понравилась мне эта шкатулочка прям так, что спасу нет.
Мала.
Кругла. Сама не из золота, а из камня зеленого резаная. Ноженьки гнутые, в серебряной оплетке. Крышечка с тонюсенькою петелькой, в какую только ноготок от мизинчика и войдет. И по крышечке этой змеи будто бы ползут, золотые и серебряные, стелются, свиваются причудливым узором.
В такой бисер сподручно хранить будет.
Аль иглы вот, чтоб не терялися.
— Благодарствую, Кирей-ильбек, — вспомнилось тут же, что рукоделие свое я и не то чтобы не закончила, не начала даже. Все недосуг было…
— Это тебе спасибо, боярыня Зослава, — ответил он и вновь поклонился. А после добавил так тихо-тихо, — остальное уж, прости, сюда не нес. Хозяину передал. Он озаботится…
И ушел.
Скоренько так, я и осталася со шкатулкою этою, ни слова сказать не успела. Марьяна ж Ивановна тут как тут.
— Что, — говорит, — Зослава, нашла себе кавалера?
— Да разве ж кавалер это? — отвечаю, а сама на шкатулочку гляжу, любуюся… нет, мне и прежде-то хлопцы подарки делали. Петушков вот сахарных, и еще ленту длинную, атласную. Но то из благодарности за помощь, а не от сердца.
И это тоже, выходит, благодарность… только понять не могу, за что?
— Твоя правда, Зослава. Не тот он мужчина, за которым жизнь будет тихою. Да и разные вы слишком. Ему тут будет душно. А ты в степях зачахнешь.
Шкатулочку она взяла.
В руках повертела.
Поцокала языком.
— Не жалеет, однако… стало быть, дорог ему племянничек… интересно.
— Не понимаю!
— Чего ж не понять-то? — Шкатулочку она возвернула, бережно так. — Там горюн-камень. Видишь змеи? Это не просто змеи, но осемары, дочери Великого Осема-полоза, который поставлен был стеречь пуп мира. Из пупа этого сочится сама кровь земли, именуемая горюн-камнем. И столь великую силу имеет, что малой щепотью ее мертвеца оживить можно. Спрячь этот дар, Зослава.
И сама она моею рукой шкатулочку накрыла.
— Найдутся те, которые решат, будто бы им горюн-камень нужнее.
Я только и смогла, что шкатулочку заветную под одеяло убрать.
Приняла подарок… и как теперь?
Возвертать?
Сказать, что чересчур уж велик этот дар… а не выйдет ли хуже?
— Не примет уже, — усмехнулась Марьяна Ивановна, вновь сделавшись похожею на лесную старушку, ликом круглую, языком сладкую, да только с недоброю повадкой людей в печь совать. — Оскорбишь ты его крепко, коль от дара откажешься. А то и назовешь его ворогом. Таких же, как Кирей, лучше в друзьях держать… целее будешь.
Она поднялась и ушла бы.
— Почему?
Леденцы… ленты… ладно, шкатулочка, теперь мне стыдно было за то, что поддалась искушению… бисер сыпать… иголки… полежат иголки в бабкином туесочке.
— Я ведь ничего не сделала!
— Сделала ты много. — Марьяна Ивановна повернулась ко мне спиною. И глядеть на эту спину было отчего-то страшно. — Царевича… или царевичева дружка вон вытащила, от погибели спасла. Силу свою едва не до последней капли отдала… или, вернее, Арей из тебя вытянул.
Но я ж себя спасала, не его… сама бы я точно…
А Марьяна Ивановна вздохнула.
— Глупая ты девка, Зослава… гляди, будешь каждому встречному верить, так глупой девкой и помрешь. Спи ужо. Завтра выпущу.
Спала я беспокойно. Может, разбередил душу Киреев подарок. Может, отвыкла я спать сама, без магической Марьяны Ивановны помощи, да только и во сне не отпускали вопросы.
Что с Евстигнеем случилось?
И куда Арей шел… он же удивился, меня встретив… и… и не только удивление было на лице его. Разочарование? Будто бы я помешала… чему?
И главное, хочу ли я знать это?
ГЛАВА 25, в которой Зослава получает свободу от целителей, а тако же наставление
Не обманула Марьяна Ивановна, когда говорила, что отпустит меня. Спозаранку явилася. Щупала. Трогала. В глаза глядела, в рот пальцы совала. Трубочку хитро вырезанную к груди приставляла, сердце слушала. А после встать велела.
Я и встала.
Перед глазами мошки красные заплясали, закружили-завертели, да и унялись.
Сделала я шажочек, за стеночку придерживаясь… а потом и другой… и третий… оно, конечно, не шибко-то выходило, да только мне спешить некуда. Потихоньку как-нибудь и доберуся.
— Питаться тебе надо усиленно. Побольше сладкого, не бойся, что фигуру попортишь. Хотя ж ты не из этих… а то удумали тоже, диеты блюсть для пущей томности. — Марьяна Ивановна наблюдала за мною с немалым интересом. Аккурат что наша боярыня на мельничихиной свадьбе, которую почтить изволила, вспомнивши, что некогда на родины мельничихиного сынка, того самого, что женился, рубль жаловала.
Тоже восседала за красным столом.
Ела мало.
Пила и вовсе что утица, да только глядела по сторонам… любопытственно ей было. Чай, у бояр-то свадьбы иначе гуляют.
— Нагрузки увеличивать постепенно. Физические. Никакой магии как минимум неделю, а то и две, пока полностью не восстановишься. Придешь ко мне… денька через три придешь. А там и поглядим. Девка ты крепкая, коль очуняла, то и дальше жить будешь.
Сказала и вышла…
А я и осталась, как была, босая и в споднем. Благо, тотчас прибегла девица с целительского, которая вновь же и в глаза глядела, и в уши, и трубку прикладывала, после и одежу отдала мою.
— Там тебя ждут, — сказала сквозь зубы. Сразу видать, боярыня, и не по нраву ей, что со мною возиться надобно, да только не посмеет она Марьяне Ивановне и словечка поперек сказать.
Одевалась я сама, неспешно, поелику каждое малое движение давалось с превеликим трудом. Руки почти не гнулися, ноги — так наоборот, гнулися аж занадто, норовя в коленках переломиться. Шея деревянная. Голова пустая, только и годная, что косу держать. И та заплетена наспех.
Ждал меня, вот уж диво, Фрол Аксютович.
— Доброго дня, Зослава, — прогудел он, и от голоса его занавесочки на окошке затряслися. А может, не от голоса, но со сквозняку. — Идем. Провожу.
И ручку подал.
Мне только и осталось, что на ручку эту опереться.
Шли мы по коридору молча, а коридор этот был на диво безлюден. На занятиях все? Аль просто в крыле этом народу немного?
— Сказывай, — велел Фрол Аксютович и рученькою так над головой провел, будто паутину сымая. Я глянула.
Нема никакой паутины. Зато висит над головой кисея будто бы… висит, переливается так, что глядеть больно. Для чего повешено — тут и пытать не надобно, сама разумею.
— Об чем сказывать?
— Обо всем…
Обо всем если… коротко вышло, сухо. Зато по делу.
— Значит, на дверь случайно набрела?
— Да.
— И увидела человека, решила помочь…
— Да.
— На себе тянула…
— Да.
— Не тяжко тебе было? — И глядит этак, не то с насмешкою, не то с недоверием.
— Не тяжко, — отвечаю и в глаза гляжу. А что, мне скрывать нечего. Как оно вышло, так и говорю, ничегошеньки от себя не добавляю. — Дым этот… мерзотный больно.
— Но безвредный… поначалу, во всяком случае. — Фрол Аксютович взгляд отвел. — Вот что, Зослава. То, что ты мне тут рассказала, не тайна вовсе… и вышло все… уж больно удачно вышло.
На лествицу вывел, я как глянула на ступеньки числом превеликим, так прям и заколотило всю. Хоть ты обратно на лавку к Марьяне Ивановне просись.
— Если кто расспрашивать станет, сказывай смело. — Фрол Аксютович глянул на лествицу, на меня, вздохнул и на руки подхватил. Не лествицу, конечно, меня. Она-то каменная, не кажный волот подымет. Я и тоже не леконькая, да только Фролу Аксютовичу разок дунуть хорошенько, и полечу пушиночкой. — Только, дай себе труд, девонька, запомнить, кто и о чем спрашивать будет. И коль найдутся какие вопросы интересные, аль станет кто любопытствие проявлять чересчур уж, так скажи о том своему наставнику.
На руках меня давненько не носили, с детских полузабытых времен, когда то тятька, то дед… девок иных парни, конечно, таскают, чтоб силушку свою показать, надежу, да только выбирают которых похудей, а то мало ли, вдруг да силушке оной убыток случится, и заместо хвастовству чистый позор выйдет. Меня-то поди подыми… а Фрол Аксютович несет, не запыхивается.
— Дело это, Зославушка, темное… может, и случай к случаю пришелся… а может…
Не договорил.
Лествица закончилася. И меня поставили на землю.
Далее уж он ничего не сказывал, а я не спрашивала, хотя ж мучило меня любопытство со страшенною силой. Да только не тот Фрол Аксютович человек, чтоб с расспросами лезти.
Не по чину мне.
Ничего… вот Арея повстречаю, всю правду мне расскажет.
Надеюся, что правду.
А в комнате меня супрыза ждала, сиречь дары Киреевы, чтоб ему век на одном боку спать! Я попервости ажно решила, что свернула не туда ненароком, что не моя это комнатушка… куда что подевалося? А главное, откудова что взялося?
Закрыла глазоньки.
Открыла.
Нет, не переменилося ничего, а комнатушка-то моя, только чужая.
Ковры на полу лежат азарские, пышные. А на стенах — иные, тонкого плетения да шелковой нитью шитые. Я этакие только издали и видала. Кровать новая, резная, покрывальцем узорчатым прикрыта. Подушки белоснежною горою вздымаются. Манят прилечь…
Стол новехонький.
Заместо сундука — шкап узенький с дверцами резными…
— Зославушка! — Хозяин аккурат из шкапа и выбрался. — А схудала-то как! Побледнела… бедная моя…
Кружит, причитает, за ручки хватает да к столу ведет. А на нем — шкатулочек с дюжина, от махоньких да преогромное…
— Сейчас принесу да пирожочков… ныне хорошие пирожочки, со сладеньким творожком… да с малиночкою… с яблыками… и компота вареная, свежая…
— Погодь, — я огляделась. — Откудова…
Хозяин вздохнул да понурился.
— От Кирея-азарина…
От кого ж еще… а ведь чуяло сердце, что неспроста дары энтие.
— Пошто принял?
Хозяин еще больше понурился, обеими ручками в бороду вцепился да молчит. Но и мне сказать нечего… иные дары… чтоб ему… век же ж отдариваться стану!
А не возвернешь ныне.
— Зославушка, — жалобно произнес домовой. — Так ведь хорошие ж вещи… поглянь, теперь тебе и в ножки тепленько будет, и спиночку свою не застудишь. А то девке спину студить — страшное дело. Ты приляг, отдохни… перинка-то мяконькая, пуховая… а азарин… что азарин? Хоть и неклюд, а заботливый. Не то, что царевичевы люди… небось, все-то знают, что ты царевича спасла, едва живот свой доусмертку не надорвала. И что? И ничегошеньки! Хвоста собачьего не прислали, спасибочки не сказали. А вот азарин — со всем уваженьицем за сродственника своего благодарствие…
Спелись, значит.
Ох и хитер Кирей-ильбек, вон, и к Хозяину правильное слово сумел подобрать, а говорят, будто азары с малой нежитью не ладят…
— Ты не гляди, что с лица темен… — Хозяин, почувствовав, видать, мою слабину, усадил меня на перину. Подушечками со всех сторон обложил, аки дитя малое, и в руку пирожка сунул.
Того самого, со сладким творогом да малиною.
Малину я дюже люблю.
— С лица-то воду не пить… а и что рогатый, то не беда… буде за что ухватиться…
Пирожка я откусила.
И представилось вдруг, как веду я Кирея к алтарю Божининому, за роги ухвативши… или не к алтарю… небось, в Барсуках Мазуриха своему деду всю плешь выела-выдрала. Говорят, в молодые годы больно охочий он был до бабского полу. А она — женщина сильная, горячая, чуть чего, таки сразу в волосы и цеплялася, а как полысел, то и беда стала. Не уцепишься…
Роги — не волосы, не отпадут…
Сама аж от таких мыслей в удивление впала, а как выпала, то и обнаружила, что третий пирожок уж доедаю, да с компотиком.
Хозяин же суетится… шкатулочки расставил… ленты показывает, жемчуга перебирает… бурштыны и фирузу пересыпает, будто горох какой.
А я гляжу на это благолепие и как-то вот… не так на душе… неправильно.
Пускай обижается Кирей, хоть весь на обиду изойдет, да только верну я ему жемчуга с фирузой… и перстенечки, и ленты эти… может, конечно, ему оно и не в убыток, но и мне с этих даров сердцу не прибывает. Одна тоска…
Но о царевой благодарности Хозяин печалился зря.
ГЛАВА 26 О царевой благодарности
Случилось все так.
Третьего дня заявился ко мне самолично Еська. Сурьезный такой. Лицом темен. Глазами скушен. Волосы зачесаны гладенько. Веснушки и те поблекли.
— Матушка тебя видеть желает, — сказал. И добавил мрачно: — Поторопись…
Я-то грешным делом и не докумекала, что за матушка у него. Оттого и пошла как есть. А что, платье на мне чистое, сама умытая, и волосы прибраны, не стыдно перед кем показаться.
— А как твою матушку сюда пустили-то?
Вспомнилось, что в Акадэмию первые полгода сродственников не пущають, да и после дозволено бывать тут не всякому. Выходит, не холопских вовсе кровей Еськина матушка.
— Ее не пустишь. — Он глядел исключительно под ноги. И шел быстро, едва ли не бегом. Я вот не поспевала. Конечно, ходить-то ныне сама ходила, но так, чтобы вовсе споро, — то нет.
Спустились мы на первую поверху… от тогда-то и поняла я, про какую матушку Еська сказывал. Да и как не понять, коль дорогу рынды перегородили.
— К царице мы. — Еська вытащил из кармана бляху золоченую да под самый нос сунул. Рынды и расступились, словечка не сказавши. — Идем, Зослава. Матушка не любит ждать…
Матушка, значит…
Оговорился или же…
А царицыных людей туточки немерено. И рынды с палками своими, и боярыни, и старухи из праведных, и карлы с карлицами, и черный, будто обгоревший, человек, в перья ряженный… всех разглядеть не успела.
Еська двери передо мною распахнул.
— Иди, Зослава… кланяйся.
И сам поклонился низенько, до самой земли.
— Исполнил я твое пожелание, матушка.
— Спасибо, Есилий, — отвечал ему голосок мягонький. — Иди, мальчик мой, погуляй пока… а ты, сударыня Зослава, разогни спину.
Ага, когда б она так легко разгибалася. Ныне-то мне с собственным телом сладу нет, а еще оробела безмерно. Неужто взаправду царицу увижу?
Не поверит бабка!
Как есть не поверит!
Про царицу-то у нас всякого сказывали, и не ведаю я, что из того правда. Говаривали, будто бы царь наш, да продлит Божиня годы его, женился три раза. Первая его супружница, из Голштынии родом, прожила всего-то год, да и померла родами. Все целители бились-спасали, но, видать, сама Морена над нею стояла. Горе-то великое приключилось, и на всех землях велено было печалиться, молиться за душу царицы несчастное и младенчика ее, который всего-то день прожил. Шептались, что уродился он слаб и мал, а иные говаривали, что и о двух головах. Верно, когда б живым остался, дюже разумно правил бы. Царю-то две головы сподручней, нежели одну… хотя ж, на какую тогда венец царский вздевать?
Или два сделали б?
Но не суть дело. Как час печали вышел, то и женился царь наш другим разом. Оно и верно, никак неможно, чтобы царю да без наследников быть. Пусть и поставлен он Божиней над иными людьми, но и он смертный. Выйдет несчастие, тогда и смуты не миновать. Взял на сей раз супружницу из своих, из боярских дочек. Семеро целителей ее глядели, а потом еще царева матушка, которая жива была, с иными сведущими бабами щупала, чтоб здорова была невестушка, задом велика и в грудях крепка. Глядели, но, видать, недоглядели. Десять годков прожил царь с супругою, да ходила она праздна, то ли проклял кто, то ли с рожденья пустоцветом была, но на одиннадцатый год боярское собрание в один голос постановило, что сие есть знак женское болезни, управиться с которою целители не способные. А стало быть, неможно и далее Светлолике царицею быть. Надлежно брак сей расторгнуть, пред ликом Божининым царя развенчати. О том постановлении и боярском указе, бабка помнила, в каждом городе кричали. И грамоты вешали для тех, кто читать способный.
Она же добавляла, что сие — не по-людску, что, коль взял жену пустую, то с нею и живи… да только у царей иные резоны. И развенчали, и выслали царицу в дальнее имение, а она возьми и не доедь. Не то грибами потравилася в придорожном трактире, не то на себя руки с позору наложила, не то и вовсе бояре отравили, чтоб царь свободен стал. Кто теперь разберет? В народе о том по сей день шепчутся, хотя ж знают, что за разговоры этакие и плетей получить недолго, а то и в остроге оказаться.
Я-то мыслю, что ежели б хотела она сама травиться с позору, то еще до указу сподобилась бы. А так… к чему? Убивать ее? Так ведь лишена была Светлолика и звания царского, и многих привилегий, каковые царице положены. С грибами же дело такое, я их в трактирах не ем никогда: кто знает, как и где собирали их?
Однако не о грибах речь ныне.
Третьею царицею и стала Межена, а откудова она взялася, о том никто не ведает. Одного дня просто полетели по царству Росскому гонцы, разнесли весть прерадостную: женится царь! И загудели колокола при всех храмах. А в каждом селении, великом или малом, поставлено было угощение: мужчинам от тринадцати годочков стопка царская, а женщинам и детям — пряник… я того не помню, а вот бабка царский пряник вспоминает частенько, вздыхает, что сберечь не сумела. Две седмицы хранила, пока вовсе не зачерствел, а после и мыши добралися… пришлось ести.
Говорит, вкусный был — страсть.
Про новую-то царицу тоже всякого говаривали. И что роду она хотя ж и боярского, но захудалого, а то и вовсе простого, но сие, как по мне, перебор. И что хороша собою невмочно. С красы той царь и позабыл про все. И что не с красоты, а чародейства, которым она володает. И что прежнюю царицу-то она и прокляла, на ее место пожелавши сесть… и самолично ее потчевала травяным отваром, чтоб не понесла та дитя… и травила…
Как по мне, пустое то. Небось, Светлолика десять годочков рядом с царем провела, а вокруг нее и магики были, и целители. Неужто не заметили б этакого лиходейства? Да и Межена, когда за царя выходила, юна была зело. Не с младенческих же год она ворожила?
Нет, дурное то дело — сплетням верить… бабка говаривала, что вся крамола сия пошла единственно от нелюбови боярской. Многие-то мыслили своих дочек на трон усадить, а тут появилась этакая раскрасавица, безродная, почитай…
И сына родила.
А через год — Зимовита… там и третьего, молодшенького. Жить бы им и радоваться, но, видать, и вправду кто царя проклял.
Восьмой годочек старшему царевичу пошел, когда недоглядели няньки, утоп он в корыте утином. Большое разбирательство учиняли. Виновных всех казнили, да что с того толку… а спустя полгодика и молодшенького сына Межены змея ужалила. Как пробралася в терем? Никто не ведает. Только не спасли его целители… тогда-то царь и слег.
Бабка моя сказывает, что смутное время то было… тяжкое… и азары с той болезни головы подняли, а после и вовсе войной пошли, думали, переломят хребет Росскому царству, раз уж царь хворый. Да только не вышло. Ожил. Вспомнил, что под рукою его многие люди. И войско собрал превеликое… но то — другой сказ.
Царица-то, пока царь воевал, быстро в тереме свои порядки завела. А царевича-Зимовита спровадила с доверенным дядькой в имение дальнее, к сродственнику своему али еще куда, никто не знает, куда… тогда-то и приятелей ему подыскала, с лица схожих.
Стало быть, не верила она боярам.
И никому-то… и царь, возвернувшись, ни слова супротив не сказал, хотя ж вся боярская дума требовала царевича возвернуть. Слухи самые разные ходили. И будто бы подменили Зимовита, и будто помер он вовсе, и заворожили, заморочили… да только царь, постаревший, но грозный, слухи те каленым железом пресек. А когда братец евоный смуту затеял, решивши самому на трон сести, то и казнил смутьянов такою казнею лютой, что по сей день об ней говорят шепоточком.
Царица же… в народе ее медведицею прозвали. Мыслю так, что не за мягкий норов вовсе.
Говаривали, что на Советах она по правую руку царя сидит. И слушает беседы боярские, которые не для женского розуму вовсе, но она понимает кажное словечко. А как не согласная с чем, то и говорит, чего думает… и не только говорит.
Делает она многое.
Держит стольный город в рученьках своих, даром что белы они да холены. И коль понравится кто, то поднимет, возвысит над иными, невзирая на чины и звания. А коль невзлюбит, то и, почитай, в пыль сотрет, а пыль ту по-над рекою развеет, и не станет ни человека, ни памяти о нем.
И давно уже шептали-перешептывались, что, дескать, не царь правит, ослабел он, сердцем сдал да раны боевые сказываются, но она, Межена-медведица, и многие тому не рады. Как помрет царь, то поднимут бояре смуту великую, будут царевича требовать. А ежель не будет им царевича, то и ее на колья подымут с превеликою радостью.
Ах, мысли сии крамольные пролетели, сгинули, будто бы их и не было.
Я же глядела на ручку царскую, для поцелуя протянутую.
Узенькая ладошка. Пальчики и вовсе тонюсенькие, что хворостиночки. Перстнями густо унизаны, и каждый — с камнем. И чую, что не простые то каменья…
— Не бойся, девица Зослава, — вновь обратилась ко мне царица. — Посмотри на меня.
Не посмела я ослушаться этакого приказу.
Глянула.
И обомлела.
Слышала я, конечно, что и годы мимо царицы прошли, не тронув красы ее необыкновенное, да только слышать — одно, а видеть — другое. Стоит она передо мною, усмехается.
Сама-то невысокая, но ладная.
Хрупкая, что первый лед осенний. И кожа белая, парпоровая, светится изнутри будто. Румянец на щеках девичий. Губы красны. Глаза темны, что звезды…
Волосы, в косу плетенные, золотом отливают.
— Вот, значит, ты какова, внучка берендеева, — сказала мне царица и обошла, разглядываючи. — Случалось мне видеть берендеев, но все больше мужчин… и все же кровь не спрячешь…
Она мне и с шапочкою своею до плеча не доставала… и неудобственно было глядеть на царицу сверху вниз. Обидится еще, аль оскорбится.
Обошла.
Остановилась передо мной. Смотрит… и перстеньки свои поглаживает.
— Что ж, девица Зослава, прими мою сердечную благодарность за то, что сына моего спасла…
— Я не спасала… не только я…
Усмехается.
А у меня прям язык онемел, не приученный он с царицами беседы весть. Тут же ж словечко не так скажешь и осрамишься на всю жизнь.
— Что ж, скромность украшает девиц…
И сама в креслице села.
Мне еще подумалось, что креслице этое, на гнутых ножках, головами золочеными клювастыми украшенное, специательно для нее поставили. Быть может, из университету самого принесли, потому как не помню я, чтоб в общежитии у нас мебель подобная имелася.
Я же так и осталась стоять.
Но вот диво, перед женщиною этою я себя чувствовала крохотной, низенькой да нескладной.
— А благодарность — царей… и цариц. Пожаловала бы я тебе, как водится, шубу со своего плеча, но вижу, что пользы от сего дара будет немного. Потому скажи сама, чего желаешь…
Сказала так и замолчала.
А я… я вот просто… не знаю, ежели б седмицу тому спросил кто, чего желаю, верно, многое сказала б… а теперь вот все былые желания показались мелкими. Не о курах же мохноногих царицу просить, хотя ж и говорят, что куры те несутся преогроменными яйцами, кажное — на два желтка. И не о шелковых отрезах, что на рынку приглядела.
Ленты… рубли… мелко это, да и… жениха я себе и без царицы выберу. Поняла я вдруг, что все-то у меня есть. А чего нету, того и не надобно.
Мне не надобно.
— Спасибо, матушка-царица, за ласку, но мне и слова твоего доброго хватит. А вот другому человеку, который и меня, и сына твоего вывел, свобода надобна. Может, статься, что и сам он ее добудет. Но может, и иначе все выйти. И потому прошу я не за себя, а за Арея…
Царица слушала.
И выслушав, кивнула.
— Попробую я помочь этой беде, Зослава. Но… был бы из моих рабов, отпустила бы. А над чужими лишь хозяин властен. Коль не захочет боярыня расстаться, то и царский указ ей не указом будет…
Ох, как не по нраву пришелся мне сей ответ.
А с другое стороны: не царь над Правдою стоит, но она над царем. На Правде, небось, все Росское царство и держится.
— Пока же возьми, Зослава, — протянула мне царица перстенек, — примерь. Не бойся, впору придется… берендеи, конечно, сильны, но порой и сила не спасет от удара в спину. Так оно надежней будет…
Перстенек и вправду по руке пришелся.
Одно слово — зачарованный…
ГЛАВА 27, где ведутся беседы и шутятся шутки
Следующая седмица пролетела, что дым над рекой. И провела я ее, стараниями Архипа Полуэктовича, в библиотеке. А что, раз уж мне на круг, ледком прихваченный, неможно, поелику тело мое еще к физическим нагрузкам непригодное, то в библиотеках мне самое место.
Так и сказал:
— Иди-ка ты, Зослава, погрызи гранит науки. А коль погрызть не выйдет, то хоть помусоль слегка…
Шутит, значится.
И список выдал вопросов, по которым мне реферату сочинять надобно. А по мне, так лучше уж на круг, или на козла злопакостного, чтоб ему все четыре ноги разом переломило. Нет, я-то девка грамотная, ученая, однако же… терялася вот в университетской-то библиотеке. Да и как не потеряться, когда она преогроменная? В три этажа. Комнат — не счесть, и кажная — с избу нашую будет. И главное, все от пола до потолка книгами заставлены. Я как в первый-то самый раз попала, то и обомлела. А в голове одна мысля вертелась: это же сколько жить надобно, чтоб прочесть все? Арей тогда еще посмеялся, мол, никто не читает всего. Только по специализации. И показал полочку, где для таких ось, как я, студиозусов книги стояли…
…об Арее думать не хотелось.
Сгинул он.
То есть я точно знала, что не сгинул. Видела издали. Да вот явственно избегал он меня. Стыдился? Или не желал беседы, наперед зная, что вопросы я стану задавать неудобственные? Оттого лезли в голову мысли вовсе непрошеные.
Небиблиотечного свойства.
— Зося, а Зося… — Еська плюхнулся на лавку.
Пахло от него ядреным потом и еще пирожком, который он, презревши все правилы — есть в библиотеке строжайше запрещалось, — вытащил из кармана. Небось, вновь в столовой украл.
Не кормят его, что ли?
— Чего надобно?
Не скажу, чтобы после недавнего происшествия царевичи ко мне вовсе переменились. Переменились, то верно, только не с благодарностями поспешили, а сделали вид, будто бы меня вовсе не существует.
Сторониться начали.
— Хочешь пирожка? — Еська разломил его пополам.
С капустой.
Квашеной.
Квасили тут иначе, чем в Барсуках, и выходила капуста не самою ладной, без хруста, кисловатою чрезмерно. А утушенная и вовсе смак теряла.
— Нет, спасибо.
— Ну как знаешь, — он откусил половину. — Я от страсть до чего оголодавши…
Оно и верно, судя по виду, Еська аккурат с утренней пробежки в библиотеку заглянуть сподобился. Вон, и штаны в грязюке, и с сапогов на ковры библиотечные нападало…
— Жалко мне тебя, Зося. — Он поставил локти на стол, я едва-едва поспела книжку убрать. И главное, нарочно ведь! Вот же… недопороли в детстве, видать. Небось, моя-то бабка, вздумайся мне в грязных сапогах да по дому-то прогуляться, мигом за лозину схватилась бы.
А уж жирными руками книги мацать — вовсе того вообразить неможно.
— С чего бы?
— Да сидишь тут, чахнешь над книгами… того и гляди, вовсе зачахнешь.
Он сунул остатки пирожка за щеку, которая оттопырилась, будто бы у Еськи зуб разболелся.
Зачахнуть за книгами… об этаком я не думала.
— Вон, — с трудом пирожок прожевавши, Еська подвинулся ближе, — поглянь на деда Нестора… видишь, до чего схуд? Высох весь прямо. А отчего?
— Отчего?
Дед Нестор служил при библиотеке старшим библиотекарем. Был он немолод, благообразно сед и неизменно строг. На студиозусов взирал с немалым подозрением, выделяя тех, кого особенно недолюбливал.
— Или вот Ильюшку нашего взять… книжная душа. — Еська подвинулся еще ближе. Теперь он говорил тихо, доверительно. — Хороший парень. За него вот сердце болит.
И руку прижал.
К правой стороне груди. Хотя ж, может, у него, охальника, аккурат там и сердце. Не удивлюся.
— Вот как и ты над книгами чахнеть… и весь заморенный, дальше некуда…
Как по мне, заморенным Илья не выглядел. Хотя стоило признать, что был он куда бледней прочих, не считая Игната.
— Ему ж двадцати нема еще, а уже, смотри, глаза ослабли. Спина кривая…
…про спину Ильюшину наставник и вправду говорил недоброе, грозился, что того и гляди горбом она застынет.
— С животом тоже неладно. И того он не ест, и этого…
— Ему ивовой коры попить надобно. И льняного семени. Хорошо от живота помогает, — поделилась я с Еськой, потому как жалко было боярина. — Еще рыльцев кукурузных.
— Про рыльца — всенепременно передам. — Еська облизал жирные пальцы. — Но я не о том! Ты вообще, Зослава, хотя ж одного книжника здорового видела?
Я пожала плечами. Здорового аль нет, но знакомых книжников у меня было немного.
— То-то же! — незнамо чему обрадовался Еська. — А я тебе скажу! Это все из-за пыли. Чуешь?
И за мою книжку, где повествовалось о правилах сочетания младших рун, хвать. Грязными руками! Я и возмутиться не успела, как Еська эту самую книжку под нос сунул.
Только и чихнула.
И вправду, пыльная, а главное, местная пыль едкая, прям спасу нет.
— Вот! Видишь?
Книжку он на место возвернул.
— От нее все болезни идут! И спину ломить начинает. И глаза слабнут. И кашель привязывается, да такой ядреный, что не каждый целитель справится. А самое страшное знаешь что?
Еська шептал, а я поневоле наклонилась.
Вот оно как выходит.
— Что? — шепотом поинтересовалась я, не ведая, надобно ли мне этакое знание.
— Что она в уши и нос лезет. — Еська нос свой курносый мацает. — А оттуда уже и в мозги.
И пальцем по лбу постучал.
Мне.
— Вот когда человек тренированный, читавший много, то оно и ничего, поболит голова денек-другой, да и успокоится.
Он пальчиком книжечку отодвинул.
— А если…
Я ж книг столько доселе никогда не читала. И страшно подумать даже, что этая пыль со мною сотворить способная.
— А если не тренированный, — с тяжким вздохом произнес Еська, — тогда от нее мозги пухнуть начинают. У некоторых так пухнут, что потом прямо через уши и лезут.
Тут-то я не поверила.
Да, головою маяться случалось, хотя прежде за мною этакого недугу не водилося. Я-то списывала на тое, что с непривычки оно: когда столько всего в голову впихнуть пытаешься, знамо дело, болеть будет. Небось, когда наешься от пуза, пузо оное тоже мается, пока не пообвыкнет.
— Не веришь? — Еська обиделся. — Я ж как лучше хотел. Об этом все знают… Или думаешь, отчего боярские дочки в библиотеку сами не ходют? Шлют кого попроще…
А ведь верно… ежели оглядеться, никого тут нету, чтобы исконного боярского роду.
— Мое дело предупредить, — царевич поднялся, — а ты уж сама, Зося, думай… да только долго не задумывайся. Как мозги через уши полезут, тогда поздно станет.
Ночью спала я плохо.
Спросить?
У кого? У наставника? Неохота к нему с этаким глупством соваться… а если не глупство вовсе?
Но неужто не упредили бы… Или привыкшие, что студиозусы — люд книжный, к пыли устойчивый… еще словечко такое имеется, иноземное… напрочь из головы вылетело.
И главное, что чем дольше думаю, тем больше голова болит. В ушах же свербение некое появилось. Я и пальца сунула, глянула и приспокоилась: чистый. Уши-то я мыть привыкшая, а все ж таки нельзя Еське верить, вот чую нутром своим, что нельзя.
Из тех он людей, несурьезных, которым байку присочинить, что до ветру сбегать.
Однако голова…
Три дня я маялась, и в библиотеке стала чувствовать себя на редкость неудобственно. Все принюхивалась, приглядывалась. Четвертого же дня ко мне Еська сам подошел. В библиотеку, правда, соваться не стал, на улице, где мне велено было гулять, выцепил.
И верткий такой, зараза! Раз — и под локоток ухватил, пристроился рядом… а вынарядился-то… шальвары шелковые червоного яркого цвету в сапожки заправлены. А те — с носами гнутыми да на каблучку. Кафтан золотой мехом оторочен. Шапка высокая заломлена… красавец. Только вот физия шельмовская к этакому-то наряду не больно идеть.
— Как ты, Зославушка? — поинтересовался любезно. Идеть шаг в шаг, головою крутить, а девки, которые гуляли не по медицинское надобности, но сами по себе, прям обомлели.
И лица у них сделались такими… недобрыми.
Царевич он или так, но не по чину ему со мною под ручку гулять. Я это разумею, и Еська разумеет, оттого и скалится во все зубы, а девкам знай подмигивает.
Дразнит.
— Спасибо, хорошо, — вежливо отвечаю, а сама только и думаю, куда бы этого кавалера нежданного спровадить.
— А мне так не кажется. Побледнела ты… щеки запали…
Оно-то, конечно, и щеки запали, и в иных местах убыль случилась, но то, ежели целителям верить, от перерасходу сил.
Ничего. Наем еще, было бы чем есть.
— Глаза-то, глаза краснющие… — И рукой перед глазами помахал. — Слезятся…
Сразу как-то и слезы навернулись.
— Говорю же, стерегися книг… небось, и голова болит?
Я кивнула. Заболела… вот прямо тут и заболела.
— Надо ее померить. — Из-под полы Еська вытащил ленту с узелочками, такую в лавках пользуют портновских, когда мерку снимать надобно. — Шапку сымай, Зослава…
Я и стянула.
А Еська ловко веревку накинул, на лбу сцепил.
— Ох, беда…
— Где?
Я глаза-то на лоб скосила, но ничегошеньки не увидела.
— Большая у тебя голова стала, Зославушка… вот смотри. — Веревку стащил и показал. — Видишь синий узелочек?
Вижу, меченый синею ленточкой.
— Такая голова у девок быть должна. Ну или еще до зеленого может, коль сильно разумная, — он держал веревку двумя пальчиками. И видела я, что и синяя, и зеленая ленточка были очень далеки от моего узелка.
— А может, я просто…
Голову щупала.
Обыкновенная.
Нет, как есть обыкновенная… и шапка-то еще когда куплена. Небось, если б стала голова пухнуть, то и шапка на нее не налезла б.
— Не человек…
— Может, — охотно согласился Еська и веревку в рукаве спрятал. — Но попомни мои слова. Скоро мозги полезут… беги к целителям.
И сгинул, ирод этакий… я же осталась с шапкою в руках.
Хотела надеть, да поползло вдруг по щеке что-то мокрое. Тронула — мамочки мои! Серое оно! И такое… аккурат как тесто недопеченное, а пахнет… книжною пылью пахнет! Я палец в ухо сунула… оттуда идет… и из левого тоже! И чего делать-то?
На помощь кликать?
Кого?
Боярыни стоят, глядят. Никто и не пошевелится, чтобы помочь, небось, невелика убыль, если у Зославы все мозги вытекут… а и вправду, вдруг все вытекут?
И с этою мыслью я заткнула уши да бегом кинулась… бегала я, спасибо превеликое Архипу Полуэктовичу, быстро. Даже юбки не стали помехою. Долетела до целительского корпусу, не запыхавшися. А навстречу мне, будто сама Божиня спасти решила, Марьяна Ивановна собственною персоналией выплывает. И ныне-то обряжена по-боярски, в три шубы разом…
— Что с тобой, Зослава? — спросила и стеклышки на палочке, которые перед носом несла, отставила.
— Спасите! — Перед нею ноги сами подкосились, и бухнулась я на колени. — Умоляю… вот…
Я пальцы из ушей вытащила.
— Мозги через уши лезут…
Тут-то Марьяна Ивановна и побелела… покраснела.
Рассмеялась в голос.
И смеялась долго, отчего сердце мое, которое заняло со страху, поскакало конем шалым.
— Ох, и насмешила ты меня, девонька… — Марьяна Ивановна палочку со стеклышками убрала на пояс. — Вставай… подшутили над тобой.
— Как?
— Обыкновенно… позволь. — Она пальчиком сняла с моей щеки бурую жижу. Растерла. К носу поднесла. — Бельверов камень… желчь… полуцветник… простенький состав, но любопытный… эфирное масло… кажется, болиголов пятнистый. У тебя перед тем, как твои… гм, мозги через уши полезли, голова, случайно, не болела?
— Болела, — призналась я.
И стыдно стало. Так стыдно, что хоть ты прямо тут под землю провалися! Да только землица была мерзлою, для проваливания совершенно не годилося. Пришлось стоять, голову опустивши.
— Два состава… — продолжала Марьяна Ивановна, — полагаю, по себе нейтральные, но в соединении дающие бурную реакцию…
Подшутили, значит…
Стыд сменился обидой. Я ведь… я ведь никого-то из них не трогала… сама по себе была, чем помешала? Весело… и не одному Еське, вона сколько боярынь нынче гуляли… и страшная догадка опалила душу. Не просто так они погулять выбрались.
Знали?
Все знали…
— Не хмурься, Зослава. — Марьяна Ивановна протянула мне платочек. — Неужто ты и вправду думала, что тебя так просто примут?
— Не думала.
Я вытирала подсохшую жижу с лица. И самой было… дико, что поверила в этакое. Мозги… через уши… знать, такие у меня мозги, которые каждый задурить способен.
— Ты сильная девочка. — Мне почудилось, что сказала это Марьяна Ивановна с немалым сожалением. — Справишься.
А то… куда я денуся?
Впредь умней буду.
Эх, мне бы дрына… с дрыном я шуток не боюсь.
ГЛАВА 28 О беседах и чужих тайнах
Надобно ли говорить, что Еськина шутка, про которую вмиг вся Акадэмия прознала, многим пришлася по нраву. Теперь боярыни, завидя меня, хихикали.
Иные доставали платочки.
Нашлись и такие, которые прислали коробку льняных шариков, уши, значится, затыкать. И пожелания скорейшего выздоровления.
Злилась ли я?
А то… прям-таки из себя выходила, когда думала, какою дурою теперь меня все почитают. Было б во мне дедовой крови хоть на каплю больше, чем ныне, то и вовсе обернулась бы. Правда, вскорости случилось событие, которое меня примирило если не с Еською — придет час, и посчитаемся с ним за этакие шуточки, — то с жизнею нонешней в целом.
Да и то сказать, разве ж плохая жизнь?
Вона, комната моя такова, что не у каждое боярыни имеется. Хозяин, чуя за собой вину, балует невмочно… и учеба на лад идет, что бы там за спиною не шептали. И Архип Полуэктович похвалил намедни…
А тут еще и Арей объявился.
Сам.
Постучал вежливо так, как он умеет.
— Здравствуй, Зослава, — сказал, как дверь открыла. — Пустишь ли?
И ветку сирени протянул.
Где только взял зимою-то? Грешным делом подумалось, что не настоящая эта сирень, намороченная, или, как это боярыня выражается, овеществленная. Ан нет, тяжела ветка, духмяные грозди свешиваются, ластятся к ладоням. И кажный цветочек будто бы светится изнутри.
Нет, не намороченная, этакая детализация не каждому магику под силу.
— И тебе добрего вечера, Арей, — ответила, дар принимая с благодарностью. — Тебе я всегда рада.
И не покривила душою ни на волос.
И вправду рада.
Он же вошел бочком. Огляделся.
Ничего не сказал.
— Драгоценности я вернула, — почему-то вдруг стыдно стало за комнату эту, за ковры и перины, и за прочие вещи… выходит, что задаривает меня Кирей, а я и радая.
— Знаю, — Арей усмехнулся. — Это его разозлило.
Уж надеюся.
— И ты…
— Я виноват перед тобой, Зослава, — голову опустил. А я вновь же не разумею, о какой вине идет речь. — Напоишь чаем?
— Будь моим гостем, Арей…
Ветку сирени я в стакан пристроила. Пусть и не драгоценная она, но дороже всего ларца, о котором нет-нет, а вспоминалось.
Арея усадила. И сама же чаю налила духмяного, заправила его малиновым, бабкою присланным, вареньем. И пожалела, что который день ленуюся до кухни спуститься. Уж не стал бы Хозяин возражать, позволил бы покухарить. Пироги-то у меня, чай, не хуже местных выходили…
— Благодарю.
Чашку принял. И на ладонь поставил. Чай он пил преудивительно, не нашим обычаем, в блюдце переливая, как то моя бабка любила, но и не азарским, заправляя поверху топленым жиром. Мерзь сие великая, но Кирей клялся, что так чай вкус необычайный приобретает.
Верила.
Куда уж необычайней, ежели жиром.
Арей же жиром чай не портил, но и сахаром не прикусывал. Горячим пил, мне ажно глядеть на то больно поначалу было, я ж разочек прихлебнула такого от, с дымком, так после весь язык облез. А ему — ничего.
Вот и ныне на парок дунул, пригубил и зажмурился от удовольствия.
— Хороший у тебя чай, Зослава…
А то… чайный лист-то я простой покупаю, зато после мешаю его что с чабрецом, что с васильковым цветом, что с иными травками духмяными, вот и выходит чай крепкий да ароматный. От такого на сердце сразу легко становится.
Но не Арею.
— Мне не следовало соглашаться, — сказал он, взгляд отводя.
От же ж… сказал и смолк, гадай сама, Зося, на что он там согласился и вообще об чем беседу завел.
— Я силу твою взял.
Я кивнула. Как есть взял. Так я ж сама ее предложила…
— Дело даже не в том, что я взял чересчур много… не сумел остановиться вовремя. Слишком самонадеянным оказался. В теории все просто, но теория и практика — суть две большие разницы.
Я вновь кивнула.
А то и верно… умными словами ежели, а по-простому когда, то это аккурат как с нашею Щеглихою, которой в том годе вздумалось посадить дыни азарские, мол, ежели у нелюдей в степях сухих растут, то у ней прям-таки забуять повинны. Наши-то отговаривали, да Щеглиха — баба упертая, на редкость склочного норову. Вперлася со своими дынями, и все тут. И главное, и семеня нашла, и купца, который дынями торговал, расспросила, как оно надобно. И выходило, что просто: посади да поливай.
В теории.
К осени дыни забуяли. Стебли были толстенные, с косу мою, листья лопухами поднялися, а вот сами дыньки — так и крохотные, с кулачок детский.
Вот тебе и практика.
Ох и матюкалась же она, урожай собирая. А главное, что и на вкус-то оне вышли не сладкими, но кислыми, свиньи и те ести не захотели.
— Я даже не попытался справиться сам. — Арей глядел в чашку.
И я в свою глянула.
Чай темный, поверху былинки плавають… говорят, что есть такие бабки, которые по оным былинкам всю будущую жизню рассказать могуть.
Может, и я тут научуся?
— У меня хватило бы сил довести вас… возможно, хватило бы.
— А когда б нет?
Арей не сразу ответил.
— На вас — точно хватило бы… а я… мне бы минуту всего продержаться… и тогда…
— Если бы да кабы, да во рту росли грибы. Был бы он тогда не рот, был бы цельный огород, — проворчала я, потому как разговор энтот крепко не по нраву пришелся: гадать, чего там оно могло быть, а чего не могло, долго можно. Только я одно знаю. Без Ареевой подмоги я б не выбралась.
И не только я.
— На от, пряничка пожуй. — Прянички принес Хозяин.
Хорошие. Печатные да узорчатые, с белою сахарною корочкой.
Этакие я прежде только на ярмарках и видывала.
— Добрая ты, Зослава…
Но пряник взял.
— Какая уж есть…
— Мне оттого только хуже. Видишь ли… — Он тяжко вздохнул. — Я бы выбрался… теперь понимаю, что выбрался. Возможно, все бы силы потратить пришлось… перегореть…
— Это как?
— Обыкновенно. — На его ладони распустился огненный цветок. — Это как… надорваться, понимаешь? Как есть выгореть изнутри… тогда и огня не осталось бы, только сажа.
Цветок поднимался на тонюсенькой ножке, раскрывал узорчатые лепестки красы необыкновенной. И залюбовалась этаким-то дивом.
— А если нет во мне магии, то и… — Арей сжал кулак.
И цветка не стало.
Договаривать не будет, не дура я совсем, так пойму. Ежели магии в нем не останется, то и в Акадэмии ему делать нечего будет. Тогда-то ему две дороги, аль к хозяйке своей, которая этакой встречи не чает дождаться, аль в петлю.
— Вот и испугался. Подумал, что возьму немного… что не будет от того вреда. А едва не убил. Вот так…
— Не убил же.
Арей лишь головой покачал.
И чего он ожидал? Что я в слезы ударюся? Аль обвинять его стану в собственных бедах, которые и не беды вовсе? Глупство какое… жива я, живехонька, и сила моя при мне. А что в лазарету попала, так оно в жизни всякое случиться может.
Чего уж тут.
— Не сердишься? — с некоторым удивлением произнес Арей.
— Нет.
— И не презираешь? — И голову набок склонил, меня разглядывает, будто диво дивное.
— С чего бы?
— С того, что я слабым оказался. Доверие твое обманул…
Вот же ж человек невозможный.
— Ты пряник жуй, вона, весь бледный, что немочь… может, и у тебя глисты?
Арей хмыкнул, но в пряник впился. И ел быстро, жадно, правда, при том аккуратненько. У меня никогда не выходит пряника съесть, чтоб крошкою да не обсыпаться. А этот… и чаем запивает.
— Голодный? — Я щеку подперла. Сижу. Гляжу… и так мне на душе спокойно, что сама удивляюся.
— Голодный, — признал Арей. — Поужинать не успел, а…
Рукой только махнул. А я в руку эту и сунула плюшку. Теперь от не станет смеяться, что у меня да в комнате запасы съестного немалые. Может, и немалые, да все свое в хозяйстве сгодится.
— Скажи-ка мне, Арей, иное… что в тот день приключилось?
Он помрачнел.
Не хотел вспоминать? Аль думал, что наша с ним беседа на неприятственную тему закончилася?
— Не лезла бы ты в это дело, Зослава…
Так сказал.
И взгляд отвел. А уже хорошо, что сразу врать не стал. Очень того я опасалась, потому как, ежели бы, в глаза глядючи, солгал, то значило бы сие, что не было помеж нами никакого такого приятельства, которое мне мерещилося.
— Так уже, чую, влезла…
— Твоя правда.
Он встал. По комнатке прошелся… огляделся… и предложил вдруг:
— А не прогуляться ли нам?
Тю… куда гулять? Ночь на дворе и ветер вон разошелся, воет… только сказать хотела, да поймала серьезный Ареев взгляд. И язык мой, который до столицы уже довел, а чую, заведет и подале, вывел:
— Отчего б не прогуляться… воздухом свежим не подышать…
Воздух и вправду свежим был, до того свежим, что льдинки на зубах хрустели. Разошлася буря в волчий-то месяц. Небось, в Барсуках этакою метелью хороший хозяин и собаку из дому не погонит, но студиозус — не собака, над ним всяко измываться можно. И значится, погонит нас завтре Архип Полуэктович на полосу. Но и пущай, на полосе хоть козлов немашечки, во всяк случае деревянных.
Я-то поплотней запахнула полы дохи, которую бабка с последним обозом передала. И еще валенки новехонькие, небось, дед Митош самолично катал, только у него так шерсть ложится, ровнехонько да крепенько. Арей же шарфик куцый поправил.
Руку подал любезно.
— Не околеешь? — поинтересовалася я, не столько из вежливости — чую, вежливости в том вопросе было маловато, — сколько потому, как сомнения взяли. А ну как и вправду околеет? Куда мне потом с ним?
— Зослава!
И брови сдвинул грозно. Только на бровях тех снежинки поналипли. Смешной…
— Одежка на тебе худая…
— Огонь согреет. — Арей усмехнулся и позволил пламени распуститься. — Вот когда огня не останется, тогда и околею. Даже если жара будет.
Поверила.
И руку приняла. Пошли по узенькой тропиночке, которая едва угадывалась промеж сугробов. Снег под ногами скрипит. Ветер в высях завывает, деревья кренятся, кряхтят, неудовольствие выражая. А мне хорошо.
Было до тех пор, пока Арей не заговорил.
— Я хлопушки поставил, — сказал он, когда отошли мы от общежития. Недалеконько отошли, шагов этак на дюжину аль две, но в темноте, в буре чудилось, что все пять верст будет промеж нами да огоньками, которые вдали виднелися. — Правда, никого не собирался травить…
Он присел на корточки, поднял замороженный сучок.
— Мне нужно было, чтобы сработала сигнализация.
Арей очертил круг на снегу.
И буковки нарисовал.
Нет, сперва мне почудилось, что это буковки, только кривенькие, такие, какие детвора рисует, когда писать учится, да только вот, сколько я ни вглядывалась, не могла прочесть ни словечка. Более того, буковки эти, уже не вычерченные — выплавленные на снегу — менялись, переползали одна в другую.
Арей же встал.
Руки поднял.
И стало вдруг тихо-тихо. Нет, буря никуда не исчезла. Она была тут — руку протяни, и вопьются в нее ледяные зубы. Облепит кусачая мошкара вьюги, ветер взвоет.
Снегом сыпанет в лицо.
— При угрозе задымления, пожара, отравления… не важно чего, главное, что если угроза достаточно ощутима, срабатывают стационарные телепорты, что в комнатах, что на этажах. Никто не должен был пострадать.
Его руки светились.
И лицо.
И чужим оно гляделось, будто огонь, тот самый, верно, азарский первозданный, смотрел на меня глазами Арея. И знал: не выдам.
— Я забыл, что тебя поселили в этом закутке. Там если и жили, то давно, поэтому и телепорт не стоял. И так уж вышло… дым не был ядовитым. Изначально не был.
Над темными волосами Арея поднимался дым. И снег на куртейке его плавило.
— Я так и не понял, что именно произошло. Хлопушки были безобидными. Да, дым вонял, но и только… ну, быть может, вонь эта на кашель пробивала. Но я никого не хотел отравить!
Я верила Арею.
А потому спросила:
— Кто хотел?
— Если бы я знал… я ведь думал… знаешь, с того дня и думал… и так поворачивал, и этак… на нижних этажах дым был обыкновенным. То есть таким, как и должен… поначалу, во всяком случае.
Он вышагивал вдоль границы нарисованного круга, и метель кралась по его следам. Снежная лисица о девяти хвостах, которые метут-заметают дороги, лишая путника надежды на спасенье. И желтая луна, единственный глаз ее, глядит неотрывно.
— А вот на вашем этаже… я никогда с таким не сталкивался. Ни вживую, ни в книгах не встречал… очевидно, что там и травы были, и магия… темная магия, Зослава. Мертвая магия.
Лисица замерла.
Я воочию видела ее, диковинного зверя из страшной сказки, которую детям рассказывают, чтоб не вздумали из дому по зиме сбегать.
И шерсть снежную, инеистую.
И глаз единственный, посеред лба сидящий. И пасть огромную с зубами мелкими, вострыми.
— Мой огонь едва не погас… и я испугался. Я вдруг осознал, что останусь жив, но без магии. И кому такой нужен был? Смерть… смерть — это ерунда. Неохота, конечно, ну да и верно, кому охота помирать? Но жить, когда… — Арей тряхнул головой, и с волос его потекли, покатились огненные капли.
Зашипела лисица.
А может, просто снег, который капли эти пропалили.
— Я тогда готов был на все, лишь бы вырваться… и вырвался… и…
— Мы бы погибли?
Он ответил не сразу.
— Да. Думаю, да… ты… ты, может, и смогла бы выйти, если бы лестницу одолела. А вот Евстигней — он человек. Люди ей нравились… — Арей закрыл глаза. — Люди были сладкими…
— Кому ты рассказывал?
— Кому я могу рассказать? — Арей теперь стоял, покачиваясь. — Меня же и обвинят. И выставят вон, только сперва судом еще один ошейник повесят. И не поможет Михаил Егорович. Напротив, ему же хуже сделаю. Скажут, что по его инициативе меня приняли, а то и в заговоре обвинят. Царевич ведь едва не погиб. Но… Зослава, я не делал этого! Я никого не хотел убить!
И внове поверила ему.
Оно как не поверишь? С чего бы Арею царевичевой смерти желать? Ему-то с того ни выгоды, ни пользы, хлопоты одни, потому как прав в одном: случись чего с царевичем, так и всей Акадэмии плохо будет. А хуже прочих — Михаилу Егоровичу, потому как он ректором поставленный, за порядком следить обязанный. Выгонят ректора — не станут и Арея держать.
Запутано все. А я к этаким сложностям непривыкшая.
— Хлопушки или подменили, — Арей все ж остановился, уставившись аккурат в хитрющий Лисицын глаз. — Или же воспользовались случаем…
— Или совпало.
— Возможно, что и так, только не верю я в такие совпадения. Хлопушки, магия чужая. Евстигней, который вдруг да в чужой комнате очутился, да без сознания… ты вот… нет, что ты осталась, так то случайно, это да, а вот остальное все…
Качнулись лисьи хвосты, и сама она рассыпалась ворохом снежинок. Была и нету… а была ли?
— Он заявил, что ничего не помнит…
— Не веришь?
Арей только рукой махнул: оно и понятно, что не верит. Небось, я бы тоже царевичу не поверила. Зачем явился? Что ел? Чего пил? Неужто вовсе память отшибло? Нет, оно с людями случалось, особливо после беды какой. Вот, бабка сказывала, что тем годом, когда азары налетели, у соседки ейное, Марыльки, память что косою срезало. А все потому, как Марылька этая, которой на той час и десяти годочков не минуло, видела такое, чего и взрослым видеть не надобно. Вот и Божиня милостью своей отерла ее от темное памяти.
Избавила, стало быть.
Да только Евстигней — не девица десяти годочков. И азары в общежитии не лютовали.
— Есть способы, конечно, памяти лишить, наговором, травами. Да только он слишком уж спокоен для человека, который и вправду не ведает, что с ним случилось.
Арей сцепил руки за спиной.
— Потому и прошу, Зослава, не лезь в это дело. Спасла? Хорошо. Может, и вправду отблагодарят. А нет, то оно и спокойней тебе будет без царской милости. Она частенько после боком выходит… пускай сами разбираются, чего у них там приключилось.
Я кивнула.
Не было у меня мыслей мешаться в дела царские, и без моей особы буде кому нос сунуть. Есть у царя и Тайный приказ, и иные верные люди, про которых говорят, будто бы вершат они дела столь темные и грязные, что обыкновенному человеку и думать о таких — есть крамола… я не думала.
Я не желала лишь, чтоб Арей этим людям попался.
— Нет, — Арей покачал головой. — Я такие шутки шутить умею…
— Не веселы они.
— Есть такое…
— Для чего?
Вот нутром чую, что не забавы ради Арей дело сие затеял. Даже не будь Евстигнея, который мало что не помер, все одно за этакую шутку спасибо не сказали б… рисковал он.
— Дело такое… братец мой, чтоб ему икалось… — Арей стиснул кулаки. И волосы вновь задымились, того и гляди полыхнет, да не тихим огнем, который удержать сподобится, нет, рвется в нем пламя, злится. Знать бы, на что… — Слышал я, как он с Киреем говорил… Игнат, может, и неплохой парень…
Это признание нелегко ему далось. Оно и понятно, как ни крути, но одна кровь, да только выходит, что одному в ошейнике сидеть, другому — поводок держать. Где уж тут до братское любви?
— Ума он не шибко большого. Кирей его дразнил, что Игнат по сей день мамку слушает, что сам ни на что не способный… раба и то не продаст…
Я покачала головой.
Эк хитро выходит. Тут и гадать нечего, об каком таком рабе разговор шел.
— Вот Игнат и бил себя в грудь, что к снежню выправит все бумаги… — Арей управился-таки с пламенем. — Главное, не бумаги, а печатка, которой клеймо ставят. У кого она, тот и хозяин. И еще печаткой этой клеймо как поставить, так и стереть можно. А нет клейма, нет и раба… понимаешь?
— Украл бы?
— Украл.
— Они б поняли…
— А то я не знаю, что поняли! И пускай! Понять — одно, а доказать — другое. Зослава… даже когда я магом стану… даже если стану, то без этой печатки клейма не стереть. С ним же мне жизни не будет… и не такой я дурак, чтобы печатку эту сразу использовать. Спрятал бы до поры до времени, а там, глядишь, после выпуска и разомкнул бы… или раньше, если б нужда такая пришла. Без клейма, случись бежать, уйти было бы не в пример легче… понимаешь?
Понимала.
И… пожалуй, не великий был бы грех за тою кражей.
— А вышло, что… ни себе, ни людям… и теперь вот гадаю, и вправду ли я случайно тот разговор услышал?
Буря улеглась. Видать, скучно стало лисице слушать людские разговоры. Что ей до бед нынешних? Ей-то все одно, царь, царевич, аль вовсе холоп или раб… любого закружит-завьюжит, укроет белым пологом, зашепчет до смерти.
Или, коль надоест забава вдруг, выпустит, проведя по самому краю гибели.
А сама унесется, ускачет… слышала я, будто были люди, знавшие особое слово, которым лисицу приманить можно. И тогда глянет она человеку в очи, и в самое сердце, дыхнет холодом предвечным, пробуя наглеца на прочность. А коль устоит он, то и одарит его лисица за смелость серебром небесным.
Мало его в мире.
И искорки хватит, чтоб справить не дом даже — усадьбу целую. Бабка сказывала, что был в соседних Путришечках парень, который зимою в лес ушел, а возвернулся наутро да с колечком из небесного серебра. Сватался он к девке одной, а та, возгордившись, и пожелала особого украшения…
Добыл.
Правда, после помер, как зима на убыль пошла. Стаяла душа… зато колечко то девка продала… правда, бабка приговаривала, что не вышло с этакого богатству толку, потому как проклятое оно.
— Не суйся боле, — попросила я.
— Не сунусь. Не дурак… только… это начало, Зослава. — Арей зачерпнул горсть сыпкого снега, дунул, и снег взвился белым пламенем. — Кто-то очень не хочет, чтоб царевич царем стал…
Слово было сказано.
Упало на снег тяжко, что камень в прорубь, только что круги не пошли. И пусть бы не слышал никто, окромя меня, этого слова, а все одно неспокойне сделалось.
— Евстигней…
— Не знаю, кто из них, — Арей не дал мне спросить. — Да и то… где один, там и шестеро… думаю, за престол ежели платить, то шестеро — невелика цена…
ГЛАВА 29 Об откровениях боярских
Дорогая моя бабушка, Ефросинья Аникеевна.
Пишет тебе единственная твоя внучка, кланяется низенько, в самые ножки, да о здравии вопрошает. Поелику крепко беспокойно мне с того, что писала ты, будто бы в грудях у тебя намедни кололось. А не написала, как кололось, долго аль коротко, и куды отдавало. Ежели в спину, тогда надобно, чтоб попарил тебя дядька Панас легким паром, а опосля растер тою мазью, которую мы на весну мешали. А вот ежели в бок левый, тогда в баню никак неможно. Мазаться надобно барсучьим жиром, в платок кутаться…
Я отложила перо.
Кому пишу? Бабка то сама ведает распрекрасно. Она ж у нас на селе наипервейшею лекаркой была. За нею даже боярыня раз слала, когда занемоглось, а лекарь ейный до городу отбыл. Правда, об том случае бабка сказывала неохотно, потому как в усадьбе встретили ее неласково, и пускай за заботу отблагодарили золотым рублем, а все одно, деньгами обхождения не заменишь.
А я тут ей про боли… да знает она о болях сердечных поболе моего. И про мазь окопниковую, и про баньку, которую старосте всем селом ставили, как оно принято, а в углу козий череп вкопали, чтоб пугал дурных духов, и про жир, и про плат пуховый, мною вязанный.
И про покой…
Зимой-то работы мало. Корове сена задал, сараю подчистил, чтоб не застаивалось в нем всякое, курам сыпанул зерна и лежи себе, отдыхай… шей новое покрывало, аль с пяльцами балуйся, хотя ж глазами бабка моя поослабла…
…уповаю я крепко на благоразумие твое, дорогая моя Ефросинья Аникеевна, а еще на то, что вскорости свидимся мы. И в столицах чтят божьи заповеты, а потому в Акадэмии всякая учеба на Заповедные дни прекращается. И опосля еще две седмицы дають продыху, каковой туточки именують вакациями. Студиозусы все, кому есть куда податься, на оные вакации съезжають. Стало быть, и я съеду…
Домой хотелось.
До того хотелось, что прямо сердце из груди выскоквало, стоило представить, как я возвращаюся… ладно, пущай не магичкою да при царевой грамоте, а все одно столичною барышней. В платье новом, в сапожках беленьких да при каблучке, при бусах бурштыновых. И все-то на меня глядят да дивятся тому, до чего славна я, хороша.
Ой, разговоров буде…
А бабка выскочить навстречу, причитая и плача, потому как не умеет она по-другому, обниматься будет, и говорить, и выговариваться. И засядем мы с нею до самого ранку, всякое обсуждовывая.
Я уж гостинцев прикупила всем. И бабке, и старосте нашему, и старостихе тож, и даже своячнице ейной, пущай и норова она невживчивого. Уж порешила, что отправлюся почтовою каретою до Рушникова, а там, глядишь, и найду с кем до Вызьмы, откудова до Барсуков версты две. Их и пешшу можно, ежель не будет никого, кто б к нам ехал. Аль можно буде послать мальца поспрытней, попросить, чтоб приехал за мною дядька Остап с подводой… а то ж с гостинцами да пешшу несподручно.
Мыслями я была уже дома, пусть до заповедных вакаций оставался без малого месяц.
И он пролетит, день за днем, и оглянуться не успею…
…еще пишешь ты, что взяла в дом сироту с боярского двора, за которую две копейки прошено да еще пять — за одежу. И учишь ты ее всему, чего сама ведаешь… и дело это есть благое…
Вновь перо отложила.
Не могу… надо вежливо, надо с похвальбой, потому как и вправду дело благое бабка моя сотворила, ведь каждому ведомо, что над сиротами сама Божиня матерью. И с ними в дом милость ее приходит. А и по-человечески жаль мне ту, незнакомую, девочку, про которую бабка только и написала, что годочков ей девять, что отец ейный утоп спьяну, а мамка еще в весну сгинула безвестно… но вот…
…Станькой ее прозывали.
…и небось, бабка ей мою постелю отдала… а и верно, с чего бы ей простаивать попусту, перины-то хорошие, сами их пухом набивали. И еще одеялы, подушки… и наряды мои, которые давно уж в сундуки сложены. Чего им пылиться? Не жаль мне тех сарафанов… разве что старенького, отцом еще справленного, но его бабка не отдала бы никому, а прочее… на что мне девичьи ленточки? Аль чухони разношенные… или те рукавички, что бабка бисером расшивала? Они мне ныне только на палец и налезут. Сама себе говорю, и все одно жалею.
Горько.
И сердце ноет-ноет, будто бы не кровать мою бабка этой Станьке отдала, а место в доме своем, то самое, которое прежде моим было. И вот как мне в дом энтот возвращаться, когда, быть может, в нем мне вовсе и не радые?
Ох, нехорошие мысли, темные… не от Божини. Мне бы о том думать, что Станька эта за бабкой моею приглядит. А ну как случится чего? Хоть будет кому людей кликнуть… и не случится когда, а все вдвоем веселей. Зимою-то тоска горазда душу мучить. А бабка Станьку учить станет, как меня учила. Тогда-то, глядишь, и силы прежние возвернутся. Человек же ж живет, пока нужный кому…
Отложила я письмо.
Нехорошо напишу, словами-то, быть может, вывернусь. Вона, Арей говорит, будто я правильней говорить стала. Да помимо слов есть дух, который не спрячешь. Почует бабка мою обиду, как пить дать почует… а значится, надобно успокоить себя.
Только как?
Сама не заметила, как на давешнюю полосу пришла. Надо же, стосковалася… ажно с рання не видела, позабыла и кочки, и буераки, и ручей ледяной, в который ноне Еська кувыркнулся. Тоже дивно. Он-то, что кот, цепкий, верткий, как на бревне не устоял? Будто сворожил кто.
Скинула я доху.
И шапку сняла.
Холодит маленечко, да только морозец — еще не мороз. Вона, птицы с небесей не падають. Воробьи любопытные облепили рябину, возятся, чирикают на своем, на птичьем. Говорят, в прежние-то времена находилися умельцы, которые энтот язык и все прочие звериные разумели. Куда подевалися?
Вымерли за ненадобностью, как те ящеры, про которых Милослава давече сказывала? Что огроменные такие, с терем величиною…
Аль повывели их?
Ох, и дивные ныне мысли в моей голове. Нынешняя, как пить дать, опосля нашего с Ареем разговору затесалася… а то и верно, ежель подумать, то на кой мне разуметь, чего курица говорит? Как опосля такого разумения из ея супу варить? Этак, глядишь, одную траву жевать и останется.
— Сударыня Зослава… надо же, какая удивительная встреча! — раздалось вдруг из-за спины. Я аж подскочила, а заодно уж развернулася, как Архип Полуэктович учил… и не только развернулася…
— Осторожней, Зославушка, — промурлыкал Лойко, руку мою перехвативши. — Этак и покалечить недолго… а я уже вами калеченный…
И кулак мой поцеловал.
Я от того аж полыхнула… а может, с морозу, даром, что ль, холод этакий?
— И чем обязанный счастью лицезреть вас здесь? Во время неурочное? — Лойко руку мою отпускать не думал. Держал нежно, в глаза заглядывал… и прямо так, что мне не по себе от этого взгляду становилося.
— Да вот… побегать решила…
— Размяться, — с пониманием мурлыкнул он.
— Размяться…
— Ох, не жалеешь ты себя, Зославушка. — А Лойко, вот точно, Жучень он, редкостный жучень, уже рядышком стоит, плечики приобнимает, совсем по-свойски. Отчего мне неудобственно до жути.
Я от этакого неудобства прям не знаю, куда себя девать.
— Такой девушке… да на полосу препятствий… у меня за вас сердце кровью обливается…
— Екает? — уточнила я.
— Чего екает?
— Сердце. Когда кровью обливается. Екает?
— Ох, екает… так екает, спасу нет…
— А когда екает, то куда отдает? — Руку я высвободила и сама вывернулась. Не хватало мне с боярином обниматься. — Вправо аль влево?
— А что? — Лойко аж голову набок склонил. — Разница-то какая?
— Большая. Если в правый бок, то это и вправду сердце. К целителям тогда тебе, боярин, надобно, чтоб проверили, отчего оно у тебя кровью обливается да екает.
— А если в левый?
— Печенка. Значит, пьешь ты много. Иль ешь скоромное. Тебе ж с больною печенкой диету блюсть надобно, чтоб ни жирного, ни соленого, ни копченого…
Говорю, а сама бочком, бочком да в стороночку. Не то что испугалася я его, вздумает шалить, я боярского звания не побоюся. Магик из Лойко слабый, да только последнее это дело — помеж своими лаяться. Однако Лойко на слова мои не обиделся.
Рассмеялся.
Громко так, ажно воробьи с рябины порскнули.
— Веселая ты девушка, Зослава… даже жаль тебя.
— С чего бы меня жалеть?
— С того, — Лойко отступил на шаг, — что пропадешь ни за что. Объяснить?
— Будь ласков.
А взгляд-то лютый… видела я такой взгляд у душегубца одного, которого в столицу через Барсуки нашия везли. Со свитой из двух десятков оружных. И мне дивно было, что столько народу одного человека, даже не магика, блюдут. Он-то в клетке железной сидел тихенько, худой, поломанный, а как глянул, то и полоснул, будто по живому…
— С азарами знаешься. С рабами беглыми дружбу водишь, а начнется смута, не помогут тебе ни азарин твой, ни рабы…
И под ноги сплюнул.
— Иль думаешь, у Кирея от твоей красы девичьей дух заняло?
От чего и вправду не думала…
— Наш красавец переборливый. Он не на всякую девку глянет. А таких, как ты, Зослава, и вовсе не замечал прежде… и теперь… не знаю, что ему от тебя надобно. Зато знаю, что желает он отцовский трон получить. А для того надобно, чтобы азары за своего приняли.
Говорит, а сам с меня глаз не сводит.
— Есть такие, которые поддержат Кирея… только если и он себя покажет азарином истинным…
— Мудро говоришь, боярин. Простой девке и не понять.
— Ну да… извини… могу попроще. От Кирея ждут, что вернет он азарам былую славу. И поведет в поход на земли Росские… только крепки границы. Пока крепки. А если вдруг случится смута… такая смута, которая все царство перекроит, то и вновь поднимутся змеиные стяги…
Верно он говорит.
Попритихли азары, но, сказывала бабка, сколько волка ни корми, да собакою все одно не станет. Верю я, что с той стороны Калынь-реки только и думают, что про другой, наш берег, прежние времена вспоминая…
— А что вернее учинит смуту, нежели смерть царевича? — спросил Лойко и в тень отступил.
Вот ведь…
От разговоры этой, которой я вовсе не желала, на душеньке, и без того неспокойное, сделалось муторно-муторно.
Куда я лезу?
Не лезу… тянуть… небось, решил боярин славный, что вовсе Зослава — девка сущеглупая, которая первому встречному поверит. Так ведь первому, может, и поверила, ежель человеком он показался б. А Лойко Жучень — дело иное. С чего это вдруг его на задушевные беседы потянуло? Он-то, помнится, в мою сторону и не глядел, а когда говорить доводилось, то иль куражился шуточками скверными, иль, когда не в настрое был, кажное слово сквозь зубы цедил. Показывал, стало быть, что не ровня я ему.
Так я и не желала ровняться.
Дело-то глупое.
А тут вот… и главное, что правду он сказал… вроде как правду… я-то в игрищах их несведуща, небось, царя на престол возвесть — это не корову сторговать. И выходит, что сижу под рябиною, воробьев слушаю да понять пытаюся, где он мне сподмогнул и чем.
Охота Кирею азарами править?
От том все твердят… да только мне ли не знать, что слухи, будто собаки шаленые, летят один поперек другого… но ежели и вправду охота?
И в праве он своем, старшего сына… но коль азары не восхочут Кирееву власть признать, то и не спасет его никакое такое право. Подымут на копья, и поминай, как звали…
Домой я возвернулась впотьмах. И Хозяин, пряничку сберегший, знал, что до сладкого я дюже охоча, лишь головою покачал:
— Думаешь ты много, Зославушка, — сказал он, гребешок вынимая. — А от дум многих у девок волос сечется. Спать ложися.
Я и легла, оно верно, что утро вечера мудреней. Завтра… а схожу я завтра к Фролу Аксютовичу, пущай он думает, с чего бы это Лойко Жучень полез ко мне премудростью боярскою делиться. Домовой сел у изголовья, стало быть, всю ночь косы чесать станет, от мыслей дурных да тяготы душевной избавляя. Главное, чтоб не заигрался, не заплел в косицы на три волоска, которые обычному человеку в жизни не расплесть…
Проснулась я с головою легкою, да и сердце подуспокоилось. Умел Хозяин верные сны нашептывать. И пряничек мой, с вечера оставшийся, никуда не исчез. Лежит на столике, платочком прикрытый, меня дожидается.
А к нему — чай горячий в высоком стакане…
И гость к чаю.
Признаюсь, что, только завидела я энтого гостя, как мигом всякая благость с души слетела.
— Здравствуй, Зослава, — сказал Еська и левым глазом подмигнул.
А я увидела вдруг, что глаза-то у него разные, левый — карий, темный, что вишня выспевшая, а правый — синий, прозрачный. От ить… как оно бывает…
— Пустишь? — И пакетик мне протянул, ленточкою перевязанный. — В знак примирения нашего…
Пустила.
И пакетик взяла, от которого сладкий медовый дух шел. Нет, есть я не собиралась, но… понюхать-то можно? Посеред зимы мед по-особому пахнет. А этот еще и в сотах, восковые, белые ячейки, до краев заполненные золотом сладким.
— Душою своей клянусь и именем, что нет тут ни отравы, ни иных… веществ, — сказал Еська и руку к груди приложил. — Кроме меда, естественно…
А сам огляделся.
Присвистнул.
— Эк, Кирейка, размахнулся… смотри, Зослава, аккуратней с нашим азарином…
— С чего это он ваш?
Еська на стул мой всперся, и стакан же мой к себе придвинул. Наклонился к чаю, вдохнул… подул…
— А что, себе забрать хочешь? — И глазами разноцветными этими наглючими на меня уставился. — Мы с ним с младых лет вместе. Не буду врать, что один горшок на всех делили, но няньки были общими… ох и намучились они с ним! Дикий был, кусучий. И все сбежать норовил. Его одного разу на цепь посадили… правда, потом матушка дозналась и пороть велела…
— Кого?
— А всех… не дело это, когда чернь царского сына на цепь сажает, пусть и не наших он краев, но этак, сначала к чужим царевичам уважения не будет, а после и на своего с кольями пойдут.
Чай он пил, прихлебывая.
— Мы его что облупленного знаем… как и он нас, — добавил Еська и от пряника моего крошечку отковырнул. — А потому и говорю, стеречься тебе надобно, неровен час укатает в ковер да и увезет домой… ты не стой, Зослава, присядь, а то я неудобственно себя чувствую.
Так я ему и поверила. Нет, что-то неладное творится в нашее Акадэмии. Вчера вон Лойко со своими упреждениями, ныне — Еська с рассказами душевными…
— Не веришь мне? — поинтересовался Еська и голову набок склонил, сделавшись похожим на любопытного шпака. — И правильно. Меньше веры, меньше и разочарований. Но я не за тем… видишь ли, Зослава, братья мои очень мною недовольные. Говорят, что я — скотина неблагодарная и вообще за шутками своими край потерял… может, оно и верно… раскаиваюсь.
Еська шмыгнул носом. Только вот раскаянию его я не поверила ни на грошик. Из тех он, которые и на висельне глумиться станут. Опасные люди. Ничего-то для них святого нету, все — пыль.
Все — пустота.
— Не стоило мне с тобою шутку шутить… а потому, будь ласкова, прими извинением…
Из рукава рубахи шелковой Еська извлек золотую монету. То есть попервости мне показалось, что монета сие. Я уж и отказаться собралась, потому как не нужны мне его деньги.
— Пропуск это, — пояснил Еська и монету на ребро поставил. Тогда-то и увидела я, что вовсе это не рубль, потому как была монета поширше и размахом поболей. А главное, что заместо государева лика выбили на ней голубочка с веткой, и такого прехорошенького, что страсть. — В клаб женский, по саксонское манере. Давече на Кольскою площади открыли.
Клаб?
Про клабы я и слыхать не слыхивала. А Еська кругляш золотой ко мне подтолкнул.
— Ты у нас девушка любопытная, вот пойдешь, поглядишь, как оно за границею боярыни отдыхают. Говорят, что и матушка на открытии побывала… и все-то наши из тех, что познатней, побогаче… не каждой этот пропуск по карману. Да и те, кто при деньгах, не все купить способны…
Говорит так, а я на монетку гляжу.
Нельзя брать.
Хватит с меня одное его шуточки… а тут… чую сердце, что неладно с энтим клабом. Но ежели и вправду царица заглядывать не брезговала… и боярыни… небось, в дурное какое место боярынь не пустили б…
— А… что там? — Я позволила кругляшу упасть.
Еська же плечами пожал:
— Откуда мне знать? Мужчин туда не пускают… клаб-то женский…
Женский, значит… дивно так… в Барсуках, когда на зимку посиделки устраивали, то и девок звали, и парней. Нет, оно все чин по чину было, для того и старух садили, чтоб глядели они за порядком. А заодно уж сказывали всякое, у любой-то бабы с десяток гишторий имеется, одна другой поучительней. Вот и говорили они, а девки шили, пряли, фасолю лузгали аль иную работу работали. И на парней поглядывали, которые тоже хороши, что в ножички играть бралися, что еще в какую забаву…
Тут же…
Еська глядит, спокойно так, будто не сомневается, что возьму этот кругляш. А мне и вправду охота, руки сами тянутся. Да и что в том плохого, ежели царица… и клаб… на саксонскую манеру… мужикам ходу нету… и посядут боярыни, может, плясовых позовут, аль скоморох, аль еще кого, чтоб развлек. Будут чаи пить и про свои дела гутарить.
И я там лишняя.
Знаю, что лишняя, но вот…
…представила, как сказываю бабке, что в столицах делала… про учебу-то не больно-то и скажешь, а вот помянуть, что видела, как сама царица крестиком шьет… аль не крестиком, но гобелену, ежель по-благородному…
…ох, права была бабка, кажучи, что дурня учить — розгу зазря тратить.
ГЛАВА 30 О том, как боярыни отдыхать изволют
В клабу «Барыня-сударыня», как то было выбито на ободочке монеты крохотнючими буковками, я собиралась со всем тщанием. А то мало ли, вдруг и вправду царицу встречу, и она, чем не шуткует Божиня, призвать меня велит, так негоже, чтоб внове пред ясные царицыны глазыньки расхристанною девкой представать.
И перебирала я наряды.
И припоминала, в чем ныне боярские дочери ходют, и понимала, что при всем старании своем мне на них не ровняться.
Я и не ровняюся, но ведь и распоследней холопке в охотку красавицею побыть, хотя ж и красоваться ей, может, только перед гусями на птичьем дворе.
Как бы там ни было, а из Акадэмии я выплыла лебедушкой, разве что тулуп овечий не больно-то с красотою увязывался. Эх, шубу бы мне рысью, какую старостихиной старшой справили… правда, рысь для нее жених добывал, рысиною шкурой и кланялся, сватая, но…
…или вон из выдры, в которой боярыня нашая разгуливает. Ох и хороша шуба, мех блискучий, теплый и не мокнет.
…батька остался б живым, верно, сумел бы иль рысь добыть, иль и вовсе снежную кошку, про которую сказывали, будто шкура у нее белая да с сизыми разводами.
Мечтать легко, но шубы от мечтаний не прибудет, и взять ея неоткудова. А пропуск мой, намагиченный, к утрецу в клаб возвернется, так что недосуг мне шубы ждать. Ничего, и без нее я хороша.
Возок я споймала легко, хотя ж и идти было недалече, но, мнится, что не ходят боярыни до этакого важного месту ножками. И я не пойду… извозчик, услышав, куды меня везьть, только сплюнул сквозь зубы.
— Драть тебя некому, девка… — пробормотал тихо.
Вот же ж…
Но к клабу довез.
Встретили меня с поклоном, пусть и не по нраву пришлася холопу, при дверях поставленному, моя шубейка. Губы поджал. Взглядом недовольным смерил с головы до самых пят, будто бы я холопка, а не он… и еще так промолвил:
— Вы уверены, что вам сюда?
Нет, уверенности у меня крепко поубавилося. Домина, в котором саксонский клаб прижился, была каменною, огроменною, заборчиком кованым огороженною. А за заборчиком энтим — фонтаны да деревья крохотные в каменных кадках. И навроде как сосна с елкою, да только той сосны — мне по колено…
Крыша на колоннах держится, камнем облицованных, а на том камне — картинки всякия.
Холоп дверь открывает, пущай и не по нраву я ему, но монету-пропуск принял. А во внутрях уж ко мне девка подскочила да принялася тулупу стягивать.
— Гляди, — я сперва-то отдавать не хотела, потому как где это видано, чтоб у людев одежу отбирали, но после заметила, как статная боярыня позволяет с себя другой девке шубу снять. Да не простую, а соболью, на плюшевом подбое. Что ж, коль она за свою не опасается, то и мне страшиться нечего. — Возверни только.
— Вернем, не переживайте, — хихикнула девка и заместо шубы протянула мне деревяшку с цифрой. — Покажете на выходе… прошу за мной.
Эта девка держалася в сторонке, но нет-нет, а поглядывала на меня с этакою хитрицей, отчего мне ох и неловко делалося. Да и сам этот клаб… снаружи — палаты, и изнутри не хуже. Куды ни глянь — ковры лежать мягонькие. На тех коврах — лавки стоять с подушечками, чтоб, ежель притомится кто, было куды присесть. И еще ширмочки шелковые, для уединения. Жаровни живым огнем полыхают. А над чашами золочеными дым ароматный подымается.
Красота.
Прислужница в залу меня привела, усадила за столик, кожаную папку протянула.
— Выбирайте, боярыня… все — за счет заведения.
— Это как?
— Столик у вас особый. И пропуск… конечно, если пожелаете частное меню…
И вторую папочку протянула.
— Как готовы будете сделать выбор, коснитесь камня.
И указала на этот самый камень, который посеред стола кривым зубом торчал.
Папки я открыла, только убедившись, что девка эта и вправду отошла… открыла в немалом предвкушении. А что, буду сказывать бабке, как не только в клабе побывала, но и в ресторации столичное. Признаюсь, что место это очень на ресторацию походило. Огроменный зал, правда, освещенный только по самому краюшку. Уж не знаю, то ли задумано оно так было, то ли денег на свечи не хватило. Оно, ежель подумать, страшенный расход кажный день палить, да не по дюжине и не по две. Как бы там ни было, за столиком моим светился камень бледноватым синим светом. Но и его, зыбкого, было доволи, чтоб меню прочесть.
Про такие места Арей только сказывал, грозился учить меня правильною ложкой есть. А я все понять не могла, как это ложка да неправильною быть может. Туточки ж глянула и обомлела: не одна она, но три штуки. И вильцы три. И ножичков…
Я руки-то было под скатерочку спрятала.
Огляделась.
Нет, никто-то на меня не пялится, не следит… вона, давешнюю боярыню за столик усаживают, креслице двигают, папочки с поклоном протягивают. А она этак лениво рученькою машет, мол, подите прочь. Меня будто бы и не примечает…
А скатерочка-то из тонюсенького полотна, да с шитьем кружевным. Такую, коль из сундуков доставать, то по праздничному дню и для гостей дорогих. День ноне был обыкновенным, до празднеств еще седмицы три оставалося… значится, гости. Я скатерочку-то тайком пощупала, и наклонилась, едва носом в шитье не вперлася, до того любопытственно мне стало, как его делали. И узор запомнить охота, дома-то вычерчу, а там, глядишь, случится минута какая, чтоб и попробовать. Если ж не случится, нашим отвезу, пущай побалуются девки шитьем на столичную манеру.
В зале ж люду прибывало.
След сказать, что был он просторен, однако же столики стояли далече один от другого, вестимо, чтоб гости друг другу не заминали. Наши-то девки все больше кучками, оно-то в тесноте, да не в обиде, но, видать, у саксонов все иначе принято.
А главное, шагах этак в трех от моего стола ступени начиналися. Невысокие, да и числом невеликим, но выходило предивно, будто посеред залу помост воздвигли, навроде тех, на которых скоморохи на ярмарках выступают. Правда, нынешний огроменный. И еще со столбами узенькими, блискучими. На ярмарках тож столбы ставят да жиром мажуть, чтоб несподручно было наверх лезть, а опосля за малую деньгу пускают, ежель кому восхочется показать удаль молодецкую. Яшка-то весною сумел взобраться и спустился с красными сапожками, бисером шитыми, дорогими… потом девки все друг на друга ревниво поглядвали, ждали, которая в сапожках выйдет. А Яшка взял да в Малиновку посватался. Ну да не о том речь. Небось, нынешние-то столбы, мало того, что железные, так еще и узенькие, как ухватиться? Поди, попробуй на них вскарабкаться.
Мне ажно любопытственно стало, неужто боярыни самолично будут?
Покосилась на соседку.
Дебела, рыхла, как и подобает знатное бабе. Два летника парчовых надела, а на плечи — шалю пуховую… ручки белые в перстнях, волосы под шапочку убраны… нет, не вскарабкаться такой на столбу…
…а слева девки молодые сидят. Я глянула и обомлела: нашие энто. Целительницы… ажно четверо… семеро, вона, за дальним столиком… и еще за одним… и за другим… да тут, небось, все собралися…
Не надо было монету энтую брать.
И идти сюда не след. Не знаю, чего измыслил Еська, но явно не извиняться станет. Новую шутку придумал боярыням на радость, а они ужо готовы смеяться.
Думают, что не вижу.
Не замечаю.
Я отвернулась, велев себе успокоиться. В конце-то концов, бить не станут, а если и станут… я приоблокотилась на столик, который, заскрипев, с места сдвинулся.
Вот и ладне.
Не люблю я драк, особливо бабьих, помнится, когда на Весенних поглядах нашие с кувальковскими девками свару затеяли, то всем селом разнимали их. Ох и было опосля… кому космы повыдергивали, кому лицо расцарапали, а одной, самой удачливой, и вовсе мало что глазу не выбили. Косенькою осталася, хотя бабка всяко правила, как умела…
Боярские-то девки, оне иначе ученые, да только, ежели чего, со столом оно мне сподручней… а пока… пока вон в папочку гляну, раз уж дали.
В первое, толстое, сафьяном красным обтянутой, листы глянцевые лежали.
…буквы знакомые. Да только вот читаю, а не разумею ничегошеньки… нет, разумею, что так съестное прозвано, и цены стоят… мамочки родные! Это ж за какую-то фуагру ажно двадцать пять рублей дерут! А консома — на десять тянет… и дешевше ничегошеньки нету.
— Извините, — давешняя девка, точно почуяв мое смятение, объявилась, — может быть, вам помочь?
Помочь?
Убрать энтое меню, чтоб глазыньки мои его не видели! Да сказать кому, что за какую-то ерундень, которой, может статься, на один зубок вовсе, беруть, как за корову дойную, не поверят!
— Настоятельно рекомендую попробовать консомэ из белых грибов…
…это с боровиками, что ль?
— Перепелок под клюквенным соусом… салат «Оливье» с паюсной икрой и раковыми шейками…
…семьдесят два рубля!
— Весьма хорош террин из утки и фуа-гра…
Я захлопнула меню. Это же ж… это же ж состояние спустить можно, один раз поевши… а у меня состояния нетуть.
— …морской гребешок с миндальным пюре…
Собралась я возвернуть меню девке, да только вспомнила вдруг, чего она мне говорила…
— Погодь, — я положила руки на кожаную папку, — стало быть, сие за бесплатно?
Девка так улыбнулась, снисходительно.
— Ужин входит в стоимость пригласительного, как и вино. Рекомендую легкое фризское…
И сколько ж тогда Еська за этот самый пригласительный вывалил? Думать страшное… а с другое стороны, раз надо мною шутку шутить собралися, то надобно с этого свое удовольствие поиметь.
— Хорошо… — Я папочку девке протянула. — Тогда пускай несут все.
— Все?
Я кивнула.
— Раз входит в стоимость…
И ручкою так махнула, как та барыня, которая сидела, развалясь, ложкою в миске ковырялась да на помосту поглядывала.
— Х-хорошо… н-но особое меню оплачивается отдельно, — уточнила девка, прежде чем сгинуть.
Особое? Ах да… я уж и позабыла.
Открыла.
Всего-то с полдюжины страничек. На кажной кружевно так, с завитушками выведено по имени. А ниже цифирь стоит. Неужто цена?
Веселый азарин за три тысячи рублев?
Это как думать, они чего, азарина мне запекут? Я так живенько представила, как волокут мне серебряную подносу, на которой Кирей лежит, яблоками мочеными заваленный. А одно, для красоты пущей, в рот запихано. Из ушей кисточки укропу торчат…
Я аж головой помотала, видение прогоняя. Небось, пусть и нелюди азаре, да только мнится мне, что не стали бы их саксонцы есть. Да и поди, докажи клиенту, что его азарин всенепременно веселым был. А норманн, за которого просили уже четыре тысячи, отчаянным. Имелись еще и саксонец, фриз и даже арап. За него ажно десять вывалить надобно было, оно и ясно, арапы в наших краях — зверь редкий…
Спросить, что ли… да неловко. Засмеют. Небось, кажный тут ведает, что за меню такое. Боярыня развалилась на подушках, листает, пальчик наслюнявив, и вздыхает томно над каждою страницей. Мучится, стало быть, выбором… а мне и мучиться нечего.
Нету у меня таких от деньжищ.
А были б, всяко нашла б им иное применение.
Меню я закрыла и убрала в стороночку, благо несли уж заказанную мною снедь… а как несли, на талерочках парпоровых, расписных. Талерочки огромные, а снеди той — горсточка, красиво разложена по всей талерочке, да только ж глядишь на нее и не ведаешь, какой вилкой собирать-то. Подай бабка аль я гостям этакую красотень, долго опосля говорили б, что мы аль бедныя, аль жадныя…
Тут же ж, выходит, порядок такой…
Нет, не спорю, что вкусно оно. Не сразу, но решилася я попробовать… вилочкою подцепила чегой-то этакого, непонятного, и в рот сунула.
И кисло. И сладко. И на зубах похрустываеть… а другой комочек аккурат что печенка гусиная, только без горечи. Признаюся, увлеклась я. И на Еську злости поутратила, когда еще выпадет этак, с душою, посидеть?
Вино принесли, цельный кувшин, только мне оно не понравилося. Кислятина, что сок перебродивший, хотя ж и не яблыневый.
Я и не заметила, признаться, когда свечи погасли. Очнулася уже впотьмах. Огляделась… мамочки родные, ни одного огонечку, окромя камней, в столы вмурованных. Те-то светились, но слабо… и отчегой-то вспомнилося мне болото нашее, а еще бабкины гиштории про проклятый клад и огоньки блуждающие. А и вправду, похоже… хотя ж пахнеть не болотом, но съестным и еще духмяными водами, которые боярыни на себя лили щедро, порою так щедро, что от щедрот этих дыхалку перемыкало.
Додумать не успела, потому как взвыли в высях не то рога, не то трубы, да так громко, что я вилку выронила. А на гудение их полыхнули жаровни, на помосте выставленные. Добре полыхнули, до самого потолку… правда, пламя опало, рассыпалось мелкою искрой.
ГЛАВА 31 И внове о забавах боярских
Красиво.
Небось, без магика не обошлося, обыкновенное пламя этак себя не ведеть.
Зато трубы смолкли, и застучали барабаны. Дробненько так, будто гороху кто сыпанул. Затренькали гусли, точней, это я попервости решила, что гусли энто, но опосля увидела девку за предивным инструментом, навроде как рога огромнючие, а помеж ними струны натянуты. Девка струны щиплет, да споро так, руки только и летают… я аж про консому, которая обыкновенным супцом оказалася, позабыла.
Пламя ж полыхнуло зеленью.
Присело.
И вновь взвилося тонкими хлыстами. Ох и красиво ж было! Наша-то боярыня, когда сыну народины справляла, тож магика наняла, чтоб гостей всякими чудесами порадовал. Конечно, простой люд никто не звал, но и не гнал с опушечки, а оттудова, хотя ж не все, но многое видать было. Я вот помнила огненные цветы, что на небе ночном распускалися… красиво, да… только мнится мне, что нынешняя работа — куда сложней, нежели цветы огненные.
Тоньше.
Я-то, хотя ж в магической науке дай Божиня, чтоб на мизинчик смыслила, а все поняла — чем меньше заклятье, тем сложней с ним управиться. Огненного шара и я сотворю, а вот чай в чашке горячим удержать, как то наставник делает, не сумею.
Додумать не успела, как смолк дивный инструмент. Барабаны же застучали дробней прежнего. И на помосту выскочил человек.
Я аж взвизгнула с переполоху. Да и не только я, боярыни заверещали тоненько. Иные хлопали… а я глядела и пыталась уразуметь, что за чудной такой скоморох? В костюме азарском… штаны широкие, шелковые, поясом прихваченные, да только какие-то… не такие штаны.
В огне блестять.
Переливаются при каждом шаге. Жилетка, на голое тело накинутая, стеклярусом сияет, а лицо маскою скрыто. Ох и жуткая же рожа! Глядеть и то страх! Глаза выпученные. Нос широкий. Из него дым идет. В пасти раззявленной клыки видны… а изо лба роги подымаются, да такие, каких, небось, не у каждого быка сыщешь.
Азарин меж тем присел.
Огляделся, руку к глазам приставивши… задом повернулся, и я вновку охнула… это ж кто парню этак портки подрал-то? Вся задница видна… а он ею еще и вихляет.
Ох срам-то…
А мужик на карачки встал, зад оттопыривши, и затрясся.
Барабаны загудели… боярыни захлопали… мамочки родные, это что ж то деется?
Мужичок подскочил и кубарем покатился со ступеней, будто бы ему пинка дали… я бы от дала, потому как негоже сурьезному мужику так себя вести. Он же ж в штаны свои драные вцепился да и рванул под свист бабский… штаны и развалились.
Небось, вовсе тканина гнилою была, ежели так… а он штанинами над головою машет, задом виляет, что девка лядащая… видала я таких, Божиня спаси и помилуй души их пропащие… штанину скомкал, боярыне бросил. Я уж подумала, что быть беде, потому как где это видано, чтоб в боярыню важную драными портками швырялися? Однако же боярыня кричать не стала.
И розгами не грозилась.
Напротив, портки подхватила, прижала к груди, уставилася… и я уставилася, потому как любопытственно стало… ох, ты ж, бабка моя, сколько на свете пожила, а, небось, этакого не видала… ноги голые, мосластые…
Не на ноги боярыня глядела.
А я… что я, видала я голых мужиков, вона, кажную неделю из баньки до речки сигають, и ничего-то в том нету грешного. Жрец наш тоже так говорит, дескать, Божиня людей сотворила, а ея творения есть святы. Правда, добавляет, что тело — энто храм, который держать надо в уважении и порядке. Но не в том суть… в общем, голым мужиком меня было не напугать.
Да только ежели голым.
Наши мужики под портками споднее носют, тут уж у кого супружница как сошьет, помнится, одного году все Барсуки веселилися, когда мельничиха зятю поднесла споднее из своей старой сукенки шитое, с незабудками, стало быть… а он и принял. Поди не прими, когда этакая тещенька обиду затаит и мало с тое обиды не покажется. Однако одно дело сподние штаны в незабудках, и совсем иное — этакая штукенция, которую на себя нонешний развеселый азарин напялил.
Гляжу и дивлюся.
Сзаду будто две веревочки перекрещенные, перевитые, а спереду… красненькое чегой-то мотыляется. Пригляделася… ох ты ж… и смех, и грех… зверь-элефант, про которого нам Милослава сказывала… с носом длинным, чтоб хозяйствие упрятать куда было, и с ушами. Я ажно задумалась, на кой ляд уши? Для красоты или он туда тоже чего-нить засовывает?
А пока думала, азарин этот к столику моему подобрался и, этак хитренько глянув сквозь прорези в маске, на краешек сел, потянулся, будто бы спросонья…
— Хорошо сидишь, девица… — промурлыкал он и пальцем по щеке провел.
А палец-то склизкий.
И сам он… нет, я не щупала, но вот… шкура темная, только не такая темная, как у Кирея, а обыкновенная, мужики нашие этак к концу лета загорают. Правда, руками да шеями, а энтот ровнехонько. Сверху, для блеску пущего, стало быть, маслицем помазался.
Я наклонилась и понюхала.
Ружами пахнеть, но еще и так, знакомо, льняным семенем. А я-то льняное масло давненько искала, да все хорошего, такого, чтоб для себя взять, не попадалось.
— Нравлюсь? — поинтересовался азарин и маску скинул.
Тьфу ты… мужик, а что баба… лицо кругленькое, гладенькое.
Щечки пухлястые, будто у младенчика. Носик курносенький. Глаза синие, да еще и подмалеванные.
Нет, гулящих девок я не видала, а чтоб вот мужик гулящий… расскажи о таком — не поверят.
— Для тебя, красавица и за так станцую… — Он со столика моего сполз, пальцем чегой-то с тарелки сковырнул и мне энтим пальцем в лицо тыц.
Еле увернулася…
— Попробуй, красавица… — и говорит так с придыханием.
— Спасибо, — отвечаю, — я уже наелася…
Он ухмыльнулся и пальчик облизал. Жадно так… его что, не кормят туточки?
— Какая ты… — И на столике разлегся, угрем промеж тарелок, заерзал на брюхе, ко мне подползая. — Забавная…
Очи закатывает, а я не на очи гляжу, а на задницу его и веревочки, которые в этую задницу впилися. Вот неужто удобственно так ходить? Ежели летом, тогда, может, еще и ничего, не жарко… небось, под портками ветерок обдуваеть, не даеть коже запреть, но ныне зима. Этак и отморозить все хозяйствие недолго.
Как потом жениться?
Азарин же энтот, в котором азарского было еще меньше, чем во мне княжеского, за ручку меня цапнул и лобызать, да с придыханием. А после и вовсе пальцы лизнул… точно, голодный… от рук-то, небось, съестным пахнет. Я руку высвободила и тарелочку к нему подвинула. Не то с фуагрою, не то еще с какой-то штуковиной хитроназванною.
— На, — говорю, — покушай, бедолажный…
Он нахмурился.
— Я не ела… так, с краешку сковырнула…
Нахмурился еще больше и со стола скатился, чтобы, зад оттопыривши, на колени мне плюхнуться. Ручками шею обвил, приник…
— Пойдем, красавица, в нумера… — дыхнул мне в самое ухо. — Я тебе кое-что покажу…
А сам глазки потупил.
Уставился на свое, этое… элефантом прикрытое… и тут-то до меня дошло. Вот оно как… и вправду, гулящий мужик, азарин развеселый за три тысячи рублей золотых… диво заморское, саксонское выучки, кобелиной породы… и Еська хорош… знал ведь, не мог не знать.
А я…
Дура, как есть…
— Спасибо, — ответила, его с коленок спихнуть пытаясь, да только разве спихнешь? Вцепился, что клещ в загривок собачий, и губы тянет, целоваться, значит…
Я его легонечко пальцем в бок ткнула, как наставник учил, азарин враз целоваться передумал. Скривился. Зашипел.
— Не шали, — сказала я и пальцы потерла.
А маслице-то хорошее…
— Ч-чего? — просипел азарин, за бок держась, будто бы я его наскрозь проткнула.
— Маслице, говорю, хорошее. Почем брал?
— М-маслице, значит, хорошее… — Арей всхлипнул и, закрыв лицо руками, сполз со стула. — П-почем брал…
Его плечи мелко вздрагивали, я даже испужалась, что довела своею гишторией до слез, но Арей тоненько всхлипнул, а после расхохотался.
Он смеялся громко, открыто.
И мне самой делалось смешно, особенно когда вспоминала я вытянутую физию того азарина, и то, как он вздрогнул, когда я поднялася с ним на руках. Небось, решил, что прям в кабинету и унесу? Аль еще куда, где сотворю глумление страшное над белым его телом?
Была у меня мысля пужануть, но передумала.
Глянула на девок наших, что платочками рты зажимали, не то со страху, не то со смеху, сплюнула и прямиком к столу боярыни двинулася. Коль ей портки рваные по душе пришлися, глядишь, и этим недоразуменьицем, в меня вцепившимся, не побрезгует.
Азарин заверещал тонюсенько, аккурат как девка, которой подол задрали, я ж его на столик бухнула, посередочке меж консомой и фуагрой.
Только талерочки звякнули.
— Берите, — сказала я, руки бедолаги отцепляя. Он же, только глянул в набеленное боярыни лицо, и присмирел мигом. А что, сблизу это лицо грозным было, небось, этакое хозяйки все холопы боятся. И туточки брови она сдвинула.
Рученькою по столу хлопнула.
— Сидеть!
Ажно у меня коленки подкосилися, азарин же ж, который со столика сползти тихонечко хотел, и вовсе сник.
— Звать как? — спросила боярыня, пальчиками ягоду с миски подцепляя.
— М-миколка…
— Миколка, — голос ее сделался мягок. — Открой ротик, Миколка… хороший ты мой…
Он и открыл, и ягоду проглотил, не жуя… дале я глядеть не стала, хотя ж барабаны вновку зазвенели. А чего глядеть? Чего я там не нагляделась? Сраму столичного? Да я без него как-нибудь проживу. Домой возверталась знервованная до краю.
И Арея повстречала.
А вот теперь вместе смеемся, а на душе с того легко-легко…
— Скажи мне, что с этим паскудником делать-то? — спросила я, отсмеявшися. — Не успокоится ж… чего ему неймется?
Поймать бы да оттаскать за уши, да только таскали уже, и не раз, и не два. Не сподмогло. Да и натура Еськина неспокойная к битию привычна. Иначе надобно, а как — не знаю…
— Ему… не ему неймется, а боярыне Гордане, которой уж очень охота за царевича замуж…
— А я при чем?
Арей с полу поднялся одним текучим движением. Сел на табурет, пряника, так и недоеденного, взял.
— А ты… ты, Зослава, при всем. Сама посуди, учишься не на целительницу, как девкам положено. Рядом с царевичем денно и нощно…
— Нощно я рядом с подушкою своей.
Тоже мне удумал про девку этакое говорить!
— Ладно, только денно, но близко. Так близко, как никто из дочерей боярских, а им же в охотку. Евстигнея спасла, царицыну благодарность получила, а еще и держишься так, будто бы им ровня. Думаешь, это не злит?
Я пожала плечами. Может, оно и так, да только я ту Гордану и не упомню… много их, а я одна.
— Вспоминай. Волос темный, глаз светлый. Еще в синее рядится обыкновенно…
Вспомнила. Смутно, но вспомнила такую…
— Единственная дочка боярина Неждана, который в совете по левую цареву руку сидит. А заодно уж старая Велимиры вражиня… обеим на трон охота.
— Не обеим…
— Это как?
Пришлось Арею говорить про ту беседу с Велимирой, а заодно уж и про Лойко, и про многие иные вещи, которые ноне были мне непонятны.
— Дурное затевается. — Арей подобрался. Но пряник доел. Вот и где он, спрашивается, ходит, что вечно голоден? В столовой всем еды хватает, да и Хозяин голодных в доме своем не потерпит, хоть сухарика, да приволочеть с кухни.
— Это я уж и без тебя поняла, — я махнула рукою, что толку думать, ежели думы мои далеконьки от правды. Ничего-то я в игрищах боярских не разумею, а потому и нечего пыжиться.
— Уйти бы тебе…
— Куда?
— Да хоть куда, пока поутихнет…
Э нет, не для того я в Акадэмию перлася, чтоб тепериче от собственное тени шарахаться. Училася и буду учиться, выйдет из меня воителка какая — не знаю, поглядьма. Но отступиться — не отступлюся.
И Арей вздохнул только.
— Смотри, выходит, что с Велимирой ты беседу вела, Гордана знает. Вот только о чем тот разговор был, то навряд ли. Сомневаюсь, чтобы Велимира с заклятой подруженькой откровенничала. И ты не стала.
Он крошки со скатерти подбирал и в рот кидал.
— Что она могла подумать? Что Велимира через тебя за царевичами следит. Все ж ты ближе всех к ним. Конечно, это тоже повод… странно, что она перекупить тебя не попыталась. Но с другой стороны, она слишком горда, чтобы с холопками якшаться… извини.
Я не обидчива.
Да и Гордану эту разом припомнила, что ходит осторожненько, что по ледочку осеннему. Ручки расставивши, глядючи на всех свысока. И девок простых завидя, кривится. Не она ли обмолвилася, что давно пора Акадэмию для всякого сброду прикрыть… и что папеньке о том отписала… только, верно, пользы с того письмеца не вышло.
— А вот Еську настращать на дурное дело, тут много не надо… заодно уж присмотреться…
— К Еське?
— Для начала к нему, а там… влюбленные за языком обычно не следят…
— Еська?!
Он — и влюбленный? В кого? Неужто в Гордану эту… ох ты ж лихо-лишенько… было б в кого…
— Но ты в одном права… бить Еську — дело дурное. Иначе попробуем…
ГЛАВА 32 О делах насущных и чистоте телесное
Седмица минула, а там еще одна, приближая дни к зимнему Перехлестью. А время то мутное, ежели не смутное. Перед Перехлестьем-то, когда солнце на убыль идет, тает силами, мертвый мир близится, как никогда.
И оттого спешат хозяйки опару ставить.
Пекут блинцы круглые, мажут маслицем да ставят у ступеней. Авось да ступит на порог тень знакомая… правда, над тем же порогом вешают ветви рябиновые да подковы, потому как теням в дом всяким заглядывать случается.
На Перехлестье девки плетут нитяные поясочки, связывая со своею судьбою долюшку суженого. Или вот зерно заговаривают, чтобы по весне сыпануть на нужное подворье, надеясь, что прорастет оно, а с ним и любовь, или на воде гадают, на пару…
В бане…
И бабка моя приговаривает, что в энти дни всяк слово становится особым.
Иные-то и зелья варят приворотные, но то уж грех великий, потому как неможно чужой разум застить да воли человека лишать.
В Акадэмии близости празднества не ощущалося.
Все как всегда, разве что наставник лютует паче прежнего. Да и не он один. Кажный норовит побольше знаниев в головы студиозусов впихнуть, и оттого головы эти гудят со страшною силой. Мне он боле родные Барсуки не снятся, все болей чертежи Люцианы Береславовны да звери земель дальних, по которым к концу недели обещали нам работу проверочную устроить… и к ним — заклятья малосильные, простого плетения… и дорожка… и наставник, который пальцем грозился, потому как вновь бегла я вполсилы, тряским бегом.
Только коса по заднице и хлопала.
Неудивительно, что с этакое учебы я разом про Еську и забыла. Да тут не то что про охальника энтого, тут свое имя запамятовать недолго. Царевичи и сами бледными ходили с недосыпу, Лойко Жучень и тот поутратил прежнее спеси, Игнат вовсе сник, а Кирей убавил пылу. Один Илья в науках был, что рыба в воде.
Учил.
И поучал. Он хороший хлопец, негордый. И как увидел, что маюся я с заклятием щита первое ступени — вот не выходило у меня пальцы так выкрутить, чтоб этот щит держался, у меня ж пальцы обыкновенные, а не без костей, как у некоторых, — так и сподмогнул.
Объяснил, значится, что и как.
А Лойко только и буркнул:
— Нашел, перед кем распинаться. Если она элементарное освоить не способна, то и делать ей тут нечего.
Как обидно мне стало… не способная? Может, оно и так, а может, что и иначе. Вона, как Илья объяснил, так и способная стала. А Люциана Береславовна, небось, до объяснениев не снисходит. Цедит сквозь зубы, что в книгах, мол, все ясно сказано. Ага… может, ежели кого с младенческих годочков учили, чем третья позиция от второй верхней отличается, оно и понятно, да только у меня подобных наставников не имелося…
И да, страшно, потому как прав Лойко.
Ныне все простое, и хлопцы на раз справляются, а я… я кажный день мучаюся, пыхчу, кручу руки и так, и этак, а оно через раз выходит, да и то криво. А как оно дальше будет, когда настоящая наука пойдеть? Ох, не сдюжу я… или сдюжу?
Видать, мысли сии на моей физии явственно проступили, коль Ильюша вздохнул и ответил:
— Ты не прав, мой друг.
Он говорил редко, уж не знаю, нравом ли был молчалив, аль опасался лишнего слова сказать ненароком, да только каждое было золотом.
— Чего? — Лойко нахмурился, он-то в последние седмицы мрачен ходил, недоволен, не ведая, на кого недовольствие сие выплеснуть.
— Того, что нам с Зославой еще учиться…
— Нет, если ее отчислят.
— Для отчисления нет причин. — Илья разминал пальцы, и то диво, были они тонкими, белыми, будто девичьими, хотя ж никто не посмел бы в лицо сказать боярину такое. А плетения у него выходили знатными, его и Фрол Аксютович, заглянувший как-то будто бы по делу, похвалил, сказал, что выучка чуется. — У Зославы очень высокий потенциал…
Повыше, нежели у Лойко, и дело дивное, мне сие было донельзя приятственно, хоть в чем-то да уела я боярина. А он лишь зубами скрипнул, не знаючи, чего ответить.
— Поэтому, если и вправду возникнут проблемы, то назначат дополнительные занятия.
Он говорил о том спокойно, равнодушно даже.
А я разом успокоилася. Не прогонят… вот Илье верю, что не прогонят… Лойко ж выругался. А ругался он знатно, с душою. И выходит, что крепко душе этой я поперек стала.
— У нас с тобой есть преимущество, однако гордиться здесь совершенно нечем, — Илья пальцы сложил… первая позиция?
Или вторая верхняя?
Божиня милосердная… их всего четыре, а я запомнить не могу! Нет, по картинкам-то помню, а вот чтобы так и самою… скрутить мизинчик к большому, а средний выставить… да, первая. Ежели подогнуть, то была бы вторая нижняя. А коль безымянный крючочком согнувши отвесть, то вторая верхняя.
Умаюся, пока выучу.
— Заслуга в том наших учителей.
— И охота тебе, Ильюшка… — Лойко хотел добавить еще чего-то, навряд ли доброго, да только рукой махнул, мол, делайте, чего вам надобно.
— Нам с ней учиться. Это первое. И не только учиться, нам и практику вместе проходить. А там всякое случается…
— Думаешь…
Илья плечами пожал. Вот и любопытственно, вроде бы и при мне говорили, и языка я разумела, а все одно ничего не поняла.
— Уж больно случай удобный… Зослава, не растопыривай пальцы так широко. Аккуратней… вот смотри…
Он руки встряхнул.
— Начинай с основы… первая позиция… правильно, пальцы держи плотно. Представь, что ты камушек зажимаешь…
— На, — Лойко камушек и протянул, махонький, с горошину. А к нему еще два. — Засунь здесь и здесь, не позволяй вывалиться…
И надо же, диво, говорил не сквозь зубы, а почти нормально. С камнями оно и вправду легше пошло, я только и думала об том, как эти камни не выронить. А они еще и скользкими оказалися…
— Это самое простое, детское упражнение, — сказал Илья, когда Лойко ушел. — На самом деле ничего тут нет сложного. Надо лишь руки поставить. Это как на клавикордах играть. Сначала мучишься, пока руки к инструменту привыкнут, а потом уже не думаешь, они сами собою работают.
Что такое клавикорды, я спрашивать постеснялася, решит, что я совсем дикая.
— Ты с камушками ходи. Неделя-другая, и привыкнешь. Потом и вовсе на уровень рефлексов станет.
— Чего?
— Ничего, Зослава… научишься.
Научусь, тут я ему поверила. И осмелевши — вот перед Ильею я робела, незнамо отчего, он-то со мною завсегда вежливый был, — спросила:
— А чего на практике будет?
— Может статься, что и ничего не будет, — ответил он, выплетая узор, каковой я сама, мыслится, никогда-то плести не научуся. Глядеть на то интересно, пальцы шевелятся, выводят одну фигуру за другою, и ежель приглядется, иным, особым манером, то и видны становятся полупрозрачные нити силы. И сам узор, тонкий да красоты дивное. — Отправимся в какое-нибудь село захудалое, поживем там месяцок, погоняем крыс и лесную нежить, если еще будет она… а потом назад.
— А может статься…
— А может статься, что в местных лесах не только нежить ждать нас будет. Но ты, Зослава, не бери в голову… это я так…
Ага. И так, и этак, и чуется мне, что будет энта самая практика развеселою. До того развеселою, что как бы вусмерть не увеселиться. Ну да мое-то дело малое — учиться, пока учат. Глядишь, и выйдет чего… коль доживу.
С Еською же вышло так…
…мыльни нашие, общежитиевские, в подвалах устроены были. И ходили туда все, не глядючи на звание, потому как в комнатах, будь ты хоть самою важною боярынею, стояли лишь тазы с кувшинами. А в тазу, конечно, помыться можно, да только удовольствия от того мытия не будеть. То ли дело мыльни. Я этакой роскоши и в старостиной бане не видывала, а уж ее-то всем миром ставили.
Но туточки…
Полы мозаичные, да теплые такие, прям как солнцем гретые. Хозяин-то сказывал, что не солнцем вовсе — водою, которая из подземных, сокрытых источников по трубам подымается. Она-то и в купальни идет, и ручейками из тех же труб льется, ежель краник открыть. И я по первости все боялася, что скончится вода этая, аккурат как намылюся, вот и будет смеху, а после пообвыкла. Боярыни наши-то, хоть и драли носы — не по чину им мыться с девками простыми, — а в купальни заглядывали. Иные-то и вовсе сидели подолгу. Намажутся медами аль кашею овсяной, волосы репейным маслом натрут, чтоб пышны стали да густы, обернутся полотенчиками, в грязи целебной извазюканными, да лежат себе на каменных лавках, дремлють.
И с того им красоты прибывает.
Ну, мне так сказано было, да скрозь зубы, когда спросить осмелилася… а еще советовано не мешать иным, благородного происхождения людям, отдыхать. Мол, для таких, как я, мыльни ночами открытые. Я того слухать не стала, сплю я ночами…
Но не об том речь вовсе, а о Еське.
Мыльни, стало быть, для девок по правую руку от лествицы расположенные, а мужчинские — по левую. И Хозяева строго за порядком следять, потому как случались охотники за девками да подглядеть, но не тут-то было. Сунется какой охальник к дверям, а оне не отворятся.
Нечего.
Буде злится и упорствие проявлять, так еще и по лбу приложить могут. А то и вовсе выглянет из стены Хозяин да выскажется по-свойму, и с того у иных уши отнималися вовсе.
Аль чирье по лицу выскоквало.
И еще какая беда случалася… главное, что волшба-то эта мелкая, но зловредного свойства, с нею не кажный целитель управится. Оно-то и верно, в доме своем Хозяин — хозяин и есть.
Оттого и никто не сумел понять, какою ж это макарой Еська в женской мыльне оказался. И главное, сам-то опосля клялся, твердил, будто бы представления и малого не имеет, как оно вышло.
Но тогда…
Я аккурат по лествице спускалася да пальцы все крутила, силясь Лойковы камушки не выронить. На первой-то позиции выходило, а вот уже со второй, про третью не кажучи, пальцы мои становилися дубовыми. И камушки падали. Я уж и так их, и этак, а они, подлючие, знай себе выскоквають…
Тут-то дверь и отворилася.
Да как отворилася, едва меня по лбу не приложивши. А из-за двери… сперва-то я решила, что девка эта наполохалась. Хозяин, он порой пошутить любит, вона за дверью-то визжали-верещали на все лады. Может, мыша пустил, может, жабу в купальню, а может, еще чего удумал.
Главное, девку энту я споймала… а уж после сообразила, что не такая какая-то девка.
Здоровая больно.
Плечи широченные, бледные, но мышцою играют. А главное, что стриженая коротко… рыжая… стоит, головою мотает, глаза треть…
— Еська? — От уж кого встретить и не чаялось. Оне, конечно, человек с придурью, но вот чтоб охальничать, так того за ним не видела. А оно вона как…
Я и отступила… и полотенчико протянула, потому как негоже человеку в людных местах ходить, срам не прикрывши.
— Ты… — Он отряхнулся.
И лицо отер.
А лицо это побелело, ажно серым стало. Глаза кровью налилися, самого перекривило аж. Стоит. Полотенчико мое тискает, дышит сипло… и я стою.
Так и пялимся один на другого.
И сказать бы чего надобно, да только мову заняло. Дышим…
Бабы в мыльне верещать, и дверь хлопнула… от той двери Еська и отскочил, полотенчиком моим заслоняясь. А полотенчико этое, которое бабка еще вышивала, невеликим было, цельного мужика, хоть и лядащего, за ним не укроешь.
— Тут он! — взвизгнули, да так, что хоть уши пальцами затыкай. А следом в Еську полетел кувшин да глиняный. Еська от кувшина-то уклонился, а он, о стену ударившися, разлетелся мелкими осколочками, варом плеснул…
А вот чобот девичий в Еську попал…
…и другой кувшинчик, с ружовым маслицем, которым боярыни опосля омовением телеса свои мазали для духмяности и белизны особое… кувшинчик этот парпоровый аккурат в лоб и угодил.
Но ничего, от масла ототрется. А ежель нет, побудет пару деньков духмяным да белым, от энтого здоровью вреда не будеть, польза одна.
— Бей его, девоньки! — раздался рев.
И Еська попятился к лестнице.
— Беги. — Я встала перед дверью и плечиком ее придавила. А то ж с девок станется… девки-то, оне только с виду хилые, небось, слышала я, как в Яцуках мужичка одного вениками до полусмерти забили за то, что в баньке подглядывал. Оне-то, конечно, не боярского роду были, да только мнится мне, что с нонешней знатности Еське малое облегчение выйдет. Без веников, глядишь, вусмерть не забьют, да и все одно позору не оберется. Отговаривать меня он не стал, полотенчико подхватил, маслице смахнул да и поскакал по ступенькам… а я дверь попридержала.
Били в нее.
Пихали.
Говорили матерно, а то и прокленами…
— Охолоните, — велела я, когда вовсе нехорошие слова пошли. Оно-то как бываеть? Злость злостию, да иная на дурные дела людев толкает, за которые после и совестно, и страшно, потому как кажное такое дело свою ж душу мучит. — Ушел он…
За дверью попритихли.
— А ты кто будешь? — раздался строгий голос, сразу ясно — боярская дочь вопрошает.
— Зослава я…
— Открой дверь, Зослава.
— А дурить не станете?
— Да за кого ты…
Но, видать, одернули боярыню сотоварки, потому как стихло. Чуяла я, что шебуршатся, шепчутся, совет, стало быть, держат.
— Открой, — велел уже иной голос.
Что ж, Еська-то ушел, и держать девок в мыльнях мне резону не было. Мне бы и самой искупаться, а то несеть опосля спортивной-то залы, что от коня запаленного.
Ну иль кобылы.
Открыла.
И вошла… в мыльнях было душно, сладко пахло травами и маслами, пожалуй, ажно занадто пахло и травами, и маслами. У меня от энтих запахов в носу засвербело…
Чихнула.
И вновь.
А боярыни расселися по лавкам, в полотенчики укутались, иные на волосах навертели башнями будто. Лица сметаною намазаны, аль творогом, аль еще чем, да только густенько-густенько, так, что и не разглядеть, кто перед тобою. И смешно, и страшно… небось, встретишь этакую раскрасавицу впотьмах, то и сердце из грудев от переполоху выскочит.
— Чего тебе надобно, девка? — спросила одна, в полотенчике лазоревом, да звездами шитом. Гордану я по голосу узнала.
А еще по взгляду надменному.
От этакого взгляда сразу в коленях слабина появляется, и спина сама собою гнется, чтоб пресветлое да милосердной поклону отвесить. Только я над своею спиною хозяйка.
И кланяться не стану.
— Того, чего и всем. Помыться.
Скривилася она.
И сказать чего-то хотела, да только соседушка ейная этак локотком под бок пихнула и зашептала на ухо… нет, я могла б послушать, чего она там нашептывает, да только нет за мною обыкновения в чужие разговоры лезти.
Скинула сарафан.
И споднее на крючок повесила. Косу распустила.
Боярыни следили за мною. И до того на наших с бабкою курей похожими были, что я с трудом смех сдержала. Оно-то не простят, ежели засмеюсь, хорошо, что про курей не знають. А что? Те вон тоже беленькие, посядуть рядочками в курятнике да друг на дружку зыркають желтыми глазами. Когда ж раскудахчутся, то и вовсе спасу немашечки.
Уж в самой мыльне, когда воду пустить сподобилася, то и услышала.
— …не дури, Гордана… все, что ни делается, оно и к лучшему… представь, если б ты и дальше с ним, как с равным…
— …я думала, что он…
— …с такой-то спиной? Висельник, небось, а то и вовсе… где только подобрали…
Вода текла по волосам, по плечам, смывая и грязь, и усталость, и мысли дурные… ласковая она, что руки материны… теплая… так бы и стоять вечность, ни о чем не думая.
Да не позволила.
Принесла вот разговор чужой.
Что мне с нею делать-то?
Забыть?
О ком оне… Горданушка с ее злостию, которую не смыть и самою горячей водой, потому как злость сия от души идет, а душа… не хочу я Гордане в глаза глядеть, страшуся, чего увижу. И подруженькам ее… и наверное, не дар это, проклятие… зря вот наставник баит, что силою этой я управлять должна.
А может, и не зря.
Ежели совладаю, то смогу по своему хотению в людей глядеть. Аль не глядеть.
…но Еська не висельник… небось, с висельником царица не стала бы нянькаться… а что спина… обыкновенная спина… широкая да полосатая, в шрамах белых, косых… такие бывают, когда порют кого-то, да не розгою, а хлыстом…
…и крепко ему тогда досталося…
…от кого?
Не мое дело, но… их же совсем детьми царица собрала, и стало быть… а дите хлыстом… как вусмерть не умучили?
Чудом, не иначе…
— И чего делать будешь? — голосок у Горданиной подруженьки тонкий, звонкий… аккурат что ручеек, который по камням пробирается.
— Тоже мне проблема. Другого найду…
ГЛАВА 33, где речь идет о делах сердешных и магических
С того случая Еську, конечно, наказали. Нет, не розгою, хотя ж находилися такие, которые говаривали, что в нонешнем разе только розга и сподобится до Еськиного розуму дойти, но Фрол Аксютович по-свойму порешил.
На конюшни сослал.
На две седмицы.
И оно-то, навроде, ничего страшного в том не было, да вот… вышло все криво. Пускай и не было в том моей вины, а все ж…
В столовой я задержалася, признаюся, что есть за мною грех чревоугодия, как-то наш жрец говаривал, правда, повторяя, будто бы кровь моя иного, нежели у людей, рациону требует, да только оба мы знали, что требовать — одно, а себе попустительствовать — иное. Вот каша — это да, это для нужд телесных, а булки с вишнею да медом — уже попустительство полное. И мне бы, волюшку в кулак собравши, от булок тех отказаться, а я… села чаевничать, и так мне хорошо сиделось.
Думалось.
О гостинчиках вот думалось, которые я для своих справлю. Нитки там, скатерочку… шалик для бабки… и бусы для Станьки, у нее-то, небось, красивых бус нету, а девке охота, даром что сирота горькая… и еще думала про орехи медовые, кофий да мак, который в столице был сладехонек…
Про шнурок узорчатый, который для Арея связала… примет ли?
Кирей вот…
И остальным надобно подарки делать, потому как принято на Перехлестье обменьваться. В Барсуках-то повелося, хотя ж бы мелочь какую, петушка на палочке, а соседу-приятелю поднесть должон, иначе не будет тебе удачи в новым годе, обойдет она и дом, и семью сотнею дорожек, и хорошо, коль по этим дорожкам беды к тебе не выведет…
— Да как ты смеешь? — От этакого визгу ажно в ушах зазвенело, особливо в левом. Я и пальцу засунула, проверяя, целое ли оно.
Ухо было целым.
Я и повернулася на крик. А кто б не повернулся.
Боярыня Гордана в синем убранстве была диво до чего хороша. Волосы лентами переплела, на голову шапочку бархатную да с перышком возложила. С шапочки энтой на глаза будто бы сеточка серебряная спускалась, ноне такое в великое моде…
Сама бела, стало быть, не сеточка, боярыня.
Губки поджала.
Бровки сдвинула сурово.
И глядить этак, с прохладцею. А перед нею Еська стоит.
Прямой, что оглоблину проглотимши. Ажно выше сделался. И белый весь… страшно глядеть… цветочки сжимает, стало быть, принес боярыне своей, да только энтот дар ей не в радость.
— Гордана…
Я не услышала — по губам прочла, до того тихо сказано сие было… а боярыня только плечиком точеным дернула.
— Что-то ты нагл стал, холоп, без меры… — Рученькой белой махнула, этак мух отгоняют. — Ежели смеешь имя мое произносить.
И подбородочек подняла.
Проплыла мимо…
— Стало быть, — Еська схватил боярыню за рукав отрезной, — не мил я тебе больше?
— Ты?
— Я. Или забыла, Горданушка, как… говорила… что говорила…
— Забыла, — ласково ответила она. — И тебе советую. Потому как, если вдруг не забудешь, то батюшке отпишусь. Не дело это, когда холопы боярской дочери шагу ступить не дозволяют… и про то в Правде, помнится, писано, что ежели холоп какой нанесет оскорбление деве роду боярского словом аль взглядом, то и пороть его надобно на лобном месте, пока вся шкура не слезет…
Она говорила это, в глаза глядючи, и от каждого словечка, что падали камнями в пруд, удовольствие имела, и было то для меня странно.
Страшно.
Еська же рукав не выпустил.
— А если он и коснуться посмеет, то и вовсе до смерти…
Пальцы разжались, и шелк темно-синий сам выскользнул, шкурою скользкою змеиной, перелинявшей.
— Ты меня обманул, — сказала Гордана и цветочки взяла.
Повертела.
Да и под ноги бросила.
— Чем же? — Еськин голос был тих и страшен, этак тихо становится перед грозою, когда небо еще светло, а все одно чуется, что вот-вот проломит его первая молния. — Я никогда не говорил, что я царевич… если тебе он нужен.
А то кто ж еще?
— Ты должен был сказать, кто ты есть…
И ушла.
Он же так и остался.
Стоит.
Покачивается. В плечи себе вцепился, да так, что руки побелели. И сам белый-белый…
Я встала, булки булками, да… неладное с человеком деется.
— Видела? — Он ко мне и не повернулся.
— Видела, — согласилась я. — И слышала…
— Ты… с мыльней этой… я ведь точно знаю, куда шел… и тут вдруг… — Он попытался усмехнуться, да только усмешка та кривою вышла.
— Не я, Божининой милостью клянусь.
Арей… больше некому… небось, подговорил Хозяина, а тот и рад был бы помочь, тоже все переживал за меня…
— Какая теперь разница. — Он пальцы разжал. — Небось, все уже знают…
Я кивнула. Знают… Гордана не из тех, которые молчать будут, да и подруженьки ее, и выходит, что отныне быть Еське серед царевичевых людей, да наособицу.
— Ну и…
Еська добавил пару слов покрепче, таких, за которые бабка, случалось, за уши меня драла…
И ушел.
Дорогая моя бабушка, Ефросинья Аникеевна, премного отрадно мне было прочесть, что все-то у вас ладится…
Письмо из Барсуков я упрятала в коробочку, из тех, Киреевых, расписных, к иным письмам, которые хранила да перечитывала едва ль не кажный день. Наизусть вона выучила…
…и что со здоровьицем вашиим сподмогла Божиня.
…ежели сие, конечно, бабка написала не для того, чтоб меня суспокоить, с нее-то станется. Но ничего, вскорости свидимся, тамока и погляжу, как оно на самым-то деле.
…конечно, печалит меня, что не сумеете вы предстать пред моими очами на родительском дню, как сие водится в Акадэмии, да только, мыслею я, что не одна я такая. Многие ж со студиозусов — не местечковые, небось, ихним родичам до столицы ехать далеченько. А у кого и близко, то и не каждый сподобится семействие свое оставить за-ради этакого визиту. Есть и такие, у кого родичи там, аль иные близкие люди, и вовсе невольные…
Я вздохнула и перо отложила.
Вновь не о том пишу. Арей вон говорит, что будто бы я — человек, настроению подвластный, сиречь, чего моей левое пятке восхочется, то и творю. Правда, про пятки я не совсем поняла. Пятки — они пятки и есть, чего им хотеться-то может? Небось, только того, чтоб не мозолились.
Да только выходит, ежели ему верить, нету у меня нужное сосредоточенности. И вот вновь, взялася про родительский день сказывать, а выходит, что про иных людев, до которых, ежель разобраться, то мне и дела нету.
Кто и когда родительский день придумал, сие я не ведаю, да так повелося, что перед самою неделькою Перехлестья открываются вороты Акадэмии не только для студиозусов аль магиков, но и для всех, кому восхочется побывать внутрях. И по обычаю в первый-то день родичей пущають. А уж на другой — горожане идуть, желаючи на магиков поглядеть и иные какие чудеса, коии, им мнится, туточки в превеликом множестве сокрыты.
А для родичей студиозусы представления всякие устрайвають, навроде ярмарочных, только в зале. И кажному охота умением своим похвастать…
Правда, первую курсу до того не пущають. Нам наставник так и сказал:
— Успеется.
Лойко насупился, небось, охота ему было перед батюшкою выступить, показать столпу водяную, которую он делать научился. И столпа этая ровнехонькою выходила, что твоя колонна. Наставник, уж на что на похвалу скупой, а и тут сказал, что, мол, давненько такое работы не видывал.
Нет, с волшбою у нас выходило как-никак… я вот огненного шара сотворить могла, правда, раз через два, зато полог мой — спасибо Илье-боярину за подмогу — выходил раз от раза крепше. У самого-то Ильи все, за что возьмется, легко получалось, и не скажешь, что силенок у него немного. Игнат, тот с землею ладил, на зов его всякое семя откликалось, да только собою боярин крепко недоволен был. Оно-то и верно, земля — это для целительниц хорошо, аль для стихийников. Они земляную волну поднять способные, каковая половину войска вражьего накроет, а другую половину — земля трещиною проглотит, как о том летопись про Мамуй-хана сказывает. А у Игната чего? Дерева растут, да и только… это не по-воинску. Вот и пыжится, силится иные части силы своей пользовать. Благо, наставник про то ж говорит, мол, не стихийники мы, чтоб на одной силе замыкаться, потому и повинны худо-бедно, но с каждою частию силы своей ладить.
Вот про худо-бедно, это он правильно сказал.
И худо.
И бедно… вона, тою седмицею повел нас Архип Полуэктович на полигону, показал, как стихийники учатся. Ох и нагляделися!
Столпы водяные?
Да цельные дома, аль шали, кружевного хитрого витья, правда, сие витие, когда падаеть, режет и дерева, и землю, будто бы ножом. А когда б под этакую шаль человека попасть угораздило б? Огневики тоже радые силой похвастать… и катались огненные волны от края до края полигона, оставляя землю черную, выжженную, разбивался о них ветер. А порой не разбивался, но резал, будто бы ножом. И глядеть на сие было жутко. После и земля пошла горбами, выплеснула тонкие хлысты корней, которые норовили магиков опутать, утянуть в раззявленные земляные рты, схоронить заживо…
— Все разглядели? — поинтересовался Архип Полуэктович. Он-то на пригорочке сидел, ноженьки под себя подогнувши, спокойненько так, былиночку вона еще жевал.
— И мы так сможем? — Лойко ажно приплясывал, небось, охота ему была водяною шалею вражье войско порубить.
Кирей молчал.
Царевичи держалися наособицу.
— Не сможем, — заместо Архипа Полуэктовича ответил Илья. — Они стихийники. А у стихийников сила монополярна, то есть почти полностью сосредоточена в одной сфере или стихии. С одной стороны, благодаря резонансу они получают невероятные способности к контролю над своей стихией, с другой, за пределами ее они фактически беспомощны.
— Хорошо говоришь, Ильюша, — похвалил Архип Полуэктович и былинку в зубы сунул. — Вы так не сможете. А вам и не надобно. Ваше дело — не воевать, а защищать. И потому надобно вам знать не то, как построить огненный шквал, а что сделать, чтобы под этим шквалом уцелеть.
— И что? — не выдержал Игнат, который изо всех сил старался сотворить в земле трещину, но пока выходила лишь кротовья нора, а из нее крысиным хвостом торчал корешок.
— А ничего, — Архип Полуэктович поднялся. — Вам — только бежать да надеяться, что у огневика этого ресурс невелик. Стихийники, конечно, силу большую имеют, да только и тратится она быстро. А потому самое верное — измотать… только и тут с умом надобно. Скажем, от ветром вам огненную стену не проломить, силенок не хватит на этакий ветер. А вот родничок на пути вывести, на то многое не надобно…
— И что, остановит? — поинтересовался Илья.
— Нет, если, конечно, не случится этому родничку в критической точке открыться. Но такое везение раз в сотню лет выпадает. Однако вода — стихия противоборствующая, иного вектора, если помните, о чем я говорю…
Как не помнить, ежели оные вектора, разными цветами вычерченные, мне во снах снилися. Особливо один запомнился, про тое, как я нашую коровушку расписываю, да все кистями колонковыми, но нумеру неверного…
Жуть.
— Так вот, опять же, если в ваших головах пустых… особенно, Лойко, в твоей… мне порой кажется, что эта голова тебе дана исключительно для того, чтобы шапку носить… но вдруг да чудо случилось, и в ней задержалась такая простая мысль, что любая магия — это прежде всего силовая схема. И как в любой схеме, в ней важно равновесие… вот…
Он вытащил из шальвар колоду.
Листы расписные, не гадальные, а аккурат те, какие мне случалось видать на ярмарках у зазывал, сидят оне на перепутьях, да перекидывают пред собою, приглашают сыграть на малую денежку, авось и случится за нею небывалое везение? И находилися дурни, которые в энто везение верили.
Правда, играть Архип Полуэктович не стал.
Он на травку сел, ножки перекрестил и листы домиком поставил.
— Самое простое заклинание. Обрушить его сложно, — он ткнул пальцем в листы, домик покачнулся, а все одно устоял. — На этом уровне обычно действуют исключительно силой. У кого ее больше, тот и выдюжит… а вот теперь…
Рядом встал еще один домик. И Архип Полуэктович возложил наверх лист, а на лист — третий домик…
— Заклинание второго порядка… основание его по-прежнему крепко, но вот вершина, которая и есть визуальный образ силы, уже более уязвима…
Дальше он строил молча.
Наши посели. Лойко бочком, будто бы ему вовсе не интересно было, чегой там наставник вытворяет, царевичи рядком, Кирей близенько… как-то ажно занадто близенько… и еще подвинулся.
Эт он вскоре на колени мне взопрется.
Я нахмурилась…
— А вот, скажем, заклинание пятого или даже шестого уровня, та же огненная стена… или сеть рыбака… или ветряные плети…
Дом из размалеванных листов был в половину роста Архипа Полуэктовича, и гляделся, конечно, красиво, я такого прежде не видывала, да вот…
— По сути своей, это сложная схема. А чем схема сложнее, тем больше в ней критических точек, которые способны эту схему обрушить. И конечно, если вы попробуете силой на силу, то вам надо будет создать нечто подобное, но вот если с умом подойти…
Архип Полуэктович потянул лист из середины.
— Вот ваш родничок… а вот что сотворит он с гипотетической стеной…
Дом из листов закачался, а после и обрушился.
— Конечно, пример грубый. Хороший стихийник удержит схему, но на это понадобятся время и силы. Времени немного, а вот сил такая магия требует прилично. И потому редко кто из них вот, — он махнул на полигон, посеред которого вырос земляной вал, ощетинившийся вековыми соснами, — будет баловаться ею в настоящем бою. Проще создать сотню огненных шаров, которые противник если и выбьет, то не все, нежели одну стену…
— Тогда зачем? — Евстигней подал голос.
— Затем, чтобы уметь. Мало ли, какая оказия случится… да и порой всякая нужда бывает. Скажем, пожар лесной остановить, как в прошлом году. Стену на стену послали… или вот вал перед городом вырастить, или ветром ветер отсечь. Вы, бестолочи, только о войне и горазды думать. А магия, она для многого годна…
Архип Полуэктович собирал свои листы, а я… я вот думала, что магик энтот, который земляную валу сотворил, а на нем дерева вырастил, небось, не одно поле поднять мог бы. А сеть водяная… это ж, ежели в засуху, то цельное спасение… и с огнем, ежели управиться, то это ж любой пал унять можно… а оне воевать.
— Свободны, — махнул рукой Архип Полуэктович. И сам ушел. А я вот осталася, сидела, глядела на то, как огонь с водою сходятся в бою, и шипят, плюются паром. С пригорочка-то все видать хорошо… и то, как пыжатся магики один перед другим, гонют, что огненные волны, что водяные, да только… пустое это…
ГЛАВА 34 Об откровениях
— В степи маги рождаются нечасто, — Кирей тоже не ушел, а может, возвернулся, да только неохота мне было о нем думать. — И все больше огненные. Мы от огня пошли, и поэтому, наверное… степь такое место… там от малейшей искры все полыхнуть способно.
На огонь он глядел… с печалью?
— Иногда еще появляются те, кто с ветром говорит… с землей — редко… их ценят особо. А уж если воду слышат… в степи воды мало, это здесь родники переплелись, куда ни ткни, а откроется, там же…
— Помнишь?
— Помню… я ж не таким дитем был, чтобы все забыть.
Из спекшейся земли, черной, страшной, пробился огненный цветок. Я, открыв рта — ну очень уж сие удивительно было! — глядела, как вырастает тонюсенький стебелек, как пухнет на нем бутон цветочный, наливается опасной краснотой, как лопает, раскрывая лепестки.
— Я первое время привыкнуть не мог, что воду можно тратить без оглядки. Моются каждый день… бани ваши… и обливаются… а еще озера… столько воды и разом… в доме моего отца имелся пруд с золотыми рыбками, и это было роскошью.
Кирей глядел на цветок, но навряд ли видел.
— По весне в степи идут дожди. Не такие, как у вас… воды вдруг становится много, ею и дышат, и задыхаются. Старые каналы наполняются водой. Реки разливаются… это странное время. Мне рядом с водой неудобно. Слабею…
Огненный цветок покачивался на ветру.
— А потом все прекращается. Степь оживает… короткая весна, но… если бы ты видела, до чего красиво там становится…
— Тоскуешь?
— По степи? Пожалуй, что да… вроде и привык уже… у вас тоже неплохо. Сперва, конечно… сложно было. Мы все были на том поле.
Сказал и смолк.
А огненный цветок разлетелся искрами, погас, будто и не было его.
— Так ты ж… — хотела сказать, что Кирей-то в те годы дитем был горьким, мало меня старше, но промолчала. Еще обидится. Но азарин и сам понял.
— Я был сыном авара, князя, если по-вашему. Тогда еще просто авара… и уже сидел в седле. И невесту мне присмотрели… и никто бы не понял, если бы я остался дома.
— Сколько…
— Двенадцать. Я сам себя полагал взрослым… я знал, что наследником рожден. И когда-нибудь буду править землями нашего рода… даже если бы появились еще сыновья… отец любил мою мать. И пока она была жива, не приводил в дом других женщин. Я был не старшим. Я был единственным…
Кирей лег на землю.
И не холодно ему-то?
Мне вона и в тулупе морозит, хотя тоже великого ума, ежель расселася. Чай, не лето на дворе…
— Он брал меня на Совет… говорили, что даже когда я в колыбельке лежал, все одно брал, чтобы привыкал. Слушал. Учился. А подрос когда, то и вовсе по-взрослому… сажал перед собой на кошму. Давал в руки серебряную плетку, и Советники кланялись…
…а теперь, стало быть, Советники эти, которые кланялись, спят и видят, как бы избавиться от неугодного наследника. Или не эти, но иные, правда, с того Кирею не велика разница.
— Я слушал, о чем говорили. А после и сам говорил, когда понимал, что есть чего сказать… но не думай, что я только и делал, что на кошме сидел.
— Замерзнешь.
Я поднялась и стряхнула с тулупа не снег, а грязь, темную, примороженную. Она цеплялась за овечий волос, забивалась, и откуда-то я знала, что, подтаяв, эта грязюка и завоняется.
Мертвая земля смердит не хуже мертвого человека.
А на полигоне она давно уже не была живою.
— Отогреешь? — поинтересовался Кирей и хитро так глянул.
— Ага… скажи еще, чтоб в баньке попарила…
— И от баньки не откажусь.
Вот же ж… ни стыда, ни совести, одни роги торчат.
— Меня учили быть не только правителем, но и воином. Никто не потерпит над собой авара, не способного палаш в руке удержать. К двенадцати у меня была своя сотня… как я мог остаться дома?
Не знаю.
У отца вот сотни не было.
И дед, если и сидел где, то только на лавке в старостином доме, там тож советы устрайвали, когда случалось, скажем, поля общинные делить, аль рядиться, кому и за кем нонешним годом колейку на пастьбу гнать. Оно, может, вопросы не зело важные, а все одно…
— Отец велел не высовываться…
— А ты…
— Мне было двенадцать. У меня была сотня, конь. И уверенность, что люди — слабые, никчемные существа… — Кирей потер переносицу, а я увидела шрам на ней, тонюсенький, едва-едва заметный. — Мне думалось, что они-то и первого удара не сдержат… а потом… это походило на безумие… это и было безумием. Красное небо. Красная земля. Железо… огонь вот… когда такая волна идет, люди сгорают не сразу… они кричат, и так страшно. Я по ночам до сих пор слышу, как…
Кирей побелел.
Сев, он стиснул голову руками.
— Я там потерялся… не понять, где свои, где чужие… уже рубишь налево и направо, потому как, стоит опустить палаш, промедлить чутка, и зарубят тебя… конь не летит. Бредет, проваливается в землю… или уже болото… там крови столько пролилось, что развезло… пот глаза застилает. Кто-то кого-то зовет… кто-то смеется, что безумный… стонут… и меня выбили-таки… наверное, отец все же хорошо меня учил, если я продержался до вечера. А может, свезло. Везение разным бывает. Главное, что я продержался… а потом вот в голову прилетело… очнулся уже среди ваших. Живой… поломанный крепко, но живой… думал, сразу прирежут, ан нет…
Не прирезали.
А ведь и вправду могли бы… сколько наших там слегло? Сколько же осталось, живых да пораненых, озлобленных, потому как кровь пролитая завсегда злобит. И вздернуть бы им Кирея, на копья поднять иль еще какую учинить расправу, но ведь живой…
— Целителя привели даже… перевязали. Напоили… а потом… лихорадка началась. Все же потоптали меня хорошенько. Мне бы к предвечному огню вернуться, но нет, выжил… и узнал, что мы замирились… и я стал залогом мира. Не только я, но тогда я думал исключительно о себе…
Он поднялся легко, вот сидел.
Вот уже стоит, отряхивается.
— Отец тогда еще приехал повидаться. Своих целителей привез… рабов, чтобы при свите… сундуки… золото… коня мне подарил… я на того коня через год сесть сумел только. Да… не важно. Пришел ко мне в шатер… тогда уж из загона, в котором нас держали, в шатер перенесли… он вошел и сказал, что…
Кирей тряхнул головой, и черная коса его рассыпалась-разметалась.
— Мой сыновний долг подчиниться. И не только сыновний… многие из наших полегли там. И если людям захочется вычистить степи, то мы не сумеем удержаться. Мир нужен всем. А я — условие мира. Точнее, не только я, но тогда я думал исключительно о себе… обидно было. Я ведь и вправду надеялся, что отец просто заплатит выкуп, и я вернусь домой. Героем вернусь. Раны заживут, и все пойдет как прежде, а тут вот… я останусь среди людей, и как надолго — не понятно… и что я буду делать, тоже непонятно… а отец только и уговаривает, чтобы я терпения набрался, чтобы не позорил его и весь наш род… мы всегда блюли данное слово… и выходит, что слово дал он, а держать его мне… и это тоже…
Снег пошел.
На полигоне давно уже все стихло, и черная земля затянулась седоватыми шрамами луж. Вода ведь не ушла, она, искореженная магией, тоже была мертва.
И воздух.
Дышалось тяжко, только я не замечала того, пока снег не пошел.
— Вот и повезли меня в почетное гостевание… на подводе… не помню дороги, поили меня какой-то дрянью, все будто в тумане… потом снова лихорадка… мне бы помереть… теперь я понимаю, что отец очень на это надеялся, а я взял и выжил.
Кирей раскрыл ладонь, и снежинки садились на нее.
Не таяли.
— Первое-то время и вставать сам не мог… поднимали, водили… кормили с ложечки… нянчились, что с дитем. Злило то… и наши… другие наши… азары слабости не прощают…
Белые снежинки на смуглой коже.
И я гляжу на них и думаю… гадаю… со свитой он, конечно, был, а все одно нашие кругом. И не уберегла бы свита… небось, случись мне в то время рядышком оказаться… скажем, серед прислуги, то неужто упустила бы случай этакий?
— Трогать меня не трогали… смеялись только… говорили, что зря я просто не помру… а я ж не мог, просто… а потом мою охрану отослали. И царица явилась, сказала, что одному царевичу самое место рядом с другим… так я узнал, что мой отец стал каганом. А я, стало быть, особо ценным… гостем.
Кривая усмешка.
И не верится мне, что вот этот Кирей, который тут стоит, со мною рядышком, и вправду был тем, другим, о котором сказывает.
Поломанный? Больной? Не про него это… и мальчишкой его не вижу. Наши-то хлопцы о двенадцатом годе коровам хвосты крутят… нет, отцам помогают, конечно, но до взрослое работы никто их не пустит, а этот…
— Меня перевезли. И охрану сменили, И всю свиту… тут-то я и выздоравливать начал, — Кирей шрам потрогал. — Царица ваша — мудрая женщина. Я ей жизнью обязан.
Глянул на меня, этак, сверху вниз, но серьезно, без насмешки.
— Она своих целителей ко мне привезла. Тут-то и выяснилось, что травили меня… потихоньку… понемногу… оно ж, если бы умер, то никто бы отцу моему не посмел претензию предъявить. Поломанный, после лихорадки… чему удивляться? Разве что тому, что выжил.
— Кто…
— Отец, — спокойно ответил Кирей.
Я и не нашлася, чего сказать. Это ж как можно родного сына…
— Сейчас у него семеро сыновей. — Кирей отвернулся и снежинки с ладоней смахнул. — От трех жен. И каждый желает наследовать. Но есть я… меня он сам прилюдно назвал наследником, правда, когда еще был всего-навсего аваром, однако от слова своего отступиться не может. Если бы я умер, всем стало бы проще. Но я жив. Благодаря царице… не скажу, что с царевичами мы подружились сразу… и что вообще это можно назвать дружбой. Первый год мы с трудом выносили друг друга. Я, как поправился немного, сбежать пытался… ловили… наказывали… я снова сбегал… дрался… бил и бывал бит. Потом как-то пообвыклись… а от отца пришло письмо, что у меня появился брат.
Кирей потер ладонь.
— Бумага оказалась ядом пропитана… и человек, который посажен был письма читать, умер. Это меня и спасло… мне показали и это письмо, и человека, и тогда, наверное, я и начал думать.
Сказал и замолчал.
А я… я тут про письмецо недописанное вспомнила… и про то, как бабкиных посланиев жду с нетерпением великим, и про то, как каждое читаю да перечитываю… и небось, я-то на своей земле, не в полоне, а все одно тоскую…
И ежели б вздумалось кому душегубствие учинить, то чего проще…
— Меня пытались убить не раз и не два. И снова попытаются. Я жив лишь потому, что удобен царице… без ее помощи мне не стать каганом.
— А ты хочешь?
— Нет, — просто ответил Кирей, — но жить я хочу, а в покое меня не оставят. Братья мои пока еще молоды, и если будут править, то точно не они, а те, кто за кошмой станет. Или вот Совет… им всегда хотелось настоящей власти. Правда, есть и те, кто не слишком рад этой власти… или опять же, захочет возвыситься, поддержав правильного кагана… людям выгодна наша война. И да, будь у меня выбор, я бы исчез. Но я дал царице слово, что буду беречь ее сыновей. А мое слово — это единственное, что у меня осталось. И еще голова.
Голова упомянутая сидела на плечах крепко.
Вона, роги поблескивали, будто маслом намазанные… а может, и вправду намазанные? Девки-то волосы всяким полощут, так, может, и для рогов надобно? Если за волосом не ходить, то он сечься начнет.
А рог?
Расслоится, как с брыжухинскою коровой сие было?
— А чтобы голову эту сохранить, мне твоя помощь надобна. — Кирей рог пальчиком почесал, а меня прям свербело невмочно спросить, мажет он их чем, аль примочки ставит, аль еще какая хитрость имеется. У нашей-то Пеструхи с рогами все ладно, да мало ли, как оно еще повернется.
Но спросила я иное.
— И чем я тебе, Кирей-ильбек, помочь могу?
— Выходи за меня замуж!
ГЛАВА 35 О делах минулых и нынешних
— Чего?!
От же ж… холера ясная! Нет, кажная девка, небось, мечтает, чтоб к ей царевич посватался, и Кирей, ежель разобраться, самый оный царевич и есть. С конем, правда, не белое масти, но и вороной хорош.
И собою весь распрекрасен… не конь, то есть не только конь.
Да вот…
— Зославушка…
И руки свое ко мне тянет, обниматься, стало быть.
— Не шали. — По руке я шлепнула и обомлела во внутрях. Оно-то не кажный день царевичи к простым девкам сватаются, и уж тем более не кажный день их сии девки по рукам бьють. А и за дело! У меня, может, душа тонкая, трепетная — такую по книгам Ареевым девке иметь пристало — и я с того предложения ошашела вся!
Кирей не обиделся, рассмеялся громко. И смеялся аж до слез, а слезы те рукавом вытер.
Довела мужика.
Ему и так от жизни досталось, а я тут еще носом кручу… замуж ведь хотела?
Хотела.
И хочу.
Но не за азарина же ж! Это ж…
— Послушай, Кирей-ильбек. — Я собрала в себе всю политесность, какая только в грудях вместилася, а небось пихал Арей оную политесность знатно, книгами своими придавливая да лекциями про тое, как надобно себя девке держать. Оно-то, конечно, в моей голове да и иных местах сия наука ненадолго задерживалась, да кой-чего осталося. Прежде-то я просто сказала б, чего думаю. А теперь от думаю, чего б сказать, чтоб Кирея не забидеть. — Ты, конечно, жених видный…
— Но тебе не по вкусу?
Спрашивает и глядит этак хитровато. Вот… задумал он чегой-то, морда азарская, а чего — не соображу…
— Не выйдет у нас с тобой семьи.
— Отчего ж? Не хорош?
И повернулся медленно, одним бочком стал, другим, аккурат что холоп, которого на продажу вывели… правда, стати у него не холопские. И держится иначе.
— Кругом хорош. Особливо сзаду.
— Почему сзаду? — Он ажно растерялся.
— Не знаю. Но сзаду мне больше хорош, нежели спереду…
— Ладно. Тогда… не знатен?
— Мыслю, что ты более знатен, нежели вся наша дума боярская разом…
Хмыкнул, но по лицу видать — довольный, что козел, до капусты добравшийся… ох, неспроста он этую беседу завел.
— Тогда недостаточно богат?
— Молчи ужо. — Я только рукою махнула. За его подарки одныя всю усадебку нашее боярыни купить можно, да еще и останется. — Но… ты ж царевич азарский. А я — девка простая… как жить-то станем? Меня в степи свои увезешь? Так я там не сумею, мне там тяжко будет, ежели и вправду все, как ты баишь… как иные бают… чтоб ни лесов, ни рек, ни озерцов. И земля чужая.
Кивнул он, серьезным разом сделавшись.
— Да и то… ваши-то девки, сам сказывал, тихие да покорные, на женское половине живуть да с нее носу не кажуть. А я так не сумею. И других подле своего мужа терпеть не стану…
А то взяли манеру, одной женки им мало, надобно вторую, третью, а еще наложницов… дескать, от богов ихних так заповедано.
— Да и то, какое с меня смирение?
— Никакого, — с усмешкой произнес Кирей. — Но это если в степи… а как тут останемся?
— При Акадэмии?
— К тебе вернемся…
Ох ты ж, бестолочь рогатая… ко мне… это в Барсуки, что ль? Я только представила, как Кирей на жеребчике своем да в Барсуки въезжает, так сразу в грудях защемило.
— Нельзя тебе… азарин ты, Кирей-ильбек… а наши люди… у многих на том поле родичи осталися… а есть и такие, которые помнят, как оно было, когда ваши в набег ходили…
— Не примут?
Если б так оно…
— И проклянут, и на вилы подымут, не поглядят, что мир давно уж. Оно-то в столицах, может, и мир, да Барсуки — местечко глухое.
Спалят ночью, и после поди, дознайся, с чего оно вышло… поговаривали, правда, шепоточком, что этак, лет сто тому, сгорел в старой бане боярыни приказчик, дурного, лютого норову человечишко, на которого иной управы сыскать не вышло. Оно-то, может, и сам сгорел… виноватых не сыскали. Порешили всем селом, будто бы несчастный случай с ним приключился. Так и отписались.
Не хочу я, чтоб и с Киреем оно…
— Хорошо, — подумав, сказал Кирей. — Но замуж ты за меня все одно выходи.
Вот же ж упертый!
А он под ручку меня взял.
— А теперь, Зослава, поговорим серьезно…
Ага, а до того мы, значится, шутки шутковали!
— Но для начала…
Знаки он чертил пальцем, прямо на черной земле. И вспыхивали те красным пламенем. И круг, им сотворенный, я видела, полупрозрачные стены, будто из огня сотканные.
— Так оно спокойней будет… видишь ли, Зослава, мне и вправду нужна твоя помощь. В тот день собирались убить не только Евстигнея.
Я только глазами моргала.
Это ж как одно с другим ладится? То он про жизню свою рассказывает, то замуж зовет, то вот тепериче об том происшествии, об котором, небось, все и позабыли ужо.
— Есть у нас одна слабость… мы оба, как это выразиться, ценим женскую красоту…
— Бабники, стало быть.
— Зослава!
Чего сразу Зослава? Как есть бабники… вона, боярыни нашее сынок старшой, сказывали, тож из этаких, из ценителей был… бывало, как заявится, так прям и начинает ценить… нет, насильничать никого не насильничал, наши дуры и самые рады были. А что, боярин молодой, красивый и обходительный. И на подарки не скупится, да только… пустая была та любовь, короткая, что цвет яблоневый.
Сення с одной, завтра с другой…
…ныне об этом-то только и помнили.
— Иногда мы устраиваем что-то вроде… соревнования… Зослава!
А я чего?
Я ж упреждала, что кроткости во мне нету! И смирения! И прочьих бабьих достоинствов! Это ему еще свезло, что я без дрына, а то ж от души перетянула б. А камнем… от камня он увернулся, но я другим запустила.
Соревнования у них!
Небось, из шкуры вон лезуть, перед девками красуясь, друг перед другом хвостами трясуть, петухи обскубанные… басни про любовь сказывают…
Мерзко это.
Сколько девок на слезы изошлися, когда энтая любовь неземная вдруг поисчезла.
— Зослава! — Кирей в стороночку отклонился. — Прекрати, пожалуйста… я понимаю, что это некрасиво, но…
— Некрасиво?!
Да я сама одну такую дуру знала, которая из любви в петлю кинулася… и спасли, чудом, не иначе… но все одно душа перекореженною осталася.
— Да я раскаиваюсь! Честно! Я… я никогда никого… не обижал никого!
Кирей присел…
— Успокойся уже… я ж только рассказывать начал…
Успокоюся, его правда. Но забыть…
— Зослава. — Кирей отступил к самое прозрачное черте. — Ты же взрослая разумная женщина… ну да, я поступал непорядочно, только…
Смолк, верно, сообразивши, что нечего ему добавить.
Его правда: непорядочно.
И нет тут оправданий.
— Я больше не буду, клянусь своим именем. — Кирей руку к груди прижал. — И мне действительно стыдно, что…
Я махнула рукой.
Ну его… козел — он козел и есть, даром что рогатый… а я тут распиналася, чтоб нежные его чувства отказом не задеть.
— В тот день мы с Евстигнеем оба получили приглашение от одной… особы, которая прежде… скажем так, не снисходила до нас… то есть это мы уже потом сообразили, что оба… тогда-то я в комнате обнаружил записку.
Кирей покосился на меня.
А я чего?
Камней в круге больше не осталось, да и… схлынуло. Отпустило. Правая бабка в том, что гневаюся я скоро, да и остываю быстро.
— Меня приглашали… не к ней, естественно… но были комнаты, где…
Ну да, не на сеновалу ж им идти, сеновалов, поди, в Акадэмии немашечки.
— И мне еще показалось странным, что здесь… не в городе… и вообще… прежде-то она в мою сторону и не глядела, а тут вдруг… и время… средь бела дня… у нее как раз занятия…
Кирей от черты отступил.
— А ты и расписание выучил?
— Так получилось. В общем, я удивился, когда записку эту получил… а потом… видишь ли, Зослава, этого вы еще не проходили, но… ваша магия не совсем стандартно на нас действует.
— Это как?
— Скажем, если я под огненную волну попаду, то сгорю. В воде утону. Плетью ветряной голову снесут… и так далее, а вот более тонкие воздействия, к примеру, привороты… я испытал огромное желание немедленно пойти на эту встречу. Настолько сильное желание, что это само по себе было… неправильно. Тогда… признаюсь, я решил, что это дурная шутка… царевичи порой любят что-то этакое… и я не пошел.
— Этакое?
— Ну… однажды я так в бане попался. Просидел до утра в компании козы и кузнеца нашего, который решил, что я этой козы… домогаться стану… — Кирей хмыкнул. — У них весьма… странное чувство юмора.
Уж я-то думаю.
Мнится, случались с Киреем шутки куда как веселые… хотя сомневаюся я, что он этие шуточки спокойно сносил.
— Я просто не пошел. Принуждение было слабым, даже не принуждение, а… легкая такая паутинка. Заклинание само пустяшное, от него и человек отмахнется. Обычно торговцы такое используют, чтобы покупателей к себе расположить. Но на бумагу нанесли пару капель эликсира с веретянкой. А он усиливает любое воздействие. Интересное, к слову, сочетание вышло. Будь я человеком, и сомнений не возникло бы в том, надо ли идти…
У Евстигнея, стало быть, не возникло.
— А потом уже взрывы эти случились… дым… и мертвая магия. Об этом не скажут, но Евстигней еле отошел. Его почти до дна выпили, и если бы остался там, погиб бы… несчастный случай… или покушение на убийство, ели принять во внимание, что мой бестолковый родственник в это дело влез по уши… были бы рога, самолично отшиб бы.
— Ты…
— У каждой магии свой запах. И да, люди в большинстве своем его не воспринимают, я — дело другое…
— Ты сразу…
Кирей кивнул.
— От него разило, как… ему повезло, что никто, кроме меня, этим запахом не заинтересовался. Если бы хоть кто-то… если бы на секунду… снять слепок сложно, но возможно. Со всех — это нереально, а вот чтобы подозрение подтвердить… он не соображал, когда лез…
— Он не собирался никого убивать.
— Надеюсь. Если бы я подумал, что собирался…
— Выдал бы?
— Лично свернул бы шею, — спокойно ответил Кирей, и я ему поверила. А он же, заложивши руки за спину, аккурат как Архип Полуэктович делать любит-с, правда, на сем сходство всяческое заканчивалося, к превеликое моей радости, ибо лысым я Кирея не представляла, продолжил: — Мой бестолковый родич мало того, что едва сам голову не потерял, так еще и моей рисковать изволил. А я ее не для того столько лет берег, чтобы по чужой дури лишиться.
Ой, мутно все… что вода в старом озере, про которое точнехонько ведомо, что вот-вот выродится оно болотом. Помню, мы с бабкою еще по клюкву туда ходили, ибо была она на редкость крупною, кислою до оскомины. Самое оно на капусту квашену.
Я тем разом до озера добралася, хотя ж бережки у него топкие, ненадежные. Идешь, и под ногами земля ходуном ходить. Потому как землицы-то там и нетути, только мох да коренья, меж собою сплевшиеся. Так мне бабка казала, но не мешалася, позволила до краю дойти, глянуть в темные воды. Издаля-то они мне мерещилися черными, что сажа. А сблизу — темные, мутные… гляди, хоть ты глаза все выгляди, а ничегошеньки, окромя этой мути, не увидишь.
Так и тут.
Один говорит, другой, третий… и вроде ж правдиво усе, да только ясности не прибавляется. Аль дело не в них, а во мне самой? В розуме, который не годный для этаких ось хитростев?
— Евстигней выжил чудом. Он это понимает. И полагаю, весьма тебе благодарен… — Кирей почесал рог, левый. Неужто свербит? Вот оно, когда в теле свербение случается, особливо в пятках, то жуть, до чего неудобственно… а роги как свербеть могут? — Да и остальные тоже, хотя…
Смолк.
Вздохнул.
— Не обижайся, Зослава, просто… все это весьма подозрительно. Такая ситуация… спасение чудесное… и получается, что он тебе жизнью обязан…
— Чего?!
Я аж задохнулася от обиды.
Выходит, что они… думали они, будто это я дымов напустила? Письмецо написала, чтоб Евстигнея… и после спасла… ага, небось, полагала, будто бы он на мне женится во благодарность, и я царицею стану… ну или боярынею.
Тьфу.
— Погоди, Зослава. Не серчай. — Кирей перехватил меня, не позволив выйти из круга. — Когда живешь… это сложно рассказать на словах, просто поверь… тяжело, когда не знаешь, кому верить. Когда любой человек, близкий или просто случайно встреченный, может оказаться твоим убийцей. Их ведь тоже постоянно… как-то в бане заперли, будто случайно. Едва не угорели все… и я с ними… у меня тогда стихийный выплеск случился, и сгорела баня. А после уже оказалось, что это старый дядька, который еще царя ростил… верили ему, как себе. Еду травили не по разу и не по два… усадьбу палили… а как-то Егор в лесу девочку нашел, двенадцать годков ей было… заблудилась. Прикипела к нему, не оторвать. И он к ней… и остальные. Она и вправду чудесной была… баловали ее, как умели… а она нам обереги плела… правда, потом выяснилось, что с проклятьем… тогда первым Егоза слег…
— Кто?
— Восемь их было, — спокойно ответил Кирей. — Ельгу отравила нянька… а вот Егоза от того проклятья ушел… она же до последнего денька у постели сидела, за ручку держала… плакала… сердце разрывалось, до чего плакала. Думали, что Егоза черную лихоманку подхватил, но когда следом и Еська слег, тогда уж царица магика прислала, а тот… никто из нас верить не хотел, пока он ее обереги на нее же не повесил… как она кричала… и проклинала нас всех…
Страшно.
И не врет.
Чую, что не врет… и в глаза глядеть не надобно, чтобы тоску чужую из них вытянуть. Дар мой берендеев то ли крепнет, то ли попросту до краев болью наполнилася душа Киреева, оттого и слышу я ясно горе то, горевшее, да не перегоревшее в угли.
И девочку вижу.
Не девочку — девицу в нарядном красном убранстве… хороша она, синеглазая, светлокосая… и ветерок ленты из этих кос тянет, забавляется. А девица смеется, и так, что от смеха этого становится легко-легко… вот она глядит лукаво, будто бы искоса…
…скоро заневестишься… как станем женихов выпроваживать…
…а на кой мне женихи, когда вы есть…
— И ведь сама-то… ведьмина внучка, потомственная… из тех, которым настоящее слово ведомо. Старше была, чем мы думали… и да, сирота, мамку ее спалили… отца не знала… росла с бабкой, да та стара уже… встретила как-то боярина молодого. В него и влюбилась. А он ей и рассказал, что на самом деле царским сыном является, — Кирей говорил тихо и глухо. — Только не признал его отец… а вот камень царский признал бы. Но до камня того его не допустят, пока живой законный царевич. Знатно голову девке задурил. Она и решила, что если поможет любому, то и женится он на ней, царицей сделает.
Горько.
И от горечи такой горло будто рука незримая перехватила.
ГЛАВА 36 И все еще о делах скорбных
— Что с ней стало?
— Казнили.
Кирей вскинулся, вперился в меня злым взглядом.
— Она убила!
— Она…
— Зослава, любовь к кому-либо не может служить оправданием подлости… и ладно бы она любому этому жизнь спасти хотела, но нет… трон ему надобен был, власть… и она не остановила, не отговорила, не попыталась даже. А Егоза… он самый старший из всех нас. Был. И… не только в том дело, он… он был первым, кто со мной заговорил… не затем, чтобы уколоть словом, а просто заговорил. Спросил, не надо ли мне чего. Мне в усадьбе не были рады не только царевичи. Все люди… они знали, что трогать меня нельзя, но если втихую… прислуга способна крепко испортить жизнь. А жаловаться… кому там было жаловаться, да и не привык я. Все знали, только посмеивались, ставки делали, когда сорвусь, а Егоза… подошел как-то… я уже и вправду готов был убить кого-нибудь… если б смог… а он сказал, что не стоит того. И хлебом поделился. Потом еще, после побега… глупость неимоверная, но я хотел домой вернуться, доказать отцу, что не стал человеком, что по-прежнему его наследник… поймали, конечно. На мое счастье, как я теперь понимаю, и заперли… розгами-то учить нельзя было, хотя, если б можно, думаю, частенько мне бы этой науки доставалось. Ну да не о том речь. Егоза ко мне спустился. Еды принес. Воды умыться. А потом говорил… о себе, о месте этом… он не уговаривал меня остаться, не уверял, что все всенепременно наладится, но рассказывал… о дроздах вот рассказывал. А потом — о синицах, какие бывают. Очень ему птицы нравились… он вороненка однажды притащил. Кормил, выкармливал… говорить научил… Егоза до утра со мной просидел, а потом еще пару дней рядом держался. И когда Еська стал шуточки свои шутить, то Егоза только головой покачал, и Еська смолк. Остальные тоже попритихли… не приняли, но трогать перестали. А она его… ради какого-то там своего любовника… сказала потом, что ей в радость было глядеть, как он мучится.
Кирей отер бледное лицо ладонями.
— Лучше бы она меня первым… никто бы сильно переживать не стал.
— Дурное говоришь.
— Какое уж есть… я тогда… отца вот я любил, да и только… а Егоза… как кусок души с ним схоронил. И все бы отдал, чтобы вернуть. Не только я… остальные… Зослава, тебе не верят не потому, что ты плохая, но… мы такие. Мне хотелось, чтобы ты поняла… ты, я вижу, веришь легко. Слишком легко.
За легковерие меня еще не укоряли, да и бабка завсегда учила, что надобно людям верить, что без того не будет мира ни в доме, ни в селе, ни в царствии. А выходит, что в жизни оно все иначе.
Когда б верили царевичи нашие всем да каждому, то и не дожили до своих годочков.
Но спросила я не о том:
— И кому мне верить не надобно?
— Кому надобно или не надобно верить — это только тебе решать, но, Зослава, прежде чем верить, человека узнать следует… да только от темы мы отступилися. Как-то сложно с тобой беседовать.
— Это с чего б?
Я ж молчу.
Слушаю вот тихенечко, думаю о своем… о том, что жалко мне тую девку безымянную, с глазами ее синими, с косами золотыми. Небось, не умом она думала, кому там верить, а кому — нет. Сердцем. А сердце то отдала человеку негодному, который и розум заморочил, и волюшку отнял… бывает такое с бабами, чтобы за-ради великой любови босиком до по углям пройтися.
Вот и пошла.
А я бы… неужто за-ради любого лишила бы жизни кого? И не ворога, но человека невиновного…
Не знаю.
И оттого вновь мне страшно, будто бы разверзлось то болотное неохватное озеро во внутрях моей души.
— Да решил я говорить об одном, а вышло, что обо всем и сразу. — Кирей встал близехонько, так, что ажно как-то и неудобственно от этакой близости, он же знай усмехается во все зубы. — К слову о вере, Зослава, мой племянник говорил тебе, что, когда бежал, троих на тот свет спровадил?
— Что?
— Не подумай, что я осуждаю. — Улыбка стала шире, и клыки азарские были хорошо видны. — На войне всякое случается, только… ты совершаешь ту же ошибку, что и многие женщины. Жалостью проникаешься. А жалость опасна. Будь осторожней, Зослава. И тогда, может быть, выживешь.
— Да что вы все меня пужаете!
Аж злость взяла.
И на него, развеселого такого. И на Арея… ни словечком ведь! Троих… и были те трое повинны смерти аль нет — не мне решать. Но только имела я полное право знать о них.
И об чем еще он не сказал?
И почему?
— Пуганые живут дольше, — серьезно ответил Кирей. — Мы ведь не нашли того… любвеобильного царевича, которого будто бы царев камень признал бы. А девка… после первого допроса вены себе вскрыла. Зубами. Чтоб, значит, милого не предать…
У меня внутрях оборвалося все.
А Кирей спокойно продолжил:
— Сообразила, что не выдержит… у царицы хорошие мастера. Да и магики имеются особые. Не хмурься, Зослава. Тут игра на царство идет, а потому никто не станет щадить не то что девку, но и боярина…
— Потому вы всех собрали?
— Не мы. Царица… умная женщина. И опасная. Матушка Лойко Жученя теткою нынешнему царю приходится. И стало быть, его кровь камень признал бы за царскую. Лойко пытается казаться глупее, чем он есть. И возникает вопрос, для чего. Илья… тут и вопросов нет. Он близкий родственник царю, а потому, если вдруг случится с царевичем беда, в очереди на трон поперед прочих. Игнатов отец — двоюродный царев братец… и Арей, если подумать, тоже царских кровей…
От оно как…
В Акадэмии, выходит, царевичей, что кобелей на собачьей свадьбе, куда ни плюнь — в царева сродственника попадешь.
— Конечно, полукровка, да еще раб бывший, — не самая подходящая кандидатура на царство, так что, полагаю, мой племянник в это дело не по своей воле вляпался, а правом рождения, но зато он очень удобен, если вдруг на кого вину свалить нужда будет. Сочинить для народу злую историю, про то, как азарин царства возжелал… заодно и с азарами стравить.
— 3-зачем?
— Мало ли, — Кирей лишь плечами пожал. — Может, потеснить думают… а может, просто суматоха надобна. На войну после многое спишется. Там одного боярина зарезали. Там другого притопили. Третий грибочками отравился… конечно, азары в том виновные, кто еще… а что Дума переменилась, так то следствие, а не причина.
Следствие, причина… ох и славно ж мне в Барсуках жилося! Встанешь спозаранку и если об чем и думаешь, так о том, гороху курам сыпануть аль проса… или вон, куды корову выгнать, пироги затеять… прежде-то этыя заботы виделися мне тяжкими, порой ажно голова ломилася, но тепериче разумею: куда там просу с горохом до боярских вывертов.
Кирей же продолжил спокойно так:
— В Думу многим попасть охота… вот и будут они благодарные человеку, который этому попаданию поспособствует. И благодарность выразят полною к нему лояльностью. Относительно полной, я думаю.
— Но война…
Огонь на полях, земля мертвая, крови перепившая… люди, что в землю этую полягут во славу чью-то…
— А война, — сухо добавил Кирей, — неизбежное зло.
Как оне могут жить-то так?
Ведь не нищие, не сирые и не убогие, Божинею от рождения забиженные. Всего-то им дадено и полною мерой, а оне… заместо того, чтоб об иных людях озаботиться, которые под руку ихнюю поставлены, ибо сказано в Правде, что боярин над холопами своими — не токмо господин, но и отец, воевать удумали.
Все-то им мало.
Денег.
Славы… власти…
— Было время, когда и я людей не видел… подумаешь, поляжет сотня, отец другую пришлет, да еще две под знамена станут… — Кирей вновь ко мне повернулся и говорил, в глаза глядя, да только не видела я ничего за его словами. — Нет людей, есть ресурсы, которые грамотный правитель грамотно использовать должен. А потом и я сам стал… ресурсом. Способствует, знаешь ли, переоценке ценностей.
Ухмыльнулся.
Щеку потер.
А я только и разглядела, что шрамы на этой щеке, тонюсенькие, не шрамы даже — паутинка, которую, не приглядываясь, не увидишь.
— Залечили меня хорошо, — он мой взгляд увидел. — Раньше видней было, но вот…
Не о шрамах наш разговор.
— Так чего ты от меня хочешь?
— Я же сказал. Выходи за меня замуж…
И перстенек с пальца стянул. Тяжеленный такой перстенек, с камнем синим, ярким.
— Кирей…
— Погоди, Зослава… я тут не для того час распинаюсь, чтоб отказ получить. Это для твоей же безопасности. Родовой артефакт…
— Чего?
— В нем частица истинного пламени, так, во всяком случае, говорят. Не знаю, правда или нет, но я уцелел благодаря ему. И тебя защитит при случае.
— Спасибо, но…
Кирей мотнул головой.
— Пригодится.
— И тебе…
— Мне-то он как раз мешать станет. — Кирей держал перстенек двумя пальцами. — Видишь ли, Зослава… в эту игру по-разному играть можно. Летом у нас практика… ты должна была слышать.
Слышала, а то как же… кто ж не слышал-то?
Все едуть.
Целительницы за травками, стихийники — учиться, кто с огнем управляться, кто с водою… драконоборцы и те в Драконовы горы отправляются. И мы, стало быть, поедем.
— В теории отправимся мы в одну деревеньку, крыс гонять. Местечко неподалеку от столицы, проверенное уже раз десять. И стрельцов туда нагонят столько, что кроме крыс неприятелей не останется, и иного люду… вот только… мнится мне, что не упустят этакого удобного случая. В Акадэмии-то пакостить можно, но по мелочи… а вот если перекинуть нас куда, где ни стрельцов, ни магов царевых, зато, скажем, люди лихие… тогда-то и случится большое несчастье.
— Ты… знаешь?
— Предполагаю. И, Зослава, не только я. Думаю, это понимают и ректор, и декан наш… и царевичи… и вообще все, кто дает себе труда подумать.
Ага, значится, я вот не даю себе труда.
Да не привыкшая я думать об том, что меня извести некто желает! По прежним-то временам, ежели и желали мне беды, то обыкновенное, девичьей, чтоб волос повылез, чтоб чирье пошло аль еще какая напасть приключилася… но вот душегубства чтоб…
— И царица знает.
— Тогда почему…
— Ничего не делают? — уточнил Кирей. — Так ведь, Зослава, хуже нет, чем неизвестного врага за спиной оставлять. Сколько лет уж его ищут… вот, глядишь, и найдут…
— А он…
— И он знает, что они знают. — Белые клыки Кирея опасно блеснули в сумерках. — Да только и он этакого шансу не упустит… вот и случится так, что встретимся мы с ним лицом к лицу. А уж дальше… кто кого переиграет… но рубка, чуется, знатною будет.
Он говорил о том с радостью. А я… я глядела на перстень.
Знают… как есть знают… и потому Илья со мною возится… и потому Лойко не насмешничает боле… и потому Игнат пропадает вечерами на этой тропе, и пыжится, силится совладать со своим талентом.
Одна я дура дурой, пока носом не ткнули…
— Мне будет жаль, если тебя убьют, Зослава.
А уж мне-то как жаль будет! С той жалости хоть с Акадэмии бегмя беги да под бабкиным подолом ховайся.
— Это первая причина. А вторая — послезавтра родительский день… и прибудет делегация от моего отца. Я хочу представить тебя им.
От мне хлопот не хватало! Азарам представляться…
— Женитьба на женщине хорошей крови укрепит мои позиции. — Кирей подбросил перстенек на ладони. — А уж если наследник родится… или несколько… одно дело извести меня, а другое — до семьи дотянуться. По законам азарским мои дети в очереди на престол поперед братьев идти будут…
Ох, мыслю я, что ничего-то хорошего с того не выйдет.
— Верно, Зослава… потому меня постараются убить до того, как дети появятся… то есть до нашей свадьбы. Тем более что я без защитного артефакта останусь.
И усмехается, ирод… весело ему, значится. Его убивать станут, а мало не хохоче…
— Я тоже, — сказал Кирей, в глаза глядючи, — не привык оставлять врагов за спиной. Всех не уберу, но самых ретивых…
— И с чего это я должна твоему самогубству способствовать?
Нет, оно-то верно, что голова — евоная, а значится, Кирею только и решать, под каким кустом ее сложить. Но я-то своею головою дорожу, ибо мнится, что самые ретивые из его ворогов решат, что неплохо бы следом за Киреем и меня отправить.
А то мало ли… вдруг да согрешили мы до свадьбы?
— То есть этой платы недостаточно? — Он вновь перстенек свой протянул.
— Плата? Мнилося мне, что подарок энто…
— Подарок. Невесте. — Кирей засмеялся уже в голос. — Правда, таких упрямых невест у меня еще не было…
— А много было?
— Одна, — глазом не моргнув, ответил он. — С малых лет еще просватанная… да вот беда, не дождалась моего возвращения. Ныне оне не мои невесты, а жены братовы. Но ты-то, Зославушка, дело иное…
Вот и поди пойми, шуткует он аль всерьез… нет, что с перстеньком — то всерьез, я разумею. А вот про невест… его ж брату-то, если чего розумею, годочков немного…
— Ты меня не предашь… во всяком случае, я надеюсь, что не предашь.
И глядит так с насмешечкою, будто бы знает про меня чегой-то этакое, чего я и сама не ведаю. А сие меня злило, так злило, что от злости этае меня ажно затрясло. Я и встала, руки в боки уперла, как нашие барсуковские бабы делають, когда супружники ихние вконец край и розум теряют.
Глянула на Кирея.
И молвила так:
— Много ты тут слов насыпал, небось, ежели б за каждое грошика давали, богатою бы стала, что твоя царица… да только одного не поняла я. Какая у меня резона есть, чтоб твоею невестою называться? Небось, помирать-то мне неохота… я ж и не пожила толком…
Кирей и бровью не повел.
Не боится он меня.
И я его не боюся, хотя ж не разумею.
— Что ж, Зослава, правда твоя… попусту головой рисковать никто не станет. И чего же ты хочешь? Денег? Да, мнится, не манит тебя золото… власти? Не твое это… только душу исковеркает.
И ступает этак, мякенько, меня по кругу обходя. А главное, что глазища его черные так и пылают, так и пылают…
— Любви? Ты девушка разумная, сама понимаешь, что это не в моих силах… но вот, думаю, есть у меня кое-что, что тебе небезынтересно будет…
И вытащил из рукава свиток.
— Прочти.
Свиток был плотным. Бумага белая, зачарованная, аккурат что грамотка та, памятная. И с гербами тремя, двумя боярскими и царским орлом трехглавым. Корона на ем золотом поблискивает. Глаза красны. Лапы когтистые сжимають скипетр и державу.
Да только не на орла я гляжу.
На буквы.
Вольная.
Дважды прочла. И третий раз — по буковке, благо аккуратненькие, пузатенькие, одна к другой липнут подруженьками сердешными.
Как есть вольная…
— И печать имеется, чтобы клеймо снять, — добавил Кирей.
— Ты…
— Прикупил по случаю.
Вот же ж… значится, не примерещился Арею тот разговор. И не зря он за печатею шел, да только опоздал.
— Игнат славный мальчик, но невеликого ума… — Кирей плечиком дернул, голову склонил, уставился на меня, не моргаючи. И мне так недобро под этим взглядом сделалося. — Мыслится мне, что матушка его была не рада… приходил он давече, втрое предлагал, чтобы я купчую вернул.
— А ты…
— А я не стал. Бумага заверена, как видишь. И в реестр внесена. Всего-то и осталось, что печать снять. Тогда будет мой родственник волен, что птица… думай, Зослава, хочешь ли ты того…
Хочу ли?
Не знаю… Арей мне не лгал, а что не сказал про убитых, небось, я бы и сама этаким подвигом хвастать не стала б…
Его воля.
Моя неволя.
И если откажуся, Кирей не станет родственника возвертать. Вольную-то попридержит, а после договорится. Наверное.
— Я ведь не прошу многого, Зослава… перстень мой примешь. Походишь в невестах… скажем, до лета походишь, а после и вернешь… если, конечно, захочешь возвращать.
Он стоял с этим растреклятым перстнем, который я ужо и видеть не желала.
Да только и глаз отвесть не могла.
Стояла, пялилася, что на перстенек энтот, что на Кирея… и ужо знала, чего скажу, но только…
— Кто записку написал?
— Не знаю, — не моргнув глазом, ответил Кирей. И ведь не солгал, тварюка рогатая, чтоб ему икалося до скончания ден.
— Кирей, не зли меня… на кого вы с Евстигнеем спор держали? Я должна знать, если хочешь, чтоб и вправду помогала.
Задумался. Ненадолго, верно, про себя давно ужо все решил.
— Велимира.
Вот же ж…
— Но она не могла. Не стала бы. Если бы Евстигней умер, ее бы в этом обвинили… царица ищет повод, но я… мне удалось убедить ее не трогать… пока не трогать… пожалуйста, Зослава… не надо больше вопросов.
Не задам.
Мне бы с нонешними ответами разобраться.
— Давай.
Кольцо я надела. Село оно, что по моей рученьке делалося. И камень полыхнул этак недобре…
— И давно ты это задумал? — Камень я потрогала, чтоб убедиться, что не горячий, как то мнилося. Холодный, а все одно живой, как огонь. Кирей молчал. А я ответила: — Давно… небось, сразу, как меня увидел, да? Потому и с подарками своими вертелся… знаешь, кто ты?
— Кто?
— Азарин, чтоб тебя…
Кирей рассмеялся, громко и от души. А я лишь вздохнула:
— Лапать полезешь, роги поотшибаю.
ГЛАВА 37 О делах минулых
Тою ноченькой спала я дурно. И перина была мягка, и одеяльце пуховое грело, как надобно, и от окошка, почитай, не сквозило, да только все одно… не спалося.
На один бок лягу — няемко.
На другой повернуся.
И мнится мне, что меж пуха в перине комья, и не комья даже ж, цельные каменья. Одеяло греет аж занадто, от и прееть спина, и липнеть к ней сорочка. А главное, перстень Киреев палец мой давит, и так, что мало чего не передавит. Камень огнем пыхает…
…что я бабке скажу?
…не ехать вовсе? Придумать, что, дескать, приболела… аль еще какая напасть приключилася… аль не напасть, а что остаюся учиться, чтоб в учебе не отставать…
Непривыкшая я врать.
Да только придется. Перстенек энтот ни снять, ни спрятать, я пыталася, да только не снимается. Крепко сел на палец, прилип почти. И значится, станет бабка про жениха расспрашивать… и чего казать ей?
Что азарин?
И не просто азарин, а царевич азарский?
От этой мысли меня в холодный пот шибануло.
Нельзя ей такое… у ней сердце слабое. И прочие нашие… нет, меня-то, небось, на колья не подымут, но и только. В воротах, навозом мазаных, тоже радости немного. Да и ладно бы в воротах дело, я-то вороты переживу, да как после бабке на люди-то казаться?
Срам-то какой…
Отказаться?
И Арея предать… и кто он мне? Знакомец. Приятель. А все одно самая мысль, что брошу его, поперек горла вставала. От и маялася я, ворочалася всю ноченьку и встала до свету.
Плеснула в лицо водицею студеной, дурные сны сгоняя.
Как-то оно да будет…
Одевалася медленно, нехотя, знаючи, что еще вчерась я мышкою к себе шмыгнула, да только до скончания веку ховаться не будешь. И ноне все узреют перстенек на пальце моем. А кто не узреет, тому расскажут. И думать нечего, что не опознают артефакту этую.
Первым встретился Евстигней.
Смерил меня взглядом холоднючим, злым, будто бы энто я виноватая во всех ихних бедах. Процедил сквозь зубы:
— Поздравляю.
— С чем? — влез Лойко и сам себе ответил: — От… так даже!
И хохотнул.
— Кирей… надо же…
Еська молча посторонился, пропуская меня вперед. И вот… пахнуло от него силою, спрятанной, укрытою, такою, которая, что огонь под пеплом, чуть дунь и поднимется диким костром.
Я остановилася, глянула в глаза.
А он отвел, поспешно так…
— Иди, куда собралась, — буркнул.
Я что? Иду… снедала я одна, да только спиною чуяла взгляды любопытственные. И шепоток слышала… и вот знала, что недолго ждать той встречи, которой и боялася, и желала.
Арей ждал у корпуса.
За руку схватил.
Дернул на себя, выворачивая. А злой-то… злой…
— Значит, правда это?
К самое ладони склонился, к перстенечку, который налился красным светом.
— Что ж. — Руку мою Арей отпустил и отстранился. — Если ты и вправду так решила, то… стало быть… ведаешь, что творишь.
Ох, как бы, если бы и взаправду ведаю.
— Тогда мне остается лишь поздравить тебя, сударыня Зослава…
— Погоди поздравлять. Небось, невеста — еще не жена…
Не могу я сказать всего, клятва мешает, на крови принесенная. Только рот открою, как рука незримая горло давит, если произнесу хоть бы словечко недозволенное, то и вовсе раздавит.
— Вот. — Заместо слов я бумагу протянула.
Вольную.
И принял ее Арей. Развернул.
Прочел.
И ажно в лице переменился.
— Откуда… хотя о чем это я. Значит, сделка?
Я кивнула. Как есть сделка. И свое обещание Кирей выполнил. Почти выполнил. Печатку-то он мне послезавтрева возвернуть поклялся, и знаю, что сдержит слово.
— И чего он потребовал взамен?
Кабы я сама знала. Правду он мне сказал, но не всю. Задумал он чегой-то, давно задумал, а мне в той задумке придется участие принять.
— Зослава… ты… ты понимаешь, во что ввязалась? Он же… он же азарин!
— И ты тоже.
— Наполовину, — буркнул Арей. — Да и не в этом дело… он по духу азарин. А у них не в обычае слово держать, если дадено оно людям. В людях предвечный огонь не горит, а стало быть, не будет в том обмане греха…
— Чего ты хочешь?
— Верни ему. — Он протянул мне вольную. — Скажи, что сделка не состоится…
От так. А я… я стою и не знаю, то ли плакать мне, то ли смеяться. Неужто я и вправду думала, что он этакой воли, чужою неволей плаченной, обрадуется?
Думала.
И знала, что не будет радости, да только не в ней дело, а в свободе евоной, от которой, мыслится мне, всем пользы будет.
— Нет, — сказала я и головою покачала. — Не возьму. То был мой выбор. А ты свой сам делай…
Вскинулся он. Оскалился, чисто жеребец злой, которого плеткою хлестанули, мало что на дыбы не встал.
— Зослава…
— Я уж осемнадцать годков, как Зослава… и дядьки твоего не боюся. Вздумает шутки со мною шутить, то и я с ним пошуткую. Погодь… ты мне иное скажи… слыхала я, будто бы ты, когда от хозяйки своей уходил…
— Убил. — Арей не позволил мне договорить. — Троих. Кирей сказал?
И сам себе ответил:
— Он, а кто еще… что ж, самому следовало бы все и сразу, да только… если ты думаешь, что выбора у меня иного не было, то был. Еще как был… я мог бы уйти тихо, и поначалу так собирался, да потом… это ведь мой дом был, Зослава. И жил я в нем… по званию раб, да только никто и никогда не смел со мной обращаться как с рабом. Знали, даст отец свободу. И не только свободу… меня ведь учили не за лошадьми ходить, а меч в руках держать. Грамоте вот… отец думал, что я стану Игнату служить… и стал бы, дал бы клятву кровную, жил бы при братце до конца дней своих псом цепным, сторожил бы его интересы. Может, оно и к лучшему, что так повернулось… я ведь с отцом до последнего воевал. Смириться не мог, что он с матерью моей так обошелся. И не думал даже, что рабу с хозяином воевать не дозволено.
Арей коснулся шеи.
Хмыкнул.
— Он позволял мне и гневаться, и говорить… всякое говорить… смерть нас не примирила, я все равно считаю, что он поступил не по-мужски. Когда он умер… в тот же день меня вытряхнули из моей постели. Отобрали нож… и меч… и не только… раздели… я тогда кричал, грозился пожаловаться, еще не понимал, что жаловаться некому. И очутился на заднем дворе. А потом и в колодках. Меня долго учили, я все понять не мог, как же так. Я ведь тоже наследник и право имею. Когда мама за отцом ушла… услали… я… я пытался ее защитить… а очнулся опять в колодках… и этот… он пришел рассказать, как резал ей горло. Он раньше служил мне, учил с мечом обращаться. Не давал, правда, труда скрывать, что неправильным это полагает. Незаконным. Раб и оружие… и только отцу перечить не смел. А теперь вот… он сел рядом. Дал воды напиться, а я пить хотел страшно. Умыл кое-как… а потом про маму… и про то, что теперь будет учить меня правильной науке… и крепко взялся… в первый месяц я почти из колодок не вылезал, почитай… и погреб был. Колодец. Не люблю замкнутого пространства. Потом соображать начал, что… или я сдохну, как они все ждут, или выживу… и отомщу.
Слово упало.
Месть.
Он и ныне от нее не отступился. И не отступится. Вона, белый весь сделался, страшенный, ажно глядеть больно. А я гляжу. И в голове со всех мыслей одна осталася, а на что Арей способный за ради мести своей?
— Я стал рабом… очень хорошим рабом. Послушным. Исполнительным. Я… я выживал и ждал… мы умеем долго ждать…
…год и два?
Или больше?
— Надеялся, что однажды мне удастся подойти к этой женщине близко… так близко, чтобы ударить.
Ноздри его дрогнули.
— Но она не была глупа… и все равно пришлось бежать. Я и вправду хотел уйти по-тихому, но потом подумал, что этого побега мне точно не простят. Если поймают, отправлюсь на площадь людей веселить. Так какая разница? Я знал, где живет этот ублюдок. Я поджег его, Зослава… и смотрел, как он горит… и знаешь, мне было радостно. Его вопли… и то, как он пытался сбить пламя… правда, от того огня пожар начался, а в нем еще двое погибли. Их смерти я уже не желал, но и не печалился особо. Во всем проклятом том доме не было ни одного человека, который бы пожалел меня или хотя бы глянул, как на человека. Так что, да, прав мой дядя. Я убийца.
Что мне было ответить? Судить его? Так я судить не обучена, на то есть специательные люди, которые всю Правду наизусть ведають, а к ней еще и царские указы, какие только писаны.
Простить?
Прощения ему не надобно. И вовсе ничего от меня не надобно, это я сама полезла в чужие беды. А бабка упреждала, что помощь не кажный человек принять готовый. Думать надобно, кому помогать, а кто и сам справиться гораздый. И Арей справился б, да только вот… ежели б ошибку совершил, то не только с им беда бы приключилась.
— И еще, Зослава. — Он голову вскинул, в глаза мои вперился взглядом. — Я не отступлюсь. Эта женщина убила моего отца и мать мою. И меня убила бы. И потому, если выпадет мне случай ответить ей, то не стану я сомневаться.
Вспомнилось мне вдруг круглое лицо боярыни.
И взгляд ее холодный.
И то, как неспешно, поважно, шла она… и то, как держал ее за руку Игнат, как склонялся, ловил кажное слово… и улыбался. А она улыбалась ему в ответ, и тогда-то мягчело лицо ее, обыкновенным делалось. Небось, коль ее бы спросила, то иную гишторию услышала б. Про мужа-здрадника, сгинувшего в степях азарских, чтобы после возвернуться, да не одному.
Чего не сумела простить боярыня?
Того, что любил полонянку супруг? Ее, азарку, нелюдь, а не боярыню, которая тоже всем хороша была, да только всей красы ее мало оказалось, чтобы мужа удержать?
Любила ли его?
Как знать… даже если не любила, то и сухое сердце болит.
Или иное ему ножом стало? Что родила рабыня мужу сына? И что не поспешил боярин отказаться ни от рабынича, ни от азарки, не сослал в деревню, не продал от греха подальше, а поселил в тереме, растил дитя как наследника…
Или не за-ради любви она на смерть пошла, но за-ради собственного ребенка, позднего и любого. Таких берегут, на таких дышат — не надышатся, а тут полукровка, который, может статься, и волю получит, и право наследовать… и как стерпеть сие?
Наверное, и Арей понимал.
Только у него своя боль, как управиться, вот и мнилось, глупому, что эту боль чужою кровью залить можно…
— А если не выпадет? — спросила я. Арей же, недобро усмехнувшись, ответил:
— Тогда придется сделать так, чтобы выпал.
ГЛАВА 38 Родительский день
С самого утреца погодка случилася ясная. Солнышко, даром что поздне, выбралось на небо, а полыхнуло желтым светом, повисло драгоценным подвесом из бурштын-камня. Этакий, небось, не каждая царица примерить способная.
Небо ясное.
Снега искрят.
И трубы трубят, заливаются ажно, стало быть, вороты Акадэмии вот-вот распахнутся. И душенька моя наполняется чувством светлым, каковое бывает на день праздничный, когда ждешь чуда, не важно какого, пусть бы и самого малого.
Жаль, конечно, что бабка моя не сподобилася выбраться. Но, может, в наступным-то годе? Ежели дому в столицах нанять наперед, да подводою, потихенечку… радая она будет премного, так мне мыслится.
Коль не рассоримся вконец из-за Кирея.
Стоило подумать о женишке дорогом, как он и объявился.
В двери постучал вежливо, а Хозяин и открыл, стало быть, ежели жених, то и положен ему почет всяческий. А меня такая вдруг злость разобрала! И весь настрой праздничный что рукою сняла.
Кирей только в лицо мое хмурое глянул и поперхнулся.
— Извини, — говорит, — если помешал тебе, Зослава…
— Да уж…
И чего злюся? Этак вскоре стану, что собачонка дурная, которая на всякого живого человека кидается, не делая различиев промеж своими и чужими.
— Заходи, — ответила со вздохом. — И прости, что встретила неласково…
Кирей лишь усмехнулся.
— Так ласку женскую, Зослава, еще заслужить надобно…
Войти вошел.
И присел на краешек стула.
Глянул на меня, а в глазах-то темень, муть. И ясно мне стало, что давно уж не верит Кирей в чудеса, ни в малые, ни в большие. Видать, с той самой поры, когда уцелел после того удара, который всю его сотню в поле впечатал… и помнит он распрекрасно, как полыхнул родовой амулет, смягчая силу, и как вышибло дух о землю, как потянуло, перемалывая, перекручивая.
И как стало больно.
А еще страшно, потому как он, Кирей из рода Белой искры, вовсе не готов был умереть. Позже придет эта готовность, в загоне для пленных, где никому-то не было дела до его мук. И в шатре, куда его перенесли. Я видела и шатер, и хмурое лицо целителя, истощенного, с трудом стоящего на ногах, но вынужденного возиться с азарином.
Силу его чувствовала, которая слегка уняла боль.
— Не надо, — Кирей сам отвернулся, спрятав остальное, но и того, чего я видела, было достаточно, чтоб совестно стало.
— Я… не нарочно, Кирей-ильбек. Я пока не умею с этим управляться.
И уши-то полыхают огнем весенним, и щеки, и стало быть, сама я, с головы до пяточек. А во рту стоит вкус гнилой протухшей воды… и стыдно, до того стыдно…
— Понимаю. Но… Зослава, не надо меня жалеть. Жалость унижает.
От же ж… еще один упертый на мою голову.
— Не буду, — буркнула и отвернулась. — Явился-то чего?
Не для того, чтоб памятью делиться.
Кирей шутить не стал.
— Посольство скоро подойдет… я хочу представить им свою невесту.
Кивнула.
Представит. Куда ж я денуся.
— Зослава. — Тепериче в голосе Кирея мне упрек послышался. — Ты должна выглядеть сообразно своему положению…
— Это как?
…это неудобственно.
И тяжко.
Я-то, дура, боярыням нашим, помнится, завидовала, до чего хороши ихние наряды, до чего красивы. А тепериче вот сполнилася мечта девичья, саму меня обрядили, что боярыню. И радоваться бы, да только от… не выходит радоваться.
Продыхнуть бы.
Рубахи нижние к телу прилипли, ибо взмокла я в этих красотах, пущай и зима ныне, да поди ж ты, не взмокни, когда на тебе семь платьев да две шубки на меху. Платья-то из ткани драгоценной, плотной, аж хрустить, каменьями расшиты густенько, так, что, порою и ткани этой не видать. А весу в их, небось, не меней, чем в доброе кольчуге, да только с кольчуги толку больше.
И шубки еще.
Нижняя — легонькая, из тех, которые умельцы через колечко протянуть способные, а верхняя — из шкуры зверя неведомого, белоснежная, искристая… гладить бы ее, любоваться, да жаркая она, холера. Кирей сказал, что в ей на снегу спать можно и не застудиться.
От верю! Усею своею душенькой, как есть, верю.
Скинула бы я и шубу этую, и кольцы, которые Кирей самолично вздевал на пальцы мне, и этак, холера ясная, плотно, что пальцы ныне не гнулися.
Серьги висять до самых плечей.
Венчик золотой, чудесной работы, да только от той работы голову разом заломило.
Бус — пук цельный, только коровья шея этакие низки и выдержить, не переломится.
Это я бурчу, моя шея тож, как выяснилося, крепка.
Не переломилась.
И стояла я идолищем золотым, в меха укутанным, посеред двора. Вид при том держать старалася сообразный высокому званию Киреевой невесты, как велено было, да только без сноровки должное поди, попробуй, подержи.
То пятка зачешется.
То рука… то будто бы по плечах струйки пота поползут… а то и вовсе спустится сорока, и бочочком, скачочком ко мне, знать, каменья ее влекуть со страшною силой. И кышнуть охота, да неможно, небось, боярыни сорок не гоняють, у них на то специательные люди имеются.
А народу во дворе собралося… не то на меня поглазеть, не то на Кирея, который по этакому случаю в белый халат облачился, не то на посольствие азарское.
По этакому случаю и вороты Акадэмии для прочего люду отвориться повинны были позже.
Стояли мы так, стояли…
Я уж, признаться, про себя всякого передумала. А главное, что не шел из головы Киреев стыд. И обида его, такая… помнится, когда сказали мне, что не вернутся ни мамка, ни отец, ни дед, от так же обидно сделалось, как будто бы бросили меня самые родные, самые близкие люди… после-то оно поняла я, или мыслю, что поняла, а вот Кирей…
Не простил.
И пускай шутит, скалится он, а все одно не простил.
Наконец, затрубили рога, протяжно так, с надрывом.
— Зославушка, — Кирей взял меня за руку и осторожненько так пальцы стиснул. — Главное, ничего не бойся…
От как сказал, так я прямо вся и затряслася.
А меж тем люду прибывало.
Я и не мыслила, что в Акадэмии столько народу. И не токмо студиозусы, которым на веку писано быть любопытственными. Издали заприметила я могутную фигуру Фрола Аксютовича, а подле него — Милославу, ежель не привиделось… мелькнула тенью Люциана Береславовна, только мехами снег с дорожки смела. Была ли, не была… а вон и рынды царские в белых кафтанах… и конечно, мне бы самой подумать, что с посольством оным всякий люд приедет, потому и озаботилась царица.
Стрельцов прибыло.
И еще людишек малоприметных, что мелькали в толпе, однако не роднились с нею, как не сроднится масло с водой.
Трубы близились.
И голоса их, сиплые, надрывные, заставляли Кирея хмуриться. А как показались конники, то и вовсе окаменел он…
Ехали азары красиво.
Три конника напереди, и кони белые, будто из снега лепленные, шли в ногу. В гривах их длинных золотые ленты сияли. Звенела упряжь колокольцами. Сияли попоны драгоценными камнями.
Недвижно сидели всадники, будто бы и неживые.
А мне вот смешно стало, вспомнилася вдруг детская сказочка, про двоих с ларца, одинаковых с лица… энтих трое, да все одно что близнюки. Лица круглые, смуглокожие, блестят жиром. Глазки узенькие, носы приплюснутые. Губы блинами. А бороденки жиденькие в косицы заплетены. У каждого с косицы лента свисает.
— Это ильчей-ахары, — тихо промолвил Кирей, — охрана кагана, золотая сотня…
Рынды, значится.
Только не в белое рядятся, а в золото. Красиво, конечно…
— Каждый из них способен на лету стрелу перерубить, а в бою и с десятком оружных справится. Каждый кагану кровью в верности клялся любой приказ исполнить…
…и если прикажет каган привезти голову старшего сына, то исполнят.
Но минули рынды, и показался шатер узорчатый, на помост ставленный, который дюжина рабов несла, да все-то могутные, ряженые в шальвары широкие из азарского шелку да жилетки шитые, чтоб, значит, всем видать было, сколь богат их хозяин.
— Кеншо-авар прибыл, — вновь же шепотком пояснил Кирей, — родственничек мой любезный… новой жены отца моего братом родным приходится.
Это ж тогда Кирею… свояк, что ли? Или оно иначе?
— Спит и видит, как бы меня извести… тогда и племянник его наследником станет, а не вторым сыном.
За шатром тянулась вереница рабов, груженных корзинами и тюками. Четверо волокли сундук, с виду тяжеленный. Еще двое бочку катили…
С вином, что ль?
Ежели так, то не травленым ли? Подумалось, что это как-то не по-хозяйски будет, цельную бочку вина сразу травить. Оно ж и азарину понятно, что бочку разом и охочий до вина человек выпить не сподобится, и выходит прямая порча продукту. Не говоря уже о том, что яду на бочку энту надобно немало.
Одные траты выходют.
Рабы с шатром остановились напротив нас. Ой и хорош-то… небось, в таком ехать, это вам не на телеге. Правда, ежели возок там аль верхом, то оно по-всякому быстрей выйдет.
Но видать, в шатре да на рабах чести поболе.
— Приветствую тебя, солнцеликий Кирей-ильбек. — Пока я про честь думала да шатры шелковые, из нонешнего человек выступил… как человек, азарин чистый.
Смуглявый. Волохатый.
Волосы, правда, рудые, что огнем подпаленные, в четыре косы заплетены, а с кажной — низка золотых бусин свисает.
— Отрадно зреть мне тебя в добром здравии. И сердце мое поет от радости, ибо будет сказать мне отцу твоему, грозному Аглай-кагану, что сын его подобен могучему жеребцу…
Чего?
Я покосилася на Кирея. Нет, на коня он похожим не был. Мордастый, конечно, но в меру.
…или он об чем другом? Помнится, бабка жеребцом Хитимончика-молодшего называла, который до девок дюже охочий был, пока, конечно, не оженили. Жена-то быстренько евоную пылу уняла. Так может, об том он? Тогда да, жеребец из Кирея знатный, даром, что не под седлом.
— …копыта которого попирают небесную твердь…
И про копыта Кирей мне ничего не сказывал.
— Красиво ты говоришь, Кеншо-авар. — Кирей прервал азарина, верно, опасаясь, что тот не только про копыта скажет. Неужто и с хвостом-то обманули? Роги-то ладно, к рогам я привыкла, а вот хвост…
— И я рад приветствовать дорогого родича моего, который проделал путь столь дальний, ведомый лишь беспокойством о моем благополучии.
Они поклонились друг другу, что равные… почти что равные.
Кирей разогнулся первым.
— Скажи мне, Кеншо-авар, как поживает отец мой, пусть продлит Предвечный огонь годы его…
В глаза друг другу глядят.
А меня прям-таки трясет, а с чего — понять не могу.
— Благословенна степь под рукой могучего Аглай-кагана. Бессчетны табуны его. И славят мудрейшего все азары, и молят Великую Степь, дабы вовек не иссяк Предвечный огонь его сердца.
Ох и тяжко им, небось, живется, этак беседы весть. Мне вон бабка отписалась, что здоровая, только кости на перемену погоды ноють, да давече бурление в животе приключилося, небось, с масла погорклого, которое ей выкинуть было жаль. А тут… Предвечный огонь… молятся.
И поди-ка, пойми, здоровый он там, аль ужо и вправду только молиться и осталося.
Покосилася налево.
Стоит люд.
Слухает.
Тоже, стало быть, любопытственно им, как у азарского кагана со здоровьицем и есть ли у сына евоного копыта. А может, еще чего знать хотят дюже важного.
— Твои слова, Кеншо-авар, мед для ушей моих…
…ишь удумал, в уши мед лить. С того ни меду, ни ушам пользы не будет, помнится, бабка одного такого лечила, который порешил, что сам в целительском деле силен, и ухо застуженное медом пользовать стал. Ох и ругалася она…
И на ухо.
И на мед. А пуще всего на глупость человеческую.
— …и с тем желаю я, чтобы и ты отцу моему, солнцеподобному Аглай-кагану, принес весть добрую.
Рука Киреева легла на мое плечо.
То ли легла, то ли упала всею тяжестью небесное тверди, правда, без жеребцов и копыт, но и то, поди-ка, попробуй выдержать.
— Отыскал я себе в землях человеческих невесту…
От же ж, могу поклясться, что в узеньких глазах Кеншо-авара, которые и узенькими-то от удивления быть перестали, мелькнуло нечто такое… навряд ли восхищение.
— Деву, чья краса — свет моего сердца, а норов тих и ласков…
Надеюся, что мои глаза обыкновенными осталися.
Обо мне ли это Кирей?
— Ты что творишь, мальчишка? — прошипел Кеншо-авар, вперед подавшись. И руки-то плеть стиснули, того и гляди замахнется, вот на кого только? На Кирея аль на меня.
— Забываешься, Кеншо-авар, — Кирей отвечал спокойно, с усмешечкою даже, и готова я была поклясться, что от этой беседы он имеет немалое удовольствие.
— Ты не имеешь права…
Кирей молча поднял мою руку, ту, которая с перстеньком.
— Ты…
А Кеншо-авар прям побелел… еще роги б отпали, и вовсе человеком сделался б. Хотя… из дрянного азарина, мыслится, и человек неважный вышел бы.
— Ты… ей… родовой…
Еще немного, и за сердце хватится. Оно, конечно, печально будет, ежели вдруг посол помрет. Кирей, небось, скажет, что преставился тот исключительнейшим образом от радости за него и свадебку нашу.
А перстенек-то не простой.
То я и прежде знала, но не мыслила, что настолько непростой.
— Кому, как не моей невесте, его носить?
Кеншо-авар ответил бы, когда б сумел хоть словечко произнесть. Ох, думаю, со свадьбою скорой поздравлять нас он не станет. Добре, если вовсе не прикажет зарубить на месте. Вона, как троица с сабельками косится, точно приглядывается наперед, как ловчей секчи.
Мамочки мои родные…
Нет, не боюся… или боюся все ж?
— Ты забываешься, мальчишка, — Кеншо-авар отступил. — Твой отец в жизни не одобрит эту женщину…
— Будем честны. — Усмешка Кирея сделалась шире. — Мой отец не одобрит никакую женщину, пусть бы обладала она всеми достоинствами Великой Матери…
Он чуть наклонился.
И Кеншо-авар от малого этого наклона отступил, попятился…
— Но вы забыли, что мне больше не нужно его одобрение. Разменял я уже два десятка весен… а что до врагов, то их положил куда больше. И по древнему закону имею я право взять жену такую, какую выберу сам, без родительского на то соизволения.
Если первые слова говорил Кирей тихим голосом, то последние слышали, небось, все в Акадэмии, а то и за стеною ее.
— Будет наш брак заключен по всем законам Великой Степи. И будут дети от него благословлены Великой Матерью…
— Если будут… дети.
— А мы постараемся, верно, дорогая. — И этак по-хозяйски меня приобнял, к себе притянул. Я ж только крякнула, в этих золотых нарядах, небось, и не пошевелишься иной раз.
Ничего, опосля скажу все, чего думаю про этую Кирееву затею.
— Потому уж, будь так добр, передай отцу мое послание. — Кирей вытащил из рукава свиток. — А заодно уж…
…из второго рукава выскользнул синий шнурочек с завязками.
— …человек был хорош, да только я лучше.
Шнурочек упал на остроносый сапог Кеншо-авара, а вот послание он принял с поклоном.
— С преогромною радостью исполню я волю твою, Кирей-ильбек… но и ты прими скромные дары мои. Ежели б знал я, что в дом наш грядет великая радость…
…и этак на меня покосился, стало быть, это я радость. Великая.
— …то принес бы к ногам луноликой девы, красоту которой не достанет мне слов описать, драгоценные кости моря и слезы солнца…
…об чем он?
— Ничего, Кеншо-авар, я сам одарю невесту свою…
…уже одарил, знать бы еще, куда от этих даров деваться.
Кеншо-авар не проронил больше ни слова, отступил в стороночку, ручкою махнул, и потянулися к Кирею рабы с дарами, значится. Подходили, ставили у ног с поклоном шкатулки и шкатулочки, ящички резные… крышку откидывали да, зад отклячивши, пятилися.
Ох, и чего только тут не было!
Камни драгоценные россыпями, так и манют руку запустить, зачерпнуть горсточку, цепки плетеные, наручья тонкое работы. Доска, на квадраты черченная, с фигурками резными, стало быть, для азарскае игры. Ножи из полосатое даншахское стали, шабли в ножнах узорчатых… шеломы и попоны. Я аж глядеть притомилася. А гора-то перед нами росла.
И стало мне диво до чего любопытственно, кто энту гору со двора прибирать-то станет? Небось, в Акадэмии рабов нетути, кажный за собою сам ходит.
Бочонок подкатили.
— Великий Аглай-каган, сотрясатель тверди земной, возлюбленному сыну своему шлет в дар черный бальзам из земли Кемет, которая скрывается за краем моря. Тысячу из тысяч ран залечит он, и подарит успокоение мятежному духу, и принесет разуму ясность. — Он говорил тихо, чеканя каждое слово, и я поневоле заслушалась.
Про страну Кемет нам сказывали.
И вправду лежала она за краем моря, куда не каждая птица долетит, чего уж о людях сказывать. Скрывается она в песках Великое пустыни, и днем там солнце палить нещадно, а по ночам — холод лютый стоить. И от того холоду на песке поутру случается проступать черной жиже, навроде дегтя — Милослава показывала нам пузыречек крохотный, прибавивши, что до энтой жижи дюже охочи местные твари, ибо суть сие — энергетический бальзам естественного происхождения.
А еще вода, которое в пустыне кажная капля ценна.
От и бродют охотники за кеметским бальзамом по барханам, бьются с нагами да скорпионами, спешат кажную каплю собрать, пока не выжарит их беспощадное солнце.
И дорог бальзам, и продают его крохотными пузыречками, а тут… бочка цельная.
Богатствие несказанное…
Кирей, скрестив руки на груди, поклонился.
— Передай отцу моему благодарность великую за дар столь щедрый, которого я, в сыновней непочтительности своей, не заслуживаю.
— Но…
— Пусть братья мои, коим выпало великое счастье расти под отцовскою рукой и каждый миг внимать мудрости его, примут сей бальзам и выпьют его за здоровье и благополучие Кирей-ильбека…
— Твой отец будет недоволен. — Кеншо-авар произнес это свистящим шепотом.
— Увы мне, дважды посмел я вызвать гнев его. — Кирей покаянно склонил голову, и почтительности сыновней и какой бы то ни было иной в том я не углядела.
А… неужто и вправду бальзам потравили?
Цельную бочку?
Это ж сколько деньжищ ушло… небось, за такие не то что Барсуки, половину столицы купить можно… видать, крепко охота кагану азарскому от сына избавиться, ежели этакого богатства не пожалел.
А может, у азар принято так, чтоб и душегубствовать по-богатому?
Надо будет опосля спросить.
Однако же бочку укатили… эх, а я уж думала, что попробую этакой диковины. Хотя ж… диковина с ядом — мне без надобности.
— Твой брат, Шанума-исыль, желая усладить твой взор, шлет тебе в дар прекрасные цветы…
Я разве что роту с удивления не раззявила, мол, какие такие цветы? И на кой они Кирею, чай, не баба, как из шатра, который стоял в стороночке, я уж и думать-то о нем позабыла, выпорхнула девка.
А следом другая.
И третья.
Одна белая, круглолицая и круглобокая, и главное, одетая в ткани тонюсенькие, так, что не только боки разглядеть можно было. Другая — чернявая, смуглявая, лицо завесила, только глаза сверкают… на Кирея глянет, потупится… и снова глянет.
Третья рыжая, волосья мелким бесом вьются, сама худенькая, чисто тростиночка.
Личико детское.
Глазки синие… на грудях ожерелье из камней огроменных, я ажно сочувствием к девке прониклася. Небось, этие ожерелья мне всю шею намусолили, а ейная тоньше…
— Пусть скрасят они твое одиночество…
— Прекрасна Великая Степь весенними цветами — Кирей на девок глянул, да что там глянул, взглядом облизал каждую, мне аж обидственно сделалось. Невеста я аль хвост собачий?
Я-то в невесты не рвалася, сам перстенек дал, сам назвал, а теперь вона, цветочков ему подавай… обойдется, кобелюка рогатая.
И кулачком в бок пихнула.
Легонечко.
Нрав-то у меня, как было сказано, легкий, ласковый… так что, будем думать, что жениха я приласкала. А что перекривился, так то от радости.
— Но при всем желании своем…
…от в желание то я поверила.
— …не могу принять сей дар, рискуя оскорбить брата своего возлюбленного…
…от в это я не поверила, да и не только я.
— …ибо есть у меня невеста, которой клялся я верность хранить…
У сродственника Киреева лицо ажно вытянулося. Небось, промеж азар этакие клятвы дивны были.
— До свадьбы? — уточнил он.
— И после нее, — с видом препечальным, будто и взаправду этак поклялся, ответил Кирей.
Кеншо-авар лишь головой покачал. Сочувствует, стало быть. И на меня покосился. А я чего? Грудь выпятила, как-то Олеська нашая завсегда делает, когда по селу идеть. И пущай сама-то не особой раскрасы, да грудью ея Божиня оделила щедро. Ось и щедрость оная на наших мужиков самое благосклонное впечатление оказывала. У меня, конечно, не тое, что у Олеськи, но и хватило, чтоб Кеншо-авар поспешне взгляду отвел. От же ж, нелюд…
— Пусть хранит тебя Великая Мать!
И девкам срамным махнул, чтоб возверталися в шатер. От и ладно, а то ж зима на дворе, снежок, а они в шелках да кисеях, этак весь зад поморозить недолго.
— Сестра моя, луноликая Игынар-каганари, молит тебя, Кирей-ильбек, принять и от нее скромный дар, ибо надеется она, что каменное твое сердце смягчится и впустит в себя любовь к той, кого принял твой отец и назвал любимейшей из всех жен…
Кеншо-авар хлопнул в ладоши.
И расступились люди.
ГЛАВА 39 О конях дивных
Невольники попятились, пропуская диво дивное. Медленно ступал старец с лицом темным, будто бы из камня высеченным. Босоног он был и облачен в рубаху шелковую, но за шелком проглядывало мне тело худое, язвами покрытое.
И страшно было глядеть на него.
Да только не глядеть не получалось… и потому не сразу увидела я, что старец этот не просто так шел, но вел на поводу коня дивное красоты. И прошлый-то жеребец Киреев хорош собою был, но этот… стоило глянуть, как мигом позабыла я про уродливого старца.
И про все-то иное, что в мире есть, помимо оного жеребца.
Ступает он — что дева на цыпочках идет, и шагом неслышным. Шкура его вороное масти лоснится, и чудится в ней то синева морская, то прозелень талой воды. Шея гнутая. Голова точеная. Глаза — что из камня лилового резаны. Грива волною мягкой до копыт спускается…
Кеншо-авар посторонился, пропуская старца.
А тот, встав перед Киреем, глянул на него.
И такой ненавистью лютой блеснули глаза его… и погасли. Хотел колени преклонить, да покачнулся, подкосились ноги, не удержавши изможденное тело. Захрипел, растянулся на камнях.
Выгнулося тело его.
Злые корчи мучили, терзали, да только… будто бы не видел никто мучений человека этого, и без того измученного. Все только и глядели на коня… потянулась к поводу узорчатому рука Киреева…
— Хорош…
Шепот этот слышала не только я… и… вот не ведаю, милостива ко мне Божиня, и не только ко мне, коль вышло, как оно вышло.
Видела я пену кровавую на губах старческих.
И то, что дрогнули они, желая произнесть последнее слово, которое камнем упадет на судьбу Кирееву, судьбы этой вовсе лишая.
Видела и улыбку, что скользнула по губам Кеншо-авара…
И глаза жеребца, наливавшиеся кровью…
Видела, и разумела, что ничего-то я не успею сделать. Потому и схватила за повод сама…
— Погоди. Успеешь…
И упала на колени, закрывая раззявленный беззубый рот…
…не читала я о том, только слышала от деда еще, а что слышала, так давно это было, а потому не знаю, правда ли то или же правдою лишь мнится.
Старик захрипел.
— Скоро тебе станет легче, — пообещала я.
А ведь не стар он вовсе. Быть может, не старше меня вовсе… вон, глаза молодые, пусть и кровью налиты. И бьется в них душа, пойманная, заточенная в теле. И само тело — клетка, палачом иссеченная.
— Скоро… — Я отерла рукавом кровь с лица. — Божиня милосердна…
Хотел ответить мне, да только…
В глазах его увидела я… отвернуться бы, не знать, но сие предательством будет.
…вот степь весной. И вправду многоцветна. Поднимаются выше пояса травы. Пламенеют маки, которым — знаю я — жить всего-то пару деньков. А после пооблетят, пойдут по ветру лепестки. Но пока рассыпались они по степи искрами первородного огня. Сладок воздух, напоенный ароматом медвяника, травки махонькой, невзрачное, зато сладкой-сладкой.
И любят его кони.
Особенно те, которые обретаются по ту сторону земли.
Вот и стою я, верней, не я, но Измир из племени Черного пламени, на коленях, собираю былинки, одну к другой. Ныне ж вечером отнесу их к старой реке, русло которой вновь водой наполнилось да до краев. Залью молоком парным, добавлю крови…
Скажу слово заветное, которое мне от бабки было дадено.
И уйду, оставив на берегу кобылу наилучшую.
Невелик Измиров табун, всего-то дюжина голов, да из них трое — старые, которых бы под нож пустить, и все об том говорят, смеются, что, дескать, жалостлив Измир. А у него душа за каждую из девочек своих болит. Пусть стара, пусть хрома аль кривоглаза, а все ласкова. От людей Измир ласки немного видывал, но вскоре переменится все… будет у него жеребенок, на которого сам каган воссесть пожелает. И отдарится золотом…
…кобылка была ладною, круглобокой да желтоглазой.
Хорошею крови.
И может, каган такою побрезговал бы, а вот находились люди, которые за кобылку оную сорок пять золотых монет предлагали. Но отказался Измир.
Самому надобно.
Долго ждал он, когда в пору войдет, и вот, удачно все совпало.
Он оставил кобылку у старой реки, без привязи, ибо знал, что не уйдет она… и на следующую ночь повторил… и так пока не отгорели красные маки.
Не зря старался.
Принесла кобылка эта жеребенка, да только махонького и слабенького. Такого, небось, прочие сразу забили б, чтоб не тратить попусту ни силы, ни сухую траву. Измир же жеребенка принял и в семи водах омыл, а после — и молоком материным отер, от дурного сглаза и болезней.
Помогло.
Две весны пролетело, и все стойбище, да и не только оно, заговорило про чудесного коня, которому равных в степи не сыскать.
Купить желали… не продавал Измир.
Свести пытались, да только чудесный жеребец в руки не давался. Смеялся он над людьми, отцовскою силой наделенный. И рвались волосяные арканы, не способные удержать древнюю кровь.
Летели на землю люди, коим вздумалось оседлать гордеца.
Одного Измира допускал к себе.
Ласков становился…
…на третье лето пришли люди из Шаммарт-энами, Великого города, Сердца степи. Ласково говорили они с Измиром, многое сулили за жеребца, но… не готова была душа вовсе расстаться с тем, кого Измир растил.
Тогда-то и позвали его в город.
В конюшни каганари да старшим конюхом, и обещали клятвенно, что сыщется в оных место для всех кобылиц Измировых. Поверил он. Да и как не поверить, когда мечта сама в руки падает?
Привезли его в палаты каменные, чисто дворец, только жили в нем лошади. И вправду встретили Измира с великой радостью. Кланялись ему, внимали каждому слову… и возгордится бы, да только чужда была душа Измирова гордыни.
За лошадьми он ходил, что за детьми малыми.
И каждую слышал.
А жеребца своего — лучше прочих… Измир не знал, почему вышло, как вышло… он ведь никому не сделал зла. Просто одного дня велено было спуститься в подвал, а после… после была боль.
Много боли.
Мучили его и огнем, и железом. Он кричал, да голос утратил. Молил, но глухи оставались палачи к молитвам. И никто-то не способен был сказать, за какие прегрешения ему такая мука. А после явился пред ним Кеншо-авар.
— Мне жаль, — сказал он и дал воды напиться, а воды Измир два дня не видывал, и каждую каплю глотал жадно. — Не хотел я причинять тебе боль, но нет иного у меня выбора. Сам Кирей-ильбек, прослышав про твоего коня, пожелал взять его. Но не хочет он быть вторым хозяином, единственным только. И потому должен я вымучить тебя так, чтобы согласился ты передать Кирей-ильбеку не только коня, но и слово заветное, которое этим конем позволит управлять…
Слово?
Не знал таких слов Измир…
— Верю я тебе, — Кеншо-авар печально головой покачал, — а вот он — не верит… уж прости, но не смею я сыну кагана перечить.
…продолжились пытки.
…день за днем, ночь за ночью… и в дороге-то не давали ему покоя… Измир больше не кричал, пропал его голос… и самому бы умереть, да не позволяли лекари.
Исцеление стало тою же мукой.
Не желало тело искореженное жить. А все одно жило, дышало, хоть бы и каждый вдох боль причинял.
— Отдай ему коня, — нашептывал Кеншо-авар. — И скажи свое слово. Тогда и подарит он тебе свободу…
…конь.
…слово.
…имя проклятое, которое Измир, сам того не замечая, повторять стал. Раз за разом… и боль перерождалась в ненависть, лютую.
А потом его оставили в покое. Всего-то на день…
Хороший был день.
Без боли почти.
Утром же Кеншо-авар поднес узорчатый кубок.
— Выпей, — сказал он, — и терпи. Скоро закончатся твои мучения. Отдай коня… и получишь свободу.
Горчило вино в кубке.
И с первого же глотка огонь живой разлился по жилам.
Яд?
Пускай…
Да только умирать стало страшно. Или не в страхе дело, но в том, что несправедливо было все это. Отчего Измир, никому-то в жизни своей вреда не учинивший, повинен смерти, а сын кагана жить будет?
Гнев душу наполнил.
И переполнил до края.
Не знал Измир слова волшебного, чтоб конь его иного хозяина признал, но знал иное, бабка же шепнула. Она-то и взяла клятву страшную, что слово это Измир лишь в самоем крайнем случае использует.
А разве ж то не край?
— Не он повинен в твоей смерти, — ответила я Измиру, душе его изломанной.
От той души осталась одна рана, переполненная гноем гнева.
Обидой.
Выпустить бы, да не умею я душ врачевать. Только и могу — боль эту разделить, обиду… пробую.
— Погляди, — попросила.
Не иначе как кровь дедова проснулася, а может, слова жреца нашего, старого, который повторял, что злые мысли душу тяготят. И что край благословенный у каждого свой.
Я знала, каков Измиров.
Он цветет алыми маками, будто бы искрами. И пахнет медвяником. В нем воздух жарок, а ночи прохладны… в этом краю степь сама ложится под копыта великих табунов. И все-то — Измировы…
— Иди, — попросила я.
И пусть останется то слово, заклятое, непроизнесенным.
— А конь?
— Кирей о нем позаботится… он любит лошадей. Не позволит обидеть. А хочешь, то и отпустит…
— Н-не надо отпускать.
Звала Измира степь. И табуны его волшебные ждали… бил копытом жеребец, из водяных нитей сплетенный, скалился, готовый рассмеяться звонким нечеловеческим смехом. Ну же, всадник, коль смелый, то и пробуй оседлать древнюю силу…
— Не дадут ему жизни на воле.
Измир шагнул в степь.
И руку протянул жеребцу… не станет он пробовать, не будет мучить ни уздой, ни седлом. Нет их в степи, есть лишь просторы маковые, медвяника дух, сладкое кобылье молоко…
Свобода для всех.
И жеребец, ткнувшись водяным носом в руку человеческую, всхрапнул…
Склонил голову.
Признал?
— Спасибо…
Услышала я, а может, почудилось просто, что слышу.
Умер Измир.
Тихо было. Молчал Фрол Аксютович, и Милослава жалась к боку его. Куталась в меха Люциана Береславовна… Студиозусы смотрели на азар. А может, на Кирея… или жеребца… или старика мертвого.
Я поднялась.
Наверное, негоже это, боярыне цельной на коленях стоять, да только не боярыня я, хоть дюжину платиев нацепи. И вся книжная наука сего не исправит. Да и… руку на сердце положа, не хочу.
Уж лучше так.
Дрогнули губы Кеншо-авара.
— Шикаль…
Не слово — тень его, небось, будь человеком, и не услышала бы… да и что услышала, того не поняла… ничего. Найдется у кого спросить, но после.
ГЛАВА 40 И снова о родительском дне
Тяжко мне было на душе. Муторно.
И хорошо, что не стал Кирей перечить, когда сказала, что к себе возвернуся. Он, небось, вовсе обо мне позабыл, как и об Измире… да и то, чего Кирею печалиться об азарине, имени которого он не ведал и ведать не желал.
У него конь есть.
Диво дивное… а я вот поднялася… еле поднялася по лествице. На креслице упала и села. Сижу. В окно гляжу, да ничегошеньки не вижу.
Слезы, стало быть, текуть.
А я и не вытираю… пускай себе. Слезы для души — что дождь весенний, смоют, что грязь, что копоть чужое боли. Там, глядишь, и мне полегчает.
Сколько я так сидела? Не ведаю.
Хозяин повздыхал, да под руку не полез, чуял, что не надобно тревожить. И я за тое благодарная весьма была.
В дверь постучали. Осторожненько так, вежливо… пришлося слезы утирать и подниматься.
— Не помешаю? — за дверью Кирей обнаружился, стоит хмурый, смурной.
Я только носом шмыгнула да спешне оный нос рукавом вытерла, правда, зря, рукава-то жемчугами шитые да нитью золотою, жестко об их носом тертися.
— Зослава…
Качнулся, руки протянул, чтоб обнять, значится, да только выскользнула. От нет у меня настрою обниматься, ни с ним, ни с кем другим.
— Зачем пришел?
Ежели сказать, что вела себя недостойно, то нехай кому другому сие говорит. Видел, кого в невесты звал. Кирей вздохнул.
— Упрямая ты девка, Зослава.
— Какая уж есть.
— Но мнится мне, что твоими силами я жив ныне остался. Не желаешь рассказать?
Да чего тут сказывать-то… и не в том беда, но боюся, что, ежели рот раскрою, то вновь разревуся, потому как болит еще чужая боль.
Не отпускает.
— А ты не спеши, — посоветовал Кирей и вошел.
Дверь за собою притворил, на стульчик сел и пряничек со столу взял.
— Голодный я, — пожаловался мне и пряник целиком в рот сунул. Жевал сосредоточенно…
— Чаю хочешь?
Кивнул.
А мог бы вежливо отказаться. В книгах, небось, писано, что на чай надлежит приглашать за две седмицы до чаепития. Уж не знаю, отчего, может, боярский чай как-то по-особому варют, но у меня обыкновенный, Хозяином принесенный.
Остыл вон ужо, хоть бы и под грелкою припрятанный был.
Но Кирей не жаловался, стакан одним глотком осушил и попросил:
— Еще.
Я налила. Не жаль…
…а все ж, ежели приглашение последовало немедля, то человеку воспитанному следует отказаться. И коль хозяева приглашение повторят, только тогда согласием отвечать. Иль то только для людей писано?
— Извини. Мне жаль, что тебе пришлось видеть такое…
— Что значит «шемаль»?
В носу все ж хлюпало.
И глянув на себя в ложечку серебряну, я ужаснулася. Хороша боярыня! Нос картоплею красной, щеки пухлые горять, глаза махонькие, что у доброе свиньи, которую уж бить пора. И коса растрепалася, рассыпалася на прядки.
Небось, волохата ныне, что ведьма.
— Шемаль? — Кирей нахмурился. — Покойник. Где ты это услышала?
— Да… родственничек твой сказал.
И мыслю я, что не об Измире он речь вел.
— Покойник, значит… — Кирей пальцы облизал. — Посмотрим, кто из нас раньше к Предвечному огню спустится…
Ох и не по-доброму то сказал.
— Ты же…
— Нет, резать я его не стану. — Кирей стакан с чаем в подстаканник поставил аккуратненько, бережно даже, будто был тот стакан не из честного стекла, но из парпору деланный. — Хотя, признаюсь, был бы рад оказии. Но Кеншо не так глуп, чтобы предоставить случай…
Промолчал, да и я не мешала.
Успокаивалась.
— Тронь его, и поднимется вой… да ладно бы, если б вой, повыли б и успокоились, но отец получит хороший предлог лишить меня своей милости. Объявить мятежником, попирателем закона Великой Степи, который гласит, что воля кагана превыше всего. И тогда он пошлет сюда не дары, а Золотую сотню, чтобы привезли ему мою голову. А царице, чтобы не сильно огорчалась, на воспитание еще одного сына… или двоих. Небось, теперь у него хватает детей, есть чем размениваться.
И горько так сказал, что разом стыдно мне стало за собственные слезы.
— А царица не станет мешаться во внутренние дела степи. Это теперь она способна отказаться от иного заложника, не оскорбив отца. Да и сам я условно свободен, не перед ней, но перед ним. И на все приглашения отвечать отказом, ссылаясь, что некогда сам отец слово свое дал, а слово это нерушимо… но мятежник, Зослава, дело иное.
Ох, до чего все тяжко, путано.
Хоть ты семи пядей во лбу будешь, а одно не разберешься.
— Так он же ж тебя убить хотел!
— Хотел, — согласился Кирей, ноги свое мосластые вытягвая. И зевнул еще так, широконько, рот рукою не сподобившись прикрыть.
А еще царевич!
Никакого этикету… иль, может, их этикетом не мучили, решили, что раз царевич, то само проявится? Давече вон сказывала Милослава про врожденные свойства.
Ежели так, то зазря, не проявилося.
— Но разве это он?
— Чего?
У меня вовсе ум за розум зашел. А то кто ж?
— Бальзам…
— Мог быть отравлен, а мог и не быть отравлен… яд не обязательно добавлять в питье или еду. Есть разные яды. Некоторые можно нанести, скажем, на поверхность кубка. И при том, что, если пить из кубка этого воду, она будет безвредна, а вот если вина налить или бальзама, то и мигом превратится оно в отраву. Ядом можно пропитать перчатки. Сапоги вот… помнится, красивыми были, как удержаться… яд можно добавить в поленья для камина, и тогда достаточно вдохнуть дым…
— Прекрати!
Этак и жить-то страшне, повсюду отрава.
— Иное знание, даже если кажется страшным, только на пользу идет. Я не знаю, была ли отрава в бальзаме, или в дереве, и потому бальзам в первые дни был бы безвреден… в кубках… в чем-то еще. Я не хотел рисковать…
— А девки? Что, тож травленые?
Кирей усмехнулся, видать, забавна была этакая моя придумка.
— Может, и отравленные… на кожу человеческую яд тоже наносят. В год три тысяче двадцать пятый от сотворения степи поднесли Ирзе-кагану в дар деву немыслимой красоты. Была она дочерью одного мурзы, который решил этаким даром снискать великую милость… точнее, сначала думали, что хотел. И пришлась дева по душе Ирзе-кагану так, что на трижды три дня заперся он с нею в покоях…
Экий… затейник.
Девять ден бабу мучить. Этак и вовсе умучить недолго. Аль, мыслится мне, что приврали тут летописцы, для солидности, а то ж цельный каган, не обыкновенный мужик.
— А спустя еще семь дней умерла дева в страшных мучениях, а следом за нею и сам Ирзе-каган. И случилась великая смута, потому как не было у него сыновей. Зато имелась дочь, которую взял в жены мурза. И через нее каганом сделался. Вот такая, Зослава, поучительная история.
Я только и сумела, что кивнуть.
Вот же… нелюди!
Дочку родную не пожалел… вспомнилося вдруг, как сказывал Арей, будто бы ценят азары дочерей своих. Но, видать, кошма ценней оказалася.
— Как по мне, вариант несколько радикальный, — продолжил меж тем Кирей, — можно и проще… дать булавку с ядом, или перстенек, или еще какую штукенцию. Главное, чтоб девка в доверие вошла. А есть и другой вариант… стоят за краем степи горы, а в горах тех старец живет премудрый, уж не одну сотню лет сменявший.
Я согласилася, что тогда поневоле премудрым станешь, ежели не одну сотню.
— И собирает он с городов приграничных детишек, а после учит их убивать. Из сотни детей лишь один учебу осилит. Да только не будет убийцы ловчей его. Вот такая легенда…
Тьфу ты… легенда.
Сказка, стало быть. Я тоже сказку могу рассказать про Деву Слепую, которую вызвать можно на крови и зеркале, и обидчика имя сказать, а после зеркальце в егоную кровать подкинуть. И ночью тогда вылезет из зеркальца дева, спрашивать начнет, мол, тут ли такой и этакий. И ежели ответит, что тут, то и сядет ему на грудь, присосется к устам и выпьет до донышка. А ежели спохватится да не отзовется на имя свое, тогда и станет кружить до утра, стонать да завывать страшенно, но с петухами сгинет.
Правда, мнится мне, что посмеется Кирей над этакою сказочкой.
— В году четыре тысяче сороковом поднесли Гырым-кагану в дар деву хрупкую, что тростиночка, с глазами, будто камень-фируза, с волосом золотым… и танцевала она для Гырым-кагана танец семи покрывал… и был он счастлив, позвал ее ложе разделить. А наутро нашли Гырым-кагана с глоткою перерезанной, дева же исчезла. Искали ее долго… пока смута не началась.
Хмыкнул сам, добавив:
— Смута у нас частенько приключается.
Ага… а еще жаль мне энтих каганов, то травят, то режуть, никакой жизни нету!
— А вот про коня, Зославушка, — Кирей вдруг заговорил голосом муркочущим, да глянул снизу вверх, только глазищи полыхнули, — ты мне сама расскажешь.
От же ж… холера! И дать бы по лбу ему за этакие шуточки, да рука не поднимается. Зато разумею ныне, отчего он так мил девкам…
— Прекрати, — велела строго.
Мыслилося мне, что строго, но Кирей только засмеялся.
Весело, стало быть…
— Конь энтот…
— Непростой.
Кивнула я, как есть, непростой. Да только и не знаю, с чего-то рассказу начать…
— Помнишь, нам сказывала Милослава про коней водяных, которые у саксов обретаются? И у норманов? А вот дед мой расповедывал, что этакие кони есть везде, где только вода имеется, но живая. Что обретаются табуны их в море-окияне, а в год, то ли тесно им становится, то ли и вправду зовет их кровь, но уходят они из моря. И подымаются в реки да речушки, до самого устья… и там свадьбы играют. Людей-то они стерегутся, но ежели человек сведущий есть, то в правильный час оставит он на берегу кобылу в охоте, а с нею — и ведро с молоком да травками всякими. Скажет слово нужное, чтоб услышали его кони, да и уйдет. Утром же возвернется.
Слушал он, подпер кулаком голову, глазищи прикрыл… не соснул бы, а то с сонным мне чего делать-то?
— И коль свезет ему, то кобыла жеребою окажется.
— Понятно.
От же ж! Я тут распинаюся, сказки сказываю, а ему понятно.
— Значит, мой жеребец — наполовину кэльпи?
— Водяной конь, — поправила я.
От не люблю этих словесей. Кэльпи… пойди пойми, чего за тварюка. А водяной конь скажешь, то и кажному ясне будет, об чем разговор.
— Пускай водяной конь. И что дальше?
А я-то, можно подумать, ведаю, чего там дальше. Специалисту нашел.
Злость моя была беззубою, что старый кобель, которого на подворье из милости держали. И управилася я с нею легко.
— Розуму в таком коне поболей, чем в обыкновенственном. И хозяина своего, ежели буде он ласков, любят они, что мамку родную. И нельзя энтого коня свести. Коль сядет на спину чужой человек, то полетит конь ветром, понесет его по-над полями да лесами, а после скинет, и так, что лиходей шею свернет. А еще злопамятные оне зело…
— Вот, значит, как… — Кирей подбородок потер. — Выходит, если бы я сел на этого коня…
И головой покачал.
Наездник он, верю, лихой, да все одно не удержался бы…
— Не только в коне дело, — молвила я. — Измир слово ведал особое… этим словом он бы и обыкновенного коня проклясть сумел бы, не то что водяного… это слово от души идеть, в ней и родится. И с нею выплеснется… и когда б сказал он…
— Кеншо знал. Перестраховался, паскудина… — Из сапога Киреева плетка вынырнула, хлестанула по раскрытое ладони. А плеточка-то махонькая, леконькая, из серебряных нитей свитая, да только на ладони рубец вспух. И Кирей зашипел. — Не мог не знать… или конь меня сгубит… или проклятье… что ж, Зослава, вновь я перед тобой в долгу.
Я только рукою махнула.
Не дело то, долгами считаться. Да и не его спасала я, душу Измирову, чтоб не вышла она вся на проклятие, не переродилась под знаком Мораны.
Дед сказывал, что в царствие ее розные дорожки ведут. И одних она привечает, а на других глянет костяным глазом, который наскрозь любого человека видит. И коль больна душа, уродлива да крива, то и переродиться ей в полуночницу, аль в свееву птицу, которой суждено блукать меж небом и землею до самого мира перерождения.
Будет она плакать, сулить людям несчастья.
А то и понесет на белых крыльях, из девичьих волос плетенных, мех с горестями да болезнями всякоразными. Да только слабенький той мех, и крылья в прорехах, вот и посыплется из него всякое на головы людям… и горе, ежели хоть капля упадет. Сточит тогда человека болезня неведомая, тоска душу изгрызет, несчастия привяжутся, да так, что хоть сам в петлю лезь…
Не ведаю, как оно у азар, да только не желала я Измиру подобное судьбы.
В степь он ушел, вот и ладно получилось.
— Что ж. — Кирей поднялся. — Этот долг я не забуду.
И поклонился в пояс.
Разлюбезно, значится.
— А теперь, Зославушка, будь столь любезна, приведи себя в надлежащий вид. И пойдем царице представляться.
Я только роту раззявила, что рыбина, на берег брошенная.
— А что ты думала. — Кирей только руками развел. — Ты же моя невеста теперь. И царица желает познакомиться с тобой поближе.
Вот только у меня желания сводить знакомствие с царицею не было. Да кто меня слушать будет?
ГЛАВА 41 Еще одна встреча с царицею
Ноне все было иначе, нежели минулым разом.
Лицо я отерла мокрою тряпицей. Косу переплела скоренько, платьице омела, покрутилась перед Хозяином, который, о великое чести прослышав, враз беспокоен стал.
— Погодь, Зославушка, складочки разложить надо… для пущего благолепия…
Кирей, на этакое глядя, только посмеивался. Вот был бы он взаправду женихом мне, ни в жизни не простила б! А так… гляну на физию его, и враз отпускает.
Ну царица.
И что, что царица?
Чай, не в первый раз ужо… и живая осталася, и ныне-то не одна пойду, а с Киреем.
— Ленты! — всплеснул руками Хозяин. — Ленты узорчатые в рукава надобно… и бусов побольше!
От бусов я отказалася. И так ожерелье на шее, что хомут, повисло. Неудобственное, страсть, а еще и тяжеленное, к вечеру, чую, и ворочать шеею не смогу.
— Ты прекрасна, дорогая, — степенно сказал Кирей и ручку подал.
Я приняла.
Иду и ног под собой не чую. Сердечко в грудях трепыхается… а он еще и молчит… только, как из общежития вышли, произнес тихонько:
— Главное, не слушай никого…
— Кого не слушать?
— Баб этих… которые при царице. Глупые и злые.
Это он про боярынь, которым честь великая выпала в услужение идти. И дивно мне стало, отчего ж царица, Межена-матушка, терпит их, коль глупы да норовом скверны? Погнала б этих, позвала б иных, небось, любая была б рада в терем царский пойти.
— Не все так просто, Зослава. — Кирей шагал медленно, под мою ходьбу подстраиваясь. И за то я ему зело благодарная была. Во всех нонешних нарядах не побегаешь. — В ее свите боярыни из самых знатных, а потому и самых опасных родов, тех, которые спят и во снах трон видят. А может, и не один. Росское царство велико, земель для всех хватит. А там уж провозгласить себя что князем, что иным царем просто.
Крамольные слова, да не мне судить. Кирей же был серьезен.
— Не раз и не два случалось ей заговоры в самом зародыше душить. И в том боярыни помогали крепко… самолюбивы больно и болтливы чрезмерно.
А больше ничего не сказал, мол, сама думай, Зослава.
Я и подумала.
Это ж выходит… а то и выходит, небось, не молча боярыни служат, друг перед дружкою рядятся, красуются, что нарядами, что гишториями всякоразными. А там уж, в запале, и лишнего сболтнуть недолго… нет, сумлеваюся я крепко, что смутьяны боярынь в свое планы посвящают, да только и оне не слепы да глухи.
Многое баба разглядеть способна, только сама не уразумеет, чего увидала.
Там гость пришел нежданный.
А там и дюжина их… и пущай не скажут хозяйке, что за гости, да сама увидит, когда забегают служки, да ключница придет, поклонится в ножки, испрошая из запасов сахару и кофию взять. После ж, бабская натура прелюбопытственна, девки сенные, холопки, боярского указу сторожася, все про гостей расповедают. И пущай имен знать не сподобятся, да вид наружный опишуть.
Хитра царица.
Да как бы ей самое себя не перехитрить… но, верно, немашеки у нее иного пути. Небось, неможно дозволить, чтоб царствие Росское на куски развалилося, будто бы чашка старая.
— И еще, Зослава. — Перед зданием Акадэмии, каковое ноне двойною цепью стрелецкою окружили, Кирей остановился. — Одни будут тебя ненавидеть. Другие — презирать. Третьи станут искать дружбы, но они самые опасные. Не верь таким.
— Не буду, — пообещала я.
Понимаю же ж, что дружба моя боярыням надобна, как лисе хвост заячий… ни красоты, ни толку.
— Вот и хорошо. Улыбнись… я тебе говорил, что улыбка у тебя замечательная?
От же ж… и знаю, что врет, а все одно приятственно.
В главный корпус Акадэмии вошла я степенною боярыней, с Киреем под ручку. И исти старалася, как Арей учил, плавненько, неспешненько, чтоб спина прямая, подбородок в гору задратый, и взгляд этакий с прохладцею. Уж не знаю, чего вышло, — хотелося на себя поглядеть страсть, да негде.
А внизу внове людно стало.
Вдоль стен стрельцы вытянулися. А перед ними — и рынды в белых своих кафтанах.
Стоять истуканами, только глазьями по сторонах зыркають, не умышляет ли кто злого супротив центральное власти? Кирей меня мимо провел, к зале, которую для особых случаев использовали.
Дверь перед ним распахнули.
И бляхи испрошать не стали. Только шагнула, как ктой-то проорал над самым ухом:
— Кирей-ильбек с невестою Зославой…
А главное, что громко так проорал, у меня прям в ухе загудело.
Кирей же ступил на дорожку красную и поклонился. И я присела, как была учена…
— Рада видеть тебя, мальчик мой. И невесту твою… встань, — это уже мне царица молвила. Я и разогнулася.
— Доброго дня, матушка, — ответствовал Кирей царице.
И вперед шагнул.
Обнял.
Поднял и закружил… я ажно роту открыла. Правда, вспомнила, где стою, и закрыла. А то мало ли… ишшо муха залетит, и что тогда? Небось, перед царицею муху сплевывать не будешь.
А Межена на Кирея вовсе не озлилася, засмеялася и пальчиком легонько погрозила.
— Все никак не повзрослеешь…
Была она сегодня такою, как в тот раз, царицею, в платье малахитовом с рукавами отрезными до самое земли. И перехвачены те рукава шнуром золотым, а платье каменьями шито густенько, но и без каменьев шитье предивно.
И птицы туточки.
И гады всякие.
И еще цветы чудесные. На один энтот наряд глядеть можно — не наглядишься.
Волосы царицыны в косу плетены.
А на голове шапочка махонькая да с сеточкою на норманскую манеру. По-за сеточкою энтой лицо навроде как видать, а все одно в тени.
— Повзрослел уже. — Кирей царицу отпустил и руку подал, на которую она оперлась. — Жениться вот надумал… невесту подыскал…
И ко мне, значится, царицу подвел.
А она глядит… прямо так глядит, и мнится, что видит наскрозь, хотя ж и нет у ней костяного глазу. Собственные ясные. И неудобственно мне, а ну как увижу в них то, чего видеть не полагается… и не объяснишь же опосля, что дар это такой, от деда доставшийся.
Казнят.
Аль просто на месте зарубят.
Вона, высятся за царицею рынды-истуканы, да не с дубинками, но с бердышами.
— Что ж, мальчик мой… жениться и повзрослеть — разные вещи… но надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
Сказала и на Кирея глянула, а он покраснел вдруг.
Экое диво!
И мнится, что вовсе не о женитьбе этой царица говорила, а об чем — им двоим ведомо.
— Знаю. — Он ажно набычился.
— Хорошо. — Межена улыбнулась светлою ласковой улыбкой. — Тогда идем, расскажешь мне, как прошла сегодняшняя встреча… а невеста твоя пусть здесь обождет.
И рученькою махнула.
— Посиди, девонька, с моими боярынями, порукодельничай, чтоб тоскливо не было…
Ой, чуется, не до рукоделия мне будет, а тоска так вовсе не грозит. Сидят боярыни по лавкам, насупились, глядят недобро… да только разве будешь царице перечить?
Вздохнула я.
Сказала себе, что, может, Божена даст, и не побьют, коль сами знатного рода и этикетам ученые. А если бить вздумают, то и я найду, чем ответить.
— Как скажете, царица-матушка. — Я поклонилася, не по книге, а как бабка учила, поясным поклоном.
И пошла на лавку.
Вона, местечко пустое рядом с царицыным крестлицем имеется, аккурат как для меня сбереженное. Царица же в мой бок и не глянула. Шла она, опираясь на руку Кирееву, а он, к голове ее склонившись, сказывал о чем-то…
— Куда лезешь? — зашипела круглолицая боярыня сквозь сомкнутые губы.
И как это у нее вышло-то?
— Сюды. — Я на местечко пальцем указала. — Рукодельничать…
Боярыни загомонили.
А некоторые, небось, от гнева праведного, ажно с лавок поднялися.
Не, ну аккурат куры! И раскудахталися, руками замахали, знай, рукава-то пляшуть. И чего разошлися? С Того, что царица туточки мне сидеть велела? Аль попросту что вышла она?
Куда?
Я и не приметила.
Рынды вона осталися, стоять, глаза пучать для пущее важности, в бердыши вцепилися, а на лицах их мука нечеловеческая. И мнится мне, что будь их волечка, порубали б боярынь этих на раз.
Те же кривятся, обступили меня, тычуть пальцами. Платье щупають, жемчуга считают. Серьги, когда б позволила, с ушами оторвали б, чтоб поближе глянуть. А после разом будто бы интересу утратили. Разошлися по лавкам, расселися. Не все, некоторые подле меня осталися стоять. Беседу начали.
И главное, громко так говорят, про меня, а так, будто бы меня туточки и нету.
— Божиня помилуй… где он ее выкопал? В каком стогу?
— Маменька, родненькая, а что ж это теперь бу-у-удет, — тоненько завыла молоденькая боярыня, однако же опосля ласковое материной оплеухи примолкла.
— Ничего не будет, Фроська. Нехай себе невестится, а оженится с тою, на кого матушка-царица укажеть, — ответствовала боярыня статей немалых. Грузна была да животом обширна, когда б не годы ея, подумала б, что брюхатая.
— Может, и так, а может, иначе… — произнесла другая, худощавая, в жемчужное шапочке да с лицом набеленным. И белила клала на то лицо густенько, аккурат как мы известку на печной бок.
— Вот чего ты, Брусвята, городишь!
— Маменька…
— Не слухай ее, Фроська, не будь дурой…
— Так ведь азарин-то не под царицыною рукой ходит, вольный он… на ком захочет, на том и женится…
— На холопке?
— Если будет его такое желание.
— Ма…
Фрося смолкла и голову в плечи вжала, только всхлипнула жалобно, да маменька ейная этого всхлипу то ль не услыхала, то ль попривыкла ужо.
— А ведь, Любавушка, — задумчиво произнесла третья боярыня, которая и в горнице шубейки не скинула, так и стояла в соболях, — ежели подумать, то лучше холопка, чем твоя Фроська…
— Что ты говоришь такое, Глуздовна!
— А то и говорю… правду… зачем азарину твоя перестарка!
— Да ей только двадцатый годочек пошел!
— Ма…
— Фроська, смолкни! Вона, поглянь, какая красавица…
Боярыня и вправду была красива. Телом обильна, особенно спереди, а задом она не повернулася, но мыслю, что тож достало. Лицо ее, круглое, что тарелка, набелили щедро, нарумянили. Бровки подвели сурьмою. Губы — вишневым цветом.
На волосы вздели венчик с каменьями. В уши — серьги вида преудивительного, с колокольцами.
— В самым соку…
— Ага, только сок этот, — заметила Глуздовна, — уж прокисать начал… долго ты ее в невестушках держала. Вот и передержала.
— Все равно по мойму будет! — боярыня Любава ножкою топнула. И Фроське еще одною оплеухой одарила, от которое венчик на самый Фроськин лоб съехал. — Небось, царица мне обещалась…
— А она всем чего-нибудь да обещалась. — Глуздовна рученькою махнула, этак поважно, я аж моргнула, а ну как и вправду вылетят из рукава косточки птичьи, и ладно, ежель лебедями белыми обернутся, но ведь и по лбу могут.
По лбу косточкою я не хотела.
— И не понимаю я твоего желания с азарином породниться… или больше женихов подходящих не осталось?
— Много ты говоришь, Глуздовна, да все без толку…
Вот стою я посеред боярынь, слухаю их разговоры пустые… змеи и те друг дружку без причины не жалят. А эти только и гораздые кусаться.
— …мне только пальчиком поманить, и мигом слетятся.
— Так что ж не поманишь?
— А может, хочу, чтоб моя Фроська царицею стала…
Фроська потупилася, и сквозь белила на щеках ее румянец проступил, густенький такой.
— Тогда тебе не азарин нужен… тем более, что жить ему осталось недолго…
— С чего ты…
Любава на меня покосилася, да видно, решила, что глупа я, как и положено сие холопке. Оно ж свыше заповедано, чтоб боярам разумными быть, а холопам — глупыми, ибо коль прибудет в холопах разума, то и скинут они власть боярскую, сами собою управлять станут.
— Слег старый волк… зато волчат полное логово… и волчица не позволит их тронуть…
Ишь, загадка хитромудрая.
— Мам, об чем она? У нас волки завелися?
— Еще какие… один от ожениться вздумал, — зашлася смехом Глуздовна. — Только покойники свадьбу не играют.
И на меня глянула. В глаза самые, будто упредить хотела… полыхнули зеленью колдовской очи боярыни, да и погасли. Отвернулась, потерявши интересу что ко мне, что к беседе энтой.
— Мам…
— Потом объясню, Фросюшка… а помнишь братца моего двоюродного? У него сынок есть… ой, собою хороший…
— Царевича хочу… — заныла Фрося. — Ты казала…
— А теперь кажу, что не надобен нам царевич. Сама подумай, донечка, заберет он тебя в седло, увезет в степь далекую…
Фроська носом шмыгнула.
— От тятеньки, от маменьки… от подруженек твоих сердечных…
— Совсем увезет?
— А то… на вот, петушка скушай. — Петушка на палочке боярыня из рукава вытянула, о рукав же атласный и отерла. — Глянь, какой славный. Сам красен, хвостик золоченый…
— Дай…
Фрося петушка лизнула, язык для того вываливши вовсе не по этикету.
— Все одно царицею быть хочу! Азарскою! Ты сама говорила, что он любить меня станет. И на ковер посадит…
— Так ковер и тятька нам купит. Мы попросимо, а он и купит… будем сидеть, пока до дыр не просидим. А азары…
Боярыня смолкла, пытаясь найти аргументу.
Я и решила сподмогчи. Не все столпом стоять.
— Он и на тебе жениться может, — сказала так, на Фросю с петушком глядючи. — Азарам можно.
— Да?
— Ага. Я буду первою женою. Ты второй. А третью мы ему сами выберем…
Любава зашипела и в дочерин локоток вцепилась, а ну как и вправду решит та за азарина второю женою идти.
— Не хочу быть второю! — заявила Фрося и ноженькою топнула.
— Будешь первой. А я…
— Единственною быть хочу! Чтоб только меня любил! Мама, скажи ей…
— Единственною не выйдет, у азар то не принято. Вон, у Киреева отца ныне пятеро жен, а еще девки всякие, которые на женской половине дворца живут…
— Мама! — От Фроськиного рева рынды подскочили и в бердыши свое вцепилися. — Мама, я не хочу…
— От и дело! Я ж тебе говорю, не надобен нам азарин… запрет тебя во дворце, в степях, а сам по бабам бегать станет… нет, у Егор Степаныча сынок вот есть… очень собою видный… ну прям царевич!
— На коне?
— А то как без коня…
Боярыня ко мне спиною повернулась, хоть бы спасибо сказала. А с другое стороны, на кой ляд мне ея благодарность, ежели в ней искренности ни на грошик малый?
Тьфу.
ГЛАВА 42 О новых старых знакомых
— Интересная ты девушка, — раздалось вдруг рядом, я аж подскочила.
Гляжу, стоит боярыня.
Ликом светла. В платье, хоть и богатом, зато без лишнего роскошества. И главное, что глядит на меня этак с усмешечкою.
А я на ее.
Признала.
Она ж тогда с Игнатом по рынку прогуливалась… и значится, матушка евоная, Ареева мачеха.
— Откуда же ты появилась такая…
— Из Барсуков, сударыня… — Хотела по имени назвать, да вспомнила, что имени ейного не ведаю. Но боярыня кивнула милостиво и повелела:
— Называй меня Ксенией Микитишной… Не желаешь ли прогуляться, Зослава?
— А можно?
Царицею ж сказано было, чтоб туточки их ждала, но Ксения Микитична только усмехнулася:
— Разве прогулки здесь запрещены? Проведи меня… покажи здесь все… как-никак мой сын в Акадэмии учится.
Сказала она это с немалою гордостью.
А я… не отказала. Уж не знаю, почему. По-за рядом с этою женщиною робела я, прям как давече перед царицей. И вышли мы из залы… дверь притворили.
— Игнат о тебе сказывал…
Она ступала неспешно, а я шла рядышком, не ведая, куда руки девать, да и то, с нею я себе представлялася большою да неуклюжей, неумелой. Как есть девка, в боярское платье выряженная.
— По нраву пришлась ты ему… весьма по нраву.
От же ж! И чего ей ответить? Иль отвечать не надобно, сама боярыня скажет, за какою надобностью беседы со мною беседовать стала. Навряд ли со скуки.
— И вижу, что есть в тебе достоинство, которого иным урожденным боярыням не хватает. Стать есть. Сила. Кровь течет хорошая. Здорова ты, опять же… ныне боярские дочки слабы пошли, на Фроську эту глянешь, только диву даешься, как она жить-то без маменькиного наказу станет.
Фыркнула так, аккурат что кошка, дохлую мышу завидевшая.
— Потому понимаю я выбор, азарином сделанный…
И смолкла, задумалась будто бы. Только от не поверила я этой задумчивости. Небось, все-то она наперед подумала и передумала не по разу.
— Более того, — промолвила Ксения Микитична, ко мне повернувшись, — готова я признать, что выбор этот на удивление удачен. И предложить тебе иной вариант.
И глядит.
Разглядывает.
Морщится едва заметно, стало быть, не по нраву ей этая беседа, да иного выбору нема.
— Я давно собиралась Игната оженить. Все же единственный наследник древнего рода. Знатного. Мы самому царю родней доводимся…
Она говорила тихо и все ж с гордостью немалою.
— И потому, Зослава, тебе великая честь выпадает.
Ага, от такое чести не знаешь, куда деваться-то… ох, непросто будет боярыне отказать, не привыкшая она к отказам.
А уж не ей, а сыночку ея любому.
Аж в плечах морозно стало.
— Конечно, поработать с тобой придется. Поучить. Обтесать немного, чтоб род наш не позорила. Но я самолично этим займусь…
И не только в плечах.
— Жить будешь в тереме. Одеваться в шелка да парчу, есть с серебра, спать на перине…
Говорила она и глаз своих с меня не спускала, что отвечу.
— Сына родишь, то и вовсе любое твое пожелание исполню, а как обучишься всему, пойдешь к царице в услужение… ты-то в царском тереме не бывала?
— Н-нет, — только и сумела я ответить.
— Ничего, побываешь еще, а то и приживешься… Игнат-то новому царю правою рукою станет… вот увидишь… Растерялась, девонька?
А то, от этакой-то превеликой чести, которая, того и гляди, на голову свалится, и хорошо, ежель не раздавит.
— Кирей…
— Уж прости за откровенность, ему недолго осталось. — По лицу боярыни тень мелькнула. — Так что тебе и сговор этот рвать не надобно. Погоди немного, и все.
Погожу.
Ой, погожу…
— А заодно уж… сама разумеешь, Зославушка, что, коль в семью войти желаешь, то надобно интересы этой семьи соблюдать. Многого от тебя не потребую. Игнат тебе не рассказывал, что в Акадэмии укрылся брат его кровный… человек дурной, низкий… вовсе не человек наполовину. И ладно бы, с тем я смирилася, не погнала с дому, заботилась, как о сыне родном, а он задумал дурное. Решил моего Игнатушку со свету сжить. И как не вышло это, сбежал…
Она всхлипнула и слезиночку споймала, этак, мизинчиком.
Мизинчик тоненький. На ноготочке половинка жемчужины поблескивает слезою морскою. И перстенек сияет синими камнями. А главное, боярыня на меня глядит, внимательно так глядит, я ж не знаю, чего сказать.
— Мне жаль…
…только не боярыню. Она же этак величественно головушкой кивнула и молвила:
— Страшный он человек. Ректора лживыми речами заморочил, вот и дозволили ему туточки остаться. Уж сколько порогов я обивала, справедливости испрошая, сколько слез пролила… — И вторую слезиночку этак аккуратненько с ресниц сняла. — У царицы-матушки в ноженьках валялась, да только и она не способная супротив закону пойти.
На счастие Ареево.
А может, и не пожелала попросту царица… я-то в игрищах боярских не зело сильна, но видать, супротив воли понахваталася. Вот и мнится мне, что Арей, как ни крути, а сынок боярский, что, коль случится беда с Игнатом, о том царица и вспомнить способная… или пригрозит, что с Игнатом беда приключится… иль еще чего, главное, что, обрети Арей волюшку, то и за наследствие отцово слово молвить сумеет. И знает о том боярыня.
Был бы тут Кирей, он бы мне скоренько расповедал, чего да как, а я вот думаю-думаю и сама не ведаю, верить надуманному аль не след?
— Учится, ирод этакий… а как выучится, то и царевым словом свободу обрететь, — продолжала жалиться боярыня. И так у нее ладно выходило! Не знала б я правды, так и поверила мигом, что все по-ейному было, что пригрела она на груди змею — а грудей у нее на цельный выводок хватит, — а та возьми да злом за доброе отплати. — И что тогда?
— Что? — повторила я вопрос боярынин.
А сама только и думаю, как бы возвернуться в залу, к вышиванке. Ну как царица вдоволь с Киреем наговорилася? Прийдут оне, а меня-то и немашечки.
— Убьет он моего мальчика! Отравою! Проклятием! Словом злым… татей подкупит, подошлет в дом. Игнатушка — светлая душенька, он кажному слову верит… и главное, самолично про братца спрашивал… я ему говаривала, что неможно ему с рабыничем ручкаться. И что не дождешься от него ни ласки, ни благодарности… кровь порченая, азарская…
И внове слезиночка выкатилася, поползла по набеленной щечке. Боярыня же знай платочек теребит да причитает жалобно.
— А женишок твой названый и радый подсобить… окрутил Игнатушку, задурил голову… вынудил купчую подписать… я уж к царице ходила…
…только ничего не выходила, надо полагать. Иначе б не со мною беседу вела, а с Кирей-ильбеком.
— …да только куда, говорит, что, мол, по Правде все… может, и по Правде, да не по справедливости.
Гневом полыхнули глаза боярыни.
И не желала я взгляд ейный ловить, само вышло…
…звенели сладостно бубенцы под дугой.
…и матушка спешила вздеть платье распашное да с узорчатым шитьем. А под ним — другое, шелковое, и третье выглядывает, атласу расписного.
Знай приговаривает матушка о том, до чего свезло ей, Ксюшеньке, не абы кто в жены берет, сродственник царев, и богат, и собою хорош. Небось, не одна девка мечтала, чтоб женою назвал. А он к Ксении… и то, за нею отец и деревенек с дюжину отписывает, и лесок на Выбичах… и еще два сундука с золотом, не считая мелочи, навроде перин да подушек, каковые по традициям положены…
…а сердце девичье не о подушках мыслит с перинами, но заходится не то с тоски, не то от сладости… и многое шептали чернавки про тое, что промеж мужиком да бабой случается, с оглядкою, стыдливо, а все одно… слова — иное…
Ныне сама Ксения узнает.
Для нее сметут стог душистого клевера, и его медвежьею шкурой накроют.
А на шкуру — простынь, Ксенией самолично тканную да расшитую, и на простынь она девкою ляжет, встанет же законною женою.
…сладко пахло сеном.
И мягко было. И стыдно. И страшно… и от страха и стыда кричала Ксения, отталкивала мужа, который лишь посмеивался да после, как надоело, навалился всею тяжестью. Ох, едва дух весь не вышиб. Но мамка терпеть велела. Ксения и терпела, сколько могла.
И этою ночью.
И другою.
И после во множестве ночей, благо, боярин все реже к женке заглядывал. А она… пусть и стыдилась, что брал он в постель свою холопок да глупых сенных девок, но и вздыхала с облегчением: означало это, что самой Ксении не будет оное постельное муки.
…а как ушел и сгинул, то и вовсе легко стало. Жила она сама себе хозяйкою. Тятька пробовал к рукам имение прибрать, да не вышло. Небось, не вдова она, честная жена, мужем над всеми холопами поставленная, а стало быть, никто, окромя супруга дорогого, — Ксения истово надеялась, что не возвернется он из степей азарских, — ей не указ.
Он же обманул.
Явился.
Да не один, девку азарскую приволок… и ладно бы, Ксения привычная, пущай себе тешится, мало ли их было, девок… но вышло вновь не так, как Ксении мнилось. Не рабою — госпожой поселилась девка азарская в тереме.
Слуги ей кланяются в ножки.
И каждое слово исполнить спешат… а как понесла тварь, так и вовсе супруг переменился. На Ксению волком смотрит, однажды и бросил походя:
— Опостылела ты мне… пустоцвет и сама холодна, что ледышка…
И слова-то упали в самое сердце.
Не была Ксения пустоцветна, просто слово одно знала заветное, от матушки, словом тем матушка пользоваться велела, пока Ксения семнадцатый годок не разменяет, уж больно рано ее сосватали…
…и потом, как вступила она в семнадцатую весну, то и держалась слова сказанного, ибо видела, как мучаются брюхатые бабы, как страдают родами, а после, бывало, и на погост уходят. Боялась.
Может, ежель любила б, тогда б и сказала слово иное, тоже заветное, да только вот…
…азаринка не померла, напротив, выродила байстрюка на радость супружнику, который дышит не надышится, будто и не рабынич сын.
Вольную вздумал дать, да тут уж Ксения не стерпела.
Бросилась в ноги отцу.
— Сама виноватая, — сказал тот, за бороду себя щипая, небось, не желал свары с зятем, да и промолчать было неможно. — Родила б сына, глядишь, и переменился бы к тебе супруг.
Родила бы… уже б переступила через страх свой. Да как родишь, когда вовсе позабыл боярин женку законную? В горницу и не заглядывает, а служанки шепчутся, что азарскую блудницу он жемчугами одаривает, шелками да атласами… велит ее выродка господином величать.
Где это видано?
Но вольную дать не позволили. Явился батюшка, и не один, всех родичей собрал… а род велик, род силен, славен, пущай и не царское крови, да станется и царю челобитную подать. Три дня рядились.
Гневался боярин.
И гнев его был Ксении в радость.
А как ушла родня, то и явился супруг.
— Довольна? — спросил он, глядя так, что испугалась Ксения, вдруг да ударит. Ее в отчем доме никогда не били.
— Чем же мне быть довольною? — ответила она, голову склоняя, ибо учила маменька, что покорность женская любое сердце смягчит. — Скажи, разве плохою женою я была?
Молчит.
— Разве досталась тебе порченою? Не соблюла себя до свадьбы?
Злится.
— И разве после того хоть словом, хоть делом перечила я твоей воле? Разве не блюла твое добро? Не радела о доме? О делах мужниных? Разве предавала аль чинила ущерб какой? Словом ли, делом? Ежели так, то скажи, в чем вина моя? Коль и вправду велика, то уйду я в монастырь, буду грех свой замаливать, а ты… живи, как умеешь.
Вышел, только дверью хлопнул. А ночью вернулся, и вновь было тяжко, неудобно, стыдно, да Ксения терпела… раз терпела, другой и третий. И когда поняла, что брюхата, то о том мужу сказала с гордостью немалою… ждала, что переменится он. А боярин кивнул лишь.
— Вот и славно, — бросил. — Будет дому моему наследник.
А сам к девке своей переселился, и внове осталась боярыня одна.
— Ничего, — сказала матушка, к которое Ксения за советом обратилася, — потерпи. Все бабы терпят. Или думаешь, твой отец другой? На всех девок его злиться, то и злости никакой не хватит. Главное, помни, что ты в доме хозяйка, а сын твой наследником станет.
Ксения и терпела.
День за днем.
Год за годом… благо, Игнатушка народился крепеньким и здоровеньким, и его-то, драгоценного, Ксения возлюбила всею душой. А где любовь, там и ревность, проросла полынью да крапивою жгучей. И хоть привечает боярин сына, да только все одно старшенького — больше.
Учителей ему нанял.
Коня купил, меч справил, хотя где ж это видано, чтобы рабынич да при мече? А Игнатушка за братцем тянется, невдомек ему, что энти забавы для малых опасные.
То ручку побьет.
То кожу с коленки ссадит… плачет, дитя ж малое, а отец кривится, мол, старший никогда не проронит слезинки лишнее. И умен-то он не по годам, и в учебе спрытен, а уж мечником таким станет, что и в царское дружине рады ему будут.
…и дар магический в нем очнулся, силу обещают немалую.
Игнатушка же…
…ушла нить, оборвалась.
Не доглядела я, да только и к лучшему оно… боярыня же стоит, хмурится, височные кольца знай позвякивают, пытается сообразить, отчего вдруг всплыли старые воспоминания…
А мне-то жутко разом сделалось.
И от жути той сказала я:
— Так вы хочете, чтоб Игнатов братец с Акадэмии сошел?
— Что?
Моргнула боярыня, уставилась на меня глазами круглыми, сама не разумея, об чем разговор идет. Но спохватилася и за ручку меня взяла.
— Верно говоришь, Зосенька. Мне тут молвили, что ты с ним дружбу водишь?
Кто ж такой говорливый?
— И тебя опутал речами обманными. Девку окрутить много ума не надобно… ты, Зосенька, главное, вот об чем подумай. Как не станет Кирея, то и тебе нелегко туточки будет.
Рановато, мнится мне, Кирея хоронят. Да только молчу, слухаю боярыню почтительно. А она нервуется, рученьками платочек терзает, мнет и сама хмурится, недовольная.
— И коль будешь со мною, то сподмогну, невестушкой назову, в дом свой приму… а коль вздумаешь дурить, то сделаю так, что и имени твоего вспомнить некому будет.
Сказала и в глаза глянула.
А у самой — леденющие, что прорубь зимняя, в такую сиганешь, так весь дух разом из тела и выйдет.
— Вот, Зослава. — Боярыня протянула мне кошелечек, бисером шитый. — Возьми. И как будешь с байстрюком этим встречаться, сыпани ему на одежу… и прочти, что на бумажке писано. Грамотная?
— Грамотная.
Брать?
Иль не брать?
А ежели не брать, то, может, кому другому всучит… я Арея травить не стану. Снесу Марьяне Ивановне, она в зельях сведущая дюже, пущай и разбирается, чего такого боярыня затеяла.
— Вот и молодец. — Она похлопала меня по щеке. — Слушайся меня, Зося, и будем тогда жить мирно…
…ага, как две гадюки в одном черепе.
ГЛАВА 43 Внове о дружбе боярское
Возвернулися мы подруженьками, верно, со стороны так оно и гляделося, ибо крепко держала меня боярыня под рученьку, да знай нашептывала:
— Вот увидишь, Зослава, переменится твоя жизнь, учебу эту бросишь, сказывал Игнатушка, как тебе тяжко тут приходится. И верно, не дело это — девке за мужиков жилы рвать… я тебя, милая, в шелка одену, в атласы… шубку тебе справим, чтоб не хуже царское…
И рядышком с собой усадила, сунула в руки пяльцы с иглою, велела:
— Шей… лепо жить станешь… спать на перинах столько, сколько восхочется… хоть ты целый день не вставай, все девки сенные принесут, чего только душенька пожелает… а как надоест лежать, то и поднимут, и в баньку сведут. Умоют водицей ключевой… нарядов будет… станешь мерить один за другим…
Сладко шепчет боярыня.
Да только за тою сладостью горечь мне чуется… и лжа… уж не ведаю, чего в кошелечке том разэтакого, но не на пользу оно Арею пойдет.
И мне не будет счастия.
Бабка меня учила, что Божиня-матушка хитро дорожки чужих судеб выплетает, и вроде есть вольному воля, да только каждый евоный шаг узоры на полотне жизни меняются. Влево свернет — одну ниточку переступит. Вправо — другую заденет, а то и вовсе совьются, сольются нити в одно, и тогда быть им до самое смерти неразлучными. И вот видится мне, что, коль приму я боярынино подношеньице, коль сделаю так, как велит она мне, сладкоречивая Ксения Микитична, то и беда с Ареем случится.
После и со мною.
Какая?
Как знать… может, и я потравлюся, а может, скажут, что я потравила… судить станут… а если и не станут, то не дозволит она своему Игнатушке на простой девке жениться…
Так аль этак, но изведет.
Но сижу, вышиваю, думаю о том, что тягомотен нынешний день… скорей бы уж завершился он. И тут, точно почуяв мысли мои этакие, скрипнула дверца, и боярыни спешно повскочили с местов своих, кланяться принялися, приседать, заговорили разом.
— Тихо, — велела царица и рученькою махнула, боярыни да и смолкли. — Что ж, Кирей… не буду держать тебя, молодой ты да горячий…
Поклонился он.
А царица вдруг на цыпочки поднялася да и расцеловала азарина в обе щеки.
— Иди, — говорит, — да и береги себя… счастлив будь.
— Буду, матушка, — ответил он серьезно. И вновь поклонился, до самое земли.
Потом уж ко мне подошел, ручку протянул, я и приняла… шли молча, до самое двери… только спиною чуяла чужие недобрые взгляды.
От них-то второю рученькою кукиш и скрутила, за спину заложила. Так-то оно верней, чтоб от сглазу-то…
— Ну что, — спросил Кирей, дверь прикрыв, — не заклевали тебя, Зослава?
— Разве что малость самую… — Мне ажно в грудях попустило. — Скажи, Кирей-ильбек…
Хотела спросить, да…
Ответит ли? Иль нет нужды его еще чужими делами путать? Арей ему, конечно, сродственник, да только нет в том родстве особое любви.
— Говори уж, коль начала, — он усмехнулся только, — чего там Ксения Микитишна от тебя хотела…
— А ты откелева…
— Зослава, Зослава. — Кирей рассмеялся, а я лишь подивилася, его, вона, хоронят ужо, впору вдовий плат расшивать, он же знай смеется… — Так оно сразу понятно было. Ксения Микитишна — еще та змея… старая гадюка, да яд ее крепок. Не будет она дружбу водить ни с кем, коль не увидит в том выгоды. А тебя вон рядышком усадила, под крылышко свое, почитай, взяла. Стало быть, решила с тебя некую пользу поиметь. А что взять с простой девки?
Говорит и ведет прочь от дверей, а я иду, слушаю…
— У Ксении Микитишны, как и у многих бояр, есть один весьма полезный недостаток. Они свято уверены, что суть человека определяется тем, кем он рожден был. И потому от холопа не стоит ждать ума. Более того, постепенно подобные люди уверяются, что все-то, кроме них самих, глупы и ни на что не способны. И не стоит их разочаровывать.
Кирей дверцу отворил.
— И потому видела перед собой Ксения Микитишна не будущую магичку, но простую сенную девку, которая только и способна, что думать про женихов и наряды… я, признаться, очень на то надеялся. Так что она тебе предложила? Хотя… дай угадаю… брат моего родича холост, верно?
Я кивнула.
Эк хитро выходит… Арей Кирею роднею доводится, а вот Игнат, который родня Арею, Кирею — чужой человек.
— И если ты поступишь, как велено, то и станешь женою, боярынею, будешь на перинах спать и ничего не делать…
— Ты подслушивал?
Кирей покачал головой.
— С некоторыми людьми просто. Умные, а дураки… так что тебе сделать было велено?
— А ты…
Азарин глянул, и в глазах его темных ноне не было и тени смеха.
— Я не стану чинить вреда племяннику, пусть у него и пустая голова, но все равно, кровь не водица. А он, пожалуй, единственный из нынешней моей родни, кто не пытается меня убить. Так что, Зослава…
И замолчал.
Верить иль нет?
Ах, до чего тяжко с ними, с боярскими детьми. Все игры какие-то, придумки… и не поймешь, кто тебе друг, а кто притворяется. Но никому вовсе не верить если, то и сердцем зачерстветь недолго.
— Вот, — я протянула шитый кошель. — Велела на одежду сыпануть. Я его Марьяне Ивановне снести хотела…
— Марьяне Ивановне? — Кирей кошелек взял аккуратненько, коготочком, а мне вдруг подумалося, что этакие коготочки вострить надобно. Наша-то кошка вона лавки скребеть, а он как?
Прям вживку увидела Кирея, как он спину по-кошачьи гнет, да к лавке бочком, бочком подбирается, а потом лапу тянет…
Нет, такому лавки мало будеть… он, небось, стены дерет.
Или еще чего.
— Интересно…
— Она ж травница…
— Травница, — согласился Кирей и за локоток меня придержал. — Идем-ка, Зослава, прогуляемся… стало быть, ты с Марьяной Ивановной сошлась, раз решила к ней с этаким вопросом…
— А что, нельзя?
— Можно, отчего ж нельзя… знаешь, про нее многое сказывают… всякого… к примеру, что был у Марьяны Ивановны некогда муж… и сын… да только людьми они были, потому и скоро век свой сменяли, зато от сына остался внук. Очень его Марьяна Ивановна любила…
На тропочку свернули, которая промеж сугробов пролегла нитью гнилою. То исчезнет такая, то разорвется, и торчат хвосты уродливые. Ступать-то на нее неохота, а Кирей знай ведет-волочет…
— И из любви, не иначе, купила ему земель… вернее, невесту сначала, чтоб рода древнего, славного, а следом и земель, которые род этот растерял. Чай, денег у нее было вдосталь, и милости царское. Она еще нынешнего царя батюшке служила. Верой да правдой, говорят, служила… пока он ее внука на плаху не спровадил.
— За что?
— За то, что смуту затевал. Не он сам, невестушка Марьяны Ивановны гонорливая была… так говаривали… и родни у ней немало. И родня та спала и видела, как бы былое величие роду возвернуть. Приняли неравного… да не забыли, что иной он.
Кирей остановился.
А и место для беседы-то выбрал! Мало не дошли до корпусу некромантского, вон он, возвышается уродливым горбом, торчит из перин-то снежных.
— Матушка в царевы покои вхожа была… вот и решили воспользоваться… это дело такое, Зослава… могли бы и иным путем, службой там верной или подвигами во имя царево себя прославить, да только это же и времени, и сил требует немалых. Куда уж проще старого царя потравить, а малому голову задурить… только что-то там у них не вышло.
Снег пошел.
Легкий и белый, сыплется серебром с небес, ложится мне на плечи, на руки, и не чую я холода, только… не знаю, тоску? В дома-то все просто… что снег, что солнце — а в радость, и этаких малых радостей набирается изо дня в день, а туточки не продыхнуть от забот. Вот и стою, гляжу, а радоваться не выходит. Все мысли какие-то дурные в голове шевелятся…
— Многие тогда на плаху пошли…
— Откуда ты…
— Сама подумай…
От царицы, не иначе, кто еще этакое рассказать бы сподобился?
— Верно, Зослава. — Кирей глядел на некромантский корпус задумчиво. — Она часто повторяла, что корни будущего в прошлом упрятаны. Сперва я не понимал, а теперь… смотри, вот внука Марьяны Ивановны на плаху отправили. Невестушку в монастырь. Дочку их, правнучку, стало быть, под царево крыло… да только и там неладно случилось… про то матушка сказывать не желала. Только обмолвилась как-то, что в петлю сама она полезла.
Я молчала.
Да и чего сказать? Горе чужое, а все одно горькое. И жаль мне Марьяну Ивановну, потому как страшное это дело, родных лишиться.
— Вот и выходит, что есть у Марьяны Ивановны обида на род царский… она ведь знахарка, каких поискать… Божинин дар. Да только и он царю не помог, как нужда пришла… три жены… а наследник лишь один. Будто проклял кто…
— Кто?
— А разве я ведаю. — Кирей раскрыл ладонь. Снежинки сами на нее летели, садились да таяли, коснувшись смуглое кожи. — И не только я… думаешь, не смотрели царя магики? Что ваши, что пришлые, и царицу… и весь род до третьего колена. Было б проклятье, неужели не углядели бы? И стало быть, судьба… а судьба, она не сама собой выплетается.
На снежинки он глядел с восторгом.
— В степи снега нет, — признался. — Случается холод. И мороз, когда травы становятся стеклянными… мне когда-то нравилось летать на коне да по седому ковылю… скучаю я.
— Думаешь, Марьяна Ивановна…
Была ведь у нее тайна, да только не удалось мне и краешком ее зацепить.
— Думаю, есть у нее обида и на царя, и на весь род его. Думаю, что лечить она умеет, а кто лечит, тот и покалечить сможет так, что никто до правды не доберется. Царица к себе знахарок не подпускала. И магов… и вовсе хоронилась, пока не родила… уезжала, стало быть, по монастырям, по скитам… к родичам, опять же. Уж не знаю, святые места ей помогли или еще что, но, видишь, троих родила…
…и двоих схоронила.
Горькая судьба.
Нет, и в Барсуках случалось, что мерли дети. Они-то, пусть и под крылом Божининым, да все одно… минулым летом случилось Макейчикову младшенькому по ягоды пойти да на змею наступить, или Горюхиных девка хлебанула летом колодезной водицы и слегла с лихоманкой, чтоб в два дня сгореть. Уж на что бабка моя билась, а все одно.
Судьбу не переломишь, так она сказала.
— Я тебе это рассказал, чтобы знала, Зослава… как не станет меня, то и…
— Что ты такое говоришь?!
Неужто и сам хоронить себя вздумал?!
— Потом поймешь. — Кирей отмахнулся. — Просто помни, что… ты рядом с царевичами долгехонько. А будешь еще дольше. И многие, кто поймет, что не случайный ты тут человек, захотят с тобою дружбу водить. Средь них же всякие люди сыщутся. И те, кто просто выгоды себе ищет, и те, которые…
…зло творят.
А могла бы Марьяна Ивановна… ох, не ведаю и ведать не желаю.
Кому исцелять сила дадена, разве может он ее во зло оборотить? Однако ж учил дед, что у любой силы, как и у монеты, две стороны… а потому гляжу я на некромантский корпус и… на снег еще гляжу.
Белый он и чистый.
ГЛАВА 44 О последствиях оной дружбы
Не знаю, сколь долго стояли мы, но первым Кирей возвернулся из глубин собственных мыслев, каковы, полагаю, были тяжкими да муторными. Отряхнулся он по-собачьи, сапожком снег с тропиночки стер да и кошель наземь поставил.
— Отойди, Зослава, — велел, а сам рученькою над кошелечком Ксении Микитичны провел. И пальчики-то хитро скрутил, загогулинами, я еще подумала, что не скоро магиком стану, небось, этак кренделя из рук крутить с младенческих годочков учиться надобно.
Тяжела магическая наука.
Ждала я, что полыхнеть по-над кошелем пламя.
Аль дым взовьется.
Аль еще какая напасть приключится, но ничего, только чихнул Кирей. И нос коготочком поскреб. А после другим осторожненько так завязочки кошеля дернул.
— Ну да… не дура же она себя травить…
Пробормотал так, а кошель и развязался. Внутрях же другой обнаружился, не расписной, зато из тонкое шкуры.
А в ем и третий.
Эк хитро-то.
Только с каждым кошелем улыбался азарин все шире…
— Вот оно что… — пробормотал он, вытаскивая последний, уже не кошель, а сверточек. В нем же — будто бы сажа печная… — Подойди, Зослава…
Подошла.
Бочком. Осторожненько… не сажа, но порошок некий, черный да жирный, поблескивает, пахнет… слабо пахнет, я-то едва почуяла, а человек, небось, и вовсе не услышал бы этого цветочного аромату… будто ландыши?
Иль чемерица?
Меж ними сходство малое, а чудится мне то один запах, то другой.
— Мерзкая штука… и, главное, интересная. Знаешь, что это? Не знаешь, — сам на вопрос ответил Кирей. — Оно и правильно… а вот они сразу бы распознали.
И на корпус указал.
— Кости это человеческие. Горелые. И не просто горелые, а на правильном огне…
От же ж мерзота какая! А Кирей сажу эту коготочком варушит, разглядывает.
— Девичьи, судя по запаху… цветами пахнут… от мужских обычно железом несет. Или еще землей. Дети… особый аромат, мне не доводилось… к счастью.
И ладонь перевернул, вытряхнул черноту.
— Не всякого человека использовать можно, только того, который не своей смертью умер. И желательно тело сразу подготовить. Чем больше перерыв, тем слабее эманация смерти. А здесь она сильна. Покойника, Зослава, на решетке кладут, а под решеткой огонь разводят, да не простой, на семи поленьях и травах особых. Словом их крепят. И горит такой огонь, пока от человека только кости не останутся. Тогда-то их и собирают, растирают в ступке. А потом и пользуют…
Затошнило меня.
Мамочка моя родная… это ж что деется… небось, и в Акадэмии этакие страхи творят!
Ажно жалко стало некромантов наших.
— Не смотри так, Зослава. Магия смерти — тоже сила, от которой польза бывает… из этого порошка ваши некроманты мазь готовят особую, раны она заживляет не хуже Крови земной. А еще яд создают, которым любую нежить упокоить можно… или зелье, способное язык развязать… но о том тебе лучше не знать.
Черная сажа проплавила снег.
Провалилась.
Сроднилась с мерзлою землей. И гадать не стану, кем была горсточка этого клятого зелья…
— А что, если просто… — Мне иное знать надобно было. — На одежу… как она велела…
— Не знаю, — вынужден был признать Кирей. — Может, пометила бы так… может, после обвинила, что он мертвой магией беззаконно занимается… может, еще чего придумала. Ты, главное, Зослава, если вдруг спрашивать начнет, говори, будто украли этот кошель. И Фрол Аксютович подтвердит… ноне-то вороты Акадэмии открыты. Людно здесь… мало ли, кто в гости заглянул.
Сказать-то я скажу, да поверят ли?
Если и нет, то… чего она мне сделает, Ксения Микитишна? Боярыня она? Да и я, ежель подумать, не из простых…
А день нынешний тяжкий добег-таки до вечера. И небо набрякло чернотою, чтобы вскоре расцвели на нем цветы огненные красоты предивной. Были серед них и желтые, и белые, и червонные…
Менялися оне.
Из цветов — в мотыльков.
Из мотыльков — в змеев крылатых… и люд всяческий, которого ноне и вправду собралось столько, что не протолкнуться, дивился.
Кто-то свистел.
Хлопал.
Смеялся.
Кто-то ворчал, что впустую магики силы тратят… я, признаюся, глядела на цветы, чтоб было чего бабке моей расповедать. Не про боярские ж козни ей рассказывать, в самом-то деле…
Вот и запоминала.
Цветы, птицы и зимнее древо, полыхнувшее белым огнем. Горело оно долго, не сгорая. И был тот огонь холодным, самые смелые из гостей в него руки совали, смеялись, дескать, когда еще случится волшбу пощупать. Открылися лавки, в которых торговали что пряниками-кренделями, сбитнем горячим, что зельями целительскими, что амулетами на любой случай…
Людно сделалось, шумно.
И народ, позабывши про иные дела, веселился.
Плясали карлы.
И медведь в полосатых портах заходился вприсядку. Кто-то песни орал. Кто-то замки лепил из воздуха, кто-то заставлял воду катиться с ладони на ладонь, с огнем забавлялся.
Крутил ветряные колеса да в разные стороны… а с тех искры разноцветные сыпалися, чтобы обернуться монетами золотыми. И верещала детвора, пихали друг дружку локтями, да и серед взрослых находилися дурни, которые оные монетки и ловили, и на зуб пробовали, и плевалися, когда золото чародейское дымом вонючим становилося.
И хохотали люди, и от того веселья мне вовсе не по себе становилося. А ведь в прежние-то времена я страсть до чего любила ярмарки. Вот что заботы боярские с нормальным человеком творят! Я выбралася из толпы, благо, ныне никому туточки не было дела до боярыни Зославы, невесты Киреевой… и пошла… куда пошла?
А куда глаза глядят.
Как оно позжей ясно стало, то глядели оные глаза аккурат на общежитию, видать, притомилася я сильно, вот ноженьки сами и принесли, только… вошла я в комнату свою, огляделася.
И внове не так все.
Не то.
Душно и так, что дышать нечем, окошко отворила, да не полегчало. И няемка мне, прям стены на голову давят. Хозяин высунулся было, да, завидевши меня, этакую, и сгинул.
И чего делать?
Не усижу дома… а как на крыше оказалася — не помню. Поздней для себя порешила, что сама Божиня меня за ручку привела, оборонить от беды дурня. А тогда только-только вдохнула ледяного воздуху, как попустило.
Ноченька ясная.
Мороз звонкий. Издали видна вся Акадэмия, и люд праздный, и ярмарочные представления, кои студиозусы учинили… а в другую сторону повернешься…
Тишина.
Чернота ночная, звездами убранная. И крупные оне, что из крышталя точеные, и висят густенько, этак под тяжестью ихнею и небесный свод проломиться способный. А он не ломится, покачивается только, и будто бы смеется кто-то…
Рядом смеется.
Я и скинула морок ночной. Ишь оно как… взаправду говаривали девки, будто бы ночи наперед зимнего свята чудесные, в такие всякое возможно, хоть ты ледяного царевича встретить, хоть — девку снежную, которая, коль по нраву придешься, одарит златом-серебром, каменьями драгоценными…
Еська стоял на краю крыши.
И смеялся.
Растрепанный… и камзол парчовый скинул, вона, лежит рядышком, только ветер любопытный кучу эту трогает-шевелит.
— Еська? — позвала я тихонечко.
И сама подивилася, что голос мой стал слабым-слабым… будто чужим.
— Еська, чего ты творишь?
Надо же, услышал. Вздрогнул, встрепенулся… и покачнулся, не упал едва-едва… от дурень! Кто ж так забавляется! Вона, был у нас весельчак один, про которого бабка сказывала, что зело любил он удалью молодецкою перед иными хвастануть. И залез одного разу на крышу, да там выплясывал… и свалился, потому как выплясывать на крыше — дело не зело умное.
Расшибся крепко.
Не до смерти, но так покалечило, что он и ныне не то что плясать — ходить едва-едва способный.
А тут же высота такая… тут спиною больной не обойдется, насмерть буде.
— А… пришла… зачем? — спросил Еська.
— Да… как-то не так все… — правду я ответила. — Задурили вы мне голову.
— Можно подумать, там есть чего дурить.
— Может, и нечего… а ты вот…
— А я вот…
Он внове отвернулся, уставился в темноту. Руки расправил. Только рукава рубахи белой на ветру хлопнули крылами дивное птицы.
— Чего ты удумал?
— Плакаться станешь?
— Я? Вот еще… — а сама-то бочком… может, пьяный он?
Аль еще какая беда приключилась? Но беда — она дело такое, любое горе, что сапоги по чужой мерке шитые, сначала сердце натирают, а после поразмякнется, пообвыкнется…
— Не станешь… и ты не станешь… и никто не станет. — Он склонил голову набок. — Вот и возникает закономерный вопрос… зачем тогда?
— Что?
— Все, Зослава… я уже свою роль отыграл… хорошая у вас шутка вышла…
— Кто ж знал…
Мне не было совестно, потому как и вправду не желали мы Еське зла. А что вышло, то, небось, уже не поправишь…
— Никто не знал, — согласился Еська. — И никто не должен был знать… а знают все…
— И что с того?
Я близенько подобралася. Боялася разве, что оглянется он, увидит да и шагнет в темноту. У самой-то сердце стучит-заходится, потому как этой смерти мне не простят.
— Не дури, Еська, — попросила. — Братья твои…
— Сказали, что сам виноват… дошутился…
— Прогнали?
— Сам ушел… мне там теперь делать нечего… был царевичем, стал холопом поротым. Весело? И матушка мною недовольна…
Не в том ли дело? Ведь тих он был в последние дни, да не думал о таком, пока с царицею не повстречался. А повстречался и на крышу полез.
— Она тебе велела?
— Что?! — Еська развернулся, и так резко, что рухнул бы, когда б я за рукав его не ухватила. Ох, спасибо Архипу Полуэктовичу за науку! Я тепериче быстрая стала, что шашок в курятнике! И ухватила, и сдернула с краю… только и покатилися по крыше, снег сминаючи.
Еська первым вскочил.
— Да что ты такое говоришь, девка дурная! — взвыл он, приплясывая. Снегу-то за ворот малехонько понасыпалось, оно и ничего, пущай охолонет маленько. — Матушка в жизни бы…
— Тогда с какой дури ты самоубиваться полез?
— Я… ничего ты…
— Расскажи.
— Тебе?
— А хоть бы мне, раз другим боишься.
— Я ничего не боюсь!
Ага, от смелости лишнее, стало быть, сбег. И ежель разумею я хоть малость, то братья евоные ныне Еську обыскалися, а как отыщут, то и навесят тумаков.
Надеюся.
Глядишь, от того и случится в евоной голове прояснение.
— Из-за Горданы, что ль, дурить вздумал? — спросила я, потому как тягостным было молчание, и чуяла, вот-вот беда случится.
Он отступил.
И рукавчик из пальцев моих выдернул. Попятился к краю…
— Бабка мне сказывала, что была одна раскрасавица… не в Барсуках хотя ж, но в соседнее веске. Там-то близенько, версточек десять, ежель через лес, — говорю и в глаза гляжу, а они дурные, что у волка шаленого. С этакими глазами убивать идут, не думая, на кого руку вздымают… и себя жизни лишит на раз, ежель до края доберется. А шелохнусь я, мигом отпрянет… тут-то всего шажок… и главное, снег-то за шиворотом боле не спасает.
А я вот говорю, он и слухает.
Будто бы слухает.
— По дороге-то оно дальше выходит, но наши привычные. За овражек, а там тропиночкою… так вот, жила в той веске девка красоты неописуемой… шорникова дочка единственная. Тятька-то ейный знатным мастером был, а потому за евоною работой купцы ездили, едва ль не билися. Богато жили. Холопку прикупили даже, чтоб женке по дому помогала. Дочку он свою дюже любил, говаривал, что барыней вырастет…
Говорю и смотрю.
Моргать и то страшно, а ну как оборвется та ниточка, которая промеж нами протянулася. Тогда-то не удержу горе-царевича.
— И выросла она вправду барыней. Ручки беленькие. Сама — раскрасавица… а что, тятька-то ее баловал, то отрезов шелковых прикупит на рубахи, то полотна красного, то бусов и иных украшениев. Нарядится она и ходе по веске, кажет себя иным девкам. Те-то завидовали… небось, мало у кого было такое, чтоб вовсе без работы. А этая только шелками шить и умеет…
— Хорошее умение…
— Полезное, ага… бабка сказывала, что девка та шила знатно, и что шитье ейное тоже на ярмарку возили, знающие люди хвалили зело, деньгу платили, тогда она и вовсе возгордилася. А что, со скотиной управиться иль огородом всякая способна, а вот шелковою ниточкою цветок сделать, да чтоб как живой, — тут талент надобен.
Слушает.
И дурь энтая, в душе засевшая, из глаз уходит.
— Сваталися к ней многие. А что, завидная невестушка. Да только не спешила она мужа выбрать, все искала… и тот ей нехорош был, и этот неладен… а еще был на веске паренек один, из небогатых… крепко ему шорникова дочка полюбилася. Уж он к ней и так, и этак, и цветы носил, и слова ласковые. Шорник-то не больно радый был, потому как не хотел бедного зятя. А девке лестно, что парень по ней так убивается. Сам-то рукастый, собою хороший… может, конечно, когда б поженилися, и жили б разом, да в город ушел он, к мастеру одному, который его обучить взялся. Парень-то славный, до учебы спрытный…
Еська руки скрестил.
Но взгляду не отвел, и только улыбка появилась прежняя, хитроватая.
— И что, — спросил, — доучился?
— Два года просил он у шорниковой дочери. И ждать она обещалась, да только той же осенью посватался к ней купцов сынок. Батька евоный шитье на ярмарку возил, а вот сынку и мастерица глянулась. Та-то живо про слово данное забыла. Купчихою заделаться вздумалось… и шорник радый. Свадебку сыграли быстро. Парень тот, как узнал, в село вернулся, на свадьбе чарку опрокинул, а после пошел и повесился.
— Проклял?
— Не, не проклял.
— Это зря… а она поняла, что любила и его тоже? — Еська ближе подвинулся.
— Да нет, бабка сказывала, что уехала она в Мязель с супругом своим, там и жила себе. И живет, быть может… шорник-то помер давно, но пока живой был, частенько наведывался, все хвастал, как хорошо его дочка устроилась, в каком доме живет, скольких служанок имеет…
Еська нахмурился. Не по нраву пришлась эта моя гиштория? Так я не больно-то мастерица.
— А парень тот… что с ним?
— А что с ним? Схоронили, как водится. Скинулися всем селом, чтоб свечку поставить Божине за упокой души… девки-то поплакали чутка, погоревали… женихов-то справных немного, да только их слезы быстрые.
— Какая-то неправильная у тебя история, Зослава. — Еська поежился.
Мерзнет? От и ладно… когда тело мороз чует, аль боль, аль иное какое неудобство, то, значится, попустило розум. Вон и глаза нормальныя.
— Почему неправильная?
— А мораль где?
— Мораль… — Я призадумалась, потому как в мудрых книгах у каждой басни мораль имелася, но только ж то басни, придумка назидательная, я ж сказывала, как оно на самом-то деле бывает. Но ежели без морали никак не можно… — Нечего из-за бабы в петлю лезть. Ей с того урон малый, как жила, так и будет жить. И он мог бы. Выучился б на мастера. Глядишь, и сам бы в городе прижился. Там и девку нашел бы иную, которой сам он был бы мил…
Еська похлопал себя по плечам.
— Поучительно…
— А то…
— Спасибо.
— Не за что. — Я ничего-то не сделала, хотя… — Пойдем-ка, чаем тебя напою, а то еще застынешь… тоже мне, удумал, на морозе в рубахе одной по крышам скакать…
— Ворчишь, как матушка… — хмыкнул Еська, но перечить не стал и камзол подобрал, отряхнул от снега. — Зослава…
— Никому я не скажу…
— И за это спасибо… и… извини за те шутки… дурные были…
Тут уж я ничего не ответила.
Вроде и от сердца прощения попросил, да от… верно Архип Полуэктович сказывал, что злопамятная я. Не могу от так взять и забыть, что позору свою, что…
А самовар Хозяин ужо притащил, да какой, медный, натертый до блеску. Шишечками сосновыми растопленный. И вар идет духмяный, наполняет чашки.
Еська свою взял, сгорбился, будто хребтину из него вытащили, глядит да думу думает. И тяжкая та дума, ежель голова Еськина все ниже гнется.
— Пряника возьми.
Пряники чутка зачерствели, но не выкидать же их, для Еськи он, самое оно угощеньице. И пущай жалко мне его, непутевого, да все одно не тот гость, за-ради которого я суетиться стану. Сама пряничек взяла, в чашку макнула. Так оно и мягче, и слаще чаек будет.
Еська тоже взял.
Кошака, сахаром глазурованного, с глазами клюквяными. В рот сунул, смокчет.
Молчит.
Ну и я молчу, ныне-то, чую, можно.
— Что не спрашиваешь, где меня угораздило? — первым не вытерпел он, то ли ухо коту высмоктал, то ли просто молчать непривыкший.
— Так а чего спрашивать? Захочешь, сам расскажешь, а нет, то и соврешь.
— Верно… — Еська вздохнул и кота с ухом обмусоленным отложил. Сунул пятерню за шею, поскребся. — Матушка пыталась вывести… целителей звала… из тех, которых можно звать… да… дядька Нестор сказал, что шрамы больно старые, их если скрывать, то под другими…
— Это как?
— Просто, Зослава… масла кипящего на спину вылить и погодить, пока шкура облезет… а там и лечить, если будет чего лечить.
Я только головою покачала: это ж надо было до такого душегубства додуматься! На живого человека масло кипящее лить! Нет, бабка-то лила раз один, но Вирчову-старшому, который случаем одним ногу посек себе. Ой, и верещал он! Трое мужиков навалилися, а еще к столу веревками вязали… и бабка зелья дала, чтоб боль стишить, а все одно верещал!
Но то было для дела, чтоб рана его, дурная, темная — не сразу к бабке пошел, все думал, что само затянется, — очистилась да прижглася. К слову, Вирчову-то оно помогло. Но он с той поры горячего страсть боится… а Еське-то не для лечения…
— Матушка не дозволила. И гнать не стала. Я очень боялся, что из-за спины этой она меня погонит… у других изъянов нет… всех проверяли… нас сперва дюжина была… а теперь вот шестеро остались… пятеро… никто-то не поверит, чтоб царевича да кнутом секли.
Он отламывал от пряника крошечки да в кружку кидал.
Размешал пальцем.
— Она меня на воровской слободе подобрала… туточки, в столице… местный я. И большой уже был, шесть годков… в шесть годков слободские детишки многое ведают, а еще больше — умеют… моя мамка из веселого дома. Продали ее хозяева… сперва-то в хороший, там, она сказывала, девок берегли, портить не давали. Кормили. Поили. Учили… а как постарела, то и перепродали… и снова перепродали, пока в слободке не оказалась. Отец…
Еська вдруг взгляд отвел.
— Кто-то из клиентов, надо полагать… кто ж еще? Главное, что я слободку помню… хозяйка в веселом доме злой была. Никого задарма не кормила. Хочешь хлеба — иди работай. А нет, то и сиди голодным. Сперва я по мелочи был… там полы помыть, аль по хозяйству. Но потом продала меня одному… специалисту… в ученики…
Он рукой перед носом помахал, а после протянул мой же перстенечек, который вот только что на пальце был…
— Учили меня крепко. Ставят болвана, в купеческие одежды ряженого, а в той одежде и бубенцы зашиты, и иголки торчат, и крюки рыболовные. Надобно исхитриться кошель с пояса его отцепить, потому как в кошеле хлеб… не выйдет — сиди голодным. А то еще и побьют, когда думают, что стараешься плохо… или просто день такой… потом и бабу учили раздевать… это такое выражение.
Колечко он вернул.
И серьги мои.
Ох же, лихая душа! Я слышала про то, что на ярмарках ворья множество и что беречься надобно… умные-то люди кошели зачаровывают, иль просто привязывают на ремешок из шкуры угря, в соке темнокудля томленое, этакую не разрезать ни ножичком, ни монеткою точеной.
— К шести годам я на дело ходил наравне со взрослыми. До серег, конечно, не дотянулся бы, а вот колечко с пальчика на лету снять, да так, чтоб девка не почуяла, это запросто.
И верила я охотно.
На ярмарках воров ежель ловили, то били, пока живые, а после и к столбу ставили, и кажный честный человек мог в такого кинуть что гнильем, что палкою… так оне и стояли.
Говорили, что иных, когда ловили не по одному разу, палками правили.
Руки секли.
У Еськи обе да целые. Его счастие. Небось, спина, шрамами разукрашенная, это одно. А вот руки… без рук человеку тяжко.
— Меня сам Микош Легкорукий учил, известный в своих кругах человек. И я гордился этакою честью. А что, Микош хорошо жил, мало хуже боярина… Все-то его боялись, все-то ему кланялись. Ел от пуза. Пил вина, сколько хочет… золотыми рублями направо и налево сыпал, и никто-то ему не указ. Стражники-то царевы боялись на воровскую слободу нос совать. Вот и думал я, что подрасту и сменю Микоша… а что, там-то быстро, ножа в бок — и гуляй, новый хозяин…
Я только головою покачала на этакое непотребство.
И ведь ничегошеньки не спрашваю, сам сказывает… надобны мне энтие чужие тайны, и без Еськиных столько набралося, что впору заместо огурцов в бочках солить.
Только от огурцов всяко пользы больше.
— Попался я по собственной дури. Захотелось учинить чего-нибудь этакого, чтоб прославиться, чтоб заговорили обо мне… вот и рискнул кошеля стянуть у боярина одного. Боярин-то больно гордый был, пузо — что бочка, шуба до пят. Шапка бобровая с перевязью… идет, плеткою помахивает. Нищим сыпанул серебра не глядючи… ну я и шмыгнул. Думал, скоренько кошель срежу. А только тронул, как меня и скрутило. Зачарованный был и…
Еська руку на стол положил да в ладонь свою пальцем ткнул, тогда-то и заприметила я не то звезду, не то кляксу под кожею.
— Если б не мой дар, то и вовсе рука отсохла б, а тогда мне почудилось, что в кипяток ее сунул. Пока очухался. Пока назад, а меня уже за шкирку и держат… боярин тот гневается, слюною брыжжет… а ему все кланяются до самой земли. Он-то и велел меня пороть, чтоб иным неповадно было. На земле-то и растянули… я терпел, сколько сил было, потом выл… да разве ж вырвешься… после и вовсе… думал, все, конец пришел… а туточки она ехала… и услышала, стало быть… и велела меня отпустить. Боярин тот не хотел, кричал, что воров развелося царскою милостью… правда, как сказал это, так и осекся разом.
Оно и правильно, этакое слово не то что до порки, до плахи доведет.
— После еще кланялся в ножки, прощения просил. Только… — Еська облизал сухие губы. — Глаза у него все одно волчьи… такие, как у Микоша… я-то Микоша хорошо знал. Он веселый-веселый, а чуть что не по нраву, то и махнет рученькой. А в рученьке той монетка с краем наточенным, горло получше ножа вскрывает.
Страх какой… но сижу.
Слухаю.
Пряника грызу.
Еська же чаек прихлебывает и сказывает дальше:
— Тогда-то я смолчал… только и думал, хватит ли мне силенок в нору уползти. А она велела своим… при ней много народу было, всегда много, так уж положено… велела меня в возок отнесть. Представляешь?
Я только головою покачала, потому как представить диво этакое было неможно, чтобы сама царица… ладно, что пожалела она дитя, которое до смерти били, но чтоб в свой возок…
— И старику велела сесть… а тот старик… он царице и говорит, что, мол, совпадение просто. Она ему — что не бывает таких совпадений. Божинина то воля…
Еська вдруг смолк.
— Лечить меня велела, потом выспрашивала все про мамку мою… как ее звали, откудова она родом… а то я знаю, откудова… я только и думал, что оклемаюся маленько и сбегу… потом уж… тебе Кирей про старшого нашего сказывал… Егоза его звали… он за мною ходил, да все рассказывал… не про то, что свезло мне, как одному из тысячи везет, я и сам знал, только силком благодарным не будешь. Я и не хотел… злился на всех. И рука еще не слушалась, она и теперь-то грубая, не поработаешь, тогда и вовсе еле пальцами шевелил. А Егоза меня грамоте учить взялся.
Еська выловил пальцами размокшую пряничную крошку и в рот закинул.
— Сказал, что грамотному человеку живется легче. Писать, читать… приносил книги всякие, про магиков… и поначалу сам, вслух читал. А потом уже и я сподобился. Нестор, тот зол был… все выговаривал, что волчонок, сколько ни корми, цепным кобелем не станет. Только матушка, ежели чего решила, не свернет… Егоза меня и драться учил, не так, как на слободе, тут я сам его уже научить мог, но с мечом, как бояре. И сказал, что отныне я тоже боярином быть могу. Если, конечно, останусь. Знал, что я уже и сухарей собрал, и иного… я ж не верил им. Не бывает, чтобы доброта и задаром.
Пальцы Еська облизывал.
Вздыхал.
И вновь в чашку сунул. По этикету-то оно неверно, зато и глядеть на этакое вкусно было.
— Не сбег я. Думал-думал, а ничего не надумал… куда мне возвращаться? В слободу воровскую? Так, небось, никто меня там не ждет. И чем я промышлять буду, когда рука еще слабая? Для дел иных я маловат и слабосилен. Да и то, одно дело кошели тягать и другое — душегубствовать… может, ежели б край настал, то я и подушегубствовал бы вволю, так ведь не настал. Жил я в тепле и сытости. А и то сказать, что кормили нас ажно по четыре раза на дню! И мясом, и рыбой… я такого в жизни не едал… постеля своя, мягонькая с периною всамделишной. Одеяло пуховое. Одежа боярская… а что учеба, так мне даже интересно было. Я ж… Егоза говорил, что у меня ум жадный и быстрый. Бестолковый только. То там схвачу, то сям… по куску от всего, вот и давлюсь. Но ничего… главное, мне этакая жизнь по нраву была. Разве что скучно, а потом уж матушка объяснила, что да как… и я за то ей очень благодарный. И еще, что пожалела меня тогда… я ведь не особо и нужен был ей. Хватало… а тут такой позор…
Еська замолчал и пряника обскубанного подвинул к себе.
Позор?
Не ведаю. Бабка сказывала, что и лебедь курицею станет, коль в курятнике его растить. А Еська-то рос среди лихого люду… и конечно, натворил он немало, да только как судить?
Мне ли?
Встретится с Божиней на Калиновом мосту, тогда она и скажет, на который из берегов душеньке его идти суждено. Я же… я же промолчу.
— А потом… наши умирать стали… сначала Еленька… он тихим был, спокойным. Малевать любил — страсть. И наставники говорили, что талант в нем немалый. После Ефран… с ним мы не особо ладили, он из боярских детей, а потому на всех нас глядел этак сверху, навроде как мы ему не ровня… били его не раз и не два. И он, случалось… а потом взял и помер. Тогда-то и переехали… а не уберегли. Егоза… уж лучше бы я, чем он… нас мало осталось, Зослава. А теперь еще и я… подвел…
Он пряник несчастный в кулаке сдавил, только крошки и посыпалися наземь.
— Ничего. — Еська руку кое-как отер. — Мы еще посмотрим, кто кого… а за Кирея ты замуж все одно не иди… дурной он. Одно слово — азарин.
ГЛАВА 45, где Зослава возвертается в родные Барсуки, хотя и ненадолго
Наутре встала я спозаранку. Зимнею-то порой и солнышко не спешит из перин выбираться, людей радовать. Бывало, что и покажет свой сонный лик, плеснет жиденьким светом, да и внове в облаках скроется. Это уже после Перехлестья день прибавит, весну подгоняя. А ныне — самое оно сонное времечко. Такими днями не то что вставать, носу из-под одеяла казать неохота… да только подумалось мне, что ехать-то скоро, а ну как чего позабыла?
Нет, сумки-то свои я загодя собрала, те, которые с гостинцами, а все одно проверить надобно, хорошо ль лежит, ладно ли увязаны. А ну как попустит в дороге какой хитроватый узелок? Тогда и рассыплется все на смех людям…
Нетушки.
А еще в город я выглянуть хотела, на ель зимнюю, царевым повелением на лобном месте ставленную, полюбоваться, заодно уж прикупить всяких малостев. Орехов там медовых, пряников да сахарных петушков, детворе нашее на радость.
Потому некогда мне залеживаться.
Только-только умыться успела, волосы расчесала да косу наскоро заплела, как в дверь постучалися.
Арей?
От и славно. Его повидать я тоже хотела, пусть оно и не принято подарки дарить до Святочное ночи, да только в тую ночь меня туточки не будет. А подарок останется.
— Доброго утречка, — сказала я, гостя впуская.
Оный гость и званый, и желанный. Да только заходит ноне редко, небось, дядьки своего сторожится, аль еще какого глупства понадумал.
— И тебе, Зослава, доброго… рад, что застал тебя до отъезда.
Неужто думал, что уеду, с ним не попрощавшися.
— И я рада.
— Вот. — Он протянул шкатулочку махонькую да предивную. Никогда таких не видала. Сама-то, будто раковина речная, округла и вытянута. Крышечка расписана то ли белым по синему, то ли синим по белому. Главное, что роспись тонюсенькая, тут тебе и незабудки крохотные, с зерно маковое, веночками свиваются, и пташки с крылами дивными на ветках сидят…
Чудо.
А внутрях и того чудней, блестит она, будто жемчугами выстлана, только не жемчуга в ней — иголки, да такие, каковых у меня никогда не было. Тонюсенькие, с волос, но видно, что крепкие. Тут и на бисер отыщутся, и на шелк, и на гобеленовую плотную ткань.
Вот уж дар…
— Я слышал, что по вашему обычаю дарить иглы — дурная примета, но…
— В дурные приметы я не верю.
Шкатулочку я закрыла.
— Так угодил ли? — И глядит этак с хитрецою.
— Угодил, — отвечаю. — И никогда-то я такой красоты прежде не видывала… где ты…
И не спросила, потому как негоже это, про дар выспрашивать. Только Арей шире улыбнулся.
— Сделал я…
— Сам?!
Вот уж и вправду дорогой дар.
— Сам… это не так и сложно. Руки и капля магии… без магии, правда, было бы сложнее. Но если выйдет все, как надо… я очень надеюсь, что вышло все, как надо, то иглы не будут тупиться. А еще теряться не должны. То есть если вдруг какая потеряется, то поставь шкатулку открытой, она и вернется… на дальность десять шагов всего, но…
Он смутился.
И мне как-то вот… не так стало, вроде и подарок по нутру весьма, а в глаза Арею глянуть силов нет. И чую, что румянцем зашлась, что булка в печи…
— Спасибо… а то иголки, они вечно… и потом ищи их, ищи…
Ох, не то говорю.
Не так.
А как — сама того не ведаю. Потому и замолкаю, а замолчавши — сверток свой даю… и как-то от… плела я ленту от чистого сердца, и узором тайным шила, который на удачу, и еще от глаза дурного защитит, от лихоманки болотное, от злого умысла, от беды тайное…
— Вот, — говорю, — и тебе…
И руки у самой мало что не трясутся. А румянец мой, чую, так и пышет…
Арей же молча сверток принял. Поклонился.
— Спасибо…
— Только не открывай до Святочное ночи, чтоб уж по обычаю…
— Хорошо… тебя проводить? Правда, я только до ворот и могу… но ныне извозчиков будет вдосталь. Знают, что многие разъезжаются.
Верно.
Еще и сумки…
— А ты…
— Здесь останусь, — пожал плечами Арей. И усмехнулся: — От жалеть меня точно не нужно. Здесь не так и плохо… да и… нет у меня такой семьи, с которой можно было бы праздник провести.
Вышли вместе.
Арей сумки нес.
И больше не говорили, не о чем, стало быть… или было, много о чем было, да только робела я, хотя ж прежде за собою особое робости не замечала.
Но далече уйти не вышло, Еська нас на дорожке ждал. Со вчерашнее ночи он вновь переменился, возвернулся прежний, развеселый да удалой. В кафтане зеленом, алым поясом перехваченном, в портах широченных, шелковых. Сапожки сафьяновые белые с носами гнутыми.
Красавец, глядеть больно.
— А вот и невеста наша! — воскликнул он и шапку с головы сдернул, кинул под ноги… — С сопровождением!
Арей нахмурился. А Еська подскочил, под локоток меня взял, пальчиком перед носом самым погрозился:
— Что ж вы, боярыня Зослава, медлите? Карета подана… ждет-с…
И рученькою этак машет.
— Еська, — говорю, — хватит уже… шуток твоих.
— Да какие шутки? Ты ж у нас теперь не просто так, девка барсуковская, а самого наследного царевича невеста… пущай и азарского.
Вот язык, что помело… небось, когда б им дороженьки подметали, то не было б во всем свете белом дорожек чище.
— Еська… я ж не погляжу, что ты из царевых людей. — Арей мои сумки поставил, аккуратненько так, на чистое. И куртку расстегивать принялся.
Драться полезет? От мне только этакого счастия не хватало!
— Погодь, друже. — Еська меня выпустил и к Арею подскочил, приобнял за плечи. — Не спеши паром пыхать, а то весь изойдешь, ничего не останется… а разве оно так можно? От и я мыслю, что никак нельзя… в морду дать ты мне всегда успеешь… если сумеешь, конечно.
— Сомневаешься?
Странно, но со слов тех Арей приспокоился будто.
— Поглядим, — ответил Еська. — Я ж не о том… я о Зославе… до Барсуков путь далекий, а невеста нашего Кирейки многим поперек горла стала, что ихним, что нашим… может, конечно, и ничегошеньки не случится, съездит она домой, возвернется… а может, и произойдет по дороге несчастие какое. Лихих-то людей хватает… а ну как встретят карету почтовую? Аль скушает она в трактире пирожка с грибами отравленными… аль змею подушкою придавит, та и цапнет. Со змеи-то после какой спрос?
Арей нахмурился.
— Думаешь?
— Я думаю? Да ты что, Ареюшка! Где я и где думать?! — Еська по лбу кулаком постучал, и звук вышел звонкий, чистый, таким не каждый глиняный збан отзовется. — Нашлися люди премудрые, которые постановили, что раз уж обзавелся наш наследничек, чтоб ему до конца жизни орехи пустые попадалися, невестою, то надобно сию невесту уважить… а то ж где это видано!
— Еська! — рявкнул Арей так, что воробьи с куста порскнули. — Кто поедет?
— Ты и поедешь.
— Я?!
А меня туточки будто и нету.
Стою. На воробьев пялюся, да и думу думаю, только, чую, не удумаю толкового, хоть бы всю голову на мысли премудрые изведу. Да и откудова у девки премудрости набраться?
— Во-первых, ты нашему азарину не хвост собачий, а близкий сродственник… любимый, можно сказать…
— Кому сказать? — усмехнулся Арей, стало быть, и ему уже весело.
— А кому ни скажи, все одно не поверят. — Еська рученькою махнул, не то на воробьев, не то на меня, не то просто для пущее красоты. — Главное, что правда оно… во-вторых, принесла мне сорока на хвосте, что от одной своей беды ты избавился…
— Хвост бы той сороке открутить…
— Это ты брось! Куда сороке да без хвоста? — притворно возмутился Еська. — Нет, так с птицею неможно… а вот тебе и от второй беды лекарствие…
И бросил чегой-то, чего Арей поймал на лету.
Глянул.
Хмыкнул. И в рукав убрал.
— В-третьих… на от… ныне ты у нас не просто студиозус, а полномочный представитель азарское делегации, облаченный властию и, что важнее, дипломатическою неприкосновенностью.
Эк завернул.
И цепку золотую, толстенную, с пластиной о трехглавом орле самолично на Арееву шею повесил.
— В-четвертых… другая сорока… да что ты на меня глядишь-то так! Я, может, птиц люблю, и они ко мне со всем уважением… так вот, эта сорока сказала, что уровень у тебя совсем даже не тот, который официально в бумагах значится. И знаешь ты многое, и чутье у тебя хорошее. А потому лучшего сторожа не сыскать…
Ничего-то Арей не ответил.
Молчал долго.
Я уж и притомилася ждать… оно, конечно, выходит, что на карету почтовую спешить мне нужды нет, но вот… не люблю, когда судьбу мою заместо меня решать берутся!
И нахмурилась.
— Погоди, Зослава. — Арей меня попридержал, хотя ж я только шажочек по дорожке сделала. — Кое в чем он прав. Одной тебе отправляться небезопасно.
— Мостик под каретою проломится?
— Это малое, что может произойти… убийство — это крайняя мера. А вот… очаровать. Приворожить. Разум затуманить, а то и вовсе подчинить. Ты, конечно, не человеческой крови, но при желании… при умении… а при нынешних ставках умельцев, думаю, отыщут.
— Верно мыслишь, азарин. — Еська носочком сапога снег сковырнул.
— Разумно было бы вообще тебя никуда не выпускать… да, полагаю… есть свои планы, верно?
Еська плечами пожал: мол, думай, как оно тебе хочется.
— И если я не поеду, то кто…
— Ну… Лойко вон спит да видит, как бы с родичами многоуважаемое Зославы знакомство свести. Ильюшка с ним… братец твой тоже просился. Захотелось ему, видишь ли, поглядеть, как люди обыкновенные изволят жить да поживать…
Чтой-то Арею услышанное крепко не по нраву пришлось.
А я что?
Мне с Лойко ехать никакой радости немашечки, пущай он и перестал передо мною носа драть, да только все одно, чужой он человек.
Неудобный.
С Ильей и того хуже. Не могу я позабыть, что он царев сродственник… с царевичами и то как-то от проще, этот же, пущай и вежливый, обходительный, да я рядом с ним себя девкою преглупою ощущаю…
Хоть ты и вправду никуда не едь.
Мысль была трусливою. И мнится мне, что не дозволят не поехать, раз уж свиту такую выделили… ох, не желала я лезти в игрища боярские, да супротив воли потянули.
…в возок меня Еська едва ль не на руках нес. Крутился ужом, то справа зайдеть, то слева, то под ручку возьмет, то к пальчикам наклонится, будто целуючи. Только я опосля этих поцелуев всякий раз перстенечки пересчитывала. Не то чтоб боялась, что нарочно сымет, но про таких, помнится, говорят, что только могила и исправить. Ноне могила от Еськи, слава Божине, далече была.
А возок-то, возок… я как узрела, то и обомлела.
Небось, только царицу на этакой красоте возить и можно! Сам кругленький, аккуратненький, что шкатулочка бабская. На крыше будто бы яйцо креплено, а из того яйца деревянные перья торчать. Колесы задния огроменные, едва ль не с меня росточком, передние-то обычные, с тележное, да только червленые, а по червенью тому золотом цветы намалеваны. И мне ажно жалко стало золота того. Не для наших дорог этакая красота… хотя, конечно, взимку-то оно подмерзло, так что покотится возок с ямины на ямину…
На козлах сидит мужичок в алом тулупчике, поясом перехваченном.
Трясут гривами кони, цельный шестерик.
И звенят на все голоса серебристые колокольчики, в гривы те вплетенные… ох, чуется, полетят кони по одному слову возничего, только успевай дорогу под копыты метать… до Тольмова точно домчат, а опосля Тольмова дорога уже не та.
Еська мои сумки самолично в возок отнес. Лавки там стояли хитрые, седушку подымешь, а под нею будто бы короб, в который все влезло, даже местечко осталось на пряники с леденцами.
Эх, даже неудобственно просить, чтоб на рынок свезли.
Простые люди, небось, на каретах до рынку не ездят.
А Еська меня пальчиком манит.
— Гляди, Зося, вот тут корзина. Еда проверена, питье тоже. На денек-другой хватит… — Под другою лавкой тоже короб оказался, правда, деленный на части. — Здесь стазис-ларь. В нем тоже еда… оно, конечно, вкус будет специфический весьма, но с другой стороны, хотя бы точно без отравы. С водой, полагаю, проблем у вас не будет… тут одеяла… в трактирах вам ночевать очень не рекомендую. Зослава, не смотри на меня так. Тебе только домой доехать и обратно, а я таким макаром уже пятнадцать лет живу. Ничего. Попривыкнешь.
Вот же ж… болезный.
Пятнадцать лет жить да всего стеречься… этак вскорости от собственное тени бегать начнешь.
— Охрана будет. У них свои инструкции, но, Зослава, на охрану полагаться не стоит. Она нужна лишь для того, чтобы особо горячие головы остудить. От разбойников, опять же…
— Еська…
— Чего, Зослава? Я, если хочешь знать, был за то, чтоб тебя исключили…
— Что?! — Этакого подвоху я от Еськи не ожидала. Исключили?
Выгнали, то бишь?
— Зослава. — Он вздохнул и крышку закрыл. — Тебе, конечно, обидно, но лучше быть обиженной да живой, чем…
— Я помирать не собираюсь.
— Так а кто собирается-то? Но успокойся… поздно уже… и Кирею этот твой, надеюсь, еще рога обломает.
Было бы за что…
— В общем, бывай, Зослава. — Еська меня обнял. — И возвращайся… без тебя как-то жить скучно…
От уж сказал так сказал.
В возок я села… поерзала, лавки-то, хоть и резные, с мяконькими седушками, а одно узковаты. Да и места внутрях — как повернуться. Лавки стоят тесно, меж ними еще и жаровня вперта.
Ох ты ж, красота красотою, но на телеге оно как-то сподручней было б.
С другое стороны, на почтовой карете тож места немного, а потому грех жаловаться.
Меж тем Еська в оконце заглянул.
Подмигнул левым глазом.
И перстенек протянул, тот самый, царицею даренный. И когда только стянуть успел? А главное, как?! Я энтот перстенек крутила-вертела, так он, холера, что приклеенный был. Ни туды, ни сюды… Еська, надо же, стащил.
Я и почуять не успела.
— Не верь артефактам, Зослава, — сказал он, разом посерьезневши. — И этот хорош, и Киреев сделан крепко. Думаю, сейчас мало кто повторить его сможет, но все равно не стоит на них полагаться. Себя слушай… только хорошо слушай, чтоб услышать.
И выбрался из возка.
А я… что я… только и смогла, платочком помахать… и то не Еське — боярыням нашим, которые на мой возок сбежалися поглядеть. Вот пущай и твердят жрецы, что гордыня — сие есть зло, да не гордилася я собою, потому как не имелося в нонешнем представлении моей заслуги, но все одно приятственно было видеть удивление.
И зависть.
И много чего еще… только приятственности этой хватило ровнехонько до того, как на тракт вышли. Тракт-то хороший, мощеный. И кони по нему летят, возок катится, с камушка на камушек, и кажный этот камушек я задом чуяла… ох, не доеду до Барсуков… не доеду…
ГЛАВА 46 О дорогах и попутчиках
Так и ехала, и маялась… весь зад об лавку оббила, да что там зад. Часу не прошло, как заломило спину, ноженьки крутить стало, главное, я то так сяду, то этак, а все одно неудобственно.
И пусто.
Прочие-то верхами идут… уж я, хоть и не приучена к этакой верховой езде, стала думать, что, может, так-то оно сподручней было бы. Села б на кобылку какую бочком, да тихенько, без спешки… а тут трясешься горошиною в туеске пустом.
Опосля-то, конечно, на отдых стали. Так я с первого разочку из возка расписного мало что не вывалилася, благо, подхватили бояре добрые под белы рученьки, потянули к столу, то бишь, к скатерочке, которую на снегу, ироды этакие, разостлали.
Мужики, чего сказать.
Невдомек им, что сперва бы под скатерочку оную попонку какую, похужей, чтоб не жалко пачкать было, кинуть надобно, а то вон, промокнет лен, пойдет пятнами уродливыми, которые не выведешь, хоть ты все пальцы изотри.
И снедь из корзин, как оно есть, выставляют.
— Что, Зославушка, притомилась? — Лойко на краю скатерти сел, ноги подогнул, как оно Архип Полуэктович делает, одно что наставник навряд ли б с сапогами вперся туда, где люди снедать будут.
— Притомилась. — И возникло у меня желание немалое боярину оплеуху отвесить. Пущай подумает, чего творит, ежели, конечно, он к мыслительному процессу способный.
Заодно б и у меня, глядишь, кровушка быстрей по жилам бы побегла.
А Лойко знай хлебушек жует, прям от каравая кусает цельного, и вид при том довольный-предовольный, отчего в душеньке моей подозрения заворочалися.
— Ничего, Зосенька… вот выйдешь за Кирея замуж, тогда-то тебя в паланкине носить будут. — Подцепил из горшочка кусок мяса и в рот кинул. Пальцы облизал. — Представь, ты лежишь, а тебя несут…
— Куда?
— А куда скажешь, хочешь, направо, хочешь, налево…
— Не хочу налево.
Лойко только засмеялся.
— Ноги убери, — буркнул Илья. Он вот присаживаться не спешил, бродил окрест, потягиваясь, что кошак после долгого сна. И я б походила, только в сарафане потягиваться несподручно. Вот же, попривыкла-то я, выходит, к вольному облачению.
Но к бабке в этаком на глаза не покажешься.
— Ты, Зослава, не слушай эту бестолочь. Ешь. И поедем.
— Ага, не слушай. — Лойко не на меня глядел, на Ильюшку, ажно жевать перестал. — До свадьбы той еще дожить надобно, что Кирею, что тебе…
От самые оне разговоры, для аппетиту.
А еще во мне иная надобность, человеческому телу свойственная, назрела. И оная надобность обращала мой взор не на Лойко, который, паскудина этакая, этикету дикая, руку в горшок едва ль не по локоть сунул, но на елочки.
Хорошенькие елочки.
Пышненькие. Юбки растопырили, закрыли краешек поляны… я к этим елочкам боком-боком…
— Зося, ты куда? — поинтересовался Илья, с другого боку поляны остановившися.
— Туда. — Я на елочки указала.
— Зачем?
От и чего ему ответить? Умный же ж человек! Книг прочел болей, чем я слов, а такие глупости спрашивает.
— Надо.
Охрана-то моя разбрелася, делают вид, что вовсе не видят ни меня, ни Ильюшку…
— Тебе нельзя одной.
— Ага, — подхватил Лойко. — Сходи, Ильюшка, с нею… юбки там подержишь, или еще чем подсобишь…
— Не велено одну отпускать.
— И в кусты?
— В кусты тем более.
То бишь мне до самых Барсуков терпеть? Нет, Архип Полуэктович, помнится, сказывал про людей, которые силою воли с организмою своею управлялися и могли не есть, не пить седмицами… не гадили, стало быть, тоже. Нет, про то наставник не сказывал, но я так мыслю, что ежели они не ели и не пили, то и гадить им было нечем. Да и не о них речь, а об нонешней ситуации и об том, что моей силы воли до Барсуков всяко не хватит.
— Пойдем. — Откудова Арей вышел, я и не поняла, просто встал вдруг за плечом да руки коснулся. — Я полог поставлю…
— Ага… поставь. — Лойко хохотнул. — Полог…
Арей ничего не ответил, только, как за карету отошли, палец к губам приложил. А после присел, зачерпнул горсточку снега, сказал над нею слово да дунул.
— Что…
— Ничего, Зослава… сильно ему не повредит. Зато, может, вспомнит, что руки перед едой мыть надобно…
Про руки я не поняла.
Нет, еще бабка меня, малую, гоняла из-за стола, когда случалось за стол оный, рук не помывши, впертися. Поговаривала, дескать, на тех руках заразу всякую принесть можно.
— Иди, Зослава… только не уходи далеко.
А то я не понимаю.
С другое стороны, елочки — они елочки и есть, хоть слева, хоть справа… главное, что поляны не видно, и меня с поляны тоже. А вот что слух у меня получше человеческого, про то Лойко позабыл. Да и не он один.
— Прекрати вести себя как придурок. — Это Ильюшка, и чую, злой, только на кого?
— Да…
— Не у тебя одного планы были.
Это ж какие? А и то, какие бы ни были, но навряд ли он по собственному почину до Барсуков проехаться возжелал. Стало быть, царица-матушка иль иной кто, властию облеченный, повелел Лойко в провожатые пойти. Вот и злится он. Я б тоже злилася, когда б меня заместо Барсуков, к примеру, заставили б к боярину в гости отправиться.
— Да что ты знаешь…
— Ничего. Кроме того, что нам вместе три седмицы быть… и лучше бы провести их с пользой.
Лойко вздохнул. А после запел, громко так, с выражением:
— Во поле береза стояла… во поле кудрявая стояла…
Тихо выругался Илья.
Арей, тот ничего не сказал, стоял спиною, руки на груди сцепил, голову задрал, будто бы мерзлые ветки разглядывать, аль небо, которое гляделось бедным, суконным. И ранние звезды его вовсе не красили.
— Перекуси, Зослава. Дальше и вправду пойдем быстро. До темноты надо Белячь перейти…
Помнила я эту реку, ох и широка, полноводна… такая, небось, и в зимку до последнего стоит, не позволяет сковать себя льдам. Зато после уж, как закостенеет, то и становится вольною дороженькой. По ней ехать — одное удовольствие… ежели, конечно, лед держит. Ближе-то к весне удовольствия того меньшеет, потому как бывает, что полетит кто, дюже смелый, лихой, да и просядет вместе с санями… и добре, коль из саней оных выбраться успеет.
Многое я про Белячью хитроватую натуру слыхала.
А мы, значит, мостом пойдем да по дороге.
Может, так оно и верней, хотя нынешнею порой дороги позаметало…
Присела я на снег, стараясь на Лойко не глядеть. Арей, тот рядом стал. Сам не ест, сторожит… и чую, что не по нраву ему компания, что не мил Лойко, да и Ильюшка тоже не по сердцу.
— А ты, гляжу, совсем страх потерял. — Лойко поднялся медленно, вальяжно… хлеб погрызенный на скатерочку бросил. Руки отряхнул. — Тут честные люди сидят…
Отчего-то думалось мне, что промолчит Арей. Он же ответил тихо так, да все услышали:
— Честные ли? Виделось мне пару деньков тому, как ты, боярин, кости в рукаве прятал… а после того случилось с тобой везение…
Лойко взревел раненым туром да на Арея бросился, по-бычьи, прямо, небось, думая повалить да затоптать. Едва меня не снес… еле-еле увернуться успела.
Арей и вовсе в стороночку отступил и пинка боярину отвесил.
— А еще слышал я, будто некий… наверное, очень уж честный человек, в город носу не кажет, потому как ищут его Вердыш-Кузельские всем семействием… говорят, дочь их снасильничал…
Лойко вывернулся.
И красным сделался. После же побелел, что снег… глаза шалеными стали, безумными.
— Убью, — сказал так тихо-тихо… и поняла, что вправду убьет.
Вон, ножичек из рукава выскочил.
Хотела я вмешаться, потому как не дело это, когда по-за слов, хоть бы и злых, человека жизни лишать. Да только Илья не позволил. Стиснул локоть мой, и так, что захочешь — не вывернешься, да сказал:
— Не мешай, Зослава. Лойко нужен урок. К сожалению, он только такие уроки и способен понять. А ты сядь… поешь…
— Он же ж…
С ножом.
С кнутом, которого с поясу содрал. И силен, свиреп, что шатун-людожор. Да только Арей не боится. От хлыста ладонью отмахнулся… а после, как внове Лойко кинулся, то и под руку поднырнул.
И вынырнул.
Уже с ножичком.
Лойко же по снегу катился, шипя не то от злости, не то от боли.
— Что же, боярин? Весь запал вышел?
Поднялся Лойко.
Да как-то… руку правую прижимает, повисла она плетью. Глаза кровью налитые. И она ж из носу течет, а он знай слизывает.
— Может, — спросил Арей, ножик подкидывая, — подумаешь все же? Или тебе голова для еды дана?
Лойко головою упомянутою мотнул, аккурат что бык старостин, и вновь кинулся.
Полетел.
Хорошо так животом снег пропахал, у самого колеса остановившися, мало что не врезался. Но встал… и шагнул… упал…
— Хватит уже, — Илья попросил тихо. — Лойко, не дури…
Тот лишь головою помотал.
Стоит на карачках. Из носу юшка течет… а все одно, упрямый человек.
Арей же рядышком присел. И ножа протянул.
— Послушай, что я скажу, боярин. Ты, конечно, роду хорошего. Славного роду. И учили тебя крепко. Только учили воевать, а не выживать… и потому думаешь ты, что оно всегда по-честному будет.
Лойко ножа не взял.
И Арея боднуть попытался, да щелбана получил.
— Успокойся… смотри, мне всего-то пару слов понадобилось, чтоб ты мигом позабыл, чему тебя учили… попер, что медведь на рогатину. Извини, Зослава.
А я чего?
Я, может, и берендеева роду, да и то ведаю, что медведи всякие бывают. Иных и на рогатину поднять не грех.
— И случись это в каком-нибудь трактире, то так бы и вышло. Один удар… тот, который я наметил только, даже не ножом, пальцем можно, главное, чтоб посильней, и к утру, боярин, тебя не стало бы… а если ножом, то и раньше.
Лойко вывернулся, встать попытался, да без Ареевой помощи не вышло.
— Ублюдок.
— Твоя правда, как есть…
— Раб!
— Был. — Арей глядел прямо и кротко, аки агнец, милостью Божининой овеянный.
— Ты…
— И оскорблять противника надо умеючи. Ты, боярин, силен. Но умом, извини, не вышел. Я ж наугад ткнул… и видишь, что получилось? А враг ваш про вас, будь уверен, все вызнает. И уж он-то сумеет слабость твою против тебя обратить.
Лойко на руку оперся-таки.
— Крепко ты меня…
— Не подставляйся.
— Значит, учил…
Арей плечами пожал.
— Хорошо учил. — Лойко нос разбитый рукавом отер. — А чему другому научишь?
— Это смотря чему…
— А если я твою мамку гулящею обзову?
— Сломаю нос… позже…
— Почему позже? — Свой нос Лойко пощупал, и только теперь Илья меня выпустил. Я и подошла, буркнула:
— Присядь, погляжу. А то будешь потом кривоносым ходить…
— Что, — прогундосил Лойко, — кривоносый я тебе не по нраву?
Отвечать не стала, ну его, пустобреха боярского… он же ж к Арею прицепился, репей репеем.
— Так почему позже?
— Потому что мстить, боярин, надо на холодную голову. Тогда месть и сладка… и безопасна. Относительно, конечно.
— От же… Зослава, хоть ты меня пожалей! Видишь, что этот гад утворил?! Побил ни за что ни про что… покажешь после, как ты с ног сбил? И тот удар еще… ну, который пальцем… он же ж едва печенку насквозь не проткнул! Вот кому я нужный с ломаным носом и дырявою печенкой… ой, как на коня ныне сяду…
Сесть-то сел, да вскоре слез за ближайшим кусточком.
И еще за одним.
И за третьим.
Илья только хмурился, Арей же, плечами пожавши, сказал:
— Надо было мыть руки перед едой…
От же ж…
ГЛАВА 47, в которой длится дорога
С того-то разу и повелося, что не давал нам Арей ни минуточки свободной… коль в седле трясся, то Ильюшке чегой-то говорил, а тот слушал, кивал. Порою и руками размахивать пытался, знаки хитромудрые крутить, да одного разу так увлекся, что головою в сугроб ушел.
С Лойко-то иначе… не то чтоб позабыл боярин про давешнюю науку, по глазам видела — не позабыл, не простил, да попритих. Он-то с магией не больно ладил, пытался, тужился, да выходило, как и у меня, — плоховато. Зато от с ножом скакать по полянам, белок пужая, — самое оно занятие.
А главное, что рожа при том довольная-предовольная, будто нет для него ничегошеньки слаще…
Непонятно.
И меня учить Арей повадился, главное, ладно бы этикетам, с оною наукою я и пообвыклася, так нет же ж, вопрется в возок, нанесет снегу, который опосля тает да ковры пачкает, ноги вытянет свое длиннющие и начинает говорить.
Про щиты, которых ажно дюжина есть и супротив всякое волшбы — свой. Про волшбу ту, как распознать ее да поспеть оный щит выставить.
Как чужой разглядеть.
И поломать.
Я-то слушаю, небось, говорить наш Арей ученый, живо у него выходит, с душой, будто сказку какую сказывает… правда, доскажет и, глянув этак с хитрецою — отчего делался он похож на Еську, чтоб ему икалося каждый день, — и говорит:
— А теперь, Зослава, переходим от теории к практике…
Ага… перейдешь тут.
Кони копытами груцают. Возок прыгает, то налево клонится, то направо. Скамейка деревянная, задница моя тоже уже деревянная, Арей же только приговаривает:
— Сосредоточься…
Как сосредоточиться, когда ноги затекли так, что прям оно немашечки сил терпеть? А чуть повернешь, то под чулком будто мурашки бегают… очень они меня от благостного дела созидания щитов отвлекают.
И запахи лесные.
Или костровые… и то, что за окошком не то деревенька мелькнет, не то городишко… а мы-то все мимо…
— Зослава, пожалуйста…
Нет, я стараюся, Божиня видит, что так стараюся, ажно пыхаю от старательности, да только не лезет из меня сила.
Вот Архип Полуэктович, тот сразу бы скумекал, что надобно мне для сосредоточения и отвлечения от делов посторонних оплеуху отвесить. Он на руку скорый, а рука та — крепка… Арей же только хмурится и головой качает.
— Давай сначала. Повторяй вербальную формулу…
Это, значится, вспоминать словеса. А словеса те — на языке древнем, который еще первыми людьми пользован был. Мы-то его только-только учить начали, да давался он тяжко. Люциана Береславовна, правда, заверила, что к пятому году он нам ближе родного станет, и поди ж ты ей не поверь. Но то когда еще будет.
Ныне же я выговаривала слова старательно.
Губами разве что не шлепала от этой старательности. И гласные тянула, и согласные катала… Арей только морщился.
— Теперь руки…
А что руки, руки у меня вроде и гнулися, но все одно не так. Уж я мизинчик оттопыривала-оттопыривала, пока не заболел он. Безымянный палец колечком загибала…
И большой пыталась поджать.
У Арея-то на раз выходило.
Главное, что быстро так — моргнуть не успеешь, как стоит пред тобою марево щита евоного. И ладно бы того, которому нас Архип Полуэктович учил, тот-то я худо-бедно одолевала. Нет же ж, тот щит зело простенький да слабенький, в бою таким особо не спасешься.
Вот Ареев — дело иное.
Его ни огнем, ни водою за просто так не проломишь… и вроде, коль послухать, то просто этакий щит ставить, а у меня не выходит.
— Эх, Зослава… — На третий день измучились оба, и ему уже наука не в радость была, а мне так и подавно. — Давай иначе… в конце концов, что вербальная составляющая, что жестикуляция — лишь вспомогательный инструмент.
— Чего?
— Представь картину. Ее можно нарисовать кистью, а можно взять вместо кисти палку. Или вовсе пальцами…
— Пальцами несподручно.
Видела я, как храм наш размалевывали. А что, вся детвора сбегалася поглядеть, уж больно ловко паренек тот управлялся с красками. Там желтою ляпне, там красною, и поначалу-то рябенько только было, жрец ажно хмуриться стал, а после раз — и получилося благолепно.
— Это с непривычки несподручно. А вот если человек привык пальцами рисовать, то ему будет неудобно держать кисть.
— Я вовсе малевать не умею.
— И не надо. Представь… вот ты шьешь, верно? Представь, что щит — это узор, который тебе вышить надо. А сила твоя — это игла…
От затейник!
Но главное, что как подумала, так оно и вышло… вот и вправду ж узор, и не сложный, коль приглядеться. Главное, как в любом узоре, с канвы не соступать. И шить силою легко оказалося, главное, не думать, что по пустоте шьешь… а там — где надобно, там нить ширилась, а где нет — тонюсенькою становилася… и хорошо, ладно…
Только узора какой-то неправильною вышла… кривоватою. Ось я кривизну и выправила. Так-то оно лучшей будет.
Вышло… хорошо вышло.
Ажно сама залюбовалася с этакой красоты.
Стоит щит пузырем прозрачным. Я руку протянула, потрогала. Надо же ж…
А с ниткою дальше чего делать-то? Ежели оно как в шитье, то оборвать надобно и закрепить. А то ж оно как, чуть попустишь, и мигом разлезется вышиванка… было у меня такое. Вот я и лбу наморщила да ниточку под другими протянула.
После еще разок. На всякий случай.
— Молодец, — сказал Арей, на щит глядючи. — Только надо быстрее… ты пока вышьешь, три раза мертвою будешь. Но для первого раза сойдет…
И рукою махнул.
Но щит остался.
Арей хмыкнул и внове рученькою провел, теперь неспешно и слева направо. Первый-то раз справа налево… щит висел.
— Эк оно… а если так? — Арей раскрытою ладонью толкнул щит. Тот и толкнулся, ажно стенка возка захрустела. — Зослава… что ты с ним сделала?
— Ничего.
— Странно… очень странно…
Он рукою над полом провел, а после скрутил фигу и прорычал чегой-то этакого, на древнем языке. Я-то, чую сердцем, этак рычать ни за пять, ни за десять годочков не научуся…
Щит полыхнул красным.
И растопырился. Ниточки его сделалися толстыми, а узор — поярчел.
— Зослава… — Арей подвинулся поближе.
— Чего?
— Ничего… убирай свой щит.
Ага… я б радая была, оно-то понятне, что ниточку ту, которую я спрятала, вытянуть надобно и распустить узору, да только ниточки энтой будто и нету. Я и так глядела, и этак, и боком, и раком, едва ль не носом в щит влезла. Он-то стоял себе… а ниточки нема.
Пробовала иные тронуть — так загудели… и только.
— Не могу, — вынуждена была признаться я.
— Просто перережь основную нить.
— Так я еще уже давно того… ну, перерезала…
— Как давно?
Щит покачивался, стукался об стенки возка, издавая при том звук глухой, костяной.
— Ну… как поставила, так и сразу…
— Зослава!
— Чего?
— Ничего… Кто тебя учил обрывать заклятья? Вот скажи, чем ты думала, а? Любое заклятье нуждается в постоянной подпитке. Без подпитки оно саморазрушается…
Так это ж хорошо! Значится, щит мой тоже саморазрушится.
Когда-нибудь.
Надеюся, до нонешнего вечера еще, потому как спать в возку еще и со щитом вовсе неудобно будет.
— И без удерживающего контура… разве что… ты нить просто обрезала?
— Неа. Я ее… узелочком завязала.
— Узелочком…
— И под другими пропустила. Я всегда так делаю, когда вышиваю.
Лицо Арея сделалось задумчивым-презадумчивым. Вперился в щит. Глядит, а меня и не замечает, будто вовсе тут нету.
— Будем считать, что ты стабилизировала контур… — Он хмыкнул. — Если предположить, что щит изначально заклятие низкой энергоемкости…
Ну пошел по словесям гулять.
Нехай себе.
Ему, может, со словесями привычней, как от мне с иглой… а славно подумал… Интересно, что щит у меня из красных нитей вышел, огневой будто бы… да только есть в нем места, узором не затянутые… туда так и просятся завитки, только не красные…
Зелень?
Нет, зелень не пойдет… и синий — не то, а вот белый, крыштальный… чтоб с искрою.
И я добавила пару нитей. Узор вышел красивым.
— …и вместе с тем внешнюю энергию он не только гасит, но и поглощает… Зослава, вот что ты сейчас сделала, а? — А голос ласковый-ласковый, как у бабки моей, когда она вопрошала, где это я загулялася до позднего вечера. И вопрошать вопрошает, а крапиву за спиною прячет, подбирается, чтоб по ногам хлестануть.
— Ничего. — Я смутилася.
И от Арея отползла к самое стеночке возка. Щит колыхнулся и встал полукругом. Крепко так.
Арей же глядел с укоризною.
— Ну… так оно красивше. А то ж сам видишь, что ось тут дырки были. — Я пальцем ткнула. Узор вышел чудесный, дивный, хоть и непонятный. Не кветки с птахами, как оно привычно мне было, а линии, одни пряменькие, другие — волнами. Кругами.
Завитушками.
Этакие, помнится, Люциана Береславовна на бумаге рисовала.
И я, только на бумаге оно не так красиво выходило, одни тоньше, другие толще… тут оно как-то от… правильно, что ли? И белые нити с красными переплелись.
— Зославушка. — Арей заговорил еще ласковей, я б и из возка вылезла от такое ласки, да тот ехал споро, катил с камушка на камушек. Не выскочишь. — А тебе никто не говорил, что сочетать различные виды магии — занятие опасное… здесь правил много. Ограничений. И если ошибешься…
Щит стоял.
Ни пыхать огнем, ни рассыпаться не собирался.
— …от нас и пепла не останется… Никогда так больше не делай, ладно?
Я кивнула.
Так не буду. Буду иначей, потому как понравилося мне это дело, без пальцев растопыренных и древнего языку, на котором я собственный, Божинею даденный, язык едва ль не вывернула, но с нитями.
Шитьем.
А что, шитье — оно самое что ни на есть женское дело. Нитки ж правильно подбирать меня с детских годочков учили…
— И сделай с ним что-нибудь… хотя погоди… потренируемся, если не развалится до вечера.
Не развалился.
Из возка вот его с трудом превеликим выковыряли. И тянули, и пихали, матерясь душевно… особенно Лойко старался, можно подумать, что и не боярин, такие выверты давал… нашим мужикам, чай, понравилося б…
После поставили посеред поляны и начали изгаляться.
То огнем пулялися, то ветром били, что бревном… щит гудел, да стоял, где велено было… после уж Ильюшка с ним присел, запустил руки по самыя локти… поначалу-то его шибануло маленько, ажно волосы заскрипели, а после ничего, приноровился.
Я тоже села.
Любопытственно мне было, чего он там делает…
— Самовосстанавливающийся контур. — Илья пальцами шевелил, ниточки трогал, бережно так, ласково. — Я о таком только читал. Теоретически его резерв невелик, но в сочетании с функцией поглощения энергии…
Я из сказанного разумела слово через два.
Да Илье разумение мое без надобности.
Увлекся, стало быть. На коленке тетрадку примостил, перышко… и рисовать взялся. Только как-то оно… неправильно.
— Дай я, — не выдержала я, когда он заместо широкое линии узенькую намалевал.
— А не жалко? — Илья от щита аж повернулся.
— Чего?
— Разработки. На ней курсовую можно построить…
Тю, это он про рисунок? Не жалко… есть мастерицы, которые свое узоры втайне ото всех хранят, да только я не из таких.
— От и построишь. А я… все одно случайно вышло.
— И вправду, стало быть, над вами Божиня стоит… — покачал головой Илья, но тетрадочку дал. — Чтобы такое и случайно… ты его сама, главное, запомни. Чую, пригодится.
В Барсуки мы въезжали ближе к полудню. От как свернули с тракту, так у меня всякую мыслю об учебе из головы-то и повынесло. Поелику мыслей тех было и немного, то Арей рукою махнул… мол, делай, чего хочешь.
И из возка выбрался.
Верхами пошел… а я… я ерзала, подпрыгивала прям-таки, ажно хотелося к кучеру пересести да и пустить шестерик бегом, чтоб летели кони белые, несли возок мой предивный по барсуковским буеракам, по улочке главной. Хотя ж после вспомнилася ямина, которая аккурат напротив михрюхинского дома кажный год появлялася. И засыпали ее по весне песком, и каменьем мелким, ровняли-выравнивали, да все одно каждую осень внове выползала.
Не, ежель сядет возок колесом в тую ямину, то и всякая благолепность с моего въезду выйдет.
Смех один получится.
Лучше уж неспешне… а что… спереди троица конных. Да каких! Лойко вон, пущай по всем сугробам валяный, но принарядился ноне. Шубейку короткую расстегнул, чтоб видать было кафтан золотой да пояс расшитый, и шаблю, что с поясу свисала. Конь его гордо идет, упряжь каменьями драгоценными посверкивает… и Ильюшка, даром что книжник, а солидно глядится.
Арею коня доброго дали.
И пущай сам он небогато одет, да все одно видный хлопец.
За конными — возок мой о шестерых конях, да кучер поважный… а сзаду еще конных… вот только подумалося, чего мне с ними делать-то? В столицу отправлять? Так, чую, без меня не возвернутся. И значит, на постой ставить надобно, со старостою сговариваться…
И возок убирать.
Коней… они-то к конюшням боярским привычныя, а ну как занедужуть в сараях обыкновенных? И тех сараев столько не наберется… сена опять же, зерна… ой, чую, введу я родные Барсуки в великое разорение, за которое мне ж платить нужда выйдет, потому как иначе не миновать обид.
А обижать людей родных — нехорошо.
И мне б о том загодя подумать, а я все о вышиваниях, щитах… дурища ученая… выглянула в окошко, чтоб Ильюшку кликнуть. Он книгочей, головастый, да и с того разу, как ему щита своего намалевала, то ко мне подобрел. Вчера вечерочком ажно присел и выспрашивать стал, мол, как я вижу, ежели в этом щите кое-чего изменить.
Усовершенствовать.
А я что?
Попробовать предложила… Арей же пробовать запретил. Кинул только:
— Погодите. Вернемся, и на полигоне уже пробуйте, хоть испробуйтесь.
Так вновь не об том… о конях и конниках, которых на довольствие определить надобно… только поздно я одумалася: показались Барсуки.
И от родной их картины — стоят хаты, снегом укрытые по самые окна, пыхают дымом из труб, теплом исходят — в грудях защемило.
Ажно слеза на глаз навернулась.
На левый.
А может, соринка просто попала… я ее смахнула. Буде. Еду царицею… а где это видано, чтоб царицы плакали? Не, неможно…
— Зослава. — Лойко попридежал жеребца. — Вот скажи… куда ты нас притащила-то?
А то он не ведает!
— В Барсуки, — с гордостью ответила я. — В Большие…
— В большие — это хорошо… в малых, небось, было бы еще хуже…
От же ж… не угодишь ему… надо будет сказать, чтоб к боярыне нашей в гости наведался. Она радая будет. Домина у ей здоровущая, места для гостей много… и конников пущай с собой прихватит, для сбережения его, боярское, особы…
Мыслю додумать не успела.
— Едуть! — заголосил кто-то тоненько, а после с плоту скатился человечек.
Пальчиных малой? Или Нисюковых? Главное, спрытный, понесся по улочке, крича:
— Едуть! Гости едуть!
И глосище-то! Тонкий, да звонкий, кони и те оглохли… а на улицу выходили люди. Первыми-то дети, конечно. Им-то все любопытственно, да так, что с любопытствием этим не справится ни мамкина оплеуха, ни тятькин ремень. Кто в шубе, кто в рубахе, как дома валялся… кто в валенках чужих, преогромных, а кто и босой по снегу к забору летит.
Только слышится вдогонку:
— Куды ты, ирод!
А этот ирод уже по забору карабкается, сядет наверху, что кошак вольный, да глядит круглыми глазищами совиными. Оно ж верно, диво дивное, этакого отродясь не видывали.
За детями и взрослые спешат.
Лойко же, хитрован этакий, коня на дыбки поднял, свистнул по-разбойничьи, да руку за пазуху сунул.
— Ловите, кто смелый!
Полетели леденцы сахарные на сугробы искрами разноцветными. Детвора-то и кинулася, небось, трусом никому прослыть не охота… да и леденцы — радость редкая, добре, ежель раз в год мамка с тятькою с ярмарки привезут.
Тут же задарма.
А Лойко знай хохочет и кидает горсть за горстью на радость детворе…
У Мисюковых коня попридержал, глянул на молодшенькую их — ей только третий годок минул — и спросил:
— А ты что не спешишь?
Мисюкова, которая на чужаков поглазеть вышла, да не одна — с черною курицей, едва ль ее не большей, — глянула на него с укоризною. Дескать, сам дурак, дяденька, коль не разумеешь — а девка-то с малолетства разумницей росла, — и говорит этак серьезно:
— Нельзя мне. Маленькая еще. Затопчуть.
Лойко ажно смутился.
Но ненадолго. Вытащил горсть и велел:
— Подставляй подол… только чур с другими малыми поделиться.
Мисюкова и кивнула. Она поделится. И все-то у нее по справедливости будет… наши приговаривали, что этакую разумницу только в старостихи и отдавать.
А мы остановилися у колодца.
И как-то вот разом охватила меня робость небывалая, будто бы и не домой воротилася, а в чужую страну сослали. Как теперь людям-то показаться? И не показаться нельзя. Старшие мелюзгу разогнали по хатам, чтоб, значит, погрелися те… но надолго не удержат, глазом моргнуть не успеешь, вновь повысовывают любопытные носы.
К возку спешил староста, да некрасиво спешил, на бегу рубаху в порты заправляя. Почти босой, в тулупе, на рубаху накинутом.
— Дядьку Панас! — крикнула я и выскочила навстречу. — Дядьку Панас, это ж я!
Он ажно споткнулся.
Благо, не упал, а то и вовсе нехорошо б получилось.
— Зослава?!
— Я… дядьку Панас… я потом всего расскажу… а у меня к вам дело… и гостинцев привезла… и пойдем до хаты, а то замерзнете, после спина зновку болеть начнет… бабка писала, что вы надорвалися. Я ж вам казала, что неможно тяжелое подымать. А вы телегу толкали!
— Так села ж, Зослава, в яму клятущую и села! — он глядел на меня сторожко, будто не до конца поверить готовый был, что я — это и вправду я.
— Так позвали б кого…
— Я и позвал… а потом…
— Подмогчи полез.
— А то… молодые же ж… бестолковые… пихают, пихают, а ее с накату надобно… значит, возвернулася?
— Так… вакации…
— А… — Он на возок мизинчиком показал, с опасочкою, будто поджидая, что вылезет из него… кто?
Кто-нибудь этакий, боярского роду-племени да гордости немалое, пред которым и спину гнуть надобно, хоть бы и вольным человеком был дядька Панас, как и все иные барсуковцы.
— Да… после расскажу… мне бы… людей по хатам, чтоб не померзли. И коней поставить куда… я заплачу. За все заплачу…
Дядька Панас задумался. Не то что я боялась отказу — не откажет, он мужик разумный, и лишнего со своих не попросит. А что думает, так о делах.
— Значится, этих троих ко мне веди… коня одного возьму, сами поглядите, какого… к вам троих поставить можно… у вас сарай просторный. Может, и возок твой загоните, чтоб не помок.
И верно, был конь и у тятьки, и у деда… и воз, и телега… да только продать пришлось, потому как к чему телега без коня, а конь — без хозяина.
— Маланька! — заорал дед Панас. — Ходь сюды… возьми кого на постой… скольких?
Маланька на конников глянула без опаски, она баба спрытная, живая, даром что прошлым годом овдовела.
— Да двоих приму…
— Туська… Одного к Бирюковым…
Дядька Панас командовал громко, а я… я глядела на людей, да бабки своей не видела… и все село, почитай, явилося, даже старшая Гручиха, которая вечно плакалася, что ноженьки ее не ходют.
Дошла.
А бабки… неужто приключилось что? Дядька Панас сказал бы… а он…
— Иди ко мне, Зослава… отдохни с дороги… а бабку твою еще вчерась в Витюшки кликнули. Там бортничихина невестка рожать вздумала…
И отлегло прямо.
В глазах посветлело… рожать… рожать — это хорошо… правда, дело небыстрое, но коль Божиня сподобится, то возвернут сегодня бабку. Уж я-то витюшковцев знаю, с почетом примут, с почетом проводят.
А в доме дядьки Панаса натоплено было жарко — не продохнуть.
Аль то с морозу мне померещилося?
— Заходите, гости дорогие. — Старостиха-то успела принарядиться, и рубашку надела вышиваную, и юбку трехцветную. Волосы платком цветастым прикрыла, на шее — бусы красные в три ряда, в ушах — серьги тяжеленные.
И сама-то она, Алевтина Саввишна, женщина хоть и не молодая, но видная.
Гостей встретила с поклоном.
Кваску домашнего поднесла, коий Лойко выпил и поклонился за ласку… экий он вдруг вежливый. Ажно боязно, как бы не учинил беды какой. Илья, тот пил медленно, да все оглядывался, не с брезгливостью, как того боялась, с любопытством.
Видать, не случалось ему прежде в избах бывать.
Поднесла тетка Алевтина и Арею кваса… в лицо глянула и прям побелела все… ото ж… а мне-то мнилося, что на азарина он и не похожий.
— Спасибо за ласку, хозяйка. — Тот кубок с квасом из рук онемевших вынул и на стол поставил. — Пойду я, пожалуй… на улице… подышу.
— Я тебе подышу! — Тетка Алевтина с белое на красную стала. — Не продышался еще? Вона, рожа вся красная…
Лойко хмыкнул.
А она полотенчико так перехватила за концы.
— Надышится он… после околеет с передыху, да хорони его с честными людями! Руки мойте да за стол идитя… и квас пей. Чай, не потравленный…
Да полотенчиком этим Арею по руке шлепнула. Не больно, знаю, но обидно. Только Арей обижаться и не подумал. Поклонился. Квас принял да выпил до капельки… а там уже и мне налили. Квас у тетки Алевтины свой, на закваске, которую еще ее бабка ставила. И крепче оное закваски во всех Барсуках нету.
На ржаных корочках ставленный.
С медком, с травами душистыми, квас этот в летку холодит, а зимою-то и греет… от него и сил прибавляется, и на сердце спокойно.
— Садитеся вон туда. — Тетка на лавки полотенцем махнула. — А ты, Зославушка, подсоби… ох, мы уж тебя, грешным делом, и не ждали… видано ли, туда ехать, сюда ехать… да по зиме… а ты вона как…
В печи шумел огонь.
И пусть не ждали нас, да полны были погреба тетки Алевтины. Сыскались в них и грузди черные, соленые, и моченые яблоки, капустка с клюквяными красными глазами.
Возлег на праздничное расписное блюдо копченый гусь, да такой, что не гусь — порося целое, как поднять его. А тетка Алевтина уже сомятину режет тонюсенькими ломтиками. Она-то жирная, на березовой щепе томленая, ароматная — страсть… вона, Лойко на сомятину глядит, да с такою любовью, с какою, верно, ни на одну девку не глядел.
А что, тетка Алевтина у нас по коптильному делу известная мастерица. Уж на что девки крутилися-вертелися, силясь вызнать, чего она в щепу добавляет, какими травами дичину аль рыбу натирает, да не вышло ничего. Только у старостихи получалось мясо столь духмяное да со слезою. Я же сыры режу, что молодые, только-только ставленные, крохие — тронуть страшно, что старые, потемневшие, да со своим духом.
Из печи и горшок со щами появился.
И пироги.
— Прошу, гости дорогие, за стол. — Это уже староста возвернулся, и не с пустыми руками, небось, к деду Вязилю ходил за настойкой. Он-то ея на меду делает, да тоже с травками, с наговорами, от которых не только хмель в голову шибает, но и на душе леконько становится.
И многие рады были б пригубить, да свою настоечку дед берег… вот и старосте для особого случаю бутылечку отжалел не самую великую.
Уговаривать не пришлось.
Сели.
Дядька Панас, стало быть, во главе стола, как и положено хозяину. Илья — по правую руку его. Лойко по левую, не потому, мыслю, что старшинство Ильюшино признал, а чтоб к сому да поближе. За ним и я присела… Арей то мялся, то на стол глядел, то на дверь, пока тетка Алевтина ему по хребту полотенчиком своим не переехала.
— Особо звать надобно? — спросила она, брови насупивши. А насупленных бровей тетки Алевтины и дядька Панас опасался. Арей вот тоже пыл подрастерял, на местечко сел тихенечко и чарку, до краев медовою настойкой наполненную, принял.
— Ну… — Староста только крякнул да на хозяйку свою покосился, ничего ль не скажет? — Будьма… за здоровье ваше, гости дорогие…
Чарочку опрокинул.
Вздрогнул.
Да хлебом занюхал. Оно и верно, я-то только одного раза тую настойку попробовала, из любопытствия, после целый день отдыхаться не могла. Потому-то и рюмку свою тетке Алевтине подставила. Она вино делает из вишень да малины, сладкое, ароматное, самое оно — сердце девичье потешить. Его-то мы и пригубили.
Лойко же, воспоследовав примеру деда Панаса, ажно пополам согнулся. А староста наш, сердешный человек, боярина по спинке похлопал.
— Ты дыши, паря, — присоветовал. И ржаную горбушку сунул. — На от, занюхай… вторая, она легче пойдет.
Илья чарку глядел-разглядывал. Да, не сыскав ничего, решился. Этот сгибаться не стал, а с виду-то хилый, но хлеб так нюхал, что едва горбушку в нос не запихал.
Арей же выпил, со старосты взгляду не спуская, но при том не поморщился даже.
Крепкий.
И дядька Панас заценил.
— Молодец… груздя скушай. Сам собирал… груздь черный после настоечки — самое оно… солененький и хрустит.
И то дело, грузди у тетки Алевтины отменные выходили. Она их в дубовых бочках, которые в приданое привезла, — еще от ее мамки осталися, — ставила. А те бочки уже сами просолилися насквозь, и потому грузди выходили ядреными, хрусткими.
Ешь таких — не наешься…
Тетка ж Алевтина щей разлила… ели молча, сосредоточенно. А то, тут вам не столовая студенческая, дядька же Панас по второй разлил…
— Не гони, — нахмурилась тетка Алевтина. — Поспеете еще…
— Оно-то верно. — После настоечки староста наш становился благостен и со всем согласен. Ел он мало, больше баловался, знать, сыт был. — А ты, Зославушка, сказывай… как оно, в столицах…
— По-разному… — Лойко сома жевал да пальцы облизывал, не чинясь того. — Где-то хорошо, где-то плохо… как везде. Но такой рыбы я там точно не пробовал!
Тетка Алевтина зарделась.
Приятственно ей было.
— И настойка знатная… у отца на что погреба огромные… а и еще налейте…
— Ты закусывай, сынку…
— Закусываю…
— Ты получше закусывай… от ишшо рыбки возьми. Сома этого мы с мужиками летось подняли… в бочаге жил. Я тебе скажу, такая скотина, что думали, не взопрем на воза! Двадцать пудов!
— Врешь!
Лойко рюмочку поднял.
— Да чтоб мне век рыбы не едать! — Дядька Панас не обиделся. — Харя — во! Человека заглынуть мог бы…
Лойко головою покачал, дивясь этакому чудищу.
— У вас там такого, небось, нема…
— Нема, — согласился боярин, и настоечке должное отдал, на сей раз не согнулся, занюхнул только. — Ох, нема… чую, хороши будут вакации…
— Что, тож студиозус? — Тетка Алевтина тарелочку с пирогами к Ильюшке подвинула. — Ешь, боярин, а то больно выхудл… и ты жуй, не гляди, чай, не потравим…
Это уже Арею, он только усмехнулся и заметил:
— Меня потравить сложно…
— Ну… это ежели не умеючи, — отмахнулась тетка Алевтина. — Небось, на каждую тварь своя травка Мораной дадена…
На тварь Арей нисколечко не обиделся. И тетке не поверил.
А зазря.
Тетка Алевтина про иные травы поболе бабки моей ведала. Оно ведь и есть так, что у каждое былинки два обличия есть. То, что Божинею дадено, явное, да то, которое сестрицею ейной единоутробною сотворено. И то обличье тайное, не каждому явится, надобно знать и час, и день, когда трава, пускай бы самая обыкновенная, навроде пастушьей сумки, силу мертвую обретает.
И слово, которым силу эту запечатать можно.
Про старостиху у нас всякого сказывали, и когда я, малая, выспрашивать бабку начала, что в том правда, та велела не лезть к тетке Алевтине. Мол, каждому свой урок миром нынешним даден.
А тут вдруг страшно стало. Ну как и вправду сыщется в сенях ее, помеж пучков с мятою да душицею, особый пук травы неведомой, заговоренное мертвым словом? И будет она безвредною для всех, окромя Арея…
Подумала так и устыдилась.
Тетка Арея квасом потчевала. И сама ж хлеб поднесла. И не переступит она, старостиха, Божининого закону, по которому свят гость, под крышу принятый.
Ели.
Говорили.
Дядька Панас про рыбалку, до которое дюже охотником был, про лес местечковый, где ноне волки завелися, и пущай никого не трогают, но все знают, уж коль пришла стая, то сие надолго… мужики-то ходили, капканы ставили, да стая хитра.
Воют.
Кружат. И не ловятся. Иным-то разом весь снег истопчуть, будто здекуются. Лойко головою качал, а глаза-то поблескивали, не то от настоечки, не то от забавы… волков-то загонять самое оно для Лойковой непоседливой душеньки.
Илья ж хмурился.
Арей ел молча. А тетка Алевтина, рядышком примостившися, знай подкладывала в тарелку…
— Схуд, болезный… и давно ты в энтой Акадэмии…
— Пятый годок уже…
— Пятый, значится. — Она подперла пухлую щеку кулаком, тоже пухлым, да этая пухлявость не мешала теткиным рукам силу иметь. И с силою оной не только дядька Панас считался. — Совсем обтощал… жуй, гостюшка дорогой… жуй…
Арей и жевал, на тетку искоса поглядывая.
Я ж молчала.
Слухала всех и разом, и до того тепло мне было на душе, спокойно. Домой возвернулася, как есть, и нет во всем свете места Барсуков роднее… терем боярский? Навошто он мне надобен?
Тут мое место.
— Алевтина Саввишна. — К старостихе я обращалася вежливо, потому как ценила тетка Алевтина этакое обхождение. — А где Боряна…
Потому как дивно, что час минул, а не явилася старостина сестрица, чтоб за стол сести да видом своим аппетиту убавить. Она-то, сама тоща, ела мало, клевала по крошечке, да с видом этаким, что разом совестно становилося, что в тебя много лезет.
— Так бабка не написала? Сосватали ее!
От так новость! Чтоб Боряну да сосватали?! Да кто ж это такой сыскался? Ее ж норов не только в Барсуках ведають…
— С самой боярское усадьбы эконом явился… домоправительница-то у боярыни стара уже стала, глазами слаба, да и розумом. — Тетка Алевтина пересела ко мне, и Арей вздохнул с немалым облегчением. Не то боялся он старостихи, не то стеснялся. Разве ж поймешь? Главное, что тетка Алевтина пальчиком погрозила и велела строго:
— Ешь. Я за тобой гляжу… так от, мы-то и не чаяли… а по первому снежку явился… весь такой солидный. С животом.
Она показала, каков живот у нового сродственника, и все закивали, соглашаясь, что с этаким животом жених точно солиден.
— И давай говорить, что на ярмарке в том годе встретилися… и что в медах она смыслит, и в копчениях… и вся такая разумная… а я-то думала, чтой-то наша Борянка в усадьбу зачастила. То ей пуху туда отвезть надобно, то маслица нашего просят, будто своих маслобоен нетушки… и главное, деньгой платют за все… вот и отдали. Нехай себе живут…
А и вправду, нехай живут.
Стало быть, и ей срок пришел. Верно говорят люди, что каждому человеку Божиня свою пару создала, только поди ты, отыщи ее, пойми сердцем, что твое это… и коль вышло сие у Боряны, то только порадуюся за нее.
Жаль, подарка не привезла достойного…
О подарках вспомнила, то и о сумках своих! Вскочила, да только тетка Алевтина за рукав уцепила, дернула.
— Посиди ужо, егоза… поспеется оно… а без Боряны-то попустело… поразлетались сыны мои… кажный по своему дому…
…а дочку-то они еще позатым годом в Вершовичи отдали. Опосля бабка еще на роды ездила, писем свезла, гостинцев всяких… у тетки Алевтины, ежель посчитать, внуков шестеро.
И хата пустая.
— Говорила я молодшему, чтоб шел к нам жить, да не захотели… боится, что с невесткою залаемся, — пожалилась тетка Алевтина. А головою покивала: лаяться аль нет, но всякому ведомо, что двум хозяйкам у одной печи места не хватит, пускай даже печь оная с избу величиною станет. — Так от и живем, Зослава… я там велела, чтоб печь тебе растопили… но погодь, пока оно прогреется. И пирогов дам… с утра опару поставила, как сердцем чуяла…
Ага, а у нас пирогов-то нема, нешто я бабку свою не ведаю? Не бывало такого, чтоб вовсе в хате снеди не сыскалось. И погреба у нас, пущай не столь велики, как старостины, да и не пустые.
Хотя…
Кто нонешним годом до лесу ходил? Грузди те же резал, в короб складывая бережно, чтоб не поломались хрупкие шляпки. Кто рыжики собирал аль масляты… кто бузину драл? Калину?
И не вышло ли такого, чтоб хозяйство наше от моего отъезду ущерб претерпело?
— Благодарствую, Алевтина Саввишна, — ответствовала я и тетке до земли поклонилась. — Но сама ведаешь, что в гостях оно хорошо, а родная хата ближе сердцу.
— Я провожу. — Арей тотчас поднялся.
— И я… — Лойко встал было, да на лавку обратно плюхнулся, махнул рукою. — Не… вы сами…
— А то и верно. — Тетка Алевтина засуетилась, в корзину пироги складывая. — Проводи… нечего девке одной впотьмах шастати…
А и вправду, засиделися.
Взимку-то рано темнеет, и позабыла я ужо, как оно тут… в Акадэмии-то иначей. Там дороженьки расчищены, вдоль дороженек — столпы стоять с камнями магическими, от которых и светло, не как днем, конечно, но и впотьмах не заблудишься.
Общежития, опять же ж, сияет.
Иные строения.
А тут… вышла и прям-таки ошалела.
Темень-темнотища, шаг ступишь, другой, а на третьем и заблудишься. И снежит-то, главное, сыплет снегом крупным, пуховым, этакий-то самое оно, укроет и поля, и леса, даст землице продыху, а по весне сойдет водицею студеной, напоит допьяна.
Но до весны еще далече.
И вот стою я, гляжу на снег оный, на небо черное, тучами плотненько затянутое. Слухаю, как кобели местечковые лаются, реденько так, от скуки, стало быть.
Воздухом дышу холодным, ажно в грудях коле…
— Тихо у вас тут. — Арей за мною вышел, да не с пустыми руками. Тетка Алевтина сама собой не была б, корзину снеди не всучивши. — Непривычно…
А то…
— Ты… ежель что, возвертайся… тетка Алевтина не обидит.
— С этим утверждением и поспорить можно… не каждый день Моранью травницу встретишь.
От же ж как. Разглядел!
И как это вышло…
— Она безвредная… бабка так казала. А я ей верю. Никому туточки тетка Алевтина зла не чинила… ей самой это не в радость…
Я шла по узенькой дорожке, снег поскрипывал, похрустывал… и так все было по-родному, знакомо. Сколько уж раз случалось хаживать мне? Что весною, что влетку, а что и зимою, когда слала меня бабка за особыми травами…
…Моранья травница — верное слово. Ведала травы тетка Алевтина, не тую их сторону, которая Божиней дадена, но иную суть, в тенях сокрытую. И случалось, что и в этих ведах нужда прибывала. Вона, как в Малиновке старуха одна помереть не могла, долго маялася, все прощения просила, видать, много грехов на ейной душе поналипло, вот и не пущали душеньку оне. Уж как плакала бабке, хватала за руки, да только не можно тому, кто исцеляет, темными путями идти. Тогда-то меня бабка и послала с запискою к тетке Алевтине, которая дала мне сушеных одуванчиков.
Я-то еще подивилася, какая с одуванчиков тех польза?
А бабка только махонький кусочек в рот той, бедолажное, сунула, как и отошла душенька… было еще, что мужика одного деревом привалило, да так неудачно, что половину тела отняло. Одною рученькою шевелит, а другою — не способный… и лежит лежмя, и мается. Долго так пролежал, с год почти… женка за ним, что за малым, ходила, надрывалася… все надеялися, что, может, отойдет. А он никак.
К этому мужику тетка Алевтина сама ходила.
Наутре и преставился.
А вдовица прибежала лаяться, обзывала тетку Алевтину по-всякому, пока жрец не явился да не увел. Еще попросил не держать зла, мол, горе в бабе говорит, разум зостит…
Мне потом бабка сказала, что так оно всем легчей, что и магики б того мужика не подняли. Он-то понял, что до конца жизни ему лежать, вот и послал за Алевтиной Саввишной…
…сказывали еще про один случай, да только шепотком да с оглядочкой. И было сие давно, а потому как знать, где правда? Но не вернулся боярин с сечи, и сынов из троих двое полегли… тогда-то и наняла боярыня молодшенькому охранника будто бы.
Или дружка.
Или еще кого, главное, что роду тот человек был знатного, да, видать, сбедневшего, коль на службу подался. И главное, не род, а кровь дурная… по первости того никто не разумел. А после слухи поползли… будто бы холопов он пореть да самолично, и все больше до крови. И не по делу, по всякое пустой причине. Особливо к девкам гораздый… и что насильничает их, но то не диво — кто за холопку заступится? Да только этот так насильничал, что девки опосля лежмя лежали… а одна и вовсе руки на себя наложила.
И что боярыня сама не смеет гостю укорот дать.
И не гостем он живет, но хозяином. А молодой боярин ему в рот глядит да каждое слово ловит… и что, стало быть, этаким же зверем вырастет.
Может, когда б остался тот, чье имя позабыли, в усадьбе, ничего б не случилось. Да повадился он по весям ездить. Поначалу просто ездил, а после одну девку в седло утянул, другую… мужики к боярыне жалиться, а она серебром за обиду платит и кривится. Мол, сами виноватые, что девки вашие на мужиков падкие. До Барсуков тож доехал.
У старосты стал…
И говорили, будто бы по нраву ему пришлась Войтюхова старшенькая, аккурат в те годы заневестилася… да так по нраву, что не постеснялся ни отца, ни матери… ее хлыстом, его шаблей… дядька Панас заступиться попробовал, так тот ему голову расшиб, чтоб, значит, знал свое место. Уехал тот человек поутру. А к вечеру слег с лихоманкою. Долго, сказывали, помирал… с две седмицы огнем горел. Кричал, будто бы нутро ему клещами тянут… боярыня лекаря звала… тот уж по-свойму врачевать пробовал, и так, и этак… а не спас.
Схоронили его на местечковом кладбище, своего-то погосту боярыня пожалела.
А может, побоялася этакого гостя вновь приветить.
Но девке той коня прислала да рябую норманскую корову, за обиду, стало быть, учиненную. Только нашие-то по-свойму поняли.
Вспомнилася давешняя гиштория.
И внове сердце кольнула. А ну как… нет, не забидит тетка Алевтина Арея. Приняла же. И сама кормила… и стало быть, разумеет, что не в ответе он за родительские грехи. Оно ж всякому свой путь написан, кому-то надобно и азарином родиться.
Так и шли.
Я молчу.
Арей рядом. Думает о своем будто бы… да как до избы дошли моей, так и сказал:
— Я первым пойду… мало ли…
От дурень. Кого мне в Барсуках стерегчися? Туточки все свои. А чужие — на виду. И шагу им не ступить… это только мнится, что с Ареем мы вдвойгу гуляли. Небось, завтра же по селу слухи поползуть про этую прогулку, и пересказывать об ней стануть подробненько. А то и придумают чего, для пущего интересу.
Но Арей слухать не захотел. Короб сунул, калиточку тронул, она и отворилася тихо.
— Постой тут.
Я и постояла. А что, нетяжко, чай.
Арей же тенью за дверь скользнул. Эк у него выходит-то ладно! Этак и двор обнесть можно, цепного кобеля не потревоживши… кобеля-то у нас нет, как сдох Полох, то бабка другого брать не пожелала. Оно и верно, к чему нам? В Барсуках-то собак держут с большего для порядку, жизня тут тихая, татей немашечки… но и подворью без кобеля неможно.
Бабка-то том годом прибрала махонького собачку-пустозвонку, да запестила, тепериче он от бабки ни на шаг. Мыслю, и на выезд с нею подался.
Меж тем Арей появился и сказал:
— Чисто.
Как чисто… конечно, бабка моя порядок блюдет, да только изба без хозяйки второй день стоит. И стало быть, полы не метены, и в горнице лавки не прибраны. Валяется кукла тряпичная, мячик, из шкурок шитый… стоять на столе миски с пирогами, наспех обрусом прикрытые.
Вон и гребешок лежит на подоконнике.
А у печи кошка трется трехцветная. Откудова взялася? Тож приблуда, как новая бабкина ученица? Кошку-то я поманила, чай, совсем сголодалася. Зимою-то корму скудно, мыши и те хоронятся.
Печку, к слову, не сподманула тетка Алевтина — протопили. Я заслонку сняла, дрова поворочала кочергою перегорелые и разбила, чтоб, значит, огню сие сподручно было.
Арей стоит.
Оглядывается.
Любопытственно ему.
— Тут, значит, и жила?
— А то… там моя комната.
Избу-то дед большую ставил. В ней всем места хватало, и ему с бабкою, и мамке моей… а мне и вовсе — диво дивное — свою комнату отгородили, чего в селе вовсе не принято.
Жила я и вправду княжной.
Только вясковой.
— Присядь куда… аль пойдешь?
Арей куклу поднял, на лавку усадил.
— На тетке твоей… — замолчал, глядючи с ожиданием, и я призналася:
— Не родня она мне, но ее завсегда теткою именовали…
— Хорошо, если так… на ней знак Мораны стоит. И странно, что… не подумай, я не желаю ей дурного. Хотя…
— Боишься?
— Опасаюсь. — Арей не стал кривить душою. — Есть люди, Зослава, которые ходят под богом…
— Все мы под ея рукою…
— И это верно, но ото всех боги далеко, а к некоторым людям то и близко. Никто не знает, как и по каким приметам они выбирают… просто… читал я про целителей, которым кланялись и города, и веси, и люди к ним стекались со всего царства Росского… и пожелай бы такой целитель корону, мигом вздели бы. Да им того не надобно было. Они одним жили — людям помогая. Эта часть натуры их такова была, что и не переломить… а пишут изредка и о других, которые жизнь могли легко отобрать… травкой вот или касанием, взглядом даже. И это вновь же было вне воли их. Такие люди сами над собой власти не имеют, Зослава. Им боги говорят…
И замолчал.
Это он об чем сейчас распинался? Не об том ли, что тетки Алевтины я страшиться должна? Что повелит ей Морана мою жизню забрать, а тетка не сумеет воспротивиться?
И страшно выходит, да только… ежели бы Темное сестре моя жизнь надобна, так неужто не сыщет она иного способу? Она ж в мире везде… и бывало, что бережется человек смерти. И себя бережет. И не ест он еды вредное, и живет по законам Божининым… а все одно, то лествица из-под ног вывернется, то гадюка неведомо как в постелю заползет, то и вовсе в чашке воды потонут.
У смерти тысячи дорожек, и для каждого человеку — своя.
— Не боишься, значит, — с интересом заметил Арей. И кукле волосья пригладил.
Эх, надо было на ярмарке не жалиться, а купить красивую, с лицом резным да покрашенным, с волосьями длинными, в убранстве роскошном… этаких кукол для дочек боярских делают.
Была бы Станьке радость.
Да и мне… ныне, в доме своем былая ревность виделася глупою. Что мне с сиротою делить? Сама-то сирая… стали б сестрами. Я, помнится, одно время очень бабку просила, чтоб она мне сестрицу нашла… вот и нашла.
— Что ж, Зослава, тебе лучше знать… только… я молчать буду. Да и ты постарайся про тетку свою никому… даже намеком. Тут половина людей — соглядатаи царицыны. Другая половина — не только царицыны. Многим любопытно, что ты за человек, где живешь и чем дышишь. Магов среди них нет, а простому люду… передай своим, чтобы осторожней были в речах.
Кивнула я: сама о том думала, потому как одно дело — меж своих шептаться, а другое — с чужаками. Да барсуковцы не глупые, никто лишнего словечка не скажет. Будут с гостями добры да приветливы, но и только.
— Видишь ли, Зослава, — меж тем продолжил Арей, — Моранья травница — редкий дар… опасный, но и ценный. Подумай, что даст та же царица человеку, который способен избавить ее ото всех врагов… так избавить, чтоб никто дурного не подумал. С одним боярином болезнь приключится. Другой от старости уйдет… третий… не мне рассказывать. А что бояре дадут за шанс крохотный царицу неугодную на тот свет спровадить?
Ох, и тут игрища этии. Я уж надеялася, что дома-то без них будут.
— А может, не о деньгах думать станут и выгоде, но испугаются, как бы кто больше не дал… и тогда, со страху…
Он замолчал.
А и говорить не надобно, сама розумею: у страха глаза велики. Похоронят тетку Алевтину туточки, и не спасет ее Моряниное темное благословение.
— Что ж… — Арей куклу тронул. — Я… пойду, наверное? А то еще… у Лойко язык длинный, такой только резать, да неможно…
— Иди.
И надобно еще чего сказать. А не говорится.
Отпускать его неохота… как он там один по этакой темени доберется. Да и предложи проводить — обиды будет… оно и верно, где оно видано, чтоб девка хлопца провожала?
Засмеют.
И меня, и его… и сказать, чтоб остался до утра? Что боюся я одна темноты да мышов? Не поверит такому. Не боюся ж… говорила навроде, что не боюся. Да и верно он, не у одного Лойко языки длинные. Найдутся… вроде и свое все, да по-свойску обговорить кого — оно найпервейшее дело.
— Ты там… не думай… тетка никому не позволит гостей обижать… и дядька славный… пригляди за боярами, а то настоечка у деда крепенькая, с такой влегкую поведет… как не натворили делов.
— Не натворят, Зослава… не маленькие.
Он поднялся и шапку свою поднял.
— И… ты тоже тут… поосторожней. Я понимаю, что дом родной, но…
— Я поберегусь.
Все ж таки ушел.
Только кобели нашия загавкали… кобели да луна кособокенькая, в драные тучи глянувшая — от и романтика… сию романтику я пирогом заела, с рыбкою да копченым сальцем. Печку поварушила, чтоб разгоралася, да и прилегла.
Утро вечера мудреней.
ГЛАВА 48, где Зося встречается с родными, а бояре колют дрова
А спозаранку и бабка явилася.
Темень темная, корова и та спит, а она уж туточки, с волокуши соскочила молодухою да в хату бежить, юбки подхватила, и голосить на все Барсуки:
— Зославушка! Детонька моя родная…
А за бабкою мужичок пьяненький — стало быть, разрешилася молодуха счастливо, коль так посидели, что даже ледяным ветром хмель не повывелся, — сползает. Корзину плетеную тащит. Тяжела корзина, аль мужичок ослабший, идет-бредет, качается, того и гляди в сугроба присядет. Вот чтоб не присел, с ним девчоночка бледненькая рядышком семенит да за руку мужичка придерживает.
Вот она какая, стало быть, Станька из боярское усадьбы.
— Ах, деточка… — Бабка ступеньки перескокнула, меня обняла. — А похудела-то, побледнела-то…
И хлясь оплеуху.
— Куда полезла, дура с косою? Тебе чего велено было? В целительницы идти… а ты удумала… — И за косу поименованную дергает, будто бы и не коса это, а веревка колокольная. С бабкиной силы станется оное головушке и звоном зазвенеть, самым что ни на есть благостным, медным. — А осунулася… одные глазищи и осталися.
Мужик корзину до порогу доволок, бухнул и поклонился… ну как, навроде как поклонился, рученькою махнув.
— С-спасибо… х-хозяйка… п-поеду я…
— Доедет? — Что-то мне боязно стало за мужика, а ну как не доедет? По пьяному-то делу легко свернуть не туда. А дядька Панас сказывал, что волки в округе лютуют.
— Доедет. — Бабка была спокойна. — Ванятка — мужик крепкий, не гляди, что пьяный, он и трезвому сто рублей наперед даст. А от волков у него обережец, тетка Алевтина заговорила… отпусти-то, Зославушка, а то ж раздавишь ненароком.
Отпустила я бабку.
А она мне только пальчиком сухоньким пригрозила, мол, не окончен еще наш разговор, чую, тяжек он будет. Это она еще про жениха моего не ведает… и про бояр… про приезд, возок да прочее.
Ох, говорить нам до вечера, а потом еще всю ночь переговаривать.
— Пойду корову подою, — сказала я, глядючи, как небо светлеет. Оно-то верно, что взимку дни короткие, зато рассветы чудо до чего хороши.
От и сейчас небо будто бы жемчугами изукрашено.
— Не забыла еще, как? — Бабкины глаза блеснули.
Неужто плакать надумала?
— Ты чего, ба?
— А чего? В столицах-то коров нетути… сама писала… жила ты там без хозяйствия, так, может, и отвыкла-то?
Может, конечно, и отвыкла, но руки дело вспомнят.
…В хлеву было тепло и сухо. Пахло коровою, и темная она ворочалась, вздыхала. Краюху хлеба, солью посыпанную густенько, Пеструха приняла ласково. Да и меня, носом в ладонь ткнувшись, признала.
Руки и вправду дело не забыли.
Звенело молоко о подойник.
И кошка, что вчерась в избе отиралась, явилась поглядеть. Села на столбик, вперилася зелеными глазами, хвостом лапы прикрыла…
— Буде и тебе молочка…
Налила я ей парного, и Станьке, которая в дальний угол забилася, откудова и зыркала на меня со страхом — за него мне тотчас стыдно сделалось, будто я взаправду в том страхе виновная, — кружку протянула.
— Пей, — сказала ей.
— Спасибо.
Голосок тихенький.
Да и сама, что мышь… неужто и я такою некогда была?
Бабка же блины затеяла, да со шкварками, с яйцами жареными, с лучком… красота… стали у печи, как некогда, она на одной пательне колдует, я с другою. И говорим, обо всем и сразу. Я ей про Акадэмию, она мне — про свое житие… за окном вовсе светло сделалось.
И значится, надобно хату порядковать — часу не пройдет, как потянутся к нам гости.
Оно-то как, вечером нам столы накрывать, но разве досидят до вечера любопытные бабы? Вот и потянутся, кто за солью, кто за мукою, кто по иной, срочное надобности. И ничего-то выспрашивать не станут, не принято оно, зато уж глядеть будут в оба глаза, все приметят.
Чего не приметят, то и попридумают…
Так оно и вышло.
Первою заявилася Скульчиха, которая жила ажно на другом краю Барсуков, маслица ей надобно стало… ага, ближей не нашла… зато сама сметанки принесла свежее. За ею и иные потянулися. И тянулися, тянулися, кажной поклонися, слово скажи, потому как не скажешь — за тебя скажут, что возгордилася в столицах и с простыми людьми знаться не желает…
И чтой-то так оно меня притомило, что и пироги, которые подходили, ужо и не в радость стали.
Бабка то заприметила, она у мене вовсе глазастая, и говорит этак, значится, со смыслом:
— А не сходить ли тебе, Зославушка, к старостихе? Негоже гостей без пригляду бросать…
Это ж не в том дело, что я ей заминаю, но в том, что и самой ей в охотку с бабами словечком-другим перекинуться. Небось, донесли уже, с какими провожатыми я в Барсуки въехала. Да толком не рассказали, бабке оно и любопытственно. Спровадит меня с глаз долой, а бабы, что вокол двора нашего вьются, что синицы над рябиновым кустом, мигом в помогатые напросятся. Оно-то и принято… и сподручно. Кто с пирогами подменит, кто за мясное примется, скоренько столы поставят, скатерки расстелют.
А заодно обговорят, кто чего видывал, кто слыхивал…
Ну а я, стало быть, пойду гостей звать.
— Иди, иди, — подтвердила тетка Ждана, она-то и со двора не пошла, мести взялася, чтоб оно перед приезжими не стыдно было. — Поглянь… а то ж споит хлопцев Панас…
— Гарные, — Вильчукова ближей подошла. — От и гарные… небось, бояре?
И на меня глядит.
— Бояре, — отвечаю, чегой мне скрывать. Да и не скроешь этакое, вона, у Лойко ежель не на лбу, то на портах его шелковых боярское звание золотою нитью вышито.
— И азарчик тож?
От же ж! Ничего-то от них не сокроешь.
— У него мамка из азарского племени… полонянка… — пояснила, хотя ж бабы не спрашивали, но станется с них попридумывать такого, что с этой выдумки Арей вовек не отмолится.
Бабы ничего не ответили, переглянулися и головами покачали.
Жалеют, стало быть.
Дальше я уж говорить ничего не стала, подхватила тулупа и сбегла со двора.
У тетки Алевтины было людно, хотя ж облепили забор не бабы любопытные, этих тетка Алевтина отваживать умела, только глянет, бровию поведет, да и сгинут все, как не бывало. Детвора-то дело иное, ничегошеньки не боятся.
— Глянь! Глянь! — шепчутся, друг дружку подзуживая. — А ща как рубанеть!
— Не рубанеть!
— А я те кажу, что рубанеть… она кака секира…
— Ею не дрова рубять, а ворогов…
— Так ворогов нетути! А дровов вона много…
Дров у тетки Алевтины и вправду целая поленница была. Оно-то и верно, поколоть стоило, да дядьку Панаса внове спина прихватила, как оно писала бабка. И крепко, судя по поленнице, прихватило. Чутка побил, чтоб было чем печь топить, а остальное так и стояло, чурочками.
Вот Лойко за них и порешился взяться.
Вышел во двор в рубахе красное шелковой… ага, то-то я гляжу, что девки нашие по улочке разгулялися, туды и сюды… и внове туды… да хмурятся — детвора, стало быть, вид им загоражвае.
А поглядеть есть на что.
И Лойко, пущай и с похмелья, но хорош. Волос золотой, глаз хитрый, рубаха переливается, порты полосатые поясом узорчатым перехвачены. Сапожки дорогие.
Боярин, одним словом.
И топорик на плече держит.
Ага, топорика этого — назва одна, уж не ведаю, на каких ворогов идти, разве что супротив зайцев, до того махонькая. Он же красуется, с руки на руку перекидывает. Выбрал колоду поболей, еле-еле выкатил из-под навесу. Этакую только колуном и бить, а он секиркою размахнулся, хэкнул… и вогнал по самый обух. А она и увязался.
Детвора засмеялась… Лойко покраснел, покосился не то на девок, не то на меня… дернул рукоять разок-другой, а там и поднялся, руку выпростал и провел над колодою.
Та и зашипела.
Развалилась надвое.
От же! А нам такого Архип Полуэктович и не показывал!
Детвора смолкла, впечатленная. Небось, живых магиков им видывать не доводилося. А Лойко рученькою махнул… и снова… чурочки выходили аккуратненькими, ровненькими, просто заглядение. Надо же, я-то, грешным делом, уверенная была, что немашеки от нашего боярина в хозяйстве пользы никакой.
Ошиблась, стало быть.
— Неэргономично. — Это уже Ильюшка из избы выглянул. Он рубахою девок спокушать не стал, тулупа накинул, дядьки Панасового, колматого.
Зевнул во все зубы.
Присел на лавочку, только снег под задницею скрипнул.
— При нынешних параметрах у тебя резерва хватит колоды на четыре…
— Попробуй лучше. — Лойко пот со лба смахнул. Видать, нелегкое это дело — магиею дрова колоть. Наши-то мужики больше топорами махать привычные, и то, бывает, намашутся так, что после женки до бабки за мазею на бобровой струе бегут, чтоб мышцу отогреть.
А тут, ежели прихватит, мазь оная не сподмогнет.
Я так мыслю.
Ильюшка же зевнул, потянулся и встал, шубейку скинувши.
— Поставь… а штучки три для начала и поставь, только ровненько.
Лойко приволок три корчаги, да выбрал нарочно которе побольше, чтоб, значится, помаялся Ильюша. Да тот только кивнул.
Встал перед колодами.
Одною рученькою направо крутит, другою — налево… и глядит этак примеряючися. А после, как нагляделся, стало быть, то и рученьками махнул. Ох и громыхнуло. С колод только щепа и брызнула.
Заверещала детвора.
С забору посыпалась… да и я, признаюся, присела, потому как мало ли чего с этой волшбы выйдет. А как встала, то и глянула. Колод не осталося, да и чурочек не было, а вот щепою мелкою двор плотненько засыпало. Ильюшка посеред этого двора встал, рученькою голову подпер и думает, да так старательно думает, что ажно уши шевелются.
— Помощничек… — хмыкнул Лойко и щепу подбросил. — Зослава, а ты как дрова колешь?
— Топором, — ответила я, потому как магиею этакою не володаю… я и плетение, ежели по-хорошему, разглядеть не успела.
— И что, сама?
Я плечами пожала.
Сама, а кто ж еще? Нет, конечно, будь я послабше, мужики б подмогнули, не оставили старуху и сироту без дровей, но с топором дедовым я управлялася ладно. Оно ж только мнится, что работа этая тяжелая, а надобна в ней не сила, которою меня Божиня не обидела, но сноровка. Как оно приноровишься, куда бить, то и останется, что топор подкидвать да целить в нужное место, там он уж и сам колоду, как надо, расколет.
— Третий вектор ослабить стоит… — сказал Ильюшка и в ладоши хлопнул. — Тащите дрова…
— А если все изведем? — Лойко на дом покосился.
Я не сомневалася, что приглядывает за гостями тетка Алевтина, да только дров ей не жаль. Авось и вправду поколют, все польза.
— Ничего… как изведем, так и разведем… в лес съездишь, нарубишь.
Лойко хмыкнул только, а я головою покачала: не верилося мне, что способный он на этакое геройствие. Но колоды приволок.
— Еще давай… чем больше объектов, тем плотнее и равномерней покрытие…
Об чем это Илья, я не ведаю, но сподмогнула Лойко, притащила еще парочку колод. А опосля в сторонку отступил. Детвора-то, вновь заборы облепившая, дыхание затаила.
Внове громыхнуло, да тише, чем в прошлый раз, а колоды распалися на ровненькие брусочки.
— Вот так-то лучше, — довольно произнес Илья и себя по бокам похлопал. — Собирай…
— Я?
— А кто?
— Дядьку. — Мальчонка скатился с забору. — А давайте я соберу?
— И я можу…
Парни были из кузьминских, этие с малолетства смелые до дурости. Но Лойко перечить не стал, рукою махнул, мол, собирайте. А малые и радые стараться. Несут порубанные дрова в поленницу… а оттудова мы с Лойко колоды волочем…
— Тренируетесь? — Арей вышел на крыльцо и потянулся. — Хорошее дело… попробуй делать контур не статичным, тогда он сам будет регулировать толщину воздушного лезвия в зависимости от плотности объекта…
И внове не разумею, а вот Ильюшка понял.
— Это как?
— Вот так. — Арей поднял щепочку и принялся на снегу чертить. — Вот, видишь, здесь и здесь два узловых элемента, которые нужно перестроить… и если исходить от базы…
— Умники, — Лойко свою секирку, которая от ворогов, выдрал-таки. — Эх, Зослава… хорошо тут у вас… воздух свежий…
Ага, настойка тоже славная, небось, не от воздуху его намедни повело.
— Хату, что ли, прикупить… — Лойко оседлал колоду и секирку поставил обухом на дерево, обоперся на рукоять, прищурился. — А что… куплю от тут… настоящую себе… и жить поеду. Гори она ясным пламенем, эта Акадэмия… хозяйство заведу.
— Корову.
— И корову… двух…
— Зачем две?
— А чтоб было. У всех по одной, а у меня две… кур, петуха… нет, петуха не буду, он тут у вас орет, что оглашенный, — пожаловался Лойко, на колоде покачиваясь. — А главное, знаешь, что хорошо? Жизнь у вас спокойная. Ни забот, ни хлопот… одна проблема — как волков пострелять… или где сена накосить… это ж разве проблема?
Для кого как… вона, будет сено дурным, так и корова доиться не станет, а то и вовсе сляжет с нутром перекрученным, потом или выпаивать ея, или бить, чтоб не маялась. И волки — то не шутка. В прежние-то времена, деды сказывали, волчие стаи огроменными плодилися и людей не страшились. Ходили по вескам, в ставни билися, в сараи лезли, особливо когда зима выдавалась холодной. И случалось, что находили слабину, а тогда скотину вырезали подчистую.
Могли и не только скотину.
— Волки — это ерунда… волк тебе яду в воду не плеснет и удавку на шее не затянет. В спину бить не станет, потому как этакое извращение в волчью его голову не придет. А главное, волк своих волчат не трогает…
Лойко говорил и раскачивался.
И все сильней раскачивался. Этак он и с колоды сверзнется, да еще, не приведи Божиня, по голове своей пустой секирою приложится, не оберешься беды.
Чегой это с ним? Неужто опохмелиться успел? Иль то с вчерашнего не выветрилось.
— И за убийство волка, который по сути есть просто зверь, но меньше зверь, чем иные люди, никто тебя судить не станет…
Он поглядел на меня снизу вверх, печально этак, ажно появилося у меня желание Лойко по голове его колматой погладить. Появилося и зникло, небось, сыщется кому и погладит и приголубить…
Бахнуло чегось.
И внове щепою брызнуло, густенько так, я еле успела щита поставить, и то — само собою вышло. Не все ж приседать-то?
— Жену заведу… пойдешь за меня, Зослава?
— Неа, — отвечаю.
— Отчего так? — Лойко глазыньки-то разлупил, насупился, обиделся, стало быть.
— Я уже обещалась.
Обида боярская мне ни к чему… только дивно, отчего это они все, что Лойко, что Кирей, что Ксения Микитична, думають, будто бы мне за радость с боярами породниться.
— Так разобещаешься… дело-то легкое. Колечко возвернешь… мое-то не хуже. — И колечко из кармана вытащил. Ободочек тонюсенький, зато с камушком лазоревым. — Примерь, Зослава…
— Не буду.
— Не нравлюся? — Колечко-то Лойко не убрал.
Вот же… до вечера еще все Барсуки ведать будут, что боярин ко мне сватался, а я возгордилася, отказала.
— И чем же я тебе, свет мой Зославушка, не мил… всем мил, а тебе вот, стало быть…
— Тем и не мил, что всем мил, — сказала я да попятилася, ну его, шаленого, то не замечает, то вдруг жениться приперло. — За этаким мужем, как ты, боярин, глаз да глаз нужен. И не только глаз, но и рука крепкая, чтоб, если загуляешь, то и поучить…
— Как поучить?
Колечко-то в кармане исчезло.
— Скалкою. Аль сковородой… сковородой-то многие бабы своих вразумляют, говорят, дюже доходчиво выходит, но боюся, что коль чугун возьму, то и покалечу невзначай.
— Экая ты… прямолинейная… но все равно женюся… на ком тут у вас можно?
— Да на ком хочешь, боярин… выйди на улицу, прогуляйся. Девок у нас хватает…
Лойко привстал.
— А и вправду, — произнес задумчиво, — отчего б мне не выйти… не прогуляться… на хаты погляжу… жену поищу… вдруг и найдется кто не такой переборливый.
Отчего б не найтись. Бабка моя повторять любила, что на каждый товар свой купец сыщется.
— И корову… — повторил Лойко, уже не для себя. — Две коровы… три… и жену…
— Две. Или три.
— Чего?
— Ничего, боярин… идите, погуляйте. Только ж вы аккуратней туточки гуляйте, а то и вправду оженят.
У нас же это быстро… Было дело, как застал Митюхин свою старшую с купцом заезжим. Так вилы к энтому купцу приставил и спросил ласково-ласково, сподобится ли тот девку честною бабой сделать аль так покуражиться решил? Вечерком же свадьбу и справили, пока не сбег жених.
— Не страшно, — Лойко рукою махнул. — И к лучшему оно… вот он взбесится…
И ушел.
Я ж только головою покачала: крепка дедова настойка. Аль боярин слаб, к оной непривычен. Но не мне с ним нянькаться…
…Арей с Ильею дрова кололи, да как-то так хитро, после кажного разу все больше колод выходило, и кололися те что вдоль, что поперек. Одного разу вовсе ровнехонькими кубиками нарезало, да величиною с яблоко… оными топить — только маяться.
Но тетка Алевтина споро сунула мальцам корзины плетеные, коих кубиками и набрали с дюжину. После распишут, мыслю, да на ярмарку свезут, забавками дитячими.
— Справные хлопцы, — сказала мне старостиха, глядючи на боярскую работу с нежностью. — Особливо азарин… гляди, Зослава, не упусти…
И этак подмигнула.
— Так ведь я обещанная… — сказала я тетке краснеючи, но старостиха только рученькою махнула, дескать, пустое.
— Кидала я на вас кости. Выпал сговор да скорая беда. Смерть. И разлука долгая…
Ну оно понятно, что коль смерть, то и разлука.
Горько сделалося.
Неужто не убережется Кирей?
Иль не об нем речь?
— А еще дороги две… и суженые… запутано, — призналась тетка Алевтина. — А вот с ним у тебя сладилось бы… вона, поглянь, какой сурьезный. И главное, ты ему крепко по душе пришлась.
От же ж… нашим-то бабам только дай кого просватать.
Придумали.
Мне, быть может, и по сердцу Арей, только…
Уйдет он. Год минет, получит грамоту свою и сгинет, как не было… у него свое резоны. Он об них мне сказывал, и честно, а я… что я?
Сказать, что примут его в Барсуках, как родного?
Может, и примут, тетка Алевтина, уж на что азар не любит, а про Арея сказывает с теплом… а может, и не примут… да и чего ему тут делать? Магик он, и силы немалой. Куда ее девать? На дрова тратить? Аль сосны корчевать? Не то это… неправильно.
Вздохнула я:
— Не о том вы, тетка Алевтина, говорите…
— Об том, Зославушка, очень даже об том. Не видишь ты, как он на тебя глядит… да только гордый больно. С гордости многие беды идут. Просто помни, что от добра добра не ищут…
Сказала и пошла.
А мне вот, значится, думать, чего она такого сказать желала. У тетки Алевтины завсегда так, навроде и просто все, да только после та простота вовсе не простою выходит.
В общем, постояла я, постояла, да и возвернулася бабке помогать…
…Вечером в нашем дворе все Барсуки собралися. Славно посидели, душевно, с песнями. Девки и хоровода устроили, Лойко на радость. Тот-то гораздый был водить, как только в ногах не путался? Главное, что еще до полуночи сгинул, видать, жениться пошел.
Ильюшка сидел рядом с теткою Алевтиной смирнехонько, рукою голову подпер, глядел не то на девок, не то на костры, которые прям-таки во дворе и разложили, думал о своем, а об чем — поди догадайся. Арей вот…
Нет, не то чтобы я тетке поверила, ей только волю дай, мигом всех вокруг оженит и радоваться станет, что угодно сие Божине, но вот… засели ее слова.
И боязно с них стало.
Вдруг да упущу чего? По глупости девичьей, по недогляду… аль, наоборот, придумаю, чего и вовсе в природе нетушки? И спросить бы, да разве ж о том спрашивают?
Соромно.
Он же… глядит? Так за всеми глядит. И за мною, и за Ильюшкой, и за Жученем разгулявшимся… ведь не скажешь же, что в Лойко влюбленный. А после и вовсе из-за стола вышел.
Куда?
Не знаю… в хороводах видала… а потом и вовсе исчез. И оттого мне сделалося неприятственно, ажно в грудях заняло.
— На от, — бабка рюмку малиновой настойки сунула. — Эх, дурная ты девка, Зослава…
А то я не ведаю.
Настоечка была сладкою, а угри копченые, которых тетка Алевтина за ради этакого случаю из погребов потянула, солеными. Самое оно, чтоб сердце девичье, до сроку разбереженное, успокоить.
Ушел? Пускай. Силком мил не будешь. И… ежели Божинею суждено мне свою половину найти, то найду… постараюся.
Так мы и сидели, после, конечно, пошли с бабкою до хаты, Станька ужо спала, куклу тряпичную обнявши.
— Дичится еще, — сказала бабка, Станьку по волосам погладивши. Та сквозь сон затихла, сжалась. — Несладко ей у боярыни было, ну да позабудется… а ты давай, сказывай, да все как есть.
И что тут делать было?
Сказала.
Что смогла по-за клятвою, то и сказала. А чего не смогла, об том бабка сама дошла. Она у меня головастая.
— Эх, Зослава, Зослава. — Она головою покачала. — Не было нам печали… и вправду не стоило тебя в столицу слать, да я, дура старая, решила, что так оно лучше будет. Но ничего, перетрется-перемелется — мука будет. А с нее и блинцов напечем.
И обняла меня.
Я-то, часом, думала, что заругается бабка, забранится, а то и перетянет рушником, оттого вдруг и больно стало видеть ее такою, опечаленною. Будто бы я виноватая в чем.
— Ложися спать, — велела она мне, — утро вечера мудреней.
Может, оно и так, но поутряни явился нарочный из усадьбы, с приглашением, стало быть…
Не было мне заботы.
ГЛАВА 49, в которой Зослава отправляется гостевать в боярскую усадьбу
Про боярыню нашую след сказать, что женщина она сурьезная. И пущай лишилася что мужа, что сынов, но горе не одолело ее, иссушило только.
Про нее всякое баили.
И что хозяйствие ведет она крепкою рукою, самолично, хоть бы и предлагали ей помощь, да ведала боярыня — с этаких помогатых, из бедных родичей взятых, больше вреда, нежели пользы. И что в хозяйствии этом она каждую корову в морду знает, да что там коровы, кур с гусаками и тех считает самолично, не брезгуя на птичий двор заглянуть. Что строга она с холопами. И спрашивает крепко. И коль положено по Правде, то свое возьмет, зато и на чужое спокушаться не станет.
Небось, когда пару годочков тому полыхнули Серпюхи, которые под усадьбою ея числятся, так боярыня самолично приезжала глядеть да со старостою убытки считала. А после выделила ему рублей золотом на скотину, да лес брать дозволила невозбранно. И зерном сподмогнула. И тех, кто сиротами остался, в усадьбу забрала… правда, те рубли, как отстроилися, пришлося податями возвращать, но так оно и верно — за просто так никто ныне и грошика медного не кинет.
В Барсуках боярыня Юрсупова бывала редко, об чем дядька Панас нисколько не печалился, зато наши к усадьбе ездили частенько, что молоко торговать на боярскую маслобойню, что кур иль яйца. Возили полотно красить, да жбаны глиняные, миски, репу с морквой, яблыки, мед, чего было, то и везли… цену давали честную.
Сами покупали веревки конопляные, тонкое сукно, зерно пшеничное в неурожайный год, а то и муку, когда случалася нужда. Теляток иль куранят, ежели кто желал особое породы, но тех-то боярыня торговала лишь курочками да телочками, а быков при себе держала, блюла породу.
И мне случалось бывать в усадьбе, было дело, когда мор поросячий начался, вот и кликнули кого, потому как лекарь боярский в свиных болезнях несведущим оказался. Оно-то, конечно, дальше скотного двора нас не пустили, но зато и двор этот был огромен. Каменных птичников я до сего дня не видела, крепко дивилася, а уж как в свинарник зашли, так и вовсе онемела. Огроменное строение, а в ем — для каждое свиньи свой закуток, значится. И свиньи в тех закутках, что бояре в палатах царских, лежат да бока належивают. Отдельно — хряки здоровущие, рядом — свиноматки с приплодом аль брюхатые. Тут же борова жир нагуливают аль свинки…
И главное, повсюду чистиня и порядок. Пахло и то не хлевом.
С мором-то мы управилися споро, не в проклене дело было, а в воде, которую свиням из старого колодца носили, тот же засолился, вот и расперло им брюхо. Потом, сказывали, за той колодец и свиней померших боярыня троих свиноглядов едва ль не до смерти засекла.
В своем праве была…
И вот тепериче в гости… и как быть? Отказаться? Так не затаит ли она обиду? А ежель затаит, как с оною обидой жить? Барсуковцам с нее беда выйти может… Согласиться… так не ведаю я, по-за какою надобностию она меня видеть возжелала.
Иль не меня?
Княжна Зослава с сопровождением… так сказано было… а в глазах-то холопьих видно, что не считает он меня княжною, вот ни на грошик. И если не лыбится, то едино из боязни, что хозяйке нажалуюся. А так бы и плюнул под ноги этакой-то княжне.
— К ужину ожидають, — сказал он да голову задрал, аккурат что петух наш, перед курами выступаючи. — И велели передать, что зело оскорбятся отказом…
— Передал? — Откудова Арей взялся, я не увидела. — Вот и езжай… добрый человек. Скажи, что княжне собраться надобно. Честь этакая…
И вот правду вроде говорит.
Честь немалая. И собраться надобно, ибо нарядов я в Барсуки не везла. Куда мне в Барсуках да с нарядами? А выходит, что зазря не везла. И Ареевы слова при всей их правильности звучат… не так звучат.
Неправильно.
Будто смеется он, но не понять, над кем — над боярынею нашей аль над посланником ейным, которого и самой мне послать в охотку, да куда подалей.
— Так что пусть не взыщет, если опоздаем слегка…
Гонец на конька взобрался, хлестанул его ремнем по сытому крупу, злость вымещая, да и сгинул, как не бывало… Арей же ко мне обратился:
— Поедешь?
Я вздохнула.
В охотку было б мне остаться, чай, завтра день особый, зимнего солнца. В этакий день негоже из дому выходить. А поспеем мы возвернуться или придется гостевать, не ведаю. Но только знаю, что не хочу я бабку оставлять…
— А поедет, — бабка моя тут как тут, — все поедьма, сказано ж, с сопровождением… чай, негоже княгинюшку одну да с вами, олухами, отправлять. Вдруг после дурного думать станут?
И Арею обоими глазами подмигивает, значит.
Тот и рад стараться:
— Верно, — говорит, — без сопровождения даме высокородной нельзя уезжать… так что собирайтесь, ману…
Бабушка и разулыбалась.
— Станька! — кликнула. — Ходь сюды…
— Как ты бабку назвал? — спросила я шепотом, когда бабка ушла.
От, небось, все сундуки открыла, наряды выискивая…
— Ману… — Арей смутился. — На азарском — это тетушка… вроде того…
Ой, мнится мне, недоговаривает. А главное, что сказал и со двора так пятится.
— Куда ты…
— Тебе действительно надо собираться… да и мне… найти этого охламона… домой ночевать не явился, представь…
Я-то представила, заодно уж и представила, что сам-то Арей, выходит, дома ночевал. И от этой мысли мне сделалось радостно-прерадостно.
А собиралась бабка со знанием дела.
Юбку достала шелковую, какую еще дед ей справил, и блузу, расшитую бисером. Летник тяжеленный, атласный… шапку с золотой нитью, какую и боярыне не стыдно одеть.
На шею — жемчуга.
На пальцы — перстни.
Станьку в мой старый сарафан нарядила, который, правда, ушивать пришлося, потому как больно худою была сирота. И грядущему гостеванию она не обрадовалася, насупилась, стихла…
Несладко ей жилось на боярских харчах.
— Ничего. — Бабка Станьку успокаивала, косу заплела с лентами, мною купленными. — Теперь мы по приглашению… пусть увидят, какая ты у нас красавица…
А Станька и вправду была хороша. Тонюсенькая, что тростиночка, стоит, качается, глазищи темные, что вишня перезрелая. Волос — мед гречишный. Кожа белая…
Еще годочков пару, и за такою красой со всей округи женихи слетятся.
Мне бабка отыскала материно убранство… я и вздевать-то не желала, чтоб не попортить, да она велела. Мол, нечего над тряпками трястися, память — она прочней атласу. Атлас же был хорошим, блискучим и на две стороны. И узоры на нем, лазоревом, серебром вышиты морозные. А летник, тот из серебряного атласу да с синим шитьем и фирузы камнями.
И село платье… помнится, прежде-то мамкины наряды велики были, а это… я и не помню его.
— В храм она надевала, когда жрец их с отцом венчал… — Бабка вздохнула да тряпицею слезы отерла, которые и были, и будто бы не было их. — Они-то венчаны заявились, да разве ж нашим-то скажешь… будут после шептаться, что по вере иной, аль вовсе…
Она махнула рукой.
— Так-то оно проще… да и деду твоему надобно было видеть… ох, и рад был бы, когда б и тебя… — Бабка смолкла и засуетилась, то за одно хватаясь, то за другое.
Небось, одного наряду мало.
Бояре кажный день иной вздевают. Вот и появлялися из сундуков что рубахи шелковые, что летники расшитые…
— Любили ее, что дед, что муж… баловали безмерно. — Бабка гладила ткани, прижималась лицом, будто ласкаясь. И глаза ее, сухие прежде, блестели подозрительно. — Да и меня не забывали… как оно забудешь, когда… пустое… вот это возьми. И еще этое… Станька, не сиди пнем, неси шкатулку… тую, с кветками… во-во… Зося, сподмоги, а то ж не поднимет…
Этаким чином мы и собиралися…
…После бабка вспомнила, что с пустыми руками в гости ехать неможно, и отправила нас в погреб, меду шукать, да не простого, а чтоб донниковый, белый, дюже для здоровья пользительный…
…а после — угрей копченых, которыми ей старостиха за мазь для дядьки Панаса кланялась…
…и шкурок беличьих, что им зазря пылиться…
Умаялись, пока собралися.
Возок бабке по нраву пришелся. С одное стороны обошла, с другое, языком поцокала, головою покачала: экая красотень! Я не мешалася, мне бы с сумками управиться было. И пущай Арей их споро в короба пораспихивал, но надобно было примериться, чего и куда поклал. А то ж после обыщешься…
Тронулися мы к полудню.
Впереди Лойко на жеребце своем, едет-красуется… девки повыбегли глядеть, не то на Лойко, не то на возок… Ильюшка, тот в хвосте.
Арей вовсе на козлы сел, уж не ведаю, с какой надобности. Не доверял кучеру? Аль тот сам притомился, перепил накануне? Как бы там ни было, но из дюжины царевых людей только половина свитою стала. Оно и ладно, и без того солидне выходило.
— С почетом едьма, — сказала бабка и семак тыквенных вытащила. — Будешь?
А и буду… ехать-то хоть и близенько, да зимою дороги длинней делаются. Вот и займу себя семками, чтоб дурное в голову не лезло.
ГЛАВА 50 О боярском гостеприимстве
Добралися затемно. Оно и верно, что дни-то взимку коротенькие, утром моргнешь, а глядь, уже и вечер наступил. Сумерки тянулися от вырубок, ложились лиловыми тенями на ковры снежные, марали. И солнце угольком догорающим спешило скрыться в тучах.
Внове наснежит.
В этакую ночь, оно только так и бывает…
Встречали нас холопы со старостиною сестрицей во главе. Она-то, раздобревшая слегка, но все одно с лицом худым и недовольным, держалася истинною боярынею. Ручкою махнет, и бежит детвора к коням, распрягать, разводить…
Вторую подымет, и к нам уже дворня спешит, ковер под ножки расстилает, кланяется, несет хлеб свежий да с солью.
Хлеб я приняла.
— Вас ожидают, — сказала старостина сестрица и мимо проплыла. А гонору-то в ней опосля свадьбы не поубавилося, напротив, прибыло даже. — Прошу проследовать за мной.
Прежде-то она попроще говорила.
Но раз просит, то и проследовали.
Только гостинцы бабка вытащила и Станьке велела рядышком держаться. Та и кивнула, оно понятно — шагу не соступит… вона, со страху в бабкин поясок вцепилася, идет, головою вертит да жмурится.
И я поглядела.
На парадную лествицу из камня тесанную да статуями красоты ради обставленную. Лежали огроменные звери, не то быки, не то коты, да еще и с крылами.
Возвышалися колонны, крышу подпирая.
И двери преогромные пред нами отворилися, мол, пожалуйте, княжна Зослава, в гости…
Идем по коридору… впереди, стало быть, я. Рядом — бабка моя со Станькою. За нею — Лойко, которому бабка корзину с гостинцами всучить успела. Илья тут же… Арей сзади.
Охрану-то спровадили в людскую. Негоже простому люду да за белым столом сидеть.
А чую — не по нраву Арею то, как и местная усадьба.
Что сказать… мне тут тоже было неутульно… вот навроде все как у людей, может, получше, чем у иных. Полы коврами устланы, стены беленые да расписанные цветами. Сундуки вдоль стоят с добром всяческим, и кажный на свой ключ заперт. Те ключи, сказывали, боярыня с собою носит, никому не доверяя. Над сундуками — картины шитые, что крестом, что гладью, а что и вовсе бисером… и свечи горят, светло, что днем. А вот… неуютно.
Привели нас к иным дверям, из дерева резанным да вызолоченным.
И человек, открывши их, проорал:
— Княжна Зослава с сопровождением…
От же ж… будто бы боярыня кого иного ждала-то. Иль по этикету принято, чтоб дворня глотки драла? Не ведаю, опосля у Арея спрошу. А ныне он в спину подпихнул, стало быть, не надо медлить.
Боярыня ждет.
Я и шагнула.
Присела, как Арей учил. Бабка моя только хмыкнула, небось, таких кудесей от меня не ждала. Тихонечко всхлипнула Станька, а Лойко шепотком сказал:
— Не боись, малая, не дадим в обиду.
И как-то сразу спокойне сделалось: этот, хоть и брехливый, что пес по осени, а тут не солгал. Не даст. Он же ж не просто так, а урядников сын, и за меча ведает, с какой стороны браться, и магик не из слабых. Туточки магиков, небось, нету…
Огляделася я.
Горница-светелка, да только темно в оное светелке. И невелика она, кругла непривычно. Окошки махонькие, под самым потолком. А посеред горницы кресло резное стоит, опричь него — шандала с дюжиною восковых свечей. В кресле, стало быть, сама хозяйка имения отдыхать изволят, да не просто, но с шитьем, коие девка сенная споро подхватила, в кузовок спрятала, а сама рученьку боярыне подала, чтоб поднялася та.
— Премного рада… — Голос боярынин оказался грудным и глубоким, этаким в храме бы петь, весьма бы благолепно вышло, — что вы соизволили принять мое скромное приглашение…
— Так…
Хотела ответствовать красиво, да язык заняло.
— Это огромная честь для нас, — не растерялся Ильюшка, вперед выступая. — Единственно, мы просим простить нас великодушно за неподобающий внешний вид, ибо не смели мы надеяться на подобную встречу…
Гладко говорит.
Боярыня кивнула да с места своего сошла.
Что сказать, была она женщиною крепкой, и годы не отняли сил. Да и красоты не зело убавили. Помнилося мне, что прежним часом она не столь хорошо гляделась. Может, с того, что издали ее видала? А туточки вот близехонько… стою, пялюся. Дивлюся.
И чем ближе подходила Добронрава Любятична, тем сильней я робела.
Какая из меня княжна?
— И с кем же свела меня воля Божини? — спросила она, глядючи на меня.
— Илья Мирославич… Батош-Жиневский. — Илья запнулся, явно не желая называть род свой, который был в царствие весьма ведом. — А это Лойко Жучень…
— Уж не Игоря ли Жученя сынок?
Лойко склонил голову.
— Были мы знакомы… были… рада принимать сына его в своем доме…
— Арей… будущий маг-огневик…
— Какая честь, — сказала, что словом бросила, вот ни на мгновеньице не поверила я, что и вправду сие она честью полагает. — Что ж, вижу, сопровождение у княжны знатное… с таким не боязно по дорогам ездить…
— Так и княжна у нас не из боязливых, — заметил Илья.
И с чего это он разговорился? Прежним-то часом помалкивал больше…
— И это замечательно…
Боярыня в ладони хлопнула, и тотчас из-за двери выскочил кривобоконький человечек.
— Вели накрывать. Гости прибыли. И музыкантов кличь, праздновать станем…
А бабку мою и не заметила будто, не говоря уже о Станьке. Бабка с корзиной сунулась было, да ту ловко из рук приняли и уволокли куда-то.
Боярыня ж меня под ручку подхватила, будто бы подруженьку сердешную, да повела… куда вела? А недалече, в залу, стало быть. Этая зала, в отличие от горницы, огроменною оказалася. В ней, небось, былыми временами и боярин сидел, и вся его дружина с женками да юнцами. И славно, мнится мне, сиживали… но и нынешним часом боярыня расстаралася, и вправду себя дорогою гостьею чую.
Стоят столы дубовые.
Накрыты скатертями алыми, парадными, да с шитьем. Пылают свечи числом бессчетным и в серебре да золоте отражаются.
Богат дом Добронравы Любятичны.
Есть в ем и подносы чеканные, на которых осетра разлеглися. И талерки круглые с каймою для перепелов и куропаток… стоять черпачки с икрою белужьею да паштетом из почек заячьих… хозяйка меня вдоль стола ведет и сказывает, значится, про паштеты, про икру энтую, которая мне горсточкой земли гляделася. В жизни не подумала б, что этакое ести можно.
А тут тебе и раки в панцирях красных да расписанных празднично.
И порося молодое.
Гусаков ажно три… и всякое мясо, будь то копченое аль вяленое, жареное и пареное… я этакого роскошества в жизни не видывала.
Боярыня же в креслице села с медвежьею башкою.
А меня по правую руку усадила…
По левую же сел парень вида смурного. Сам длинен, что жердь, тощ и нехорош лицом, побито оно пятнами красными, жирными. И припухлые оне, а те, которые давнейшие, корочкою покрылися. Парень головою крутит, пальцами трогает, да боярыня хмурится.
— Сынок мой, — говорит она с нежностью. — Добромысл… Добруша, поприветствуй гостью высокую…
— Ага, — буркнул тот, сгибаясь. — Щас…
— Добруша… — С голосу боярыни холодком потянуло. — Помнишь, о чем мы с тобой говорили? Не обижайтесь, княжна Зослава. Он славный мальчик, но, к сожалению моему немалому, несколько одичал тут… сами понимаете, глушь, ни развлечений, ни друзей…
Добромысл лицо потрогал, скривился.
— Но по весне, как подсохнут дороги, мыслю в столицу его отправить. Пусть тоже в Акадэмии поучится…
— Глядишь, чему-нибудь и научится. — Лойко на лавку плюхнулся и потянулся к блюду с почками заячьими верчеными.
А может, с гусиною печенкой.
Главное, что безо всякого стеснения и на политес наплевавши.
Бабка моя рукава подобрала, бранзалетами защепила и тоже боярскому столу должное отдала. Пришлось ли сие Добронраве Любятичне по нраву, мне неведомо, ибо глядела она на гостей ласково, так ласково, как лисица на каплунов.
— Кушайте и вы, Зославушка, — молвила, подвигая ко мне тарелочку с перепелами, в меду варенными. А себе-то травы какой-то наложила, пояснив: — Лист сие салатный, зело полезный для движения крови.
И вилочкою двузубою лист этот подцепила, только он и хрустнул. Сунула в рот, сидит пряменько, жует… рученькой махнула, тою, с вилкой, да уже без листа.
Тут-то давешний человечек и захлопотал…
В залу вбегли скоморохи да потешники, стали кувыркаться, рожи корчить. Иные страшные, иные — смешные… карлица на поросяти проехалася. После будто бы бойку устроили, только вои оные на детских конях сидели, которые головы на палки крученые да при гривах мочальных. Заместо мечей — веники, заместо шеломов — ведра.
Весело получилось.
Боярыня и та милостиво улыбнуться изволила да монеткою скоморох за старание пожаловала.
— Ешьте, — сказала она, — гости дорогие… пейте… и ежели чего вашему сердцу недостает, то говорите, коль сыщется, чем вас порадовать, то и с охотою превеликой порадую. А нет, то не взыщите…
Ели.
Пили.
Гутарили… про сады яблоневые, которые Добронрава Любятична нонешним годом наново садила, потому как в прошлым пошли яблони гнить, да и вовсе старыми были. На новый-то сад магика звала, стихийника, который землю чует. И обещался он ей, что все яблоньки примутся да в рост скоро пойдут. Может, селета уже порадуют урожаем.
Про смолокурни, которые только в проекте.
Про ткацкие станки царьградское манеры, с которых полотно выходит тонюсеньким… про луга и коров, коней… про иное хозяйство, бывшее при усадьбе богатым. Сказывала она обо всем охотно, даже чересчур уж охотно, только с каждым словом се наследничек все более мрачен делался.
Он сидел смурен, не ел ничего, не пил.
Только щеки драл, когда того маменька не видела. Она же, ко всем ласковая, стоило взгляду на Добромысле остановиться, мрачнела, и улыбка на губах ее блеклою делалась, натужною.
Ох, неспроста эти разговоры.
И ласка внезапная… да только понять я не могу, сколь ни силюся, чего ж ей от меня да надобно-то?
Сидели мы этак, сидели.
И здравицы боярыня поднимала.
А после Лойко подхватил, Ильюшка там… и бабка моя слово молвила за хозяйку, стало быть, дома. Да я не пила, и она, гляжу, губы помочит и чашу огроменную в стороночку отставляет. Бояре нашия за ея примером идут. И Добронраве Любятичне сие очень не по нраву пришлося.
— Что ж вы, гости дорогия, — спросила она, вздевая ко рту горошинку одинокую, — не пьете ничего? Аль нехороши вина погреба моего?
Вина, как по мне, и вправду были кисловаты, что белое, что красное… вот меду бы. И коль попросила б, то и принесли б мигом, быть того не может, чтобы в погребах Добронравы Любятичны не сыскалось бы медов. Да вот, подумалося, что голове моей лучше бы ясною побыть, тверезою.
— Уж прости, хозяюшка. — Бабка моя рученьки на грудях скрестила преблагостною манерою. — Да только стара я стала, кости ломит, голова болит и без вина. Оне-то хороши, да неможно… для здоровья сие вредно.
И ножку курячью двумя пальчиками в тарелку потянула.
Курячьи ножки, они для здоровья пользительны.
Надо думать.
— А ты, боярин…
— А что я? — Лойко чашу отодвинул. — Нам по уставу Акадэмии пить неможно.
От оно как выходит! А позавчерась кто уставу нарушал? И Вчерась?
— Так вы ж не в Акадэмии!
— Оно-то верно… да Акадэмия магическая… не взыщите, Добронрава Любятична, да хуже пьяного мага — только пьяный маг-недоучка, — степенно произнес Илья. — Он такого натворить способен, что после вся Акадэмия не разберется…
И Арей кивнул.
Этот и вовсе ел осторожно да больше по сторонам глядел.
— Что ж… хоть ты, Зославушка, меня порадуй…
Ага, нашли тут самую радостливую.
— Так ведь, — я руками развела, — где ж это видано, чтоб девка безмужняя винами напивалася? Нехорошо это…
Как есть нехорошо.
И боярыня головою покачала, а сынок ее к чаше-то и потянулся, за что и получил по рукам.
— Мамо!
— Добромысл, — молвила боярыня мягенько, — тебе уже пора…
— Но мамо!
— Пора, я сказала… вы и нас простите, гости… да только сыну моему, чтоб с болезнью управиться, надобно режим соблюдать… и диету.
— А что за болезня? — Бабка была б не собой, когда б не спросила. Ее-то книгами этикетными не мучили, где писано про неудобственные вопросы, которые задавать людям никак неможно. Она-то по-простому. И ноженьку курячью обглоданную на краешек тарелки примостила, пальчики платочком отерла. Поднялася. — Ходь сюды, сынку…
Добромысл на мамку глянул и со стула сполз.
Боярыня же вздохнула тяжко.
— Редкая, — говорит, — хворь… мы уж кого только не кликали, и лекарей, и целителей, и в столицу даже возили, да только без толку. Чуть отступит, а потом сновку начинается… такое мучение. Пятна вот эти по всему телу… чуть перенервничает, так и пузырями идут.
— Пятна, значит… — бабка своему пациенту и до плеча не доставала. — Наклонись… чешутся?
Он головою кивнул.
— А ночью как?
Добромысл вздохнул тяжко. Стало быть, и ночью чешутся. Мне его аж жалко стало, мается парень зазря… вона, небось, как одолел бы болячку свою, то и ладным парнем сделался б. Оно-то, может, и кажется, что нет такой уж беды, ну пятны, ну свербять маленько, так у людей болячки посурьезней случаются. Да только я сама помню, каково это, когда комарье погрызет на сенокосе. После вертишься-крутишься, на один бок ляжешь, на другой, изведешься вся, покудова заснешь, да и во сне чухаешься, бывало, что и до крови расчешешь. А главное, от паскудства этакого ни одно бабкино зелье не спасает.
— Ест он только мясо вареное да репу… пьет — воду. Чуть выпьет не того, так и коростою покрыться может… а говорят, что не лечится сие, что от разладу идет душевного.
Боярыня платочек к глазам поднесла.
А глаза-то сухие.
И на сына глядит строго, тот с этого взгляду и сжимается, голову в плечи втягивает.
— Что ж, Добронрава Любятична. — Бабка пятна потрогала, глянула искоса да головой покачала. — Этой беде и вправду нелегко помочь. Раз уж целители не сподобилися… но вот… могу я сделать мазь одну, на солончак-корне, которая зуд снимет. И настой один ведаю. Будет принимать, то и спокойнейший сделается, а заодно уж с едою поглядьма, может, и наладится. Всего-то сразу ести неможно будет, но потихонечку… дело-то неспорое…
— Уж не знаю…
— Хуже все одно не сделается, — сказала бабка.
А в глазах парня мелькнуло что-то этакое… непонятное.
— Раз вы уверены…
— Видала я уже такое. Оно, ежели потихоньку, то годика за два, за три и вовсе повыведем. Только, правда твоя, боярыня, болячка этая из поганых. Ее не вытянуть, не повывести до конца, затаится, будет сидеть в теле. И коль даст сынок твой слабину какую, зновку вылезет…
Мне же вдруг спать захотелося, и с такою силой, что не сдержала я зевка, рот, правда, рученькой прикрыла. Но сонлявость обуяла страшенная.
— Вижу, вы устали… — Боярыня поднялася с крестлица своего. — И мне следовало бы подумать, что в деревнях ложатся рано… ваши покои уже готовы. Добромысл, проводи гостью…
Он только вздохнул тяжко, не было заботы с этакими гостями, да матушке своей перечить не посмел.
— Прошу вас, княжна, — сказал тихо-тихо, так, что едва рас слышала. А уж у меня-то слух — не чета человеческому.
— И Станьку с собой возьми… умаялась девка.
— Вижу, вы за сиротой хорошо глядите…
— А то. — Бабка Станьку со стула сдернула, та и вправду носом ужо клевала, этак и на тарелке спать устроится. — Хорошая она, справная. И не без таланту. Пару годочков пройдет, знатною лекаркою будет…
— Мы для нее отдельные покои приготовили…
— Да зачем? — удивилася бабка. — Оне привычные, вдвоем на одное кровати лягуть, чай, Станька худая, что хворостина, не замине.
А боярыня только нахмурилася.
— Идите, — говорит, — отдыхайте…
И Добромысл повел.
Коридорами какими-то, лествицами… этакая домина, и как в ней не путаются-то? Остановился у дверей резных.
— Скажи, — впервые он говорил громко, и голос его был, что у матушки, красивым, глубоким. Эх, когда б не пятна на лице, задурил бы боярский сын немало голов девичьих, — а твоя бабка… она вправду способна сделать то, о чем говорит?
— Не знаю, — не привыкшая я врать. — Я такой болячки не ведаю, но она никогда попусту не обещалась, и коль говорила, что сделает, то и делала.
— Хорошо…
Он хотел добавить еще чего-то, да отступил.
— Ложитесь спать. Завтра вставать рано. Жрец приедет служить во память…
…самый короткий день.
Темный.
И кажуть люди, что оттого темный он, будто бы приотворяются двери Мораньиного царствия, и души, которые в ем заперты, на волю выходят. Что летят они журавлями да по небу, жалются, плачутся на судьбину свою, ищут добрых людей, которым не жаль поминальной каши и молока свежего.
И как найдут такого, то и возьмут молока.
Каши.
А может, с нею и прощение добудут. В Мораньино царствие души попадают, которым грехи на крыла неподъемною тяжестью ложатся, а как скинут оную тяжесть, так и воспаряют в вырай.
Люди-то молоко у порогов ставят.
И кашу.
Оно ж не ведомо, как оно после смерти будет, может, и тебе случится за серый порог идти.
А еще, говорят, что в этот день и иное царствие до людей снисходит. Что слетают незримыми тенями те, кто ушел, да еще не возвернулся в новоем теле. И порой в теле память просыпается чужая… и всякие иные чудеса случаются.
Главное, что в храмы люд идет.
Несет подношение обеим сестрам, ибо равны они в силе своей.
И молит их о милосердии, любви да благости к ушедшим. И сам вспоминает тех, кого не стало в доме… печальный то день. И неохота его на усадьбу тратить, да только, чуется, не отпустит нас гостеприимная боярыня.
Сенная девка помогла мне разоблачиться. И водицы полила на руки, и полотенец поднесла влажных, чтоб пот обтереть. Рубаху полотняную.
Подарок хозяйкин.
И отказаться бы, да уж сил нет… глаза слипаются, куда иду — не вижу… ведут за рученьки к кровати, в которой уж Станька сопит. Ухнула я в мягкие перины, что в пропасть. Только подумалося — это ж надо было умаяться-то так!
Проснулася я от визгу.
И ктой-то так верещал, ажно заходился, что прямо сил никаких не было. На оный визг я глаза и разлупила… а понять-то ничего не могу.
Где я?
И чего это деется-то?
Кто верещить? Зачем?
Села… глаза тру, а их будто бы воском залепили. И плыветь все, качаеться. Темно, и свечечка куцая, на листку-подсвечнику поставленная, темени лишь прибавляет.
— Заткнись, дура, — раздался знакомый голос.
Арей?
А он тут чего творит?
— Ой, — ойкнула девка, рот обеими руками зажимая. — А б-боярин где?
Мне вдруг дюже любопытственно сделалося, какой же энто боярин потерялся и отчего искали его в моей постели. Я и рот открыла, зевок давя, когда двери распахнулися и на пороге возникла Добронрава Любятична собственною персоною.
— Что тут происходит? — громко спросила она.
И я знать хочу.
— Он… — Девка ткнула пальцем в Арея. — Я захожу, а он тут… на полу лежит…
Боярыня нахмурилась.
И комнату взглядом обвела, хмурым таким взглядом, от которого девка сжалася в комок. Свечка в ея руках и та тряслася хвостом мышиным.
— И что вы здесь делаете? — В голосе боярыни был лютый холод.
Да только что энтот холод Арею. Усмехнулся он, потянулся, нарочито медленно, Добронраву Любятичну дразня, и говорит:
— Мой родич поручил мне стеречь его невесту… вот я и стерегу.
— Здесь?
— Стеречь ее в другом месте было бы несколько затруднительно, не находите?
— Вы думаете, что княжне в моем доме что-то угрожает? — И бровку этак вздернула, да только Арей и бровок боярыниных не убоялся.
— Я не думаю. — Он зевнул. — Я исполняю поручение.
— Вы… — Боярыня аж покраснела, небось, никто с нею не смел так разговаривать. — Да что вы себе позволяете?!
— Чего он там позволяет? — На пороге появился Лойко, сонный, встрепанный. — Безрогий ты наш… давай ты себе будешь позволять в другое время… спят все давно.
Безрогим он Арея нарочно обозвал.
Да только тому что с гуся вода.
— Это недопустимо! — ярилась боярыня, только как-то… очень нервозно ярилась. — В постели незамужней девушки…
— Рядом с постелью, — деловито уточнил Арей.
— Неважно! В одной комнате… ее репутация…
— …заботит ее нареченного. А ему спокойней, когда кто-то рядом с княжною. А то ведь сами понимаете, дом большой, запутанный, еще ошибется кто невзначай. Потом объясняй ему, что он и вправду ошибся, провожай…
— Куда?
— За дверь, — ответил Арей, в глаза боярыни глядючи. — Иные и такие упертые… прям бараны… хоть силком выволакивай.
Добронрава Любятична рот раскрыла.
И закрыла.
И девке отвесила оплеуху.
— Дура… чего верещишь?
— Так ведь того… матушка…
— И этого… прочь пошла.
Девка и шмыгнула за двери, следом и боярыня выплыла, правда, напоследок Арея взглядом недобрым одарила, будто примериваясь, как оно половчей будет с него шкуру-то спустить. Арей взгляд оный спокойно выдержал.
Поднялся даже.
И поклонился боярыне в пояс.
А как вышла она, то и на шкуру подле кровати вернулся, будто бы оно так и надобно. Я только рот и раскрыла…
— Сами справитесь? — зевнул Лойко и живот поскреб. — Аль подсобить?
— Справлюсь. — Арей на шкуре вытянулся.
— Ну глядите… если чего, то свисти.
И дверь закрыл.
А я… что я… сижу дура дурой, что кура на насесте, и понять пытаюся, чего ж тут творится-то.
— Ну? — Я, конечно, не боярыня, и грозности голосу моему, может, недостает вовсе, да только и без грозности сумею. — Чего ты вытворяешь?
— Сплю, — глазом не моргнув, ответил Арей.
— Тут?
— Тут, — и по шкуре медвежьей похлопал. — А что? Мягенько, тепло даже, если завернуться…
И вправду завернулся, да этак ловко, что только и осталося — диву даваться. Лег этакою косматою гусеницей, да и лежит.
— Арей. — Я с кровати-то сползла да ноженькою его в бок пихнула, не сильно, так, чтоб не заснул. — Рассказывай…
— А не то?
Глаз он открыл, левый.
— А не то за кочергу возьмуся.
Ухватом-то оно удобственней спрошать было б, да где ж я в тереме боярском посеред ночи ухвата возьму? Вот и приходится кочергою обходиться, подручным, стало быть, как учил Архип Полуэктович, материалом.
Арей же не испугался.
Сел.
Зевнул.
И сказал:
— Мне это местное гостеприимство, уж прости, Зослава, очень подозрительным показалось. Тетка Алевтина сказала, что прежде-то в гости вас с бабкой не зазывали. Верно?
Я кивнула: как есть, не зазывали.
— А тут вдруг этакая милость… и с чего, спрашивается?
— Не знаю.
— И я не знаю. Ты у нас, конечно, ценный приз…
— Чего? — За кочергою было вставать далече, потому я вновь Арея пнула, пусть говорит, да не заговаривается.
— Это выражение такое. — Он не обиделся, но на всяк случай отсел подале. И верно, разговор долгий, на этакую никаких боков не хватит. — Про кровь берендееву вам уже объясняли. И потому, конечно, можно списать все на желание вашей боярыни породу улучшить…
— Какую породу?
От умный человек, а говорит порою такое глупство, что ни кочергою, ни ухватом не выбить!
— Собственную. Ты же сама слышала, дети здоровые будут, и их дети… и дар твой опять же, удача. Это немало, Зослава. И в ином случае я решил бы, что причина только в этом, но…
Он поднялся на ноги, легко, будто не сидел только что, оные ноги скрестивши. К двери подошел, прислушался. Кивнул и провел по ней ладонью. И по оное двери распозлись, растеклись нити бледное паутины. Оплели и дверь, и комнату.
Было иначе, чем в тот раз, когда буря играла с нами.
— Если она так хотела женить своего сына на тебе, то почему не сделала этого раньше? В деревнях, как понимаю, сватают рано. И возможности у нее имелись, и время. И о крови твоей она знала, не могла не знать.
Арей говорил тихо, а мне от слов этих и от паутины жутко делалося.
Вот же… съездила погостевать.
Домой, и завтре же…
— А она медлила, в Акадэмию позволила тебе отправиться, хотя, уж извини, Зослава, твое образование будущей родне невыгодно.
— Отчего? — Стало за себя обидно. Это ж выходит, что думает он, будто бы не будет у меня силов выучиться? Аль умишка недостанет?
— Оттого, что человеком образованным управлять сложней. А для родни благородной, прости, но я говорю, как оно есть, ты навсегда останешься холопкой. Таких оставляют в отчем имении, в тереме, девками сенными окружив, да наведываются раз в год, чтоб нового наследника сделать…
Зло он говорил.
И на кого злился? На меня ли? На свою ли судьбу? Еще на кого? Не знаю. И знать не желаю. Встала я, взяла его за руку и попросила:
— Присядь.
А он и послушал, сел на лавку, головою тряхнул:
— Извини… мне велено тебя стеречь, вот и стерегу, как умею…
— Ладно умеешь. Так что… тут было?
— Что было? А ты с полбокала вина захмелела крепко, за столом едва спать не улеглася, вот боярыня и велела своему сыночку тебя проводить. И я за вами пошел.
Навряд ли боярыня сему обрадовалась.
— Остановить не пытались, только девки подскочили, в комнату мою повели, стало быть. Говорить начали, будто притомилась ты безмерно. Я и пошел. Понял, что сразу, по белу дню, не полезут, а если вызову подозрение, то найдут способ отвадить. Сказался пьяным, побушевал слегка порядку ради, потом позволил себя увести, только повесил на твою дверь сторожка. Кто порог ни переступит, я и вижу… и не только вижу. Хочешь глянуть?
А то!
Оно ж, конечно, я человек терпеливый дюже, да, чуется, любому терпению конец подходит.
— Тогда гляди. Временной слепок. Магия нестабильная, но тут по свежему следу наложено, так что видно будет неплохо… вы это позже проходить будете.
И вновь пальцы скрутил хитро, мизинчиком дернул, невидимую нить подцепляя.
Мигнула паутина.
Сыпанула мелкою пылью, да какою-то седою, блискучей. И энтая пыль вдруг картинкою сделалась. Вот девка сенная к двери идеть, да не одна, а со Станькою, которую через плечо перекинула, будто бы мех какой. Только руки и мотляются.
Вот девка этая назад возвертается, одна.
И к кровати прямиком, а на ей я сплю… ох и страшно было на себя-то глядеть! Чтоб не ведала, что морок это, так бы и заверещала, не хуже давешней холопки. Так же ж только вцепилася в руку Арееву, сколько моченьки было. А моченьки у меня было, Арей вона и скривился.
— Ой, — сказала я, — прости…
А я-то, сонная, нехороша… она, щека по подушке растеклася, коса растрепалася, одеяльце-то съехало… срам один, иначей и не скажешь. Девка же сенная к самому моему лицу склонилася и еще за нос ущипнула. От же ж…
После одеяльце стянула, меня подвинула… и вышла тихенько.
Внове дверь отворилася, впуская Арея, который ко мне подошел, наклонился, поводил руками над головою. Ну хоть за нос щипать не стал, все радость. Лег у кровати, и так лег, что не разглядишь.
Покосилася я… сидит ровно, глядит. И сам такой сурьезный-сурьезный, прямо моченьки нету. А я, которая морок, так разоспалася, что ажно пузыри пускаю. От же ж… красавишна.
Туточки дверь приоткрылась, пропуская на сей раз не девку сенную, а Добромысла. Он вошел бочком, со свечечкою, которую рукой придерживал. На меня глянул и ажно перекривился весь. Мне тут обидно сделалося. Я, конечно, не Велимириной красы, да и сплю тут… сонный же ж человек, он иначей глядится, но коль не по нраву столь, то чего лезти?
Добромысл же к кровати подходил медленно, с неохотою.
А как подошел близенько, то и вырос перед ним Арей… мало того, что вырос, так и рот рукою закрыл, и боярина за плечики придержал. Тот только трепыхался, что рыбина приморенная. Арей же чтой-то ему выговаривал, а чего — не понять, потому как морок вышел беззвучным.
Жаль.
Я б послухала.
Арей боярина отпустил, видать, решивши, что все-то он уразумел, да только не привык Добромысл, чтоб ему перечили. Вывернулся, руки в боки упер, грудь выпятил, и Арею чегой-то в ответ говорит, да лицо такое, что без словей понятно — не награду сулит.
— Грозился? — спросила я шепотом.
— Ага, — Арей плечом дернул. — Не он первый.
И не он последний.
А я-то сплю, и так крепенько сплю, что и ухом не повела, только на бок другой повернулася. Арею ж боярина слухать прискучило, аль иных каких гостей дожидался. Главное, что пятерню он растопырил, а после будто бы фигу скрутил…
Добромысл от того лишь поморщился и щеку поскреб.
— Магия на него не действует, — шепотом объяснил Арей, — что тоже очень и очень странно. Защитных амулетов я не почуял, поэтому либо врожденное свойство, либо делали их настоящие мастера, до которых мне, что земле до неба…
…Вот только откудова этим мастерам в наших краях взяться?
Нет, могло выйти так, что амулету для сына боярыня по случаю прикупила, у купца заезжего аль на ярмарке, в жизни-то всякого случается, но что-то не верилося мне в этакое совпаденьице.
Меж тем Арей на руку свою глянул, нахмурился: не по нраву ему пришлося, что магия евоная на боярина не подействовала. Зато и без магии управился. Рученьку левую Добромыслу на плечо возложил, а правою, стало быть, в шею тыцнул. Ну боярина и повело, покачнулся он, упал бы, да Ареем был подхвачен бережно, под локоточки.
Арей боярина к дверям поволок, но остановился, прислушался к чему-то, да так слухал старательно, что уши дергалися. И, небось, выслухал чегой-то, отчего с боярином повернулся к моей кровати.
Глянул на меня.
На одеяльце сбитое.
— Зослава, — Арей вдруг отодвинулся, — ты только не кричи, ладно? Времени у меня было немного…
Тот же другой, намороченный, споро запихал боярина под перину, благо пышные лежали, и одеяльцем прикрыл.
Я рот раззявила.
И закрыла.
От же ж… как же ж… мне в постелю мужика сунуть? И главное, сам под бочок прилег…
Меж тем дверь — этая дверь нонешнею ноченькой вовсе не запиралася — пропустила ту самую сенную девку, которая, не дойдя до кровати на два шага, слепо прищурилася — свеча у ей была слабая — и заголосила… а там Арей рученькою махнул, и морок развеялся.
— Видишь, как оно… странно…
Странно.
Еще как странно… это ж выходит… они нарочно? Ну а как иначей. Станьку забрали, чтоб не заминала. Одеяльце стянули. Добромысла привели. Слыхала я, что этаким чином девки хитромудрые иных парней на себе женили. Придут на сеновал, а следом и тятька с братами аль иными сородичами, чтоб свидетели, значится, были, что девичьее чести урон нанесен был.
А там и жреца притянут.
— Жрец. — Я глаза потерла, все ж таки спать тянуло со страшною силой, и на перинки бы прилечь… да как приляжешь, когда под перинками цельный боярин лежит. — С утра жрец должен явиться…
…и стало быть, обвенчали бы нас поутру, на рассвете, так сказать…
Одного не пойму, зачем?
Арей же пальчиком меня поманил да на перины указал. А и то! Надобно у боярина спросить, он, верно, знает, с чего вдруг матушке евоной этакую предивную невестушку обресть восхотелося.
Главное, чтоб не задохнулся сердешный.
ГЛАВА 51 О том, что поведал боярин
Добромысл лежал тихенечко, что мыша под веником, правда, те не лежать, сидять, но так разница, как по мне, малая. Арей его выволок, ужо не под локоточки, но за пятки, без всякого пиетету. И на шкуру столкнул, мне почудилося, с немалым удовольствием. Боярин же и глазом не моргнул, оба глаза его были закрытые, и вид Добромысл имел такой, будто бы спит.
— Что ты с ним сделал? — спросила я, на карачки опускаясь. А то, может, сердце боярское нежное этакого обхождения безполитесного не выдержало. Да и любопытственно было поближе на пятны глянуть.
— Ничего. На точку особую надавил, есть такие в человеческом теле. Если правильно нажать, то и усыпить человека можно, и покалечить…
Не договорил, да и так ясно — убить тоже станется.
Экие, однако же, душегубские науки в Акадэмии нашей родной имеются…
— Спит он, спит, — заверил меня Арей.
— И долго еще спать будет?
А то ж я б и сама поспала, но не с мужиками же ж при кровати! Да и любопытствие мучит, чегой это вокруг меня игрища подобные затеяны. Чай, не царское крови особа…
— А пока не разбужу.
И ладно.
— Пока не буди. — Я перевернула боярина на спину и рубаху потянула за ворот, на шее-то пятна вроде темнейшие были. Рубаха не тянулася, тогда я подол задрала и попросила Арея:
— Свету дай.
Он ладонь раскрыл, огонька зажигая. Огонек был махонький, зато и светил за дюжину свечек. А как поднес его Арей к самому Добромыслову животу, то и охнул.
Жуть экая!
С лица-то боярин был гладок, худляв, оттого и мнилося мне, что годочков ему немного. Однако ж тело евоное иное говорило. Я-то мужиков наших повидала, кого опосля бани, кого в работе, небось, рубахи-то скидали, чтоб не пропотели. Приходили и к бабке, плечи править, спину лечить аль иные какие болячки. Главное, что навидалася я и юнцов, и стариков, и мужиков, которые в самоей силе.
Добромысл давно уже юные годы сменял.
За два десятка ему было, и крепко так было… вона, плечи широченные, руки крепкие, мышцы узлами идут. Грудь волохатая, и живот курчавым волосом порос. И оттого дивно, что одежи он носил детские… да и боярыня держалася так, будто был сынок ейный годами юн.
Однако не о годах думать было след.
О болячке евоной.
О язвах, что покрывали и плечи, и грудь, и живот. Особливо одна выделялася, которая на боку, темною вишней выглядывала в растрескавшейся коже. На этакую и глядеть-то жутко.
Арей вон, на что силен, и то отвернулся.
— Зослава, — произнес он, — а это не заразно?
— Не ведаю. — Я боярина прикрыла. Помочь ему я не могла, надеюся, что бабка моя сумеет, потому что не заслужил человек, хоть бы и не самых честных намерений он, этакой судьбы…
— Тогда, будь добра, убери от него руки.
Убрала.
И даже о шкуру отерла.
Дед казал, что людские болезни род берендеев стороною обходят. Уж буду надеяться… да и бабка упредила б, когда б заразно. И боярыня не стала б сына в щеку целовать…
— И присядь на лавочку. — Арей меня за плечи взял да к лавке указанной проводил, точней, не лавкою она оказалась, а сундуком низеньким с крышкою покатой, на которую удобствия ради подушку кинули. — И Зослава… может быть, то, как я с ним буду говорить, покажется тебе неправильным. Жестоким. И ты захочешь вмешаться, только мне нужно, чтобы он ответил на вопросы. Я не причиню ему вреда. Не имею права. Но он об этом не знает. Понимаешь?
— Грозиться будешь?
— Еще как.
Я рукою махнула.
Переживу как-нибудь. Оно, конечно, радость то не великая, да только всякого странного и помимо Добромысла хватает, а от угроз еще никому плохо не делалося.
Арей же боярина усадил.
Да руки ему за спиною пояском стянул. И ноги тоже стянул, крепко так. Чтоб не сбег, значится. Верно, а то шукай его опосля по всему терему.
— Просыпайся, красавец ты наш, — сказал Арей и мизинчиком в грудь тыцнул. Я шею вытянула, до того хотелося ту самую особую точку разглядеть, да ничего не увидела.
Только боярин споро очухался.
Головою замотал.
Замычал.
Глазыньки разлупил и, меня увидавши, скривился премного. А я что? Я сижу тихенечко, как велено было. Семак бы ишшо… наши девки, когда чегой-то интересное случается, завсегда с семками идуть, так и смотреть интересней, и руки занятыя.
И рот молчит.
— Да как ты смеешь, холоп! — Голос у боярина был маменькин, грудной, глубокий. А я внове подивилася с того, как приняла Добромысла за юнца.
С того ли, что невысок?
Сутуловат?
И кость в нем мелкая. Мелкая — не значит, что слабая.
Он же руками дернул, ногами, понял, что связанный, надулся, что индюк.
— Ты, — говорит, — еще поплатишься!
— Не грози. — Арей присел на корточки и ножичек вытянул. Махонький ножичек, такой за сапогом носить сподручно. А люди сведущие бают, что главное не величина, а умение. Этаким ножичком многое сотворить можно. — Ты, по-моему, неверно оценил ситуацию. Ты связан. Я свободен.
— Ненадолго. Помогите!
Заорал Добромысл так, что у меня уши заложило. И на сундуке я подпрыгнула, заозиралась… а после глянула на Арея, который ножичком ногти чистил, и успокоилася.
— Не надрывайся, — присоветовал Арей. — Не услышат. Я ж и вправду маг… вернее, скоро стану. Грамоту вот получу… и иные привилегии…
— Не доживешь. — Добромысл голову вздернул. — Я лично прослежу, чтоб тебя вздернули…
— Это будет сложно. Если, конечно, ты сам не маг. Нет? Так я и думал… и в поместье твоем магов нет, я бы почуял… а со мною еще двое… трое, Зославу считая. Как думаешь, отобъемся?
— Да вы…
— Мы приехали в гости из огромного уважения к твоей матушке. Моя будущая родственница, невеста моего дяди, Кирей-ильбека, будущего кагана… того, который воссядет на Белую кошму…
Он говорил медленно-медленно, будто с силою из себя кажное слово тянул.
— Так вот, она пожелала почтить твою добрую матушку визитом… и я не счел нужным отказывать ей в этаком пустяке.
А он смог бы?
Ух, вовремя я языка прикусила. И голову задрала, аккурат как Добромысл. Ну, надеюся, что как Добромысл, щеки-то дуть я по-боярски не научилася. А вот семак зазря не взяла, с семками, небось, делать вид, что беседа тебя не занимает вовсе, легчей было б.
— Так уж вышло, что дядюшка мой, да продлят боги его годы, свою нареченную любит безмерно…
…ага, дурить.
— …и потому меня следом отправил, чтоб я, значит, в оба глаза глядел…
…абы не угляделся вовсе… от захотелося Арея треснуть да чем тяжелым, тою ж кочергою, которая при камине лежала спокойненько. А там еще и лопаточка имелася махонькая, кованая узорами, чтоб, значится, пепел прибирать.
От лопаточкой бы да по самому темечку.
А то несет всякое…
— …ты ведь понимаешь, что в мире много всяких людей. Есть обманщики, есть воры… убийцы… насильники. — И ножичек будто бы из руки выронил, да только ножичек, в воздухе кувыркнувшись, по самую рукоять в шкуру ушел.
Добромысл только глазом дернул.
Левым.
— Я н-не н-насильник…
— Да? Хорошо… а то ж с насильниками ваша Правда как поступать велит?
— К-как?
— На кишках собственных вешать. А мне бы не хотелось… грязно это. Неэстетично.
Тьфу ты, придумал жаху. А Добромысл побледнел прямо весь.
— М-мы н-не знали, что она просватана!
— Да ну?
— Божиней клянусь… за кого просватана… в селе всякое говорили, что нашла жениха… кого она там найти могла? Да она ж… девка обыкновенная. У мамки таких сотня…
— От и гулял бы по мамкиным. — Арей ближе придвинулся и за плечи приобнял. — Пойми, Добромысле, нет у меня желания с кровью увязываться. Да только вот призовет родственник мой меня после поездочки, спросит, как прошла… разве совру я?
От соврет и глазом не моргнет, ни левым, ни правым.
Роги и те не зачешутся, пущай и спиленные.
— Придется рассказать историю занятную, как невестушку его дорогую… деву беззащитную…
И на меня воззарился.
Я только и смогла, что глазки долу опустить. От как есть сидит на сундуку дева самая беззащитная, каку только вообразить можно. Сидит и розовеет щекою, стыдится, стало быть.
Переживает.
— …опоили зельем неведомым… или…
— Сон-трава! От нее вреда не бывает! Настой мамке целитель один делает! Я сам им пользуюсь!
И дернулся почесаться.
— Сиди смирно, — велел Арей. — Значит, опоили настоем сон-травы, а после покушались на честь ея девичью… и он спросит меня, зачем? Чего отвечу?
Добромысл засопел.
На меня глянул.
К Арею повернулся.
Голову повесил.
— Матушка мне велела… думаешь, я сам бы к такой поперся? Я девок других люблю, чтоб тонкая, изящная… твой родственник… у вас, наверное, другие вкусы…
— Эт точно, — заметил Арей, не понять, к чему.
— Она ж страшная! И здоровая… не жена была б — коровища… такую людям не покажешь… а мать велела… сказала, что этот брак меня спасет.
— От чего?
— А ты не видишь, от чего?! — взывал Добромысл. — Я же нормальным был… нормальным…
— Погоди. — Арей рученьку на плечо боярское положил, и тот, верно, памятуя, чем оное дружелюбие прошлым разом скончилося, затих. — То есть тебе нужен брак с Зославой, чтобы вылечиться?
Добромысл кивнул. И на меня глянул с ненавистью. А я чего? Я ж ему ничегошеньки дурного не сделала, за что ж ненавидеть?
— Это как? — Арей руку убрал. — Что-то я не слышал про такое…
— Не знаю… мама сказала…
— А ты и поверил?
— Матушка не стала бы лгать… она сказала, что кровь берендеева сильная… что сразу надо было, когда она… а она уехала!
И вновь скривился.
— Да она радоваться должна! Боярыней стала бы! Из холопок…
— Она и так княжна…
— Ага, княжна со скотного двора, — сказал, как в душу плюнул. Я-то ведаю, что княжества моего всего удел — наш двор, где и вправду скот обретается. Но иной скот душевней человеков будет. Небось, Пеструха меня никогда зазря не забижала…
— Что ж… передай своей матушке, — очень-очень ласково произнес Арей, — что идея, конечно, своеобразная весьма, да только невеста эта просватана. А коль вздумается ей на браке вашем настаивать, то говорить я иначе стану.
И для пущей убедительности, надо полагать, ладонь раскрыл. А с той ладони столп пламени выпустил. Оный столп до самого потолку поднялся, рассыпался искрами белыми.
Добромысл только охнул.
Арей же огонь убрал.
— Сейчас я тебя отпущу. Советую… скажем так, о нашем разговоре не забывай, не нужно, но коль станут спрашивать, то прошел он у нас в теплой и дружеской обстановке. Ты же не хочешь лишних проблем? Нет? Вот и я не хочу.
И поясок лишь тронул, как тот распустился.
— Ты все равно за это заплатишь, полукровка.
Поднялся он на четвереньки, и рубаха нехорошо задралась, обнажая изъязвленные ноги.
— Всем нам когда-нибудь да придется платить по счетам, — миролюбиво заметил Арей. — Иди уже… женишок.
ГЛАВА 52, где случаются беседы и не ладятся договоры
Поднялися мы на самое зорьке, да и где ж ты наспишь, когда туточки этакое непотребство едва ль не случилося? И хотя ж мягкими были перины Добронравы Любятичны, да чудилося мне, что в мягкость этую будто бы крошек кто сыпанул, аль плевела отмолоченного, как оно разлучницам на селе делають. Помнится, опосля первое ночи Зданешка, которая молодшенькая, за муж за Станюкова выскочившая, да не просто выскочившая, а отбившая его у Любавки — с ею-то почти и сговорилися, — вся красная была, расчесанная. После неделю скреблася.
Наши-то только посмеивались.
Кто и как пробрался в сараю, где молодым стелили, того неведомо… а может, и свекровушка поспособствовала, ей, говорили, зело не по нраву новая невестка пришлася. С Любавкиною ж матушкой оне — лучшими подругами были…
Ну, так я ж не о том.
Вот мыслилося, только упаду, как глазыньки сами склеются, усну сном беспробудным. А упала, так они не склеилися, и сна того ни в левом, ни в правом немашечки. Ворочаюся с боку на бок, ерзаю… и тут мне свербит, и там чешется.
Арей же внове лег спокойненько, в шкуру свою, то есть не свою, а медвежью завернулся.
Сопит.
— Злишься на меня? — шепотом спросила я.
— За что?
— За то, что Кирею слово дала…
Он вздохнул и перевернулся, знать, тоже неудобственно. Ну так я его не звамши была, сам пришел, сам лег… и не уйдет ведь, как ни проси.
А я и не хочу, чтоб уходил.
Оттого и уши горять, да впотьмах не видно.
— Нет, — Арей ответил шепотом. — Мне не следовало втягивать тебя в свои проблемы.
Так ить не втягивал, сама я втянулася. Лежу, перстенек трогаю. А ить хорошо сидит.
— И как выяснилось, оно к лучшему. — Арей все ж таки сел. — Надеюсь, теперь они тебя тронуть не посмеют.
— Надеешься?
Он только кивнул.
А я… я вдруг припомнила, что сказывали о Добронраве Любятичне, что будто была она норову крутого, и коль полагала чего своим, то в жизни не упустила б.
— Не волнуйся, Зослава, — тихо произнес Арей. — Я не позволю причинить тебе вред…
И как-то и вправду на душе спокойней сделалось.
— Одного не пойму… Кирей тебе родовое кольцо отдал. Почему оно не предупредило? Оно ведь не только яды знает… а тут промолчало, будто глушил кто. И это мне не нравится. Надеюсь, ты не будешь против, если мы уедем завтра?
— В Барсуки?
— Для начала в Барсуки… а там и в Акадэмию.
В Барсуки-то ладне, но я ж еще погостевать хотела. Но в Акадэмию… только-только приехали, а тут ужо обратно. И с чего? Из-за блажи боярское? Так этакою манерою меня вовсе без хаты оставить могут!
— В Акадэмии безопасней. — Арей говорил мягко, что с дитем малым. — Зослава, подумай сама… как-то это… не вяжется. Я читал книги по обрядам, много книг… и по истории. По эволюции… да неважно, главное, ни в одной не нашел такого обряда, через который жена супруга излечивает. Здоровье, уж извини, половым путем не передается.
Это он верно говорил.
И разумом-то я понимаю правоту евоную, да вот…
— А если хочешь, возьми с собой бабку. И Станька пусть съездит. В столице на зимние дни ярмарка открывается огромная… Кирей дом снимет.
— С чего бы ему?
Он-то ласков не в меру, да только ласке этой веры не видать.
— Ну, — хмыкнул Арей, — коль назвался женихом, пусть отрабатывает. Нечего знакомства с родственниками избегать… спи давай. Чую, нелегкий завтра будет день.
И ночь не лучше.
Завтрашняя-то, самая долгая в году, не для спанья.
Для молитвы.
Для размышлениев благочестивых. Для веселья. Для бесед с духами и гаданиев девичьих, прошлым-то разом, помню, мы в старостихиной бане так угадалися под малиновую настойку, что по три разу замужними побывали, и за купцами, и за боярами…
…за царевича вот и то угораздило. Пущай и не замужняя, зато просватанная.
Тьфу…
А бабке-то столица глянулась бы. Она-то, небось, сколько лет никуда дальше Мулявской ярмарки не выглядывала. Конечно, отнекиваться станет, что за скотиною пригляд нужон, за домом, и люд опять же по зимнему времени имеет обыкновение болеть.
Ну так не одна она в округе знахарка, найдутся иные, послабже, но все ж…
За Пеструхою дядька Панас глянул бы. И за хатою… свои ж люди… а там на седмицу-другую…
— Арей, бабку я лесами не повезу, — сказала я, на перинах ворочаясь.
— И не надо… не думаю, что будут ждать скорого возвращения. Людными местами нам удобней будет. Найдем обоз… в столицу сейчас многие едут, хотя большею частью приехали уже, но всегда опоздавшие есть.
И вновь непонятно, отчего сюды, так по лесам и буеракам, а назад — трактом да с обозом.
Хитрое это дело, воинская наука.
…И подумалося, что на ярмарке той Станьке платьев справим, аль тканей возьмем, того ж шелку азарского… будет у ней рубаха — всем на зависть.
С тою мыслею и задремала.
А уже в дреме и поняла, где видела я этакую картинку… чтоб пухлая белая кожа, будто одревесневшая, и трещина, и вишенкою в трещине этой — язва.
…не урожденная сие болячка.
…и не от еды она, не от пития дурного с Добромыслом случилась.
…прокляли его, да не просто прокляли, проклятие обыкновенное отмыть можно, а это — смертным словом наложено, вздохом последним, криком, что от самого сердца идет. На этот крик и отзываются Боги…
…и в книге той, которую Марьяна Ивановна мне давала, писали, что воздают сии боги по справедливости… тогда, выходит, заслужил Добромысл свою болезню.
Вот только ведает ли о том боярыня?
А коль не ведает, то… сказать? Бабке-то скажу… Добронраве Любятичне же… не поверит. Кто я? Княжна со скотного двора? Верно сие сказано… она ж боярыня и у всяких лекарей бывала. И не могли те лекари, коль и вправду учеными были, проклятия не разглядеть.
Значится, ведает…
Тогда и сказать должны были, что нет иного средства, кроме как раскаянием душу очистить да молить Божиню о милости.
Ведает, конечно, ведает.
Но не привыкла Добронрава Любятична молить, пусть бы и богов. Иное придумала, а что… надобно будет с Марьяной Ивановной побеседовать. Уж она-то об этаких проклятиях должна знать, авось и присоветует чего. Оно и случается, что в книгах не всегда все пишут.
На том и успокоилась.
И верно, возвернуся в столицу, побеседую… а там ужо и письмецо напишу боярыне, так оно правильней будет. Пока ж пущай бабкино лечение примет. Глядишь, и поможет хотя ж бы самую малость.
Заснуть я не заснула.
Успокоилась.
И поднялася засветло, сама. Сама и умывался — Арей на руки лил. После я ему… водица за ночь выстыла, ну так студеною мыться, оно только пользительней.
Только-только прибралася, как в дверь поскреблися.
— Добронрава Любятична к себе княжну Зославу зовет. Завтракать, — сказала давешняя девка тихим голосочком и глаза-то отвела. Стыдно ей, небось, за тое, что ночью случилося, да только зла на нее не держу, подневольный человек.
Я-то поеду, а она останется с боярынею, с сыном ейным.
— Мы идем, — ответил за меня Арей. И рученьку подал.
Понятно, что одну меня не пустит. А то вчера сонного зелья плеснули, сегодня, глядишь, и приворотным пожалуют. Мне оно надо?
Девка только носом шмыгнула.
Но за собою повела.
Трапезничать боярыня изволила в светелке, по-простому. Стол накрыли белою скатерочкой, а там ужо и блинцов высится стопка, да ладных, тонюсеньких, этакие не кажная баба сумеет испечь. К блинцам и сметанка была, и мед, и варенье малиновое… стояли блюда с орехами да грушами, в сахаре варенными, и иные какие сласти.
— Присаживайся, Зославушка. — Ко мне Добронрава Любятична обратилася хоть и ласково, да все одно с холодком. — Беседа у нас пойдет… приватная.
И на Арея взгляд кинула недовольный.
Ему-то за столом места не сыскалося, два креслица стояли. В одном Добронрава Любятична восседала, а другое, значится, для меня.
— Скажи своему человеку уйти, — велела боярыня, когда Арей это креслице отодвинул.
— Он не мой человек.
— А чей?
— Свой собственный, — отвечала я. И рюмку с наливкой из ручек Добронравы Любятичны приняла, сделала вид, что пригубила, чтоб не обижать хозяйку, да в стороночку отставила.
— Ты. — Боярыня стянула с пальчика перстенек бурштыновый. — На от за старание… а теперь поди прочь.
Ох, зазря она так… привыкла холопами командовать, да Арей не холоп. И перстенечка не взял, тот так и остался на скатерочке лежать.
— Боюсь, — ответил он спокойно, — что при всем моем желании я не исполню вашу просьбу, ибо идет она вразрез со словом, которое я родичу своему дал.
Когда ж успел только?
Но я молчу.
Блинка себе потянула, сметанки, приметила, что боярыня ея себе на тарелку плюхнула, значится, не травленая. Не будет же Добронрава Любятична себя самое заклинать.
— Поспешила ты, Зослава, обручиться. — Мне-то мнилося, что боярыня уговаривать меня станет, она же бровкою повела и вид сделала, будто бы Арея вовсе тут нет. — Зачем в столице женихов искать, когда дома свои молодцы имеются… крепко ты моему сыну глянулась.
Когда только успела?
Неужто вчерашнею ноченькой, когда он с комнаты моей сбег?
— А ему, сама разумеешь, ни в чем отказать не могу… так что благословляю вас…
Эк споро. Я и блина съесть не успела, а уже благословили.
— Жрец ныне же обвенчает…
— Нет. — Я тарелку отодвинула. Ежель так пойдет, то и вправду меня да без меня оженят.
— Что? — Боярыня нахмурилась.
— Благодарствую за ласку, Добронрава Любятична. — Я поднялась и поклонилася, как водится, в пояс. — Да загостились мы у вас. Ноне дни короткие, как до дому засветло добраться… что до сына твоего, то всем он хорош, думаю. И сыщет себе иную невесту, чтоб по нраву пришлась. Я же слово свое дала. И от него, уж прости, не отступлюсь.
— За азарина пойдешь?
— Пойду.
— Дура! — Добронрава Любятична кулаком по столу ударила. — Он тебя в степи увезет да бросит… нужна ты ему! А тут бы жила! Сыром в масле каталась…
Не хочу я сыром.
Да по маслу.
Масло скользкое… я же… вот вижу гнев ее алыми сполохами. И страх вижу, потаенный, животный, какой из человека зверя сотворить способен. И решимость… и отчаяние даже… нужна Добронраве Любятичне эта свадьба.
Может, большего бы разглядела, да она моргнула.
Осела мехом в кресле.
— Убирайтесь из моего дома, — велела.
А мы и радые.
Из таких-то гостей раньше уедешь — целей будешь.
— Только вот о чем подумай, Зослава, — кинула вслед боярыня, — ты-то уедешь, а родичи твои тут останутся… неужто не страшно будет за них?
А вот того не след было говорить.
Не надобно моих родичей трогать.
— С собой заберу, — ответила я, в дверях остановившися. — Так оно всем спокойней будет…
ГЛАВА 53 О возвращении и днях особых
Карета скакала по мерзлой дороге. Бабка охала, молчала Станька, вцепившися в бабкину руку. На меня если и поглядывала, то искоса, видать, еще сторонилася. И было от того горько, я ж ни словом, ни пальцем ея не тронула.
— Баб, а баб. — Мне от тишина этая не по нраву крепко была. — А поехали в столицу…
— Зачем?
Бабка насупилася и Станьку погладила.
— Ну… поглядите, как оно…
— А мы и без погляду нехудо живем.
И хмурится. Будто я в чем виновная!
— Баб, — кажу, — ты не дури. Коль чего не так, скажи прямо…
А то надулася, что жаба на пруду, да только про жабу я ничегошеньки не сказала, еще обидится. Она же ж только рукой махнула да вздохнула так тяжко-тяжко, что у меня от этого вздоху в грудях заныло.
— Зося, Зося, — говорит да головою качает. — Выросла ты уже… а ума не набрала… чего Добронраве Любятичне перечила? Неужто так своего азарина любишь?
Кирея, что ль?
Не люблю. И бабке о том честно сказала, пусть не держит на меня зла Кирей-ильбек, да только сердцу разве прикажешь? Всем он хорош, но не про мою честь.
Бабка губы поджала.
Глядит с неодобрением, а я молчу, тоже глядеть умею. Пусть уж договаривает.
— Мы давече с Добронравой Любятичной рядилися… крепко ты ея сыночку по нраву пришлась. Влюбился, говорит, с первого взгляду…
…ага, а после, ночью, стало быть, разглядел получше.
— …он тебя еще весною заприметил… матушку обихаживал, чтоб согласие на свадьбу дала. Да только пока она упрямилася, ты до Акадэмии съехала…
Можно подумать, своею волей порешила.
— Вот и пришлося ждать. Бедный хлопчик извелся весь… аль тебя пугает, что ликом нехорош? Так тут я подсоблю…
Станька вдруг из-под бабкиной руки вывернулась и ко мне пересела, прижалась к боку, вцепилась в рукав и дернула.
— Зося, Зося, не ходи за него замуж! Злой он!
— Не верещи, дуреха! — Бабка Станьке пальцем погрозила. — А ты, кобылица, не слушай, что на человека наговаривают… у нас же ж как, чуть оступился, уже и напридумывают с три горы илжи… пошалил он по молодым годам, так то компания дурная виной была. И боярыня с той поры сына от себя не пускает…
Ох, чуется, знатная у них вчера беседа приключилась. Крепко Добронрава Любятична бабку уважила, коль она ныне соловьем разливается.
— Вырос парень, образумился…
Молчу, глажу узенькое Станькино плечико, дивясь тому, до чего холодна она. А ведь в возку нашем и печка имелася, и тулупчик у Станьки почти новенький, теплый. А она трясется хвостом собачьим.
Видать, не с холоду.
Со страху.
— Баб, — говорю, хотя ж самой от злости кричать охота. — Значится, хочешь ты, чтоб я замуж за него пошла?
— Отчего б и не сходить?
А глаза-то у бабки добрые-предобрые.
— Всем оно славно будет. Станешь боярынею, жить будешь туточки. Я в гостики наезжать буду частенько, а то и вовсе переселимся… буду деток ваших нянькать…
И слезы в глазах стоят.
Вот оно чего…
— А Акадэмия как же? — спрашиваю тихо. — Бросить?
— Так и брось. — Бабка махнула рукою. — На кой ляд тебе та учеба, когда ты и так у нас ученая? Только мозги сушить…
…ага, а летом-то она иначей пела.
— …да и то, послушать, чего там творят, — срам один… неможно девке да с мужиками…
— Баб. — Станьку я обняла.
А ведь и вправду сестрицу обрела, пущай и не кровную, но все одно родную. И обидеть никому не дам.
— Скажи, баб, а ты не ведаешь часом, как смертное проклятье снять можно?
— Чего?
— Ничего… это я так… уж прости, коль обижу, но скажу, как оно есть. Мягко стелет твоя Добронрава Любятична, да только жестко на том спать будет. И сын ейный меня не любит. Вчера сам о том сказал.
— Злой он.
Может, и злой… небось, с доброго человека проклятия, что вода с гуся…
— Приходил ко мне… и скажи, баб, что это за любовь такая, когда девку сонным зельем опаивают, чтоб потом снасильничать… и когда б не Арей… поутру, небось, обвенчали б.
— И по-людску было б…
Бабка у меня упертая.
Ведает, что не права ныне, глаза отвела, в окошко глядит, а все одно не отступится. Небось, уже вообразила, как я в палатах боярских живу да по округе на возку разъезжаю, всем оно на зависть.
— По-людску, говоришь… с насильником жить до самое смерти? И была б она, чуется мне, скорой… Добромысл поведал, что матушка его меня выбрала не просто так. Болезнь его излечить желает… а вот какою манерой, того я не ведаю. Зато ведаю, у кого спросить…
Так мы до самых Барсуков ехали.
Молчали.
И Станька руки моей не выпускала. А как из возка выбралися, то и стала на цыпочки, потянула.
— Зось, чего скажу…
Наклонилася я.
— Злой он, — в который уж раз повторила сестрица моя названая. — От него девки прячутся… лицо себе ножиками режут, чтоб некрасивою быть…
И носом шмыгнула.
— Он и меня щипал… боярыня не дала… а какая сильно понравится, та скоро хворою сляжет, потом и хоронят…
Вот тебе и любовь.
— Что ж, — говорю, — молчала ты, как ехали?
— Боялася…
— Не бойся, малявка. — Лойко — от кот, вертелся рядышком, а я и не приметила, Станьку на руки подхватил да вверх подкинул. — Я тебя в обиду не дам. Говорил же ж. Аль не веришь?
— Верю, боярин.
Поставил ее на землю, сам сарафанчик одернул, платок пуховой поправил. От какая забота.
— От и славно… иди, вещи собирай. Поедем поутру до столицы…
— И я?
— И ты. Куда ж я без тебя-то? Невест без пригляду оставлять никак неможно…
Щеки Станькины румянцем полыхнули. Какая из нее невеста, дите горькое, а он и дразнится. Я только кулаком в бок ткнула, чтоб говорил, да не заговаривался. А то наберет девка в голову, после и голова болеть будет, и сердце.
— А ты, Зослава, не завидуй… упустила ты свое счастье!
— Это тебя, что ли?
— И меня. — Грудь выпятил, кулаками боки подпер, гордый, что петух в курятнике. — Говорил же ж, найду себе невесту из Барсуковых… вот и нашел…
— Я маленькая еще…
— Вырастешь, — махнул рукою Лойко. — Аккурат я Акадэмию закончу, магиком стану, то и ты вырастешь. Так что беги, невеста…
И Станька, юбки подобрав, в хату бросилась.
— Сирота она. — Коль есть у Лойко совесть, то, глядишь, и очнется. — Нельзя таких обижать. Божиня…
— Божиня далеко, а люди близко… и не бойся, Зослава. Я свою невестушку не обижу. И никому не дам…
— Лойко!
— Что? Говорю ж, места у вас хорошие… и хата справная, хозяин только нужен. Вот ты поедешь с Киреем в степи, а я сюда вернусь, к жене под бок… корову заведу…
Тьфу, блажной… ну его, главное, чтоб Станька эти его россказни всерьез не воспринимала.
— А ты тоже не стой. — Лойко меня к хате подпихнул. — Вещи сами собою не соберутся… на рассвете выедем… и сегодня бы, но…
…неможно.
Особая ныне ночь.
Лютая.
Волки по такой хороводы водят. А человек, посмевший из избы выйти, хоть бы и до ветру, рискует обратное дороженьки не сыскать. Все ворота открываются, все дороги переплетаются.
В такую ночь матери младенчиков на руках держат, глаз не сводят, чтоб, не приведи Божиня, не села на колыбель тень темная, чтоб дымом не вползла в горло, ибо тогда переменится человек.
И не станет сыночка любого.
Сгинет дочка-песта.
А объявится нечто иное, чему названия нет. Будет расти, жить серед людей, тянуть с них силы. И уйдет из такого дома кошка. Сбежит собака. Сдохнет живность малая, а после и людей черед настанет…
…В такую ночь рисуют молоком да кровью на порогах знаки особые.
И стелют вдоль окон соляные дорожки.
Песни поют.
И вспоминают ушедших. А коль хватит духу, то и выходят по-за порог, чтоб попотчевать кашей заблудшие души. Глядишь, и мелькнет серед них знакомая.
…В Барсуках по старому укладу собиралися в гостином доме, благо, столы еще с утреца поставили, лавки растянули. Раскатали скатерти из полотна небеленого. Расстелили на полу тулупы для детей, а меж них — старух да стариков усадили с почетом да трещотками.
Сунули им каши, с репой и медом паренной.
Миски с рыбьим крохким мясом, с утицею тушеною да огурчиками солеными… Тут же, на снопки с золотою соломой молодицы посели, кто с дитями. Девки-то на столы накрывали, кто чего принес. Бабы шепталися… мужики с дядькою Панасом во главе пошли во двор, полено святочное править, а следом тенью выскользнула и старостиха.
Буде кому петуха черного резать.
Кровь лить.
Да поить тех, кто во тьме живет, чтоб, жертвою сытые, не лезли они к людям…
— Зосенька, — бабка сама села рядышком со мною, — уж прости меня, дуру старую… хотела я, как лучше… как подумаю, что увезет тебя этот нелюдь да в степи…
— Не увезет, — я отмахнулася.
Про степи у нас разговору не было. А я, чай, не палас, чтоб взять да увезти, куда не хочу.
— А она-то ласковая, все расписала, как жить вы станете… поживать… и мне от ажно в сердце закололо… прости…
Как не простить.
Не ведаю, какою я сама в бабкины годы стану, а у нее, окромя меня, только Станька. И потому неохота отпускать меня, что в степи, что в столицу.
— Прощу, — ответила я бабке так, — но если только ты со мною до столицы поедешь…
Вот не шли у меня из головы слова-то боярынины. А ну как и вправду задумает злое бабке причинить? Ей же ж немногое надо…
— Куда мне ехать… Станьку он бери…
— Туда и ехать.
— А дом?
— Дядька Панас пригляне…
— И корова… куры…
— Баб, не дури мне голову. — От будто я не знаю, что и за коровою глянут, и за курями, и за кошкою безымянною, что к хате прибилася, да так в ней и обжилася. — Едем, и все тут…
— От мало я тебя за косы драла! Совсем старых не уважаешь!
Это я не уважаю? Я прям вся тут сейчас изуважаюся, на уговоры время тратючи.
— Ну да ладне. — Бабка подбоченилася. — Съездимо мы до твое столицы… а все ж азарину твоему, так и ведай, вздумает тебя обижать, роги самолично поотшибаю!
— А про роги ты откудова ведаешь?
— Да этот твой, кудлатенький, растрепался…
Это она про Лойко, небось. Он не зело кудлатый, но волос и вправду вьется. У Ильи совсем гладкий.
— И ему тож передай, вздумает девке голову дурить, я скоренько на него управу найду, не погляжу, что боярин…
Грозна моя бабка.
Да чуется, не убоится ее Лойко. И ничего я не ответила, да и когда отвечать, ежели бабы песню затянули, прощальную-поминальнуто. От такой сердце болью полнится, а слезы сами из глаз текут, данью Темное сестрице.
Пускай.
Зато потом на сердце легко делается.
Славно.
Пели, передавая из рук в руки чашу с черным квасом, на травах особых деланным. Этакий только на великое свято готовили, и ныне каждый пригубил, детям и тем по капле дали, чтоб, значит, обошли их и горести, и недуги.
Пели тихо, да только голоса, сплетаясь, вывязывали свое кружево. И ныне видела я его столь явственно, будто бы сама плела. Вот темные нити, что протянулись за порог, — этот старостиха.
Ежель приглядеться, пойти по ниточке ее, тонкое, но прочной, то и саму тетку увидеть можно. И не удержалася, глянула краешком глазу, да только отпрянула тотчас… не для людей сие зрелище.
И не тетка Алевтина, которая давече на Арея полотенчиком махала, пляшет на снегу, но жрица темное Мораны. Она нага и страшна в наготе своей, покрыта с ног до головы жертвенною кровью. И не птицы ныне выходят на зов ее, а души изголодавшиеся… кричат, плещут крыльями, взбивают ветер холодный в самое лицо.
А ей ничего, смеется.
Стучит в бубен…
И только взгляд мой почуяв, обернулась.
Обожгли гневом черные чужие глаза. И нить сама из рук вывернулась. Уж лучше на других глядеть… вот светлые искорки, это дети, которые песню потянули, еще не разумея смысла ея, да все одно повторяют слова заветные. Вот золотые нити мужних женок, многочадных и спокойных. На их плечах дома стоят, а на тех домах — и село все… вот серебро молодиц… и прозелень медная старушечьих голосов.
Дивно выходит.
Тут и мне чашу поднесли… и пригубила я горький квас.
…во память.
Дедову… он бы точно не дал меня в обиду.
Отцову, который тут чужаком был, да сумел своим стать.
Матери… как же не хватает ее мне, ныне особо, до слез… бабку я люблю, как и она меня, а все бы… спросила б матушку о том, о чем себя спрашивать боюсь, а она б ответила. Или нет, сказала б, что мала я еще, вот подрасту… всегда так говорила, косы гребешком резным вычесывая. И уходили тревоги, отступали заботы от этой ласки. А все, что гляделося сложным, становилось простым…
…и ныне почудилось, будто коснулась волос легка рука.
Спасибо.
Сама не заметила, как вернулась старостиха, а следом и мужики. В хате, пущай и огромное, стало вовсе тесно. Рассаживались по лавкам, локоть к локтю, а то и ближе, да никто в той близости не видел недозволенного. И как-то вдруг я меж Ареем да Ильей оказалась. Дальше и Лойко сидел, Станьку приобнявши, хотя ж ей не место было за взрослым столом. Бабка хмурилась, да не гнала.
Пускай.
Бабы разносили миски с клецками грибными.
С густым рыбным супом, который щедро приправляли что вином, что травами. Ели молча, пока дядька Панас со своего места не поднялся.
— Что ж вы грустите, гостейки дорогие? — молвил он, поднимая рог турий, каковой еще, сказывали, прадед его добыл. — Ешьте, пейте… пусть будет эта ночь короткою!
— Пусть будет! — отозвались гости.
Пили… правда, не настойки с наливками, а квас, что хлебный, что яблоневый, легкий, от которого и дитя малое не захмелеет. Оною ночью хмель грозит не только потерею разума, тут и душу утратить легче легкого. Привидится за окошком дева лунная…
…аль дружок старый придет, поманит за собою…
…аль дитя заплачет за порогом навзрыдно… или купец мелькнет, тряхнет мошной, золотишко рассыпая. Вот оно, близехонько, только руку протяни, и соберешь до монетки. И сказывали, что находились такие глупцы, которые и тянули, и собирали… а опосля до конца жизни только и делали, что перебирали кости заячьи, которые им самим кладом виделися.
Нет уж…
— Ой, бабоньки… а я такую гишторию ведаю, — первою начала, как оно давно уж заведено было, Звислава. Она-то у нас пришлая, сама с Конюхов родом, да мужняя другим разом, приехала годков с пять тому, с детьми да двумя козами. Наши-то шепталися, что прогадал Миканьчук, после войны мог бы кого и посправней найти, чем вдова-перестарок, но обжилася Звислава.
Норов у нее легкий.
Язык длинный.
Руки справные… чего еще от бабы надобно?
А уж байки баит — заслушаешься.
— Сказывали, что есть на самом краю мира, куда и ворона не каждая долетит, чудо-остров, — говорила она громко, чтоб все слышали, и детвора, завозившаяся было на соломе — скучно им сидеть без игр — попритихла. — Стоит посеред моря камнем огроменным, столпом, который за три версты видать…
— Брешешь! — это Микулиха, которой вечно все не ладно. — Это ж какой столп быть должен, чтобы…
— От и кажу, огроменный…
— Сказки будут рассказывать? — шепотом спросил Арей.
Я кивнула.
И сказки сказывать, и песни петь… а как перевалит ночь к утру, то и пойдут девки в баню гадания гадать. И вот думай, с ними мне идти, потому как вроде еще незамужняя, аль с бабами сидеть, ибо сговоренная?
— …а на острове том — чудо-дерево…
Слушали… и как-то от уютно сидеть было.
Спокойно.
Лойко вон Станьку орешками подкармливает, приобнял, сам сидит серьезный, хмурый…
— У него сестра была, — тихо произнес Илья, хотя ж я ничего такого не спрашивала. — Не по мамке…
Лойко вскинулся, будто услышал, да только где ж расслышишь, когда Звислава про зверя-перевертня, который меж корнями дерева логовище устроил да клад стережет, и не какой-нибудь — золотое яблоко из садов подводного царя…
…А нам сказывали, что нет под водою никаких царств, что выдумка сие. Спускалися туда магики, не ведаю, сами, аль волшбой способ какой изыскали, да только писано было после, что вымер водяной народ. И остались от них памятью лишь города заброшенные.
Их нам Милослава на карте показывала.
— …кто съест такое яблоко, тот сто и еще сто лет болезней знать не будет…
— Девочку боярин признал, но и только… растили в тереме… Лойко ее любил… мать-то его родами ушла, вот и… — Илья цедил слова, что скупой воду. — Не знаю точно, что там приключилось, но погибла она… двенадцать аккурат было, как погибла. Он о том вспоминать не любит. Он не обидит девочку…
Станька и сама уже к боярину льнет.
В глаза заглядывает.
Может, нарочно и не обидит, но… разные у них по жизни пути. Ну да не мне чужую судьбу писать, пусть будет, как оно будет. Дай Божиня мира да покоя всем.
— Пей, — Арей подлил мне квасу. — И не думай о плохом.
Верно.
В эту ночь нельзя.
Беды кружатся черным вороньем, слухают, что слова, что мысли, и дай им только волюшку, как вмиг налетят, облепят, и весь год оставшийся не будет покою.
— …а обернется он, бывает, девицей, красоты неописуемой… — текла рекою речь Звиславы, и дети ажно дыхание затаили, ее слухаючи. — Поднесет она с поклоном чарку с водою студеною, предложит выпить до дна… только нету в той чарке дна, она сама есть море-окиян…
— У азар на такую ночь костры жгут. — Арей хлебную горбушку протянул, точно ведает, что горбушки-то с корочкою я особенно жалую. — Матушка сказывала…
И смолк.
Те, кто в курганах схоронены, своей воли не имуть. Небось, куда его отцу путь, туда и матушка, в жены посмертные просватанная, за ним последует.
В вырай ли.
В темное Моранино царствие.
Да быть им неотлучно связанными до той поры, пока Божиня светлою волей своею не разъединит судьбы эти.
— …а порою старцем становится древним. И задаст этот старец три вопроса, коль сумеет человек на них ответить, то и рассыплется старец пеплом…
— …режут баранов, колют овец, льют на землю кровь данью Предвечному огню…
Девки хихикают, подпихают друг дружку локтями… а дядька Панас уже по столу стучит ложкою, стало быть, вот-вот струны зазвенят. Оно-то, конечно, плясать места туточки мало, да когда и кого это останавливало?
…Первою вскочила Леля-Лебедушка. А приоделася-то… рубаха алая, рукава широкие, что паруса корабельные, запястьями прихвачены. Она и идет-то неспешне, руки расставивши, чтобы и запястья видны были, и рукава энти, серебром расшитые…
А звенят уже струны.
И бабьи голоса сплетают узор плясовой.
Остановилась напротив Арея, глазки потупила… от выдра! Меня будто и не видит… а я… я…
Я сама Арея за руку схватила да в круг потянула… может, и не положено так просватанной девке себя вести, да только чем дальше, тем меньше мне невестою быть охота…
А Леля только смеется… Илью потянула, закружила в хороводе… следом и Лойко поднялся… и нашие хлопцы, повскочили… только кто-то спешне столы к стеночке подвинул, а то ж и вправду затопчут.
— Ой ты, бабоньки… то ж такое деется… ты поглянь на кудлатенького… ишь ты…
Лойко не пляшет, красуется, наших, барсуковских, стало быть, удалью дразнит. И кабы не особая ночь, когда кровь лить неможно, дошло бы дело до драки. А так… пляшуть, только искры из-под сапог летять. И девки хоровод закружили… бабы головами качают, завтре будет пересудов на месяц, а то и болей…
…А и пускай.
Танец… что в нем дурного-то?
А ног не чую.
Пальцы Ареевы на моей руке горячи так, что еще немного, и вспыхну… и уже полыхаю, верно, щеками, ушами… и видят все это, да только ныне мне до всех дела нету.
Только Арея и вижу.
Глаза его черные, что уголья.
И глядит хмуро, серьезно… от этого взгляду сердце обрывается. А и вправду, потянула в круг… может, и не хотел он идти, а если и хотел, то не со мною.
Кто я?
Чужая невеста… он знает, что не всерьез это… да и сам говорил, что… году не минет, и уйдет Арей своею вольною дорогой. Мне ли ему руки вязать?
Хорошо, если вспомнит про меня.
А может, хорошо, если не вспомнит.
Но это еще когда будет, а потому гоню мысли дурные… кыш, воронье, кыш… пусть будет хоть бы этот танец, на ложках, на гуслях хворых с драными струнами, которые дядька Панас который год поправить грозится, да только дорогие на ярмарке струны.
И забываются гусли.
Выдохнула, когда оборвалась музыка.
И холодом потянуло в раскрытую дверь… и тенью, черною, страшною, вступила на порог девка простоволосая да в споднем одном.
Видела я ясно белое лицо ее, и черные полосы, что легли на щеках.
Видела шею.
И разодранный ворот.
Грудь в нем белесую с синими прожилками.
Видела рану под грудью, которую девка рукой зажимала. Не из наших она была… и когда, покачнувшись, стала заваливаться в хату, Арей отмер.
Выдернул меня, за спину запихал…
— Илья, круг веди… всех назад… Зослава, щит вяжи! И поскорей…
Щит… Я руки подняла, хотела быстро, да воздух сделался, что кисель, тягостный, гнилой. И не вдохнуть, и не выдохнуть. Смертью пахнуло… и кто-то заплакал, от слез этих я очнулася.
Щит!
Тот, который вязала…
Девка скреблась на пороге, силясь перевалиться, тянула бледные руки… выли бабы… а следом за белым плечом, вывернутым, что коряга, уже иная тень выросла.
Не на тени глядеть надобно.
Вовсе о них думать не след, пускай себе… Архип Полуэктович говаривал, что главное — сосредоточиться на деле. А дело у меня какое? Щит сотворить…
Полыхнул огнем белым порог заговоренный, да и пропустил нежить. И с визгом ввалилась тень в избу, да только тут же затихла под рукою Ильюшкиной. Не зря оне давече дрова кололи, один взмах всего, и полетела кудлатая голова к печи… Лойко едва успел сапогом вновь к порогу ея откинуть. А в дверь уже иная пхнется…
…Узор я свой плету-выплетаю.
Из холода лютого, нитью звездною да по небосводу. Огнем, что батюшка мне дарил… водою, которая ныне вмерзла, что камень. Пусть и даст каменную твердость.
Землицей молчащею.
Хрипит мертвяк в дверях, мотает башкою, и гнилье с него сыплется, валится… ступила нога на порог, да будто бы вошла в самые доски, провалилась… Ильюшка вновь ладонь раскрытую выкинул, да только ныне мертвяк с той ладони отряхнулся будто.
И ножа, царевым человеком кинутого, выдрал. Что ему нож!
Спеши, Зослава.
Вона, еще идут… ползут к хате старостиной, будто мухи на мед.
Аль на что другое, да медом себя представлять приятней… Арей мертвяка огнем угощает, тот и вспыхивает желтым пламенем, горит, да с ног не валится.
Лойко топором своим руку костлявую сечет…
Царевы люди шаблями тычут, да споро так, мертвяков, что бабы капусту, шинкуют… да все одно много их. И куда там устоять.
Нити заклятья ложатся одно к одному.
Да медленно.
Как медленно… и все ж таки сдерживаюся, потому как ни одно дело суеты не терпит, а уж тем паче магия. И продержатся нашие… вона, Арей язык пламени живого в самые ворота кинул, полетело оно, понеслось во двор, закружило мертвяков рыжим вихрем. Только снег заскворчал. А я концы вышивки своей подобрала да и притянула один к другому.
Так оно правильней будет.
Выгнулся щит пузырем.
Накрыл и хату, и всех, кто в хате… и мертвяк, огнем объятый, только ткнулся да зашипел бессильно.
— Молодец, Зослава. — Арей мертвяку пальчиком погрозил. — Все… отбой… утром сами издохнут. Ну… п-подарочек.
Он сел подле раскрытое двери на корточки и ткнул в обрубленную руку.
— А почему на тех заклятие не подействовало? — поинтересовался Ильюшка, оную руку с пола поднявши. Покрутил, повертел да швырнул в оскаленную пасть неупокойника.
— Старые… чем старше мертвец, тем хуже он воздействию поддается. А этот еще, похоже, одаренным был. Сила из тела долго не уходит, особенно когда человек умирать не желал… да тише вы!
Это уже на баб рявкнул, которые выли в один голос, что собаки на погосте.
Дети, в юбки мамкины вцепившиеся, ужо подуспокоились да норовили из-за тех юбок повыскользнуть, поглядеть, чего ж это такого деется. Небось, не каждым днем живого мертвяка увидеть можно. Оно-то и жутко-жутенько, да только и любопытственно страсть.
Я и сама бочком к двери придвинулася.
Арей посторонился.
— Главное, про щит не забывай… будут пробовать…
Как тут забудешь-то… держу на привязи, что шар мыльный, да только щит мой, хоть и глядится тонюсеньким, прочен, ведаю. И пусть Божиня благословит тот день, когда мы с Ареем его ставить учились. Знала, что сгодится, да не ведала, что так скоро…
Щит-то прозрачный.
За ним все ладно видать, и двор старостин, и мертвяков, что по двору кружат волками голодными. Сколько ж их… Дюжины с две.
— Знаешь кого? — Арей туточки, и руку на плечо положил, успокаивает, стало быть. А я и без того спокойная, отчего и самой дивно.
— Нет.
— Хорошо.
И ответил, вопрос упреждая:
— Это значит, что местные кладбища не трогали… хватило ума своих поднимать, потому как на сельских кладбищах порой такое встречается, что… — Рукой махнул.
Своих?
Это кто ж тут свой-то?
Старуха древняя, которой, видать, еще и при жизни ноги отняло. Она и ныне-то их не чует, ползает, руки расставивши, будто паучиха. А в левой куделя зажатая, за куделею и нитка потянулась.
Девки, что хоровод устроили? Красавицами были некогда, оно и ныне видно, пусть бы и побелела кожа их, натянулася, да лики чистые, волосы прямые, длинные, этакие русалочьими зовуть… ноги босые по снегу скользять, да только мертвякам холод неведом.
— Видишь, как тела хорошо сохранились? Ни малейших следов разложения, не говоря уже о зверях… или червях.
Арею любопытственно… да и не ему одному. Мужики-то нашие ножи попрятали, скамьи, за которые похваталися, — а что, к нечисти у нас не то чтоб вовсе привычные, но без бою не далися б, — к стеночке придвинули, баб успокоили.
Дядька Панас и вовсе к дверям вышел.
— Божиня милосердная, — только охнул, на этакое непотребство глядючи. А мертвяки, будто очнувшися, разом к нему повернулись, выпятили белые зенки. — Это же ж…
— Знаете их?
— Не всех, но… вон та, которая с короткими волосьями… Полушка это, у боярыни птичницею была, да тем летом околела.
Полушку и я припомнила, только подивилась, что переменила ее смерть. Рябенькое Полушкино лицо сделалося глаже, ровней. И черты его помягчели, и сама она помолодела будто.
— А там от Осип, конюх… его по осени жеребец лягнул, да неудачне… Малька… а казали, что в лесу заблудила… искали всем миром… вот оно, выходит, как…
— Следовательно, можно с уверенностью сказать, что здесь собрались люди, принадлежавшие боярыне?
— Чего? А… ну так… всех-то я не ведаю… вона Улька… Игнат…
Мертвяки шли к дому.
Бились о щит.
Скреблися.
Скуголили жалостливо, и от голосов их немым лаем заходилися собаки. А мертвяки собак-то и не слыхали будто… и скотину всполошенную, которая в хлевах металася. Дом же манил их. Подходили, что поодиночке, что гуртом, толклися у границы…
— Знаешь, Зослава. — Лойко постучал в окошко, и мертвячка с белым, будто мукою напудренным, лицом к оному окошку прилипла. Глядела она на Лойко… от как он давече на сома копченого. Прямо ж таки глаз своих не сводила. — А я, пожалуй, должен сказать тебе спасибо…
— Должен, — отвечаю, — то и говори, боярин…
— И говорю. Спасибо тебе, Зослава…
Завсегда пожалуйста.
Потиху угомонилися бабы. Детвора и вовсе к окнам подобралася, вперлася на лавки, и только шеи тянет, чисто гусяняты малые. Шепчутся, друг дружку локтями пихають, подзуживая. А деревенские, стало быть, на наших глядят с опаскою.
Дядька Панас лысину-то отер, огляделся, вздохнул тяженько.
— И чего ж тут деется, — спросил громко, чтоб, стало быть, кажный в хате вопрос энтот слышал. И ответ тоже. Оно и верно, люди знать повинны, откелева сие бесчинствие исходит.
— А ничего… кроме того, что балуется ваша боярыня мертвою волшбой. — Арей потянул за шнурочек, что на шее висел, да вытащил бусину круглую, гладкую, вида самого обыкновенного. Не бусина даже — камень речной, каковых на дне бессчетно.
— И это… чегой?
— А вот тогой. — Арей бусину в руке стиснул. — Погоди, дядька Панас… сейчас все расскажу, только…
Не ведаю, видел ли кто еще, как бусина этая треснула.
И дымок поплыл белый, чистый.
Как дым этот Арея обвил, влез в нос и в рот, а после вдруг вылепилась из этого самого дыма белая голубка. Крыльями взмахнула и исчезла, будто бы ея и не было.
От диво…
Арей же кровавую юшку — видать, тяжко далася подобная магия — рукавом вытер. Покачнулся и на косяк оперся, дух переводя… принял чашу с квасом, которую Лойко в руки сунул, осушил в два глотка, краюхою хлеба зажевал.
Все глядели на него.
Ждали.
Мертвяки и те попритихли, будто бы им тоже любопытственно было. Арей же кивнул, чашу возвращая, пот отер и произнес:
— Поводов для беспокойства нет. Щит, как сами видите, прочный. И держать его Зослава будет столько, сколько понадобится.
Эк говорит, ажно я сама поверила.
И гордость за себя изнутри расперла, да только сразу и сперла, когда увидела, как на меня барсуковцы глядят. Будто на диво какое… и с надежей… и с радостью… это ж не я их спасла… а щит, мне просто повезло его сделать.
Я ж не магик… и не ведаю, стану ли магиком, и…
— А к рассвету, думаю, самое позднее — к полудню, появятся царевы люди и все тут зачистят, — добавил Арей.
И люд отмер.
Загомонили разом…
— А что тут, до утра сидеть? — взвизгнула Панасиха, которая вечно всем недовольная была. И ноне руки в боки вперла. — А ежель они скотину пожрут? У меня корова вон стельная…
— Ничего с твоею коровою не сделается. — Старостиха выступила вперед. — Нет им до твоей коровы дела… им люди нужны.
— Ой, мамочки…
— А чтой это будеть…
— Тихо! — рявкнул староста, да так, что мертвяки шарахнулися. — Вам чего сказано? До утра досидеть надобно… от и сидите, курицы… разошлися… Алевтин, наливай… и давайте, пели там? От и пойтя…
Дядька Панас у нас человек с норовом, про то все ведают. Ходить тихий-тихий, а после как скажеть, то хоть ты из себя вывернися, а все одно по евоному будет. От бабоньки нашие и притихли.
Алевтина же детей от лавок погнала. Нечего им на погань всякую глядеть.
— А у меня хата незапертая, — пожалилась Валюхинская невестка. — Сундуки…
— От дура, — Панасиха сплюнула да плевок спешне растерла, пока старостиха ей за этакую вольность не высказалася, — коль им корова не надобна, то твое наряды и подавне… куда им красоваться?
Кто-то хихикнул…
Тренькнули гусли… и люд потянулся к столам, сообразивши, что ничегошеньки нового туточки не будет. Кто-то еще плакал, кто-то смеялся, да чересчур уж громко, чтоб поверить в этакое веселье. Кто-то говорил, быстро, точно опасаясь, что перебьют.
А я…
Держала щит.
И чуяла, как поднимается по ту его сторону туман.
— Видишь? — шепотом спросил Арей.
Как не видеть… идет по пустым дорогам, крадется нечто, чему названия не ведаю… и оно огромно, страшно, обло и зевло, сказывал жрец.
Стоглазо.
Многозевно.
— Нехорошо, — тихо сказал Ильюшка, руки разминая. — А стрельцы и вправду…
— Должны подойти… в лесу стояли…
А леса ныне снежные.
И тропы занесло.
И ночь такая, что хочешь аль нет, да заплутаешь… только нам и остается, что надежда да молитва Божинина.
— Это боярыня, да?
— Не знаю… похоже на то…
Арей вглядывался в туман, в молочные воды его, да без кисельных берегов. А туман оный, разумный и злой, выдернутый чужою волей из сна вековечного, глядел на Арея.
— Умеешь ты, Зослава, неприятности находить. — Лойко почесался о косяк. — Вот… я, конечно, мечтал о героической смерти, но не так же ж скоро!
— Так не умирай, — огрызнулась.
Страшно.
Я ведь чую ту тварь… и голод ее, утолить который она не способна, даже если сожрет всех в Барсуках, старых и молодых, людей и скотину, птицу до последнего куренка… и не спасут от нее стрельцы царевы. Их она тоже поглотит да порадуется тому живому теплу, которое мигом истает в ледяной ея утробе.
— Так постараюсь. — Лойко потер переносицу. — Пойдем, что ли… выпьем, раз уж такое дело… сожрем чего… все не на голодное брюхо помирать. На голодное оно как-то обидней, что ли…
ГЛАВА 54, где приходят стрельцы, а ночь отступает
Сели-то, как прежде, только тесней.
Гляжу… небось, не поверили Арею. Может, оно и хотели бы, но чужой он в наших краях… или не в том дело, а в ином. Люди тоже чуют то, жуткое, что к деревне ползет. Медленно так, да только от него не уйти, не скрыться, хоть бы и оседлать того чудо-коня, которого Кирею подарили.
Да и куда побежишь?
Вот и попрятали ножи, но так, чтоб под рукой они были, чтоб взяться, коль нужда придет. Охрана-то наша от дверей не отходить, не верят, что выдержит щит? Аль просто привычней им так? Бабоньки, те поутихли верещать. Опосля уже слезы будут, стенания, коль останется кому стенать. А ныне детей рассаживают, обнимают да целуют.
К мужикам жмуться, про страх да стыд позабывши.
Какой стыд, когда смертушка, почитай, одною ногой на пороге. От и Панасиха притихшая вдовцу нашему голову на плечико примостила, а он ее приобнял неловко этак… и знать, не зря люди баили, что зачастил тот, бобылем живший, да на главную улицу…
Леля-красавица к младшому Гульчину на колени села, глянула на всех: найдется ли кто, слово супротив сказавши. Да только кто ныне скажет? Коль живы останемся, то и придется Неклюду сватов слать, Лелины родичи энтакого позору не забудут… а она, чую, рада будет. В ином-то разе, небось, не принял бы бортник этакого зятя. У Гульчиных двор велик, но и люден. И куда единственную дочь, красавицу и разумницу, которой на роду написано меды сладкие варить, седьмою невесткой отдавать?
Вот и ныне хмурится.
А молчит.
Дети и те тихие, страшно им. Дети, что и скотина, чуют неладное.
Да только мамки спешат сунуть в ручонки что пирожки маковые, которые на утро отложенные были, что пряники, что орехи… обнимают.
Целуют.
— Ну, — поднялся дядька Панас с рогом своим воловьим. — Давайте, люди добрые, помянем, что ли… тех, которые ушли… пущай их души, коль не отпустила их еще Божиня на землю в новом обличье, стерегут детей своих да внуков… пущай приглядят за неразумными.
И голову опустил.
Поднялися чарки.
С квасом тем же хлебным. И опустилися на столы беззвучно.
— Ешьте, — дядька Панас отер пену с губ. — Пейте, гости дорогие… как оно будет… так оно и будет, судьба, стало быть, такая… да пусть никто не скажет, что барсуковцы жизни не любят… бабоньки, заводите песню, а то и вправду, что на погосте посели…
…И завели.
Одну.
И другую… и третью… и мертвяки, что мялись за порогом, стихли, будто бы слушая… Об чем пели? А об чем придется.
О девке, которой боярин статный полюбился, да так полюбился, что позабыла она мамкины наказы, босиком побегла по росе к любому, а тот и рад… был рад, пока любовь этая в тягость не стала.
…о судьбинушке бабской нелегкой.
…о кукушкиной доле.
О том, как мужик корову на ярмарке торговал, да на козу, а козу — на барана… о женке сварливой… о теще гневливой… только песня одна обрывалась, как спешили новую начать.
А то, злое, не отступалося.
Но и не близилось.
Кружило волчьею стаей, знало, что никуда-то не деться людям от него.
— Возьми. — Арей, разломивши лепешку пополам, протянул мне кусок. И кубок свой, до краев полный. И вижу по глазам, что неспроста этот дар.
Отказать?
Иным разом отказала бы… нашла бы слова или без слов понял бы он верно, все ж не дело чужую невесту сватать. Да только ныне… может статься, до утра и не дотянем.
А на пороге смерти негоже врать.
Вовсе врать негоже.
Не себе.
И приняла я хлеб его.
И квас пригубила, что многие видели. Теперь и захочешь — не отопрешься. Да только не хочу я… не сейчас.
Не когда жизни осталось на полглотка… а страшно… неужто маме моей от так же страшно было? Зачем пошла… никто б не осудил, останься она со мною… что бабам на войне делать? А она… привыкла с малых лет за дедом… а после и за мужем.
Он-то, верно, не желал.
И уговаривал остаться. И стыдил, и грозился, но… дед сказывал, что кровь берендеева особая, уж если полюбит кого, то и до смерти, и после оное… надеюсь, что вместе они. И верю, как бы страшно ни было, да не отступила матушка с заветное черты ни на шаг.
Я не опозорю имя ее.
И то, что было вовне, будто услышало, заворчало, заворочалось, вздыхая на все голоса… и успокоилось.
— Я тебя украду. — Арей пальцы мои сжал, крепко, захочешь — не вырвешься, а уж если не хочешь, то и тем паче. — Слышишь, Зослава? Если не отдаст, то украду… по старому обычаю… в степь увезет, то и там найду.
— Не увезет…
От мнилось мне, что в степь возвертаться и Кирею неохота.
Да и нужна я ему… нужна, конечно, но не для женитьбы. У него другая на сердце лежит, только мил ли он ей… ох, до чего запуталось все, будто нити да в старой корзине перемешались, переплелись. И потянешь за одну, а вытянешь весь ком. Чего с ним делать-то?
— И хорошо… все одно не позволю.
— Не позволяй…
— Оно ушло, — сказал Ильюшка, который хлеб ни с кем не спешил делить, но катал из мякиша шарик, аккуратный такой шарик. И с него глаз не сводил, точно окромя энтого шарика больше ничегошеньки в мире и не было. А теперь от потянулся по-кошачьи, поднялся и мягкою походочкой к двери пошел.
Арей за ним встал.
И разом рассыпалась та жизнь, которую я уже для себя придумала.
Что я творю?
Смерть рядышком прошла… так не пришла… а я при свидетелях Арея суженым своим назвала… не назвала, да только все верно поняли и без слов.
На пальце перстень.
А во рту горечь хлебного квасу… и главное, что на душе ни тени раскаяния, хотя ж самое время и покаяться, и о прощении Божиню попросить, потому как крепко она не любит, когда люди обещаниями раздариваются.
Я же, выходит, сразу и двоим обещалася.
И не миновать мне беседы с бабкою… и добре, ежели беседовать случится без лозины, с которою бабка дюже справно управляется.
Глянула на ее вполглазика… а она чтой-то Станьке говорит, которая вроде слушает, да только сама на Лойко смотрит. А он у окна крутится, чисто гончак, след почуявший. Вона, нос его и тот шевелится.
— Зося, — окликнул меня Илья, — подойди, пожалуйста.
От же ж человек, чуть не помер, а все одно политесу не утратил. Сразу видна царская кровь, бають, она и колера иного, да только вруть, точно ведаю. Когда Еська Ильюшке нос расквасил, то рудая потекла, обыкновенная.
Но я подошла, потому как ныне не о крови думать надобно, а о нежити.
И той твари, что притихла.
— Чуешь? — Илья прислонился к косяку.
— Что?
— А что чуешь? Закрой глаза…
Закрыла.
Оно-то верно, что с закрытыми глазами мир слухать легчей… чую… да, чую, как детвора возится. Ктой-то хнычет, ктой-то ноет, ктой-то жалится… бабы переговариваются, сплетничают, стало быть. Мужики… не то все… чую, как сапоги скрипят.
И мыши в старостином подполе возятся.
И вновь не то.
Чую, как кружат волки, не смея подобраться ближе. И тенью белою скользит сова-неясыть… и внове не то… а где то, иное, которое было. Вот только что ж было и глядело во все очи свое нелюдские. Куда подевалось? А куда б ни подевалось, да только сгинуло.
Мертвяки же…
Остались мертвяки. Бродят по двору, спотыкаются…
— Ушло оно, — сказала я, глаза раскрывая.
— Вот и я о том, — задумчиво произнес Илья, и счастливым он вовсе не выглядел. — Не нравится мне это…
— Чтоб осталось, легче было б?
— Если бы оно осталось… — Илья присел на порожек и скрозь щит мой ногу сунул, мертвяки к ней повернулися да и… только слабые стали, сами собою на бок валились. — Так вот, если бы оно осталось, мы бы точно знали, где оно есть. А теперь мы мало того что не знаем, где оно, так еще и понятия не имеем, зачем оно вообще было… и это вот… попугали и бросили.
— Он прав, Зослава. — Арей сапогами с мертвяков не дразнился, но выступил за щит и бросил огненного шара в ближайшую девку. Та и полыхнула, и повалилася, да так и осталась лежать. — Магию отозвали… они держатся на остатках. И во всем этом смысла нет никакого.
— Попугать…
От не пойму их.
Не померли, так радоваться надо! А они сидят, что сычи, пялятся друг на дружку да лбы морщат, мысли гоняя.
— Пугать… Зослава, твоя боярыня…
— Какая она моя! — Ото ж нашли, чего присвоить.
— Хорошо, — согласился Арей. — Послушай, боярыня сейчас при свидетелях дала понять, что балуется с запретной магией. Или думаешь, каждый магик способен мертвеца поднять?
Нашие некроманты способные, сам же ж говаривал!
— Наши некроманты, — Арей вновь за руку меня взял, — после первого курса клятву кровную приносят. И на каждом из них метка стоит особая, почти как клеймо. И эта метка не позволит с пути соступить… да и душу в теле удержит. Магия смерти, Зослава, слишком опасна, особенно для тех, кто не понимает, насколько она опасна. Это кажется, что получаешь в руки великую силу…
— Только хоронят некромантов чаще, чем боевиков, — тихо завершил Илья. — Зослава, поверь, что ни один… клейменый некромант не стал бы ввязываться в такие игры. Значит, он самоучка. И возникает закономерный вопрос. Он… вернее, она, столько лет пряталась, так почему именно теперь заявила вдруг?
Мертвяки валились на снег.
Затихали.
— Надо будет законсервировать, пусть наши глянут на остаточные плетения. — Илья глядел на мертвяков с немалым интересом. — Может, хотя бы со школой повезет определиться…
— А… та тварь? — Лойко подошел бесшумно. — Она тоже… не живая?
— Скорее всего… но сложно сказать. Я в некромантии как-то… не особо.
— Да неужели! Слышь, Ильюшка, а наша-то нянька чего-то да не знает…
Арей дернул плечом.
— Такие книги на особом учете стоят. Как и те, кто ими интересуется… так что да, я знаю слишком мало. Но думаю, найдутся те, кто знает… вот только зачем было привлекать их внимание? Разве что…
— Во-во, — заметил Лойко. — Чуется мне, что назад с ветерком поедьма… Зось, ты быструю езду любишь?
— Кто ж ее не любит. — Я от двери отошла.
С мертвяками и без меня разберутся, а мне с бабкой словечком-другим перемолвиться надобно… и пусть утречком мне пришлося уговаривать бабку на столичную вояжу, да ныне вот…
Как объяснить, что лучше ей тут остаться?
Да и лучше ли?
А вдруг, как отъедем, вернется оно?
И пущай говорит Арей, что ныне же от царевых людей не продохнуть станет, да… все одно… а с собою взять? Коль нужна я боярыне, то и не отступится она… и как быть?
Какую из двух бед выбрать-то?
Однако же бабка моя по-свойму решила. Подошла, взяла за косу и кулачок сухонький под нос сунула:
— Ось только попробуй тепериче тишком сбегчи!
ГЛАВА 55 О сборах
Стрельцы объявилися с рассветом.
Загремело железо, двор старостин наполнился людьми, которых встречали и с радостью, и с опаскою, а ну поди, догадайся, чего людям царевым в головы взбредет. Помнили старики еще те времена, когда гуляли бояре да без оглядки на простой люд.
Вот и спешили барсуковцы девок ховать.
А заодно уж и добро…
Ну, про добро это я сама докумекала, стоило глянуть, как Панасиха с бабами перешептывается. Стало быть, вскорости поставят во дворе столы, те самые, из гостиное хаты. Да накроют их, чем Божиня послала. Мыслею, что пошлет она в милости своей и пару ведер крепкое браги…
Впрочем, стрельцы на девок ежели и глядели, то украдкой, стереглися старшины. Он же, сед и поважен, многими шрамами мечен, выхаживал по двору да ус крутил.
Знатный ус.
У сома, небось, и то поменьше будут.
Следом за старшиною бегал писарь, человечек махонький да пухленький, в две шубы разом обряженный, видать, потому как мерзлявый зело. Он то и дело останавливался, охал, дул на пальцы и внове черкал чегой-то на дощечке.
Дощечка та, на веревочка к шее крепленная, сделана была хитро. Сбоку вона чернильница крепится. С другого — перышки стальные, да ножичек. А снизу — и бумажные листы.
Третьим в этой компании, царевым словом собранной, был некромант.
От никогда живьем сблизи не видывала!
Наши-то наособицу держатся. У них, сказывают, и столовая своя, а в общежитии — отдельный этаж, для лиц посторонних магическим пологом запертый. От и скользят они тенями болезными. Поутру глянешь — бредут гуськом к корпусу, граниту науки слюнявить, вечерочком — и обратно. И никогда-то не встретишь некроманта, который бы без дела бродил.
Может, и к лучшему оно.
Я от на нынешнего глянула, любопытствия ради, и ажно холодом могильным с него повеяло. Это попервости. А после-то ужо попритерпелася.
И попригляделася.
А мамочки вы мое родные! Худой, да такой худой, что и не человек, черепушка, шкурою обтянутая. Небось, ежель содрать с него и одежу, то все косточки напросвет видать будут. Вона и бабы на него глядять, головами качають, пальцами тычуть.
Жалеють, стало быть.
А он голову дереть, очами зыркаеть. И так зыркаеть старательно, что мало пар из ушей не идет. Встал над мертвяками, рученькою повел влево, после вправо… присел, пальцы в пасть девке горелой сунул — от же ж мерзотная у человека работа! — наклонился.
— Кто ее сжег? — а спросил-то грозно, нашие все назад подалися — ну как еще в порче особо ценного государственного имущества обвинят! В Коновальцах-то, сказывали, дед Михей спьяну на столб дорожный нужду малую справил, за чем и пойманный был. Так плетями секли прилюдно, а после еще деньгу платил, за порчу этого самого.
— Я. — Арей некроманта не убоялся. И подошел, и руку подал, а тот и принял… тою самою, которую в пасть мертвяку совал.
Меня ажно передернуло, Арей же ничего, даже платочком вытирать не стал.
— И чем?
— Обыкновенный огневик. Где-то третьей ступени… она уже на остаточной силе держалась.
— Ага… третьей, значит. — Некромант огляделся и сел прямо-таки на снег, ноженьки скрестил. Из-под полы куцего плащика досточку достал, не такую, как у писца, поменьше. Скинул с плеча мешок, а из мешка — палочку самописную…
Глядели на него все, и старшой над стрельцами, коии по Барсукам разбрелися, собак всполошивши.
— Итак, объект номер один. — Некромант палочку по листу пустил. Эк ловко придумано, сам сидит, рукою подбородок подпирает, а палочка за него по бумаге скачеть. — Особь женского пола, возраст…
Склонился к костям.
— От восемнадцати до двадцати двух лет… причина смерти не установлена. Судя по остаточным эманациям, смерть наступила за несколько месяцев до вторичного пробуждения. Следовательно, тело подвергалось консервации. Имеющиеся разрушения, нанесенные после вторичного…
— Чего это он? — шепотом спросила я у Ильи.
— Протокол диктует, как положено, — Илья потянулся и зевнул. — Собирайся, Зослава, тут без нас разберутся… это теперь надолго. Каждое тело описать надо. Законсервировать. Запечатать. Сгрузить… плюс еще осмотр окрестностей… надо уходить.
— Может, все-таки с ними? — Это уже Лойко, и со спины подошел, поганец, вновь так, что снег и тот под ноженькою не скрипнул. — Обозом?
— Чуется мне, что тогда и обоз не дойдет до столицы… много вещей не бери. И… Зослава… лучше оставь их здесь.
Я бы оставила, да разве ж останутся?
Бабка уже по хате летала, то за одно хватаясь, то за другое… и сундуки все пооткрывала, поперевернула. Вытащила пояс заветный с дедовым золотом. И верно, ни к чему его в хате оставлять.
— Алевтина за Пеструхою приглядит… и за тобою, детонька… — то бабка Станьке уже говорила, да только и она, перемены почуяв, в бабку вцепилася.
И воет… и голосит…
Слухать никаких сил нет… а бабка с нею воет.
И обе на меня глядят.
Оставить?
Как их оставишь? Изведуся вся, думая, не приключилося ли беды, не пришла ли она по моей-то вине… а ну как пришлет за ними боярыня мертвяков своих? Или еще кого?
Не зря же ж грозилася.
Ведает, что за бабку свою на край мира пойду, не то что замуж. И сердце сжимается…
— Тихо. — Я кулаком по столу ляснула, чегой прежде себе не дозволяла. — Еду бери. Одеяло. И одежу ту, которую не жалко. В столице новую купим…
…верхами бы пойти.
…тайными тропами звериными, которые мне еще дед показывал.
…может, ежели бы Морошковым болотом… ныне-то оно, опасно-ласковое летом, стужею спеленуто. Уснули и болотники в окнах черных озер, и кикиморы злоязычные, и иная какая нечисть, от которое честному человеку не продыхнуть… и сами болота стянуло панцирями ледяными.
Верхами, глядишь, и прошли бы.
Ежели с полудню выехать, то к свету до Новолесья добралися б. А там село крепкое, на тысячи две люду… и от тракту близехонько стоит.
— Не думай, Зославушка, — бабка мигом слезы отерла, — я в седле крепко сижу… какие мои годы.
А то я не ведаю, какие ее годы.
— В возку оно, конечно, сподручней было бы, да… кликни-ка сюда этого неслуха азарского… вздумал мне тут внучку перед людями позорить… уж я ему…
Арей сидел на лавке перед домом.
Будто знал, что позовут. А может, и знал.
— В усадьбе пусто, — сказал он, глаза поднявши. А красные, больные… какую ночь уж не спит. И сие неправильно. Нельзя с устатку в дорогу идти. Да только и ждать неможно. — Почти пусто…
Он сгорбился, себя руками обнял.
— Ушла она… и сынок ее ушел… а вот люди, которые были… именно, что были… всех положила… так мне сказали.
— Пойдем в дом. — Я руку подала.
Нет в том нашее вины.
Да только… вспомнился вдруг и мальчишка, который коней принимал, и девка, ко мне приставленная… неужто и ее тоже? И люди, что боярыне служили верою да правдою… в доме-то людей много было.
Бабка на Арея только глянула.
— А ну-ка, — велела, — к печке садися. От еще теплая…
Печка-то у нас славная, дед мой ее ставил, оттого и держит тепло долгехонько. Ныне-то, пусть и не растоплена, и не пышет жаром, да все одно горяча.
Арей сел.
И прислонился спиной.
— Почему, — сказал, — она на это пошла? Никто же не знал… никто и не догадывался, чем тут занимается… далеко от столицы… от боярских игр… могла бы еще не один год, пока слухи не доползли бы до нужных ушей… а она вдруг… она не походила на безумную… у безумцев своя логика имеется, только ваша боярыня нормальною была.
— Так разве ж нормальный человек с тьмою игры играть станет? — Бабка моя Арея за чуб дернула. — Ну-ка, дорогой, глазыньки-то покажи… а роги куда подевал?
— Спилили…
— Беда… ничего, отрастут… а бессоницею себя зазря мучишь. Сейчас травку одну дам…
— Нельзя спать.
— Можно. И нужно. — Бабка моя Арея выпустила. — Тебя ныне и сорока плевком зашибет, а ты туда же, воевать… Зослава, кликни своих, пущай отдохнут. Часок-другой вам погоды не сделает, зато пойдете со свежими головами… и вели, чтоб возка запрягали…
— Верхом пойдем…
— Пойдешь, пойдешь, поскачешь ажно… а вещички нашие на возку поедуть. Куда девке в столицу да без нарядов? — бабка вытащила из сундука мешочек, расшитый бисером. Значится, и вправду белынь-траву жевать даст. От же ж… гадость несусветная, горькая, в роте после нее вяжет, зато и сны приходят крепкие. И пущай длятся сии сны недолго, зато и голова, и тело отдыхают, силами свежими полнятся.
Нашие на покосы завсегда белынь-корень жуют.
Иль когда жниво.
Иль еще какая работа, которое много и не терпит она отсрочки. Правда, долго сию траву жевать неможно, потому как сгорает тело… то бабка сказывала.
И корнем она неохотно делится. Но раз сама достала, значится, и вправду нужда в том есть.
— На от, — протянула она Арею тоненький корешок, с виду-то он подобный на волосяной ком. — Жуй и спи… мы туточки сами разберемся. Зося, а ты что стала столбом? Подушку неси… одеяло… и ты, Станька, стели женишку, а то только и гораздыя, что мужикам головы дурить… ох, нема на вас розог!
Илья белынь-корень в руках повертел, понюхал и за щеку сунул.
— Спасибо.
На лавку сел, сапоги стянул.
Лойко ж долго принюхивался, лизнул разок-другой, а после бабке вернуть попытался.
— Я сам уж как-нибудь…
— Жуй, — велела она. — Коль и вправду посвататься к Станьке моей хочешь…
— Жевать?
— Жуй, — бабка моя нахмурилася. — Небось, женихов лишних не бывает. Буде с кого выбрать…
— Еще и выбирать… — Лойко корень за щеку сунул и скривился. — Не угодишь на вас, женщины…
— Угодишь, угодишь… только для того живым остаться надобно. Мертвые, оне к угождению не больно способны… спи давай, охальник… от бестолочь кудлатенькая. — И по волосам погладила. — Намаялся с такою-то роднею… А ты, Зослава, чего глядишь? Ложися на печь… тебе, чай, тоже силы надобны… на, пожуй…
— А вещи…
Спать хотелося.
Я ж тоже не железная, и истома тело ломить, да только как можно, когда…
— На, — бабка сунула корень в руку, — жуй. А с вещами мы со Станькою сладим…
Корень был ныне особенно гадостен на вкус.
Зато и сон принес глубокий.
ГЛАВА 56 О болотах и путях тайных, а также быстрой езде и коварных ворогах
Храпели кони. Суетилися люди, коих сделалося много, и не наших, барсуковых, но незнакомых. Бегали царевы писцы с досточками, за ними — подмастерья с огнем в шклянках, потому как впотьмах-то попробуй попиши, такого наворотишь, что семеро грамотных не разберут.
Стрельцы топтали снега.
И давешний некромант осип, матеряся… все как-то не по-евоному тела на подводы грузили.
— Да чтоб тебя! — он погрозил кому-то кулаком…
…Тут и возка подогнали.
А в него и меня усадили… сперва бабку мою да под белы рученьки… она-то хорошо вышла, даром что некромант полчаса возился, на стрельца морок вешая. А тот еще и ворчал, мол, дожил до седых волос, чтоб бабою побыть…
— Не похож. — Бабка моя себе крепко не по нраву пришлася. И так уж ходила, и этак, и себя за щеку ухватить попробовала, но была остановлена.
— Без тактильного контакта. — Некромант бабке пальцем погрозил.
— Чего?
— Руками не трожь! — рыкнул стрелец и юбки подобрал. Следом и молодший его помощничек, Станькою обряженный, поспешил… ну а там ужо и меня сделали.
Ох и вышла я… не ведаю… как-то оно… не привыкшая я, чтоб на себя глядеть. В зеркале — это одно, а вживую… стоить девка рослая, широкая в плечах. Такую хоть в плуг запрягай, вспашет полечко заместо кобылы и не взопреет, а кобылу опосля и на рученьках до хаты донесет.
Волос светел.
Бровь темна.
Коса толста и до пояса… коса-то мне понравилася, а девка… неужто я взаправду такая? Идеть вразвалочку, да за бок держится, за куделю… ну, то бишь за саблю, только куда девке с саблею ехать. А с куделею оно и можно.
— Вас стрельцами сделаю, — сказал некромант и руки размял. — Только… вы уж все равно постарайтесь… боком… эманации сильные очень… и образцы… я не сталкивался с подобным. Кто бы ни поднял их, он сильный маг.
— Это мы уже поняли.
— Не совсем. — Некромант усадил Арея на стул и голову ладонями сдавил. — Ты думаешь, что и ты сильный маг. Это верно. Я вижу твою ауру, только… ты никогда ведь не сталкивался с магией смерти. И не понимаешь, на что она способна.
— Объясни, раз уж есть минута.
Лицо Ареево в руках некроманта плыло.
Волос сделался короток.
Кожа — светла, да и веснушки на ней появились.
— Объяснить… если бы это было так просто. Ты берешь силу из воды и огня, земли и воздуха… мы — из живого. Из страха. Из боли. Из радости… из рождения и смерти. И эта сила иного свойства.
Пробились рыжеватые усишки над губою.
И сам Арей сделался ниже. Шире в плечах… одежда и та переменилася. Не куртка черная — но кафтан стрелецкий алый, правда, изрядно заношенный и с заплатой на руке.
— Некроманту не под силу остановить бурю. Или призвать дождь. Он не сможет устоять перед огненным шквалом…
— А это хорошо… — позевывая, сказал Лойко. И шею поскреб. Некромант же Арея с табурету спихнул и на оную табурету пальчиком указал.
— Хорошо… только некромант способен наслать моровое поветрие. Одарить черною язвой. Или гнилью, которая во мгновение ока тело разъест…
На макушке Лойко проклюнулася плешка, такая обильная да с корочками, с темными родимыми пятнами. И само лицо его скукожилося, сделалось рябым, что яйцо перепелиное.
— Это уже не очень хорошо.
Голос и тот стал гнусав.
— Некромант способен пройти в сны и вытащить из тела душу… или отравить ее. И человек иссохнет сам…
— Гадкое вы племя. — Лойко повел узеньким плечиком.
— А то…
— Может, еще скажешь, чем вас взять?
— Холодным железом. Ежели по шее, то самое верное средство… только до этой шеи добраться надо.
Из Ильи вышел стрелец худой, тощий, заморенный службою, да и с румянцем чахоточным на впалых щеках. Этакий и за своим бердышом, что за стеною, сховается.
Настал и мой черед.
Боязно было… не оттого, кого вылепять: морок — не шкура, снять легко, тому нас ужо учили. А вот что залезет некромант своими руками леденющими в голову, того я боялася крепко. Вона какие пальцы тонкие да ловкия, небось, самое оно этакими мысли чужие ловить.
— Значит, железом и по шее… универсальный рецепт, — хохотнул Лойко.
— Соли возьмите. И… если вдруг сыщется, то безымень-корень… — сказал сие некромантус с немалым сомнением, в чем его понимаю. Корень сей и я не видывала, редкий он зело, да не потому, что не растет безымень-трава… растет, вона, на Марьиной горе целыми кущами. Но корни она давала тонюсенькие, что волосочки детские. И пользы с их мало.
И редкая травиночка корнем пухла.
Поди сыщи такую, а коль сыщешь, то взять ее можно едино на Летнюю ночь, когда нечисть вся из-под земли лезет да хороводы водит.
Слово надо знать заветное.
Да не одно.
А как тянешь корень, сказывала бабка, то и верещит он голосочком дитячим и так жалостно, что разом сердце от боли рвется…
— Ходь сюды, плешивенький, — бабка пальчиком Лойко подманила. — Иди-ка ты к старостихе… снеси ей от меня платочек. Да попроси корня энтого… запомнил, как звать?
— Только в полную луну взятый быть должен! — крикнул вдогонку некромант.
— А ты, сынок, не учи ученых, без тебя разберутся… ты свое дело делай.
Хмыкнул только.
— Может, у вас и моранин лист сыщется?
— Может, и сыщется…
…а про тот лист я слыхала, будто растет он только на могилках, да не простых, а где человек без слова доброго в землицу лег, да и сам был темною силой меченный. Вот и мучится дух его, проклятый, не способный с телом расстаться, и травы мучит.
И родит земля черные, будто опаленные.
Такую только тронь, и сам прахом рассыплешься. Не каждому в руки дается моранин лист, а коль дастся, то и пролежит сто лет, и еще сто, отраву сохраняя.
— Интересно тут у вас…
Некромант от меня отступил и рученькою махнул, чтоб поднималася. Я и поднялась, бабка ж на мое место села, глаза прикрыла…
— Если вдруг и вправду сыщется этакая диковина, то все просто… щепотку в воду, да еще волос… волосы тут привезли, похоже, боярыни вашей. И заклятьице одно есть простенькое…
— Тьфу. — Бабка сплюнула. — Все-то у вас не по-людску… а коль не ее это волосы? И если невиновная она…
— Ну да… рядышком стояла…
— Может, и стояла. А скажи-ка, разумник. — Бабка поерзала, а некромант ее голову седенькую руками обнял. Все ж таки крохотная у меня… — Вашу братию только так проклясти можно? Аль еще как?
— И еще как. И по-всякому…
С бабки годы потекли, что вода с лица. И лицо это сделалося кругленьким, сдобненьким, с носом-пуговкой, с зелеными глазищами… девичье личико, парню с этаким тяжко.
— Да только почти любое проклятье снять можно… была бы сила.
— Сила, значит… а смертное?
От же ж… и с чего я решила, будто бы не разглядела бабка? Что я больше ее ведаю? Полгода в Акадэмии просидела и ужо возомнила себя лекаркою… тьфу.
— Смертное… — Некромант руки отряхнул и на бабку, которая ужо бабкой и не была, а была молодчиком пригожим лет самых юных, поглядел с интересом. — А смотря кем послано. Если обычным человеком, то, конечно, повозиться придется. А если у того, кто проклял, сила была, хоть капля… и если этой силой до богов докричался, тогда… тогда сложно. У смерти много путей, уважаемая. И мне ведомы далеко не все, а потому не стану врать. Может, и есть такой способ, только… чем сильней проклятье, тем больше силы надо, чтобы снять его.
— Ясно… ничего-то ты не ведаешь… ну да ладне, какие твои годы. — Бабка некроманта по плечику похлопала. — Иди-ка, сынок, кваску попей… и на ночь тут стать можешь, только скажи, чтоб печку протопили. Небось, вашие боятся?
— Не без того.
Квас он принял с благодарностью и пил шумно, отфыркиваясь. Пот отер… небось, этакая волшба ему крепко стоила.
— А я не пужливая. Переночуешь, как человек… отдохнешь. Только к корове не ходи, она у нас души нежное…
— Не пойду…
Тут и Лойко с корнем вернулся. Тетка-то верно поняла, нарезала тонюсенькими ломтиками да на шнурочки повесила.
— Только под одежду спрячь. — Некромант уже Станькою занялся. — А то будет помехи создавать. Уж извините, но мороки — не моя специализация…
Коней седлали стрельцы.
А что, добрые кони, даром что видом не зело хороши. Да только грудь широкая, ноги крепкие, этакие и по дороге пройдут, и по бездорожью. Арей сбрую самолично проверил, и подковы, и разве что в рот не залез, да и залез бы, когда б не время.
— Стань…
Станька осталася девкою, только в мужском платье, потому как седлом в ем сподручней. Да годочков прибавила, телом сделалась округла, дебела.
— Со мною сядет, — Лойко невестушку названую на конскую спину легко усадил, и сам следом взлетел, привстал на стременах. — Она леконькая…
Конек его косматый только фыркнул.
— А меня не трожь. — Бабка от Ареевой помощи отмахнулася. — Я, небось, в седле сидела, когда и мамки твоей на свете не было…
И ловко так вскочила, будто бы и вправду только и делала, что в седле сидела. Повернулась бочком, рукою поводья подобрала.
— Ну, чего посели?
— А и вправду? — Ильюшка на лошадь взбирался тяжко. На этакого глянешь, и сразу ясно — источила евоное нутро хвороба, вона, ни рученькою двинуть, ни ноженькою силов не осталось. Сел, сам длинный, коняшка под ним махонькая, ноги в стременах свисають, колени в стороны растопырилися.
Арей мне коня подвел.
А я… я кое-как всперлася. Не особливо изящно вышло, да и ловкости бабкиной во мне нетути. Я ж, коль и ездила, то в ночное с хлопцами. Аль до сенокосу… и просто так на конское широкой спине каталася. Так те покатушки подле дома были, по ровное улочке. И кони шли шагом, а ныне-то… ну да Божиня не попустит, глядишь, не свалюся.
— Коленями его сжимай. — Арей проверил стремена. — А за седло не цепляйся, будешь падать — не поможет…
— Божиня, — Лойко воздел очи к темнеющему небу, — за что мне такое наказание?
— Грешил много, боярин, — тоненьким голосочком отозвалася Станька.
— Ага… видать, очень много.
— Руки не растопыривай. Прижми локти… и поводьям не давай провисать. Вот так, подбери. А теперь легонько… я рядом буду…
Мне ж подумалося, что хороша б я была в степях. Азарки-то, слыхивала, с конями ловко управляются, а я… я не азарка. На том и успокоюся… За околицу вышли шагом, а там уж по дороженьке и рысью коней пустили. Тряско было. Сижу. Седло о задницу бьется, коняшка пофыркивает да башкою лобастой трясет.
И думать бы о сурьезном.
О том, что дорога нас ждет тяжкая, что опасность впереди смертельная, а я только и могу — про седло и задницу, которая к столицам этак и вовсе сотрется аль станет пляскатой. Куда с такою задницею девке? И еще про то, что в седле я что куль с мешком держуся…
С тракту, худо-бедно ровного, свернула бабка, да прямиком на снежное гладкое поле, прихваченное морозиком. И тут уж мне вовсе не до мыслей стало. Одно в голове — удержаться бы.
Небось, некогда меня по сугробам ловить.
И вцепилася в конскую гриву клещом.
Колени стиснула, как Арей учил, а все одно, коник скачет, я култыхаюся…
— Полегче, — Арей своего мерина попридержал. — Этак ты коня задушишь. Просто почувствуй, как он движется, и ты за ним.
Легко ему говорить, вона, сел, что приклеенный.
Почувствуй… да я на бревне склизком себя этакой неуклюдой не чувствовала. А тут… а бревно-то в последние седмицы ходить стало. Поначалу-то с его все и сыпалися, любит у нас Архип Полуэктович супрызы устраивать, значится… но ничего, поплавали в прудку, в водице студеной, враз ловкости прибавилося. Оно ж главное так идти, чтоб ноженьку ставить аккуратней, чтоб ноженькою этою бревно не сдвинулося. А коль сдвинется, то и следом за ним.
А ежель подумать, то спина у коняшки поширше того бревна.
И стремена есть.
И я глаза прикрыла. Может, оно не самое разумное, когда летишь по заснеженному полю, да только конь и без меня видит, куды ему ступать. А я этакою макарой, которая медитация почти, глядишь, и приноровлюся…
Ох, и тяжкое это дело…
А Милослава сказывала, что есть за дальним морем земли, где водятся люди, которые наполовину кони. Я еще тогда подумала, что такого супруга зело сподручно в хозяйстве иметь. И вспашет, ежели надо, и покосит, и сенцо сам свезет… на ярмарку опять же заглядение ездить. Впряжешь такого в возок, и пущай волочет. Его ж и погонять не надо.
Правда, после задумалася, как его прокормить. Одное дело, ежели сеном, а другое, когда он, как и нашие мужики, кашу мясную есть, только конячьими мисами… но не о том ныне, об другом. Не быть мне кентаврою, хотя ж… чую, как дышит коняшка моя.
И как мышца его под седлом гуляеть.
И как сердце ухает… тяженько ему, небось. Идеть, в снег по самое брюхо проваливается, да выскаквает…
— Ничего, — сказала я, по гриве потрепавши, — сейчас на тропки выйдем, там оно легчей будет.
Не ведаю уж, поверил мне конь аль просто пришлося, но вздохнул тяженько. И будто бы ровней пошел. Теперь-то я села, чуть назад откинувшися, как то Арей показал, и куды конь, туды и я.
Легчей, чем с бревном.
Конь-то салом для склизкости не смазанный.
К темноте добрались мы до Нового лесу, который новым был годочков этак сто тому, а может, и двести. Поговаривали, что прежде тут вовсе гущар древний стоял, да однажды не то молния его шибанула, не то цмок огнем дыхнул, да выгорел на пять ден пути. И болота тогда полыхали.
И поля.
И мало, что до Барсуков не дошло.
Потом-то мужики паленую землю чистили, корчевали старые пни, сеять пыталися, но не принялося. Будто проклятое место, ничегошеньки не родило. Вот и оставили его лесом. Потом-то ужо пробились сквозь землю тонюсенькие осины, затянуло страшные раны мхами да сухостойными ломкими травами. А по ним, что по коврам, лес пришел.
Вот лес туточки удался.
Сама в ем бывать люблю. Стоять вековечные сосны, переплелися ветвями, что подруженьки обнимаются. А по низу и орешничек, и малинка с ежевикою, и черничные поля. И травок всяких. А самое главное, что лес этот не дурного норову, такой не заведет путника, не заплутает, чтоб, наигравшись вдоволь, бросить к медвежьему логову. Туда и дети малые без опаски бегали. И ничего, возверталися.
Правда, ныне было тут темно.
И жутко.
Поскрипывали сосны. Торчали из-под снега хлысты орешнику.
Хрустело чегой-то под копытами.
Бабка спешилася.
— Тропка узкая, — сказала она, — и лучше, чтоб не соступать…
— Сиди, — велел Лойко Станьке и сам на снег спрыгнул, взял коня под уздцы. — Зося, ты за мной. Илья… Арей, ты замыкающим.
От же ж, раскомандовался. Да только не время спорить.
Я с коня еле слезла. От же ж… навроде и недалече отъехали, а все тело ломить, ноги и тые враскоряку. А жеребчик мой глядит, скалится желтыми зубами. Весело ему.
Бабка же моя слово молвила заветное, еще дедом даденое, и легла под ноги нам лунная дорожка.
— Интересно. — Ильюшка тотчас присел и пальцем потыкал. А чего тыкать? Хаживали мы по ней, крепкая. Правда, хаживали так, без коней, но мыслю, и их выдержит. Я на дорожку ступила.
Светла та.
Пролегла по сугробам, прокатилась лентою девичьей. И до самых, мыслю, до болот. Бабка шла по ней споро, и Лойко тянул кобылку соловую. Станька только в седло вцепилася, тоже, значится, ездить не умеет. В лунном свете ее личина будто бы прозрачною была. И ежель приглядеться, то по-за дебеловатою девкой проступало тоненькое Станькино обличье.
Я шла. И коник мой за мною. Умная скотинка оказалася, ступал аккуратне, что коза по ветке яблоневой… ой, того разу тетка Алевтина намаялася, сгоняя. И как коза на яблоню забралася? Никто не ведае, а поди ж ты…
Ильюшка идет и бормочет чегой-то.
Видать, крепко ему волшба бабкина глянулася, потом пристанет, чтоб она ему контура намалевала. А какой контур? Бабка-то в Акадэмиях не ученая, про структуру пространственную заклинаниев ведать не ведает, зато знает, что в лесах многих тропы есть тайные, лесовиком для собственных нужд заведенные. И что энтие тропы человек обыкновенный не увидит, хоть бы все глаза выглядел. Но если скажет в нужном месте правильное слово, то и откроется лесовикова тропа сама собою. Будет пряма и проста и выведет, куда надобно. Главное, чтоб хозяин не почуял. Крепко на такое самоуправство забидиться могет. И тогда пожелает человек, скажем, в Климуках, которые от Барсуков на версты три к заходу, очутиться, а выйдет и вовсе где-нибудь под столицею аль в степях азарских… нет, с лесовиками шутки плохи.
Но бабку они ведают.
И меня.
Даром, что ли, мы кажную весну в лес и пироги свежие носим, и сливки со сметанкою, и бусины стеклянные для лесавок, очень уж они до украшениев охочие. Ныне, правда, спят все…
Вывела тропа, как оно и думалося, прямиком к болоту.
И стоило Арееву коню соступить наземь, как мигом развеялася, будто ее и не было. От и стоим мы на опушке, снежком припорошенной, озираемся.
— Это получается… — Илья на звезды выперился, после вытащил из карману трубку свою хитрую, в которую левым глазом поглядел, после и правым. — Да быть того не может…
— Чего не может? — хитро спросила бабка.
— Получается, что мы у Морошковых топей…
— А то…
— Они ж в тридцати верстах к югу. Я по карте глядел!
— От и молодец. — Бабка Ильюшку похвалила от чистого сердца, крепко уважала она людев ученых. — Но налево поглянь. Вон они, твои топи.
Он и поглянул.
И повторил:
— Быть того не может…
А как не может, когда лежат топи, раскинулися полями заснеженными, спокойны да пристойны, как ведьма после отпевания. Но и ныне от них дурным веет.
— Если, конечно… феномен искажения пространства…
— Чего?
— Мы от силы четверть мили прошли…
— Так лесные тропы завсегда короче. — Бабка на болото глядела с прищуром. Топи она не любила, хотя и тут нам случалося бывать. А что делать, коль иные травы только на болотах и встретишь? Небось, сабельник в окнах-зевах селиться любит, да таких, которые на два-три роста человечьих, потому как на зимку корни низенько опускаются, под лед.
Еще лилея болотная.
Кровохлебка.
Да и много чего.
Наши-то сюда не заглядывали, оно и понятно, ежели обычною дорогой, то верно Ильюшка сказал — три десятка верст, а то и поболей выходит. Ко всему и народец болотный дурного норову, такой и шутки шутить любит, и сожрать не побрезгует.
— А до столицы так сможете? Мы ж тогда к утру и…
— Охолони. — Бабка пихнула Лойко кулачком. — На болотах свои тропы, а я их не ведаю. Не для людей они.
— А за болотом?
— Там леса уже иные. И хозяева в них. Коль без спросу сунемся, то до столицы твоей вовек не доедем. А спрашивать некого, потому как зима. Спять все.
— Ясно. — Лойко поскреб плешку. — Что ничего не ясно. Так что, мы дальше?
Бабка вздохнула.
— Не дело это, ночью на болото соваться, да… вам чем быстрей, тем оно лучше…
— Ваша правда. — Арей коня по морде погладил. — Шансов у нас немного…
…По болоту пойдем, напрямки. И Божиня поможе, то к утру до людей выйдем. Оно-то, может статься, люди нам не крепко и сподмогут, в Барсуках тоже при людях дело было, да вот… человек без надежды жить не способный.
Глядишь, и до столицы доберемся.
— Коней не гоните, — бабка вновь в седло вскочила, — туточки места… ненадежные.
Ох, верно сие сказано.
Лежат болота, раскинулись — сколь ни гляди, нема им ни конца, ни края. Снега одныя, из-под которых корявенькие сосенки торчат, а иные и не торчат, стоят горбами белыми. И кони идут неохотно, чуют, что нету под мерзлою корой земли, но есть багна.
Этакая разверзнется, проглотит и коня, и конника, и только вздохнет сытно…
Шли гуськом.
Напереди бабка. Она-то местные дорожки ведала, не один год по ним хаживала, как и я. Да только я ныне топи, знакомые до последнее сосенки, не узнавала.
Где кривая береза с соколиным гнездом наверху?
Или камень, не то вросший во мхи, не то выросший.
Где разбитое молнией бревно, что который уж год тонет, да все не потонет… топляк старый… или россыпь мелких озерец с острою осокой по краю? Все иначе…
Белым-бело.
Страшно.
И луна, что повисла низехонько, только тени плодит. Бабка вон тоже то и дело останавливается, озирается, да все одно ведет…
Мимо скованного льдом серого окна, по-за которым примерещилась мне злая болотникова харя. Мимо острой гряды, ныне на диво схожею со спящим змеем, и мимо березы, снегом облепленной, заиндевевшей.
На островках, которые гляделись снежными холмами, встали на отдых, нужен он был и коням, и людям. Огня не разводили, зато пирогов холодных и мясца пожевали в охотку. Запивали снегом, растапливая его, ледяной, во рту.
Там же коней на заводных сменили.
— Как ты? Держишься? — Лойко невестушке своей и флягу протянул с отваром, да только не взяла она. И бабка кивнула, мол, самому сгодится.
Больше и не заговаривали.
Как-то так уж вышло, что и без слов друг друга разумели, да и куда силы на слова тратить-то?
Кони и те чуяли, что место уж больно неладное, оттого и сами спешили на рысь перейти. За островком, как мне помнилося, самая багна и начиналася. В летку-то я бывала тут, ступала осторожне по зеленым полям, у самой сердце обмирало, чуя глыбину несказанную. И ходила под ногами земля, вздыхали мхи, кочки моховые, солнцем до белизны выпаленные, и те не гляделися надежным пристанищем.
Зато росли во мхах травки редкие, но дюже полезные.
Горькавка, которая от кашлю сухоткиного крепко помогает, и еще переломы с нею срастаются на раз… кровохлебка та ж, что, при слове грамотном, любую кровь остановит.
Ну и клюква.
На багне-то она самою крупною была, отборною, точно дразнилася.
Ныне клюква была снегами сокрытая, да и сами поля… и ничего-то не качалося, ничего не грозило расползтися. Крепкие были морозы, хорошую крышу поставили над домом трясинным.
Коник мой споткнулся, и как я в снег не полетела — не ведаю. Да только он, до сей минуты спокойненький, вдруг заплясал, затряс головою…
— Повод подбери. — Арей тотчас коня перехватил. — Волков чует.
— Где?
— А вон…
Показал, тут-то я и сама увидела. Летели по белому полю тени, стлалися призраками, будто и вправду сплетенные из света лунного да заклятья темного… и хорошо так шли. Напереди махонькая волчица, стало быть, она стаю держит. За нею — пара волков из тех, что посильней, а там ужо и прочие, молодняк, сеголетки…
— Подпусти ближе, — попросил Лойко, снимая с плеча колчан. Тетиву он накинул споро, сразу видать, что не в первый раз ему случалось лук в руки брать. Стрела легла, ровненькая, аккуратненькая, будто игрушечная.
— Думаешь, случайность?
У Ильюшки тоже лук имелся, только короткий, круглый, на азарскую манеру, этаким верхами стрелять сподручней.
— Не знаю, — Арей выцеливал волчицу, да только стая, почуяв, что не спешит уходить добыча, замедлила бег.
Волки чуяли людей.
И лошадей.
И гнал их голод, а держал страх. Случалось уже Корноухой встречаться с ядовитым болотным железом, что шкуру рвет, будто клыки, и раны оставляет тяжкие.
— Зима. Голодно им. — Бабка тронула конька пятками. — Будут у нас провожатые… умная, значится… опытная… прямо не полезет, но своего не упустит. Едьма, нечего тут… светает скоро.
Я на небо глянула и подивилася тому, до чего оно черно и непроглядно.
Светает?
Да еще и скоро… хорошо бы, нечисть свету дневного не любит.
— От же. — Лойко вновь на лошадь всперся, Станьку прижал. — Не бойся, они до нас не полезут… а если полезут, то мы их…
— Попридержи. — Илья ударил по ладони, на которой едва не расцвел алый цветок огня.
— Ты чего? Шуганули б, и все…
— Вот именно, что все… твою волшбу тут за десятки верст слышно будет.
Лойко матюкнулся, видать, об этом не подумал.
— Ну… тогда мы их стрелами. Колчаны полные, на всех хватит.
И так бодро произнес, что я почти поверила.
Хватит.
Да и рассвет если, то край болота виден. Надобно лишь пустошь мертвую минуть, а там ужо и потянется молоденький осинничек, перерастет в лес, а за лесом — и дорога ляжет под конские копыта. Доберемся до людей, передохнем часок-другой, коней сменим, и вновь в путь.
Коль к тракту выбраться успеем…
Не ведаю отчего, но в голове моей прочно угнездилася мысль, что ежель на тракт выберемся, то и спасенные будьма. Оно ж как, на тракте царевом людно и по зимнему времени, там и обозы, и сторожа, и найдется кому отпор дать…
Об этом я думала.
И сама ужо подгоняла уставшего своего конька, он и рад был трусить, то на бег перейдет, то на шаг, вздохнет и внове широкою рысью пойдет. Взопрел весь, дышит с перебоями.
Не запалить бы до часу.
Сменный-то на поводу идет легко, да только и ему тяжко, попрыгал он по снегу, а тут еще и волки.
Стая и вправду шла, что царева охрана. Ни ближей не подходила, ни отставала. Порой вовсе исчезала она за какой-нибудь грядою, да только вскорости и появлялась.
Волки и песню затянули было, заунывную, от которое и человеческое сердце колотится не переставаючи, чего уж про конские говорить. И понеслися б наши жеребчики, когда б волю им дали.
Не дали.
И волчья песнь стихла, когда впереди показалась та самая клятая пустошь.
Оно как было… нет, как оно на самом-то деле было, я ведать не ведаю, меня в те далекие времена и на свете-то не было, как и бабки моей, и ея бабки, а все ж помнят люди.
И болото это.
И деревеньку, которая на болоте стояла. Невелика она была, но и не мала, и жили люди вольные, ни царевой воле не подвластные, ни боярское. Оно-то, может, и охотников сыскалось бы деревеньку примучить, да поди, отыщи ее в топях. Местные-то с болотниками да кикиморами поладили, вот и открывались им с малолетства заветные тропы.
Вольны были ходить, куда пожелают.
Зверя разного брать, ягоды да грибы… и знатные охотники в той деревне жили. С иными-то пушниною торговали, медом лесным, ягодою, которую на зерно выменьвали.
Хорошо, говорят, жили.
И главное, что договор с болотным народом крепко блюли. Правда, про той договор сперва никто и не ведал, потому как тайным он был. Это уже опосля… сватали, значит, парни девок из сел иных. И выбирали таких, чтоб приданым небогатые, зато родней обильные, и чтобы не больно той родне надобны были. Платили за девок пушниною щедро.
Те и сами радые.
Кажной-то охота было в дом богатый попасть.
Вот и попадали.
И пропадали.
Нет, сперва-то жили они, как и водится, мужними женами, хозяйствие вели, деток рожали… кто первым мальчика приносил, той почет был да любовь, а вот ежели девка случалась, тогда-то и наряжали невесту для Болотного бога. Опаивали, розум дурманили и топили в ближайшей трясине.
Дите и вовсе на камне черном оставляли.
Те-то, которые пришлые да много пожившие, про все ведали, да не спешили упредить… то ли со страху, то ли к часу тому сама душа их болотом становилася, вот и боялись утратить богатствие свое. Но главное, что однажды пришла в село девка, которая навроде как замуж согласилася идти, да только не мужа искала, а сестрицу свою старшую, сгинувшую без вести.
Конечно, ничего-то ей не сказали.
Но девка не дурою оказалася, глядела и слухала, и нагляделась, наслышалась такого, что страх ее страшенный обуял и в страхе том она, брюхатая, сбегла от мужа и его родни ласковой. Чудом через болото прошла, да и разродилася дома до сроку.
Девочку принесла.
И сказывали, что за девочкою тою и за женкой беглою весь болотный люд явился. Сулили золото, ставили горшки открытые, до верху монетой полные, да не выдали беглянок сродственники, знать, хоть бедны были, да чтили заветы Божинины.
В доме заперлися.
Молилися разом, чуяли, как вышел за данью своею Болотный бог, но ему, вне болота, силы не было. От и ходил он, вздыхал, а ничего не смог сделать. А как рассвет наступил, то и вышло, что порушен был древний сговор, что без жертвы осталась багна, и на жертвенном камне кровь не пролилась.
Тогда-то и взревел Болотный бог со страшенною силой.
И на голос его поднялось болото. Вылезли топлецы да лоскотухи, вошли в деревню, стали людей хватать. Налетели кикиморы, наскочили криксы… и никому не было спасения от болотное нежити.
А после деревню и вовсе накрыло трясиной, будто волною речною.
Ни хаты не осталось, ни кола дворового.
С той поры и зовется пустошь клятою. И никому из роду людского, ежели хочет он живым остаться, неможно ступать на землю ту…
Бабка и не ступала.
И мне не велела. Сколько помню, обходили мы пустошь сию стороною, да дальнею дороженькой, хоть и гляделась она безопасною. Бережок, сосенки реденькие… и ныне вон торчат, ветвями качают… а ветра нет.
И не сосны это — березы белоснежные, огроменные, каковых тут нет и быть не может.
А меж березами видится серебристый тын.
— Люди? — Лойко лук опустил, а Ильюшка, напротив, поднял.
— Нельзя туда идти. — Бабка взяла левей.
— Но, может…
Виднелись хаты, низенькие, сваленные из огроменных вековых сосен, с крышами плоскими, на которых колосилась спелая пшеница.
— Лойко, голову включи… откуда здесь людям взяться?
А я видела их… вон детвора козла гоняет, аль он детвору. Главное, хохочут, скачут, дразнят бородатого, он же мекает и норовит поддеть кривым рогом, зацепить короткую рубашонку. И дети босоногенькие, за ними старуха приглядывает в красной нарядное одеже.
Баба коровенку доить присела, та, пусть и невелика, но крутобока, сонно жует траву…
— И одеты они как-то… не по сезону. — Арей обернулся, отыскал стаю взглядом.
Волки отстали.
Видели пустошь… и боялись.
Лошади нашие тоже неохотно шли, хоть и стороной, да близко было клятое место.
…мужик над лодкою присел, да не долбленою, какие у нас делали, а из шкур пошитою. Такая и легка будет, и сподручна, самое то в круглых болотных озерцах.
На бережку и сети сохли.
А над ними вялилася рыба на солнце…
…и чуяла я запах этой рыбы, а еще навоза и болота, которое в мороке этом ожило, задышало.
— Стороной идем. — Арей подъехал ближе и за повод мою лошадку перехватил. — И побыстрей… что-то мне не нравится такое погружение в морок…
Тот же расползался, и вот уже таяли снега, пробивались сквозь них белые венчики болотных первоцветов. Ветром протянуло по лицу, духмяным, весенним…
Хлебом свежеиспеченным.
И хлюпали конские копыта по мхам… а те норовили разъехаться.
— Твою ж…
Слева от Лойко поднялся пузырь болотного газу.
А бабкин конек заржал, замотал головою да и провалился по самую грудь.
— Не хочу вас пугать, — Ильюшка своего попридержал, — но сдается мне, что выбора нам не оставили.
И вправду, что слева, что справа расстилалась предательская зелень топей.
Бабку-то Илья с коня стащил. И самого вытянуть попробовал… а на помощь уже спешил мужик, тот, что лодку чинил… с топором спешил.
— Нельзя туда ходить! Разворачивайте коней… разворачивайте…
А и куда можно?
В деревню клятую?
Ох, до чего неохота была… но чуется, и вправду нет у нас выбора. А тут, глядишь, рассвет настанет, да и развеется морок. Правда, мужик с топором вовсе на морок не походил.
Пахло от него рыбьей требухою да потом ядреным. Он же пихал коней, махал рукой, спешно что-то объясняя, а на крик его и другие спешили. Ох, чую, добралися мы до людей раньше, чем думали… да только радости с этого никакой.
ГЛАВА 57 О проклятой деревне и предсказаниях
Коня-то всем миром вытянули.
Да к деревне повернули.
— Что ж это вы, люди добрые, да на болота полезли, дороги не ведаючи? — сокрушался давешний мужик. В повод конский он вцепился клещом, и, чую, коль хватило б у бабки окаянства конька пришпорить, не допустил бы этакого. Повис. Лег под копыта, да и с полдеревни положил бы…
Редкими были тут гости.
Оттого и встречали нас найлюбезнейше, едва ль не кланяючися, а уж глядели глазами… ох, жуть меня от этаких глазов пробирала. Вроде и человечьи, а вроде и нет, покатые, пустые, как у снулое рыбины. И пахнеть рыбою, оно-то и понятно, сушатся на ветру лещики с подлещиками, караси да ерши и прочая рыбья мелочь. Вялятся на солнце щуки, что махонькие, с ладошку, что огроменные, не щуки — бревна, мхом заросшие.
Драный кот давится рыбьими потрохами.
А бабы в преогромном котле, во дворе самого большого дома ставленном, ушицу, стало быть, варят. Всемером. Никогда не видала, чтоб всемером… тут и двоим хозяйкам на одное кухне сжиться тяжко, а чтобы так… верховодила косматая старуха с волосами белыми, с лицом смуглым да морщинистым. Нос ее крючковатый нависал над губами, а бровей будто бы и вовсе не было, зато глаза синие горели ярко.
На меня поглянула.
Усмехнулась, показав желтый кривой зуб, да и сплюнула прямо в котел.
— Старшая нашая, — сказал давешний мужик, назвавшийся Налимом. Оно и понятне, что прозвище, да, верно, не принято туточки было настоящие имена пришлым называть. — Старая Ольха…
В руках она сжимала резной черпак с длинною ручкой.
— Добро пожаловать, гости дорогие…
И голос ее по селу разнесся.
Тихо вдруг стало.
Так тихо, что слышно стало, как булькает в котле не то уха, не то все ж колдовское зелье. А из хаты уже спешил рыхлый мужик в полотняной рубахе. Он был бородат, космат, и в спутанных, что грива конская, волосах поблескивали серебряные да золотые чешуйки.
— Добрего вам дня, — мужик на бегу завязывал широкий, расшитый рыбами пояс. На грудях его висело ожерелье в семь рядов золотых монет. — Добрего вам дня…
Он едва не сверзся со ступеней, остановился у котла, глянув одним глазом в варево, да отвесил нам поклон до самое земли, ажно пальцами по траве мазнул.
А трава тут жирная, не на кажным лугу такую сыщешь.
— В хату прошу, в хату…
— Староста наш, — веско сказал Налим. — Сомыч…
Он не походил на сома, недоставало ему солидности в обличье, скорее уж был соменком дурным, губастеньким. И пыхтел, не то от жары, не то от весу, коего в ем было немало, не то от неясного беспокойствия. Главное, что бабку с лошади сам ссадил, к Станьке потянулся…
…и тут сообразила я, что неладно.
Пропали личины, некромантом сотворенные, и стала Станька сама собою, и бабка, и прочие, стало быть, тоже… только кони прежними осталися.
Коней-то Налим споро по местечковым хлопцам распихал, рученькою махнул, мол, уводите, те и сгинули.
— Не беспокойтеся, — молвил тем часом Сомыч, — у нас за всем догляд особый…
И глазом подмигнул.
Левым.
А правый недвижим остался, точно стеклянный.
— В дом идите. — Старая Ольха черпаком старосте погрозила, и тот согнулся в три погибели, подхватил под локоток меня, к Станьке потянулся, да Лойко первым успел, приобнял невестушку, а старосту взглядом одарил добрым-предобрым.
Правда, тот взгляду будто и не заметил.
В хате пахло рыбою, и сильней, нежели на улице. Да и то, запах был тухлый, смердючий. Бабка, вон, и руку подняла, рукавом от его заслоняясь. Лойко фыркнул, а я… сама не ведаю, как не сбегла.
В животе только заурчало.
И перед глазами поплыло все… очнулася уже на лавке, в красном углу. Лавка широкая, ковром застелена. Стол стоит, едва не ломится от снеди.
Тут и осетры с клюквяными глазами.
И белужьи спинки.
И щуки, грибами фаршированные.
Сами грибы… лепешки всякие…
А староста белорыбицу пальцами пухлыми разламывает да на нас глядит.
— Ешьте, — говорит, — гостейки дорогие… небось, оголодали с дороги-то…
— Спасибо, дядька Сомыч. — Арей на снедь глядит да усмехается. — Да не голодные мы…
Думала, обидится староста, но он лишь головою покачал.
— Тогда пейте… денек ныне жаркий. — И самолично кубок, квасом хмельным до краев наполненный, протягивает, да не Арею — мне. А у меня такая жажда приключилася, что гляжу на этот квас, и ажно зубы сводит. И чуется, что холоден он, сладок и с кислиночкою…
— Спасибо. — Арей руку с квасом отвел. — Но не хочется нам пить…
И схлынуло наваждение.
А от кваса все тою ж тухлою рыбой пахнуло, и так крепко, что рот рукою зажать пришлось.
— Что ж вы, гостейки, — староста усмехнулся и зубы показал, острые, закрученные, что у щуки, — не желаете хозяев уважить? Оно ж и обидеться можно…
— Коль хозяева обидчивы, разве ж в том есть вина гостей?
На ладони Ареевой вспыхнул огонек, и как-то от сразу полегчало. Раз магия есть, то и мы выживем… небось, Арей в одинку оную деревеньку с землею сровнять способный. А уж втроем… вчетвером… я ж, хоть и не великая магичка, а тоже кой-чего умею.
— Вот оно, значится, как. — Староста квасок пил, медленно, смакуючи, а то и дразняся. Жажда вновь накатила, да только намороченная, и справилася я с нею сама, без Ареевой помощи. — Магики… давненько в наших краях магиков не случалось.
И руку об руку потирает.
Довольный, стало быть.
А с чего довольный, того я не ведаю. И не думаю, что ведать желаю, потому как мнится, не будет с этого довольства нам никакой пользы, а только вред один. Староста же квасок допил, пальцы жирные о бороду вытер и в меня взглядом вперился.
— А раз магики, — глаза ныне оба стеклянные, дутые, этакие чучелам делают, и то не всем, а которым поплоше, — то будем с вами говорить, как оно есть…
И вновь губы облизал.
И главное, смотрит на меня, и так мне с того неудобственно, что, будь воля моя, под лавку б сховалася. Но так только к Арею ближей присела.
С Ареем оно всяк спокойней.
— Завернули вы, магики, туда, откудова без помощи не выберетеся. Тут же ж как, болота окрест. Сойдете чуть с тропы, и поминай как звали… а тропочки узенькие, махонькие… и закрученные такие, что чужакам и не объяснить… наши-то вешки ставят, да сами разумеете, что дело сие тайное… первому встречному о таком не рассказывают.
Сидит староста да бороду косматую оглаживает.
— А раз так, то не выбраться вам без нашее помощи…
И замолчал.
— Чего ты хочешь?
Арей локти на стол поставил, наклонился, точно желая старосту забодать. Оно ж, может, коль роги были б, и забодал бы, но и без рогов вышло так, что староста улыбаться перестал.
— Так это… добрый господине… не серчайте, коли чего не так… я человек простой и по-хитрому не умею… мы туточки магиков давненько не видывали… и вовсе людей не видывали… никто к нам не забредает, никто…
— Девок оставьте…
Голос у Старой Ольхи ныне сделался скрипуч, немощен, и сама она шла, опираясь на клюку, подволакивая ноги. И гляделася такою трухлявой, что дунь посильней, и рассыпется пеплом. Да только не поверила я этой слабости, помнила и взгляд ее ясный, и то, как споро она с костяным черпаком управлялася.
— Бабушка, — староста вскочил и, подхвативши старуху под локотки, на лавку усадил. Подпихнул с обеих сторон подушки, чтоб сиделося сподручней, — что ж вы гостей наших путаете…
— Пуганые они, не видишь разве? — отмахнулася старуха. — Выведу вас… куда хотите, туда и выведу, хоть к самому цареву терему, а то и в покои могу…
И как-то разом поверилося, что и вправду сумеет Ольха, коль понадобится, то и к терему, и в Акадэмию, и к краю мира, с которого плюнуть в мировую бездну можно…
— Подумайте, касатики. — Она ныне глядела не на Арея, но на Илью, и тот хмурился, плечи расправлял, да все одно гляделся несерьезным. — Дело-то у вас ныне государственной важности…
Она подхватила желтым когтем белужью икру и палец в рот сунула, посмоктала да выплюнула.
— Дело тайное, непростое… за такими делами многие головы летять… а порою и смута приключается. — Ольха прикрыла глаза, да только мнилося мне, что видит она все и сквозь пергаментные, иссеченные морщинами веки. — Хотите, скажу, что случится, коль не дойдете вы?
— Нет.
— Обоз тот, который в деревне своей бросили, сгинет меж Новоельнею и Калинковичами, там леса густые, снега глубокие. И с того обозу уцелеет лишь один человечек, который и расскажет, как напали на боярскую усадьбу лихие люди, как повырезали всех… и боярыню с ея сыночком любым… и еще в Барсуки наведаться хотели, да только поспели царские стрельцы…
— Не поверят.
— Может, да только пока проверять будут… туда путь, обратне… и магики поедут не из последних, а те, что в Акадэмии останутся…
Она и вправду говорила, что видела. И от каждого слова страшно становилося.
— …разве всем им верить можно? Вот и случится беда-несчастие… погибнуть ваши царевичи… да и вы, касатики… некому упредить царицу будет об опасности… там, глядишь, и у нее, сердешное, от этаких известий душенька треснет да и вытечет вся. А телу без души жизни не будет…
Ольха сунула палец в икру, поковыряла, и на миг почудилося мне, что вовсе это не икра, а яйцы мушиные, до того мерзотно сделалося, не ведаю, как не опозорила всех.
— Царь же давно здоровьем слаб, отойдет на радость многим. И посядут бояре судить да рядить, кому на царствие идти… конечно, не срядятся, потому как кажному охота буде на трон сести. Смута начнется… а там и азары подоспеют. Оне-то в силе… поведет их словом кагана молодой Кеншо-авар… и захлестнет волна азарская Росское царствие, умоет кровью людей простых. Многие тогда в землю полягут, а еще больше — в полон уйдут. Исчезнут вовсе земли росские, но станут азарскою вотчиною… вот что случится.
Она глаза открыла.
Пустые.
Черные.
И будто бы сама ноченька скрозь них на меня глядит, спрашивает, на что я готова за ради земли родное? Остаться в клятой деревне?
— Я же вас выведу тропами летними, заговоренными. К утрецу у столицы будете. Голубей пошлете, упредите обозников… да и все переменится. Две девки — разве высокая цена за спасение всех земель Росских?
У кого спросила?
Ильюшка голову повесил. Лойко тож в кружку пустую глядит, будто выглядывает, правду ли Ольха поведала. И хочется ей верить, и не хочется.
И страшно.
— Нет, — сказал Арей, поднимаясь.
— Ты чужак, — Ольха усмехнулась, — не тебе решать…
— Нет. — Лойко покачал головой и Станьку приобнял. — Не бойся, мышка, никому я тебя не отдам… обещал ведь…
— Нет, — тихо произнес Илья. — Спасибо, бабушка, что позволили нам за полог заглянуть, только… матушка моя, пусть продлятся дни ее, заповедывала мне черными путями ходить. Не приведут они, говаривала, туда, куда надобно, а ежели и приведут, то не на счастие.
Думала я, теперь-то уж точно разозлится старуха, а она с лавочки поднялась, с кряхтением, тяжко, да только старосту, что помогать кинулся, рученькою остановила. Обошла Старая Ольха и скамью, и стол праздничный, передо мною остановилася.
И вот диво, она мне и до плеча-то не достанет, а глядит… будто бы сверху вниз глядит, как давече глядела царица.
— А ты, девка, что скажешь? — И в глазах ее ярких видится мне все сказанное.
Вот обоз ползет по лесной дороге, и дремлет на облучке некромант. Притомился, бедолага, что с упокойниками, что с нами… дремлет и не чует, как просыпается нечто, то самое, чему имени я не ведаю.
Как выползает оно, расстилается туманом под копыта конские. Голодно. Изранено. Зло. И кони упрямятся, им неохота ступать на этакую дорогу. Да только старшой не привык к пустым страхам, он привстает на стременах да в лес пялится, долго пялится, до самое рези в глазах.
И ничего не видит.
То, безымянное, умеет таиться, пусть и тяжко ему.
Оно посылает некроманту сон, муторный да глубокий, а потому сам он, покосившись набок, валится в телегу, к покойникам. А возница, оглянувшись, поспешне отворачивается.
Слишком он боится некроманта, чтобы помочь.
Да и нужна ли помощь?
Спит человек, а что с покойниками, так то выучка такая… может, с покойниками некроманту и уютней. И старшой чует неладное, да не поймет, где неладно, головою качает.
Поднял бы мага, да…
Не велено трогать. Не в его праве… и неужто, ежели б и вправду опасность была б, то уснул бы? Хоть и богопротивное занятие себе некромант выбрал, а все не дурак…
Старшой поднимает руку.
И стрельцы, встрепенувшись — их тоже дрема коснулась самым краем — потянулись к лукам. Тетивы накинули, стали тесней друг к дружке… этак им никакая опасность не страшна. Да и что за тревога? Лес вот вокруг, звонкий прозрачный осинник. Такой наскрозь видать. И был бы в том лесе ворог…
Знать, мнится старшому.
И тот, матюкнувшись, — майся предчувствием аль нет, а ехать все одно надобно, — первым ступил на тропу. Конь его верный споткнулся да выпростался… и иные кони… а лес стоял.
Лес видели многие.
И что, что светел осинник, зато уж воронье слетелось. Воронью по зиме голодно… вот и посели по веткам. Ждут. Ворон — птица непростая, Мораной меченая…
Глядят.
И то, которое безымянное, тоже ждет. Оно неразумно, но подвластно чужой воле, и та воля заставляет его сдерживать голод…
…еще немного.
…пока копыта последнего коня не ступят на снежный ковер. А после воля ослабла, и тварь, дикая, древняя, ошалелая от долгого сна, недавнее сечи и голода, очнулась…
И некромант с нею.
Он успел вскочить с немым криком — разве человек способен на такое? — вскинуть руки… и все… взметнулись снега, будто сама Метелица ступила на землю за кровавою данью…
Кто-то плакал.
Лошади ржали.
А после все стихло… и то, насытившееся — сытость сия недолгою будет, — поднялось. Оно было и снегом, и туманом болотным.
И отяжелевшею от воды тучей.
Оно глядело на меня глазами Старое Ольхи…
…А где-то далеко шелестели вороньи крыла.
— Не отворачивайся, девонька, гляди уж… хорошо гляди…
Гляжу.
И вижу, как выходим мы из болота… а навстречу уже летят конники в кованых личинах. И стрелы свистят, поют… разлетаются о щит мой, который я выставить успела.
Да только поздно.
Спотыкается бабкина коняшка.
И сама бабка кубарем летит под куст… и не встает. Куда ей, со стрелою-то…
— Отдайте девку, — от голоса этого с сосен опадает снежная пыль, летит, серебрится в лунном свете, — и смерть ваша будет быстрой.
— Самим нужна… — отвечает Лойко и с коня спрыгивает.
Оно и верно… на бегу не особо повоюешь.
— Вы сами того желали…
…Тот, кто это сказал, сам не пойдет. Он не привык воевать, верно, умеет, но… к чему тратиться, когда есть иные пути…
…я не вижу его лица.
…я так хочу увидеть, но перед глазами стоит лишь личина кованая. Черное железо, серебряный узор. И личина мертва, а мне все одно за нею усмешка видится.
Человек в личине свистит.
Тонкий звук.
Мерзостный. И Арей затыкает уши, а люди не слышат… зато слышит то, другое… и на голос хозяина тварь отзывается.
Она ползет.
Пугает.
Выпускает из снежной утробы иглы прозрачные, будто зубы… и зубами этими раздирает коня, которому не повезло на пути ее попасть… он визжит и все одно живет, с содранною шкурой, с нутром, вывернутым наружу.
И тихо плачет Станька.
— Не бойся, Мышка-малышка. — Лойко задвигает ее за спину. — Я ж обещал, что не дам в обиду…
Мой щит пропускает Ильюшкину стрелу… и две… и полдюжины, тварь жрет их.
А следом — огневика, сотворенного Ареем… и магия ей по вкусу, она урчит, рассыпаясь колючим снегом. Я же понимаю — не одолеем…
Тварь наваливается на щит…
Наверное, я все ж отвела взгляд, если не увидела всего.
…вот падает на снег Илья, кровь у него горлом идет.
…вот корчится Лойко, пытаясь уползти, заползти на Станьку, даже теперь прикрыть ее, невесту названную… а щит рассыпается осколками.
…и вспыхивает ярко человек.
Не человек — костер.
Предвечное пламя азар не отказалось от своего потомка… он горит, а с ним полыхает и тварь. Никогда не видела горящего снега… и я тянусь к Арею, зная, что не хватит у него сил…
Стрела падает с неба.
Граненый наконечник, охвостье из перьев гусиных… я вижу ее ясно-ясно, и ничего не могу сделать… и бегу, падаю, кажется… для меня снег мягкий.
Кричу.
А крика нет. В той яви, которую показала мне бабка Ольха, меня лишили голоса.
Стрела пробивает Арею грудь… и он, вместо того чтобы погаснуть, вспыхивает ярче, будто пламя нутряное наружу выпустили…
…а всадники уже летят навстречу.
И тот, который в личине, взмахивает мечом… он зол, не для того он звал тварь, чтобы теперь просто потерять ее…
…и клинок обрушивается на пламенеющего человека…
По спине Лойко стучат копыта, и кто-то походя, вымещая ярость, бьет копьем. Бьет с силой, такой, что удар пронзает обоих…
…Илья пытается встать, но голову его раскалывает шерстопер…
Старуха же Ольха отворачивается, не позволяя доглядеть.
И утирает глаза рукавом.
А после вновь раскрывает. Я не хочу в них глядеть. Однако же гляжуся.
…царица слушает человечка в мятое одеже…
…и с кем-то спорит…
…царица желает забрать сынов, какие остались, спрятать их… но разве можно прятаться вечно? Их ведь хорошо учили. И люди, и сама жизнь. Неужто не справятся?
Не справляются.
Черный мор приходит в столицу.
С южных ворот, с ветром северным, да не крысу заседлавши, как то водится… оно и верно, зачарованные стены столицы не пустили бы ни крысу, ни бродягу нищего, ни купца заморского… стены-то крепкие, высокие.
Стража на воротах сплошь с амулетами.
Да и люд, что тайными тропами ведает, не всякого ими поведет…
Но не тропою пришла болезнь, въехала на шелковом шарфе боярыни Горданы, баловницы да дочери любимое, которая ни в чем отказу не ведала. И разве подступится к такой стража?
Кинет им боярыня монетку за старание…
И шарфик свой поправит.
Шарфик этот ей дорог сердечно, пальчики тонкие его то гладят, то теребят. И вздыхает Гордана, розовеет, вспоминая о том, кем дарен он был.
Кем?
А болезнь уже перстями повисает на пальцах белых.
Обвивает запястья точеные.
Пробует шелковую кожу… на третий день по прибытию ей занеможется, но не пойдет Гордана к целителям. Сама себя лечить станет… да и что лечить, коль просто дни такие, женские… и не сказать, чтоб вовсе ей дурно было… нет, не настолько, чтоб не исполнить просьбу любого.
Она не ведает, зачем он о том просил, но…
…Гордана горит в огне.
…а следом падает Еська. Он не желает умирать, упрямится… он бредит, зовет… а кого — не понять… и некому жажду утолить.
Гремит колокол.
И ворота Акадэмии закрываются, чтоб не выпустить болезню в люди… та же, получив свободу, гуляет. Ходит по коридорам Черная Жница, машет серпом, собирает жизни в корзину бездонную.
Винные или нет…
Знатные да простые… никого не останется…
…хрипит, кашляет кровью Архип Полуэктович. Нонешний мор таков, что не способны одолеть его чары… и ложится, засыпает вечным сном Люциана Береславовна…
Миг не доглядела.
…миг — это много аль мало?
— Погоди! — я сама уже тянусь к старухе, впиваюсь в плечи ее тощие. — Покажи…
Она смеется и показывает.
Царя, который отходит… царицу… и вовсе не болезнь ее свела в могилу, яд хитрый… Кирея, что воет, баюкая на руках ту, которая и вправду хорошей бы женой ему стала… а после ложится рядом с нею и вспыхивает костром погребальным.
…вижу бояр, что рядятся, а после идут друг на друга с кулаками… стрельцов, которые клялись в верности, но ныне верность их никому не нужна.
…кровь в палатах царских.
…кровь на камнях пустоши, где сошлись боярские дружины…
…кровь на тугих пшеничных колосьях, которые ложатся под копыта азарское конницы… вижу ее, многолюдную, дикую, что река в половодье.
Вылетела.
Затопила огнем, закрутила железом… и сквозь дым слышатся мне крики людей, которым в этой стремнине суждено погибнуть…
— Ну что, красавица, нагляделась? — Старуха смежила веки.
— Нагляделась, — отвечаю. И кланяюсь до самое земли. — Спасибо вам, бабушка, за ласку… и за то, что путь этот показали.
А у самой-то колени дрожат.
— За тобою выбор, девка… останешься с нами, выведу их к палатам царским…
— Зослава!
Я Арея за руку взяла.
Живой.
Чудо, что живой… и не сгорел… и если хватит у меня духу в проклятой деревне остаться, то и живым останется… или…
Мне решать.
Только мне и никому кроме… бабка и та молчит, глаза прячет. Видела ли? Иль ей и видеть не надобно, помнит она, что такое смута да как азары по земле росской ходили… и надо бы остаться.
Умру?
Пусть так. Что есть одна смерть по сравнению со многими? И страшно… и противно… а все одно мой это путь.
— Спасибо, — а у самой губы мертвые, — вам за ласку, люди добрые… да только и мне матушка сказывала, что не бывает легких дорог. Как не бывает такого, чтоб от своей судьбы человек откупился. И коль суждено нам… уйти…
Не могу сказать про смерть.
Оно ж мнится, что за спиною она стоит, слушает.
— То и пусть будет оно так…
— Не останешься, значит? — с усмешкой произнесла старуха.
— Нет…
И стыдно.
Выходит, что струсила я… могла бы спасти всех, а… или не могла? Отчего она мне один путь показала? Не потому ли, что не существует иного…
— Пусть будет по-твоему, девка… — старуха Ольха рукавом взмахнула.
И сгинула.
А с нею — и стол, и скамьи, и староста… и дом евоный… и все дома… и лето… стоим мы посеред пустоши, озираемся.
— И что это было? — спросил Лойко.
ГЛАВА 58 Об извилистых путях судьбы
Арей зачерпнул горсть снега и лицо отер.
Огляделся.
И я огляделася.
Пустошь, как она и есть, лысая, что бесова пятка. Только по краешку самому торчат реденькие осиночки, а за ними болото лежит, да не то, летнее, в зеленые колеры ряженое, а зимнее.
Бродят по снегу лошади.
Валяется одежа нашая… и Лойко первым тулуп подхватил, на плечи Станькины набросил.
— На от, а то околеешь, — проворчал. — И шапку не забудь.
— Ба…
— Чего я? — Бабка прежнюю личину не примерила, да и с прочих сползли они, выставляя нашу прежнюю суть. — Сама выбрала…
— И что теперь?
— А я откедова знаю…
У меня ж в ушах смех стоял. Будто бы туточки она была, Старая Ольха, рядышком… попросись — и воротимся в клятую деревеньку. И попотчуют нас от души, правда, душа та гнилой будет. Но зато живы останемся, как есть живы… и не только мы.
И гляжу я… на небо гляжу, которое седины набралось.
На людей.
И стыдно, и страшно, потому как выбором своим я точно их сгубила. Побоялась, выходит. Там-то решение мое верным представлялося, а ныне… вот Станька носом хлюпает.
За что ее?
Или бабку мою, живую, а сколько той жизни осталось? На полволоска?
— Вы… ба, может, вы со Станькою назад повернете? — Я тулуп на плечи накинула, да все одно теплей не стало. Колотило меня, и так, что зуб на зуб не попадал. — Ежели потихоньку, то доберетеся до Барсуков…
— Поздно уже, — покачал головой Лойко. — Волки тут.
Оне и вправду кружили, к пустоши не смея подобраться, но двоих всадников за добычу сочтут.
— А ты проводи.
Лихая надежда… глядишь, и вправду останется живым.
— Ты, — Ильюшка старательно тер снегом руки, пусть и сделалась шкура красна, что у раков свежесваренных, — расскажи лучше, что видела.
От, легко сказать…
— Видела, — говорю, — как умрем… и те, обозники… и мы… а потом…
— Погоди. — Илья руки отряхнул. — Присядь, Зослава… и давай так, рассказывать оно долго, но есть одна штука… миска нужна, чем пошире… и вода.
Миску из сумы достали, уж не ведаю, как бабка ее туда запихнула, а все к делу пришлося. Воду топили руками, спешне, деловито, будто не было занятия иного. Лойко из фляги своей льнуть хотел, но бабка не дала.
— Чистая вода должна быть.
— Именно, — подтвердил Илья. — А теперь, Зослава, возьми миску в руки… вот так. Закрой глаза. Не бойся, будет немного неприятно.
Ага, будто голову в клещи сунула, но ничего, я потерплю.
— А теперь вспоминай. — Голос Ильи доносился издали, и был он таков, что не посмела я ослушаться. Вспомнила.
И вспомнилось легко.
Каждое мгновеньице… и кровь на снегу… и стрелы… лучники… человек в личине… тварь неназываемая… воспоминания лились, а клещи только сильней голову стискивали. И уже больно было, да терпела я, губу вон прикусила, чтобы не закричать.
…вернись, вернись… не обидим…
Шелестели осины.
И за ними виделась мне полупрозрачная фигура Старой Ольхи… манила она меня, обещала… выведет, болотными тропами, летом иным, с которым нонешняя зима не повстречается. А значит, не заступит дорогу и тот, кто…
…боль стала резкою.
— Илья, твою ж…
Земля из-под спины вывернулася, а холодом в лицо льнуло, и не холодом — водою студеною. Открыла глаза, лежу, дыхаю, пялюся на небо, в руках миска, и тую миску я стиснула так, что пальцев не чую.
— Извини, я сейчас…
Голос далекий, а клещи голову стиснули, давять. Этак если и дальше будет, то раздавят, что орех. У нас дед Васюк как-то с крыши сверзся, полез конька править. Упрямый был, ему баба евоная казала, чтоб погодил до вечера, когда сыны с покосу придут, так нет же ж, вперся. А после и сверзся. И вышло, что на редкость неудачне, об камень головою, та и треснула…
Ох и было вою.
А моя и без камня.
— Если ты…
— Да не мешайся, сейчас распутаю… вот сейчас… Лойко, дай ей хлебануть.
К губам флягу прижали, леденющую! Хоть бы подумал, ирод, обернуть чем! А то ж языка приморожу, буду опосля шепелявить… но клещи исчезли, и тяжесть, и дышать смоглося.
И пить.
Пила я жадно, будто до того ден пять воды не видывала.
Меня ж под ручки подхватили.
Усадили.
Арей рядом присел, за руки держит, не то чтоб не упала, не то миску отобрать пытается. Я б ее отдала, да пальцы не разгибаются.
— Ну, Ильюшка…
— А что я? — Голос Ильи звучал виновато. — Я не хотел…
— Ты его вообще пробовал?
— Пробовал… только недолго, секунд пару… ну, чтоб понять, что действует.
Слышала я вроде и все, да только понимала через слово.
— Ментальная магия такого уровня… компенсация… поддержка ауры… выберемся, я тебе нос сломаю.
— Если выберемся, — спокойно согласился Илья, — то ломай. Зослава, ты глаза закрой и попробуй дыхание выровнять.
— Советчик, чтоб тебя…
— Я как лучше хотел!
Глаза я закрыла. И открыла.
Ох и кружит… будто мошкара роится, и такая наглючая, от которой в голове моей гудение приключается, с этого гудения я и не слышу, об чем лаются…
— …выше достоверность…
— Уж с достоверностью ты, братец, угадал. — Это Лойко, притихший какой-то, пришибленный. — Знаешь, я б, наверное, и без достоверности согласился бы…
Я все ж пальцы разжала, и миска выпала на снег.
— И что делать будем? — Теперь я могла разглядеть смутные фигуры, будто бы в тумане все. Станька, к бабке прижавшаяся… Ильюшка сгорбленный.
Лойко.
— Хороший вопрос. — Лойко себя по плечам хлопнул. — Может, и вправду назад повернем?
— Не получится, если нас ждут, то устроят охоту, — сказал Ильюшка, он стоял, покачиваясь вперед-назад, так он завсегда делал, думаючи. — Если отринуть сам факт грядущей смерти, который вовсе не явлется непреложным фактом, но лишь его вероятностью…
— Чего?
— Лойко, — Ильюшка отмахнулся, — не сбивай с мысли. Мы получили преимущество.
— Это ж какое?
— Присядь. Мы знаем, что будет. Точнее, что скорее всего будет. Однако, если разобрать сам эпизод на элементы, то получим ряд ключевых точек, устранение которых позволит нам избежать гибели… то есть даст шанс избежать.
Илья замолчал, застыл ледяною фигурой.
— Я… — говорить было тяжко, язык не ворочался. — Я могу вернуться… она тут… зовет.
— Мы слышали, — отмахнулся Илья. — И не хочу тебя разочаровывать, но в твоем самопожертвовании смысла не будет никакого.
Я только вздохнула, а Ильюшка мягко так, как дитю, сказал.
— Ты просто невнимательно ее слушала. Она выведет нас… летними тропами… и верю, что до царских палат доведет… только это будут палаты времен ее лета. Понимаешь?
— От холера! — Лойко добавил пару слов покрепче, но осекся. — Не слушай, Мышка, это нехорошие слова… и не хлюпай носом. Слышала, что Умник наш сказал…
…летние тропы.
…то лето, которое случилось однажды много годочков тому…
…которое осталось на Пустоши проклятьем и памятью…
…и разве обманывала нас Старая Ольха? Доведет. Выведет… и не доберутся до нас всадники в личинах, только… все одно ведь сгинем, как и не бывало.
Я, дурища, и не поняла.
А Ильюшка вот сообразил, глядишь, и ныне сообразит…
— Если на краю болота засада, то прорываться наскоком смысла нет. Арей, у тебя еще вестники остались?
— Один.
— Запускай… надо упредить обозников. Судя по видению, до них только завтра доберутся. Тварь будет голодной, потому что ты ее потреплешь… заодно попроси связи, у Марека должна быть… пусть доложит обстановку… отдельно — про Гордану. Влипла, дура… и сам пусть постережется, похоже, в обозе есть чужаки… коль знают, где встречать, то свои ж след кинули.
Илья сковырнул сапогом снег.
— Попробуем взять ублюдка в клещи… тут в Бельцуках, недалече, две сотни квартируют, а при них — магики штатные… и не из последних, если память не подводит. Хорошо бы им весточку дать…
— Думаешь, не перехватят?
— Они знают, где нас ждать. И ждут… и не знают, что нам тут вдруг повезло…
Лойко только хмыкнул и шею потер. А я согласилась — сомнительное сие везение, свою смерть видеть. Арей же вытащил низку с бусами и, сняв одну, сел на снег, ноги скрестил.
Он сидел долго, дольше, чем в прошлый раз.
И я уж испужалась, что не выйдет ничегошеньки, когда помеж пальцев евоных потек черный дым. Дым сплелся в птицу, не то ворона, не то галку огроменную клювастую. Та же только крылом по снегу мазнула, поднялась.
— А теперь, — Ильюшка потянулся, — предлагаю поспать, если у вас, уважаемая, еще сохранился тот чудо-корень… силы нам понадобятся.
Бабка молча в торбу полезла. Корня она взяла, да и не одного. Раздала всем по кусочку и Лойко по голове погладила.
— Бедовый ты хлопец, но… коль живы будем, не стану вам мешаться.
От же ж…
Коней стреножили. Попоны на снегу постлали, все не на голом спать. Подумалося, что этак и простудиться недолго, а после — что ноне нам не простуды бояться. Полегли разом, тесненько, теплом деляся, и вышло, что Лойко невестушку свою обнял, а я подле Арея очутилася.
Лицом к лицу.
— Не умирай, — попросила, хотя ж не в его воле это.
— Не умру.
Пустые слова, но как же мне стало легко… не умрет, конечно, не умрет… и глядишь, сплетет еще Божиня нашие судьбы, совьет из них одну ниточку, да крепкую, которая и после смерти не разорвется.
— Смотри, ты обещал…
…нонешний сон был черен.
И в черноте этой шелестели осины, будто звали, да не способны были дозваться. Обещали… а что — не разобрать. Да и не хочу. Я чуяла, как утекает время, и вправду песок, и песчинки-мгновенья гладят пальцы. Горько от того, и еще горше, что не в силах моих ничего переменить.
…или…
…если прав Илья…
…щит надобно развернуть раньше…
…да двойным сделать, чтоб не сразу треснул… и тогда, глядишь, будет минута-другая… а там, коль повезет, то и подмога подоспеет. Надобно верить, что подоспеет, без веры не сдюжим… а мы должны… ибо как иначе-то… иначе нельзя… люди погибнут.
Много людей.
Я открыла глаза, когда завыли волки. Глухо так, будто отходную выводя.
— Ну вот, — Ильюшка смачно потянулся. — Да здравствует новый день…
Солнце и вправду показалось над болотом.
Только мне от того радостно не было.
ГЛАВА 59, где будущее становится настоящим, а потом и прошлым
Сколько веревке ни виться, а до петли рано иль поздно доберешься. Сие не моя мудрость, не бабкина, но людей лихих, которых иным, приличным, слухать не след. Да только, подслушанное ли невзначай, оброненное кем-то, привязалось изреченьице, и так, что не скинешь.
Вот и вилась дорога.
Ложилась по полотнам болота.
И петлею в ней, неминуемою, гляделся далекий пока лес.
Шли мы… а от как на смерть и шли. Коней заводных отпустили, поелику некогда буде с ними возиться. То Илья сказал, и перечить ему не стали.
Умен барин.
И говорить умеет так, что слухают.
Быть бы ему воеводою аль главным над царевыми стрельцами, но не попустят, упомнят батюшкины грехи. И ведает о том Илья. Лицо сухое сделалося, строгое. Не лицо даже — маска.
Лойко вот, напротив, песенку развеселую насвистывает, да только Станьку к бабке пересадил.
И в самый конец их и меня поставили.
Нечего бабам под ногами крутиться. Я сидела в седле ровно, как умела, а за нонешнюю ночку умения прибавилося. И плела… щит свой плела, да нити силы тянула потолще, чтоб крепче стал. И тянулися они медленно, и все мнилося — не поспею. Даже когда поспела, когда свернула заклятье клубочком, как то Арей показал, и за другое взялася — щитов мало не будет, а больше ничего-то я не умею, — все одно боялась…
…и помереть.
…и выжить, когда оне мертвыми будут.
…и ошибиться, потому как верно Илья сказал, что легче упредить удар, о котором ведаешь.
И чудился мне смех Старое Ольхи. Не прискучили ей, клятой, игры людские…
…Застрекотала сорока. Так близехонько-близехонько, что конь мой ажно шарахнулся, да был остановлен.
— Не шали, — велела я, хоть и не строго вышло, как оно у Арея получалось, но все одно солидно. Конек только головою затряс.
Чуял недоброе.
А впереди, широкою косой, снежным валом лежал предлесок. И торчали сквозь снег узенькие хлыстовины кустарника, за ним виднелись березки прозрачные, осинки, и далее, темною грудой, чертою размытою, до которой нам, быть может, и добраться не суждено, и лес стоял.
Темный ельник.
Сердце оборвалось.
Тут.
Хотела сказать, да… не успела… засвистели, заулюлюкали конники, коней из снегу подымая, выскочили, что тати из тьмы.
В видении моем иначе было…
Некогда думать!
И развернулся беззвучно щит мой, вздрогнул, принимая первые стрелы…
…выдержал.
И бабка сама соскользнула с конское спины, упала на снег, за собою Станьку потянув, скрючилася, подтянувши ноги к груди. А руки в сумку запустила.
В сумке бабкиной многие травы, да только какая от них ныне польза?
То я краем глаза видела.
Как и руку Ильи, и плеть воздушную, оное руке покорную. Взметнулась она, и полетели на снег что кони, что люди. Плеснуло алым, кровью запахло на радость волкам. А Илья вновь плеть закрутил, да не ударил.
Бережется.
Стоим.
Ждем.
Глядим на них, в снегу копошащихся. И не жалко… завсегда жаль было больных да раненых, а тут… кто-то отходит, по всполохам вижу темным. Кто-то болью мается, кричит люто, а мне этот крик и в радость: он кричит, а не Арей.
Не Лойко.
И живы… сердце колотится дико… живы… пока еще живы.
Разбеглися кони… будет ныне волкам пожива, чую, что близехонько стая, а у меня во внутрях жилка трясется, того и гляди оборвется.
Сдюжу.
Меж тем на опушку выступил жеребец… ну я так думаю, что жеребец, с такой-то дали оно не различишь точно, может, и вовсе на кобыле аль холощеном коню сидел всадник, только про жеребца оно само собою думалося.
Огромен.
Не конь — вол в конском обличье. Морда панцирем прикрыта, да не простым, а с шипами да рогами, кои коню иметь вовсе непристойно. Шея под железными полосами гнется. Да и на груди будто бы щит висит. Этакого монстру стрелою не возьмешь.
— Ишь ты, — восхитилася бабка, на карачки подымаясь. — А хорош…
Про кого она сказала, про коня аль про всадника, того я не ведаю. Но всадник под стать был. Сидит, подбоченяся, в доспех закован. И доспех тот черен, будто в кузне сто лет провисел. Шелом покатый. С него пучок перьев торчит, не куриных и не гусиных даже, огроменные, колеру алого.
Это ж где такая диво-птица водится?
Вот бы ее в Барсуки привезти… ежель перо такое, то какие ж яйцы будут?
Ну да про птицу я так, скоренько подумала, на всадника глядючи. Он-то и сам петух хороший, красуется, знает, некуда нам идтить.
Коня пустил шагом.
Тот ступает тяжко, снег под копытами хрустит. Ветерок студеный перья колышет, да и плащик короткий тоже…
— Скажи, друг мой Лойко. — Ильюшка всадника разглядывал с немалым интересом, от так точно он и на щит глядел, и на жабу огроменную, с порося вымахавшую, которую Милослава однажды наглядною материалой притащила. — А не чудятся ли мне откровенные норманские мотивы в этом… убранстве.
— Не чудятся. — Лойко руки опустил.
Этот на всадника тож глазел, но не как на тварюку, а как на человека, которому бы в рыло дать. И главное, видать было, что в намерении сем Лойко духовно укрепился и без жреческого напутствия, а ныне прикидывал, как оно сподручней от стадии планирования, коей нас Архип Полуэктович внимание уделять учил, к реализации перейти.
— Тогда все становится куда интересней…
Чем ему норманский конник был интересней нашего, я не поняла. Хотела спросить, да не успела, конник тот руку воздел:
— Вам некуда идти…
И голос его разнесся по-над лесом, пугая что воронье, что волков, коии держались в отдалении, к нашее беседе прислушиваясь с немалою интересой, полагаю, корыстного характеру.
— Позер, — фыркнул Илья и пояснил: — Заклятье есть усиления голоса. Его царские гонцы частенько используют, когда указ зачитать надо… ну и на выступлениях прилюдных, да и вообще… а тут-то чего глотку драть?
— Может, боится, что оглохли? — сказала я, и вправду от этакого крику оглохнувши.
Палец в ухо сунула, проверяя, целое ли.
— Ну… если нет, то к концу беседы точно оглохнем. — Лойко головой затряс и крикнул: — Звуку убавь!
— Вы обречены…
Всадник подошел ближе, да так, что разглядеть было можно и узор на доспехах, и морозную вязь, и пар, из конское пасти подымавшийся.
— Звуку, говорю, убавь! Слышим!
— А может… он того, сам туговат на ухо? — Это я шепотом сказала. — У нас дед Нелюсь тоже тугоух сделался, так ему все мнилось, что тихо говорит. От и орал во все горло…
— Ты ему еще полечиться предложи, — хмыкнул Илья. И руки сложивши, ко рту поднес. — Чего надобно?!
— Вы все умрете!
— Слышали уже!
— Но ваша смерть может быть разной. — Всадник возложил руку на конскую шею. — Сами выбирайте… мучительная гибель и тела, и души или честная сталь…
Он замолчал, и воронье чутка подуспокоилося. Оно ж, воронье местное, к этаким выступлениям непривычное.
— Отдайте девок, и умрете быстро!
— Слушай, — Лойко повернулся ко мне, — вот скажи, Зослава… почему ты у нас такая всем кругом нужная?
А я-то откелева знаю? Я этого, в броне, первого разу в жизни вижу… нет, прежде-то думалося, что Добромысл сие, однако гляжу вот и… Добромысл худляв, а этот вон в плечах сажень косая, а то и две. И голос иной.
Голос-то выдал бы.
— Неа. — Лойко потянулся со смаком. — Девок не отдадим… самим нужны…
А следом бабка кулачок разжала, стряхнула на ветер прозрачные былинки и слово добавила шепоточком. Не ведала я, чего придумала она, только ветерок поддержала.
И потянула былинки к всаднику.
К коню его.
И конь этот, даром что в железе весь, будто чудище какое, всхрапнул. Попятился, а после и вовсе с визгом на дыбы поднялся… закружил, заскакал по-козлиному, да норовя задом поддать… вот и рухнул всадник в сугроб ближайший, аккурат макушкою, ну, тою, с перьями…
Ох и матерился…
Не токмо воронье взлетело, совы и те попросыналися…
Он возюкался в снегу, пытаясь выбраться, да запутался в плаще своем шелковом.
— Лойко… а попробуй-ка достать… чисто из интереса. — Илья сам к луку потянулся. — Доспех заклятый, но есть одно место…
…Оное место он называть не стал, да только Лойко и сам понял, без названия. Свистнули стрелы и обе в указанное место вошли, да так хорошо вошли, что крик на вой перешел…
…чтой-то думается мне, от этакого вою и сосны вскорости сбегут…
— А ты говорил, норманский доспех абсолютно надежен. — Илья вторую стрелу наложил, но тут уже очнулися подельники, полетели на нас, с гиканьем, с воплями… по ним и стреляли, что Илья, что Лойко, а как близехонько подошли, то и огненную дорожку под копыта пустили…
Только мы тем всадникам без надобности были.
Свойго забрали, раненого.
— Жаль, что стрела не отравленная… — Ильюшка на снег присел. — Не стойте, пара минут у нас есть… может, и побольше. Пока довезут, пока выдернут… ты какой наконечник поставил?
— Обижаешь. — Лойко широко осклабился. — Мой не выдернут. Только вырезать…
— Значится, пока вырежут… а там и шить надо… этак мы долгехонько просидеть могем. К слову, уважаемая, а чем вы коня-то?
— Скотий переполох, — важно ответствовала бабка, присаживаясь на снег. — Есть такая травка, как зеленая она, то и ничего, трава и трава, а вот когда в семя пойдет, то того семени скотина всякая дюже боится… козы шалеными становятся, коровы…
— И лошади… — Арей тоже присел. — Зослава, ты как… щит…
— Держу.
— И держать будет долго. — Илья зевнул и рыбку вяленую из бабкиной сумки с поклоном принял. — Благодарствую… сам видишь, там энергозатраты минимальные. Хоть неделю сидеть можем…
— Не. — Лойко головой тряхнул. — Не надо неделю…
— Так кто ж нам даст. — Илья впился в рыбу зубами. — Вот сейчас стрелу достанут и вернутся… с подмогой…
Глаза прикрыл.
Рыбку жует.
Думает.
И как-то от неловко человека от дум отвлекать, но чую — близится оно, чем бы ни было… идет, ползет, что спереди, что сзади… пока осторожное, но голодное.
Давненько его не кормили.
— В папиной библиотеке мне попался как-то свиток занятный… — Илья произнес это, не открывая глаз. — О тварях подгорных… то бишь там они звались подгорными. Твари те заводились в шахтах… не всех, только в глубоких, и чем глубже шахта, тем страшней тварь в ней появлялась. Человек, который свиток составлял, писал, что приходят они к нам с изнанки мира в местах, где грань меж мирами истончается. И что умелый колдун способен не только управиться с тварью, но и подчинить ее своей воле.
— И чем это нас должно порадовать?
— Воля колдуна опутывает тварь, но не лишает ее собственной… и чем сильней она, тем сильней будет ее сопротивление…
— Ильюшка! — рявкнул Лойко.
— Он ранен. А тварь… сильна.
Больше он ничего сказать не успел: небо померкло.
Солнце сгинуло в разверзстое утробе.
И стало темно, как… как в погребе.
— Что тварь сильна, — Лойко я слышала, однако ж не видела, хоть и стоял он близенько, — я верю охотно…
А после и голоса евоного слышно не стало.
ГЛАВА 60 О борьбе с тварью подгорной
Темно.
И темень густая, что кисель. Склизкая. И будто кто трогает лицо влажными пальцами, дышит в самый нос гнилью, смрадом покойницким…
Вздыхает.
В волосы лезет…
Кыш!
Руками отмахиваюся, еще немного, и завизжу, да не позволяют, хватают за руку леденющие пальцы.
— Зослава, это морок! — Пальцы Ареевы, а не покойника, это хорошо, потому как ежели б меня взаправду покойник схватил бы, я б на месте дух испустила б… ну или еще чего утварила непотребного. — Сопротивляйся.
Ага… легко ему говорить.
А как?
Стою посеред тьмы, которая уже и в уши лезет, и в нос, рот раззявишь, и в него скользнет червем нутряным. После замучишься выводить, супротив этакого никакая чесночная настойка не спасет…
Но я ж упертая.
Губы сжала. Уши пальцами заткнула, дышу через раз. Стою… а тьма все ходит и смердит, ходит и смердит… нет, до чего морок премерзостный! Чтоб ему… тому, который его наслал, всю жизню так смерделось… сплюнула б, да побоялась, что плевок об эту пакость измарается.
А жуть отпускала.
И тьма, вздохнув с немалым разочарованием, откатилася.
— Стоим, — сказал Арей сквозь стиснутые зубы. — Пугать будет, но не поддавайтесь… пытается нас из-под щита вывести.
Илья кивнул.
Лойко только свою нареченную покрепче прижал, по голове гладит, шепчет чегой-то… от же ж… и не скажешь так, что боярин столбовой, посадников сын… приличным человеком оказался.
Бабка моя только рукою отмахнулась, мол, повидала она в жизни всякого, от тьмы смердючей точно бегать не станет. И я не буду, только Арея за руку взяла, так оно мне поспокойней буде.
…а следом покатился, полетел огненный шквал.
— Стоять!
Ежели б не крик Ареев, не устояла б, побегла б… а тут только колени и ослабли.
— Смотри. Снег не плавится.
Но шкворчит.
А и вправду не плавится… даже парок не идет… и как-то разом страх и ушел. Пламя-то красивое вышло, рудое, что шкура лисья, с переливами. Долетело до нас, щита не заметивши, облизнуло да и сгинуло.
— Знаешь. — В голосе Лойко бодрости поубавилось. — А вот… как бы это выразиться… если нас и дальше так от пугать станут, то я и испугаться могу!
Я кивнула.
Темень была… огонь был…
— Скажи спасибо, что иллюзии двухмерные… поставил бы полный разворот, мы бы сами без огня поджарились. — Арей не глядел ни на меня, ни на Лойко.
— Это как? — Ильюшка и ныне не упустил случая любопытствие проявить.
— А так… одной силой разума. Причем нашего.
— Как-то это… не оптимистичненько…
— Увы… а если оптимизм нужен, то есть два повода для радости…
Пламя еще трепыхалось под ногами, да выглядело до того ненастоящим, что, верно, и дите малое не обманулося б.
— Четырехмерные иллюзии не каждому магистру под силу. Это первое. А второе, и двухмерные такого размаха выматывают безмерно. Так что, сколь бы ни был силен наш приятель, долго он так не продержится…
Арей тихо добавил:
— А пока пугает… пусть пугает. Наше время. Потянем.
Оно и верно.
Только надежда таяла. Была она зыбкою, что первый ледок на осенних лужах… и вправду, получил ли некромантус послание магическое?
Сумел ли передать?
И коль сумел, поверили ли ему стрелецкие сотни?
А если поверили, то… выступить — дело небыстрое, как мне отец сказывал. Да еще и добраться надобно… отселева до деревеньки той двадцать верст без малого, да если по лесам, по дорогам заснеженным.
Успеют ли?
Не ведаю.
Стою и гляжу в белесый туман, что по-над осинничком протянулся. А тот колышется, то приподнимет крупяное брюхо над обглоданными ветвями, то вновь разляжется, растечется… голоден он.
И зол.
Опутан чужою волей, которая велит держаться на месте.
И не велит трогать людишек, что так близки… подгорная тварь слушает их, изредка тянет призрачные лапы, норовя зацепить, пугнуть холодком, и тает, слушая, как сбиваются с ритма человеческие сердца.
Ей обещали добычу.
Скоро.
Она добралась до мертвецов, которым некуда было бежать, и медленно их пожирала, но эта плоть лишь насыщала. Тварь привыкла к иной.
Свежей.
Горячей. Трясущейся от страха, который был ей сладок…
…тот, кто удерживал ее в узде, исполнит обещанное. И тогда, быть может, тварь ненадолго примирится со своей неволей.
— Кажется, что-то новое… — Илья поднялся на ноги и руку протянул. — Давай. Так надежней.
Я взялась, переплела пальцы с тонкими боярскими… а за левую взялся Арей. Сам же бабку удержал…
Лойко.
Станька. Все живы… и милостью Божини, живыми останемся. А нет, то не стыдно будет предстать пред ее очами, рассказать, что о жизни своей, что о смерти…
…Туман поднялся.
Скатался рыхлым комом, а ком этот покатился, поначалу медленно, но все быстрей и быстрей… и налетевши на брошенный меч, рассыпался вдруг на тысячу конских морд. На тысячу лиц плоскомордых, узкоглазых.
И визгом лупанул по ушам клич боевой.
Ах, сколько раз видывала я во сне ту битву… сколько раз стояла подле матери, стрелы подавая… или отцу помогала с мечом… сколько раз была воительницею славною, всех-то спасшею… чтобы как в сказке… и трава подымалась по воле моей, конские ноги опутывая.
И птицы разили ворога.
И реки выходили из-под земли… и многое вершилось… и мнилось мне, что достало бы и духу, и воли… вот и пришел черед проверить.
Не вставали травы.
Снега лежали, и мяли их копыта азарских коней… стлались по ветру конские хвосты на бунчуках, летели стрелы роем мушиным, злым. И черною тенью полз за конным строем рукотворный азарский змей. Того и гляди расправит крыла, поднимется ввысь, чтоб из пасти зубатое огонь изрыгать.
На землю.
На людей, которые, наглецы, вздумали судьбе перечить. Разве устоять им…
И дрогнули пальцы в моей руке, да только крепче стиснули. Побелел Илья, но стоит, только желваки ходят. Кого он видит? Или азар тех же?
Лойко подбородок к груди прижал, вперед наклонился, того и гляди бросится на ворога… нет, стоит, глядит.
Ждет.
Арей белый, да спокойный. Улыбается вон…
…морок… просто еще один морок…
И пусть летят кони, пусть звенит сбруя, поднимаются над спинами мохнатыми хлысты. Пусть ветер перебирает коротенькие флажки на пиках сотников…
…нету этого.
А есть край меж болотами и лесом.
И туман, что крадется следом за конницей, ждет, не побежим ли, испугавшись смятыми быть…
Нет.
Резанула по ушам хриплая команда. Взметнулись кривые азарские сабельки, грозя обрушиться на плечи… пахнуло потом, что конским, что человеческим… и вдруг почудилося — на самом деле оно…
Но проломили передние ряды щит, и пролетела сквозь меня стрела с кривоватым наконечником, в землю вошла по самое оперение да и сгинула. А следом за нею ветром студеным конница промчалась.
Выстояли.
— В-выживем… с-скажу Архипу… чтоб вам п-практику п-по боевке засчитали. — Арей руку свою высвободил.
— С-скажи, — согласился Лойко.
И на снег присел.
— Чего? Оно еще пока доползет, я аккурат передохнуть успею… а то ж… мне наставник сказывал, как оно… он тогда стоял на засечном кряже… их только краем… и выходило, что страшно. А я поверить не мог. У них же ж копья были… и маги стояли… и вообще… война — это слава, он же все про страх, про то, как обмочился, когда Серебряные сотни ударили… как это… перед врагом чтобы… а теперь вот… это хорошо, что я до ветру сходил.
— Хорошо, — согласился Илья и тоже на снег присел. — В мокрых штанах воевать неудобно. Задница мерзнет.
— А тебе откуда знать?
— Ну… теоретически.
— Иди ты… теоретик… знаешь куда?
— Пойду, — Илья глядел на туман с интересом. — Боюсь, что все мы можем пойти… хотя и без особого желания.
— Думаешь, без особого желания если, то не примут?
— Балабол. — Бабка моя тоже на снег присела и сумку свою подвинула. — Всех там примут, да с почетом… но вам все одно рано… на от.
Она вытащила горсть глиняных горшочков, в которых мы обыкновенно мази хранили. А что, махонькие, с кулачок детский, зато с крышками плотными. Правда, ныне крышки бабка снимала и на землю кидала. А горшочки расставляла перед собой.
— Тварюка этая огня боится? — Она говорила сиплым надтреснутым голосом.
— Теоретически.
— Ага… от тут мазь одна, зело горючая… махонькой искры хватит, чтоб пыхнула. Ты, как она подползет ближей, подпали да кидай. — Бабка пальцы о подол вытерла. — Глядишь, и буде супрыза…
— Экая вы запасливая. — Лойко горшочки к себе подвинул. — А магией…
— Побереги свою магию, — отрезала бабка. — Пригодится еще.
Тварь подбиралась неспешно.
Поземкою.
Холодком, который по щиту пополз, да не проник… сумраком… странно так, солнышко на небе висит, светит ярко, да только все одно сумрачно.
И небо смыкается.
Соскальзывает будто.
Того и гляди соскользнет, рухнет тяжестью всей на землю, раздавит нас, что мошек. А мы и есть мошки, махонькие, ничтожные… и нам ли противиться судьбе своей?
Склониться надобно.
Покориться.
— Нет уж… — просипел Лойко, огненную искру выпуская. — Чтоб тебе… шило под хвост кобылий…
Полыхнула мазь, на свином жиру мешаная с особою рудою, которую бабке один купец по специательному заказу возил, ярко, белым трескучим огнем.
От него всем жарко сделалось.
И смыло морок.
Дыхание в грудях отперло. И стою. Дышу. Глазею на туман…
— На, получи, паскуда. — Лойко горшочек швырнул, и тот, пролетевши сквозь щит, в самое марево угодил…
Ох и заверещала тварь!
Небось, и колдун наш этак не верещал… от точнехонько ныне леса обезлюдеют… или правильно буде казать обествареют? Людев-то в них завсегда немного было.
— Ишь ты… не понравилось зелье-то! — Лойко подпалил второй. — На от!
— Не спеши. — Илья остановил его. — Видишь, отступила… кружить будет…
И вправду кружила, то подбираясь ближе, то отползая. Огонь обжигал. Огонь мучил… и она бы ушла, только воля человека, связавшего тварь кровью, заставляла вновь и вновь подбираться к самой черте круга… и тогда в тварь летел пылающий горшок.
Раны он наносил болючие.
И боль ярила подгорного зверя.
Он хрипел. Выл. Расползался клочьями болотного марева, чтобы сплестись вновь… а вот Ильюшкиного огневика будто бы и не заметил.
— Любопытно… выходит, только истинное пламя, то есть живое… — Илья почесал кончик носа. — А снаряды надобно экономить.
ГЛАВА 61 О славной битве
Я помню, как глядела на солнце.
Круглое такое. Желтенькое… на яечню похожее. Бабка, когда блины затевае, то шкварки плавит, на огоньку невеликом, чтоб до прозрачности, до хруста. А как выплавит, то и лучок кидае, после же — яйца. И шкворчать те, расплываются белесыми островами, в серединке каждого — желток. Ежель с умом пожарить, то желток не застывае, и после до того смачно в него блина макать — сил нет…
Вот странно, стою посеред поля, под щитом укрытая, на солнце пялюся, а мыслю — о блинах… и яечне. Яечни я бы поела. Но где ж возьмешь-то ее?
Вот и смокчу сухую полоску мяса.
Гляжу на тварь, а она на нас пялится. Диво дивное, глаз немашечки, а все одно пялится… колышется, волчья утроба, чует, что не осталося почти огня. И, раздразненная ранами, не чает дождаться, когда погаснет последний огонек.
А к тому идет.
— Ну что, — Лойко подкинул последний горшочек, — скоро будет жарко…
Тварь проглотила огонь и заурчала, не сыто, но со злостью немалой, будто упреждая, что помирать мы будем долго и смертию лютой…
А то мы не ведали.
Я глядела, как гаснет пламя в туманное утробе, и думала… а пустые все мысли, глупые, девичьи.
Уж лучше о блинах…
Завихрило.
Поземка поползла, тронула щит, который зазвенел тоненько. Ветерком хлестануло, зимним будто бы, да рукотворным. А тварь поднялась… на кого она походила?
На медведя-шатуна огроменного, из сугробу вылепленного, со шкурою косматой, белизны неимоверное. И стоит этот зверь на лапах задних, покачивается.
Бросится вот-вот.
Обрушится со всею силушкой на щит мой, на пузырь, и не сдюжить тому… видела я и шею длинную, и голову махонькую, глаза и те слепились, тоже белые, каменные.
И опустившись на четыре лапы, тварь двинулась к нам.
— Любопытно… это первичная форма или все-таки материализация?
— Илья… — Лойко поскреб затылок, — вот умеешь ты своевременно вопрос задать. Я ж теперь в жизни не успокоюся, пока не выясню…
— Если первичная, — Илья не услышал, а тварюку разглядывал едва ль не с восторгом, — то возвращение в нее свидетельствует о том, что ущерб мы ей нанесли… какой-то…
Зверь остановился в шаге.
И пасть раззявил.
Белую.
С белыми зубами, острыми даже на вид, с белым языком, с глоткою белою же… ущерб? Ущербною тварь не гляделась… в белых глазах полыхало злое снежное пламя.
Зверь привстал слегка.
А после дыхнул, холодом, вьюгой.
И закружила, закрутилась метель, обняла, облизала, выстроила стену ледяную, которую сама же в крошево размела.
Следом же дрогнул щит.
От удара.
И от другого… от третьего… и почуяла я, как расползаются нити, рвутся, хоть и латаю их, силу вливая…
…сколько ее?
Не так и много.
И рухнул щит, да только второй, загодя сготовленный, развернуться успел. Его и держу.
И сама держуся, сколько сумею, столько продержуся, а коль получится, то и дольше… до порога, за порогом… близехонек тот порог, в белое круговерти сокрытый. И прорастает метель ледяными иглами, будто бы зубами. Пастью смыкаются ветра, норовя пережевать упрямую горошину нашего щита.
Держуся.
Сумею… за-ради бабки и Станьки, которой страшно, куда страшней, чем мне, ведь дите ж горькое. За-ради Ильи, он тоже боится, но страху не выкажет и помираючи. Негоже боярину дрожать… за-ради Лойко, глядишь, и сложится у него со Станькою…
…и за Арея…
Я должна была сказать… важное сказать, такое, об чем молчала, себе не доверяя, а теперь вот поздно… и сердцем почуяла, как вспыхнуло пламя.
Не сразу. Сначала щит истончился, человека выпуская.
Одного.
По своей воле, по плану безумному, коий прежде казался едино возможным, а ныне представлялся глупостью неимоверною. Мы тогда сблизи тварь не видывали… а тут… где человеку силою с ней помериться?
Я закричала.
Закричала бы, когда б сумела… кинулася б на плечи, повисла б с воем… не пустила б…
Пустила.
Куда мне удержать, да и… не можно… у него свой долг.
Я не видела… не хотела видеть, да разве скроешь такое? И снежный зверь, взревевши радостно, яростно, поспешил обнять добычу. Он, подгоняемый чужою волей и собственным голодом, чуящий кровь близкую, навис над Ареем.
Качнулся.
Обнял огроменными лапами своими, норовя подмять, заломать.
А человек обнял зверя, ласково, как друга ближайшего, и пальцы вцепились в косматую шерсть. Кровью запахло… и крик мой клокочущий в горле застрял.
Нельзя.
Потом… коль жива останусь, и отплачу, и откричу. А ныне… щит держать надобно. И думать, что… быть может… может, и выйдет.
Арей вспыхнул.
И пламя его было синим… никогда не видывала, чтобы пламя было синим… рыжее, рудое… темное, когда в гончарное печи аль в горне кузнечном, куда дядька Ильяс позволил заглянуть. То пламя жаром дышало за десять шагов…
А нынешнее снег мигом вытопило.
И землю иссушило.
Дыхнуло в самое лицо, лицо это опаливши. И кажется, Илья рукою закрылся.
— Силу бери!
Он кричал, да только разве услышишь в умирающей метели, которая сама заходилась в агонии… и отпрянул снежный зверь.
Да только не отпустил человек.
Крепко вцепился.
— Силу…
Я слышала сквозь сухой треск огня и шипение воды, сквозь полный обиды голос подгорное твари…
— Бери!
Лойко сунулся за черту круга, но остановлен был.
— Так ты ему не поможешь. — Илья одернул на себя. — Возьми за руку… попытаюсь внешний поддерживающий построить… только я…
— Строй!
— Я про него читал лишь…
— Давай уже… Зося, щит…
Держу.
И не так тяжек он, устоявший пред метелью, сколь тяжко самой стоять по эту вот черту. Сердце туда рвется… шагнула бы, бегом бы побегла… сама бы вцепилась в ледяную тварь, ежели б помогло…
И кажется, плачу.
Ничего.
Случается… потом подумаю…
Щит.
О щите думать надобно.
Не о том, что пламя синее выцветает… и что ныне за ним человека разглядеть можно… не о том, что Илья чертит на земле пальцем символы, спешно, губами шевелит, про себя проговаривая, да чует — не успевает… не о том, что Лойко на зверя глядит да бесится, разумея, что этот враг не по силе евоной…
А зверь, зверь бы бросил неудобную добычу.
Больно ему.
И уйти бы, уползти в ледяную свою берлогу, раны зализать, да… гонит воля человека, спеленала, заставляет… и стоит зверь.
Душит.
Хрипит, не то водой, не то кровью своею, изо льда выплавленною да вскипевшей, давится. Но снежные когти крепко вошли в Арееву спину… и алое течет, мешается с грязью, с водой…
Не смотреть.
Щит держать, потому как вылетели из-за лесу конники… несутся, взбивают копытами конскими что снежную пыль, что кровавую грязь… и стрелы поднялись роем.
Взвились.
Впились в щит, пробуя на прочность.
— Зося…
— Удержу! Помоги ему…
…помог бы.
Илья бледен, пальцы в землю вошли, в переплетение символов. И сам изогнулся, рот приоткрыл, а изо рта того слюны нить тянется, и чую, как уходит Ильюшкина сила в землю.
А через землю…
…дойдет ли?
Конники мимо пронеслись, да Лойко извернулся, в спину по стреле послал. Немного их осталось, да сколько уж хватит. А как развернулись вновь на нас, то и, оскалившись, закрутил воздушную плеть…
…сколько сил хватит.
Хватает.
У меня пока хватает…
И вновь кричат… а я уж не разберу, кто… всадники валятся на снег, кувыркаются, дразня запахом свежее крови, легкое добычи подгорного зверя.
Он почти обезумел от боли.
Ослаб.
Отполз… и выскользнул из пут чужого разума. Я почти услышала, как рвется тонкая нить, связывающая звериную волю с человеческой. И подгорная тварь, ощутив свободу, вскидывается, выворачивается наизнанку, желая одного — стряхнуть неудобную добычу.
И Арей, который, будь силы, не отпустил бы ее, падает.
Не человек.
Кукла.
Нельзя смотреть… не туда…
Валится на четвереньки Илья, мотает головой, а из ушей, из глаз ползут алые ручейки… он сглатывает слюну, но та тянется, связывая его с землею, с рунами. И не удержавшись, Илья падает в снег.
Лицом.
Станька его подымает, кажется, льет в горло из фляги, той самой, которую Лойко берег. Пригодилась, стало быть. Лойко же отбрасывает пустой колчан.
Плеть его водяная ломит воздух, ибо всадники кружат, вьюжат… с дюжину их осталось… были б на ногах, управилися б, а тут… Арей лежит и не двигается… и погас почти…
А подгорная тварь застыла над ним.
Поводит лобастой опаленною башкой, ноздри вздрагивают, и в проталинах глаз видится мне… что только не привидится перед самым порогом?
Если пойдет на нас, щит не удержит…
Но тварь вдруг поворачивается, очень медленно, будто нехотя или не разумея, что именно творит. Она топчется, нюхает воздух, а после вдруг взмахом могучей лапы поддевает всадника вместе с лошадью. И когти-иглы пробивают обоих насквозь. Кровь льется в раззявленную пасть, а пасть раскрывается воронкою, втягивая и коня, и человека… живыми… вновь кричат, и оставшиеся конники коней нахлестывают, спеша убраться.
А тварь, сыто заурчав, тянется за ними.
Она идет тряскою рысцой, неспешно вроде, но и…
— Будем надеяться, ей хватит… — Лойко все ж опустился на снег. — Я пустой… но живой… знаешь, Зослава, никогда еще себя настолько охеренно живым не чувствовал…
Я хотела ответить.
Наверное, ответила бы, смогла бы, но из лесу вдруг донесся протяжный звук охотничьего рожка, а в следующее мгновенье разломилась черная косматая линия леса, выпуская стрелецкую сотню…
— Твою ж… — Лойко снегу зачерпнул и Илье под нос сунул. — На от, вытрись, а то глядеть страшно…
…страшно…
…и вновь были стрелы, и череда копий, на которую конники налетели…
…была огненная плеть, взметнувшаяся над спинами людскими.
…и тварь подгорная, которая взвыла да и рассыпалась снегом… ушла?
Сгинула?
Или просто вернулась в берлогу ледяную, из которой ее подняли…
…не знаю.
Я не глядела на конников, развернувшихся широкой дугой. Я не бросила щит… мало ли, и шальное стрелы хватит, чтоб беда приключилась.
Я просто вышла.
Выбежала.
Полетела, сколь было сил, только их отчего-то не осталось. Вот и получилось, что не летела, раненою уткой ковыляла, падала, вставала… в грязи тонула, да не утонула.
Дошла.
Упала рядом. Обняла… живой ли… живой, сердце бьется, я чую, что бьется, пусть и слабо… но все ж…
— Ты ж обещал, что не бросишь, а сам?
Не слышит.
Муть кровавая в глазах… а я держу, я не позволю уйти… если ныне дожил, то и теперь… и выскальзывает из непослушных пальцев заветная шкатулочка, летит в грязь. А я плачу от злости, неспособная с нею управиться.
Скользкая.
Неудобная.
Да только она одна — надежда… горюн-камень, крошка его малая. Но и ее хватит… должно хватить. Я с силой разжимаю рот Ареев, и пальцами лезу, грязными, но и пускай… главное, положить крупинку заветную под язык.
— Глотай, — шепчу, отирая с лица слезы. — Ну же… ты обещал…
И скользкий комок провалился в горло. Руки мои ослабшие выпустили Арееву голову, хотела я поднять, удержать — грязно ему так, на снегу. Повернулась и…
…вспыхнула перед лицом моим самым белая круговерть, вылепляясь уродливою звериной мордой. Оскалилась тварь, раззявила пасть…
Дыхнула смрадом.
И только успела я, что руку поднять, а с той руки жаром полыхнуло, будто в печь ее сунули. Следом же холодно стало…
…и щит мой разлетелся на осколки.
ГЛАВА 62, где живые возвращаются к живым
Некогда жрец наш красиво сказывал, отходную справляя, как сие случается. Что вот рвется ниточка, которою Божиня душу к телу крепила, и тело тяжкое на земле остается и к земле тянется, дабы сродниться с ею, ибо все мы — плоть от плоти ейной. А душа птахом в выси поднебесные воспаряет.
В вырай.
Сказывал он и про древо огроменное, на ветвях которого семь небес лежат, а под корнями — семь земель, солнечного света лишенных, Моранино царствие… про змей премудрых, что древо сие берегут.
Про луга ромашковые да васильковые, медвяные, где душа свое обличье обретает, ежель, конечно, хватит у нея сил подняться. Иным-то грехи тяжкие лететь не дають, а вот кому дають, тот на луга сии ступает, на тропу заветную через Калин-реку. Воды ея черны, густы, что деготь.
Многое сказывал.
А я ничего не увидела… нет, может статься, что грешна была зело, но ежели так, то падать бы мне скрозь все семь земель, к огненному долу, где гуляют ветра-суховеи да бродят самые окаянные души, из тех, кому неможно пред светлые Божинины очи казаться.
Я же… нет, были за мною всякие грешки.
И лгала, случалося.
И скупа была, и горделива… и жизнь вот чужую отняла… и клятву дала, да не сдержала. Неужто хватит того, чтоб в подземное царствие попасть до самого скончания мира?
Не ведаю.
Была я… а где, и не скажу.
Серо там, бесприютно.
А после и больно сделалося, будто бы душу мою внове в тело притянули, да только тело — помятое, изломанное. И главное, везуть оное тело куда-то… а я и лежу, ни жива, ни мертва. Чую спиною: перина — не перина, будто одеяло толстое да комковатое. И оные комки в спину так и впиваются, а под одеялом тем — доски… и доски качаеть, что влево, что вправо, как баюкает кто в колыбели.
Надо мною люди говорят.
И бабкин тонкий голос слышится, и Станькин, только, сколь ни силюсь, а разобрать, об чем речь, не можу. Надо мною — другое одеяло, теплое да душное, и тело мое под ним преет…
Глаза бы открыть, да…
Чуяла, как ехали.
Становилися. Как подходил ко мне человек, от которого пахло не то могилою, не то лавкою аптекарскою, но нехорошо. Он клал мне руку на лоб, и тогда я проваливалась в прежнюю бесприюную серость. Сколько там была? Сколько ни была, да всякий раз выбиралася… и по-прежнему, что едьма, что…
А потом вдруг переменилося.
Исчезло одеяло.
И доски больше не качалися, не скрипели. И ровнехонько так меня положили, а я и легла. Люди сгинули, тишь вокруг, только будто бы пташка где-то рядом поет. А что за она? Щегол? Скворец?
Откудова посеред зимы скворцу взяться?
Соловей?
Нет, соловей, тот иначе, хитро да с переливами, а тут простая песенка да назойливая, тянет, мучит, не позволяет возвернуться в серость мою, с которою я и пообвыклася. А я уже и сама туда хочу, чтоб только не слышать этой пташки.
Мешает.
Убрали бы!
Сказать надобно… попросить… да как попросишь, когда тело все одно чужое, нерухавое? Не желает с ним душа обживаться, тесно ей. А пташка поет.
Чирик-динь-динь.
Заливается, шаленая, от радости.
Динь-динь-чирик…
И тот, с руками, от которых мне покойно делалося, не появляется. Вот и остается, что слухать.
Чирик-динь-динь.
Чирик…
Динь-динь.
И одного разу такая злость меня разобрала, что рванулася я к этой пташке, да и… не ведаю, как оно вышло, но глаза открылися. И закрылися, потому как больно стало от света.
Чирик-динь-динь…
Не умолкнет.
И вновь глаза открыла, тихенечко… а место знакомое. Комната белая, лавки, покрывальцами застеленные. Окошко. И на окошке клетка железная с желтою пташкой. Скачет плашка по клетке да и на меня поглядывает хитрым черным глазом.
Чирик-динь-динь…
А лежу… от как есть лежу, бревном неподвижным, гляжу на этую пташку. Дивлюся… не видывала я в наших краях таких. Махонькая. Шустренькая… и яркая…
Диво, до чего яркая. Я уж и позабыла, до чего яркими колеры бывают… пташка, значит, желтенькая. Покрывальца на кроватях синие да зеленые.
Потолок белый.
— Вот и очнулась, спящая наша красавица, — молвил кто-то. Я б голову повернула, когда б смогла, но дюже она тяжела ныне. — Лежи, лежи… пройдет слабость. Главное, что глаза открыла… пить хочешь?
И поняла я, что хочу.
И пить хочу. И есть… в животе вон дыра скоро буде… и еще другого хочу, для чего мне помощь нужна будет, ибо, ежель и голову поднять не способная, то встать тем паче не сумею.
— Сейчас, девонька, все будет…
Марьяна Ивановна в ладоши хлопнула, и тотчас объявилися вокруг меня целительницы.
Подняли.
Потянули.
В бадью засунули.
Мыли, волосы чесали… отваром поили.
Одежу чистую вздели да и на лавку принесли. И все-то споро, ни словечка лишнего не сказавши. А после, как ушли, то и Марьяна Ивановна ко мне присела.
— Что скажешь, внучка берендеева? — молвила да сама в руку мою вцепилась. — Полегчало?
— Полегчало, — говорю и дивлюся, что говорить способная.
Вода унесла и слабость, и дурноту, и ныне чувствовала я себя на диво здоровою.
— Вот и славно… а то я уж волноваться начала…
— Что со мною…
— Эхом тебя задело. — Марьяна Ивановна за другую руку взялася, расправила ладонь да и уткнулась носом в самое линий переплетение. — Если по науке, то остаточные эманации сильного заклятия, которое на том месте, где ты стояла, оборвалось. А такой обрыв отчасти сохраняет структуру этого заклятия. Со временем оно само развеивается, но, чем сильней заклятье, тем дольше оно и живет. Потому-то, Зосенька, и неможно гулять там, где чаровали аль чародей помер.
Руки она отпустила.
— Это еще на крови твореное… не на человеке лежало… вот и оплело душу… утянуло б, если б не колечки твои… удар не сняли, но приглушили. Пальцами пошевели.
— А…
— Хорошо, в обозе понимающий человек шел, не полез лечить… из-под чужой воли только своею вырваться можно, Зослава.
Сказала и руки отпустила.
— У тебя вышло, от и ладно… от и замечательно.
И поднялася, чтоб, значит, уходить…
— Погодите… я…
— Живы ваши.
— Арей?
Я ведь помню, все-то помню до последнего мгновеньица… и снег, и кровь… и глаза пустые… губы холодные, которые я пальцами раздвигала.
— Живой, — вздохнула Марьяна Ивановна. — Чудо, не иначе… с такими-то ранами… только…
Живой.
И птичка-невеличка желтого колеру запела радостно.
Чирик-динь-динь.
Да я не птичка, не все она мне сказала, матушка-целительница.
— Выгорел он, девонька… дотла выгорел.
А вечерочком тем же ко мне Фрол Аксютович пожаловал. И был он серьезен, как никогда прежде. Ликом хмур. Страшен. Я, хоть и не чуяла за собою вины, одеяло по самый нос натянула, а могла б, так и с головою под подушку б сховалася. Да только Фрол Аксютович рукой махнул, мол, успокойся, Зослава… верно, дни евоные были тяжкими.
Табуретку подвинул.
Сел.
Вздохнул…
— Съездили вы погостевать, — молвил. — Вот уж и вправду… съездили.
Я молчу. Чего тут ответить? У самой-то не ответы — вопросов сотня, ежель не тысяча, и один другого тяжелей. Да не по чину мне задавать их…
Не сейчас.
— Ты, Зослава, — Фрол Аксютович снял с пояса мешочек, а из него вытряхнул коробку о шести углах, о четырех замках серебряных, — сейчас поведаешь мне, как все было.
Неужто еще не расповедали-то?
Замочки Фрол Аксютович отворял не ключами, но прикосновением пальцев.
— И начнешь с того моменту, как вы в Барсуки приехали…
Крышку он снял и вытащил из шкатулки камушек.
Я этаких предивных никогда-то и не видывала. Колеру сливового, и сам на сливу схожий, только величиною этая слива с яйцо куриное. Сам непрозрачный, но приглядишься, и видать, как во внутрях искры вспыхивают.
— Этот артефакт запишет твой рассказ… насколько я знаю, ты сталкивалась уже с визуализацией воспоминаний?
— Чего?
— Показывала другим, чего помнишь?
Это он про тую миску с Ильюшкиным заклятьем? У меня опосля голова долгехонько гудела.
— Знаю, что тот эксперимент имел некоторые… последствия. И не буду лгать, что нынешний пройдет безболезненно. — Фрол Аксютович каменную сливу держал за хвостик. — Неприятные ощущения будут, возможно, не столь острые, но…
Он вновь вздохнул.
— Идет расследование, Зослава.
Чего мне было ответить? Что не желаю я памятью своею делиться? Что не для всех она, а… так ведь, чую, волей аль неволей, да вытянут, чего им надобно.
— Так вы ж уже…
— Допрашивали всех. — Фрол Аксютович сливу протянул. — Кроме тех, кто по объективным причинам не имел возможности… высказаться.
Ишь как гладенько.
Сливу он на краешек кровати положил.
— Могу гарантировать, что доступ к записи получат лишь три человека. Так нужно, Зослава…
А то я не разумею, что нужно.
— Та магия, которая использовалась… эти знания считались утраченными. И это было счастьем, потому что не всякое знание — во благо. Однако… тварь, с которой вы столкнулись, не самая сильная и не самая опасная из «Граней неведомого».
Сливу я взяла.
Холодная, что камень.
А искорки так и полыхают, рассыпаются… желтые, белые… красные вот, но белых больше.
— Ты, главное, не сопротивляйся.
Голос Фрола Аксютовича доносится издалека. Ответила б, да не могу… моргнуть и то боюся… искорки ближей и ближей, и уже кружат, кружат… закружили… вспоминать надобно… про Барсуки… про то, как староста нас встречал…
И вспомнилося лицо дядьки Панаса с легкостью… а после и тетка, и бабка… и нашие разговоры… а после темно стало, темнехонько, будто в яму я какую ухнула. В той же яме ничегошеньки нету, ну, окромя искров. А те уж в голове самой шубуршатся, и от того шубуршения голове делается легко-легко… того и гляди, взлетит она. Пришлося руками вцепиться, чтоб и вправду не улетела. Куда ж я потом и без головы-то? Когда кончилося оно и как — не ведаю.
Глаза открыла, а за окошком — заря зачинается, и у постели моей Марьяна Ивановна дремлеть… стало быть, день минул, и ночь минула… и может, еще чего там минуло, а я знать не знаю.
Стоило пальчиком шелохнуть, как Марьяна Ивановна и проснулася.
— А говорила я ему, что нечего пока лезть. Слишком слаба ты… — проворчала она. — Но нет же, уперся со своим Советом магическим…
Ворчала она не зло, этак моя бабка больных выговаривает, когда им случается лечение не блюсть. Подушку мне поправила, водицы поднесла.
— Ничего, сегодня ужо на ноги встанешь, а то спасу немашечки от этих твоих… все паркеты истоптали…
— Кто?
И чашку с травяным отваром, холодным, а потому горьким — страсть, я приняла безропотно. Пила, стараясь не сильно морщиться.
— Да известно, кто… Жучень, холера ясная ему в подреберье… Ильюшка с царевичами…
— Арей…
— Лежит твой Арей… и лежать ему, пока я встать не дозволю.
— А вы…
— От как поговорите, то и дозволю. — Марьяна Ильинична чашку пустую забрала. — А то знаю я этих мужиков, сбежит, и ищи его на краю света… буде там сидеть да раны душевные зализывать. Оно, конечно, тяжко, магику без магии жить, что воину без рук обеих.
Кашу подала, остывшую, с комочками, и ложку, велела:
— Ешь.
— Да думается, сумеешь ты его вразумить… не для того с полдороги возвращала, чтоб этою дорогою вновь отправить.
И смолкла.
А я тоже ничегошеньки не говорила. Чего тут скажешь-то? Кашу вот жевала, хоть и вязла она, холодная да жирная, на зубах. Ничего, глядишь, совсем и не увязнет.
— От и правильно, от и ешь… — Марьяна Ивановна глядела на меня ласково. — От еды сил прибавляется, а то взяли тут, чуть чего, то и помирать… помереть-то легко, да только в одну сторону дороженька… ешь, Зославушка, ешь… нелегко вам ныне придется.
— Отчего?
Я ж не делала дурного.
И прочие… в чем вина нашая? А глядит-то Марьяна Ивановна с жалостью. И от этой жалости под сердцем холодно становится.
— Оттого, что вчерась стража именем царицы нашее матушки остановила поезд боярыни Горданы…
Оборвалась сердце.
И ложка мало что из рук не выпала, стала вдруг тяжкою, будто свинцовою.
— И… что?
Вздохнула она претяжко.
Платочком расшитым кружевным руки отерла.
— А то, Зославушка, что не зазря с ними Фрол Аксютович был. Полог на боярыню нашу повесили, и такой ладный, что амулеты сторожевые, что на воротах, что в Акадэмии, приняли б его за ауру… а вот как сняли тот полог…
И вновь вздохнула.
— Преставилася она нынче… на рассвете… полог тот хитрый был. Не только болезнь скрывал, но и Гордане не позволял заболеть до поры до времени. А уж как истончился бы, так болезнь и потекла б, что вода травленая в колодцы.
Взор я опустила.
Чего тут скажешь? Жаль мне Гордану… не ведала она… помню, как ехала в возку, улыбалась, шарфик тот гладила…
— Шарфик?
— Он, Зославушка, самый… азарский шелк, ручная вышивка. Дорогая вещица, приметная… и нашлися те, кто видел, как Кирей этот самый шарфик для тебя покупал.
— Что?!
— Сиди, — велела Марьяна Ивановна. — Ежели б и вправду мы думали, что вы к этому делу причастные, то не тут бы с тобою беседы велися. Нет, Зослава… свидетели те… не купленые оне, но заморочить обыкновенного человека, сама ведаешь, нетяжко. Сила надобна и умение.
Я кивнула.
Вспомнила, как споро лепил некромантус личины, и до чего те личины хороши были.
— Вам повезло, что есть… кое-какие признаки, по которым наведенную личину от истинной отличить можно. И ныне Кирея выпустили…
— Это ж… хорошо?
— Хорошо, — согласилась Марьяна Ивановна и по голове меня погладила. — Наивная ты, Зославушка… вот скажи, во что поверят люди? В то, что некто решил боярскую дочку смерти предать, а в том азарина обвинить? Или в том, что азарская невеста сопернице шарфик травленый поднесла?
Спросила и в глаза глянула, разумею ли.
А я… разумею… слухи — оне, что пожар лесной, полетят, поскачут, разрастаясь на языках. И будут базарные бабы горлы драть, обмусольвая, кто и кого травил, да за какою надобностию. И главное, пусть хоть сама Божиня, с небес спустившися, скажет, как оно на деле было, не поверят.
— Батюшка Горданы уже две грамоты подал, требуя справедливого дознания. Дочку-то он крепко любил, баловал… вот и избаловал. А ныне в жизни не поверит, что сама она виновная…
— Сама?
— Сама, Зославушка… и есть на то признание ейное… не сказать, чтоб она его с охоткою сделала, да только… ей все одно не жить было, так что вытянули разум.
Спокойно сие сказала.
А я… это ж как? Это выходит, что супротив воли сие сделать можно? И если б я отказалася…
— Успокойся, — строгим голосом велела Марьяна Ивановна. — Сделать-то оно можно, но не с каждым. От силы зависит. Ее у Горданы капля была, да и та иссякла перед смертию… от силы воли, от разума крепости. Иные-то упрямцы и без всякой магии ментала одолеть способные, а бывает, что силен маг, но волею обделенный, вот и выдаст, чего помнит… сие, Зослава, наука тонкая.
— И… что она?
— А ничего… встретила она парня, краше которого не видывала. И влюбилася. У девки и так особо ума не было, тут и вовсе последний ушел. — Марьяна Ивановна миску с остатками каши забрала. — А главное, что парень тот заявил, будто бы он и есть истинный царевич, во младенчестве подмененный. И ныне желает восстановить справедливость.
Ох, слышала я уже одну такую историю.
— Знакомо? — усмехнулась Марьяна Ивановна. — Не отводи глаза, Зославушка, я при Совете уж который год состою, вот и пришлося в этом деле копаться… ведаю, что рассказал тебе Кирей про… тот случай.
Кивнула я.
Рассказал, пусть и не спрашивала я.
— И верно сделал. Чем больше знаешь, тем больше у тебя, Зославушка, шансов до выпуску дожить. Оно ведь как говорят? Знание — сила…
Ага, то-то я себя бессильною чую, небось, исключительно от недостатку знаниев.
— Вот и получилось, эпизод к эпизоду… с той-то девчонки ничего вытащить не сумели, а вот с Горданою свезло.
Мнится мне, что кривое это везение, цыганская удача, которая золотой монетой блестит, чтоб после медяшкою в руках обернуться.
— Не жалей, — жестко оборвала мысли мои Марьяна Ивановна, — Гордана ведала и про шарфик, и про мор черный, и про то, что затея ее многих жизней стоить будет. Да только что ей те жизни? Она этаким макаром любовь свою доказывать собралася, верность. А еще царицею стать, потому как обещано ей было проходимцем тем, что женится он…
Марьяна Ивановна подала мне еще одну чашу.
— На от, выпей… на чужой крови своего счастья не построишь. Боги все видят… вот и послали вам весточку.
Боги ли?
Старая Ольха из проклятой деревеньки. И мнится мне, что за эту весточку спросится еще с меня, аль с другого кого…
— Может… приворожили?
Все ж не верилося мне… одно дело — гордость боярскую показывать, и другое — на гибель людей невинных осудить.
— Не было на ней привороту. Собственная воля. Собственная гордыня. Жадность… уверенность, что за боярскую кровь все спишется. — Это Марьяна Ивановна произнесла с неожиданной злостью. — Поверь, Зослава, все они… почти все они такие… думают, что, коль рождены в семьях боярских, то ныне и всевластны, что законы людские не про них писаны. И люди те для многих — пыль под ногами… не верь боярам. И дружбе боярской.
Отвернулась я, чтоб не видеть этой слабости и обиды чужой, которая в глазах мелькнула.
Не хочу.
Ни судеб чужих, ни будущего, ни прошлого… и без того навидалась, от тайн голова пухнет.
— А отец ее…
— Показывали память, но не поверил. Горем ослеплен, решил, что вымучили это… подстроили, чтоб Кирея оправдать. Так что, Зослава, отныне тебе за ворота лучше не выглядывать. Слово-то царицыно крепко, суд справедлив, да месть — она ни суда, ни слова не разумеет.
Она ручкой махнула, мол, отдыхай.
А куда тут отдохнешь? Вон, наотдыхалася, что бока болять. И сна ни в одном глазу, и думаю, что не объявится он, невзирая на горькое Марьяны Ивановны питие. Какой сон, когда тут такое… и батьку Горданиного жаль премного.
Дочку любую потерял… тут неудивительно, что рассудком помутился.
— Царица его отослала, да богат боярин. Ему кого нанять — дело минутное… и нанял, мыслится.
Пускай.
Не боюся я душегубов подсыльных. Не верю, что придут оне по мою душу.
— Хуже всего, Зославушка, — Марьяна Ивановна пальчиком на чашу указала, из которой я ни глоточка не сделала, — что кем бы ни был наш проклятый царевич, да только имеется у него помощник из магов. И сильных магов. И личину непросто создать, и полог тот… а он против наших амулетов настроен был… нет, из местных он, а вот кто…
Замолчала, уставившись невидимым взглядом в окошко.
И вправду, кто?
Но тем вопросом, мыслю, и без меня занимаются, да люди, в подобных делах сведущие, не чета девке барсуковской.
— Но то не твоя забота, — опомнилася Марьяна Ивановна. — Ты, Зослава, поднимайся и к учебе… и учися, будто ничего и не было… вас вона наградят, указ царский готов уже. За службу верную и прочее…
О награде я и не думала.
Бабка гордиться станет… небось, извелася вся от беспокойствия…
— Ты учись, Зослава… и приглядывайся… по-всякому приглядывайся, авось и увидишь чего интересного…
Она к окошку подошла, распахнула, впуская холодок.
— Свежий воздух, — сказала наставительно, — зело для здоровья полезный.
Я кивнула. Пускай, на холодку оно и думается ясней. А я… не то чтоб думала, но все ж крутилась в голове одна мысль…
— Зачем я им понадобилась? Добромыслу и… боярыне? Это ж он в маске был? Или нет… и в поместье…
— В поместье магией темною баловались, а вот кто — тут не разберешься… только боярыню твою, Зослава, нашли. В лесу и нашли, со стрелою в горле. А при ней и сыночка… зверь его крепко подрал, но Лойко с Ильюшкою опознали.
Вот, значит, как… тогда кто?
И ведь связанный этот неведомый мне человек с боярыней. Как есть связанный…
— Добромысл проклят был. — Я села в постели и кубок с зельем, к которому так и не притронулась, отставила. После выпью, раз велят, но ныне надо ж спросить, раз случилась этакая оказия. — И сказал, что, женившись на мне, проклятие снимет… то есть что матушка его так думала. А разве смертное проклятие можно снять?
— Снять — нельзя, — Марьяна Ивановна присела на табурет, — а вот перевести — можно. На кровь родную. На душу близкую. Муж и жена в глазах Божининых едины… ты б и оттянула на себя часть проклятья. А если б забрюхатела, тут тебе и кровь родная, глядишь, вовсе перевести получилось бы.
На дите нерожденное?
И боярыня ведала… ведала, конечно… как не ведать…
— Из девок, которых тут привезли, трое рожавшие, да только детей при них не нашлось… она и прежде проклятие отводила этаким макаром. Но человеческая кровь слабая. Твоя ж — дело иное. Только чуется, не по нраву царевичу самозваному такое самоуправство пришлось. Так что, Зослава, считай, восстановил он справедливость.
Марьяна Ивановна усмехнулась так недобро.
— А ты пей настой, пей… отдых тебе надобен. Спи, пока можешь…
Теперь я спорить не стала.
ГЛАВА 63 О том, что иные беседы не грех и подслушать
А спозараночку Марьяна Ивановна одежу мою принесла, из тех нарядов, которые бабка в Барсуках укладывала. И стало быть, добралася карета до столицы.
И люди.
И… и все-то сложилось поперек той судьбы.
К лучшему ли? Об том нехай мудрецы да боги мыслють, а я оделася, волосья расчесала, косоньку заплела, пущай и руки дрожали… с чего бы им?
А там внове Марьяна Ивановна подоспела, и с подносом.
— На от, занеси, — поставила она его на подоконничек. — Глядишь, с тобою кобениться и перестанет. А то ести не ест… гордый, значится.
Это она про Арея… а как не ест? Так же ж помереть можно! Не позволю… даром, что ли, я его тянула… сама мало что не померла… а он тут от еды носу воротит.
Силком заставлю.
Ну, это я, конечно, туточки такая храбрая-перехрабрая, а стоило на ноги встать, так и поубавилося храбрости.
— Идти-то можешь? — Марьяна Ивановна тотчас подскочила, за ручку вцепилась. — Иль еще денек полежишь?
Охота сказать было, что полежу, что силов нет никаких и голову кружит, но головою оною, незакруженной вконец, я мотнула.
— Пойду.
— От и правильно. Так оно верней. Мужиков без пригляду оставлять неможно, а то ж надумают такого, что ни розгою, ни молотом не выбьешь. Особливо когда упертые, как этот твой… иди, иди…
И сама под рученьку ведет, сопровождает, значит.
Идти-то недалече.
До двери, а после через коридорчик узенький до другое двери.
— Туда тебе, — Марьяна Ивановна ручку мою выпустила. — Иди, Зославушка…
Я и пошла.
Дверь-то отворилася тихенечко. И досочки под ногою не скрипнули… и вошла, огляделася, узрела комнату, почти такую ж, в которой и сама лежала, только больше, ширше и длиньше. Лавки вытянулися вдоль стен, иные пустые, иные — прикрытые ширмами полотняными, но и за ними никогошечки не было. Я уж порешила, что Арей сбег, не дождавшися, когда голос услышала…
— …подумай хорошенько, родственничек, — говорил Кирей, и тихо, да все одно слышу-то я хорошо. Отступила было к двери, потому как негоже беседы чужие подслухивать, но не ушла. — Это твой единственный шанс.
Говорили от угла, аккурат от лавки, ширмами со всех сторон заставленной, будто бы тот, кто на ней леживал, вздумал этакою макарою от людей сховаться.
— Я ведь немногого прошу… что женщина? Женщину ты найдешь другую. Множество женщин. А магию так просто не вернешь. Или полагаешь, что кто-то из наших родичей согласится разделить с тобой пламя?
— Уходи.
— Значит, нет?
— Зачем она тебе? Ты ее не любишь, я знаю точно…
— Любовь и выгода, племянничек, — разные вещи… и порой ради выгоды и любовью приходится поступаться.
— Не хочу так.
— Лучше жить калекой? Сейчас в тебе еще осталось эхо силы. И тело твое помнит, что такое истинное пламя, но вскоре оно забудет, и тогда сама Великая Мать не зажжет его вновь. Твое время уходит, Арей…
— Лучше ты уходи.
— Что ж, если передумаешь — кликни…
Кирей вышел из-за ширмы и, меня увидевши, остановился.
— Доброго дня, Зославушка… — А морда довольная-предовольная, прямо как у кота, сметаною обожравшегося. Роги на солнышке поблескивают, глаза тоже поблескивают… и сам ажно лоснится.
С чего бы?
— Премного рад видеть свою дорогую невесту в добром здравии…
— Ага… я тоже премного рада.
Вот не поняла я, об чем они тут говорили, но чуется, с той беседы Кирей получил, чего желал… а мне бы понять, чего ж он-таки желал-то? И отчего тянет взять да опустить на макушку евоную подносу.
— В таком случае тешу себя надеждой, что в скором времени у вас, моя прекрасная Зослава, отыщется минутка-другая для беседы…
— Отыщется, — пообещала я.
И чуется, беседа сия зело живою будет. Такою живою, что ухвату не помешает прихватить… ухват, он в душевных беседах помеж сродственниками — не последнее средство.
— Тогда не смею вам мешать…
И поклонился, ручкою по полу мазнувши… надо было бить, да я только подвинулася, Кирея пропуская. Дождалася, когда выйдет, и после только к ширмам подошла.
Неловко было.
— Можно?
— Заходи. — Арей на лавке сидел, руками в нее ж упираясь, будто не до конца доверяя собственному телу. Выглядел он немочным, бледным, что тать, да истощавшим. — Ты… все слышала?
— Нет, — призналася я.
— Хорошо…
— Нет. Зачем он приходил?
Подносу я на лавку поставила и велела:
— Ешь давай. А то Марьяна Ивановна жалуется, что ты дуришь…
Думала, возражать станет, отнекиваться, аль, хуже того, замолчит, но Арей лишь голову опустил виновато да ложку взял. Ел он… от как изголодавшийся человек и ел, жадно, хотя и не давясь.
Я табуреточку себе нашла.
Села.
Сижу, гляжу… любуюся… живой ведь. И чудо, что живой… я помню распрекрасно, как он на снегу лежал… или как за зверя подгорного цеплялся, не отпуская, выжигая чужую запретную волшбу пламенем.
— Мне… надо было подумать, — это он произнес, когда ложку отодвинул. — Все… изменилось. Ты ведь знаешь?
— Ты больше не магик?
— Да… — И взгляд отвел. Молчит. И я молчу. Жду, чего скажет, а он говорить не спешит, шнурок мой, который вокруг запястия обернул, трогает, крутит. — Это сложно объяснить… когда проснулся дар, я только и думал о том, как стану магом. И учился… я лучшим был на потоке… несмотря ни на что… и гордился этим. Только этим и гордился. Мне Фрол Аксютович место предложил… я не хотел тебе говорить, пока не сладится, но здесь, при Акадэмии… помощником… для начала. Там, если бы пошло, я бы и до наставника подняться сумел бы…
В это верю охотно, наставник бы из него добрый вышел.
— И надеялся, что если так, то… ты и я…
Шнурок соскользнул с руки, но Арей перехватил его, змейку плетеную, разноцветную.
— Это теперь неважно… я осознаю, насколько мне повезло. Жив остался, не иначе как чудом… я ведь понимал, что умираю, там… и не хотел… надеялся на чудо, а когда случилось, то и жалуюсь. Просто… Зослава, я не знаю, что мне делать дальше!
Он стиснул кулаки.
И взгляд отвел.
Выдохнул судорожно.
— Я ничего-то, помимо магии, не умею… а то, что я умею… кому нужен выгоревший маг? В теоретики? Илья бы смог, ему эта теория сама по себе интересна, а я практик… В воины? Подготовка тут неплохая, но… кто наймет бывшего раба? Да еще такого, через которого серьезных врагов нажить можно? Землю пахать? Так никакой из меня землепашец. Ладно, этому научиться можно, но ведь она не оставит меня в покое…
Это он про боярыню.
И вспомнился мне давешний дар темный. Прав он, не отступится боярыня. Найдет способ со свету сжить…
— Разве что библиотекарем пойти… или еще кем по подсобному хозяйству. — Арей печально усмехнулся. — Хорош муженек у тебя будет?
— А и хорош, — согласилася я. — Чем плох? При книгах сидеть станет… мудрости понаберется…
— Скорее уж пыли книжной.
— С пылью мы сладим.
— Значит… — Он протянул мне шнурок. — Ты… не откажешься? Ты в своем праве, Зослава.
Тьфу ты! Невозможный человек… иль не человек… Отказаться. Может, еще на царевича сменяться предложит, чтоб ему икалося…
— Нет, — ответила. — И тебе не позволю. Обещался при людях в жены взять? От теперь и держися слова данного… а то ишь вздумали, девку честную позорить…
Он только хмыкнул.
Вот и ладне, вот и хорошо, коль не о прошлом думает или силе утраченной, но про тое, как дальше жить. Значится, переболела душа… отпустила… нет, заживет-то она не скоро, да только и до дурного не доведет.
И даст Божиня, как-нибудь оно да сложится.
— А Кирей чего хотел? — спохватилася я, потому как мнится, что не для светское приятное беседы он заглядывал.
— Сделку предлагал.
— Это ж какую…
Арей шнурочек мой погладил.
— Я ведь наполовину азарин, и крови мы одной. Он… сказал, что может помочь. Вернуть пламя. Что есть способ… мое погасло, но его живо… и если он поделится, то…
…возвернется к Арею утраченная сила.
— А взамен?
— Хотел, чтобы я от тебя отказался.
От иродище! Не зря у меня рученьки-то на макушку его свербели…
— А ты…
— А я решил, что без магии как-нибудь да проживу. Без сердца оно сложней.
От так.
Что ж, мыслится, про ухват я тоже не зря думала, только за ухватом ноне идти далече, а вот поднос туточки. Его я и прихватила.
— Ты куда? — встрепенулся Арей.
— Пойду… с женишком побеседую… обменяюся… этими… как его… поклонами… колечко вот возверну…
— А поднос тебе зачем?
Подносу я взвесила. Хороший, из ольхи сделанный, полированный гладенько, в палец толщиною.
— Для поддержания беседы, — ответила и к грудям прижала. — А то ж сам говорил, что для светское беседы главное — правильную тему выбрать…
Арей только кивнул рассеянно, в мысли свои погруженный. Выбор-то он сделал, но не вышло бы так, чтоб о выборе том жалеть начал.
Каково это, знать, что мог себе магию возвернуть, да сам отказался?
Ох, не желаю я ведать…
Кирей, как и думалося, ждал меня внизу.
Поклонился. Под локоток подхватил…
— Как самочувствие твое, Зославушка? — осведомился преласковым голосом, у меня от энтого голоса ажно в роте слиплося. Меды им бы сластить, цены б оным медам не было б.
— Спасибо, — ответила. — Хорошо… замечательно даже…
И рученьку высвободила.
Двумя-то рученьками поднос держать сподручней. А уж бить-то и вовсе расчудесно… не меч, конечно, но от меча Кирей, глядишь, и увернулся б. С подносами ж у него практики не хватило.
В самые роги попало.
Ажно хрустнули.
Иль поднос это? Жаль, если поднос… казенное имущество портить нехорошо.
— Зося! — Кирей головой тряхнул и обеими руками за ее ухватился. — Ты чего творишь?
А треснул-таки поднос. Пополам развалился. Вот оно как… царские-то головы прочны, выходит… может, того, как Милослава повествовала, эволюционно приспособилися к венцов ношению? Оне-то, поди, тяжеленные, от и кости толстейшие сделалися…
— Я творю? — Половинки подносу я выкинула и за рог Кирея ухватила.
И вправду удобне!
Он дернулся было, да только я крепко держала, рука-то у меня хваткая, на старостином козле бодучем, чтоб ему вовек травы зеленое не ести, тренированная.
— Я, — говорю, — творю? Это ты чего вытворяешь, душа твоя азарская?!
И рога вниз кручу. Оно, конечно, политически сие недальновидно с чужеродным царевичем так себя вести, но царевич оный крепко со своими интригами у меня поперек горла встал…
— Ежель можешь помочь, то помоги… а то условия…
— Да не злись, я ж как лучше хотел…
И чего тут лучше?
— Я б вечером к нему сам заглянул! Зато ты знаешь, чего он как мужчина стоит… и он сам знать будет. Для него магию потерять — самый большой страх. А выбор этот — искушение… и он правильный сделал… был бы другой… рог отпусти, женщина!
— Девка. — Я и хватку ослабила. Ишь ты… искушение… заговорил. — Бабой я после свадьбы стану…
— Ну… не всегда обязательно до свадьбы ждать…
Тут я и второй рог прихватила.
— Ладно, ладно… пошутил я! Успокойся… и подумай… сегодня я к нему пришел… а завтра и кто другой подойти может… с интересным предложением. Только не тебя взамен попросит, а…
Роги я выпустила.
И Кирей, распрямившись, лоб потер.
— Ничего ведь не окончено, Зослава. Наоборот, все лишь начинается… стой, — руку мою он перехватил. — Колечко пока поноси… раз помогло, глядишь, и другим разом пригодится.
— Но…
— Мы же договаривались, Зославушка, — осклабился Кирей. — До лета ты моя невеста… аль от слова своего отступишься?
От же… и на кой ему сие надобно? Только… прав он. Слово я давала, и ныне нехорошо возвертать… да и оставлять нехорошо.
— С племянником я сам переговорю. Если в голове его не совсем пусто, то поймет.
Вот берут меня сомнения, да…
— Погоди, — говорю, — а что было б, если б Арей… не так выбрал?
Кирей на всяк случай от меня отступился, роги пощупал, убеждаяся, что на месте оные, и сказал:
— Некоторые ритуалы, Зослава, бывают зело опасны для жизни…
ГЛАВА 64 Последняя
— Ах, и схудла-то ты, схудла… лица нетушки. — Бабка причитала, по старое привычке подвывая в особо жалостливых местах, при том норовила подвинуть ко мне то мисочку с яблоками мочеными, то пирожки, то шанежки, то иную снедь, от которое стол не ломился исключительно в силу своей основательности. — Глазыньки запали… щечки взбледнули…
— Чего?
Пирожки в меня не лезли.
Как и шанежки, яблочки и перепела, в меду тушенные, поданные на блюде посеребренном, что бабку мою в превеликую восторгу привело. Она это блюдо то одним боком поворачивала, то другим, то пальчиком с краешку скребла, проверяя, крепко ль серебрение.
— Бледная, кажу, что тать… этак сбежит твой рогастенький…
— Нехай себе бежит, — отмахнулася я.
Не то чтоб я еще злилася на Кирея, так, самую малость, но вот… вот вновь влез без мыла в душу! Да ладно бы мою, я-то привычная, нет, он к бабке моей сунулся.
С уваженьицем.
С дарами.
Домину экую снял, чтоб сродственникам моим, значится, не горевать на улице. Ага, бабку знаючи, не верю я, что при ней ни единое монетки не осталося на гостиницу. А гостиница, чай, дешевше, нежели этакий терем.
Каменный.
О башенках с крышами, красною черепицею крытых. На кажное — флюгер позолоченный ворочается, скрипит. На одной — петушком, на другой — конником…
На башенках — балкончики.
На балкончиках — кадки с цветами… ну, то бишь, по весне они-то с цветами, а нынешним часом с сугробами. Но бабке сие все одно по сердцу пришлося. Повадилась кажное утро на балкончик выходить. Взденет халату азарскую с птицами золотыми поверх сарафану, голову платочком повяжет, чашку парпоровую с кофием прихватит и сладостев, чтоб закусывать напой горький.
И встанет, глазеет на жизню столичную…
С балкона-то всю площадь как на ладони видать. От ей и любопытственно… она-то у меня в жизни никуда не выезжала, разве что по лекарское надобности, тут же ж…
Пока я там, значится, валялася при смерти, бабка дом скоренько обжила. Ни дать ни взять — боярыня столбовая. И все-то ее слушают, обращаются с почтением, по батюшке, поклоны бьют, а она только кивает со снисхожденьицем.
Ей-богу, как увидала, так руки засвербели по розге хорошей.
Правда, меня увидав, она разом про важность всякую позабыла, рученьками всплеснула, обнимать кинулася, целовать, причитаючи… стол накрыть велела и потчевать взялася, а заодно уж поведала, как оно вышло так…
— А мы токмо к Новоельням выбралися, — бабка-таки угомонилася, присела на лавку, ковром застланную, подперла подбородочек рученькой. — Ой, как выбралися… поначалу-то вас вовсе схоронить удумали, потому как лежите в кровище, глянуть страшне… не дышите… только кудлатенький грозиться начал, царевым именем, стало быть, и батькою своим… значит, и вправду посадников сын?
— И вправду, — подтвердила я.
— Ох, беда… не примуть там нашую Станьку…
Станька, та сидела тихенечко, мышка мышкою, глаз поднять не смела, только пальчиком по скатерочке расшитой водила да улыбалася своим мыслям. Она, ряженая на боярскую манеру, в платье шелковое с рукавами отрезными, серебром прихваченными, не походила болей на сиротинушку горькую. Бусы на шее яхонтовые в три рядочка. Заушницы серебряные. Венчик на голове, простенький, а все хороший…
И внове, какою такою милостию?
— Вот и порешили вас на волокуши… пока сделали, пока сгрузили… что вас, что душегубов тех, для следственных целей, стало быть.
Про это бабка ныне рассказывала с удовольствием. А я старалася не думать, какого страху натерпелась она.
— Ну и поехали… старшой-то все винился, что, мол, не больно-то они поспешали… послание от магика пришло, да пока разобралися, то да се… едва не упустили… да что уж тут… поспели, и ладне… а в Новоельне, значится, ждали… мы как из лесочку выползли, матушки мое родные… костры горять, войско цельное стоить, а с того войска конники скачуть наперед друг друга… этот, который рыжий, холера, языкастый…
…неужто Еська? Может, и он… отпустила царица? Решила, что раз все про спину его ведают, то и стеречься нет нужды?
— Один перед другим красуются… а как вас увидали на волокушах… от таких словесей я, Зославушка, в жизни не слыхивала. — Бабка помолчала, чтоб добавить: — Жаль, что не записала.
Станька только хихикнула.
— А тебе того слухать неможно было! Ай, да что тут… ну, азарин разом к вам… сначала тебя едва ль не облизал, после и сродственника свово… и говорит, что, стало быть, живые вы… что перстенек там какой-то, амулетка, вас сберегла, да только не совсем чтоб сберегла… в этом, в физическом плане.
Бабка пальцами прищелкнула и зарделася от удовольствия.
— А для остального надобно вас в Акадэмию везти, а туточки лечить неможно… ну и разом возку нашли… шкур там, чтоб не тряско было… и для нас со Станькою… кудлатенький как сказал, что мы сродственники твои, так азарин прям весь обходительный-преобходительный сделался… прям хоть к ране прикладывай… я-то поначалу рожу евоную и видеть не могла спокойне. А после ничего… пообвыклася… славный парень.
Она смолкла, глянула на меня искосу.
— Женихом твоим назвался, Зославушка… я-то постоялого двора сыскать думала, чтоб подешевше… але ж туточки и цены! — Эте бабка сказала с немалым возмущеньицем, а то я не упреждала, что в столицах жизня дорогая. — За конуру какую-то полрубля просют! А он мне прям-таки и заявил, что никак неможно, чтоб сродстенница уважаемая невесты евоной в каком-то постоялом дворе жила. С того его чести урон выйдет… а я что… я ж и подумала, честь честью, а деньгам всяко экономия…
И глазки потупила, на Станьку похожею сделавшись.
— Да и вправду… он же ж царевич азарский, еще станут говорить всякое, скупой мол, без уважения…
Я кивнула. Чего уж… в самом-то деле, не переселять же ж бабку на постоялый двор аль в какую избу поплоше, куда приезжих берут.
— От туточки и живем… — Бабка руками развела. — К тебе-то и не пущали… не велено, мол… ждать надобно… азарин кажный день захаживал… и кудластенький. Успокаивали, что живая, да толку-то…
Она устало рукою махнула.
— Извелася я вся, Зославушка… это ж я виноватая.
— В чем? — От бабкиной вины в случившемся я, как ни крути, не видела.
— А послала тебя в этую Акадэмию, чтоб ей сгореть… жила себе, жила… горя не ведала, а тут…
Я только головой покачала: может, и жила… да как долго прожила б еще? Неужто, не поедь я в Акадэмию, не случилось бы проклятия с Добромыслом? И не пожелала бы матушка евоная проклятия снять? Позвала б она меня в жены… а я б, верно, согласилася б… а если и нет, то и спрашивать не стали б. Небось, не было б кому заступиться. Да и… с прочими что сталося б?
С Ареем? И мачехой евоною?
С Киреем, принявшим клятого коня? С Еською да Горданой… с Лойко, Ильюшкою… нет, не ведаю я того и ведать не желаю. Недаром говорят, что люди волею вольной наделены, да все одно за тою волей судьба стоит.
Знать, моя такая…
— Не отступишься? — спросила бабка, наперед зная ответ.
Не отступлюся.
Тем же вечером случился в доме нашеем еще один гость, не скажу, что вовсе я ему не радая была, да вот свидеться не чаяла.
— Доброго здоровьица тебе, Зослава-краса. — Еська походил на себя прежнего, улыбался во все зубы, только в темных глазах нет-нет да тоска звериная проглядывала.
Знает он про Гордану. И про шарфик ейный заветный… и про иное все знает.
— И тебе не хворать, — ответила я.
Мыслями-то я не на беседу благообразную настроена была, пускай и велела бабка гостюшку пирогами встречать, да чаи затеяла, благо, ныне есть кому самовару таскать да столы прибирать.
Не шли у меня из головы слова Киреевы.
Про ритуалы опасные. И вправду ведь опасно… я мыслю, что опасно… будь иначе, неужто не ведали б такого средства нашие маги? Арей все одно рискнет… а я… я помолюся Божине, чтоб вышло у них все, как оно задумано.
…ныне ж ноченькой.
— Словом бы с тобою перекинуться… — Еська на бабку мою глянул, которая на лавку присела тихенько, что мышка. — Где-нибудь… в тихоем месте…
— Гляди, Зослава, после иных слов и дети родятся… — Бабка Еське кулачком погрозила.
— Ну что вы, уважаемая… я ж со всем почтением…
— Ага, а от почтения пущею и близняты бывають…
— Идем. — Я Еську в горницу провела. — Садись куда… и говори, только по делу говори…
— По делу… если по делу. — Шапку он стянул, на лавку кинул, провел рукой по рыжим волосам. — Спасибо тебе…
— За что?
— Снова ты нас спасла. Без тебя б Гордану не взяли б…
И отвернулся.
— Любишь?
— Перегорит.
— Главное, сам не сгори…
— Уж постараюсь. — Он потер сухие глаза. — Я этого ублюдка сыщу… над землею, под землею… найду, веришь?
— Верю.
— И за всех спрошу…
— Ты о том поговорить хотел?
Еська мотнул головой.
— Присядь, — попросил. — Братья решили, что меня ты скорее послушаешь, хотя я и говорил, чтоб особо не надеялись, но… сейчас ты можешь уйти.
— Куда?
— Откуда, — поправил Еська. — Из Акадэмии… нет, Зослава, сначала выслушай. Это не твоя война и… и не знаю, что дальше будет. Со мной. Со всеми нами… вы мало что не погибли. А дальше оно лишь серьезней будет. Тот, кто столько положил, чтобы власть получить, не отступится. Как и мы, потому что некуда… у нас два пути, или к трону, или к могиле… а ты вот в этом раскладе случайный элемент. И пока тебе повезло, но любое везение, Зослава, рано или поздно заканчивается.
Смолк.
Вздохнул.
— Если объявить, что ты перегорела… или что получила серьезные повреждения… не физического тела, а ауру имею в виду… сказать, что тебе нужен отпуск. Напишешь заявление. Ректор подпишет. И на следующий год, если еще желание будет, восстановишься… вот…
Он положил на стол свиток.
— Матушка жалует за службу верную тебе и дом этот… и поместье… хорошее поместье. Пять тысяч дохода дает.
От уж не чаяла…
— Передай матушке своей благодарствие. — Я свиток не тронула. — И что прежний ее дар хорош был… ему я жизнью обязана.
Потрогала пальчик, на котором сидело царское колечко, красивое, только камень выгорел, новый вставить надобно.
— Только… вы как будете?
— Как-нибудь.
Ага, как-нибудь так… как-нибудь этак…
— Подумай. — Еська шапку поднял, но надевать не стал, смял в руках, на ней злость вымещая. — У тебя есть за кого бояться…
Есть… и бабка, и Станька вот… только… чуется, что, коль и соглашуся я на предложение Еськино, да скажуся хворою, уеду до хаты, то навряд ли про меня позабудут. И дом не спасет, пусть и стоит при нем охрана, и поместие… есть же боярыня, которая поймет, что подарок ейный я Арею не передала… и батюшка Горданы… и тот, который в маске от людей добрых лик свой скрывает.
Нет, неможно мне уходить.
И я покачала головой: будь что будет.
Остаюся.
— Знаешь… — Еська осклабился широко, радостно. — А я и рад… нет, честно, рад. С тобой оно как-то веселей…
Ага, как бы не помереть вовсе с того веселия…
Ничего. Даст Божиня — справимся.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Лес застыл, не смея переступить границу колдовского круга. Древний, означенный тремя кольцами из камней, он меж тем дышал силой, и женщина, замершая в самом его центре, эту силу чуяла.
Она стояла, нагая и страшная в этой наготе, казалось, вовсе не ощущая холода. И лишь губы ее шевелились, будто женщина эта говорила с кем-то, невидимым прочим.
Люди же, сопровождавшие ее, старательно пялились на лес.
Не впервой им было сопровождать ведьму к заклятому кругу, и привыкнуть бы, а нет, все одно сердце то замирало, то вскачь пускалось. В холод кидало кого, кого и в жар. Мерещились призраки будто бы… а может, и не призраки, но тени лукавые, рожденные мертвыми ветвями.
Место это горело, давно, но берегло следы того пожара, что на самой земле, ныне укрытой снегом, что на стволах дубов, что в самом воздухе, где отчетливо чуялся запах гари.
И чем дальше, тем яснее.
Казалось, стоит приглядеться, и вновь вырвется из-под проклятой земли пламя, которое очищало ее, да не сумело очистить вконец.
Женщина стояла, чуть покачиваясь. Бледные пальцы ее то гладили, то царапали предплечья, и без того расцарапанные до крови. Но ни капли не упало на снег.
Однако вот она вскинулась, рассмеялась диким хриплым смехом.
— Ведите! — бросила, не оборачиваясь на тех, которые слишком скудоумны, чтобы уразуметь, сколь великому действу выпало им стать свидетелями. Ничего… пускай… ей нет дела до людей, кроме одного… того, которому она так нужна.
И она поможет.
Всегда помогала… и найдет способ снова… позже…
Если повезет…
Девку в круг втолкнули, и она, споткнувшись о камень, растянулась на снегу. Перевернулась тотчас, поползла, неловко дергаясь, пытаясь избежать участи, которая была предопределена.
Женщина наступила на спину жертве.
И с наслаждением услышала стон.
Она наклонилась и поддела шнурок, который удерживал во рту девки белый платочек. Он тотчас выпал изо рта, а девка заскулила…
Толстая.
И крови в ней много, но все не то, вся не та… слабая, человеческая… ее хватит лишь для того, чтобы поддержать силы в том, который спит.
Ведьма вцепилась в спутанные волосы.
— Я принесла тебе дар. — Голос ее был мягок и ласков. — Прими его, сынок…
Она перервала горло жертве одним отточенным движением, и отодвинулась, чтоб не испачкаться в потоке крови. Та лилась легко, щедро, впитываясь в снег, а сквозь него — в мерзлую землю… и эта земля просыпалась.
Сила, в ней таившаяся.
Имя забытое.
Сорвавшееся с губ.
И женщина отступила на шаг, наклонилась, протянув руку тому, который спал и ныне вновь проснулся.
— Здравствуй, сынок…
Она помогла ему выбраться и подала знак, чтобы привели вторую: мальчику нужно утолить голод. Пробуждение требует многих сил… с каждым разом — все больших.
Ничего.
Скоро все закончится. Ей удалось отыскать ту, которая вернет ее сыночка к жизни. И она, дождавшись, когда обескровленное тело упадет наземь, шагнула к мертвецу, обняла его, вытерла ладонью кровь с лица.
— Мама… я не хочу больше… умирать…
— Скоро, дорогой… скоро все закончится. — Она поцеловала сына в щеку, от которой пахло тленом и кровью. — Вот увидишь… потерпи еще немного.
— Я устал.
— Я знаю… но я тебе помогу. Веришь? Вот. — Она вытащила из-под снега черную маску. — Надень… твои люди ждут тебя.
И самолично закрепила маску на лице.
— Твое царство ждет тебя.
Примечания
1
Горничная рубаха — верхняя рубаха, которую шили из ярких тканей, часто красного шелка. Отличалась длинными рукавами, в 8-10 локтей, и шитьем.
(обратно)



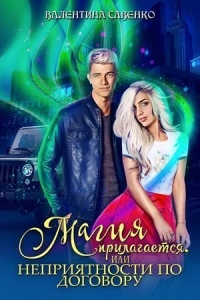
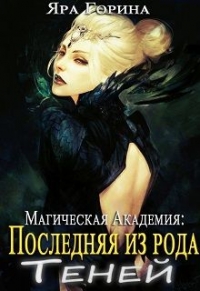








Комментарии к книге «Внучка берендеева в чародейской академии», Екатерина Лесина
Всего 0 комментариев