Карина Демина Хозяйка большого дома
Глава 1
Младенца Райдо нашел на кухне.
Не спалось. Давненько уже не спалось: ночью боль наступала. И порой Райдо казалось, что все его тело, и без того сшитое из лоскутов, вот-вот рассыплется. Он открывал глаза, пялился в потолок, по темноте серый, грязный и в разводах. Вытягивал руку, не то пытаясь дотянуться до этого потолка, не то просто убеждаясь, что еще способен шевелить руками. Малейшее движение отзывалось болью, и Райдо с непонятным ему самому удовлетворением изучал ее оттенки, гадая, когда же все закончится.
Доктора утверждали, что прогноз хороший и с наступлением зимы разрыв-цветок уснет, правда, когда Райдо спрашивал, а что будет весной, они отводили взгляд.
Бестолочи.
Он знал, что умрет, так какая разница! Зима, весна или вот осень…
Дожди седьмой день кряду. Райдо считал дни, зачеркивая их красным карандашом на обоях. Поначалу ему казалось, что он не протянет хоть сколько бы долго, но вереница крестов у кровати росла, и теперь Райдо нашел очередное развлечение – рассматривал их, пытаясь вспомнить день, который был скрыт за тем или иным крестом.
Получалось хреново.
У него всегда получалось хреново с памятью, а уж теперь, когда эта самая память здорово отравлена алкоголем…
…бутылка на полу.
Первое время Дайна ставила бутылку на столик, хороший столик, аккуратный, под белой скатеркой и кружевной салфеткой, которую Дайна старательно крахмалила, но от салфетки все одно тянуло щелоком и еще чем-то, что в безумной голове Райдо прочно увязывалось с госпиталем.
Дерьмо.
Полное.
Салфетку он сжег, и скатерть, и столик попытался, а вот бутылку оставил.
У кровати.
И сейчас он руку спустил, зашевелил пальцами, пробуя нащупать горлышко.
Не давалась. А когда далась, паскудина этакая, то обнаружилось, что бутылка пуста. И от этой жизненной несправедливости Райдо взвыл. Мысленно. Выть вслух не позволяла гордость.
Зацепившись рукой за изголовье кровати, металлическое, витое, раздражавшее острым запахом холодного железа, который по дождям сделался особо резким, Райдо сел. Голова кружилась. Сколько он выпил? Много. Но недостаточно много, чтобы уснуть.
– Бутылка, – позвал Райдо, щурясь, – ты где? Цып-цып-цып…
Должна быть. В комнате всегда имелся запас. Дайна следила, ставила где-нибудь поближе к кровати. И Райдо, опустившись на четвереньки, под кровать заглянул.
Пусто.
Ан нет, что-то виднеется под столиком. Далеко. И Райдо не дойдет. Или все-таки дойдет? Если на четвереньках… раз-два… стоять тяжело, и тело того и гляди развалится. Но ничего, как-нибудь, пусть лучше развалится с вискарем, чем без оного.
И эта бутылка оказалась пустой.
– Вот гадство, – сказал Райдо и добавил пару слов покрепче, потому как ситуация располагала.
Он поднялся, опираясь на несчастный столик. Комната качалась. Или Райдо качался?
Нажраться успел.
Матушке бы не понравилось. Матушка бы укоризненно покачала головой и, быть может, сказала бы, что Райдо следует взять себя в руки. Он и взял. И даже постоял, опираясь на подоконник, пялясь в окно. Темное. Рама белая, свежевыкрашенная. А гарью тянет, но не от рамы – от стены…
…дом горел – давно, наверное, вечность тому, поскольку на войне время идет совсем иначе, но война позади и дом подлатали, прежде чем вручить Райдо.
Законная награда.
И радоваться бы, а он чует шрамы, которые странным образом роднят его и этот альвийский особняк. Но сочувствия не испытывает. Порой Райдо начинало казаться, что он вообще утратил способность испытывать какие-либо эмоции помимо раздражения, да и то постепенно утопало в море виски…
…да, о виски думать надо.
…о бутылках-бутылочках, которые прячутся на кухне, в погребе. Райдо точно знал, что виски Дайна запирает, не от него, но от Ната, который еще слишком молод, чтобы пить. Смешно. Воевать – не молод, а пить – увы…
…но Райдо знает, куда убирают ключ. И вообще, он хозяин в доме!
Дом был живым и тоже мучился болью, которую доставляли что старые раны, что новые жильцы, не способные их зарастить.
– Весной я сдохну, – пообещал Райдо, проводя ладонью по шершавой стене. – А ты, напротив, оживешь. Я оставлю завещание, чтоб тебя подкормили… и вообще… к хрысевой матери все.
Дом молчал.
Спал уже? Если так, то ему повезло. Райдо тоже поспал бы, хотя бы пару часов, но для этого нужно виски, которое немного приглушит боль. И плевать, что и сон его будет пьяным, главное, что этот сон в принципе будет.
– Сейчас я соберусь с духом и дойду до двери.
Можно было бы кликнуть Ната. Он бы сгонял за виски, но Райдо только представил встревоженный взгляд мальчишки, в котором и страх, и надежда – интересно, на что он надеется? – и скрытая жалость. Жалости он не хотел.
Чего жалеть?
С каждым могло случиться… и жаль, что сразу не умер… был бы героем, а так… кто?
В затянутом дождями стекле отражался он. Герой? Тихий алкоголик, который живет от бутылки до бутылки. И ради бутылки. Вода размыла шрамы и черты исказила, и Райдо провел по стеклу ладонью, а потом, влажной, пахнущей этим самым затяжным дождем, лицо отер.
Нет уж, пусть Нат спит, у него свои кошмары. А кошмары – дело личное, можно сказать, интимного свойства. И Райдо не настолько ослаб, чтобы до кухни не добраться…
…главное, ночной горшок не задеть, а то грохоту будет…
…тоже придумали, ночной горшок ставить…
…он не лежачий. Пока.
Когда-нибудь, к весне ближе. Может, тогда и хватит силы духа избавить и себя от мучений, и близких от невыносимого ожидания. Мысль о смерти была настолько притягательной, что Райдо остановился. А чего, собственно говоря, он тянет?
Ночь. Тихая такая… спокойная. Подходящая для того, чтобы сдохнуть. Вот только…
– На хрен, – с чувством произнес Райдо, делая осторожный шаг в сторону двери. – Нажрусь и отосплюсь. А там зима, слышишь, ты, тварь?
То, что сидело внутри, прорастая, раздирая тело, точно оно не в достаточной мере разодрано было, не отозвалось. И ладно.
И к лучшему.
Когда оно отзывалось, Райдо приходилось закусывать руку, чтобы позорно не заорать…
…а сейчас орать нельзя. Разбудит.
Сейчас надо осторожно добраться до двери. И от двери до лестницы, которая вниз ведет… двадцать две ступеньки… что такое двадцать две ступеньки? На каждую у него слово найдется доброе, матерное… главное, чтобы шепотом, чтобы осторожно. И дом, решив подыграть, замирает. Не скрипят доски паркета, не вздыхают трубы, ветер, свивший в пустых каминах гнездо, и тот примолк. И ладно.
Некогда огромный холл в темноте выглядит бесконечным. Темные стены. Черные зеркала. А картин нет, сожгли. Это ж какими уродами надо быть, чтобы сжечь картины? Райдо точно знает – были… он рамы нашел… и обрывок пейзажа… у себя спрятал.
Зачем?
А просто так. В детстве он камни красивые собирал. И осколки стекла. И прочий хлам, который тогда казался драгоценным, и теперь вот захотелось сокровищ…
Дайна сказала, что на чердаке сохранилась пара сундуков со старыми вещами и надо бы их глянуть, разобрать, выкинуть ненужное, а Райдо запретил их трогать. Он бы сам добрался до чердака, но туда дальше, чем до кухни, а сил у него не так и много. Дом качает… укачивает… если прилечь, то и колыбельную споет. Райдо бы прилег, только ведь знает – не уснет.
Без виски.
Темный коридор.
И дверь приоткрыта. Аромат свежего хлеба и еще мяса, которое привозили тушами и разделывали тут же, на старой почерневшей колоде… молоко… ароматные травы.
Дождь.
Приоткрыто окно, должно быть, кухарка оставила, пытаясь избавить кухню от дыма, который пропитал здесь все: старая печь чадила, и дымоходы по-хорошему следовало бы почистить. Как-нибудь потом. Зимой, например.
Глядишь, зимой он и вправду немного оживет.
А сейчас Райдо, добравшись до окна – на подоконнике расплывалась темная лужа, – прижался лбом к холодному стеклу.
Хорошо.
Дышать легко. Он и не понимал, насколько ему не хватало воздуха и воды, пусть вода эта холодна, каждое прикосновение почти ожог, но до чего хорошо.
И умирать он погодит. Потянет еще немного, день или два… десять… сто… сколько получится, не ради себя, но ради таких вот мгновений, когда он, Райдо, чувствует себя почти живым. Присев, он коснулся пальцем лужи, провел по ней, ощущая и воду, и шершавую поверхность подоконника, обернулся.
И увидел младенца.
Точнее, Райдо не сразу понял, что это именно младенец, так, груда тряпья. Кухарка забыла? Она никогда и ничего не забывала, полнотелая розовая женщина, до того плотная, что Райдо не мог отделаться от чувства, что собственная шкура ей тесна. Она носила серое платье и белые фартуки, которых было ровно семь штук, на каждый день недели – свой. По пятницам кухарка замачивала фартуки в щелоке, а по субботам – кипятила. Старую колоду перед рубкой мяса она обязательно обдавала кипятком, а стол скоблила с какой-то маниакальной страстью и уж точно не стала бы оставлять на нем грязные тряпки.
От тряпок несло уборной, и запах этот, до того скрытый средь иных, обычных кухонных, вдруг стал резким. А Райдо подумал, что, наверное, ему мерещится. Предупреждали ведь, что разум его, затуманенный болью и выпивкой, способен играть злые шутки.
– Надо же, – пробормотал Райдо, отступая от подоконника. До стола он добрался и, вытянув палец, ткнул в тряпье.
Мокрое. Грязное и…
Райдо зажмурился, убеждая себя, что ему все-таки примерещилось. Но нет, тряпье не исчезло.
Младенец тоже. Он лежал тихонько, уставившись на Райдо огромными какими-то стеклянными глазами.
– Ты кто? – Райдо осторожно потянул за тряпку, которая, похоже, некогда была старой шалью. – Нет, я понимаю, что ты не ответишь, просто привык разговаривать… особо тут поговорить не с кем…
Младенец моргнул, как-то медленно, отчего стало понятно, что и это действие стоило ему немалых усилий. Личико его, в полумраке представлявшееся одним белым пятном, исказилось, рот приоткрылся, обнажив белесые десны, но младенец не издал ни звука.
– Гм, – сказал Райдо, потому как ситуация требовала слов, а в голове было пусто, не считая, конечно, привычного уже шума, рожденного исключительно хмелем. – Ну… здравствуй, что ли?
Шаль он развернул. Влажная. И тряпье под ней темное, провонявшее.
– Это надо снять. А то простынешь. Ты не думай, у меня опыт есть, я с детьми дело имел… у меня племянники… между прочим, трое… или уже четверо?
Он разворачивал тряпку за тряпкой, а младенец смотрел.
Видел ли?
Тощий какой.
Или не тощий, а… неправильный младенец. Младенцам – Райдо знал это совершенно точно – полагается быть бело-розовыми и толстыми, с перетяжками на ручках и ножках, с округлыми животами и кисло-сладким запахом молока. А этот… раздувшийся живот-пузырь и неестественно тонкие ручонки. Ноги-веточки, ступни на них – словно на нитках висят. И кожа бледная, холодная.
– Да ты замерзла. – Райдо торопливо рванул рубаху, забыв, что давно уже не способен снять ее сам.
Ложь.
Вполне вот способен. И снять, и разодрать ворот… ничего, Дайна заштопает. Или новую купит. В конце концов, что такое рубашка? Пустяк.
Или многое, если теплая.
Райдо торопливо разостлал ее на столе. Младенца он брал осторожно, опасаясь, что, стоит прикоснуться, и тот исчезнет.
Или умрет.
Он ведь почти уже умер, дышит еле-еле… но в руках слабо шевельнулся.
– Вот так… мы с тобой сейчас…
Он заворачивал найденыша в рубашку, радуясь тому, что рубашка эта теплая и огромная, хватит, чтобы укутать с головой.
На макушке топорщились темные волосики. И пахло от них лесом, осенним, волглым, который виднелся за краем поля. И в первый день еще Райдо сумел до него добраться, сел на опушке и дышал. Смотрел на сине-зеленые лапы елей, на стволы их, покрытые мелкой чешуей коры, на янтарные слезы…
– Тише, маленькая… мы сейчас… – Он совершенно растерялся, вдруг поняв, что не представляет себе, что делать дальше. – Сейчас мы…
…Ната надо позвать.
…или Дайну… или кого-нибудь, но в доме, кажется, никого больше и нет. Значит, Ната. Пусть берет лошадь и в город за треклятым доктором, который из Райдо своими советами душу вынул.
Райдо доктор не нужен.
А малышка умирает, и – как знать! – дождется ли помощи…
Он уже открыл рот, чтобы заорать, не имя, но просто заорать, доораться до кого-нибудь в растреклятом пустом доме, слишком большом для одного, когда сзади раздалось шипение.
И Райдо оглянулся.
Отродье почти сдохло.
Оно умирало давно, и, по-хорошему, следовало бы отпустить его, но Ийлэ продолжала делиться силой. Зачем?
Не знала.
Она потерялась. И умерла, наверное, еще тогда, прошлой осенью, а то, что осталось, – не Ийлэ. Оно иррационально. Оно ненавидит отродье и все-таки не способно его бросить.
Оно боится одиночества?
Ийлэ засмеялась, прижимая сверток, который давно уже перестал плакать, к груди. Смех клокотал в горле. Колючий. И горький. И еще, наверное, безумный, но разве здесь был хоть кто-то, кто способен испугаться ее безумия?
Никого.
Наверное, она могла бы остаться здесь, меж корней старой ели, которая растопырила колючие лапы – хоть какая-то, а защита от дождя. Он, начавшийся неделю тому, все шел и шел.
Влажный воздух. Влажные листья, сопревшие, темно-бурые, но если закопаться в них, становится теплей. В сон клонит. И иногда Ийлэ позволяет себе поспать, правда недолго, просыпается от голода и еще потому, что отродье вновь подходит к самому краю. Нить его жизни, и без того тонкая, ныне вовсе стала паутиной из тех, старых, которые рвутся не прикосновением – дыханием.
Дыханием и спасаются.
Ийлэ наклоняется к бледному лицу, стараясь не замечать черт его, раскрывает губы и вливает в раззявленный рот отродья еще немного сил: если умирать, то вдвоем. А там какая разница – в дожде ли, в снегу, до которого уже недолго. А еще раньше, предупреждая, ударят морозы, и лес окончательно провалится в глубокий сон. Силы иссякнут.
И закончится эта нелепая, самой Ийлэ непонятная борьба.
Давно пора бы, а она все живет. Вчера, позавчера и за день до того. И дни сплетаются бесконечной вереницей. Дни забрали лето и удобную обжитую нору, заставив пробираться к дому, который, предатель, стоит, будто бы и не случилось ничего…
…она вжалась в листву.
Мокрая.
И одежда мокрая. И тряпье, в которое завернуто отродье, тоже мокрое. А в доме сухо. Он ведь рядом, Ийлэ знает и эту ель, и поле, и тропу, которая, верно, не заросла. На кухне всегда оставляли дверь открытой…
– Глупость. – Ийлэ потрогала языком клыки. – Соваться туда – безумие…
Ветер тронул ель, и та покачнулась, стряхивая с ветвей воду.
Соваться – одно безумие, оставаться – другое. И какое из двух будет менее болезненным? Если остаться, отродье точно ночь не протянет. А в дом… можно попробовать войти тихо… и тихо же выйти… Ийлэ ведь немного нужно.
Еды.
Для нее и для отродья, которое смотрит, ждет и, наверное, смирилось уже.
Ийлэ легла рядом, закрыла глаза, прислушиваясь к шелесту дождя. Она попробует, просто попробует. Не ради отродья, но потому что сама нуждается в еде. Надо только подождать, когда наступит вечер…
Солнце утонуло в небесных хлябях. И закат отгорел, тусклый, разбавленный. Темнота же получилась кромешною.
Ийлэ не нужен был свет, она тропу помнила распрекрасно. Шла. Кралась, едва ли не на цыпочках. С поля кукурузу так и не убрали. Стебли ее терлись друг о друга, шелестели, ложились под ноги, тонули во влажной земле. И тропа вихляла.
А дом не приближался.
Он появился как-то вдруг, темной громадиной. Ийлэ замерла на краю, разглядывая его жадно, пытаясь понять, что же изменилось.
Ничего.
Белые стены. Черные прямоугольники окон. Фриз. И крыша двускатная, которая наверняка вновь подтекает. А северное крыло выпустило тонкие хлысты неурочных побегов, и они упрямо держали глянцевую листву, точно надеялись остановить зиму. Облетят. Подмерзнут. И ладно бы только они, но ведь и корни, не прикрытые шубой опада, пострадать способны.
Ийлэ едва вновь не рассмеялась, поняв, о чем она думает… дом? Это больше не ее дом. Он предал, как предали все: что люди, что вещи.
Бывает.
Раньше она не знала, что только так и бывает.
К дому Ийлэ пробиралась крадучись. Пуст был старый двор, а дверь кухонная – заперта, но открыто окно. Окна в кухне прежними оставили, с ними Ийлэ умела управляться. Нащупав щеколду, она легонько надавила на раму, которая поддалась охотно, будто дом, силясь хоть как-то загладить свою вину, решил помочь.
На кухне было тепло. Жарко. Настолько жарко, что Ийлэ растерялась. И еще от сытных запахов, которые окружили ее. Мясо. Молоко. Хлеб. Она целую вечность не ела хлеба и наверное забыла сам вкус его. Надо взять себя в руки.
– Мы быстро, – пообещала Ийлэ отродью. – Потерпи.
Только глаза в темноте блеснули, будто и не глаза, но перламутровые пуговицы…
…на мамином сизалевом платье были такие…
Нельзя думать. Нельзя вспоминать, память делает Ийлэ слабой.
Она положила отродье на стол и огляделась. Странно, что все почти по-прежнему. Печь остывает. Доходит в деревянной кадке тесто, и значит, поутру кухарка испечет хлеб, быть может, точь-в-точь такой, как прежде, с румяной корочкой, густо усыпанной кунжутным семенем. И запах хлеба выберется с кухни на первый этаж, а может, и на второй…
Ийлэ сглотнула вязкую слюну. Хлеб она найдет, а при везении – не только его. Главное, поторопиться.
Дверь в кладовку была заперта на засов, и несмазанные петли заскрипели, резанув по нервам. Ийлэ замерла, прислушиваясь к дому. Ничего. Никого.
Кем бы ни были новые хозяева, они спят. Пускай.
Ийлэ принюхалась к темноте.
И решилась, сделала шаг вниз по узкой лестнице. Второй и третий. На последней ступеньке нога соскользнула, и Ийлэ упала, к счастью на четвереньки. Ладони ободрала, кажется, но это мелочь, главное, она в подвале. И слева полки. Справа, помнится, тоже.
Жаль, свечи нет и приходится на ощупь, осторожно. Кувшины. В первом же молоко попалось, но прокисшее. В следующем – сыворотка… и сметана… Ийлэ проверяла кувшин за кувшином. Попутно стянула пару колец колбасы, которая сохла на крюках. Колбасу она сунула за пазуху, потуже затянув пояс. Остановилась. Хмыкнула – благо в подвале не было никого, крысы и те сбежали – и куртку стянула. Все одно мокрая и толку с нее никакого. А вот если завязать рукава и горловину перетянуть шнурком, то получится мешок. В мешок колбасы больше влезет.
И балык копченый.
И еще что-то длинное, квадратное, но явно съедобное. Сыр.
И снова колбаса, в которую Ийлэ, не выдержав, впилась зубами. Она откусывала куски, глотала не разжевывая, пытаясь хоть как-то заполнить пустоту в желудке. Голод, отступивший было, вернулся, и Ийлэ вдруг поняла, что еще немного и сдохнет прямо тут, в подвале.
То-то новые хозяева обрадуются.
Плевать.
Она заставила себя сунуть колбасу в мешок, а мешок перекинула через плечо. Тяжелый. И это хорошо, потому как ясно, что вновь пополнить запасы еды Ийлэ сможет не скоро.
Если вообще сможет.
А молоко обнаружилось на полках справа. Ийлэ не без труда вытащила тяжеленный кувшин, скользкий, запотевший, но с удобной ручкой. Молоко было свежим и холодным, но лучше такое, чем никакого, глядишь, отродью и понравится…
…или все-таки сдохнет?
Поднималась Ийлэ в превосходном настроении.
А дом снова предал.
Мог бы предупредить скрипом половицы, осторожным прикосновением сквозняка, тенью, что легла бы через порог, но нет, он смолчал.
Позволил выбраться. И увидеть.
Пес был огромен. Страшен.
Он стоял спиной к Ийлэ, склонившись над столом, над отродьем, которое… которая… от бессильной ярости Ийлэ зашипела, и пес обернулся.
– Надо же, – сказал он, и в голосе не было и тени удивления. – А вот и наша мамаша объявилась.
Он держал отродье на ладони, и то ли ладонь эта была велика, то ли отродье было мелким, но меж растопыренных пальцев выглядывала лишь макушка.
– Стоять! – Пес не спускал с Ийлэ настороженного взгляда. – Я тебя не трону.
Так Ийлэ ему и поверила.
Она медленно попятилась, но вовремя остановилась, сообразив, что запасного выхода подвал не имеет. А между Ийлэ и спасительным окном стоит пес.
И отродье опять же. Нельзя его бросать…
Пес же, втянув воздух, поинтересовался:
– Молоко?
Ийлэ кивнула.
– Сюда неси.
Она не сдвинулась с места. Она, быть может, и безумна, но не настолько, чтобы приближаться к псу.
Жуткий.
Бритая голова, раскроенная рубцами, как и все его тело. На шее рубцы потемневшие, а на груди свежие, бледно-розовые и лоснящиеся. Сквозь кожу сочится сукровица, и до Ийлэ доносится запах болезни, острый, едкий.
Смотрит. Не моргая. Исподлобья.
– Сюда неси, – повторил пес.
Голос рокочущий.
Ийлэ попятилась, прижимаясь спиной к стене. Дверь свободна. Если не через окно… если пес здесь один… главное, из дому выбраться, а там дождь следы смоет…
…болен.
…и вряд ли способен бежать быстро.
…но если перекинется…
– Стой, – рявкнул пес. – Ты же не хочешь, чтобы я ее уронил?
Он вытянул руку, повернув так, что видна стала не только макушка. Отродье лежало тихо.
Жива ли? Жива. Бьется нить-волосок, натянулась до предела…
– Не хочешь, – со странным удовлетворением в голосе произнес пес. – Тогда иди сюда.
Ийлэ обернулась на дверь. Что ей до отродья? Она ведь сама желала избавиться от него, и если не смогла оставить в лесу, то дом – другое. Быть может, пес и не станет убивать младенца.
Пугает. Или…
Он хмыкнул и перехватил отродье левой рукой, поднял за ноги.
– Рискни, – сказал он.
Ийлэ оскалилась.
Она уйдет и… и не сможет, потому что оловянные глаза отродья смотрят на нее.
Первый шаг дался с трудом. Колени дрожали. И руки, с трудом удерживавшие кувшин, который сделался большим и неудобным.
– Я тебя не трону. – Пес отвел взгляд, точно ему было противно смотреть на Ийлэ. А может, и противно. Она тощая. И грязная. И воняет от нее не только лесом, но так даже лучше… так спокойней… – Не трону. Клянусь предвечной жилой.
Хорошая клятва.
Вот только Ийлэ больше клятвам не верила. Она сумела сделать три шага, и только.
– Молоко, – удовлетворенно потянул пес, потянув носом. – Но холодное. Ей холодное нельзя, она и так замерзла. Вот там плита. Видишь?
Видит.
Старая, которую растапливали дровами и торфом, и тогда из труб шел черный дым, торф и ныне лежит на прежнем месте, в древней корзине, прикрытой сверху тряпицей… будто ничего не изменилось.
Ложь.
– Не эта. С этой возиться долго. Рядом. На кристаллах. – Пес вздохнул и, положив отродье на ладонь – девочка так и не издала ни звука, – сам шагнул к новехонькой плите. – Посудину найди.
Медные кастрюли остались на прежнем месте, что огромная, в которой кухарка варила похлебку для наемных работников, что крохотная, с изогнутой ручкой, для кофе…
…отец любил пить кофе по утрам. А мама пеняла, дескать, вреден он для сердца…
…сталь вредней.
Медь оказалась холодной и тяжелой, едва ли не тяжелей кувшина.
– Поставь, – велел пес. – И молока налей… слушай, а надо водой разбавлять?
Ийлэ не знала.
В прежней ее жизни она не имела дела с младенцами, поскольку те обретались в детских комнатах, окруженные няньками, кормилицами и гувернантками.
Пес отступил, пропуская Ийлэ к плите, и хотя она подошла очень близко, куда ближе, чем ей хотелось бы, не ударил. Чего ждет? Думает, что она и вправду поверит этой клятве?
Клятвы – это слова. А слова ничего не значат.
Стоит. Дышит тяжело, с присвистом… и кажется, Ийлэ знает, откуда у него шрамы, она даже слышит существо, поселившееся в груди у пса…
– Не думай даже, – спокойно сказал он, отступив еще на шаг. – Убьешь меня – умрешь сама. А ты не хочешь умирать.
Ошибается.
– Никто не хочет умирать. – Пес оперся на стену. – Но иногда приходится. Ты не отвлекайся. Сгорит сейчас.
Налить молоко в кастрюльку, не расплескав, не получилось.
Ийлэ замерла.
Ударит?
Стоит, баюкает отродье…
…а по кухне расползается запах паленого.
…и дверь хлопнула громко, заставив Ийлэ отпрянуть от плиты.
– Тихо. Это свои.
Своих здесь давно не было. Своих закопали на заднем дворе, но не сразу, а когда вонь невыносимой стала…
…Ийлэ помнит.
Лопату, которую ей вручили. Песочные часы. Землю укатанную, твердую… собственную слабость – она никогда не копала могил. Слезы в глотке. Боль. И удивление. Ей все еще казалось, что все происходит не с ней.
…управишься за полчаса – похороним, а нет – свиньи и падаль сожрут с удовольствием…
…управилась…
…и он выиграл спор, бросив напоследок:
– Главное – правильная мотивация…
Ийлэ заставила себя разжать руку и отступить от плиты. Вонь горелого молока становилась почти невыносимой, а отродье все-таки решило подать признаки жизни, и тонкий, едва слышный писк его ударил ножом по раскаленным нервам.
– Тише, маленькая, – пес провел большим пальцем по темной макушке, – сейчас мы тебя накормим… правда, мамаша? Нат, спускайся уже, хватит прятаться, я все равно тебя услышал…
Псов стало двое, а Ийлэ поняла, что уйти ей не позволят.
Глава 2
Альва.
Исхудавшая до полупрозрачности, грязная, альва. Райдо никогда их не видел, чтобы вот так, близко. Нет, война сталкивала, но там приходилось убивать, а не разглядывать.
Голова пьяная.
Тяжелая.
И мысли в ней бродят хмельные. Не голова – а бочка, та, в которой пиво ставят дозревать, правда, в отличие от бочки, от головы Райдо обществу пользы никакой.
– Ты там это, за молоком приглядывай, чтобы не перегрелось, – он не знал, как разговаривать с этой альвой, чтобы она наконец успокоилась.
Ненавидит.
Точно ненавидит. Чтобы понять это, достаточно в глазищи ее зеленые заглянуть. Они только и остались от лица. И еще скулы острые, того и гляди прорвется кожа. А щеки запали. И губы серыми сделались. Чудом на ногах держится, а туда же – ненавидеть.
Райдо никогда этого понять не мог.
– Райдо. – Нат приближался осторожно.
Умный пацан. Альва-то вся на нервах, чуть чего – и сбежит: лови ее потом под дождем…
– Стой! – велел Райдо, когда альва дернулась и попятилась. – Давай на конюшню. И в город. Доктора сюда притащи.
Вряд ли он, человек степенный, солидный, обрадуется ночной побудке. И прогулка под дождем, как Райдо подозревал, не вызовет энтузиазма, но ничего, ему заплатят. Платит же Райдо за еженедельные бесполезные визиты, во время которых только и слышит, будто ситуация вот-вот стабилизируется.
Смешно. Он того и гляди сдохнет, а они про ситуацию, которая стабилизируется.
– Вам плохо? – поинтересовался Нат.
А в руке нож.
Еще один ненормальный, который не понимает, насколько ненормален. Война закончилась, а он с ножом спит. И ест. И купается, надо полагать, тоже… и привычку эту свою считает полезной.
– Мне хорошо, – сказал и понял, что и вправду хорошо.
Нет, боль не исчезла, она верная, Райдо не бросит, но он сумел ее вытеснить на край сознания. И стоял сам. И младенца держал, боясь уронить, но руки, которые с трудом бутылку поднимали, надо же, не тряслись. Чудо, не иначе.
Чудо лежало на ладони неподвижно и только разевало рот в немом крике, и Райдо было страшно, что оно этим криком надорвется, оно ведь слабое, и малости хватит, чтобы исчезнуть.
– Мне очень хорошо. – Он осторожно провел по мягким пуховым волосикам, которые свалялись и слиплись, но все одно – против всякой логики и реальности пахли молоком. – А вот им плохо.
– Она альва.
– Сам вижу…
…а вот девочка – только наполовину… глаза серо-голубые, и разрез иной, не альвийский…
– Альва, – с нажимом повторил Нат и клинком в стол ткнул.
Альва, сгорбившись, зашипела.
– Нат! – Стой Райдо ближе, отвесил бы мальчишке затрещину.
Воин.
Было бы с кем воевать, она и сама того и гляди сдохнет. Если уйдет – точно сдохнет. А уйти она хочет и осталась лишь потому, что у Райдо – ребенок…
– Альва! – Нат нахмурился. Иногда он проявлял просто-таки невероятное упрямство. – Альве здесь нечего делать.
Ей нечего делать под дождем в осеннем зыбком лесу, который, надо полагать, почти заснул, и поэтому она пришла сюда. Случайно выбрала дом? Или… он ведь принадлежал кому-то раньше, до войны. Райдо старался не думать, кому именно. Трофей. Награда. Королевский подарок, не столько ему – все знают, что ему недолго осталось, – сколько семейству, которое в кои-то веки проявило единодушие и благородно оставило Райдо в покое.
Даже матушка.
А мальчишка не шевелится, замер, уставившись на альву, и нож в руке покачивается, то влево, то вправо… альва же взгляда с клинка не сводит.
Настороженная.
И чем дальше, тем хуже. Напряжение растет, Райдо чувствует его шкурой, а надо сказать, что после знакомства с разрыв-цветком его шкура стала просто-таки невероятно чувствительна.
– Нат, – сказал резко, и мальчишка, вздрогнув, оглянулся, – забываешься. Я в доме хозяин. И я решаю, кому здесь место, а кому…
Обиделся. Губы дрогнули, мелькнули клыки, и по щекам побежали серебристые дорожки живого железа, но Нат с обидой справился. И нож убрал за пояс, буркнул:
– Скоро буду.
Не будет.
Во всяком случае, не скоро, потому что не станет Нат ради альвы спешить. Нет, приказ исполнит, но ведь исполнять можно по-разному, и значит, самому нужно что-то делать. Знать бы что…
– Иди уже. – Райдо с трудом сдержался, чтобы не сорваться на крик. – А ты за молоком смотри. Снимай… да осторожно! Тряпку возьми.
Конечно, молоко перегрелось.
– Ложку подай… правда, где лежат, не знаю.
Она, после ухода Ната успокоившаяся – впрочем, спокойствие это было весьма относительным, – ложки нашла в буфете. И пожалуй, она не искала, но точно знала, что они там, в выдвижном старом ящике.
– Послушай, – Райдо кое-как присел, надеясь, что так она будет меньше его бояться, – я ведь сказал, что не трону тебя…
Оскалилась только. И ложку положила на стол, руку тотчас отдернула, за спину спрятала. Попятилась. Но не ушла. Хорошо… а Нат мог бы дверь и прикрыть.
– Я понимаю, что у тебя нет причин доверять мне… мы воевали… но если ты здесь, то это не потому, что тебе захотелось забраться в чужой дом.
Дернулась, но промолчала. Она вообще разговаривать способна?
– Полагаю, тебе просто больше некуда идти?
Райдо подул на молоко, которое подернулось толстой пленкой. В детстве он ее ненавидел, как и само кипяченое молоко с медом и топленым маслом, но матушка заставляла пить.
– Некуда. Оставайся.
Не шелохнулась. И не расслабилась. Не поверила этакому щедрому предложению?
Райдо зачерпнул ложечку молока и, поднеся к губам, подул. Попробовал кончиком языка, молоко не было горячим, но и не холодным.
– В этом доме полно свободных комнат. Кладовая, сама видела, полна… да и бедствовать я не бедствую…
Альва оглянулась на окна.
– Дождь. – Райдо приподнял головку младенца и повернул набок. Молоко он вливал по капле, а оно все одно растекалось, что по губам найденыша, что по подбородку. – Ты ж там была… думаю, долго была… пока лес не уснул, да? И если уйдешь, то сдохнешь. Или от голода, или замерзнешь насмерть. До заморозков сколько осталось? Неделя? Две?
Точеные ноздри раздувались.
Но альва молчала.
– Нет, если тебе охота помереть, то я держать не стану. – Младенец часто сглатывал, и Райдо очень надеялся, что глотает он молоко и что это молоко будет ему не во вред. – В конце концов, это личное дело каждого, какой смертью подыхать, но ребенка я тебе не отдам.
Оскалилась.
Зубы белые, клыки длинные, острые. И вот после этого находятся идиоты, которые утверждают, будто бы альвы мяса не едят. С такими вот клыками только на спаржу и охотиться.
– Кстати, как зовут-то…
Альва склонила голову набок.
– Ну… не хочешь говорить, и не надо, мы сами как-нибудь… – и Райдо решительно повернулся к альве спиной.
Не уйдет.
А если вдруг хватит глупости, то…
…ей или в город, или в лес…
…и даже под дождем след пару часов держится, а пары часов хватит, чтобы ее найти…
…правда, Райдо не уверен, что сумеет, он давненько не оборачивался, но Нату такое точно не поручишь… и все-таки хорошо бы, чтобы у этой упрямицы хватило мозгов остаться.
– Вот так, маленькая… еще ложечку… за мамашу твою безголовую… и еще одну… а ты, к слову, сама поела бы… только не переусердствуй. Нет, мне не жаль, но живот скрутит…
…скрутило.
От колбасы. От собственного нетерпения, которое заставило эту колбасу глотать не пережевывая. И теперь она осела тяжелым комом в желудке, а сам этот желудок, давно отвыкший от нормальной еды, сводила судорога.
Рот наполнился кислой слюной. Ийлэ сглатывала ее, но слюны становилось больше, и она стекала с губ слюдяными нитями.
Она, должно быть, выглядела жалко.
И плевать.
Пес спиной повернулся. Широкой, разодранной ранами, расшитой рубцами, которые словно линии на карте… границы… и под этими границами из плоти обретаются нити разрыв-цветка.
Если позвать… он слышит Ийлэ, а у нее хватит сил. И наверное, даже в удовольствие будет смотреть, как этот пес будет корчиться в агонии. Правда, тот, второй, который молодой и с ножом, отомстит. У него, пожалуй, хватит сил пройти по следу…
Убивать нет нужды. Он сдохнет и сам, если не сейчас, то через месяц… через два… или через три. Зима убаюкает разрыв-цветы и, быть может, подарит надежду псу, что это – навсегда. Или он знает?
Ийлэ сглотнула слюну.
Бежать? Пока он не смотрит, занят с отродьем, пытается накормить, а та глотает коровье молоко, но этого мало… еще бы неделю тому – хватило бы что молока, что тепла.
На этой глубокой мысли Ийлэ вывернуло. Ее рвало кусками непереваренной колбасы и слизью, тяжело, обильно, и она с трудом удерживалась на ногах, жалея лишь об одном, – колбаса пропала.
– Когда долго голодаешь, а потом дорываешься вдруг до еды, – сказал пес, но оборачиваться не стал, – то возникает искушение нажраться наконец от пуза. И многие нажираются, только вот потом кишки сводит.
Он говорил это так, будто ему случалось голодать.
– Тебе бульон нужен. И сухарики. Про сухари не знаю, но бульон где-то должен быть. Глянь в погребе…
Обойдется Ийлэ и без бульона, и без его щедрого предложения, которое на самом деле вовсе не щедро, а всего лишь приманка.
– Не переводи гордость в дурость. – Пес кинул ложечку на стол и отродье поднял, положил на плечо, прижав спинку широкой ладонью.
А он умный, значит?
Умный.
Смотрит. Усмехается, переступает с ноги на ногу… и девочка, закрыв глаза, молчит, но нить ее жизни стала толще, пусть и ненамного.
– И мешок свой брось. Если хочешь уйти, уходи так, как пришла, – жестко добавил пес.
Ветер распахнул окно, впуская холод и дождь.
Уйти.
Ийлэ уйдет. Потом. Когда у нее появятся силы, чтобы сделать десяток шагов… например завтра. И пес странно усмехнулся:
– Вот и ладно. Комнату сама себе выберешь.
И от этой неслыханной щедрости Ийлэ рассмеялась, она смеялась долго, содрогаясь всем телом, не то от смеха, не то от холода, который поселился внутри и рождал судорогу. Она захлебывалась слюной и слизью и голову держала обеими руками, потому что стоит руки разжать – и голова эта оторвется, полетит по кухонному надраенному полу, на котором уже отпечатались влажные следы…
А потом пол покачнулся, выворачиваясь из-под ног.
Дом снова предал Ийлэ.
Но ничего, к этому она привыкла…
…когда альва упала, Райдо испугался.
Он не представлял, что ему делать дальше, потому как и сам держался на ногах с трудом, не из-за болезни, но из-за виски, которое сделало его слабым. Неуклюжим. И думать мешало. Райдо отчаянно пытался сообразить, что ему делать, но в голове шумело.
– Бестолковая у тебя мамаша, – сказал он младенцу, который, кажется, уснул.
И ладно.
Младенца Райдо положил сначала на стол, а потом в плетеную корзину, где кухарка хранила полотенца. Свежие, накрахмаленные, вкусно пахнущие чистотой, они показались вполне себе пригодными для того, чтобы завернуть в них малышку.
Так оно теплее будет.
– Сначала разберусь с ней, – Райдо указал пальцем на лежащую альву, – а потом и тобой займусь.
Глядишь, там и доктор явится.
Альва дышала. И пульс на шее удалось нащупать. Райдо не без труда опустился на пол и похлопал альву по щекам.
Не помогло.
– А воняет от тебя изрядно, – заметил он.
Вблизи альва выглядела еще более жалко: непонятно, в чем душа держится.
– Я сюда, между прочим, приехал, чтоб помереть в тихой и приятной обстановке, а не затем, чтобы девиц всяких спасать… если хочешь знать, мне девицы ныне мало интересны.
Лохмотья ее промокли, пропитались не то грязью, не то слизью. Короткие волосы слиплись, и Райдо не был уверен, что их получится отмыть, что ее всю получится отмыть.
Вытянув руку, он нащупал кувшин с молоком, оказавшийся тяжеленным.
– Может, все-таки сама глаза откроешь? – поинтересовался Райдо, прежде чем опрокинуть кувшин на альву. Молоко растеклось по ее лицу, по шее, впиталось в лохмотья и по полу разлилось белой лужей.
Альва не шелохнулась.
– Нда. – Кувшин Райдо сунул под стол, подозревая, что ни экономка, ни кухарка этакому его самоуправству не обрадуются.
А и плевать.
– Плевать, – повторил он, подсовывая ладонь под голову альвы.
Прежде-то Райдо веса ее ничтожного не заметил бы, а сейчас самому бы подняться, он же с альвою… упадет – раздавит к жиле предвечной.
Не упал. Не раздавил.
И даже, пока нес к дверям, не сильно покачивался. А у дверей столкнулся с Дайной.
– Райдо! – воскликнула она, едва не выпустив из рук внушительного вида топор, кажется, им на заднем дворе дрова кололи. – Это… вы?
– Это я, – с чувством глубокого удовлетворения ответил Райдо и альву перекинул на плечо. Если на плече, то рука свободна и корзинку захватить можно. Жаль, что сразу об этом не подумал… корзину с младенцем на кухне оставлять никак нельзя.
– А… что вы делаете? – Дайна, кажется, растерялась.
Смешная.
В этой рубахе белой с кружавчиками, в ночном чепце, тоже с кружавчиками, в стеганых тапочках, правда, не с кружавчиками, но с опушкой из кроличьего меха.
И с топором.
– Женщину несу, – со всей ответственностью заявил Райдо, придерживая эту самую женщину, которая так и норовила с плеча сползти.
– К-куда?
– Наверх. Возьми корзинку.
Райдо палец вытянул, показывая ту самую корзину, которую надлежало взять. И добавил:
– Только тихо. Ребенок спит.
Дайна не шелохнулась.
Она переводила взгляд с Райдо, который под этим самым взглядом чувствовал себя неуютно, хотя, видит жила, ничего дурного не делал, на корзинку.
С корзинки – на приоткрытое окно.
И снова на Райдо.
Лицо женщины менялось. Оно было очень выразительным, это лицо. Прехорошеньким. Она сама, почтенная вдова двадцати двух лет от роду, была прехорошенькой, круглой и мягкой, уютной, что пуховая подушка. И пожалуй, не отказалась бы, ежели бы у Райдо появилось желание на эту подушку прилечь.
Желания не было: в пуху он задыхался…
– Вы… вы собираетесь… ее в доме оставить? – В голосе Дайны прорезалось… удивление?
Раздражение?
Райдо не разобрал, выпил много.
– Собираюсь, – ответил он.
– В доме?
– Ну не на конюшне же!
Розовые губки поджались. Кажется, Дайна полагала, будто на конюшне альве будет самое место.
– Корзину возьми. – Эта злость была иррациональной. На Райдо порой накатывало, от выпитого ли, от боли, которая выматывала душу, не суть, главное, что порой в этой самой душе поднималась волна черной злобы.
К примеру, на Дайну. К корзине она приближалась бочком, точно младенец этот способен ее обидеть. И за ручку брала двумя пальчиками…
– Уронишь, сама на конюшню жить пойдешь. – Райдо повернулся спиной к экономке. Быть может, если он не будет на нее смотреть, то злость исчезнет.
– Вы… вы несправедливы, – всхлипнула Дайна, и Райдо ощутил укол совести.
И вправду несправедлив.
Он вообще порой редкостная скотина, но тут ничего не поделаешь – характер. А Дайна… Дайна досталась ему с этой растреклятою усадьбой. Супруг ее был управляющим. Кажется. Она точно говорила, кем он был, и вздыхала, сожалея, что брак ее не продлился и год… и еще что-то такое рассказывала.
Сейчас Дайна молчала, и молчания ее хватило до второго этажа: странно, но по лестнице Райдо поднялся без особого труда. Дверь открыл первую попавшуюся и пинком, потому как руки было страшно от стены оторвать.
– Вы… вы не можете оставить ее здесь, – произнесла Дайна, поставив корзинку с младенцем на пороге.
– Почему?
– Что скажут соседи?
Райдо сбросил альву на кровать и только потом ответил:
– А какое мне, хрысь тебя задери, дело до того, что скажут соседи? Принеси бульона. Надо эту, обморочную, напоить.
– Он для вас!
– Обойдусь.
– Он холодный…
– Подогреешь. – Райдо заставил себя выдохнуть и очень тихо, спокойно произнес: – Дайна, пожалуйста… принеси бульона.
К счастью, дальше спорить Дайна не стала.
Доктор явился незадолго до рассвета.
Сняв плащ, промокший насквозь, он передал его в руки Дайны.
– Доброй ночи, – вежливо поздоровался доктор.
С него текло.
Редкие мокрые волосы прилипли к лысине, и воротничок рубашки, пропитавшись влагой, сделался серым, а серый костюм – и вовсе черным. И доктор смахивал воду с лица ладонями и волосы норовил отжать, отчего те топорщились.
Рыжие.
Раньше Райдо не обращал внимания, что волосы у его доктора ярко-рыжие, какого-то неестественного, морковного оттенка, совершенно несерьезного.
И веснушки на носу.
И яркие синие глаза. Уши оттопыренные, покрасневшие от холода. И как человек с оттопыренными ушами может что-то в медицине понимать?
– Я вижу, вам намного лучше, – и голос неприятный, высокий, режущий. От него у Райдо в ушах звенеть начинает.
Или не от голоса, но от виски? А ведь Райдо так и не нашел бутылку… зря не нашел, глядишь, и легче было бы.
Нат держался сзади, глядя на доктора с непонятным раздражением.
– Намного, – согласился Райдо и ущипнул себя за ухо.
Детская привычка. Помнится, матушку она безумно раздражала, хотя ее, кажется, все привычки Райдо безумно раздражали, но что поделать, если ему так думается легче?
– Я рад.
Доктор держал в руках черный кофр, сам вид которого был Райдо неприятен.
– В таком случае, быть может, вы соизволите пояснить, какое срочное дело вынудило этого… в высшей степени приятного молодого человека заявиться в мой дом? Вытащить меня из постели и еще угрожать.
– Нат угрожал?
Дайна подала доктору полотенце, которым тот воспользовался, чтобы промокнуть и лысину, и волосы.
– Представляете, заявил, что если я не соберусь, то он меня доставит в том виде, в котором я, уж простите, пребывал… потрясающая бесцеремонность!
– Нат раскаивается, – не слишком уверенно сказал Райдо.
И доктор величественно кивнул, принимая этакое извинение.
Нат, фыркнув, отвернулся.
А сам-то вымок от макушки до пят, и, что характерно, пятки эти босые. Стоит в домашних штанах, в рубашке одной, которая ныне к телу прилипла. Тело это тощее, по-щенячьи неуклюжее, с ребрами торчащими, с впалым животом и чрезмерно длинными руками и ногами, с рябой шелушащейся кожей. И надо бы сказать, чтоб переоделся, но Райдо промолчит. Хочется Нату геройствовать, по осеннему дождю едва ли не голышом разгуливая? Пускай. Дождь – не самое страшное… дождь, если разобраться, вовсе ерунда.
А Дайна чаю ему заварит, с малиновым вареньем.
Все награда.
– Так что у вас случилось? – не скрывая раздражения, произнес доктор.
И Райдо очнулся. О чем он, бестолковый пьянчужка, думает?
– Случилось. Ребенок умирает.
Рыжие брови приподнялись, выражая, должно быть, удивление. А и вправду, откуда в этом яблоневом предсмертном раю ребенку взяться? И Райдо велел:
– Идем.
Малышка уже не спала.
Она лежала тихонько в той же корзине, и Райдо подумалось, что следовало бы найти для нее иное, более подходящее для младенца, пристанище. И пеленки, чтобы белые и с кружевом, вроде тех, в которые племянников кутали.
– Не выживет, – сказал доктор, развернув рубашку. И брался за нее двумя пальцами, точно ему было противно прикасаться или к этой рубашке, или к младенцу.
Руку отнял, пальцы платочком вытер.
– Что? – Райдо показалось, что он ослышался.
Как не выживет? Он ведь молоком напоил. И еще напоит, но не сразу, чтобы ей плохо не стало. И завернул вот в рубашку, а еще полотенцами накрыл… и, быть может, Дайна отыщет одеяльце… или что там еще надо, чтобы детенышу было тепло.
– Не выживет, – спокойно, равнодушно даже повторил доктор, складывая свой платочек. И в этот момент он выглядел предельно сосредоточенным, словно бы в мире не было занятия важней, чем этот треклятый платочек, каковой следовало сложить непременно треугольничком. – Крайняя степень истощения. Я вообще удивлен, что она дышит…
Он наклонился, поднял кофр, поставив его рядом с корзиной, и Райдо стиснул кулаки, до того неприятным, неправильным показалось этакое соседство. В кофре в сафьяновом футляре хранятся инструменты, хищная сталь, которая причиняет боль едва ли не большую, чем разрыв-цветы. Есть там и склянки с едкими дезинфицирующими растворами, и заветная бутыль опиумного забвения, которое ему настоятельно рекомендуют.
Ее-то доктор и извлек.
– Единственное, что в моих силах, – сказал он, зубами вытащив пробку, – это облегчить ее страдания…
Страдающей малышка не выглядела.
Лежала себе тихонько, шевелила губенками, и по щеке сползала нить беловатой слюны… и Райдо вспомнил, что детей надо класть на бок, чтобы они, если срыгнут, не подавились.
– Несколько капель, и она уснет…
– Идите в жопу. – Райдо провел пальцем по макушке.
Надо будет искупать ее, а то не дело это, чтобы ребенок грязным был. Только он не очень хорошо помнит, как это делается. Вроде бы травы нужны, а какие именно?
И если этих трав он не найдет, то можно ли без них?
И воду еще локтем проверяют, потому что пальцем – неправильно, правда, в чем неправильность, Райдо не знает.
– Простите? – Доктор замер со склянкой в одной руке и с ложечкой, которую с готовностью подала Дайна, в другой.
И Дайна замерла, приоткрыв рот, должно быть от возмущения.
Нат, который молчаливым призраком устроился на пороге – а переодеться не удосужился, – беззвучно хохотал.
– В жопу идите, – охотно повторил Райдо и малышку из корзины вытащил.
Умрет? Ничего. Ему тоже говорили, что он умрет. Еще тогда, на поле… и потом, в госпитале королевском, где полосовали, вытаскивая зеленые побеги разрыв-цветка. В королевском-то госпитале никто не стремился быть тактичным, здраво полагая, что пользы от такта нет. И тамошний врач, седенький, сухонький, весь какой-то мелкий, но лишенный суетливости, честно заявил, глядя Райдо в глаза, что шансов у него нет.
Два месяца дал.
А Райдо уже четыре протянул.
И зима скоро. Зиму он точно переживет, и значит, на хрен всех докторов с их прогнозами.
– Простите. – Доктор оскорбленно поджал губы, и щеки его обвисли, и сам он сделался похожим на толстого карпа, каковых приносили на матушкину кухню живыми, замотавши во влажные полотенца. Карпы лежали на леднике, разевали пасти, и губы их толстые были точь-в-точь такими же кривыми, некрасивыми. А глаза – стеклянными.
Правда, свои доктор прячет за очочками, круглыми, на проволочных дужках.
– Позвольте узнать, сколько вы сегодня выпили? – Его голос звенел от гнева, но ведь духу высказаться в лицо не хватит.
– Много, – честно ответил Райдо.
И малышку прижал к плечу.
Становилось легче. Парадоксально, то, что сидело внутри его, никуда не исчезло. И боль не исчезла. И разрыв-цветок, который продолжал расти, проталкивая под кожей тонкие плети побегов. Райдо чувствовал их, но больше это не казалось таким уж важным.
Не настолько важным, чтобы напиться.
– Вы не отдаете себе отчета в том, что происходит.
– Охренеть.
– Вот именно. – Доктор резким движением вбил пробку в бутыль. – Как вы изволили выразиться, охренеть… меня вытаскивают среди ночи из постели, угрожают…
Бутыль исчезла в кофре, который захлопнулся с резким щелчком.
– Тащат под дождем за пару миль, а когда я пытаюсь исполнить свой долг, то посылают в…
– В жопу, – подсказал Райдо, не из желания позлить этого, доведенного до края человека, но исключительно для точности изложения.
– Именно. – Доктор выпрямился. – Вы пьяны и неадекватны. А ребенок… он уже мертв, даже если выглядит живым.
– Посмотрим.
Тельце под ладонью Райдо было очень даже живым.
– О да… ваше упрямство… оно, быть может, помогает держаться вам, но дайте себе труда подумать, как это самое упрямство спасет вот ее… – доктор вытянул дрожащий палец, – от крайней степени истощения… или от переохлаждения… от бронхита, пневмонии…
Каждое слово он сопровождал тычком, благо не в младенца, но в ладонь Райдо.
– Как-нибудь.
– Как-нибудь… это пресловутое как-нибудь… вы продлеваете ее агонию…
Он вдруг резко выдохнул и сник, разом растеряв и гнев и возмущение.
– Поймите, я не желаю ей зла. Я просто понимаю, что шансов нет. Как бы вам этого ни хотелось, но нет. И в конце концов, что вам за дело до этого ребенка?
Странный вопрос. А человек смотрит поверх своих очочков дурацких и ждет ответа, точно откровения.
– Это мой ребенок. – Райдо погладил малышку.
Надо будет имя придумать. Правда, матушка в жизни не доверила бы ему столь ответственное дело, как выбор имени, но матушки здесь нет. А ребенок есть. Безымянный.
Нет, может статься, что альва его уже назвала, но… когда она еще заговорит. И заговорит ли вообще.
– Ваш?! – Рыжие брови доктора поползли вверх, и на лбу этом появились складочки.
Веснушчатые.
– Мой, – уверенно заявил Райдо. – Я его нашел.
Кажется, его все-таки сочли ненормальным.
И плевать.
Доктор снял очки и долго, как-то очень старательно полировал стеклышки все тем же платочком, который недавно столь аккуратно складывал.
Без очков он выглядел жалким.
И несчастным.
И подслеповато щурился, смотрел куда-то за спину… Райдо обернулся. Надо же, альва объявилась, стоит, вцепившись обеими руками в косяк, и скалится… угрожает.
Кому?
– Молоко лучше давать козье. Если с животом начнутся нелады, то к молоку добавлять отвар льняного семени. Я оставлю… и укропную воду, по нескольку капель… рыбий жир опять же… главное, кормить понемногу, но часто… и днем и ночью…
Он говорил быстро, запинаясь.
И на альву не смотрел. Очень старательно не смотрел.
И выходил из комнаты пятясь.
И стеклышки все тер и тер, тер и тер, едва на Ната, устроившегося за порогом, не наступил. А заметив, шарахнулся в сторону, прижался к стене.
Очочки нацепил. Вздохнул.
И пошел, за стену держась, заслоняясь кофром своим…
– Эй, доктор, – Райдо проводил его до лестницы, – звать-то ее как?
– Ийлэ…
Красивое имя. Альвийское.
– Ничего, – пообещал Райдо малышке шепотом, – у тебя будет не хуже…
Глава 3
Утро.
Дождь прекратился. И солнце, подобравшись с востока, плеснуло светом, разлило белые пятна на паркете. Ийлэ потрогала их.
Теплые. Дерево ласковое, старое.
Надо же, а ей казалось, что дом сгорит дотла.
Ошиблась.
Живой, почти как прежде. И паркет вот не пострадал, а обои переклеили и явно наспех, потому выбрали дешевые из плотной рыхлой бумаги. Белое поле, зеленые птицы скачут по зеленым же веткам, и кажется, будто ветки эти, изгибаясь причудливым образом, норовят птиц поймать. А те выскальзывают.
Ийлэ и обои потрогала. Холодные.
Подоконник тоже. Рамы в этом крыле еще отец менять собирался, потому что дерево рассохлось и зимой сквозило. До зимы есть еще время, но холодом тянет по пальцам.
Странно. Она жива. И в доме. Сидит на полу. Осматривается…
Доктор приходил. Ему Ийлэ не верит, он предал тогда… человек… чего еще ждать от человека?
Опиум.
Он и ей совал тогда, уверяя, что с опиумом будет легче… тоже лгал… никому нельзя верить, а особенно – осеннему солнцу и непривычному, подзабытому уже ощущению покоя.
Ийлэ поднялась.
В ванной стены были теплыми, и значит, работал старый котел. Или уже новый? Но главное, из крана шла горячая вода, и, сунув ладони под струю, Ийлэ со странным удовлетворением смотрела, как краснеет кожа.
Струя разбивалась о стенки ванны, тоже знакомой – еще один осколок прошлой ее жизни, – и наполняла ее.
А если Ийлэ в доме, то почему бы и не помыться?
Она не мылась… давно, с тех пор как вода в ручье сделалась слишком холодна для купания, а на поверхности озерца стал появляться лед. Тонкая пленка, которая таяла от прикосновения, обжигая.
– Сваришься, – раздался сзади недовольный голос.
Пес?
Ийлэ замерла. Нельзя оборачиваться. Ударит.
Если не обернется, тоже ударит, но тогда Ийлэ не увидит замаха, не сумеет подготовиться.
Она все-таки обернулась.
Стоит в дверях, загораживая собой весь проем. Белая рубашка, домашние штаны… и босой… ступни огромные, некрасивые, с темными когтями.
– Я… подумал, что тебе… вот, – он наклонялся медленно, осторожно, и видно было, что движение причиняет ему боль, – …переодеться… правда, не уверен, что подойдет… я прикинул, что если Дайны шмотье, то тебе точно большое будет. Да и она не особо горит желанием делиться…
Пес положил на пол стопку одежды.
– А вот Натово – так, глядишь, и впору… старое, конечно… он вырос уже… я вообще фигею с того, как быстро он растет… вот что значит нормально жрать стал. Детям вообще важно нормально жрать…
Судя по его размерам, в детстве пес питался вполне прилично.
Ийлэ головой тряхнула: что за чушь он несет?
Главное, не ударил. И отступил. И теперь, даже если захочет, то не дотянется.
– Слушай, – он ущипнул себя за мочку уха, – я тут думал… раз ты со мной говорить не хочешь, то… ребенку без имени нельзя. А если назвать Броннуин?
Как?
Нет, об имени для отродья Ийлэ не думала. Зачем имя тому, кто рано или поздно издохнет, но… Броннуин?
– Не нравится, – вздохнул пес. – Кстати, меня Райдо кличут… если тебе, конечно, интересно.
Нисколько.
Ийлэ… она задержалась в доме лишь потому… чтобы помыться… она ведь не мылась целую вечность, и воняет от нее зверски, и если еще одежду сменить на чистую, пусть старую, но не влажную, не заросшую грязью…
– Послушай… – Пес не ушел, но и приблизиться не пытался, он сел на пол, ноги скрестил, и босые ступни изогнулись, а Ийлэ увидела, что и на ступнях у него шрамы имеются, но старые, не от разрыв-цветка. Она смотрела на эти шрамы, чтобы не смотреть в глаза.
Псы ненавидят прямые взгляды.
– Послушай, – повторил он, – была война… случалось… всякое… но война закончилась и…
Он замолчал и снова себя за ухо ущипнул.
– Никто тебя не тронет. Здесь безопасно, понимаешь?
Ложь. Нигде не безопасно.
– Не веришь? Ну… да, у тебя, похоже, нет причин мне верить, просто… не спеши уходить. Уйти всегда успеешь, держать не стану… но вот… в общем, я малышку покормил. Спит она. Ест и спит. А идиоту этому не верь, выживет…
Доктор не идиот, он человек, который вовремя сообразил, как правильно себя вести, оттого и цел остался и семейство его уцелело, супруга, что часто заглядывала на чай и притворялась маминой подругой, дочери. Мирра, надо полагать, сохранила любовь к муслиновым платьям в мелкий цветочек и привычку говорить медленно, растягивая слова. А Нира… Ниру Ийлэ и не помнила. Что с ней стало?
Не важно, главное, что они, и доктор, и все его семейство, остались в той, нормальной жизни, которая Ийлэ недоступна.
Она не завидует, нет. И она понимает, что доктор – не дурак. Сволочь просто.
Пес молчал, смотрел с прищуром, внимательно, но во взгляде его не было того ожидания, которое являлось верным признаком новой боли.
– Ясно… значит, Броннуин тебе не нравится?
Ийлэ пожала плечами: в сущности, какая разница?
– Не нравится… а Хильмдергард?
Ийлэ фыркнула.
– Да, пожалуй… но я еще подумаю, ладно?
Убрался.
И дверь за собой прикрыл. Ийлэ выждала несколько минут и, на цыпочках подобравшись к двери, заглянула в замочную скважину.
Комната была пуста.
Это ничего не значит. И она, задвинув щеколду, подперла дверь стулом.
Мылась быстро, в той же горячей, опаляющей воде, в которой грязь сходила хлопьями, а кожа обретала красный вареный цвет. А потом, выбравшись из ванны, обсыхала, нюхая собственные руки, потемневшие, загрубевшие.
Мама говорила, что руки – визитная карточка леди…
Хорошо, что мама умерла.
Нет, тогда Ийлэ казалось, что плохо, что невозможно с этой смертью смириться и что не бывает ничего, хуже смерти… она еще умела плакать и плакала. А потом поняла: ошибалась.
Смерть – это порой благословение, особенно если быстрая.
Одежда оказалась великовата и пахла неуловимо щелочным мылом и еще лавандой, которой, надо полагать, переложили ее, от моли спасаясь.
…мама сушила лаванду на чердаке и собирала ломкие стебли, перевязывала их ленточкой. Мешочки шила из тонкого сукна. Аккуратными выходили, изящными даже. Синие – для лаванды. Красные – для розы, для ромашки – желтые, и белые еще были, в которые прятали гвоздичный корень.
Надо выходить.
Пес говорил, что не тронет, но лгал. Ийлэ не в обиде, она точно знает, что все лгут, а милосердия от врага ждать – глупость. Но и злить его нарочно не следует. И, пригладив волосы – гребня не нашлось, – Ийлэ осторожно выглянула из ванной комнаты.
Спальня была пуста.
И коридор. И не высовываться бы из комнаты, раз уж Ийлэ подарили несколько минут одиночества, но только тонкая нить жизни отродья натянулась, звенит. Если идти по нити… мимо дверей – новые поставили, а шпалеры, которыми стены укрыты, прежние… и пол… а ковровой дорожки нет. Наверное, ее на чердаке спрятали… вместе с маминым ломберным столиком и креслом-качалкой, с сундуками, куда складывали старые наряды Ийлэ и кукол ее…
…на чердаке ее искать не станут…
…и если тихо…
На цыпочках…
Только сначала отродье забрать. Если пес позволит.
Положив ладонь на дверь из старого темного дуба, Ийлэ решительно толкнула ее.
Пусто.
Нет.
Пахнет… болезнью пахнет. Опиумом. Виски. И последний запах, предупреждающий, заставляет ее пятиться, сжиматься в комок, и сердце колотится.
Уходить.
Немедленно, пока он… он ведь вышел ненадолго и скоро вернется, и тогда…
Корзина стояла на столе рядом с вазой, в которой умирали поздние астры. До нее всего-то два шага, она успеет вытащить отродье и спрятаться на чердаке.
Вдвоем.
Ийлэ укусила себя за руку, и боль помогла сделать первый шаг. Протяжно заскрипел пол… здесь паркет новый, свежий и из дрянной доски, которая не высохла, оттого и гуляет.
Выдает.
Ничего.
Никого. Только запах болезни, гноя и крови. Только комната грязная. Пустые бутылки. Много пустых бутылок. Гардины из дешевой ткани, темной в крупные белые розы, которые как-то совсем уж с псом не увязываются. Гардины сомкнуты плотно, но свет пробивается, ложится узкой полоской на пол.
Ковер.
Пыль под кроватью. У кровати. Столик и медный таз с водой. Ночной горшок, перевернутый кверху дном. Странно, что пес его вовсе не вышвырнул. Полотенца влажной грудой. Грязные.
И рубашка, что скомкана, брошена на кресло, тоже нечиста.
Сапоги… левый почти исчез под покрывалом, правый стоял на столе рядом с корзиной. Там же Ийлэ обнаружила и высокую кружку с остывшим бульоном. Воровато оглянувшись, она сделала глоток.
Сладкий.
И крепкий. Сваренный на мозговых косточках, он оставил на языке и нёбе жирную пленку, а желудок заурчал, требуя добавки. Ему было мало глотка.
Пес разозлится, но он и так разозлится, поняв, что в комнате его побывали, а на сытый желудок чужую злость переносить легче. Ийлэ схватила погрызенную корку хлеба, которая, верно, лежала не первый день и зачерствела до сухости. Корку она спрятала в кармане, а кружку осушила в два глотка.
При более пристальном изучении комнаты под столом обнаружилась полоска вяленого мяса и булочка с корицей, правда закаменевшая, но если размочить в воде… булочку Ийлэ убрала во второй карман. А вот отродье из корзины вытаскивать не стала: в корзине нести удобней.
И теплее будет, под шалью-то…
Из комнаты она выходила на цыпочках, крадучись. До заветной лестницы, на чердак ведущей, оставалось полтора десятка шагов.
Альва шла, держась стены, двигаясь бесшумно, и выглядела настороженной.
Не поверила, что безопасно?
И сам бы Райдо не поверил. Главное, что осталась, а там, глядишь, поживет пару дней, успокоится немного. Присмотрится.
Он убрал ладонь, которой закрывал Нату рот, и тот, вывернувшись, уставился возмущенно.
– Что? – Райдо это возмущение веселило.
Щенок. Задиристый, отчаянно пытающийся выглядеть взрослым, а все одно щенок.
– Она… она…
– Она взяла лишь то, что принадлежит ей. – Райдо выглянул в коридор, убеждаясь, что альва ушла. – Не веришь? Идем.
В комнате царил обычный беспорядок, который еще недавно казался Райдо нормальным, уютным даже, а ныне вдруг стало стыдно.
Немного.
– Ну? Видишь? – Райдо обвел комнату рукой. – Моими сокровищами она побрезговала.
Уточнять, что тех сокровищ – полторы бутылки виски и почти новые носки, которые Райдо хранил на всякий случай, – он не стал.
– Она… она…
– Что?
– Она альва!
– Я заметил.
Нат стиснул кулаки. И оттопыренная нижняя губа задрожала, выдавая возмущение.
– Садись. – Райдо толкнул щенка, и тот, не устояв на ногах, шлепнулся в кресло. – Давай откровенно. Чего ты хочешь?
– Чтоб она сдохла.
– Замечательно. У тебя вроде нож имеется. Иди и убей.
– Что? – Нат, который явно был настроен долго и нудно доказывать свою правоту, растерялся.
– Разрешаю. – Райдо сел на кровать и поморщился.
От простыней воняло. И от одеяла. И от подушек, причем, кажется, сильнее всего кислым, рвотным, а вроде его не рвало. Нет, в тот раз, когда рвало, он до унитаза добрался, из принципа проигнорировав ночной горшок…
…цветочки в него поставить, что ли?
– К-как разрешаешь? – Брови Ната приподнялись.
– Обыкновенно. Берешь нож. Поднимаешься на чердак и убиваешь.
Сидит. Смотрит. Глаза по-совиному круглые, и в них Райдо видится недоумение.
– Ну что выпялился? Убивать ты умеешь, это я знаю точно. А если конкретный совет, то бей в сердце, чтоб не мучилась, и крови меньше будет, потому как убираться после сам станешь.
Подушку Райдо отправил на пол и пинком послал в угол комнаты.
Что за хрень?
Он, милостью Короля, хозяин в этом треклятом доме, а хозяйская комната больше свинарник напоминает. Дайна сюда не заглядывает, а Нат… Нат не уборщица, хотя он и пытается, но видать, попыток его недостаточно.
– Убить?
– Убить, убить, – повторил Райдо, скинув и одеяло, которое было влажным, неприятным. – Заодно и младенца… вон подушку возьми.
– З-зачем?
– Ну… она мелкая, резать несподручно будет. А вот подушкой накроешь, придавишь слегка, и все…
– Я?
– А кто?
– Мне пойти и…
Нат нахмурился.
Интересно, он улыбаться умеет? Раньше, до войны, небось умел, а теперь разучился. И Райдо понятия не имеет, как его научить, чему научить. Он вообще учитель на редкость дерьмовый, с такого пример брать – себе дороже выйдет. А Нат берет.
Упрямый.
И сейчас сгорбился, нахохлился. Волосы на макушке дыбом торчат. Дайна жалуется, что Нат совершенно невозможен, хамит, грубит и беспорядки учиняет. Но оно и верно, детям положено беспорядки учинять, а Нат – ребенок, пусть самому себе охрысенно взрослым кажется.
– Тебе. – Райдо поднял бутылку, в которой виски оставалось на треть. И появилось почти непреодолимое желание к этой бутылке приложиться.
Легче станет.
Ему ведь больно, и он устал от боли, от самой этой жизни, которая – война. И отвоевывать минуту за минутой, час за часом… на кой ляд? Напиться и уснуть.
Он заставил себя разжать пальцы, и бутылка упала на грязный ковер.
– Я… – Нат смотрел, как по этому ковру растекается лужа. – Я… не хочу ее убивать. Она ведь женщина… и младенец… и…
– То есть ты хочешь, чтобы их убил я? – Райдо пнул бутылку, жалея, что не вышвырнул в окно. Запах дразнил, заглушая иные – гноя, крови и слизи, которая сочилась из лопнувшего рубца. И надо бы рубашку снять, вытереть эту слизь, зачистить рану, прижечь, перебинтовать…
Позже. Нет в этих действиях никакого смысла.
– Н-нет, – ответил Нат, отводя взгляд. – Я… не хочу, чтобы вы их убивали.
– Замечательно. Тогда что?
– Пусть уйдет.
– Куда?
– Не знаю. Куда-нибудь.
– Окно открой.
– Что?
– Нат, ты вроде на слух не жаловался. Окно, говорю, открой.
К капризам Райдо – а он порой сам себя бесил этими капризами – Нат привык. И, сунув нож в сапог, он спокойно подошел к окну, гардины раздвинул, чихнул – пыли в них набралось, и сами эти гардины идиотские какие-то, в цветочек. Кто их только выбирал? А подоконник серый от грязи, отскоблить которую получится разве что с краской. Раму заело. Нат долго возился с ручкой, дергал то вверх, то вниз, но справился, открыл. И из окна пахнуло холодом, сыростью, ветром, что принес запахи леса, пусть бы сие было и невозможно: слишком далек этот лес, недостижим практически.
– Что видишь? – Райдо поднялся.
Вставать было безумно тяжело, кровать держала. Манила. Говорила, что он, Райдо, болен, что он почти уже умер, а умирающие ведут себя соответствующим образом, лежат смирно в кроватях и позволяют близким окружать их заботой и вниманием.
Хрена с два.
Потом, когда он, Райдо, в гроб ляжет, пусть окружают, а пока… до окна – пять шагов, а за окном – целый мир. И яблони видать, те самые, из-за которых долину Яблоневой назвали. Говорят, весной здесь красиво. Если постараться и дотянуть до весны, чтобы увидеть… а почему бы и нет?
– Поле вижу, – буркнул Нат, разрушая красоту почти оформившейся мечты. – Дорогу вижу. Еще яблони.
Он закрыл глаза и втянул воздух, крылья носа дрогнули.
– Мясо коптят… недалеко… вкусно…
– Мясо – это да, это всегда вкусно… значит, дорогу видишь?
– Ну вижу.
– И как она тебе?
– В смысле?
– В смысле прогуляться… скажем, до города… пешком…
Нат плечами пожал: в этакой прогулке он не усматривал ничего особенного. До города – три мили, и управится он быстро. И пожалуй, от прогулки этой удовольствие получит.
– А чего нам в городе надо?
Райдо вздохнул: не получалось у него прививать Нату мудрость.
– Ничего. Дождь собирается.
– Ага, – охотно согласился он и, легши на подоконник, голову высунул. – Двор опять зальет. Я ей говорил, что водосток забился, чистить надо. А она мне, что это не мое дело! Это ж ваше дело, а значит, мое. Вода не уйдет, и двор размоет, и вообще…
Дайну он недолюбливал искренне и от души.
– Дождь, – повторил Райдо, опершись на подоконник.
А ведь он любил дождь.
И снег.
И жару… и радугу тоже… и узоры льда на окне. Холод. Ветер.
Жизнь. Вот что мешало ему просто сдохнуть, оправдывая и врачебные прогнозы, и родственные опасения, – как уйти, когда вокруг такой сложный и удивительный мир?
– И холодно… как ты думаешь, далеко она уйдет?
– Кто? – Нат, похоже, успел позабыть про альву. – А… а какая разница?
– Никакой. Или от голода сдохнет, или от холода. Может, встретится кто на этой дороге, кто прибьет быстро и безболезненно. Главное, что не ты, верно?
Нат отвернулся.
– Вот ведь как интересно выходит. Ты ее ненавидишь, а руки марать опасаешься. Предпочитаешь, чтобы кто-нибудь другой и за тебя…
– Я…
– Нат, я уже говорил. Если тебе эта девчонка так мешает, то убей ее. Сам. Собственными руками. А не перекладывай это на других.
Нат отпрянул. Хотел было ответить что-то, но промолчал. И губу прикусил для верности.
– Ну так как? – поинтересовался Райдо.
Никак, похоже.
– Я… я ее ненавижу. – Нат стиснул кулаки. – И скажете, у меня причин нет?
– Есть, – согласился Райдо. – Но ты не думал, что и у нее есть причины ненавидеть тебя?
Этого нежная Натова душа вынести была не в состоянии.
Сбежал, только дверью хлопнул. Вот щенок. Распустился вконец, решил, что раз Райдо болеет, то он в доме хозяин… бестолочь лохматая. Райдо высунул голову в раскрытое окно.
Холодно.
И хорошо, что холодно. Во двор выйти, что ли? Посмотреть на треклятый водосток, который забился… и еще на кур, вон возятся в грязи… если есть куры, то должны быть яйца.
Яичница. С беконом.
Ему вредно, ему положены бульоны и овсяная каша на воде, но, жила предвечная, неужели умирающему откажут в такой малости, как яичница с беконом?
Надо только спуститься на кухню, а Дайне велеть, чтоб в комнате порядок навели, а то стыдно же…
Но уходить Райдо не торопился, лег животом на подоконник, осторожно, чтобы не потревожить тварь внутри, и тварь, с которой он постепенно начал сживаться, поняла.
Отступила.
Позволила вдохнуть сырой промозглый воздух. И дождь еще начался, словно по заказу, серый, сладкий. Райдо ловил капли языком, как когда-то в далеком детстве, и по-детски же радовался, что рядом нет матушки, которая запретит…
…а на кухню он спустился, к ужасу Дайны и негодованию кухарки. И яичницу потребовал. И бульона. И чтобы козу нашли. Он ведь вчера еще поручил найти козу, но поручение не исполнили.
Нет, определенно, в доме пора было навести порядок.
На чердаке, против опасений, было сухо.
Пахло свежим деревом, и запах этот успокаивал.
Сумрачно. Свет проникает в узкие чердачные окна, пылинки пляшут, и Ийлэ, вытягивая руку, ловит их. А поймав, отпускает.
Идет, переступая с доски на доску, осторожно, и дом в кои-то веки молчит. Это молчание… неодобрительное? Он думает, что Ийлэ его предала?
Неправда.
Он первым, но Ийлэ не держит зла. В конечном итоге стоит ли ждать верности от дома, если старые друзья… не было друзей, никогда не было. Ей лишь казалось, что…
Оборванные мысли.
И лоскуты прежней довоенной жизни из воспоминаний или старых сундуков, что стоят вдоль стены. Ийлэ знает, что в сундуках – ее куклы, и удивляется, как уцелели они. Дом ведь не умер, держится корнями за землю, дышит паром, выдыхая лишнее тепло в трубу, которая ведет на крышу. Там, внутри, клокочет дым. Ийлэ прежде нравилось думать, что в трубе обретаются драконы. И она, прижимаясь к кирпичу, вслушивалась в шорохи, в голоса их… слышала что-то.
А теперь?
Ничего.
Но у трубы отродью будет теплей. Ийлэ поставила корзину на пол и сама села рядом.
– Ш-ш-ш. – Она приложила палец к губам, обветренным и сухим. И палец этот тоже обветренный и сухой. Мама велела бы смазывать губы маслом, а руки… руки уже никогда не будут прежними. Наверное, это правильно, поскольку и сама Ийлэ тоже не будет прежней.
Она вытащила отродье, завернутое в белые тряпки.
Непривычное.
От макушки больше не пахло лесом, но молоком.
– Тиш-ш-ше. – Губы плохо слушались, Ийлэ слишком давно не разговаривала, да и какой смысл в беседе, если тебе не ответят?
Отродье точно не ответит.
Мелкое. Бесполезное. И все еще живое. Ийлэ положила его на сгиб руки. Разглядывала… сколько раз она разглядывала это сморщенное личико, пытаясь разделить его черты на свои и…
Который из них?
Все псы похожи друг на друга.
И если так, то, быть может, Ийлэ повезло и в отродье нет той, порченой, крови…
Ийлэ повезло бы, родись оно мертвым.
– Сейчас. – Ийлэ наклонилась к приоткрытому рту.
Силу девочка пила. И, напившись досыта, уснула. Темные длинные ресницы слабо подрагивали, пальцы шевелились, и, кажется, отродью снился сон. Хорошо бы светлый.
В детстве Ийлэ видела очень светлые сны.
Про драконов из печной трубы. Или про ромашковых человечков, которые обретаются на старом лугу… про стрекоз и бабочек. Про кукол, которые оживали и устраивали чаепитие.
Безумная мысль, но в тех снах царило удивительное спокойствие.
Ийлэ, вернув отродье в корзину, поднялась.
Сундук.
Шершавая крышка, сухая, прямо как кожа на собственных ее ладонях. И мелкие трещины на ней – рисунком… замка нет. Да и от кого запираться? Чужих здесь не было. Вот только и своих не осталось.
Крышка открылась беззвучно.
Снова лаванда, но мешочки старые, рассыпаются пылью в руках, и на пальцах остается не запах – тень его… пускай. Так даже лучше.
Кукольный стол, который папа привез с ярмарки. Скатерть шила мама… стулья… и к каждому – чехол, который сзади завязывался кокетливым бантиком… посуда… чайник, помнится, она еще тогда в саду потеряла. Искала долго и еще дольше горевала, пока отец не вырезал другой.
Здесь он. Краска облезла.
И сервиз не весь. Крохотные тарелки и чашки с ноготок. Блюдо. Вместо пирога – хлебная корка. А в кукольный кувшин можно набрать дождевой воды.
Под старым окном по-прежнему лужа. Ийлэ, сев на пол, собирала воду пальцем, подталкивая к кувшину.
Это игра такая. Замечательная.
И все остальное – тоже игра… кукол рассадить.
– Доброго дня, найо Арманди. – Она вытащила фарфоровую красавицу, которая изрядно утратила красоту. Лицо ее потемнело, волосы свалялись. А ведь и вправду чем-то напоминает супругу добрейшего доктора. – Я рада видеть вас. Мы так давно не встречались. Печально, не правда ли? Не сомневаюсь, у вас есть о чем мне рассказать…
Она кое-как пригладила всклоченные волосы куклы, усадив ее во главе стола, но тут же передумала и сдвинула стул.
– Вы здоровы? А ваши прелестные дочери? Надеюсь, с ними все хорошо? Конечно, конечно… что же с ними могло случиться? Мирра…
…у этой куклы глаза стерлись. А у второй – рот.
– Нира… счастлива повидаться… как у меня дела? Ах, помилуйте, как могут быть дела у альвы, которая… нет, об этом не будем. Вы ведь слишком нежные существа, чтобы разговаривать с вами о всяких ужасах…
Ийлэ мазнула ладонью по щеке.
От ладони все еще пахло лавандой и, пожалуй, пылью, но почему-то только эти запахи, в сущности своей самые обыкновенные, из множества ароматов, ее окружавших, порождали спазмы в горле.
– И вы здесь, найо Тамико… – Плюшевый медведь с оторванной лапой не желал сидеть ровно, и Ийлэ пришлось подвинуть его стул к самой стене. – Надеюсь, все ваши кошки войну пережили? Не все? Черныш скончался? Бедняга… уверена, вы похоронили его достойно. Слышала, у вас колумбарий кошачий имеется. Это так мило… но присаживайтесь, будем пить чай… да, жаль, что матушка моя не может составить вам компанию. Не сомневаюсь, вы скучаете по ее обществу…
Она вытащила хлебную корку. Крошки отламывались с трудом, но Ийлэ старалась.
– Но она отсутствует по очень уважительной причине… видите ли, она умерла.
Плюшевый медведь все одно заваливался на бок.
– Да, да, найо Тамико. – Ийлэ в очередной раз вернула медведя на место. – Умерла. Прямо как ваш дорогой Черныш… хотя что это я, он ведь от старости издох, а маму убили. Горло перерезали. Представляете?
Медведь смотрел глазами-пуговицами, на облезлой морде его Ийлэ чудилось выражение брезгливое и одновременно недоуменное: разве бывает такое, чтобы благопристойным дамам перерезали горло? Не в том чудесном засахаренном мирке, который так долго казался Ийлэ настоящим.
– А вы что скажете, найо Арманди? Ничего? Но по глазам вижу, вам нужны подробности… вы всегда с преогромной охотой смаковали подробности сплетен. Жаль, только в нашем городке никогда не было сплетен по-настоящему горячих… именно что не было…
Ийлэ подвинула к кукле чашку, которую наполнила дождевой водой.
– Но сейчас-то все иначе. И я с преогромным удовольствием с вами поделюсь. Пейте чай. Что? Это не чай, а вода? И пахнет она плохо? А вы потерпите, вы ведь сами рассказывали мне, что терпение – это величайшая из добродетелей… так вот, прежде чем убить, маму изнасиловали… Мирра и Нира, не затыкайте уши, я все равно знаю, что вы подслушиваете. Чего уж стесняться? Изнасиловали… а потом по горлу… это хорошая смерть, быстрая очень… и я думаю, что мама умерла счастливой. Она ведь думала, что мне удалось уйти…
Не слезы.
Вода.
Ийлэ плакала раньше, когда полагала, что слезы ее хоть кого-то тронут… и умоляла… и проклинала… а они смеялись только.
…теперь она боится смеха.
…она боится и громких звуков, и теней, и людей, когда эти люди подходят слишком близко.
…она боится себя самое и не представляет, что делать со всеми этими страхами.
Жить? Жить. Как-нибудь, ведь протянула же она и весну, и лето, и осень, два месяца из трех. Это много…
– Что такое, найо Арманди? Вам неприятно слушать о таком?
Кукла молчала, глядя в тарелку, и лицо ее, грязное, скрывала тень, словно бы этой кукле было бы стыдно.
– Конечно, неприятно… вы ведь были подругами. Мама так думала… лучшие подруги, несмотря на разницу в положении. Вы любили эту разницу подчеркивать… гордились, что мама снизошла до вас… или завидовали? А может, и то и другое… но она не замечала… говорила, что нет человека более надежного… и меня к вам отправила… спрятала…
Вода по щекам, это не слезы – дождь. Дожди ведь шли последнюю неделю, Ийлэ вымокла, а теперь, почти у трубы, сохнет, вот лишняя вода и находит способ покинуть тело.
Плакать незачем.
В кукольных играх нет места слезам.
– Она вам верила. Я вам верила. Но вы в этом не виноваты… война ведь, а война многое меняет. Вы же не могли рисковать… многие знали про эту дружбу, про меня… и к вам бы пришли, рано или поздно, но пришли бы обязательно. Так вы решили?
Кукла молчала. Куклы вообще разговаривать не способны, это Ийлэ понимала хорошо.
– Вы просто успели раньше. От вас даже присутствия не понадобилось, всего-то пара слов… конечно, вам было стыдно. Нормальные люди должны испытывать стыд, совершая подлость, но вы себя утешили, сказали, что вам не оставили выбора… не печальтесь, найо Арманди. Мамы нет. И упрекнуть вас будет некому… и вообще, война закончилась, и надо ли вспоминать о прошлом? Пусть все будет как прежде… вот только на чай вам больше некуда ездить, но без чая прожить можно, да?
Тишина. Дождь по крыше. Дождь снаружи и внутри, все льется и льется, этак скоро выльется до капли, тогда Ийлэ умрет от обезвоживания.
Ну уж нет.
– Действительно, что это я… – Она разложила по тарелкам хлебные крошки, корку, не удержавшись, отправила в рот.
Колючая. Язык царапает и размокать не спешит, но так даже лучше, корку можно долго жевать и удивляться кисловатому ее вкусу, многообразию оттенков его. А когда корка размокнет, то жевать медленно, растягивая удовольствие. Потом хлеб, конечно, закончится, но…
В кармане оставалась булка. С изюмом. Изюм Ийлэ выковыряет и будет есть долго, по одной изюмине. Она уже представляла, насколько сладким он будет.
Тоже счастье.
– Давайте сменим тему… поговорим о вас? Нет, вам не хочется говорить о себе? Действительно, никаких новостей, все по-прежнему, будто бы и не было войны… для вас ее и не было… обо мне? Вас удивляет, что я еще жива? Действительно, как это у меня получилось выжить… сама удивляюсь, не иначе как чудом… бывают вот такие странные чудеса.
Ийлэ вытерла щеки.
Дождь закончился, и пусто стало, до того пусто, что она сама испугалась этой в себе пустоты.
– Что со мной было? А разве ваш супруг не рассказывал? Не верю. Он ведь без вас и шагу ступить не способен. Давеча появлялся. Сказал, что моя дочь умрет. Тоже мне новость. Я была бы рада, если бы она сдохла…
Куклы молчали. Смотрели.
– Я была бы рада, – спокойно повторила Ийлэ, разливая воду по кукольным чашкам, – если бы вы все сдохли…
Она оставила кукол, и кувшин убрала, и в короб, в котором еще оставалось множество вещей, больше не заглядывала. Но на четвереньках отползла к теплой печной трубе и легла рядом с корзиной. Ийлэ не спала, слушала дождь и урчание воды в водосточных трубах, шум ветра где-то сверху, над крышей, и шелест драконьих крыл за стеной из красного кирпича.
И слабое, сиплое дыхание отродья.
Девочка будет жить.
Назло добрейшему доктору, супруге его и дочерям…
Глава 4
На кухне яичницы не дали.
Не положено. Не принято.
И кухарке он мешать будет. Нет, ежели бы потребовал, конечно, накрыли бы и там, на выглаженном, выскобленном едва ли не добела столе. Но кухарка, стоило Райдо произнести просьбу, глянула так, что ему самому совестно стало.
Яичница? С беконом? И еще помидорами жареными?
В приличных домах такое к завтраку не подают, и вообще, для Райдо овсяная каша сварена на говяжьем бульоне… в общем, Райдо почти и расхотелось есть. И тварь внутри ожила, зашевелилась, напоминая, что он вообще-то помирает, точнее, пребывает в процессе помирания, и сам по себе этот процесс, не говоря уже о результате, отнюдь не в удовольствие.
– Это жрите сами. – Он указал на плошку с кашей. – А я жду яичницу. С беконом. И помидорами.
– Помидоров нет. – Кухарка остервенело начищала песком сковородку и, увлеченная сим, несомненно, важным занятием, не соизволила обернуться.
– Тогда с сыром. Или сыра тоже нет?
Сыр в наличии имелся.
– Райдо! Вам нельзя!
– Чего?
– Жареное! И жирное! Острое! Вы должны придерживаться диеты, и тогда…
– Жизнь моя будет мало того что короткой, так и вовсе безрадостной. – Райдо сделал глубокий вдох, пытаясь совладать с болью. Кулаки разжал.
И руку на плечико Дайны положил. Плечико было узким и горячим. Обнаженным… как-то Райдо не особо разбирался в том, что положено носить экономкам, но помнил, что прислуга матушкина носила платья серые, закрытые.
Дайна вздрогнула и голову подняла. В глаза смотрит.
И собственные ее томные, с поволокой.
– Послушай меня, радость моя, – Райдо экономку приобнял, привлек к себе, она тоненько пискнула, но отстраниться не попыталась, – убралась бы ты в доме, что ли, а то по уши скоро грязью зарастем…
– Что?
Дайна моргнула. И губки свои поджала, состроила гримасу оскорбленную.
– Убраться надо, – терпеливо повторил Райдо. – Пыль там протереть, полы помыть. Окна опять же… не знаю, чего еще там делают, чтоб чисто было.
– Мне?
– Ну не мне же. Ната вон возьми. Или найми кого, если сама не можешь. Но это позже. А пока я жду свою яичницу. С беконом и сыром.
Он выпустил Дайну, которая осталась стоять, все так же запрокинув голову, а на круглом личике ее появилось выражение обиды.
Вышел. И дверь прикрыл осторожно, не столько потому, что не желал хлопнуть ею со всего размаха, сколько затем, что боялся отпустить.
В коридоре накатило. Резко, как бывало, когда тварь вдруг разворачивала хлысты побегов, лишая возможности не то что двигаться – дышать.
А он все равно дышал.
Стоял, упираясь в треклятую стену руками, которые мелко подрагивали.
Глотал слюну.
Радовался, что Дайны нет. Полезла бы со всхлипами, с суетливым своим сочувствием, от которого только хуже. Нат вот знает, что когда накатывает, не надо Райдо трогать.
Он справится.
И сейчас тоже. Уже справляется. Еще мгновение и стену отпустит… и уйдет. До следующей двери всего-то пара шагов. А там до столовой, которая его раздражает, поскольку слишком большая для одного.
Но яичницу подадут туда.
И Райдо съест ее, хотя есть больше не хочется, а хочется лечь, свернуться клубочком и, вцепившись в собственные руки, завыть. И надраться, конечно. Он сегодня почти и не пил, потому что пить при детях нельзя. А малышка не спала, смотрела… нехорошо пить при детях…
…альва ее забрала.
…не уйдет из дома, если в голове хоть капля мозгов осталась…
…на улице дождь, а с утра и заморозки были, и значит, скоро похолодает, а там и снег, и зима… куда ей идти зимой? Леса спят…
Райдо, если бы мог, рассмеялся бы. Надо же, сам едва-едва на ногах держится, а туда же, про альву. Она небось, будь такая возможность, убила бы. И к лучшему, глядишь, не было бы так больно.
Приступ закончился резко. Боль не исчезла, откатилась, позволяя нормально дышать, и слюну утереть, и увидеть, что слюна эта – красная, а значит, до легких добралась треклятая лоза. И уже недолго ждать. Неделя? Две?
Если заморозки, то уснет…
…хорошо бы до весны дотянуть, увидеть, как расцветают яблони… говорили же, что это охрысенно красиво…
Дурак.
Как жил дураком, так и помрет. Яблонь ему не хватает. Главное, чтобы вискаря хватило. С вискарем Райдо долго продержится. С вискарем он не то что весну, последний день мира встретит.
Он почти уже ушел, когда раздался скрипучий голос кухарки:
– Ну что, Дайночка, получила по носу?
– А ты и рада…
Подслушивать Райдо не собирался, это некрасиво… но интересно. А в его жизни не так уж много развлечений.
– Больно много ты на себя взяла. – Кухарка говорила с обычным своим раздражением, и Райдо вдруг подумалось, что женщина эта, наверное, глубоко несчастна, поскольку во все те редкие встречи, которые все же случались с ней, она неизменно пребывала в этом самом раздражении.
– Что, скажешь, не по праву?
– Ну-ну…
– Посуди сама, он долго не протянет… и что будет с усадьбой?
Кухарка ничего не ответила, должно быть, ей было совершенно плевать на усадьбу.
– Отойдет роду, верно? А мы куда? Вот ты…
– Я себе всегда работу найду.
– А я?
– И ты, если работать начнешь. Дом запустила…
– Я не горничная!
– Да неужто? Небось при старой леди камины драила, а теперь…
– А теперь, – голос Дайны сделался низким, шипящим, – все изменилось! Где теперь эта леди?
И верно, где? Альва знает, но не скажет пока, быть может, позже, когда она поверит, что в доме вновь безопасно. Если когда-нибудь поверит.
– Вот то-то же… нашлась и на нее управа…
– Злая ты, Дайна…
– А ты добрая, стало быть? Небось от великой доброты тут подвизалась…
– Осторожней, Дайна… – Кухарка произнесла это почти шепотом, но Райдо расслышал. – Я хоть и на кухне была, но многое слышала… видела еще больше…
– Слышала, видела, но ты же никому не расскажешь, верно, Мария? Ты женщина разумная… осторожная…
– Я-то не расскажу. – Теперь раздражение сделалось ощутимым, и скребущий нервозный звук лишь подчеркивал его. Кухарка, которую разговор изрядно взволновал, остервенело драла несчастную сковороду. – Но это я… а она, думаешь, станет молчать?
Тихо стало. И тишина эта была опасной, с запахом дыма и близкой беды.
– Не твоего ума дело, – резко сказала Дайна. – С ней я как-нибудь разберусь… яичницу готовь, а то ж… уволит.
– Кого из нас?
Ответа на этот вопрос Райдо дожидаться не стал.
Коридор, еще недавно казавшийся невероятно длинным, он преодолел быстро, а по лестнице поднялся еще быстрей. В столовую вошел быстрым шагом.
Сел. Руки на подлокотники кресла положил. Откинулся, упираясь затылком в высокую спинку стула. Стулья доставили из отцовской усадьбы по матушкиному почину. И стол оттуда же, длинный, дубовый, за который с полсотни гостей усадить можно, если не сотню. Но гости благоразумно держались в стороне от поместья, и Райдо, сидя во главе этого стола, чувствовал себя нелепо.
– Нат! – Он был уверен, что Нат где-то поблизости.
Мальчишка никогда не отходил далеко, верно опасаясь, что без его заботы Райдо до срока преставится.
– Нат, чтоб тебя… сюда иди… завтракать будем.
– Я не голоден.
– А мне плевать. – Райдо вытянул ноги, чувствуя, что еще немного – и сползет с кресла. – Завтрак по расписанию быть должен. Р-развели бар-рдак…
Нат ничего не ответил, но послушно занял место за столом.
– Руки мыл?
– Мыл.
– А шею?
– И шею мыл. – Нат покосился недоверчиво, переспросив: – А что?
– А ничего. Может, меня вид грязной шеи аппетита лишает…
Аппетита лишала тварь, которая затихла, позволяя Райдо поверить, что, быть может, нынешняя пауза продлится хоть сколько-нибудь долго.
– Нат… – Пытаясь отвлечься от саднящей боли в легких, Райдо погладил столешницу. – У меня к тебе просьба будет…
– Козу найти?
– Коза – это не просьба, а приказ… нашел?
Нат кивнул.
Хороший парнишка. И что с ним будет, когда Райдо издохнет? Надо будет младшенькому отписать, пусть к себе возьмет. Нат, конечно, молодой, но сообразительный. В армии ему делать нечего, он армии и так нахлебался по самое не могу, а полицейское управление – дело иное.
Та же служба, но спокойней.
– А вот просьба… – Райдо поскреб подбородок. – Если откажешься, я пойму… настаивать не буду…
Нат в полицию не захочет, в войска рвется, не понимая, что без поддержки рода всю жизнь и останется чьим-нибудь ординарцем. Будет до седых волос сапоги чистить и коз искать…
Ничего, в предсмертной просьбе не откажет.
Или клятву взять? К клятвам щенок очень серьезно относится. Исполнит. А там, глядишь, и поймет…
Братец тоже найдет, к чему его приложить…
– В город съездить… послушать, что говорят…
– О чем говорят? – Нат нахмурился.
– О том, что тут было.
– Где?
– Тут. – Райдо терял терпение. У него в принципе никогда-то с терпением не ладилось, а уж сейчас и вовсе крохи остались. – В доме…
– А что тут было?
– Нат!
– Да?
Не издевается и вправду не понимает. Для него дом – это просто-напросто дом, крыша над головой и куча проблем, вроде того же водостока и луж во дворе.
– Нат, – мягче повторил Райдо, – как ты думаешь, кто тут жил?
– Альвы.
– А что с ними стало?
Нат задумался, но ненадолго.
– Ушли. Альвы ведь ушли.
– А эту почему оставили? – Райдо почесал подбородок: после приступов шрамы начинали зудеть, и зуд этот порой делался невыносим.
– Не знаю. Не нужна была? Или не захотела?
– Вот ты и выясни, не нужна она была или не захотела…
– Как?
– Как-нибудь, – сказал Райдо, заставив себя руки от лица убрать. – Прояви смекалку. Ты же умный парень…
На лесть Нат не повелся, он покосился на Дайну, которая вплыла в дверь, неся на вытянутых руках серебряный поднос.
– Просьба? – уточнил Нат.
– Просьба.
– И отказаться могу?
– Да.
Он поскреб переносицу грязноватым ногтем, который явно свидетельствовал, что Нат солгал о мытых руках, и произнес:
– Я исполню эту просьбу, но взамен вы исполните мою.
– Шантажист малолетний…
Нат лишь плечами пожал.
– Давай уже.
Дайна, выражение лица которой говорило о том, что она все еще обижается и вообще не одобряет поступков Райдо, поставила поднос на стол. И крышку сняла.
– Вы съедите все. – Нат указал пальцем на тарелку, где на бело-желтых островах яиц таяло сливочное масло. Лежали тонкие ломтики бекона, выжаренного до полупрозрачности, украшенные зеленью.
– Шантажист, – буркнул Райдо, вдыхая аромат нормальной еды.
– Ну… – Нат осклабился. – Вы вполне можете отказаться.
Ийлэ, наверное, задремала, иначе как объяснить, что она не услышала пса? Он был в трех шагах, сидел, опираясь спиной на приоткрытый сундук, скрестив ноги и сунув руки в подмышки, отчего не слишком-то чистая рубашка его, незастегнутая, разошлась, обнажая впалый располосованный шрамами живот. Голову пес склонил набок, и казалось, что он и сам дремлет, убаюканный шепотом дождя. Полумрак чердака странным образом разгладил рубцы на его лице, да и само это лицо больше не выглядело грубым.
Крупный нос с характерно широкой переносицей и вывернутыми ноздрями. Квадратный подбородок. Лоб покатый, бугристый, словно кто-то лепил этот лоб наспех из красной кейранской глины.
Вылепил и оставил.
– Привет, – сказал пес хрипловатым низким голосом. – Не хотел тебя будить. Со временем понимаешь, насколько ценная эта штука – нормальный сон. Я вот молока принес…
Ийлэ перевела взгляд с пса на кувшин.
– Это тебе. Ей я отдельно… козье… там Нат козу нашел… Нату ты не нравишься, но у него есть причины не любить альвов. А у тебя, думаю, есть причины не любить нас, но так уж вышло, что жить нам придется под одной крышей, потому будь к нему снисходительна. Он мальчишка… и вовсе не злой. Бери…
Он подвинул кувшин:
– Я слышал, что альвы любят молоко…
Пес замолчал, наверное, ждал ответа. Не дождался.
Кувшин был рядом. Высокий. В такой пинты три влезет, а то и четыре. Старый… Кажется, Ийлэ видела его на кухне в той своей прошлой жизни… и вправду кажется… что она помнит?
Ничего.
Кувшинов на кухне хватало, и медных кастрюль, и черпаков, шумовок, тарелок, блюд и блюдец, прочих вещей, за которые теперь цеплялась память. Но главное, что этот конкретный кувшин был рядом и Ийлэ не только видела темную его поверхность, неровную, покрытую влажной испариной, но и ощущала сладкий аромат молока. Не только его. Хлеб. Свежий. Быть может, горячий, с крепкой хрустящей корочкой, с мякишем, который липнет к пальцам. Мясо. Жаренное с чесноком, с ароматными травами…
И поневоле Ийлэ принюхивалась, пытаясь разобраться в ароматах…
– Это тоже тебе. – Пес вытащил откуда-то из-за сундука глубокую тарелку, прикрытую полотенцем. – Вроде еще не совсем остыло. Если остыло, то скажу и погреют… хотя, конечно, гретое не то, но ты так сладко спала… Бери.
Он подтолкнул миску к Ийлэ. Замер.
Еда была близко. Обманчиво близко. Только руку протяни и… что тогда? Отберет? Пинком опрокинет кувшин, чтобы раскололся, разлетелся на куски? Швырнет миску в стену? Или просто ударит по руке? По лицу?
Нет, по лицу били редко, не хотели портить…
Ийлэ переводила взгляд с миски на пса, с пса на миску, уговаривая себя не поддаваться. Есть еще хлеб… и булка, та, которая с изюмом. Это ведь почти роскошь… и вовсе Ийлэ не настолько голодна…
…душица…
…и подлива кислая, на можжевеловых ягодах, такую кухарка готовила к мясу…
…а мясо свежее, вымоченное в кислом молоке, запеченное на углях…
– Ты выпила мой бульон, и это хорошо, потому что он полезный, хотя и гадость редкостная, но бульона одного мало. Поэтому поешь.
Ийлэ покачала головой: она не так глупа. А с другой стороны, если она испортит ему игру, пес все равно разозлится, так имеет ли смысл рисковать?
– Ты… не против, если я ее возьму? – Пес поднялся, и Ийлэ отпрянула, прижимаясь к трубе. Он подходил медленно, и с каждым шагом его скрипели доски.
Тень пса переползала с одной на другую и на трубу, словно карабкалась по кирпичам, и на Ийлэ легла, лишая возможности двигаться. Надо было бежать, но Ийлэ только и могла, что смотреть на него.
Ждать.
– Послушай, – пес протянул руку, но не к ней, а к корзине, – ты… ты меня боишься, а это неправильно. Я в жизни не ударил женщину.
Он поднял корзину легко, и отродье лишь вздохнуло. Оно проголодалось. И если пес вновь даст ему молока, то будет хорошо, а если не даст… он оставил кувшин, Ийлэ не будет пить все. Поставит на подоконник, там холодно, потом можно будет поделиться.
Согреть во рту.
И по капле. Отродью легче, когда по капле, молока ли, силы. А миску пес тоже оставил, с полотенцем. Ийлэ, убедившись, что он ушел и дверь на чердак за собой запер, на четвереньках подобралась к миске.
Мясо остыло. А хлеб, пропитавшись подливой, стал только вкусней. Ийлэ отламывала по крохотному кусочку, засовывала их в рот и рассасывала, как когда-то давно леденцы…
…хлеб был лучше леденцов. Много лучше.
…она так и осталась на чердаке. И пес притащил туда одеяло.
А второй, который помоложе, матрац. Этот второй ненавидел Ийлэ и потому был понятен. От него следовало держаться подальше, и она отползла за трубу, в тень, которая, к сожалению, была не настолько густой, чтобы пес ее не увидел.
Он же, бросив матрац, не спешил уходить.
Прошелся по чердаку, остановился у распахнутого сундука, куклу поднял, повертел в руках и аккуратно усадил за столик.
– Ты мне не нравишься, – сказал он, повернувшись к Ийлэ спиной.
Пес смотрел в узкое чердачное окно и на подоконник, тоже узкий, темный от влаги, опирался обеими руками. Он покачивался, и Ийлэ не могла отделаться от ощущения, что еще немного – и пес упадет.
Пускай бы упал и свернул себе шею, благо тонкая, длинная.
– Я вообще альвов ненавижу… и хорошо было бы, чтобы ты сдохла.
Наверное.
Ийлэ подумала и согласилась: она ненавидела псов, и если бы этот, конкретный, который знал, что Ийлэ слабее, и потому ее не боялся, издох бы, она бы порадовалась.
– Но Райдо думает иначе.
Обернулся. И от подоконника отлип. Подошел, пнул матрац.
– Это он приказал принести. Я принес. И буду приносить матрацы, белье… что угодно, пока ему от этого легче. Слышишь?
Слышит.
Райдо… он называл имя, но Ийлэ его не запомнила. К чему ей знать чужие имена? Ей бы собственного не забыть.
– Поэтому чем дольше он проживет, тем лучше для тебя…
Пес ушел.
Ийлэ осталась.
Она перетянула матрац поближе к печной трубе. И простыни погладила, удивляясь тому, что у нее есть простыни… чистые, белые… Одеяло. Подушка огромная, с которой Ийлэ ложилась спать в обнимку. Но засыпала все одно настороженная, готовая очнуться от любого шороха, уже отличая голоса дома от шепота дождя.
Убежище она покидала дважды в день, всякий раз осторожно выглядывая из-за двери, убеждаясь, что узкий коридор за ней пуст. И второй, ведущий к центральной лестнице.
Лестница ей была не нужна. Ийлэ добиралась до дубовой двери и вновь останавливалась, прислушиваясь к тому, что происходит за этой дверью, трогала ручку. Толкала дверь. И замирала, ожидая окрика.
Она знала, что в это время пес спускался к завтраку, но все равно ждала… чего?
Чего-нибудь.
И чем дальше, тем напряженней становилось ожидание. Если бы не отродье…
Он нарочно оставлял корзину в своей комнате, зная, что Ийлэ придет за ней. В комнате этой стало чище. Здесь все еще пахло болезнью и виски, но пыль исчезла и вещи не валялись на полу. Ийлэ замирала на пороге, приказывая себе быть осторожней.
Она кралась – от двери до корзины – три шага.
И назад три.
Переступить порог. Выдохнуть с облегчением – у нее вновь получилось. И сбежать в единственное, почти безопасное место: на чердак.
Дверь прикрыть.
Сесть. Вытащить отродье, нить жизни которого день ото дня становится прочней…
– З-сдравствуй, – сказать шепотом.
Она не ответит.
Хорошо, если дрогнут полупрозрачные веки. Или ручонки, спрятанные меж полотняных складок, шелохнутся. Отродье по-прежнему тихо, безмолвно, но это безмолвие больше не кажется спасительным. Ийлэ порой хочется, чтобы оно, ее проклятье, ожило. Закричало.
Молчит.
Но силу тянет, глоток за глотком, жадно, словно осознает, что от этой силы зависит собственная его жизнь. Ийлэ делится. Ей не жаль, правда, силы все одно немного, но… с каждым днем прибывают. По капле. По вздоху. С теплом чердака, с едой, которую приносит пес, и он же, больше не пытаясь заговаривать, забирает отродье.
Пса зовут Райдо.
Она повторяет это имя, когда знает, что его нет поблизости. У имени сотни оттенков, как и у собственной Ийлэ ненависти. Порой она легкая, невесомая, как осенние сумерки, порой густая, промозглая, сродни туманам. Кислая и горькая, с шелестом дождя, со скрипом дверных петель, которые отсырели. С шорохом юбок Дайны…
…она поднялась на чердак лишь однажды.
И шла крадучись, но, будучи человеком, Дайна оказалась слишком неуклюжа, и Ийлэ услышала ее задолго, а еще Дайну выдал запах – терпкий, едкий аромат ландышей.
…туалетную воду Дайна покупала в аптекарской лавке, в мутной бутыли с узким горлом, которое затыкали старой пробкой. Флакон оборачивали мягкой ветошью и перевязывали бечевкой.
Ийлэ помнит.
Еще один осколок от прежней жизни, как и темно-зеленое шелковое платье, отделанное золотым шнуром. Его мама выписала из столицы, и платье оказалось слишком уж свободно в груди, его пришлось перешивать…
…Дайна перешила вновь, вставив в корсаж широкие полосы желтого поплина. И еще дешевое темное кружево, которое смотрелось убого, как и два ряда перламутровых пуговиц.
– Здравствуй, – сказала Дайна. Она остановилась на пороге, подобрав юбки.
Здравствуй.
Наверное, Ийлэ могла бы сказать.
Наверное, она бы и сказала… и собиралась… не сумела.
– Молчишь? – Дайна вошла, пригибаться, как псу, ей не пришлось. Она всегда была невысокой, полноватой, но сейчас полнота эта не выглядела уютной.
Пухлые щеки. Нос курносый. Губы полные, вывернутые и блестят маслянисто, Дайна их облизывает, и этот глупый жест выдает волнение, хотя странно: с чего бы волноваться ей? Она с псами ладила. Ей даже платили… и вещи вот отдали… мамины вещи…
– Молчи… это правильно… – Дайна попробовала пол ногой, убеждаясь, что тот крепкий. – Это разумно… ты будешь молчать, а я…
Она юбки держала высоко, и видны были и крепкие кожаные башмаки с квадратными носами, и полные щиколотки, правда, ныне не в шелковых чулочках, но в солидных, вязаных.
– А я помогу тебе.
Остановилась Дайна у корзины и, вытянув шею, заглянула внутрь:
– Еще жива?
Ийлэ подалась вперед, оскалилась. Ей была неприятна сама мысль, что эта женщина прикоснется к отродью своими белыми пухлыми ручками.
– Не рычи… ты ж понимаешь, что живешь здесь только потому, что хозяин разрешил?
Хозяин?
Райдо.
Имя с тысячью оттенков, сейчас горькое, обжигающее, пусть Ийлэ и не произносит это имя вслух. Она все одно катает его на языке, не способная отделаться.
– Но он может и передумать… – Дайна наклонилась, дыхнула едким ароматом ландышей. – Я могу передумать… веди себя хорошо.
Она развернулась на каблуках, нелепо взмахнув подолом. И жест этот, самой Дайне, верно, представлявшийся изящным, был смешон. И сама она, надевшая чужое платье, примерившая чужую роль, была смешна. Гротескна.
И великолепно вписывалась в нынешнюю, искаженную жизнь.
Ийлэ не смогла удержаться, она рассмеялась звонко и громко и смеялась долго, искренне, как не смеялась уже давно. А когда смахнула слезы, то увидела, что Дайна так и стоит в дверях.
Красная.
И губы полные дергаются. Кулаки стиснула, прижала к груди, которая ходуном ходила, грозя вырваться из тенет корсажа, все одно, несмотря на вставки, слишком тесного.
– Думаешь… думаешь, ты можешь вот так… надо мной… – Наверное, она бросилась бы, окончательно выбравшись из роли.
Вцепилась бы в волосы? Опрокинула на пол?
Сдержалась.
– Ты никто. – Дайна провела пальцами по красному лицу. – Слышишь? Ты никто… и сдохнешь скоро… сначала твое отродье, потом ты…
Она ушла, оставив на чердаке свой ландышевый запах, точно метку, и Ийлэ поспешно открыла окно, позволяя ветру вычистить его. Сама же вернулась к корзине, легла рядом, сунула палец в синюшную ручонку отродья.
Сдохнет? Ну уж нет… это пока незаметно, но Ийлэ точно знает: отродье будет жить.
– Она глупая. – Теперь, когда на чердаке вновь было пусто, Ийлэ могла говорить. – Она меня боитс-с-ся… почему?
Отродье не знало. Оно стиснуло палец в кулачке и вновь смежило веки. Так и лежали, долго, пока ветер не вымел все следы Дайны…
…она и вправду убила бы…
…или нет? Такие не убивают сами, смелости не хватает, но если исподволь, чужими руками…
Надо будет найти еще одну куклу…
За кукольным столом есть место, а Ийлэ интересно будет играть за Дайну. Быть может, Ийлэ даже скажет, что Дайне нечего бояться, что она, Ийлэ, вовсе не собирается выдавать чужие грязные тайны. Не из благородства душевного, но потому, что тайны эти – и не тайны вовсе, мелочь… или даже не так, в них нет смысла.
И та, кукольная Дайна, глядишь, сумеет понять.
Или нет?
Глава 5
На сей раз Ийлэ услышала приближение пса: он поднимался медленно, останавливаясь на каждой ступеньке. Дышал тяжело. И боль испытывал.
Райдо…
…боль сладкая, как патока, кленовый сироп, который доставляли из бакалейной лавки. Покупки привозили раз в неделю, в картонных коробах, и Ийлэ, пробираясь на кухню, садилась в уголочке. Ей нравилось смотреть на то, как кухарка эти короба распаковывает. Она движется с нарочитой неторопливостью, вскрывает крышку, вытаскивает банки с маринованными абрикосами, мешочки с цукатами, с засахаренными сливами и изюмом, которые взвешивает на домашних весах. Бакалейщик сидит за столом, ему ставят тарелку с пирогом и широкую глиняную чашку.
Он пьет чай и следит за кухаркой.
Эти двое доверяют друг другу, но… ритуал есть ритуал.
Про ритуал сказала мама, с усмешкой, и еще добавила, что людям ритуалы важны.
…а псам?
Зачем он сюда таскается? Прислал бы щенка своего, который Ийлэ ненавидит, но не тронет без приказа. С младшим она знает как себя вести, а этот…
– Можно? – спросил он, прежде чем войти.
Будто Ийлэ могла запретить.
– Окно зачем открыла? Ребенка застудишь, – проворчал он.
Закрыл. Остановился, сгорбившись, прижав руку к боку. И задышал часто, поверхностно, а потом закашлялся, и в воздухе запахло кровью.
Псу было больно.
Ийлэ вжалась в пол: она помнила, что свою боль они лечили чужой.
– Дайна приходила? – отдышавшись, сказал он. – Вы ведь знакомы, да?
Ийлэ кивнула. Медленно. Она не была уверена, что псу нужен ответ, но злить его молчанием теперь, когда он и без того раздражен, не следовало.
– Знакомы… что ж, это ничего не значит… и вообще… – Он медленно опустился на пол. – А я вот… хреново мне.
Ийлэ видела.
…догнать не успеет…
…если вдруг решит, то… схватить корзину и выбраться с чердака она сможет… отсидеться где-нибудь, пока он…
– Разрыв-цветы… они красивые… никто не верит, что они красивые. Ты видела когда-нибудь?
Ийлэ покачала головой. Разрыв-цветов она не видела.
Эшшоан – мирный город. И не город даже, городок, подобных ему на землях Лозы сотни и сотни. Не воевали здесь, не думали даже о войне…
Разрыв-цветы?
На площади высаживали сортовые тюльпаны и еще нарциссы, крупные, темно-желтые или же белые…
– И правильно, тебе-то оно ни к чему. – Пес улегся на полу.
Рай-до…
Имя, переломанное пополам. И сам он переломаннный, прекрасно это понимает.
…мама розы любила.
Садовые. Чайные, с толстыми, словно навощенными стеблями, с листьями глянцевыми, темно-зелеными, как то треклятое платье, которое присвоила Дайна, с тугими бутонами, раскрывавшимися как-то сразу. Она давала кустам имена. И те, отзываясь на призыв ее, спешили радовать маму цветами, темно-красными, как венозная кровь, или вот белыми, хрупкими… розовыми, желтыми.
Пережили ли розы войну? Почему-то раньше Ийлэ о них не думала.
– Я по глупости нарвался. – Пес лежал, подтянув колени к груди, сунув сложенные ладони под щеку. Глаза закрыл. Улыбался.
Кто улыбается, когда ему больно?
– Поле было… зеленое такое поле… яркое… и еще васильки россыпью. Ромашки опять же… ромашки пахнут хорошо, а я… я помню, удивился, почему запах их такой яркий. Манящий. Словно ромашковые духи над полем разлили… у меня от этого запаха голова кругом пошла. Несколько лет войны, а тут ромашки, представляешь?
Нет.
Ийлэ не представляла. Она не хотела представлять себе его поле и слушать его тоже не хотела.
Райдо…
…кислота на языке, рвота… или слезы… или мясо, которое испортилось и его швырнули Ийлэ, зная, что от голода она одурела настолько, что съест.
Быть может, сдохнет.
Или сбежит.
Если бы не цепь, она сбежала бы, но…
– И вот чуял же, что неладно с этим полем, а все одно сунулся. Ромашек нарвать захотел. Не идиот ли? Идиот, – сам себе ответил пес. – Помню, как зашелестело, будто змея по траве крадется. Я оборачиваюсь, а там… и вправду змея. Зеленая. Огромнющая, с руку мою толщиной будет. Поднялась, раскачивается…
…раскачивалась веревка на заднем дворе. Привязали ее к столбу, а в веревку сунули папу… и ветер шевелил тело, отчего казалось, что папа еще жив.
– …а наверху шар распускается. Цветок такой. Желто-лиловый, как… не знаю, как что… красивый… я на него пялился. Веришь, видел, как трещины идут, и как иглы проступают, и как лопается он, тоже видел… мне говорят, что невозможно, что воображение, но я-то знаю.
Он замолчал, сглотнув слюну, и Ийлэ мысленно пожелала псу подавиться.
Пожелание не сбылось.
– И видел, как летят… семена, да?
Семена… отец говорил, что живое – священно. И в силу разума верил, и в то, что война, она где-то там, вовне. Какая война в городе, где на площади высаживают сортовые тюльпаны?
– В себя я уже в госпитале пришел… вытащили… сказали, повезло… нет, во мне оно осталось и вытащить его никак, но все равно повезло… живой же… еще немного живой.
Он замолчал и молчал бесконечно долго, а Ийлэ слушала срывающееся его дыхание, в котором явно слышался весьма характерный клекот: легкие пса медленно заполнялись кровью.
– И ты жива… еще немного… а немного жизни, – он облизал губы, – это уже много…
Много? Нет. Достаточно. Правда, для чего, Ийлэ не знала.
Пес не уходил. Он не делал попыток приблизиться. Не стонал. Не проклинал. Просто лежал, вытянув руки. Ладони его были некрасивыми, слишком широкими, загоревшими дочерна. И на этой черноте выделялись белые рубцы. Он шевелил пальцами, короткими, массивными, с квадратными ребристыми ногтями, и рубцы тоже шевелились, будто переползали.
Пес вздыхал.
Ийлэ чувствовала его боль. И не чувствовала радости, хотя должна была. Она смотрела на руки пса, на шею его темную, на щетину светлых волос и на темную кожу под ними. На шрамы. На клетчатую шерстяную рубашку, рукава которой он закатал по самые локти. На ноги и вязаные же носки.
Он был… неправильным.
И когда появился тот, молодой, Ийлэ почти обрадовалась.
– Райдо, ты здесь? Здесь. – Щенок, которого звали Натом, демонстративно не замечал Ийлэ. Наверное, он надеялся, что если не обращать на нее внимания, то она исчезнет. – Как ты?
Плохо.
Это Ийлэ могла бы сказать и сама, но не сказала, а лишь подвинула корзину поближе. Отродье, проснувшись от голоса пса, заворочалось, заморгало и, открыв рот, издало тоненький писк.
– Есть хочет. – Райдо встал на четвереньки. – Надо покормить.
– Пусть она и кормит.
– Нет.
Райдо раздраженно оттолкнул руку щенка, но тот не обиделся, отступил, так, чтобы держаться рядом, но не мешать.
– Доктор приехал…
– Пошли его знаешь куда?
Райдо ступал осторожно, но твердо.
– Знаю, – буркнул Нат.
– Вот и пошли…
– Вам плохо.
– Мне всегда плохо.
– А сегодня особенно…
– И что?
– Ничего. – Нат нахохлился. – Вам плохо, а вы тут… торчите.
– Ага. – Райдо наклонился над корзиной. – А у нее глаза серые… ты заметил?
– Заметил.
– И родинки… раз, два и три…
Три на левой щеке, одна – на правой. Круглые, выпуклые, словно бархатные. Ийлэ слюнявила палец и пыталась их стереть, еще раньше, когда родинки только-только появились и выглядели нарисованными. Отродье крутило головенкой и хныкало. Не давалось.
А глаза и вправду серые…
– На самом деле у детей цвет глаз вполне может поменяться, – доверительно произнес Райдо.
Да, возможно, но какими бы ни сделались глаза отродья, им никогда не быть истинно-зелеными. Да и родинки вряд ли пропадут.
– Пойдем. – Райдо поднял корзину. – Я охренеть до чего не хочу с доктором встречаться. Он вечно норовит напичкать меня какой-нибудь гадостью…
Ийлэ не собиралась идти, но…
…встала.
И Нат, сверкнув глазами, попятился, позволяя ей идти следом за псом. А может нарочно оставаясь сзади, чтобы контролировать каждое движение Ийлэ.
Ждал удара?
Она бы ударила… наверное, ударила бы, тем более что спина пса, широкая и такая удобная, была рядом. От этой спины пахло дымом, стиральным порошком и немного – кровью.
Рубашка прилипла. Натянулась.
– Почему ступеньки такие узкие? – проворчал Райдо, цепляясь за перила, которые тоже были узкими и неудобными для него. Ступеньки скрипели, перила шатались, Ийлэ же с тревогой следила не столько за псом, сколько за корзиной.
Уронит.
Он держит крепко, пальцы вон стиснул до белизны. Но рука дрожала мелко, предательски…
– Не бойся, – сказал пес, оказавшись в коридоре. А кому сказал – не понятно. – Сейчас придем… к доктору, стало быть… пусть посмотрит… пусть скажет…
Что именно должен был сказать доктор, Ийлэ так и не узнала, потому что пес покачнулся вдруг, закашлялся и, прислонившись плечом к стене, медленно по этой стене съехал.
– Пусти! – Нат оттолкнул ее, не зло, но сильно, так, что Ийлэ сама ударилась о стену спиной и с шипением осела. – Райдо!
Пес мотнул головой. Он пытался встать, и пальцы скребли ковровую дорожку, оставляя на грязной дорожке полосы-следы. Спину выгибал, давился кашлем.
– Райдо, я… я сейчас… я доктора… – Нат вскочил и, обернувшись к Ийлэ, бросил: – Только попробуй что-нибудь ему сделать!
– Нат! – Райдо сумел открыть рот, но этим именем подавился, а может, не именем, но рвотой. Рвало кусками и красным месивом, от которого исходил характерный запах крови.
Пес отворачивался, вытирал губы рукавом, но сгибался в очередном приступе.
Нат же, переводя взгляд с него на Ийлэ, должно быть не доверяя ей окончательно – и правильно, она бы тоже не поверила, пятился. А потом повернулся и бегом бросился прочь.
– Щ-ш-щенок, – с трудом выговорил пес.
Он отодвинул корзину, на которую тоже попало рвоты, но отродье к грязи относилось с полнейшим равнодушием.
– С-сейчас, – Райдо отполз и сам, – пройдет.
Ложь. Не пройдет.
Ийлэ слышала, как разворачиваются спирали побегов внутри пса. Она могла бы начертить сложный рисунок их, созданный тонкими белесыми корешками, которые пронизывали мышцы Райдо, его легкие и печень и до желудка добрались, а следом за ними, тоже белесые в отсутствие солнечного света, тянулись стебли… и на них вызревали колючие шары семянок.
Скоро уже треснут. Вот-вот…
И тогда пес умрет. Он уже почти умер, захлебнулся кровью и желчью и держится на одном упрямстве и еще на живом железе, которого уже не хватает, чтобы затянуть все раны.
Ийлэ подобралась к нему. Она двигалась на четвереньках, потому что бок от удара о стену болел и плечо тоже и страшно было, пожалуй, почти так же страшно, как переступать порог его комнаты.
Пес перевернулся на спину. А Ийлэ села рядом и, заглянув в светло-серые, с темным ободком глаза, сказала:
– Я тебя ненавижу.
– А то! – Он широко оскалился, и из носа поползли кровяные дорожки. Подбородок тоже был в крови, отчего улыбка его гляделась жуткой.
– Я… – Ийлэ положила ладонь на грудь.
Тонкая ткань рубахи промокла, Ийлэ ощущала горячую кожу, и ребра, и сердце, которое еще держалось.
– Тебя…
Пес закрыл глаза.
Он не собирался ни звать на помощь, ни сопротивляться, казалось, полностью смирившись с тем, что издохнет сейчас в присвоенном доме. Тот, предавший старых хозяев, и к новым относился с полным равнодушием, наверное, это было справедливо.
– Ненавижу, – шепотом сказала Ийлэ и, дотянувшись до рта, из которого воняло, вдохнула каплю силы. Пальцы надавили на грудь, призывая разрыв-цветок к спокойствию. И тот откликнулся. Замер, позволяя псу сделать вдох.
Наверное, ему казалось, что облегчение – это разновидность агонии.
И вдохнул он глубоко, насколько хватило сил, а выдохнул резко, и на губах запузырилась кровь.
Ийлэ усилила нажим, второй рукой быстро рисуя на грудной клетке пса знаки подчинения. Она не была уверена, что у нее получится, как не была уверена, что хочет, чтобы получилось, но…
Лоза замерла.
И отступила. Она погружалась в сон, зыбкий, ненадежный, которого хватит… на несколько недель хватит. А нескольких недель хватит Ийлэ, чтобы решить, куда уйти.
– А… а ты… – Райдо открыл глаза.
– Ненавижу…
– Разговариваешь. – Он схватил за руку и держал, не позволяя отстраниться. – Разговариваешь ты… это хорошо…
И кольцо, сжимавшее горло, запрещавшее Ийлэ говорить, пропало.
– Я…
– Ты… тебя зовут Ийлэ, я знаю… а для нее мы еще имя не придумали, но придумаем…
– Хочу…
– Знаю. Но если надо, ты… говори. – Он облизал губы и скривился. – Не замолкай, ладно?
– Хочу, чтобы ты сдох… все вы… сдохли…
– Это да… это бывает…
Райдо погладил ее пальцами свою щеку, гладкую и влажную.
– Скажи еще что-нибудь.
– Ты сдохнешь.
– Конечно. Когда-нибудь… но вообще я хочу до весны дотянуть… как ты думаешь, получится?
До весны? У самого – нет, но если Ийлэ поможет… он теперь знает, что Ийлэ способна помочь… и гнать не станет… до весны… а весной леса оживут и у нее появится выбор.
– Получится, – оскалился Райдо и попытался сесть. – Замечательно… говорят, здесь яблони цветут красиво…
Альва отпрянула, едва заслышала шаги Ната.
Щенок спешил.
Тянул доктора за руку, а показалось, что еще немного – и за шиворот схватит ничтожного этого человечка, которому явно было неуютно, что в доме, что рядом с Натом. Он же, растревоженный, почти перекинувшийся, и вправду выглядел грозно. Топорщились иглы в волосах, левая щека покрылась чешуей, а на руках прорезались когти. И сам он сгорбился, сделавшись шире в плечах, будто бы плечи эти тянули его к земле. От Ната пахло злостью, и Райдо знал, что злится щенок вовсе не на альву, которая благоразумно попятилась, не забыв, однако, прихватить корзину. Отступала она очень медленно.
– Что здесь происходит? – визгливо поинтересовался доктор, которого отпустили.
Он и сам отпрянул, заслонившись от Ната кофром.
– Ничего. – У Райдо получилось сесть.
Кажется, он и встать бы смог, но пока предпочитал не рисковать, потому как, если вдруг поведет, если вдруг легкость, которую он испытывал, окажется обманом, то с Ната станется силой в постель уложить. А лежать Райдо не хотел ни в коридоре, ни в постели.
– Уже ничего.
– Ему плохо. – Нат и говорил-то с трудом, клыки мешали да отяжелевшая вытянувшаяся челюсть, отчего речь его сделалась неразборчивой, глухой.
– Мне уже хорошо. – Райдо все-таки поднялся, опираясь на стену. – А так… отравился, с кем не бывает?
– Вас рвало кровью. – Доктор указал на пол. – Это значит, что процесс вошел в заключительную стадию…
Альва беззвучно скрылась на чердаке.
Вот ведь.
А почти получилось уговорить ее спуститься…
– Слушай. – Райдо стянул рубаху, во-первых, она была грязной и воняла, а во-вторых, ему хотелось увидеть свой живот, на котором он до сих пор ощущал отпечаток ладони.
Отпечаток был холодным, и холод от него просачивался внутрь Райдо, растекался по крови, очищая эту самую кровь. Боль и та отступила. А он, оказывается, забыл уже, как это хорошо, когда не больно.
– Слушай, – повторил он, с удовольствием отмечая, что пальцы обрели прежнюю подвижность, и голова не кружится, и вообще он почти здоров. – Скажи, откуда вообще это странное желание взялось?
– Какое?
– Похоронить меня.
Нат подобрался ближе, почти уткнулся носом в живот. Чует? Конечно, чует. От альвы все еще пахнет осенним лесом, тем, который пропитан блеклыми туманами и лиловыми дымами, бродячей паутиной, сосновой смолой.
И запах этот остался на Райдо.
Хорошо. Ему нравится.
– Что она сделала? – Нат потер щеку, и чешуя поблекла, превращаясь в серебристые капли живого железа. – Ты теперь здоров, да?
– Нет.
– Но…
– Забудь.
Забывать Нат не был намерен. И на чердачную лестницу уставился долгим задумчивым взглядом.
– Ты более здоров, чем раньше, – произнес Нат обвиняюще. И доктор, который собирался было что-то сказать, наверняка важное, существенное, про опыт свой немалый, каковой однозначно утверждал, что Райдо пришла пора умереть, замолчал. – Намного более…
Райдо кивнул: с этим он не собирался спорить.
Нет, в груди еще клокотало и каждый вдох давался с немалым трудом. И живот крутило со страшной силой, и вообще мир кружился, раскачивался, но, к предвечной жиле, этот мир был. Многообразный. Яркий.
И Райдо, присев на корточки, трогал ворсистую поверхность ковра, наслаждаясь этим прикосновением и тем, что пальцы чувствовали и жесткость ворса, и пыль на нем, и стены, неровные под бумажными обоями, и сами эти обои, гладкие, со вдавленным рисунком. Он вдыхал их запах и запах дерева – старые рамы и паркет, который давно уже не натирали мастикой. Вернувшееся обоняние – а Райдо и не замечал, насколько боль его притупляла, – рассказало ему о многом.
О том, что Нат снова лазил на конюшни и еще на кухню заглядывал, где, верно, стащил пирожок. Пирожок был с кислой капустой и яйцом…
О том, что козу он кормил хлебом и его аромат прилип к ладоням, как и кисловатый запах козы…
О том, что доктор курил трубку с темным шерским табаком и коньяк пил, немного, не то для храбрости, не то от нервов…
– Что ж, – человек отвел взгляд и очки поправил, – если в моих услугах не нуждаются, то я…
– Нат вас проводит.
Нату не хотелось уходить, наверное, он до конца так и не поверил в этакое чудесное выздоровление, но ослушаться прямого приказа не посмел. Шел, оглядывался, едва не споткнулся на лестнице.
– И Дайну позови! – крикнул Райдо, поднимая измаранную рубаху. – Пусть приберется здесь… и вообще, пусть приберется.
Запах пыли и копоти теперь ощущался резко.
От Дайны воняло спиртом и ландышами, и запах был настолько резким, едким, что Райдо зажал нос.
– Не подходите, – попросил он, нанося тем самым очередное смертельное оскорбление. – На будущее, пожалуйста, не пользуйтесь этими духами больше. У меня обоняние тонкое.
Райдо распахнул окно, впуская ледяной ветер.
А на стекле-то сыпь дождя, в которой тают остатки ледяного узора, стало быть, зима близко. Подобралась, а он и не заметил.
Чудо какое…
Проведя ладонью по влажному подоконнику, Райдо с немалым наслаждением вытер лицо.
Холодная вода с запахом стекла и металла. И дерева еще. Неба серого, в промоинах. Полумесяца, который висит низко, над самой крышей, едва ли не заслоняя собой солнце. Оно-то, напротив, сделалось крохотным, с мышиный зрачок.
Райдо сделал глубокий вдох, медленный, с наслаждением ощущая, как расправляются ребра, а с ними растягиваются мешки легких, продранные, но уже зарастающие.
– Это все, что вы хотели? – спросила Дайна скрипучим голосом.
Недовольна. И кажется, надо бы извиниться, но… к бездне первородной извинения. Он только-только ожил, а жизни этой слишком мало осталось, чтобы тратить ее на хороводы хороших манер.
– Нет. Не все. Кажется, я просил, чтобы в доме навели порядок.
– Я…
– Вы.
Подбородки Дайны мелко затряслись. Но очередную обиду она проглотила. Райдо же вяло подумал, что будет смешно, если именно сейчас разобиженная экономка сыпанет в бульон крысиного яду…
Не осмелится. Эта из тех, которые ненавидят тихо, исподволь, никогда не переступая черту закона. Другое дело, что в этой черте многое наворотить можно.
Вот альва могла бы…
Но альва понимает, что ей некуда идти. Не зимой. А значит, у них обоих появился шанс… до треклятой весны бездна времени – три с половиной месяца, если по календарю…
– Я не в состоянии убрать весь дом в одиночку, – наконец произнесла Дайна. Говорила она сдержанно, но рыжеватые брови, которые Дайна подкрашивала угольным карандашом, сдвинулись.
– Такого подвига я от вас не жду. – Райдо глотал холодный воздух и дождь пил, слизывая капли с губ, наслаждаясь вкусом этой воды. – Отправляйтесь в город. Наймите кого-нибудь, чтобы убрали… и чтобы убирали постоянно.
Он отошел от окна.
– Видите? – Райдо провел пальцем по каминной полке и палец этот экономке продемонстрировал. – Этак к весне мы зарастем так, что не откопают…
– Кого нанять?
– Мужчин. Женщин. Проклятье, вы беретесь домом управлять?! Так управляйте, а не спрашивайте меня, кого нанимать… да кого угодно, лишь бы порядок был!
– Вы… вы на меня кричите? – Дайна всхлипнула. – Я… я так стараюсь… я для вас…
– Для меня. И для себя. – Райдо ненавидел женские слезы. – Кажется, я за старания вам плачу, верно?
Проклятье.
Такой день, когда ему почти и не больно, когда он почти живой уже, а она тут плачет… и с чего, спрашивается? Разве он просил что-то, чего не должен был?
– Послушайте, – он вытер руку о штаны, которые сами по себе не отличались чистотой, а потому особого ущерба не претерпели, – мне жаль, если я вас обидел. Мне казалось, что вы к моему характеру привыкли…
– Вам больно? – Дайна вновь всхлипнула и часто заморгала влажными ресницами.
– Мне не больно. Мне грязно.
– Где?
– Везде, Дайна… – Райдо проглотил рык. – Я понимаю, что в одиночку вы не способны управиться с домом. Но я не понимаю, что мешает вам обратиться в агентство. Пусть пришлют горничных. И лакеев… и кто еще там нужен?
Она прикусила губу. Стоит. Теребит фартук. И слеза по щеке ползет…
…а ведь молоденькая…
…раньше Райдо плевать было на то, сколько ей лет…
…точно, молоденькая… чуть за двадцать? И уже экономка? Он, конечно, не великий специалист по прислуге, ею матушка занималась, как и прочим домашним хозяйством, но Райдо думал, что экономкой должна быть женщина в возрасте.
…и платье это из темно-красной шерсти, явно перешитое, расширенное. Экономки носят платья скучные, из черной ли саржи, из серого ли сукна, позволяя себе единственным украшением кружевной воротничок.
Воротничок имелся. Кружевной, кокетливый, заколотый на горле круглой брошью-камеей. К нему – широкие манжеты, накрахмаленные до хруста. И вставки на рукавах.
И кажется, Райдо догадывается, для чего, точнее сказать для кого было выбрано именно это платье, обнажающее и круглые плечи, и налитую грудь…
Он потер переносицу, чувствуя, как наваливается усталость.
– Вы достались мне вместе с домом. Я не стал вникать в детали, – он повернулся к Дайне, разглядывая ее, с удивлением подмечая то, чего не видел раньше, – я не спрашивал вас ни о том, сколь долго вы занимали сию должность, ни о рекомендациях, которые могли бы подтвердить ваши слова…
…золотистая пудра на плечах, рисованный румянец, помада гладкая, красная…
Взгляд этот с поволокой. И пальчики с аккуратно подпиленными ноготками. Сами руки белые, ухоженные…
– Я бы не хотел вас увольнять.
– Увольнять? Вы… вы не можете меня уволить…
– Могу, – ответил Райдо, глядя в синие глаза. – Вот такая я скотина. Но мне бы и вправду не хотелось.
Она прижала руки к груди и горестно вздохнула.
– Видите ли… Дайна, – Райдо отвел взгляд от этой груди, – я надеюсь, что вы все же вспомните о ваших обязанностях… и займетесь домом.
– Да?
Взмах ресниц. И губы бантиком.
– Да, Дайна. – Он отвернулся. – Есть одно обстоятельство… непреодолимой, так сказать, силы… дело в том, что женщины меня не интересуют.
– Да? – Удивление в ее голосе было искренним.
– Мужчины, впрочем, тоже, – на всякий случай уточнил Райдо. – Болен я, Дайна, если вы не заметили.
– И… сейчас?
– И сейчас, – Райдо произнес это с чувством огромного удовлетворения, впервые, пожалуй, радуясь своей болезни. – Поэтому, будьте любезны, перенаправьте вашу энергию в более благодарное русло.
– Вы… на что намекаете?
Оскорбленная невинность. Впрочем, Райдо был уверен, что невинностью здесь и не пахло, а оскорбление было наигранным.
– Я прямо говорю. Оставьте меня в покое. И займитесь тем, за что я плачу. В противном случае я вас уволю.
И поскольку раздражение, что женщина эта своим упрямством отняла у него четверть часа чудеснейшей жизни, в которой нет боли, было велико, Райдо добавил:
– Без рекомендаций.
Дайна, против опасений, не стала ни в обморок падать, ни в слезы ударяться. Она присела в реверансе, продемонстрировав обильную грудь, которая с этакой позиции выглядела еще более обильной и пышной, и спросила сухо:
– Могу я идти?
– Конечно. Разве я вас задерживаю?
Дверь она прикрыла аккуратно, но ее злость, даже не злость – но гнев, с трудом сдерживаемый, выдавали каблучки, которые цокали по паркету громко, точно хотя бы этакой мелочью Дайна желала хозяину досадить.
…а девчонку он так и не покормил.
…и имя не выбрал.
Ладно, без имени она как-нибудь да проживет, но молоко… и Райдо, широко зевнув – спать хотелось неимоверно, – вытащил из гардеробного шкафа рубашку, мятую, но хотя бы чистую, пусть и пахнущую сыростью.
На кухню за молоком он спустится. А потом поднимется на чердак, чтобы сказать:
– Слушай, я тут подумал… а давай назовем ее Хильденбранд?
Альва только фыркнет.
…а спустя два дня в доме объявится шериф.
Глава 6
Райдо смутно припоминал этого человека.
От него еще тогда пахло табаком, но не черным, каковой предпочитал доктор, а ядреным местным самосадом, который мололи на ручных мельницах, чтобы набивать им узкие папиросы. Табак шериф носил в узорчатом кисете с бахромой. Бахрома была и на рукавах кожаной его куртки, и на голенищах высоких сапог. Вот бахрому Райдо точно помнил, а лицо – нет.
Вытянутое, сухокостное, с выдающимся горбатым носом, с усами седыми, которые свисали вялыми виноградными плетями, и куцей угольно-черной бородкой, на этом лице глядевшейся чужеродной.
Бородку шериф пощипывал.
Усы – гладил широкой ладонью.
И на пальце его тускло отливало золотом кольцо.
– Двадцать пять лет вместе, – сказал он, заметив, что взгляд Райдо за это кольцо зацепился. – Самому не верится…
Он приехал отнюдь не затем, чтобы рассказать о кольце и о супруге своей, в последние годы утратившей стройность фигуры, зато пристрастившейся к табаку, тому самому, местному, который и выращивала на грядках наравне с помидорами да кустами роз. И Райдо не выдержал. Он дождался, пока шериф допьет бренди – от чая он отказался, – и сам задал вопрос:
– Что вам надо?
– Альва. – Йен Маккастер не стал ни лукавить, ни взгляд отводить.
– Зачем?
– Судить.
– За что?
Он пожал плечами: дескать, эту конкретную альву, может, и не за что, но вот все прочие…
– Нет. – Райдо поднял стакан, широкий и из толстого стекла, которое казалось желтым.
– Почему?
– Это неправильно.
– Неправильно, – охотно согласился Йен Маккастер, вытягивая по-журавлиному длинные, тощие ноги. – Но порой приходится искать компромисс.
Сам он скривился, показывая, что компромиссы ненавидит и даже втайне презирает себя за нынешний визит и за разговор этот, избежать которого не выйдет.
Ему бы попрощаться и уйти.
Но не в нем одном дело.
Есть мэр, который тоже прекрасно понимает ситуацию. Есть советники и горожане, не желающие смуты, и есть люди, обыкновенные люди, с обыкновенными их бедами, потерями и ненавистью.
Они почти позабыли. Смирились. А тут альва…
Йен Маккастер бренди допил, а чего ж не допить, когда бренди хороший? И, поставив пустой стакан, глянул на нового хозяина Яблоневой долины.
– Вы здесь… чужой человек. Новый…
– И не человек вовсе, – широко усмехнулся Райдо.
– И не человек, – задумчиво повторил шериф, растирая в пальцах табачную крошку. – Однако… вы должны понять… этот город… довольно-таки своеобразное местечко… нет, не в том плане, что от других городков отличается, но… люди тут живут… давно живут… веками… мой прадед сюда из-за гор переехал, а меня до сих пор считают чужаком. Нет, своим, но все равно чужаком. Так и называют, Йен Чужак… память у них долгая.
– И что?
– Они ей не простят.
– Чего?
Шериф вытер пальцы о штаны и медленно произнес:
– Войны. Чисток. У старухи Шеннон трое сыновей погибли, а мужа она еще когда схоронила и осталась теперь одна. Тата Киршем потеряла мужа, а детей у нее пятеро. И муженек ее приходился Вишманам племянником, а Вишманов всем семейством в лагерь отправили. Тайворы невестки лишились, на четверть крови из ваших была. А ведь свадьбу только-только отыграли, хорошо детишек нажить не успели. У Гирвоф – половина семьи в лагеря ушла, а вторая – на фронт, остались бабы одни…
Шериф замолчал, позволяя Райдо самому додумать, но думать тот не желал. Хмыкнул, щелкнул когтем по стеклу и произнес:
– Ей ведь тоже досталось.
– Знаю. И понимаю. Только и ты пойми, что им нужен кто-то, кого можно обвинить. – Шериф поднялся. Он был нескладен и несколько смущался этой нескладности, что худобы, что чрезмерно длинных ног, что столь же длинных рук, которыми он размахивал, то и дело задевая мебель.
– Ее? – хмуро поинтересовался пес.
– А хоть бы и ее. Да, лично она ни в чем не виновата. Но она альва. А они – люди, которые только-только начали отходить от войны. Они еще ненавидят. И эта ненависть лишит их разума.
– И что вы предлагаете? – Райдо скрестил руки на груди, наблюдая за гостем, не способный понять, как к тому относится.
– Отдайте альву. В мэрии устроят суд и…
– И приговорят к смерти.
– Допустим…
– Приговорят. И повесят. Думаю, на площади, чтобы все обиженные смогли прийти и поглазеть, как вершится справедливость.
– Пусть так. – Йен задел локтем высокий кувшин, который едва не слетел со столика, но Йен успел его поймать. – Пусть так, – повторил он гораздо тише. – Но это цена спокойствия.
– Вашего?
– И вашего. Их спокойствия. Думаете, мне все равно? Нет. Я знал эту девчонку и ее родителей, как знаю каждого жителя в этом треклятом городке. И знаю, что они так просто не отступят. Я не хочу, чтобы эти жители пришли сюда сами за собственной справедливостью, поскольку тогда или ваш замечательный дом вспыхнет… или вам придется убивать их.
Йен выдохнул.
– И вы пытаетесь откупиться?
– Я пытаюсь найти хоть какой-то выход. Одна жизнь против многих. Простая арифметика.
– Хреновая у тебя арифметика, шериф, но за предупреждение спасибо.
– Не отдашь?
– Не отдам.
– Мэр…
– Плевать на мэра…
– И на людей?
– На них тем более плевать. Если им, чтобы почувствовать себя легче, надо кого-то повесить, то… в бездну таких людей. И да, убивать я буду. И уж поверьте, совесть меня не замучает.
– Совесть… – хмыкнул Йен Маккастер. – Порой я думаю, что совесть – это такая фантазия…
От шерифа в кабинете остался пустой стакан и терпкий запах табака на подлокотниках кресла. Райдо присел у этого кресла на корточки и подлокотники обнюхал.
– Еще лизните. – Нат стуком в дверь себя не обременял.
– Понадобится, и лизну, – вполне миролюбиво отозвался Райдо. – А в тебе, щенок, нет уважения к старшим.
– Есть, – возразил Нат, делая глубокий медленный вдох. – Оно просто спрятано в глубине души…
– Слишком уж в глубине. Слышал?
Нат кивнул.
Подслушивать он умел, хотя и не любил, впрочем, не любил он многое из того, что сам полагал первейшей своей обязанностью. К примеру, чистка сапог. Ее Нат от души ненавидел. И Райдо не настаивал, его вполне себе устраивали сапоги нечищеные, а то и вовсе заросшие пылью или же коростой местной рыжей глины, которая выглядывала после дождей в промоинах земли. Эта глина успела стать личным врагом Ната, впрочем, как пыль в углах комнаты и гардеробный шкаф, обладавший удивительным свойством превращать свежевыстиранные и выглаженные сорочки в пропахшее сыростью тряпье…
По сравнению со стиркой, глажкой и вечным беспорядком в комнате Райдо, в которую Нат ревниво не допускал экономку, подслушивание было мелким неудобством и неудобством полезным.
– И что думаешь?
– Думаю, он прав.
– То есть альву надо отдать? – Райдо провел по изгибу ручки ладонью, ковырнул резьбу, которая успела потемнеть и тоже нуждалась в чистке.
Нат говорил об этом Дайне. А она отмахивалась. Врала, что некогда ей… как на свиданки бегать, не стесняясь на конюшне лошадь брать, так время имеется…
…Дайна полагала, что Нат за ней следит. И была права.
Он следил и за ней, и за кухаркой, и за альвой, но за той было не интересно, альва все время проводила на чердаке, спускаясь лишь дважды в день: в четверть первого и в половине седьмого.
А Райдо поднимался на чердак ровно через полчаса.
И Нат знал, что на чердаке он проведет от часа до полутора, разговаривая с альвой, вернее, сам с собой, потому как она все одно не отвечала.
Нет, за альвой следить было не интересно, за Райдо – небезопасно. А Дайна что-то недоговаривала. Ната это беспокоило. Правда, о беспокойстве он молчал, зная, что Райдо его не разделит. Посмеется. И запретит. А прямые запреты Нат не нарушал.
Что же до вопроса, то еще неделю тому Нат с радостью бы от альвы избавился. Неделю.
А сейчас…
– Она вам нужна.
– Значит, не отдавать? – Райдо усмехнулся.
– Нет.
– А если придут?
– Сразу не придут. – Нат позволил себе сесть и оглядеться. В этом доме он чувствовал себя неуютно, он вообще во всех домах чувствовал себя неуютно. Давили стены. Крыша над головой казалась ненадежной. Здесь же… здесь пахло альвами.
Травой.
Деревом.
Землей весенней, жадной, которая расползается под лапами, обнажая переплетение корней. И те, белесые, тонкие, не корни – черви – оживают, ползут в поисках добычи. Он помнил, каково это – проваливаться по самое брюхо в черную жижу, которая вскипает, тянет, вздыхает, причавкивая от голода…
…то поле осталось позади.
…десятки полей и многие мили дорог…
И мир наступил. Всем сказали, что наступил мир, вот только Нат не верил словам. И, ступая на потускневший паркет, замирал, прислушивался к каждому шагу – не затрещат ли доски, расползаясь.
– Сразу не придут, твоя правда. – Райдо оказался рядом. – Нат… что ты узнал?
А Нат уже думал, что и не спросит. С Райдо такое прежде бывало, даст задание, а после забудет… лучше бы и сейчас так. Но врать Нат не привык.
– Вам не понравится, – предупредил он.
– Да уж предполагаю…
Райдо устроился напротив. Налил виски. Понюхал и отставил.
– Усадьба принадлежала альвам. Младшая ветвь семейства Эннуин. Хозяйка – Камо Эннуин. Хозяин… он из другой ветви, но откуда – никто толком не знает. Дочь…
– Ийлэ.
– Да.
– Что еще?
– Появились здесь лет двадцать тому. До того в усадьбе жила старуха, но она съехала. А эти поселились и жили. Никуда дальше городка не выезжали. Жили тихо очень. Он – ювелир… вроде как ювелир… был, – поправился Нат. – Не воевал. Не… вообще не высовывался. Она цветами занималась… розами. Ну вот жили себе… а потом война… и наши…
– Пришли, – помог Райдо.
– Да. Пришли. Городок сдался без боя. Тут воевать особо некому было… тех, кто мог, давно забрали… ну и тыл… глубокий… короче, мэр сумел договориться… его оставили на месте. И шерифа. И вообще, всех, кто власть… ну тоже не с руки было с людьми воевать.
– Это я уже понял. – Райдо подпер подбородок кулаком. – Но при таком раскладе альвы были лишними?
– Н-наверное… их того… ну… в общем…
– Убили.
– Да.
Нат отвел глаза. Почему-то ему было стыдно. Нет, альвов он ненавидел, но стыдно все равно было.
– А Ийлэ?
– Ее не сразу нашли… вроде как родители спрятали… или сама ушла… только недалеко… потом уже взяли… ну и… того…
У Ната вспыхнули уши.
– И того, и этого… долго держали?
К счастью, Райдо не стал в подробности вдаваться.
– Полгода почти…
– Полгода… отпустили?
Нат мотнул головой: вот теперь начиналось непонятное. Зато с фактами было управляться проще, чем с людскими домыслами:
– Стаю держал Бран из Медных. Младшая ветвь. Второй сын…
Райдо кивнул.
С Браном из рода Высокой Меди он встречался, и встреча эта оставила не самые приятные воспоминания. Горделивый щенок, у которого только и есть что кровь Высших, старый род и амбиции. Он полагал, будто все вокруг созданы исключительно для его, Брана, удобства. И если Райдо хоть что-то понимал, то этакую забавную игрушку, как живая альва, Бран добровольно не выпустил бы. Сбежать бы тем более не дал, разве что для очередной забавы. А до забав всяких, поговаривали, он охочим был…
– В городе его боялись, – счел нужным уточнить Нат. Он сидел вполоборота к окну, и на глянцевую, пусть и несколько запыленную поверхность стола ложилась Натова тень. У тени этой был жесткий подбородок и высокий лоб, а волосы торчали колючками.
Тень выглядела старше Ната.
– И что с ним произошло?
– Произошло, – ответил Нат. – А никто не знает. Дом загорелся. Потушили, конечно. И нашли Брана, а с ним – еще двоих. Мертвыми.
– Нат, ты мне страшную историю рассказать пытаешься?
– А что в ней страшного? – Натово удивление было искренним.
Он ведь и вправду не понимает. Не вспоминает даже о школе, о темном дортуаре, погасшей свече, запахе дыма, который поселяется надолго. О кроватях, стоящих вплотную, и одноклассниках, что ворочаются на этих узких кроватях.
О шепоте:
– А вот однажды…
…и очередном глупом рассказе про черного учителя, которого убили ученики. Или про черного же ученика, запоротого насмерть. О человеческом духе, что выходит из стен, ищет виновных… о призрачной стае… сколько их было, страшных сказок?
Для Ната они сказками и остались. Слишком много он видел и вправду страшных вещей.
– Ничего. – Райдо дотянулся и провел ладонью по жестким волосам. – Значит, нашли их мертвыми. В запертой изнутри комнате…
– А… а я про комнату ничего не говорил! Как ты догадался? – Нат прищурился, словно подозревая хозяина в подвохе.
– Никак. Жанр требует, чтобы комната была непременно заперта изнутри.
Про жанр Нат не понял, но уточнять не стал.
– Значит, комната была заперта?
– Да. И на окнах решетки.
– Трое мертвецов в запертой комнате и решетки на окнах… – оценил Райдо. – Что еще?
– Альва ушла.
– Из комнаты?
– Говорят, что да.
– Кто говорит?
Нат нахмурился, припоминая имена. Будучи существом в высшей степени дотошным, он показания свидетелей, которые, впрочем, понятия не имели, что они свидетели и дают показания, записал.
– Дайна, – назвал он первое, которое Райдо вовсе не обрадовало. – Она видела, что перед пожаром альву привели в тот кабинет…
– Она тебе сказала?
– Не мне. Шерифу. Я протоколы читал… их давать не хотели, но я заплатил…
– Стоп.
Нат послушно замолчал.
– Итак… Дайна… Дайна… три трупа, альва… альва… – задумчиво повторил он. – И три трупа… протоколы вскрытия были?
Нат покачал головой.
– Официальная версия?
– Наглотались дыма.
– Вполне возможно. – Райдо потер переносицу. – Ядовитого дыма… по-другому она бы с ними не справилась. Очаг возгорания в той комнате?
Нат нахмурился, пытаясь вспомнить содержание бумаг, которые обошлись ему недешево. Про очаг возгорания в них не говорилось… в них, если подумать, о многом не говорилось.
К примеру, об альве.
Ее не стали искать.
Почему? Решили, что погибла? Или что погибнет?
Тела продержали две недели, а после отправили обозом. Почему так? Не для того ли, чтобы сделать невозможным повторное вскрытие?
…альву держали на цепи.
И цепь в кабинете обнаружили.
…как избавилась?
…обыкновенно.
Тело. Ключ при теле. Ошейник снять. Уйти.
Понадеяться, что дом сгорит, а с ним и псы, и улики. Стройная теория, опасная… но что-то в ней не давало Нату покоя. И он, излагая факты, которые и фактами-то можно было назвать с натяжкой – слишком уж много времени минуло, – хмурился. Запинался. И наконец замолчал, позволяя Райдо самому сделать выводы. Он же ущипнул себя за ухо, как делал всегда, пытаясь сосредоточиться на чем-то важном, и сказал:
– Пойдем.
– Куда?
– Туда… туда, где все произошло.
Дайна поднималась на чердак крадучись, но Ийлэ все одно услышала ее: дом-предатель решил играть на равных со всеми. И тонкие половицы поскрипывали, а дверь протяжно застонала, впуская теплый воздух и запах ландышей.
– Ты здесь? – Дайна остановилась на пороге, прищурившись, вглядываясь в полумрак, который самой Ийлэ казался привычным, уютным даже.
Снаружи дождь. И небо выкрашено осенней лиловой пастелью. Солнце бледное, тусклое. Мороз по утрам. Ийлэ чувствовала его, пусть бы рядом с печной трубой ей было тепло. Мороз оставлял узоры на окнах и тонкую пленку льда на подоконнике. Он пробирался на чердак, шевелил тряпье, тревожил кукол, так и застывших в вечном своем чаепитии.
Но главное, что света было мало. А в полумраке лицо Дайны выделялось белым пятном.
– Ты здесь?
Ийлэ тронула корзину, которую пес подвесил на крюк. Крюк был старым, проржавевшим, но крепким. Райдо долго его шатал, а убедившись, что и под собственным его весом крюк не спешит ни ломаться, ни выскальзывать из дерева, закинул на него веревку.
А к веревке уже и корзину привязал.
– Здесь, – с удовлетворением отметила Дайна и волосы поправила.
Волосы у нее всегда были роскошными, но прежде, в прошлой жизни Ийлэ, в которой Дайна вынуждена была носить серое платье горничной, она заплетала волосы в тугие косы, а косы прятала под чепцом. И тот чепец тоже был иным, белым, строгим.
– Послушай, – Дайна притворила дверь, ведущую на чердак, – я… я пришла помочь тебе…
В это Ийлэ не поверила.
– Думаешь, мне тебя не было жаль? Было. Но что я могла сделать?
Ийлэ промолчала.
Впрочем, ответа от нее и не ждали. Дайна подошла, ступала она крадучись и башмаки, наверное, сняла еще там, на лестнице, оставшись в теплых вязаных чулках.
– Но сейчас все иначе…
Ийлэ склонила голову на бок.
А ландышами пахло, но слабо… и платье нынешнее было не из маминых. Серый атлас и белое кружево… поторопилась… накануне маме доставили посылку. Она еще расстроилась: ткань казалась скучной, исчез тот фиалковый отлив, ради которого матушка и приобрела ее…
…ничего, ткань лишь ткань.
Маме уже все равно.
– Сейчас мы можем помочь друг другу… ты мне, а я тебе… я тебе больше… – Дайна коснулась корзины, и Ийлэ зашипела.
Дайна тотчас отдернула руку.
– Ты… ты же вынуждена оставаться здесь… с ним… тебе просто некуда идти, я понимаю… но ты же ненавидишь его, да?
Ийлэ кивнула.
Ненавидит.
И Райдо, который думает, что если она помогла раз, то поможет снова. И мальчишку его, что вечно крутится возле чердака, но больше не заглядывает. Он тоже рассчитывает на Ийлэ.
А если она откажется…
– Ты… ты всегда ко мне хорошо относилась. – Дайна нервно гладила подол платья, белые руки ее скользили по ткани, которая в полумраке гляделась темной.
Но с фиалковым отливом.
Наверное, все от освещения зависит. А платье сшито неудачно: слишком тесный корсаж, слишком глубокий вырез, пусть и менее глубокий, чем на прочих нарядах Дайны. Здесь же она набросила пуховую мамину шаль.
И сколола ее маминой же брошью.
– Ты же понимаешь, что теперь он тебя не отпустит? – Шепот ее, глухой, настороженный, тревожил клочья пыли. – Пока он притворяется добрым, но как только… как только ты откажешься помочь… или не сможешь, он покажет истинное свое лицо… я-то знаю…
Она улыбнулась робко, заискивающе.
– Я принесла тебе денег. Здесь немного, но ты же понимаешь, что больше мне взять неоткуда. Уходи, уезжай. С деньгами ты можешь. В другой город. К морю. На Побережье, я слышала, остались другие альвы… затеряешься… он тебя не найдет.
Она лгала.
У лжи острый аромат, но раньше Ийлэ его не ощущала. Раньше она была на редкость бесчувственной.
Дайна схватила за руку и в руку эту сунула толстый кошелек. Стиснула, зашипела на ухо гадюкой:
– Я помогу тебе. Выведу ночью из дому. Лошадь дам… с лошадью до станции доберешься, а там уже… он не сразу хватится… я снотворного плесну, когда пить будет… а мальчишка в город уехал.
– Зачем?
– А ты как думаешь? – Дайна подобралась слишком близко и руку отпускать не собиралась. Она держала, стискивая запястье, и руку эту хотелось не просто стряхнуть, но сломать, чтобы круглое лицо Дайны исказилось от боли. И слезы бы увидеть. Она-то сама видела, как плакала Ийлэ…
– Те трое. Ты их убила.
– Неправда.
Дайна оскалилась. В сумраке ровные зубы ее блестели и казались неестественно белыми, слишком крупными.
– Их убила ты. Ты подожгла дом и ушла. Или думаешь, что кто-то поверит в иное? – Дайна проводила по зубам языком, и Ийлэ не могла отделаться от ощущения, что она, человек, существо априори слабое, вот-вот вцепится Ийлэ в горло. – Они псы, а ты альва. Они тебя мучили, вот ты и отомстила…
Дайна оттолкнулась и встала.
– Поэтому делай, как говорю, если хочешь остаться в живых. Беги.
Она ушла, оставив легкий аромат ландышей, избавиться от которого не сумела или не захотела. Возможно, ей, человеку, и вправду казалось, что запах стряхнуть легко, достаточно ванны и мыла… люди мало знают о запахах.
– Она лжет, – сказала Ийлэ отродью, но кошелек подняла.
Спрятала на дно сундука, здраво рассудив, что деньги ей пригодятся, если не сейчас, то весной, когда леса оживут и у Ийлэ появится выбор.
– Она всегда лгала. – Ийлэ качнула корзину, и отродье, заворочавшееся было, вздохнуло. – Ей верили. Ей нельзя верить.
Ийлэ склонилась над корзиной и коснулась волос отродья, которые неуловимо посветлели. И мутноватая пленка на глазах растворилась, теперь эти глаза смотрели на Ийлэ… с упреком?
С удивлением?
Она не знала, но и выдержать взгляда не сумела, а потому отвернулась.
Имя действительно стоит выбрать, раз уж отродье будет жить.
– Пес нас не тронет, – пообещала она, проводя когтями по бледной коже. – Мы нужны ему… и мы сами решим, когда нам уходить.
Отродье закрыло глаза.
В этом Ийлэ увидела согласие.
Глава 7
В комнате все еще пахло гарью. И была-то она крохотной, только развернуться. Пожалуй, если Райдо руки вытянет, то сумеет коснуться пальцами противоположных стен.
Потолок низкий.
Через единственное окно, решеткой забранное, разве что кошка протиснуться способна, и то при условии, что решетку снимут.
Камина, что характерно, нет.
А ремонт сделали, причем делали наспех.
Синие обои наклеены кое-как. Мебель собрана со всего дома, если не со всего города. Низкая банкетка, обтянутая красным бархатом, соседствует с солидным трюмо, которое в комнате смотрится вовсе чуждо. Старый шкаф с резными ручками. Пара стульев. Столик журнальный, ободранный…
– Выноси, – скомандовал Райдо, подталкивая столик к двери.
Дернулся и замер, вовремя прикусив губу, сдерживая стон: а ведь поверил, дурак этакий, что боль ушла навсегда, что теперь останется за призрачной границей холода, рожденною руками альвы.
Как есть дурак.
Мог бы изучить препоганый ее характерец, не альвы – боли. Нравится ей с Райдо играть, и теперь вот плеснула огнем и истаяла, позволяя Райдо справляться с углями внутри себя. Он потрогал живот, хотя знал, что угли эти в кишках мерещатся.
– Плохо? – Нат тотчас оказался рядом, подставил узкое плечо.
– Да… пройдет. – Райдо упал на полосатую банкетку, которая знавала лучшие времена. – Не стой. Выноси.
– Зачем?
– Увидишь… столик явно не отсюда… и вот те стулья… козетка… трюмо… погоди, один не сдвинешь.
Нат только фыркнул.
Трюмо он толкал, нимало не заботясь, что ножки его скользят по ковру, оставляя в нем глубокие вдавленные полосы. А ведь и ковер принесли…
Его Райдо сам скатал, с удовлетворением отметив, что паркет меняли не полностью. Кто-то весьма неплохо сэкономил на ремонте.
– Смотри, – Райдо обвел опустевшую комнату, – что скажешь?
– А что надо?
Нат взмок, устал и разозлился. Он стоял, упираясь обеими руками в стол, который оказался слишком тяжелым для него.
И стол оставили.
– На следы смотри, олух…
– Сами вы… – Нат вовремя осекся и лоб ладонью вытер, буркнул: – Извините.
Райдо извинил, ему не сложно.
– А следы… что следы…
Нат прошелся по комнате.
– Вот тут паркет меняли… доска дрянная, скоро дыбом станет, уже становится… а там старый, но хороший… только зачистить надо, а потом отполировать…
– Какие глубокие познания.
– Издеваешься?
– Слушай, Нат, ты бы уже решил, как ко мне обращаться, а то я путаюсь…
– Стол тут и стоял. – Нат ушел от темы, которая была для него неприятна, и присел на корточки у стола, ковырнул когтем паркет, которому и без того досталось. Наклонился. Понюхал. – Точно. От него еще дымом пахнет… только странный какой-то дым. Неправильный. А вот тут что-то другое находилось…
Он указал на стенку, которую еще недавно прикрывало трюмо.
– Паркет более темный… и если стояло, то что-то более узкое, но длинное…
– Шкаф?
– Шкаф, – согласился Нат, поводя носом уже не по полу – по стене. – А…
– Отдирай, – великодушно разрешил Райдо. – Все равно обои дерьмовые. Вот скажи, кому придет в голову оклеивать кабинет такими?
Обои и качества были отвратного, недавно наклеенные, они выцвели, но неравномерно, полосами, и исконный темно-лиловый колер их менялся то на бледно-розовый, то на синюшный. Отслаивались они неровными полосами.
Запах гари сделался более отчетливым.
Нат драл обои, швыряя их на пол, и едва не приплясывал от нетерпения. И, надо сказать, ожидания его всецело оправдались.
Нет, на первый взгляд стена выглядела обыкновенно.
Штукатурка легла неровно, трещинами пошла, пожелтела… но стоило сковырнуть кусок, и штукатурка посыпалась.
– Что это? – Нат чихнул, вытер нос рукавом и снова чихнул. – Проклятье!
От известковой пыли и вправду в носу свербело. Райдо этот нос скреб, сдерживаясь из последних сил, но не удержался и тоже чихнул.
– Это… – Он закрыл нос рукавом, но треклятая пыль проникала и сквозь рукав. – Это… сейф… твою ж… окно открой…
Нат догадался и без подсказки.
Порывом ветра створки распахнуло, вывернуло едва ли не наизнанку. А решетка-то осталась… хорошая решетка, прочная.
Райдо отошел к двери, чтобы убедиться, что и та непростая.
– Хрысь тебя задери! Это ж… это не просто сейф. Это сейфовая комната.
Металлические стены.
Железная дверь.
Окно, которое появилось, надо полагать, задолго до того, как комнату превратили в сейф. И заделывать его не стали, решеткой обошлись.
– Интересно… – Райдо постучал в стену. Металлический звук, гулкий. Плиты, надо полагать, двух-, а то и трехдюймовые. – Смотри, прутья врастают в подоконник. Их просто так не вытащить…
Нат на слово не поверил, решетку подергал, потом уперся ногами в пол, вцепился в прутья, потянул на себя, пыхтя от натуги.
Ничего.
– Бестолочь, – ласково обозвал его Райдо. – Ее не для того ставили, чтобы всякие тут с наскоку выдрать могли.
Он потрепал Ната по макушке, и тот вывернулся из-под руки, заворчал недовольно, мол, не ребенок уже.
– Дверь такая же. Дерево только сверху…
– Сейфовая… – Нат крутил головой.
– Железные двери. Железные стены. Полная изоляция. Кстати, гореть здесь нечему… то есть мебели изначально было немного. Стол. Стул. И внешняя панель.
Вряд ли отличная от той, которой отец пользуется. Правда, его комната побольше этой будет.
Нат присел у стены. Штукатурку он расковыривал методично, сосредоточенно. Куски ее падали на пол, и паркет постепенно покрывался слоем бело-желтой едкой пыли.
Райдо отошел к окну и створку подвигал, убеждаясь, что держится она крепко. Замок серый, потускневший, и царапины на нем стертые почти, явно старые.
Окно не взламывали, во всяком случае изнутри.
– А знаешь, что самое любопытное? – Райдо устроился на подоконнике, глядя, как из-под покрывала штукатурки появляется истинное обличье стены. Серый металл был разделен на неровные прямоугольники, в центре каждого имелось отверстие, вот только ключи, надо полагать, исчезли вместе с панелью.
– Что?
Нат не удержался и, выбрав замок покрупней, сунул в него коготь, подергал, пытаясь подцепить пружину, но вынужден был отступить.
Райдо наблюдал за ним с усмешкой: младшенькому он понравится, пытливый. И глядишь, отойдет там, в городе, оттает. Вспомнит, что ему только-только шестнадцать исполнилось.
– А то… скажи мне, дорогой мой Нат, на кой ляд обыкновенному ювелиру сейфовая комната?
Нат вытащил коготь из замка и сунул в рот.
– Смотри, небольшой городок, небольшое поместье. Самое обыкновенное. На ваше похоже?
– У нас дом поменьше.
– Но похоже?
Нат нехотя кивнул.
– И что, было у твоего отца что-то, что понадобилось в сейфе держать?
– Мамины украшения…
– То есть сейф был.
– Был.
– Такой? – Райдо обвел рукой комнатушку, которая, лишенная мебели и обоев, с меловым ковром и ободранными стенами выглядела жалко.
– Н-нет. – Нат сел на пол и постучал в стену. – А там…
– Сейфовые ячейки. Как в банке. К каждой – свой ключ. И свой код. Снаружи крепится панель, через которую эти ячейки и открываются. Расчет такой, что если сюда и проникнет вор, то в сейфе он получит еще десяток сейфов… или два. И с каждым придется повозиться. Такие комнаты не в каждом городском доме есть… да и зачем, если ценности в банк отправить можно?
– А здесь?
– А здесь… допустим, городок маленький… – Райдо нравилось думать вслух, и Нат сидел, разглядывал запертые дверцы, которых, кажется, было около полусотни. – Допустим, банк здесь не особо надежный да и добираться до города несколько часов. И всегда есть шанс, что посыльного перехватят… ну и если ювелир, то с золотом работал, это да, камушки драгоценные опять же. Поэтому имело смысл обустроить сейф в доме… сейф, Нат, а не целую комнату. Вот и вопрос, что же здесь такого хранилось…
…и чуть тише он добавил:
– И как об этом узнал Бран?
Райдо просунул палец между прутьями решетки.
– Думаете? – Нат отступил от стены, которая почти освободилась из плена штукатурки, и руки вытер о штаны.
– Думаю… Бран хоть и паскудина редкостная, но рода хорошего… Особый отдел…
Райдо осекся.
Особый отдел.
Тихое местечко, в которое Брана пристроила семья, дабы шкуру сохранил и карьеру сделал, хотя, конечно, такая карьера зело дерьмецом попахивает, но говорят, что чины не пахнут…
Если младшенькому отписать, глядишь, и выяснит чего… Только осторожно, поелику наводила сейфовая комната Райдо на размышления, да все больше невеселые. Или не втягивать младшенького, но поискать из своих, из старых приятелей, которые еще живы? Главное, вопросы задавать аккуратно…
– Особый отдел. – Нат покатал слова на языке и скривился. – Про Особый отдел в документах не было…
Чем дальше, тем интересней.
Нат, сев на пол, обхватил колени. На сейфовую стену он смотрел хмуро, с раздражением, словно бы именно эта стена была виновата во всех Натовых жизненных перипетиях.
– Допустим… – Райдо погладил живот, угли в котором почти погасли, – допустим, Бран работал на Особый отдел… и допустим, в руки ему попала информация о неких ценностях, которые хранятся в одной маленькой усадьбе. Обыкновенной такой, каких множество. Территория формально уже наша…
Стоя думалось плохо, отвык уже, а комнатка была чересчур мала, чтобы в ней ходить. Райдо раскачивался, переваливаясь с ноги на ногу, в движении ему всегда было легче.
– Допустим, он не стал докладывать…
– Почему?
– Потому что заявился сюда с десятком, а не сотней. Ни обозов, ни переписчиков, ни старших. Или думаешь, Брану доверили бы серьезное дело? Нет, с этим разбирался бы кто-то посолидней чином… и поумней. Не позволил бы устроить из дома бордель с…
Райдо раздраженно пнул стол.
– Не важно. Но порядка было бы на раз больше… а Бран попросту засел в этой усадьбе. Ждал чего-то? Вопрос чего?
Нат не мешал. Он уже привык к этой манере Райдо размышлять вслух.
– Итак… если глобально… есть усадьба, и есть что-то очень ценное, что требовалось вывезти. Как? Задействовать официальный канал? Возможно, но тогда наше гипотетическое сокровище отправится прямиком в королевскую казну, а Брану в лучшем случае благодарность перепадет. Благодарность – это, конечно, хорошо, прекрасно даже, но война закончилась или вот-вот закончится, главное, что очевидно, уже осталось недолго. И что дальше?
– Что? – послушно поинтересовался Нат.
– А ничего. Многих отправят в отставку. И Особый отдел не исключение. Чинов Бран не поимел, подвигов не совершил. Славы рода не преумножил. Во всяком случае, – поправился Райдо, – я не слышал, чтобы преумножил. Скорее уж, зная дерьмовый его характер, нажил он не одного врага. А значит, из отдела его как пить дать поперли бы. А со-родичи навряд ли встретили бы его с распростертыми объятиями, потому как Бран сам по себе паскудник, каких поискать. И открывавшиеся перспективы, я тебе скажу весьма хреновые перспективы, не могли Брана не беспокоить…
Нат вновь повернулся к стене.
– Сокровище.
– Именно.
– В личную собственность.
– Или собственность рода, но думаю, там тоже не в курсе, иначе помогли бы разобраться. Бран был жадным. А жадность, Нат, запомни, очень-очень плохое качество. Вредное для здоровья, как видишь.
Мальчишка осклабился. А было время, он и улыбаться умел.
– Итак, у него есть сокровище, есть десяток, который это сокровище способен удержать…
– Трое, – поправил Нат. – В городе остались трое, включая Брана.
– Что ж… логично, чем меньше участников, тем больше доля каждого. Но втроем сокровище не переправить. Небезопасно. Портал не построишь, зона все еще нестабильна. Своим ходом… нет, долго, да и мало ли, на кого напорешься. Все-таки случайности – дело такое… но вот если подождать, пока поле стабилизируется, порталы станут возможны, тем более что места здесь тихие и сейф имеется.
Райдо постучал по стене.
– Ждать было скучно, вот они и развлекались, как умели… развлекались, развлекались… доразвлекались… что-то пошло не так…
И в результате получилось три трупа в запертой комнате, пожар, который явно был устроен нарочно, поскольку гореть здесь нечему. Сбежавшая альва.
– И в связи со всем этим возникают некоторые вопросы… первый, почему Брана не хватились? В Особом отделе нравы, я слышал, вольные, но не настолько, чтобы можно было на полгода пропасть. И второй, почему альве позволили уйти…
– Сама? – предположил Нат.
Райдо покачал головой. Эту версию он отбросил почти сразу:
– Будь у нее возможность, ушла бы сразу. Нет, ее выпустили… она, может, и думает, что шанс представился, а на самом деле – выпустили…
– Цель? Если вдруг расследование…
– Возможно. Это объясняет, почему оставили цепи и свидетельницу, но не объясняет, почему она жива. Понимаешь? Да, внешне красиво. Убила троих. Скрылась. И мотив имелся, и возможность… но в этой истории ее выгоднее было бы прикопать где-нибудь в лесочке. Так оно надежней. А то мало ли, найдут, вопросы задавать станут, докопаются до чего. А ее отпустили. Это неправильно. Нелогично.
Райдо провел ладонью по стене. А Нат озвучил вопрос:
– Оно еще здесь?
– Сомневаюсь… хотя… есть у меня кое-какие мысли, но спешить не будем. Сначала я кое-что выясню…
– Взламывать будем?
– Придержи свои разрушительные устремления, Нат. Зачем портить такую полезную вещь? Просто напишем представителю фирмы. Как-никак я ныне хозяин. У нас в доме бумага имеется?
И бумага, и чернила нашлись, вот только неуклюжие пальцы с трудом управлялись с пером. Но впервые, пожалуй, со времен далекого детства эпистолярные упражнения не раздражали. Напротив, Райдо испытывал глубочайшее удовлетворение и даже азарт, которого прежде бывал лишен.
– Еще одно, – откинувшись в кресле, он пощекотал нос рыжим куриным пером, которому совершенно нечего было делать на рабочем столе, – приглядывай за ней. Если все именно так, как я думаю, то… кто бы ни выпустил альву, вряд ли он рассчитывал на то, что она вернется.
Зима началась ночью.
Ветра свили гнездо в печной трубе, а корка льда сползла с подоконника на стену. Дом же окончательно погрузился в тяжелый муторный сон. И Ийлэ, касаясь стен, слушала тишину.
Замирали молодые побеги. Погружались в дрему корни, защищенные от мороза толстой корой. И все-таки у самой поверхности земли, пропитанной многими дождями, кора эта трескала, и трещины причиняли дому боль. Потом, позже, и они зарастут, заполнившись тягучим соком, остекленев, а быть может, очнутся и спящие почки, выберутся тонкими хлыстами дичающих побегов, которые придется срезать, и дом вновь будет недоволен.
Ийлэ вспоминала зиму.
Эту.
И позапрошлую, которая была почти обыкновенна. И предыдущую. И все зимы, на которые хватало памяти. Вспоминала и вновь рассаживала кукол за столиком, устраивая чаепития, разговаривая с ними шепотом.
– …а вы помните тот бал, найо Шеми? Ежегодный, зимний. Вы, верно, вновь собираетесь и даже заказали платье… вы всегда заказываете платье загодя, и не одно, но дюжину, а последний месяц маетесь с выбором… бал ведь состоится, да?
Она кутала куклу в тряпье.
– В тот год вы выбрали наряд из двухцветной тафты и весьма рассчитывали, что зимнюю корону отдадут вам. А мама пришла в белом… белое на белом… зимняя вышивка… и алмазное ожерелье… а мне досталось золото… желтое на желтом – тоже красиво, но белое ярче… и корону вручили ей. Вы очень обиделись. Но ничего, найо Шеми, в нынешнем году у вас не осталось конкурентов…
Корона из проволоки, найденной тут же, в сундуке, легла на спутанные волосы куклы.
– А как поживает ваш супруг? Надеюсь, он пережил войну без потерь… конечно, я уверена, он ведь благоразумный человек. Вы всегда это говорили… и торговля его не претерпела ущерба… быть может, напротив, если знать, с кем торговать, то… ах, я говорю о вещах, о которых не пристало упоминать молодой девушке? Уж извините, не буду больше… вы ведь танцуете?
Ветра завывали вальс.
А быть может, Ийлэ лишь казалось, и эта музыка звучала в ее голове, но она была такой громкой, навязчивой, что Ийлэ не способна была удержаться.
Куклы кружились. Кланялись друг другу, притворялись вежливыми…
– Все играешь? – Пес смазал петли, и теперь дверь на чердак открывалась бесшумно. – Я зайду?
Он всегда спрашивал разрешения, но никогда не давал себе труда дождаться его. Вот и сейчас переступил порог, привычно наклонившись – пес был слишком высок.
– Как ты?
Ийлэ пожала плечами: обыкновенно. Так же, как вчера, позавчера и за день до того.
Дайна больше не появлялась. И денег своих назад не требовала. Наверное, это неспроста. Ей нужно было, чтобы Ийлэ ушла из дому.
Для чего?
Она боится, что Ийлэ расскажет правду? Глупость. Если и возникнет такое желание, то кто ей поверит?
– Ты… здесь не мерзнешь? Я одеяло принес.
Он положил его на пол, благоразумно не приближаясь.
– И свитер… это мой, он тебе великоват будет, но зато теплый. Я его у одной старушки купил. Она коз держала, и из козьего пуха нитки. Я знаю, что такие – самые теплые. Ты не смотри, что ношеный, его стирали… честно. Правда, у Ната со стиркой не очень получается… у него вообще с хозяйством не очень получается, хотя он старательный.
Ийлэ склонила голову набок.
– Надо бы в город съездить, прикупить кое-чего, но… погода мерзотная, из дома выглядывать никакого желания. А Ната гонять, так он чисто из вредности купит не то. – Райдо опустил крышку сундука и сел сверху, ноги вытянул. – Сколько ты будешь здесь прятаться?
За прошедшую неделю он неуловимо изменился.
Ийлэ разглядывала его исподволь, а он не мешал. Сидел. Молчал. Ждал ответа? Она не желает с ним разговаривать.
Обычно он приносил еду, а сегодня только одеяло и свитер.
Сидит, шевелит ногами… носки вязаные, полосатые, надо полагать, у той же старухи купленные, из пуха козьего… и брюки домашние измялись… папа никогда не позволял себе ходить в мятых брюках. А клетчатых шерстяных рубашек в его гардеробе вовсе не было.
Белые сорочки. Домашние костюмы из мягкого вельвета ли, из тонкого сукна. Летом – непременный светлый лен, который мнется, и это отца раздражает, но лен уместен в жару.
– Ийлэ… послушай… холодает, а чердак – не лучшее место для ребенка… и для тебя тоже… ты вроде и ешь, но куда все уходит? – Райдо наклонился, опираясь ладонями на собственные колени. – В тебе же не понятно, в чем душа держится…
Не держится – задерживается. Но Ийлэ согласилась: не понятно.
И в чем.
И зачем.
И будь она посмелей, умерла бы. У нее было столько возможностей умереть, а она живет. И наверное, в этом есть какой-то смысл, отец вот утверждал, что высший смысл есть во всем, но Ийлэ он не доступен.
– Я не хочу, чтобы ты умерла…
– П-почему?
Ответ очевиден. Потому что тогда умрет и он, но пес промолчал, поднялся и велел:
– Пойдем. Время обеда. А обедать лучше в столовой…
Изменилась.
Прежняя форма. Прежние обои – темно-винные, расписанные ветвями папоротника. Панели дубовые. Камин, в котором горел огонь, и вид его заворожил Ийлэ настолько, что она замерла, уставившись на пламя. И стояла долго, пока пес не закашлялся.
– Вот же… – Райдо мазнул по рту ладонью, которую торопливо вытер о штаны. Но запах крови не спрятать, и ноздри молодого пса дрогнули, он повернулся к Ийлэ, уставился тяжелым, настороженным взглядом.
Ждет? Чего?
Разрыв-цветок пока дремлет, и пусть сон его истончился, но псу не грозит смерть, а остальное – пусть терпит. Пусть ему тоже будет больно. Ийлэ ведь хотела, чтобы кто-то из них испытывал боль, бесконечную, без надежды на спасение.
Это справедливо.
– Садись куда-нибудь, – велел Райдо, указав на стол, которого прежде в столовой не было.
Огромный. Массивный. Уродливый. Он занимает едва ли не половину комнаты, и свет газовых ламп отражается на черной лакированной его поверхности.
– Нат, помоги даме…
– Обойдется, – огрызнулся младший, но встал.
А Ийлэ и вправду обошлась бы, она отступила, прижимая к себе отродье, которое пришлось вытащить из корзины, и теперь оно елозило, терлось носом о шею Ийлэ, хныкало тихонько…
Нат отодвинул стул медленно, и тяжелые ножки, скользя по полу, издали протяжный скрип.
– Садись… дама, – бросил пес насмешливо.
Отец всегда помогал маме.
Стулья были другими, легкими, из светлого дерева… в год, когда началась война, мама сменила обивку на модную папильоновую, и папа шутил, что в доме прибыло бабочек…
Нынешние стулья массивны. Полированное старое дерево. Темный лак. Запах старого дома, в котором они хранились. Ийлэ провела мизинцем по краю…
Маме бы не понравились. Она не любила тяжелые вещи.
– Погоди. – Райдо все-таки поднялся. Он шел, скособочившись, опираясь ладонью на столешницу. – Дай ее… тебе надо нормально поесть.
Отродье больше не умещалось в широкой ладони пса. Он прижал ее рукой к плечу, и меж растопыренных пальцев выглядывала посветлевшая макушка, волосы на которой стали завиваться. Свисали пятки, виднелись ручонки, тоже розовые, с крохотными пальчиками. И эти пальчики шевелились, словно отродье пыталось зацепиться за пса.
Не доверяло?
Правильно. Псам нельзя верить.
– А тебе мы тоже стул купим, – пообещал Райдо, к своему месту он возвращался очень медленно, ступая столь осторожно, что Ийлэ занервничала. – Но позже… сейчас тебе сидеть нельзя… у моих племянников был красивый стул. Такой высокий, на резных ножках. И колыбелька была, с балдахином. И еще погремушки… соска серебряная. Тебе бы понравилась серебряная соска? Им – не очень. И я понимаю. Я как-то попробовал ее… ну интересно же, так вот, не понимаю, как существо в здравом уме может металл сосать. Он же мерзкий. Но купим, просто для порядка. У каждого ребенка должна быть своя серебряная соска. А будешь ты ее сосать, мы потом решим… вот Нат съездит в город, привезет каталоги…
– Сегодня? – Нат явно не был настроен на поездку.
– В принципе, – разрешил Райдо, которого, кажется, больше интересовало отродье, чем обед. – Выпишем всего… если, конечно, у мамаши твоей хватит ума переселиться, а если не хватит, то пускай она себе остается на чердаке, может, для альвы это вообще нормально?
Ийлэ ничего не ответила.
Она уставилась в тарелку, пустую, белую… старый сервиз, который мама отправила на чердак. В нем не хватало пары соусников и большое блюдо для торта дало трещину.
Столовое серебро чужое.
А скатерти нет.
– Ты ешь, – сказал Райдо, баюкая отродье. – Кстати, как тебе Ингерхильд?
– Ужасно. – Нат подвинул к себе пустую тарелку и, взяв нож, принялся чертить узоры. Звук выходил мерзким, нервирующим.
– Я не тебя спрашивал. И веди себя прилично.
– Или что?
Вести себя прилично в присутствии альвы Нат явно не собирался. Ийлэ его раздражала. Даже не так, он ее ненавидел, наверное, почти так же, как сама она ненавидела псов. И эта взаимная ненависть странным образом сближала.
Взяв нож, столовый, из мягкого металла и с лезвием закругленным, Ийлэ провела им по белоснежной фарфоровой поверхности.
– О нет! Еще и ты! Как дети малые. Кстати, Ингерхильд звали мою прабабку. Очень достойной женщиной была… говорят, матушка на нее похожа… хотя, пожалуй, действительно неудачный выбор, да…
Он погладил отродье пальцем по макушке.
В его руках она молчала. И щурилась. Улыбалась беззубою широкой улыбкой.
– Дайна! – От крика пса Ийлэ вжалась в спинку стула. – Дайна, хрысь тебя задери! Долго ждать?
Она вплыла с серебряным подносом из тех, что остались от бабушки… мама никогда их не использовала, хранила как память и…
Дайна остановилась:
– А… она что здесь делает?
– Обедает, – ответил Райдо. – Собирается отобедать, если, конечно, нас сегодня вообще обедом порадуют… так как, Дайна? Порадуют?
– Она… за столом…
Райдо обернулся, убедившись, что Ийлэ именно за столом, а не под ним, и пожал плечами.
– Но… – Дайна осеклась.
И губы поджала, проглатывая недовольство этим своим по-жабьи широким ртом. Только взгляд полыхнул.
Ненавидит.
Не она одна.
Глава 8
Альва ела очень медленно и аккуратно, изо всех сил делая вид, что не голодна, но ей и Нат-то не верил. Хмыкнул, отвернулся… недоволен.
Ничего, проглотит. Сам вон в тарелке ковыряется, перебирает. Местная кухня Нату не по вкусу. Впрочем, здесь ему все не по вкусу, начиная с альвы.
Она зачерпывала ложкой суп, подносила к губам, едва заметно наклоняла голову, проверяя, на месте ли Нат, точно подозревала его в желании эту самую ложку отнять, и после этого глотала. Зачерпывала другую… и в этом ритуале виделось многое.
Спросить?
Не расскажет. Ни про комнату, ни про остальное. Замкнется, вернется на чердак и спрячется под треклятое одеяло, под которым и будет лежать, пока голод не выгонит.
Или малышка.
Та выросла, ненамного, но все же, и заметно потяжелела. Под подбородком наметилась характерная складочка и на руках тоже, и сами эти руки более не походили на высохшие ветки. Конечно, ей было далеко до племянников и племянниц, розовых и пухлых, напоминавших Райдо фарфоровых кукол.
И пахло все еще болезнью, но…
Малышка будет жить. И альва тоже. А на остальное у него есть время. Главное, чтобы тварь внутри Райдо с ним согласилась. Она ведь долго ждала, обождет еще пару месяцев…
Он страсть до чего хочет поглазеть на цветущие яблони…
Обед, сколь долго бы он ни тянулся, подошел к концу, и альва, выбравшись из-за стола, уставилась на Райдо… глаза какие зеленющие, раскосые, к вискам приподнятые. Скулы острые. И подбородок острый. Щеки все еще запавшие, но уже не настолько, чтобы к зубам прилипнуть.
– Хочешь уйти?
Она нерешительно кивнула.
– Иди. Я тебя не держу, а ее оставь, ей на чердаке делать нечего. Там сквозняки и вообще место для ребенка неподходяще…
Альва нахмурилась. И в этот момент сделалась невероятно похожа на Ната.
– Предлагаю перейти в гостиную. Слушай, чем обычно по вечерам тут заниматься принято было?
Он не думал, что альва ответит, но губы ее дрогнули, не то в улыбке, не то в болезненной гримасе:
– Мама… вышивала.
– А моя вышивать не любит. Умеет, конечно. Она у меня все умеет, что положено уметь леди, но не любит. Букеты из перьев – дело другое. Ты бы видела, какие картины она составляет… а отец?
– Работал.
– А ты? – Райдо переложил малышку на второе плечо.
– Читала. Играла. Рисовала.
Короткие ответы. Сухие слова. И Нат не выдерживает. Всего-то шаг, но и его достаточно, чтобы альва обернулась, резко, сжимаясь в ожидании удара.
– Спокойно. Нат тебя не тронет. Он старается выглядеть страшным, а на самом деле щенок… и да, альвов не любит, а ты не любишь псов, будем считать, что у вас, как это… паритет! Вот! – Райдо поднялся.
Больно.
Пока боль глухая, скорее даже отголоски ее, не позволяющие забыть, что болезнь не ушла. Отступила на дальние рубежи его, Райдо, истощенного тела. Но вернется.
Завтра. Или послезавтра. Или когда-нибудь… хорошо бы, после того, как яблони зацветут. До треклятой весны уйма времени, он все успеет.
– Что ж… слушай, а ты читала вслух или как?
– По-разному, – ответила альва. Она не сдвинулась с места, но вывернулась так, чтобы следить за Натом. И он, кажется, поняв, что воспринимают его как угрозу, застыл.
– Тогда почитаешь мне? А то с глазами какая-то ерунда… плывет все… и вообще, я сам не особо читать люблю, но если кто-то…
Альва не сразу, но кивнула.
Читала она негромко, но выразительно, и книга, взятая наугад, скучная до невозможности, постепенно оживала. Райдо вслушивался не столько в историю, которая была обыкновенна, не то о несчастной любви, не то о столь же несчастной жизни, сколько постепенно впадал в дрему.
А хорошо бы, чтобы так всегда…
Вечера семейные, но не такие, как дома, когда к ужину следует всенепременно переодеваться, пусть бы и ужин этот проходит исключительно в узком кругу. За стол по гонгу, из-за стола – по гонгу. Беседы исключительно на одобренные матушкой темы…
Наверное, в этом ничего плохого нет, но… душно…
Альва замолчала. Смотрит.
Райдо приловчился чувствовать на себе ее взгляд, в котором… пожалуй, раньше была ненависть, а теперь… любопытство? Недоверие? Усталость. Обнять бы ее, сказать на ухо, что закончилось все, и та война, которая большая, и собственная ее… и раны залижутся. Так ведь не поверит. На ее месте он бы и сам не поверил, поэтому и сидит, притворяясь спящим. Малышка вот взаправду уснула, тепло ей, сытно. А молоко не допила, ну и ладно, Райдо потом сам… хотя он молоко не любит, но это – вкусное.
– Устала? – спросил он, когда альва шевельнулась.
– Нет.
– Устала… если хочешь – иди отдыхай, но не надо снова на чердак, ладно? Там все-таки холодно. А в доме комнат хватает. Выбирай любую… если боишься чего-то…
…кого-то…
– …запирайся изнутри. Слушай, а… может, назовем ее Марджут?
Альва фыркнула.
Но ночевать осталась в доме.
Несколько следующих дней прошли вполне мирно.
Альва облюбовала угловую комнату, сама перетащила в нее и одеяло, и подушку, и свитер Райдо, который надевала, пусть бы свитер этот был для нее чересчур велик. Она закатывала рукава и поднимала воротник так, что он прикрывал острые уши. Из-за воротника выглядывал кончик носа и зеленые настороженные глаза.
Ната она сторонилась.
И Дайны.
И пожалуй, Райдо тоже, но ему единственному позволяла подходить почти на расстояние вытянутой руки.
С ним и разговаривала, если чтение можно было назвать разговором. Она забиралась в кресло у камина, брала книгу, которая не стала интересней, и читала. Райдо же устраивался на полу.
Матушка бы не одобрила.
Ни альву, ни пол, ни книгу, лишенную поучительной компоненты. Впрочем, отчасти поэтому Райдо слушал. И ноги вытягивал к камину, надевал вязаные носки, купленные Натом в местной лавке. Носки были плотными, из толстых крученых нитей, и плохо тянулись, зато в них было тепло.
Свой дом.
Почему-то раньше он не воспринимал Яблоневую долину домом, скорее уж местом, где можно спрятаться от назойливой заботы близких и тихонько сдохнуть. А теперь вот носки, камин и огонь. Малышка, которая дремлет на полусогнутой руке, по-прежнему легкая, что пушинка, но личико покруглело. Смешно во сне губами шлепает, точно подбирает слова… во сколько дети говорить начинают?
Райдо вряд ли дотянет.
Жаль. Смешные. И эта не исключение. То хмурится, становится серьезной-серьезной, то улыбается широко. Слюни пускает.
За ней интересно наблюдать и за мамашей ее тоже. Оборвала чтение на полуслове, сидит, смотрит, прикусив корешок книги. Страницы пальцем заложила.
Волосы отрастают, черные и гладкие с виду, но на затылке топорщатся этакими вороньими перышками, а челка вот длинная, и прядки падают на самые глаза. Она их отбрасывает и, забыв о том, что кругом враги, поглаживает переносицу пальцами. И пальцы эти в подбородок упирает.
Думает.
О чем? Не скажет ведь правду.
Нат в углу прячется, у двери, и дверь приоткрыл, следит за коридором. Не потому, что опасности ждет – привычка такая, как и та, по которой он повсюду с собой таскает нож. Небось и сейчас при нем. В рукаве старой кожанки? Надо будет купить ему новую куртку, с бахромой, чтоб как у шерифа… и ножны потайные, а то еще порежется ненароком…
Хотя нет, не порежется. Нат с ножом управляется куда лучше, чем с уборкой. Но альву он слушает. И взгляд от двери отводит, и почти расслабляется, почти верит, что опасности нет…
Чай вот подает.
Чай приносит Дайна, но Нат, заслышав ее шаги, соскальзывает с кресла. Он выбирается в коридор и принимает поднос. Порог – это граница, которую Нат бережет свято от чужаков, а Дайна – именно чужак.
Она недовольна.
Она спрятала яркие наряды, но и серые ее платья неизменно выглядят вызывающе. Однако Райдо молчит. Он устал от войны и шаткое перемирие в собственном доме ценить умеет.
Дайна ненавидит альву.
За что?
Спросить бы? Но Райдо не уверен, что скажут правду, да и… это тоже действие, а ему сейчас не хочется действовать и думать не хочется ни о чем, кроме огня, камина и книги вот. О том еще, пожалуй, что голос у альвы мягкий, бархатистый. И ему нравится, как она щурится.
Он хотел бы увидеть улыбку, но подозревает, что это – невозможно.
Зима стирает улыбки.
Поднос с чаем Нат ставит на столик у двери и долго возится, переставляет чашки, сахарницу, высокий графин с молоком и масленку. Он разливает чай сам, на троих, но чашку альвы ставит на пол у кресла, и той приходится откладывать книгу, наклоняться и тянуться.
Чашку Райдо Нат подает. Он точно знает, какой именно чай Райдо по вкусу. Крепкий. Сладкий. И без молока. А себе вот Нат наливает едва ли не полкружки, он и просто пил бы, но молоко – это для детей, а Нат взрослый. Но не настолько взрослый, чтобы не стыдиться своих привычек.
Он намазывает тосты маслом.
Три.
И снова – альве на пол, но уже на фарфоровом блюдце. Почти ритуал. Поставить. Отступить. Отвернуться. Обождать несколько секунд и блюдце забрать. Оно одно на троих, и почему Нат не попросит принести еще, Райдо не знает.
Плевать.
Главное, что хлеб прожарен, а масло свежее, солоноватое. Чай горячий. Сдобрить бы его виски, но тогда Нат вновь начнет хмуриться, будет виться вокруг, подбираясь ближе, пытаясь уловить признаки болезни.
Разрушит все.
И Райдо запивает тосты чаем. Молчит. Все молчат, но в этом молчании по-своему уютно. И слышен что дождь, что шелест ветра…
По первым морозам, схватившим дорожную грязь, Нат отправился в город и вернулся с целой стопкой писем.
– Почитаешь? – спросил Райдо, протягивая те, которые от младшенького. И альва кивнула.
Она взяла письма из рук, почти коснувшись пальцами пальцев, и несостоявшегося прикосновения этого, надо полагать, сама испугалась. Отпрянула.
– Почитай. – Райдо отступил и опустился на ковер у камина, подушку к себе подгреб. Ее бросил Нат, и подушка так и осталась лежать на полу. С подушкой удобней, не так жестко лежать… – Почерк у младшенького еще тот… он не виноват, он как-то в драку ввязался… не ввязался, это не совсем правильно. Подловили его. Ограбить пытались. А этот дуралей не отдал, вот и побили так, что, думали, все уже… а он выжил. И ходить наново научился. И вообще многому наново научился. Ему говорили, что не сможет, а он смог. Упрямство – это наша семейная черта.
Альва перебирала конверты, раскладывая их на спинке кресла.
По датам?
Дотошная.
– Он сейчас в полиции работает, следователем… от той истории только почерк корявый остался. Сама увидишь.
Альва вскрывала конверт когтем, вытаскивала лист и, развернув, читала:
– Здравствуй, дорогой братец…
Райдо закрывал глаза.
Ему было уютно.
И не больно.
Почти.
…а зима наступала. И дороги, поплывшие по осенним дождям, оказались под плотными панцирями льда. Лед этот, поначалу хрупкий, кружевной, день ото дня становился все более прочен. А однажды ночью, когда вода вовсе замерзла, выпал снег.
И Райдо, выбравшись из дому, зажмурился, прикрыл глаза, не в силах вынести слепящей белизны.
А спустя два дня в доме появились гости.
– Уж простите нас за то, что без приглашения. – Супруга доктора куталась в соболя. Из экипажа она выбиралась медленно, опираясь на руку супруга, который рядом с нею казался тонким, хрупким. – В провинции нравы проще. Мы решили заглянуть… просто по-соседски.
– Очень рад вас видеть, – мрачно произнес Райдо, прикидывая, как бы половчей выпроводить сию, без всяких сомнений, достойную даму, а заодно и супруга ее, поглядывавшего на Райдо с неприкрытым интересом, и дочерей.
– А мы уж как рады! Я Виктору, – она произносила это имя с ударением на второй слог, жестко, и доктор вздрагивал, – давно говорила, что мы просто-таки обязаны вас навестить! А он мне твердил, что мы будем мешать. Вы себя плохо чувствуете…
У Райдо появилось искушение сказать, что доктор прав и что чувствует он себя погано, а потому к приему гостей вовсе не расположен.
– Но я вижу, он как всегда преувеличил. – Дама не оставила шансов на спасение. – Вы чудесно выглядите… загорели… я слышала, что у вас загар не принят, но у нас здесь…
– Нравы проще.
Райдо протянул руку, на которую дама охотно оперлась.
– В этом есть свои преимущества…
Впервые, пожалуй, Райдо оценил важность хороших манер. Знакомые матушки хотя бы изволили предупреждать о визитах, давая Райдо возможность скрыться. А эта…
Женщина поправила высокую бархатную шапку, расшитую бисером и пухом.
– Знакомьтесь, мои дочери… Виктор! Не стой столбом, помоги девочкам выбраться… это Мирра…
Светловолосая красавица в собольем полушубке присела, глядя снизу вверх профессиональным взглядом невинной девицы.
Райдо таких опасался.
И взглядов.
И девиц.
– А это Нира. Ей всего пятнадцать… и нам бы устроить дебют, но вы же понимаете, что война…
Нира пошла в отца, ее нельзя было назвать некрасивой, но и до совершенства сестры ей было далеко. Подбородок слишком мал, а губы – велики. Нос курносый, напудренный в жалкой попытке скрыть веснушки. И зря, потому что с веснушками она бы смотрелась гармоничней. Волосы цвета меда, прическа сложная, мама бы назвала ее вычурной. И нашла бы способ выставить нежданных гостей из дому.
Зачем они здесь? Шкура Райдо давно уже перестала быть ценным трофеем в заповедниках брачной охоты… или это там?
Столица.
В столице прорва младших сыновей, и сыновей средних, и вообще всяких, на любую масть. И девиц хватает. Только нужны девицам старшие. Здесь же небось женихов и прежде немного было. А у Райдо поместье, которое само по себе ценность.
Он хмыкнул, подумав, что теперь не просто так, сам по себе, но с приданым.
– Я так счастлива, что вы больше не умираете! – Старшая из сестер дотерпела до порога и, когда Райдо, кляня себя и матушку за хорошую дрессировку, помог ей освободиться от полушубка, нежно коснулась руки.
– Почему? Умираю.
– Да?! – Удивление было наигранным.
А ведь знает.
И она, и сестрица ее, которая сунула свой полушубок батюшке, несколько смущенному, но не способному супруге перечить. Та же разоблачалась неторопливо, озираясь.
По-хозяйски так озираясь.
Она уже небось полагала это поместье своим и примерялась, как половчей распорядиться собственностью.
– Вы замечательно выглядите… Виктор полагает, что у вас есть все шансы на выздоровление… – Шубу, солидную, соболиную, на красном плюшевом подкладе, она сунула Дайне, которая от этакой чести смешалась. – А где прислуга?
Райдо это тоже было интересно.
– Не нанял еще.
– До сих пор? Помилуйте, не обижайтесь, бога ради, если я со всею прямотой, но за подобным поместьем толковый пригляд нужен.
Она сняла перчатку и провела по широким перилам, поморщилась.
– В лучшие дни здесь работало до дюжины человек. Три горничные и еще личные… потом камердинер бедного… – найо Арманди приложила к глазам перчатку, словно платочек. – До сих пор не могу поверить, что их больше нет… мы были друзьями… нет, не в том смысле, что близкими, но… здесь, в провинции, людям одного круга следует держаться вместе… милочка, проследите, чтобы меха разместили должным образом… так о чем я? Ах да… два лакея… дворецкий, экономка… настоящая экономка, а не это, прости господи, недоразумение… кухарка и две помощницы… нет, я понимаю, что вам недосуг заниматься этими вопросами, однако и бросать все так, как есть, нельзя.
Райдо кивнул, чувствуя, что от голоса этого, нарочито бодрого, у него начинает звенеть в ушах.
Левой его рукой завладела Мирра, которая старательно притворялась, что невероятно смущена. Сестрица ее держалась поодаль, но сложившейся ситуацией явно была недовольна.
Как и Райдо.
– Дому нужна женская рука. – Найо Арманди весьма по-свойски шагала по коридорам старого поместья, и каблуки ее туфель громко цокали. Шелестело тяжелое парчовое платье, слишком роскошное для свойского визита, сияли серьги в ушах. Переливалось ожерелье. – В конце концов, именно на слабых женских плечах лежит великая миссия – сохранять в доме уют и покой… мужчине не понять…
– Уверяю, я очень понятливый. – Райдо остановился, чувствуя, что сейчас сорвется.
Нехорошо.
И матушка не одобрила бы. А с другой стороны, это семейство явно бывало в доме не раз и не два…
– Вы так смешно шутите! – прошептала Мирра. – Простите маменьку, она слишком переживает…
– О чем?
– Обо всем! – Взгляд синих глаз очень был чист, прекрасен и напрочь лишен тени разума.
– Переживать обо всем… – Райдо наклонился, вдохнув терпкий запах духов. Снова ландыши, но эти хотя бы не из аптекарской лавки, сквозь тягучий цветочный аромат не пробиваются ноты дешевого спирта. – …Очень утомительно…
И найо Арманди, окончательно уверившись, что новый хозяин Яблоневой долины вовсе не так уж страшен, как сие расписывал супруг – бесхребетная ничтожная личность, которая без заботы найо Арманди так бы и осталась помощником аптекаря, – величественно кивнула.
Нельзя сказать, чтобы Райдо из рода Мягкого Олова ей понравился.
Нет.
Во-первых, он был просто-таки неприлично большим, подавляющим даже, а Маргарет Арманди терпеть не могла, когда ее, пусть и невольно, пытались подавлять.
Во-вторых, простоват.
В-третьих, несмотря на уверения супруга, он и вправду выглядел довольно-таки живым. И как знать, не ошиблась ли эта бездарь, за которую Маргарет угораздило выйти замуж? Впрочем, к этой, пока сугубо теоретической, ошибке Маргарет готова была отнестись снисходительно. Если мыслить широко – а Маргарет относила себя к людям именно с таким мышлением, – то и от живого мужа могла быть польза.
Если, конечно, Мирра сумеет себя правильно повести. А в этом Маргарет не сомневалась: старшая дочь что внешностью, что характером пошла в нее.
А вот с младшенькой придется повозиться…
И главное, что от Виктора никакой помощи, только и способен, что вздыхать. Но ничего, Маргарет справится, всю жизнь справлялась же…
Дом вычистить от чердака до подвалов, главное, чтобы чистили в присутствии Маргарет, а то мало ли… за прислугой нынешней глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, и растащат все, что плохо лежит, а что хорошо – перепрячут и все одно растащат…
Ремонт обойдется, конечно, в копеечку, но усадьба и доход немалый приносит в умелых руках, не говоря уже о том, что собственное пса семейство наверняка не бедствует.
– Но я рада буду помочь вам во всем… – Маргарет огляделась.
Гостиная выглядела… убого…
Отвратительного цвета обои, явно дешевые, мебель приличная, но давно вышедшая из моды, верно, хозяин привез то, в чем больше не нуждались.
Один живет, бобыль бобылем… оно и к лучшему, небось, будь тут семейка его, Маргарет и близко бы к дому не пустили… все они, что альвы, что псы, от честных людей нос воротят.
– Спасибо. – Райдо опустился в кресло. – Но мы как-нибудь сами…
– Здесь так мило… – пролепетала Нира, беспомощно оглядываясь на отца, который не нашел ничего лучше, как присесть у камина.
Нахохлившийся. Недовольный.
А чем, спрашивается, недовольный? Тем, что Маргарет заботится о семье? Кому-то ведь нужно быть мужчиной…
– Скажите, – Райдо прикрыл глаза, надеясь, что выглядит достаточно немощным, чтобы гостьи расслабились, – вы… вам ведь доводилось бывать здесь ранее? Ах да, конечно, вы же упоминали… простите, я стал таким рассеянным.
Его тотчас убедили, что его рассеянность – естественное следствие его состояния. Ему не следует перенапрягаться, а следует больше отдыхать. И конечно, нужен кто-то, кто этот отдых организует, потому как просто возмутительно, что в гостиной до сих пор нет подушек…
Действительно, как это Райдо жил без подушек?
И чай подали с запозданием, а выпечка недостаточно идеальна. Нет, конечно, Маргарет не критикует, она понимает, что мужчине, тем более нездоровому, невероятно сложно с хозяйством управляться, оно, хозяйство, требует женской руки.
И если бы Райдо позволил помочь…
Он позволил.
– Найо Арманди, – он принял из рук Мирры чай и подушечку, которую торжественно принесла Дайна, передав доктору, тот – супруге, а супруга вручила Мирре, – скажите, каким был дом раньше?
– Раньше?
– До войны, – уточнил Райдо, заталкивая треклятую подушечку за спину. – Мне бы хотелось воссоздать дом во всем былом его великолепии, но не хватает информации.
…а вопрос не понравился.
С чего бы? У нее нет причин хмуриться, ведь спрашивает Райдо о вещах безопасных, но найо Арманди медлит с ответом.
Мирра замолкает.
А Нира говорит громко:
– Дом был чудесным! Мы сюда часто приезжали. Найо Луари устраивала чаепития и еще музыкальные вечера…
– Мирра прелестно управляется с клавикордами! – поспешила заверить Маргарет, бросая на дочь предупреждающий взгляд. – Вы должны ее послушать. Виктор полагает, что музыка оказывает благотворное влияние на пациентов…
– Значит, музыкальные вечера…
…Ийлэ возраста Мирры, если и старше, то ненамного.
А она с этими самыми клавикордами умеет управляться? Должна бы. Благородных девиц учат вышивать, играть и петь, читать с выражением…
– И еще маскарады! Найо Луари, – Нира матушкин взгляд предпочла не заметить, – зимой устраивала потрясающие маскарады!
– Для детей, – сочла нужным уточнить найо Арманди.
– Так я и была ребенком, – возразила Нира. – Помню, мама сшила мне костюм ромашки, сказала, что я такая же конопатая. Но ромашки ведь не конопатые, а солнечные… вот Мирра была розой…
Мирра вздохнула:
– Простите мою сестру, она еще ребенок, а вам вряд ли интересно…
– Отнюдь, – вполне искренне уверил Райдо. – Мне очень даже интересно…
– И у меня было такое желтое платье. Яркое-яркое. А к нему шляпка, украшенная ромашками, не живыми, конечно, из ткани. И длинные перчатки… они все время съезжали, что жутко меня раздражало! А Ийлэ предложила перчатки ленточками подвязать…
Она вдруг осеклась и сгорбилась, пробормотав:
– Простите… вам это действительно не интересно.
Пауза длилась недолго. Найо Арманди отставила чашку, сказав:
– Вы не представляете, до чего сложно в нашей глуши найти приличные обои. Приходится выписывать каталоги, ждать заказ. В прошлом месяце я решила несколько освежить гостиную, выписала чудесные, как мне казалось, обои незабудкового оттенка, но то, что пришло…
– Мама так переживала… – Тема обоев, похоже, устраивала Мирру куда более, нежели тема детских балов и детских же воспоминаний.
Ничего.
Райдо умел ждать.
И наблюдать.
Он кивал, соглашаясь в нужных местах – сказалась матушкина выучка, – вздыхал. Сочувствовал. Качал головой. И казался вполне искренне увлеченным беседой.
Наблюдал.
Доктор. Виктор, с ударением на втором слоге. Здесь, за Перевалом, имена другие, а люди те же. Слабые. И сильные. Добрые и злые. Всякие. Этот – беспомощный. Прежде он казался иным. Солидным. Важным. Уверенным в себе. Но теперь та его маска поблекла, а может, просто сменилась иной. Виктор Арманди сидит в уголке, поджав узкие губы. Он недоволен, но слишком слаб, чтобы это недовольство выказать.
…но держится прямо.
Корсет?
Похоже на то, слишком уж неестественная осанка. Костюм куплен в магазине готовой одежды, поэтому сидит хорошо, но не идеально. И по рукавам заметно, что костюму этому не один уж год.
Найо Арманди не считает нужным баловать мужа.
На макушке его проклевывается лысина, и от доктора тянет касторовым маслом, запах слабый, и прежде Райдо его не замечал, но обострившееся чутье позволяет наново читать старых знакомых. Доктор смазывает голову маслом в тщетной попытке приостановить выпадение волос, а поскольку масло смывается плохо, то эти самые волосы, наполовину рыжие, наполовину седые, слегка вьющиеся и непослушные, покрывает тонким слоем пудры. Она и лежит на плечах его визитки.
Мирра рядом.
Ее окружает облако духов, верно, с псами она прежде не встречалась, а потому и духами она пользовалась щедро.
Красива? Пожалуй. Кукольная правильная красота, которая пришлась бы по душе матушке… во всяком случае, не будь Мирра человеком, пришлась бы.
Она злится. На кого?
Не ясно, но злость мелькает, искажая совершенные черты ее личика, и тогда Мирра касается щеки мизинчиком, а в уголках губ появляются складки, пока едва заметные, но с годами они станут глубже. Бабушка учила, что по рисунку морщин можно прочитать чужую душу, и собственная, Мирры, пока скрытая, проглядывала в чертах ее матери.
Властность.
Уверенность, которая переходит в самоуверенность. Тяжелый подбородок. Белый лоб, слишком высокий, чтобы это было естественным, и если приглядеться, становится заметна что пудра, что синеватая кожа под ней. Лоб найо Арманди подбривает и брови рисует, поскольку собственные ее растут слишком низко…
Смешная. Она не понимает, что смешна, как не понимают этого ни муж, ни дочери. Она убедила их в том, что по-прежнему прекрасна.
Умна.
Сильна.
Люди легко поддаются убеждению, и Мирра невольно пытается походить на матушку. Лоб, правда, не бреет, уже спасибо…
Райдо наклонился к ней, якобы для того, чтобы лучше слышать: нет, не бреет. А вот брови выщипывает. И прическа эта… матушка назвала бы ее вульгарно вычурной. Не говоря уже о том, что юным девушкам не пристало носить украшения с крупными камнями. Нет, она не нарушила приличий, она замерла на грани их и теперь ждет одобрения матушки, чтобы за грань переступить.
А ведь переступит в глупом своем желании получить то, что считает своим по праву.
Откуда такая странная мысль?
Райдо отвлекся, пытаясь понять. Ведь не на пустом же месте появилась…
…манеры найо Арманди, которая едва-едва сдерживается, чтобы не начать командовать…
…и взгляд Мирры…
…и поведение доктора. Он недоволен, но тем ли, что жена ведет себя столь вызывающе?
А младшая из дочерей выглядит растерянной. Ей определенно не по вкусу происходящее, но спорить она не смеет…
Шестнадцать будет? Ровесница Ната, хотя он выглядит старше своих лет, но вряд ли найо Арманди сочтет Ната достойным кандидатом на руку дочери, с другой стороны, эта дочь не похожа на тех, кто будет ждать родительского благословения.
И молчать она не станет.
Сейчас сидит тихо, но лишь потому, что присматривается к Райдо. Решает что-то… что? Упрямая линия рта, слишком, пожалуй, жесткая для девушки. И черты лица резковаты. Она и сейчас-то не красавица, а прежде, надо полагать, рядом с сестрицей ей и вовсе приходилось туго.
Ничего.
Тем лучше. Главное, не спешить.
…это будет хорошая охота.
Глава 9
На чердаке зима обжилась. Она коснулась кукол, выбелив спутанные волосы их инеем, покрыв коркой льда фарфоровые лица. И краски стерлись.
Умерли куклы.
Хорошо бы, если бы и люди тоже. Ийлэ села на пол, который был обжигающе холодным, и усмехнулась: надо же, она вновь ощущает холод.
К хорошему привыкаешь быстро.
Комната. Чистая постель. Теплое одеяло. Вода горячая. Еда. Огонь в камине. Книга… какая-то глупая книга о невозможной любви, которая никому-то не интересна.
Ийлэ – так точно.
Она читает, а пес слушает, вернее, дремлет под звук ее голоса. И отродье дремлет. А щенок сторожит их сон. Он садится у порога, настороженно вслушиваясь в то, что происходит вовне. Но иногда и он позволяет себе отвлечься.
В этих вечерах была своя прелесть.
И в горьковатом чае, который Дайна так и не научилась заваривать правильно: она сыпала слишком много заварки в холодный чайник и первую воду не сливала, оттого и чай получался излишне крепким, темным до черноты, но с едва уловимым привкусом плесени.
Дайна сторонилась Ийлэ, делала вид, будто бы не знакома…
Ложь.
Кругом столько лжи, что только куклы безопасны. Ийлэ рассадила их за столом. Отступила. Подползла к трубе, которая была горячей, и значит, отродью не грозит замерзнуть. Оно, отродье, спало, стиснув розовые кулачки, которые выглядывали из белых пеленок…
– Ты здесь? – Нат в отличие от хозяина разрешения не спрашивал, дверь толкнул и вошел. – Здесь.
Ийлэ замерла. Она знала, что щенок ее ненавидит, как и она ненавидит его. И, объединенные этой взаимной ненавистью, они были относительно безопасны друг для друга.
– Ты от них сбежала? – Нат забрался на сундук. Он сидел, покачивая левой ногой, и пятка стукалась о боковину сундука с глухим раздражающим звуком. – Ты их знаешь?
Ийлэ подумала, что можно не отвечать и тогда щенок уйдет.
Или останется.
Она сама не знала, чего ей хочется больше.
– Да, – сказала она и тоже села, прижавшись спиной к печной трубе. Старый свитер, который оказался неожиданно мягким и уютным, а еще настолько большим, что Ийлэ могла в него завернуться едва ли не с головой, грел неплохо, но труба всяко была лучше.
– И они тебе тоже не нравятся?
– Тоже?
Нат кивнул и доверительно произнес:
– Не люблю людей.
Ийлэ подумала и согласилась: в этом имелся смысл. Люди… люди не стоили доверия. И вообще ничего не стоили. Они притворялись друзьями, они обещали помощь, а вместо этого…
– Ты мне тоже не нравишься.
– Знаю.
– И хорошо, что знаешь. – Нат провел ладонью по волосам.
Украденный жест. Смешной.
– Чего?
Ийлэ не смеялась. Она разучилась, тогда, давно уже, но он все равно почувствовал ее… что? Готовность улыбнуться? Чушь какая.
– Я вообще здесь потому, что Райдо сказал за тобой присмотреть. Я и присматриваю.
– Нет.
– Что «нет»?
– Не только поэтому.
Она думала, что щенок разозлится, и на всякий случай нащупала нож. Нож Ийлэ украла на кухне, он был старым, с неудобной, слишком скользкой рукоятью и кривым коротким клинком.
Убить щенка вряд ли получится, но Ийлэ не позволит больше себя мучить… никому не позволит…
– Дура, – отозвался Нат. – Не трону я тебя… я вообще с бабами не воюю… вот была бы ты мужиком, тогда бы…
Он замолчал.
А Ийлэ убрала руку с ножа, ей почему-то хотелось поверить Нату. Он ведь ненавидит. А ненависть не лжет, в отличие от любви…
– Знаешь что… – Он спрыгнул с сундука и прошелся, ступал осторожно, почти бесшумно, но при этом выглядел расслабленным. Охотник? Ийлэ знакома с такими вот охотниками, которым, кажется, нет до тебя никакого дела, а стоит подпустить слишком близко… – Ты права, наверное… я и вправду здесь не только потому, что за тобой приглядываю.
Он повернулся спиной.
– Тут… спокойно, да? Ерунда вот такая… полная… спокойно… на чердаке… а они… из города, да?
– Да.
– Мамаша… доченьки… сватать будет?
– Не знаю. Наверное.
– Точно будет. – Нат почесал себя за ухом. – Небось думает, что Райдо на ее доченьке женится, а потом помрет. Только он не помрет, да?
Ийлэ промолчала.
До весны.
Еще так долго до весны, когда пробудившиеся леса вновь сделают ее свободной.
– Не хочешь говорить – не говори, только… – Нат стиснул кулаки. – Если он умрет, то… мне и делать ничего не надо будет… они сами тебя прибьют.
– Знаю.
И снова молчание. Нат ходит, уже не притворяясь охотником. Теперь он, напротив, кажется, выискивает доски, которые скрипят.
– Расскажи о них.
– Что?
– Что-нибудь… есть хочешь? – Нат сунул руку в карман и вытащил полоски сушеного мяса. – Это не тебе… это я вообще… таскаю с собой… ну на всякий случай… а то мало ли… совсем без еды хреново очень. На вот… бери.
Положил на пол и отступил.
Ийлэ взяла.
Она не хотела есть, во всяком случае, не настолько, чтобы рискнуть. В последние дни Ийлэ наедалась досыта, а кое-что, спрятав в рукава безразмерного свитера, уносила к себе: сухари, как и деньги, лишними не будут.
Но Нат ждал.
– Мои родители… – говорить о них тяжело, и горло вновь сводит судорогой, будто удавкой, но Ийлэ справляется. – И Арманди… дружили… они… часто здесь бывали… раньше…
Нат сунул полоску мяса в рот, он не жевал – сосал ее с видом весьма сосредоточенным, но смешным при этом не выглядел. Мясо Ийлэ понюхала, убеждаясь, что пахнет оно именно мясом и еще дымом.
– Потом война.
В первый год война была где-то за пределами города. Она жила исключительно на страницах газет, которые привозили дважды в неделю, и тогда лавка найо Элгери открывалась на час раньше.
Отцу газеты доставлял посыльный, и от них пахло уже не типографской краской, но корицей, повидлом и еще свежим хлебом, который заворачивали в тонкую бумагу.
О войне писали на первых страницах, но страницы эти отец просматривал бегло, морщась от раздражения, поскольку даже эта далекая война нарушала привычный уклад жизни. Исподволь. День за днем, неделю за неделей, пока не изменила все.
Налоги.
Неприятный разговор с шерифом, который появлялся часто, не то с просьбами, не то с требованиями… петиции и мамина подпись.
Ее болезнь, которая от нервов.
Папина бессонница. Отец ничего не говорил, но Ийлэ не слепая.
Слепые окна кабинета. И желтый свет. Плотно прикрытая дверь, но голоса все равно пробиваются.
– …ты должен вмешаться! – Мамин, тонкий, звенящий, как стеклянная струна, которая вот-вот разлетится на осколки. – Ты должен написать ей…
Ийлэ ступает на цыпочках. Она знает, что подслушивать нехорошо, но все одно крадется, не в кабинет, но в гостиную.
Стена тонкая.
А у Ийлэ есть ваза, которую можно приставить к стене. С вазой слышно лучше. Этому фокусу ее научила Нира, которая в свою очередь подсмотрела за Миррой… но речь не о том.
Цветы из вазы ложатся на глянцевый стол.
Вода отправляется в вазон с королевской бегонией, которая на неожиданный полив отзывается мягкой волной благодарности: горничная вновь о ней забыла.
Ийлэ почти прижимает вазу к стене, но в последний миг спохватывается: горлышко влажное, и на матушкиных шелковых обоях останутся следы.
Следам матушка вряд ли будет рада.
Ийлэ вытирает вазу подолом ночной рубашки, полирует досуха. И все равно страшно.
Родители спорят.
Никогда прежде они не позволяли разговаривать друг с другом так. Мамин голос почти срывается, а папа отвечает громко, но глухо, и без вазы слов не разобрать. А ей очень и очень надо узнать, что происходит.
– …она должна понять… политика раскола…
Мама не стоит на одном месте, Ийлэ почти видит, как она, расхаживая по комнате, нервно теребит платок. И кружево мнется. Рвется.
– Нельзя, – повторяет отец устало. Наверняка он говорит это слово, едкое, тяжелое, не в первый раз. Оттого слово набило оскомину. Ийлэ повторяет его шепотом и замирает, опасаясь, что ее услышат.
Родители слишком заняты.
– Ты ведь нужен ей! Она тебя послушает… ты же сам говорил, что она почти готова простить… не надо прощать, но просто напиши, что происходит! Пусть она…
– Ты не знаешь ее так, как знаю я. – Отец сидит.
Он наверняка наблюдает за тем, как мечется мать, и, когда она устанет, непременно обнимет ее, утешит, скажет, что все непременно образуется. Он так говорил в прошлом году, когда у мамы с ярмаркой не ладилось…
– И что теперь, молчать?
– Молчать, – отвечает отец. – Я понимаю…
– Что ты понимаешь?!
– Тебе жаль этих людей. И мне их жаль…
– Но и только?
– И только. – Таким отца Ийлэ еще не знала. Его голос становится… холодным? Резким. – Пойми, что… мне их жаль, но страх сильнее жалости. А я боюсь за вас.
За окном раздается шорох, Ийлэ оборачивается, роняет вазу, к счастью, ковер плотный и ваза не разбивается, лишь катится к софе. А шорох – старый платан ластится к дому, выпрашивая подачку.
– Успокойся. – Теперь голос отца звучит близко, Ийлэ кажется, что слишком уж близко. – И умоляю, больше никаких петиций…
– Молчать?
– Молчать, – повторяет он. – Не ради себя, но ради дочери… или ты думаешь, что она пощадит ее?
– Ийлэ – ребенок!
– Твой ребенок. И мой. Не ее. Она и к собственным-то равнодушна.
– Но ты…
– Я нужен, пока я не лезу не в свои дела. А полезу… что ж, полагаю, и мне можно отыскать замену… или найти иной способ получить то, что ей надо.
О ком они говорят?
– И ты даже не попытаешься…
– Станешь меня презирать за трусость?
Тишина. Нервная. Страшная.
Презирать отца? Ийлэ не понимает, но что бы он ни сделал, презирать его невозможно. И мама тоже знает это. Она все-таки нарушает молчание:
– Нет… я не понимаю…
– Не понимаешь. Тебе повезло не узнать ее… как же тебе повезло…
Отцу больно.
И платан застывает, дрожит, роняя остатки тяжелой листвы, которая смешается с черной землей, с космами прошлогодних трав, подкармливая корни дома.
– Думаешь, наше родство что-то для нее значит?
– А разве…
– Значит.
Отец прижал палец к маминым губам, он делал так всегда, когда она беспокоилась слишком сильно. Или, перенервничав, говорила слишком громко.
– Я принадлежал ей. По праву рождения. По праву служения. По всем этим треклятым правам, которыми ее наделили. Принадлежал, но предал ее, когда ушел. Она отпустила… вернее сделала вид, что отпустила. Она принимает мои… подарки. Выкуп. Откуп. Называй как знаешь. И быть может, ей даже нравится, но этого мало, чтобы она забыла мой уход. Если напомнить о себе сейчас… ты говоришь о лагерях, а я скажу, что ее подвалы – куда более страшное место. И я не хочу, чтобы в этих подвалах оказалась ты… или Ийлэ…
– Но как…
– Никак…
– И что теперь…
– Ничего. – В его голосе вновь безмерная усталость. – Я бы сказал, что надо бежать, но… бежать нам некуда. Остается надежда, что это безумие ненадолго…
Надежда истаяла в весенних дождях.
Потом было лето, которое осталось в памяти Ийлэ жарой.
Визит найо Арманди, затянувшийся на несколько недель… нет, дольше… месяца два до первых дождей… и те же газеты, за которыми отец теперь отправлялся сам, ездил не в город, но на станцию, возвращаясь всякий раз усталым, раздраженным.
– Скоро все разрешится, – сказал он однажды.
Из воспоминаний вырвал звук, резкий, скрежещущий, заставивший отродье открыть глаза и зайтись нервозным плачем.
– Извини, – буркнул Нат, пытаясь поймать створку окна. Та распахнулась, впуская влажный ветер и белые хлопья снега.
Вытащив из корзины отродье, Ийлэ покачала его.
А Нат наконец справился со створкой и сполз на пол, сунул руки в рукава, точно сам себе не доверяя, уставился, хмурый, нахохлившийся, точно молодой грач.
…грачи прилетали ранней весной, еще лежал снег, пусть и старый, свалявшийся, в прорехах-проталинах. Грачи облепляли старые березы и громко перекрикивались хриплыми голосами. Они слетали на землю, на этот снег, и расхаживали с важным видом. Сторожили помои. Дрались. Иногда подбирались к самым окнам, пугая матушкину камеристку…
Та ушла прошлой зимой, и отец лично отвез ее на станцию.
Найо Дега получила письмо, которое заставило ее плакать. Она о чем-то просила матушку, а та отвечала нервным извиняющимся голосом и после, когда отец вернулся, не стала с ним разговаривать. К себе ушла.
– Что с ней? – спросила Ийлэ, которой порой казалось, что все вокруг сговорились и играют в некую странную игру с непонятными правилами.
– Ничего, дорогая. – Отец поцеловал и, прижав к себе, стоял долго. – Ничего… просто нервы… война…
Это слово объясняло все, от подгоревших булочек, которые все-таки подали, до длительных отлучек отца, все более частых. Эти отлучки были не по вкусу матушке, но если сначала она пыталась как-то говорить, то после, услышав, что он вновь вынужден уехать, лишь рассеянно кивала головой.
Однажды она не выдержала.
– Это когда-нибудь закончится?! – воскликнула матушка, выронив ложечку.
– Что именно? – Отец поднялся, но, вместо того чтобы подойти к маме, он повернулся к ней спиной.
– Все! Это… это безумие… война… и остальное тоже… я больше не могу…
Она закрыла лицо руками.
– Я устала, понимаешь? Я не хочу, чтобы меня ненавидели, а…
– Тебе надо отдохнуть. – Отец шагнул было к ней, но мама отступила, попросив:
– Не приближайся, пожалуйста…
Он кивнул. Он всегда шел навстречу ее желаниям.
– Я… – Мама облизала пересохшие губы. – Я отдохну, и все наладится… скажи.
– Скажу. Непременно наладится.
– И ты вернешься?
– Конечно, вернусь…
– А потом…
– Потом мы уедем на Побережье… там безопасно. Помнишь, ты говорила, что хочешь съездить на море? Море весной красиво. Ийлэ опять же погреется… встретит кого-нибудь… ее возраста и положения.
Мама всхлипнула. Она никогда не плакала, но тогда слезы потекли по ее щекам. Ийлэ было неудобно оттого, что она видела эти слезы, а еще оттого, что папа лжет.
Наверное, он и вправду собирался уехать, налегке, с мамой и Ийлэ, добравшись до станции, а оттуда, дилижансом, до стационарного порта… или, если поле и вправду было нестабильно, то и дальше дилижансом, до самого Побережья.
Там строили корабли.
И прибрежные цитадели готовы были выдержать не одну атаку. Об этом писали в газетах, которые Ийлэ читала тайком, стесняясь этой своей маленькой тайны и недоверия к отцу.
Уехать не успели.
– Ты так и собираешься тут прятаться? – поинтересовался Нат, которому, надо полагать, надоело сидеть молча. – Пошли…
Отродье успокоилось и, закрыв глазенки, сопело.
И наверное, прав щенок. На чердаке не место ни для младенца, ни для самой Ийлэ. Ветер, который оттеснили за линию окон, ярится.
Буря грянет.
И гости наверняка останутся на ночь, поскольку сущее безумие возвращаться в город такой погодой. А эти гости не будут столь вежливы, чтобы оставаться в отведенных им покоях.
Ийлэ покачала головой.
– Ну и дура, – беззлобно ответил Нат, поднимаясь. – Ладно, сиди… я поесть принесу.
Он ушел, и Ийлэ испытала странное желание пойти за ним. Вдруг стало страшно, и страх этот был иррационален.
Вязкая тишина. И тут же скрипы, вздохи будто бы. Шаги чьи-то, хотя Ийлэ знает, что на чердаке никого нет. И забивается в укрытие рядом с трубой, стискивая кулаки до белых пальцев. Когти тоже светлеют, а на коже останутся следы-вмятины, вот только разжать руки Ийлэ не способна.
Сердце почти останавливается.
Мечутся тени.
Это ветер.
Буря.
И ничего серьезного… а она… она не боится… не этого, но воспоминаний. Память под голос бури оживает…
…мама пела колыбельную…
Ийлэ шепотом повторяет слова, впервые, пожалуй, радуясь, что у нее есть отродье…
В закутке у печной трубы тепло.
И Нат принесет ужин. Он даже чай принесет, пусть и не в чайнике, а во фляге, которую завернет в плотный клетчатый шарф. Он разольет чай по чашкам и подвинет одну к Ийлэ.
– Остались, – скажет он. И собственную чашку поставит на ладонь, которая пусть и не столь велика, как у его хозяина, но всяко больше чашки. – Ужинают… эта дура висит на Райдо.
Чай темный и крепкий, щедро приправленный медом. Не Дайна готовила.
– Он все равно на ней не женится, – Нат произнес это уверенно. – А знаешь почему?
– Почему? – За время его отсутствия Ийлэ устала молчать.
И это тоже было странно, поскольку ей недавно казалось, что к молчанию она привыкла, что молчание это – во благо.
– Потому что они – человечки, – сказал Нат.
– И что?
– Ну… ну как ему на человечках жениться? Вот тебя бы… ну раньше… тебя бы тоже за человека не отдали.
Ийлэ согласилась, что да, наверное, не отдали бы.
Раньше.
Давно. В прошлой жизни, в которой на чердак она заглядывала редко, и уж точно в голову ее не взбрела бы безумная мысль на этом чердаке поселиться.
Мирра нерешительно хихикнула.
А Райдо огляделся: добрый доктор держался в хвосте семейства у стены, точно надеялся, что тень спрячет его от глаз супруги. Та то хмурилась, то старательно улыбалась, и эта улыбка была лишена и тени искренности, она уродовала и без того некрасивое лицо женщины, делая его похожим на расписную театральную маску.
Нет, маски, пожалуй, посимпатичней будут.
– Милые дамы, – Райдо любезно улыбнулся, отметив, что при виде клыков его Мирра ощутимо вздрогнула, – надеюсь, вы не откажетесь от чая?
Конечно, дамы не отказались.
Ни от чая, ни от предложения остаться в доме, ведь буря разыгралась, и разве гостеприимный хозяин позволит гостям рисковать жизнью?
Комнат хватит. И дом надежен, а Райдо безмерно счастлив оказать этакую любезность. Во всяком случае, он очень надеялся, что выглядит в достаточной степени счастливым.
Глупым.
Беспомощным.
Таких не боятся, а значит, потеряют осторожность, и… и все одно мыслями Райдо возвращался к альве и мальчишке, который, потеряв остатки совести, бросил вожака. А с другой стороны, и хорошо, пусть присмотрит за альвой, чтобы глупостей не натворила. Пару часов присмотрит. Вечером же Райдо и сам заглянет, благо точно знает, где альву искать.
– Вы играете в лото? – осведомилась Мирра, прижимаясь всем телом. И на руке повисла, а рука и без того ноет… и желание одно – избавиться от докучливой девицы.
Нельзя.
Матушка говорила, что женщины любят внимание, а еще знают порой больше мужчин. Женщин вообще зачастую недооценивают. И Райдо, стиснув зубы – он надеялся, что гримаса эта будет сочтена разновидностью улыбки, сказал:
– Я обожаю лото…
– Ах, какое совпадение! Я тоже…
Освободится он нескоро…
…Райдо появился глубокой ночью.
Ийлэ не спала – она пребывала в позабытом уже состоянии полудремы, когда сознание повисает на грани, готовое в любой миг, по малейшему шороху сбросить оковы сна.
Ийлэ слышала и шелест ветра, и скрип крыши, которую следовало бы подновить, об этом еще отец говорил. Услышала она и тягучий стон дверных петель, и осторожные шаги. А следом появились и запахи – бренди, опий и болезнь.
Это сочетание было тревожным. И сон тотчас слетел с Ийлэ, вот только уйти она не успела.
– Тише, – сказал Райдо шепотом. – Это я. Это всего-навсего я… проклятье, голова кружится… в комнате душно. Я окна открыл, а все равно душно.
Он добрался до трубы и уперся в нее ладонью, застыл, дыша шумно и часто сглатывая.
– Со мной такого давно… выпил, называется… с гостями… чтоб им провалиться всем…
Ийлэ молчала, надеясь, что пес уйдет.
– А Нат сказал, ты здесь прячешься. Он думает, что это я виноват, что ты здесь прячешься… из-за этих… ты их боишься?
– Нет, – шепотом ответила Ийлэ.
– Правильно. Не надо бояться. Я не позволю тебя обидеть… я тебе вот… принес одеяло… тут же холодно, а у меня жара стоит… духота…
Он выронил сверток, который держал под мышкой, и наклонился, чтобы поднять, но не удержался на ногах.
– С-сейчас… – Райдо встал на четвереньки. – Погоди… что за… я пить умею… не думай… и норму свою знаю… и сегодня два стакана, а… ведет, как с двух бутылок… Нат злиться будет…
– Опий.
– Что?
Ийлэ подалась вперед, попросив:
– Дыхни.
Пес и дыхнул.
Кровь. И гной. И значит, не хватило ее малых сил, чтобы запечатать все семянки. Или же его собственное железо не способно оказалось затянуть раны. Воспалились. Больно ему? Наверняка.
Но он почему-то не злится…
Не это важно. Нет, важно, но не это, а слабый мягкий аромат, который почти теряется в иных. Не опий. Опий пес бы почуял, у него нос получше, чем у Ийлэ, а вот опий с корнем черного ладанника – дело иное.
Фирменная настойка найо Арманди.
Она так много о ней рассказывала и порой привозила к чаю, сама разливая по крохотным, с наперсток, чашечкам тягучую ароматную жидкость. Слишком тягучую и чересчур ароматную.
И мама говорила, что у людей чутье слабее, что им этот запах приятен.
– Опий, – повторила она.
А пес вдруг покачнулся и подался вперед, скользнув щекой по пальцам Ийлэ.
Холодная кожа. Сухая. И жесткая, словно не кожа даже – дерево… гладкое темное дерево… и надо бы руку убрать, но ей страшно разрывать это нечаянное прикосновение. А дыхание Райдо щекочет кожу.
– Настойка…
Она все же отдернула пальцы и руку за спину спрятала.
– Настойка, – повторил он глухо. – Вот значит как оно… та еще гадость… нет, на вкус, может, оно и ничего, хотя я и не любитель сладких ликерчиков, но вот запах… такое чувство, что она в эту настоечку флакон духов вылила.
Ийлэ кивнула: для пса запах черного ладанника должен быть особо неприятен.
– Задницей же чуял, что не духами, а… – Пес осекся, он явно не собирался уходить и на полу устроился, протянув принесенное одеяло Ийлэ.
Нат тоже притащил. И сидел до заката. Свечей оставил с полдюжины. И чай во фляге, шарфом обмотанной. Ее Ийлэ у трубы устроила, чтобы не слишком фляга остыла.
– Не духами, в общем, пахнет. Одеяло возьми.
– У меня есть.
– А она мне… мол, попробуйте настойку… фирменная… я, пень старый, и попробовал… хорошее воспитание, чтоб его…
…наверное, Ийлэ могла бы улыбнуться…
…там, в иной жизни…
В этой она нащупала флягу, которую и протянула псу. Руку убрала быстро, избегая еще одного случайного прикосновения.
– Еще одна особая настойка?
– Чай. Нат.
– Натов чаек – это хорошо, а то сушит… и вот что я тебе скажу, от хорошего воспитания одни проблемы. Послать бы ее в бездну с ее настоечкой, так нет же… пил… и вот теперь сушит… ведет… и душно невыносимо… я тут полежу, с вами… она спит, да?
– Да.
Отродье и вправду спало сутками.
Ело и спало.
Просыпалось, снова ело жирное козье молоко, а наевшись до белых пузырей на губах, засыпало. Ийлэ не знала, нормально ли это, но… оно хотя бы перестало умирать.
Наверное, это было хорошо.
– Я полежу… и пройдет… к утру пройдет… я не люблю опий, от него голова тяжелая, думать не могу вообще.
Он лег тут же, у теплого бока трубы. И флягу обнял.
Вскоре дыхание его выровнялось.
Пес спал.
Рядом. Близко. И сон его был достаточно глубок, чтобы не услышать, как Ийлэ…
Она вытащила нож. Тупой, с закругленным лезвием… Но если по горлу… или в шею воткнуть, перервать артерию… его уже не спасут…
Ийлэ осторожно выбралась из убежища. Она обошла спящего пса, который во тьме выглядел темною бесформенною грудой. Ийлэ вслушивалась в хрипловатое его дыхание.
Ровное. Размеренное. Он ничего не успеет почувствовать… а если и успеет, то…
Пес закашлялся и кашлял долго, сипло, в воздухе запахло кровью, он же, облизав губы, хрипло прошептал:
– Давай… так проще… все разом закончить…
Разом?
Нет. Этот удар – почти милосердие, а псы не заслуживают милосердия. Ийлэ сунула нож в рукав свитера и, опустившись на корточки около пса, коснулась бритой его головы.
Бархатистая. И коротенькие волосы щекочут ладонь.
– Примеряешься?
– Опий… плохо… они не любят. – Ийлэ стиснула его виски ладонями.
Пульс у него сумасшедший. И за пульсом, за медным запахом крови слышится биение чужой жизни. Разрыв-цветок ворочается, раздирая едва-едва заросшие раны. Разворачиваются тонкие плети молодых побегов. Лопаются пузыри вакуолей, наполняя кровь ядом.
– Спи, – сказала Ийлэ, и пес тяжело вздохнул. Он стиснул зубы, чтобы не застонать от боли, привстал, точно пытался стряхнуть ее руки, но не сумел – слишком слаб был.
Покачнулся.
И лег, упершись лбом в колени Ийлэ.
– Ты… от тебя лесом пахнет, ты знала?
– Нет.
Не получалось. Разрыв-цветок, одурманенный опиумом, не спешил подчиняться. Он тянул силу, и Ийлэ ничего не оставалось, кроме как отдавать ее в отчаянной попытке хоть так утолить голод.
Она это делает не для пса.
Для себя. И для отродья, которое может спать и есть жирное козье молоко, у которого кожа сделалась розовой, как и положено младенческой коже, и на ней наметились складочки…
…ради печной трубы.
…и призрачного спокойствия, когда там, снаружи, буря.
– Лесом, – пес говорил шепотом, так тихо, что слова его Ийлэ различала с трудом, – осенним лесом… дымом… и еще грибами… паутиной…
– Паутина не пахнет.
– Ты просто не слышишь. Все в этом мире имеет свой запах. И паутина не исключение.
– И чем же она…
– Серебром. И еще утренней росой… и тобою…
– Или это я?
– Ты пахнешь паутиной? Да, немного… еще влажным деревом… и мхом… брусникой… я бруснику люблю…
– Она горькая.
– И что?
Разрыв-цветок успокаивался. Он вновь засыпал, позволяя псу дышать.
– Ничего. Просто горькая.
– И хорошо… а черника сладкая… и еще земляника… для меня лето начинается, когда земляника… любишь?
– Да… раньше…
– А теперь?
– Не знаю.
Ийлэ убрала пальцы.
Будет спать.
– И теперь любишь. Я так думаю… можно тебя попросить?
– О чем? – Ийлэ устала. Пожалуй, так она уставала прежде, когда пыталась не дать отродью умереть. И тогда этой усталости она не замечала.
– Посиди со мной…
– Я сижу…
– Вот и хорошо… сиди… я усну быстро, обещаю…
– Я все равно тебя ненавижу… всех вас…
– Пускай, – согласился пес. – Ты, главное, посиди… немного…
Глава 10
Если гостевые спальни и протапливали, то давно, и нынешнее яркое пламя не в состоянии было прогнать холод, равно как избавить комнаты от сырости.
– Боже мой, – с немалым раздражением воскликнула найо Арманди, оставшись наедине с семьей, – это же надо было до того дом запустить!
Она прошлась по бирюзовой спальне, которую прекрасно помнила, поскольку по странному совпадению – а ничем иным Маргарет сие объяснить не могла – занимала и в прежние времена, которые, однако, никак не могла назвать прекрасными.
– Ужасно! – с готовностью воскликнула Мирра. – Мы ведь ненадолго?
– Буря. – Виктор приоткрыл завесу гардин.
Бархат?
Отсыревший, потемневший, оттого и глядится уже не роскошно, но жалко. А у карниза и вовсе паутина видна. И не только у карниза.
– Виктор, я и без тебя вижу, что буря… оно и к лучшему. – Маргарет бросила перчатки на столик, а после подумала, что столик этот следовало бы сначала протереть…
И каминную полку, которую прежде украшали чудеснейшие часы с боем и те очаровательные статуэтки из бисквита[1]…
– К лучшему? – Мирра была настроена менее оптимистично.
В поместье ей не нравилось. Если поначалу матушкина задумка показалась… стоящей, то теперь Мирра засомневалась.
И он не одобрит.
Он не любил, когда его планы нарушали. Но что могла Мирра против матушки?
С другой стороны, он сам виноват, если бы сделал так, как обещал, то не было бы ни этой поездки, ни этого представления.
– Ни горничных, ни… – Мирра потерла виски, пытаясь скрыть беспокойство.
Он разозлится.
Определенно.
И накажет Мирру. Она заслужила наказание. И примет его с должной покорностью.
– Дорогая… – Маргарет произнесла это мягким тоном, который, впрочем, Мирру не обманул: характер своей матушки она знала прекрасно. Если она что задумала, то точно не свернет с пути. – …Представь, что война все еще идет…
– И горничных забрали на фронт, – продолжила мысль Нира, которая, вооружившись длинной щепкой, гоняла паука.
– Нира!
– Да, матушка?
– Будь добра, сходи на кухню… попроси молока… кипяченого молока с медом…
Выпроводила, в общем.
Нира не обиделась, она как-то с детства привыкла, что в собственной семье была лишней. Матушка любила Мирру, отец – матушку, а Нира… она просто сама по себе.
Неожиданный ребенок. Это она услышала, как мать говорила кому-то из своих многочисленных подруг, а потом добавила, что с той поры сюрпризы ненавидит.
Дверь Нира прикрыла аккуратно и, добравшись до конца коридора – шла она громко, чтобы матушка и Мирра слышали, – остановилась. Разулась. Пол был холодным, и от этого Нире становилось невыносимо грустно, как и от мысли, что дом этот никогда не будет прежним. Туфли Нира оставила в коридоре. И, вернувшись на цыпочках – она еще помнила, на какие из досок не следует наступать, – присела у двери.
– …послушай, дорогая, – с Миррой матушка всегда говорила мягко, с нежностью, которая была Нире непонятна, ведь характером сестрица обладала прескверным, – все образуется… Виктор!
– Да, дорогая?
– Ты уверен, что он умирает?
– Дорогая, я же тебе говорил.
– Скажи еще раз…
– Он умирает, – послушно повторил папа, который и в прежние времена предпочитал с матушкой не спорить, а ныне вовсе сделался тихим, печальным. Он все чаще закрывался в своем кабинете, говоря, что делами занят. Порой и ночевать там оставался.
– Ты уверен?
– Конечно, – папа произнес это со вздохом, и Нире стало жаль большого пса, который вовсе не выглядел больным и тем более умирающим.
– И сколько ему… осталось? – Нежный голос Мирры утратил прежнюю сладость.
– До весны, пожалуй, дотянет…
– До весны… – Сестрица наверняка прикидывала, дотянет ли она сама до этой весны и смерти предполагаемого супруга. – А если… если он вдруг выздоровеет?
– Исключено. В нем проросли семена разрыв-цветов. – Отец говорил глухо, тихо, и Нире пришлось напрячься, чтобы услышать.
Нет, она, конечно, знала, что подслушивать нехорошо. Но ведь интересно!
– Они уже разрывают его изнутри. А когда дозреют и дадут собственные семена…
– Мама, он так мерзко об этом говорит!
– Виктор!
– Вы же сами желали подробностей. – Кажется, впервые в голосе отца мелькнуло раздражение.
– Не таких, – отрезала мама. – Видишь, дорогая, тебе беспокоиться не о чем! Пару месяцев, и он умрет. А ты получишь усадьбу…
– Если его род…
– Виктор, не начинай!
– Я не начинаю. – Раздражение сделалось явным, и это было необычно. Нира поерзала, потому как чем дальше, тем более холодным становился пол. – У них другие законы. И усадьба эта отойдет роду, а не…
Нира представила, как отец махнул рукой. Он всегда так делал, когда у него не хватало слов. И жест этот получался вялым, как и сама рука.
– Дорогая, не слушай его. Нужно просто позаботиться о завещании, а твой папочка опять выискивает проблему на пустом месте…
– Я все равно не понимаю! Есть же Альфред…
– Альфред подождет, – жестко заметила мать.
– Но…
– Никаких «но». Этот дом не должен попасть в чужие руки…
Интересно почему? Нира подалась вперед, надеясь, что матушка расскажет.
– А подслушивать нехорошо, – сказал кто-то над самым ухом, а в следующее мгновение горячая ладонь зажала рот, хотя кричать Нира не собиралась.
Глупо кричать, когда подслушиваешь. Нира пусть и не красавицей уродилась, но уж точно не дурой.
– Тише, – велели ей и потянули от двери. – Я тебя не трону.
Кто бы ни держал ее – а держал он крепко, – в доме ориентировался неплохо. Он ступал беззвучно, а когда Нира наступила на скрипучую половицу, попросту приподнял и понес.
Испугалась ли она? Немного. Но потом подумала и успокоилась. И вправду, разве ж может с ней случиться что-то плохое в приличном доме, пусть и несколько растерявшем прежний лоск?
Несли ее недолго, по коридору, а потом свернули налево, и дверь открыли, и в комнату вошли, поставили на пол, а еще под руку поддержали, что было весьма любезно.
– Спасибо, – вежливо ответила Нира.
– За что?
В комнате было темно.
Нет, не так, чтобы совсем уж темно: проникал лунный свет, но слабый, зыбкий. Догорал камин; и над красными углями его вились бабочки пепла. Но луны и камина – недостаточно, чтобы разглядеть хоть что-то, тем более если у вас глаза слабые. И Нира щурилась, хотя мама всегда ругала ее за это, пугая ранними морщинами; но морщин Нира не боялась: знала, что и без них особой красотой не отличается.
– Просто так. – Она подумала и согласилась, что благодарить похитителя особо не за что.
И дослушать не дал. И уволок непонятно куда…
– Вы… кто? – поинтересовалась она.
Похититель отступил, он был темным огромным пятном среди иных темных пятен. Одно весьма походило на шкаф, другое, тускло поблескивавшее, кажется, было зеркалом, а вот то, в углу, – банкеткой…
Столик. И на столике – канделябр с троицей свечей.
– Газовое не во всех комнатах работает, – извиняющимся голосом произнес похититель. И свечи зажег.
Пес?
Пес, определенно, слишком характерно плоское лицо с широкой переносицей, высокими скулами и массивным подбородком. Отец утверждал, что этот подбородок, точнее не сам подбородок, а нижняя челюсть, достался псам от хищных предков. Про предков Нира не знала, но, взглянув на похитителя, отцу сразу поверила. Выглядел пес очень хищным.
И молодым.
Высокий. На голову выше Ниры, хотя и она выросла немаленькой, на два дюйма выше приличного дамского роста. И ей должно было быть совестно за свой рост, который осложнит и без того непростое дело будущего ее замужества, но стыда Нира не испытывала. Она вообще уродилась мало того что высокой, так еще и на редкость бесстыдной.
А пес молчал, разглядывал. И если так, то Нира его разглядывала тоже.
И подбородок, который упрямо выпятился вперед, и щеки с кругляшами родинок, и уши оттопыренные, и серьгу в левом… никто из Нириных знакомых серег не носил. Это ведь жуть до чего неприлично, а он…
– Что ты там делала? – поинтересовался пес, серьги коснувшись.
– Подслушивала, – честно призналась Нира, глядя в глаза. Светло-серые и даже в темноте яркие.
И в них еще огоньки свечей отражаются.
Она прежде-то такого разглядеть не умела, а тут… или просто воображение разыгралось? Воображение у Ниры было столь же неприлично большим, как и рост.
– И часто ты подслушиваешь за родными? – оскалился пес.
Определенно, хищный, вон какие клыки огромные!
– Случается…
– И как?
– Как когда… – Она переступила с ноги на ногу, с сожалением подумав, что туфли остались в коридоре. Пол в комнате был деревянным и холодным.
Ее движение не осталось незамеченным, и пес нахмурился.
– В кресло садись, – велел он и к креслу подтолкнул.
Нира возражать не стала, а он открыл дверцы шкафа, из которого вывалилась груда барахла, и вытащил что-то, оказавшееся свитером.
– На вот, – свитер он кинул, а Нира поймала, – накройся. Тут холодно.
– Я заметила.
Наверное, следовало промолчать, но Нира окончательно успокоилась.
Пес, пусть и очень даже хищный, ее не тронет. И, что куда важней, не выдаст. Страшно подумать, что сделает матушка, когда поймет, что Нира подслушивала.
– Рассказывай, – велел пес, садясь на пол.
Ему не холодно? Одет довольно легко. Штаны из парусины с кожаными латками на коленях. Рубашка белая, но мятая… и все?
– О чем?
– О своей семье. Об этом доме. Обо всем.
– С чего вдруг я должна тебе что-то рассказывать?
Он снова нахмурился. Смешной какой… и, наверное, он тут живет, но за ужином его почему-то не было, как и за обедом… жаль, быть может, тогда бы и обед, и ужин не были бы столь тоскливыми.
– Рассказывай, – повторил он.
– Давай для начала познакомимся. – Не то чтобы в прошлом семьи или этого дома имелась какая-то страшная тайна, разглашать которую Нира не имела права – если и имелась, то Нире ее не доверили точно, – но вот просто так, с ходу подчиняться она не собиралась. – Эвернира Арманди… можно Нира, если хочешь. Меня так все называют…
– Натготтар из рода Зеленой Сурьмы, – представился пес, снова серьгу тронув.
А волосы у него стрижены неровно. Кожа какая-то… пятнистая, что ли? В темноте не разглядеть.
– Натгот…
– Нат, – оборвал он. – Из рода Зеленой Сурьмы…
– Это у вас вместо фамилии, да? Папа говорит, что у вас очень тесные родственные узы и что вообще уклад другой. Про узы я понимаю, у меня тоже есть двоюродные сестры и троюродные… и родичей много, особенно с маминой стороны, хотя она со всеми разругалась. У нее вообще характер сложный, но тебе это, наверное, совсем не интересно…
Он пожал плечами.
– А что ты хочешь, чтобы я рассказала?
– Твои родители. Зачем приехали?
Странная у него манера вопросы задавать и говорить тоже. Короткие, рваные фразы. И паузы между словами, и речь получается неровной, точно старая дорога.
– А давай так. Ты спрашиваешь меня, а я тебя. Если не захочешь отвечать, то скажешь… и я тоже… идет?
Думал он недолго, но выражение лица сделалось таким, что Нира едва не рассмеялась. Забавный…
А папа говорил, что псов опасаться надобно. И еще, что они уважают физическую силу и кто сильней, тот и вожак, а все остальные должны слушаться беспрекословно…
– Хорошо, – произнес Нат.
– Руку дай. – Нира протянула свою и, когда он подал, нерешительно, точно опасаясь, что Нира по этой руке ударит или еще какую гадость сделает, стиснула ладонь. Ну как стиснула – обхватила пальцами… кое-как… у него ж ладонь огромная и шершавая на ощупь… – Это чтобы договор скрепить. Повторяй. Торжественно клянусь говорить правду и только правду! Чтоб, если я совру, мне землю есть!
Он вздрогнул, но повторил, добавив только:
– Землю есть я не хочу.
– Тогда не ври… – Отпускать его руку не хотелось, потому как она была теплой и нечеловеческой. Нира пса еще никогда так близко не видела, не говоря уже о том, чтобы щупать. А с ее глазами щупать – куда актуальней, чем видеть.
Он высвободиться не пытался; а матушки, чтобы попенять за непристойное поведение, не было. И разве ж могла Нира такой момент упустить?
– Приехали, чтобы Мирру сватать. Ну как, сватать… они хотят, чтобы она за найо Райдо…
– Не найо, – резко оборвал пес. – Он не альв, чтоб так его называть.
– Папа тоже не альв. Это просто слово, обращение уважительное, но если тебе не нравится, то называть не буду… а как правильно тогда?
– Райгрэ, если вожак… или старший… Райдо не вожак. Его отец – да, в роду Мягкого Олова. И старший брат будет, но если брать здесь, в поместье, то… – Нат замолчал, наверное, сам запутавшись, как следует правильно обращаться к хозяину «Яблоневого дола». – Просто Райдо. По имени.
– А он не обидится?
Нат покачал головой.
– Странные вы, – вздохнула Нира. – Но я ж не о том… в общем, сначала все думали, что он сразу умрет. И папа так говорил. А он все не умирал и не умирал. И мама очень нервничала… она давно уже в гости собиралась, вроде как проведать, но потом папа сказал, что ему стало лучше, и мама решила, что надо съездить… ну и Мирру взять… и меня заодно…
– Зачем?
– Затем, что принято так… семейный выезд, понимаешь? Ну, прилично… если меня оставить, то все могут подумать, что мы поехали сватать Мирру…
– А если не оставить, подумают иначе?
– Вряд ли, – вынуждена была согласиться Нира. – Подумают точно так же, но… оно как бы приличней… понимаешь?
– Нет.
– Я тоже. А почему у тебя рука шершавая?
Зря спросила, потому как Нат руку высвободил и за спину спрятал, вторую, кстати, тоже. Но ответить ответил:
– В плывунец попал.
Что такое плывунец, Нира не знала и собиралась следующий вопрос задать, но Нат сам пояснил:
– Это… это когда земля проваливается.
– Как на болоте, да?
– Почти. Но болото – это болото и есть. На болотах вообще безопасно, а плывунцы… в первый год было, когда Перевал только открыли… порталы нестабильны, а на дорогах кордоны, но мы проходили… у меня старшие братья воевать пошли, а я вроде как дома… должен был быть дома… райгрэ приказал, а я ослушался.
Нат потер темную шею.
Загорелый. Или сам по себе смуглый? И хорошо, что смуглый, этим Нат разительно отличается от Мирриных поклонников, которые, как и сама Мирра, солнца сторонятся, потому как загар – это для плебеев. Небось вряд ли кто из них посмеет сказать Нату в лицо, что он плебей.
– Ну и сбежал… прибился к десятку Райдо… он сразу понял, что я… в общем, переправил бы, но порталы нестабильны, а возвращаться ради меня одного… Райдо – разведчик. У него знаешь какой нюх? Он все-все чуял! И водяные окна, и плывунцы тоже, и тогда не велел на поле лезть, а я полез… там можно было пройти по краю… я ведь думал, что плывунцы на месте стоят, а они гуляют… ну и… шел-шел… земля сначала твердая, а потом раз, и поползла под лапами… вроде как грязь. Сначала немного, а потом больше и больше… и барахтаешься… а эта грязь еще и жжется…
– Ужас, – вполне искренне сказала Нира.
И тоже руки за спину спрятала, но не потому, что их стыдилась – конечно, у нее не такие аккуратные, как у Мирры, и еще она вечно в земле копается, поэтому под ногтями грязь, – но из-за желания пса погладить. Вдруг им не нравится, когда их гладят? И вообще, это наверняка ужасающе неприлично гладить малознакомого человека… или не человека.
– Меня Райдо вытащил. Сам едва не утонул… у него чешуя толстая, но все равно… а мою почти дочиста сожгло. И кожу… но кожа потом наросла, хотя и неровная… а с чешуей… – Нат вздохнул. – Когда-нибудь восстановится… то, что альвы делают, оно плохо заживает… если бы обычное, то живое железо быстро бы…
Он замолчал, но молчание это было сосредоточенным. Нат, верно, выбирал другой вопрос. И Нира пришла ему на помощь:
– Я раньше думала, что они решили Мирру замуж за… Райдо выдать, чтобы она стала самой важной здесь. А сегодня мама сказала, что усадьба не должна попасть в чужие руки. Не спрашивай почему, я не знаю… я просто приехала… и в этой комнате раньше цветы стояли… в доме везде стояли цветы… и подолгу… а в саду розы… таких больше нигде не было, и мама очень завидовала. Она говорила, что это потому, что найо Луари – альва… альвы умеют с растениями ладить… она доброй была… и он тоже… мне нравилось здесь.
Нат смотрел исподлобья.
Альвов он не любил. И Нира чувствовала эту его нелюбовь, недоумение оттого, что кто-то может думать иначе, и, наверное, даже понимала, что у него имеются причины, ему ведь больно было, если чешую всю и начисто и кожу тоже… когда она случайно чашку с горячим чаем вывернула, и на руки, то было жуть до чего больно. И пузырь появился, который отец прокалывал стерильной иглой, а Нира плакала. Ната в кипяток едва ли не с головой сунули. Но ведь те альвы, которые плывунец делали, и найо Луари – совсем разные вещи… или не вещи, разные альвы, так, пожалуй, правильней говорить.
– Мы здесь прятались, когда… город зачищать стали… ну, тех, кто полукровки и потенциально преступный элемент… – Про преступный элемент писали в листовках, которые теперь доставляли вместе с газетами и серыми конвертами с пропечатанным адресом ближайшего отдела безопасности. А вот обратного адреса на них не было, и отец сказал, что это нарочно сделано, чтобы люди не боялись доносы писать.
Сам он конверты отправлял в камин.
– Папа говорил, что бояться нечего, но мама… она сказала, что лучше, если поберечься, что мало ли… нам многие завидовали, а если завидуют, то могут и написать, что мы против королевы умышляем, и тогда… мы сюда приехали. Жили.
– Долго?
– Долго… несколько месяцев… мы бы еще оставались, найо Луари говорила, что мы можем оставаться столько, сколько хотим…
– Но?
Он четко умел улавливать недосказанное, и Нире пришлось признаться:
– Мама сказала… сказала, что здесь больше небезопасно… что ситуация изменилась и… и лучше иметь в друзьях людей, чем альвов.
Она говорила это отцу, а тот слушал. И не возражал. Он никогда-то не умел возражать маме. Сама же Нира пряталась в шкафу. Уезжать ей не хотелось совершенно, но разве ее когда-нибудь спрашивали?
– Мы вернулись в город…
И мама возмущалась тем, что дом зарос грязью…
– …а потом нас с Миррой вообще отправили к тетушке… она тут недалеко… у нее свое поместье, и раньше они с мамой не ладили совсем, но потом помирились. Тетка на самом деле не нам тетка, а ей и старая дева… и у нее было скучно, но в город было нельзя возвращаться.
Потому что в городе появились псы, но об этом Нира узнала много позже, как и о том, что найо Луари умерла…
– Скажи, – Нира стиснула кулачки, потому что не знала, как правильно задать этот вопрос, – Ийлэ… она действительно здесь? Папа говорил… а я…
– Подслушала.
– Да.
Нат кивнул.
– Здесь… папа еще сказал, что она сошла с ума.
Нат покачал головой.
– Нет? Это замечательно… мы не то чтобы дружили… она старше меня… на три года… и даже больше, чем на три, а три года – это много… ну я так думала, что много… но, в общем…
Она вытащила из рукава цепочку, которую прятала весь день.
– Это… это Ийлэ ее папа подарил…
Капелька-жемчужина, обрамленная в золото. Простенькое девичье украшение, которое когда-то так понравилось Мирре, что она несколько дней приставала к отцу, а он отказал: дорого. И тем удивительней было, что заветная подвеска появилась в Мирриной шкатулке.
Откуда?
Нира не знала.
Но знала, что пропажу сестрица обнаружит не скоро: оно ей уже надоело. Ей все быстро надоедает, а потому… и вообще, справедливо будет, если подвеска вернется к Ийлэ.
– Передай, пожалуйста?
Пес протянул руку, на его ладони черная жемчужина гляделась вовсе крохотной.
– Ты мне так доверяешь?
– Да, – ответила Нира и поняла, что и вправду ему доверяет.
Он вздохнул и спрятал подвеску в карман.
– Передам… а тебе, наверное, пора… хватятся еще…
– Это вряд ли, – с некоторым сожалением вынуждена была признать Нира. – Меня никто и никогда… но да, наверное, надо…
Не хватало, чтобы матушка решила, будто Нира нарочно прячется. Ругать будет. И больше не возьмет с собой, а ей очень хотелось вновь оказаться в этой усадьбе и, быть может, встретить Ната, в конце концов, они же не договорили.
О молоке она вспомнила, лишь оказавшись у дверей комнаты; Нат проводил и еще тихо ворчал, что Нира туфли бросила, ведь полы в доме холодные, а люди – слабые существа, и будет нехорошо, если Нира простудится. Простужаться она не собиралась, но его беспокойство было приятно. О ней никто прежде не беспокоился.
– Мы… встретимся? – спросила она, хотя благовоспитанным девицам не полагается задавать подобных вопросов.
– Встретимся, – ответил Нат, и ему Нира поверила.
Она вздохнула, вернула свитер, в котором и вправду было теплее. Обулась, чтобы у дорогой матушки не возникло подозрений, и дверь толкнула.
В комнате было темно.
– Нира, где тебя носит? – раздался матушкин раздраженный голос. – Мирре давно уже спать пора. Помоги сестре раздеться.
Ну конечно, кто еще будет исполнять обязанности горничной?
К огромному неудовольствию Мирры, спать пришлось в одной кровати, и пусть кровать эта была огромной, она все равно жаловалась.
– Когда я стану хозяйкой, наведу здесь порядок… – простонала Мирра, ворочаясь, и Нира не отказала себе в удовольствии поправить дорогую сестрицу:
– Если станешь.
Глава 11
Гости отбыли после полудня.
– Знаешь, – сказал Райдо Нату, который беззвучно возник за левым плечом, – у меня появилось преогромное желание пересчитать серебряные ложечки.
– А сколько их должно быть? – Желания Райдо Нат полагал почти приказами.
– Хрысь его знает… сколько бы ни было, готов на хвост поспорить, что стало меньше…
Нат пожал плечами и сказал:
– Вернутся?
– Конечно, вернутся… знать бы, что им здесь нужно…
Райдо вдохнул морозный свежий воздух.
Зима.
Здешняя зима была мягкой и сладкой, с пушистым снегом. Небо синее. Солнце желтое, яркое до того, что Райдо щурился, прикрывая глаза ладонью. Дом укрыло. И сад тоже, из сугробов торчат ветви яблонь, льдом посеребренные. Красота.
– Поехали кататься? – предложил Райдо, присаживаясь. Он сунул растопыренную пятерню в пуховой сугроб.
Не холодно.
А там, на чердаке, вчера казалось, что дом этот несчастный по самую крышу занесет, а может, и крышу тоже, останутся торчать кованый флюгерок да труба кирпичная. Или ветер обрушит стены, ярился-то, ярился, а ничего, затих, устал, наверное.
И Райдо устал, не вчера, но много-много раньше, а вчера он сидел с людьми, слушал пустые разговоры, которые крали его время, – у него не так уж много времени осталось. Улыбался.
Лгал, что счастлив видеть гостей.
И потом тоже… и вранья этого было чересчур много, оно тоже утомляло, но Райдо терпел, памятуя уроки хороших манер.
Хрень какая…
И эта настоечка, в которую ему подлили опиума. Зачем? Вряд ли он входит в изначальный рецепт. Опиум людям вреден, впрочем, люди на редкость спокойно относятся к тому, что им вредно…
Человека опиум погрузил бы в сон.
Может, на это рассчитывали?
Усыпить и…
– Нат, ты за ними приглядывал? – Райдо руку вытащил и к глазам поднес. Белые пушинки, прилипшие к ладони, таяли, и вода пробиралась по руслам линий.
– Да.
– Выходили?
– Да.
– Нат!
– Что?
– Сам расскажешь или допрашивать?
– Сам, – буркнул тот, глядя вслед экипажу, и кончик носа дернулся, и выглядел Нат… огорченным? – Сначала обсуждали что-то… младшую отослали, чтобы не мешала… я ее хочу.
– Что? – Райдо опешил. Такого он не ожидал.
– Хочу ее, – терпеливо повторил Нат. – Им она не нужна. А мне нужна. Давай заберем?
– Нат!
– Что?!
– Мы не можем просто взять и забрать человека. Это незаконно.
– А как законно?
– Как… – Интересный вопрос. – К примеру, мы можем посвататься к ней, заключить брачный договор или что там у людей положено… и после обряда, когда она станет твоей женой, ты ее и заберешь.
Если Райдо надеялся, что этот вариант отпугнет Ната, то ошибся. Тот задумался. Думал долго, пожалуй, минуты три, и с каждой минутой хмурился все больше.
– Хорошо, – наконец произнес он, – я согласен.
– На что?
– Жениться.
– Нат!
Тот посмотрел сверху вниз, и во взгляде его Райдо увиделось бесконечное терпение.
– Нат, ты еще несколько молод, чтобы жениться. И вряд ли эту девушку твои сородичи одобрят.
Вот сородичи Ната волновали мало.
– Ты – мой сородич.
– Нат, – Райдо вздохнул, возвращаясь к теме, которую затрагивал не единожды, но всякий раз без должного эффекта, – семья – это…
– Семья, – покорно продолжил Нат, впрочем, Райдо не обманывался: покорность эта была показной. Нет, отдай он приказ, Нат бы его выполнил, но… толку-то? И потому Райдо отер влажной ладонью лицо – рука пахла снегом, лесом и немного – дымом, который тянулся из низкой квадратной трубы. Подумалось, что если та дымит, то на чердаке тепло.
И одеяла у нее есть.
Чай Нат утром носил, не только чай, но и завтрак. И просить-то не пришлось, еще выговорил, что альва там…
Нат про приступ не знает, а Райдо рассказывать не станет. И альва промолчит. Он не просил об этакой услуге, но знал наверняка – промолчит. Она ведь сидела вчера близко, и эта ее близость сама по себе была обещанием.
Райдо, хоть и опиум одурманил, распрекрасно помнил все. Дурноту. И внезапно ожившую тварь, которая заворочалась, причиняя невыносимую боль. Собственное желание увидеть альву, не потому, что он ждал помощи, тогда, поднимаясь на чердак, он надеялся, что тварь утихнет сама собой, но ему нужно было знать, что с альвой все в порядке. Ей тепло. И спокойно. И малышка не осталась без молока. И вообще, его место там, рядом с ними…
На чердаке сквозило и было холодно, но холод этот отрезвил настолько, насколько это вообще было возможно…
Райдо помнил запахи и звуки, проходившие как бы мимо затуманенного его сознания, и зеленые раскосые глаза альвы, которые слабо светились в темноте, и прикосновение ее случайное, опалившее. Жаль, не продлилось долго. Ее ладони у себя на висках. Губы близко-близко. Шепот.
А он ни слова не разобрал…
…и просьбу свою, глупую, детскую…
…а он просто ненавидел одиночество…
Райдо тряхнул головой: об этом он подумает позже, а сейчас ему другим бы заняться.
– Рассказывай дальше, – велел он, и Нат, который явно обрадовался, что очередная неприятная для него тема закрыта, заговорил:
– Младшую я вернул. От нее пахнет очень вкусно. И еще у нее волосы кучерявятся смешно… когда мы ее заберем, я потрогаю.
– Волосы?
– И волосы тоже. Еще нос хочу… ну, потрогать… и уши… она меня совсем не боится, представляешь? И еще слушала!
– Нат! – сегодня, наверняка в честь наступления зимы, Нат был особенно невыносим. Он насупился, но все же заговорил по делу, оставив волосы и уши будущей невесты в покое.
– Докторша вышла в четверть третьего.
…Нат не спал.
Он вообще спал мало и тревожно, поскольку стоило заснуть нормально, и он возвращался на то треклятое поле, которое его обмануло.
Самое странное, что Нат прекрасно осознавал, что спит, но это осознание не спасало. Он ступал по мягкой траве, такой неестественно аккуратной, травинка к травинке, что и во сне это казалось подозрительным. Нат останавливался и нюхал траву.
Она травой и пахла.
Землей еще. Ромашкой, мятой, мышиными тропами, норами шмелиными, медом и пыльцой. Но во сне запахи были упорядоченными, они возникали и пропадали, убеждая Ната, что на этот раз все будет иначе: он дойдет до края.
И доходил.
Почти.
Он уже видел опушку леса и тонкие белые хлысты березок, в гривах которых проклюнулась характерная желтизна увядания.
Всего-то десяток шагов.
И земля расползается.
Тонет трава, выбирается на поверхность черная жижа, которая липнет к лапам, и Нат останавливается, хотя останавливаться никак нельзя. Единственный его шанс – бежать.
Лапы вязнут.
Все глубже и глубже, шипит чешуя, которую разъедает плывунец.
Хлюпает что-то. Вздыхает.
А потом Нат проваливается с головой, чтобы вынырнуть из сна в явь. Он умирает и, проснувшись, продолжает чувствовать себя мертвым. Хорошо, что не кричит. Райдо рядом, услышал бы, а ему нельзя волноваться: когда он волнуется, ему становится хуже.
Поэтому Нат спал мало. И старался засыпать на рассвете, потому что знал, что кошмарам не нравится солнце.
В эту ночь чужаки, которые принесли в дом множество запахов – и все запахи категорически Нату не нравились, кроме, пожалуй, тех, которые принадлежали младшей в их куцей человеческой стае, – растревожили его.
Нат присматривал.
Сначала за альвой, которая людям тоже не обрадовалась и сбежала на чердак. Потом и за самими людьми. Они притворялись гостями, но вели себя совсем не так, как гостям положено.
И Нат устроился в коридоре.
Ждать.
Ждать он научился, и ожидание вовсе не тяготило. Напротив, нынешнее было даже в удовольствие. Он думал о человечке, которую обязательно заберет себе, потому что собственной стае она не нужна. А Нат будет о ней заботиться. Он купит ей платье. И шубу тоже, чтобы она не мерзла. И еще украшение, не такое, как она просила передать альве, а другое, но тоже хорошее.
У Ната есть деньги. И Райдо помочь не откажется. Рассердится, конечно, за самоуправство, но и хорошо, если сумеет рассердиться, потому как в последнее время ему все было безразлично, а так покричит и успокоится.
Поможет выбрать комнату, чтобы теплая.
И ковер на пол обязательно, а то человечка ходит почти босиком и ноги мерзнут. Ноги у нее аккуратные, и сама она… и пахнет медом. Мед Нат любил. А говорить о себе – не очень, но человечка внимательно слушала и взяла клятву, что Нат не будет лгать. Он и без клятвы старался говорить правду, а тут… она смешно морщила нос, и щурилась, и все время губу покусывала.
Но главное, что слушала.
И так… ему вдруг захотелось рассказать обо всем.
О том, что отец его умер уже давно, когда сам Нат был маленьким, и потому отца он не помнит, а братьев – наоборот, помнит очень даже хорошо, только они тоже умерли.
И мама…
Сердце не выдержало, когда в списках имена прочла. Тогда ее смерть показалась едва ли не предательством, и Нат на маму обиделся, но потом понял, что умирать она не хотела. Не стала бы бросать, если бы могла.
Просто сердце. Из-за войны. Из-за альвов…
Ната отправили к старшему сородичу, но рады ему не были. Вот он и сбежал. Еще для того, чтобы за братьев отомстить, ну и за маму тоже. Он бы рассказал и про побег, который удался не сразу, и про райгрэ – к нему Ната отправили после третьей попытки его, к слову, тогда он из города выбрался даже, но следы плохо зачистил, вот и вышли. И про то, что райгрэ оставил Ната в особняке кухонным рабочим, словно Нат не сородич, а слуга наемный, и… и про нежелание слушать – Нат ведь пытался объяснить, а ему сказали, что он мальчишка безголовый, наглый к тому же. Рассказал бы и про запрет, и про угрозу, что от рода откажут…
А он угрозы не испугался, ушел.
И добрался до Перевала.
За Перевал тоже.
У него было много историй, правдивых, потому что Нат поклялся говорить правду. А она рассказала бы взамен свои. Он бы слушал ее.
Эти мысли убаюкали, и в полудреме уже нарисовались очертания проклятого луга – быть может, человечке удалось бы научить Ната видеть другие сны? – когда открылась дверь. Открылась почти беззвучно, поскольку человек точно знал, как управляться с этой капризной дверью. И придержал ее. Ступил осторожно.
Сон мигом исчез, освобождая Ната. Сперва он хотел окликнуть позднюю гостью, которую сразу узнал – а не узнать докторшу было невозможно, – но после решил промолчать.
Она же, оказавшись в коридоре, остановилась, прислушалась.
Миссис Арманди и в белой ночной сорочке умудрялась выглядеть весьма солидно. На ногах ее были домашние теплые тапочки, на плечах мантией царственной пуховая шаль возлежала. В руке докторша держала листик-подсвечник с восковой свечой. Та оплыла и горела неровно, огонек плясал, рождая многие тени, среди которых Нату было легко спрятаться.
Она ступала на цыпочках, двигаясь довольно бесшумно для человека. Останавливалась. Вслушивалась в звуки дома. И шла дальше.
В северное крыло.
В комнату, которую Райдо запер, пусть бы в комнате этой и не осталось ничего, помимо стола, шкафа и сейфовой стены. И, к огромному удивлению Ната, миссис Арманди извлекла ключ, который чудесным образом подошел к замку. Дверь открылась совершенно беззвучно.
Нат замер, не представляя, что ему делать дальше. Ждать? И как долго? И дождавшись появления докторши, поинтересоваться ли тем, что она в комнате делала? Обыскать?
Скандал будет наверняка…
Появилась она спустя минуту и явно недовольная. Дверь заперла. Ключ убрала…
Теперь миссис Арманди шла не таясь, ворча под нос, что дом запустили, что зарастает он грязью. Когда Нат вырос перед ней – он довел ее почти до самых гостевых покоев, в которых разместили семейство Арманди, – она шарахнулась в сторону с тоненьким всхлипом.
– Господи, как вы меня напугали! – воскликнула докторша, выставив между собой и Натом руку со свечой. – Я вышла… на кухню… бессонница, знаете ли… думала, быть может, согрею молока… горячее молоко с медом очень хорошо помогает от бессонницы…
Она говорила торопливо, но первоначальный страх прошел, и теперь в голосе проскальзывали раздраженные ноты.
Эта женщина Нату не нравилась. От нее пахло духами и еще той настойкой, которую она дала Райдо, а он выпил.
– Я звонила, звонила в колокольчик, но никто не отозвался, – капризно произнесла миссис Арманди. – Дайна наверняка спит, а вы…
– Покой. Охраняю. Ваш.
– Как мило… – Это было сказано так, что Нат понял: милой его инициативу миссис Арманди не считает. – А вы все время… тут были?
– Нет. На чердаке был. А потом тут.
Он сказал чистую правду, но не стал уточнять, что уже несколько часов как покинул чердак, и докторша сделала собственные выводы.
– Ах… конечно… я, наверное, все-таки пойду…
Нат кивнул, уточнив:
– Молока принести?
– Нет, что вы… я не могу вас так затруднять…
Она закрыла дверь, а Нат выждал еще с полчаса. Подслушивать он не стеснялся, благо слухом обладал куда более острым, чем человеческий.
Гостевые покои состояли из двух спален и гостиной. В синей разместились девушки, и Нат несколько переживал, не будет ли комната слишком холодной, не простудится ли его человечка, но переживания не помешали присесть у спальни бирюзовой, доставшейся чете Арманди.
– Ну что? – Голос и сквозь стену был слабым, как и сам человек.
Он Нату не нравился, и, если бы в городе имелся другой доктор, Нат всенепременно обратился бы к нему.
– Ничего. – И шепот миссис Арманди был раздраженным. – Комнату разворотили…
– И ты…
– Я просто посмотрела, – протяжно заскрипела кровать под немалым весом женщины. – Вообще-то, дорогой Виктор, посмотреть я просила тебя. И если бы не твоя вопиющая беспомощность, мне бы не пришлось сейчас…
Она повернулась, и скрип заглушил слова.
– Я не мог! – нервно отозвался доктор. – Он от меня ни на шаг не отступал! Я же говорил тебе…
– Видела… еще тот уродец…
Нат смутился.
Уродом он себя не считал. В принципе, о своей внешности он не думал, полагая ее неважной, а сейчас вдруг испугался, потому что если и вправду с точки зрения людей он уродлив, то и его человечка не захочет уходить из своей стаи. Но, с другой стороны, рассматривала она Ната с любопытством, а не отвращением, и наверняка это что-то да значило.
– Он за тобой…
– Нет, на чердаке был. Слушай, – женщине пришла в голову неожиданная идея, и она забыла о том, что разговаривать следует шепотом, – а если на чердаке прячут?
– Вряд ли… сама посуди, зачем им вообще прятать? Они хозяева здесь…
Эта мысль, в целом совершенно здравая, миссис Арманди пришлась не по вкусу.
– Если бы нашли…
– Тебе бы точно не сказали, – отрезала докторша. И замолчала, но надолго ее не хватило, она заговорила, уже не шепотом, хотя голосом тихим, нервным, не скрывая своего недовольства. – А все из-за тебя… молчал он… тайну хранил… дохранился. Сказал бы раньше, и мы бы потихоньку… дом все равно стоял… но нет же, надо было ему…
– Я клялся…
– И что с твоей клятвы? Кому все достанется? Псам?
– Ийлэ…
– Ты сам говорил, что она ненормальная. Мне, конечно, девочку жаль… чисто по-человечески…
Нат ей не поверил.
– …но зачем ненормальной сокровище? А псы их вообще убили. И дом вот заняли. А получится, что еще и драгоценности к рукам приберут. Несправедливо это…
Доктор промолчал.
А у Ната появилось преогромное желание войти в комнату, взять этого человека за горло и хорошенько тряхнуть. Пожалуй, не будь у него приказа не трогать людей, он бы так и поступил. Но приказ был.
А Райдо, в отличие от прошлого райгрэ, Нат подчинялся. Поэтому и остался в коридоре, слушать дальше. Впрочем, больше ничего-то помимо скрипа кровати, вздохов доктора, которому явно не по вкусу пришлась нынешняя ситуация, да жалоб докторши на дрянное одеяло он не услышал.
Однако у двери просидел до рассвета…
– Молодец, – похвалил Райдо, и Нат пожал плечами: похвала была приятна, но справедливости ради следовало признать, что ничего особенного он не сделал. – Значит, все-таки драгоценности… драгоценности, друг мой, это интересно… очень интересно…
Мирра зачастила.
Она появлялась в сопровождении сестры и хмурой пожилой женщины, чье имя ускользнуло из памяти Райдо, поскольку было столь же невыразительно, как и сама компаньонка. Она кивала в ответ на приветствие и неизменно выбирала самый дальний темный угол комнаты.
Садилась, вытаскивая из складок пышной юбки деревянные спицы и клубок ниток. Вязала. Порой компаньонка замирала, вперив в Райдо взгляд круглых глаз. Но пальцы ее и тогда шевелились, перекидывая со спицы на спицу петли, и спицы эти походили на жвала диковинного насекомого, а сама женщина, в этой каменной неподвижности, внушала страх.
– Что? – поинтересовался он однажды, но ему не ответили, лишь нервно дернулись уголки жабьего безгубого рта.
– Ах, – воскликнула Мирра. – Не обращайте на нее внимания! Этель такая скучная…
Этель…
– И, честно говоря, – Мирра наклонилась близко, пожалуй, чересчур уж близко, и Райдо с трудом удержался, чтобы не поморщиться – духами она по-прежнему злоупотребляла, – я бы обошлась и без нее, но матушка категорична… все-таки и в нашей глуши некоторые правила лучше соблюдать…
– Конечно.
Трепетные ресницы, нежность во взгляде и робкий румянец.
Пальцы, которые задерживаются на рукаве чуть дольше дозволенного, и в этом видится намек… в этом и есть намек, но Райдо не желает его замечать и поднимается.
– Мне бы не хотелось причинить ущерб вашей репутации. – Девочка по-своему хороша, но не достает ей опыта и хватки столичных барышень…
К счастью.
– Вы так заботливы…
– Приходится, – проворчал Райдо, и показалось, что Этель улыбнулась, впрочем, ему было сложно истолковывать гримасы ее лица.
– Что? – Мирра взмахнула ресницами.
– Ничего. Оговорился… значит, вы полагаете, что в гостиной следует использовать вот эти обои?
Райдо развернул каталог и ткнул наугад, и на хорошеньком личике Мирры мелькнула тень…
– Нет же! – воскликнула она, раздраженно притопнув ножкой. – Эти чересчур темные, и комната будет казаться маленькой. Как вам эти? Оттенка экрю… или все-таки молочный персик?
Райдо уставился на указанные образцы, честно пытаясь постигнуть разницу.
– Или с серебрением?
– А какие были раньше?
– Бирюзовые, – не задумываясь, ответила Мирра. – Но мне они казались слишком уж яркими… конечно, у найо Луари был безупречный вкус, но…
– Вы хорошо ее знали?
Мирра насторожилась. Она не была дурой, хотя и умела казаться дурочкой, и вопрос Райдо, его интерес к прошлому, которое – тут Мирра всецело была согласна с матушкой – следовало бы оставить в прошлом, был ей весьма подозрителен.
Райдо же поднялся, предложив даме руку:
– Не откажетесь прогуляться?
Мирра, естественно, не отказалась.
– Этот дом отличается от тех, к которым я привык. В Городе Камня и Железа дома иные, более тяжелые, что ли? Массивные. Наша архитектура тяготеет к строгим линиям, формам крупным, но четким…
Про архитектуру он мог говорить долго.
Про поэзию.
Театр.
Матушка – услышь она Райдо сейчас, – несомненно, порадовалась бы…
– Но когда я увидел этот дом… он прекрасен, не правда ли?
Мирра поспешила согласиться, что дом конечно же прекрасен. Но она мало что понимает в архитектуре…
– У вас врожденный вкус…
В этом она не сомневалась, но комплимент приняла с хорошо разыгранным смущением.
– Но все-таки мне бы хотелось сохранить эту усадьбу в первозданном ее виде. – Райдо ступал медленно, раздумывая о том, как долго ему придется смывать с себя этот назойливый цветочный запах.
Почему люди так любят искусственные ароматы?
– Зачем? – поинтересовалась Мирра, которой вовсе не хотелось сохранять усадьбу в этом самом первозданном виде, напротив, она многое бы изменила и изменит, когда станет хозяйкой. А в том, что рано или поздно, но она станет, Мирра не сомневалась. Во-первых, верила матушке, а во-вторых… тот, о ком она и думать старалась с опаской, потому как вдруг да мысли ее станут известны, согласился, что идея с этим замужеством не так уж и плоха. Правда, пес не спешил предлагать руку, сердце и усадьбу, но это дело времени. А если времени не так много, то всегда найдутся способы ускорить события.
Главное, чтобы все выглядело достоверно.
– Это ведь живая история. – Райдо остановился.
Галерея выходила на холл. Пустые стены. Поблекшие фрески, и надо бы найти специалиста, который сумеет обновить их, не испортив.
– Альвы ушли, и… расскажите о них. Пожалуйста. – И, поцеловав бледную руку, Райдо добавил: – Умирающим не принято отказывать…
И Мирра сдалась.
В конце концов, что такого страшного она могла рассказать?
О визитах, к которым матушка готовилась весьма тщательно, будто бы выезжала не на чаепитие, весьма обыкновенное, к слову, но на бал… И к балам она тоже готовилась, а балы в доме давали роскошные, к сожалению, Мирра была в те времена еще ребенком. Маскарады? Ах да, Нира упоминала… Нира слишком впечатлительна… но да, маскарады устраивали каждый год, и в свое время Мирра тоже получала от них преогромное удовольствие. Обычно найо Луари выбирала тему… да, именно… или цветочную… или еще вот птичий праздник… тогда Мирра была розовым фламинго, а Нира – голубкой… но голубка – это пошлость… Ийлэ?
Откуда…
Это имя оборвало рассказ, заставив Мирру настороженно замолчать.
– Вы ведь были знакомы? – с улыбкой поинтересовался пес.
Вот только улыбка его была искусственной.
– Да, конечно, – пришлось отвечать.
И солгать невозможно.
– Но не слишком хорошо, – уточнила Мирра на всякий случай. – Она была… слишком альвой, чтобы снизойти до людей. Нет, вы не подумайте, что меня это обижало… хотя и обижало, конечно… но здесь некоторые вещи естественны…
– Не только здесь. – Райдо смотрел на лепнину.
Лоза и тернии…
Тернии и лоза…
Широкие листья винограда, разодранные острыми шипами…
– Да, наверное… – согласилась Мирра, которой тема эта наскучила. – Но мне немного жаль, что все так получилось… что ее больше нет…
– Кто вам такое сказал?
Пес обернулся, уставившись на Мирру светлыми пустыми глазами; и под взглядом его ей стало неуютно, если не сказать вовсе – страшно.
– Н-никто… я п-подумала, что… в городе…
Жуткий. И Мирра не представляет себе, как… Он умрет, папа обещал. Весной. До весны она как-нибудь потерпит… и если все сложится, то к следующей зиме Мирра сможет снять строгий траур. Конечно, слухи пойдут, но осуждать – не осудят… в первый год от приемов придется воздержаться, это и к лучшему. Особняк нуждается в ремонте. Или не в ремонте, но в полной перестройке, чтобы не осталось в нем и тени той самой истории, которая псу не дает покоя?
Именно.
Новый дом и новая его хозяйка…
И он не против. Он сказал, что верит Мирре… в Мирру… и его, в отличие от матушки, подводить нельзя.
– Я рад вам сообщить, – с усмешкой произнес Райдо, – что слухи эти несколько… преувеличены.
– Ийлэ жива? – Мирра надеялась, что вопрос прозвучал достаточно… взволнованно.
В конце концов, она действительно волновалась.
– Жива. И вполне себе здорова. Если хотите встретиться…
– Нет.
Вот уж чего Мирра совершенно точно не хотела, так это встречаться с альвой.
– Боюсь, – она опустила взгляд на руки, – боюсь, теперь это невозможно… вы же понимаете… моя репутация и слухи… она теперь… не из тех женщин, с кем можно встречаться невинной девушке.
– Ну да… – Райдо произнес это как-то странно.
Глава 12
Мирра уходила, но оставался запах, терпкие цветочные духи, которые привязывались что к ковру, что к стенам. И Ийлэ представляла, как давняя заклятая подруга касается этих стен. Ласкает. И трогает старые перила, говоря о том, что надо бы их сменить, потемнели уже и ныне дуб не в моде. А Мирра всегда очень пристально следила за модой.
Как иначе? Девушке ее положения…
Ее положение никогда Мирру не устраивало, а никто не замечал. И матушка пеняла, что Ийлэ ведет себя недостаточно любезно…
Не видела?
Или предпочитала не видеть?
В конце концов, кого еще ей на чай приглашать? В округе пять более-менее приличных поместий, четыре из которых принадлежат людям, а городок мал, и все друг друга знают. Сонная жизнь, скучная. Мама могла бы блистать, но никогда не выезжала за пределы городка.
Почему?
И почему этот вопрос стал волновать Ийлэ именно сейчас? Причем настолько, что она выбралась с чердака. Хотя ложь, выбралась она по иной причине: чтобы пройти по следам Мирры, чтобы убедиться – та ушла.
– Крадешься? – поинтересовался пес.
Снова Ийлэ пропустила его появление.
– Крадусь. – Она выпрямилась и руку, которой гладила стену сонного дома, за спину убрала. – Я…
– Я не буду мешать.
– Не мешаешь.
Напротив, его запах, густой, животный, но не неприятный, стирает тот – другой.
– Вы были подругами? – Райдо посторонился, пропуская Ийлэ.
– Нет. Мы… считались подругами.
– Существенная разница.
Пожалуй, но прежде Ийлэ этого не понимала. Она вообще многого не понимала, позволяя себе думать, что крохотный мирок ее надежен, спокоен и предсказуем; впрочем, сие, наверное, свойственно многим крохотным миркам.
– Ты не обедала? Нет, Нат с Нирой… представляешь, вбил себе в голову, что заберет девчонку себе. И главное – не переубедишь. Я ему говорил, что так нельзя… вроде послушал, но с Натом никогда нельзя быть в чем-то уверенным. Он хороший парень. Сообразительный. Вот только упрямый, как… не знаю кто.
Пес шел сзади, в трех шагах держался, достаточно далеко, чтобы Ийлэ чувствовала себя спокойно, но в то же время присутствие его, близость не тяготили.
– Мне порой хочется взять ремень и выпороть.
– Не надо.
– Не буду, конечно. Все равно не поможет. Он же и сбежал после того, как райгрэ его выпорол. И главное, за ерунду какую-то, в которой Нат не виноват. То ли кто-то что-то разбил, то ли разлил. Перед этим Нат сбегал несколько раз, вот и стал во всем виноватым. Не разбирались даже. А он обиделся и снова сбежал, на сей раз удачно. Хотя тебе вряд ли интересно.
Ийлэ кивнула: ей совершенно точно не было интересно, почему Нат сбежал.
Он приходил на чердак каждый день, больше не пытался заговорить, но забирался на сундук и садился, сидел. Часами сидел. И как-то вот книгу принес, Ийлэ читала.
Не по просьбе, но…
Почему бы и нет?
Нат разливал чай из фляги – старый шарф он обмотал кожаным шнуром, и теперь чай долго оставался теплым, а шарф не разматывался – и вытаскивал из-за пазухи бутерброды. Наверняка делал сам, кромсая хлеб неровными крупными ломтями, а ветчину – еще большими. И масло клал кусками, намазывать не пытался даже.
Его бутерброды были вкусны. Ийлэ ела медленно, разжевывая и холодный хлеб, и ветчину, и масло. Выедала мякоть, а корочки складывала у трубы сушиться.
Потом, весной, ей пригодятся.
Высохшие корки она прятала в наволочку, которую украла из бельевого шкафа. Некогда в нем было множество наволочек, и простыней – мама пересчитывала их лично и перекладывала мешочками с лавандой и ромашкой для сна, – и пододеяльников, и пушистых полотенец, что больших, что маленьких. А ныне полки шкафа были пусты.
Куда все подевалось?
Дом опустел. И он жаловался Ийлэ сквозь сон, забыв о том, что сам же ее предал. Дом пестовал свои обиды, но, как ни странно, Ийлэ ему сочувствовала. Ей тоже не хватало потерянных вещей. Как бы там ни было, на чердаке не думалось о них.
А вот внизу – да…
– Здесь ваза была. – Ийлэ остановилась у алькова. – Древняя. Ценная. Еще картины. Море. Мне нравилось смотреть.
От картин на обоях остались бы следы, поскольку обои выгорели, мама, помнится, жаловалась, что качество их было вовсе не таким, как заявлено…
– Море мне понравилось. – Пес провел по стене ладонью. – Я, когда впервые увидел, то весь день на берегу сидел, зачарованный. Оно менялось: то серое, как сталь, то черное почти. Или зеленью вот отливает, а потом вновь чернотой.
– Я не была.
– Не была? – Он повернулся к Ийлэ, не скрывая своего удивления. – Почему?
– Не знаю.
– Всех детей вывозят на море. Это полезно. Воздух и все такое…
– Значит, не всех.
А ведь и вправду странно.
Мирру вот отправляли. И Ниру. И найо Арманди, появившись перед самым отъездом, долго уговаривала матушку присоединиться. Она так красиво рассказывала про дом, который они сняли на самом берегу, про песчаный пляж и белые зонтики, что Ийлэ их потом во сне видела.
Плакала. Просилась.
А отец сказал, что нельзя… на море тоже нельзя… цена…
– Что? – переспросил пес. – Чего цена?
Ийлэ пожала плечами, дав себе слово быть осторожней. Наверное, ей мало читать Нату. Или это слишком долгое молчание виновато в том, что она заговорила? Мысли вслух. Какая глупость.
– Отец. Не разрешал. На море…
Она погладила стену, и дом отозвался на прикосновение живым тягучим теплом.
– Мы никуда не выезжали. В город только.
Запаха Мирры почти не осталось.
– Ийлэ… скажи, пожалуйста… что твой отец хранил в той комнате… стой, погоди прятаться.
Она не собиралась прятаться.
– Я не причиню тебе вреда. И не трону твою малышку. Я просто должен понять, что происходит. Я ненавижу, когда меня пытаются использовать втемную. Не ты, Ийлэ. Другие. Подружка твоя, которая поселилась бы здесь, дай ей волю… или ее мамаша… доктор… у меня такое ощущение, что они пытаются добраться до чего-то важного, а я понятия не имею до чего.
Мирра?
Доктор?
Добрейший доктор, который тоже наведывался в поместье, но не ради чая матушки. Он появлялся, чтобы сыграть партию-другую в бейшар. И отец радовался, поскольку кроме Ийлэ и доктора у него не было соперников. А после бейшара доктор садился в низкое кресло у камина, брал в одну руку бокал с коньяком, а в другую – трубку. Не курил – кусал чубук.
И рассказывал забавные истории из своей практики.
Тот доктор казался сильным человеком. И мудрым. Почему папа не увидел правды? И мама… и никто-то…
– Я… не знаю. – Ийлэ сумела посмотреть в глаза псу, хотя и знала: нельзя.
Это вызов.
И сейчас он разозлится.
Ударит.
Наотмашь. По губам? Или пальцами ткнет в живот, заставив согнуться, а потом о стену. Тот, другой, всегда бил, но никогда – насмерть, даже когда Ийлэ хотела, чтобы насмерть.
– Тише. – Райдо улыбнулся и палец прижал к губам. – Не отворачивайся. У тебя глаза зеленые. У наших такой цвет редко встречается. Серый вот частенько, голубой еще. Иногда – карий… чем светлее радужка, тем чище кровь… я вот – сама видишь.
Его глаза были серыми, светлыми, с темным ободком. И ненависти в них Ийлэ не увидела, впрочем, это ничего не значит, поскольку тот, другой, тоже не ненавидел ее, напротив, временами он был любезен.
Позволял ей садиться за стол.
Вилки, ложки и ножи, салфетки церемонией званого обеда. Игра в семью. И поиск повода, который находился всегда. Нельзя верить… но ей так хочется, и поэтому она смотрит, до рези в глазах, до дрожащих колен. Вызов.
Он должен его принять, и тогда… тогда, быть может, все закончится.
– Яркие какие… и раскосые… Ийлэ… ты только не обижайся, но… ты женщина.
Пес вдруг шагнул ближе, разрывая нить взгляда. Ийлэ не успела отступить, да и отступать ей было некуда – стена за спиной и та самая ниша, в которой некогда ваза стояла. В нише не спрячешься.
Она и не будет.
Она… сумеет его ударить… у нее и нож имеется… и это шанс…
– Глупая девочка. – Пес перехватил руку с ножом. И держал он крепко, но бережно. – Ты же поранишься…
– Ты…
Ийлэ уткнулась в широкую его грудь, в клетчатую рубашку, продымленную, прокопченную, и, наверное, ее стирали, поскольку порошком тоже пахнет, но слабо. А псом напротив – сильно.
– Отпусти.
– Сейчас отпущу. – Он говорил мягко, и рокочущий голос над самым ухом заставлял вздрагивать. – Только отдай мне нож, пожалуйста. Это плохой нож. Кого ты им резать собралась?
– Тебя!
– Меня… я помню… но ведь не ударила же… могла ударить, но не ударила. Ты вовсе не злая, альва… напугана и растеряна… обижена еще…
– Да что ты знаешь?!
Она разжала пальцы, и нож упал на пол.
– Ничего не знаю, – покорно согласился Райдо. – И знать не буду, пока ты мне не расскажешь. А ты не расскажешь пока. Не доверяешь. И это где-то правильно: нельзя поверить тому, кого ненавидишь. Ты же меня ненавидишь, да?
– Да. – Ийлэ вдруг поняла, что еще немного – и расплачется.
А она не плакала давно.
И просто запах дыма и дома. Коридор этот… и почему он ведет себя не так, как должен вести пес? Держит, обнимает, баюкает мягко, точно ребенка… и, наверное, раньше, уже давно, в той прошлой жизни Ийлэ вполне бы могла поверить его рукам.
Чтобы не разреветься – позор и смех! – она сказала:
– Псы не выносят прямого взгляда…
– Кто тебе сказал такую ерунду?
– Это вызов и…
– Ийлэ, – ему, кажется, нравилось произносить ее имя, и оно, привычное, звучало совсем иначе, – если бы мы любой прямой взгляд воспринимали как вызов, представляешь, сколько пустых драк было бы?
– Сколько?
– Много.
– И тогда как?
– Тогда? – переспросил Райдо, отпускать ее он не был намерен, и Ийлэ смирилась.
Подчинилась.
Она ведь и раньше подчинялась силе, но та сила была… злой?
– Прямой взгляд можно истолковать как вызов, но всегда важно, от кого этот вызов исходит. К примеру, взять Ната. Нат одной со мной расы. И он мужчина. Мальчишка, конечно, но и мужчина. То есть, глядя мне в глаза, он пробует собственные силы. Чем дольше он сумеет удержать взгляд, тем лучше для него. А ты… ты мало того что женщина, так еще и альва…
Руки он разжал и отступил. Нож поднял.
– Я тебе другой дам, – пообещал Райдо, пряча этот в рукаве. – Нормальный. Только Ната не прирежь, ладно?
– Не прирежу.
– Вот и умница. Пойдем обедать, а то я устал сидеть там один…
Он протянул руку. Широкая ладонь. Шрамы. Пальцы короткие с ребристыми темными ногтями. Запястье толстенное, но в то же время беленькое, беззащитное какое-то.
– Пойдем, – согласилась Ийлэ, отводя взгляд от этой руки. – У… мамы были драгоценности… много… алмазы… и сапфиры еще… некоторые вещи старинные и, наверное, очень ценные… я не знаю, их никогда не оценивали… они семье принадлежали…
Браслет с крупными полированными гранатами. Тиара тяжелого красного золота. Изумруды в ней больше напоминают мутные стекляшки. Тиара прапрабабкина, сохранилась со времен исхода. Диадема с алмазами, ее мама с насмешкой именует короной и надевает неохотно. А Ийлэ диадема нравится… нет, Ийлэ знает, что когда-нибудь все эти драгоценности достанутся ей, но когда это будет?
Ей позволяют играть.
Комната. И зеркало. И мамины шкатулки, полные сокровищ. Вытащить и примерить, сочинив очередную волшебную сказку о том, как однажды…
– Их не нашли. Меня спрашивали…
…мягкий голос. Вопрос и еще вопрос. И надо отвечать, пусть губы и разбиты в кровь. Пощечина. Вопрос. Пощечина… вода по волосам течет, Ийлэ пытается слизывать капли с губ, ее мучит жажда, но ей не позволяют. Снова вопрос… опять. Напиться позволят, когда она расскажет обо всем, что они хотят знать. Но Ийлэ не понимает…
– Тише, девочка моя, тише. – Она вдруг очнулась в чужих руках и, кажется, закричала, забилась, пытаясь вырваться; а когда Райдо отпустил, сползла по стене, поскуливая, зажимая рот ладонями. – Все закончилось… все уже закончилось… они умерли, я знаю…
Он ничего не знает.
И если узнает, сам убьет Ийлэ. Он будет милосерден и подарит ей быструю смерть. Не так давно это – все, чего Ийлэ хотела.
– Прости. – Пес сел рядом, большой и теплый, и близко чересчур, но Ийлэ не отползла, позволила себе прислониться к нему, ненадолго, на мгновение, которое, правда, растянулось, но с мгновениями такое случается. – Я не хотел… я не должен был спрашивать, да?
Она сумела кивнуть.
– И не буду… больше не буду… только не убегай, ладно? Бран был дерьмом. Я не такой… мы не такие, как он… дерьмо ведь везде встречается, но не нужно думать, что мир из него слеплен…
– Из него… – Ийлэ сказала, чтобы убедиться – она не потеряла саму эту способность: разговаривать.
– Пойдем есть, – сказал Райдо, поднимаясь. – А потом ты мне почитаешь. Почитаешь, да? Мне младшенький писем прислал, а читать некому. Нат, конечно, умеет, но Нат – не то: ни эмоций, ни выразительности. Одно сплошное оскорбленное достоинство.
Писем и вправду было много, пусть и не все из них – для альвы.
Из очередной стопки писем выпал серый конверт со знакомым чернильным пятном в верхнем левом углу. Райдо усмехнулся: приятно было осознавать, что старый товарищ не изменился.
Кеннет всегда был параноиком.
Но зато почерк у него, в отличие от младшенького, был читаем.
Райдо, привет, старый засранец!
Хотя вроде ты еще и не такой старый, так что привет, нестарый засранец! Рад был получить письмецо и узнать, что ты еще скрипишь. Слыхал, будто бы напророчили тебе скорый конец, но небось вновь преувеличивают.
Что до жизни моей, которая, уверен, ни хрена тебя не интересует, но ты ж у нас скотина воспитанная, без поклонов не умеешь, то скажу так: у меня все в полном ажуре. Ушел я в отставку, да не просто так, а с листом наградным, к которому медалька положена. Так что ныне я не хрен с горы, а, как изволил выразиться мой папашка, достойный член общества. Он давече целую речугу толкнул. И невестушку мне подыскал, из вдовых и рода малого, но с приданым. Хорошая баба. И сын у нее толковый, правда, поначалу на меня все скалился, а теперь ничего, привыкли друг к другу. Славный пацан.
Живем мы в пригороде, своим домом и мирно, чего и тебе от души желаем.
Но по вопросам твоим стало мне ясно, что у тебя по-прежнему шило в жопе крутится. А потому прошу: поосторожней там. Лезешь ты в дело, которое не просто дерьмом воняет, но целою выгребною ямой, куда тазик дрожжей кинули. Видал такие шутки? Если нет, то скажу я так: от дрожжей дерьмо из ямы на раз прет. И не успеешь отойти, как с головою накроет.
Райдо хмыкнул: старый друг не изменился.
И хорошо бы навестить его, посмотреть и на дом, и на жену друга, и на пасынка. И быть может, сидя в саду под вишнями – Кеннет этими вишнями всех достал, рассказывая, как в своем доме беседку поставит и будет чаи гонять на старости лет, – опрокинуть по стаканчику вишневой наливки.
Или, на худой конец, бренди.
Если доживет…
А ведь не зовет Кеннет в гости. Знает? Наверняка. Он всегда умудрялся знать то, что ни по должности, ни по совести ему знать было не положено.
Райдо развернул страницу, написанную мелким птичьим почерком. Случись человеку стороннему взять ее в руки, он долго бы пытался разобрать хитросплетения Кеннетовых каракуль, в которых угадывалась то одна, то другая буква, но лишь угадывалась.
Буквы перемежались с цифрами. А то и вовсе сливались в узорчатую вязь вроде альвийской, а та вдруг перемежалась с резкими штрихами клинописи.
Шифр Кеннет выдумал сам. И был он несложным, если знать некоторые хитрости. Райдо знал.
Зеркало.
Пара книг и лист бумаги. Счеты. Кеннет обходился и без них, но голова Райдо ныне работала туго. Хорошо хоть вовсе работала.
Наверное, можно было бы кликнуть Ната, но…
…если и вправду дерьмо, как предупреждал Кеннет, мальчишку лучше не впутывать.
Сразу скажу, что Брана из Медных я лично не знал, но слышал от людишек верных, будто бы этот Бран не просто дерьмом был, а дерьмищем первостатейным, какового и в собственном роду не больно-то жаловали. Род, конечно, дело такое… ты моего папашу знаешь, он меня всю жизнь ошибкой молодости называл, да и я к нему особой любовию не пылаю. Вот за Лидию мою, то спасибо, что сосватал… но я ж не о том. С Браном иное. Медных осталось не так и много; они друг за друга держатся; вот и его не единожды выручали. Еще со школы за ним тянулось, да то дела давние. Из королевской гвардии его выставили, темная историйка – вроде как он девку не то снасильничал, не то едва не снасильничал, не то просто побил. Теперь-то концов не найти. Скандал Медные замяли, да только и их не хватило, чтоб Брану местечко удержать. Поперли его, хотели и вовсе военную дорожку перекрыть, но тут самая заваруха началась. А сам знаешь, дорогой друг, что в армии всем местечко найдется. Только попал Бран не как мы с тобой, на передовую, а в Особый отдел, к папенькиному приятелю под теплое крылышко. И сидел под этим крылышком, пока бои шли.
Вот скажи, Райдо, отчего так бывает, что у одних жопа в дерьме, а у других – в шоколаде? Мы-то с тобой кровь проливали, землицу альвовскую поили, а Бран опосля по этой землице гоголем ездил. Ценности именем короны реквизировал, согласно пятому предписанию. А что, хорошая работенка, непыльная… в городок какой являешься, бумажкой в нос тычешь и ждешь, пока мэр аль какой иной человек с поклоном тебе золотишко выносит.
И сам понимаешь, что не все ценности короны до короны доходили. Опись описью, но помимо городской казны завсегда можно и каких людишек потрясти, из важных, которым охота и далее жить-поживать, добра наживать. И добром этим они поделятся, пусть и без особой охоты, но своя шкура дороже.
Райдо отложил письмо и потер переносицу. Глаза слезились, и мошки разноцветные мельтешили, мешая сосредоточиться.
У Брана репутация была такая, что и в Особом отделе с ним вязаться брезговали. Они-то, конечно, свое дерьмо глубоко закапывают, потому кроме слухов я тебе ничего сказать не скажу, но и слухи таковые, что Брану дважды внушение делали. А понимаешь, что с третьим он бы нежданно-негаданно смертью храбрых пал бы, всем на тихую радость. И поговаривали, что многие сего ждали с превеликим нетерпением, и желающих устроить эту самую смерть было в избытке, но тут Бран в отставку подал.
Уйти из Особого – это уметь надобно, но у него вышло. Не отставка, конечно, но отпуск по ранению, хотя того ранения – царапина на хвосте. Думаю, что начальничек его, почуяв, к чему все движется, спровадил этакий подарочек, чтоб народ поостыл, не захотел с Медными вязаться. Сунули Брану в зубы усадебку, сдается мне, ту самую, в которой ты кости греешь, и велели сидеть тихо.
Но вот что любопытно.
Ему вначале иную усадьбу предлагали, на самом Побережье, на песочках да солнышке. А он отказался, попросился самолично в альвийскую глушь, дескать, леса сосновые там, для здоровья зело пользительные. Надеюсь, сие – правда истинная, и ты, дорогой мой приятель, от сосен тех поздоровеешь со страшною силой. Да только учти, что Брану эти сосны не на пользу пошли. По официальной версии, скончался наш приятель опосля продолжительной и тяжелой болезни.
И с ним еще двое.
Видать, ну очень заразною болезня была. Полагаю, что имя ей – жадность.
Нет, ничего-то толком выяснить не удалось, тема болезненная, но твоих вопросов касательно скажу так: в Особом у многих не особо чисты руки. И сам понимаешь, королю – королевское, но и тем, кто пониже стоит, тоже свой кусок урвать охота. Все ж понимали, что война – она не вечная, а вот дальше – как расстараешься, так и заживешь.
Бран старался от души.
Родичи его, конечно, ныне делают вид, что знать про его штуки не знают, и вообще премного опечалены смертью, но все это – вежливая хренотень. А на деле один сведущий человечек шепнул мне, что, дескать, старший из Медных давно бы Брана в расход пустил, когда б не его папаша. У того сынок – единственная отрада, а потому и дозволяли ему все. И еще тот же человечек, чье имя тебе наверняка не интересно, добавил, что, дескать, папаша этот ну очень Брановой смерти огорчился. До того, что кричал и обзывал райгрэ нехорошими словами. Возмездия требовал.
А райгрэ оскорбился и папашу этого за горло взял, едва душу не вытряхнул, но вовремя остановился. Или не вовремя? Один хрен. Спровадили его в дальнее имение, запретив нос оттуда казать. Но главное, что папаша не успокоился. Он по-прежнему жаждет мести. И от мыслишки этой поганой не откажется…
Час от часу не легче.
Отец Брана, Видгар из рода Высокой Меди, был силен, и возраст силу эту не убавил. Пожалуй, что в иные времена Райдо имел бы шанс управиться, но не теперь…
Теперь он и обернуться не способен без риска развалиться на куски.
Потому, разлюбезный мой друг, которому супруга моя велит кланяться низко и выказывает на словах всяческое почтение, будь осторожен. Я-то помню, что тебе озера по колено, а море – по яйца, и сами эти яйца чугунные, не иначе, но не ищи жопой приключений.
Про приятелей Брана знаю мало. Но вряд ли приличные псы: с таким дерьмом ни один хороший человек, или нечеловек, связываться не стал бы. А если у них общее дельце имелось, то и вовсе сие говорит не в их пользу.
С усадьбой твоей и вовсе мутно.
Обыкновенная она.
Особисты, конечно, проверяли ее после Брановой смерти: пусть и сами они не чаяли от него избавиться, а все свой. Но ничего-то не нашли, вот тебе ее и всучили.
За сим откланиваюсь, дорогой мой друг.
И если вдруг захочется тебе свидеться, соскучишься по старому своему приятелю Кеннету или же по иным своим приятелям, которые могут быть полезны, то шли оптограмму.
Осторожней там будь.
И не вздумай помирать, я еще беседку не поставил, а вишни только-только посадил. Представь себе, какое это огорчение, получить дом – и без вишневого сада! Но клянусь тебе, что, хочешь ты того аль нет, но мы с тобою еще погоняем чаи в моей беседочке, вспомним былые времена…
Или не чаи.
Моя хозяйка такой сидр ставит, что просто прелесть. Пьется водицей, а по мозгам шибает конским копытом. Давече я как бутыль усидел, так еле до дому добрался…
Дом у меня ладный, только крышу наново крыть пришлось. И забор правил, да оно и понятно, сколько лет без мужика.
Но теперь наладится все.
Живи, Райдо.
Яблони, вишни – один хрен, главное, что мы с тобой эту самую жизнь заслужили.
Заслужили… вот только чем?
Глава 13
Пятый день кряду шел снег.
Пушистый и легкий, он ложился сугробами, норовя затянуть и без того слепые зимние окна дома. В снежных разливах тонули уцелевшие кусты роз и темные плети плюща, на которых сохранились еще редкие ягоды. Снежные шали ложились на плечи яблонь, старый вяз и тот спешил укутаться, чувствуя близость морозов.
Ийлэ держалась каминов. Пламя дарило тепло и еще спокойствие, которое было ложным, но Ийлэ позволяла себе верить, что эта зима… нет, на прошлую она не будет похожа, она просто будет.
С камином вот.
И с отродьем, которое пыталось держать голову.
– Смотри, получается. – Райдо лежал на боку, наблюдая за отродьем. Иногда он подавался вперед, но не прикасался. – Упрямая…
Оно не плакало.
Даже теперь, когда у него хватило бы сил и на слезы, и на крик, отродье предпочитало молчать. Оно лежало на животе? и ноги елозили по толстой шкуре, которую Райдо принес для тепла, ручонки в эту шкуру уперлись, и походило на то, как если бы отродье пыталось подняться. Оно с немалым трудом отрывало слишком тяжелую для него голову, держало ее секунду, а то и меньше и падало, замирало, отдыхая, чтобы вновь повторить…
– Ничего, научится… и еще поползет… поползешь ведь?
Отродье отвечало кряхтеньем.
Забавное. И странно теперь думать, что вот оно могло исчезнуть.
– Поползет. Они когда ползают – смешные очень. Но имя все равно надо придумать. – Райдо перевернул отродье на спину, и оно закряхтело, задергало ручонками. – И зарегистрировать ребенка, а то ведь не дело.
Наверное.
Ийлэ отвернулась к окну.
Почему сама мысль о том, что нужно придумать имя отродью, вызывает у нее такое отторжение? Не потому ли, что с именем отродье перестанет быть отродьем, а станет… кем?
Младенцем.
Розовым младенцем, который уже почти похож на обыкновенных розовых младенцев, разве что слишком тих и слаб пока, но это ведь временное. К весне отродье и вправду научится что голову держать, что сидеть. Или вот ползать даже…
– Ийлэ, послушай. – Райдо переложил ребенка в корзину и сунул бутылочку с козьим молоком.
Отродье пило жадно, наверное, тоже не верило пока, что голод не грозит.
Интересно, будь у нее возможность, она бы прятала молоко?
– Это уже не смешно. Точнее, я неправильно выразился, за мной есть такое: выражаться неправильно. И вообще я в словесах хреново разбираюсь. И душевной тонкости от меня не дождешься, потому и… прекрати… она-то ни в чем не виновата…
– Я не виню.
– Винишь. – Райдо держал бутылочку двумя пальцами, и пальцы эти казались огромными или, напротив, бутылочка крохотной. – Ты же на нее лишний раз взглянуть боишься.
– Нет.
Вот сейчас Ийлэ на отродье смотрит.
Круглое личико, глаза серые. У альвов не бывает серых глаз и родинок… Ийлэ пробовала их стереть, но родинки не стирались, напротив, становились темнее, ярче. Брови эти слишком светлые. И волосы тоже светлые. Полупрозрачные коготки на полупрозрачных же пальцах, которые обняли бутылочку. Отродье уже почти насытилось, но пьет, вздыхая и причмокивая.
Почти уснуло.
И почти поверило, что теперь в ее жизни всегда будет, что эта корзина с толстым пледом, что бутылка с молоком… Райдо…
– Винишь, но все равно любишь, – со странным удовлетворением в голосе произнес пес.
– Нет.
– Да. Иначе почему ты осталась тогда? И позже?
Неприятный разговор.
Не тот, который должен быть у камина, когда за окном почти уже метель и сумерки, свинцово-лиловые, тяжелые, с бледным пятном луны, которая заглядывает в окна. Подсматривает?
– Он ведь прав был, наш добрый доктор, она умирала. И сама не выжила бы. Молоко, тепло, льняное семя… это все хорошо, но недостаточно. А вот твоей силы… если ты ее не любила, то почему позволила жить?
– Чего тебе надо?
– Многого. – Он высвободил бутылочку из вялых рук и корзину качнул. – Мне надо, чтобы ты перестала прятаться. И чтобы у нее появилось имя. Чтобы она росла, а ты жила. Быть может, вновь научилась улыбаться… мне кажется, раньше ты легко улыбалась и улыбка тебе шла… мне надо, чтобы ненависть ушла…
– Многого, – согласилась Ийлэ.
Смешной. Ненависть не способна уйти. Не сама по себе… и, наверное, Ийлэ могла бы рассказать.
О том, как пряталась. О боли. О крови. О страхе – она все-таки умирала, и лес, который до того делился силой щедро, вдруг отступил, замер, ожидая, когда Ийлэ умрет. Лес готов был принять ее тело, опутать корнями, укрыть полями зеленых мхов.
Рассказала бы о слезах.
И растерянности.
Красном грязном комке, с которым она оказалась связана толстой веревкой пуповины, и о том, до чего мерзко ей было прикасаться к этой пуповине… и к комку…
– Я… я подумаю, – ответила Ийлэ, отворачиваясь.
В конце концов, у нее есть еще время. До весны.
– Подумай. – Райдо встал. – И еще… тут Нат передать просил, а все как-то случая подходящего не было… на вот… держи.
Тонкая цепочка и подвеска-капелька, черная жемчужина, мелкие алмазы, граненные квадратом.
– Это ведь твое, верно?
Ийлэ кивнула. Ее.
Она знает каждый камень и жемчужину выбирала сама.
В коробке была сотня их, крупных, идеальной формы, но разного оттенка: белые, бледно-голубые и розовые, насыщенного оттенка, желтоватые, словно вылепленные из масла, еще вот лиловые, гиацинтовые. Вся палитра, в которой эта, темная, почти черная, выделялась.
Теплая.
И тогда была теплой, пусть и тепло это было собственным, Ийлэ, а нынешнее – пса. Он носил подвеску в кармане своей дурацкой клетчатой рубашки, вот и нагрелась что она, что металл. Папа делал удивительные цепочки, тонкие, но прочные, с рисунком, который переползает со звена на звено.
Лоза и терний.
…по праву…
Он так сказал, а когда Ийлэ попросила объяснить, что это значит, отец отшутился, мол, не стоит хорошенькой девушке забивать голову всякой ерундой. А ведь не ерунда: полустертая лоза и яркий терний… алмазы сияют, словно ничего не произошло. И жемчужина, кажется, стала темнее, чем прежде.
Ложь. Жемчуг цвет не меняет. И эта подвеска…
– Она… дорого стоит, – сказала Ийлэ.
– Возможно, – пес смотрел прямо, – некоторые вещи стоят дорого, а другие и вовсе цены не имеют. Все относительно в этом мире.
– В философию ударился?
Ком в груди растаял.
Откуда он взялся? Зимний. Холодный. Не снег, но старый серый лед, который и под солнцем не тает. Ведь не было же, но вот… Ийлэ трогает грудь.
Ничего.
Рубашка. Свитер нелепый, который она носит, пусть бы в доме уже и не холодно… упрямство… мама всегда говорила, что Ийлэ непозволительно упряма. А отец смеялся, дескать, семейная черта…
И подарил жемчужину, сказал:
– Ты в своем праве носить черный…
…еще одна деталь. Сколько их было, потерянных памятью секунд и слов, которые возвращались, причиняя почти физическую боль?
– Ударился. – Райдо коснулся локтя. – Со мной бывает. Ийлэ… можно тебя попросить?
Просить? Конечно. Подвеска-капля, жемчуг и алмазы, подарок из прошлого, вот только подобные подарки бесплатными не бывают. Ийлэ сжала подвеску в руке, понимая, что расстаться с нею не сможет.
– Что… надо?
– Ничего особенного. Не сбегай с обеда, ладно? Эта дура опять приедет. И я знаю, что ты не хочешь с ней встречаться, но, пожалуйста, я с ней в одиночку не справлюсь. От Ната помощи никакой. А ты…
Дура? Он говорит о Мирре. Ийлэ не хочет с Миррой встречаться, но и отказать в просьбе не способна. Пес знает. Он нарочно. И не раскаивается ничуть. Стоит, осклабился широко, радостно.
Сволочь.
– Хорошо, – ответила Ийлэ, надеясь, что голос ее звучит ровно.
– Вот и умница…
К счастью, требовать, чтобы Ийлэ переодевалась к обеду, он не стал: то ли знал, что откажется, то ли знал, что переодеваться не во что.
А и плевать.
Мирра как-нибудь переживет…
Переживать Мирра не собиралась.
Она, настроенная весьма решительно, вошла в дом, который уже мысленно полагала своим, и бросила шубку Дайне.
Мило улыбнулась хозяину.
Присела в реверансе. Ната одарила кивком – не столь уж важная он птица, чтобы расшаркиваться. После свадьбы надо будет выслать его, матушка о том упоминала не единожды, и Мирра всецело была с ней согласна.
И не только с матушкой.
…он обещал, что поможет Мирре. А он никогда не давал пустых обещаний.
– Надеюсь, вы соскучились по мне так же, как и я… – Она не стала дожидаться, пока Нира справится с шубой. Сестрица вечно копалась, на сей раз наверняка нарочно, желая Мирру позлить. Пыхтит. Дергает несчастные пуговицы.
– Соскучился. Очень, – ответил пес, предложив руку. Показалось, что в словах его мелькнула насмешка, но… показалось, конечно, показалось…
У лестницы Мирра обернулась: Нат, присев на корточки, возился с пуговицами, а сестрица, вместо того чтобы от помощи отказаться, как то положено приличной девушке, что-то тихо и настойчиво говорила.
Вот же…
Впрочем, так даже лучше, пусть с этим щенком возится, зато мешать не станет.
Райдо тоже обернулся.
– Не волнуйтесь, Нат о вашей сестре позаботится. К слову, у вас здесь приняты помолвки?
– Вы говорите… – Мирра порозовела.
– О людях. Ну, то есть о людях, которые здесь живут. Я не очень хорошо знаю местные порядки. Как это происходит?
– Свадьба? – Мирра бросила взгляд на расчерченное шрамами лицо.
Урод. Почему жизнь настолько несправедлива? Ей совершенно не хотелось выходить замуж за урода, но дом, поместье… и маменька намекнула, что поместье с секретом… и этот секрет сделает Мирру не просто богатой…
И хорошо, если так.
Он не отпустит Мирру сам, да и она не захочет уйти, но иногда ей нравилось думать, что однажды она уедет.
Сбежит.
От матушки с ее нравоучениями, от отца. И от него, конечно. Скорее даже от него, чем от матушки и отца. Мирра отправится за Перевал, быть может, попадет ко двору. А если и нет, то в Городе Камня и Железа найдется место для очень состоятельной и красивой вдовы. Вдовам многое прощается… это ведь свобода, а ради свободы Мирра потерпит общество этого недоразумения, которому суждено стать ее мужем.
И зря Нира злословила.
Псы ничем-то от людей не отличаются… разве что размерами.
Мирра потупилась. Почему-то сегодня маска, привычная уже, родная почти, раздражала неимоверно. Все эти взгляды в пол и трепет ресниц, робость и вздохи, прикосновения украдкой…
– У нас… у нас… принято, чтобы… если девушка нравится молодому человеку… и он имеет серьезные намерения, то эти намерения он должен изложить ее отцу или же старшему брату… опекуну… – Мирра наблюдала за псом сквозь ресницы, пытаясь по лицу его прочесть, что он думает о человеческих обычаях.
К сожалению, если пес что-то и думал, то лицо его было для чтения непригодно.
– И тогда, если у отца девушки нет возражений, то он дает свое согласие на помолвку. Жених и невеста обмениваются кольцами, о помолвке объявляют в газетах, чтобы все знали… вот… после помолвки необходимо выждать некоторое время, месяц или два… на случай, если вдруг окажется, что у кого-то имеются возражения… к примеру, девушка была ранее обещана другому человеку. Или же жених связан обязательствами… к сожалению, такое порой случается.
Пес кивнул.
– Но обычно… обычно… – Мирра запнулась, но нашла подходящее слово: – Обычно все проходит обычно…
Райдо улыбнулся.
Отвратительно. И клыки эти… папенька, конечно, утверждал, что псы – хищники, но не людоеды, однако в городе говорили иное. Мирра сплетням не очень верила, но ведь клыки…
Она мило улыбнулась в ответ на улыбку и продолжила:
– Во время помолвки готовятся к свадьбе… платье там, украшения. Дом опять же в порядок приводят, составляют список гостей… рассылают приглашения… много суеты…
– Понятно, – оборвал Райдо и, почесав черным когтем – с виду тупым, но неприятным – кончик носа, задал следующий вопрос: – А как долго эта ваша… помолвка длиться может?
– По-разному… иногда годами… например, если обручают детей, то приходится ждать, пока эти дети не вырастут.
– Удобно.
– Что?
– С детьми…
– Да, конечно. – Мирра не очень поняла, но вновь улыбнулась. – Но мы с вами уже не дети…
– Это точно… не дети…
– …и если необходимо поторопить, то всегда можно получить особое разрешение. Оно, конечно, обойдется в приличную сумму, но, с другой стороны, избавит от прочих хлопот… да и пышная свадьба… кому она нужна?
Здесь Мирра покривила душой.
Свадьба была нужна ей, но матушка права: вряд ли сородичи пса обрадуются невесте-человеку. А потому лучше, если все будет тихо и быстро.
Помолвка. Свадьба. И похороны. Еще завещание где-то между свадьбой и похоронами. Несколько месяцев траура.
И свобода.
Настолько, насколько ей позволят быть свободной.
Мечты и чаяния маленькой человеческой девушки были незамысловаты и по-своему обыкновенны. Райдо читал их сквозь маску дружелюбия, которую она нацепила, надеясь обмануть его.
Маска была хорошей, вот только… Он слишком долго жил на грани, чтобы обманываться улыбками, взглядами нежными, этим вот фарфоровым румянцем, пальцами трепетными в его ладони…
На руках ее перчатки, пожалуй, несколько более плотные, чем обычно. И само прикосновение к нему девушке неприятно, оттого если и прикасается она, продолжая игру, то исключительно к одежде.
Морщится. Хмурится.
И вновь улыбается. Гримасы мелькают. И не гримасы даже – тени их. Но Райдо довольно и теней. Сейчас Мирра удовлетворена. Ей кажется, что Райдо готов сделать предложение, и она, несомненно, предложение это примет.
Почему?
Ей так нужен дом?
Или то, что спрятано в доме?
Мирра щебетала что-то о людях, ей знакомых, о городке, в котором давным-давно не случалось ничего-то интересного, о новостях и сплетнях, газетах, погоде… Райдо слушал вполуха, не забывая кивать в нужных местах…
…матушка была бы довольна…
– К слову, дорогая, у меня для вас сюрприз, хотелось бы думать, что вам понравится. – Он поцеловал руку Мирры, с удовольствием отметив, как та вздрогнула, а на лице появилось выражение величайшей гадливости.
На мгновение Райдо показалось, что стоит отпустить эту руку, и Мирра немедленно вытрет ее надушенным платочком, а то и вовсе выбросит перчатку.
Но нет, ей удалось справиться с собой.
– Я совершенно уверена, что понравится, – ответила она, дав себе зарок в следующий раз надеть перчатки поплотнее.
Мир-р-ра.
Мирра.
Ми-и-р-р-а.
Ийлэ никогда не нравилось это имя. Слишком резкое, угловатое. И она вновь и вновь катала его на языке, пытаясь стереть эти углы, а они не стирались.
Мирра не изменилась.
Забавно. Ийлэ ведь предполагала, что так и будет, но предполагать – это одно, а увидеть… фарфоровая кукла в платье из красной шерсти.
Красный – яркий цвет, вызывающий, но Мирре идет.
Она знает, что красива… нет, не так, она знает, что теперь во всем этом растреклятом городке не осталось никого, кто бы мог бросить вызов ее красоте.
Ей ведь этого хотелось.
Когда?
Тогда, раньше. Ийлэ помнит. Она бы с радостью обменяла эти воспоминания на другие, а то и вовсе избавилась бы от них.
Не дано.
…дорогая, познакомься, это Мирра… надеюсь, вы подружитесь…
…фарфоровая девочка, похожая сразу на всех кукол, которых Ийлэ видела в городе. Куклы были круглолицы и кудрявы, облачены в роскошные платья…
…эта живая. Она смотрит на Ийлэ с непонятным возмущением и хмурится. Глупость. Куклы не имеют права хмуриться, им вообще не положено испытывать эмоций.
– Я самая красивая! – говорит кукла и топает ножкой в атласной туфельке, расшитой стеклярусом. Он блестит, как и бусины ожерелья на шее куклы и такой же стеклянный браслет. Ийлэ тот блеск завораживает. – Слышишь?
– Почему это ты? – Ийлэ не хочется быть самой красивой, это скучно, но кукольная обида смешна.
Ийлэ дразнит куклу. Играет.
…она виновата… сама виновата, ведь и вправду играла… и ладно в детстве, но ведь и взрослея, Ийлэ не менялась… поддразнивала… и бессознательно, и сознательно…
…бал в ратуше… и белые платья… тафта и атлас… шелк альвийский, который слишком дорог, чтобы Мирра позволила себе платье из него. Но она позволила и, собираясь на тот бал, предвкушала и свое появление, и восторг… и поклонников, которые всенепременно влюбятся с первого взгляда и до самой смерти…
…ей так хотелось быть самой красивой…
А Ийлэ… она ведь могла остаться дома, но не осталась… и появилась на том треклятом балу именно для того, чтобы заклятую подругу позлить.
Не только платье, но и жемчуг.
Серебро.
Папина работа. Она стоит дороже шелка, Ийлэ гордится отцом… и собой тоже, глупая девчонка. Все казалось игрой, такой вот увлекательной игрой… разрушить чужой песчаный замок.
Отступить.
Позволить возвести новый.
И снова разрушить.
И наверное, в свое оправдание Ийлэ могла бы сказать, что она не понимала, насколько эта ее игра болезненна для Мирры.
Или нет, понимала?
Тогда почему… что заставляло ее вновь и вновь поступать подобным образом? И удовольствие получала преогромное… странное такое удовольствие… не от слез, нет, Мирра никогда не плакала, она притворялась, что все замечательно, правда, притворялась не очень удачно, но…
…та Мирра тоже осталась в прошлом.
Нынешняя, буквально повисшая на руке пса – видеть это оказалось достаточно неприятно, хотя Ийлэ и не могла понять причин этой внезапной своей неприязни, – не дала себе труда скрыть брезгливость.
Недоумение.
Злость.
Злость ей не идет. Самая уродливая из всех масок ее лица.
– Это… – у Мирры даже голос сорвался, – это… что?
– Кто, – поправил ее Райдо. – Сюрприз…
Сюрпризы Мирра ненавидела, пожалуй, еще с тех далеких детских времен, когда дорогая сестрица, стащив матушкину коробку из-под пудры, сунула туда дождевых червяков. Мирра прекрасно помнила и предвкушение, с которым она открывала эту самую коробку, всю такую глянцевую и нарядную, и затаенную надежду, и ужас, и отвращение…
– Мне подумалось, что раз уж вы были так хорошо знакомы… дружили… – Райдо не позволил сбежать, как и остановиться на пороге столовой. Он переступил этот треклятый порог, вовсе его не заметив; а Мирре только и осталось, что следом идти.
Дружили?
Она и Ийлэ? Вот уж глупость несусветная. Это матушке хотелось, чтобы Мирра с ней дружила… альва… древний род… почетно… И где, спрашивается, теперь этот древний род? А про почет и матушка не заговаривает…
– Здравствуй, – сказала Ийлэ.
Изменилась.
Нет, странно было бы, если бы она не изменилась, после того что было… точно Мирра не знает, но слышала достаточно, пусть бы и не полагалось ей вовсе слышать вещей подобных; однако Мирра предпочитала быть в курсе происходящего.
– Ийлэ… – Она все-таки остановилась и руку убрала.
– Я.
Молчание. И что сказать? Слов не требуют, и Ийлэ занимает место за столом, впервые, пожалуй, радуясь тому, что стол этот столь огромен.
Райдо во главе.
Мирра по правую руку его.
Ийлэ на другом конце.
Обед в звенящей тишине. Мирра злится. Райдо смотрит.
Рай-до. Имя рычащее, чужое, но Ийлэ привыкла и к имени, и к его хозяину и, наблюдая за ним исподтишка, понимает, что он недоволен. Кем? Ею, не проявившей должного почтения к Мирре? Или Миррой, которая вовсе не обрадовалась этой встрече? Зачем он вообще устроил ее?
– Мирра, все в порядке? – Райдо ел мало, ему вновь было нехорошо, хотя он и старался скрывать дурноту, которая то и дело подкатывала к горлу. Райдо сглатывал слюну часто, а мясо разжевывал тщательно, едва ли не рассасывая каждый кусок. Как старик, право слово.
Стариком он себя и чувствовал, желая одного: добраться до постели, которую, быть может, разнообразия ради перестелили. И тогда простыни будут свежими, с запахом зимы.
Упасть. Уснуть. И не думать о выпивке. С каждым днем это становилось сложнее…
– Хорошо? – Голос Мирры раздражен. Она сама раздражена почти до предела, и предел этот близок. Еще немного – и вспыхнет, но нет, справляется с собой. – Да… пожалуй, все хорошо… но мы могли бы побеседовать наедине?
Она бросает выразительный взгляд в сторону альвы, которая притворяется безразличной.
Но ведь задевает! Не может не задеть. И наверное, Райдо сволочь, если притащил ее сюда.
– Конечно. – Он отодвигает блюдо. – Идем.
– Куда?
– Говорить. Наедине.
Мирра встает, пожалуй излишне поспешно, а Ийлэ откидывается на спинку стула. Вид расслабленный, слишком уж расслабленный, чтобы поверить…
Надо бы одежду купить. И вообще, выбраться в город, послушать, о чем люди болтают. Райдо Нату доверял, но Нат все-таки мальчишка и опыта у него маловато.
В кабинете камин дымил и запах дыма, острый, тяжелый, мешался с запахами бумаг, чернил и старой кожи. Пива. Полироли.
– Слушаю, – сказал Райдо, проведя по столешнице ладонью. Дерево на ласку не отозвалось. Все еще не принимает чужака?
Мирра не торопилась говорить. Она застыла посреди кабинета, вцепившись в крохотный ридикюль, расшитый ленточками и перьями. Перья желтые. Ленточки красные. Красота неимоверная, и сама она, пусть человек, но красива. Наверное, в другое время Райдо обратил бы на нее внимание.
– Я… я допускаю, что ваши обычаи отличаются… – Печальный взгляд и скорбь в голосе. – И что наши вам… не известны… и вы, устраивая эту встречу, исходили из лучших побуждений…
– Исходил. – Райдо смотрел на пальцы.
Аккуратные пальчики, спрятанные в красный атлас перчаток.
Неподвижные.
Цепкие.
– Вам сказали, что мы были… подругами…
– А это не так?
– Нет, конечно. – Она фыркнула и впервые, пожалуй, сказала правду: – Помилуйте, кто я такая, чтобы со мной дружить? Я… я была всего-навсего подходящей компанией для дочери самого ар-найо… живой игрушкой. Меня привели в этот дом, потому что Ийлэ стало скучно играть с куклами.
А ведь обижена. По-настоящему обижена, и обида прорывается в раздражении, в том, что пальчики оживают, начинают щипать перья, вымещая на сумочке раздражение.
– Мама сказала, что я должна понравиться. И я пыталась! Господи, чего я только не делала… точнее, делала все, что ей хотелось… поначалу я ведь и вправду верила, что мы подружились…
Она выдохнула резко и ридикюль отложила.
– Буду с вами откровенна. – Мирра стянула перчатки и тут же надела вновь. – К шестнадцати годам я ее тихо ненавидела. Ей нравилось портить все, что было для меня важно. Видите ли, наш городок не так и велик и люди здесь хорошо знают друг друга. Да что там друг друга… тут знают все и обо всем… и Альфред сначала ухаживал за мной… да, мне было лишь шестнадцать, но я верила в любовь! Глупость какая…
– Почему?
– Потому что любви нет. Ни с первого взгляда, ни со второго… есть расчет… похоть… вожделение… я понимаю, что девушке моего воспитания не пристало говорить о подобных вещах, однако мне кажется, с вами я могу быть откровенна.
Райдо кивнул: на откровенность он и рассчитывал. И еще на ее злость, которая все-таки прорвалась, заставляя Мирру говорить, пусть пока она и не сказала ничего более-менее стоящего, но это пока.
– Альфред был бы хорошей партией. Очень достойный молодой человек. – Мирра обошла кресло. Спинки она касалась кончиками красных пальцев, осторожно, не то боясь испачкать перчатки, не то, напротив, опасаясь разорвать это прикосновение, а с ним и нить памяти. – Матушка моя так говорила, а ей сложно угодить. Единственный сын мэра… состоятельный… не важно, главное, что тогда я была влюблена по-настоящему, так, как может быть влюблена шестнадцатилетняя дурочка, уверенная, что эта любовь взаимна.
Она вздохнула и повернулась спиной. Райдо проследил за ее взглядом: смотрела Мирра не на полки, опустевшие – знать бы, какие книги стояли на них, а может, и не книги вовсе, – но на пятно. Темно-зеленое пятно на светлых выцветших обоях.
Картина?
Портрет?
Чей? Хозяина дома? Хозяйки? Или самой королевы Мэб в венце лоз и терний.
– Он писал мне нежные письма и уверял, что намерения его серьезны. Мы собирались объявить о помолвке, когда… на весеннем балу… представляете, я шла на этот бал, уверенная, что скоро все люди в городке узнают…
А Райдо предполагал, что все люди в городке и без того знали, стараниями ли самой Мирры или же матушки ее, уверенной, что дочь сделала хорошую партию… главное, знали.
И тем больней был удар.
– Вы ведь понимаете, что произошло? Она появилась на том балу… вся такая воздушная… в платье этом… с драгоценностями, которые… мои родители не бедствуют. И мне казалось, что у меня есть все, а оказалось, что имею я ничтожно мало… но кому жаловаться?
Не вздох – всхлип. И губы кривятся, Мирра моргает, пытаясь сдержать те давние, давно перекипевшие, казалось бы, слезы. Справляется с собой.
– Украшения… ее отец творил удивительной красоты вещи… для самой королевы…
А вот это уже любопытно.
– Говорили, что поэтому он и жив остался… сослали только…
Райдо замер, боясь спугнуть девушку, которая была увлечена собственным давним горем.
– Королевская кровь… много она ему помогла. Или вот ей… один взгляд, и Альфред… сказал, что ошибался… что принял симпатию за любовь… что я всегда останусь его другом… но Ийлэ… он смотрел лишь на нее… видел лишь ее… говорил о ней… если бы вы знали, как я ее ненавидела.
За порушенную любовь? Или за раненое самолюбие, ведь город знал о помолвке, которая не состоялась. Смеялись? Наверняка. Сочувствовали, правда, сочувствие это было лживым, и Мирра точно знала, что злословят. Обсуждают. И ее неудачный роман, и рухнувшие надежды…
– А самое смешное, что он ей не был нужен. Она позволила ему ухаживать, надеяться на большее… ведь знали, что Ийлэ не примут при дворе. Королева злится… она позволила ей жить… им всем жить, но и только… сидели в этом городке, будто на цепи. Он сам отцу рассказал про ссылку… про условия… им нельзя выезжать… только в город, и все… королева терпела их только потому, что он делал чудесные вещи… а он делал, чтобы они жили…
Она говорила путано, пересказывая то, чего знать не должна была.
И похоже, что доктор и вправду сумел стать другом альву, иначе откуда подобная откровенность? Райдо прикусил язык: не время для вопросов. Мирра же, кажется, не замечая ничего и никого, продолжила:
– Альфред решил, что почему бы и нет… если она здесь… если уехать не позволят… он лучшая партия в этом захолустье. Ей всего пятнадцать было! Она не должна была быть на том балу! А она появилась! Специально!
Она замолчала, вцепившись в спинку кресла.
– У него не получилось? – Райдо знал ответ.
Не получилось.
Человек и альва? Случались прецеденты, но… где был этот влюбленный Альфред, когда в город пришел Бран. Или любви не хватило, чтобы рискнуть собой? А может, прошла к тому времени?
С любовью такое, говорят, бывает. И дела эти прошлые, сердечные Райдо вовсе не касаются.
– Отчего же… она принимала его ухаживания… и найо Луари позволяла думать, будто за ними есть что-то серьезное. А потом война… и все завертелось. – Мирра взмахнула рукой, вялый жест, бессильный. – И… и да, мне жаль, что все так произошло… найо Луари была милой дамой… и супруг ее… они с отцом дружили, во всяком случае, отцу казалось, что это – дружба.
– А на самом деле?
– На самом деле местное общество не отличается особым разнообразием. Отец, шериф, мэр, еще… пара-тройка состоятельных людей. Ему просто больше не с кем было общаться, а одиночество, надо полагать, тяготило. Ссылка лучше смерти, но она не перестает быть ссылкой…
– За что его сослали?
Мирра приподняла бровь. Успокоилась. И кажется, спохватилась, что сказала слишком многое. Но сказанного не вернешь, и Мирра пыталась сообразить, как использовать собственную оплошность.
– За своеволие. – Она все-таки села и со вздохом попросила: – Вы не могли бы… чай… в горле пересохло… эти волнения…
И Райдо соглашается, что столь очаровательной девушке не следует волноваться из-за событий давних. Эти события интересны ему исключительно с точки зрения истории. Он всегда историей интересовался.
Мирра не поверила.
Кивнула.
Улыбнулась. Сидит. Ждет чая. Молчит, только пальцы ее выдают нервозность. Что она задумала? А Райдо чаю не хочется совершенно. Снова мутит. И сидеть тяжело, он склонился, оперся на широкий подлокотник, надеясь, что выдержки хватит на этот разговор. Он ведь скоро закончится.
Должен.
Чай подали. Дайна мрачна и, кажется, ненавидит его. Ну, или почти ненавидит. Будь ее воля, ушла бы, да и не просто ушла – сбежала бы из дома… почему тогда держится? Упрямится. Слуг так и не наняла, неужели думает, что Райдо забудет? Или нет, не забудет, но вернется в прежнее свое существование, когда его мало что интересовало, помимо виски и боли.
Нет уж, у него есть Ийлэ… и надо просто потерпеть. Она наверняка тоже не обрадовалась встрече и, дождавшись конца нелепого этого обеда, сбежала на свой чердак.
На чердаке Ийлэ чувствовала себя в безопасности.
А рядом с ним…
Мысли путались. И чашку Райдо принял машинально. У чая был горький, тяжелый запах, который показался смутно знакомым.
– Это… очень печальная история. – Мирра вернулась в образ прекрасной леди. – Мама мне рассказывала… правда, я не знаю, сколько в рассказе правды… он был королевским ювелиром… и кажется, родственником королевы, но об этом предпочитали помалкивать, не то родство, которое могло бы принести выгоду.
Она говорила, и голос ее убаюкивал.
– Пейте чай. Вам следует пить больше жидкости. Мой отец так полагает. А он хороший доктор, хотя вы ему не доверяете, но… пейте, это и вправду помогает. Жидкость выводит из организма яды, которые образуются при болезни.
Горький чай.
И сладкий, до того сладкий, что слипаются губы.
Райдо пьет. Допивает до дна чашки, а Мирра подливает вновь.
– Он создавал вещи удивительной красоты. Говорили, что он гений… был гением… гениальность еще никого и никогда не спасла. Он встретил найо Луари и женился на ней. Королева была против. Думаю, она не хотела делиться. Я бы тоже не захотела делиться своим ювелиром. Она могла бы казнить его. Или ее, но поняла, что тогда останется без украшений, а ведь он и вправду был гением. И тогда она отправила его сюда. В ссылку. И запретила покидать этот растреклятый городок.
Поэтому они остались.
Когда шла война.
Когда стало очевидно, что альвы проиграли.
Когда открылись пути к Побережью…
Королева не простила изменника.
Ему некуда было бежать. Мерзко. Почти так же мерзко, как чай, который Райдо пьет, потому что… почему? Мутно все. Непонятно. Но сладость склеила губы…
– И вот они здесь жили… отец говорил, что найо продолжал работать… он надеялся выслужить прощение. И если бы не война, у него бы получилось… наверное… или нет?
…королевский ювелир.
…королевские драгоценности.
…сколько они стоят? Много… альвийская работа дорога, а уж такая…
…Бран знал.
…Бран – глупец, если убил… он не нашел драгоценности и потерял того, кто мог бы их создать… скотина этакая… жаль, что сдох, Райдо вызвал бы его… вызвал бы и убил… Бран…
Мысль кувыркнулась и выскользнула из обессилевших рук.
Или не мысль, но чашка. Расплескались остатки чая, расплылись по рубашке, по ковру. И Райдо мрачно подумал, что его рубашка, впрочем как и ковер, без того достаточно грязны. Он хотел встать, но тело стало непослушным, его словно выпотрошили и набили шкуру влажной соломой. Колется.
Изнутри.
Чушь, конечно, но ведь колется и изнутри.
Встать надо… ноги не держат, а кресло удобное… и в сон клонит… и все равно кто-то помогает.
– Обопритесь на меня…
Опирается.
Он слишком тяжелый для девушки, и та едва ли не падает. Ругается. Леди не должны ругаться, впрочем, эта – не леди… маска… он помнит.
Два шага до диванчика, на который ему позволяют рухнуть. И мутит, качает на волнах, точно диванчик – это не диванчик, а колыбель… все из-за чая… конечно, из-за чая… не стоило его пить.
– Спите, – говорят ему.
И Райдо проваливается в сон. С другой стороны, это даже хорошо, он давно не высыпался нормально, а потом на свежую голову и думать будет легче.
О королевском ювелире.
О королевских драгоценностях… об Ийлэ… альва… глаза зеленые, и сама дикая. Она позволяет Райдо жить, потому что от его жизни зависит ее собственная. И в этом есть высший смысл, правда, Райдо пока не понял, какой именно… но ведь есть же… есть…
Надо дышать.
И выбираться из сна.
Мирра несколько секунд сидела, прислушиваясь к дыханию пса. Она надеялась, что отец не ошибся с дозировкой. Он вечно все делал не так. Слабый. И матушка при всей ее кажущейся хитроумности ничуть не сильней.
Мирра подошла к двери.
– Спит? – поинтересовалась Дайна.
– Спит. А второй?
– С твоей сестрицей… чай уже подала.
Она все-таки заглянула в комнату.
– Сам дошел?
– Сам, – поморщилась Мирра, потирая плечо. Неподъемным он оказался. Неповоротливым.
– Повезло. Не перетянули бы. Он тяжеленный, как… иди сюда. – Дайна склонилась над телом. – Подержи… раздеть надо, иначе не поверят…
Мирра прикрыла дверь: в доме нет лишних людей, не считая дорогую сестрицу, которая совершенно ненадежна, но вместе с тем не особо умна. Однако Мирра не любила рисковать.
Ключ повернулся в замке.
– Помоги, говорю, – прошипела Дайна, которая отчаянно пыталась стянуть с пса рубашку…
– Оставь. И так сойдет. А вот штаны лучше снять. И ботинки.
Дайна нахмурилась, но возражать не стала. Правильно. Молчание – золото, а золото Дайна умела ценить, впрочем как и собственную жизнь. Мирра дернула за ленту и поморщилась от боли… ничего, немного боли не повредит… в боли есть своя прелесть, которую не каждый способен оценить.
– Ударь меня, – велела она Дайне, и та не стала медлить, отвесила звонкую пощечину.
– Еще…
Разбитые губы.
И сладкая кровь, которую Мирра слизала, зажмурилась от удовольствия… жаль, зеркала нет… она сунула пальцы под жесткий воротничок, рванула с неожиданной для самой себя силой. И ткань затрещала.
– Корсаж… – подсказала Дайна, которая наблюдала за представлением. – И юбки тоже…
– Сама знаю.
Мирра улыбнулась: все будет так, как хочет матушка… почти так…
Глава 14
– Моя сестрица ужасна, – сказала Нира, досадуя, что как раз-то ее сестрица не ужасна, а напротив даже. Красавица. И умница, если матушке верить.
А вот Нира – напротив, чудовище, которое не понятно как появилось на свет в семье столь уважаемой. Наверняка виновата отцовская кровь, потому как со стороны матушки были люди исключительно достойные.
Нира недостойная. И в пуговицах запуталась. А она не виновата, что пуговицы в полушубке тугие, и что полушубок этот слишком велик, и вообще…
– Много говорит. – Нат вот с пуговицами управился легко и Ниру вытряхнул. Взял за руки. Нахмурился. – Мерзнешь?
– Нет.
– У тебя руки холодные!
– И что? Я же с мороза…
Он был таким серьезным. И забавным. И вовсе не уродливым, что бы там Мирра ни придумала. И не страшным, вот Райдо – да, жутковатый, Нира до сих пор в его присутствии терялась, пусть и чувствовала, что пес не причинит вреда.
Да и Нат сказал, что не причинит. А Нату она верила.
– Видишь… – Она взяла его руку, широкую и шершавую, пятнистую – Мирра назвала его лишайным; а он же не кот, это коты лишайными бывают, а у него просто кожа еще не восстановилась. Но главное, Нира прижала руку ко лбу. – Теплый. И значит, мне тепло.
– А если холодный?
– Если будет холодный, то значит, я умерла… да шучу! Ну как можно быть таким серьезным? Ты улыбаться умеешь?
Нат послушно оскалился.
– Это не улыбка, это ужас какой-то! Если бы я тебя не знала, я бы испугалась.
– А ты не испугалась?
– Нет, конечно. Я же тебя знаю.
Она поправила выбившийся из прически локон. Вечно они. Стараешься, стараешься, вычесываешь, чтобы не сбивались, воском смазываешь в попытке хоть как-то в порядок волосы привести, а они все одно… вот у Мирры прическа идеальна. И платье тоже – невозможно представить, чтобы оно измялось, хотя в одном экипаже ехали и Нира в кои-то веки сидела смирно, дышать и то боялась, ан нет, подол мятый, прическа того и гляди рассыплется… никакого совершенства и близко нет.
Зато Нат улыбается.
– Я рад, что ты приехала.
И действительно рад. Нат никогда не говорит слов просто ради того, чтобы сказать.
– И я… рада…
Нира почувствовала, как вспыхнули щеки. Она вовсе не смутилась. У нее нет привычки смущаться по пустякам. У нее просто кожа тонкая и сосуды близко, и вошла она с холода в тепло, вот они и расширились, и кровь к щекам прилила.
Так папа говорит. А папе Нира верит… верила…
И эта пошатнувшаяся вера причиняла ей боль. А Нат чувствовал.
– Что случилось?
Если не ответить, он допытываться не станет, но… Нире очень надо с кем-нибудь поговорить. Раньше она говорила с отцом, и тот понимал.
И не считал ее глупой.
Мечтательной – это да, но ведь глупость и мечтательность – разные вещи. Но после того разговора… она не хотела подслушивать, она просто оказалась в ненужное время и в ненужном месте. И Нира отдала бы многое, чтобы не знать. Но она знала. И как теперь быть?
– Случилось, – со вздохом призналась она.
Сказать Нату? И тогда получится, что она предаст своих родителей, а она их, несмотря ни на что, любит. Промолчать? И выйдет, что Нира такая же… это ведь подлость, а она не подлая. Но разве кто будет слушать ее оправдания потом? Точно не Нат… И вот что делать?
– Расскажешь? – Он придержал ее, не позволяя пойти вслед за сестрой, которая уже скрылась в огромном этом доме.
И в очередной раз Нира почувствовала, что дому этому одиноко.
– Я… не знаю… это… прости… если я… и….
Снова она мямлит. Ей мама всегда пеняла, что Нира не способна собственные мысли внятно изложить.
– Твоя семья? – догадался Нат.
Ему не нравилось, что его девочка волновалась. Ее запах от волнения становился горьким, и руки еще дрожали, несмотря на то что были уже теплыми.
– Семья.
– Они тебя обидели?
– Что? – Нира откровенно удивилась. – Нет, что ты… не обидели… они не знают, что я знаю…
…а если бы знали, наверняка не отпустили бы Ниру сюда, как не пустили компаньонку. Это ведь ложь, что ей нездоровится, точнее не ложь, а желудочная настойка. А вот Ниру заперли бы дома в лучшем случае. Или вновь к тетке отправили бы, как тогда. Нира ничего против деревни не имеет. Скучно там, это да. И тетушка престарелая со своими нотациями, но зато сад удивительный и речка. Лошади, пруд и коньки. Редкие визиты соседей, сплетни и прошлогодние газеты, которые тетушка не читает – рассказывает, едва ли не наизусть. А свежие газеты – это всегда повод для вечернего чаепития. Или утреннего, или не для чаепития, но просто посиделок со сплетнями. Но в деревне не будет Ната, а без него… без него Нира не хочет оставаться. Это не любовь, конечно, любовь вообще глупость неимоверная, так мама говорит, но… симпатия. Имеет Нира право на личную симпатию?
Симпатия – это очень даже по-взрослому.
– Я тебя заберу, – сказал Нат, который все еще хмурился.
– Куда?
– Сюда.
– Зачем?
Нира была совершенно уверена, что забрать ее не позволят. Более того: узнай мама о Натовых планах, в ужас придет, и папа тоже, а Мирра только посмеется.
Нат на вопрос не ответил, потащил за собой, и вовсе не в столовую…
Библиотека.
Раньше была библиотека, но теперь остались пустые книжные полки, на которых лежал толстый слой пыли, и паутина появилась, запах неприятный. На подоконнике лужи.
– Не смотри. Грязно. Уберется. Потом. – Нат подтянул Ниру к диванчику, который встал между двумя книжными шкафами.
– Раньше здесь было уютно… мне разрешали сюда ходить. – Нира диванчик потрогала.
Сизая плотная ткань словно не ткань даже – стальное покрывало-панцирь.
– Никто не говорил, что я что-то могу испортить или порвать… то есть мама моя говорила, а вот найо Луари, та напротив, разрешила брать любые книги… то есть не любые, а те, что на полках… были еще в шкафах, но шкафы всегда запирали… там альвийские стояли, я все равно не прочла бы…
– Читать любишь?
– Люблю. – Нира вздохнула. – Мама ругает.
– За что?
– За то, что люблю. Она журналы модные выписывает, но это скучно. Там вечно одно и то же… воротнички или манжеты… или еще про шляпки… про перчатки… всякое такое…
Она взмахнула рукой, едва не задев Ната по носу.
– Извини.
Он кивнул. Молчаливый.
И неприлично вот так близко сидеть наедине. Получается, что он Ниру компрометирует… папа называл это все издержками прошлого, а мама – хорошим воспитанием. Выходит, что сама Нира недовоспитанная, если ее совершенно не волнует, что ее сейчас компрометируют.
Напротив, ей даже интересно.
– А… можно? – Она протянула руку, коснулась щеки.
Нат замер.
– Тебе не больно, что я так… если больно, то скажи…
– Нет.
Он подумал, что даже если бы и испытывал боль – а было время, когда испытывал, когда малейшее прикосновение рвало слишком тонкую кожу, – Нат выдержал бы.
Руки теплые.
Пальцы мягкие. И пахнут хорошо. Он до конца не понял, чем именно: немного аптечной лавкой, в которую Нат заглядывал часто, пусть бы Райдо и упрямо отказывался лекарства принимать. И еще другой лавкой, где торговали травами.
– Точно не больно? Мне папа говорил, что после ожогов кожа восстанавливается очень медленно. И что часто люди умирают уже потом… она рвется и воспаляется…
– Я не человек.
– Знаю. – Ее пальцы задержались на щеке. – И хорошо. Если бы ты был человеком, ты бы умер.
Наверное. Ей была неприятна сама эта мысль, что Нат может умереть.
Щека его была шершавой, неровной. Старая кожа загорела и сделалась твердой, тогда как молодая была нежной и гладкой.
Пятнистый он.
И страшно даже подумать, каково ему было прежде.
– Нат… я… я не знаю, имею ли право… и моя семья… я люблю их, а они любят меня… по-своему… папа дает мне свои журналы читать, которые медицинские… и учит… конечно, не так, как врача. Если бы я была мальчиком, другое дело, а женщине многое не надо… но я не о том… они на самом деле хорошие, и очень, только…
Снова у нее мысли путаются. И слов нужных Нира найти не способна.
– Они говорили, а я услышала… и… если я тебе скажу, то они меня возненавидят. А если не скажу, то ты… как мне быть?
Нат думал.
Он думал долго, а потом покачал головой:
– Тебе решать.
Наверное.
Папа говорит, что по-настоящему взрослый человек не только сам принимает решения, но и сам отвечает за их последствия. И получается, что Нире пора пришла стать взрослой. Она ведь решила, еще тогда, когда ехала сюда. Когда молчала, делая вид, что смотрит в окошко, пейзажами любуется…
– Им нужен этот дом.
– Знаю, – кивнул Нат.
– Нет, ты не понимаешь. – Нира вскочила. Это у нее тоже от отца. Мама говорит, что долго боролась с этой его привычкой расхаживать по комнате.
Поборола. Теперь отец двигался мало, неохотно и точно в полусне.
А Нира вот быстро и резко, как леди двигаться не подобает. И руки свои трогать. И ленты на корсаже. И вообще – метаться по опустевшей холодной комнате…
– Им очень нужен этот дом… здесь спрятано сокровище, но отец не знает, где именно… он даже не знает, что это за сокровище. Мама уверена, что это драгоценности найо Луари. У нее были совершенно удивительные украшения. Их не нашли…
Нира остановилась, выдохнув.
– Успокойся. – Нат вдруг оказался рядом, обнял и замер, сам не дыша.
Не спугнуть бы.
Говорит, что не боится… и прикоснулась сама… и запах изменился, сделавшись вдруг пряно-терпким, зимним.
– Я… спокойна.
– И хорошо.
– Я не хотела обо всем этом думать раньше… Ийлэ… драгоценности… и зачем, если ничего не изменить… а теперь вот… мама была недовольна… на отца кричала, что он молчал. А он сказал, что без нее все равно не добраться, что он пытался… раньше, когда дом стал пустым… а теперь тут вы… и он, наверное, жалеет, что проговорился, потому что мама не отстанет. Она все твердит, что нельзя тянуть дальше, потому что тогда все другим достанется… что Ийлэ не нужна… что… отец в тот раз искал плохо. Она заглядывала в ту комнату…
– Знаю. Видел.
– Видел?
– Да. – Нату было неприятно ее удивление.
И обида, хотя он не понял, чем именно обидел ее, но почувствовал по запаху, по дрогнувшим губам и морщинкам на лбу.
– И… ты… вы… нашли?
– Нет. – Нат покачал головой, досадуя на себя: следовало бы молчать.
А с другой стороны, рано или поздно, но она узнала бы, что он знает, что… Нат запутался. А когда он путался, то начинал злиться.
– Райдо пригласил. Из фирмы. Приедут и вскроют сейф.
– Папа говорит, что сейф пустой, что там ничего серьезного быть не может. Слишком очевидно и просто. – Обижаться она перестала быстро, и Нат выдохнул с облегчением. – Что маме туда не следовало ходить… в этом все равно смысла нет, если без ключа. Только мама никогда его не слушает, всегда по-своему. Она решила, что если Мирра выйдет замуж, то потом поместье достанется ей.
– Потом?
– Ну… после смерти Райдо.
Нира сказала и поняла, что зря сказала. Длинный у нее язык. Нат отшатнулся, сгорбился… и на щеках его проступили серебристые капли, а волосы вдруг поднялись дыбом.
– Он не умрет. – Голос Ната сделался низким, глухим, и Нира с трудом разобрала слова.
Она только и сумела, что кивнуть. Вообще-то папа был уверен, что Райдо всенепременно умрет, если не сейчас, то к весне ближе; а он редко ошибался.
Он был хорошим доктором.
– И-извини. – Нира спрятала руки за спину. – Я… я глупость сказала… я иногда говорю не думая… и если он не умрет, то… то я буду рада…
Нат кивнул. И облизал губы. А клыки у него стали длинней. Руки изменились. И черты лица поплыли… и если он обернется; то… папа утверждал, что псы и в ином обличье сохраняют разум; а в городе говорили другое… всякое, и разное, и порой страшное…
– Н-не бойся, – теперь он произносил слова медленно, растягивая слоги. – Я тебя… не трону… я сейчас… успокоюсь.
Речь явно давалась Нату с трудом, и он царапал горло черными тупыми когтями.
– Я… не боюсь.
– Не бойся.
Он повторял это и все равно успокоиться не мог. Злился уже на себя за несдержанность, за то, что не в состоянии справиться с живым железом, которое рвалось, готовое выплеснуться, смять, вылепить новое обличье. Тогда его человечка точно испугается или, хуже того, испытает отвращение.
Нат отступил, не понимая, что с ним происходит. Он всегда управлялся с живым железом легко. И контроль не терял. Даже когда мамы не стало, не терял… и когда горел… и потом, восстанавливаясь… наверное, именно в этом все дело.
Он слишком долго не оборачивался.
Нира смотрела без страха, с удивлением… пока всего лишь с удивлением.
– Постой. – Она шагнула навстречу. И за руку взяла, несмотря на то что рука эта уже почти изменилась. – Это из-за меня, да? Из-за того, что я сказала… я ведь не хотела…
Она гладила руку, и капли тянулись за ней.
– Прости… а у тебя волосы стали острыми… и ты ведь не станешь сумасшедшим, когда превратишься? В городе говорят, что вы, когда становитесь… ну… другими, то разум теряете. А папа утверждает, что не теряете, что, если бы теряли, вы бы не выжили. Изменяется форма, но не содержание.
Нат кивнул. Он попытался высвободить руку, однако Нира не позволила.
– Я никогда не видела вас… иными… ну, не людьми… а вообще вы очень на людей похожи… только больше… ты вот выше всех моих знакомых, а Райдо… ему лучше, и я рада, что лучше… и еще больше буду рада, когда окажется, что папа мой ошибся. Он ведь не все знает про альвов… многое… они с найо Нагиро были приятелями… и он рассказывал, а папа записывал. Он вообще большую работу делал… ты знал, что альвы вымирали?
Нат покачал головой.
Он слушал.
Нира несла какую-то ерунду, она сама знала, что ерунду, а он слушал так внимательно. Ее никто и никогда не слушал настолько внимательно.
– А у тебя волосы серебристые сделались…
– Иглы.
– Можно потрогать? Только ты наклонись, а то я не дотягиваюсь.
И Нат послушно наклонил голову, позволяя прикоснуться к серебристым четырехгранным иглам, длинным и тонким, острым даже с виду.
– Ух ты… а зачем тебе иглы?
– Защита. – Он сглотнул. И кажется, успокаиваться начал. – На голове. По хребту. Если драка, то помешают в шею вцепиться…
– А тут? Чешуя, да?
– Да.
Он чувствовал ее прикосновения сквозь толстую черепицу старой чешуи и уж тем более сквозь молодую, мягкую… а обещали, что со временем и чешуя станет нормальной.
Нат сам потрогал лицо. И на руки посмотрел.
Сколько еще ждать? Райдо говорит, что у Ната терпения мало, что ему хочется всего и сразу. Райдо прав. Мало и хочется. Всего и сразу. И разве плохо это?
– А здесь мягкая… это потому что ты болел?
– Да.
– Ты… ты простил меня?
Нира склонила голову набок. И в глазах ее нет ни отвращения, ни брезгливости. И наверное, это почти чудо.
– А ты меня? – Нат провел ладонями по щекам. Живое железо успокоилось, отступило, возвращая исконное обличье.
– Тебя за что?
– Я тебя… испугал?
– Нисколько. Это Мирра у нас трусиха! Она всего боится. В прошлом году, когда мы на деревне были, я ей в постель жаб подкинула… нет, я понимаю, что это глупо и вообще по-детски, но если бы ты знал, как она меня… достала! Ныла и ныла… и еще говорила, что я рыжая уродина. А я не уродина. Пусть и не такая красавица, как она, но не уродина же.
– Нет. – Нат потрогал волосы.
Иглы растворились. И он, кажется, вернул себе контроль.
– Жаб, значит?
– Ага… толстых и с бородавками… она так визжала!
Скрипнула дверь, и на пороге появилась Дайна с подносом.
– Чай, – возвестила она. – Если уж вы до обеда не снизошли…
Она скривилась, точно сама необходимость подавать чай еще и в библиотеку донельзя оскорбляла ее. Эта женщина определенно раздражала Ната самим своим существованием.
Он в последнее время стал невероятно раздражительным.
Но поднос с чаем принял.
Нира, наверное, проголодалась. А к чаю были плюшки с изюмом, и крохотные сэндвичи, и еще мед, и варенье… варенье Нат с детства любил.
А чай сам разлил, едва дождавшись, когда Дайна выйдет.
– Вот, – Нат протянул невесомую чашечку Нире, – горячий.
Нира чашечку приняла и вдруг сделалась серьезной.
– Я ведь не договорила. Они хотят, чтобы Мирра вышла замуж за Райдо… и быстро… папа… ты только не нервничай, ладно? Папа думает, что весной Райдо умрет. Но к этому времени он должен жениться на Мирре. И написать завещание, чтобы дом достался ей. Поэтому Мирру сюда отпускают. В городе уверены, что ей сделали предложение… и пусть в газетах о помолвке не объявляли, но это вопрос времени, и вообще у вас другие обычаи.
Она вновь ходила по комнате, уже с чаем в руках, от полки к полке, не останавливаясь, глядя под ноги, точно опасаясь, что на ковре останутся следы.
Останутся.
И на ковре, и на дереве, которого она коснулась невзначай. На диванчике. На Натовой одежде.
Он понюхал собственную руку, приятно пахнущую Нирой. И чай пригубил. Горький сегодня. Но варенье эту горечь компенсирует.
– Но вообще это жуть до чего неприлично: ездить к незамужнему… ой, к неженатому мужчине… и без компаньонки… и с компаньонкой тоже неприлично, но без нее – особенно. А я не в счет, хотя и сестра… и мы тут с тобой, если кто узнает… прости, я снова не о том. Мирра надеялась, что Райдо сам захочет на ней жениться и быстро, ну, пока жив… то есть она же не знает, что он не собирается умирать… мама уверена, что он будет рад найти кого-то, кто скрасит его последние дни. Она так сказала.
– Дура.
– Кто? – Нира остановилась. – А… ты про маму? Она не дура, она… такая, как есть. Людей нельзя изменить, если они сами не захотят измениться. Это моя тетушка сказала. Ты бы ей понравился. Она любит все необычное, и… все время сбиваюсь. Прости. Сегодня Мирра останется на ночь… то есть мы должны задержаться до ужина… и потом она подольет Райдо в чай снотворное… то есть настойку, которую папа делает… он сказал, что на вас тоже должна подействовать, что там концентрация такая… сильная концентрация… Райдо выпьет и уснет… не сразу… а Мирра с ним останется до утра… и утром он должен будет на ней жениться, как благородный человек… то есть нечеловек. Благородный нечеловек. Понимаешь?
Нат кивнул.
– А… а меня отправили, чтобы помогла… я тебе должна дать… ты бы мешал… и вот… – Она вытащила из ридикюля аптекарский флакончик. – Но я не хочу тебя поить. Ты же меня потом ненавидеть станешь…
Нат вытащил пробку.
От флакона едва уловимо пахло ладанником и еще чем-то, сладковатый слабый запах, заставляющий непроизвольно скалиться.
Сон? Если да, то сон опасный…
– Четыре капли, – тихо произнесла Нира. – Отец сказал, что тебе хватит четыре капли… пять – уже опасно…
…семь – смертельная доза.
Нет, о смертельной дозе он не говорил и не сказал бы, не желая Ниру пугать, но она слишком много времени провела рядом с ним. Она ведь и записи вела, и помогала собирать мясистые корневища сонника лилового. Сушила их, а высушив – взвешивала на аптекарских весах… растирала… заливала спиртом…
А потом еще читала о свойствах…
Для людей он безопасен.
…для людей…
В книге пометка такая была, и эта пометка, которую она вполне могла пропустить – от этого Нире становилось по-настоящему страшно, – теперь гвоздем сидела в ее голове.
– Я… – Почему Нат молчит? Нюхает флакон. И выражение лица такое… сосредоточенное… раздраженное. Но он все еще человек и обличья человеческого держится, и если так, то… то, быть может, все не настолько и плохо, как ей представлялось? – Я… скажу, что потеряла его… или что ты пить не стал.
– Не стал, – согласился Нат, флакон закрывая. – Скажи, что почуял. У меня нюх.
Он нос потрогал, словно проверяя, на месте ли этот нюх.
– Вот и… хорошо… и ладно… мне поверят… я всегда все делаю неправильно… то есть наоборот. – Нира улыбнулась, подозревая, что эта ее улыбка вышла донельзя жалкой. – Я никогда и ничего не делаю правильно.
…мама наверняка разозлится. Но к этому Нира привыкла.
Глава 15
Сознание возвращалось рывками.
Свет.
Яркий. Слепящий почти.
Щека нагрелась, но левая. А правой было мокро. И не только щеке. В принципе было мокро. Вода текла по шее, за шиворот… по груди еще.
Райдо потрогал воду.
Пальцы еще вялые, соломенные. Ах да, тогда ему казалось, что его набили соломой… странное ощущение. Кислота во рту, но тошнить не тошнит, что само по себе достижение.
А свет проникает сквозь сомкнутые веки.
И голос:
– Девочка моя! – Кто-то очень близко кричит, надрывно, надсадно. И голос, без того мерзкий, ввинчивается в голову. Голова эта того и гляди треснет.
Что с ним было?
Райдо помнил разговор с Миррой.
Кабинет.
Чай, не то горький, не то сладкий. Королевский ювелир… печальная история? Слабость… а дальше что? Ничего… пустота в голове, которая неприятна… в пустоте бьется женский крик.
И рыдания.
Райдо рыдания на дух не переносит.
– Вы очнулись? – Холодный раздраженный голос. – Понюхайте.
И суют под самый нос нюхательную соль. До чего же мерзко! Райдо отшатнулся и упал.
Нет, сел.
– Вы в состоянии соображать?
Соображать? Нет. Наверное, нет. Райдо не в состоянии и в состояние это придет нескоро. Он сидит, смотрит на черные ботинки, начищенные до блеска, силясь вспомнить, где видел их. И штаны эти из гладкой ткани… над штанами – пиджак… жилет… лицо белым пятном.
Запах.
Запах определенно знакомый, горько-аптечный, выраженный, с нотами канифоли.
– Доктор, – это Райдо произнес уверенно, и язык ему подчинялся, хотя и царапал по нёбу. Во рту было сухо. – Это вы, добрый доктор?
– Я.
– А… а что вы тут делаете? – Райдо потрогал голову, убеждаясь, что она на месте.
Сидит на шее вроде бы крепко и влево наклоняется и вправо. От движений этих шея неприятно похрустывает, но и только.
– Нат!
Голос сел. Горло саднило. И вокруг явно творилось что-то непонятное. Райдо потер глаза, надеясь, что зрение его, и без того не слишком хорошее, все же придет в норму.
Приходило. Медленно, но все же. И Райдо, проморгавшись, разглядел-таки лицо доктора, бледное, недовольное. Ему недовольство не идет, неестественным выглядит.
– Нат! Где тебя носит… – Райдо поднялся.
Получилось. Хотя и тяжело, ощущение, что сквозь вату продирается… или кисель… овсяный кисель Райдо от души ненавидел.
– Что вообще тут происходит? – Он стоял, глядя на человека с высоты собственного роста, и взгляд отчего-то сосредотачивался на лысине.
Смешная. Розовая такая… яркая.
– Происходит? Пожалуй, можно сказать и так. – Доктор снял очочки. – Видите ли… вы изнасиловали мою дочь.
– Охренеть, – только и сумел выдавить Райдо.
Он огляделся.
Кабинет.
Точно, отключился он именно в кабинете.
Ярко горят газовые рожки, а вот за окном темно. И темень такая непроглядная, что становится очевидно: за окном глубокая ночь. И на стекло ложатся тени людей.
Стол. Кресло.
В кресле сидит шериф, и вольно так, ногу на ногу закинув. У двери – двое с арбалетами в руках, серьезные машинки, военного образца. Болт и чешую средней толщины пробить способен.
Доктор.
В костюмчике своем парадном, с платком в одной руке, с флаконом в другой. Флакон узорчатый, явно одолжен у супруги. А супруга оная тут же сидит, на диванчике, причитает громко, надрывно, то и дело прижимая белый платочек к объемной груди.
Платочек этот бесил неимоверно.
В висках бухало. Кажется, сердце, это треклятое сердце готово было вот-вот разорваться от перенапряжения. Ничего, как-нибудь выдержит.
Райдо сделал глубокий вдох.
Воздух тягучий, кисельный, и запахи в нем яркие.
Духи миссис Арманди… и ее дочери. Духи одни и те же, цветочные, но запах их меняется, соприкасаясь с кожей. У матери он более тяжелый, душный. От Мирры же едва уловимо тянет цитрусом и кофе… случайность? Или кто-то посоветовал?
Духов ей показалось мало и… пили ведь чай, а откуда кофе взялся? Раньше его не было.
От доктора тянет мятой и еще треклятой его аптекой… кожей… ваксой… ботинки чистил? И если так, то уже в доме…
Шериф и табак. Он не курит – жует, мерно двигаются челюсти, и полоска усов над верхней губой тоже двигается. Время от времени губа эта, слишком короткая, приподнимается, обнажая желтые зубы.
Двое у двери не интересны.
Силовая поддержка? А вот человечек, которого Райдо сперва не заметил, любопытен. Этот человечек забился в самый дальний угол кабинета и сидел смирно, точно надеялся, что ему удастся остаться незамеченным. Человечек был приятно округл, не молод, но и не стар. Невыразителен. Пожалуй, что кожаный портфель, солидный, с бронзовыми накладками, был куда как интереснее хозяина.
– Рассказывайте, шериф, – велел Райдо, потирая шею.
Сердце успокаивалось. Да и в голове прояснялось постепенно, что было весьма даже кстати.
– Боюсь, знаю я немного… – Шериф поднялся, кажется, сообразив, что нехорошо занимать чужое место. А Райдо с неудовольствием подумал, что теперь к креслу надолго привяжется табачная вонь. – Я собирался навестить вас по одному… вопросу… по дороге встретил найо Арманди…
– Как удачно, – пробормотал Райдо.
Его не услышали или сделали вид, что не слышат. Только человечек с портфелем судорожно выдохнул и портфель приподнял, защищаясь им не то от арбалетных болтов, не то от взгляда Райдо.
Человечку было неуютно.
Он желал бы оказаться в месте другом и наверняка последними словами клял себя за то, что позволил втянуть себя в эту авантюру…
– Здесь нам сообщили, что вы закрылись в кабинете с Миррой…
Мирра громко и своевременно всхлипнула и обернулась.
Надо же… губы разбиты, на скуле синяк, волосы растрепались, платье разорвано… как есть жертва насилия. Во взгляде мольба, слеза по щеке хрустальная ползет.
Шериф, сплюнув в фарфоровую вазу, продолжил:
– Я приказал дверь вскрыть…
– Бедная моя девочка! – Миссис Арманди набросила на плечи Мирры шаль и к себе прижала.
– Обнаружил вас и… Мирру…
– Охренеть, – повторил Райдо, понимая, что действительно охренел, не столько от этой всей истории, сколько от человеческой наглости. Неужели они полагают, что Райдо поверит в эти сказки?
Или что двое с арбалетами возместят недостаток веры?
– Ничего не помню. – Он произнес это, глядя в серые глаза шерифа. – То есть я…
– Вы сказали, что желаете побеседовать с Миррой наедине… она поверила…
– Моя девочка…
Девочка смахнула слезу и в шаль завернулась, точно в кокон. Правильно, Райдо видел то, что должен был увидеть…
– Вы заперли дверь и набросились на нее…
– Ужас какой. – Райдо потер челюсть, которая ныла, отметив, что больше его не тошнит. – Экий я… коварный.
– Вы издеваетесь? – Доктор шагнул, выпятив грудь. Выглядел он смешно.
– Я? Ну что вы… я восхищаюсь… и интересуюсь, на кой ляд нужно было это представление?
– Представление? – взвизгнула миссис Арманди. – Представление?!
– Именно… представление, и не самое продуманное… Нат где?
Молчат. Переглядываются. Заговорщики, чтоб их… ладно, Райдо пока готов сыграть по их правилам, ему надо окончательно прийти в себя…
…Ийлэ…
…Нат себя в обиду не даст, а вот Ийлэ…
– Допустим. – Райдо присел на диванчик и, стянув рубашку, отер ею лицо. От рубашки пахло травами. А вот штаны его куда-то подевались… и ботинки… и белье… впрочем, он и без одежды чувствовал себя нормально. Это людям свойственно наготы стыдиться. Вон и сейчас взгляды отводят. – Допустим, у меня из-за болезни резко изменился характер. Прежде мне как-то удавалось избегать насилия… договаривался по-хорошему… но ладно, вы мне на слово верить не обязаны.
Рубашку он отправил на пол и потрогал рубцы, которые за последние дни схватились плотно. Белые. И кожа белая. И людям кажется, что эта кожа не настолько прочна, чтобы устоять перед арбалетным болтом. Здешние люди вообще слишком мало знают о детях Камня и Железа, но и хорошо.
Знали бы больше, глядишь, и вправду чего толкового придумали бы.
– Но даже если бы у меня возникло столь странное желание… изнасиловать вашу дочь я бы не мог… физически… – Райдо наклонился, коснувшись ладонями пола.
Тело слушалось.
И живое железо, спавшее до того дня, отозвалось, потянулось, проступив на коже серебристой росой. А люди если и обратили внимание, то не поняли.
Райдо покачивался, мягко опираясь на собственные ладони, прислушиваясь к ощущениям. Тварь внутри дремала, то ли убаюканная той отравой, которой его накачали, то ли возмущенная человеческой наглостью. Как бы то ни было, но мешать не станет.
– Доктор подтвердит, что при всем моем желании… точнее, желание это отсутствует напрочь, уж простите за подробности… главное, что я физически не способен на изнасилование…
– Виктор! – Миссис Арманди выпустила дорогую девочку, которая выразительно всхлипнула и коснулась пальчиками скулы.
Кто ей синяк оставил?
Или… нет, чушь. И дело не в том, что Райдо в себе уверен, не уверен ни хрена, но людям знать не обязательно. Дело в другом: ударь он, Мирра синяком бы не отделалась.
– Вы… вы выглядите много лучше, чем…
– Виктор, да что ты мямлишь!
Доктор опустил взгляд.
– Ах да… вы не подтвердите… это ведь невыгодно, верно? У вас иные планы… и шерифа вы захватили не случайно… или он вас?
Молчание.
– А это, полагаю, нотариус… и тоже случайно?
Шериф хмурится. Кажется, вся эта история ему тоже не по вкусу. Он ведь пожалел девушку, а жалость к кому бы то ни было мешает думать. Если разобраться, то у шерифа нет причин верить Райдо, тогда как доктора он знает давно…
Пауза затягивалась.
Мирра всхлипывала, поглаживая пальцами разбитую губу, и жест этот, рассеянный, полудетский, заставлял шерифа краснеть и смущенно отводить взгляд.
– А хотите, я изложу свою версию? – Райдо пошевелил пальцами, которые менялись на удивление легко, почти без боли. – Не хотите, но я все равно изложу. Вы решили, что вашей дорогой дочери необходимо выйти замуж. В принципе, понятное желание. И полагаю, что, с вашей точки зрения, я – удачный кандидат…
– Мама… – нервный шепот.
Кулачки, прижатые к губам. Бледность эта мертвенная и пальцы дрожащие.
У девочки талант, но растрачивает она его впустую.
– Правда, я не спешил очаровываться… и уж тем более с предложением, а добрый доктор утверждал, что жить мне осталось недолго. Как же вы могли позволить мне умереть холостым?
Шериф хмыкнул.
– Не знаю, кто был автором этого безумного плана. – Райдо широко зевнул, демонстрируя клыки. – Полагаю, вы рассчитывали… а к слову, на что вы рассчитывали?
Молчание.
Доктор нервно трет стеклышки очков, и стеклышки эти поскрипывают, того и гляди выскользнут из оправы…
– Виктор! Господи, вечно все самой приходится… шериф, вы же понимаете, что все это… – миссис Арманди взмахнула рукой, – пустословие… разглагольствования… моя дорогая девочка… она столько пережила… и как теперь быть?
– Как? – послушно поинтересовался шериф, жалея о том, что курить нельзя.
Курить он бросал, поскольку тот же доктор утверждал, что будто бы кашель, который мучит шерифа, происходит единственно от курения. И вовсе давняя эта привычка вредна неимоверно.
Жевать табак куда полезней.
– Он должен жениться на Мирре!
– Кстати, – Райдо скребанул когтями паркет, и глухой звук заставил арбалетчиков вздрогнуть, – вы не находите это несколько нелогичным? Жертва выходит замуж за насильника…
– Что о ней теперь скажут? Она опозорена…
– Не мной.
– Тише. – Шериф поднял руки. – Ситуация и вправду… неоднозначная…
Мирра задрожала, а из глаз хлынули слезы.
Вот ведь… этак скоро и Райдо к ней сочувствием проникнется. Шериф вон отворачивается, вздыхает, усы оглаживая. И ведь понимает, что все это – комедия, разыгранная с единственной целью, а отрешиться от сочувствия не способен.
– Вы не могли бы одеться? – Шериф, мысленно прокляв тот день, когда вздумалось ему навестить хозяина «Яблоневого дола», отвел взгляд.
– Нет.
– Почему?
– Мало ли… – Пес не испытывал ни малейшего смущения, кажется, сама ситуация его забавляла. – Не хотелось бы в случае чего одежду портить…
– В случае чего? – У шерифа возникло ощущение, что над ним и вправду издеваются.
Пес пожал плечами:
– Чего-нибудь, а то ведь сами сказали, что ситуация неоднозначная. Стало быть, решения могут быть столь же неоднозначными. Мне бы хотелось сохранить за собой свободу маневра.
Он опустился на пол и сел на корточках, впрочем, поза эта не казалась ни нелепой, ни глупой.
– Ладно, – шериф дернул себя за ус, – то есть вы, найо Арманди, настаиваете на том, чтобы…
– Райдо из рода Мягкого Олова, – подсказал пес.
– Райдо из рода Мягкого Олова женился на вашей дочери?
– Настаиваю. – Она кивнула.
И доктор.
И Мирра, которая отерла слезы ладонью.
– А вы жениться отказываетесь.
– Отказываюсь, – подтвердил пес с усмешкой.
– Почему?
– Почему? – Он приподнял бровь, и шериф понял, до чего глупым был вопрос. – Не считая того, что у меня нет ни малейшего желания поддаваться на столь примитивный шантаж? Или связывать себя узами брака с лгуньей? Опустим даже такой нюанс, как то, что я не могу вступить в брак без одобрения моего отца… или райгрэ… а он вряд ли одобрит человека… не то чтобы он был снобом, но вот как-то…
Мирра вытерла слезинку. Не вытерла, сняла ноготком с ресницы и вздохнула.
Надо было подписывать бумаги, пока он в себя не пришел.
…и составлять протокол.
…и что там еще положено делать в подобных случаях.
– Итак, отбрасываем все вышесказанное, как несущественные детали, и остается одно, – пес посмотрел Мирре в глаза с неприкрытой насмешкой, – я не хочу жениться. В принципе.
– Жаль.
Шерифу и вправду было жаль, поскольку простой вариант решения проблемы – а она, шериф был уверен, никуда не денется – отпадал.
– Быть может, все-таки подумаете… Мирра – хорошая девочка…
– Уже не девочка. Полагаю, что и не девушка.
– Да что вы себе позволяете! – Это возмущение миссис Арманди было непритворным. Ее рот скривился, подбородки мелко затряслись, а на щеках выступили пятна. – Вы…
– Я предполагаю, – примирительно произнес пес. – Все ж таки девушки обычно ведут себя немного иначе… ну да не о том речь.
– Мирра скрасила бы ваши последние дни… – Шериф выдохнул, понимая, что более-менее внятные аргументы исчерпал.
– Поверьте, если я захочу, чтобы кто-то скрасил мне эти самые последние дни, я обращусь к профессионалкам. Дешевле выйдет, и главное – безопасней. А то есть у меня предположение, что эти дни будут совсем уж последними. Я же, шериф, намерен прожить долгую и счастливую жизнь.
– Вы умираете, – прошелестел доктор, который наконец оставил очки в покое. – Вы можете отрицать это, но вы умираете…
– Вы не находите, что я слишком уж бодр для умирающего? Особенно если учесть… – Райдо ткнул пальцем в Мирру, которая, видимо, притомилась плакать, а потому просто сидела тихо, с видом скорбным. Надо сказать, что вид этот ей чрезвычайно шел, и арбалетчики, которые тоже притомились, то и дело на нее поглядывали.
– Сейчас вы пребываете в стадии ремиссии, но она закончится…
– По-моему, доктор, наш с вами спор лишен всякого смысла, да и надоело мне спорить. Никогда особо не любил. Итак, вы хотите, чтобы я женился. А я жениться не хочу. Что дальше?
– Как благородный человек…
– Шериф, я не человек, а уж про благородство и вовсе молчу, никогда не страдал особым… подведем итог. У вас два варианта, доктор. Первый – вы выдвигаете официальное обвинение, которое передаете или полиции, или напрямую моему отцу. Он как глава рода обязан будет провести дознание…
– И вас оправдают! – Миссис Арманди злилась.
Краснела. И запах ее менялся, из-под цветочного покрывала пробивалась кисловатая вонь тела, немолодого, больного.
– Естественно, с учетом того, что мою невиновность доказать легко. Но процесс получится громким… а вы ведь не желаете огласки?
…но избежать ее вряд ли получится.
Шериф промолчит. И доктор. Его супруга. Мирра… не арбалетчики.
Дайна опять же… или вот кухарка… откуда узнает? А откуда у прислуги вообще это удивительное свойство – узнавать о том, что их не касается? Слухов не избежать, это все понимают. Но одно дело – слухи, а другое – открытый процесс.
– Второй вариант – вы собираетесь и покидаете мой дом.
– Вы так жестоки, – тихо произнесла Мирра. – А ведь вы собирались сделать мне предложение…
– Когда? – Райдо удивился. Такого он точно не помнил. Он вообще многого не помнил, но надеялся, что выпавшее из памяти время провел в крепком и спокойном сне, а не в попытках обустроить собственную личную жизнь.
– Вы спрашивали меня о наших обычаях…
– А… неудобно получилось. Нату очень понравилась ваша сестра. И я подумал, что мы могли бы заключить договор…
– Что? – Щеки Мирры полыхнули.
С чего вдруг? Оскорбленной себя ощущает? Нату понравилась девчонка, но так они и возраста одного…
– Договор, – повторил Райдо отчетливо. – Об опеке… Нат бы хорошо о ней заботился. Он весьма серьезный для своего возраста и с перспективами неплохими.
Мирра стиснула кулаки.
– Но к этому вопросу мы вернемся позже. – Райдо потянулся, чувствуя, как ноют старые шрамы, но живое железо заглушало боль. – Сейчас ведь о другом говорим…
– Шериф, вы ведь не допустите, чтобы имя моей дочери… – Доктор спрятал очочки в карман.
А не столь уж он близорук, каким хотел казаться.
– У вас есть люди… и если он сам не хочет, то заставьте. Вы же заставили Пита Маккинли жениться на Айвис…
Интересные здесь обычаи.
И шериф крякнул, кажется, не слишком обрадовался, что ему напомнили о той истории.
– Пит сам виноват был, – сказал он, дергая за второй ус, видать для симметрии. – Он девку обрюхатил, в чем и признался. А потому все по справедливости было. Тут уж, извините, история темная, в ней разбираться надобно.
– Вы… вы собираетесь его отпустить?
– Собирается. – Райдо ответил за шерифа. – Арбалеты – это, конечно, хорошо, но в моем доме я попросил бы мне не угрожать. Чревато.
Он потянулся, позволяя телу измениться.
Больно.
Он уже отвык от этой боли, и от другой, что поселилась в груди красным шаром… и от тяжести чешуи, от мира, подрастерявшего краски… от запахов резких.
И от людей, которые отшатнулись.
Райдо медленно поднялся, привыкая к изменившемуся миру, повел головой. Зарычал. И голос его, отраженный стенами, заставил незваных гостей отшатнуться. Звякнул болт по чешуе.
– Не стрелять! – Шериф успел ударить по руке второго арбалетчика, который, кажется, понял, до чего смешно его оружие.
И они все смешны со своими коварными планами, притязаниями и верой, будто оружие что-то да сделает. Нет, убивать Райдо не собирался.
Но люди этого не знали.
– Мы… уходим, – шериф поднял руки, – и приношу свои извинения за… вмешательство в вашу жизнь…
Ийлэ услышала голос. И замерла.
Выйти?
– Ийлэ, ты здесь? – Шепот. И скрип половицы под ногами. Человеку кажется, что ступает он очень осторожно, почти бесшумно, но Ийлэ слышит его. – Я знаю, что ты здесь… где-то рядом… я чувствую тебя…
Ложь.
Люди не способны чувствовать. Ийлэ знает. Она играла в прятки с ними и там, в лесу, когда ее искали. Она пряталась в яме, в опавших листьях, в которых было тепло, и дрожала от страха.
А они шли по следу.
Не как псы, нет, люди не способны читать запахи, и в лесу они слепы, беспомощны даже, но люди держат собак на сцепках, серых гончаков с розовыми носами, с красными глазами, которые почти скрыты в складках кожи. И кожа эта собирается на загривках.
Псы рвутся. Лают.
– Ищи… ищи… – люди говорят псам, подгоняя. Те и сами рады были бы сорваться, они видят след, не понимая, что след ложный. И несутся, налегают на постромки, раздирая тупыми когтями рыхлую землю. Псы почти ложатся на листву, тянут за собой хозяев.
Ийлэ видит только ноги.
Сапоги высокие, охотничьи, которые до колена. И штаны из грубой ткани, прошитой желтой нитью. Видит пояс. Куртку. Чует запах свежего хлеба, и голод почти позволяет ей решиться.
Это ведь не просто люди, это те, кого она знает. И они знают ее. Но почему тогда с собаками?
Она так и осталась в той яме, надежно укрытая листьями и пологом леса, который отозвался на просьбу. Лес милосерднее людей. Он баюкал, шептал ей голосами старых елей, что теперь-то все изменилось. Она жива. И свободна. И… и Ийлэ еще не знала, что свобода эта – пустое слово.
Ей некуда было идти.
…до того вечера, когда она решилась вернуться сюда.
– Ийлэ, пожалуйста… я не причиню тебе вреда. – Человек остановился. – Ты же знаешь, что я люблю тебя… я тебя всегда любил и теперь хочу лишь помочь…
Изменился.
Или нет?
Стоит спиной, смотрит на приоткрытую дверь, не чувствуя на себе взгляда.
– Я… я знаю, что должен был прийти раньше, когда…
Светлые волосы собраны в хвост, перевязаны черной лентой. Широкая спина. И старая куртка ему маловата. Широкие запястья. А ладони узкие, с пальцами длинными, изящными.
Ийлэ помнит, до чего ее и прежде удивляло этакое несоответствие. Запястья широкие, а ладони…
– Ийлэ… пожалуйста…
Она отступила в тень.
И дальше.
На чердак. На чердаке безопасно, пожалуй безопаснее, чем где-либо в доме, который вдруг наполнился людьми. Собак, правда, не взяли, наверное, потому что здесь собственные имелись…
Странно все.
Райдо и Мирра.
Затянувшийся разговор. Дайна необычайно довольная, улыбающаяся. Она убирала со стола, напевая песенку… голос у нее оказался неожиданно приятным.
Ийлэ она не замечала, нарочно ли или же и вправду позабыла об ее присутствии, занявшись делами насущными. Ожили часы, старые, которые постоянно спешили, и отец перебирал их не раз, а они все одно спешили, упрямые. И Дайна на звук этот обернулась, по губам ее скользнула улыбка, которая заставила Ийлэ насторожиться.
Именно. Улыбка. И еще прикосновение к щеке, такой знакомый жест… предупреждающий.
Ийлэ предупреждению вняла.
Корзину с отродьем она перетащила на чердак. Забравшись на подоконник, Ийлэ прижала ладони к стеклу. Тепло ее тела медленно плавило лед, пальцы же леденели.
В проталине был виден кусок двора. И обындевевший вяз, который держался на ветру, слабо покачивая стеклянными ветвями. Ветви эти наверняка хрустели, но Ийлэ не слышала хруст.
Вой ветра в трубе. И стон половиц. Сонный голос дома, взбудораженного незваными гостями. Санный возок, из которого появляется доктор и супруга его, в объемной шубе походившая на медведицу. Последним вышел человек в драповом черном пальто, показавшийся Ийлэ смутно знакомым.
Она встречала его прежде, но вот где и когда?
Впрочем, о человеке этом Ийлэ забыла, стоило ему исчезнуть из поля зрения. Ее проталина была не так и велика…
Верховые.
Трое. Или четверо? А может, и больше. С арбалетами. Шерифа можно узнать по высокой меховой шапке с хвостом, такой больше ни у кого нет. Шапкой этой шериф гордился.
Зачем он здесь? Остановился, обвел двор взглядом. Увидел? Заметил? Ийлэ отпрянула от проталины, прижавшись к стене. Сердце колотилось, словно безумное…
Уходить.
Сейчас же, пока верховые в доме… пока не начали искать… кого?
Пса?
Или ее?
Надо успокоиться. Ийлэ вцепилась зубами в ладонь, влажную, в испарине истаявшего льда. Боль отрезвила.
Люди появились не за ней.
За псом пришли.
Сначала Мирра. И сестра ее, которая отвлекла Ната. Нат бы точно не оставил хозяина наедине с Миррой; Мирре он не доверяет, впрочем, как и сама Ийлэ… но тогда где Нат?
Найти? И дальше что?
Если его заперли, то охранять будут. Те же люди с арбалетами. Даже если без арбалетов, то Ийлэ не справится. Она ведь не воин и никогда не была. Самое разумное – затаиться. Люди не знают, на что способны псы. Люди самоуверенны… Райдо с ними сладит.
Или нет?
Он болен. И одно дело болезнь, а совсем другое – люди… не пощадят ведь свидетелей, а Ийлэ именно свидетель. Или помеха.
Неудачное обстоятельство.
Альва.
Сколько веских причин, чтобы избавиться. Инстинкты требовали уйти. Сейчас, пока люди заняты. Но… куда идти? В лес? Он спит. А по следу найдут и без собак… или и искать не надо. Морозы только-только начались, пара ночей, и Ийлэ сама издохнет… проклятье, ей некуда идти.
Что остается?
– Безумие. – Ийлэ провела пятерней по растрепанным волосам. – Ты тоже с этим согласна?
Отродье широко зевнуло.
– Лежи тихо. – Корзину Ийлэ подвинула вплотную к трубе и надежности ради прикрыла старым одеялом. Щель для воздуха оставила, но… – Я скоро вернусь. Я просто посмотрю, что там.
Верховых оказалось не меньше десятка. Ийлэ слышала, как люди переговариваются. Трое остались внизу, и Дайна что-то говорила им, громко, надрывно…
– …этого следовало ожидать… столько пьет… его предупреждали, а теперь опиум…
Ийлэ не видела экономку, но почему-то прекрасно представляла себе ее лицо с маской нарочитого сочувствия. И еще тревоги, тоже нарочитой. Правда была в глазах, которые Дайна подводила черным угольком для большей выразительности…
…ее за это грозились уволить, потому что в приличном доме горничные не красятся…
…уволили бы, но…
Потом. Мысли о прошлом следует оставить будущему, пока неясному. Ийлэ скользнула в узкий коридор для прислуги, благо Дайна слишком занята сплетнями, а кухарка кухню покидает редко.
Тишина.
И чьи-то осторожные шаги.
Человек то и дело останавливается, заглядывает в комнаты. Он осторожен не потому, что боится быть увиденным, но скорее уж по привычке. Он открывает дверь за дверью, заглядывает в комнаты, но не переступает порог.
– Ийлэ… – полушепот-полувздох. – Ийлэ, ты где?
Рядом.
И пожалуй, она способна прикоснуться к человеку рукой… и этого не нужно, достаточно будет окликнуть по имени.
Отзовется?
– Ийлэ, я знаю, что ты обижена на меня… на всех нас… я тебе не помог… я хотел, честное слово, хотел… – Он провел пальцем по стене, останавливаясь на темных квадратах несуществующих картин. От них осталась лишь тень на обоях.
Больше, чем от самой Ийлэ.
– Я очень хотел тебе помочь… но мой отец… ты же знаешь, насколько непростой была ситуация… я не мог рисковать его жизнью… и жизнью моей матери… она ведь болела…
Ийлэ помнит. Супруга мэра болела давно и с немалым профессионализмом, болезнь ее, не имевшая названия, обладала удивительным свойством обостряться, когда супруг ли, единственный ли сын найо Эверис делали что-то, что противоречило ее желаниям.
– Ей тоже очень жаль… да и что я мог сделать?
Он шел, и Ийлэ, завороженная словами, интонацией мягкой, которая ее всегда раздражала, ступала следом.
– Что мы все могли сделать? – тяжкий вздох.
И черная траурная лента в волосах шевелится. Эта лента кажется обманчиво живой, и Ийлэ убирает руки за спину, потому что если лента дотянется до нее, прикоснется…
– Но теперь… – Альфред остановился перед спальней Райдо. – Теперь все иначе… война закончилась… все закончилось, Ийлэ.
Неправда.
– Ты здесь? – Он коснулся двери костяшками пальцев, вроде бы невзначай, легонько, но звук получился громким, он заставил Ийлэ отступить. – Он держит тебя? Такой же, как те, правда?
Нет.
Ийлэ отступила еще на шаг.
Райдо – пес, но…
Он возится с отродьем и говорит, что она на альву совсем не похожа, и это так. Вот только решил с чего-то, что глаза у нее от Ийлэ.
У Ийлэ зеленые, а у отродья – серые, светлые. Песьи.
Он не ударил ее ни разу, даже когда подходил опасно близко, даже когда она поворачивалась спиной или в глаза смотрела. Псы не любят, когда им смотрят в глаза, Ийлэ знает. А этот…
…она сказала ему, что ненавидит, а он попросил посидеть.
Просто посидеть.
Ведь если сидишь рядом, то уже не важно, ненависть или любовь, главное, что Ийлэ держала его за руку, широкую такую, которую с трудом обеими своими обхватить могла. А он смотрел на нее снизу вверх и улыбался.
Он болел.
И наверное, хорошо, что болел, справедливо. Но боль не делала его злым, как должно было бы быть. Он не требовал помочь, знал, что Ийлэ способна, она ведь не скрывала, а он не требовал. Тот, другой, нашел бы способ заставить. Пальцы бы сломал… или ногти выдрал, как тогда, когда ему показалось, что Ийлэ недостаточно почтительна… больно, когда ногти выдирают. И она, пожалуй, согласилась бы…
Но Райдо терпит свою боль.
Почему?
Ийлэ спросит. Быть может. Но не сейчас… сейчас она занята… ей надо уходить, пока Альфред не заметил.
– Здесь. – Он провел по двери пальцами и на ручку надавил. – Где еще тебе быть? Ийлэ… я тебя нашел…
Ложь. Но если ему так нравится, то почему и нет? А Ийлэ некогда, у нее есть еще дела. Она вновь кралась. И дом молчал, видимо, чужаки нравились ему еще меньше, чем прежняя хозяйка, на которую он был обижен.
Безумно ухало сердце. И ладони взмокли. Ийлэ спрятала руки в рукава свитера, жалея о том, что ножа у нее все-таки нет. С ножом ей было бы спокойней.
На первом этаже она остановилась. Куда дальше?
Если Ната заперли, то… то им потребовалось бы помещение с очень крепкой дверью.
Кабинет?
Или… та особая комната, про которую отец говорил, что она выдержит и пожар, и наводнение, и войну. Прав оказался. Комната войну выдержала, в отличие от Ийлэ.
Дверь заперта. И охраны нет.
И верно: к чему, если дверь заперта. Нат – щенок, мальчишка, а мальчишке много ли надо… ключа у Ийлэ нет, но если знать дом, то ключ не нужен. И она, остановившись в коридорчике, приятно сумрачном, тихом, прижала ладонь к стене.
Дом отозвался на прикосновение, полусонный, раздраженный, он все-таки узнал Ийлэ, и стена расползлась по шву, к счастью, беззвучно. Из узкой щели тайного хода дыхнуло гнилью и древесной трухой, запах заставил Ийлэ поморщиться: надо будет весной заняться домом…
…она хихикнула, поняв, о чем думает.
Весной? Домом?
Весной она уйдет, правда, пока еще не знает, куда именно, но ведь есть еще время подумать: до весны далеко, а до тайной комнаты – два шага.
Здесь холодно.
Помнится, холодно было всегда, причем что зимой, что летом – одинаково. И холод этот удивлял Ийлэ, как и упрямое нежелание отца поставить в комнате камин. Ладно бы он просто сюда заглядывал, так ведь порой часами сидел за запертой дверью, за которую и мать пускал неохотно.
– Нат, – позвала она шепотом.
Лежит.
Свернулся калачиком, подтянув колени к груди, и руки сунул под мышки. Не шевелится. Живой? Живой и дышит… спит.
– Нат? – Ийлэ присела рядом, не зная, как ей быть дальше.
Разбудить? Или уйти, оставив его здесь? Если усыпили и заперли, то… то не убили, а значит, Нат нужен живым… или пока нужен?
– Нат, очнись, пожалуйста… – Вытянув руку, она коснулась жестких волос.
Сон тяжелый, муторный. И ненастоящий.
Он был рожден травами, алхимией человеческой лаборатории, и значит – нужен людям. Ийлэ прислушалась. Она видела тонкие нити этого сна, путы его, слишком прочные, чтобы Нат сам умел разорвать их. Он же, чуя собственную беспомощность, метался, скалил зубы, головой мотал.
– Тише, – попросила Ийлэ. – Я тебе помогу. Я тебе помогу, потому что с тобой безопасней, чем с людьми. Да. Именно так. А мне нужно дотянуть до весны. Весной все изменится.
Ее шепот тонул в стенах комнаты. Она всегда глотала звуки, Ийлэ эта ее особенность пугала и тогда, когда бояться было нечего. Комната изменилась.
Стены ободрали. Мебель исчезла, впрочем, ее никогда не было много. Полки. Стол. Ящики всегда заперты, и ключи отец носил с собой. Секретер этот, который был вовсе не секретером, но сейфом. Наружную панель выдрали, и теперь в полумраке комнаты слабо поблескивали стальные дверцы ячеек. Тот, который… он думал, что Ийлэ знает, как вскрыть…
Если бы знала – сказала бы.
Наверное.
Она отмахнулась от воспоминаний.
И от страхов, которые ожили вдруг разом. Потом. В другой раз. Сейчас у Ийлэ есть дело. Она обхватила голову щенка ладонями и позвала:
– Нат, послушай меня. Я тебе помогу. Немного, но дальше ты сам должен. Ты сумеешь, просто подожди еще немного, ладно?
Он не пытался вырваться, затих.
Пахло сонником и еще дурманом, резковатый запах, знакомый… он был в комнате в тот день…
Ийлэ сама закрыла глаза.
Вдох и выдох. Вдох резкий, глубокий, а выдох – медленный… чужой ритм, под который нужно подстроиться, чтобы получилось. Сил у нее немного, больше, чем было прежде, но все одно… слишком долго она отдавала их. Получится ли? Получится. Если понемногу, не разрывать сети, но ослаблять, растягивать.
А дальше Нат сам, он хоть и щенок, а все одно сильный, много сильнее человека.
– Нат…
Он слышит собственное имя. Вздрагивает. И замирает. Переворачивается на живот, еще в полусне, кривится, рычит бессильно… и этот рык настораживает. А что, если Нат, пробудившись, нападет на нее? Он ведь зол и…
…без Ната она все равно не справится. Людей много. Непонятное происходит, а если так, то вариантов немного, и Нат – не худший.
– Пожалуйста, – Ийлэ выворачивает его голову набок, – послушай меня. Я не враг. Я хочу помочь… попробуй теперь.
Нити сна запутались, истончились, и сознание Ната рвало их одну за другой.
– Я хочу…
– Тиш-ш-ше, – ответил Нат, не открывая глаз. – Слышу. Ты одна?
– Да.
– Нира?
– Не знаю.
– Райдо?
Ийлэ покачала головой, но вспомнила, что он не видит, и повторила беспомощно:
– Не знаю. В доме люди. Много. С оружием.
– Мы где? – Он сел, слишком резко после пробуждения, и скривился от боли.
Железные стены. Решетки на окнах. Железная дверь, запертая снаружи. Слишком много железа для пса. Райдо, наверное, смог бы выбраться, но Райдо крупный, а Нат…
Он вертел головой, злясь на себя за беспомощность. Надо же было так попасться!
Запах ржавчины, мела и сырого дерева. Оглушающая слабость, когда тело становится чужим. И Нат пытается обжиться в нем, шевелит пальцами, трогает лицо, гладит шею, стирая капли живого железа, которое проступает, растекается и… тает.
Альва.
Забилась в угол, стиснула кулачки. Смотрит. Нат ненавидит, когда на него смотрят вот так пристально, сразу начинает ощущать себя… нехорошо начинает ощущать себя.
– Отвернись, – попросил он, встав на четвереньки. И, не дожидаясь, когда альва исполнит просьбу, сам повернулся к ней задом.
Спать хотелось невыносимо.
Сон.
Яд. Или не яд, но лекарство… тот доктор, который лечил Райдо прежде, говорил, что любое лекарство по сути своей – яд… дело в дозе… сколько он принял?
Не выяснить.
Нат открыл рот настолько широко, насколько сумел, и сунул в него пальцы. Вырвало не сразу. А когда вырвало, стало лишь хуже. Нат не без труда сдержал стон. Полегчает. Надо подождать. А сколько ждать? Сколько получится, потому что из комнаты этой ему не выйти. И значит…
– Помогу. – Альва протягивала руку осторожно, точно опасалась, что Нат ударит. Или отпрянет.
Он кивнул: если и вправду поможет, то… то дальше он подумает о том, как выбраться… нашли, где запереть… Дайна, тварь… она чай готовила… подавала… больше некому…
Нира…
…ее не тронут…
…им нужен дом и Райдо, точнее дом, но без Райдо его не получить, поэтому Ниру не тронут.
Узкая ладонь альвы, легшая на лоб, была холодна. И холод от нее пробирался сквозь кожу, в кровь, остужая и успокаивая. Унялись желудочные спазмы, и слабость откатила… и, кажется, Нат вновь стал способен думать, вот только мысли были не самыми веселыми.
Итак, его заперли в сейфовой комнате. Знакомо… три трупа… пожар… если устроить пожар, то…
Райдо нужен.
Об этом думать следует.
– Спасибо, – буркнул Нат, когда альва убрала руку. Не то чтобы ему так уж хотелось ее благодарить, но… мама учила быть вежливым.
Ко всему и вправду полегчало.
– Ты как? – Он посмотрел на нее искоса, стыдясь не столько ее, сколько своей собственной слабости.
Альва пожала плечами.
Нормально, значит. Хотя бледненькая, губы кусает, озирается затравленно. Комнатушка маловата, и ей явно неуютно рядом с Натом.
– Ничего. Выберемся… сейчас я…
Он стянул свитер и поежился, надо же, сам не заметил, как замерз.
– Я эту дверь вышибу… постараюсь… или окно, с окном проще… если решетку вынести, то… для меня узковато, а ты выберешься.
Альва покачала головой и прижала палец к губам. Она указала на стену, сказав:
– Идем.
Нат так и не понял, что именно она сделала. Ладонь на стену положила, а та возьми и откройся. Лаз был узким, темным, и тянуло из него гнилью, но…
– Наружу? – уточнил Нат, поглядывая на лаз с опаской, поскольку не было у него ни малейшего желания оказаться где-нибудь в подземелье или, паче того – в стене застрять.
– Идем. – Альва первой нырнула в проход.
Тесно. И протискиваться приходится боком. Альве проще, она тощая… и Нат вроде себя толстым не считал, но поди ж ты. Главное, что проход все тянулся и тянулся, хотя Нат точно знал, что стены в доме не такие уж и толстые.
Как это они с Райдо этот крысиный лаз пропустили?
И тогда понятно, как альва выбралась…
Запертая комната? Запертая… людям, когда проверять придут – а Нат был уверен, что обязательно придут, – сюрприз будет…
Альва остановилась.
Тьма кромешная, не разглядеть ни лица, ни даже самой ее, но палец холодный прижался к Натовым губам. Молчать? Понятно. Нат не дурак, чтобы с ходу в драку лезть. Главное, пусть выведет. А хорошо, что он тогда ее не убил. И от альвов бывает польза.
Она выскользнула в серый пыльный коридорчик и огляделась. Зря, Нат чует, что людей в этом коридорчике нет. Заглядывали… давненько заглядывали.
– Где мы?
– Третий этаж… комнаты для прислуги, – говорила альва медленно, и взгляда прямого избегала, и, когда позволило пространство, тотчас отодвинулась от Ната.
Боится, что ли?
– Так это… – осенила внезапная мысль. – Тебя не запирали со мной?
– Нет.
– Ты… пришла сама?
Кивок.
– Помогаешь нам?
Еще один кивок и очень тихое:
– Люди. Убьют Райдо. Убьют и меня.
В этом имелась своя логика, но Нат все одно сказал:
– Спасибо…
В конце концов, она ведь не обязана была. Только сейчас он понял, что альва боится не его, точнее, и его тоже, но людей – сильнее. Она напряжена, что струна, натянутая до предела, тронь такую – и разорвется, опалив пальцы.
– Возвращайся на чердак, – сказал Нат. – Сиди тихо. Там тебя не найдут.
– А ты?
– А я сам как-нибудь… да и… – Он оскалился, предвкушая замечательную встречу с людьми, которые сами не понимают, во что ввязались. – Думаю, Райдо нужен им в сознании… и если так, то их ждет большой сюрприз… возвращайся.
Спорить она не стала. Отступила. Всего-то шаг, и альва исчезла, растворившись в тенях дома.
Проклятье. А Нат и не знал, что она так умеет. И Райдо не знал. И если так, то надо будет сказать, а заодно уж про комнату, которая вовсе не так уж заперта, как им казалось.
Но позже.
Он стянул рубашку, ботинки скинул, снял штаны. Одежды было жаль. В пустом коридоре гуляли сквозняки, и кожа моментально пошла сыпью.
Живое железо отозвалось.
Но медленно, до чего же медленно… и оборачиваться пока нельзя, но в нынешнем слабом теле Нат много не навоюет. Кости плавятся, заставляя шипеть от боли, тело выворачивает изнутри, наизнанку, и собственная шкура трещит, рвется.
Нат чувствует и разрывы, и огонь, которого слишком много, чтобы выдержать. Он падает на пол, впивается в заросшую грязью дорожку зубами, чтобы сдержать стон.
Мир меняется.
Медленно и неотвратимо, и, когда боль отступает – а она, кажется, длится неимоверно долго, часы, а то и дни, – мир позволяет себя удержать.
Запахи.
И след альвы теперь виден явно, травянисто-зеленый, вплетенный в сам дом. Он начинается от стены, а стена эта пахнет стеной. Значит ли это, что тайный ход спрятан слишком хорошо? Или его вовсе нет?
Райдо говорил, что дома альвов живые, но Нат и не предполагал, что настолько.
Он сделал первый шаг.
Лапы держали. Когти пробивали дорожку, цокали о паркет. Хвост змеей скользнул по стене, и прикосновение это случайное было приятно, дом ластился к Нату… или наоборот?
Позже он разберется.
У лестницы Нат остановился, выглядела та уж больно ненадежной, с крутыми ступеньками, на которых с трудом лапа умещалась. Спускался он медленно, отчаянно принюхиваясь к дому, но в этом крыле, давным-давно позабытом, запахи были старыми, выцветшими.
А вот на втором этаже – дело иное.
Люди. Трое. Вооружены, но оружие – скорее данность времени, нежели необходимость. Люди уверены в собственном превосходстве. И еще в том, что Нат заперт, а Райдо болен.
Они ходят по дому, словно дом этот уже принадлежит им.
– Ну что?
– Пока ничего… – Человек в высоких охотничьих сапогах вышел из комнаты Райдо.
От человека пахло кровью. Нет, не свежей, застарелой, кисловатый терпкий аромат, который привязался к сапогам и еще к куртке.
– На чердаке глядел?
– Погляжу, не волнуйся. – Он остановился в коридоре. Нат видел широкую спину, и длинные волосы, собранные в хвост, и черную ленту, скользкую, вида змеиного. – Не спеши… в любом деле спешка – это лишнее.
Человек был спокоен и умиротворен.
– Господи, до чего дом довели… ты бы видел, каким он был прежде. Чудесное место. Волшебное, я бы сказал… я уже считал его своим…
– Не ты один, Альфред.
– Не я один, – согласился тот. – На любое волшебство охотники найдутся…
Нат глухо зарычал. Человек ему не нравился. Он в принципе к людям симпатии не испытывал, но конкретно этот не нравился особенно сильно.
– Надо же, какие гости, – сказал Альфред, обернувшись. – Его же заперли, нет?
– Заперли, – подтвердил его спутник, потянувшись к арбалету, но был остановлен Альфредом.
– Не стоит. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, не факт, что попадешь. А в-третьих, когда насилие что-то решало? Верно?
Человек широко улыбнулся.
Наверное, он по-своему был красив. Высокий, много выше спутников, с лицом открытым, пусть несколько грубоватым, но приятным. Он смотрел прямо, но во взгляде его не было ни вызова, ни скрытого страха, лишь любопытство.
И Нат растерялся.
– Полагаю, имело место некоторое недоразумение… – Альфред положил руки на пояс, но, несмотря на то что на этом поясе висели и арбалет, и короткий клинок, жест не был угрожающим. – И мне крайне не хотелось бы, чтобы недоразумение это переросло в конфликт. Конфликты никому не нужны. Позвольте представиться, Альфред Сенсби. Гарольд Сенсби – мой отец…
Нат нахмурился, пытаясь вспомнить, кто такой Гарольд Сенсби, которого он, судя по поведению этого человека, должен был бы знать.
– Он здесь за мэра… градоправителя… олицетворение власти, так сказать. И мне приходится соответствовать. Здесь я исключительно в роли наблюдателя. Смотрю, чтобы никто не нарушил закон… закон – основа общества…
Он говорил, а Нат слушал, пытаясь сообразить, что же делать.
Напасть?
Но люди не проявляют агрессии, напротив, этот Альфред ведет себя весьма и весьма дружелюбно… и это подозрительно…
– Альфред, ты думаешь, он тебя понимает? – нервозно поинтересовался парень с арбалетом.
– Понимает, Бикси, еще как понимает. Поэтому веди себя хорошо, не давай повода думать, что мы пришли сюда с недобрыми намерениями…
Нат оскалился.
Люди – чужаки. Но если он их тронет, то… Райдо будет недоволен.
Закон есть закон, и нападать на людей без веского повода нельзя, потому что тогда люди пожалуются. И ладно бы на Ната, но ведь пострадает Райдо. А если еще решат, что Нат не способен контролировать инстинкты и…
– Полагаю, произошла ужасная ошибка… и со стороны все выглядит так, словно мы пытаемся захватить дом. На самом деле мы просто хотим разобраться…
Его мягкий вкрадчивый голос заставлял Ната пригибаться, а иглы на спине сами дыбом поднимались.
– …обвинение очень серьезно, но я уверен, что дело разрешится в самом скором времени… а потому нам с вами следует запастись терпением…
Наверное, он мог бы говорить еще долго, этот фальшивый человек, который притворялся благожелательным, но дом содрогнулся от рыка.
Голос Райдо продрался сквозь стены.
Зазвенело стекло. Хрустнуло.
С потолка посыпалась побелка, и Альфред смахнул ее с демонстративной небрежностью, которая никого не обманула. Он побелел и, кажется, все-таки испугался. Странно, но его страх был Нату приятен.
– Кажется… – улыбка получилась кривоватой, и выглянуло сквозь нее что-то этакое… опасное, – у нас проблема…
Нат ухмыльнулся.
И плевать, что говорят, будто это обличье на выражение эмоций не способно. Еще как способно.
Человек понял все правильно, и руки от пояса убрал, и сказал:
– Думаю… всем нам стоит спуститься. Время позднее… нехорошо обременять хозяев.
Возражать ему не стали.
Глава 16
Люди уехали.
Ийлэ наблюдала за ними через проталину, которую норовило затянуть морозом. И время от времени Ийлэ приходилось наклоняться к ней, дышать, чтобы проталина становилась больше.
Ждать пришлось долго.
Наверняка люди не хотели уезжать, но им пришлось.
Ийлэ слышала.
Райдо громкий.
И людям не понравилось. Люди увидели, что на самом деле псы лишь похожи на них, что сходство это слетает, когда они надевают чешую…
Какой он?
Нет, Ийлэ не настолько любопытна, чтобы подставляться под удар. В ином обличье псы разумны, но разум их во многом еще подчинен инстинктам, а инстинкты требуют охоты.
Но все-таки… какой он?
Наверняка большой, быть может, больше того, который… у него была плотная чешуя и тяжелые иглы вдоль хребта, которые вставали дыбом, когда пес злился, а злился он часто.
Хвост-змея.
И когти на лапах. Сами лапы тяжелые, однако ступают бесшумно, конечно, когда ему хочется… порой он позволял ей услышать.
Убежать.
Бег – часть охоты. И пока Ийлэ не поняла, что ему нравится загонять ее, она играла. Бежала. Останавливалась. Задыхалась. Хватала воздух, захлебываясь им, и, услышав пса, который шел не таясь, бежала вновь. Неслась, сбивала ноги, раздирала руки… оставляла кровяный след.
Нет, не сейчас.
Она подождет…
– Мы подождем, – сказала Ийлэ отродью, которое ждать не хотело, но было голодно и требовало еды.
И еще пеленки сменить.
Их Ийлэ сняла, закутав отродье в свою рубашку, и для тепла под свитер спрятала. Вдвоем если… вдвоем они справятся.
Час – это не так и долго…
Пусть пес отойдет. И заснет… а он слабый, он заснет почти сразу… и, наверное, время никогда еще не тянулось так медленно.
– Они уйдут… уже уходят.
Доктор и супруга его, недовольство которой ощущалось издали. Она шла, гордо вскинув голову… неуклюжая тень в кольце факелов. Все они тени, но тени узнаваемые. Мирра, которая опирается на руку Альфреда, она все-таки получила его. Почему бы и нет? Красивая пара, вот только Альфред ее не любит.
Он никого не любит.
Раньше Ийлэ не понимала и этого, вообще раньше она не понимала очень и очень многих вещей, но, к счастью, теперь все изменилось. И она прячется на безопасном чердаке, следит за людьми сквозь проталину.
Два возка.
Верховые.
И шериф уходит последним, он останавливается во дворе, оборачивается, окидывая дом пристальным взглядом. Видит ли Ийлэ? Нет, слишком далеко, чердачные окна крохотные, а проталина и вовсе размером с ладонь Ийлэ.
Темно к тому же. Это у них факелы, а Ийлэ прячется в темноте. И зрение у людей слабое. Но ей все равно страшно. И страх возвращает к трубе. Ийлэ прижимается к ней спиной, сидит, баюкая отродье, которое утомилось плакать. Оно еще слишком слабое и помнит о тех прошлых временах, когда голод был привычен. Отродье молчит, сопит, и легкое ее дыхание щекочет кожу.
Имя…
Ийлэ перебирала имена, словно бусины, но не находила того, которое подошло бы отродью. Имена были… нет, не плохими, но за каждым стоял человек.
– Мы обязательно придумаем что-либо. У тебя будет красивое имя… и, наверное, в этом мире никто не упрекнет тебя в том, что ты альва лишь наполовину. Альвов больше не осталось. Ушли. Я слышала это, но… почему отец не ушел? То есть он был бы тебе дедом. Он бы тебе понравился… но почему он ждал так долго? Из-за королевы? Я знаю эту историю… мне не рассказывали ее, но я все равно знаю… дети слышат больше, чем думают взрослые. И ты вот… ты пока не понимаешь, что именно слышишь… и не запомнишь, но это именно что пока… ты вырастешь и тогда…
Она замолчала, сама не зная, что будет тогда, и будет ли вовсе это «тогда».
Весна.
Лето.
А потом вновь осень и зима… зима – это метели.
И холод.
Лед на воде. Спящий лес. Тишина мертвенная. Зима – это смерть, если у тебя нет дома.
Ийлэ закрыла глаза. Нет, о той зиме думать слишком рано. Ей бы нынешнюю пережить. Она так и сидела в полудреме, баюкая отродье, которое, несмотря на голод, кажется, все-таки уснуло. Оно было теплым и легким.
Хрупким.
И весной… весной ведь не обязательно уходить сразу. Ийлэ подождет, пока погода установится, а отродье повзрослеет. Крестьянки носят детей за спиной, платками привязывают. Отродью понравится? Ийлэ надеялась, что оно будет не слишком тяжелым. А если и будет, то ничего, Ийлэ справится. Она сильная. Она сама не знала, насколько она сильная.
Нат поднимался по лестнице бегом и дверь открыл пинком.
– Ийлэ? – То ли голос его, то ли грохот двери разбудили отродье, которое зашлось плачем. – Ийлэ, ты… Райдо! Ему плохо!
Нат упал на колени, он выглядел… странно. Полуголый и в каплях живого железа, которое растекалось по пятнистой шкуре, чтобы в нее же впитаться.
– Ему очень плохо. – Нат стирал железо с щек. – Он… он умирает… помоги ему… пожалуйста.
Он смотрел снизу вверх, со страхом… и надеждой? Верил, что Ийлэ и вправду способна помочь?
А она способна. Наверное.
И Нат выглядел сейчас вовсе не страшным, скорее уж растерянным. И ребенком.
– Я… я все для тебя сделаю… я буду тебя защищать… и ее тоже… – Он судорожно сглотнул. – Я… я знаю, что у тебя есть враги. Или просто те, кого ты ненавидишь. Я их убью. Всех убью, кого скажешь… только помоги ему!
Ийлэ молча поднялась.
Райдо лежал на полу. Он дополз до дивана, но тот выглядел до смешного тесным, узким и неудобным. Райдо все равно взобрался бы, но… сил не хватило.
Силы таяли.
Еще тогда, когда он обернулся и зарычал. Охрысенно грозно вышло, и миссис Арманди сомлела и Мирра тоже. Добрый доктор побледнел, а люди за арбалеты схватились, точно эти арбалеты могли чем-то помочь.
Ничем.
Шериф вот остался спокоен; железный мужик, который велел:
– Угомонитесь.
Причем, кому именно это было сказано, Райдо не понял. Главное, арбалеты убрали.
– Полагаю, – шериф повернулся к доктору, – нам настоятельно предлагают покинуть дом…
Доктор кивнул.
Он приводил в чувство супругу пощечинами и, кажется, бил сильнее, чем нужно, вымещая на ней, беспомощной, собственное раздражение. От доктора пахло сладкими травами, дурманом.
От шерифа – все еще табаком, но в новом обличье Райдо и этот, знакомый уже запах обрел сотни оттенков. А сквозь него пробивались иные – старой кожи, старой ткани, старой болезни, которую шериф скрывает, потому что болеть ему некогда.
Наверняка себе он говорит то же самое.
– И полагаю, у хозяина на то имеются все основания. – Усмешка шерифа вышла кривоватой.
– Но Мирра…
Шериф пожал плечами:
– Он прав. Вы имеете полное право подать жалобу.
Не подадут. Проглотят обиду, но запомнят. Пускай. Лишь бы убрались, и желательно поскорей, потому что в груди клокочет пламя, которое того и гляди выплеснется не грозным рыком, но кровавой рвотой.
– Прошу прощения за… такой вот визит. – Шериф вытер прокуренные пальцы платком. – И за ребят. Сами понимаете, как оно все выглядело изначально.
Он махнул рукой, и арбалетчки с преогромным облегчением убрались за дверь.
– И еще… Райдо, будьте осторожны. Мы и вправду здесь случайно оказались. На дорогах неспокойно. Развелось после войны всякой швали… вот и собирались немного поохотиться.
Райдо кивнул.
Охота – это понятно.
– Сюда-то вряд ли сунутся… но вы все равно…
Ушли.
Райдо слышал голоса за дверью, по которым наверняка можно было сказать, что шериф привел сюда не двоих и не троих даже. И вправду случайность? Или удобный предлог?
На дорогах после войны действительно неспокойно. Мародеры. Разбойники. Сброд, который привык полагаться на собственную силу, недобитые крысы войны, вовсе не желающие предстать перед судьей. Знают, что суд обернется виселицей. А кому на виселицу охота? И драться будут до последнего.
И надо бы помощь предложить, но… из Райдо помощник хреновый.
Он лег, пытаясь унять разбушевавшееся пламя. Дышал часто, мелко, горлом, а из пасти на измаранный ковер текла слюна. Райдо пытался сглатывать ее, но слюны было много, да и… ковру не повредит уже. На ковре и без того следы остались, множество следов.
Сапоги шерифа.
Остроносые ботинки доктора… и вправду рассчитывали… а и вправду, на что они рассчитывали? Нелепый, безумный даже план… на слабость? Беспомощность?
Сам виноват.
Райдо выдохнул и облизал зубы. Ныли. И челюсть. И кости. И кажется, именно так должен себя чувствовать глубокий старик. А он не такой уж старый, только все равно сдохнет, притом, кажется, именно сейчас.
– Райдо? – Нат появился.
Голый, взъерошенный и почему-то мокрый. Купался он, что ли?
– Райдо, ты как? – От Ната пахло снегом.
Вышел проводить дорогих гостей? Весьма благоразумно с его стороны. За такими гостями глаз да глаз нужен… и серебряные ложечки пересчитать…
Гости.
Гостей он тихо ненавидел с детства. За тесные костюмчики, в которые его засовывала нянька, за необходимость вести себя соответствующим образом, чтобы матушку не огорчить, за собственную неспособность к этому самому образу…
– Они меня заперли. – Нат сел на ковер. – Усыпили и заперли… в той комнате… альва выпустила. Представляешь? Мы думали, что там выхода нет, а он есть! В стене! Я запомнил, где именно, но не уверен, что получится… она как-то по-своему все сделала.
Нат потер кулаком подбородок.
– Я ее на чердак отправил… ну так, на всякий случай… а то пришли… натоптали… и Дайна их впустила. Дайна меня накачала, я точно знаю.
Не только его.
Дайна готовила тот треклятый чай, подавала, убирала… именно убирала… Райдо не обратил внимания, а меж тем из кабинета исчез и поднос, и чашки, и чайник… вот же… бабы…
– Может, – с надеждой произнес Нат, – мы ее все-таки уволим? Она все равно ничего не делает! Я и сам со всем справлюсь.
Райдо кивнул.
Уволит. Вот обернется и сразу уволит… если обернется. Тварь внутри очнулась и сейчас распускала тенета щупалец, пробуя это его огромное тело на прочность. С ним она провозится долго, а вот человеческое слабо… и его тварь разорвет за часы.
– Ниру увезли… она тоже спала… наверное, она проснется и подумает, что я подумаю, как будто это она меня усыпила. А я так не думаю. Она пахнет вкусно. И дома ей плохо. Давай мы ее заберем? У нас ведь много места…
Райдо вздохнул. Он очень сомневался, что после сегодняшней беседы семейство Арманди согласится подписать договор.
И Нат тоже понял и тоже вздохнул:
– А если украсть?
Бестолочь.
– Райдо… а ты так и будешь… ну, лежать?
Будет.
Настолько, насколько сил хватит. А у него не так чтобы много осталось. И конечно, детское это глупое поведение. Надо встать, обернуться, добраться до кровати или треклятого диванчика, который здесь вот, в двух шагах. Лечь. Хлебануть виски… или не хлебануть, а по старой привычке бутылки две принять, тогда, глядишь, и отпустит. А если нет, то и смерть во хмелю всяк веселей.
Но Райдо упрямится.
Матушку его упрямство огорчало. Она позволяла себе вздыхать и неодобрительно качала головой, а когда Райдо делал что-то вовсе уж неприемлемое, матушка мягко произносила:
– Ты меня разочаровываешь…
Почему-то сейчас Райдо услышал ее голос.
И запах учуял, нежный, зефирно-розовый. И испугался, что леди Сольвейг решила нанести неурочный визит, а потом сам рассмеялся от этакого предположения. Матушка, конечно, его любит и беспокоится, но ее беспокойство не то, чем можно оправдать столь вопиющее нарушение правил.
Он обернется.
Сейчас.
Вот только полежит еще немного, у него почти получается дышать, а слюна… это от зелья… знать бы, чем именно его накачали… но ведь наглость же…
– Я… – Нат поднялся. – Тогда оденусь, ладно? Я скоро приду и…
Райдо щелкнул хвостом.
Нат отсутствовал недолго. Впрочем, сейчас Райдо воспринимал время как-то странно, он был вовне его. Часы тикали. Тень ползла по полу, добралась до лапы и замерла, не решаясь коснуться чешуи. Было почти хорошо. Почти не больно. Почти получалось дышать.
– Райдо, – Нат сел рядом, – ты уже час почти… тебе нельзя… сил много уйдет и… и потом не останется.
Его правда.
Жила далеко. Но как вернуться, если там, в человеческом обличье, он не справится.
– Пожалуйста, – попросил Нат. – Я… я за тебя волнуюсь. Очень.
Как есть бестолочь, только… нельзя умирать.
Райдо ведь письмо младшенькому не написал. Нет, писал и постоянно, но не про Ната. Мальчишке податься некуда. Отец вернет его Сурьмяным, а те вряд ли забудут про побег… и Нат снова сбежит, только куда ему деваться?
На дороги. Прибьется уже не к отряду, к банде какой-нибудь… одичает… Нельзя.
Райдо обязан был позаботиться, а он… сам бестолочь… и альва опять же с малышкой… они вовсе чужие в новом мире… кажется сильной, но слабая… затравят.
Живое железо схлынуло.
Отлив, который сдирает шкуру и мясо и обгладывает Райдо до костей, сами эти кости меняя. И наверное, он закричал бы от боли, потому что эта боль не похожа на прежнюю, которая сопровождает любое превращение. Эта красная. Острая.
Перец… точно, братец как-то подсунул конфету с перцем… мерзкая вещь… правда, теперь горит не пасть, а все тело, но ничего.
– Пей. – Нат придерживает голову и льет в него воду, остается глотать, но и это слишком сложно, и вода стекает по щекам, по шее, по груди. – Отдыхать, да? Встанешь? Я помогу… давай же…
Встанет. Уже встает. На четвереньки… и дальше, наверное, не получится… но Райдо попробует. Ему надо до дивана добраться и вообще выжить.
Ради Ната.
И альвы тоже… если позвать… попросить… она поможет. Помогла ведь раньше, пусть и говорила, что ненавидит, но слова – пустое…
– Давай… и еще шаг… – Голос Ната предательски дрожал. И кажется, мальчишка вот-вот разревется от бессилия. А все из-за людей… и сам виноват Райдо, заигрался. Но диван близко, доползет, отлежится и будет как новенький…
Не дополз. Лег на пол, прижал ладони к вспухшему животу.
– Нат…
– Я сейчас… – Нат отступал к двери.
– Погоди… ты должен… в Город. – Тварь внутри расползалась, она пробиралась к коже, выпячивая ее пузырями. Шевелилась. Смотреть и то мерзко, а того и гляди кожу прорвет, выплеснет гноем, кровью. – Младшего моего брата… … найдешь… скажешь, что я послал… ты его знаешь… он позаботится…
Нат покачал головой и губы поджал. Упертый осел.
– Я… я скоро!
– Стой! – рявкнул Райдо и кашлем собственным едва не захлебнулся.
Мерзко.
И слабость эта… он ведь почти готов сдаться. Но надо Нату сказать, пусть альву с собой возьмет, ей нельзя в городке, нельзя в доме. А Кейрен и ее примет. В нем нет ненависти…
Райдо погладил тварь, уговаривая ее подождать еще немного.
Нат вернется. Он не оставит Райдо умирать одного, а значит, скоро появится. С вискарем. С опиумом. С чем-нибудь, что, по мнению Ната, способно облегчить страдания.
Нат привел альву.
Пес умирал.
И сам знал, что умирает.
Он уставился на Ийлэ кровянистыми глазами, беспомощный, жалкий даже… и, наверное, ей следовало бы радоваться, она ведь хотела, чтобы кто-то из них мучился, чтобы задыхался от боли, чтобы боялся. А он не боялся, но задыхался, потому и дышал через раз. На губах пузырилась слюна. И пес дернулся было, чтобы вытереть ее.
– Лежи. – Ийлэ вытащила из-под свитера отродье, которое сунула Нату. – Есть хочет. Покормишь.
Тот кивнул.
Кажется, он и вправду готов был сделать все, лишь бы его обожаемый хозяин прожил чуть дольше.
– Нож. Таз. Резать буду.
Она села рядом с псом.
Райдо.
– Райдо, – имя это соскользнуло с языка легко, – будет больно.
– Да уж… д-думаю…
– Больнее, чем сейчас.
Разрыв-цветок разворачивал сеть побегов, спеша опутать все тело. Он помнил, что это тело некогда почти принадлежало ему, а потом он уснул. Проснулся. И убаюкать вновь не выйдет, разве что…
– Опиум нельзя, – предупредила Ийлэ.
Она осторожно коснулась тугих семянок, которые натянули кожу. Поверхность их, пока плотная, изменялась, прорастая толстыми иглами. Вот-вот треснут.
– А виски? – Пес морщился, но терпел.
Если бы он кричал от боли, катался по полу, умолял… наверное, его не было бы жаль. Его и сейчас не жаль.
Ийлэ не о нем собирается позаботиться, но о себе с дочерью.
– Виски… можно, пожалуй, – согласилась Ийлэ.
Разрыв-цветок отозвался, он был голоден и испуган, обожжен живым железом и теперь норовил не столько зарастить раны, сколько выплеснуть в кровоток пуховые легкие семена.
– Ты чудо… – Райдо попытался улыбнуться, но закашлялся.
…если бы тот, другой, вот так же выплевывал горлом легкие, Ийлэ порадовалась бы. Она бы взяла стул и подвинула его поближе, как делал он сам. И села бы. Она бы вспомнила про осанку и про то, что юной леди пристала сдержанность.
Она бы не смеялась, нет. Улыбалась.
Сдержанно. И быть может, подала бы платочек, чтобы он вытер кровавые сопли… хотя, конечно, и тогда к нему не следовало бы приближаться. Ублюдок.
Райдо… Райдо глотал виски, которое не помогало, но и не мешало. Райдо дышал сипло, но дышал, и значит, шансы имелись, если Нат поспешит.
Он появился с тазом и полудюжиной ножей, которые высыпал на ковер.
– Дальше?
– Я сама. Выйди.
Он медлил.
Не верит? Конечно, Ийлэ сама бы не поверила…
– Мне не нужно его убивать, – она перебирала ножи, подыскивая тот, который придется по руке, – он сам умрет.
Нат это понимал, и все-таки.
– Иди. – Ийлэ подняла на него взгляд. – Здесь будет много грязи.
– Я привычный.
– Нат! – Райдо это имя стоило очередного приступа кашля, который подействовал на Ната сильнее, чем окрик.
Ушел.
Таз остался. Ножи. И кажется, Ийлэ нашла подходящий, с клинком узким, синевато-серой масти. Кромка выглядела острой, и не важно, что боль от разреза будет мелочью по сравнению с тем, что он чувствует сейчас, Райдо выдержит, но…
…его терпение не безгранично.
И силы пригодятся.
– Ийлэ…
– Лежи.
Он не пытался встать, перевернулся на спину.
– У тебя имя красивое… Ий-лэ… как вода… имя-вода.
– Молчи.
Замолчал. Смотрит сквозь ресницы, и взгляд такой смиренный, что тошно становится, правда понятно, что смирение это показное, но все равно тошно.
Почему он, а не тот, другой, за мучениями которого Ийлэ наблюдала бы с преогромным удовольствием?
– Эти шары нужно вырезать… а потом остальным займемся, ладно?
Райдо прикрыл глаза, и, наверное, это можно было считать согласием, которое Ийлэ не требовалось, но, странное дело, стало легче.
– У них колючки пошли, поэтому придется кожу срезать…
Полукруг.
И клинок направлять легко, несмотря на странную слабость в руках, будто бы ей не все равно, что с Райдо. Ему если и больно, то терпит. По надрезу проступает кровь, темно-бурая, с кусками чего-то белого, верно, гноя. Ийлэ поддевает кожу, срывает лоскут, а с ним и тугую головку семенной капсулы, которая к этой коже приклеилась намертво. Капсулы падают в таз.
Первая… вторая… и пятая тоже… разрыв-цветок спешит выставить новые, но сила Ийлэ мешает ему. Он, разодранный и сожженный, тянет эту силу. Глоток за глотком.
Пускай.
Сила – это сон… сон заглушает боль, и разрыв-цветок погружается в вязкую дремоту.
…шесть и семь…
Последние капсулы плотные, мелкие, величиной с горошину, но выбрать придется все. Райдо лежит смирно, только шкура вздрагивает при прикосновении ножа.
– Уже недолго осталось. – Ийлэ проводит языком по пересохшим губам. – Потерпи.
Терпит. И только вздыхает.
А раны затягиваются озерцами живого железа. И это хорошо, только рано…
– Теперь самое сложное. – Ийлэ вытирает нож о рукав. – Я попытаюсь вытащить и часть побегов… захочешь кричать – кричи… и лучше, если бы в обморок…
Кивка не дождалась.
Вскрывала вены, и кровь в них была непривычно серебристой, тяжелой, точно ртуть, она не падала – сыпалась в таз, скатываясь на дне его крупными каплями, которые не сразу теряли форму.
Сонный разрыв-цветок долго не отзывался, но Ийлэ не отпускала, она тянула его на тонких нитях силы, звала…
…и кровь сменила цвет.
Зеленая.
Это ненормально, когда кровь зеленая и пахнет травой. Она сделалась густой, норовя запечатать разрезы, и Ийлэ приходилось подновлять их.
Первый из побегов поднялся к коже, прорисовался толстою змеей, за которой потянулись иные. И Райдо попытался оттолкнуть руку, заскулил.
Привязать надо было. И еще не поздно. Нат наверняка рядом, если окликнуть – отзовется.
– Нет, – Райдо выдохнул. – Я… справлюсь. Дальше давай.
Ийлэ ему поверила: этот и вправду справится.
Она поднесла к разрезу ладонь, и тонкое, осклизлое щупальце побега ласково коснулось пальцев. А ведь и это своего рода предательство. Разрыв-цветок хочет жить, и прав на жизнь у него не меньше, чем у Райдо. Побег доверчиво льнул, обвивая пальцы.
– Я найду тебе место, – пообещала Ийлэ. – Хорошее. С солнцем. Сейчас зима, но весной здесь много солнца…
Она тянула эти нити, пока руки не оказались опутаны ими.
Разрыв-цветок расползался, оплетая запястья, карабкаясь к локтям, норовя забраться под толстый свитер. Ему было холодно, и Ийлэ делилась что теплом, что силой.
– Вот и все. – Она огляделась.
Таз с кровью, побуревшей, свернувшейся. Черные семенные коробочки, которые начинали трескаться, но вяло, и по бурой луже расползалась желтоватая жижа недозревших семян. Пол. Ковер, испорченный окончательно.
Ножи.
Райдо.
Он слабо, но дышал, и раны на спине заросли, и на руках серебрился металл, а значит, тоже затянутся. И пусть Ийлэ не вычистила до конца, она слышала осколки живого, чуждого внутри огромного тела пса, но время будет.
До весны он точно дотянет, а там… ей надо подумать.
– Очень хорошо подумать, – сказала она, вытряхнув разрыв-цветок в таз. Тот свернулся плотным комом, ощетинился шипами.
Таз Ийлэ поставила на подоконник: разрыв-цветку, как и любому растению, свет нужен. Жаль, что зима, весной можно было бы в сад перенести… или в лес…
– Спи, – сказала она, касаясь шара.
Уснет.
В отличие от пса.
– Я… не до конца вытащила… – Ийлэ не знала, что еще ему сказать, и надо ли вообще что-то говорить. Она села рядом.
Руки дрожали. Колени тоже дрожали. И холодно было, она и не предполагала, насколько замерзла. А ведь камин горит, и… этот холод от сил, которые ушли, как вода в песок. Голова вот кружится, мысли путаются.
Кажется, она сейчас в обморок упадет.
– Все не смогла… – Она положила обе ладони на Райдо, шкура которого показалась ей раскаленной. И не будь он псом, Ийлэ прижалась бы… прижалась бы, обняла бы и лежала, пока проклятый холод не отступит. Она уже, оказывается, забыла, каково это – замерзать.
Напомнили.
– Остались обрывки… они прорастут, но позже… до весны… весной будет гроза и я поймаю молнию… – Губы и те плохо слушались, Ийлэ замолчала.
Все-таки легла на грязный пол, понимая, что встать и добраться до дивана у нее сил не хватит. Да и толку от того дивана… Райдо горячий.
Восхитительно горячий.
И она полежит минуточку, дух переводя, все равно ведь в комнате нет никого… не увидят… не подумают… Ийлэ не успела понять, что именно не подумают, она не собиралась закрывать глаза, но веки сами отяжелели…
– Ийлэ, как вода, – произнес кто-то далеко-далеко.
Ийлэ согласилась.
Как вода… в воде есть сила… и в земле… и в травах… травы разные, но все хотят жить. Наверное, это нормально, что все в этом странном мире хотят жить.
Ийлэ не исключение.
Глава 17
Сумрак.
Тишина. Тепло.
Одеяло пуховое, тяжелое.
И боль.
Боль была всегда. К ней Райдо, если разобраться, привык, разобрал на сотни оттенков, на тысячи нюансов. Он складывал их причудливой мозаикой, получая от этого странное извращенное удовольствие.
Картина за картиной.
Перевал. Оплавленное жерло старой дороги.
И дороги иные, опустевшие по войне. На них порой попадались обозы с крестьянами ли, с горожанами ли, которые бежали, сами не зная куда; но в безумной надежде, что где-то там, за горизонтом, нет войны.
Обозы грабили. И ладно, когда брали только добро, а ведь случалось что…
…Райдо помнил.
Дождь. Серый. Мелкий. И не дождь даже, но водяная взвесь, которой приходилось дышать. Влажная рубашка, прилипшая к телу, влажная куртка, влажные штаны и сапоги, готовые вот-вот расклеиться. Влажная сизая трава и дорога, которую развезло.
Грязь под ногами чавкает, вздыхает.
Вонь.
Далекие дымы и близкие могильники, впрочем, могильник – это слишком громко сказано, здесь тела удосужились оттащить к обочине, хотя частенько бросали прямо там, на дороге.
Близкий лес прислал эмиссаров-лисиц, которые пытались отпугнуть обнаглевшее воронье. И птицы поднимались с гортанными криками, тяжело, точно крылья не в состоянии были выдержать вес их раздувшихся тел. Вороны отлетали и возвращались. Гнали лисиц.
И тогда Райдо, кажется, подумал, что война – это естественное состояние мира.
Тогда он велел тела закопать. Приказом были недовольны. Нет, никто вслух возмутиться не посмел, но и без слов понятно.
Хоронить?
Людей?
Своих не всегда вытащить получалось, а это…
…пара семей… трое мужчин, женщины… дети… с детьми тяжелее всего было, и Райдо сам укладывал их в могилу, не способный отделаться от чувства вины.
Не он убивал, но…
…зачем они здесь, за Перевалом? Чего ради?
Боль спугнула воспоминание и о сырой могиле, которую лисицы разроют всенепременно, а если не справятся они, то волки подойдут…
…и снова духота.
Лето. Солнце жарит. Желтая трава, сухая, ложится на серую землю. И редкие порывы ветра поднимают мелкую пыль, которая забивается в глотку, в нос, лишая нюха. Райдо чувствует эту пыль сквозь чешую, сквозь толстую шкуру иного облика. И готов душу продать за то, чтобы помыться.
Речушка есть, близко, в низине, манит запахом воды, синим зеркалом ее, близостью обманчивой, легкостью… чего проще – окунуться.
Но там, на илистом топком дне свернулись плети водяных ловушек.
Первую жертву они уже получили.
Терпеть.
И близость реки видится утонченной пыткой… колодцы отравлены… а своя вода, которая чистая, ее не так много, и надо ждать.
Там, в городе, есть запасы…
И жажда гонит в атаку…
…иссушенный пригород, мертвые деревья, которые вдруг оживают. И на перекрученных черных ветвях распускаются знакомые шары. Они лопаются беззвучно, расстреливая острые иглы вызревших семян.
И кто-то кричит…
…они застревают в этом треклятом пригороде, полном ловушек.
Сторожевые деревья. И плывунцы, которые раскрываются под ногами, хотя земля еще недавно была твердой, надежной… ловчие плети… водяные кони…
И ярость, которая растет день ото дня.
Прорыв.
И древнее кольцо городских стен, за которым прячутся люди… альвов там было немного, альвы всегда успевали уходить. А вот людям досталось.
Стаи не удерживали.
Снова боль… кажется, тогда и Райдо охотился… плохо помнит… много крови, слишком много крови. И он вот-вот в ней утонет.
Справедливо?
Он ни хренища о справедливости не знает, знает лишь, что больно ему… вот только боль иная.
– Райдо? – Голос Ната пробивается сквозь призраки воспоминаний, распугивая их. Впрочем, эти если и отступят, то ненадолго. Райдо принадлежит им, а они принадлежат Райдо. – Выпей.
Вода. Треклятая вода… сладкая и холодная… ледяная… ледышки хрустят на губах.
Нат молодец… сумел добыть… бестолковый только… приказ райгрэ нарушил… сбежал… герой-мститель…
…Иллэшем…
…городишко, который сдался сам, прислал парламентеров, среди которых особенно выделялся мэр. Старый седой человек с больною спиной, которую он мазал анисовой мазью, и запах этот намертво к нему привязался. Мэр говорил тихо и был печален. Ему не хотелось войны. И смерти не хотелось.
Он не требовал, он просил о том, чтобы в городе был порядок и…
…и, подписав договор о капитуляции, вернулся к себе, чтобы принять яд. Он остался верен своей королеве…
…а Нат назвал его придурком. Зачем умирать?
А и вправду, зачем?
Боль же отступила… и с нею Райдо справится, как справлялся не единожды. Боль, если разобраться, пустяк… надо глаза открыть.
– Райдо…
Снова Нат. Упертый мальчишка. Привязался… как появился? Райдо не помнит… многое помнит, о чем рад был бы забыть, а это – нет…
Пришел.
Точно.
Незадолго до Иллэшема пришел… соврал, что ему есть шестнадцать, а потом уже выяснилась правда, и он опять бежать решил, только Райдо не привык, чтобы от него бегали.
Мститель несчастный. Хочу убить всех альвов…
Почти сбылось, они не мертвы, конечно, они ушли из мира, а это – мало лучше смерти…
– Я суп сварил. – Нат рядом, Райдо слышит его запах… и еще что-то… – Тебе надо поесть.
Супы у него всегда дерьмовыми получались, этот не исключение, и Райдо попытался было отказаться от этакого обеда… или ужина? И вообще, который час? И день какой?
Он хотел спросить, сумел даже рот открыть, и Нат воспользовался ситуацией.
Суп был мало того что мерзким, так еще и горячим.
– Т-ты… – Райдо пришлось проглотить, хотя, кажется, если бы было чем блевать, его бы вывернуло. – Уг… угр… угробить захотел?
Говорить получалось с трудом, но все-таки получалось.
– Райдо! – голос Ната сорвался. – Ты живой!
Живой. Кажется.
– Живой… конечно… она говорила, что ты много сил потратил… и она тоже… а Дайна уйти хотела, но я ее запер… и еще шериф приезжал дважды… и доктор, но я доктора к тебе не пустил… я ему не верю… они все ждали, что ты теперь точно…
– Не дождутся.
Он сумел-таки открыть глаза.
Плывет все. Нет, это поначалу только плывет, глаза вот слезятся, а как Райдо проморгается… когда-нибудь да проморгается… вот уже и лучше стало. Видна стена, потолок…
– От дерьмо…
Голова кружилась. И спину жгло… но боль – это ерунда.
– Что тут…
– Было? – Нат попытался сунуть еще одну ложку супа, но Райдо отвернулся.
Силы возвращались.
– Тебе надо поесть.
– Ты сам… пробовал?
– Мне зачем? – неискренне удивился Нат. – Я здоров. А овощные супы – для больных…
– Тогда прошу считать меня здоровым. Что было?
– Ты… совсем ничего не помнишь?
– Помню. Мирра. Шериф. Я обернулся… потом назад… Ийлэ еще была.
Нат кивнул и, наклонившись, понюхал собственный суп, пробовать, однако, воздержался. Порой мальчишка поражал Райдо своим благоразумием. Впрочем, это дерьмо можно есть, только если подыхаешь от голода. Райдо еще не дошел до такого.
– Она из тебя вытянула… ну, эту штуку. Она ее посадить собирается! – Нат произнес это с немалым возмущением. – Сказала, что весной в сад… и вообще, она тоже жить хочет… то есть оно… оно теперь в доме…
– Охренеть.
– Она его поливать велела! Я говорил, чтобы выкинула… а она…
Нат насупился, но надолго его не хватило:
– Она сказала, что тебе надо спать, что во сне раны затягиваются легче. А они долго не затягивались. Обычно же раз, и все, а ты… и я вот… я уже начал бояться, что ты совсем…
– Сколько?
Райдо сумел поднять руки, на запястьях виднелись широкие рубцы, из новых, но затянувшиеся крепко. Ткань побелела и кое-где разглаживаться начала.
– Три недели.
– Три недели? – Он удивился.
И тому, что был жив эти три недели, он прекрасно помнил, что собрался уже вернуться к исконной жиле, и тому, что ничего о них не помнит.
– Поешь… – Нат постучал ложкой по краю миски. – Тебе надо…
– Не настолько, – ответил Райдо, вспомнив мерзопакостный вкус варева. – Что ты туда сунул?
– Морковку. Лук. Сельдерей. Шпинат…
– Ненавижу шпинат.
– Он полезный. – Нат насупился и, зачерпнув ложку супа, который отчего-то был густым и цвет имел болотно-зеленый, с вкраплениями бурого, смело ее проглотил. Почти и не поморщился.
– Молодец, – похвалил Райдо.
И сесть попытался.
– Нельзя!
– Нат…
– Да?
– Я понимаю, что ты обо мне заботу проявляешь. – С каждой секундой становилось легче. И боль треклятая отползла, с нею это случалось и раньше, но ныне она вовсе почти утихла, что было непривычно. – Но края надо видеть. Я не…
– Ты три недели пролежал пластом! – Нат не собирался сдаваться. Он отставил миску с тем, что называл супом, хотя эти помои следовало бы отправить в помойное ведро. – Три недели! И спал… как будто мертвый… все и решили, что ты теперь точно помрешь! Поэтому и не трогали. Я ждал, когда осмелятся… поймут, что ты не собираешься умирать, и тогда… дом закрыл… и уйти никак… а кухарка больше не появляется, только Дайна… она сбежать пыталась, а я остановил… запер… злится очень.
– Нат…
– Да? – Он замолчал и отвернулся. – Я за тебя боялся… знаешь, как боялся?
– Знаю. Хотя я вообще думал, что ты у нас бесстрашный.
Нат не улыбнулся.
Понял ли шутку? Или же та война, которая его искорежила, напрочь лишила его самой этой способности – улыбаться?
– Прости. – Райдо оставил мысль выбраться из постели. Во всяком случае, сегодня.
Три недели пролежал, так день еще потерпит, тем более он и вправду не уверен, что способен встать.
– Все нормально… шериф хотел людей оставить, вроде как в помощь, но я их…
– Не пустил.
– Да. Я окна ставнями закрыл. И двери запер. И вообще… как ты учил.
– Молодец.
Кивнул, соглашаясь: Нат никогда не жаловался на недостаток уверенности в себе. И теперь похвалу принял как должное.
– Скажу Ийлэ, что ты… ну в общем…
– Как она?
Нат почесал ложкой переносицу, честно признавшись:
– Не очень… почти все время спит… а я один… с ребенком этим еще! А козу в дом взял, чтоб выходить пореже… она в красной гостиной.
– Чудесно.
Райдо представил себе козу в гостиной… красной… это та, с шелковыми стенами, панелями из вишни и вычурной низкой мебелью, которую матушка переслала. Райдо надеялся, что коза в полной мере оценит удобство этой самой мебели.
– Малышка?
– Спит. Ну, или ест. Как когда. Еще ей нравится, когда на руках носят. – Нат вздохнул. – Выздоравливай уже, а то я с детьми не умею.
– Справишься… Нат.
– Да?
– Принеси чего пожрать… только нормального, не твоей готовки.
Нат задумался, причем думал долго, с минуту.
– А другого нет, – наконец вынужден был признать он. – Если только вяленое мясо. И сыр еще. Колбаса. У нас много колбасы.
Теперь уж думать пришлось Райдо. Жрать хотелось неимоверно, и с каждой секундой все сильней.
– Давай мясо. И сыр свой.
– Не мой. Козий.
– Пускай козий.
– А ты лежать будешь?
– Буду. – Райдо вытянулся и руки на груди сложил, надеясь, что вид его в достаточной мере преисполнен смирения, чтобы Нат поверил.
Тот лишь головой покачал.
Ушел.
Вернулся, показалось, как-то быстро, а может, Райдо вновь заснул: его тянуло в сон с неимоверной силой. И наверное, зря он пытался этой тяге сопротивляться. Во сне восстанавливаться легче.
– Нат…
– Я здесь.
– Знаю, что здесь… я завтра встану. Или сегодня. Если кто припрется – буди… – Райдо зевнул широко. – Или не буди, а посылай всех на хрен… и это…
– Да?
– Сам отдохни.
– Я потом.
– Отдохни, я сказал… спорить он будет… воли многовато взял, бестолочь малолетняя…
Не бестолочь, это Райдо – бестолочь, если допустил, что Нат оказался наедине с этим гребаным миром. Нат, мальчишка… три недели… и правильно сказал, люди ждали, что Райдо издохнет. И ожидания почти оправдались. Главное, лезть в дом не рискнули… и верно, к чему спешить, рискуя что шкурой, что шеей, ведь и в разбое обвинить могут. А так выждать день-другой… третий… неделю… главное, терпения набраться…
Без насилия.
Думать в полудреме легко. И Райдо пользуется этой легкостью, пытаясь представить, что было бы, если бы он умер.
Нату пришлось бы покинуть усадьбу, хотя бы затем, чтобы оптограмму сородичам отбить… значит, в город… в городе оптограф лишь в мэрии имеется… задержали бы?
Задержали.
День или два.
Три… под предлогом разбирательства… или поломки… единственный оптограф сломать проще простого. Конечно, извинились бы, предоставили бы экипаж, чтобы тело перевезти… или лошадей, если Нат спешит в соседний городок, там тоже имеется оптограф. Путь занял бы несколько дней.
За несколько дней многое можно успеть.
Райдо хмыкнул, представляя, до чего все удивятся…
И разозлятся.
Ничто так не бесит людей, как сломанные планы. И значит, еще несколько дней придется побыть умирающим…
С этой мыслью Райдо позволил себе окончательно провалиться в сон. И в кои-то веки сон был спокоен, лишен как боли, так и воспоминаний.
В таком сне легко поверить, что когда-нибудь он и вправду выздоровеет.
– Он очнулся. – Нат принес дрова. Он приходил всегда в одно и то же время, не здоровался, ничего вообще не говорил, но садился у камина и подкармливал затухающее пламя.
Ийлэ выползала из-под одеяла.
Иногда у нее оставалось достаточно сил, чтобы выбраться из постели. Она никогда прежде не была настолько слаба, и эта слабость, и собственная оглушающая беспомощность пугали. Нет, Ийлэ знала, что Нат не причинит ей вреда, но страх оставался.
Заставлял притворяться.
Садиться за стол.
Глотать безвкусное варево, которое Нат выдавал за еду. Где он ее брал, Ийлэ не знала, да и не спрашивала. Она съедала все, а потом возвращалась в постель, ложилась, закрывала глаза и просто лежала, раздумывая обо всем и сразу.
Если Райдо поправится…
Он поправится, конечно, не окончательно…
Раны затянутся, и те, что снаружи, и те, которые внутри…
И до весны хватит. До весны осталось не так уж и много… и, конечно, сразу уходить не обязательно…
…вовсе не обязательно.
…имя придумать надо… без имени никак… Ийлэ не может называть ее так, как прежде…
Нат приносил малышку, но оставлять не оставлял, точно опасался, что Ийлэ с ней не справится. И прав был, у нее не хватило бы сил на то, чтобы поднять ее. Обманчиво хрупкое детское тело оказалось на поверку невероятно тяжелым, Ийлэ попробовала его удержать, но все равно уронила, хорошо, что на кровать, та мягкая.
– Я ее кормлю. – Нат говорил это каждый день, и Ийлэ кивала.
Кормит.
И держит очень осторожно, со страхом, потому что в его руках малышка выглядит крохотной. Она изменилась, и дело не в том, что больше не умирает. Изменилось лицо. Серьезное. И хмурое. Серые глаза смотрят пристально. Видит она? Видит. И понимает. И наверное, у нее надо попросить прощения, но Ийлэ не знает как.
Ей не хочется разговаривать.
И она просто лежит, гладит розовые ладошки, трогает крохотные пальцы.
– Тебе здесь нравится? – спросила она однажды, и, хотя малышка не могла ответить, Ийлэ поняла: нравится.
В этом доме тепло. И есть молоко от козы, которую Нат забрал в дом, потому что сам этот дом он попытался превратить в крепость. Окна ставнями закрыл. Запер двери.
Он об этом отчитывался, хотя Ийлэ и не спрашивала.
Наверное, ему было сложно одному в таком огромном доме, Ийлэ помогла бы, но… но она замерзала. И спать хотела. И спала почти все время, порой засыпая вот так, обняв малышку, а просыпаясь в одиночестве…
…сколько дней прошло?
– Райдо очнулся, – повторил Нат. – Теперь все будет хорошо.
– Да. Наверное.
– Не наверное, но точно будет. Райдо сделает так, чтобы безопасно… и вообще… и хочешь к нему сходить? Ну, потом, когда совсем проснется?
– Нет.
– Я помогу тебе. Ты вообще легкая…
Он помогал и раньше.
Нет, Ийлэ не просила о помощи, но пользоваться ночным горшком было стыдно, и она пыталась добраться до ванной комнаты, но у самой не получалось.
А Нат…
…у нее мог бы быть брат.
…почему не было?
…и хорошо, что не было, потому что брата убили бы, как убили папу и маму. А Нат – он из псов, и этого не изменить, но под одеялом легко представить, будто бы…
…странные у нее в последнее время мечты. Извращенные даже.
Но Райдо она и вправду видеть не хочет. И вообще ничего не хочет, только спать… забраться под одеяло и лежать, до самой до весны.
Ийлэ закрыла глаза.
В ее снах возвращалось прошлое, не то, которое она готова была бы выкинуть из памяти, иное…
…мама…
…и мраморная гостиная, в которой из мрамора – лишь панели с горельефами, лоза и тернии, тернии и лоза… белый паркет… белые стены… гардины в широкую серебряную полоску… и обивка мебели тоже белая, с серебром…
Мамино платье оттенка фисташки.
…лист бумаги в руках…
…рука дрожит, и лист в ней тоже. Письмо? Письма приходили не так уж часто…
– Мама, что-то случилось? – Ийлэ ни разу не видела, чтобы мама плакала. И она, словно стесняясь этих своих слез, несколько поспешно смахнула их.
– Ничего, дорогая. – Рассеянная улыбка, которая фальшива, и мама сама понимает это.
– Это из-за письма, да? Оно тебя расстроило?
Мама кивает. И слезы катятся по щекам. Она уже не пытается их скрыть, а Ийлэ делает единственное, на что способна: обнимает ее, гладит по спине, убеждая:
– Все будет хорошо.
– Конечно, дорогая… – дрожащий голос. – Твой дядя… написал… мама… твоя бабушка… умерла…
Странно.
Комната, залитая светом, такая белая и чистая, звонкая, прозрачная даже… запах сирени… и бабушка умерла… бабушку Ийлэ никогда не видела, но знает, что та есть.
Была.
– Все… все хорошо… – Мама судорожно выдохнула. – Это… это просто нервы…
…то письмо, куда оно подевалось?
И почему мама не надела траур? Почему вовсе сделала вид, что не было письма? Притворялась, а папа верил притворству… разве не должны были они отправиться на похороны?
А дядя, тот, о котором мама упомянула. Ийлэ никогда не видела его, никого из родственников матери, как и из родичей отца, будто бы их вовсе не было, этих родичей.
Почему?
Вопросы… папа точно знал… и мама… а ей не сказали. И теперь Ийлэ остается гадать. Впрочем, в ее сне можно и гадать. А можно вспомнить.
Например, зиму. И каток, который каждый год устраивали на городской площади. Заборчик. Красные ленты. И торговые палатки, где продавали что горячий шоколад, что булочки, что печеные яблоки, которые заворачивали в хрустящую бумагу. Горячие вафли с кленовым сиропом и сахарные рожки…
Папа плохо держится на коньках, а потому на лед выходит редко. Он стоит, опираясь на ограду, наблюдает за мамой с улыбкой… она красива.
Кружится. Так легко кружится… Ийлэ рядом с мамой чувствует себя отвратительно неуклюжей.
– Ийлэ, ты слишком серьезна. – Мама раскраснелась, и румянец ей к лицу. Ей все к лицу, и само это лицо тонкое, одухотворенное…
…отец вырезал бюст из мрамора… небольшая статуэтка, с ладонь всего…
…и еще была камея из слоновой кости…
…и та миниатюра в медальоне с секретом…
Он любил ее. А Ийлэ любила их обоих. И во сне она позволяет себе оттолкнуться от бортика. Она едет, вытянув руки, желая одного – успеть, пока мама не исчезнет…
Коснуться.
Обнять.
Сказать, как ей тяжело… или нет, нельзя ее огорчать… лучше сказать другое, что Ийлэ очень по ним скучает, что помнит и будет помнить всегда, что…
– Я тебя так люблю, мамочка. – Ийлэ обняла ее, зарываясь лицом в длинный мех полушубка.
– И я тебя…
– Я… я скучаю…
– Ничего… боль пройдет…
– Откуда ты знаешь?
– Знаю. – Мама вытирает слезы Ийлэ, которых быть не должно, Ийлэ ведь не хотела ее огорчать и отца. Он вдруг оказался рядом, обнял и ее, и маму. – Боль всегда проходит… со временем…
От отца пахнет свежей землей. Дождем.
Неправильный тревожащий запах, и Ийлэ хватает его за руки.
– Папа, не уходи… пожалуйста, не уходи…
– Прости. – Он касается виска холодными губами. – Ийлэ, послушай…
– Не уходи…
Она только и может, что повторять это, она хочет остаться во сне навсегда, и ей плевать, что сон – это лишь сон. И каток опустел, он вовсе выглядит ненастоящим, театральной декорацией…
– Тише, девочка моя. – Отец проводит ладонью по щеке, оставляя на ней земляной след. – Все будет хорошо. Ты сильная, ты справишься.
– Я не хочу…
– Ийлэ, послушай, пожалуйста… дом живой… ты ведь помнишь, что он живой?
– Конечно.
– Не дай ему умереть…
Он все-таки ушел.
А потом и мама, она до последнего смотрела, улыбалась виноватой улыбкой, точно просила у Ийлэ прощения… но за что?
– Пожалуйста, – Ийлэ произнесла это одними губами.
Не помогло…
Сон оставил горький привкус соли на языке. И все-таки она плакала, во сне, но плакала. От слез не становится легче, это ложь… и вообще, Ийлэ разучилась плакать, ей так думалось. А выходит, что нет. И она терла, терла глаза, пока не растерла докрасна… стало только хуже.
Дом живой?
Живой.
Только лучше бы выжили они, а не дом…
Пол холодный. И холод этот забрал остатки сна. Замечательно. Ийлэ такие сны ни к чему. Она сильная? Справится? Справляется.
И она даже знает, что делать. Ну, помимо того что просто с кровати встать. Хотя и это уже достижение. Добраться до ванной комнаты. Пять шагов, опираясь на обледеневший подоконник. Нат еще не появлялся; и хорошо, ей не хотелось бы, чтобы Нат видел ее заплаканной. Он не будет смеяться. И спрашивать, в чем дело, не станет. Посмотрит с жалостью, но Ийлэ не готова принять от него жалость.
С каждым шагом становилось легче. Слабость отступала. Голова немного кружилась, но… сколько Ийлэ провела в постели? Неделю? Две? В ванной комнате Ийлэ потрогала ногой ледяной пол. Окно и вовсе льдом затянуло.
Холодная вода вернула былую ясность мышления, во всяком случае, Ийлэ на это очень надеялась. Она склонилась к крану и хватала воду губами, пытаясь утолить жажду. Пила долго, пока вода не подступила к горлу.
Умыться. Переодеться… не во что. Рубашка на Ийлэ потом пропиталась, и вообще несвежая. В шкафу должна быть сменная. Сейчас Ийлэ отдохнет и доберется до шкафа. Пусть маленькая, но цель.
В комнате был Нат. Он уже скормил камину очередную порцию дров и теперь просто сидел, баюкая малышку.
– Ты встала, – отметил он очевидное. – Это хорошо… Райдо тоже встал, и еще вчера. Нат вздохнул и признался: – Замаялся я с вами…
– Извини.
Это было неискреннее извинение, поскольку виноватой себя Ийлэ не ощущала.
– Ничего. – Нат склонил голову. – Вы же встали… ты тут есть будешь… или с ним? Он о тебе беспокоится.
Мило со стороны Райдо, но… почему бы и нет? Ийлэ нужно поговорить с ним и желательно поскорее.
Альва выглядела отвратительно.
Райдо подозревал, что и сам на покойника похож, но она… бледная до полупрозрачности, с острыми скулами, с глазами запавшими, под которыми залегли глубокие тени.
Стоит, шатается. Смотрит искоса, так и не смея заглянуть в глаза же.
– Садись. – Райдо указал на кресло. – Нат, принеси подушек, а то же свалится… и это, если тебе плохо…
– Хорошо.
Упрямая.
И в кресло забирается, подушечки, которых Нат притащил с полдюжины, под локти рассовывает. Ерзает. Смотрит исподлобья, с неодобрением.
– И сам садись. Нат готовил, у него, конечно, достоинств множество, но готовка в их число не входит, поэтому ешь осторожно.
Нат хмыкнул и потянулся к вяленому мясу.
Шлепнув его по пальцам, Райдо велел:
– Вилку возьми… совсем тут без меня одичал. И нож… вот так, вилкой и ножом…
– …роем мы могилу себе, – мрачно завершил фразу Нат.
– Я хотел сказать, что пользуются воспитанные люди…
– Я нелюдь.
– И нелюди тоже. Будь воспитанной нелюдью.
Нат на это ничего не ответил, но остаток обеда он провел, вооружившись ножом и вилкой, причем резал на маленькие кусочки даже серый влажный хлеб, который и жевался-то с трудом.
Приличная нелюдь, это точно.
Альва ела мало, каждый кусок разжевывая тщательно. Молчала. Если смотрела, то не на Райдо, а в тарелку. А когда Райдо поднялся, тарелку отодвинула и тихо произнесла:
– Мне надо с тобой поговорить. Наедине.
Нат пожал плечами: мол, не больно-то и хотелось, и вообще у него ныне дел невпроворот…
– Прошу. – Райдо открыл дверь кабинета и отступил, пропуская альву. – Располагайся, и… как ты себя чувствуешь?
– Нормально.
– А выглядишь погано.
Как ни странно, но она ответила прямым взглядом, губы дрогнули, точно альва хотела улыбнуться, но в последний миг спохватилась.
– На себя посмотри, – сказала она тихо.
– Смотрел. Я тоже выгляжу погано. Парочка оживших мертвецов.
– Мертвецы не оживают. – Это альва произнесла уже без тени улыбки. – К сожалению. И к счастью.
Райдо кивнул: ее правда. К сожалению. И к счастью.
– И все-таки сядь куда-нибудь. Мне так спокойней будет, а то мало ли… в обморок там… я ж и поднять не смогу.
Она села в кресло. Спина прямая. Руки на коленях. Взгляд… взгляд странный, растерянный и… с надеждой?
Молчание.
Что бы она ни собиралась сказать, ей следовало помочь.
– Спасибо. – Райдо занял место за столом, с немалым облегчением вытянулся в кресле, которое оказалось сейчас еще более удобным, чем ему помнилось. – Похоже, без тебя я бы… издох.
– Да.
Отрицать очевидное альва не собиралась.
Ийлэ. Имя-вода, вот только зима на дворе, а зимой вода замерзает, превращаясь в хрупкий белый лед, который кажется прочным, но это – иллюзия. Ударь, и разлетится на осколки.
– Я… – Она стиснула кулачки. – Я рада, что ты понимаешь… я помогла тебе и… – Альва сделала глубокий вдох, а потом выпалила: – Я хочу предложить тебе сделку.
Райдо приподнял бровь.
– Я… убрала почти все, и этого хватит до весны, но осколки прорастут.
– Это я понимаю.
– Хорошо. – Она потерла переносицу. – Весной леса проснутся… гроза… я попытаюсь поймать молнию. Тогда появятся силы, и я могу сделать тебя здоровым. Точнее, я могу вытащить все осколки, прорастут они или нет. А то, что не вытащу, сожгу. И тогда, полагаю, ты поправишься.
Райдо осторожно кивнул.
Поправится? Это будет сродни чуду, а он не верит в чудеса. Он никогда не верил в чудеса… но…
Альва. У нее ведь получалось унять эту пакость.
Альвы ее создали…
И если на секунду позволить себе…
Ийлэ ждет, глядя прямо, не с вызовом, но… пальцы впились в подлокотники, добела, до боли. И ей страшно. Чего она боится? Того, что Райдо ответит отказом? Какой безумец откажется жить?
– Что ты хочешь получить взамен?
У него есть усадьба… и проклятье, есть род, а род богат… отец не откажет…
– Твою защиту, – Ийлэ все-таки выдохнула, – для меня. И для дочери. Нет. Не перебивай. Мне… мне сложно говорить с тобой. Ты пес и…
– И ты бы хотела, чтобы я умер?
– Да. И нет. Уже не знаю… если бы кто-то из тех… то да, несомненно… особенно… не важно. – Она отмахнулась от той своей памяти. – Без тебя мне не выжить. И не только мне. За себя не боюсь. Я хочу жить, но если придется умереть, то не страшно. Все рано или поздно возвращаются к корням родовых деревьев…
– А у нас говорят, что в исконное пламя…
– У вас… – Ийлэ разжала пальцы и уставилась на них с немалым удивлением. – Мир теперь ваш… и я не знаю, куда мне идти…
– Тебя никто не гонит.
– Пока ты здесь. Сейчас. А что будет потом? Весной? Я выживу…
– Тебе уже приходилось?
– Да. Весной. Летом. Но лето закончится. Осенью плохо, а зимой я погибну, если не найду дом.
– Что ж. – Райдо усмехнулся. – Я рад, что ты это понимаешь. Значит, сделка?
– Да.
– У нотариуса оформлять будем?
Ийлэ пожала плечами. Бумагам не верит? Или нотариусу?
– Мне… – она облизала губы, – мне достаточно твоего слова.
– Хорошо. Нат!
Райдо был уверен, что мелкий поганец вертится поблизости и, кажется, догадывается, о чем пойдет речь. Жаль, что свидетель один, но со временем это можно будет поправить.
– Нат!
– Здесь я. – Он вошел без стука. – Чего?
– Ничего. Я, Райдо из рода Мягкого Олова, в твоем присутствии клянусь именем своим и именем рода, предвечным огнем и Материнской Жилой, предоставить альве по имени Ийлэ, а также ее дочери свою защиту и покровительство.
Нат молча повернулся к альве.
Удивлен? Не похоже. И не злится. Значит, точно предполагал нечто подобное. Вот же… интриган малолетний…
– Я клянусь защищать их и заботиться, как о своих сородичах. В случае же моей смерти, вне зависимости от причин оной, данные обязательства я возлагаю на мой род…
Он широко улыбнулся:
– А имя все-таки выбери…
Ийлэ кивнула.
Нат вытер грязные руки о свитер и засопел, отвернувшись к стенке.
– Ну? – Райдо не выдержал первым.
– Что?
– Спрашивай уже, а то ж лопнешь от любопытства.
Нат сморщил нос, но вопрос задал:
– Теперь она совсем наша?
– Сложно сказать… похоже, что да. – Райдо потянулся.
Жить было хорошо.
Жить было распрекрасно.
Зима. Снег. Морозы, но где-то там, за окном яблони тонут в сугробах. Поземка. И кажется, близится буря. И плевать, потому что даже вой северных ветров не способен настроения испортить. Райдо почти готов полюбить эту зиму.
И весну.
И лето, до которого, как ему казалось, он не дотянет.
Жизни вдруг стало много. И как с нею быть, чтобы не потратить впустую?
– Это хорошо. – Нат плюнул на ладонь и пальцем потер, пытаясь отчистить пятно сажи. Не вышло, размазал только. – А у нее получится?
– Не знаю, – честно ответил Райдо. И добавил: – Надеюсь, что да…
Маленькая альва. Хрупкая.
– И я надеюсь.
Нат помрачнел.
– Ты… когда встанешь совсем, то можно я в город съезжу?
– Нира?
– Да.
– Нат…
– Я понимаю, что теперь ее не отдадут. – Он сгорбился, сунув руки под мышки, и вид у него при том сделался совершенно несчастный. – Я просто увидеть хочу, поговорить… она, наверное, думает, что я на нее обижаюсь… мне без нее плохо.
– Нат…
От руки Нат увернулся и сам пригладил встрепанные волосы, буркнув:
– Я не маленький, Райдо. Я сам справлюсь.
Бестолочь. Справится он. А ведь справится, как справился с этим огромным домом, который вдруг свалился на него. С козой. С младенцем. С альвой, которая слегла. С самим Райдо…
С шерифом, доктором и прочими людьми.
– Нат… спасибо. Без тебя мне было бы непросто.
Кивнул.
– И в город… – Райдо оглянулся на окно. Серое. Темное. И небо низкое. Тучи в оспинах. Снег тяжелый. И виски ломит весьма характерно. Кажется, Райдо постарел, поскольку только у стариков кости на смену погоды болят… – Буря будет, Нат. А как закончится, то… и я попробую договор заключить…
…правда, вряд ли люди согласятся.
– А пока пригласи сюда Дайну… раз уж она так держалась за дом, может, знает, что в нем такого ценного…
Дайна была оскорблена. Возмущена.
И готова простить.
Она смотрела сверху вниз, задрав пухлый подбородок, и Райдо смотрел на белую шею с наметившимися на ней складочками.
Воротничок кружевной. Серое скромное платье.
– Я желаю выразить свое негодование! – произнесла Дайна дрожащим голосом, в котором Райдо услышал и обиду, и надежду, что все-то еще наладится. – Он меня запер!
Она указала на Ната, который забился в угол и сидел тихо; впрочем, раскаявшимся не выглядел.
– Заявил, что я должна дать объяснения!
– Но вы отказались.
– Естественно. – Дайна приложила к глазам платочек. – Мне нечего было объяснять! Я невиновна!
– В чем?
– Ни в чем. И вообще, меня нанимали вы, а не… этот мальчишка.
Нат громко фыркнул.
– Я был болен, – счел нужным уточнить Райдо.
– Я так рада, что вам стало легче… я так за вас волновалась…
Ложь: не волновалась, но выжидала. Дождалась.
– Дайна, присядьте… поговорим. – Райдо указал на кресло.
Сегодня, похоже, день разговоров. Вот только нынешний вряд ли доставит ему хоть какое-то удовольствие. Впрочем, отсутствие оного Райдо как-нибудь да переживет.
– Скажите, Дайна, что именно вы мне подлили?
Молчание. Маска оскорбленная: как мог Райдо подумать…
Мог.
– Дайна, – он оскалился, – вы же не хотите, чтобы я выдвинул обвинение? Полагаю, действовали вы не по собственной инициативе, но дело в том, что судить будут только вас…
– Судить?!
Снова наигранная обида, а вот страх очень даже настоящий.
О суде она не думала.
– Конечно. Вы же понимаете, как это выглядит. Вы мне подмешали что-то в еду. Я съел и почувствовал себя плохо, – Райдо наклонился, заглянув в светлые глаза женщины, – очень-очень плохо… так плохо, что едва не умер… можно сказать, чудом выжил…
Нервничает. И пытается понять: сумеет ли Райдо это обвинение доказать.
– Сумею, – поспешил уверить он. – Во всяком случае, очень и очень постараюсь. В конце концов, мои интересы представлять будет мой род, а вот за ваши, Дайна, воевать некому. Вы ведь одна, я верно понимаю?
Кивок. И тут же спохватилась, скрестила руки.
– Ложь!
– Что именно? Вы не одна? А мне казалось, вы сирота, и родственников у вас нет, а даже если бы и были… Насколько я знаю, у людей родственные связи мало значат. Так кто захочет вступиться за вас? Мирра? Полагаю, у нее собственных проблем полно. Ее родители? Сомневаюсь. Они заняты проблемами Мирры. Шериф? В его интересах урегулировать конфликт, а какой ценой…
Дайна кусала губы.
– Он просто не захочет связываться с моим родом, принимать здесь чужаков. Устраивать полноценное расследование. – Райдо говорил медленно, не спуская взгляда с женщины, которая стремительно бледнела. – Как знать, до чего они… дорасследуются…
Молчание. Закушенная губа. И платочек дрожит в кулачке. Пожалуй, ее можно было бы пожалеть, но…
– Мне это тоже не нужно, но здесь уже вопрос принципа… я не могу спустить покушение…
– Это не покушение!
Дайна все же решилась.
– Я… я хотела помочь… – Она встала и тут же села. Смяла треклятый платочек, который выронила, и потянулась за ним, подняла, чтобы спрятать в складках юбки. – Мирре помочь… Мирра славная… и всегда была ко мне добра…
– Дайна… вы ведь не встречались прежде с такими, как я?
– Что? Нет… то есть да, но…
– То есть встречались?
Кивок.
– Но близкого знакомства не сводили. Я имею в виду то знакомство, которое за пределами постели.
Щеки полыхнули, и Дайна прижала к ним ладони.
– Ийлэ… рассказала?
– Что? А… нет, думаю, ей это не интересно. Она, если вы заметили, вообще разговаривает не слишком охотно. Но некоторые тайны сложно сохранить в местечке, подобном этому… я-то в город не выезжаю, а вот Нат…
Взгляд, которым удостоили Ната, мог бы испепелить. Столько ненависти.
– Вы… вы знали?
– Что вы подрабатывали в этом… простите уж за прямоту, борделе? Знал.
– И вы…
– И меня это не смущало, да и сейчас не смущает. Я в принципе достаточно лояльное существо. – Райдо потер сложенными пальцами подбородок. – И мы с вами вполне могли бы ужиться. Более того, я понадеялся, что уживемся, что вам не захочется терять это место и если вы не проникнитесь благодарностью – уж простите, но в благодарность человеческую я не верю, – то всяко поймете, что другого вам не найти.
Злость. Поджатые губы. Некрасивая ямка на подбородке. Глаза прищурены. И взгляд такой, что Райдо неуютно. Кажется, ему не следовало затрагивать эту тему.
С другой стороны, чем сильнее она разозлится, тем хуже будет себя контролировать.
Тем больше скажет.
– Вы же сами все прекрасно понимаете. Я чужак, а в городе… в городе свои люди, те, что знают вас с детства. Небось они и грешки ваши с тех самых пор помнят. Украденный леденец или разбитое ненароком окно… или кошка, которой вы на хвост наступили. В таких городках люди знают все и обо всех… коллективная память.
Злость сменялась откровенной ненавистью.
– Да что вы понимаете!
– Немногое. К примеру, то, что вам не простят. Ни теперь, ни через год, ни через десять. Вас не примут ни в один приличный дом не то что экономкой, но и посудомойкой. У вас два пути останется. Уехать из городка и попытаться обустроиться на новом месте или же отправиться в дом терпимости.
– Вы… вы…
– Говорю правду, Дайна. – Райдо откинулся в кресле и сцепил руки на груди. – И вы ведь неглупая женщина, более того, вы знакомы с реалиями этого городка куда лучше меня. Вы не могли не понимать, чем обернется ваша затея. И отсюда у меня вопрос: почему вы решились?
– Я…
Ненависть. Затухает, прячется, но не исчезает. Пламя под пеплом, которое только тронь. А на лице очередная маска, похоже, их у Дайны превеликое множество. Нынешняя – обиды…
– Вы… вы не знаете… – Она всхлипнула и о платочке вспомнила. – Вы… вы ничего не знаете.
– Так расскажите мне.
– И что тогда?
– Тогда… тогда вам, конечно, придется покинуть дом, но вы уйдете отсюда с чеком, который позволит вам начать жизнь в другом месте.
– Пять тысяч, – очень спокойно произнесла Дайна.
– Сто фунтов. Или тюрьма.
– Вы сволочь. – Она произнесла это холодно, не скрывая уже своего раздражения. – И когда вы сдохнете…
Нат зарычал.
– Нат, иди погуляй. Обедом займись… или козой, если она еще не сожрала всю гостиную. А мы тут побеседуем.
Спорить Нат не стал. Далеко он не уйдет, максимум, до соседней комнаты, но и того хватит. Дайна получит свою иллюзию приватной беседы.
Нат аккуратно притворил за собой дверь.
– Он у вас наглый. – Дайна аккуратно расправила платочек на коленях. – А что до ваших угроз, то… уж извините, Райдо, но я знаю, кого следует опасаться. Вы не из тех, кто будет применять силу по отношению к женщине. И все, что мне грозит с вашей стороны, – это остаться без рекомендаций.
Она кривовато усмехнулась.
– Поэтому давайте так: я вам расскажу кое о чем и уйду. Захотите узнать больше? Заплатите.
Ее лицо, избавленное ото всех масок, выглядело некрасивым. Нет, черты не изменились, все та же приятная округлость, сдобные щеки, мягкий подбородок, губы пухленькие и бровки, выщипанные аккуратными полудужками, подведенные сажей, чрезмерно, пожалуй, яркие.
Но теперь в этом лице появилось что-то… мерзковатое.
Крысиное?
Крыс Райдо не любил. Крысы тянулись за обозами, обживались в военных лагерях, особенно тяготея к кухне и госпиталю. И если кухонную их привязанность еще можно было как-то объяснить, то что им – животным осторожным, хитрым – понадобилось в госпитале, Райдо понять не мог.
– Моя вина единственно в том, – произнесла Дайна с вызовом, – что я хотела жить лучше… Господи, если бы вы знали, каково это… с самого детства мне только и твердили, что я должна трудиться… должна уважать хозяев… должна… всем что-то да должна…
Она нервно дернула плечиком.
– О да, я получила замечательное место горничной в приличном доме. Предел мечтаний! И мой долг к этому миру возрос неимоверно! Вы вообще представляете себе, что такое горничная?
– Прислуга.
– Мило. Конечно, прислуга. – Дайна фыркнула. – Господи, да это не служение, это… это рабство узаконенное. Один выходной в месяц, остальное время работаешь… подъем в шесть утра, потому что камины необходимо разжечь до того, как встанут хозяева… а еще почистить… вы когда-нибудь чистили камин?
– Не приходилось.
– Мерзкая работенка. Руки становятся жесткими, кожа трескается. Но какое кому дело до кожи? Целый день только уборка, уборка и снова уборка. И главное, улыбаться надобно, потому что хозяева не любят мрачную прислугу: им в радость, когда она радостная. А какой нормальный человек будет радоваться, когда ему приходится работать по четырнадцать часов кряду? Перестилать кровати, чистить столовое серебро… хрусталь… стекло… и не приведи боже расставить эти фарфоровые статуэтки не так, как они стояли… или разбить что-либо… экономка ходит по пятам и только знает, что недостатки выискивать. Видите ли, я недостаточно старательна… старая стерва.
Дайна была искренна. Она и вправду полагала себя несправедливо обиженной, а экономку – стервой. И наверняка среди матушкиной прислуги находились девицы, подобные Дайне, но вот в доме они не задерживались.
– Глазки я хозяину строю…
– А вы строили?
– Строила, – честно ответила Дайна и наклонилась, демонстрируя прелести, прикрытые кружевным воротничком. – Что в этом плохого? Я девушка молодая, многими достоинствами наделенная… в отличие от его альвы… вы ведь понимаете, что альвы, они такие… ну как Ийлэ… плоские совершенно, ее переодень, и не поймешь, мужик это или баба… то ли дело настоящая женщина.
Томный взгляд, и розовый язычок медленно скользит по губе.
– Дайна…
– Да. – Глубокий вдох, от которого грудь – и вправду весьма выдающихся размеров – колышется.
– Дайна… меня это не интересует.
– И вправду, да?
– Увы. – Райдо развел руками. – Понимаете, когда вы постоянно испытываете боль… очень сильную боль, то вам не до… этих вот радостей. Поэтому прекращайте ваше представление и вернемся к прежней теме. Итак, вы пытались соблазнить хозяина, но у вас не получилось.
– С чего вы взяли?
– Не получилось, – куда более уверенно произнес Райдо. – В противном случае вы бы так не злились. Что произошло? Он отверг вас и…
– Он любил свою жену. Чушь какая… пусть бы и любил, я не настолько наивна, чтобы в жены лезть. Мне бы хватило малого. Небольшой домик в пригороде, содержание. Многие так делают. А он… Боже ты мой… честный…
– Он вас выставил?
– Не он… экономка… говорю же, старая стерва. Видите ли, я веду себя развязно и дозволяю то, что приличная девушка не может… не должна… кругом должна, да… и собиралась выставить, но война-то шла, и давно шла. Всем уже понятно было, что альвы проиграют. Прислуга разбежалась. Кроме меня, мне-то идти некуда, и старая змея вынуждена была мириться со мной. Кто еще пойдет работать к альвам, кроме несчастной сироты?
Может, Дайна и была сиротой, но назвать ее несчастной язык не поворачивался.
– Хорошо… вы работали, и что дальше?
– А ничего особенного. Он тянул до последнего. Не то чтобы дурак был: не понимал, к чему все идет. Скорее уж остерегался приказ нарушить. Я точно не знаю, за что его сослали, однако уйти он не мог. Ждал чего-то, ждал… и дождался… к нему Альфред с шерифом заехали. Конечно, после всего, что альвы натворили, в городе к ним особой-то любви не было, но все соседи. Думаю, предупредили, что псы направляются… тогда-то он и решился… самолично паковал сумку… тьфу ты…
Она скорчила гримасу, и сходство с крысой сделалось нереальным. Райдо подался вперед, пытаясь понять, как же такое возможно?
Обычное лицо… человеческое… но и крысиное тоже.
– Саквояжик черненький, кожаный… и явно не с бельишком. В бельишке-то обычно я копалась.
Она до сих пор была оскорблена этим фактом.
Она не хотела быть горничной, и… что она сделала? Нашла Брана? Или кого-то, кто мог найти Брана и сообщить, что из усадьбы вот-вот сбегут хозяева? И не просто сбегут, но вывезут ценности?
– Кому ты сказала?
– А с чего вы…
Этого взгляда Дайна не выдержала. Человек. Женщина. Нехорошо угрожать женщине, но если она – женщина – еще и крыса… если она больше крыса, чем женщина…
Главное, взгляд отвела и в кресло вжалась, обняла себя, словно защищаясь.
– Кому?
– Дику. – Она ответила и губу прикусила. – Мой дружок… я ведь живая, в отличие от некоторых… а он был занятный парень…
– Был?
– Убили.
– Кто?
– А я почем знаю? – Дайна успокаивалась быстро. – Мне это, если хочешь знать, без интереса… убили и убили. Жалко, конечно, он не жадный был…
– Когда?
– Да… да аккурат после того, как ваши тут объявились.
– Значит… – Райдо переплел пальцы, почему-то страшно было, что руки его свободны. Если не занять, если не удержать себя, то он, Райдо, сделает с этой женщиной что-то жуткое, такое, о чем станет жалеть… – Ты шепнула своему дружку, который… при шерифе работал?
Шериф заезжал накануне. И при шерифе свита, неизвестный Райдо парень, с которым Дайна крутила роман… ее следовало бы выставить из дому, ни в одном доме такой горничной не потерпели бы, но других не осталось: война многое изменила. И Дайна нашла способ с Диком свидеться. А может, и не в нем дело, может, кто-то иной сообразил, что хозяин «Яблоневого дола» решит уехать. Он ведь не безумец, он не рискнет подставить семью под удар.
Война.
И, оставляя дома, увозят самое ценное. Отнюдь не белье, хотя порой свежее белье – та еще драгоценность, но не о нем думал тот, кто затевал…
Сейфовая комната – это хорошо, особенно если укрепленная альвийскими рунами. Выковырять из нее ценности непросто, другое дело, если сам хозяин… нет, в сейфе наверняка осталось что-то, но мелочовка… самое важное он успел вытащить.
Черный саквояж…
Как Дайна его увидела? Как-то увидела… в доме суматоха… нервы… за ней некому следить… и вряд ли он так уж прятался, привык считать прислугу надежной, даже эту бестолковую, завистливую дуру… а ведь дура и есть… Мстительная к тому же.
– Что ты ему поручила?
– Поручила? Скорее подсказала… понадеялась, что ваши будут благодарны… Дик просто отправил оптограмму…
И вправду, к чему встречаться лично, если можно так…
– Я ему написала на бумажке. Он был хорошим парнем, но туповатым…
– Что ты написала?
Дайна молчит. Улыбается. Губу покусывает. И кажется, она почти счастлива, хотя Райдо категорически не понимает, как можно быть счастливым после того, что…
– Что? – Она переспрашивает и, окончательно позабыв о страхе, проводит большим пальцем по губе, медленно, дразня. – Что королевский ювелир вот-вот сбежит…
…королевский ювелир…
Бран оказался в нужном месте в нужное время. Снял оптограмму и наверняка новостью не поделился… ювелира бы, может, и взяли, но не тронули бы, слишком высокого полета птица… ценная… особисты ведь не дураки… в большинстве своем не дураки. А вот Брану пленник нужен не был.
Опасно. Да и… он не настолько жаден. Ему хватило бы и драгоценностей. Взял своих людей, проверенных… наведался в гости…
…и помешал тому, кто ждал ювелира, готовый принять из рук его заветный черный саквояж. Ему, человеку, живой ювелир также был без надобности…
– И что было дальше?
Райдо может говорить спокойно. Матушкина выучка сказывается. И уравновешенный он. Слава жиле предвечной, что уравновешенный и что женщин не трогает. Эту бы вот тронуть не отказался, пусть никогда прежде не позволял себе подобного… и не позволит, несмотря на все свое желание стереть эту гаденькую улыбочку.
Крыса.
Кто сказал, что у людей нет второго обличья? Есть. Но, в отличие от детей Камня и Железа, люди привыкли это обличье прятать. А может, и правильно, в ином-то случае кто бы взял в свой дом крысу?
– Дальше? – Дайна пожала плечами. – Тут ваши объявились… хозяин-то почуял что-то, велел дочке уходить. И жену отправлял, только она не пошла. Сказала, что если вместе, то… вот дура, правда?
Райдо промолчал.
Вместе.
– Ийлэ с доктором отправили. Я-то грешным делом подумала, что она ушла… хозяин к вашим вышел. Договориться хотел.
Но с Браном договориться было невозможно. Да и зачем тому лишний свидетель?
– Ваши его взяли… спрашивать начали про… всякое… – Дайна скривилась, верно воспоминания о том допросе были не из приятных. – Не знаю, чего там приключилось, но орал он знатно, а потом замолчал… издох, в общем.
Сердце не выдержало? Или Бран, опьяненный кровью, перестарался? Небось, обнаружив сейфовую стену, клял себя за этакую несдержанность, только мертвеца не оживить.
– Хозяйку-то попользовали сперва… а потом тоже, того… по горлу…
Райдо судорожно выдохнул.
Альвы.
Альвов не жаль. Война, и всякое бывает. Он ведь сам многое видел, за что должно бы быть стыдно, но стыда нет, потому что кровь и дым, потому что пепел на губах кисловатый, потому что кто-то умирает, и эта смерть оправдывает все иные…
…есть свои.
Есть чужие.
Есть приказ, который следует исполнить любой ценой…
…есть смерть. Есть жизнь.
Есть…
– Что? – Дайна поднялась. – Это ж ваши все… я тут ни при чем…
…она не насиловала.
…не убивала.
– Я лишь подала сигнал. – Она провела ладонями по ткани платья. Откуда взяла его? Вряд ли подобное можно приобрести на жалованье горничной. – Я, быть может, хотела послужить короне… вашей короне…
Ложь.
О короне и короле она думала в последнюю очередь.
Тогда зачем? Рассчитывала на награду? Она глупа, но притом хитра обыкновенной житейской хитростью и везуча. Сумела ведь выжить, а это многого стоит. И получается, что из мести. Из обиды за придуманную ею самой несправедливость. Хозяин ее отверг, испортил маленькую женскую мечту о домике в пригороде, о пансионе, который положен содержанке, о платьях, драгоценностях и… и разве он, хозяин, не заслужил наказания?
Как и супруга его, которая была, по мнению Дайны, некрасива.
И экономка.
Ийлэ…
Райдо потер глаза, чувствуя странное опустошение. Он не способен изменить прошлое. А с будущим как управиться? Как-нибудь.
– Ты осталась в доме?
– Мне неплохо платили… за все… к слову, я была не против. – Она запрокинула голову и провела пальцами по шее. – Вы мне нравились. Я вообще мужчин люблю.
– Заметно.
– Поверь, ты бы оценил, если бы… – Она горестно вздохнула, верно тем самым выражая досаду на обстоятельства, которые столь коварным образом лишили ее стратегического преимущества собственной красоты.
– Дайна, поверь, я и так тебя несказанно ценю.
Райдо поднялся. Он двигался все еще осторожно не потому, что было больно – впервые за долгое время боль почти не ощущалась, – но тело помнило ее и берегло себя же.
Дайна следила за ним, и выражение ее лица менялось.
Мелькнул и исчез страх.
Упрямство.
Надежда… вдруг он все-таки не настолько болен…
– И буду ценить еще больше, если ты расскажешь все, что знаешь… кто выдал Ийлэ?
Видимо, эту информацию Дайна не полагала ценной, потому и ответила сразу:
– Докторша… – И тут же спохватилась: – Больше ж некому. Они же ж с хозяйкой подружками были. Ну та-то думала, что подружки, а докторша завидущей была. Ей все-то хотелось, чтоб как у хозяйки. Придет, щебечет, целует в щечку, а сама знай глазами зыркает, где, и чего, и как…
Дайна замолчала.
– Говори, – попросил Райдо и руки на спинку кресла положил.
Кресло это стояло между ним и Дайной, преградой, которая позволяла Дайне чувствовать себя в безопасности… почти в безопасности…
Райдо выше. И больше.
– Ее на третий день привезли… Бран сам ездил… не подумайте плохого, другие-то ничего, с ними весело было. И вот брать разрешали, чего нравится, а этот… глянет порой так, что душа в пятки уйдет, усмехнется да спросит: все ли хорошо… Дайночкой называл… так и спросит, мол, все ли у тебя хорошо, Дайночка… а у меня язык к нёбу прикипает, только и киваю… – Она смотрела в глаза, не смея отвести взгляд. – Он ее привез, сперва никого-то к ней не подпускал, а уже потом, как надоела, то делился…
Райдо заставил себя дышать по счету.
От единицы до десятки – вдох.
От десятки до единицы – выдох.
И живое железо, которое норовит выплеснуться бессмысленной яростью, сдержать. У него получится. Он всегда с железом своим хорошо ладил.
Только жаль, что Бран издох. И вдвойне жаль, что издох быстро.
– Саквояж не нашли?
Дайна задумалась, но ненадолго:
– Нет… он ее спрашивал, но Ийлэ ничего не знала. Она вообще в мамашу пошла, та же святая простота, правда, небось святости надолго не хватило.
Отступить Дайна не имела возможности; она оказалась зажата между столом и Райдо.
– Она тебе нравится? Им вот нравилась всем… чего нашли? Не знаю… но играли… в догонялки… в саду… очень им весело было. – Дайна говорила, не отводя взгляда.
Дразнила? Проверяла выдержку? Или просто пыталась сказать, что он, Райдо, ничем не лучше прочих.
– Догоняли всегда. А порой и загоняли. Пару раз вон доктор приезжал, откачивал, когда уж совсем… не знаю, зачем она им была… но была, и пускай себе. Не мое дело.
Не ее.
И наверное, ничье… шериф знал?
Наверняка.
И доктор, который называл себя другом семьи, только в какой-то момент дружить с альвами стало не просто неудобно – опасно. Сколько их еще было таких, которые сочли за лучшее сказать, что дело-то не их? Псы воюют с альвами или альвы с псами, но главное, не людям в эти войны лезть.
Не Райдо судить их.
– А потом она их убила…
– Она ли?
Райдо наклонился.
От женщины пахло духами, мягкий сладковатый аромат, не то цветочный, не то фруктовый, главное, что не для нее созданный. Он ей не подходил, да и собственный запах тела Дайны пробивался сквозь полупрозрачный полог этого аромата. Кисловатый, тягучий, крысиный…
– А кто еще?
– Не знаю, Дайна. – Райдо коснулся рыжеватых волос. – Это ты мне скажи… кто еще?
– Понятия не имею.
Лжет, но Райдо позволит себе в эту ложь поверить.
– Пять тысяч, – сказала она и все-таки отстранилась настолько, насколько позволяло место. – Если хочешь узнать про остальное, ты заплатишь мне пять тысяч.
– А если не хочу?
– Хочешь. – Дайна осклабилась. – Кто не хочет получить сокровище?
Наверное, она была права. Вот только представления о том, что есть сокровище, у нее и Райдо различались. Собственное он уже получил.
– Не боишься?
– Вас? – Она приподняла бровь. – Вы мне ничего не сделаете, а если и захотите, то… я лишь исполнила просьбу Мирры. Она так о вас беспокоилась. Вы отказывались от лекарств. Она попросила дать вам снадобье… и, конечно, мне не следовало бы соглашаться, но я хотела как лучше.
Она всхлипнула. Притворщица.
И все-таки Райдо будет жаль, когда ее убьют.
– Не меня, Дайна, бояться надо. Или ты думаешь, что тот, кто стоит за вами, тебя пощадит? Ты ему нужна была в доме, а вот за его пределами… лишних свидетелей убирают, Дайна, это правило.
– Простите, но… я ничего не знаю… совсем-совсем ничего… – Она потупилась.
Ложная скромность. Притворный страх. И самоуверенность, которая выйдет ей боком.
– Что ж, тогда не смею тебя задерживать. Завтра Нат отвезет тебя в город.
Райдо отступил, позволяя ей пройти. Он надеялся, что Дайна уйдет молча; но у самых дверей она остановилась.
– Знаете, – она сказала это тихо, – практика показывает, что псы далеко не бессмертны…
Глава 18
Ийлэ слушала бурю.
Те случались нечасто, по обыкновению своему задолго упреждая людей о том, что грядут снежные дни. И тогда отец приказывал запирать ворота, а на старой сторожевой башне, которую давным-давно следовало бы снести или хотя бы перестроить, зажигали огонь. Вдруг кто заблудится в лесу?
Эта башня и поныне стояла на отшибе, кривою спицей, опасно накренившейся, потянувшейся к земле. И того и гляди, упадет. Мечутся ветра, заметают следы к башне. И старик Михей навряд ли займет обычный свой пост.
Ийлэ помнит его, хмурого, в клочковатом каком-то тулупе, от которого терпко пахло табаком. Старик табак носил на поясе и жевал, вяло двигая губами. Он мало говорил, много вздыхал и частенько застывал, упирая взгляд куда-то в небо.
Он следил за башней и поленницей, которая занимала весь первый этаж, а Казик, приблудный мальчишка, оставленный при доме, носил дрова наверх, к маяку. Он же натирал зеркала его мелким песком и тряпкой, при этом сосредоточенно сопел, осознавал важность этой своей работы.
Ийлэ вот не позволил.
Она хотела остаться и тоже палить дрова, поворачивать массивные зеркала, ловить отблески пламени. И думать, что кто-то там, в далеком лесу, увидит луч света. Спасется.
На памяти отца Ийлэ таких было пятеро.
Что с ними стало?
Буря подбирается на мягких лапах. И ветра умолкают. Тишина вязкая, в ней тонут и звуки дома, и дыхание самой Ийлэ, и шаги пса. На сей раз он не стал стучать, толкнул дверь, которая отворилась совершенно беззвучно.
– Прячешься?
– Нет. – Ийлэ обернулась.
В комнате темно. И фигура Райдо кажется лишь одной из теней, правда, тенью огромной, плотной и на редкость живой.
– Тогда что?
Он щурился. Говорят, что псы плохо видят, особенно если в сумерках, и, наверное, этот конкретный – не исключение.
– Ничего. Слушаю вот.
– Я не помешаю?
Ийлэ пожала плечами: нет.
Как ни странно, но после того разговора стало легче. Все логично. Все правильно. Она поможет псу выжить, а он…
Он сел в кресло-качалку и ноги вытянул.
– А я зиму не люблю. – Райдо оттолкнулся от пола. – И бури не люблю… холодно… я однажды из дому сбежал… зимой… не из городского. В городе-то проще, а там… особняк и леса вокруг, прямо как здесь.
Ийлэ не интересны его воспоминания, но она слушает, потому что когда-то, в прошлой ее жизни, отец тоже рассказывал сказки, даже когда Ийлэ стала слишком взрослой для них…
Традиция? Наверное… смысла в этом не было точно.
– Меня наказали. Я решил, что это несправедливо, и сбежал. Дурак. – Райдо раскачивался в кресле, и пятки его почти касались каминной решетки. – Тогда, только-только после Каменного лога, я сам себе казался взрослым неимоверно… бессмертным… я не знаю, как у вас да и у других тоже, но там сила переполняет. И ты возвращаешься иным, думаешь, что теперь-то весь мир у ног и даже больше, а тебя оставляют без сладкого.
Наверное, раньше Ийлэ улыбнулась бы: ей сложно представить, что Райдо кто-то способен оставить без сладкого.
– Как было душе вынести? Я и решил… – Он остановился, упершись ногами в решетку, отталкиваясь, почти переворачивая кресло. – Решил, что докажу всем, на что способен…
– Ты поэтому с Натом возишься?
– Я? – Райдо удивился. – Скорее наоборот, это он со мной возится, но… не знаю, может, и поэтому. Хороший паренек. Одинокий.
Он помолчал, а потом добавил очень тихо:
– Мы плохо переносим одиночество.
Ийлэ пожала плечами: ей наедине с собой было спокойно. Мирно. И в компании пса она не нуждалась; если разобраться, то Райдо своим появлением заглушил напевы бури. Воспоминания прогнал опять же. Но на него она не злилась. На него сложно было злиться.
Более того, не-одиночество с ним было вполне себе уютным.
– Всю жизнь со мною рядом кто-то был. Я не имею в виду слуг или нянек… или гувернеров… но мама, отец, братья… младшие сородичи… потом школа. Самое страшное наказание – это когда тебя запирают в комнате для раздумий. Я туда частенько попадал…
– Что это за комната?
Ийлэ в школу не попала. Родители учили.
– Обыкновенная. Маленькая только, вроде кладовой. Окон нет. И ничего нет. Голые стены. Пол. Потолок. Тебя запирают на час или два, чтобы ты подумал над своим проступком. Сначала, конечно, не думаешь, сначала пытаешься отсчитывать время, но рано или поздно сбиваешься. И в голову лезут всякие мысли. К примеру, о том, что тебя забыли… что учитель шел-шел и, например, в яму упал, шею свернул. Или удар с ним приключился, и его увезли в больницу. Но главное, что он не придет, не откроет дверь и ты умрешь в этой самой комнате от голода и жажды… и никто о тебе не узнает.
Райдо убрал ноги, и кресло качнулось.
– Сейчас я понимаю, что это все было глупостью, но тогда…
– Ты боялся?
– Да.
– Я… тоже боялась. – Ийлэ отвернулась от окна, затянутого льдом, залепленного снегом. – Он меня закопал. В бочке. Там воздух был, но немного… сказал, что я должна…
Она тронула горло, которое свело судорогой.
…воздух вдруг исчез.
Там он становился все более густым, более тяжелым. Ийлэ не кричала. Она легла на дно бочки, свернулась калачиком, обняв колени. Дышать она старалась медленно, но воздух все равно заканчивался.
Темно.
Пахнет землей и вином. Он пьян и наверняка уснул, завтра проснется, вспомнит, а она уже умерла. Тогда эта мысль заставила ее рассмеяться, потому что смерть – это не так страшно… скоро она уснет… она уже засыпает… голова тяжелая… и нельзя кричать, потому что если он рядом, если прислушивается, то крики Ийлэ его порадуют, а она не станет его радовать…
Но воздуха все меньше, и стенки бочки сжимаются, что невозможно, однако Ийлэ чувствует их, как и землю за ними, которая вот-вот разломит дерево, засыплет. Сожрет.
Она почти справляется с криком, который клекочет в горле, и для надежности горло это сжимает руками… но стенки трещат.
Стискивают.
Не стенки – руки. Теплые, мягкие руки, от которых пахнет травами и еще виски… и хлебом… и псом по имени Райдо.
– Тише, девочка, тише… все закончилось… все уже закончилось… – Он держал ее на руках и раскачивался. Ийлэ раскачивалась вместе с ним.
Плакала? Нет. Глаза оставались сухими.
– Я не позволю тебя обидеть. – Райдо коснулся губами виска. – Поверь, больше никому не позволю… ты – мое сокровище.
Верить нельзя.
Разве что ненадолго, пока ярится буря, которая подобралась к дому, развернула дюжину снежных крыл… бьется, рвется с привязи. Воет.
– Что было тогда… – Собственный голос Ийлэ звучит сипло. – Когда ты сбежал?
– Хватились меня не сразу. И то, потому что в детской было слишком тихо, а я никогда не умел, чтобы тихо… матушку это расстраивало очень. Другие – они нормальные дети, послушные, я же вечно что-то… или куда-то. В тот раз я до леса добрался, по следу пошел лосиному… думалось, что докажу всем, что уже взрослый…
Он потерся носом о шею Ийлэ.
– Не бойся, пожалуйста, ты же знаешь, что я тебя не трону… мне твой запах нравится.
– Что?
– Запах, – повторил Райдо спокойно. – Лесом пахнешь. Осенним. Осень я люблю, только раннюю, когда листья золотые и еще паутина летает… но я ж не рассказал… из меня рассказчик не очень, чтобы… я вечно перескакиваю с одного на другое. Охота – это… это на самом деле чудесно…
– Если не на тебя… охотятся.
Говорить все еще было сложно. Ийлэ потрогала горло руками и удивилась тому, что не ощущает собственных прикосновений.
Он ведь раскопал. Надоело ждать, когда она закричит. А может, не захотел убивать, не из жалости, но ему было скучно здесь, он сам говорил о том, что надолго застрял и что привлекать внимания нельзя. Поэтому людей не трогали.
Ийлэ – единственная игрушка. Игрушки ломают. И чинят.
Главное, остановиться вовремя. У него получалось. Он гордился тем, что получалось.
– Прости. – Райдо прижал к себе крепче. – Нельзя охотиться на разумных, даже в шутку нельзя, потому что такие шутки очень скоро перестают быть шутками… и прости, хорошо?
– Тебя?
– И меня… все еще ненавидишь?
Что ему ответить? Ийлэ промолчала.
– Тогда… тогда во мне кровь кипела… или не кровь, а живое железо, с ним тоже непросто управиться. Чем оно сильней, тем сильней ты. И животное в тебе. Главное, не позволить этому животному взять верх. Я тогда не думал ни о чем таком. Просто шел по следу… догонял… не особо торопился. Ветер? И что с того… и снег – это не страшно, когда броня нормальная, то холода почти не ощущаешь… главное, цель не упустить. Я его догнал… матерый такой лось, который меня не испугался… мы долго танцевали… он, наверное, не одного волка в мир иной спровадил… и мне досталось. Броня броней, но когда лось копытом… челюсть сломал… и ребра… и вообще хорошо потоптался.
Райдо руки разжал.
И пожалуй, можно встать. Он не будет удерживать. Позволит Ийлэ вернуться на прежнее ее место, которое на подоконнике.
– Когда я очнулся, лося уже не было, зато был снег и… и чтобы броню держать, сила нужна, а ее не осталось. Я оказался посреди леса, голый и с переломанными ребрами. Все, на что меня хватило, – заползти под ближайшую ель. Тогда я еще подумал, что умру… и знаешь, так обидно стало… только-только жить начал, а уже и умирать… и слово дал, что если выживу, то стану послушным, буду делать все, как говорит мама… на благо рода.
– Тебя нашли?
– Как видишь. – В темноте не видно, что он улыбается, но Ийлэ странным образом чувствует эту его улыбку. – Братья по следу отыскали… и отец… он пообещал, что, как только я отойду, самолично шкуру на заднице спустит, потому что до меня только через задницу и доходит. И слово сдержал. Он всегда его держит. Ийлэ…
– Да?
– Если у тебя не получится, то… род исполнит мою клятву… Нат – свидетель.
– Получится.
– Ты веришь?
Она обернулась. Бледное лицо, не лицо – пятно, и так легче, потому что, не видя Райдо, можно не думать о том, кто он.
И почему Ийлэ не бежит, хотя имеет возможность?
– Я знаю, что тебе нельзя умереть.
– Хорошо.
Вновь тишина.
В его руках тепло, уютно. Это неправильно, чтобы вот так, но сегодня и сейчас Ийлэ забудет об этой неправильности. Она сочинит себе историю, в которой не было ни войны, ни ненависти, а был… кто?
Старый знакомый.
В ее истории он безопасен. И в том, что она, Ийлэ, сидит у него на коленях, нет ничего неприличного… в ее истории с приличиями вообще сложно.
– Ты сдержал слово? – В этой истории есть место для вопросов.
– Честно попытался…
– И как?
– Наверное, я был недостаточно настойчив, но… сбегать – не сбегал, делал, что говорят, только… как-то оно все равно не получалось, чтобы… – Райдо вздохнул, и вздох этот опалил кожу.
Отстраниться? Уйти?
– Матушка все равно огорчалась… отец, тот спокойней был, он изначально на меня особых надежд не возлагал… а я…
– Что ты?
– Мне все время казалось, что я живу какой-то чужой, заемной жизнью, что все должно быть иначе, но я не знал, как именно иначе. И страшно было порвать… тогда, когда я под той елкой хвост морозил, больше всего меня пугало одиночество. Буря вокруг. Снег… а я один… и если умру, то тоже один… вот и хотел, чтобы вместе… семьей… а получалось, все равно один.
Подбородок Райдо уперся в плечо.
– Потом была одна история… нехорошая очень. Да много чего было. И война эта… отец сказал, что мне нужно закрепиться в разведке. Я и пошел… только при штабе – это не мое. Я туповат немного. Медлителен…
– Кто тебе сказал?
– Все говорили. А если не говорили, то думали. Я сильный, это да, но на одной силе далеко не уедешь. А с другой стороны, и от нее польза есть. Вот и водил десяток за Перевал… устраивали… не важно, это не то, о чем хотелось бы говорить.
Наверное.
Ийлэ не знает той, другой войны.
В последний год отец газеты жег и в город почти не выезжал. И в этом, похоже, имелся некий смысл… ее берегли. Не сберегли.
– Но главное, что я снова попал в ловушку и опять едва не сдох. Должен был бы наверняка, но я ж упертая скотина, я ж не могу просто так взять и… – Он махнул рукой, потревожив тени, которые отпрянули от пса. – Самое главное, что я понял. Вот она, жизнь, прошла уже… а я и не жил-то толком. И счастлив не был. Нет, не был несчастен, я люблю свою семью, хотя порой с ними и тяжело, но главное, что мы разные. Понимаешь?
Ийлэ покачала головой.
– Я способен в какой-то мере следовать их правилам, но не более того. А им тяжело понять, что мне необходимо иное. Я сам не знаю – что именно, главное, что мне глубоко плевать на то, какое положение занимает наш род. И какие у него перспективы. И насколько это положение можно упрочить, если, допустим, заключить очередной династический брак. Я знаю, что род богат, что сородичи защищены и не голодают. Мне этого достаточно. А все эти околополитические игры утомляют неимоверно. Вот поэтому я и не гожусь на роль райгрэ. Некоторых вещей я просто не понимаю. А сородичи не понимают, как можно жить вот здесь…
Он обвел комнату рукой.
– И вот такое у нас… взаимонепонимание.
Райдо провел ладонью по волосам, осторожное прикосновение, не ласка, нет, скорее любопытство, которое он пытается сдержать.
– Но я рад, что сбежал… думал: приеду сюда, чтобы свободно помереть…
– А дома не давали?
– Свободно помереть? – уточнил Райдо.
– Да.
– Увы… там матушка. И матушкины подруги, которые являются раз в неделю на чай и еще затем, чтобы выразить сочувствие. Открытки шлют самодельные с пожеланиями скорейшего выздоровления. Цветы. Самые смелые и в комнату заглядывают. Приходится держать лицо. Представь: мне охренительно больно, орать бы во всю глотку, а я лежу и улыбаюсь, потому что не приведи предвечная жила сказать очередной дуре, куда она свою открытку засунуть может. Матушка не простит грубости. Или вот она приходит… сидит у постели… и мне сразу совестно становится, что я – сволочь неблагодарная – сдыхаю тут. А иногда вот блевать тянет, выворачивает прямо наизнанку, но при ней же не будешь… она ведь леди…
Ийлэ согласилась: при леди блевать не следует.
Наверное, она и сама, прежняя, которая жила до войны, вела бы себя так же. Что плохого в открытках и цветах? И навещать больных следует. Исполнять долг милосердия.
А теперь кажется, что этот самый долг – глупость несусветная.
– Вот… и когда нажирался, ей не нравилось. Нет, она понимала, что я от боли, что опиума не люблю и вообще, но все равно неудобно… умираю, а не умру никак… мешаю всем. Никто ни слова не скажет, только и я не совсем дурак… все понимаю. А тут поместье это… вроде как награда.
Странно как. Ее, Ийлэ, дом – и чья-то награда…
– Вот и подумал, что тут мне никто мешать не станет, хотя бы последние дни доживу так, как самому хочется… а тут ты… и говоришь, что я, быть может, совсем не умру…
– Когда-нибудь умрешь.
– Когда-нибудь все умрут…
Он снова оттолкнулся, но старое кресло опасно заскрипело.
– Новое надо, крепкое, чтобы выдержало, – сказал Райдо. – Я тяжелый… Ийлэ…
– Да?
– Я вот одно понял… нельзя растрачивать жизнь на пустое. Слишком мало ее…
И замолчал.
Он больше не произнес ни слова, Ийлэ тоже не заговаривала.
Просто сидели.
Просто слушали ветер.
Дайну Нат высадил на окраине города.
– До площади мог бы и довезти, – недовольно проворчала она, оправляя юбки.
Нат не ответил.
Женщина его злила. И злость эта была иррациональной, подталкивающей к поступкам, о которых – Нат смутно сие предполагал – он будет жалеть. А потому он молча сбросил пару тюков, притороченных к седлу.
Личные вещи. И трогать их Райдо, к огромному удовольствию Дайны, не позволил, унижает его, видите ли, необходимость копаться в чужих тряпках. Его, может, и унижает, а вот Нат не гордый, Нат покопался бы и, пожалуй, отыскал бы немало интересного. Гнать ее следовало, и давно…
Тварь.
Стоит, кутается в шубу из черной норки. Откуда взяла? А понятно откуда… небось шубка эта или альве, или ее матушке принадлежала… и вернуть бы, но не велено.
А приказы Нат не нарушал.
Старался во всяком случае. И, подавив искушение взять женщину за горло, стиснуть так, чтобы сошла эта наглая ухмылка с лица ее, Нат запрыгнул в седло.
Дел у него имелось множество.
– Эй, щенок, – раздалось в спину, – передай своему хозяину, что Дайна ждать не станет, пусть поторопится.
– Ты о чем?
– Он знает…
А Нат догадывается. Она про ту комнату с железной дверью и еще про ювелира убитого… про людей, которые ищут сокровище, быть может, и про альву. Надо было в лесу остановиться.
В лесу после бури тихо, спокойно.
Сугробы глубокие, конь по самое брюхо проваливался. Небось еще насыплет… до самой весны не нашли бы, а по весне… там и волки голодные… и в окрестных лесах мертвецов множество, одним больше, одним меньше…
Райдо говорил, что женщин трогать нельзя. Слабые они. Эта не слабая. Эта – подлая. И в спину ударит, дай только шанс. Внутренний голос нашептывал, что Райдо и не узнал бы… нет, узнал бы, разозлился, но простил, понял бы, что Нат как лучше хотел… но Нат этому голосу велел заткнуться.
В конце концов, он сам Райдо клятву принес. И свое слово не нарушит.
И потому Нат решительно выкинул Дайну из головы. Дел у него имелось множество, и начать Нат решил со знакомого особняка, в котором ему точно рады не будут. Коня он оставил при таверне, бросив мальчишке-конюху пару монет за заботу. Сам же неспешным шагом прошелся до площади, а оттуда свернул на тихую улочку.
Особняк, окруженный низкой оградой, был невелик, но аккуратен. За оградой виднелись мерзлые яблоньки и тоненькие, покрытые ледяной глазурью вишневые деревца. Снег укрыл их, и кусты шиповника, и иные кусты, тоже колючие, но названия им Нат не знал.
Через ограду он перемахнул одним прыжком и, упав в рыхлый сугроб, затаился.
Тихо.
Ни собак, ни сторожей… и правильно, кого опасаться в месте столь умилительно спокойном? Нат нырнул под низкие плети кустарника. Он немного беспокоился, что на снежном покрывале остаются следы, с другой стороны, он не совершал ничего противоправного.
Во всяком случае, ему так казалось.
Добравшись до дома, который в ближайшем рассмотрении выглядел вовсе не столь уж роскошно, Нат замер. Он коснулся стены – деревянной, холодной. Бледно-розовая краска потрескалась и кое-где облезла, обнажая темную древесину.
Нат выпустил когти.
Это ведь не полный оборот, если только когти, а значит, можно, значит, если последствия и будут, то незначительные. Он потерпит.
Когти входили в дерево, что ножи в масло. И на карниз, на котором висели ящики для цветов, Нат забрался с легкостью. Карниз покрывала толстая корка льда, а ящики стояли плотно, неудобно.
Окна затянуло инеем.
И как понять, которое ему нужно?
Плотно сомкнутые створки почти не пропускали запахов, и Нату пришлось сосредоточиться… немного измениться, ведь когда меняешься, то запахи становятся ярче.
Цветочный и сладкий.
Не то.
Мирра… ее раздраженный голос перекрывает нервные звуки клавесина, и кажется, что Мирра не играет, но допрашивает инструмент.
Эта женщина тоже опасна.
Нельзя оставлять врагов за спиной. Райдо сам учил… и оставил… война ведь закончилась. Но он ошибается, война идет, здесь, в розовом особняке, за резными ставнями, за серыми стеклами… бархатная война, но меж тем все одно – беспощадная.
Впрочем, о войне Нат думать не любил и осторожно двинулся дальше.
Пустая комната. Запахов почти нет, а значит, заглядывают в нее редко. И следующая – острый аромат кофе и шоколада, голоса, на сей раз не Мирра, но миссис Арманди, которая тоже что-то говорит, и ноты знакомые, жаль, слов не разобрать. Нат не отказался бы послушать. Он предполагал, что услышал бы немало интересного.
И снова пустая. Ящики треклятые под весом Ната опасно хрустят. Падать, конечно, невысоко и особого вреда Нату не будет, но придется начинать все наново.
На ее окне висел венок из остролиста.
И запах шел сладкий, пьянящий. Нат так и замер, прижавшись к стеклу щекой, обнюхивая ставни, выискивая эти, почти стертые следы ее рук. И постучать решился не сразу. И даже почти отступил, испугавшись вдруг, хотя бояться было нечего. И на стук не отозвались, и тогда Нат решил, что его не ждут и не желают видеть и это хороший предлог, чтобы уйти.
Он найдет себе другую девушку. Сама мысль об этом показалась предательством, и Нат зарычал, ее отгоняя. А окно открылось.
– Нат! – Нира схватила его обеими руками за плечи. – Нат, ты… ты сумасшедший!
Она дернула его на себя, и Нат не удержался, в комнату вкатился кубарем. Что-то сбил. Зазвенело. И грохнуло. Нира испуганно оглянулась и, схватив его за руку, толкнула к шкафу:
– Сиди смирно!
Он же хотел сказать, что не безумен. В его роду уже лет триста как не отмечали случаев безумия. Не успел. Дверцы шкафа закрылись.
– Нира! – Голос миссис Арманди заставил Ната замереть. – Что случилось?
– Ничего… я вазу уронила… случайно… окно хотела открыть, а она взяла и…
– Нира, господи, Нира, когда ты научишься вести себя нормально? Зачем ты полезла к окну?
– Здесь душно, мама… я хотела воздуха… ты же запрещаешь мне гулять…
Нат пошевелил пальцами, возвращая им прежний вид. В шкафу было любопытно: множество запахов, которые переплетались друг с другом в сложный узор чужой жизни. Шелк, и аромат холодный, легкий, а у атласа – тяжелый… кажется, шерсть. Шерсть пахнет очень хорошо, и до нее Нат дотянулся, зарылся носом в мягкие складки…
– Мама, я устала здесь сидеть. Я ведь ничего не сделала! Я…
Дверь захлопнулась с резким звуком, в котором Нату почудилось раздражение. Ключ провернулся дважды.
– Выходи, – сказала Нира.
И Нат не без сожаления выпустил платье. Из шкафа выбирался осторожно.
– Ты… ты зачем пришел? – Нира села на пол у двери.
Плакала? Глаза терла, и глаза эти были красными.
– Ты не думай… я вовсе не расстраиваюсь, просто душно очень. Воздух сухой… и когда воздух сухой, то глаза сами собой слезятся… непроизвольно. – Она шмыгнула покрасневшим носом. – А так… чего мне плакать?
– Не знаю.
– Вот и я не знаю… ботинки снимай.
– Зачем?
Нира не то вздохнула, не то всхлипнула, но пояснила:
– На них снег налип. Таять будет. Вода… следы…
– Извини. – Нату стало стыдно, что сам он о вещи столь очевидной не подумал. Разведчик…
Ботинки он стянул и, распахнув окно, сунул их в снежный горб, благо сугроб на цветочном ящике образовался приличный.
– Они холодные потом будут, – с упреком произнесла Нира.
– Ничего.
– Замерзнешь.
Нат покачал головой.
– Так зачем ты…
– Тебя увидеть.
– А я думала, что ты теперь меня видеть не захочешь… после всего… и хотела тебе написать… объяснить все… а меня вот заперли… если выпускают куда, то только с Миррой. А она следит… поэтому никак… и вообще не хочет со мной знаться, будто я в чем виновата…
Она все-таки расплакалась, некрасиво шмыгая носом, вытирая этот нос дрожащей ручкой; и Нат растерялся, не представляя, как теперь быть.
Утешать?
Он не представлял себе совершенно, как утешают плачущих женщин, и потому просто шагнул к ней, обнял, уткнулся носом в рыжеватые волосы, от которых пахло весной и крапивой.
– Ты хорошая…
– Нет.
– Хорошая… и пахнешь вкусно… я тебя отсюда заберу… пойдешь за меня замуж?
– За тебя? – Она от удивления плакать перестала.
– У меня есть деньги. Райдо еще раньше счет открыл. Мы получали процент от… призовые… и жалованье… и он говорит, что у меня перспективы неплохие. Конечно, это ерунда, я ведь из рода ушел, и значит, теперь вроде бы как сам по себе… нет, то есть с Райдо, но его райгрэ меня не принял… и пока Райдо жив, то я… запутался немного. Главное, что я работу найду. У Райдо брат в полиции работает, и там нужны всякие, а у меня нюх неплохой и опыт тоже имеется… учиться надо, но если по вечерам, то… в общем, я сумею о тебе позаботиться.
– Ты смешной.
– Я? – Нат нахмурился, меньше всего ему хотелось казаться смешным. – Дом я сразу не куплю, но Райдо будет не против, если мы поживем с ним…
– Он…
– Он не умрет. – Нат провел ладонью по мокрой щеке и пальцы свои понюхал. Слезы Ниры пахли морем. – Теперь он точно не умрет. Ийлэ обещала.
– Как она?
– Нормально. Грустная только. Но больше его не боится. И меня не боится. А мне не хочется ее убить. Я альвов ненавижу, – на всякий случай счел нужным пояснить Нат, – других. Не ее.
– Это хорошо.
– Так ты выйдешь за меня?
Глава 19
– Выйду.
Нира подумала, что вряд ли родители одобрят этот брак… и, наверное, Нат немного поспешил, он ведь совсем молодой, но ведь не обязательно жениться сейчас…
– Тогда хорошо. – Нат сунул руку за пазуху.
Он был смешной. Взъерошенный. И предельно серьезный. В куртке какой-то старой, с латками на локтях, с меховым воротником, на котором таяли снежинки. Из внутреннего кармана куртки Нат достал мешочек, а из него вытряхнул кольцо. Простой желтый ободок с квадратной огранки камнем.
– Вот. У вас ведь принято, и… и у меня были кое-какие вещи. Ты не подумай, я никого не убивал… точнее, убивал, но не… мы как-то банду мародеров взяли, а при них вот… и моя доля… у людей же принято, чтобы кольца…
Камень был крупным, прозрачным, сияющим.
– Я не знаю даже, драгоценный ли он… – Нат сам надел кольцо на палец. – Я бы купил другое, но у вас здесь совсем выбора нет…
– Спасибо.
Кольцо пришлось впору.
Хорошая примета?
Чужое кольцо, которое принадлежало… кому? Лучше не думать, как и о том, что стало с этой женщиной или девушкой. Быть может, ей тоже подарили на помолвку, а потом война. Но Нат не убивал, не ее – здесь Нира ему верит. А мародеры… разбойники… шериф говорит, что от них житья не стало, что у него не хватает сил, чтобы справиться со всеми.
Дороги небезопасны.
И вообще лучше не выходить из дома, а по мнению матушки – которая, правда, это мнение не озвучивает, – и из комнаты. Наверное, будь такая возможность, матушка Ниру отослала бы, но… дороги небезопасны…
И Нира глупо радовалась что этой небезопасности, что кольцу… и она теперь невеста?
– Если захочешь, то потом купим другое. – Нат наклонился и осторожно коснулся губами щеки.
Поцелуй? Не такой, каким должен был быть… не то чтобы Нира так уж хорошо в поцелуях разбиралась. Она, конечно, кое-что видела… когда Мирра и Альфред…
Что за ерунда в голову лезет? Это из-за волнения… Нира вечно волнуется по пустякам, но свадьба, которая когда-нибудь да состоится – не пустяк… и поцелуй…
Она тронула квадратный камень, который на прикосновение отозвался, полыхнул ярко, и решилась. Встав на цыпочки, Нира обвила шею жениха – если жениха, то ведь можно, верно? – и поцеловала его.
В губы.
…оказалась, она совершенно неправильно представляла себе поцелуи… и целоваться не умела, чего нельзя было сказать про Ната…
– Ты теперь моя, – сказал он на ухо потом, немного позже. – Совсем моя…
Наверное, это можно было счесть признанием в любви.
– Тебе пора, да? – Ей не хотелось его отпускать, она бы вечность стояла так, прижавшись к замечательной этой куртке: старой, но мягкой, будто бы сшитой не из кожи, а из ткани. Стояла и гладила что кожу, что длинный влажный мех воротника, что Натовы волосы… постричь бы его аккуратно… или не надо? Нестриженым он как-то роднее…
– Да, наверное. – Он тоже не хотел уходить. Нира чувствовала это его нежелание, на которое откликалась и цеплялась сильней. – Если меня здесь найдут, то…
– Мне достанется.
И кольцо матушку не переубедит. Напротив, узнай она о кольце, то… заберет.
Для Мирры.
Мирре вот драгоценности очень даже по вкусу, но то, которое Альфред ей преподнес на помолвку, куда как скромней. С алмазом, но крошечным, чуть больше булавочной головки. Все знают, что матушка Альфреда этому браку не рада, а потому и тратиться не позволяет, надеется уговорить сыночка помолвку расторгнуть. Отец же не вмешивается, ему все равно…
– Хочешь уехать со мной? – Нат взял ее лицо в ладони. Склонился, касаясь носом носа… и так никто не делает, но Нире все равно.
– Сейчас?
– Сейчас. Я помогу спуститься. Лошадь ждет. Райдо, конечно, будет недоволен, но не прогонит, покричит немного… на меня покричит, – уточнил Нат.
– Я не хочу, чтобы на тебя кричали.
– Он разрешит остаться…
– Нет. – Нира с сожалением покачала головой. – Нельзя так… и мне еще шестнадцати нет… тебя обвинят… даже если я скажу, что сама пошла, все равно обвинят в… в том, что ты меня украл. И судить станут…
…и, наверное, его вожак заступится, решит проблему. По-своему решит: Ниру вернут родителям, а Ната отошлют, быть может, за Перевал.
Кажется, он сам думал о том же. Вздохнул. И снова поцеловал. Осторожно так, точно боялся, что Нира испугается. Глупый какой. Она не боится его совершенно…
– Я еще приду.
– Я буду ждать…
– Хорошо. – Нат коснулся кончика носа. – Я… мне было без тебя плохо.
Нира кивнула. И ей было.
Когда очнулась в карете. И еще когда поняла, что их с Натом усыпили. И потребовала объяснений, а никто объяснять не стал. Она все спрашивала, а они молчали, будто бы Ниры вовсе не существовало… отец и тот к окну отвернулся, губы поджал раздраженно. И еще четки достал, щелкать принялся, нарочно громко щелкал, зная, что маму это щелканье раздражает неимоверно. Она и злилась. Но молчала.
Мирра сидела прямо, глядела исключительно перед собой. Правда, перед ней сидела Нира, но была уверена, что сестрица ее не видит. И когда Нира закричала – просто, чтобы заставить их очнуться, ей отвесили пощечину.
– Не истери, – велела сестра чужим ледяным голосом. – И без тебя проблем хватает.
Они так и не сказали, что с Натом.
Привезли, заперли, выпускали только к завтракам, обедам и ужинам, но и за ними Нира чувствовала себя лишней.
– Еще два месяца, – сказала она, стискивая широкую Натову ладонь. – У меня день рождения весной. Два месяца, и… и мы сможем заключить брак в магистрате… только не в нашем, потому что мэр непременно донесет отцу, а тот…
– Я куплю лицензию.
– Тогда хорошо… если по лицензии, то…
…все получится.
Конечно, все у них получится, и не надо говорить, что Нира слишком молода, поэтому ничего не понимает. Она понимает. Любит. И будет любить.
– Возвращайся, – попросила она, когда Нат забрался на подоконник. – Я буду ждать… и… Нат, погоди… будьте осторожны… Мирра привыкла получать то, что хочет… и мама тоже… себя береги.
– Обязательно.
Нира ему не поверила.
А он, скользнув губами по щеке, шепотом сказал:
– У тебя волосы пахнут крапивой…
Нат выбрался из сада.
Настроение было прекрасным. Настолько прекрасным, что, увидев собственное отражение в витрине, Нат остановился.
Удивительно. Он улыбается. Нет, Райдо не прав, Нат улыбаться умел, но вот чтобы так… как-то странно… и счастливо… и вообще глупо он выглядит; но этот глупый собственный вид нисколько не раздражает.
Петь хочется. Или сделать что-то, что-нибудь совершенно безумное. И Нат, оглядевшись – улочка была приятно пустынна, – встал на руки. На них и прошелся до самого входа в лавку и на крыльцо подняться попытался. Всего-то пять ступенек, равновесие Нат потерял на третьей, и пришлось извернуться, чтобы не сесть с размаху в грязь.
– Здрасте, – вежливо поздоровался он, смахнув с волос снежинки. И престарелый лавочник, чем-то напоминавший нахохлившегося черного грача, кивнул. – Мне бы вот чего надо…
Список Райдо дал длинный. И Нат не был уверен, что сумеет купить все. Нет, с мылом там или яичным порошком – это просто… или вот еще хлеб… а с платьями как быть? В платьях Нат не разбирается совершенно. И в чулках. И в подвязках, которые к чулкам положены, а еще подъюбники, корсеты…
Письма отправить.
…прислугой озаботиться, потому что с этим огромным домом Нату одному не управиться.
…и вообще дел невпроворот, а его разрывает от странного иррационального счастья. И тянет вернуться в тот дом, по собственному следу и до стены, а там – наверх, к окошку, затянутому льдом, залепленному снегом.
И Нат вернется. Позже. Он ведь обещал.
Его взяли на выходе из лавки, и Нат еще подумал, что недаром человек так долго в подсобке возился, небось отправил кого к шерифу. А потом время тянул, все считал и пересчитывал, то банки путал, то матерчатые мешки с мукой, сахаром перевешивать брался, то путался в рулонах ткани…
…ждал.
Дождался.
– Парень, – шериф вошел в лавку, придержав дверь, чтоб не ударилась. И колокольчик на ней звякнул тихо, вежливо, – тебе придется пройти с нами.
Если бы шериф был один…
…двое с арбалетами.
– Не шали, – сказал Йен, сплюнув на пол, и лавочник поморщился: полы были чистыми, только-только отскоблили их. – Улицу перекрыли. Ты побежишь, нам стрелять придется, еще раним ненароком. Кому оно надо?
Йен говорил спокойно, умиротворенно даже, точно нисколько не сомневаясь, что Нат проявит благоразумие.
– Чего ты хочешь?
Нат прикинул: улица и вправду узкая. И если стрелков посадить грамотно… еще и сети…
– Разобраться хочу. – Шериф мотнул головой, и лавочник беззвучно исчез за дверью, той самой, в подсобку, в которой хранились банки с консервированными овощами.
Райдо просил привезти персиков. И еще яблочного джема. Ему казалось, что Ийлэ джем должен понравиться.
– В чем?
Бежать? Остаться?
Если обратиться, то… выстрелить успеют, а чешуя мягкая. Но Нат и со стрелой ушел бы, с полудюжиной стрел, из города выбрался бы точно, но дальше… кровь на снегу – хороший след, да и шериф не так глуп, чтобы не просчитать этот вариант.
– Верно думаешь, парень, – кивнул он. – У нас собаки, и верховых найдем… ты, конечно, шустрый, но не до такой же степени. Потому не дури. Идем с нами. Я тебя даже связывать не стану, если слово дашь…
– Какое?
– Дойти до управы.
– В чем меня обвиняют? – Нат склонил голову набок.
Людей он не боялся. И арбалетных болтов тоже. И если подумать, то и смерти.
– Пока не обвиняют. – Шериф положил руку на плечо.
– В чем?
– Убийство.
Сердце ухнуло.
– Ты привез Дайну в город?
Нат кивнул и уточнил:
– Я ее не трогал.
– Ты, может, и не трогал, а кто-то вот тронул, да так, что… идем, парень… я к твоему хозяину нарочного отправлю…
– Райдо не хозяин.
– Тю, а кто?
– Вожак.
Шериф пожал плечами: с его точки зрения разницы не было никакой.
Нат задерживался.
Ийлэ изначально не по вкусу пришлась мысль отправить его в город. В городе небезопасно.
Она знает. Она не находит себе места, мерит комнату шагами, и малышка, чувствуя ее волнение, ворочается, ерзает, вяло хнычет. И никак не желает засыпать.
– Дай сюда, – проворчал Райдо. – И успокойся уже… не заставляй меня ревновать.
– Что?
– Обо мне ты так не беспокоишься. – Девочку он положил на сгиб руки. – Вот так… а то мамочке твоей опять что-то в голову втемяшилось… в этой голове слишком много всего…
Много. Наверное. Но что-то случилось.
И Дайну он взял…
Кажется, это Ийлэ вслух произнесла.
– Расскажи о ней, – попросил Райдо, усаживаясь у камина. Он двигался все еще осторожно: пусть осколки разрыв-цветка и спали, но тело помнило боль. Тело не желало новой.
– Зачем?
Ийлэ остановилась у окна. И вправду, что она себе надумала? Нат? Да какое ей до Ната дело. Она заключила сделку с Райдо и о нем бы должна беспокоиться, как о залоге собственного будущего.
– Просто… пытаюсь понять, что она за человек.
– Люди лгут.
– Все лгут, Ийлэ. Люди, псы, альвы… все убивают… и умирают… творят что зло, что добро…
– На мудрые мысли потянуло? – Она заставила себя дышать.
Предчувствие беды не уходило. Напротив. Чем сильнее Ийлэ старалась отрешиться от него, тем острее становилось понимание, что вот-вот произойдет нечто такое… страшное…
…а тогда не было никаких предчувствий.
…тогда она позволяла себе быть преступно беспечной. Верила, что все – почти игра…
– Да какая это мудрость? Дерьма везде хватает, но это еще не значит, что весь мир из него слеплен… Я знаю, что Дайна служила в этом доме.
– Да. – Ийлэ не без труда отвела взгляд. Все равно обындевевшее стекло утратило прозрачность, и не разглядишь, что там, по другую его сторону. – Служила… ее матушка наняла… она в Благотворительном комитете состояла. Дайна – сирота, и… ее учили кое-чему, но этого мало, чтобы попасть в хороший дом. Без рекомендаций на приличную работу не устроишься. А кто даст рекомендации сироте? Но директор приюта писала дамам из комитета… просила… и за Дайну попросила… она думала, что Дайна – очень милая скромная девушка…
Снегопад прекратился. И буря улеглась еще вчера. Дом выдержал ее и теперь лишь вздыхал под тяжестью снегов.
– И маме так показалось… она пришла вся такая… несчастная… ее в доме жалели… кроме найо Рамси… нашей экономки.
– Она не жалела?
– Она сразу сказала, что Дайна себе на уме.
У найо Рамси было вытянутое костлявое лицо с темными глазами, маленькими, глубоко посаженными, и глаза эти смотрели с неодобрением.
Она носила серые платья. И белые воротнички, накрахмаленные до хруста.
– Следила за ней… найо Рамси за всеми следила, но за Дайной особенно. Говорила, что от таких девиц надо ждать неприятностей. Мама отмахивалась только. Дайну не за что было увольнять… да и неудобно перед остальными дамами… все ведь принимали в дома сирот, хотя бы года на два… или дольше, если по нраву пришлось, главное, чтобы рекомендации заслужить, а тут…
Ийлэ прислушалась. Ничего. Никого. Только ветер в трубах воет, пробирается в дом. Комнат слишком много, а Нат не способен управиться со всеми, поэтому камины задернуты серым пеплом. Лишь этот горит: манит подобраться ближе, обещает тепло и покой.
Но тревожно. Почему его до сих пор нет?
Райдо сказал, что Нат вернется затемно, а темнеет зимой быстро…
– Потом прислуга стала просить расчет. И найо Рамси тоже уехала. У нее сын был, которого забрали воевать… а у него осталась жена и дети. Найо Рамси сказала, что им она нужней… без нее в доме стало иначе…
Ему сложно объяснить, в чем именно заключались перемены, да и сама Ийлэ не понимает, чтобы до конца. Сохранился прежний распорядок. Обеды и ужины, посиделки в другой гостиной. Карточный стол. Тихие беседы. Мама музицирует, а отец подпевает ей. Голос у него красивый, низкий… книга, которую Ийлэ читает пятый вечер подряд, скучная, но меж тем бросить не выходит.
Мозаика.
Настольная игра на троих.
И стакан молока, который приносят в постель.
Все как раньше, но слегка иначе.
– Дайна стала нужна. – Та память еще саднила, как старая рана. – В таком доме всегда много работы… о нем нужно заботиться.
Она погладила шелковую стену. Дом спал. Простил ее? А она его? Взаимное предательство… когда-нибудь он отзовется, и Ийлэ расскажет, что больше не держит на него зла.
– Она стала личной горничной матушки. У нее хорошо получалось с волосами управляться, настоящий талант. И мама сказала, что потом, когда все закончится, она даст Дайне рекомендации… то есть напишет, что она может быть не просто горничной, а личной… это ведь большая разница.
– Но ей было мало?
– Не знаю. Наверное. Маме… был нужен кто-то, с кем можно побеседовать… ее подруги о ней забыли… и писем больше не приходило… и все ждали чего-то… а Дайна всегда была готова выслушать… – Ийлэ провела коготком по каминной полке, которая нагрелась. И теплый камень напоминал о лете. – Мне кажется, что мама, сама того не желая, говорила ей больше, чем следовало…
Теплый камень. Еще немного, и раскалится.
Если сжать его в руке и держать, долго держать, быть может, это внешнее тепло растопит холод внутри Ийлэ?
– А потом мама сказала, что… мне следует уйти… спрятаться… ненадолго… но все пошло не так…
– Тише… что ты творишь, девочка? Руки лишние? – Райдо снова оказался рядом.
Когда? Какая разница.
За руку держал, а ладонь уже была в камине, почти касалась рыжих косм пламени.
– Об этом не надо вспоминать. – Райдо руку заставил убрать.
И от камина отступить.
Он развернул Ийлэ, обнял, стоял, водил по спине ее широкой ладонью, и странное дело: прикосновения эти не вызывали отвращения, напротив, успокаивали.
– Не сейчас… не время еще… ты про Дайну рассказывала… она появилась в доме?
– Да.
– Когда?
– Не знаю… я не… мне сначала было…
– Не до нее…
– Да.
С ним легче. И тревога отступает, но это ложное чувство защищенности, потому что… просто потому, что он – пес. Ийлэ ему нужна, чтобы жить, а он нужен ей… и Райдо клятву дал.
Впрочем, клятва лишь слова. Сдержит ли?
– Потом… потом уже… она заняла мамину комнату… и водила туда…
Слюна сделалась вязкой, а губы онемели. И Райдо провел по ним пальцем, стирая эту немоту.
– Вещи брала… мамины шляпки… платья ей были малы, но она все равно… сама расставляла их… умела шить… переделывала… мамин гребень, который маме отец подарил… шпильки… ее пудра… духи… все, что принадлежало маме. У нее много было всего… она… она как будто пыталась украсть… не украсть, а… взять мамину жизнь…
– Но у нее не получалось?
– Да.
Он понял.
– Она приходила ко мне… и показывала… говорила, что заслуживает всего больше, чем… что мама сама виновата… ее убили и… а Дайна жива… почему она жива, а маму убили? Мама не воевала… она никому плохого не делала… но ее все равно убили. За что?
– Не знаю, девочка. – Шершавый палец Райдо скользнул по щеке. – Что бы я теперь ни сказал, тебе не станет легче.
– Наверное.
– Я знаю, что не станет. Со временем, быть может…
– Я вас ненавижу.
– Меня?
– И тебя.
– Ната?
– Да… он не возвращается… что-то случилось…
– Что с ним может случиться? У девчонки своей застрял. Влюбился, представляешь? Она мне показалась симпатичной, лучше, чем ее сестрица. Надеюсь, что лучше, потому как Нат – парень хороший, только диковатый слегка. Ну, у него жизнь такая была… у всех у нас была такая жизнь, что одичать недолго.
Райдо отпустил. И хорошо. Ей не нужно его сочувствие, и вообще ничего не нужно, кроме самой возможности жить.
– Твой отец был королевским ювелиром, верно?
Ийлэ кивнула:
– Тебе нужны его драгоценности?
– Не особо. – Райдо вернулся на ковер, сел рядом с малышкой, которая сама перевернулась на живот и теперь лежала, растопырив руки. – Они нужны людям, а значит, люди не отстанут. Я пытаюсь разобраться в том, что здесь произошло. Кто знал про твоего отца?
– Немногие… он не то чтобы таился, просто… кому было рассказывать? Маме вот…
– А она подругам?
– Ты о найо Арманди? Кажется, да… а отец – доктору. Они часто посиделки устраивали. Папа любил маму и меня любил, но иногда нужен был кто-то, просто чтобы поговорить… и доктор…
– Значит, уже двое… Дайна?
– Да. – Ийлэ после краткого раздумья вынуждена была согласиться. – Она помогала маме… и не могла не видеть ее драгоценностей.
– Трое – это много. – Райдо помог малышке перевернуться на спину. – С кем Дайна водилась?
– С кем она только не водилась.
Прозвучало зло. Это от обиды и еще оттого, что Дайна не просто выживала, она получала удовольствие от того, что красива, молода и нравится. И то внимание ее не тяготило. Ее ничто не тяготило.
– Во всей этой истории есть несколько неправильных моментов… – Райдо лег на живот, он гладил малышку большим пальцем по голове, и та улыбалась, норовила за пальцем повернуться.
Пузыри пускала.
– Первый – почему люди не пришли раньше, когда дом стоял пустым? Ладно, поначалу здесь особисты терлись, но потом-то они убрались. То есть люди появились и даже сделали ремонт на скорую руку, а потом вдруг будто бы забыли про все. Второй – почему тебя вообще оставили в живых. Не то чтобы я жалуюсь… – Он смотрел снизу вверх, и под взглядом этих светлых глаз Ийлэ чувствовала себя неуютно.
Нет, от Райдо не исходила угроза. Он не тронет. Не пнет походя. Не ударит лишь потому, что имеет возможность ударить. Он не будет ломать пальцы, один за другим, глядя в глаза, наслаждаясь болью и упрямством, впрочем, и криком, когда упрямство иссякнет, тоже…
Насиловать не станет.
Он обещал защиту; и хочется верить, что сдержит слово. Но зачем тогда он смотрит вот так… выжидающе?
Ийлэ отвернулась первой.
– Ийлэ… – Мягкий рокочущий голос. – Их ведь не нашли? Драгоценности.
– Нет.
Ийлэ знает точно.
И становится вновь страшно, потому как… Райдо был рядом. И будет. И она ему нужна, но и сокровища нужны тоже… и как знать – что важнее…
Жизнь.
Своей жизнью он не станет рисковать.
…пока не станет, а вот позже, когда поправится…
– Ийлэ… – Шепот, и дыхание на шее, и пальцы ложатся на плечо. Руки у него большие, тяжелые, а вот пальцы нежные, Ийлэ чувствует их сквозь ткань. – Ты мне не доверяешь?
Нет.
И да, ей хочется поверить, кому-нибудь… пусть бы и псу…
– Конечно, не доверяешь, – сам себе ответил Райдо. – У тебя нет на то причин. Но на самом деле я свое сокровище уже нашел, осталось сохранить. А чтобы сохранить, я должен понять… тебя ведь спрашивали о… драгоценностях?
– Да.
– Ты не рассказала.
– Да.
– Почему?
Он и вправду не понимает?
– Я… хотела жить.
Еще одно иррациональное желание.
– Он… он думал, что сокровища в сейфе… он заставил меня сейф открыть… не весь. Пара ячеек. Я знала далеко не все коды.
– Что нашел?
– Мелочь… золотой лом… серебро… платины немного. Эмали. Инструмент. – Ийлэ закрыла глаза, перечисляя. – Жемчуг. Неграненые камни… не особо ценные… заготовки…
Она перечисляла, стараясь говорить ровно, спокойно, но голос предал, сорвался.
– Он разозлился. – Райдо не спрашивал, констатировал факт. – И сделал тебе больно.
Ийлэ кивнула.
– Он умер, девочка… совсем умер… а если бы вдруг остался жив, я бы убил его.
И снова захотелось ему поверить.
– И я убью любого, кто сунется в мой дом… с не теми намерениями.
– А проверять как будешь?
– Намерения? – уточнил Райдо и, широко оскалившись, произнес: – Никак. Доверюсь интуиции.
Ийлэ фыркнула. Не то чтобы она вовсе интуиции Райдо не доверяла, но собственная ее прямо-таки вопила об опасности, и опасность эта была связана с Натом.
– Что? – Райдо почувствовал смену настроения.
– Нат… что-то случилось… нехорошее… я не знаю что. – Она поспешила отступить к двери. – Но случилось… наверное, я паникую, да?
Райдо кивнул. Перевел взгляд с Ийлэ на малышку…
– Бери ее. Одевай. И сама одевайся. Тепло. Одеяла возьми…
Глава 20
Тревожно.
Тревога поселилась давно, но Райдо гнал ее прочь, поскольку рациональное сознание отказывалось признавать, что для волнения есть причины. Но тревога разрасталась диким терном. Мешала.
Что опасного может быть в поездке?
Нат наведывался в город частенько. Пара миль верхом. Да, дорогу занесло, но не настолько, чтобы это стало серьезным препятствием. Другое дело – люди.
Напасть открыто не посмеют.
Или… дороги небезопасны…
Темнеет рано.
До вечера еще порядком, но небо уже набрякло лиловым, чернильным колером, на котором ярко проступило полукружье луны.
Нельзя было его одного…
…но письма… и еда нормальная… и, в конце концов, в доме тоже не будешь до весны прятаться… главное, чтобы с письмами успел…
– Шубу возьми. – Райдо сам притащил эту шубу из толстой клочковатой овчины, не слишком чистую, но все же теплую. – Одеяла.
Ийлэ кивнула.
Не спорит – уже хорошо. Но ей страшно. И страх заострил и без того острые черты лица, сделав его почти некрасивым, гротескным. Слишком длинный нос. Слишком большой рот и слишком бледные губы. А глаза запавшие, напротив, яркие, травяно-зеленые.
Смотрит прямо. Молчит. И от молчания этого Райдо неуютно делается. И еще от взгляда, в котором тоска и обреченность.
– С шубой теплее… – Райдо сам накидывает тулуп на острые плечи, походя отмечая, что она все еще в его свитере ходит, который для нее широк, безразмерен, и альва теряется в вязаных складках. – Послушай, пожалуйста, я не могу взять тебя с собой. Я хотел бы, но не могу…
Кивок.
Она понимает все прекрасно, но понимание это не способно справиться с ее страхом.
– Если все в порядке, то я вернусь. И если не в порядке, тоже вернусь. В любом случае вернусь, мне ведь от тебя деваться некуда. Значит, надо лишь подождать. Я понимаю, что ждать тебе сложно, но… иначе ведь никак.
И снова кивок. Сказала бы хоть что-нибудь.
– Дай ее мне… ты имя придумала?
– Нани.
– Разве это имя? – Закрученная в пуховые шали, завернутая в меховое одеяло, малышка походила на огромную косматую гусеницу. – Нани… что оно означает?
– Ребенок.
– Назвать ребенка ребенком?
Альва пожала плечами и вновь замолчала. Вот невозможная женщина… другая бы разрыдалась, истерику устроила бы, обвинив попутно во всех возможных грехах, и была бы права, потому как Райдо виноват, а эта…
Нани. Дурацкое имя какое-то. У альвов вечно все не так.
– В доме оставаться нельзя. Если полезут, то сюда, поэтому… я видел башню…
– Маяк, – поправила альва и в шубу вцепилась-таки. – Раньше маяк был. Костер наверху разводили, если кто в бурю заплутает.
– Костер – это хорошо. – Райдо держал малышку в одной руке, а второй подталкивал альву, которая, конечно, шла, но как-то очень медленно, словно каждый шаг давался ей с немалым трудом. – Но мы пока от костра воздержимся. Я туда заглядывал. Не сейчас, раньше, когда еще соображал чего-то. Грязь, конечно, хлам всякий, но, с другой стороны, туда не сунутся. В доме искать будут. Они не могут не понимать, что вернусь я быстро…
За порогом было белым-бело. И Райдо зажмурился от этой невозможной белизны. Солнце клонилось к закату. Длинные тени располосовали снег. И торчали из сугробов колючие ветки.
Розы? Шиповник?
Тот самый пограничный терн, который оживал, разворачивая одревесневшие плети, норовя хлестануть по глазам, а если не удастся, то хотя бы впиться в броню крючьями шипов. И страшно вдруг становится. Чудится: там, под снегом, под радужною пленкой наста скрытая жизнь, готовая встретить Райдо. Прорасти в него.
– Идем. – Он взял альву за руку, и ощущение теплых, тонких пальцев в ладони отрезвило.
Испугался? Бывает. Со всеми бывает. И страх – не стыдно. Стыдно поддаваться. Она тоже дрожит, и губы посерели…
– Снегопад… у вас тут всегда такие снега?
– Нет.
– Мне говорили, что климат мягче, но… у нас вот такой зимы не бывает. – Райдо обнял альву за плечи, и она не отстранилась. Наверное, белое снежное поле пугало ее сильней, чем Райдо.
– Иногда снег идет, но чаще – дождь, и сырость постоянная… быть может, за городом сугробы и встречаются, но вот такие… снег тоже другой. Небо. Все другое. Наверное, в лесу сейчас красиво.
Снег падал. Крупный, липкий и пахнущий небом, если у неба вообще есть запах: такой вязкий, стеклянный. И с каждой секундой запах этот становился сильней. А снега больше. Хорошо. Следы заметет. Лишь бы буря вновь не разыгралась… башня, оставшаяся без крыши, не то убежище, в котором стоит пережидать бурю.
Альва, наверное, думала о том же и на башню глядела едва ли не с ненавистью.
– Там изнутри есть засов?
Есть. Солидный, пусть и покрытый сверху налетом ржавчины. Но петли держатся, да и сама дверь выглядит надежной. С ходу такую не взломать.
– Я уйду, а ты запрешься. Молоко в корзине. И еще я мяса сушеного положил, просто на всякий случай. Сиди тихо, и… и ты же умеешь прятаться.
Закушенная губа дрожит, а в глазах – почти слезы. И страшно оставлять ее здесь.
– Ийлэ, – Райдо опустился на колени, – ты умная девочка… и храбрая… и очень сильная.
Покачала головой.
– Сильная, не упрямься. Ты же понимаешь, что я не могу взять вас с собой. – Он вытер пальцами сухие ее щеки. – Я быстро. До города и обратно… и часа два от силы… а может, и меньше, если обернусь.
– Тебе нельзя.
– Тогда не буду. Но если очень нужно, то можно?
– Только если очень… я спрячусь. Здесь есть кладовая. В ней раньше дрова, и… мы будем тихо сидеть… мы… сумеем тихо…
– Конечно, сумеете.
– Я их не боюсь.
– И правильно. Пусть они нас боятся.
– Райдо… ты же действительно вернешься?
В башне темно. Пахнет чем-то резко, неприятно, но сейчас и к лучшему, поскольку вонь эта собьет собак со следа, если, конечно, сюда посмеют явиться с собаками.
Альва ждет ответа. Смотрит… и не верит.
– Клянусь огнем первозданным…
Все равно не верит, но заставляет себя кивнуть.
– Может, тебе еще одеял принести?
– Иди.
– Или еды? Или…
– Уходи. – Она кладет руку на засов. – Чем раньше ты уйдешь, тем скорее вернешься.
В этом была своя правда.
Всадника он встретил у самой реки. И тот вскинул руку, приветствуя Райдо.
– Рад, что повстречал вас. Меня шериф за вами послал… – Всадник придержал каракового жеребчика, который косился на Райдо кровяным глазом. Явно чуял хищника и хрипел, пятился, приседая на круп. – Еле добрался. Такая круговерть… кажется, того и гляди опять начнется…
– Что случилось?
Всадник был знаком.
Альфред. Точно, тот самый Альфред, за которого Мирра едва не вышла замуж. Сын мэра. Не похож он на сына мэра. С мэром Райдо встречался, хотя и воспоминания о той встрече остались смутные, смазанные. Но мэр представлялся ему человеком невыразительным, склонным к полноте и меланхолии. Он разговаривал тихим голосом, сутулился и повсюду носил с собой фляжку с целебным отваром. У мэра шалило сердце. Или язва была? Один хрен, главное, что этот бодрый молодчик, который разглядывал Райдо, не пытаясь вежливости ради любопытство свое скрыть, походил на мэра не больше, чем волк на болонку…
И раз уж он на Райдо пялится, то и Райдо на него поглядит. Примерится.
Высокий для человека. Тощий или, скорее, жилистый. Лицо открытое, приятное, но запах выдает хищника, а значит, приятность эта – не более чем маска. Но качественная. И человек привык к ней, прирос почти, небось истинное лицо если и выглядывает, то редко.
Отвечать не торопится.
Перчатки снял, поправил шейный платок, который сбился набок.
– Ваш мальчишка Дайну убил, – сказал он, растягивая слова.
– Чушь.
Альфред пожал плечами: ему было все равно.
И ехал он отнюдь не затем, чтобы сообщить Райдо сию удивительную новость. Ему в дом нужно было попасть. И встреча у реки планы несколько изменила, но настолько ли, чтобы вовсе от них отказываться?
Альфред наклонился, опираясь на луку седла.
– Ей горло перервали… – произнес он доверительным тоном. – Вот шериф и велел мальчишку задержать… на всякий случай. А меня к вам направил. Да только вы и сами, вижу, решили прокатиться.
– Решил.
– Замечательно. Шериф будет рад. Ему не нужны конфликты. Он у нас человек миролюбивый… дипломатичный… – Альфред тронул коня. – Вас проводить?
– Будьте столь любезны.
Будет. Куда он денется? Некоторое время ехали молча. Караковый жеребчик все еще косился на Райдо с опаской, но шалить не смел. Всадник же его улыбался каким-то своим мыслям.
– Я вас все спросить хотел… – Он заговорил, когда лошади выбрались на тракт. – Про Ийлэ…
– Спрашивайте.
– Я вам не нравлюсь?
– А с чего вам мне нравиться? – Райдо зубами стянул перчатку и, поймав на ладонь снежинку, слизнул ее.
– Мало ли… я всем нравлюсь. Так во всяком случае говорят.
– Не верьте.
– Не верю. – Альфред пришпорил жеребчика, переходя на тряскую рысь. – Так вот, возвращаясь к моему вопросу… вы не хотели бы ее уступить?
– Что?
– Уступить, – спокойно повторил Альфред. – Я готов обговорить цену. И речь не только… не столько о деньгах…
Райдо подумал, что сломанный нос несколько нарушит общую гармонию черт этого лица, но в конечном итоге впишется неплохо. И очень симпатичным парням порой ломают носы.
Альфред же внимание истолковал по-своему.
– Я могу оказать вам услугу, и не одну. Вы в городе человек новый… простите, не человек, но все одно чужак, а я – свой, мне многое видней. Очевидней, я бы сказал. Я помог бы вам вписаться в общество.
– Как любезно.
– Напрасно иронизируете. – Альфред улыбнулся; и надо сказать, что улыбка у него получилась широкой, лучезарной даже. – Местное общество имеет свою специфику. Вас не примут без чьей-либо протекции.
– Полагаете, меня это огорчит?
– Возможно, да. Скорее всего, нет, но главное, что между вами и горожанами возникнет недопонимание, а оно порой бывает опасно… очень опасно…
– Еще скажите, что смертельно.
Райдо оскалился, надеясь, что человек эту его улыбку верно интерпретирует.
– Ну что вы… это могло бы прозвучать как угроза.
– А вы мне угрожаете?
– Помилуйте, кто я такой, чтобы вам угрожать? – насмешливо приподнятая бровь. И мизинец касается щеки. – Я лишь пытаюсь предупредить вас, удержать от необдуманных поступков.
– Очень вам за это благодарен. – Райдо поклонился.
И Альфред ответил же поклоном, уточнив:
– Значит, не отдадите?
– Нет.
– Зачем вам она?
– Я мог бы спросить вас о том же…
– И я бы ответил, что когда-то я ее любил…
– Когда-то?
– Все течет, все меняется…
– И чувства уходят.
– Увы.
– Или объект их теряет былую привлекательность. Оно и вправду – одно дело любить единственную дочь королевского ювелира, а совсем другое – бездомную альву.
– Время сейчас такое. – Безмятежный взгляд Альфреда скользнул по корявым сосенкам, что вытянулись вдоль дороги. – Альвов любить в принципе небезопасно, вне зависимости от наличия у них дома. Но вы правы в одном. Мои намерения изменились. Раньше я был готов предложить Ийлэ руку и сердце.
– А теперь?
– Спокойную жизнь. Не такую, к которой она, конечно, привыкла, но вполне себе обеспеченную. Маленький домик. Неплохое содержание. Мне сказали, у нее есть ребенок? Я бы и его обеспечил.
– Ее, – уточнил Райдо. – Нани – девочка.
– Как мило. Но, впрочем, мне совершенно безразлично: девочка, мальчик; главное, чтобы не мешал. Вам я кажусь циничным?
– Реалистичным. Значит, жениться на ней вы не собираетесь?
Городские предместья начались с дымов, которые стлались по улицам, расползались, клочьями оседая на ограде, на ветвях больных яблонь и хилых берез. Они ползли, оставляя шлейфы угольной пыли, лишая снег исконной белизны. Воняло.
– Жениться? – Альфред хохотнул. – Помилуйте… вы это всерьез? Во-первых, мои родители и прежде были не в восторге от этой моей идеи, а ныне и вовсе придут в ужас. Особенно матушка. У моей матушки сердце больное – ей нельзя волноваться. И я, будучи хорошим сыном, не дам ей поводов для волнения. Во-вторых… поймите меня правильно, мне нравится Ийлэ, но брать в жены женщину, которой, уж простите за выражение, пользовались? Это несколько чересчур. Да и меня просто-напросто не поймут. Одно дело любовница, но совсем другое – жена. Женщина, с которой произошло несчастье определенного толка, не может рассчитывать…
– Изнасилование, – перебил Райдо, – называйте вещи своими именами.
– В обществе не принято говорить об изнасилованиях.
– Полагаете, молчание избавит от проблемы?
– Отнюдь. Скорее уж сделает ее не такой… заметной. А это для общества куда важней.
– Ясно.
– Вы со мной не согласны. – Альфред вновь констатировал факт. – Вы думаете, что я сволочь, которая пытается воспользоваться бедственным положением девушки…
– Не так?
– Сволочь. И пытается. Но я предлагаю ей честную сделку. А вы…
– А я уже заключил. – Райдо придержал лошадь. – Ийлэ моя. Сородич. Надеюсь, ваши родители, мнение которых столь важно для вас, растолкуют значение этого слова.
– Увольте. Я и без родителей разберусь.
– Рад за вас.
Запах хищника стал сильней.
Раздражение? Гнев? Или… напротив, Альфред выглядит донельзя довольным собой, словно получил от Райдо именно то, чего добивался? А чего, собственно говоря, добивался? И что получил?
– Где нашли тело? – Райдо втянул воздух.
Город. Маленький, но все одно город, и запахи переплетаются: не ковер, не узор, скорее уж путаные обрывки…
…нить-след, что возникает в переулке, теряется среди иных следов.
Грязная мостовая мечена не единожды, что колесами, что ногами. Дома стоят тесно, смыкаются стенами, фасадами обращены к мостовой. Старые фонари. Телега с просевшей осью встала поперек улицы, почти перегородив.
– Шериф расскажет. – Альфред поднял воротник. – Кажется, снова метет. В это время года снежные бури случаются частенько. Вам, наверное, непривычно.
– Мне многое здесь непривычно, – нейтрально ответил Райдо. – Но как-нибудь разберусь.
А небо и вправду потемнело.
– Гостиница здесь дрянная. А вот мой отец будет рад гостям, не всем, конечно, но вам определенно будет рад. Он, знаете ли, предпочитает дипломатию.
– А вы?
– А я уверен, что дипломатия хороша исключительно как альтернатива. Порой дела требуют куда более решительных методов. Полицейское управление – прямо по улице, темный дом. Не пропустите.
– Вам надоела роль провожатого?
– Боюсь, что при всей моей к вам… симпатии у меня и собственные дела имеются. Но был рад встрече. И разговору. Если случится вдруг, что Ийлэ перестанет быть вам нужна…
– Непременно вспомню о вас.
Альфред поклонился и меховую шапку приподнял; поклон этот при всем его изяществе выглядел сущим издевательством.
Пижон.
Ийлэ ему нужна… тихий домик… содержание… Райдо заставил себя сделать глубокий вдох. Он и сам удивился тому, что этот человек его разозлил. Спокойствием своим. Уверенностью, что все будет именно так, как хочется ему…
…он ведь привык к такому… получать то, чего желает…
Не на этот раз.
И Райдо пришпорил лошадку: если он хотел вернуться домой сегодня, стоило поспешить.
Глава 21
Ийлэ ждала.
Она ненавидела ожидание.
В старой башне холодно. Ветер проникает сквозь заслоны каменных стен, и стены эти, бугристые, неровные, изнутри влажноватые, больше не кажутся надежными.
– Он вернется, – сказала Ийлэ, поправляя меховое одеяло. – Он обещал вернуться… я не верю обещаниям, но ему без нас не выжить.
Темно. И скрипят старые переборки, наводя на мысль, что башня эта – древняя… и отец еще говорил, будто бы перекрытия давно пора менять. Но у него все руки не доходили, а может, просто забыл, а прошлую зиму башня простояла брошенной. И крыша обвалилась. А весной – дожди. Вода стекала по этим вот стенам, размывая серый раствор. Дерево разбухало, а потом сохло по летней жаре, чтобы осенью вновь напитаться влагой. Оно хрупким сделалось, это дерево. И башня кряхтит, постанывает, предупреждая Ийлэ, что надо уходить.
Бежать.
Некуда бежать.
– А жить он хочет. – Ийлэ говорила шепотом, который самой ей казался гулким, громким. Звуки вязли в камне. – Он заботится не обо мне, он заботится о себе… – Ийлэ двигалась на ощупь.
Она ведь когда-то играла здесь в прятки. Давно, так давно, что от той ее памяти ничего не осталось… или нет?
В корзинке Райдо свечи оставил, целую связку. Но огонек все соскальзывал с воскового фитиля, скатывался едва ли не на пальцы, но не ранил.
Страшно.
Ийлэ помнит, какую боль может причинять пламя. И стискивает зубы: потом, позже она позволит этому страху ожить, но сейчас ей нужен свет. Старую башню заполнили хламом. И хорошо. Интересней в прятки играть…
А тот, другой, действительно умер.
Райдо убил бы его? Или присоединился бы к игре? Тот, другой, иногда позволял своим псам присоединяться…
Он нашел бы Ийлэ в башне с легкостью. Он позволил бы подумать, что у нее получилось сбежать, на этот раз получилось, а потом…
Свечу удалось-таки зажечь. Квелый огонек, слабый, но темнота отступает, всего-то на шаг. Этого довольно, чтобы оглядеться. Старый комод, который прежде стоял в охотничьей гостиной, правда, исчезли резные накладки.
Паутина. Пыль.
Он стоит здесь давно, как и зеркало, разрезанное пополам трещиной, и сломанный стул. Старой мебели здесь много. Она теснится. Цепляется друг за друга, создавая шаткие горы, готовые рухнуть от неосторожного движения. Но Ийлэ очень осторожна. Она крадется в этом лабиринте, шаг за шагом пробираясь к неприметной двери, скрытой за другой дверью. Кажется, ее сняли со шкафа… точно, и шкаф этот прежде стоял в маминой спальне, правда, тогда он был украшен позолоченными медальонами. Куда подевались? Сняли. И отнюдь не псы, им не было дела до таких мелочей, как медальоны или ручки, инкрустированные янтарем.
– Райдо вернется, – повторила она с нажимом, не для себя, для Нани, которая лежала тихо, только глазенки в полумраке посверкивали.
Светлые будут. И сама она… альвийского в ней с каждым днем все меньше остается. А может, оно и к лучшему? Новый мир не для таких, как Ийлэ, полукровке же, быть может, и повезет. Должно повезти.
Корзинку она поставила на столик, выглядевший достаточно прочным, чтобы выдержать.
– Вернется. А мы подождем. И когда появится, то… мы не скажем ему, что ждали, правда? И радоваться не будем. Это ведь просто ситуация такая. – За дверь Ийлэ бралась с немалой опаской, все-таки выглядела та тяжелой.
Сдвинуть ее получилось не с первой попытки. Со скрипом. Со скрежетом. Беззвучно рвалась старая паутина, повисая седыми лохмотьями, липла к пальцам, и Ийлэ вздрагивала от этого прикосновения.
В сторону. И еще немного… на дюйм… на два… на два и волос… и дверь уперлась в древний секретер, в котором осталась лишь половина ящичков.
Хорошо.
В щель за нею Ийлэ протиснется. А сама эта щель будет незаметна…
В старой кладовке лежали дрова: отсырели, конечно, покрылись плесенью. Грибница проросла, но так даже лучше.
Ийлэ голодна.
И, задев ладонью тугие осклизлые шляпки, замерла. Силы в них немного, но она потянулась к Ийлэ, обвила пальцы, скользнула по запястью. Ийлэ облизала губы.
Хорошо. Нить за нитью. Капля за каплей, до последней, которая и сладкая, и горькая, с привкусом пепла.
– Я верну, – пообещала Ийлэ.
Земля услышит, пусть даже земля эта спит глубоким сном.
– Простите. – Ийлэ сдула прах грибов с ладони. Раскаяние было запоздалым, мучительным. Что стоило ей занять немного силы?
От сомнений отрешил плач Нани.
На-ни.
Имя-колокольчик. И ей идет… больше, чем какая-либо Броннуин… ребенка назвать ребенком? А как иначе?
– Тише. – Ийлэ взяла малышку на руки. В мехах той было жарко, а быть может, она чувствовала беспокойство Ийлэ? Или темноты испугалась? – Все будет хорошо.
И, наклонившись к самым губам, Ийлэ выдохнула облако свежей силы.
– Вот так… тебе ведь надо, да? А то я ему все и ему. Ему нужней было, он без меня погибнет. А мы с тобой погибнем без него… и в этом есть какая-то насмешка, да?
Она баюкала малышку, которая не хотела засыпать, но смотрела строго, испытующе.
– Тебе не смешно? Мне тоже… но нам действительно не выжить вдвоем. Или они, или люди… и не спрашивай: я не знаю, в чем наша вина, наверное, просто кто-то должен быть виноват во всем.
От ребенка сладко пахло молоком, и еще мехом, и немного – псом, но этот запах, которого быть не должно бы, не раздражал Ийлэ.
Успокаивал.
Райдо сильный. Она не видела, она слышала тогда. Даже тот, другой, не был настолько громким… и у Райдо, пожалуй, получилось бы убить.
– Сейчас мы спрячемся и будем с тобой сидеть тихо-тихо. Хочешь, я расскажу тебе сказку?
В каморке оказалось достаточно места для Ийлэ и корзины. На пол она постелила одеяло, сложенное вчетверо. Свечу закрепила на канделябре, который уцелел, верно потому, что был не позолоченным, но честным, бронзовым. Правда, тем, кто выносил из дома вещи, было невдомек, что бронза эта разменяла не одну сотню лет…
И работа мастера опять же.
…кто ценит работу мастера?
Бронзовый олень, покрытый зеленоватою патиной, точно плесенью, по-прежнему был горделив и прекрасен. Рога его некогда держали дюжину свечей, и дюжина у Ийлэ имелась, но она благоразумно решила свечи поберечь.
– Вдруг нам долго еще ждать?
Если говорить вслух, то не так жутко. И время вновь тянется. Ждать Ийлэ умеет.
– Давным-давно мир принадлежал людям. Отец говорил, что многие миры принадлежат только им, у них дар – находить пути, а мы способны идти по следу… это не совсем сказка. Я, признаться, сказок и не помню, а вот его истории… у него замечательные истории были, и рассказывать он умел, в отличие от меня. Но я постараюсь.
Ийлэ пристроила малышку на коленях.
– Ты тяжелой стала. Это хорошо. Я рада, что мы обе живы… и, быть может, когда-нибудь найдем свою дорогу. Старый мир умирал. Его источники рождались уже мертвыми, а лоза превращалась в терний. Земля иссыхала. Из нее тянули силы, пытаясь отсрочить гибель, но лишь ускоряли ее. Говорят, во всем была виновата королева, которая обезумела от любви. На самом деле любовь, наверное, светлое чувство… или нет? Я не знаю. Я не успела, а теперь уже поздно.
Огонек свечи дрожал, и отблески света расползались по медной шкуре оленя.
– Говорят, та королева полюбила мужчину… не короля, конечно, королей не бывает, но он, глупый, не ответил взаимностью. Такое тоже случается. Ей бы забыть его, а она не смогла. Ревновала. Сердцу ведь не прикажешь, да? Так говорят. Я не знаю. Я бы попробовала приказать, королева – это ведь больше, чем просто женщина… а она позволила себе забыть об этом.
Буря смолкла. Это ненадолго, кружит, вьюжит, подбирается к старой башне. Слушает сказку.
– Я думаю, она очень долго пыталась смириться. И быть может, полюбить кого-нибудь другого… не смогла. Ей бы трон передать и уйти к лозе первородной, так делают, когда не остается, ради чего жить. Я слышала, что делают, а она… она решила иначе. Она убила ту, другую женщину, которую полагала соперницей, и детей ее тоже убила, и мужчину, потому что уже давно не любила – только ненавидела… она осталась одна. Так сказал отец.
Нани хмурилась. И ерзала, пытаясь выбраться из мехового плена.
– Тише, – попросила Ийлэ. – Скоро уже конец. Я вот думаю, что ей было очень-очень больно, поэтому она хотела болью поделиться, чтобы все, чтобы каждый услышал. Отец говорил, что королева – это… это не только титул, что она сама – лоза воплощенная… и терний тоже… в каждом есть и лоза, и тернии. Им нельзя ненавидеть, но та, другая, забыла об этом. И ненавистью отравила лозу, а терний сделался ядовит. Многие умирали вместе с ней…
Сказка забытого мира, а в новом, в который ушли альвы, какие сказки будут рассказывать?
– Ей это нравилось. Наверное, все бы закончилось печально… для альвов, но королеву убили. Я думаю, это было непросто, потому что она была очень осторожна. Она мстила всем и не успокоилась бы, пока оставался хоть кто-то живой.
Ийлэ провела пальцем по щеке дочери. Теплая. И удивительно мягкая, такие щеки бывают только у детей.
– К сожалению, мир был обречен, слишком сильно изменила его королева. И тогда альвы сделали невозможное – открыли путь. Мой отец сказал, что они вырезали у королевы сердце, которое стало камнем. Тем самым камнем, залогом, который они отдали новому миру. И никто из нашего народа не способен нарушить клятву, данную на камне…
Нани широко зевнула.
– Говорят, что перед самой смертью она поняла, что сотворила, что раскаялась даже… изменилась… и если бы не изменилась, новый мир не пустил бы беглецов. Страшная сказка. И глупая даже. Смысла в ней нет совершенно. Детям надо рассказывать другие. Наверное, если попросить Райдо, он купит книгу с детскими историями. Я попрошу. Когда он вернется.
Когда?
Время тает восковой свечой, Ийлэ считает капли, которые почти слезы. И не слушает бурю, которая разыгралась снаружи. Воет. Рыдает. Встает на дыбы. И голос ее, кажется, на все лады повторяет имя Ийлэ. Нельзя прислушиваться. Обманет. Уведет. Ийлэ знает, на что способны подобные бури…
Тело найдут ближе к весне. А то и вовсе не найдут, лес голоден и с благодарностью примет кости, опутает корнями, затянет покровом ярких трав, отвлекая внимание. Его право.
Сколько она сидела? Долго. Баюкала Нани. Кормила.
Перепеленала и рассказала новую историю, уже про другую королеву, которая очень хотела полюбить, но сердце ее было каменным…
Странно, что истории отца были через одну о королевах.
Время шло, и песни, которых Ийлэ знала немного, заканчивались. Она пела их шепотом, порой перевирая слова, но от этого песни не становились хуже.
Жаль, что колыбельных она не знала вовсе.
Или знала, но забыла?
Как бы там ни было, но Нани дремала, и с нею задремала сама Ийлэ: все-таки ожидание утомляет. Или не ожидание, но подспудный, запертый страх, который нашептывал, что прятаться бессмысленно – все одно найдут.
Она очнулась от холода, который пробрался в складки мехового одеяла, и еще оттого, что рука затекла, и нога, и лежать было неудобно – в бок впился острый сучок, угрожая продрать и куртку, и свитер, и саму кожу.
Ийлэ осторожно перевернулась на живот. Села.
Темно. И темнота кромешная: такая, в которой легко потерять себя же. Она прикоснулась к лицу и с облегчением выдохнула, ощутив это прикосновение.
– Нани? Сейчас, родная… свеча погасла, но у нас есть другая… и третья тоже… и вообще, темнота – если разобраться – не так уж и плоха, особенно когда прячешься… – Ийлэ нащупала плетеный бок корзинки и меховую полость.
Она слышала дыхание дочери и нить ее жизни видела явно, плотную, яркую. Хорошо.
Свечи вот нашлись не сразу, и с огнем Ийлэ возилась долго.
Сколько она спала? По ощущениям – долго, но можно ли ощущениям верить? Прежняя свеча догорела, а была она толстой, из плотного воска сделанной. И по прежней памяти, ее хватило бы часа на два… или три даже? На два – точно. Если так, Райдо должен был бы вернуться.
А его нет. Это еще не повод для паники. Что бы ни случилось в городе, Райдо выпутается… просто задерживается немного, вот и все.
– Я сейчас. – Ийлэ произнесла это шепотом.
Малышка спала и во сне нахмурилась, явно не одобряя подобного неразумного поведения. Райдо велел ждать его. Ийлэ подождет. И высовываться она не собирается, не настолько безумна, просто…
…ждать дальше невозможно.
Она выскользнула за дверь и прислушалась. Тишина. И в ней отчетливо слышно завывание ветра. Голос тонкий, надрывный, точно ветер этот жалуется. Темнота. Свеча в руке – слишком мало, чтобы с нею справиться.
Безопасность? Ийлэ не чувствует себя в безопасности.
Вернуться? И ждать… или… до двери всего-то два шага… и отражение в зеркале дробится, свет раскалывается, и глазам больно.
Вернуться. Ждать. Это разумно. Это правильно и… Ийлэ шагнула к двери. Ржавый засов поддался не сразу, железо словно приросло к железу, убеждая, что не надо покидать убежища. Что убежище – это надежно.
Старая башня? Старая. Но стены каменные, и дверь дубовая, и засов вот. Здесь Ийлэ не найдут, да и искать не станут. Кому башня нужна теперь?
Никому.
И ей следует проявить благоразумие.
Засов поддался беззвучно, полоснул по пальцам, содрав кожу до крови. Ийлэ зашипела и сунула пальцы в рот. Боль была острой, отрезвляющей.
Что она творит?
За дверью ничего, кроме бури. Низкое небо. Рыхлые тучи. Ветер сбивает с ног, швыряет в лицо мелкое крошево снега. И свеча гаснет. Но здесь, за пределами башни, темнота иная, к ней глаза приспосабливаются быстро.
Ветер воет…
…или не ветер…
…нет, ветер тоже, но… голос далекий, рваный… волк поет.
…не волк.
У волков иные голоса. Этот низкий и глухой, то рвется, то накатывает громко, еще громче, и кажется, что зверь где-то близко.
Где?
Кружит… и буря играет с ним.
Справедливо?
Тот, другой, играл с Ийлэ, позволял думать, что она свободна, а потом шел по следу. Его присутствие выдавал легкий вздох за спиной. Или ветка, которая неосторожно ломалась рядом с резким хлестким звуком.
Ийлэ зачерпнула горсть снега и отерла лицо.
Райдо… если попал в бурю… спешил вернуться… заблудился… к утру буря уляжется, но хватит ли у Райдо сил дотянуть до утра?
И что делать Ийлэ?
Ветер толкнул тяжелую дверь, которая отозвалась протяжным скрипом.
Она успеет… если постарается… если очень постарается, то… не ради него, но чтобы выжить. Ийлэ метнулась в темноту башни и остановилась, приказав себе немедленно успокоиться. Спешить следует, но спешка эта должна быть разумной.
Свечи.
Огонь.
И дрова… дрова сырые, а вот старая мебель должна хорошо гореть… стул… и второй… достаточно легкие, чтобы поднять.
Подняться бегом по древней лестнице, надеясь, что ступеньки не треснут под ногами. Они проседали, беззвучно, но явно напоминая, что лестница эта едва ли не старше самой башни.
Осторожней, Ийлэ. Она осторожна. Она просто спешит.
В каменном котле полно мусора, и выгребать его некогда… и снег тоже… снег – это плохо, таять будет, еще зальет новорожденное пламя. Но Ийлэ не дотянуться.
Котел огромен.
Прежде он представлялся ей предметом насквозь волшебным, таинственным, и старик, который наполнял котел дровами, поливал их сверху смолой, сам был волшебником. Он варил пламя.
И может быть, бури…
И дрова складывал на краю площадки, заботливо прикрывая промасленной тканью. Они до сих пор здесь, аккуратные ровные чурочки. И мешок со щепой, и даже темные склянки, обернутые ветошью.
Сюда не заглядывали. Хорошо, что не заглядывали.
И дрова летят в котел, их немного, но хватит, чтобы пламя разгорелось, чтобы горело час или два… если вылить масло, то и дольше… или меньше? Ярче, определенно, ярче…
Дрова холодные и норовят впиться в ладони белой щепой. В какой-то момент Ийлэ совершенно теряется. Это место вдруг преобразилось.
Тусклые зеркала – глаза древних существ, в которых отражается она, суетливая и незначительная в своей суете. Котел – пасть, куда Ийлэ бросает не дрова, но кости, силясь наполнить доверху.
Котел бездонен. Жаден. Он готов пожрать и кости-дрова, и темное масло, и саму Ийлэ.
Пускай.
Ей не страшно. Она отдаст свой страх этому зверю. И боль тоже, у нее много, пусть горит. И ненависть. Костер станет ярче, если приправить пламя ненавистью. И наверное, она обезумела, если вот так… огонь вспыхнул сразу. Он растекся зыбкой масляной лужей, дрожащей, осторожной. Он пробовал на вкус и щепу и касался осторожно старых дров, оставляя на белой древесине черный след.
Почти погас. Замер.
– Давай! – Ийлэ крикнула, понимая, что голос ее потеряется в голосе ветра, в снежном крошеве. Звать можно долго, но не дозваться… – Гори же! Гори, чтоб тебя…
И пламя поднялось рыжей стеной. С гудением. С ревом. Жаром дыхнув в лицо. От жара этого волосы зашевелились, запахло паленым.
Получилось. У нее получилось! Жаль, зеркала маяка заросли пылью, но дикое пламя и без них будет видно… должно быть видно…
Ийлэ стояла, глядя на огонь.
Ненависть?
Ее и вправду больше не было.
И боли… боль ушла, а память осталась, вот только воспоминания ныне представлялись пустыми картинками. Ийлэ могла перебирать их, одну за другой, складывая целые сюжеты, но…
…пусто.
Еще недавно ей казалось, что нет ничего хуже этой ядовитой, сводящей с ума ненависти, которая не найдет выхода, ибо тот, кого Ийлэ и вправду ненавидит, мертв. А теперь вот… она пуста. Как бутыль из-под масла. Пыльная и старая. Треснувшая даже. Ийлэ потрогала шею, лицо, пытаясь найти эту самую трещину. Ничего.
Пламя гудело. Насмехалось. Тянулось к ней и не дотягивалось. Пламя жило своей жизнью, а значит, Ийлэ больше нечего было делать на вершине. Она спускалась медленно, осторожно, нащупывая каждую ступеньку, и сердце замирало, что ступеньки этой не окажется. Ийлэ вдруг ощутила себя слабой, совершенно беспомощной. Если она упадет, то не поднимется. У нее не хватит сил. У нее уже не хватает. И она обеими руками хватается за перила. Но те трещат, рассыпаются прахом… и очередная ступенька опасно хрустит, проседает… Осторожно. Ийлэ успевает отступить. И садится на ступеньку, обнимает колени.
Она не пойдет дальше.
Будет ждать. Ийлэ умеет ждать… и уже ведь недолго. Она зажгла костер… Райдо увидит… придет… обязательно придет, он ведь обещал… найдет… конечно, найдет.
В башне безопасно.
А лестница… если сидеть тихо-тихо, то выдержит…
Ийлэ уткнулась лицом в колени. Ей было невыносимо стыдно, но стыда оказалось недостаточно, чтобы преодолеть новый страх.
Глава 22
Шериф был пьян. Нет, пьян не настолько, чтобы вовсе утратить человеческий облик, выглядел он вполне прилично, но Райдо с порога ощутил резкий запах самогона.
– А… – Йен смахнул на пол крошки. – Вы… скоренько обернулись… ну заходите, что ли… разбираться будем…
– Будем, – согласился Райдо, переступая порог.
На выскобленном полу оставались грязные следы.
– На редкость поганая история. – Шериф с кряхтеньем поднялся. – И главное, слухи пошли…
– Я думал, что главное – это убийство…
– И убийство, – послушно согласился человек. – Но время от времени кого-то да убивают. Другое дело, какое это убийство, в пьяной драке или вот… как тут…
– И как тут?
– Ей горло перерезали от уха до уха. Доктор наш утверждает, что одним движением… и с силой немалой. Вы же сильней человека?
– Намного.
– Вот… и когти, помнится, у вас острые имеются…
– Полагаете, этого достаточно, чтобы обвинить в убийстве?
– Полагаю, что лучше вашему мальчишке здесь посидеть было, чем… в городе слухи поползли, будто он Дайну изнасиловал, а после и порвал. А слухи тут летят, что пожар лесной. Народец же после войны неспокойный, его поднять на раз можно… – Шериф глядел снизу вверх, и было во взгляде его бесконечное терпение. – Вот и могло получиться, что пока ваш мальчишка по городу бродил, ему бы встречу подготовили… с кольями там, вилами… с арбалетами… я и подумал: пускай у нас посидит, целее будет.
– То есть вы не считаете, что Нат – убийца?
– Я? Я ж, чай, не дурак. Чистенький ваш парень, и сам, и одежда, а там кровищи-то было… что на земле, что на стене. И мыслю я, что невозможно, чтобы вот так, горло перерезать и чистым остаться. Нет, не он это…
– А кто?
– А тут уж я надеялся, что вы мне скажете кто. – Шериф сцепил руки. – Знаете, Райдо, у нас тут городок тихий, со своими бедами, куда ж без них… и драки случаются, и бывает, что до смерти… и иные происшествия какие. А потом война еще многое перемешала, перемолола, но вот… идемте.
– Куда?
– Покажу вам. – Шериф поднялся. – Так-то оно вернее…
– Нат…
– Подождет ваш Нат. Идемте. Тут недалеко.
И вправду недалеко. В узкий коридорчик, в котором Райдо приходится протискиваться боком. Запах сырого мела, и еще характерная формалиновая вонь, но не от штукатурки – из-за двери. Сама эта дверь, прикрытая, но не запертая. Чернота прохода. И лестница.
Мелькнула трусливая мыслишка, что спускаться за шерифом неблагоразумно, что с человека вполне станется привести Райдо в ловушку. В мертвецкую.
– Тут некогда винный погреб был, – признался шериф, ежась.
Холодно. Каменные стены с весьма характерною росой. Сводчатый потолок. И газовые фонари, свет которых причудливым образом преломляет пространство подвала.
– А теперь вот…
Шкафы с приоткрытыми дверцами. Тот же запах формалина, точнее не запах, но оглушающая вонь, и Райдо зажимает нос, стараясь дышать ртом. Ртом – оно надежней. Он оглядывается, подмечая мелочи. Грязный пол. Следы на нем. Стол письменный и стол железный, хирургический и слишком яркий для этого места. Белые простыни стопкой. Они выделялись в этом подвале, резали глаз чуждостью, неуместностью своей. И Райдо шагнул, желая проверить, и вправду ли видит их.
А еще тело.
Он сперва не узнал Дайну. А узнав, удивился тому, какая она… некрасивая. Смерть в принципе не добавляет привлекательности, а тут…
Невысокая, полноватая, она казалась не человеком – восковой куклой, не то недоделанной, не то уже сломанной. Дайна лежала на столе, странным образом сродняясь с ним. И Райдо глядел на сбитые пятки, на белесые ноги, покрытые редкими рыжеватыми волосками, на живот и темные пятна на нем.
Линия разреза, которая протянулась от паха к горлу. И грубые швы.
Снова пятна, уже под грудью, расплывшейся, размазавшейся по этому телу.
– Я мертвецов порядком видел, но до сих пор не привык, особенно когда баба… – признался шериф, вытащив флягу.
Запахло самогоном.
– Хотите?
Райдо покачал головой: не время.
В этом теле была какая-то неправильность. Он подошел к столу и стол обошел, наклонился, но иных запахов, помимо формалина и еще воска, бальзамирующего раствора, пожалуй, не ощутил.
Пятна оказались ранами.
– Доктор утверждает, что нанесли их уже после смерти. – Шериф не сдвинулся с места. Он стоял, опираясь на письменный стол, смяв широкой пятерней простыни. – Зачем?
– Вы у меня спрашиваете?
– Да нет… привычка такая, вслух думать. Вот бывало, что голова мутная-мутная… или дело какое… с душком…
– Вроде этого?
– Это не с душком, это смердит невыносимо. Но я ж о другом: проговоришь самому себе, послушаешь, как оно, и глядишь, до чего разумного и додумаешься…
Широкая рана на горле, пусть и отмытая, очищенная, гляделась уродливо.
– Нож был острым. И человек его держал знающий, которому горло вскрывать не впервой… – Шериф раскачивался, и стол под его весом вяло поскрипывал. – У нас тут в городе много охотников. А охотникам случается добычу добивать… и мясники есть… и просто люд оружный…
Дайна улыбалась. Пожалуй, вот что смутило Райдо – эта улыбка. И само выражение лица, на котором застыла гримаса… чего? Не отвращения. И не страха… презрения легкого? И насмешки. Она знала своего убийцу. Не просто знала, но, как ей казалось, знала хорошо, настолько, что без страха повернулась к нему спиной.
Дайну жаль не было.
– Но подумают на Ната…
– Уже думают.
– И вряд ли случайно?
– Именно, – согласился шериф. – Я попробую выяснить, кто пустил слух, но… сами понимаете.
Райдо кивнул: понимает.
– Она ведь умерла почти мгновенно…
…и поняла ли? Наверняка поняла, что что-то не так, но испугаться не успела, иначе выражение лица было бы иным. Удивилась… да, удивление, пожалуй, есть. Райдо не слишком хорошо читает по чужим лицам, но сейчас почти уверен.
– Нат должен был высадить ее в пригороде.
– Он утверждает, что так и сделал. – Шериф старательно не смотрел ни на тело, ни на Райдо. Взгляд его блуждал по подвалу, а если случалось зацепиться ему за хирургический стол, шериф кривился, хмурился.
– Высадил в пригороде и ушел…
– …к девчонке Арманди…
– Откуда…
– Бросьте, об этом уже говорят. Видел его кто-то. Забавная особенность маленьких городков, Райдо. Всегда кто-то что-то да видит, вот только не тогда, когда от этого и вправду будет толк. Но сейчас мальчишке, считай, повезло. Люди подуспокоятся, начнут думать и поймут, что он не способен был находиться одновременно в двух местах. Докторша, конечно, будет в ярости. У девчонки в наших краях и без того вариантов немного, а уж когда слухи пойдут… люди злые.
– Согласен. – Райдо обошел тело с другой стороны. – Она встретилась с кем-то… случайно? Или договоренность была… скорее всего, случайно, для договоренности слишком все шатко. Она не знала, когда я ее отпущу и отпущу ли.
Шериф хмыкнул, но мешать не стал.
Слушает?
Он определенно уже не раз и не два прокручивал события сегодняшнего дня; знать бы, к каким выводам пришел, но ведь не скажет. И Райдо позвал сюда, ставя какой-то свой, непонятный пока эксперимент. Частью этого эксперимента – тело на столе, и стол, и мертвецкая, и Нат, который наверняка извелся весь…
– Итак, с высокой долей вероятности встреча была случайной и убивать ее не планировали…
– Почему? – Шериф качнулся, перенося вес тела с левой ноги на правую.
– Где ее нашли, на улице, верно?
Шериф кивнул.
– А убивать кого-то на улице посреди бела дня, в маленьком городке, где, как вы сказали, всегда найдется свидетель… нет, неосторожно это. Да и на рану взгляните.
– Глядел уже.
– Глубокая. Он ей не перерезал горло, он ей почти голову снес, а это требует сил, и немалых. И значит, он или изначально выделяется этой немалой силой, но тогда бы вы уже обзавелись достойным подозреваемым. Или же он пребывал в ярости.
Райдо отступил от стола.
– Она и сама была зла… расстроена… у нее, скажем так, имелись надежды определенного рода, которые я не оправдал. А злость требовалось на ком-то выместить. И вот случайная встреча, безопасная с ее точки зрения… жертва.
– Пара слов… – Шериф все же покинул место. Двигался он тяжело, лениво, но Райдо не обманулся показной леностью этих движений.
Он ведь силен, этот человек, который прячет в кармане фляжку с самогоном и жует табак. Не молод, но и не стар. Он знает всех и каждого в маленьком этом городке.
– На меня думаете? – Шериф усмехнулся и поглядел в глаза прямо, с вызовом, определенно понимая, что именно творит. – Ну же… скажите… если кому и искать сокровища покойного альва, то мне. Я ведь уже немолод, сколько лет стерегу этот треклятый городок. И, если Бог даст, буду стеречь еще долго… правда, не имею с этого ни хренища… вот и почему бы не взять мне… не чужое даже, а ничье.
– Почему? – поинтересовался Райдо, оскалившись.
Вид клыков человека не смутил.
– Не знаю… хотя бы потому, что мог бы взять эти самые сокровища раньше. Дом пару месяцев стоял пустым. Что мне мешало?
Райдо это тоже хотелось бы знать.
Бран погиб.
И дом обыскивали… определенно обыскивали, перерыли от подвалов до самого чердака, но ничего не нашли… и затаились, выжидая… чего?
Появления Райдо?
Вряд ли.
Райдо скорее помеха. А вот альва, неучтенный игрок или не игрок, скорее уж фигура, которую неосторожно смахнули с доски, но она взяла вдруг и вернулась. Непослушная какая.
– Вижу, и вы додумались… – Шериф вновь приложился к фляжке, но теперь этот его жест показался Райдо нарочитым. – Все пошло не так, как надо…
Кому именно надо, Райдо уточнять не стал. А шериф, вспомнив давнюю беседу, уточнил без особой, впрочем, надежды:
– Не отдадите?
– Не отдам.
– Вам с нею небезопасно…
– Да уж как-нибудь справлюсь. – Райдо направился к выходу из подвала, но на пороге все-таки остановился, обернулся: – Он ее ненавидел. Или не ее… перерезал горло, а когда упала, ударил. И ему понравилось…
Шериф грыз мизинец и вид притом имел сонный, безразличный.
– Я не знаю людей настолько хорошо, чтобы делать выводы, но если бы в том, кто убил ее, была наша кровь, я бы сказал, что убийство это станет первым.
Поднимались молча. И, лишь оказавшись в собственном кабинете, Йен Маккастер произнес:
– Не хотите отдавать, так увезите ее отсюда…
– Куда?
– Куда-нибудь… мир большой.
Но не настолько, чтобы в нем хватило места для одной маленькой альвы. Райдо поморщился. Есть дом. И сородичи, которые вряд ли альве обрадуются. Матушка придет в ужас, отец разозлится… братья… разве что Кейрен, но почему-то сама мысль о том, чтобы передать альву Кейрену была не просто неприятна – она вызывала приступ острого раздражения.
Младшенький не сумеет о ней позаботиться. Он и о себе-то позаботиться не способен.
Продать поместье и переехать в другой городок? Но и там будут люди, которым нужен кто-то, на кого можно переложить вину. Да и поместье жаль. Райдо к нему привязался и хочет на яблони посмотреть, ради этих растреклятых яблонь он сюда и приехал. Ийлэ опять же… вряд ли ей захочется расставаться с домом. Нет, она подчинится, но…
Не вариант. Если кому-то очень нужна альва, он отправится следом за ней.
– Если это все, – Райдо прошелся по кабинету, краем глаза следя и за шерифом, и за собственным отражением в стеклянных дверцах шкафов, – то могу я забрать Ната?
– Ната? Ах да, Ната… у вашего мальчишки характер еще тот. А уж сквернословит он… никакого уважения к старшим. – Шериф поманил за собой. – И конечно, понятно, что ситуация располагает, но все же повоздействовали бы вы на него, что ли?
– Повоздействую. – Обещание Райдо дал с легким сердцем. – Главное, отдайте.
– Да без проблем. Под вашу ответственность.
Нат из камеры выбрался нехотя, был мрачен и явно раздражен. Бросив косой взгляд на Райдо, поинтересовался хмуро:
– Альва где?
– Дома.
Ответ мальчишке пришелся не по вкусу. Он нахмурился еще больше и сказал:
– Надо возвращаться.
Надо. И без него ясно, что возвращаться надо. Но за окном кипит снежное крошево, ветер воет дикой стаей.
– Не самая разумная идея. – Шериф задвинул ставни. – Сейчас еще ничего, но через часик-другой разгуляется, поверьте моему опыту.
– Значит, часик-другой у нас есть.
– Не останетесь?
Райдо ожидал, что человек этот примется уговаривать, тем более что и вправду было бы безумием уходить сейчас. Но шериф лишь плечами пожал, верно полагая, что Райдо сам разберется.
Разберется.
Вот только Нат…
– Я тут не останусь, – буркнул тот, поднимая лохматый воротник куртки. – Меня здесь не любят.
– Полагаю, меня тоже.
Кивнул важно и, потянув носом ледяной воздух, предложил:
– Если сами пойдем, то быстрее выйдет…
Его правда, вот только хватит ли у Ната сил? А сам Райдо? Оборачиваться нельзя, разве что крайний случай. Можно ли считать грядущую бурю крайним случаем?
– Остались бы, – все же предложил шериф. – Моя хозяйка гостям всегда рада, а утречком завтра уже пойдете, по свежему-то снегу… или послезавтра…
– Послезавтра?
– Ну… этак закрутило, что, может статься, не на один день. В прошлом-то году целую неделю мело-завывало… а старики говорят, что порой случалось и на две…
Неделя? Ийлэ неделю не протянет. Она и нескольких дней не протянет, потому что башня, в которой ее Райдо оставил, для жилья не предназначена. В ней холодно, сыро и темно. И коза осталась в доме…
– Надо идти.
– За нее боишься?
– Опасаюсь…
В этакую бурю только безумец в лес сунется. Но тот, кто убил Дайну, вряд ли был в полной мере разумным.
Альфред, у которого вдруг появились дела.
Охотники, знающие здешний лес, каждую растреклятую сосну в нем, и буря им не помеха, скорее уж прикрытие.
– Нат…
– Да понял я, – буркнул тот.
– Не хами.
– Я не хамлю. Я переживаю. И еще он лошадь отнял! – Нат ткнул пальцем в шерифа.
Лошадей Райдо забрал. Беспокоились. Всхрапывали, приседали под ударами ветра, который, точно играясь, норовил швырнуть в лицо ледяной крупы.
Город прятался. Поднимались щиты ставен. Запирались двери. Таяли в снежной круговерти дымы…
– Держись за мной. – Райдо пришпорил жеребца. – Не отставай.
Если поспешить… За городом гремела снежная гроза. По низкому темному небу змеились молнии.
– Вперед.
Ветер сорвал слово, смел его, смешал с колючей крупой.
Вперед.
Галопом по дороге, которая почти исчезла между снежных стен. Они растут, грозя сомкнуться, и небо падает, медленно, но явно.
Вперед.
По полю, и храпящий жеребец задыхается, тонет в снегу. Он скачет, проламывая наст копытами, хрипит, глотает не то снег, не то лед, но выбирается для следующего прыжка.
Нат рядом. Он близко, но не настолько, чтобы разглядеть его…
Прыжок. И снова. Конь почти ложится, и плеть дерет обледеневшую шкуру. Кровь сыплется на снег, замерзая на лету. Воздух ледяной, плотный, обжигающий. Но лес уже близок, он выныривает из черноты ломаной линией, валом, сквозь который тоже продраться надо бы. В какой-то миг буря стихает, дает передышку.
Она тоже охотится.
Райдо еще не доводилось быть добычей, и он почти готов уже сдаться, признать поражение, как готов был сдохнуть, но… конь Ната падает, и кажется, уже не встанет, он бьется в снегу, пока Нат не успокаивает его.
…ножом по горлу…
…разумно, лошадь обречена, но…
Запах крови пугает бурю, и та откатывается, смотрит глазами низких звезд. Красная лужа растекается по белому снегу, невыносимо яркая, ароматная; и Нат, не выдержав, приникает к горлу. Он пьет жадно, и рот Райдо наполняется слюной. Кровь – это еда. Сила. Сила понадобится вся до капли, потому что в человеческом обличье им не дойти. И Райдо спешивается. Ему жаль жеребца, который точно не виноват ни в человеческих играх, ни в слабости хозяина, не способного уберечь.
– Прости, – шепчет Райдо на ухо.
Клинок вспарывает темную шкуру с легкостью, и Райдо глотает горячий поток губами. Крови хватит, чтобы согреться ненадолго, но буря не отпустит их так легко.
И кажется, крайний случай наступил.
Живое железо отзывается легко, и мир знакомо лишается красок. Запахов тоже почти нет, кроме, пожалуй, запаха снега. Дерева. Крови. Ее Райдо лакает, слизывает стремительно стынущую вместе со снегом, с колючими льдинками, пьет, не способный утолить жажду.
Вой Ната перебивает рев ветра. Правильно. Надо идти, вот только дорога скрыта под снегом.
Найдет. Он ищет. В лесу ветра почти нет, он где-то там, по-над кронами деревьев, качает, гнет и крутит, пробует на крепость. И вековые сосны трещат, ломаясь как спички.
Вперед.
Уже недолго осталось. Усадьба рядом, Райдо знает, но круглая луна выглядывает сквозь тучи, желая взглянуть на безумцев, которым вздумалось бурю обыграть. Она умеет охотиться, она не отпустит.
Кружит…
…и Райдо вместе с ней по лесу.
Он останавливается, понимая, что все-таки заблудился, и в отчаянии садится в сугроб, задирает голову к низкой кривой луне. Воет. И голос его вплетается в полотнище бури.
Нат, кажется, рядом… не важно, сознание человека отступает перед звериной сутью. И уже не буря поет, но струны материнских жил.
Холод обжигает. Холод ли?
Жар невыносимый, исконный. Снежное покрывало расползается рваными ранами, чернеет, плавится земля.
Главное – не обрывать песни. Именно песни.
Райдо помнит…
…стаю.
…пепел под лапами, сизый, почти как снег, и мягкий. Каждый шаг поднимает облако его, и запах гари щекочет ноздри.
…голод.
…он голоден давно и слабеет, есть другие, которые еще слабей. Они точно не дойдут, так стоит ли тратить силы на то, чтобы сберечь их? Без них стая будет сильней… его, Райдо, стая…
…Райдо?
Откуда это имя… имя ли? Просто звук, у зверей не бывает имен и памяти, которая вдруг очнулась в крови…
…кровь вот нужна. Много крови…
…мир сгорает, мир желает смерти, но агония его длится, и длится, и продлится целую вечность, пока сила луны не иссякнет.
…она ведь безупречна.
Прекрасна.
И Райдо, точнее тот, кто стал им, поет для нее…
…он умирает, разодранный в клочья силой лунного прилива…
…Райдо!
…нет имени, но есть огонь…
…луна.
…Райдо, очнись…
…зачем, если камень плачет живым железом; а оно кипит, сгорая, обращаясь в пепел, как обернулось все остальное? И стая, которая идет по следу в тщетной надежде спастись.
Виден Разлом.
Дорога.
Надежда.
Не для всех, лишь для тех, у кого хватит сил дойти, а таких немного… скольких он привел за собой? Дюжину? Две?
Он останавливается у Разлома на туманной дороге, которая тянет силы, и зовет. Он поет, прощаясь со старым миром, делясь с ним кровью, которая тает, растворяется в тумане.
Дойдут.
Кто-нибудь, но обязательно… потому что иначе зачем?
– Райдо! – Этот голос зовет, требуя ступить на призрачную дорогу. Она размыта, плывет, стирая грани старого мира… и он оборачивается, но…
Разлом затянуло. Между мирами пустота.
– Райдо! Райдо, чтоб тебя…
– Очнулся? Ты… ты… я тебя ненавижу! – Нат, кажется, плачет, а может, просто размазывает по лицу талую воду. Захлебывается. Икает. – Я тебя ненавижу, скотина ты такая…
Райдо зарычал. Не он, но зверь, который еще был внутри. Этот зверь негодовал: как щенок смеет…
…смеет.
…и не щенок уже, взрослый, пусть и лет ему немного.
Райдо наклонился и толкнул Ната в плечо.
– Ты… Райдо…
Исчез пепел, а с ним и тот иной мир, который примерещился, не иначе. Осталась буря, гудящий лес и поместье, до которого следовало добраться.
– Я… сам. – Нат шмыгнул носом и обернулся.
Медленно. Значит, тяжело ему. Но держится. Хорошо. Райдо осмотрится и отрешится от голоса луны; она, нынешняя луна, вовсе не та, которая… и выл он… волки воют, а Райдо – не волк. Не животное. Он разумен, а разум спасет там, где инстинкты отказали.
Лес велик, однако не бесконечно велик. Райдо помнит направление. И надо только сориентироваться. Оглядеться…
Он глядел.
Вглядывался в черноту ночи, вслушивался в завывание ветра, теперь обыкновенное, лишенное всякой мелодичности. Он был частью этого мира и частью, которая вот-вот погибнет.
Смерти Райдо не боялся, но слишком многие от него зависели.
Нат.
Ийлэ… имя-вода… вода, которая стала льдом. Весной лед растает, но только весной. До весны еще немало дней… главное, дойти.
Куда?
Туда, где горит пламя…
…если вновь мерещится, то…
…не мерещится, пламя существовало. Райдо не столько видел его, сколько чувствовал суть огня, живую искру его, которая звала. Осталось дойти. Он и шел, проваливаясь в снег, уже не видя и не слыша ничего, кроме этого огня.
В какой-то миг ветер расступился. И буря примолкла. Райдо выдохнул с немалым облегчением – добрались.
Усадьба. Дом утонул в сугробах, ослеп и выглядел потерянным, едва ли не мертвым. Башня и вовсе терялась в тенях. На вершине ее пылало пламя, то самое, которое почуял Райдо.
…наверное, следовало бы сказать спасибо.
…или выпороть за самодеятельность: огонь мог увидеть не только Райдо…
…или сделать и то, и другое…
Не важно, главное, что дверь открытой оказалась. И Нат, обернувшись, сполз по стене, вытер кровящий нос ладонью.
– Я…
– Помню, ненавидишь меня.
– Нет… просто… я в порядке… ты…
– И я… в порядке.
Кажется.
– Альва… она ведь тут?
Где ей еще быть? Альва сидела на лестнице, на ступеньке, обняв себя. И, когда Райдо приблизился, она подняла голову:
– Я… я больше не могу.
– Ты снова меня спасла.
– Я хотела спуститься, но страшно. Я свечу взяла… я не боюсь темноты, но сейчас страшно…
– Я здесь.
Ступеньки опасно скрипели, и Райдо поднимался по лестнице на четвереньках. Должно быть, выглядел он на редкость глупо, и посмеяться бы, что над собой, что над нею, замершей на середине пути. Или вот над этой свечой, которая оплыла, покосилась опасно, того и гляди – переломится. Смех – хорошее лекарство. В глотке застрял.
– Там Нани плачет… а я не могу. Понимаешь, не могу!
– Все ты можешь. – Райдо вытянул руку. – Давай вместе.
– Нет.
– Почему?
– Если я встану, она рухнет…
– Ну же… Ийлэ… я говорил, что твое имя как вода? Ий-лэ… мягкое такое… легкое… и сама ты легкая, чуть тяжелей пушинки. Тебя-то точно лестница выдержит… и я помогу. Ты и я… вдвоем… мы сможем очень-очень многое…
Глава 23
Он стоял, вытянув руку. Ждал.
Зачем он здесь? Пришел за ней… и хорошо, что пришел, потому что это для него Ийлэ развела костер на вершине башни. А если огонь увидел еще кто-то? Если этот кто-то тоже придет?
– Я их сожгла, – пожаловалась она, разглядывая протянутую руку. Какая широкая, тяжелая… и сам он тяжелый. Зачем на лестницу полез? Разве не видит, насколько она хрупкой стала?
– Кого?
– Ненависть. И еще обиду… все, что было… в костер, и… и он яркий получился, да?
– Да. Я издалека увидел. Без него не вышел бы…
– Я услышала, как ты выл.
– Я не выл, а пел.
– Выл.
– Пел. – Райдо качнулся, и лестница заскрежетала. – На луну… не на эту, я увидел другую, которая принадлежала иному миру. Что это было, не знаешь?
Ийлэ пожала плечами: откуда ей?
– Или память крови, или бред. Мне так кажется. – Райдо переполз еще на одну ступеньку, и та отчетливо хрустнула.
– Не подходи!
– Ты меня ненавидишь?
– Да.
– Но ты сожгла ненависть, когда сделала для меня костер… так?
Ийлэ прикусила губу. Она запуталась… она… она и вправду ненависть сожгла.
– Это правильно, девочка моя. В ненависти нет ничего хорошего и быть не может. Она как яд… травит, травит, пока совсем не отравит…
– Не подходи.
– Не буду. Если ты подойдешь ко мне.
– Зачем?
– Свеча почти погасла. И домой надо.
– У меня больше нет дома.
– Есть, Ийлэ, конечно, есть… я ведь поклялся…
– Ты без меня умрешь. – Она вцепилась в ступеньку, пусть и понимала, что надо встать.
Спуститься. Не вечность же ей сидеть здесь… и лестница выдержит. Если выдержала подъем, то и спуск тоже… и надо решиться. Свеча и вправду почти погасла.
– Умру, – согласился Райдо. – И я не хочу умирать. А ты?
Ийлэ покачала головой. Она тоже не хочет. Она спустится. Скоро.
– Малышка плачет. С ней Нат, но Нат и сам… ему не очень хорошо. Ему вообще нельзя было оборачиваться, но по-другому никак… шел за мной, а меня повело на луну.
Рука его близко.
И тяжело, наверное, держать ее вот так, вытянутой. Рука не дрожит. Выглядит такой обманчиво надежной, но Ийлэ не готова поверить.
– И дому без тебя плохо… пойдем.
Пойдет. И она почти решилась уже, почти коснулась его, но порыв ветра ударил по башне, и та застонала. А если обвалится? Старая уже. Древняя даже, ей ведь не много надо. Ийлэ живо представила, как по каменной стене ползет трещина, вначале медленно, но с каждой секундой быстрее… И камни падают внутрь. Камни тяжелые. Они проламывают и гнилые перекрытия, и ступеньки эти, и саму Ийлэ…
Надо бежать.
Прочь.
Скорее! Но как, если Ийлэ и пошевелиться не в состоянии? Только и может, что глотать слюну, которой вдруг стало много. Со страху мутит…
– Девочка моя, послушай меня, пожалуйста. – Райдо подобрался. – Меня, и только меня… ты мне не веришь, но без тебя я и вправду погибну, а поэтому буду тебя беречь. Логично?
Ийлэ кивнула.
– Я не причиню тебе вреда…
– Уходи.
– Только если с тобой.
Он сделал шаг. И будь Ийлэ смелей, она бы отступила, но чернота лестницы пугала ее не меньше, чем Райдо.
– Мы вместе уйдем отсюда, ты и я… домой… я тебя донесу, хочешь?
– Уходи.
– Ты устала. Я знаю. Зимой альвы спят, а ты спишь мало. И еще ненависть сожгла, так?
Ийлэ кивнула, пожаловалась:
– Теперь пусто.
– Бывает. Пустота – это не страшно. Мы заполним ее, обещаю. Только пойдем. – Он взял ее за руку, осторожно, но крепко.
Пальцы Райдо были ледяными.
Замерз, наверное. Ему нельзя замерзать. И болеть тоже, потому что болезнь ослабляет.
– Вставай, Ийлэ…
Она поднялась. И сделала шажок, сердце екнуло, когда нога, казалось, скользнула в пустоту. А вдруг и нет следующей ступени? Есть. И выдержала.
– Вот так, моя ты девочка… и еще шаг… и следующий… тут уже близко. Ты, главное, ветер не слушай, ничего хорошего он не расскажет, а вот я… знаешь, в следующий раз мы в город вместе поедем. Я коляску заложу… тут же есть коляски?
Ступенька за ступенькой.
Коляски? Наверное, есть. Раньше были. На конюшне смотреть надо…
– Я сильная.
– Конечно, сильная, только очень устала прятаться… страх, он пройдет… потом, позже… веришь?
Нет. Но если слушать его, то спускаться легче.
А лестница выглядит бесконечной.
– Вот так… умница ты моя…
…и последняя ступенька все же хрустнула, переламываясь, но упасть Ийлэ не позволили.
– Все хорошо. Мы уже почти дома… видишь?
Он держал ее, прижимая к груди, крепко, так, что еще немного – и больно будет, но Ийлэ не вырывалась. Ей вдруг стало невероятно спокойно, словно бы этот пес самим своим появлением прогнал все ее страхи.
– Все хорошо, – шепотом повторил Райдо на ухо. – Все уже хорошо…
Ийлэ закусила губу: нельзя плакать. Не сейчас, когда действительно все хорошо. Почти.
– Ну что? – Он все-таки отпустил. – До дома дойдешь? А то мне бы одеться. И замерз, как скотина…
…дошли.
И Нат, набросив на плечи меховое одеяло, нес малышку, которая успокоилась. Ийлэ шла сама. Почти сама. Она вцепилась в руку пса, и, наверное, ему было больно, но разжать пальцы было выше ее сил. Судорога свела. Конечно, судорога. Саму дорогу, недолгую, в два десятка шагов, Ийлэ запомнила плохо. Она вдруг очнулась на пороге перед дверью, и то лишь потому, что Райдо бросил:
– Чтоб тебя…
Он выругался, а Ийлэ не сразу сообразила, что злится не на нее.
…с двери, надежно запертой на засов, на Ийлэ скалилась собачья голова.
– Не смотри! – Райдо попытался развернуть ее.
Облепленная снегом. И некрасивая. Ненастоящая какая-то. Но от головы пахло кровью, правда, запах этот был слабым, но отчетливым.
– Не смотри, девочка моя… это не тебе… это мне угрожают… и пускай, я не боюсь, – он коснулся холодными губами макушки Ийлэ, – теперь я точно ничего не боюсь.
И дверь толкнул.
– А… – Ийлэ вдруг показалось донельзя несправедливым, что эта голова останется снаружи. Буря ведь. И холод. И снег. И собака не виновата…
…за что с ней так?
– Я потом сниму, – пообещал Райдо. – Ладно?
Ийлэ согласилась.
Альву Райдо уложил в постель.
Она не сопротивлялась. Она вообще изменилась за эти несколько часов; и перемены, говоря по правде, пугали Райдо.
Притихшая. Послушная. Неживая. Она позволила раздеть себя. И легла на бок, отвернувшись к стене. Обняла малышку, которая и сама лежала тихо, чувствовала, верно, настроение. Ийлэ лежала так, с открытыми глазами, уставившись на стену; а стена эта была холодной, потому как весь этот треклятый дом выстыл…
– Я накормлю малышку…
Кивок.
– Переодену, если надо…
Снова кивок.
– Но имя мне не нравится.
Молчание.
– Броннуин… пусть будет Броннуин, а если тебе сильно надо, то Нани – это сокращенное. Так, конечно, не принято сокращать…
– Хорошо.
– Ийлэ…
Не шелохнулась даже.
– Есть хочешь? Там мясо еще осталось. И я могу бульона сварить…
– Нет… я… не хочу…
– Это пока не хочешь, а потом проголодаешься…
Райдо теряется. Он и раньше не особо представлял, как с ней ладить, а теперь вот… он отступает к двери, и, когда пальцы нашаривают ручку, раздается тихое:
– Не уходи… пожалуйста.
– Тебе страшно?
Она села в постели, вцепилась в одеяло. Темное лицо и темные глаза, которые влажно поблескивают в темноте. Ей бы поплакать, глядишь, и легче стало бы, так нет же, не заплачет, и сейчас вон губы кусает, едва-едва сдерживаясь.
– Я свечи оставлю. Хочешь?
Хочет. И еще хочет, чтобы сам Райдо остался. Он и не против, но надо же глянуть, что там с Натом, и самому Райдо одеться не помешает. Замерзнуть насмерть ему уже не грозит, но с голой задницей по дому бегать тоже не особо весело. Зима все-таки. Сквозняки.
– Я вернусь. Я ведь обещал, так?
– Да.
– И вернулся?
– Да.
– Вот видишь. Мне бы минут десять, двадцать от силы, чтобы одеться и вообще… дров принесу… книгу… хочешь, на сей раз я тебе почитаю?
Ей все еще страшно, но сейчас она уже способна со страхом справиться. Ненадолго.
– Я оставлю дверь открытой, ладно? И если позовешь…
– Ты вернешься.
– Именно.
– Райдо… – Она все-таки окликнула, но не затем, чтобы просьбу повторить. – Эта собака… она предупреждение, верно?
– Верно.
– И ты…
– И будем считать, что за это предупреждение я очень благодарен.
Она ждала не такого ответа.
– Ийлэ, не бойся. Я сумею защитить вас.
Еще бы самому поверить в это.
Райдо оставил дверь открытой.
Нат сидел в гостиной у погасшего камина, вперившись в него взглядом. Коза, к счастью, живая – Райдо не представлял себе, где бы он искал вторую, – вертелась рядом, протяжно блея.
– Есть хочет, – сказал Нат, повернувшись к Райдо. – А у нас ничего нету… кроме хлеба… сено было на конюшне, но туда еще дойти…
– Я сам дойду. Позже. Ты как?
– Нормально.
– Точно?
Нат пожал плечами. Выглядел он в меру погано.
– Тогда какого хрена ты тут расселся? Одевайся. И… давай наверх, к Ийлэ. Одну комнату протопим, а там видно будет.
– А коза?
– Коза? Ну да… куда мы без козы. Нат, ты… сильно испугался, когда я…
– Ушел?
– Да.
– Испугался. – Он обнял козу, которая, не привычная к этаким нежностям, было дернулась, но Нат не выпустил. – Немного… ты другим стал. То есть тебя вообще не стало, я почувствовал, что… что ты как зверь… и если бы не вернулся… Райдо, что было бы, если бы ты не вернулся?
– Не знаю. Но я ведь здесь.
Нат кивнул.
– И… спасибо.
– Не за что. Я ее не убивал.
– Знаю.
– Ты же не поверил, когда тебе сказали…
– Не поверил, – честно ответил Райдо. – Ни на секунду. Уж прости, но ты на убийцу не тянешь. Кто там был в переулке?
– Не знаю.
– Нат, это важно. Вспомни, пожалуйста…
Нат закрыл глаза. Он долго вспоминал, хмурясь, морщась и шевеля бровями, но все-таки покачал головой:
– Запах знакомый, но я не знаю чей… честно, Райдо.
– Я верю. А теперь вставай и иди. Посиди с Ийлэ, пожалуйста.
– А ты?
– Пожрать чего-нибудь отыщу. И уберу собаку.
Нат кивнул. Встать он встал, но шел, покачиваясь от слабости. И одеяло съехало с плеч. Тощий какой. Он и прежде-то полнотой не отличался, а теперь и вовсе кожа да кости. Райдо потер слезящиеся глаза и сел на пол, скрутился калачиком и впился в собственную руку, заглушая стон.
Нельзя было оборачиваться. Нельзя. Боль накатывала волнами, неровно, и волны сталкивались, гасили друг друга. Плохо. Но ничего… он полежит… пол холодный, а холод ныне союзником… и надо просто отдышаться. Проглотить слюну и кровь вытереть… не хватало, чтобы Нат кровь заметил.
Ийлэ опять же. У нее почти не осталось сил, а до весны надо дотянуть…
…ничего, почту отправили…
И оптограмму старому товарищу… и если письма есть шанс перехватить, то оптограмма… надо обождать пару деньков, аккурат, пока буря уляжется… и боль уйдет… уже отступает, наверно решив, что хватит с Райдо… он получил урок… усвоил…
И, поднявшись на четвереньки, Райдо пошел к двери.
За дверь.
Собачью голову посадили на крюк, а крюк приколотили. И от него несло металлом, кожей и… человеком. Слабый запах, слишком слабый, чтобы прочесть, незнакомый определенно, но Райдо его запомнит. На будущее.
Собственное будущее представлялось Райдо… странным.
Ийлэ не знала, как долго он отсутствовал. Четверть часа? Час? Вечность?
Она лежала, обнимая Нани, гладила мягкие ее волосы, вдыхала кисловато-молочный запах, удивляясь тому, что и ее, и запаха этого могло бы не быть, если…
Думать об этом было мучительно, но Ийлэ не способна была отделаться от мыслей. Не заноза, скорее старый больной зуб, который ноет и ноет. Она пыталась. Смотрела.
Нат разжигает камин. Возится долго, выкладывая дрова одному ему понятным узором. Он выглядит усталым и, пожалуй, еще более взъерошенным, чем обычно. Печальным.
Что в городе случилось? Не рассказал ведь… и если спросить, ответит, но Ийлэ молчит.
Пламя разгорается медленно. Оно пробует дрова, карабкается, рыжие побеги ползут по влажной древесине, которая темнеет при прикосновении их. Пламя прячется в трещинах и пепле, но не выдерживает, тянется к белым рукам Ната, на которых сегодня пятна особенно ярки.
– Я… козу сейчас… – Ему тяжело разговаривать, и Ийлэ кивает.
Коза в коридоре. Ийлэ слышит и протяжный обиженный голос ее, и цокот острых копыт по паркету. Запах молока резкий, неприятный почти. И когда Нат возвращается, Ийлэ выскакивает из кровати. Она успевает добраться до ванной комнаты, до самой ванны, обындевевшей в ледяном доме.
Ее выворачивает густой кислой слюной, желудочным соком, долго, мучительно.
– Райдо позвать? – Нат не удивлен.
И занят. Он поит Нани с ложечки свежим молоком, и та глотает. Ложку за ложкой, ложку…
…снова плохо. Не от молока, не от голода – Ийлэ не так уж долго оставалась голодной, – сколько от поганых собственных мыслей. Ее мутит, и дурнота отступает ненадолго, лишь затем, чтобы в новом порыве скрутить Ийлэ.
– Ийлэ? – Пес пришел, когда она почти отчаялась, что кто-нибудь найдет ее здесь. Кто-нибудь вообще будет ее искать.
Кому нужна альва?
– Ийлэ, что ты творишь… тут же холодно… – Он ступал бесшумно.
Переоделся. И обулся. В тапочки. Зачем псу тапочки? Нелепость какая… Ийлэ сглотнула вязкую слюну.
– Пойдем. – Пес присел рядом и принялся стягивать свитер. – Придумала… в ванной прятаться… что случилось?
– Ничего.
– Нани спит… и Ната я тоже отправил.
– Хорошо.
Странно, что она способна говорить, слова не захлебываются в ядовитой слюне.
– И ты пойдешь…
– Нет.
– Да, – на плечи упал теплый свитер, – нам всем нужно поспать… отдохнуть…
– Что… случилось в городе?
Подумала, что не ответит, но Райдо вздохнул:
– Дайну убили.
– Нат?
Он покачал головой:
– Нат никогда не тронет женщину. Он… он многое видел из того, чего дети видеть не должны. И уже не ребенок. Сегодня он меня спас. И ты тоже. Вы оба меня спасли, а должно быть наоборот.
Райдо заставил подняться.
– Я не хочу… спать не хочу…
– Хорошо, тогда не будешь… просто полежишь со мной, ладно?
Ийлэ кивнула.
– И мы поговорим.
– О чем? – На него смотреть нужно снизу вверх.
Он тогда не такой страшный. И на пса не похож, как не похож и на человека, и на альва. Он существо из старого мира, из сказки… если не дракон, то кто-то вроде…
…драконы ищут сокровища.
– О чем захочешь.
Райдо довел до кровати.
Нат и вправду исчез, а камин разгорелся, и жар от него Ийлэ ощущала всем телом.
– Ложись. – Райдо подтолкнул Ийлэ к кровати. – И закрывай глаза.
– Нет.
– Ладно, тогда не закрывай…
– А ты?
– И я не закрою. Я здесь, рядом. С краю. Хорошо?
– Да… наверное… не знаю…
– Ну, когда узнаешь, тогда скажешь. Вот так… – Он подтыкает одеяло, Ийлэ оказывается в толстом пуховом коконе, в котором ей жарко, но жар этот уютен. Он проникает сквозь корку льда, которой, казалось, она покрыта; и лед тает, он проступает сквозь кожу испариной.
А Ийлэ дрожит.
– Тише, маленькая моя…
– Я не маленькая…
– Маленькая. Вот дай руку. – Он заставляет раскрыть ладонь и кладет на свою. Его рука и вправду огромна: широкая, жесткая. – Видишь, какая маленькая…
– Это ты… большой.
– Какой уж вырос. – Он хмыкает. И носом трется о шею Ийлэ. Руку перекидывает через грудь, притягивает Ийлэ к себе. – Большой, а толку-то… у нас в семье я не самый сильный… и не самый умный… честно говоря, с умом у меня и вовсе не ладилось. Учителя за старательность хвалили. Я и вправду старался, но… чего не дадено, того не дадено. Я особо и не переживал прежде.
– А теперь?
– И теперь не переживаю… умников хватает. А я вот… я не ума хочу.
– А чего?
– Счастья, – тихо ответил Райдо. – Можно быть сильным, и умным, и талантливым охрысенно, но при всем этом не быть счастливым.
Ийлэ согласилась, просто потому, что дрожать перестала. И было ей тепло, уютно и почти спокойно. Когда он рядом, ей всегда спокойно. Так не должно быть.
– Я смешной?
– Нет.
– Хорошо… не то чтобы я боюсь быть смешным… но как-то не хотелось бы, чтобы ты смеялась…
– Почему?
– Потому… закрывай глаза.
– Я… боюсь.
– Чего?
– Того, что проснусь и все будет как раньше… не настолько раньше, когда… здесь… другие.
– Не будет. Я не уйду. – Он провел пальцем по шее. – И Бран не вернется. Издох, и хрен с ним.
Ийлэ согласилась:
– Я… я себя боюсь, такой, как…
– Не надо, ты хорошая.
– Нет.
– Хорошая… и теплая. Лежать вот уютно… хочешь, я тебе страшную тайну открою? С детства ненавижу спать один. Раньше у меня медведь был, огромный, больше меня…
Ийлэ нахмурилась, пытаясь представить этакого зверя, но воображение подводило. Прежде всего потому, что она категорически не в состоянии была представить себе Райдо ребенком.
– Из шерстяной ткани сделан… не знаю какой, но мягкой-мягкой. Еще ему в голову мешочек с ароматными травами зашили, поэтому пах вкусно. Я его очень любил. Обнимал и засыпал, как-то вот уютно получалось. И сны хорошие снились. Вообще я сны редко запоминаю, даже тогда редко, но точно знал – хорошие… потом совсем вырос… и куда в школу с медведем? Сам понимал, что засмеют. А я по нему скучал дико… по дому тоже, но по медведю особенно…
– Я вместо медведя?
– Не-а… он был мягоньким, обнять приятно, а у тебя ребра торчат и позвоночник. И вообще, на тебя без слез не взглянешь. Но за неимением медведя буду альвой довольствоваться.
– Я ее ненавидела.
– Кого?
– Ее. – Ийлэ попыталась подняться, но ей не позволили. – Когда только поняла, что беременна, то… я ведь даже не знаю, от кого из них. И она не виновата, а я все одно… их ненавидела и ее тоже… все надеялась, что она… сама выйдет. У женщин бывает, когда… просто бывает… а она, наверное, тоже очень хотела жить. И жила. Росла… они не знали… наверное, им было бы плевать, но… или придумали бы что-нибудь для нас… он умел придумывать, но убивать не хотел. А когда мне становилось совсем плохо, то доктора приглашал… и тот приезжал… лечил, будто бы ничего такого не происходило, будто бы…
Она сглотнула.
Приезжал. На двуколке своей, запряженной косматой, но крепкой лошадкой, которую отец подарил. Он оставлял двуколку на заднем дворе, выбирался, озирался, вздыхая тяжело. Он вытаскивал свой кофр и медленно – но не настолько медленно, чтобы это разозлило псов, – брел ко входу.
Раскланивался.
Он делал вид, что не знаком с Ийлэ, что… просто выполняет свою работу.
– Оставь его… – Шепот Райдо прогоняет призрак памяти. А ведь еще недавно Ийлэ казалось, что вместе с ненавистью сгорела и ее боль.
Оставит.
– Я не о нем хотела… я о себе… я сбежала, когда… когда они все умерли… я… я тебе потом расскажу, ладно?
Райдо кивнул.
Если бы начал спрашивать, Ийлэ… Ийлэ не промолчала бы… но он не стал. Он лишь крепче прижал ее, повторив:
– Все хорошо…
Ложь. Нехорошо.
– Я ушла. Лес жил… он не совсем… не такой, как исконный, но мне хватило, чтобы… старый лес, и я там… пряталась… лес делился… ягоды, грибы… и зайцы тоже… или птица порой… я не знала раньше, что так смогу… теперь странно, что я тогда…
…волчья нора, и волки отступают. Они знают, что сама Ийлэ слаба, но за ней стоит лес. И древние сосны скрипят, требуют дать ей место.
В норе тепло и пахнет псиной, поначалу запах этот кажется Ийлэ тошнотворным. Поначалу ее тошнит от всего. От вязких ягод шелковника, заросли которого скрывают родник. От воды ледяной, с резким металлическим привкусом, от листьев кислицы и терпкой коры, которую Ийлэ разжевывает, пытаясь эту самую тошноту унять.
В норе безопасно.
Она преодолевает свое отвращение к запаху и закапывается в ворох прошлогодних листьев, лежит там долго, а волки бродят, переговариваясь раздраженными голосами. Тявкают. И скулят.
Старая сука с седою шерстью и обвисшим животом набирается смелости, она первой вползает в нору и долго тычется мокрым носом в шею Ийлэ. А потом, успокоившись – верно, сука решила, что Ийлэ одна из стаи, просто потерялась, – принимается вылизывать ее. Волчица ворчит, утешает…
…и приносит мясо.
Она пробирается в нору и срыгивает куски его, темно-красные, в белой пленке желудочного сока. И волчица тявкает, требуя, чтобы Ийлэ ела.
Она и ела.
Она осталась в той норе, стараясь покидать ее как можно реже.
…и привела волкам косулю.
…и еще потом уставшего лося, о котором лес сказал, что ему уже пора…
Знали ли волки об этой помощи? Они держались рядом и приводили щенят посмотреть на Ийлэ. И те возились, играли в листьях, хватали ее за руки острыми молочными зубами, тянули, болтали на своем, волчьем языке…
…наверное, тогда она начала просыпаться, осознавать себя.
Волки ушли поздним летом. Они звали Ийлэ за собой, и та же старая волчица крутилась вокруг, тыкалась в плечи, в руки, ворчала, требуя подняться. Стая не привыкла бросать своих.
Ийлэ их проводила до кромки леса.
Наверное, она бы ушла, если бы не живот. Он вдруг вырос, выпятился этаким шаром, невероятно тяжелым, неудобным. От него Ийлэ уставала. И еще спина постоянно болела.
И после ухода волков оказалась в полном одиночестве. Впрочем, тогда одиночество ее не тяготило. Ведь было лето… почему она не думала, что лето когда-нибудь да закончится?
Лес давал защиту. Кормил. Но он чуял близость осени и честно пытался предупредить Ийлэ. А она не слышала… она скучала по волкам и ненавидела собственное раздувшееся шаром тело. И ту, которая сидела внутри… шевелилась, толкалась, мешала… Заставляла вспоминать о том, о чем Ийлэ с превеликой охотой забыла бы.
– Когда начались роды, я подумала, что умираю… и еще, что это будет нечестно, вот так взять и просто умереть… и мне раньше делали больно, но эта боль была совершенно иной. И все длилась и длилась… и я уже почти смирилась с тем, что теперь все, когда появилась она…
Осклизлый комок, связанный с Ийлэ нитью пуповины. Грязный. Измазанный в крови и еще, кажется, в чем-то белом, на жир похожем. Комок сперва показался дохлым, и Ийлэ обрадовалась. Но он зашевелился и захныкал.
– Я… я в руки ее взяла, чтобы выкинуть из норы… чтобы ничего не напоминало. – Нельзя рассказывать о таком, но Ийлэ говорит.
…комок легкий.
…живой и теплый… и она выбирается из норы, идет к роднику, продираясь сквозь шелковицу. Ей еще плохо. Кажется, где-то по пути ее вновь сводит знакомая судорога, а из тела вываливается тяжелый ком плаценты…
Там, в кустах, Ийлэ ползет, желая одного – убраться подальше от крови.
И тащит пищащее существо с собой, вместе с ним забивается в самую гущу, лежит, кажется до вечера, а то и дольше… кормит… зачем она взялась его кормить? Наверное, тогда она сошла с ума… или просто разум отключился, а оставшееся примитивное существо подчинялось зову инстинкта.
Инстинкты были сильны. Они не позволили оставить отродье. И вернули Ийлэ в нору. Они отзывались на плач. И заставляли брать хнычущее существо в руки… раз за разом, день за днем… а потом неожиданно наступила осень.
– Я… – Ийлэ облизала губы, осознав, что еще немного – и погибнет от жажды, – я привыкла к ней и… и все равно ненавидела. Смотрела на нее и не понимала, почему она здесь… а когда нору затопило и нам пришлось уйти, то… я ее оставила. Не в норе… на поляне оставила. Там еще пень был…
…дождь прекратился, но лес все равно пропитался водой. Ноги проваливались в сырой ковер мха и листвы… иглицы… капало с ветвей, и одежда, точнее то, что осталось от одежды, промокло насквозь. Холодно стало. Ийлэ тянула силы из леса, и он делился, вот только сил этих у него оставались крупицы.
– Я просто положила ее на пень и ушла.
Первый шаг самый сложный. Ийлэ долго не решается его сделать, все смотрит на тряпье, на белые ручонки отродья, которое впервые осталось одно и шевелится, крутит головой, пытаясь найти Ийлэ. Хнычет.
Второй шаг… и третий, к стене можжевельника. Иглы скользят по лицу, смахивая воду. Ийлэ идет и идет, стараясь не думать ни об отродье, ни о пне… о том, что скоро лес пришлет кого-нибудь… и эта смерть – милосердней другой, которая от голода.
Молока у Ийлэ мало. А будет еще меньше, потому что самой ей есть нечего…
– Ты вернулась, – шепот Райдо горячий, и руки его, и сам он, словно из огня сплетенный. – Ты же вернулась.
– Да.
– Почему?
– Не знаю. Я… я просто вернулась, и все. Я ее ненавидела.
– Глупости.
– Нет. Ненавидела. И постоянно думала о том, что она – обуза… и полукровка… и проклятье мое, что если она умрет, то мне станет легче.
– Думала, но ведь не оставила. Ийлэ…
– Я не хочу опять. – Она все-таки выпуталась из кокона одеяла. – Понимаешь? Я… здесь я с ней… и я не люблю ее. Я должна бы, потому что она моя дочь… а я не люблю.
– Неужели?
На его лицо ложатся отсветы пламени, и шрамы скрываются в них. Каким бы он был без шрамов?
– Ты ее не любишь, но не бросила, а когда оставила, то вернулась. Не любишь, но рискнула забраться в дом… и силой, полагаю, делилась?
Делилась.
Молоко вдруг исчезло, наверное, потому, что самой Ийлэ есть стало нечего. Уснувший лес не отзывался, и она грызла клейкие сосновые почки и кору, и пару раз натыкалась на поздние грибы, которые ела сырыми. Но еды было слишком мало. И отродье все чаще погружалось в сон, а нить ее жизни становилась тонкой, хрупкой.
– Делилась… у тебя самой этих сил не было, а ты все равно отдавала. И защищала ее. Я же помню. Ты была готова броситься на меня.
– Нет. Я… я думала, что могу уйти…
– Но не ушла.
Наверное.
И хочется поверить ему, что она, Ийлэ, вовсе не та дрянь, которой она сама себе представляется, но это же ложь. А отец говорил, что нельзя врать себе.
– Я не люблю ее, – упрямо повторила Ийлэ, укладываясь в постель. – Я… привыкла к ней и только, но не люблю так, как мать должна любить своего ребенка.
– А как должна?
– Не знаю. Не так, как…
– Не так… и не этак… любовь, она ведь разная бывает.
– Откуда тебе знать?
Он пожал плечами:
– Моя мать любит нас… всех любит, но порой ее любовь – как удавка…
– Зачем ты…
– Моя очередь говорить, а ты закрывай глаза, нелюбящая. Тебе отдохнуть надо, нам всем надо отдохнуть. Так вот, моя матушка… она точно знает, какой должна быть идеальная семья. Все роли расписаны и распределены. Отец вот привык… старшие мои братья… и младшенький… если старшие еще как-то умудряются делать по-своему, то младшему она не позволяет. Он ведь еще маленький, взрослый, но маленький. И ничего в жизни не понимает. А как ему понять, если ему жить-то толком не дозволено? Он ее тоже любит и боится огорчить…
– И что плохого?
– Ничего. Пока ничего, но… матушка определяет, что ему делать вечером, как одеваться, куда ходить и с кем общаться. Если бы могла, она бы и работу ему выбрала такую, которая соответствовала бы ее представлениям об идеальности. Но здесь уже у младшенького получилось свое отстоять. И квартирку он нашел, чтобы хоть как-то продохнуть от этой заботы. Да, матушка не со зла… любовь такая… только, как по мне, это тоже неправильная любовь, когда ты навязываешь свою волю тому, кого любишь. И нельзя из-за любви к кому-то подчиняться, терпеть, как это Кейрен делает… А есть еще такая любовь, которая до гроба, чтобы умереть в один день…
– И что с ней не так?
– Не знаю… наверное, я слишком черствый, не понимаю, как можно уйти за кем-то, оставив, скажем, детей… или родителей… есть любовь, которая доводит до самоубийства… или до безумия… по-моему, она сама отчасти безумие… есть рабская… и снисходительная… и всякая вообще. Только правильной нет, идеальной.
– Ты меня утешаешь?
– Я тебя убаюкать пытаюсь. Закрывай глаза.
– Райдо… а если я проснусь и… и снова буду всех ненавидеть?
Он улыбнулся:
– Тогда мы заберемся на вершину той башни и вновь разведем костер. У меня тоже найдется чего спалить, но ты не беспокойся, – он коснулся губами лба Ийлэ, – огонь – честная стихия. Он не отдаст то, что взял однажды.
Сноски
1
Бисквит – разновидность фарфора.
(обратно)

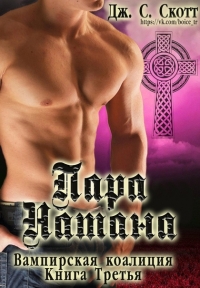
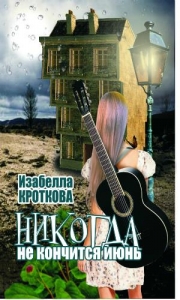
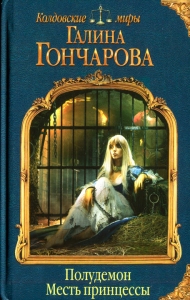






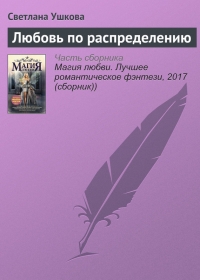


Комментарии к книге «Хозяйка большого дома», Екатерина Лесина
Всего 0 комментариев