Ольга Матвеева Иван-дурак
Глава первая
В кожаном кресле рядом с кроватью сидел какой-то препротивный тип и беспардонно курил сигару. Пепел он стряхивал прямо на паркет. Росту незнакомец был, судя по всему, невысокого, но обширное тело его едва помещалось в просторное кресло. Был он облачен, кажется, во фрак, хотя кто нынче знает, как выглядят настоящие фраки? Белую сорочку украшала или, скорее, напротив, уродовала клоунская красная бабочка в легкомысленный желтый горошек. Весь наряд выглядел как-то неряшливо: помятый и запятнанный. Иван даже брезгливо поморщился. Незнакомец в ответ недобро ухмыльнулся. Был он бледен, глаза имел черные и пронзительные, брови лихо изогнутые, причем, одна значительно изогнутее другой, гордый орлиный нос помещался меж пухлыми щечками, губы тонкие, нервные, злые. Не человек, а какой-то опереточный Мефистофель. Ивану было совершенно не понятно, как этот персонаж оказался в его спальне посреди ночи. Страшно, впрочем, почему-то не было.
— Кто вы, позвольте поинтересоваться? И что изволите делать в столь позднее время в моей опочивальне? — спросил Иван. Он и сам не понял, с чего это его потянуло на забытый стиль романов 19 века. Очевидно, это он от неожиданности.
— Ах, оставьте… — отмахнулся от Ивана ночной гость, голос у него был, как у Шаляпина. Хотя кто нынче помнит, какой голос был у Шаляпина. — Что вы, право, ни к чему современному человеку этот великосветский тон. Анахронизм какой-то, ей богу. Думаю, нам будет легче понять друг друга, если мы перейдем на нормальный человеческий язык.
— Ок, договорились. Так, мужик, кто ты и что здесь делаешь? — переспросил Иван.
— Странные у вас, батенька, представления о нормальном человеческом языке. Вы полагаете, что непременно нужно хамить? Это, по-вашему, признак современности? — проворчал незнакомец. — Впрочем, ладно, не важно. Перевоспитывать вас уже поздно. Да и не расположен я, знаете ли… И не уполномочен, кстати. Так… о чем это мы? Ах, да! Кто я и зачем я здесь? Кто я, знать вам вовсе не обязательно, и удовлетворять ваше любопытство в данном вопросе я не намерен, но имя свое сообщу — для удобства в общении. Я, разумеется, искренне надеюсь, что общение наше будет крайне непродолжительным, но ведь никто не знает, как получится. Даже мне не дано знать будущего. Хотя…, — незнакомец хитро улыбнулся, — так вот, позвольте представиться — Петр Вениаминович.
— Иван Сергеевич, — отрекомендовался Иван.
— Я, кажется, не спрашивал, как зовут вас, поскольку мне и так это известно, — Петр Вениаминович так зыркнул на Ивана, что желание поддерживать беседу у него сразу пропало. — Итак, переходим ко второму вопросу. Видите ли, я здесь, чтобы передать вам следующее: вы должны спасти женщину, которую некогда любили, иначе она погибнет. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. И ни к чему были все эти бесконечные разговоры. Все эти пустые слова меня утомляют. Как много слов в этом мире. Слишком много слов. Они только все еще больше запутывают, хотя и созданы, чтобы все объяснить. — Он похлопал себя по карманам. — Черт! Сигары закончились!
— Кого я должен спасти? — крикнул Иван, обращаясь к пустому креслу, потому что Петр Вениаминович внезапно исчез. Вместе с ним исчез и запах сигар…
Будильник исполнял фугу Баха. Иван проснулся. Как всегда в раздражении. Поскольку ничего хорошего ожидать от предстоящего дня не приходилось: работа, переговоры, встречи. Ни минуты покоя. А хотелось просто поспать еще часика три, а потом поваляться в постели еще полчасика, бездумно уставившись в телевизор, а потом неспешно позавтракать, одеться и отправиться на прогулку. И чтобы никуда не нужно было спешить. Но даже выходные не удавалось провести таким образом.
— На что я трачу свою жизнь? — привычно подумал Иван. — Вместо жизни у меня работа. Бессмыслица какая-то. Бросить все и уехать к чертовой матери…
Он вылез из постели и уныло побрел в ванную. Жена Ивана тем временем тоже встала, накинула коротенький голубой халатик и отправилась на кухню готовить мужу завтрак. Это была ее работа.
Странный сон, который приснился ему нынешней ночью, Иван неожиданно вспомнил по дороге на службу. Сны он обычно не запоминал, а если даже и запоминал, то не придавал им значения. Иван Сергеевич Лёвочкин, топ-менеджер и совладелец крупной компании, обитал в сугубо материальном мире. На анализ сновидений у него не было времени. А тут вдруг Петр Вениаминович как живой всплыл в его памяти. И запах сигар всплыл. Иван даже закашлялся, будто машина и в самом деле заполнилась клубами дыма.
— Чертовщина какая-то, — подумал Иван, — приснится же. Пойди туда, не знаю куда, спаси того, не знаю кого. Будто я какой-то Иван-царевич и должен спасти Василису Прекрасную. Забавно. А вдруг кто-то действительно нуждается в моей помощи? Бывают же вещие сны. Вдруг это такой и был? А что за гусь этот Петр Вениаминович? Да ну! Глупости все это.
Как только Иван перешагнул порог родной конторы, про сон тут же забыл.
Вернулся домой уже ночью. Усталый и раздраженный. Жена открыла ему дверь. Она привычно обняла его. Он поцеловал ее в щеку. Она хорошо пахла. Однако Иван отметил, что волосы у нее давно немытые, висят какими-то неопрятными сосульками. В парикмахерской она, видимо, тоже давно не была. Лицо унылое.
— Есть хочешь? — спросила она.
— Нет, в ресторане поужинал с партнерами.
— Хорошо. — Она пошла в спальню. — Я уже спать собиралась. Приходи.
Он залюбовался ее длинными ногами. Но как-то спокойно. Будто видел их в журнале или по телевизору. Просто красиво и все. Единственное, чего ему сейчас хотелось — спать. Провалиться в сон и получить свои пять часов отдыха и покоя. Жена даже не повернула головы, когда он вошел в спальню и забрался под одеяло. Она читала какую-то книжку в мягкой обложке.
— Что читаешь? — спросил Иван.
— Любовный роман, — ответила она нехотя.
— Зачем тебе это?
— С детства люблю сказки. Спать?
— Спать.
Она погасила свет и отвернулась.
«А она ведь меня, похоже, совсем не любит», — подумал Иван, засыпая. Эта мысль не взволновала его. Так, констатация факта…
— Кхе, кхе. Стыдно, молодой человек, стыдно…
Иван открыл глаза. В кресле рядом с кроватью снова сидел Петр Вениаминович. На сей раз на нем был черный костюм в белую полоску. Такие, кажется, носили киношные чикагские гангстеры во времена сухого закона. И этот костюм был какой-то запятнанный. На голове — шляпа. Прямо крестный отец. Правда, вместо галстука — снова бабочка. Теперь уже зеленая в голубую крапинку.
— Нечего так смотреть, — укоризненно произнес он, перехватив взгляд Ивана. — Мне нравятся бабочки. — Он неспешно достал сигару из кармана, обрезал гильотинкой, закурил с явным удовольствием. Затем продолжил, — этот аксессуар, знаете ли, выделяет меня из толпы, являет собой подтверждение моего нонконформизма. Непохожести. Да, Иван Сергеевич, это в вашем кругу принято быть как все: чтобы квартира не меньше, чем у Василь Василича, чтобы машина побольше, чем у Алексей Федорыча, чтобы жена не старше двадцати пяти, и непременно с параметрами 90-60-90 и ростом не ниже 170, а то ведь коллеги не поймут. Как можно? Боже упаси. Ну и банковский счет, сами понимаете. Вечная гонка за деньгами, за материальными благами, за тем, что вы называете успехом. А что такое успех? Пшик. Поможет он вам стать счастливым? Вы вот, Иван Сергеевич, счастливы, позвольте полюбопытствовать? — Иван открыл рот, чтобы ответить, но Петр Вениаминович продолжил свой монолог, даже паузы не сделал, — то-то и оно, что не счастливы. Вам же некогда быть счастливым. Вы же работаете… Пардон, увлекся… а теперь позвольте вернуться к основной теме нашей беседы. Насколько я помню, во время нашей прошлой встречи я ясно дал понять, что вам надлежит немедленно спасти гибнущую барышню. Однако, как мне стало известно, вы не предприняли никаких действий в данном направлении. Скажу больше, вы вообще не восприняли мои слова всерьез. Может быть, вы и меня всерьез не воспринимаете? — Петр Вениаминович грозно посмотрел в глаза Ивану.
— Ну, что вы, конечно же, я воспринимаю вас серьезно, — залепетал он. Он действительно вдруг начал относиться к своему странному знакомцу серьезно. Даже почему-то начал его побаиваться.
— То-то же. — Строго сказал Петр Вениаминович. — Короче, пацанчик, в последний раз предупреждаю, если не начнешь спасать дамочку, которую ты некогда любил всем своим черствым сердцем, у тебя будут крупные неприятности. Это я тебе гарантирую.
— Да кого спасать-то? — отчаянно выкрикнул Иван, но Петр Вениаминович не ответил. Он погрозил Ивану сигарой и исчез.
Иван проснулся. Рядом спала жена. Она сейчас была похожа на маленькую девочку, беззащитную и немного испуганную. Видимо, ей тоже снился какой-то страшный сон. Больше никого в комнате не было. Только витал еле уловимый едкий запах сигар. Или показалось? Скорее всего, показалось. Около часу Иван ворочался без сна и все думал, чтобы значили эти ночные явления расплывшегося Мефистофеля. Они ведь что-то значили? Не могли же они быть просто так? Как-то Петр Вениаминович слишком настойчив и слишком навязчив особенно с учетом того, что он являет собой всего лишь сновидение. Тому Ивану, каким он бывал днем, конечно, и в голову бы не пришло рассуждать о том, что хотел ему сказать нагловатый тип из сна и зачем он хотел ему это сказать. Но сейчас, ночью, во тьме, слегка подсвеченной блеклым светом уличных фонарей, казалось, что мир намного сложнее и загадочнее, чем можно было предположить. Что визиты любителя сигар наполнены тайным, мистическим смыслом, и, следовательно, Ивану надо незамедлительно начать действовать, а именно встать и отправиться на поиски женщины, которая погибнет, если он ей не поможет. Разумеется, Иван не встал и не пошел, он успокоил себя тем, что завтра днем непременно займется этим вопросом. В конце концов, ему удалось заснуть. А с самого утра Ивана закружили заботы, да так, что он и думать забыл о некой Василисе Прекрасной, которую надлежало незамедлительно спасти от козней некоего Кощея Бессмертного. Глупости какие-то. Сказочки для детей младшего школьного возраста.
Когда поздним вечером Иван возвращался с работы, его занимали мысли о крупной сделке, над которой он работал в течение последних нескольких недель и завтра, наконец, она должна была состояться. Или не состояться. Но об этом он предпочитал не думать. Приятнее было мечтать о домике на Лазурном берегу, который, теперь он, вероятно, сможет себе позволить. Это будет место, куда он будет сбегать от суеты и работы. Это будет место абсолютного покоя и безмятежности. Когда он купит этот домик, будет, наконец, счастлив. Во время этих сладостных грез произошел сильный удар, послышался страшный скрежет. Ивана подбросило и припечатало к переднему сиденью машины. Когда он пришел в себя, почувствовал, как его за плечо тормошит водитель:
— Иван Сергеевич, вы целы? — спрашивал он.
— Кажется, да, — не очень уверенно пробормотал Иван, страшно болел лоб. Иван потрогал его рукой — там, кажется, вызревала большая шишка. — А вы целы?
— Тоже, вроде, цел.
— А что случилось-то?
— Врезались в машину, которая перед нами шла. Ладно, скорость маленькая была, а то я и не знаю, что бы было. Сам не пойму, как получилось. Машина, та, которая впереди, тормозить начала, я тоже, только тормоза у нас почему-то не сработали. Дорогая ведь машина, надежная. Все исправно в ней было. Ничего не понимаю. Вы уж меня извините. Вот ведь, оказывается, иногда и пробки — это хорошо. Разбились бы ведь, если бы не пробка. Вы тут сидите, а я пойду разбираться. Что же с тормозами-то случилось? ГАИ надо бы вызвать… эх… — водитель выбрался из машины.
Иван наблюдал, как к нему подскочил приземистый мужчина кавказской наружности, очевидно, водитель старенькой шестерки, в которую они въехали, как оба мужчины размахивают руками и, видимо, спорят или ругаются. У Ивана было странное ощущение, что все это происходит не с ним, будто он сидит в зрительном зале и какой-то дурацкий фильм смотрит. Потом почему-то вспомнился сон, и слова Петра Вениаминовича зазвучали в ушах, как иерихонские трубы: «У тебя будут крупные неприятности. Это я тебе гарантирую!». Ивана затошнило от запаха сигарного дыма, который вдруг снова материализовался неведомо откуда. Вот тут Ивану стало по-настоящему страшно. В какую игру его втянули? Зачем? За что? Но теперь уже стало понятно, что это все не шутка, не ерунда. Что если не послушаться всемогущего Петра Вениаминовича, действительно — неприятности будут, и эта авария — всего лишь первый звоночек. Всего лишь предупреждение. Ивану вдруг стало тесно в салоне машины. Он начал задыхаться. Ему показалось, будто все нутро автомобиля сжимается и вся эта кожа, пластик и дерево готовы расплющить его, раздавить, как какую-то козявку. Иван в панике выскочил из машины.
— Николай Иваныч, мы тут надолго? — спросил он у своего водителя.
— Да, похоже, надолго застряли, — ответил тот обреченно.
— Помощь моя нужна?
— Да нет, сам справлюсь.
— Я тогда пойду?
— Идите. Всего доброго. Только вот… Машина-то побита. Видите, с бампером что стало? Неприлично, наверное, на такой ездить? Но бампер — это ерунда. Тормоза меня беспокоят. Может, вам другую машину пока в конторе заказать?
— Ладно, разберемся, — бросил Иван и побрел по улице в направлении дома. Погода была пренеприятная: было промозгло, холодно, шел дождь. Чего еще ждать от погоды в конце октября? А какие хмурые лица были у людей вокруг. Ни одной улыбки. Ни одного спокойного, просветленного лица. Все озабоченные. Все разнесчастные. И даже юные девушки были несколько обезображены этой серостью, этой беспросветностью. Иван подумал, что, наверное, в этой вот толпе есть много женщин, которые нуждаются в помощи, которых нужно от чего-то или от кого-то спасать. Всех не наспасаешься. Он же не супермен какой-то, а простой человек. Как понять, кого именно он должен спасти?
На жене было красное платье. Скорее всего, новое. Волосы сегодня были явно чистые и даже уложены в какую-то сложную прическу. Жена была прекрасна. Ивану она напоминала сейчас роковую кинематографическую красотку из тридцатых годов прошлого столетия. Потратила, наверное, сегодня целый день на поиск этого платья и салоны красоты. Вот уж, действительно, счастливый человек. Совершенно беззаботный. Поскольку поиск нужного платья, конечно же, нельзя назвать проблемой. Почему-то эта ее красота и беззаботность его сейчас раздражала. В нем шевельнулась зависть — ей ведь не является по ночам странный тип с требованием спасти неизвестно кого, ей ведь не нужно зарабатывать деньги, у нее есть мужчина, который о ней заботится. Просто бабочка, легко порхающая по жизни. Иван так разозлился, что даже не поцеловал ее в щеку, как обычно.
— Что случилось? — спросила она обеспокоенно. — Что у тебя с лицом?
— Ничего особенного, попал в небольшую аварию. — В ее глазах мелькнул испуг. — А что у меня, кстати, с лицом? — он бросился к зеркалу.
На лбу имел место лиловый фингал, который вполне мог сползти и на глаз. Вид у Ивана был самый что ни на есть маргинальный. Не спасал даже дорогой костюм. Ни дать ни взять водопроводчик, имеющий слишком бурные отношения с алкоголем. Сейчас в Иване сложно было заподозрить интеллигентного, преуспевающего мужчину. Это была катастрофа! Настоящая! Завтрашняя сделка! Кто захочет иметь дело с человеком, чей вид не внушает никакого доверия? Иван вынужден был признать, что с этим украшением он и у самого себя не вызывал никакого доверия. Один небольшой синяк и все — вас уже подозревают бог знает в чем: в связях с неблагонадежными личностями, в пьяных дебошах, в мордобое. Всего один синяк — и конец респектабельности! Конец репутации! Конец мечте о домике на Лазурном берегу!
— Пойдем, — сказала жена, — нужно приложить лед. — Она взяла его за руку и как ребенка повела на кухню, усадила на стул, достала из холодильника пакет со льдом, приложила ко лбу. — Подержи, а я пока в аптеку сбегаю.
Хлопнула входная дверь. Иван осмотрелся: кухня выглядела не совсем обычно. Длинный обеденный стол был празднично сервирован: белая льняная скатерть, салфетки, серебряные столовые приборы, парадные фарфоровые тарелки, свечи, бутылка шампанского в ведерке со льдом. Что бы это значило? Разве есть какой-то повод?
Жена вернулась, стремительная, решительная. Схватила какой-то тюбик, начала намазывать Ивану лоб.
— Ну вот, надо мазать два раза в день и тогда гематома пройдет быстрее, — сказала она.
— Мне нужно, чтобы этой гадости не было уже завтра. Вот в чем проблема, — устало сказал он. — Завтра должна была состояться большая сделка, которая сделала бы нас намного богаче, но теперь, видимо, все сорвется. Из-за этого идиотского фингала. Я стал похож на бомжа какого-то. Кто мне теперь поверит?
— Извини, но я не волшебница. До завтра это не пройдет, но, уверена, что ты сможешь быть убедительным даже с этим синяком. Я в тебя верю. — Она осторожно обняла его и прикоснулась губами к его щеке. Он отшатнулся. — Я тебя загримирую. Все будет в порядке.
— Кстати, что это? — Иван кивнул на стол.
— Уже не важно. — Она отвернулась. Ивану показалось, что она смахнула слезу. — Есть ты в состоянии? — спросила она бодро через мгновение.
— Я даже выпить, пожалуй, в состоянии. Надо как-то снять стресс. И все же, что за повод? — Иван снова кивнул на стол.
— Годовщина нашей свадьбы.
— Извини, я совсем забыл. Столько дел. Да еще вот, неприятности. Я и подарок тебе не купил. Вот дурак. Но я куплю, обязательно. Не переживай.
— Мне было бы приятнее, если бы ты просто вспомнил.
— Не начинай, — огрызнулся Иван. — Я работаю, как проклятый, чтобы ты, между прочим, могла покупать себе дорогие шмотки, бегать по салонам красоты, чтобы ты по нескольку раз в год ездила за границу! У тебя же все есть! Чем ты еще недовольна? Подумаешь, забыл! Это же мелочь по сравнению с тем, что я тебе даю! Знаешь, сколько женщин мечтают о такой жизни, как у тебя?
— Не нужно так возбуждаться. Да, ты прав. Ты очень много мне даешь. — Она снова смахнула слезу и улыбнулась. — Ну, за лучшего из мужчин! — она подняла бокал.
— За лучшую из женщин! — Иван тоже поднял бокал.
Через два часа они легли в постель, привычно отвернулись друг от друга и погасили свет. Каждый свой светильник.
Когда Иван увидел Петра Вениаминовича, он уже даже не удивился. Этой ночью он был наряжен во френч. Такие носил незабвенный генералиссимус. Были там и галифе, и сапоги… и бабочка. Коричневая. В узкую желтую полоску. Иван не выдержал и рассмеялся.
— Что вас так рассмешило, Иван Сергеевич? — сурово поинтересовался Петр Вениаминович. — Я нахожу, что в вашей ситуации нет ничего смешного. — Из какого-то невидимого кармана он вытянул сигару. — Конечно, для полноты образа тут нужна трубка, вы совершенно правы, но я не могу изменить своим пристрастиям даже ради полноты образа. Тем более, что данный образ всего лишь моя прихоть. Прихоть и пристрастие, это две большие разницы. Прихоть — это не более, чем каприз, поветрие, а пристрастие — это стержень нашей жизни. Это очень важно, молодой человек, хранить верность своим пристрастиям. Делу своей жизни, любимой женщине. А иногда, знаете ли, полезно от них отказываться. Иногда вредные пристрастия мешают нам двигаться дальше, развиваться, а иногда они нас просто убивают. Взять, к примеру, пристрастие к алкоголю. Мдааа… скольких оно сгубило… — загрустил Перт Вениаминович, потом подобрался, стер с лица выражение лирической печали и снова стал суровым. — Итак, Иван Сергеевич, насколько мне известно, вы совершенно верно интерпретировали наше предупреждение, однако никаких активных действий с вашей стороны так и не последовало. Это печально, Иван Сергеевич, весьма печально, ибо бабу нужно срочно выручать из беды, и если вы и дальше будете проявлять чудеса нерасторопности, мы ведь и серьезные меры можем принять. Этот ваш синячок на лобике покажется вам сущим пустячком… Вы должны понять, что мы не имеем целью запугивать вас. Напротив, мы всячески заинтересованы в вашем здоровье, и физическом, и психическом, но ведь люди такие странные животные, что пока их, пардон, не пнешь, они ведь и шевелиться не начнут. Не все, безусловно, но в вашем случае это именно так.
— Ну, вы хоть скажите, кого я спасти-то должен? — взмолился Иван. На сей раз Петр Вениаминович не исчез, а снизошел до ответа:
— Вы, очевидно, заблуждаетесь на мой счет, молодой человек. Видите ли, я не служу в полиции нравов, и в мои обязанности не входит контроль за вашими половыми связями, так что поиск объекта спасения, извините за каламбур, целиком и полностью находится в вашей компетенции. Рад бы помочь, но увы… Я даже предположить не могу, кто нуждается в незамедлительном спасении. Думайте, Иван Сергеевич, думайте. Все в ваших руках. За сим позвольте откланяться. У меня, знаете ли, других дел полно. Вожусь тут с вами, как с дитем неразумным, разве что подгузники вам не меняю. — Проворчал Петр Вениаминович и стремительно исчез.
На следующий день Ивану все же удалось заключить вожделенную сделку. От услуг жены по гримировке синяка он отказался, заявил, что если он умен, хитер, обаятелен и харизматичен, то у него и так все получится. В конце концов, если потенциальные партнеры не дураки, то должны понять — чтобы явиться на деловые переговоры с фингалом и даже не попытаться его скрыть, это ж какой смелостью, наглостью и уверенностью в себе нужно обладать. Расчет его оказался верным. В самом начале встречи он очаровательно улыбнулся собравшимся и сообщил, что попал в небольшую дорожную неприятность, которая сказалась на его внешности таким вот ярким цветовым акцентом, но никоим образом не повлияла на его умственные и деловые способности. Сказал также, что из-за поломки автомобиля он приехал на эту встречу на метро, что поездка ему понравилась, поскольку он узнал много нового о жизни и молодость опять же вспомнил, ведь не всегда же он ездил в машине с личным водителем. Отличное было приключение! В общем, Иван получил то, что хотел, а потом заперся в своем кабинете, достал бутылку коньяка из представительских запасов, налил в бокал, отпил глоток и уселся составлять список женщин, которых он любил. Должен же он найти ту, которую необходимо спасти.
— Ерунда какая-то, — думал он, — вместо того, чтобы рассматривать проспекты с недвижимостью на Лазурном берегу, я сейчас грызу ручку и вспоминаю своих баб. Черт, вот кто заставлял меня так часто влюбляться? Вот был бы однолюбом, сейчас бы не мучился. Если у тебя только одна баба, то вполне понятно, что спасать нужно ее. А тут… а почему, собственно, я вообще должен верить этому Петру Вениаминовичу, который, возможно, существует лишь в моем воображении? Чушь какая! Моей жизнью управляет какой-то сумасшедший старик из сновидений. Ничего абсурднее и придумать нельзя. Уверен, что даже в этих идиотских любовных романах, которые читает моя жена, не пишут такой белиберды. А, кстати, в этот список жену нужно включать? А от чего ее нужно спасать? Живет, как у Христа за пазухой, как сыр в масле катается. Вроде здорова, проблем никаких. В общем, жену из списка вычеркиваем. А вот бывшую жену, пожалуй, стоит записать. Стерва, конечно, редкостная, и помогать ей совсем не хочется, но вдруг это она? Этот старый сатир ведь с меня не слезет. Я ведь эту суку любил когда-то? Любил. Уж не знаю, как у меня это получалось, но ведь любил. Вот придурок! Ну да ладно, дело прошлое. Сейчас я стал умнее. Да уж, умнее! Нельзя придумать ничего умнее, чем составлять список своих бывших с целью осчастливить одну из них. К черту! — Иван разорвал листок, на котором уже значились два имени. Глотнул коньяку. — Стоп, а авария? Она ведь произошла сразу после того, как мне пообещали неприятности. А почему я сегодня все же заключил эту сделку? Почему мне позволили ее заключить? Это аванс за мои будущие подвиги? Нет уж, лучше не рисковать.
Иван снова принялся за составление списка. В нем значилось шесть имен. И это только те, с кем Иван имел серьезные, продолжительные отношения. Не менее полугода. С двумя из них Иван, строго говоря, не спал — это были наивные увлечения его далекой, невинной юности. Своих одноразовых партнерш он решил не записывать, поскольку, во-первых, всех он не помнил, а, во-вторых, он их не любил. Хотя… в одну он влюбился, ему даже показалось, что навсегда. Ну, конечно, ему ведь тогда было пятнадцать лет, а она была его пионерской вожатой. Как тут не влюбиться? После непродолжительных раздумий он внес в список и ее. А еще мать и приемная дочь. Тоже женщины, и он тоже их любит. Итого, девять.
— Ну и бабник же я, — подумал Иван, сначала удовлетворенно, а потом вдруг осознал, какая титаническая работа ему предстоит. Иван испугался и, как следствие, напился.
Глава вторая
Ночь прошла спокойно. Петр Вениаминович не явился. Иван даже заскучал. Как-то свыкся он с ним за три совместно проведенных ночи. А что, вполне приятный собеседник. И взгляд на мир у него… свеженький такой, нетривиальненький. Словом, стоило Петру Вениаминовичу пропасть на одну ночь, как в глазах Ивана он из карательной фигуры превратился в комическую. В течение дня Иван ни разу даже не вспомнил о списке своих любовных побед и неудач. Да и времени не было, честно сказать. Совсем закрутился: дела, дела. Ни одной свободной минуты.
Домой он вернулся относительно рано, часов в девять вечера в крайне приподнятом настроении. С удовольствием съел приготовленный женой ужин и даже его похвалил. Жена безмерно удивилась.
— А чему удивляешься, мне всегда нравилось, как ты готовишь. — Сказал он добродушно. — Просто жизненный опыт подсказывает мне, что женщину хвалить нельзя.
— Почему?
— Понимаешь, она тогда начинает чувствовать свою власть над мужчиной. А если мужчина находится во власти женщины, значит, он слаб. Какому мужчине понравится быть слабым? Со мной уже было такое, больше не хочу.
— Глупости, — возразила жена, — если мужчина хвалит женщину, она будет чувствовать себя любимой, она будет знать, что мужчина ее ценит, а это значит, что она, в свою очередь, тоже будет его ценить и уважать. Никакой власти — партнерство двух любящих людей!
— Романтический бред! Ты еще слишком молода, ты еще ничего не понимаешь в жизни! Ты и не видела жизни-то! Думаешь, из литературы самого низкого пошиба, которую ты имеешь обыкновение читать, ты сможешь узнать что-то о реальной жизни? Так вот, никакого партнерства в любви не бывает! В паре всегда один главный, это тот, кто любит меньше или у кого денег больше, а другой зависимый. Да и сама любовь — это всего лишь выдумка! Нет никакой любви, понимаешь! Просто люди стремятся избавиться от одиночества, или удобно им вместе! Допустим, он дает ей какие-то материальные блага, весьма комфортное существование, а она встречает его, когда он возвращается домой с работы. Это ведь даже для циников средних лет важно, чтобы их кто-то ждал. Еще она не задает лишних вопросов, создает уют, хранит очаг, так сказать, и всегда на стороне своего мужчины. И все довольны. Удобно ведь.
— Это ты о нас? — голос ее дрогнул, по щеке покатилась слезинка, но супруг этого не заметил.
— Ну, да! Мы просто идеальная пара! — Иван посмотрел на жену. — Ты такая красивая у меня! Да, есть и еще одна приятность в этом нашем союзе. — Он с юношеской прытью набросился на нее с поцелуями. Жена так удивилась, что и плакать раздумала…
Петр Вениаминович колобком метался по спальне. Ни дать ни взять, растолстевший на казенных харчах тигр в клетке. Он даже порыкивал, как тигр.
— Иван Сергеевич! — наконец возопил он. — Иван Сергеевич! Как же вы меня разочаровали! Я был о вас лучшего мнения! — Петр Вениаминович плюхнулся в кресло, дрожащими от гнева руками достал из кармана сигару, закурил. — Вам хотя бы стыдно? — спросил он после долгой паузы.
Иван старался не смотреть на ночного гостя, но чувствовал его взгляд. Только сейчас он понял значение выражения «буравить взглядом». Это была не метафора. Нет. У Ивана было физическое ощущение, будто два зубных сверла впиваются ему в лоб. Было больно. Очень больно. Он нашел в себе силы и поднял на Петра Вениаминовича глаза. Тот уже выглядел спокойным. Только черный взгляд был зловещим.
— Стыдно. — Промямлил Иван и тут же вспомнил, как директор школы, в которой он учился, отчитывал его за какую-то провинность. Иван тогда тоже говорил, что ему стыдно и что он больше так не будет. Почему так происходит? Ты взрослеешь, даже стареть уже начинаешь, становишься солидным, богатым, уважаемым человеком, и вот опять находится кто-то, перед кем приходится оправдываться, снова чувствовать себя нашкодившим школьником. А с какой, собственно, стати? — Да, стыдно, — сказал он с вызовом, — если вам так угодно. Только вот хоть убейте, я не могу понять, за что мне должно быть стыдно?
— Не понимаете?! Вы и в правду не понимаете?! — Петр Вениаминович всем своим видом продемонстрировал крайнюю степень огорчения: его остроконечные брови поползли куда-то вниз, рот искривился в скорбной улыбке, на глаза навернулись слезы, тело размякло и еще больше расплылось в кресле. Одет он был сегодня в махровый халат, некогда бывший белым, явно украденный из какого-то отеля, серые от грязи, замызганные тапки, тоже гостиничного происхождения. Если бы не голубая бабочка, украшенная принтом в виде божьих коровок, ни дать ни взять отец семейства, который полтора месяца назад в первый раз в жизни побывал за границей и до сих пребывает в сладостных воспоминаниях об этом знаменательном событии. И отказывается снять украденный халат. — Составил, значит, списочек своих баб и на этом успокоился? Так и хочется, молодой человек, вас как-то наказать. В угол, например, поставить. Только вы ведь уж не ребенок, да и не добьешься от вас ничего унижениями-то. И угрозы на вас не действуют. Можно вас, разумеется, поучить уму-разуму: и в порошок стереть, и по миру пустить, и лишить всего, что вам дорого. Впрочем, «по миру пустить» и «лишить всего, что дорого», это ведь для вас одно и то же… Нет ведь для вас ничего дороже, чем ваши честно и нечестно заработанные деньги. Как это печально. Жаль мне вас, Иван Сергеевич. Искренне жаль. — Петр Вениаминович глянул на Ивана с таким искренним сожалением, что тому вдруг тоже стало себя невыносимо жаль. Чуть слезы из глаз не брызнули. — Я не угрожаю, боже упаси, — продолжил свою речь Петр Вениаминович, — тем более, не хочу вас запугать, но, все же, вы должны, как мне кажется, иметь четкое представление о том, что мы можем изменить ровное течение вашей жизни. И далеко не к лучшему. Это в наших силах, поверьте. Но этим делу не поможешь. А посему, я намерен воззвать к вашей совести! К вашему внутреннему мерилу добра и зла! Ибо я убежден, что совесть у вас все же есть! Да, да! Есть. Не сомневайтесь. Вам не удалось ее убить, вы всего лишь ее усыпили. Она впала в летаргию, но вот настал момент, когда она должна пробудиться и начать руководить вашими поступками!
— Утомили вы меня своими нравоучениями! — выкрикнул Иван. — Я знать не знаю, кто вы такой и зачем ко мне прицепились! Без вас проблем хватает. У меня завтра тяжелый день. Вы хоть представляете, сколько мне всего нужно сделать? Что вы мне голову морочите? Я взрослый человек и имею право жить так, как мне хочется! Так, как я умею жить! С какой такой радости я должен выполнять ваши дурацкие приказания, смысл которых мне не понятен? Ах, да! Если я вас ослушаюсь, на меня обрушится кара небесная! Вы меня в порошок сотрете! Вы меня призываете спасти какую-то женщину. Это ведь должен быть добрый поступок? — Петр Вениаминович кивнул. — А разве добрые дела делаются под принуждением? Практически с пистолетом у виска?
— Сынок, ты совершенно прав, — голос Петра Вениаминовича был наполнен неподдельной теплотой и участием. — Невозможно совершать благородные поступки вопреки своему желанию. Это должен быть душевный порыв, веление сердца, так сказать. Иначе ничего не получится. Ты совершенно прав, сынок. Ты не обязан ничего предпринимать. Уж кто-кто, а я-то уважаю свободу выбора. Что ж, ты выбираешь бездействие. Не смею больше вас переубеждать. Вам почти сорок, вы взрослый, самостоятельный человек, к тому же из тех, что сделали себя сами, как говорится, что, безусловно, достойно всяческих похвал. Ну что ж, теперь женщина, которую вы некогда очень любили, и которая сыграла важную роль в вашей жизни, погибнет, а вы, вероятно, даже не узнаете об этом. Таковы будут последствия вашего выбора, но как я уже говорил выше, я готов уважать любое ваше решение. Не смею вас больше отвлекать. Отдохновение после трудов праведных — дело важное, необходимое даже, я бы сказал. Действительно, завтра ведь вас ожидает очередной тур великой игры по зарабатыванию денег. Прощайте! — Петр Вениаминович по своему обыкновению поспешно испарился, оставив последнее слово за собой.
— Черт! Черт! Черт! — кричал Иван и молотил кулаком по деревянной спинке кровати.
Утром он пробудился в дурном расположении духа, усталый, изможденный, с головной болью, будто с похмелья, хотя и выпил накануне всего два бокала красного вина.
— Что с тобой? Вид у тебя какой-то неважный, — спросила жена.
— Ничего! Отстань! — огрызнулся он. Потом взглянул на жену, она вся сжалась и, кажется, готова была разреветься. Иван обнял ее, погладил по голове. — Извини, мне кошмар приснился. Ужасный сон. Извини. — Он опасливо покосился на то место на спинке кровати, куда во сне молотил кулаком. Там появилась небольшая вмятина.
Когда Иван ехал в отремонтированной машине на службу, он смотрел в тонированное окно на дома, улицы, людей, на дождь, который снова поливал город, на лужи на асфальте. Еще несколько дней назад мир был таким простым и понятным. Есть настоящее, прошлое и будущее. Все на своем месте: прошлое — прошло, будущее — еще не наступило, настоящее — вот оно, вершится в это самое мгновение. А сейчас настоящее было зыбким, будущее — туманным, а призраки прошлого готовы были ворваться в доселе спокойную Иванову жизнь. Раньше был сон, была явь, и эти явления никак не пересекались. Для каждой ипостаси бытия — свое время. Все четко. А сейчас что? Неряшливый философ-психопат Петр Вениаминович из сновидений более реален, чем водитель, который везет сейчас Ивана на работу, чем это кожаное сиденье, на котором Иван сидит. Чертовщина какая-то. И выбор, который был предложен Ивану во сне, почему-то казался более реальным и осязаемым, чем совещание, которое ему предстояло провести через несколько минут. И эта вмятина… как из сна она переместилась в явь? Чертовщина!
Глава третья
После совещания Иван заперся в своем кабинете, попросил секретаршу никого к нему не пускать, достал из ящика стола листок бумаги, на котором гелевой ручкой были написаны имена некогда любимых женщин. Господи, сколько терзаний, радости, сомнений, ревности, удовольствий, счастья, разочарований связано с каждым из этих имен! Ивана захлестнули воспоминания. Некоторые из них до сих пор отдавались тупой болью. Он встал, достал из шкафа початую бутылку коньяка, плеснул в бокал, подошел к окну, отпил большой глоток, глядя на разномастные московские дома и бесконечно-серое небо. С кого же начать?
После пятнадцати минут размышлений и ста пятидесяти грамм коньяка Иван пришел к выводу, что логичнее всего начать со своей нынешней любовницы Лизочки Потаповой.
Раньше Иван запросто ей звонил, назначал свидания, а сейчас, когда на него была возложена миссия по спасению некой дамы, как-то разволновался. А вдруг это она и есть? Минуты две собирался с мыслями, прежде чем набрать знакомый номер. С Лизочкой Иван встречался раз или два в неделю и не замечал, чтобы она нуждалась в какой-то помощи, вроде у нее все было в порядке. Точнее, когда она нуждалась в помощи, он помогал ей незамедлительно. Впрочем, Лизочку Иван не видел уже недели две — был слишком занят, да и на ее звонки толком не отвечал: днем — непрерывная череда совещаний и переговоров, а по вечерам она не звонила — уважала семейную жизнь Ивана. Может, за это время у нее что-нибудь и произошло. Иван набрал номер Лизочки.
— Извини, не могу говорить. Я тебе перезвоню, — прошептала она скороговоркой.
Иван разозлился: она ему так нужна сейчас, а у нее, видите ли, какие-то дела. Что может быть важнее любимого мужчины? У Ивана было много работы, а он не мог на ней сосредоточиться, поскольку ждал звонка от Лизочки. С каждой минутой ожидания он злился все больше. Она перезвонила через час, когда был занят уже он. Он тоже прошептал скороговоркой, что перезвонит позднее. В итоге поговорить удалось только ближе к вечеру.
— Давай сегодня встретимся. — Предложил Иван. — Я соскучился, да и обсудить нужно кое-что.
— Да уж, нам есть что обсудить, — ответила Лизочка с неожиданной агрессией, — нам давно пора кое-что обсудить! Где и когда?
Иван назвал ресторан и время. У него, правда, возникло сильное желание от свидания отказаться, поскольку Лизочкин тон явно сулил выяснение отношений, чего Иван не любил и всячески старался избегать. Но он не отказался. Он здраво рассудил, что лучше уж с Лизочкой отношения выяснить, чем с Петром Вениаминовичем. С Лизочкой-то оно безопаснее как-то, к тому же предстоящий разговор находился в рамках спасательной операции. Так что пришлось пойти.
С Лизочкой Иван познакомился два года назад — она брала у него интервью. Красивая, веселая, непосредственная девушка ему сразу понравилась. На ней была какая-то короткая юбчонка, из-под которой торчали худые, стройные ножки с острыми коленками. Может, она надеялась, что это выглядит сексуально, но это было скорее трогательно. Хотелось ее накормить — такая она была маленькая, тощенькая и бледненькая. У нее была какая-то удивительно светлая кожа. И вот на ее белом лице синели огромные глаза, обрамленные густо-накрашенными ресницами. Волосы тогда у нее были огненно-рыжие, длинные, буйные, непокорные. То ли фарфоровая куколка, то ли ведьма. Иван до сих пор помнил, какой шок он испытал, когда это хрупкое создание заговорило! Голос у нее был низкий, густой, немного хрипловатый. Если бы Иван услышал его по телефону, подумал бы, что с ним разговаривает парень или, по крайней мере, зрелая женщина. Это безумное противоречие между ее внешностью и голосом восхитило Ивана, завело и подтолкнуло к активным действиям. Молодая журналистка отдавала распоряжения своему оператору и самому Ивану указывала, куда и как нужно сесть, куда смотреть, а он слушал и фантазировал, как он затыкает этой басистой сирене рот поцелуем. Теперь ему уже не накормить ее хотелось, теперь у него были другие желания.
Лиза работала на одном из окружных телеканалов. В те времена она только училась быть москвичкой и еще не говорила: «Понаехало тут!». Тогда она сама еще совсем недавно перебралась в столицу из крупного провинциального города, где была довольно популярной телеведущей и руководителем проектов. Снимала квартиру еще с двумя девочками, а в свободное время предавалась мечтам о головокружительной карьере и огромных деньгах, которые она непременно заработает. Пока же зарплата у нее была скромная, но она оптимистично считала, что это только начало большого пути. Она, правда, уже была несколько разочарована тем, что ее не взяли на работу ни на один из центральных каналов, а на окружном, куда ее в конце концов приняли, ее кандидатуру даже и не рассматривали в качестве ведущей. Пришлось Лизе снова «опуститься» до уровня простой журналистки и начать снимать репортажи. Ей казалось, что это пройденный этап, но, увы, пришлось все начать сначала… Иногда ей даже казалось, что она совершила ошибку, переехав в Москву: в своем городе несмотря на юный возраст она была личностью известной, со связями, репутацией и признанными заслугами, а здесь она пока была всего лишь провинциалкой, приезжей, одной из сотен тысяч таких же охотников за лучшей жизнью. Иногда она задавала себе вопрос: «Зачем? Зачем мне нужно было уезжать?». Когда Лиза увольнялась с работы, покупала билет на поезд до Москвы, собирала чемоданы, ей все было понятно: она выросла из своего города, здесь она достигла своего потолка, и теперь ей хотелось большего — больших возможностей и более широкого спектра перспектив. А оказалось, что возможности и перспективы гипотетически-то существуют, однако не подберешься к ним и не ухватишь. Но Лиза не унывала. Она знала, что умна и талантлива и рано или поздно добьется успеха. Лучше, конечно, рано, чем поздно. Лизины подружки грезили об удачном замужестве. Мечтали окрутить какого-нибудь богатенького москвича и зажить настоящей столичной жизнью, какой она виделась им с экранов телевизоров, когда они еще обитали в своих небольших провинциальных городах. Дорогие наряды, драгоценности, машины, рестораны, бурная светская жизнь, салоны красоты, пластические операции, бесконечные путешествия… Большинство Лизиных подружек были одиноки, не удавалось им отхватить не то что богатенького мужика, а даже завалящего менеджера среднего звена из бывших провинциалов. А Лиза о мужчинах и не думала, она была занята карьерой и всего хотела добиться сама. Итак, Лизе мужчины были не нужны, зато она была нужна мужчинам. За ней постоянно кто-то пытался ухаживать, ее постоянно звали в кино, в театры, в кафе. Она иногда принимала приглашения, но отношения очень решительно переводила в дружеский формат. Не то чтобы она была недотрогой, мужененавистницей, не то чтобы она отрицала любовь, отношения и брак, просто не встречался ей пока такой, чтобы сердце ее затрепетало, чтобы впала она в любовную горячку, чтобы он смог отвлечь ее от честолюбивых планов. Словом, не встретился ей еще тот, кого она бы полюбила.
Тогда после интервью Лизочка немного задержалась в кабинете Ивана. Оператор уже вышел, а она задержалась. Все медлила. Долго собирала свои блокноты, ручку, кассету. Они все не хотели помещаться в ее маленькую сумочку. Она видела, какое впечатление произвела на этого холеного, уверенного в себе мужчину. Она чего-то ждала от Ивана, почему-то ей хотелось, чтобы он сделал шаг ей навстречу. Почему-то ей хотелось, чтобы эта первая встреча не стала последней. Чем-то зацепил ее этот загорелый мужчина в неприлично дорогом костюме. И вот она медленно идет к дверям, оборачивается, встряхивает волосами, улыбается и говорит бодро:
— Да, забыла сказать, если захотите, можете посмотреть на себя: сегодня в 19.00, в это время у нас новости. Спасибо за помощь, всего доброго! — и она взглянула ему в глаза. На прощанье, в последний раз.
— Может быть, вместе посмотрим? — вдруг игриво предложил он.
— А что вы будете делать, если я соглашусь?
— Я буду безмерно счастлив.
— Хорошо, давайте посмотрим вместе. Я согласна. Где будем смотреть?
— Я бы с удовольствием пришел к вам в гости.
Она рассмеялась.
— Ну, если вас не смутит моя съемная, потрепанная хрущевка в Южном Бутово, бардак, маленький телевизор и две моих сожительницы, то добро пожаловать!
Он тоже засмеялся.
— Какой кошмар! Оказывается, красивые преуспевающие журналистки живут в таких ужасных условиях! А, может быть, бог с ним, с этим просмотром? Может, мы лучше отправимся в ресторан? Мне было бы гораздо интереснее поболтать с вами, чем смотреть на себя по телевизору. Я, в конце концов, и в зеркало на себя посмотреть могу. — Он очаровательно улыбнулся. — Ну, так как?
— Уговорили. — Лиза улыбнулась в ответ не менее очаровательно.
Они стали встречаться. Гуляли по улицам, сидели в кафе и ресторанах, целовались, держались за руки. Дальше их физические контакты не заходили. Иван чувствовал себя подростком рядом с этой смешной, наивной девочкой. Хотелось совершать подвиги ради этой хрупкой беззащитной малышки. Он снял для нее квартиру в центре, недалеко от дома, в котором он жил. Очень приличную квартиру. Она отказывалась, не хотела она жить на его деньги, но он ее убедил — им же нужно где-то встречаться. У него дома жена, у нее — две сожительницы. Некуда податься двум бедным влюбленным.
Опьянение любовью скоро закончилось, отношения стабилизировались, стали ровными и спокойными, появился график встреч. Иван старался, чтобы все было по расписанию, по плану. Он опасался неожиданностей и сюрпризов, хотя когда-то был не прочь поучаствовать в каком-нибудь безумстве. Склонность эта, впрочем, осталась в прошлом, в почти забытых временах нищей юности. Спонтанные поступки в его жизни, безусловно, случались и теперь, но не приветствовались.
Лизочка была очень удобной любовницей. Она была красива. Причем красота у нее была особенная, необычная, сотканная из противоречий. Она сразу привлекала к себе внимание. К тому же в свои двадцать шесть лет выглядела она на восемнадцать. Она была страстная и изобретательная в постели. Она была умная. С ней он мог обсуждать даже свои рабочие вопросы — она все понимала и совет могла дать. Она умела слушать. Она умела сочувствовать. Она не выманивала у Ивана деньги и дорогие подарки. Она не вмешивалась в его семейную жизнь. Он был уверен, что Лизочка не станет звонить ему по вечерам, а тем более по ночам, не потревожит она его в выходные и в праздники. Он знал, что она никак не выдаст своего присутствия в жизни Ивана. Она не заводила вечную песню всех любовниц на тему «разведись с ней и будь со мной». Она радовалась тому, что имела. Она не устраивала скандалов и истерик, она ничего не просила и тем более не требовала. Она не была зациклена на Иване: у нее была своя жизнь, карьера. Она давно ушла с того окружного телеканала и теперь руководила спецпроектами на одном развивающемся кабельном канале. Она неплохо зарабатывала. Ивану с любовницей несказанно повезло. Но он, конечно, не ценил. Он воспринимал этот дар судьбы как должное. Потому что достался ему этот дар даром. В последнее время он не звонил ей, чтобы просто узнать, как у нее дела. Набирал ее номер только когда хотел ее ласк, когда ему нужно было пожаловаться на начальство, проблемы, здоровье. Отказывал ей, когда она просила о встрече, безусловно, исключительно по уважительным причинам: жена приболела, задерживается на работе, срочная командировка, простуда. Он не всегда отвечал на ее звонки, тоже, разумеется, в силу разных вполне уважительных причин. Она не роптала. Из чего Иван делал вывод, что Лизочку такое положение дел вполне устраивает. Поэтому ее сегодняшний язвительный тон Ивана удивил, насторожил, испугал.
Глава четвертая
Она возникла перед Иваном неожиданно. Он сидел за столиком и изучал меню. Он бывал в ресторанах почти каждый день и не по разу, но всегда выбор блюд был для него таинством, маленьким волшебством, предвещающим наслаждение. Сначала он почувствовал аромат ее духов, а потом появилась она. Он ее не сразу узнал. За время, что они не виделись, Лизочка состригла свои длинные роскошные рыжие волосы и покрасила их в черный цвет. Кажется, эта стрижка называется каре. Она была одета в маленькое черное платье, на шее — нитка жемчуга. Такая строгая и серьезная фарфоровая кукла. И роковая красавица.
— Ну, здравствуй, — сказала она своим низким хрипловатым голосом.
Иван подумал, что к этому невозможно привыкнуть, это всегда волнует. Иван поднялся, помог Лизочке сесть. Поцеловал ее в щеку.
— Ты такая красивая, — прошептал он.
Она поморщилась, будто он сказал ей гадость.
— Что у тебя с лицом? Наш мальчик подрался? Вступился за прекрасную незнакомку или сцепился с партнерами по бизнесу? Ты, вроде, раньше предпочитал более цивилизованные способы борьбы.
— Не знал, что ты такая стерва, — ухмыльнулся Иван, — как это тебе удавалось скрывать так долго свою сущность?
— Так что у тебя с лицом?
— Ерунда, попал в небольшую аварию.
— Ой, извини. Я не знала. Почему ты не позвонил? С тобой все в порядке? — она, похоже, всерьез забеспокоилась.
— Как видишь, отделался легким фингалом. Ничего страшного. Успокойся. А можно поинтересоваться, почему ты так жестоко поступила со своими волосами?
— Тебе не нравится? — она тут же нахохлилась, надулась и приготовилась вступиться за свой новый образ.
— Нравится, глупышка, только это так кардинально, что я тебя не узнаю. С чего это вдруг ты так решила измениться?
— Официально извещаю — я решила начать новую жизнь. Ты же знаешь, для нас, женщин, смена прически ведет к переменам в жизни.
— И что же ты решила поменять?
— А я, дорогой, решила стать плохой. Знаешь, мне наскучило быть хорошей, это неэффективно, это не приводит к достижению цели.
— А что у нас за цели такие? Какие цели могут быть у красивой женщины? Она должна порхать легкой птахой и украшать собой жизнь мужчины.
— Как низко ты меня ценишь! — ее взгляд полыхнул ненавистью. — По-твоему единственная функция красивой женщины быть игрушкой для мужчины? И это все? Больше она ни на что не годна?
— Малыш, я пошутил, ну что ты? Я же знаю, что ты у нас настоящая карьеристка и просто гений телевизионного искусства.
Было видно, что Лизочка приготовилась к новой атаке. В ее синих глазах была злоба. Иван не понимал, что происходит — такой он свою любовницу никогда раньше не видел. Она была забавным ласковым котенком, а сейчас перед ним сидела карликовая львица и явно собиралась его растерзать. Ивана спас официант, который подошел поинтересоваться, не готовы ли они сделать заказ. Иван, хотя еще ничего и не выбрал, но был готов, лишь бы не продолжать этот неприятный для него разговор. Его смутила смена ролей. Раньше он был покровителем, многоопытным мужчиной, советчиком, учителем, а она маленькой девочкой, воспитанницей, ученицей. Откуда этот подростковый бунт? Может, у нее, действительно, какие-то неприятности и она нуждается в помощи? Откуда эта агрессия?
Принесли вино. Иван поднял бокал:
— За тебя! Я очень рад, что ты у меня есть!
— Угу. — Произнесла она как-то сдавленно, отхлебнула вина, глубоко вздохнула и выдохнула, — а ведь ты за все это время ни разу не признался мне в любви. Я ведь даже не представляю, как ты ко мне относишься, какие у тебя планы относительно меня. Или, может, у тебя вообще нет никаких планов?
Иван молчал и с грустью смотрел на Лизочку. Правду он ей сказать не мог. Как он мог сказать, что нет у него на нее никаких особых планов, что он даже не думал об этом, что она его вполне устраивает в роли любовницы, и ничего большего ему от нее и не нужно. Он полагал, что и ее все устраивает в их отношениях. Он полагал, что ему встретилась, наконец, женщина, которой нравится легкость нечастых встреч, отсутствие обязательств и долгов друг перед другом. Он полагал, что ему встретилась женщина, которая просто радовалась тому, что этот мужчина есть в ее жизни. Иван молчал. Он не мог придумать, что соврать этой женщине, сидящей напротив, в глазах которой отчетливо звучала мольба и надежда. Пауза затягивалась. Лизочка порылась в сумке и швырнула на стол ключи.
— Что это? — спросил Иван. Ответить Лизочка не успела — официант принес заказ и начал церемонно расставлять тарелки на столе. Когда он удалился, Иван повторил вопрос:
— Что это? — он кивнул на ключи.
— Это ключи от квартиры, которую ты для меня снимал. Я вчера переехала.
Иван уронил нож. Подозвал официанта, попросил принести водки. Да побыстрее. Пожалуйста.
— Что все это значит? — спросил он наконец. Почти крикнул.
Лизочка допила остатки вина в бокале, взглянула в бешеные Ивановы глаза и произнесла:
— Только не перебивай меня… не перебивай… Я ухожу от тебя. Хотя как я могу уйти, если мы и не жили вместе? Нет, но все равно я ухожу. Вернее, уже ушла из той квартиры. Короче, я решила, что больше не буду с тобой встречаться. Все кончено. Спасибо, что выслушал.
Ивану принесли водки в графинчике. Он выпил.
— Могу я, по крайней мере, знать, почему? Все же было хорошо.
— Тебе показалось.
— А что было не так? Я не понимаю. Я не понимаю! Ты завела другого мужика? Да? Я прав? Ну, хорошо же все было?
Лизочка молчала. Ела свой салат. На Ивана не смотрела. Он выпил еще стопку. Тоже принялся за еду.
— Драма драмой, а есть все равно хочется, — глубокомысленно изрек он. — Вот ведь как устроен человек. Первичные потребности есть первичные потребности. И все-таки, почему ты меня бросаешь?
— Я расскажу. Расскажу. Только не перебивай, ладно. Мне непросто далось это решение. — Она отпила еще вина. — Очень непросто. Я как представлю, что больше тебя не увижу, мне жить не хочется. Мне страшно, я не знаю, какой будет моя жизнь, в которой не будет тебя.
— Тогда зачем? Зачем?
— Я, кажется, просила меня не перебивать! — сейчас она не была похожа на фарфоровую куклу. Сейчас она была роковой женщиной, которая могла запросто решить судьбу мужчины. — Понимаешь, я ведь девочка-карьеристка. У меня небогатые родители, хотя даже не в этом дело. Да бог с ним, что у меня не было приличной одежды и обуви, и ели мы в основном макароны с картошкой. Это не важно. Хотя и не слишком приятно. Они не реализовались, понимаешь? Отец всю жизнь жалел, что не получил высшего образования, а мать… ну, она из тех женщин, что рано махнули на себя рукой, перестали следить за собой, рано, не то чтобы постарели, а увяли что ли… Если бы ее нарядить, отвести в салон красоты, она бы и сейчас красавицей была. Так вот, работала она всю жизнь, где придется, ну просто потому, что так принято — работать, ну и деньги кое-какие в семью приносила, дома — хозяйство, старалась, чтобы все накормлены были, обстираны, обглажены. Да еще участок у нас — там тоже впахивала, и мне, конечно, доставалось. Как я ненавидела эту дачу! Как я ее ненавидела! В общем, я не хотела жить так, как живут мои родители. Отец говорил: «Учись, дочка, выбивайся в люди!». И вот я дала себе слово, что у меня будет другая жизнь, что я вырвусь из этого круга, что я стану богатой и знаменитой. Причем, я такая наивная дурочка, что решила непременно всего добиться сама, без помощи мужчин. Вернее, я не сразу к этому пришла. Был у меня один помощник…, — Лизочка закрыла лицо руками. Помолчала, потом продолжила говорить все так же, с закрытым лицом. — Он был намного старше. Такой, знаешь, здоровенный, мордатый, я даже не знаю, как я в такого умудрилась влюбиться. Он такой веселый, такой живой, что ли… шутил постоянно. Шутки, конечно, были казарменные, простецкие, но от него такая энергия шла. Такое обаяние. — Лиза убрала руки от лица. — Щедрый очень был. Денег не считал. Хочу я шампанского, он самое дорогое покупает. Или однажды гуляли мы зимой, я в пуховичке была, замерзла, так он затащил меня в магазин и шубу купил, чтобы я согрелась. Пешком он, конечно, практически не ходил, но мне в тот день прогуляться захотелось. Были у него какие-то политические интересы, купил он телеканал, ну а я там, конечно, была ведущей. И все было замечательно. Он был женат, но меня это не слишком беспокоило, поскольку я тогда была еще очень молода и замуж не собиралась, тем более за него. Он же ураган, вулкан, стихийное бедствие, в общем. Мне кажется, он и побить мог. Ревнивый очень был. Дай ему волю, так он и в паранджу бы меня нарядил. А потом все закончилось. Совершенно неожиданно. Внезапно, так, наверное, точнее. — Она замолчала, снова закрыла лицо руками.
— И что случилось? — осторожно спросил Иван.
— Позвонил однажды и сказал: «Все, детка, ты уволена!».
— В каком смысле?
— А во всех. С телеканала уволена и из любовниц уволена. Попросил написать заявление об уходе по собственному желанию и исчезнуть из его жизни. И еще сказал, что если я начну скандалить, выяснять отношения, названивать ему, то мне хуже будет. «Лучше уметайся подобру-поздорову!» — так и сказал.
— И ты умелась?
— Да. А что мне было делать? Налей мне тоже водки. — Иван плеснул ей водки прямо в бокал для вина — не стал дожидаться официанта. Лиза неловко выпила, скривилась, закусила салатом. — Мерзость редкостная, — сказала она, — закажи еще.
Иван подозвал официанта. Лиза молчала. Иван и не догадывался, что у этой хрупкой куколки в жизни уже была настоящая драма. Он вдруг понял, что вообще ничего не знает о женщине, с которой был близок два года. Она всегда интересовала его только непосредственно в момент присутствия. Здесь и сейчас. Он никогда не думал о ее прошлом, да и ее будущее Ивана, признаться, не слишком волновало…
Принесли водки и маринованных белых грибов. Выпили молча. Лиза снова скривилась. Потом заговорила:
— Тогда я и дала себе слово, что больше никогда не влюблюсь. Больно это слишком. Сначала хорошо, а потом больно. А он… Он нашел себе новую игрушку, девочку то есть. Мне потом рассказали, что он берет любовницу ровно на два года, а потом меняет. Он машины меняет раз в два года и девочек… тоже. Такое у него жизненное кредо. Принципы такие. Пошла вон и все тут. И его совершенно не интересует, что девочка, она живая, что ей может быть плохо, когда ее вышвыривают за борт, что она страдать может. Нет, такие подробности его не колышут. — Лиза снова закрыла лицо руками, а когда открыла, Иван заметил, что в глазах у нее стоят слезы. — Вот такой у меня был возлюбленный… В общем, я решила, что больше никого никогда не полюблю. Устроилась на другой телеканал, слава богу, я успела приобрести некоторую известность, и меня взяли без проблем. Там тоже была ведущей. Потом поняла, что больших денег на телевидении в нашем городе не заработать, даже если по двадцать пять часов в сутки пахать. И вот я здесь. Очередная покорительница столицы. — Лиза усмехнулась. — Понаехала тут… К чему я тебе все это рассказываю? Ах да… Я думала только о работе, только о своей цели. Никаких мужчин. Я была убеждена, что не стоят они ни моего внимания, ни моего времени. А тут ты… Я ведь не просто так с тобой, я ведь тебя люблю… Давай еще выпьем.
— Ты так напьешься, — предупредил Иван.
— Ну и что? Я сегодня хочу напиться. В хлам, до поросячьего визга. У меня знаменательный день — я расстаюсь с любимым мужчиной.
— Малыш, ну зачем? Зачем тебе это?
— Ты собираешься развестись с женой и жениться на мне? — Лизочка ждала ответа. Иван молчал. Она смотрела ему в глаза. Взгляд был злой и решительный. Губы сжаты.
— Ну, может быть, — замямлил Иван, — я не исключаю такой возможности.
— Мальчик мой, я хочу услышать правду. — Сказала она таким жестким тоном, что Иван сжался, хлебнул еще водки, закашлялся, а потом произнес очень тихо:
— Нет.
Лизочка расхохоталась.
— А знаешь, — сказала она, просмеявшись, — ты смелый мужчина, не каждый отважится сказать такое женщине прямо в лицо. Нет! Нет! Нет! Это как удар хлыста. Выстрел. Нож в сердце. Такое коротенькое слово — «нет». Вот и нет больше надежд. Вот и нет больше прошлой жизни, вот и нет больше пути назад. Рубикон перейден, все мосты сожжены. Все-все мосты сожжены. — Из глаз Лизочки хлынули слезы. Она не пыталась их сдерживать. — Вот тебе и ответ на твой вопрос. Он в твоем «нет». Ты не хочешь на мне жениться, а я хочу жить с тобой, я хочу таких простых вещей: просыпаться с тобой в одной постели, готовить тебе завтрак, черт возьми, я бы даже твои носки с радостью постирала! И рубашки бы погладила. Только нет у меня такого счастья. Господи, так все просто и так невозможно!
— Взвыла бы ты от рубашек-то, — вставил Иван.
— К сожалению, я никогда этого не узнаю. Не суждено. Ну, все, ты просил меня объяснить, почему я тебя бросаю, я объяснила. Еще вопросы есть?
— Я все равно не понимаю. Почему мы не можем оставить все как есть? Я очень не хочу тебя терять. Ты дорога мне. Ты очень мне дорога!
— Не надо! Прошу тебя, не надо! Ты такой же, как он! Ты меня просто используешь! Ты просто пользуешься мной! Тебе же нет никакого дела до меня! Я для тебя лишь красивая кукольная оболочка, я для тебя лишь тело, которое дарит тебе наслаждение, когда ты этого пожелаешь. Конечно, ты не хочешь меня терять. Пока не хочешь. Ты мне еще в любви, наконец, признайся! Ну, скажи: «Я люблю тебя, малыш!» и посмотри мне в глаза нежно. О! Тогда я растаю, поверю и уж точно оставлю все как есть. А что же будет потом? Не знаешь? А я знаю. Потом, когда я тебе надоем, ты мне скажешь: «Ты уволена!». Нет уж, я тебя опережу — это ты уволен! Это ты уволен!
Лизочка кричала. На нее начали оборачиваться.
— Успокойся, ты пьяна, — прошипел Иван.
— Да, я пьяна и очень, очень, очень несчастна. Как мне плоооохо! — взвыла Лизочка.
— Чем я могу тебе помочь? — ему было тоже очень плохо и хотелось, чтобы эта пытка поскорее закончилась, но он вдруг вспомнил о своей миссии: он же должен спасти женщину. Лизочку явно нужно было спасать. Но как? Жениться на ней? Пожертвовать собой? Пожертвовать покоем еще одной женщины, то есть жены? А как потом ее спасать? Ее ведь потом тоже придется спасать. Вроде ведь ничего особенного не сделал. Ну, подумаешь, влюбился, завел любовницу… Ну, все же так живут. Почему все так запуталось? Сбежать бы отсюда. Да шут с ней, с этой Лизочкой, это она его бросает, а не он ее. Он пострадавшая сторона. Его нужно спасать и жалеть, а не ее. Что он плохого-то ей сделал? В хорошей квартире поселил, подарками заваливал, в дорогие рестораны водил. Ну и что с того, что он жизнью ее не интересовался? Так ведь ему и собственной жизнью заниматься некогда, все работа да работа. Ну и что с того, что не собирался он на ней жениться? Да, может, и женился бы, если бы в России было разрешено многоженство. Так ведь нет, не разрешено. У него есть уже жена, и она его вполне устраивает. Сбежать. А Петр Вениаминович? Опять ведь заявится, опять начнет есть мозг. От него не скроешься. Да что ж такое-то? Да за что все это? Такие мысли метались в Ивановой голове, пока он ждал, что скажет Лизочка.
— Да, ты можешь мне помочь, — устало прошептала она сквозь слезы, — дай мне уйти. Отпусти меня. Не напоминай о себе. Не пытайся меня вернуть пустыми обещаниями. Мне будет и так нелегко без тебя.
— Но мне ведь тоже будет тяжело без тебя. Тогда зачем? Зачем?
— Я все решила. Какая судьба меня ждет с тобой? Быть вечной любовницей? Умирать от ревности к твоей жене? Проводить выходные и праздники в одиночестве? И непрестанно мечтать, мечтать, что когда-нибудь ты будешь только моим. Жить глупыми надеждами. Заводить любовников, чтобы почувствовать себя нужной хоть кому-то. А потом ненавидеть себя, тебя, весь мир. Заниматься самокопанием, чтобы понять, что же во мне не так? Почему же ты не говоришь мне о своих чувствах, почему же ты не подпускаешь меня к себе близко? Почему ты не хочешь находиться рядом со мной постоянно? Вот так я и жила эти два года. Ты хочешь для меня такую судьбу?
— Я думал, ты счастлива.
— Как видишь, я не была счастлива. Прости, если в чем-то перед тобой была виновата. А теперь дай мне уйти.
— У тебя кто-то есть?
— Нет, но будет, обязательно будет. Знаешь, я решила, что быть благородной, порядочной, это плохо. Это анахронизм какой-то. Это так несовременно. Знаешь, если мне еще встретятся такие мужчины, как ты, богатые и влиятельные, я буду их использовать. Они меня, а я — их. Деловые отношения с сексуальным оттенком. А вот любить я этих мужиков не буду.
— Не делай так. Это ведь проституция. Ты же не такая. Да ты так и не сможешь, поверь мне. Ты ведь тоже это знаешь. — Иван взял руку Лизочки, начал ее целовать. Лизочка руку не отняла. — Встретится тебе мужчина, с которым ты будешь счастлива. — Сказал Иван, когда оторвался от Лизочкиной руки. — Жаль, что у меня не получилось. Мне, правда, жаль.
— Я пойду. — Лиза высвободила руку и поднялась, повертелась перед Иваном. — Ну, запомни меня молодой и красивой. Я надеюсь, что ты выполнишь мою просьбу, и мы больше не увидимся.
Иван тоже поднялся.
— Хоть поцеловать-то тебя можно на прощанье?
— Целуй, ладно уж, — разрешила Лизочка.
Иван обнял ее и осторожно поцеловал в губы. Нежно. Лизочка вырвалась.
— Все, хватит, иначе я не смогу уйти. Я люблю тебя. Прощай! — девушка почти бегом кинулась к выходу.
Иван сел и допил водку.
Глава пятая
— Кхе-кхе, — услышал Иван чье-то покашливание и проснулся.
Петр Вениаминович сегодня был наряжен в старые, тертые джинсы и застиранную, утратившую краски, клетчатую байковую рубашку. На голове красовалась веселенькая рыжая бейсболка с надписью «сквозняк». Бабочка, разумеется, тоже в наряде присутствовала — жизнерадостного оранжевого цвета. Видимо, подбирал специально под головной убор.
— Гармонично, вы не находите? — поинтересовался Петр Вениаминович, перехватив взгляд Ивана.
— Да, пожалуй, — пробормотал Иван. — Чем обязан? Кажется, я уже начал выполнять ваши требования. Чего вы еще от меня хотите?
— Ну-ну, молодой человек, не стоит так горячиться. Посмею вам напомнить, что речь шла вовсе не о требовании, а о просьбе. Еще, если мне не изменяет память, во время нашей последней встречи я и на выполнении просьбы своей не настаивал. Вы сами приняли такое решение. Добровольно. Не будете же вы утверждать, что я каким-то образом принудил вас?
— Хммм, — усмехнулся Иван, — мне показалось, что элемент давления в моем так называемом добровольном решении все же присутствовал. Мне даже показалось, что мне некоторым образом угрожали. Хотя, очевидно, только показалось.
— Полноте. Кто старое помянет… Я пришел к вам как друг.
— Ах, так мы друзья! Извините, не знал. Даже не подозревал, уж не обессудьте. Как я мог не заметить появления в моей жизни нового друга! Ая-яй!
— На мой взгляд, ирония здесь не уместна, молодой человек, ибо я действительно ваш друг. — Петр Вениаминович одарил Ивана взглядом, полным добродушия и самого искреннего расположения. Он выудил из кармана своей рубахи сигару, церемонно закурил. — А я, пожалуй, и выпить не прочь. — В руке у Петра Вениаминовича возник пузатый бокал с коньяком. — Здоровье, к сожалению, уже не позволяет, слишком часто употреблять коньячок, но иногда я себе разрешаю это маленькое удовольствие. А вот в молодости я был любитель, знаете ли… А потом доктора запретили. И мне, стареющему сибариту, пришлось выбирать либо сигары, либо коньяк. Согласитесь, непростой выбор. Проще умереть, чем вовсе лишиться радостей жизни. Много ли у пожилого человека удовольствий? Я выбрал сигары, но слаб, слаб и коньячком иногда балуюсь. В свое оправдание могу лишь сказать, что редко себе позволяю праздники в виде бокала хорошего коньяка.
— С чего это вам вздумалось передо мной оправдываться? — проворчал Иван. — Вы полагаете, мне есть дело до того, с какой периодичностью вы употребляете спиртные напитки?
— В том-то и беда, молодой человек, что вам вообще мало до кого есть дело. Нда… Девушка вот рядом с вами два года маялась, страдала, а вы и не заметили…
— Слушайте, без вас тошно! Не надо мне нотаций, взываний к моей совести! Как умею, так и живу! Вас послушать, так я изверг какой-то. Самый главный злодей на планете. Душегуб просто! — огрызнулся на Петра Вениаминовича Иван.
— Вы себя переоцениваете. Хе-хе. Обыкновенный среднестатистический негодяй. — Петр Вениаминович гаденько захихикал. — Шучу, шучу. Я, собственно, заглянул, дабы вам свое сочувствие выразить, поддержку всяческую оказать, это ведь какая неприятность, когда вас бросают. Нет, пардон, неправильно выразился, это ж какая несправедливость!
— Издеваетесь? — у Ивана возникло сильнейшее желание схватить Петра Вениаминовича за жирненькую шею и придушить.
— Отнюдь, — Петр Вениаминович очаровательно улыбнулся, отчего стал похож на злобного клоуна. — Мне вас искренне жаль. Тоже такое в моей жизни бывало, чего уж там… И даже не раз… Внешность-то у меня… Не принц, прямо скажем, не принц… Нда… Обаяние, правда, харизма, да на женщин разве угодишь? Все им не то, все не так. Сами не знают, чего хотят, идеал им подавай, а где ж его взять-то? Существование идеальных мужчин наукой не доказано. А если предположить, что вдруг заполучат они такой экземпляр, как они себя поведут?
— Как? — эхом отозвался Иван.
— Начнут ныть, что им скучно с таким хорошим — распрекрасным, что тошнит их от его совершенства, от его заботы, ласки, внимания. И станут мечтать о плохом мальчике, о хулиганье каком-нибудь, с которым, однако, им временами будет весело. И за эти мгновения веселья, праздника жизни они будут терпеть его хамство, издевательства, унижения. О, женщины! Загадки! Дуры набитые! Ангелы! Стервы! Страдалицы! Мучительницы! Плутовки! Красавицы! — Петр Вениаминович сделал изрядный глоток коньяку и заулыбался блаженно, очевидно, предаваясь приятным воспоминаниям. — А я, знаете ли, по молодости-то был дамский угодник.
— Бабник, вы хотели сказать?
— Фу, как грубо, молодой человек! Ох, уж эти современные мужчины! Ничего-то они не понимают ни в женщинах, ни в жизни! То все усложняют, запутывают, то упрощают до примитива. Задача бабника, понимаете ли, завоевать женщину, и как только цель достигнута, вершина покорена, он устремляется в погоню за новым трофеем. Или же это просто сексуально невоздержанный тип. А дамский угодник — это явление иного порядка. Его цель — подарить даме удовольствие, удовлетворение, если хотите, а главное — счастье. Счастье! — Петр Вениаминович многозначительно поднял сигару.
— Удавалось? — скептически поинтересовался Иван.
— Вообразите себе, да. А ваш сарказм, юноша, вызывает у меня недоумение, если не сказать больше — негодование! Я, безусловно, не всемогущ, и не всегда у меня получалось добиться во взаимоотношениях с женщиной положительного результата, то есть сделать ее счастливой, но в основном я справлялся с поставленной задачей. Да, могу это констатировать. Не без гордости, кстати.
— И что же нужно женщине для счастья?
— Вынужден вас огорчить — универсальных рецептов счастья еще не придумано. Слишком тонкая материя, слишком индивидуальная, слишком все от личности зависит. Вам вот, насколько мне известно, счастье представляется в виде симпатичной виллочки средних размеров на Лазурном берегу. Которая в свою очередь является для вас как символом престижа и успешности, так и местом, где бы вы могли на время спастись от суеты и насладиться покоем. Но в тоже время иметь возможность в случае необходимости пообщаться с представителями вашей касты, то есть с теми, кто тоже имеет домики на Лазурном берегу. Хотя, должен заметить, что как только мечта ваша сбудется, вам будет казаться, что счастье в чем-то другом, что вы жестоко ошиблись с выбором внешнего объекта счастья. Вы придумаете себе новую мечту. Новую химеру. Погонитесь за ней, а она снова окажется пустышкой.
— Так что же, счастье невозможно?
— Отчего же? Возможно. Просто мы, как правило, не там ищем.
— И где его нужно искать?
— Может быть, вам еще все тайны мирозданья раскрыть? Преподнести, так сказать, на блюдечке с золотой каемочкой? Не слишком ли много вы хотите? Хотя ладно, я сегодня добрый. Вот здесь надо искать подлинное счастье, — он коснулся бокалом с остатками коньяка своей груди. — В себе. Большего сказать я не имею права. Не уполномочен. А что касается Лизочки, вы уж извините, что снова беззастенчиво топчусь на вашей больной мозоли, то ей и нужно-то было для счастья всего лишь ваше внимание. Ей нужно было от вас получить подтверждение собственной ценности, значимости и значительности. И еще немного заботы и ласки. А кем она себя с вами чувствовала? Куклой, игрушкой, которую вы купили, которую могут где-то забыть, выбросить, когда она потеряет товарный вид или когда вы с ней наиграетесь. Как она вам сказала: «Это ты уволен!»? Она и жила два года под дамокловым мечом этого страха быть уволенной, вышвырнутой из вашей жизни. Увы и ах, но вы давали ей повод для подобного рода опасений. Житьем-бытьем ее не интересовались, планов не строили, появлялись только, когда вам этого хотелось, а когда ей было одиноко, вас рядом не было. И никаких перспектив, никакого совместного будущего. Эта малышка очень сильная женщина. Она ведь вас не пилила, ничего не требовала, денег у вас не брала. А когда терпеть стало совсем невмоготу, она решила уйти. Спастись бегством. И ведь честно с вами поступила, благородно, объяснила свои мотивы и причины. А вы что же? Обиделись, взбеленились, разозлились. А должен ведь был поблагодарить ее за то, что она столько времени дарила тебе себя, ничего не требуя взамен. Эх, Иван Сергеич, Иван Сергеич!
— Она меня бросила! — вскричал Иван. — Меня! Бросила! А я ей еще спасибо должен говорить! Вы меня за идиота держите? Или вы сам идиот?
— Мне бы сейчас тоже рассвирепеть, да вызвать на дуэль дерзкого, зарвавшегося мальчишку, оскорбить вас в ответ, поставить вас на место, остудить ваш пыл, окатить вас ледяным душем, дабы умерить ваш пыл. Поверьте, я мог бы пролить на вас ведро воды, лишь щелкнув пальцами, но я не буду этого делать. Ибо, все это действия, не достойные мудреца, коим я, безусловно, являюсь. Черт, коньяк, кончился. Пожалуй, я еще выпью. Видите ли, беседы, которые принято именовать дружескими, меня совершенно изматывают. Надобно как-то укрепить свой дух. — В бокале Петра Вениаминовича чудесным образом появилось еще грамм сто пятьдесят коньяка. — Может, и вам налить?
— Не откажусь, пожалуй.
— Ну, вот и славненько. Прошу прощения, что не предложил вам раньше, но я взял на себя смелость предположить, что вы и так уже изрядно набрались в ресторане во время драматичного прощания с вашей прекрасной любовницей.
На прикроватной тумбочке возник еще один бокал. Иван взял его в руки, покрутил, понюхал темно-коричневую жидкость, что плескалась в нем.
— Это настоящий коньяк, не беспокойтесь. Французский. Пейте-пейте.
Иван выпил. Подумал, будет ли похмелье, если напиться во сне?
— Я вполне понимаю вашу ярость, ваше негодование, — вкрадчиво произнес Петр Вениаминович. — Большинство людей в аналогичных обстоятельствах ведут себя точно так же. Позволю себе восхититься вашей сдержанностью: не каждый отпустил бы любимую женщину без скандала, упреков и обвинений. Да, она все решила за вас. Соглашусь, это не слишком приятно и даже в некотором роде оскорбительно. Представляю, каково это быть пешкой в чужой игре. Тем более что вы-то воображали, что игра — ваша, пешка — это она, а вы король. А что было делать бедной девочке? Как бы она вас ни любила, она повиновалась инстинкту самосохранения, потому и бежала от вас. Сумейте ее понять, так как я вас понял сейчас. Повторюсь, она сделала выбор за вас, но и у вас есть выбор: простить Лизочку или позволить злобе пожирать вас. Да, кстати, вы, надеюсь, уже догадались, что спасать нужно не ее? Она сама сумела о себе позаботиться. Настоятельно советую вам продолжить поиски. — Из взгляда Петра Вениаминовича вмиг исчезло все добродушие. Он больше не напоминал клоуна в фермерской одежде. Он снова был опереточным Мефистофелем, загадочным и зловещим. Он поднял свой бокал. — Ну-с, ваше здоровье!
Петр Вениаминович исчез, а бокал в руке Ивана остался. И коньяк остался. Иван его допил и заснул с ощущением дежа вю. Было уже сегодня такое, только в первый раз после ухода Лизочки он допивал водку. И еще одна мысль мелькнула в его сонном мозгу — что человек все-таки уникальное животное, даже к дурдому, в который внезапно превращается его жизнь, он может привыкнуть. Иван уже начал привыкать.
В конце следующего рабочего дня Лизе Потаповой, руководителю спецпроектов развивающегося кабельного телеканала, девушке с опухшими от слез глазами, тонкий, смазливый юноша в униформе посыльного вручил красный подарочный пакет. В нем она нашла деревянную шкатулку, инкрустированную перламутром. В шкатулке Лизочка обнаружила лиловую бархатную коробочку. В коробочке покоилась цепочка белого золота. На цепочке белого золота сверкала подвеска в виде сердечка, усыпанная бриллиантами. Ставшие сегодня узкими, разнесчастные Лизочкины глаза тоже восхищенно засверкали. Кто сделал ей такой великолепный подарок? Лиза еще раз заглянула в пакет. В нем лежал еще и конверт. Девушка торопливо вскрыла его. Там была записка следующего содержания:
«Милая!
Хотя, нет, не просто милая. Любимая!
Я ведь тебя все же люблю, хотя и не имел смелости в этом признаться. Люблю. Я легкомысленный болван. Я втянул тебя в эти отношения, не думая о последствиях. Я эгоист. Прости меня, дурака! За все прости. Надеюсь, что ты будешь счастлива, что у тебя будет все, о чем ты мечтаешь. Ты этого заслуживаешь. Ты ведь редкая женщина: прекрасная, умная, талантливая, честная, порядочная. Ты великолепна! Жаль, что я не смог тебя удержать. Я выполню твою просьбу и не буду больше тебя беспокоить, хотя это и нелегко. К сожалению, я не могу дать тебе того, чего ты хочешь. Но помни, что ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь.
Люблю. Целую. Иван-дурак».
После прочтения записки Лизочка снова разрыдалась. На сей раз от умиления. Какой же замечательный Иван человек! Почему он не встретился ей раньше, когда еще был свободен? Лизочка рыдала долго, самозабвенно. Когда она ехала домой в такси, глаза ее прикрывали темные очки, а в голове светились мысли: все будет хорошо, все непременно будет хорошо! Не все мужчины козлы и сволочи. Способны они и на благородные поступки! Эти мысли расцвечивали мокрые осенние московские улицы, темные силуэты пешеходов, весь мир. Он прекрасен, этот мир! И свобода прекрасна!
В это же самое время благородный рыцарь Иван сидел в своем рабочем кабинете, обхватив голову руками, и блуждал по просторам своего разыгравшегося вдруг воображения. Он представлял, как Лизочка рассматривает его подарок. Он представлял ее огромные синие глаза, видел, как они наполняются сначала удивлением, потом радостью, потом восхищением, потом болью. Он представлял, как она примеряет сияющую подвеску. Он вспоминал ее длинную шейку, узкую спину, маленькие ручки, тоненькие трогательные ножки. Он прощался со своей девочкой. Со своей фарфоровой куклой с низким, хрипловатым голосом. Она плачет, наверное. И он, Иван, причина ее слез. Как глупо все. Ничего, его малышка переживет эту утрату. Он уверен в этом. Она сильная, эта малышка. Все у нее будет хорошо.
Иван достал из ящика стола список своих некогда любимых женщин и вычеркнул из него Лизочку Потапову.
Глава шестая
Машка Аверкиева стала художницей, довольно известной в определенных кругах. Собственно, она давно уже была не Машкой, а Мари, и не Аверкиевой, а Арно. Вот так, Мари Арно — модная художница. Детективу, которого нанял Иван для поиска своих женщин, пришлось изрядно потрудиться, прежде чем ему удалось обнаружить Машку. Биографию она имела витиеватую, со сложным переплетением многочисленных сюжетных линий. Только официальных замужеств в ее послужном списке имелось четыре, и неизменно Машка брала фамилию своего очередного мужа, что, безусловно, осложняло поиск. К тому же, «Арно» — ее псевдоним, и среди представителей бомонда она была известна именно под ним. В итоге Машка все-таки нашлась, причем, совсем рядом: обитала она всего в двух кварталах от Ивана. Удивительно, что они ни разу не встретились, хотя, может и встречались, да не узнали друг друга, сколько лет-то они не виделись. Много, очень много…
— Да! — услышал Иван бодрый, резкий голос.
— Могу я поговорить с Мари Арно?
— Ну, слушаю!
— Я хотел бы приобрести что-то из ваших картин. Это возможно?
— Да запросто. Приезжайте.
— Вот так просто?
— А к чему нам сложности? Мне деньги нужны. Сижу на мели. Уже третий день даже коньяку не на что купить. А какое творчество без коньяку? Так что я вас жду. Да поторапливайтесь.
Когда Иван положил трубку, он подумал, что произошло какое-то недоразумение, что неуместно откровенная женщина-алкоголичка, с которой он только что говорил по телефону, не может быть Машкой Аверкиевой, голубоглазой нежной девочкой, которую он помнил…
С Машкой Иван учился в художественной школе. Было это в маленьком провинциальном старинном городке. Иногда, в состоянии блаженной ностальгии, подкрепленной серьезной дозой спиртного, он любил рассказать о своей исторической родине приятелям, дабы продемонстрировать, из какой грязи он вылез в князи. Грязь в его родном городке действительно была выдающаяся — чистейший чернозем: жирный, вязкий, вездесущий. Лишь в избранных местах он был обуздан разбитым асфальтом или деревянными тротуарами, иначе грязь была бы совсем уж непроходимой. Иван до сих пор с ужасом вспоминал свои коричневые резиновые сапоги, которые ему приходилось носить осенью и ранней весной. В приличной кожаной обуви по улицам ходить было невозможно. Да и не было у него приличной обуви. А металлическое корыто перед входом в школу снилось ему обычно накануне важных сделок. В этом корыте надлежало мыть обувь. Для этих целей в нем торчали палки с намотанными на них тряпками. И вот эти тряпки школьники окунали в мутную темную воду и размазывали грязь на своих башмаках. Но это было не самое страшное. Кошмар начинался, когда кто-то из местных хулиганов с утра пребывал в игривом настроении. Эти мерзкие мальчишки могли начать кидаться палками с тряпками, могли снять с кого-то шапку и утопить ее в корыте, могли обрызгать жуткой водой из корыта. Они были крайне изобретательные, эти хулиганы. Каждый день по дороге в школу Иван мечтал, чтобы вся шпана дружно решила прогулять занятия или проспала бы. А еще он всерьез подумывал о шапке-невидимке, чтобы проскальзывать в класс незамеченным. Ваня слишком не вписывался в антураж захудалой школы, которая среди других образовательных учреждений города пользовалась дурной славой. Это была бандитская школа. Здесь даже девочки умели драться: и не то чтобы как-то заурядно вцеплялись в волосы или царапались обломанными ногтями, а могли и в морду запросто дать, причем кулаком. Драться им приходилось в основном с мальчишками, поэтому им ничего не оставалось, как научиться обороняться. Это была настоящая школа выживания… А Ванечка перед первым классом мало что знал о реальной жизни и реальных детях. В детский сад он не ходил — его воспитывала бабушка со стороны матери, бывшая учительница русского языка и литературы. Она так глубоко посеяла в нем семена разумного, доброго, вечного, что он долго не мог поверить, что есть семилетние мальчики и девочки, которые ничего не слышали о Питере Пене, Мэри Поппинс, Квазимодо, Гюго, Шекспире. Он даже и помыслить не мог, что на свете существуют семилетние мальчики и девочки, которые не умеют читать и писать. Он не представлял себе, что мальчики и девочки могут говорить друг другу гадости и обзываться нехорошими словами, драться. Ванечка был единственным ребенком в семье, к тому же поздним, любимым, заласканным, зацелованным. В эту ужасную школу родители, конечно, свое дитятко отдавать не хотели, но была она рядом с домом, а остальные были далековато. Общественный транспорт в городке, конечно, существовал — по улицам пыхтело несколько старых, скрипучих автобусов, но ходили они крайне редко, с периодичностью, которую никак не удавалось систематизировать, можно было простоять на остановке полчаса и так и не дождаться вожделенного транспортного средства, плюнуть и пойти пешком. И даже если повезло, и громыхающая развалина подкатывала к остановке, попасть в нее было непросто: автобус штурмовала толпа разозленных ожиданием людей. Позже Ваня узнал, что городок их, несколько веков назад был основан как военное поселение, и жители его были потомками служивых людей, осады и обороны, видимо, были у них в крови, так что автобус был для них, как крепость, которую непременно нужно взять. Желательно с боем. Словом, на семейном совете родители, бабушки и дедушки решили, что не стоит Ванечку подвергать ежедневному стрессу под названием «Общественный транспорт» или же заставлять его тащиться пешком несколько километров, и постановили отдать его в ближайшее учебное заведение, идти до которого было всего минут десять. «Я сам там учился и ничего, только сильнее стал, я и за себя постоять могу, и образование там, кстати, дают хорошее, как ни странно. Так что и Ванька там поучится, ничего с ним не случится», — сказал отец и своими словами окончательно решил судьбу сына. Ванечку били одноклассники. Его очочки и ухоженный вид слишком их раздражали. Когда Ванечку били, он почти не сопротивлялся: мама и бабушка внушили ему, что драться плохо. Однажды, когда он в очередной раз вернулся из школы с разбитой губой и в разорванной курточке, отец сказал: «Да что ж это такое! Сколько ты еще будешь позволять себя бить? Ты что, слабак? Давай сдачи. Ты же сильный, пусть они тебя боятся. Добро должно быть с кулаками». Смысла этой загадочной фразы Ванечка так и не понял. Ему почему-то представился какой-то огромный холщовый мешок, в котором полно всякого добра. Из мешка торчат два огромных кулака в боксерских перчатках. Совершенно безумная картинка, ничего не объясняющая. И все же Ваня уловил суть отцовского пожелания: он начал драться. Хулиганы-одноклассники теперь знали, что обидеть очкастого отличника безнаказанно не получится — он даст достойный отпор. И еще они уяснили, что очки — это вовсе не признак слабости. Очки свидетельствуют лишь о том, что у человека плохое зрение. Тем не менее, Ваня, как и любой другой ученик этой школы, не был застрахован от посягательств хулиганов. Так что и Ванина шапка однажды погибла в корыте с грязной водой. И к стулу его приклеивали, и на кнопки он садился, и портфель у него прятали, и тетради его портили, и кличка у него была Бонифаций. Происхождение этого прозвища было не слишком очевидным, но вполне логичным. Лёвочкин — лев — лев Бонифаций — Бонифаций. Был такой герой известного мультфильма. Иногда без изысков звали его и Ванькой-дураком, и Лёвкой, и очкариком, и водолазом. В школе Ване нравилось. Там было весело и опасно. Больше все-таки весело. Непредсказуемо. Иван шел в школу, как искатели кладов и приключений едут в дальние неведомые страны — замирая от страха неизвестности и бурля адреналином. Иван был белой вороной и лучшим учеником в классе. Симпатичным додиком в очках, которого задирали мальчишки и не замечали девчонки. И все же он любил свою школу и не променял бы ее даже на престижный английский колледж. Впрочем, во времена, когда юный Ваня проходил обучение в средней школе маленького городка, который можно было найти только на очень подробной карте, об учебе за пределами страны никто и мечтать не мог. Сложно было даже вообразить, что такое вообще возможно — границы СССР были на замке. Иванова школа была построена в 1938 году. Он знал это с первого класса, но цифра эта тогда ему ни о чем не говорила. Когда Ваня учился классе в шестом, грянули перестройка и гласность. И через несколько лет, когда он был десятиклассником, учитель истории Павел Андреевич, седовласый фронтовик, с внешностью и манерами аристократа из романов Тургенева, повествовал притихшим школьникам об ужасах тридцать восьмого года. Учебников новейшей истории страны тогда не было — не успели написать, слишком уж неожиданно случилась гласность. Ученики записывали в толстые клеенчатые тетрадки слова учителя. Очевидно, он в первый раз за свою долгую жизнь говорил все это публично. Ване показалось, что он хотел сказать правду всю жизнь, но не мог. Возможно, Павел Андреевич мечтал о тех временах, когда он сможет, наконец, рассказать подлинную историю Советского Союза, и вот дождался. Так показалось Ване. Еще он тогда задался вопросом, легко ли это, врать на протяжении всей своей жизни? Мучиться, но врать, врать, врать! Он тогда с яростным пылом юношеского максимализма возненавидел всех взрослых, которые провели многие годы во лжи и решил, что сам он всегда будет говорить только правду, в какие бы лагеря его за это не сослали. Однажды на уроке истории он с вызовом спросил Павла Андреевича, глядя ему прямо в глаза: «А почему одних расстреливали и сажали, а другие жили себе преспокойно, карьеру делали?». Павел Андреевич достал из нагрудного кармана пиджака белоснежный платок, вытер лоб и сказал: «К сожалению, не могу ответить на твой вопрос, Лёвочкин, он слишком общий, а тут нужно рассматривать судьбу каждого человека отдельно. Если же ты имел в виду конкретно меня, то я был осторожен, шел на компромиссы с собой и своей совестью. Я выбрал молчание. Ты это хотел услышать?». Ваня покраснел. Ночью он долго не мог заснуть — все думал о том, что такое трусость. Вот их учитель истории трус или смельчак? Сказать то, что он сказал сегодня перед всем классом — это смелый поступок, сам Ваня, пожалуй, вряд ли на такое решился бы. А с другой стороны, он на протяжении десятилетий преподавал детям придуманную историю, историю, которой не было. И он знал об этом. Но продолжал врать. Трус? Трус. Но он был на фронте и награды имеет. Значит, не трус. Как сложно все. Но ведь и сам Ваня был октябренком и пионером, а сейчас вот комсомолец. Он вспомнил, как гордился, что его первым в классе приняли в пионеры, потому что его признали самым достойным. А еще вспомнил, как в раннем детстве он с удовольствием читал книжки про Ленина, любил его как собственного дедушку и не хотел верить, что он умер. Он надеялся, что Ленин в согласии с известным лозунгом «живее всех живых». Так мысли мальчика и кружили по кругу. Когда он, наконец, заснул, ему снился молодой Павел Андреевич, который выскакивал из окопа и шел в атаку с винтовкой наперевес, как его сражала вражеская пуля, а Ваня кричал во сне: «Нет! Нет!». Еще снился дедушка Ленин, который, как спящая красавица, вставал из своего хрустального гроба в мавзолее, кричал, что он совершил роковую ошибку, но намерен незамедлительно все исправить, требовал сейчас же подать ему броневик и начать новую революцию, расстрелять всех коммунистов и провозгласить диктатуру буржуазии. Никогда еще Ваня так не радовался пробуждению. За завтраком он спросил у отца:
— Пап, а Пал Андреич у вас тоже историю преподавал?
— Почему историю? Никогда он историю не преподавал. Он же учитель русского языка и литературы. Один из лучших в городе.
— Странно, а почему он у нас историю ведет?
— Действительно, странно. Может, потому что сейчас можно стало говорить правду? А раньше, чтобы меньше врать, говорил о литературе. Бог его знает. — Отец пожал плечами.
— А тебе советская власть нравится?
Отец замялся, хлебнул чаю, откусил большой кусок бутерброда с маслом, прожевал, а потом ответил:
— Я при советской власти родился и другой пока не знаю. Кругом ложь. Послушаешь, что говорят эти партократы о достижениях народного хозяйства, а потом выйдешь в эту грязь, в эту темень, когда ни одного фонаря на всей улице нет, зайдешь в магазин, а там пустые прилавки… Как доверять такой власти? Плохо мы жили, что уж там говорить. Зато стабильность была. Худая, но стабильность. А сейчас все рушится. Неизвестно, что там дальше будет. — Отец вздохнул. — Может, еще и хуже все будет. Смутные времена грядут, я это чувствую. Страшно жить в эпоху перемен. Не повезло тебе. Не только тебе, а всему твоему поколению.
— Почему?
— Вас лишили мировоззрения, которое даже еще и оформиться-то не успело. Вас лишили ориентиров. Вас лишили всех ценностей, которые успели у вас появиться за четырнадцать-семнадцать лет вашей жизни. Вы дети еще совсем, а у вас уже такие потери. Горько все это. Сейчас ты можешь мне возражать, но позже ты меня поймешь.
Ваня подумал, что отец прав, только все еще хуже, чем ему представляется. Юноша больше не знал, что хорошо, а что плохо. Он больше не знал, кто хороший, а кто плохой. Раньше Ленин, Дзержинский, Чапаев, Буденный, Павка Корчагин, Тимур и его команда были героями, а сейчас они кто? Раньше Деникин, Колчак были злодеями, беляками, а сейчас они кто? Раньше социализм был добром, а капитализм злом, а сейчас? Мир больше не был понятным, он стал вдруг сложным, запутанным и противоречивым. Он не предлагал больше готовых решений и мнений. Сейчас нужно было во всем разбираться самому. Это была свобода. Свобода, с которой Ванька еще не умел обращаться. Но уже тогда в нем возникло неприятие политики и политиков, он не желал с этим иметь дела. Он считал, что политика — это грязь, погрязнее непроходимого, изрытого колеями чернозема дорог в городке, в котором он жил. Иван изменил многим своим убеждениям, но этому остался верен. А Павла Андреевича Ваня простил. Как и многих других. Вскоре Ваня тоже узнал, что такое компромисс. Впоследствии жизнь не раз предоставляла ему возможность познакомиться с этим явлением.
Жители городка смеялись, что обитают они в городе-герое — ничего нет, а люди до сих пор живут. Иван до сих пор помнил, как он заходил из школы в магазин в поисках чего-то вкусненького, а там не продавали ничего, кроме хлеба и консервированной морской капусты. Тогда женщины в городке начинали сочинять рецепты блюд из морской капусты и от отчаянья решали, что это действительно вполне съедобно. Через некоторое время капуста в магазинах могла смениться консервами «Завтрак туриста». Тогда начинали придумывать, как повкуснее съесть эти отвратительные консервы. Апельсины и мандарины были редкостным деликатесом: их привозили из Москвы. Иван старался не вспоминать, как он, десятилетний мальчишка, два часа стоял в очереди за курицей, извелся весь, а прямо перед ним все закончилось — Иван ушел домой ни с чем. Хотелось реветь от обиды, только он не мог, ведь мальчики не плачут. До сих пор Иван не любит курицу, а если ему случается ее есть, старая обида сжимает сердце. Глупо, но ничего поделать с этим уже невозможно.
В городе был праздник, когда в какой-то из магазинов из соседнего областного центра привозили мороженое. Очереди за ним были жуткие, настоящее смертоубийство, с локальными драками и сварами, брали сразу минимум стаканчиков по десять, клали в морозилку, а потом ели по мороженому в день. Ваня очень страдал, поскольку родители опасались за его горло и заставляли мороженое перед употреблением растоплять, после чего оно становилось просто сладеньким молочком. Ваня об этом никому не рассказывал, это ведь был позор. В классе все хвастались, кто сколько мороженого купил. Больше всех всегда оказывалось у Вальки Лукашиной. Ей родители покупали сразу по тридцать вафельных стаканчиков. Одноклассники изнывали от зависти и предпринимали попытки самостоятельного изготовления мороженого: добавляли в молоко сахар и варенье, а потом замораживали. Ничего не получалось. Также потерпели полное фиаско и эксперименты с зубной пастой. Ее, жаждущие благ цивилизации школьники, безуспешно пытались превратить в жевательную резинку, поскольку и этот продукт был величайшей редкостью. Просто алхимики из захолустья. Сейчас-то уже смешно, а вот тогда не было.
Иван не любил вспоминать бытовые подробности своего детства. Что там приятного? Водопровода нет: колонка на углу — туда нужно было ходить за водой с ведрами; удобства во дворе. А мытье посуды? В тазике. Вода в нем после первой же тарелки становилась жирной и омерзительной. Бррр… Ивана до сих пор передергивало, когда в памяти возникали эти веселые картинки. Баня раз в неделю и ежедневное обтирание мокрым полотенцем на кухне. А отсутствие дезодорантов? А помойное ведро? И это в конце двадцатого века! А где-то были города, где стройными рядами стояли новостройки с многоэтажными домами, где были горячая и холодная вода, канализация, газ… Были эти города совсем рядом — всего-то несколько часов езды на автобусе. Ваня мечтал поскорее вырасти и сбежать из родного городка — поступить в университет. Временами он свой город ненавидел, особенно поздней осенью, когда из него уходили все краски. Оставались лишь многочисленные переливы серого. Уныние и тоска. И все же Ваня любил свой городок. Он находил его живописным. Многие приезжие плевались — деревня! Да, деревня. Красоту этого городка разглядеть было непросто, но те, кому она открывалась, влюблялись в него раз и навсегда. Улочки, сбегающие к реке. Деревянные домики в резных наличниках. Пестрые георгины в палисадниках. Приземистые, разрушающиеся церквушки. Красные яблоки в садах. Нарядные купеческие особнячки. Холмы, пруды и овраги. Старинный вокзал. Красная рябина на фоне белого снега. Ваня в душе был настоящим художником. Ему хотелось рисовать всю эту скромную красоту. В конце августа ученик четвертого класса Ваня Лёвочкин, не спросясь родителей, записался в художественную школу.
Глава седьмая
Машка Аверкиева, она же модная художница Мари Арно, обитала на четвертом этаже доходного дома постройки начала двадцатого века в одном из переулков Плющихи.
— Неплохо, — подумал Иван, осмотрев экстерьер дома, — неплохо живут художники в России, сколько ж в этом доме квартиры-то стоят? Может, зря я кисти и краски забросил?
Он набрал номер Машкиной квартиры на домофоне.
— Кто там? — спросил уже знакомый бодрый, резкий голос.
— Иван, мы с вами договаривались.
— Да, проходите.
С некоторых пор Иван стал бояться встречаться со своими ровесниками, с людьми из своего детства и юности. Со многими время обошлось уж слишком безжалостно — изменило их до неузнаваемости. В памяти сохранился портрет тонкой девочки с сияющими глазами, а сейчас перед тобой расплывшаяся матрона в уродливом платье, с неопрятными волосами, морщинами и померкшим взглядом. Глядя на них, Иван чувствовал себя старым. Хотя, когда он смотрел на себя в зеркало, видел еще молодого холеного мужчину с гладким лицом. Он давно перестал надеяться только на природу и пользовался косметикой. С Машкой Иван тоже боялся встречаться. А вдруг она тоже… тоже постарела. Увидеть свою постаревшую первую любовь… лучше этого не делать. Пусть та девочка останется в памяти девочкой. Путь и ты сам останешься в ее памяти смешным, неуклюжим мальчишкой. Иван остановился перед темно-коричневой металлической дверью. У Ивана была точно такая же. Нажал на звонок. Дверь сразу открылась. Перед Иваном стояла высокая женщина неопределенного возраста. Стройная, со светлыми длинными волосами, собранными в хвост. Как ни странно, лицо у нее было девичье, даже детское, лишь тонкие морщинки вокруг глаз и взгляд много пережившего человека выдавали ее возраст. Она была в джинсах и каком-то пестром балахоне. Пальцы на руках унизаны крупными серебряными перстнями. Машка была по-прежнему чертовски красива.
— Ну что вы застыли, заходите. — Скомандовала она.
Квартира, судя по всему, была большая, давно не ремонтированная, но вполне артистичная: увешанная картинами и фотографиями, уставленная рухлядью, которая уже в очень скором времени вполне может стать антиквариатом. Было ощущение, что предметы мебели на протяжении многих десятилетий покупали представители разных поколений одной семьи. Это была явно квартира с историей.
Машка провела Ивана через прихожую и узкий коридор в дальнюю комнату, которая, очевидно, служила ей мастерской. По дороге Иван успел украдкой заглянуть в гостиную, в спальню, еще в одну спальню, похоже, принадлежащую ребенку. Машкино жилище напоминало неуловимо их общий родной городок: прекрасное, но несколько запущенное.
— Вот, выбирайте, — Машка указала на ряд полотен на подрамниках, прислоненных к стене, и закурила как-то нервно, — здесь все, что на продажу. Остальное — в салоне. Знаете, я такая дурочка, каждый раз, когда приходит потенциальный покупатель, я, конечно, хочу, чтобы он что-нибудь купил. Мне ведь деньги нужны, и если вещь берут, значит, она нравится, это ведь как бы признание твоего мастерства и таланта. Но ведь так жалко отдавать, вы не представляете! Это же все будто мои дети. Почему я все это вам говорю? Мне ваше лицо кажется знакомым. Будто родное какое-то. Будто из детства. Мы не встречались? Ой, извините. Опять глупости говорю. Целый день сидишь дома одна, общаешься только с красками, начинаешь с ума потихоньку сходить, а потом набрасываешься с разговорами на первого встречного. Нравится вам что-нибудь?
— Да, очень. — Иван вежливо улыбнулся.
— Вот и улыбка мне ваша кажется знакомой. Ладно, ладно, умолкаю. Не буду вам мешать. Рассматривайте. Выбирайте. — Маша повернулась к окну.
У Машки определенно был талант. Впрочем, это тогда еще, сто лет назад было понятно. Они оба, Иван да Марья, были гордостью своей художественной школы. Преподаватели в один голос прочили им славу великих живописцев, при условии, конечно, что они не зароют свои способности в землю. Учителям так хотелось, чтобы хоть кто-то из их учеников стал знаменитым художником. До сих пор этого не случалось. На Ивана да Марью была вся надежда. Иван вот сплоховал, а Машке, похоже, в некоторой степени все же удалось потешить честолюбие своих наставников.
— Вот эта. — Иван показал на холст жемчужно-серой, переливчатой палитры, решительно расчерченный черными ветками, на которых пронзительно краснели гроздья рябины.
Маша отвернулась от окна, подошла к Ивану, взглянула на полотно.
— Странно, — протянула она. — Несколько лет уже не могу продать эту картину. Вы первый, кому она понравилась. Все говорят, что она слишком простенькая, архаичная какая-то, провинциальная и написана совсем не в моей манере. Я уж думаю, ладно, оставлю себе. Уже собралась снести ее в багетную мастерскую да в гостиной повесить. Знаете, я ее написала, когда гостила в своем родном городе у родителей. Это рябина перед моим окном. Берете?
— Да.
— Три тысячи евро.
— Сколько? — удивился Иван.
— Три тысячи евро. — Повторила Маша твердо. — Дешевле не отдам. Она стоит столько. Даже больше. Не хотите — не берите. В салоне мои картины продаются намного дороже. Галеристам ведь тоже нужно зарабатывать.
— У меня нет с собой столько наличных, — произнес Иван смущенно.
— А вы вообще собирались что-нибудь покупать? — Маша с подозрением посмотрела на своего гостя. — Как, говорите, вас зовут? Иван? А фамилия?
— Лёвочкин. — Выдохнул Иван.
Маша медленно опустилась в кресло, покрытое цветастым русским платком.
— Ванька, ты?
— Я.
— Зачем пришел?
— Картину купить.
— Врешь.
— Вру. Принес тебе коньяк. Ты же хотела.
— Тогда хотела, сейчас — нет. — Пожала плечами Маша.
— А, может, выпьем? За встречу?
— Хороший хоть коньяк? — улыбнулась Маша.
В маленькую, худенькую девочку с огромными голубыми глазами Ванька влюбился сразу. С первого взгляда. Когда он в первый раз вошел в класс художественной школы, Машка уже сидела на табуреточке перед грубым мольбертом, выкрашенным в синий цвет. И вот выглянула она из-за этого мольберта, посмотрела на Ваньку с любопытством, потом снова спряталась за мольберт. А Ванька густо покраснел и понял, что он влюбился, что занятия в художественной школе он пропускать не сможет, даже если очень захочет, даже если болен будет. Ведь если он не придет, то не увидит эту чудесную девочку. Она представилась ему хрупким, беззащитным ангелом, каких не было в его классе в общеобразовательной школе. Тамошние ангелы ходили с расцарапанными локтями и коленками, лазали по деревьям и могли с легкостью побить любого мальчишку.
Для Вани не было большего счастья, чем поймать Машкин взгляд. Он и сам толком не знал, чего он от нее хочет: просто постоянно видеть ее, слышать ее звонкий голосок, гулять по городу, болтая о литературе, школьных происшествиях, ходить в кино. Только Ванька не то, чтобы бы позвать Машку в кино не решался, а даже заговорить.
В своем воображении он спасал ее от хулиганов, а она бросалась к нему на шею, шептала «Ванечка, миленький, спасибо!», целовала в щечку, звала его в кино, а он нехотя соглашался. Еще он вел с Машкой бесконечные мысленные диалоги. В них он сообщал ей о своих чувствах, а она признавалась, что тоже к нему неравнодушна. В реальности же у Ваньки и Машки было соперничество за звание лучшего ученика в классе. Они были откровенно лучше других, а вот кто из них лучше, не могли решить даже преподаватели. Если Ваньке за работу ставили пятерку с плюсом, а Машке просто пятерку, она вспыхивала, вздергивала носик, поджимала губки и смотрела на соперника недобро. Рисовала она, смешно высунув кончик языка, пачкая руки, лицо и одежду акварелью. На бумаге у нее акварель тоже растекалась, плыла, смешивалась в причудливые цвета удивительной прозрачности. Александр Васильевич, учитель живописи, посмеивался над Машкой и говорил, что истинный художник и должен быть перепачкан краской с ног до головы. Девочка самодовольно улыбалась. А Ванька смотрел на нее с обожанием. И стремился нарисовать свой натюрморт как можно лучше, чтобы Машка обратила на него хоть какое-то внимание, пусть и злобное.
Так прошло три года. Теперь они уже учились в седьмом классе средней школы и в выпускном — в художественной. Машка за лето изменилась. Ваня даже не сразу ее узнал. Она вытянулась, на лице появились прыщи, платье топорщили довольно большие, невесть откуда взявшиеся груди. Она их, видимо, стеснялась и сама еще не смирилась с их неожиданным возникновением в ее фигуре, поэтому постоянно сутулилась. Маша стала взрослее, красивее и некрасивее одновременно. Маша становилась барышней. Девушкой. Ваня был теперь ниже ее и будто намного младше. Глядя на нее, ему иногда хотелось теперь чуть ли не выть от отчаянья — эта новая Машка точно не согласиться пойти с ним ни в кино, ни на прогулку. Такой девушке нужен кто-то постарше. Не такой младенец, как он, Ванька. Поговаривали, что Машка «ходит», то есть встречается с каким-то красавцем-девятиклассником. Несчастная любовь и ревность рождала в Ваньке вдохновение. Когда он был особенно мрачен, начинал писать стихи, полные тоски, муки и надежды на то, что настанет день, свершится чудо и избранница его сердца, эта жестокая красавица, обратит внимание на скромного, несчастного юношу, который готов быть рабом ее до скончания дней. Стихи были корявы, зато искренни. Ванька считал себя поэтом. И художником. На лист бумаги будто выплескивалась вся его любовь. Карандашные штрихи его стали уверенны, сильны и нежны там, где нужно. Акварель его вдруг сгустилась, утратила прозрачность. Иван начал безумствовать в экспериментах с цветом — ему было тесно в акварели. Эта мягкая, текучая краска не могла передать его страсть. Александр Васильевич, видя терзания своего ученика, предложил ему индивидуально освоить масляную живопись, но предупредил, что на занятие это, требующее значительных денежных влияний, у художественной школы таких денег нет, так что расходы эти должны взять на себя Ванины родители. Ваня с ними посовещался. Они не стали ему препятствовать.
Ваня зря думал, что Машка его не замечала. Напротив, она ревностно следила за его творчеством. Он был единственным достойным соперником для нее. Она сразу заметила, что, когда все расставляют по местам мольберты, моют кисти, баночки и радостно разбегаются по домам, Иван остается. Однажды она подошла к нему и спросила, глядя в глаза:
— А чего это ты не уходишь вместе со всеми, чем ты здесь занимаешься?
— Я… я… пишу, — промямлил Ваня, заикаясь. Он был смущен. Машка впервые с ним заговорила сама. Она была так близко. Он увидел даже свое отражение в ее огромных голубых глазах.
— И что это ты здесь пишешь?
— Пока… ну, натюрморты… до портретов не дошли еще…
— Ты же их и на уроках рисуешь, — удивилась Маша, — зачем еще вечером оставаться?
— Александр Васильевич учит меня писать маслом.
— А почему это он с тобой занимается, а со мной нет? — взбеленилась Машка, в глазах мелькнули слезы обиды, она резко развернулась и унеслась в сторону учительской.
В следующий раз вечером в классе художественной школы, расположенной в старинном купеческом особнячке, в классе с древней печкой-голландкой, с четырехметровыми потолками, среди гипсовых бюстов, розеток и разных частей тел греческих богов и героев сидели уже двое. Мальчик и девочка. Мальчик был счастлив от близости девочки. Девочка смешно высунула язык и вся вспотела от усердия. Мужчина, их наставник, пил чай, а, может, и что-нибудь покрепче, в учительской. Скоро тишина в классе стала совсем уж невыносимой, и мальчик спросил девочку дрожащим голосом:
— Ну как, нравятся тебе масляные краски?
— Пока не знаю, — ответила девочка нервно, — не получается ничего. Но я все равно научусь…
Как-то неожиданно начали сбываться Ванькины мечты. Так что даже стихов писать больше повода не было. Оставаясь втроем в пустой художественной школе, Ване и Маше поневоле пришлось общаться — учитель постоянно отлучался, и подростки оставались наедине. Расходились они поздно. Ванька не мог отпустить любимую девочку одну в черноту осеннего вечера, где шел дождь, тускло светили редкие фонари, в их свете жирно поблескивала грязь, а из темноты выплывали таинственные тени поздних прохожих. Кто их знает, что это были за прохожие? Ваня шел провожать Машку. Он протягивал ей руку, чтобы помочь перейти через лужи, и однажды, после того, как препятствие было преодолено, он не выпустил ее руку. Она тоже не отняла своей руки…
Во время зимних каникул они уже вовсю целовались. Раньше Ваня ненавидел каникулы, потому что в течение этих долгих недель, а то и месяцев, он не видел своего голубоглазого ангела. А сейчас они встречались каждый день: бегали на каток, в кино, катались на санках. Ваня был счастлив и снова любил каникулы. Иван до сих пор помнил, как он поцеловал Машку в первый раз. Собственно, это был самый первый поцелуй в его жизни. Они были на катке. Кататься на коньках Ванька толком не умел. Он упал, Машка потянулась его поднимать, тоже упала прямо на Ваньку, губы и встретились, Ванька как-то неловко чмокнул Машку, а она расхохоталась, приникла к его губам и умело поцеловала.
— Вот так надо целоваться, дурачок, — сказала она, когда оторвалась от Ванькиных губ, и принялась подниматься.
Красного от удовольствия и смущения Ваньку обожгло ревностью — он у нее не первый.
Ваня забросил учебу — оказалось, что это вовсе не главное в жизни. Гораздо важнее — его любовь. Когда он получал тройку, это ничего не меняло. Что такое тройка? Всего лишь отметка. А вот если Машка отказывалась с ним встретиться, это было чуть ли не крушение основ мирозданья. Ванька тут же становился обижен на весь мир, жизнь была ему не мила, божий свет мерк. Все его раздражало. Родители пытались его увещевать, он злобился, укрывался в своей комнате, а на следующий день получал двойку — назло.
— Сколько у тебя будет еще таких Машек, а аттестат один! — вскричала однажды мать в пылу ссоры.
— Да плевать мне на аттестат! А Машка у меня одна, на всю жизнь! Я ее люблю! Ничего ты не понимаешь! — закричал в ответ Ванька и скрылся в своей комнате, хлопнув дверью.
— Дурачок, — прошептала мать, — какой дурачок! Натерпится он еще от женщин.
Учебный год Ванька, не смотря на неземную любовь, все же закончил как обычно — на пятерки. Помогла репутация отличника, да и за ум он взялся: когда страсти поутихли, пришла к нему все же здравая мысль, что Машка одна, но и аттестат тоже один, и он должен был хорошим, ибо из этого городка нужно как-то выбираться.
На выпускном вечере в художественной школе Иван и Мария получили от наставников напутствия и предложение продолжить индивидуальное обучение с тем, чтобы впоследствии поступить в художественное училище. Ваня и Маша согласились.
Начались летние каникулы. Ваня очень любил свой маленький городок летом. Он вдруг становился красивым и уютным. Зеленый цвет был ему к лицу. Ванька с Машкой пропадали на пляже — погода стояла жаркая. Машка в красном купальнике лежала на стареньком покрывале. Ванька валялся рядом и непрестанно гладил ее спину, ноги. Он не мог от нее оторваться. Он ею любовался. Когда он впервые увидел ее без одежды, в одном купальнике, который мало что скрывал: эти длинные худые ноги, хрупкие ключицы, тонкую талию, косточки, выпирающие над плавками, торчащие груди, он чуть не задохнулся. Ванька млел от ее красоты. Ему хотелось ласкать ее всю-всю, самые ее сокровенные места, но не решался. Когда она бежала к реке по белому песочку, Ванька от этого зрелища с ума сходил и резво кидался в воду — охлаждать пыл. Как же он был счастлив! А по вечерам они ходили в городской сад, которому было уже лет сто или больше, на танцы. Ванька ждал медленных танцев, чтобы иметь возможность на вполне законных основаниях прижаться к любимой девушке. А потом он шел ее провожать, держал за талию и мог сколько угодно целовать ее в темноте. В такие мгновения ему даже нравилось, что в их городке так мало фонарей.
В начале июля Машка уехала отдыхать в пионерский лагерь, а Ванька остался. Места себе не находил. Принимался читать — бросал, не мог сосредоточиться на тексте. Хватал блокнот и бежал рисовать церквушки — ничего не получалось, линии были нервные, грубые, злые. Тогда он садился на старенький велосипед и мчался сначала по разбитой дороге, потом через деревянный низкий мост над стремительной рекой, потом через лес и тусклые, приземистые деревушки к своей любимой — в пионерский лагерь. Стоял под воротами со своим велосипедом, томился, секунды казались вечностью — дежурные слишком долго искали Машку. Она выходила, загорелая, в пестром ситцевом платьице, прекрасная, с развевающимися, спутанными после купания волосами. Ваньке казалось, что над лесом разносится стук его сердца. Машка радовалась, бросалась ему на шею, они удалялись за сосенки и там неистово целовались, до боли в губах. На исходе второй недели Машкиного пребывания в лагере она вдруг стала холодна. Когда Ванька попытался поцеловать ее, она отстранилась, сказала, что сегодня не в настроении заниматься этими глупостями. Ванька уехал удрученный, терзаемый смутными догадками и подозрениями. На следующий день Машка все же подставила свои губы для поцелуя, но была безучастна и стремилась поскорее высвободиться из Ванькиных объятий. А за день до окончания лагерной смены сказала, не глядя Ваньке в глаза, что между ними все кончено, потому что она полюбила другого. Он потом стоял на мосту со своим велосипедом, смотрел на желтоватые, мутные, быстрые воды реки и хотел утопиться. Вместе с велосипедом. Чтоб и следа от него в этом мире не осталось. Не прыгнул он только потому, что точно знал, что в этом месте глубина по пояс. Так просто не утонешь. Речка эта была коварная, с омутами и корягами. Каждое лето она отнимала жизни у нескольких обитателей города, но вот для самоубийств она, пожалуй, не годилась. Ваньке вдруг вспомнились слова матери: «Да сколько у тебя еще будет таких Машек!». «Может, она и права?», — подумал Ванька, сел на свой велосипед и укатывал свою ярость по низкорослым улочкам до тех пор, пока не стемнело.
Глава девятая
— Какой ты стал! Холеный, респектабельный. Красавчик просто! Чем ты сейчас занимаешься? — спросила Машка.
Она разрумянилась после двух глотков коньяка и стала похожа на ту девчонку, с которой Иван целовался на катке много-много лет назад. Только тогда она была румяная от мороза.
— Таких, как я, в современной России называют топ-менеджерами. — Скромно ответил Иван.
— Но не олигарх? — уточнила Машка.
— Не олигарх. К сожалению. — Иван смутился. Как это у нее получается? Сто лет прошло, а он при виде этой немолодой уже девчонки смущается, как мальчишка.
— Да ну их, олигархов этих. И хорошо, что не олигарх. — Засмеялась Машка. — А рисование забросил?
— Забросил.
— Жаль. Очень-очень жаль. Ты талантливый. Мог бы стать отличным художником. Я тебе всегда завидовала. У меня не получалось, как у тебя. Я старалась-старалась, а так, как у тебя, все равно не получалось. — Машка вздохнула. — А почему ты забросил рисование? — продолжила она допрос.
«Какая глупость, — думал Иван. — Опять она разговаривает со мной свысока, а я опять оправдываюсь, как идиот. Как была стервой, так и осталась». — Он почему-то разозлился.
— Ты правда хочешь это знать? — спросил он.
Машка кивнула, приложилась к коньяку и уставилась Ивану в глаза.
— Ну, так слушай. — Он тоже глотнул коньяка. — Знаешь, после того, как ты меня бросила, я на девчонок целый год вообще не смотрел. Я их, знаешь ли, возненавидел. Всех. Ладно, это у меня прошло, а вот ненависть к кистям и краскам осталась. Навсегда. Потому что рисование в моем травмированном сознании почему-то сплелось с твоим светлым образом. Так что в последний раз я рисовал… дай-ка сосчитаю… двадцать пять лет назад. Вот так. Таким образом, ты избавилась и от возлюбленного, и от конкурента одним махом. Молодец!
— Фу, какой ты злопамятный! Не ожидала от тебя. — Маша скроила обиженное лицо. Она так и осталась кокеткой. — Извини, я же не думала, что для тебя все так серьезно. Я ветреная, понимаешь, влюбчивая. Безответственная. Нам, творческим людям, постоянно нужны свежие впечатления, эмоции, новые люди. Мы такие. Я такая. Ничего не могу с этим поделать. А тогда сколько мне было лет? Четырнадцать! Я ж еще ребенком совсем была! К тому же я думаю, если бы ты хотел стать художником, если бы это было твоей судьбой, ты бы стал. И никакая взбалмошная девчонка тебе бы не помешала. Так что, извини, но вины я своей не чувствую.
— Я ни в чем тебя не виню.
— Ну, будем считать, что мне показалось… Даже если и была виновата, я искупила уже. Все искупила! Тот мальчик, с которым я тогда… ну… тогда… в лагере… из-за которого я тебя… в общем, он меня бросил через месяц. А сколько их потом меня бросало! Этих мальчиков! — Машка неожиданно разрыдалась. Покопалась в ящичке старинного буфета, выудила оттуда бумажные носовые платки. Шумно высморкалась. Тут же перестала плакать и скомандовала, — Наливай еще! — Иван налил еще. Машка схватила свой бокал и залпом выпила. Ее огромные голубые, некогда ангельские глаза полыхнули безумием. Иван даже перепугался. — Ты знаешь, что собой представляет моя жизнь? — Иван помотал головой. — Это выжженная пустыня. Понимаешь, выжженная пустыня! Я приношу несчастья! Я ни одного мужчину не сделала счастливым. Я их унижала. Я глумилась над ними. Я им изменяла. Я как эта чертова стрекоза носилась с цветка на цветок, то есть от одного мужика к другому, но не в поисках нектара, нет, в поисках вдохновения, впечатлений. Мне всегда было мало одного мужчины. Ты бы знал, как быстро мне становилось с ними скучно! И тогда я заводила новый роман, не завершив прежний, мне доставляло удовольствие мучить своих любовников и мужей. Хотя нет, не так — меня это развлекало. Потом, помучив и намучавшись, я писала дивные картины. Потрясающие картины. А мужчины — это мой допинг. Источник энергии. Я их использовала. Какая же я сволочь! — Машка опять взвыла.
Иван налил ей воды из чайника.
— Успокойся, милая, успокойся. — Он гладил ее по голове. — Успокойся. — Ивану хотелось бежать из этого странного дома, от этой странной женщины, куда глаза глядят. Она была невозможна. Боже, как же ему повезло, что она тогда его бросила, что его не затянуло в ее омут необратимо, что ему удалось соскочить. Бежать он не мог. Он должен был помочь женщине, возможно, Машке. Сейчас она явно нуждалась в помощи.
— Меня никто никогда не любил по-настоящему! — завывала Машка. — Никто и никогда! Все меня только хотели. Страсть у них была, но никто, никто не любил! Никто не смог меня удержать. Никто не смог стать для меня единственным.
— Я тебя любил. — Сказал Иван глухо. — Я тебя любил. Много лет. С того момента, как только увидел. Ты мне казалась самой чудесной девочкой на свете. Вот так, молча, и любил тебя. Заговорить не решался. С ума сходил. Это не страсть была. Какая страсть в десять лет? Я в кино с тобой мечтал сходить. Только и всего. А потом, когда мы с тобой… тогда самое большее, чего я хотел — до груди твоей дотронуться. Вот и все. Еще мечтал, что мы вырастем и поженимся. Мне хотелось быть с тобой каждую секунду. Ты даже не представляешь, как я тебя любил. Потом еще несколько лет фантазировал, что ты ко мне вернешься. В моей голове шел непрерывный диалог с тобой. Я то прощал тебя, то наказывал, а потом все равно прощал… Так что зря ты… Один человек тебя точно любил. Не сомневайся.
Машка утерла слезы.
— Прости меня, Ванька! Прости! — она неожиданно вскочила со своего стула, подскочила к Ивану и принялась осыпать мелкими, быстрыми поцелуями его лицо. — Прости меня, миленький, прости, — шептала она в перерывах между поцелуями.
Иван во второй раз за вечер не на шутку испугался и попытался деликатно отодрать от себя Машку. Она не отдиралась. Иван вдруг почувствовал томление, возбуждение, точнее. Эта уникальная женщина была сексуальна даже пьяная, даже зареванная, даже с размазанной по лицу тушью. Его руки будто сами собой, без его воли обняли Машку. Она вдруг оборвала свои поцелуи, отвела его руки, отстранилась.
— Я, пожалуй, пойду умоюсь. — Промямлила она и удалилась.
Иван, как когда-то запрыгивал в реку, чтобы усмирить свою плоть, охладиться, сейчас плеснул себе в лицо воды из-под крана и принялся осматривать кухню. На одной из полок буфета он заметил небольшой портрет. Тут кругом были картины и фотографии, так что неудивительно, что он не заметил его сразу. С портрета на Ивана смотрел Петр Вениаминович. Со своей изогнутой бровью и клоунской бабочкой. Чертовщина какая-то. Иван испугался в третий раз за вечер. Причем испугался серьезно, до дрожи. Он снова присел за стол. Плеснул себе еще коньяка, выпил залпом. Безумие! Прочь из этого дома… Он остался. Его терзало любопытство. Кто такой этот Петр Вениаминович? Кто он, черт возьми, такой? Откуда его портрет в доме у Машки? Иван встал, снял портрет с полки, положил на стол. Ивана била дрожь.
— Кто это? — спросил он, когда Машка вернулась на кухню.
— Лазил по моим шкафам, шалунишка? — съязвила она.
— Да. Извини. Кто это?
— Я не знаю. — Устало сказала Машка и медленно опустилась на стул. — Однажды он мне помог, но это долгая история.
— Расскажи. Пожалуйста, расскажи! Очень тебя прошу!
— Ты тоже его знаешь? — удивилась Машка. — Что за чертовщина! Как ты можешь знать человека из чужих снов?
— Это человек из МОИХ снов! Рассказывай!
— Черт! — воскликнула Машка, налила себе коньяку и хлебнула. — Что за черт?! Ладно, слушай. Только не считай меня сумасшедшей. Нет, я, конечно, сумасшедшая, но не до такой степени все же. А ты, значит, тоже сумасшедший… Забавно. Никогда бы не подумала. Так вот… Я только что сбежала от своего третьего мужа. Сейчас-то я понимаю, что сама была во всем виновата, но тогда мне казалось, что он. Слишком хороший был, слишком добрый, слишком легко мне все прощал. Я принимала это за равнодушие. Изменяла ему, чтобы спровоцировать проявление хоть каких-то чувств — хоть ревности, хоть ненависти, хоть чего-то. А он меня же еще и жалел, говорил: «Бедная девочка, нет тебе покоя. И никогда не будет». Я, в итоге, собрала вещички и сбежала к подруге — своей-то квартиры в Москве у меня тогда не было. Потом друзья помогли продать несколько моих картин, и я сняла мастерскую, там работала, там же и жила. Знаешь, мужа сама бросила, но почему-то я чувствовала себя такой никчемной, настолько никому не нужной, будто это меня бросили. Я в те времена была еще очень красива, очень молодо выглядела, ни грехи мои, ни время будто были надо мной не властны. В общем, я отправилась на поиски любви — мне нужны были подтверждения моей нужности. Это только называлось красиво — поиски любви, а на деле это были одноразовые постельные приключения. Я много плакала тогда, считала себя шлюхой, обещала себе больше так не делать, а потом снова оказывалась в постели с каким-нибудь кобелем. Часто и имени его не знала. Я была себе противна, но с каким-то мазохистским наслаждением снова и снова окуналась в этот разврат и ненавидела себя еще больше. Я будто мстила себе за что-то. И вот однажды, когда рядом похрапывал какой-то малознакомый мужик, мне приснился Петр Вениаминович. Вернее, мне сначала-то показалось, что он мне не снится, а действительно сидит на стульчике, на котором я обычно сижу, когда работаю, курит сигару и покряхтывает от неудобства — он такой большой был, толстый в смысле, и едва помещался на моем маленьком стульчике. Поворчал о скудости и бедности моего так называемого дома, что здесь и присесть-то с комфортом не на что, как-то очень тонко и изысканно мне нахамил, задел все мои больные мозоли, а потом сказал, что он здесь не просто так, что он с миссией. Он здесь, чтобы передать мне, что я должна как можно скорее исполнить свое предназначение. Я хотела спросить его, в чем мое предназначение, но он исчез. Утром я поняла, что это был всего лишь сон. Я верю, что бывают вещие сны. Еще я знаю, что сны — это не просто так, в них часто зашифрованы послания. Я ломала голову над тем, в чем же мое предназначение? Я с детства еще считала, что моя жизненная стезя — быть художником. Так ведь я и есть художник. Что же не так? Я вытащила из папок все свои работы, расставила вдоль стен. Стала смотреть и вдруг поняла, как все это мелко. Это хорошо, но мелко. То, что я до сих пор писала, никогда не станет великим, не останется в веках. В моих работах нет силы, нет глубины, нет ярких чувств! Как я была разочарована! Я будто лишилась последней точки опоры в этом зыбком мире. Раньше я знала, кто я — я талантливый художник и неудачница в личной жизни. А сейчас? Никто. Я разрыдалась. Я просто билась в истерическом припадке, валялась по полу, разбила себе весь лоб, хотела порвать все свои картины, сжечь, уничтожить. К счастью, слезы меня так утомили, что сил на то, чтобы прикончить картины у меня уже не осталось. Я заперлась в своей мастерской и начала работать как одержимая. У меня тогда какие-то безумные, абстрактные полотна получались. Всплыло все самое темное, все самое сумеречное в моем сознании. Черти скакали по моим полотнам, демоны, неявные — их никто кроме меня и не видел. Сторонние зрители испытывали рядом с этими картинами смутную тревогу, некоторые говорили, что у них плохая энергетика. Кому-то страшно становилось. Девушка, которая занималась продажей моих работ, мрачно заявила, что ТАКОЕ ни один нормальный человек никогда не купит, потому что ЭТО — круги ада. Кому нужно, чтобы такое висело в доме или в офисе? Это только в музей сдавать, чтобы люди останавливались на минуточку и задумывались о темной стороне своей натуры, а постоянно на такое любоваться, тут никакого душевного здоровья не хватит, и не заметишь, как в психушке окажешься. Я ее уверила, что это не для продажи, что это просто мой личный катарсис, мое очищение. Я действительно как-то успокоилась. Самоутверждение через постель было забыто. Не до того стало — я творила. Мне начало нравиться то, что я делаю. И тут снова появился Петр Вениаминович. Я уж о нем и забыла. Это же был просто сон. И тут он опять явился. Снова в бабочке этой своей идиотской. С сигарой. Ласково так говорит, что я молодец, конечно, забросила свои глупости, делом занялась, но все же это не совсем то, чего от меня ждут. Направление моего движения, в общем-то, верное, но нужно все же добраться до развилочки и свернуть немного в сторону, на узенькую неприметную тропиночку. Стезя-стезей, а предназначение-то может быть вовсе и не в профессиональной деятельности, не на широкой, проторенной дороге. И, собственно, то, что я считаю тропиночкой, для большинства женщин является как раз вполне обычным жизненным путем. Запутал меня совсем. Потом холодно так говорит: так что ищите, девушка, ищите. Останавливаться в поиске не рекомендую. А во взгляде угроза. Я когда проснулась, увидела, что его нет, у меня от сердца отлегло, а потом посмотрела на пол, а там пепел от сигар. Я даже толком не умылась, выскочила из мастерской и целый день бродила по улицам — боялась возвращаться. И ночевать к подруге напросилась. Уложили меня на диванчике, а я кофе напилась и засыпать боюсь, но заснула под утро уже. И тут же Петр Вениаминович появился, в ногах у меня сидел, дымил своей сигарой. В белом халате, в шапочке докторской и с бабочкой, разумеется. Просто добрый доктор Айболит. И такое раскаяние нарисовано на его лукавой физиономии. Уж он так извинялся, так извинялся, говорил, что не хотел меня пугать, что не догадывался он, что я такая слабонервная. В общем, он сказал: живи, как хочешь, но не забывай о своем предназначении. Сказал, что в следующий раз придет, если я совсем собьюсь с пути. И вот я жила, работала с утра до ночи, на вечеринки еще ходила — нужно же быть в струе. А потом — бах, и влюбилась. Вот на вечеринках и влюбилась. Заприметила… А он на тебя, кстати, немного похож — тоже такой, в очочках, лицо интеллигентное. Мой типаж, в общем. Я влюбилась, а он на меня ноль внимания. Как я страдала! Как страдала! Ну, ты же меня знаешь, я его соблазнила, конечно. Никуда он от меня не делся. И вот мы месяц вместе, два, полгода, а мне с ним хорошо, я ни налево не смотрю, ни на право — только он. Год прошел, а я ему верна. Меня это даже пугает немного. Живем у него в загородном доме. Он богат. Забыла сказать об этом. Но я в него не из-за денег влюбилась, он, знаешь, он необыкновенный! Сборище противоречий! И подлец, и святой! И умник, и дурак! И циничный, и наивный! С ним никогда не было скучно. Он был переменчив, непредсказуем, еще хуже меня, я никогда не знала, чего от него ждать в следующий момент. Вот и забеременела я неожиданно, не должна была, а забеременела. Мне хоть и было уже чуть-чуть за тридцать, но детей я не хотела, я себя чувствовала ребенком. А мое творчество? А путешествия? Какой ребенок? Зачем мне ребенок? Я решила моему мужчине ничего не говорить и втихаря сделать аборт. Вот тут-то опять и явился Петр Вениаминович. Он рвал и метал! Он отчитывал меня, как школьницу, обвинял в легкомыслии, в безответственности, в эгоизме. Я злилась, кричала, оправдывалась. Он как-то вдруг стал спокоен и ласков. Он почти проворковал, я даже запомнила его слова в точности: «Девочка, выбор за тобой. Только за тобой. Я не могу тебя принудить. Но все же позволю себе намекнуть, что именно сейчас ты как никогда близка к исполнению своего предназначения. За сим позвольте откланяться». Он исчез, как обычно, а я утром сообщила своему мужчине о беременности. Он обрадовался, а я разрыдалась. Не хотела я ребенка. Мы поженились. Это был мой четвертый официальный брак. Свадьба была роскошная. Мне, конечно, смешно было в четвертый раз белое платье с фатой надевать, но Ромка настоял. Его Ромка зовут. А потом родилась Аришка. Я как ее впервые увидела, поняла, какая же я дура была. Я ее сразу полюбила, хоть и страшненькая она тогда была. Еще я тогда поняла, что такое настоящее творчество — родить ребенка — вроде дело нехитрое, но это истинное творчество: практически из ничего появляется новое существо, и ты к этому причастен. В ту мою первую ночь после рождения Аришки во сне ко мне снова явился Петр Вениаминович. Он даже не курил. Поцеловал мне руку, сказал: «Молодец, девочка, ты все сделала правильно. Будь счастлива!» — и исчез. Больше я его не видела. Портрет вот потом нарисовала… по памяти. Тебе первому все это рассказала. Не поверит ведь никто. За сумасшедшую примут.
— А где твоя дочь? — спросил Иван.
— У отца гостит. Забрал на недельку. А я тут скучаю без нее. На глупости всякие тянет.
— Например?
— Например, выпить коньяку с призраком из прошлого. — Засмеялась Машка.
— Ну вот, я уже и призрак, — усмехнулся Иван. — А муж-то твой где?
— Он меня бросил! — глаза Машки снова начали наполняться слезами. Иван испугался, что она сейчас снова впадет в истерику, и пожалел, что так неосторожно задал этот вопрос. — Единственный мужчина, которого я ценила, которого я боялась потерять, от меня сбежал. С молоденькой. Вот уж банальная история. Даже смешно. — Машка принужденно улыбнулась и смахнула слезу. — Не беспокойся, новой истерики не будет, — воскликнула она бодро, заметив озабоченное выражение Иванова лица, — ладно, это все уже неважно. Дело прошлое. Оставил нам с Аришкой эту квартиру, это бабушкина и дедушкина старинная квартира, с историей. Алименты платит. Он вообще щедрый, хороший. Ну, за что он так со мной, за что? — Машка сделала три глубоких вдоха. Похоже, это не помогло, потому что продолжила она все так же возбужденно. — Я проходила сквозь жизнь мужчин, как пуля — навылет. Рана затягивалась, и следа от меня не оставалось. Никакого следа…, — снова слезы.
— Это неправда. — Мягко сказал Иван. — По мне ты не пулей прошлась, а бульдозером. Я весь в твоих следах. — Рассмеялся он.
— Кругом я виновата, кругом. Ванька, прости меня, прости. Я изменилась. Я уже не легкомысленная, эгоистичная стерва. С тех пор, как Рома ушел, я одна. Я уже не верю, что смогу когда-нибудь быть счастлива с мужчиной. Даже уже и не пытаюсь. — Машка горько вздохнула. И вдруг она снова посмотрела на Ивана с подозрением: тот же взгляд с прищуром, как в начале их встречи. — А откуда ты знаешь про Петра Вениаминовича?
— Он тоже приходит ко мне во сне. — Тихо ответил Иван.
— И чего он от тебя хочет?
— Чтобы я спас женщину, которую некогда любил, — ответил он честно, поскольку счел, что лгать в этой ситуации бессмысленно.
— А, так вот почему ты пришел. А я все голову ломала, зачем ты вдруг явился? — протянула Машка разочарованно.
— Да, — покаянно ответил Иван, — сама понимаешь, чтобы вернуться к первой своей любви в виде постаревшего призрака из прошлого, нужен очень серьезный повод. Например, требование таинственного незнакомца, который терроризирует тебя во снах. Чем я могу тебе помочь?
Маша долго молчала, курила.
— Пожалуй, ничем. — Ответила она, наконец. — Материально я вполне благополучна, мужа ты мне вернуть не сможешь, сам ты, я думаю, тоже на мне не женишься. Ты ведь женат? — Иван кивнул. — Ну вот. Да и не хочу я быть с тобой. Извини уж за прямоту. Нельзя в одну реку войти дважды. Так что, наверное, ничем ты мне помочь не сможешь. А спасти меня, наверное, сможет только психотерапевт. Кстати, может, действительно, пора уже обратиться к специалисту? — спросила Машка, очевидно, сама у себя. — Как-то мне уже наскучило быть несчастной… Надоело. А хотя, знаешь, ты мне уже помог: сказал, что любил меня по-настоящему. Для меня это важно. Я вот думаю, если Петр Вениаминович является к тебе, значит, что-то у тебя не так идет в жизни. Можно предположить, что у тебя очень серьезные проблемы с женщинами. Мне бы очень хотелось, чтобы не я была причиной этих проблем. Не я. Но мне кажется, что это я… Прости меня, Ванька! Вот! Я поняла — ты мне поможешь, если простишь меня. Мне легче будет, если хоть один мужчина из тех, кому я сделала больно, простил бы меня! — и снова в Машкиных глазах засверкали слезы.
Иван обнял ее. Погладил по голове.
— Уже простил. Уже простил, милая. Ты ни в чем не виновата… ты чудесная.
Уже в дверях Иван спросил:
— И кто же такой этот мистический Петр Вениаминович? Он ведь, судя по всему, вполне реален, если он снился и тебе, и мне. Кто он? Почему тебе и мне? И кому еще?
— Может быть, он ангел?
— Более чем странный ангел, тебе не кажется?
— Никто не знает, какие ангелы на самом деле.
— Да, ты права… А картину твою я все же куплю. Она талантливая. Напоминает мне о детстве и нашей с тобой любви…
Проснулся Иван от обиженного сопения. Сопел Петр Вениаминович, разумеется. Кто ж еще может так нагло сопеть среди ночи?
— И почему это, позвольте спросить, молодой человек, я не похож на ангела? Чем я не ангел? — он умолк и продолжил пыхтеть. Сегодня он был наряжен в дешевый серый костюм в тонкую полоску, нарукавники, какие носили в стародавние времена бухгалтеры, чтобы не запятнать рукава своего единственного пиджака. Бабочка на сей раз была в высшей степени сдержанная — васильково-синяя, без излишеств. В руках у него были счеты. От него попахивало нафталином. — Ну, так чем я не ангел? — бровь его изогнулась угрожающе.
— Не похож, — дерзко ответил Иван. — Скорее на демона похож. Или даже черта. Уж не обессудьте.
— Будто вы, люди, знаете, как выглядят черти и ангелы. Наивное заблуждение. Еще более нелепыми кажутся ваши представления о добре и зле. Даже смешно, ей-богу, иногда за вами наблюдать. Совершите подлость и такой частокол из самооправданий нагородите, что, уже по вашему разумению, получается, что поступили что ни на есть благородно. А любое благое дело можете представить как гадость какую-нибудь: сублимацию, замаливание грехов, случайность… Да что там говорить, сами все прекрасно знаете. — Петр Вениаминович усмехнулся. — Словом, это я к тому, что вы не можете строить догадки, основываясь на мифах и фантазиях, на том, чего не разумеете. Оставьте это. Пустое.
— И все же, кто вы? — возразил Иван. — Мне кажется, я вправе знать, с кем я имею честь разговаривать с пугающей частотой и чьи распоряжения я исполняю с риском для своего психического здоровья.
— Что ж, ваши аргументы, безусловно, убедительны, и я по-человечески вполне понимаю ваше любопытство, однако удовлетворить его пока не могу. Не горячитесь. Все узнаете в свое время, а если даже случится так, что этого не произойдет, что ж… мир полон загадок и тайн. Как вам, кстати, Машенька? Не разочаровались в своей первой любви-то?
— Вам-то что? С какой стати я должен исповедоваться неизвестно перед кем? — огрызнулся Иван.
Петр Вениаминович придал своему взгляду теплоту и участие.
— Иван Сергеевич, ну вообразите, что я ваше подсознание, например, или совесть, или Альтер эго, одним словом, что я — часть вашей натуры. Как вам такое предположение? — Иван посмотрел на ночного гостя беспомощно. — Да бросьте стесняться-то. Все свои, право слово. Вам же необходимо выговориться, а кому вы обо всем этом можете рассказать? Ну не жене же, в самом деле. — Он язвительно улыбнулся. — Машенька-то по-прежнему хороша, да? По-прежнему волнует? В высшей степени соблазнительная особа…, — теперь улыбка была плотоядная, как бы демонстрирующая, что кто бы он ни был, а ничто человеческое ему не чуждо.
— Да, соблазнительная, — согласился Иван, — только уж очень несчастная и совсем одинокая.
— Не преувеличивайте, молодой человек. Не такая уж она несчастная и вовсе не одинокая. Да, у нее нет сейчас мужчины, ну так это только потому, что для нее сейчас время собирать камни, она исправляет некоторые свои ошибки, которые допустила в общении с представителями противоположного пола, в том числе и с вами, кстати сказать. Мужчины нет, но это временно, и это не значит, что она одинока. У нее есть любимая дочь, друзья. Нет, Иван Сергеевич, не такая уж она и несчастная, как вам могло показаться. А то, что она взбалмошная истеричка, пардон, так это характер у нее такой. Будь она спокойной и правильной, так она бы не смогла заниматься творчеством. Не нужно ей быть счастливой. Это ей только навредит. Ей нужны сильные эмоции. Лучше плохие, чем хорошие. Такая странная женщина. Одна из любимых моих подопечных. Яркая, стремительная, сумасшедшая! Да что я вам рассказываю, вы и сами все это знаете, сами ведь столько лет ее любили. Пардон за лирическое отступление. Увлекся.
— Если я вас правильно понял, то спасать нужно не ее?
— Очевидно, да. Но кое-что приятное вы можете для нее сделать.
— И что же?
— Вы меня удивляете, Иван Сергеевич. Все вы хотите каких-то готовых решений. Сами подумайте, молодой человек. Ну, хорошо, — Петр Вениаминович неожиданно смягчился, — черт бы побрал мою доброту, я дам вам маленькую подсказочку. В данную минуту она не спит. Она думает о тебе. Ее, признаться, не сильно беспокоит, что она бросила тебя и тем самым сильно подпортила тебе все будущие отношения с дамами. Нет, она страдает, что из-за нее ты не стал художником. Она себе напридумывала, что в этом твое призвание. Вспоминает твои рисунки. Она их помнит. Она так сильно тебе завидовала, что помнит их до сих пор. — Петр Вениаминович, как всегда молниеносно, ликвидировал умильное выражение на лице и превратился в сухаря-бухгалтера. — Итак, что мы имеем? — он откинул в сторону две белых костяшки на счетах. — С нашей с вами первой встречи прошло уже три недели, а вы пообщались всего с двумя своими женщинами. И до сих пор, заметьте, никого не спасли. Надо бы как-то ускорить процесс, вы не находите? — Петр Вениаминович сурово взглянул на Ивана и исчез.
Через три дня Иван снова позвонил в дверь большой, запущенной квартиры в переулке на Плющихе. Машка была не одна, она держала за руку тоненькую девочку лет шести с огромными голубыми глазами, похожую на ангела и Машку в детстве.
— Это Ариша, моя дочь, это Иван, мой школьный друг. Пойди в свою комнату, зайчонок, поиграй, мама скоро придет, — обратилась она к дочери.
Сегодня Машка была тихая, умиротворенная и безумно красивая.
— Я пришел за картиной, принес деньги. — Сказал Иван. — И вот еще, у меня для тебя небольшой подарок. — Он протянул ей сверток. — Только очень прошу, вскрой после того, как я уйду…
В свертке был рисунок, выполненный черной гелевой ручкой. На рисунке — старый купеческий особнячок — художественная школа в маленьком городке, пруд, ряд тополей и один склоненный к воде… Еще в свертке была записка: «Это я нарисовал вчера. Я был безмерно удивлен, что я по-прежнему умею рисовать. Ты не представляешь, какое удовольствие мне это доставило. Какой я был дурак, что долгие годы лишал себя этого счастья. Но я, увы, не художник. Мое призвание не в этом. Ты была права, если бы мне на роду было написано стать художником, я бы стал им, и никакая взбалмошная девчонка мне бы не помешала. Ты права. Ты ни в чем не виновата. И еще… Я не врал, я действительно тебя очень любил. И до сих пор, наверное, эта любовь еще жива где-то в глубине моей, ставшей черствой и циничной, души. Ведь первая любовь хотя и проходит, но она навсегда. Будь счастлива!».
Глава десятая
Иван сидел в своем кабинете и изучал отчет, предоставленный детективом. В нем содержалась информация о женщине, которую Иван любил в студенческие времена, об Ирине Завьяловой. Судя по отчету, она стала весьма и весьма преуспевающей дамой, совладельцем и генеральным директором строительной компании, возводящей особняки в Подмосковье. Не замужем. Детей нет…
Ирина Завьялова. Иван с радостью забыл бы это имя навсегда. Прошелся бы ластиком по своей памяти, стер бы эту линию жизни, как стирал некогда неудачные карандашные штрихи с плотной белой бумаги в художественной школе. До сего момента Ивану даже казалось, что это ему почти удалось. Но вот опять черными бездушными буквами по белой офисной бумаге написано — Ирина Завьялова. Черт! Черт! Черт! Петр Вениаминович, ну ведь ее-то наверняка не нужно спасать! Она же в порядке! В полном порядке! Она же наверняка богаче его, Ивана. Чем он может помочь женщине, у которой и так все есть? А у нее ведь наверняка все есть. Ну, мужа нет, ну детей. А, может, ей этого и не надо? Но не может же он на ней жениться, да и не захочет она, да и детей она от него не захочет. Это уж точно. От него точно — нет. Дай бог, если она его хоть ненавидеть перестала. Но простила вряд ли. Такое не прощают. Петр Вениаминович, миленький, а может, не надо? А может, не надо? Пожалуйста.
Иван считал себя умеренно порядочным человеком. Не особо, конечно. Но все ведь такие. Кто без греха? Но вот когда он вспоминал Ирину Завьялову, сразу становился редкостным подлецом и мерзавцем. Он окончательно терял покой и начинал себя ненавидеть. К счастью, это быстро проходило, забывалось, терялось под ворохом неотложных дел и забот. Ирина Завьялова — это как клеймо предательства, которое красовалось на Ивановом лбу. Ладно, хоть никто не видел. Но сам-то Иван знал, что оно там есть. Петр Вениаминович, миленький, может, все же не надо с ней встречаться?
Иван встал, подошел к окну. В Москве шел снег. Крыши домов немного побелели. Что ж, хоть не так мрачно. Иван вернулся к столу. Стал перебирать бумаги, которые секретарша принесла ему на подпись, и вдруг наткнулся на пожелтевший лист бумаги для акварели, на котором черной тушью, каллиграфическим почерком было начертано всего одно слово: «Трус». Иван не мог заподозрить в такой дерзости свою секретаршу или кого-то еще из своих подчиненных. К тому же это был своеобразный ответ на те вопросы, что крутились в его голове в течение последних пятнадцати минут. Совершеннейшая глупость и стопроцентная чертовщина, завзятому реалисту не пристало так размышлять, но Иван сразу понял, кто автор данного изысканного по форме и примитивного по сути хлесткого оскорбления — Петр Вениаминович. Кто ж еще?
— Трус! Трус! Это, между прочим, не трусость, а элементарный инстинкт самосохранения! Ладно, черт с вами, господин Мефистофель, сатир старый, доставлю я вам это удовольствие, вы ведь не отвяжетесь. Можете насладиться моим унижением и моими страданиями. Так уж и быть, позвоню я Ирине Завьяловой. Только вам не приходит в голову, что в этом случае кому-то придется спасать меня? Хотя, вряд ли найдутся желающие совершить такой благородный поступок. Да и зачем меня спасать? Действительно, такому негодяю не место на земле! — подумал Иван и отправился обедать. Он решил, что возобновить общение со своей старинной любовницей все же лучше на сытый желудок. К тому же обед — прекрасный способ потянуть время…
Когда Иван добрался до своего кабинета, он долго сидел, уставившись в стену. Голова у него кружилась, руки вспотели, в животе происходили малоприятные движения — идея с обедом оказалась не слишком удачной. Телефоны трезвонили. Он вяло отвечал. Все от него что-то хотели. А он был недееспособен, его мысли заняты только необходимостью позвонить Ирине и невыносимостью этой необходимости. Невозможностью. Страхом. Иванова пижонская, розовая рубашка в подмышках потемнела от пота. Он уже и не помнил, когда в последний раз так волновался. Взял в руки телефон. Отложил. Снова взял. Набрал номер мобильного телефона Ирины. Гудки. Гудки. Голос:
— Да! Алло! Подождите секундочку. Так, мать твою! Что за фигня? Чего ты там не успел?… Я хочу, чтобы это было готово еще вчера! Ты меня понял?… Убытки кто будет возмещать? Ты?… И твои внуки не успеют расплатиться! Давай-давай, пошевеливайся!.. Да, я вас слушаю, извините. — Очевидно, сейчас она обращалась уже к Ивану.
— Ирина? — осторожно уточнил он.
— Да, кто это?
— Ирина, добрый день! — голос дрожал. — Это Иван. Иван Лёвочкин. — В Ивановом потрепанном телефоне — он никогда не стремился иметь дорогих модных телефонов, ему было все равно — повисла тишина. Тишина была густая, тяжелая. Наконец она взорвалась криком, явно замешанном на слезах:
— Ты? Ты? Чего тебе снова надо от меня, подонок? — кричала не сорокалетняя преуспевающая дама, а девчонка двадцати одного года, некогда обиженная и растоптанная Иваном.
— Мне… мне… нужно с тобой встретиться.
— Зачем? Опять изгадить мою жизнь? О, поверь мне, я и до сих пор еще не могу отмыться от того дерьма, в которое ты меня втоптал!
— Я хотел попросить у тебя прощения. Я знаю, что я негодяй и подонок, и не сомневайся, я не могу простить себе, что тогда так с тобой поступил.
— Бедный, совесть тебя грызет? Так тебе и надо! Ладно, я человек занятой, некогда мне выслушивать исповеди раскаявшегося грешника. Извинился — и до свидания. Бог простит, а я, извините, не могу.
— Постой! Постой! — взмолился Иван. — Мне необходимо с тобой увидеться! Прошу тебя! Прошу тебя, не бросай трубку!
— А знаешь, давай встретимся. Давай. — Неожиданно согласилась она. — Увидишь, как живет девчонка, которую ты вышвырнул из жизни только из-за того, что она была нищая, и родители у нее были нищие, и они ничего не могли тебе дать. Давай! Я приглашаю тебя в гости, на правах старинного друга, так сказать…
Ирина Завьялова, совладелец и генеральный директор не слишком крупной, но преуспевающей строительной компании, давно не чувствовала себя женщиной. Она была мужиком в юбке. Хотя какие юбки при ее-то работе? Штаны. В последнее время элегантные и дорогущие, но штаны. Пиджаки. Рубашки. Простенькая подвеска на шее и кольцо на пальце. Тоже дорогущие, но понять это мог только тот, кто в этом разбирается. Никакого кокетства в образе. Она была равная среди мужчин. Если кому-то из ее коллег, подчиненных и партнеров и приходило в голову приударить за этой чрезмерно деловой дамой с железной хваткой, то действий никаких за этими мимолетными желаниями не следовало. Геев среди этих брутальных мужчин не было, а ухаживать за ней — это все равно, что приставать к себе подобному, то есть к мужику. В тот день, когда позвонил ее бывший любовник, Ирина решилась на совершенно безответственный, с ее точки зрения, и даже в некоторой степени безумный поступок: покинула свой трудовой пост за час до окончания рабочего дня и устремилась в бутики. Ей срочно нужен был наряд на завтра. И не какой-нибудь, а роскошный. Такой, чтобы в одно мгновение смог сотворить из жесткой деловой женщины, которая умела материться не хуже собственных прорабов, в соблазнительную, мягкую на вид кошечку. Ирина верила в такое превращение, потому что знала — за деньги можно купить все, абсолютно, ну разве что счастье почему-то не продавалось. Завтра она должна выглядеть не жалким трудоголиком, которому работа заменяет семью и любовь, а женщиной преуспевшей во всем: и в бизнесе, и в личной жизни. Она корила себя за ту слабость, что проявила сегодня в разговоре с Иваном, за этот крик, за эти слезы. Она должна была продемонстрировать снисходительное равнодушие, а тут… Ирина никогда и никому бы не призналась, что этого звонка она ждала долгие годы. Что она тысячи раз репетировала этот разговор. Она и не надеялась, что он когда-нибудь случится, но хотела его. Хотела что-то доказать этому человеку, который тогда, на заре ее взрослой жизни так поглумился над ней.
— Алло. Кто это? Иван? Лёвочкин? Старый знакомый? Извините, но не припомню такого в числе своих знакомых. Вместе учились в университете? Да разве всех-то упомнишь? Хотите увидеться? Ну что ж… запишитесь на прием у моего секретаря. Встреча в неформальной обстановке? Извините, но ничем не могу вам помочь, только на общих основаниях и только в моем рабочем кабинете.
— Алло. Иван Лёвочкин? Что-то смутно знакомое. Где мы с вами встречались, говорите? В постели? Ах, так это тот потливый скорострел, с которым я имела глупость спать на четвертом курсе?
— Алло. Иван Лёвочкин? Денег в долг? А ты что же, обеднел? Ты ведь собирался сказочно разбогатеть? Не получилось? Ай-яй-яй. Вот ведь судьба-злодейка. Как она с тобой жестоко обошлась. Кошмар! Ужас! Что ты, я совсем не издеваюсь. Да, дам я тебе денег, дам. Не стоит так волноваться.
Так Ирина собиралась поговорить со своим бывшим возлюбленным. А что получилось… Банальная бабская истерика. Как глупо. И как унизительно. Ну, ничего, завтра-то она возьмет реванш. Нужное платье она нашла. Даже несколько.
На следующий день Ирина Завьялова совершила еще более безумный поступок. Она вообще не явилась на работу. Перепоручила все дела своим замам, а сама отправилась в салон красоты. Вышла оттуда спустя несколько часов посвежевшая, помолодевшая, с новой прической и новым цветом волос. И очень взволнованная. Хуже чем перед экзаменом по сопромату. Размышления ее крутились вокруг того, чего выпить для храбрости: старой доброй валерьянки или коньяка? Решила, что коньяк надежнее.
А Иван, как ни странно, был озабочен теми же проблемами: то есть усовершенствованием собственной внешности и стимуляцией своей храбрости, которая совершенно безответственно ушла в загул, бросила своего хозяина в такой сложный момент. В итоге Иван нарядился в свой любимый темно-синий костюм из тончайшей шерсти, который заметно его стройнил, бледно-лиловую сорочку, галстук на два тона темнее сорочки, в синюю полоску, платиновые запонки с сапфирами и бриллиантами. Вместо обеда заехал в салон: постригся, сделал маникюр, посетил солярий. Иван вовсе не надеялся таким образом вернуть утраченное доверие своей бывшей любимой девушки, не хотел вновь ее покорить, не боялся показаться старым и облезлым. В отношениях с этой женщиной это было совершенно не важно. Он боялся показаться аутсайдером. Ему нужно было продемонстрировать успешность и состоятельность. Ведь именно этим божкам он и принес в жертву свою великую любовь. В качестве средства для поисков сбежавшей храбрости, так же, как и Ирина, Иван предпочел коньяк.
Ровно в восемь вечера, преодолев могучие, беспросветные пробки, машина Ивана подкатила к четырехэтажному, стилизованному под средневековый замок, особняку в Барвихе, в котором обитала Ирина. Дом поражал воображение размерами и пошлостью. У Ивана такого дома не было. Пока не заработал на такой. Он выбрался из машины и побрел к роскошным кованым воротам, сжимая в одной руке дизайнерский букет цветов, а в другой — бутылку коллекционного коньяка…
Иван никогда бы не обратил на Ирину внимания. Это была серая мышка. В каких-то мешковатых джемперах, свободных, потертых джинсах, кедах. Темные волосы собраны в неопрятный хвост. Уродливые очки. Настоящий ботаник. Классический. Ивану нравились белокурые светлоглазые ангелы. Точнее, чаще всего дьяволицы, отчего-то похожие на ангелов. Он в то время был студентом третьего курса юридического факультета. Мечтал построить в России правовое общество. Он тогда еще не имел достаточного жизненного опыта, чтобы распрощаться со всеми своими иллюзиями. Ирина училась на четвертом курсе строительного факультета. Она мечтала строить дома. Красивые. То есть иллюзий у нее тоже еще было хоть отбавляй. А вообще странно, что они встретились. Университет был огромный, корпуса разбросаны по всему городу, да и студенческий городок занимал приличную площадь. Ирина заприметила высокого симпатичного юношу в очках, обладателя породистого интеллигентного лица, в студенческой столовой, которая находилась рядом с главным корпусом университета, недалеко от общежитий. Туда многие ходили обедать после занятий. Мальчишки и девчонки с разных факультетов. Там она не столько ела жиденький суп, слипшиеся макароны и хлебные котлеты, сколько пожирала глазами Ивана. Хотя тогда она еще не знала, как его зовут. Для нее он был таинственный незнакомец. Ее тайная страсть. Романтическая влюбленность. Она краснела и чуть ли не теряла сознание, когда он случайно смотрел на нее. Она и не надеялась, что они когда-нибудь познакомятся. Такая страшная девчонка, как она, никак не подходит такому красавчику, как он. Это она понимала. Но никто же не мог ей запретить любоваться им издали, оставаясь незамеченной, скрытой, как шапкой-невидимкой, собственной некрасивостью, которая, впрочем, не была настолько выдающейся, чтобы привлекать к себе излишнее внимание. Хотя однажды все же Иван ее заметил. Приятель, с которым он обедал, ткнул его в бок и сказал:
— Посмотри-ка, вон та мымра в старушечьих очках глаз с тебя не сводит. И это уже не в первый раз! Влюбилась, наверное. Иди, познакомься! Вы будете прекрасной парой! Ха-ха-ха.
Иван послал девушке воздушный поцелуй и расхохотался. Она сразу сгорбилась, лицо пошло красными пятнами. Она попыталась подцепить гнутой алюминиевой вилкой скользкую макаронину, макаронина сорвалась. Ирка швырнула вилку, подхватила сумку и неловко побежала к выходу, по пути сшибив пару стульев и одного студента с подносом.
— Ну, точно влюбилась, — резюмировал Иванов приятель. — Ты к ней присмотрись, если ее раздеть, может, она и ничего окажется.
— Кончай издеваться, — одернул его Иван.
Ночью Ирка долго рыдала в комнате общежития, предназначенной для сушки белья. Ненавидела себя за свою некрасивость, неуклюжесть, неумение быстро и адекватно реагировать на такие вот ситуации, неумение общаться с парнями. Тогда впервые закурила.
Несколько дней она не решалась показаться в этой столовой, а потом все же пришла. Совсем не видеть своего любимого оказалось невыносимее, чем страх очередного позора. Ивана не было несколько дней. Потом появился. Теперь уже Ирка смотрела на него лишь украдкой. Осторожничала. И приходила не каждый день — конспирация. Эти странные встречи в замызганной столовке с отвратительной, но дешевой едой и компотом из сухофруктов были тогда смыслом Иркиной жизни. Ну и учеба, конечно. Она сдала зимнюю сессию и уехала на каникулы домой — в такой же маленький городишко, из какого в областной центр явился и Иван. Это было невыносимо. Десять дней даже без надежды увидеть его. Она не могла дождаться, когда же эти чертовы каникулы наконец закончатся. Конечно, они закончились. Ирка вернулась в общежитие. Презрев пироги с луком и яйцом, копченое сало, соленые огурцы и вишневое варенье, привезенные из дома, помчалась в столовую. Прекрасного незнакомца в очках там не было. Ирка сидела над картофельным пюре с жареным минтаем полчаса. Не съела ни кусочка. Иван не пришел…
В середине февраля в университете начались традиционные волнения — подготовка к фестивалю «Студенческая весна». Это был не просто конкурс студенческой самодеятельности, это было событие, битва, соперничество, всплеск творческой энергии, вихрь приключений и ураган страстей. Позитивное стихийное бедствие, если такое вообще возможно. Ирка тоже участвовала. Исполняла весьма эмоциональную песню собственного сочинения о несчастной любви. Аккомпанировала себе на гитаре. Как глупо устроен мир… Один человек изнывает от любви, а другой даже не догадывается об этом. Они ходят по одним и тем же улицам… Почему же их пути не пересекаются?… Кто может сделать так, чтобы они, наконец, встретились? Такая песня…
Строительный факультет в те времена не пользовался популярностью. Учились там, в основном, деревенские мальчишки, которые прельстились не будущей профессией, а малым конкурсом при поступлении. Лишь бы был диплом. Какие перспективы у строителя в стране, в которой в те времена почти ничего не строили, в стране, которая трещала по швам, а потом и вовсе развалилась? Тогда казалось, что никаких. Только безумцы, вроде Ирки, тогда верили, что вся эта чехарда рано или поздно закончится и настанет строительный бум. И можно будет возводить не унылые, депрессивные панельки, а прекрасные дома, удобные и просторные. Ирке хотелось дворцы строить. Ясновидящей Ирка не была, но тут все предсказала правильно. И дворцы ей строить довелось.
Так вот, талантами строительный факультет не блистал. На Студвесне строители заняли свое обычное — предпоследнее место и угомонились до следующей весны. Иркин номер отметили. Одна старая дева из жюри, представитель отдела культуры из облисполкома, даже украдкой смахнула слезу во время щемящего душу Иркиного пения — ее тоже давно терзал вопрос, почему ей нормальные мужики-то на жизненном пути не встречаются? Где они бродят эти нормальные мужики и почему обходят ее стороной? Гады!
Ирка, конечно, хотела на концерт принарядиться, но, увы… не было у нее ни платья приличного, ни туфель. А если уж честно, то не было ни одного платья и ни одних туфель. Совсем. И денег у родителей не было, чтобы дочери много одежды покупать, да и поводов носить легкомысленные платьица у Ирки было немного. А сейчас вот случился, а она оказалась к нему не готова. Поискала у подружек — ничего не подошло. В платьях Ирка казалась себе какой-то ненатуральной. Ей даже почудилось, что из зеркала на нее смотрел кто-то другой. Какая-то незнакомая девчонка, нелепая, неуклюжая. Из-под красивого платья торчали тонкие ножки. Над платьем — тонкая длинная шейка. Гусиная какая-то. Да еще очки эти… Со штанами они еще выглядели более-менее гармонично, а у ж с платьем-то… Сущая катастрофа. Так и вышла на сцену все в тех же джинсах и в клетчатой рубашке. Как обычно. А ведь так хотелось быть красивой. Так хотелось… А вдруг в зрительном зале будет дивный мальчик из ее грез. Хотя глупо на это надеяться. Не пойдет такой мальчик на захудалую студвесну строительного факультета. Запела. Разволновалась. Пыталась найти его глазами. Плюнула. Бессмысленное занятие. Зрительный зал из отдельных лиц, глаз, деталей слился в некий монолит. Решила, что он все же есть в зале. Пела для него. Хотела, чтобы он понял. Чтобы он все понял. Никто никогда не будет любить его так, как любит его она. Пойми это, дурачок, и приди ко мне за кулисы. Прямо сейчас. Ну! Где же ты? Аплодисменты.
Ивана на том концерте, конечно же, не было. Он был звездой своего факультета. И, разумеется, ходил на выступления конкурентов. Только вот стройфак их юридическому конкурентом не был. Поэтому и не пошел. Нечего время терять.
Ничего этого Ирка не знала. Собственно, она ничего не знала об Иване, кроме того, что он самый лучший человек на свете. Она могла бы навести о нем справки, но не хотела. Ей безумно нравился ореол таинственности, который окутывал ее возлюбленного. Бегала с подружкой на все концерты подряд в надежде встретить своего красавчика. Увидела на концерте юридического факультета и с размаху влетела в очередной круг отчаяния — этот мальчик был настоящей звездой и уж точно не парой ей. И в СТЭМах он, и в танцах-плясках. Лучший. А она кто? Очкастое чудо-юдо. Он тоже очкастый, но как-то по-другому. Красиво очкастый.
Юридической факультет занял первое место.
В конце апреля перед майскими праздниками был сборный концерт фестиваля, в котором планировали показать лучшие номера со всех факультетов. За кулисами царило суматошное, истерическое веселье. Мальчишки пили водку. Закусывали сырками «Дружба». И девчонкам наливали понемножку. И Ирке досталось. Она была так взволнована близостью Ивана, который, разумеется, тоже участвовал в концерте, что решила выпить. Зарумянилась. Глаза заблестели. Пела так вдохновенно. Потому что точно знала — он хоть краем уха да услышит ее. А он и услышал. Сказал другу: «Хорошо поет девка, жалко, что страшная такая. Где-то я ее видел что ли?».
Концерт закончился, зрители разошлись, а возбужденные самодеятельные артисты снова принялись пить водку. Ирка тогда в первый раз в жизни напилась. «Я должна что-то сделать! Должна что-то сделать! Прямо сейчас. Другого шанса может и не быть. Черт! А что делать-то?» — думала Ирка. После пятой рюмки она решительно, слегка покачиваясь, подошла к Ивану.
— Ирина. — Представилась она и по-мужски протянула ему руку для рукопожатия.
— Иван. — С улыбкой ответил он и пожал протянутую руку, которая неожиданно оказалась очень мягкой и нежной.
— Ванька, значит. Хи-хи-хи. Ик. Ой! А я и не знала, что я такая смелая, когда выпью. Пойдем. Давай вставай, вставай, пошли!
— Куда?
— Туда. — Ответила Ирка и неопределенно махнула рукой куда-то в сторону, ощутимо покачнулась.
Иван потом не мог понять, почему он пошел за этой некрасивой пьяной девицей. Видимо, тоже был сильно пьян.
Они забрались на верхотуру, в странное помещение над сценой и зрительным залом. Лабиринт переходов, свет, льющийся неизвестно откуда, прожекторы, непонятные приспособления, декорации, пыль… Голоса и хохот внизу. Пустые ряды кресел под ногами. Ирка шла по узкой дорожке над бездной, держась за перила. Иван брел за ней. Сам не знал почему. Он был здесь не в первый раз. Он знал, что сюда парочки забираются не просто так. Кто романтики ради, кто ради секса, а кто и ради того и другого. Но сейчас… он не мог даже представить, что эта бесформенная девица решится его соблазнить. Он ожидал какой-то пьяной комедии, а стал свидетелем волшебного превращения. Ирака остановилась. Сначала она распустила волосы, потом сняла очки, неловко засунула их в карман джинсов. Икнула. Сдернула с себя огромный серый джемпер, связанный мамой или бабушкой, бросила его на грязный пол, осталась в белом, застиранном лифчике. Вздохнула. Сняла и его. Тоже бросила. Перешагнула через свою одежду и оказалась совсем рядом с Иваном. Он дрожал. Эта девушка была прекрасна. Блестящие темные волосы рассыпались по хрупким плечам, огромные карие глаза сияли. Он и предположить не мог, что у нее такая великолепная фигура: большая грудь, очень тонкая талия. Как? Как она умудрялась так себя уродовать?
— Какая ты красивая! — выдохнул Иван.
— Глупости, — прошептала Ирка и поцеловала его. — Моя песня была о тебе.
Глава одиннадцатая
Ивана встретил крупный мужчина в черном костюме. Очевидно, охранник или что-то в этом роде.
— Иван Сергеевич Лёвочкин?
— Да.
— Проходите. Вас ожидают.
Мужчина отпер ворота, впустил Ивана, попросил следовать за ним и направился по дорожке, обсаженной туями, к дому.
Они вошли в огромный холл. Наверное, это был каминный зал. Плюс кухня и столовая. В псевдоготическом стиле. Стрельчатые окна с витражами. Искусственный камень на стенах. А может, и настоящий, черт его знает. Кованые канделябры. Тяжелая мебель. Бильярд. Огромный телевизор. Как-то совсем уж неуместно. Иван хмыкнул.
— Просто удивительная безвкусица, — подумал он с завистью. — Будь в моем распоряжении такие площади, я бы все сделал по-другому.
— Ирина Сергеевна ожидает вас в гостиной на втором этаже. — Провозгласил мужчина в черном костюме.
Иван покорно поднялся на второй этаж по лестнице с коваными перилами. Гостиная была поприятнее — белая, с хрусталями и позолотой. Впрочем, хрусталя, позолоты и завитушек на мебели было чересчур много. Какое-то варварское барокко. Чудовищное разностилье, если принимать во внимание первый этаж. Но богато, богато! Тут уж не поспоришь.
В кресле сидела женщина. Увидев Ивана, она поднялась ему навстречу. Все та же тонкая фигура, короткая мальчишеская стрижка, маленькое черное платье, очень элегантное и дорогое. Даже удивительно, что обладательница этих апартаментов способна одеваться с таким отменным вкусом. Конечно, Ирка не помолодела. Она не была уже той юной, наивной дурнушкой, которая преображалась в сексапильную красотку с обложки «Плейбоя», стоило ей сбросить с себя одежду. Ивану каждый раз эти превращения казались настоящим волшебством. Ирка, Ирка… Конечно, она не помолодела. Зато теперь и в одежде выглядела вполне сексуально. И очки исчезли. Иван даже самодовольно подумал, что он вообще молодец — выбирает себе, действительно, красивых баб, которые с возрастом становятся все лучше, как коллекционный коньяк, который он сейчас нелепо прижимал к груди.
— Риша, ты еще красивее стала. Я восхищен! — сказал Иван и галантно склонил голову.
— Садись уже, старый льстец, — улыбнулась Ирина, тут же спохватилась и придала лицу надменное выражение. Было видно, что комплимент Ивана ее порадовал.
Двое бывших возлюбленных чинно уселись в кресла друг против друга.
— Что будешь пить? — поинтересовалась Ирина.
— Ах, да, — спохватился Иван и вручил Ирине букет и бутылку. — Вот, давай коньячку и выпьем.
— Есть хочешь?
— Я думал, ты меня с порога убивать начнешь, а ты еще и поесть предлагаешь. Знаешь, я восхищен еще больше! — он улыбался, но коленки у него немного дрожали, еще он чувствовал, что снова начал потеть.
— Не ерничай. Убивать еще буду, не переживай. Возмездие должно свершиться. Но должна же я по старой русской традиции тебя сначала напоить, накормить, а может быть еще и спать уложить. Да шучу я, шучу, расслабься, спать укладывать не буду. Хотя…, — она плотоядно улыбнулась, — это как пойдет. — При этом подумала: «Странно, я еще не разучилась кокетничать. А этот кобелина стал еще привлекательнее. Прямо настоящий джентльмен. На наших стройках таких не водится. Так, не думать о нем хорошо. Не думать. Он тебе всю жизнь сломал…».
— Ну, так есть будешь? — спросила она вслух.
— Не откажусь.
Ирина схватилась за белый ретро-телефон, два раза крутанула диск:
— Алло, Лена, принеси нам какой-нибудь еды на второй этаж… Да все равно… Травы какой-нибудь с бальзамиком, помидоры, сельдерей, сыры. Ты же там еще что-то готовила, вроде. Давай, тащи. Ждем. Разливай, — скомандовала она уже Ивану. — Бокалы перед тобой, на столике. Ты куришь? Нет? Молодец. А я закурю, пожалуй.
Ирина закурила. Иван разлил коньяк. Повисла пауза.
— Надо было внизу устроиться, — наконец сказала Ирина. — Там удобнее, кухня рядом. Хотя там неуютно. Да и здесь, в общем, тоже. Не люблю этот дом. Заниматься стройкой и дизайном времени не было. Сапожник без сапог. Ну, мне тут и наворотили этих вот кремовых роз с торта. «Ах, ну это же так солидно, так дорого, так подчеркивает ваше высокое положение в обществе!» — передразнила она какого-то неведомого дизайнера или декоратора, — я сюда и не захожу. Это так, для гостей. Для статуса. — Она усмехнулась. — А я сразу к себе на четвертый этаж поднимаюсь. Я когда поняла, что мне эти чертовы специалисты весь дом испортили, последним этажом сама занялась. Там у меня по-простому все. Чужаков туда не пускаю. Не поймут ведь. Выпьем?
— Давай. За тебя! — Иван поднял бокал.
«Может, обойдется? — подумал он. — Вроде она спокойная. Не набросилась на меня с кулаками. Может, мирно поговорим и разойдемся? Дело-то ведь прошлое. Да и спасать ее, вроде бы, не надо. Она в полном порядке…».
— Ты одна здесь живешь? — спросил он осторожно и тут же понял, что совершил глупость. Ирина сделала большой глоток коньяка, как-то ссутулилась, мгновенно растеряла весь свой лоск и ответила с вызовом:
— Отчего же одна? У меня тут еще домработница живет и садовник. Водитель еще. Я не одна. А ты?
— Что я?
— С кем живешь?
— С женой.
— С Ольгой?
— Нет, с другой. С Ольгой мы давно разошлись.
— Дала она тебе то, чего ты от нее ждал?
— Нет.
— Видишь, а я бы могла. Вот это все могло бы быть и твоим. Хотя какое это теперь имеет значение?
Иван не знал, что ответить. Его спасла домработница Лена, которая неожиданно появилась из дверей лифта с сервировочным столиком.
Когда она удалилась, Иван и Ирина принялись за еду. Что угодно, лишь бы не разговаривать. Все же говорили. Рассказывали о своих успехах. Мерялись крутизной. Напивались.
— Я так и не поняла, а зачем ты пришел-то? — спросила Ирина, когда глаза ее наполнились хмельным блеском.
— Извиниться. Я просто хотел попросить у тебя прощения. Снять камень с души.
— А-а-а-а, — протянула Ирина, — снять камень с души… вон оно что. Неужели совесть заела? Что-то не верится. Столько лет не ела, а тут вдруг… Как трогательно! Как трогательно! Говори честно, чего тебе от меня нужно?
— Ничего…
— Ничего?
— Ничего… Хотел сказать «прости», глядя тебе в глаза. Хотел, чтобы ты меня простила. Кто знает, может нам обоим станет легче жить после этого. Хотел узнать, чем я могу тебе помочь?
— Скажите, пожалуйста, какой он стал благородный, а вот тогда, когда ты бросил меня, ты не был таким благородным. Подонок! Жалкий ублюдок!
Ирина разрыдалась. Иван бросился к ней, опустился перед ней на колени, обнял за ноги.
— Прости! Я тебя умоляю, прости меня! Я знаю, что это сложно. Невозможно, наверное. Я бы и сам себя не простил. Да я и не простил. Когда я вспоминаю о тебе, чувствую себя последним негодяем. Если не простишь, я тебя пойму.
— Этот дурацкий, нелепый дворец только для тебя! — закричала Ирина. — Специально его построила, потому что надеялась, ты однажды придешь, увидишь и поймешь, что зря ты от меня отказался! Зря! И со мной бы ты достиг того, чего достиг, а может быть даже большего. Я дала бы тебе больше, чем эта твоя злобная блондинка! О! Как я карабкалась из нищеты! Ты бы знал, чего мне стоило все это! — она обвела рукой свою чрезмерно роскошную гостиную. — Это тебе не история Золушки! Это тебе не сказочка! Никаких чудесных превращений! Это пот, кровь, бесконечная работа, риск, обман, кидалово, куча хронических болезней. Все было. И зачем? Зачем? Чтобы доказать вот этому вот пресыщенному, богатому, бездушному, эгоистичному болвану, что я чего-то стою? Боже, какая же я дура! На что я угробила свою жизнь? Ни семьи, ни детей! Одна! Одинокая старая развалина! Никому не нужная! Никому! Какая дура, какая дура! Я же женщиной уже давно перестала быть! Ни баба, ни мужик! Бесполое существо! Ты знаешь, сколько лет у меня секса не было?! В ногах валяешься, думаешь, это вернет мне годы, потраченные черте на что? — Ирка взвыла.
Иван налил минералки в стакан, сначала отпил сам, потом сунул стакан Ирине:
— Выпей, успокойся. — Сказал он, а хотелось отхлестать ее по лицу, чтобы прекратить истерику. Да за что же ему все это?
Ирка жадно выпила воду. Потом несколько раз глубоко вздохнула. Хлебнула еще и коньяка.
— Все. Извини. Я взяла себя в руки. Я спокойна, я совершенно спокойна. — Убеждала она сама себя. — Так, я отлучусь. Ты ведь сможешь пережить вид моего зареванного не накрашенного лица.
— Не баба она, видите ли, — проворчал Иван, когда Ирина удалилась, — да самая что ни на есть баба. Истеричка. Наговорила гадостей, плюнула в душу, бездушным болваном назвала, а теперь беспокоится, как я на ее не раскрашенное лицо отреагирую. Да пофиг мне. Бездушный болван… Между прочим, никто ее не заставлял все эти годы жить только местью. Сама так решила. Я-то тут причем? Да, я сделал подлость, но ведь и более серьезные преступления имеют срок давности. До конца жизни что ли теперь расплачиваться? Что ж теперь с ней делать-то? Вот, наверное, разлюбезный Петр Вениаминович забавляется, наблюдая эти душераздирающие сцены. Господи, как же я устал! Домой хочу, спать. Достало все.
Ирина вернулась. Спокойная, как будто это не она только что рыдала и сыпала обвинениями. Без косметики она выглядела моложе. Совсем девчонка. Такую трудно заподозрить в умении правильно обращаться с прорабами и бригадирами.
— Пойдем наверх, — предложила она, — неуютно мне среди этого бисквитного торта.
Иван с тоской посмотрел на лестницу, ведущую вниз, вздохнул и покорно пошел к лифту, который должен был увезти его наверх…
Ирка и Иван стали встречаться. Тогда, в ДК университета, Ивану хватило мужества не воспользоваться отчаяньем пьяной девушки. Он тогда расцепил объятья, начал судорожно ее одевать. Она было принялась реветь, почувствовав себя отвергнутой, но Иван твердо сказал ей:
— Ну что ты, дурочка! Ты же потом жалеть будешь о том, что сегодня натворила. Ты очень красивая. Просто потрясающе красива. Не реви. Не обижайся. Скажи мне, где ты живешь, завтра я к тебе приду, а сейчас пойдем вниз.
— Я все решила, я ни о чем жалеть не буду! — взвизгнула Ирка.
— А я буду. — Твердо ответил Иван. И сам удивился этой своей твердости, потому что очень хотел эту странную девушку, которая, как лягушка, умела сбрасывать свою кожу и превращаться в прекрасную царевну. Но чувствовал, что торопливый секс над зрительным залом — это не для нее. Почему она на это решилась, он пока не знал, но уже догадался, что это не просто так. Есть какая-то причина.
Они спустились вниз. Сначала Ирка, которая снова обратилась в очкастую дурнушку. Потом — Иван. Тогда, будучи студентом третьего курса, Иван растерял еще не все представления о мужской чести, почерпнутые из французских романов прошлого века, и боялся скомпрометировать даму. Ирка сразу же сбежала домой, а Иван напился. И все боялся, что об этом инциденте на верхотуре кто-нибудь узнает. Не воспользоваться случаем, когда красивая женщина сама бросается тебе на шею! Тут уж он сам мог быть скомпрометирован.
Он пришел к ней через два дня. В общем-то, не хотел. Просто выдался пустой вечер, друзья разбежались по свиданиям — весна все-таки, а Иван был один. Вот и потянуло его на приключения. К тому же терзали его воспоминания об Иркиной груди. Лучше бы не ходил. Лучше бы книжку почитал. Или пошел к циничным медичкам, среди них были дамы, с которыми можно было бы весело провести вечер без намека на серьезные отношения. Это Иван так потом думал. А тогда он пришел в общагу строительного факультета с букетиком нарциссов, которые он нарвал на клумбе перед главным корпусом университета. Постучался. Ирка открыла ему дверь. Покраснела, сдернула очки. Он тут же расплылся в ее глазах и превратился в нечто нежно-розово-палевое. Иван обнял ее. Цветы рассыпались по полу. А Ирка повторила свой фокус с перевоплощением из ботанички в сексапильную красотку. Иван пропал. Влюбился. Всегда горел на метаморфозах и несоответствиях. На противоречиях. Потом, правда, захотелось ему, чтобы противоречий стало меньше, чтобы возлюбленная его выглядела прилично не только в голом виде. Словом, Ивану захотелось поменять ей очки, прическу и гардероб. А то от людей стыдно, как говорили у него на родине. Денег не было. От стипендии, на которую на первых двух курсах еще можно было как-то жить, остался лишь дым. Можно сказать, что ее и не было вовсе, инфляция была такая, что полученной сегодня стипендии завтра могло не хватить на пачку сигарет. Подумать только, что еще совсем недавно большинство экономически неграмотных жителей СССР и знать не знало, что такое инфляция. Теперь вот узнали. На практике. Некоторые Ивановы товарищи что-то там покупали, потом продавали — делали бизнес. И неплохо жили. Иван, как ни старался, никаких коммерческих способностей обнаружить в себе не смог. Зато у него было ярко выраженное природное обаяние и редкостное умение извлекать выгоду из слов. Точнее, способность очень убедительно составлять слова в предложения. У него было много знакомых, приятелей, друзей и свободного времени — он был нерадивый студент. Вот коммуникабельность-то и помогла найти ему работу. Один приятель переговорил со своим родственником, бывшим номенклатурным боссом, а ныне новым русским предпринимателем, и Ивана приняли помощником юриста в серьезную контору, которая занималась торговлей спиртными напитками. Фактически, а практически — мальчиком на побегушках. Платили, как ни странно, неплохо. Зарплата не то чтобы обгоняла инфляцию, но кое-как за ней все же поспевала. Иван так увлекся работой, что чуть не вылетел из университета, но вовремя опомнился и экзамены сдал, он ведь хотел стать настоящим юристом, а не каким-то там помощником, так что диплом ему был нужен. К тому же на время сессии он был отлучен от Иркиного роскошного тела — она скрылась от Ивана за грудой учебников и конспектов. Иван тосковал и мучился. Сильно похудел, разрываясь между работой, учебой и своими фантазиями эротического характера с участием Ирки, ну и… других привлекательных барышень. Он почти не спал. Все ждал, когда же эти чертовы экзамены наконец закончатся. Закончились. Куда ж они денутся. И вот настал тот день, когда и экзамены остались позади, и пьянки, связанные с отмечанием удачно или неудачно сданных экзаменов, тоже закончились. Ирка звала Ивана на пляж — истосковалась она по солнышку за этот месяц затворничества, а он отказался и повел ее в коммерческий магазин, в комок, как они тогда назывались, и накупил ей всякого турецкого барахла. Ирка, конечно, отнекивалась и не хотела принимать столь щедрых даров, но Иван настоял, уговорил, убедил. И был счастлив ее радостью и восторгом, и был восхищен ее новым преображением. Так это в нем и осталось. Желание одарить свою женщину и заполучить себе отблеск ее сияющих счастьем глаз.
Начались каникулы. Студенческий городок опустел. Все разъехались по домам. Ирка тоже уехала. А Иван остался — работа. Жил в полупустом общежитии. По ночам даже жутковато было в этих темных, тихих коридорах, где еще так недавно звучал смех, были слышны разговоры, стоны, вздохи, всхлипы, бормотание телевизоров, пение и звон гитарных струн. Из здания будто ушла жизнь. Возвращаться сюда не хотелось. Задерживался на работе подольше. По вечерам гулял по городу. По ночам много читал и писал Ирке длинные письма. Перечитывал ее длинные письма. В круглых, смешных, детских буквах пытался ощутить ее тепло, гладкость ее кожи, ее запах. Грустный, одинокий июль. Как-то в выходные Иван отправился на пляж — подставить свое бледное, исхудавшее тело хотя бы солнечному теплу, раз уж Иркино недоступно. Будто очнулся от наваждения — вокруг полно девушек. На Ирке ведь не сошелся свет клином. Тут же устыдился своих мыслей. Стал смотреть на реку, на противоположный берег, где рыжел песочный склон, и зеленели сосны. Там, наверное, хорошо. Спокойно. Запах хвои и шашлыков, шорох ветвей. И народу поменьше. А здесь — тела, тела, тела. Толстые и худые, молодые и старые, дряблые и подтянутые, белые и смуглые, красивые и не очень. Да, девушек красивых много. Взгляд Ивана с реки опять плавно перетек на девчонок. Вскоре он выбрал один объект для созерцания: это была высокая, стройная, загорелая красотка, с длинными светлыми волосами. Безмятежная, как богиня. Рядом с ней крутилось три молодца, они изо всех сил старались обратить на себя внимание: они и мышцы свои демонстрировали, и анекдоты рассказывали, и что-то там о турбулентности вещали и сублимации. А она равнодушно возлежала на боку, подперев голову рукой, и читала книгу. Иван напряг зрение и разглядел, что это «Москва — Петушки». Он чуть не присвистнул от восхищения: где эта златокудрая Афродита и где Венечка Ерофеев! Занятный экземпляр! Иван даже влюбился. Слегка. Когда он возвращался домой, это прошло, забылось, смылось потом — жара стояла невыносимая. Его мысли снова вернулись к Ирке. Вот сейчас он понял, насколько по ней соскучился. В следующую субботу он сел в старенький оранжевый ПАЗик и отправился к ней в гости. В ее маленький городишко. Сюрпризом. Наугад. Воображение его разыгралось. Он представлял, как стучится в дверь ее дома, она выскакивает в замызганном халатике, на котором не достает пуговиц, в вырезе темнеет ложбинка ее груди, а из разреза торчит круглая коленка. Представлял, как она бросается ему на шею, целует в губы. К дьяволу всех этих пляжных нимф! Прочь, бесовки! Он едет к своей любимой! К самой лучшей девушке на свете! К волшебной царевне-лягушке, окутанной таинственными покровами, обещающими великие открытия! О том, что его дурнушка-красавица, ангел-замарашка обитает с родителями, он старался не думать — боялся. Спокойнее было надеяться, что их не окажется дома. Хотя куда они денутся? Ну да ладно. Прорвемся.
Через два часа автобус остановился рядом с безликим серым зданием автовокзала, похожим на коробку для обуви. Точно такой же был и в Ивановом городке. Иван купил у бабушки букетик садовых ромашек, спросил, как пройти на улицу Лермонтова. У другой бабки купил два пирожка с капустой и яйцом. Так и пошел по пыльной улочке, кусая пирожок, сжимая в руке ромашки, как копье. Фантазировал, будто он странствующий рыцарь в поисках своей дамы сердца, похищенной злобным чудовищем. Драконом, например. Улочка с деревянными домиками, заросшая лопухами, лебедой и одуванчиками, взобралась на пригорок, потом сбежала вниз, привела Ивана к пустынной в этот час базарной площади. Там он застыл в нерешительности, как на перепутье дорог, перед камнем, на котором написано «направо пойдешь — любовь найдешь, прямо пойдешь — заблудишься, налево пойдешь — себя потеряешь». Вспоминал, куда идти дальше. Пошел направо, кажется, так бабка говорила. Еще одна пыльная улочка привела его к овражку, по дну которого катилась шустрая речушка, через нее был перекинут мостик, грубо сколоченный из бревен и досок, шаткий и ненадежный, выщербленный временем, ногами, снегами и дождями. На склоне оврага среди кустов белела полуразрушенная часовенка. Иван будто на самом деле попал в сказку. Он с опаской прошел по мостику. Дальше дорожка поскакала вверх по хлипким деревянным ступенькам, вывела Ивана на еще одну улочку, потом повернула за угол, и вот она — улица Лермонтова. Осталось только найти ее дом. То есть замок его заколдованной принцессы. А вот и он — небольшой домик в три окна, нарядненький, зелененький, с резными наличниками, очень похожий на дом, в котором жили и Ивановы родители. Ничем не напоминает неприступный бастион. Вместо крепостного рва, подъемного моста и массивных ворот — калиточка. Дверной звонок. Как же решиться нажать на него? А вдруг откроет не Ирка? А вдруг — родители? И что он им скажет? И как они на него отреагируют? А вдруг выгонят взашей? Позвонил. Тишина. Еще раз позвонил. Послышались шаги. Дверь распахнулась. На пороге стоял задумчивый мужчина в клетчатой рубашке и галошах на босу ногу. Смотрел куда-то вниз. Проворчал:
— Чего трезвонить-то? Открыто же. Чего людей-то гонять? — потом поднял голову, увидел Ивана. В глазах мелькнуло удивление. — Ты к кому? — спросил он нелюбезно.
— Здравствуйте, — Иван смущенно улыбнулся. — Ирина дома?
— Дома! — рявкнул он и захлопнул дверь перед носом у Ивана.
— Кажется, мне тут не рады. — Подумал он.
— Ирка, иди! — послышалось из-за забора. — К тебе парень какой-то пришел.
Ну а дальше уже было по сценарию, который придумал Иван. Выскочила Ирка. Именно в замызганном ситцевом голубом халатике в белый горошек. Именно с недостающими пуговицами. Сквозь прорехи золотилось ее прекрасное тело. И в галошах на босу ногу. В Ивановом городке это была тоже самая популярная дворово-огородная обувь. Ирка, правда, не рискнула броситься ему на шею — кругом были соседские окна. Но глаза ее сияли радостью и восторгом.
— Приехал! Что ж ты не позвонил, не написал? Ванька! Миленький! Я так соскучилась! Ты не представляешь. Приехал! Ну, пойдем, пойдем в дом, я тебя с родителями познакомлю! — тараторила Ирка и тянула его за собой.
— Да подожди ты, дай хоть обниму тебя, — возражал Иван и тянул к ней руки.
— Нет, нет, соседи увидят, потом разговоров не оберешься. Обнимешь-обнимешь, успеешь еще, не переживай, мы с тобой потом гулять пойдем, на речку. Давай хоть накормлю тебя, проголодался, наверное.
— Я тебя съесть хочу, глупышка…
Ирка провела его в зал, то есть в довольно просторную комнату, которая служила гостиной. Ее стены были оклеены какими-то блеклыми дешевыми обоями, висело несколько фотографий и репродукция картины Шишкина «Утро в сосновом бору». Пейзаж оживляли лимонное дерево, множество других растений, которые Иван не смог идентифицировать, большая пальма в углу. Иван сразу обратил внимание, что стенка здесь точно такая же, как и у его родителей, а диван и кресла, как у одного из его друзей. На полу — старенький палас.
Хозяин дома лежал на диване и читал «Историю государства Российского» Карамзина, увидев Ивана, поднялся, сел, посмотрел на Ирку с изумлением, а на гостя — не вполне приязненно.
— Папа, это Ваня, мой жених. Ваня, это мой папа — Сергей Леонидович.
— Здравствуйте! Приятно познакомиться! — воскликнул Иван с самой дружелюбной улыбкой, какую только смог изобразить правдоподобно и протянул Иркиному отцу руку для пожатия. Тот на руку посмотрел с сомнением, но все-таки пожал.
— Ну, здравствуй, жених, — протянул он с оттенком сарказма в голосе и глянул на молодого человека безо всякого дружелюбия — он-то в СТЭМах не играл.
Слово «жених» Ивану крайне не понравилось, ни в Иркином исполнении, ни тем более в исполнении ее отца. Ирку он, конечно, любил, но чтобы вот так сразу, бац — и жених! Это уж слишком. О женитьбе он пока не думал — молод еще. Ну да ладно, жених так жених. Не поведут ведь его прямо сейчас в ЗАГС заявление писать? Это вряд ли. Так что угроза женитьбы откладывается на неопределенное время.
Иркин отец снова углубился в книгу, а Ирина потащила Ивана показывать свою комнату. Она была смежная с залом. В общем-то комната как комната — маленькая: стол, стул, какой-то самодельный шкаф, книжная полка, кровать… Кровать… Мммм… Здесь-то и спит его любимая девочка. Эх, сейчас бы… Стоп. За стеной отец. Даже его недовольное сопение слышно… На стене портрет какого-то лысого морщинистого старика в круглых очках на лбу.
— А это кто? — спросил Иван Ирку, указывая на фотографию.
— А это Корбюзье. Всемирно известный архитектор.
— У нормальных девчонок кто на стенах висит? Ну Цой, ну Ален Делон, ну Бутусов, Энштейн или Антон Палыч Чехов, в конце концов, а у этой? Корбюзье! Ненормальная, — сказал Иван с нежностью и полез-таки обниматься. За стеной — недовольное покашливание, а в дверях появилась женщина. Ирка с Иваном отпрянули друг от друга, оба покраснели.
— Ну что же ты, Ириша, гостя-то голодом моришь? — спросила женщина. — Меня Нина Петровна зовут, я Иришина мама.
— Иван. Очень приятно.
— Зови мальчика обедать, — наказала Нина Петровна дочери и удалилась.
Мать была похожа на дочь. Или наоборот? В общем, мать и дочь были похожи. Ирка была значительно уменьшенная в ширину копия Нины Петровны. Мать была… хммм… дородна. Трудно даже было представить, что когда-то в юности эта женщина была стройна. А может, и не была. Зато легко можно было предположить, что со временем Ирка тоже так расплывется. И тогда… тогда уже не будет никаких волшебных перевоплощений. А может статься, что без одежды она будет выглядеть еще хуже, чем в одежде. Да когда это еще будет? А может, еще и не будет? Стоит ли об этом париться сейчас? Наверное, нет. Ведь рядом с ним сейчас стояла красивая девушка, а из выреза ее халата приветливо выглядывала задорная грудь… Добраться бы до нее, наконец.
На обед был суп с фрикадельками и картофельное пюре с котлетами. Но главным блюдом был допрос, которому Сергей Леонидович и Нина Петровна подвергли дочиного «жениха», который так неосмотрительно потревожил покой достопочтенного семейства. Спрашивали и сколько ему лет, и где он учится, и каковы его планы на жизнь в целом и на жизнь с их дочерью в частности. Неделикатно интересовались, на какие такие шиши он собирается содержать семью, и где они, собственно, собираются жить. Иван, конечно, что-то там отвечал, даже достаточно убедительно отвечал — то есть вдохновенно врал. Он вообще еще об этом не думал. Особенно о семье. Затронули и Иванову родословную: а кто родители? А чем занимаются? Иван даже удивился, что про наследственные заболевания вопросов не было. У-ди-ви-тель-но! Отвечал он бойко и бодро, а сам мечтал куда-нибудь сгинуть, провалиться, испариться. Он с тоской поглядывал в окно, где на ветру колыхались ветви березы, светило солнце и пели птицы. На свободе. Ну зачем он сюда приехал? Ну зачем? Сам ведь. Никто ведь и не звал. Обед закончился. Ивана усадили в зале в кресло, а Ирка унеслась в свою комнату переодеваться. Вышла через пять минут в коротком пестром сарафанчике, который Иван купил ей перед отъездом. Загорелая. Невыносимо красивая.
— Ну, все, пойдем, пойдем скорее, — заторопил он ее.
Когда они свернули с Иркиной улицы, она решилась взять его за руку. Так они и шли. День снова стал прекрасным. Дошли до реки. Ирка сдернула с себя сарафанчик и осталась в купальнике. У Ивана плавок не было — снял только рубашку.
— Да снимай свои штаны, пойдем искупаемся, — шепнула Ирка игриво, — ты так хорош, что даже семейные сатиновые трусы по колено тебя не испортят. — И уже серьезно. — Тут все в трусах купаются. Не переживай.
Иван послушно разделся. Побежали к воде. Речка была та же, что и в Ивановом городке, только здесь, перед тем, как слиться с Волгой, замедлила свой бег, стала шире, обросла по берегам высокими холмами. Ивану этот пейзаж отчего-то напомнил окрестности Сочи — море, горы. Дал себе слово, что в следующем году непременно заработает денег и повезет Ирку на юг. А пока… Вода обожгла холодом, окутала фонтаном брызг. Ирка визжала. Иван хохотал. Поплыли. Доплыли до середины реки. Вернулись. И уже стоя на песчаном дне по пояс в воде, Иван, наконец, обнял Ирку. По-настоящему. Замерзшую, покрытую мурашками. И, наконец, целовал ее губы, мягкие и шершавые одновременно…
Обсохли на солнце. Оделись. Пошли гулять дальше. Ирка изображала из себя экскурсовода: посмотрите направо, видите этот скособоченный домишко? Тут живет городская сумасшедшая Поля-шатина. Прозвище свое она, очевидно, получила за то, что постоянно шатается. Она безобидная, но лучше все же обходить ее за два квартала: если Поля в дурном настроении — может и проклясть. Бывали такие случаи… А сейчас мы проходим мимо церкви постройки второй половины XVII века. Впрочем, сейчас это никакая не церковь, а краеведческий музей. Именно поэтому она более-менее пристойно выглядит, а остальные культовые постройки пребывают в полуразрушенном состоянии. Видите вон тот кирпичный домик с голубыми наличниками? О! сколько раз я якобы случайно проходила под этими окнами! Тут живет моя первая любовь Сашка Степанов. Ты представляешь, этот негодяй так и не обратил на меня внимание! А я его так любила, так любила!
— Подлец! Негодяй! Да как он мог не обратить внимание на такую красавицу! Ну ничего, мы ему покажем! Сейчас-то он точно на тебя посмотрит! — Иван закружил Ирку в объятьях и поцеловал. — Ну вот! Теперь этот недоумок Сашка Степанов точно знает, какую девчонку он прозевал. Молодец Сашка Степанов! Теперь эта девчонка досталась мне!
Город неожиданно оборвался живописным оврагом.
— Зимой мы катались тут на лыжах и санках, а сейчас здесь есть клубника. — Сказала Ирка. — Поищем?
— А, может быть, посмотрим, нет ли вон в тех кустах избушки на курьих ножках?
— Ты чего это задумал, шалунишка?
— Ничего-ничего. Так, инстинкт первооткрывателя. Исследовать эти кусты для меня все равно, что открыть Америку. Они меня влекут. Они такие таинственные. Так хочется посмотреть, что же они скрывают.
Ничего необычного в кустах обнаружено не было. Совершенно. Так, какие-то древние консервные банки.
— Попалась, птичка! — вскрикнул Иван весело. — Попалась! Я коршун, я схватил маленького беззащитного воробушка! Сейчас как наброшусь!
И он набросился… Кусты потом долго перешептывались о нежданном любовном приключении, свидетелями которого они стали. Они по цепочке передали эту весть всем своим сородичам, деревьям и птицам. Хорошо, что эта сплетня, обросшая новыми пикантными подробностями, не дошла до Иркиных родителей. К счастью, они не понимали языка растений и птиц. Они были бы очень расстроены, если бы узнали. Они-то были убеждены, что их ненаглядная дочка еще не выросла. Для них она так и осталась девочкой лет десяти. Их Ириша и любовная сценка в кустах никак не могли соединиться в одну картинку. Для них это были вещи несовместимые.
Спать Ивана уложили на веранде, на скрипучей железной кровати… Иван сразу понял, что к Ирке ему этой ночью не подобраться — родители отрезали все подходы. Мать заняла оборону в своей спальне, которая первой вставала на предполагаемом пути похотливого юнца к их нежному бутону, отец улегся в зале на диване, охраняя вход в девичью светелку. Ха-ха. Он-то свое уже получил. В этом маленьком городке полно укромных местечек. Иван заснул со счастливой улыбкой. Проснулся рано — солнце светило ему прямо в глаза. Заворочался. Услышал голоса во дворе:
— Не пара он нашей Ирке, не пара. — Женский голос.
— Да нормальный, вроде, парень. Учится, работает. Серьезный. С таким не пропадешь. — Возражал мужской.
— Э-э-х, до старости лет дожил, а в людях разбираться так и не научился. Да хлыщ он, хлыщ! Неужели не видишь? Красавчик! Да он не о семье думает, а о том, как нашу Ирку в постель затащить, прости господи. А потом наиграется… и только его и видели, ищи ветра в поле! — снова женский. — Ох, болит у меня душа за Иришу, ох, болит. Ох, чувствует мое сердце, намается она с этим Ванькой, ох, намается!
— Ну что ты каркаешь-то, мать? — мужской голос. — Ты думаешь, я что ли о семье думал, когда в первый раз с танцев-то тебя провожал?
— Вот, охальник! — женский смех.
— Дела, — подумал Иван. — И жениться-то еще не успел, зато уже обзавелся тещей, которая меня ненавидит. Нужно срочно отсюда сваливать.
На завтрак были оладушки со свежим клубничным вареньем. Пекла «теща». Иван про себя отметил, что она хорошо готовит, но и это не примирило его с ее взглядами на его, Иванову, сущность. Он, разумеется, считал себя вполне порядочным молодым человеком, никаким не хлыщом, свое нежелание жениться он объяснял молодостью, а желание регулярно затаскивать Ирку в постель — вполне естественной физиологической потребностью, ну и любовью, безусловно. После завтрака стал благодарить за оказанное гостеприимство и прощаться. Ирка пошла провожать его на вокзал. По дороге заглянули еще в пару укромных уголков. Уже на подступах к автовокзалу навстречу им попалась толстая, оборванная старуха, она, казалось, натянула на себя сразу все вещи, которые скопила за всю свою жизнь. Она была похожа на ходячую свалку. Ирка схватила Ивана за руку и хотела перебежать на другую сторону дороги. Не успела. Поля-шатина их заметила.
— Беда! — взвыла она. — Вижу беду! Девка! Беги от него! Беда! Вижу беду!
Иван растерялся, но все же прибавил шагу и Ирку за собой потянул. Когда завывающая старуха осталась позади, Ирка разрыдалась.
— Она никогда не ошибается, никогда! Слышишь! Ее весь город боится! — кричала она. — Что все это значит? Какой беды мне ждать от тебя?
— Риша, девочка моя! Ну что за глупости! Это всего лишь выжившая из ума старуха. Забудь, прошу тебя, забудь! Я люблю тебя. Ну что ты, какая беда? Все будет хорошо, обещаю. — Иван обнимал Ирину и гладил по голове.
Обещать-то он обещал, только ему самому было как-то неспокойно. Жутковато даже. Впрочем, когда расхлябанный автобус подвез Ивана к областному центру, он уже и думать забыл о полоумной старухе. Вспоминал лишь Иркино тело.
Никогда еще Иван так не ждал осени и начала учебного года. В то бесконечное лето начало занятий значило для него воссоединение с Иркой. Разлука добавила остроты его чувствам, навыдумывала про Ирку каких-то небылиц. В фантазиях и еще красивее стала она, и выше, и тоньше, и добрее, и готовить научилась, как собственная мать (чтоб ее…), и одевалась теперь только в мини-юбки… В общем, когда Иван встретил ее на автовокзале, увешанную сумками и авоськами и все в тех старинных потрепанных джинсах, даже не сразу признал: так отличалась настоящая Ирка от того образа, который в последние недели угнездился в его голове. Был несколько разочарован этим несоответствием. Отмахнулся от него. Обнял Ирку. Настоящая Ирка была теплая, мягкая и пахла зеленым домиком с резными наличниками: супами, оладушками, вареньем, спелой вишней и клубникой. А это получше, чем какой-то там бесплотный фантом, сотканный воспаленным разлукой воображением.
Осень была счастливой и сложной. Главными врагами были тетя Маша, вахтерша из Иркиной общаги, и баба Нюра — из Ивановой. Эти зловредные бабы всячески мешали счастью влюбленных — как церберы охраняли они свои владения от чужаков. Не на страх, а на совесть. В те времена и возненавидел Иван вахтеров. О! Это особая порода людей. Они всегда все обо всех знают. Их амбиции никогда не совпадают со статусом, а крохотная зарплата входит в столь вопиющее противоречие с властью, которую они имеют, что это озлобляет их на весь свет и заставляет властью злоупотреблять. Однажды Иван проник к Ирке в общагу еще засветло, оставив тете Маше для пристального изучения свой студенческий билет и пообещав покинуть помещение до десяти часов вечера, но не покинул — не смог оторваться от Иркиной тонкой шеи, от ее круглых детских коленок… Студенческий билет тетя Маша отдавать отказалась. Наотрез. Пригрозила сообщить в деканат о его аморальном поведении. Иван хотел было начать скандалить, да вовремя догадался, что тетю Машу криками не возьмешь — она только еще больше раззадорится. На принцип пойдет. Вздохнул печально, понурил голову, направился к выходу, приостановился, обернулся и грустно так проговорил, глядя как бы на тетю Машу, но как бы и сквозь нее:
— Эх, тетя Маша, тетя Маша, да знаю я, что виноват, знаю. Вы совершенно правы, что не отдаете мне студбилет. Правила есть правила. Вы выполняете свою работу. Я все понимаю. — Снова тяжело вздохнул. — Но и вы меня поймите, я ведь ее люблю. Сами же знаете, как тяжело расставаться с любимым человеком, — и снова медленно побрел к выходу.
— Знаю, как не знать, — вздохнула тетя Маша, вспомнив своего покойного мужа, который хоть и был горьким пьяницей, да в воспоминаниях остался удалым молодцем с лихим чубом, торчащим из-под фуражки, и с неизменной подругой-гармошкой. — Эй, Лёвочкин, стой! Жениться что ли на Ирке-то нашей собираешься?
— Собираюсь. — Тяжкий вздох.
— Ладно уж, забирай свой документ, — смягчилась тетя Маша.
В следующий раз Иван похвалил тети Машину прическу и вручил ей шоколадку. Она отнекивалась, но все же взяла. Шоколадки в те времена были дорогим деликатесом.
— Вот лиса, вот лиса, — старушка улыбнулась по-девичьи.
Вскоре ему удалось приручить и бабу Нюру.
Да, у него был потрясающий дар располагать к себе людей. К природным данным постепенно добавлялся и опыт. Иван познавал жизнь, барахтаясь в бешеных волнах новорожденной рыночной экономики. Наверное, Ивана можно назвать везунчиком. Иногда ему случалось оказаться в нужном месте в нужное время, а самое главное, молвить нужное слово и быть при этом услышанным. В конце ноября шеф праздновал свой день рождения. О корпоративах тогда еще и не слыхивали, но бывший советский барин решил сыграть в демократию и пригласил в баню в один из пригородных домов отдыха избранных своих подчиненных. Соратников. Демократия демократией, но не грузчиков же звать на именины хозяина. Иван вроде бы в число избранных не входил, но почему-то тоже получил приглашение — может быть, секретарша что-то напутала. Теперь уже и не разберешься. Пьянка была знатная. Иван и не подозревал, что можно столько пить, хотя, безусловно, и сам в этом вопросе ангелом не был. Как пишут в милицейских протоколах, во время совместного распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений возникла ссора между гражданином Серегиным В. А., 1956 г.р. (начальник службы безопасности) и гражданином Илюшиным 1961 г.р. (заведующий складом), в ходе которой гр. Илюшин допустил оскорбление в адрес гр. Серегина с использованием ненормативной лексики, вследствие чего гр. Серегин выхватил служебный пистолет и стал угрожать гр. Илюшину убийством…
Иван и сам потом не мог объяснить, как он на такое решился. Вообще старался не вспоминать. Когда Володька Серегин направил на завскладом пистолет, шеф пробовал приказать своему начальнику службы безопасности сложить оружие, выкрикивая хозяйским тоном: «Серегин, мать твою, не дури! Быстро спрячь пушку!», но тот лишь смотрел на начальника мутным, бешеным взглядом, в котором отчетливо читалось: «Отвали, а то и тебя пристрелю!», и делал еле уловимое движение рукой, сжимающей пистолет, в сторону шефа. Тот умолк, несколько съежился и начал кутаться в простыню, как ребенок, который прячется под одеяло в наивной надежде, что оно защитит его от всех опасностей мира. Ежится и кутается не только шеф, а все присутствующие. Они-то знают, что Володька человек вообще-то сдержанный, степенный и даже в некоторой степени спокойный, пока не взбесится, разумеется. А уж если взбесится, то на мирное урегулирование конфликта надеяться не приходится. Бывший афганец все-таки. Разумнее всего спастись бегством. Володьку, знающие его люди, не задевали. Он и кулаком убить человека может, не то что из пистолета. Стоит тут сейчас — голый, могучий, страшный. Даже и без оружия страшный, а он-то еще и с пистолетом. С таким не забалуешь. А завскладом человек новый, горячий, безрассудный и безответственный. Подставил всю честную компанию. Испортил день рождения шефа. Да, дурак он, дурак! Просто редкостный идиот, если честно. Все сидят, боятся, прямо у ног завскладом образовалась какая-то подозрительная лужица, а Иван, птенец этот желторотый, щенок сопливый, вдруг и говорит своим звонким еще голосом, не пропитым еще и не прокуренным: «Владимир Александрович, а пристрели этого гандона, пристрели! Он тут все равно никому не нравится. Пристрели! Давай, стреляй!» — Володька переводит мутный, тяжелый взгляд на Ивана. Имея некоторое воображение, в нем можно уловить не очень четко оформленную мысль: «Что… что, это…бля… тут пищит?».
А Иван продолжает: «Стреляй! Ну, выстрелишь, ну, убьешь эту шавку, никто и плакать не будет, толку-то от него все равно никакого, так, зря небо коптит, тварь дрожащая. Так что стреляй! Мы не против. Отсидишь потом годочков десять. Подумаешь. Выйдешь. Сколько тебе тогда будет? Под пятьдесят? А что, молодой еще совсем. Жена твоя другого найдет, из квартиры тебя выпишет. Дети тебя забудут. Или вообще от тебя откажутся, стыдно им будет перед одноклассниками за отца — убийцу и уголовника. Вернешься, больной, бездомный, никому не нужный. Так что стреляй, стреляй, не стесняйся». Владимир Александрович медленно и не очень уверенно кладет пистолет на лавку, садится на лавку сам, закрывает лицо руками. Всеобщий вздох облегчения. Сидящий за спиной у Володьки юрист осторожно берет пистолет и уносит его из комнаты. Через мгновение Володька вскакивает, вопит: «Ну, в морду-то я тебе все равно дам, сука!» и дает завскладом в морду. Но кураж уже был не тот, не тот. Завскладом отделался легким переломом носа.
Глава двенадцатая
Дивиденды от инцидента Иван имел следующие: он приобрел известность среди коллег, которые раньше его почти не замечали; одного врага — в лице завскладом, господина Илюшина, который, с одной стороны, был премного ему благодарен за спасение своей жизни, но то, что этот сопляк прилюдно посмел назвать его гандоном, простить не смог; одного друга — в лице господина Серегина, который смелых и отчаянных парней уважал; и одного покровителя — в лице своего шефа — Михаила Львовича. Он был человеком бывалым, калачом тертым, много чего повидал, каких только школ и университетов не прошел. Он как-то быстро сообразил, что мозги, прыть и способность идти на риск юного помощника юриста нужно использовать более рационально. И решил он отправить Ивана Лёвочкина в поля. То есть искать новые рынки сбыта. То есть покорять своим обаянием заведующих магазинами, дам средних лет советской еще закалки. В его обязанности вменялось убедить этих женщин, что паленая водка, дешевый спирт «Роял», «Амаретто» и другие алкогольные радости, которые поставляла фирма Михаила Львовича, значительно лучше, чем те, что поставляют другие компании. У Ивана получалось. Он вообще очень нравился дамам средних лет. Рождал в них материнские чувства с примесью подавленных эротических фантазий. Стал прилично зарабатывать. Мог бы снять квартиру, но ему пока нравилось жить в общаге. Он не хотел завершать этот период убогой, полуголодной романтики и студенческого братства раньше времени. Это ведь уже не повторится никогда. Наряжал Ирку. Она теперь и в одежде выглядела замечательно. Только чудо перевоплощений исчезло. Себя Иван тоже не забывал и вскоре прослыл самым стильным парнем факультета. Девочки на него заглядывались. А те, что были с ним знакомы, откровенно не понимали, что этот блестящий красавчик делает с очкастой зубрилой со строительного. Откровенный мезальянс. А Иван знал, что он делает с этой зубрилой. Он вообще знал ее с какой-то другой стороны. Иркина учеба его как-то мало беспокоила. И все у них было хорошо, в одном лишь не совпадали — Иван любил тусовки, дискотеки, вечеринки, а Ирка любила сидеть дома либо прогуливаться под луной. Вот так, чтобы в прогулках этих участвовало только трое: он, она и луна, само собой. Хотя Ирка злилась и обижалась, но Ивана повеселиться иногда отпускала. Вроде бы чтила потребности любимого человека, а на самом деле, во-первых, всегда помнила прописную истину о том, что запретный плод сладок, во-вторых, очень уж боялась его потерять, поэтому и позволяла ему некоторые вольности. Правда, пока он там отплясывал на дискотеке, впадала в состояние крайне нервное, затевала небольшие скандалы с соседками по комнате, злословила, много курила, могла и водочки выпить. Хотя в целом волновалась она, в общем-то, зря — Иван был ей верен. Но нужно ему было иногда почувствовать себя голодным свободным волком на охоте. Зацепить девчонку взглядом, поймать ее улыбку, почувствовать ее симпатию, глазами намекнуть на свою, и… исчезнуть. Оставить в душе девушки легкий флер сожалений о том, что могло бы быть, но не случилось… Не случилось… в Ивановой душе иногда тоже шевелились сожаления о том, что могло бы быть, да не произошло… Ирка. Ирка. Что такое любовь? Колючая проволока, которая ограждает человека от других женщин, от соблазнов и искушений? Иногда Ивану было уютно в тюрьме своей любви, а иногда хотелось вырваться на волю, да хоть бы и содрав кожу об острые шипы. Все равно, лишь бы вырваться. В начале февраля, когда Ирка уехала на каникулы в свой далекий зелененький домик с резными наличниками, Иван отправился в загул по дискотекам. Он был опьянен возможностью самому выбирать траекторию своих передвижений, не спрашивая ни у кого позволения. Однажды посреди пьяной, в большинстве своем дурно одетой и дурно пахнущей толпы он заметил ее — ту самую златокудрую богиню, которую летом видел на пляже. Она стояла у колонны и равнодушно созерцала происходящее. Именно созерцала. Она была как принцесса на ферме. Как инопланетянка. Слишком хороша. Слишком высока. Слишком аристократична. Она была здесь неуместна. Несоответствие. Противоречие. То, что больше всего вдохновляет. Красная тряпка для быка. Иван бросился в атаку. Сам не зная зачем. Безрассудный, бессмысленный порыв. Подошел решительно. Галантный поклон головы.
— Мадмуазель, вы обворожительны! Я восхищен! — кричит он с гусарской удалью громче музыки. — Позвольте пригласить вас на танец!
Она медленно скользит презрительным взглядом от его макушки к его начищенным полуботинкам и обратно. Ухмыляется и произносит тихо, но даже грохот музыки не может заглушить ее голос:
— Я тебе не по зубам, мальчик. Поищи себе замарашку, такую же, как и ты сам. — Отворачивается величественно и удаляется, а Иван так и остается стоять с глупой, обворожительной улыбкой на лице. Она будто приклеилась. Потом отлепилась. Сменилась выражением ярости.
— Не очень-то и хотелось, — шипит он и мысленно обещает себе, что эта надменная сука еще влюбится в него, как кошка, а он-то еще подумает, отвечать ли ей взаимностью…
Ирка вернулась с каникул посвежевшая, порозовевшая. Глаза горели. Она соскучилась. Разлука вновь подогрела их уже свалявшуюся в привычку страсть. Иван добровольно вернулся за колючую проволоку своей любви и чувствовал там себя прекрасно.
В начале марта шеф неожиданно пригласил Ивана в гости. К себе домой. В огромную квартиру, сложенную из нескольких квартир. По слухам, он не пускал туда никого из подчиненных, кроме своего зама, давнего друга и соратника. Михаил Львович семью в свои дела не впутывал: время было неспокойное, бизнес не вполне законный — меньше знаешь, крепче спишь. Все, конечно, знали, что есть у Михаила Львовича жена, умница и небывалая модница, есть у него сын — подросток, есть у него дочь — редкостная красавица, только никто их не видел.
— Ваня, загляни сегодня ко мне вечерком, — сказал шеф Ивану как-то слишком ласково. Ивану даже почудились, что перед ним немного заискивают. Наверное, лишь почудилось.
— Извините, куда я должен к вам зайти, в кабинет? — уточнил Иван вежливо.
— Нет, сынок, ко мне домой, — шеф по-отечески похлопал молодого сотрудника по плечу. — Жена ужин приготовит. Коньячка выпьем. Да не того, которым мы с тобой торгуем, а нормального, французского. О житье-бытье потолкуем. Ха-ха-ха! Чего испугался-то? Удивлен? Ты же у нас самый перспективный сотрудник. Надо заняться твоим воспитанием. Я тебя устраиваю в качестве наставника?
— Вполне, — ответил Иван осторожно.
— Ну, вот и чудненько. Жду в 20.00. И без опозданий, пожалуйста. — Тон шефа с отеческого сместился в начальственную плоскость.
Остаток дня Иван провел в раздумьях на тему, что бы это значило? Как разумный человек, он понимал, что это все неспроста. Шефу явно что-то от него нужно. Только вот что может дать бедный студент матерому предпринимателю? Богатому человеку? Ответа не было. Тут никакого разума не хватало.
После работы Иван заехал в общежитие переодеться. Нацепил белую рубашку, галстук, темно-синий джемпер с v-образным вырезом, свои лучшие джинсы. Непокорные волосы пригладил гелем.
— Хорош, очень хорош, — улыбнулся своему отражению в зеркале…
Дверь открыла моложавая, стройная женщина с рыжими волосами и ярким макияжем. На ней были модные джинсы-резинки и джемпер из ангоры изумрудного цвета, густо украшенный бусинами, бисером и пайетками.
«Красива, но вульгарна», — отметил про себя Иван.
— Иван? — спросила женщина.
— Он самый. — Улыбка с легким оттенком кокетства и приязни. Так, на всякий случай.
— Проходите. — Во взгляде явный интерес.
Иван шагнул за порог и оказался в просторной прихожей. Таких он еще не видел. Никаких цветастых обоев — оштукатуренные стены покрашены в теплый персиковый цвет. Огромное зеркало в массивной золоченой раме, пейзажи на стенах, писаные маслом и акварелью, массивная хрустальная люстра. Даже диван стоял в этой огромной прихожей и столик, заваленный журналами. Иван снял обувь и получил от хозяйки тапочки. Она провела его в просторную комнату, которая, очевидно, одновременно была и кухней, и столовой, и гостиной. Такого Иван тоже еще не видел. Кухню от столовой отделяла барная стойка. Чудеса!
— У вас очень красиво! — восхитился Иван, причем совершенно искренне.
— Да, спасибо! Это дочка интерьером занималась. Все как в заграничных журналах делала. Ненавидит совок. Все ковры повыкидывала. Хрусталь приказала припрятать. Мещанство, говорит. Вы присаживайтесь. — Она указала на кресло. Михаил Львович сейчас выйдет.
Он появился через пару секунд: одет по-домашнему — в яркий спортивный костюм. На лице имел самое добродушное выражение. А-ля радушный хозяин. Простой русский мужик. Или не совсем русский. Кто его знает.
— А, пришел! Молодец! Минута в минуту. Уважаю пунктуальных людей. Ну, проходи за стол. Ужинать будем. Марина, тащи закуску да иди, у нас тут мужской разговор будет. — Скомандовал он жене.
Иван присел на краешек дубового стула. Был он скован. Его пугало это внимание к своей скромной персоне. Было оно каким-то чрезмерным, неуместным, нелогичным. Чего же от него хотят?
Иван получил ответ на свой вопрос после второй рюмки коньяка.
— Слушай, сынок, — Михаил Львович интимно обнял Ивана за плечо, — тут такое дело… в общем… Короче… короче, у меня к тебе деловое предложение. Только ты, Ванюшка, сразу-то не отказывайся. Ты подумай сначала. Предложение-то выгодное. Очень выгодное!
— А что за предложение?
— Не знаю даже, как и сказать…, — Михаил Львович хлопнул еще рюмаху. — Короче, сынок, я предлагаю тебе жениться по расчету.
— На ком? — удивился Иван.
— Так на дочери моей. Она у меня умница, красавица. Приданое за ней дам серьезное.
— Михаил Львович, вы меня простите, но я ничего не понимаю. Я ж с ней даже не знаком. Если она такая замечательная, так что же она сама не может найти себе жениха? Я-то ей зачем? Разве я могу быть выгодной партией для вашей дочери?
— Сынок, тут такое дело… Дочь у меня красавица. Аж дух захватывает. Но, понимаешь, баловали ее слишком в детстве. Все было у нее, ни в чем отказа не знала, вот и выросла капризной, своевольной, непокорной. Бунтарка она. Уж двадцать один год, а она все бунтует.
— Но это же не повод выдать ее замуж за первого встречного?
— Понимаешь, сынок, беременна она. — Михаил Львович снова приложился к коньяку. — От кого — не говорит, замуж ее этот поганец не возьмет. Ты, говорю, мне имя этого подонка скажи, а уж мы там посмотрим, хочет он жениться или нет. А она ни в какую! Молчит, как Зоя Козьмодемьянская на допросе. Ну не пытать же мне собственную дочь! От ребенка избавляться поздно, срок уже большой. Вот и решил я сам ей мужа подыскать. Хорошего парня, надежного, перспективного.
— Михаил Львович, но сейчас ведь не средние века, многие женщины рожают без отцов. Никого уже этим не удивишь.
— В нашем роду никто не приносил в подоле! И моя не принесет! — шеф стукнул кулаком по столу. — Не будет такого позора в нашей семье! Не допущу! — он снова ударил кулаком по столу. — Не за тебя, так за другого отдам. Ты хоть знаешь, от чего ты отказываешься? — Иван помотал головой. — Квартира, машина, деньги, связи, возможности. Не обижу я жениха-то, не обижу. Ты откуда в наш город-то приехал? Из какой глуши? — Иван назвал свой городок. — И что же, закончишь университет и в эту дыру вернешься? Где ты там работу-то искать будешь? Или у тебя бабки есть, чтобы свое дело открыть? Нету? Вот то-то и оно.
— Я ведь работаю. Могу квартиру снимать. Зачем возвращаться-то? — возразил Иван.
Михаил Львович расхохотался.
— Я человек добрый, разумеется, но ты ведь понимаешь, Ванька, ты же умный парень, что если ты откажешься, на меня работать уже не будешь. Снова на стипендию жить будешь. Так что ты подумай. Крепко подумай.
Иван сам налил себе коньяку и выпил рюмку залпом, как водку.
— У меня ведь девушка есть. Я ее люблю. Что вы за змей искуситель-то такой, Михаил Львович! За что ж вы из меня подлеца-то хотите сделать?
— Сынок! Поверь мне, подлецом человек может стать только самостоятельно. Ибо человек сам делает выбор. И ты сам выбор делать будешь. Я тебе всего лишь предлагаю выгодную для нас обоих сделку. А девушка… Девушка! Да ты можешь продолжать встречаться со своей бабой. Это же фиктивный брак будет. Главное, чтобы ребенок родился в нормальной семье, чтоб у ребенка отец был официальный, чтобы все шито-крыто, а потом разводитесь на здоровье. Ну, согласен?
— Я должен подумать. А что невеста? Вдруг она против будет?
— Ну, для нее, сынок, у меня имеются свои аргументы. Это не твоего ума дело. Кстати, долго думать не дам. До завтрашнего вечера. Имей в виду.
Шеф разлил коньяк и пустился в воспоминания о своей бурной студенческой юности. Как ни в чем не бывало.
Послышался звук открываемой двери. Через несколько мгновений на пороге возникла девушка. Та самая. Златокудрая богиня.
— А вот и доча моя! — воскликнул Михаил Львович с пьяным энтузиазмом. — Ольгуня, иди сюда, с женихом познакомлю!
— Вот это жених? Вот этот? — закричала она.
— Да, а чем не жених? Хороший парень. Мой сотрудник. Очень толковый.
— Папа, я за него замуж не выйду. Что это за голодранец лапотный? За что ты меня так ненавидишь? Я вообще замуж не хочу, а уж тем более за этого! Ты меня продаешь, как корову какую-то племенную! И этот тоже хорош! На все готов ради денег? На все?
— Ольга, иди в свою комнату. Потом поговорим. — Приказал Михаил Львович.
Она не сдвинулась с места. Смотрела на отца с ненавистью. А Иван подумал, что она еще красивее с этими горящими ненавистью глазами, и вообще он бы не против жениться на этой девице, даже без денег. Сам бы ее отцу заплатил. Жаль, что она его, мягко говоря, недолюбливает. Раньше природа этой ненависти была ему непонятна, а сейчас, да… Сейчас у нее есть повод.
— Ольга, прошу тебя, выйди. — Тихо повторил свой приказ Михаил Львович. Иван не видел его лица, не видел, что такого было в его взгляде, но девушка как-то сникла и направилась к двери.
— Михаил Львович, а может, не надо?
— Что не надо?
— Замуж ее выдавать, не хочет ведь.
— Это не твоего ума дело. Я сделал тебе предложение. Ты можешь его принять, а можешь отказаться. И это все, что ты можешь сделать.
— Но она ведь ваша дочь…, — начал было Иван, но тут же умолк. Теперь он знал, что за взгляд заставил Ольгу послушаться отца. Ивана этот взгляд погнал по направлению к выходу из дома. — Ладно, я, пожалуй, пойду, поздно уже. — Замямлил он, пятясь к двери.
— Сроку тебе до завтрашнего вечера. — Сказал Михаил Львович Ивану на прощанье.
Оказавшись на улице, Иван несколько раз глубоко вздохнул. Ночной морозный мартовский воздух был для него воздухом свободы. Наконец-то вырвался! Домой Иван шел пешком. Пьяные мысли отчаянно бились в его голове. Что же делать? Быть или не быть? Что будет, если он примет предложение? Что будет, если не примет? Рассчитать на десять шагов вперед. Во что его втянули? Несколькими словами разрушили иллюзию стабильности его жизни. Перечеркнули его уверенность, что он сам вершит свою судьбу. Теперь он всего лишь пешка в чужой игре. Зачем? За что? Почему именно он? Нет, так не пойдет. К черту самодура-шефа вместе с его стервой-дочкой! Проживет и без них. И работу найдет. Он молод, умен и тщеславен. К черту! Завтра он пойдет на работу, откажется от предложения Михаила Львовича и сразу же напишет заявление об уходе. Не будет он ждать, пока его вышвырнут за дверь, как нагадившего щенка…
Все пошло не так. Когда Иван после занятий в университете с самым решительным видом подходил к месту почти уже бывшей службы, его окликнули. Он обернулся. Под березами стояла Ольга. В строгом сером пальто и синем берете. Образ невинной десятиклассницы. Правда, чуть-чуть беременной. Хммм… Лицо взволнованное. Подбегает к Ивану. Смотрит в глаза… с надеждой.
— Я… я… должна извиниться перед вами за вчерашнее. Мне безумно стыдно. Правда. — Взмах длинных ресниц. Застенчивая улыбка. Зыбкий призрак кокетства. — Вы меня простите? Ведь простите? Я же вижу, вы добрый. Вы настоящий рыцарь. Ну, так прощаете?
— Да, разумеется. Чего вы от меня хотите? — поинтересовался Иван холодно.
— С чего вы взяли, что мне от вас чего-то нужно? Что за странный взгляд на жизнь? Думаете, что люди только пользуются друг другом? Вы отрицаете дружбу, любовь?
— Трудно заподозрить в любви ко мне человека, который не далее как вчера назвал меня голодранцем лапотным.
— Фу, какой злопамятный. — Ольга обиженно надула губки. — Я же извинилась. Этого разве не достаточно? — она посмотрела на Ивана лукаво. — К тому же, разве вы не знаете, что если женщина оскорбляет мужчину, это вовсе не значит, что он ей не нравится… Скорее, наоборот.
— Что вы этим хотите сказать?
— Что ты мне нравишься, дурачок. Неужели ты этого не заметил?
Иван опешил. Он нравится этой беременной богине, которая вполне может стать его женой? Нет, он этого не заметил.
— Не поверишь, но мне это даже в голову не приходило. Даже странно, как я мог не заметить?
— Не иронизируй. Ты мне правда нравишься. — Ее лицо стало задумчивым. Она посмотрела на небо и в ее огромных светлых глазах поплыли отражения белых пушистых облаков. Иван ею залюбовался. Хотя и запретил себе поддаваться на провокации этой белокурой бестии. Красота Ивана завораживала. Ослабляла волю, соблазняла, искушала. — Я видела тебя летом на пляже. — Проговорила она тихо. Иван удивился, он даже и надеяться не мог, что она обратила на него внимание. — Видела, как ты на меня поглядываешь. Хотя я привыкла к таким взглядам. Ну а я… делала вид, что читаю, а сама тоже украдкой на тебя смотрела. Ты ведь очень красивый… И лицо у тебя…
— Какое у меня лицо?
— Редкая смесь интеллигентности, породы и красоты. Это действительно редкое сочетание, особенно для нашего захолустья. Ты на какого-то царевича похож. Хотя нет, скорее на принца. У тебя лицо какое-то не местное. Иностранное лицо. Тебя одеть, причесать — и можно на обложку глянцевого журнала.
Лесть расслабила Ивана — он и сам иногда думал о себе в таком ключе, а тут — им восхищается такая великолепная женщина! Сама девушка тут же стала тоже как-то еще краше, и даже грязный весенний снег вдруг обрел несвойственные ему яркие краски. Иван счастливо разулыбался, размяк, подобрел, утратил бдительность, и вот уже можно брать тепленьким и требовать с него чего хочешь.
— Да ладно, — говорит он скромно, — самая обычная внешность. Да я вообще урод.
— Нет, ты красавчик. — Говорит она убежденно и с искренним восторгом смотрит Ивану в глаза, а потом порывисто целует его в губы. Потом шепчет в ухо ошалевшему юноше: «Я об этом мечтала с того самого жаркого июльского дня на пляже». — Волшебство почему-то рассеивается, и Иван понимает, что это все неспроста. Эта прекрасная дьяволица чего-то от него хочет. Он отстраняется.
— Я тебе не верю. С чего вдруг оскорблять человека, в грязь его втаптывать, если ты на самом деле хочешь его поцеловать?
Ольга скорбно опускает сначала глаза, потом голову, Ивану теперь виден только ее берет. Говорит сдавленным голосом:
— Я не хотела впутывать тебя в мою жизнь.
— Это еще почему?
— Потому что я порочная, эгоистичная дрянь. Я никогда никого не любила. Даже себя. — Она поднимает голову и смотрит Ивану в глаза. В них вызов. — Для меня мужчины это всего лишь игрушки. Забавные, милые, но игрушки. Что делают с игрушкой, которая надоела? Ее зашвыривают куда-нибудь подальше. На антресоли памяти. Без сомнений и сожалений. Что ты так на меня смотришь? Да, я монстр. Мне нет никакого дела до страданий этих мальчиков. Но ты… ты… с тобой так нельзя. Ты не похож на игрушку. Я отталкивала тебя, чтобы не причинить тебе боль. Неужели это непонятно?
— Понятно, чего тут непонятного. Спасибо за заботу, я тронут. Чего ты сейчас-то от меня хочешь?
— Ты примешь предложение отца?
— Нет.
— Он тебя уволит.
— Ну и что?
— Ты его не знаешь, он страшный человек. Ты наживешь врага.
— Чего ты от меня хочешь? — повторил Иван свой вопрос.
— Женись на мне.
— Слушай, у меня от тебя голова кругом идет. То «ни за что замуж за него не выйду», то «женись на мне»! Извини, я уже опаздываю. Мне пора идти!
— Стой! Стой! — Ольга схватила Ивана за руку. — Спаси меня! Пожалуйста! Если ты откажешься, отец выдаст меня за своего водителя. Ты же знаешь этого мужлана, образование которого закончилось после того, как он научился писать палочки в прописи. Мне кажется, он даже читать не умеет. Отец сказал, что выдаст меня за него, если ты откажешься. А если я откажусь, то он выгонит меня из дома без копейки денег. Ванечка, миленький, спаси меня. Куда я пойду? Мне некуда пойти.
— Средневековье какое-то! Как я тебе помогу? У меня ведь девушка есть! Что я ей скажу? Спасу тебя и погублю ее? Если все богатые люди такие, как ты и твой папочка, то я предпочитаю быть бедным.
— О! Благородная бедность! Да успокойся ты. Это будет фиктивный брак. Не собираюсь я с тобой жить. Ну, если ты сам не захочешь, разумеется. Не переживай, в результате этой сделки сильно богатым ты не станешь. Так. Просто твоя жизнь станет несколько комфортнее. Я предлагаю сыграть по нашим правилам. Сейчас ты идешь к моему отцу, говоришь, что ты согласен, но с одним условием.
— И что за условие?
— Ты попросишь две квартиры. Не волнуйся, он даст. Одну как бы для нас с тобой, а вторую лично для тебя. Ты же должен будешь где-то жить после развода? Представляешь, как все замечательно устроится? Мне квартира и тебе квартира. Я, наконец, обретаю независимость от родителей, а ты собственную жилплощадь. Всем хорошо. А девушке своей объяснишь, что ты не изменяешь ей и не предаешь, а просто зарабатываешь на ваше семейное гнездышко. Ну как, ты согласен?
— Ну и стерва же ты!
— Нет, я просто женщина в отчаянной ситуации. Это борьба за выживание. У меня нет другого выхода. Понимаешь? Нет другого выхода! Ты мне поможешь?
— Да.
— Последний рыцарь современности. Герой нашего смутного времени. — Усмехнулась она. Даже в роли несчастного просителя не может избежать иронии, отметил про себя Иван. — А может, я не по расчету замуж выхожу, а по любви? — спросила она, очевидно, сама у себя, снова поцеловала Ивана и устремилась прочь.
— Стой! — Иван бросился ей вслед. — А отец ребенка? Может, логичнее за него замуж выйти?
Она обернулась.
— У него уже есть жена. И дети тоже есть. Он сказал, что не женится на мне даже ради ребенка. Он отказался от нас. Совсем.
— Что, и тебя вышвырнули, как надоевшую игрушку? — прошептал Иван и направился к своему офису.
Ирка отказалась понимать Ивана. Она больше не желала его видеть. Через месяц он женился на Ольге…
Четвертый этаж действительно был простоват. Просторная квартира-студия внутри огромного особняка. Белые стены с неоштукатуренной кирпичной кладкой, белая мебель лаконичных форм, белые ковры. Белизну разбавляли большие стеллажи, забитые цветными книжками, журналами, безделушками, и яркие картины на стенах. Одна из них, судя по стилю, настроению и колористике, явно принадлежала кисти Мари Арно. «Как все переплетено в этом мире», — подумал Иван. Здесь была и спальная зона, и гостиная, и кухня-столовая. Это была уютная, изысканная берлога убежденной холостячки. Мужчина в этом белом царстве выглядел чем-то инородным, неуместным.
— А вот здесь у тебя и в самом деле хорошо, — сказал Иван, осмотрев помещение.
— Мое убежище. Только здесь во всем доме я чувствую себя комфортно. Ну и еще в подвале — там у меня бассейн.
Угнездились в креслах из белой кожи. Снова наполнили бокалы коньяком. Выпили. Помолчали. Иван наблюдал за Ириной. Казалось, она что-то хочет сказать, но не может решиться. Внешне она была спокойна, но от нее шли потоки энергии, в которых клокотала обида и злость. Иван никогда не верил во всю эту ерунду вроде энергетики, но сейчас вдруг почувствовал, что его захлестывают потоки эмоций женщины, сидящей рядом. Они были вполне материальны. Он заерзал в кресле, ему вдруг стало страшно, он понял, что все эти сильные разрушительные чувства сейчас будут облечены в слова и обрушены на него, и тогда ему не сдобровать. Возмездие свершится. Теперь он это знал точно. Ирина оторвалась от созерцания абстрактного полотна на стене, выполненного в багряных, тревожных тонах, посмотрела Ивану в глаза. Ее улыбка… Наверное, так улыбнулась бы змея, перед тем, как ужалить человека, впрыснуть в него смертельную дозу яда. Сейчас начнется.
— Когда ты меня бросил, я была на втором месяце беременности. Как раз собиралась тебя обрадовать, а ты…
Яд начал разливаться по крови.
— И что стало с этим ребенком? — сдавленным голосом спросил Иван, хотя уже знал ответ.
— Его нет. Я сделала аборт. Родители не поняли бы меня. У меня не было другого выхода.
Яд сделал свое дело. Иван продолжал сидеть в белом кресле. Вроде бы даже дышал. Сердце билось. Но живым себя не чувствовал. А лучше бы и умер. Смерть избавила бы его от этой пытки. Получилось, что он спас чужого ребенка и убил своего… Море, солнце, белый песок, домик на берегу. Бежать. Бежать! К черту всех баб! От них одни неприятности. Одиночество. Уединение. Холст. Кисти. Краски. Бежать! От себя не сбежишь. От этих баб не сбежишь. И спустя почти двадцать лет прошлое тебя достанет. Схватит за горло своими бесплотными, но отчего-то могучими руками и удавит чувством вины, убьет веру в себя, раздавит тебя. Спас чужого и убил своего! Остроумнее шутки судьба не могла и придумать. Просто шедевр! Гениально! Браво! Жидкие аплодисменты жертвы.
Иван сидел, закрыв лицо руками, и раскачивался из стороны в сторону. Воплощение скорби. Ирина смотрела на него и улыбалась. Удовлетворенно. Наслаждалась видом поверженного врага. Этого мига она ждала долгие годы. Готовилась к нему. Она была сейчас не женщиной. Сейчас она была Эринеей, карающей богиней мести. Возмездие свершилось! Справедливость восторжествовала!
Иван слишком резко убрал руки от лица. Ирина не успела спрятать выражение ликующего злорадства. Иван его заметил.
— Мне жаль тебя, — сказал он печально, — мне очень тебя жаль.
— Ах, тебе, оказывается, меня жаль. Как трогательно! Раньше нужно было жалеть! — взвизгнула Ирина.
— Помолчи! — сказал Иван таким тоном, что она умолкла. — Осужденный имеет право на последнее слово. Да, мне тебя жаль. И тогда было жаль, а сейчас особенно. Ты сама разрушила свою жизнь. Сама. Да, я виноват перед тобой. Да, я совершил подлость. Но ты со своей гордыней… ты ведь могла бы мне сказать о ребенке, и все было бы по-другому. Та женитьба… она ведь для меня тогда действительно была всего лишь выгодной сделкой. С той женщиной меня ничего не связывало. Я думал о нас с тобой. Много ли шансов у нас было в начале девяностых обзавестись собственным жильем? Да их вообще не было. Ты прекрасно это знаешь — на хлеб не всегда деньги были. И вдруг — подарок судьбы. Мы с Ольгой и не планировали жить вместе, нам нужно было просто создать видимость семьи, пустить пыль в глаза ее родственникам, друзьям и партнерам отца. Я не собирался тебя бросать, мы бы продолжали встречаться. Но ты же отказалась меня выслушать! Ты не дала мне ничего объяснить! Ты не захотела меня понять! А ребенок… Решение о его жизни и смерти принимала ты. Я о нем даже не знал. Гордыня, злость, месть! Вот, что тобой двигало! Признай это, наконец! Мне жаль тебя! Ты могла бы переболеть, простить обиды и жить дальше. Но ты выбрала другой путь! Путь мести! Ты можешь винить в этом меня, и ты будешь права, но выбор у тебя был. Не я виноват, что ты выбрала этот путь! Ты отомстила. Да, ты жестоко отомстила. Теперь мой черед мучиться… Риша, я тебя очень прошу, поставь на этом точку в своей злобе. Обернись вокруг — мир многообразен, в нем тысячи возможностей. Ты же можешь быть счастлива! Прости меня, прости себя! Еще ведь не поздно, и в этом доме вместе с тобой может жить мужчина, может звучать детский смех. Забудь обо мне, живи дальше!
— Правда? Ты думаешь, меня кто-то сможет полюбить? — спросила Ирина со слезами в голосе. В это мгновение она не была ни преуспевающей женщиной, ни тем более Эринеей, она была снова неуверенной в себе девчонкой, чья красота и сила надежно запрятаны под очками и уродливой одеждой. На Ирине было безумно дорогое элегантное платье и бриллианты, но Иван видел мешковатые джинсы и застиранную клетчатую рубашку. Все та же глупая девчонка. Иван думал, что сейчас она начнет орать, осыпать его новыми обвинениями и проклятиями, а она… Непредсказуема, как всегда. — Вокруг меня десятки мужчин, но никто из них не считает меня женщиной, я для них мужик в юбке, понимаешь?
— Насколько я помню, у тебя была потрясающая способность преображаться. Может, самое время совершить очередную метаморфозу? Превратиться в женщину, прекрасную, тонкую, кокетливую, немного коварную, соблазнительную. Ты ведь красавица. Настоящая красавица.
— Правда?
— Правда. Честное пионерское. Тебе нравится кто-нибудь?
— Да, — вздохнула Ирина. — Архитектором у нас работает. На тебя чем-то похож. Талантливый очень. Умница. Только он намного младше меня.
— На сколько?
— На десять лет. — Ирина опять вздохнула.
— Да ладно, возраст не имеет значения. К тому же десять лет — это сущие пустяки. В общем, мой вердикт: я не думаю, что разница в возрасте в десять лет является преградой для твоего счастья. А ты-то ему нравишься?
— Мне кажется, да. — Ответила Ирина и зарделась. — Иван, но ты же понимаешь, что когда ты богат, никогда не знаешь, что в тебе нравится: ты сам или твои деньги? А я его начальник, к тому же. Самый главный босс. — Снова вздохнула.
— Да, есть такая проблема, — согласился Иван. — Но, Риша, если ты не попробуешь, ты ведь никогда этого и не узнаешь, что ему в тебе нравится — ты сама или твои капиталы. Не бойся. Ничего не бойся! Рискни! По-моему, у стен твоего замка уже должен появиться прекрасный принц и разбудить спящую красавицу.
— Да он уже явился. Ванька, спасибо! Мне нужно было надавать пощечин, чтобы я, наконец, очнулась от кошмара, в который превратила свою жизнь. Ты прав, прав… Нельзя жить местью. Да, я сама испортила себе жизнь. Я думала, что когда мы встретимся, я раздавлю тебя без сожалений. Ведь столько лет я считала тебя источником своих несчастий. А ты… Ты открыл мне глаза: я тоже порядочная сволочь. Не такая уж и жертва. Удобно было прикрываться этой маской, чтобы прятаться от жизни, чтобы оберегать себя от новых разочарований. Ванька, ты просил у меня прощения… я тебя прощаю. Прости и ты меня, если сможешь.
— Финальная сцена индийской мелодрамы! — рассмеялся Иван. — Все обнимаются, целуются и льют мутные, пьяные слезы очищения. Катарсис. Конечно, я тебя прощаю. Иди, обниму тебя, маленькая дурочка. Снова друзья?
— Снова друзья.
Когда Иван в такси возвращался домой, он молил Бога, в которого, в общем-то, не верил, даровать ему ночью несколько часов покоя и отдохновения, сна без сновидений, а главное — без Петра Вениаминовича. Иначе он просто не выдержит.
Глава тринадцатая
Петр Вениаминович появился через два дня. Иван проснулся от едкого запаха сигары и характерного покашливания.
«Как люди могут курить? Это же так отвратительно». — Подумал он и открыл глаза.
— Ах, Петр Вениаминович! Ну, конечно же, чье еще присутствие могут сопровождать такие дивные ароматы! Здрасьте-здрасьте! Давненько не виделись! И вы знаете, почему-то я не соскучился! Чем обязан? — уже вслух. Петр Вениаминович на сей раз был наряжен особенно экстравагантно. Пожалуй, Иван даже от этого причудливого персонажа не мог такого ожидать, хотя, впрочем, именно это одеяние лучше всего и отражало его сущность. На нем был настоящий клоунский костюм — фиолетово-оранжевый. Удивительно гармонировал с одеянием рыжий парик, и вопиюще диссонировала бабочка в крупную черно-белую полоску.
— Иван Сергеевич, вам не кажется, что вы как-то немотивированно агрессивны? Я бы даже осмелился заметить, что вы невежливы! Я удивлен! Нет, я удручен!
— Петр Вениаминович, с большой степенью вероятности могу утверждать, что если бы вы оставили меня в покое, я бы стал гораздо более дружелюбным и даже, возможно, был бы куда более приветливым, когда бы меня будили среди ночи! Хотя, разумеется, предпочел бы, чтобы этого не случалось.
— Иван Сергеевич, вынужден вас огорчить, но вам придется терпеть мое присутствие до тех пор, пока вы не исполните свою миссию. А пока, увы… Кстати, я в отличие от вас, искренне рад вас видеть. Я даже в некотором роде жаждал встречи с вами, дабы выразить свое восхищение вашей выдержкой, самообладанием и… умением манипулировать людьми. Довольно распространенное явление, надо признать, и малоприятное, если уж честно, особенно для тех, кем манипулируют. Но! Некоторым удается возвести манипуляции в ранг подлинного искусства. И ты, мальчик мой, из их числа! Ты виртуоз! Как ты разделал эту Ирину! Хотела над тобой поглумиться. Ха-ха! Кишка тонка! Не на того напала! Как ловко ты сначала снял с себя всяческую ответственность и вину, потом торжественно водрузил этот груз на несчастную женщину, а затем при помощи одной фразы и пары теплых взглядов вернул ее расположение и подарил ей надежду на счастливое будущее! Браво, мальчик мой! Бис! Я получил истинное наслаждение от этой сцены. Теперь я почитатель вашего актерского таланта.
— Петр Вениаминович, вы хоть понимаете, что я пережил? Как тошно мне было? Нет, ну вы подумайте, ты уверен, что ты помогаешь избавиться одной девушке от отца-тирана и становишься отцом ее ребенку, которого она зачала бог знает от кого, при этом думаешь, что ты обеспечиваешь жилплощадью себя и девушку, которую любишь… То есть, тебе кажется, что ты делаешь благородное дело, совершаешь сделку, чтобы все были довольны, а что в итоге? Все несчастны! Все! А собственный ребенок вообще так и не родился! И повинен в этом вроде как ты, собственной персоной. Какие манипуляции? Да мне жить в тот момент не хотелось! Да и сейчас… не испытываю сильного желания продолжить свое порочное существование.
— Иван Сергеевич, оцените мою деликатность! — Петр Вениаминович выпятил грудь, будто преисполняясь чувством гордости за выдающиеся качества своей натуры. — Я, догадываясь о вашем смутном душевном состоянии, не беспокоил вас две ночи, дабы дать вам возможность прийти в себя, восстановить душевное равновесие, так сказать, хотя по инструкции должен был явиться к вам тотчас же после выполнения моим подопечным очередного этапа миссии. Я, однако, на свой страх и риск счел возможным нарушить это предписание. Ибо! Ибо вы глубоко мне симпатичны.
— Петр Вениаминович, сейчас не самый подходящий случай издеваться надо мной. Я и без вас растерзан. Или вы хотите меня добить?
— Иван Сергеевич, отнюдь. Вы действительно мне симпатичны. — Лицо Петра Вениаминовича изобразило крайнюю степень приязни.
— И вы не считаете меня чудовищем, после всего, что я натворил?
— А что вы такого натворили? Ну, когда-то совершили ошибку. Ну, сделали неправильный выбор. А может, и правильный. Кто знает? И как вы верно заметили в беседе с вашей бывшей возлюбленной, решение о судьбе плода принимали не вы. Вы о нем попросту не знали. Так как же вы можете себя винить в том, что кто-то, воспользовавшись вашим неведением, и даже скажу больше — преступно утаив от вас информацию, все решил без вас? Вы, батенька, в той давней истории были пескариком, которого сначала одна барышня ловко поймала на крючок, потом другая, а вы, простите, как дурак, глотали наживки. Одна голой грудью заманила, другая — пренебрежением и мнимой беспомощностью. В общем, дурак дураком. Просто жертва женского коварства и своей наивности, а также и порядочности. Точнее, собственных представлений о порядочности. Впрочем, молодой человек, я не психотерапевт и не располагаю ни временем, ни желанием копаться в потемках вашей души. Хотя… За отдельную плату я готов, пожалуй. Однако должен вас предупредить, Иван Сергеевич, что мои услуги весьма не дешевы! — Петр Вениаминович расхохотался над собственной шуткой. — Уникальное все-таки я существо: и великодушное, и умное, и талантливое, и с чувством юмора у меня все в порядке. Меня удивляет только одно — а почему вы-то не смеетесь?
Иван посмотрел на собеседника уныло:
— Почему-то не смешно.
— Досадно, батенька, досадно. Я тут перед вами фиглярствую, как перед Царевной-Несмеяной, а вы не потрудитесь даже криво улыбнуться, дабы уважить старика.
Иван натянуто улыбнулся.
— Ну вот, уже значительно лучше. Теперь попридержите эту вашу косенькую улыбочку на лице, быть может, она приклеится и станет настоящей. Глядишь, и научитесь больше улыбаться, а там, глядишь, и жизненные трудности будете переносить легче, без этого вот надрыва, а дальше… Дальше, может, и проблем станет меньше. Так что, батенька, улыбайтесь, улыбайтесь! — Петр Вениаминович, подавая положительный пример, обнажил свои потемневшие от курения зубы. — Вот так, мальчик мой, вот так!
Иван, наконец, расхохотался и удивился, что после пережитого потрясения он еще может смеяться. Так что? Жизнь продолжается?
— Петр Вениаминович? Вы в цирке не работали? — спросил он, отсмеявшись.
— А это не вашего ума дело. — Ответил Петр Вениаминович сухо и надулся.
— А в комедиях не снимались?
— Нет. — Петр Вениаминович насупился еще сильнее.
Иван снова рассмеялся.
— Зря, вот уж зря… такой талант пропадает!
— Отчего же пропадает? Вам же он сейчас помог? Какая разница сколько у тебя зрителей, один или тысячи? Главное, что талант востребован. Я рад, что мои усилия не пропали даром, и вы все же развеселились. Ибо уныние не лучший помощник для достижения цели.
— О какой цели вы говорите?
— О самой благородной, Иван Сергеевич, о самой благородной — о спасении прекрасной дамы. А может, и не прекрасной, но, тем не менее, дамы.
— Петр Вениаминович, помилуйте, разве я уже не спас даму не далее как два дня назад ценой потери собственного душевного спокойствия и новых двух пудиков в грузе моей вины?
— Что ж, это закон жанра — в основе любого подвига лежит самопожертвование. Должен признать, что вы, отправляясь на встречу с Ириной Завьяловой, женщиной, которая стала для вас символом собственной подлости, проявили недюжинное мужество. Кроме того, вы проявили незаурядные дипломатические способности, совершив в глазах Ирины чудесное превращение из давнего врага в старинного друга. Да, не спорю, вы указали этой несчастной женщине, душу которой иссушила ненависть и жажда мести, путь к возрождению, но ведь вы ее не спасли! Не спасли! Спастись она может только сама!
— Боже, сколько пафоса!
— Думаю, амплуа драматического актера подходит мне больше, нежели комического, — произнес Петр Вениаминович самодовольно.
— Я бы так не сказал…
— Ну вот, перестарался, — расстроился Петр Вениаминович. — Вернул не только веселость, но и дерзость. И сам же стал жертвой этой пресловутой дерзости. Господи, как несправедлив этот мир! Вот она благодарность за мои бескорыстные усилия по психологической реанимации этого, пардон, засранца! — Петр Вениаминович выдержал мхатовскую паузу, затем продолжил. — Итак, шутки в сторону! Ваша миссия еще далека от завершения. А посему, так уж и быть, неделю тебе на восстановление сил и за дело!
— Я не хочу! Почему я должен вам подчиняться?
— Я мог бы и не отвечать, но я отвечу. Потому что… Иван Сергеевич, мы с вами это уже обсуждали, я не склонен тратить свое драгоценное время на повтор пройденного материала. Вы сами все прекрасно знаете. За сим позвольте откланяться. — Петр Вениаминович, как обычно, пресек вероятную дискуссию своим внезапным исчезновением.
Вечером тридцатого декабря Иван с женой и чемоданами, полными подарков, погрузились в спальный вагон поезда, идущего в маленький городок в средней полосе России. Впервые за год Иван ехал на родину. Впервые за последние лет пятнадцать он решил встретить Новый год с матерью. Ему бы, конечно, хотелось, как обычно, ограничиться телефонным звонком родительнице и денежным переводом, а самому податься куда-нибудь к морю. Оно представлялось панацеей. Лекарством от всех его бед. Местом, где обретет он покой, где не будут его терзать ни прошлое, ни будущее, а настоящее будет безмятежно, где будет спать он по двенадцать часов в сутки, и никакой Петр Вениаминович не посмеет сунуться в его сновидения.
Неделю назад Ивану позвонила мать и осторожно поинтересовалась, не планирует ли он приехать к ней на праздники? Собственно, этот вопрос она задавала каждый год и всегда получала мягкий, но отказ, снабженный вполне убедительными отговорками, оправданиями и извинениями, суть которых сводилась к простой мысли: «Мама, я вырос, и мне интереснее встречать Новый год в кругу своей новой семьи, со своими друзьями и не в захолустье, а в областном центре, в столице России, а потом и в других столицах мира». Мать горько вздыхала и говорила смиренно: «Жаль, конечно, я очень соскучилась, ну что ж, я все понимаю, сынок». Вот и сейчас мать осведомлялась о том, не соизволит ли сын навестить ее на новогодние праздники скорее церемониально, без какой бы то ни было надежды на то, что он действительно приедет. Иван и хотел отказаться и ничем не нарушать годами сложившуюся традицию, но вдруг представил мать, сидящую у темного окна в кресле-качалке, которое он ей подарил, такую несчастную и одинокую, вдруг услышал в ее спокойном голосе тоску и сдавленную мольбу, что неожиданно для себя произнес: «А может, и приедем. С женой посоветуюсь и перезвоню». Оставил себе узенький мосток для отступления, но жена не устроила истерики и не стала надувать губки и верещать, что хочет в Ниццу, например, а не в заснеженную дыру в сотнях километров от Москвы, она просто сказала: «Мне все равно куда, лишь бы с тобой». Иван даже тогда подумал, что странную он какую-то статусную красавицу себе в жены выбрал, нетипичную, непритязательную какую-то. Может, даже она его и любит? Чем черт не шутит?
Потом, конечно, Иван раскаялся в своем благородном порыве сыновних чувств. Городок своего детства он посещать не любил. Лишь чувство долга гнало его туда. Много раз он предлагал матери переехать в Москву, но она отказывалась наотрез: в городке были родственники, подруги и могилы любимых. Впрочем, после непродолжительных размышлений Иван пришел к выводу, что он поступил правильно, решив встретить Новый год в родительском доме. Он здраво рассудил, что мать — тоже женщина, которую он любит, и, возможно, именно она и нуждается в его помощи. По телефону мать никогда ни на что не жаловалась, ничего не просила, и лишь потом он узнавал, что она, например, болела. Так что уверенности в том, что у матери все в порядке, у Ивана не было. Не в ее правилах было взваливать на сына груз своих проблем. Он должен был о них догадываться. Вернее, не должен, но считал нужным. Сам регулярно посылал ей деньги, правда, не был уверен, что мать их тратит. Он подозревал, что деньги она копит, с тем, чтобы потом завещать ему же. Или внукам. Она все еще надеялась, что дождется внуков. Иван сам организовал ремонт: нашел толкового мужика из дальних родственников, он и занялся переустройством дома. Иван строго-настрого ему наказал, чтобы закупкой стройматериалов он занимался сам, а то мать, пожалуй, еще экономить начнет. В итоге в старый дом, наконец, пришла цивилизация — появился унитаз, ванна и даже душевая кабина, а еще спутниковое телевидение и Интернет. Собственно, Иван хотел купить матери новый дом, но она заявила, что переедет из своего несколько обветшалого родового гнезда только вперед ногами — на кладбище. Поэтому пришлось гнездо латать, увеличивать, украшать и делать его комфортным. Мать потом смеялась, что дом был так поражен случившимися с ним переменами, что вздыхал по ночам. Дом для нее был живым существом, а она была его душой, последней его хранительницей. Мать действительно не хотела ничего менять и действительно ничего не ждала от Ивана. Иногда он ловил себя на мысли, что все, что он делает для матери, на самом деле он делает для себя. Для собственного успокоения. Его бы совесть загрызла, если бы он, будучи состоятельным человеком, не помогал своей матери. Да, честно говоря, ему все равно временами бывало стыдно за себя: когда знакомые узнавали, что его мать обитает в маленьком уездном городке, они удивлялись, что он до сих пор не перевез ее куда-нибудь в приличное место, ему приходилось пускаться в объяснения, что он-то бы рад, да она — ни в какую. «Моя матушка так привязана к родным местам. Она такая упрямая. Ха-ха-ха. Но это очень живописный городок. Там так тихо, спокойно. И лес совсем рядом. Она у меня любит ягодки собирать, грибочки, знаете ли… Что вы смеетесь? Она обычные грибочки любит собирать: лисички, маслята, подберезовики. Какие там еще бывают? Не мухоморы, нет, ну что вы…».
За темным окном поезда пролетали огни. Колеса стучали. Иван сидел на диване спального вагона, попивал французское шампанское и соблазнял жену экзотическим предложением найти в сарае его старенькие, детские еще, санки и пойти кататься в овраг, который начинался всего в паре кварталов от дома. С ветерком. Безрассудно. Как третьеклассники.
— Это тебе не какой-нибудь там Куршавель! — кричал он. — Это ого-го! Настоящие дикие русские горки! Там есть знаешь какие? — жена отрицательно покачала головой. — Да они почти под прямым углом расположены. Садишься на санки и летишь вниз, я даже не знаю с какой скоростью, но по ощущениям со скоростью звука. Даже не уверен, хватит ли у меня сейчас смелости съехать с такой. А ты рискнешь?
— Может быть, — ответила жена и рассмеялась, — ты совсем мальчишка еще! Я так счастлива сейчас.
— И что же делает тебя такой счастливой?
— То, что ты рядом, дурачок. И ты никуда от меня не сбежишь еще несколько часов. Жаль, что мы не во Владивосток едем, — мечтательно сказала жена, — вместе целую неделю! Боже, какой бы это был дар судьбы!..
Когда мать открыла дверь, Иван сразу отметил, что она вроде как посвежела и помолодела.
— Мама, ты все хорошеешь! — воскликнул он. — Уж не жениха ли завела? А, мам?
Мать покраснела, как девчонка, которая накануне в первый раз целовалась с хулиганом из параллельного класса.
— Да ну тебя, — проворчала она, — вечно ты со своими шуточками. Проходите в дом, проходите, замерзните.
Иван уже был в этом доме после ремонта, но все равно ожидал увидеть тесную кухоньку с печкой, гостиную, увешанную коврами, со «стенкой», полной хрусталя, часами с боем, две маленькие спаленки. А тут вдруг загородный домик в представлении жителя мегаполиса: большое пространство, обитое вагонкой и выкрашенное в белый цвет, с темной мебелью, кожаными диванами и светлыми коврами. Вполне современный дизайн. Иван даже подумал, что, может, и зря он тут евроремонтов наворотил. Ощущение родного дома исчезло вместе с уродливой советской мебелью и линялыми обоями в цветочек. У окна стояла елка. Иван сразу ее узнал — это была старая-престарая искусственная елка, которую еще во времена Иванова детства каждый год доставали из чулана, собирали, потом доставали из картонной коробки игрушки и украшали. Для Ивана это был самый любимый момент Нового года. Каждый раз, развешивая игрушки, он придумывал про них разные истории и мечтал о чуде. Он и сам толком не знал, о каком. Может, чтобы пришел настоящий Дед Мороз, а не физрук в бороде и красном халате, и принес бы два мешка мандаринов и копченой колбасы. Или чтобы, наконец, настал мир во всем мире, и прекратилась гонка вооружений. Или чтобы добрый волшебник наколдовал в их доме настоящую ванну, как у друга Витьки в соседней пятиэтажке. Или чтобы в холодильнике вдруг появилось четыре, нет, пять банок сгущенки и двадцать пять стаканчиков мороженого, а под елкой на утро лежал новенький велосипед, коньки, клюшка, надувная лодка, спиннинг, а еще перочинный ножик, как у хулигана Сережки из их класса, а еще собрания сочинений Жюля Верна и Фенимора Купера. Иван даже удивился скромности своих былых желаний. Впрочем, сейчас самое главное его желание было еще скромнее — он хотел покоя. Оказалось, для него это состояние также недостижимо, как и мир во всем мире для человечества.
— Мам, ты еще не выкинула нашу старую елку?
— Собиралась, если честно, но не смогла. Рука не поднялась.
— Вот и хорошо, что не поднялась. О! Даже мой любимый медвежонок сохранился? — Иван разглядел на ветке стеклянного медведя бронзового цвета. — Ух, ты мой маленький мишечка, уцелел. Мама, мама! А что ты мне подаришь? — запищал Иван тонким голоском. — Все, кажется, я впадаю в детство, — констатировал он уже своим обычным голосом.
Мать и жена смеялись.
Иван оторвался от елки и начал осматриваться. На стенах появились картины, писанные маслом, чем-то смутно знакомые, акварели и еще несколько аппликаций из трав и цветов. Все в хороших рамах.
— Мам, а это у тебя откуда? — спросил Иван, кивнув на стену.
Мать почему-то снова покраснела.
— Так, молодежь, умываться и за стол. За завтраком расскажу.
На завтрак было шампанское и икра, которые Иван привез с собой, и гренки, которые нажарила мать, потому что Иван так любил их в детстве. Он давно изменил этому своему пристрастию, но мать всегда их готовила, когда он возвращался домой. То ли не хотела замечать, что он давно вырос, и то, что было близко ему тогда, сейчас чужое и уже ненужное, то ли она своими гренками и своими разносолами пыталась вернуть ушедшее время, когда сын был мал, а она сама молодой. Все тогда было еще впереди, а сейчас? Сейчас?
— Мама, ну расскажи, откуда у тебя взялись все эти картины?
— Те, что похуже, похожие на детские рисунки, это мои, — она снова покраснела, — гербарии тоже мои, а вот тот натюрморт с белыми грибами и карасиками, а еще вон тот зимний пейзаж это… это мне подарили.
— Ты начала рисовать? — Иван вскочил и принялся рассматривать полотна, рисунки и аппликации. — Мама! Но это же чудесно! Это талантливо! Вот от этих кошек я вообще в восторге! Мам, я в первый раз вижу, чтобы кошки на полотне выглядели не пошло. Какие они у тебя! Настоящие дворовые бандиты! Ха! А у черного даже ухо оборвано. Хорош, хорош! — он вернулся за стол.
— Да ладно тебе, это так, ерунда, баловство, — отмахнулась мать.
— Нет, мама, это вовсе не ерунда. Но откуда? Откуда? Ты же никогда этим не занималась. Расскажи, что заставило тебя взяться за кисти и краски?
Мать вдруг погрустнела.
— Да не вдруг это все, не вдруг… Так уж вот получается, что о самых близких людях мы не так много и знаем. Я рисовала в детстве. Очень любила. А потом это все забылось. Институт, учеба, работа, семья. Не до красок было. Сам знаешь, сколько времени занимали домашние дела. Всех накормить, напоить, убрать, прибрать, помыть, постирать, погладить. Вот в заботах жизнь-то и прошла. Сначала ты уехал, потом бабушка умерла, потом отец, и осталась я одна в пустом доме. И тут оказалось, что я жила для других, а для себя я жить не умею. Оказалось, что я не знаю, что делать с собой. Еще выяснилось, что и заботиться я могу только о других, а о себе — нет. Я целыми днями сидела перед телевизором, не убиралась, посуду мыла редко. Деградировала. Я теперь переживала за героев сериалов. Жила их жизнью, потому что своя-то вроде бы и закончилась со смертью твоего отца. У меня впервые появилось время, чтобы подумать о том, кто я, зачем я? И тут знаешь, что выяснилось — что до старости дожила, а кто я, не знаю. Бывшая учительница, вдова, мать повзрослевшего сына, который больше во мне и не нуждается. Все как-то в прошлом.
— Мам, ну что ты, — ввернул Иван, — ты мне очень нужна.
— Именно поэтому ты мне и звонишь так часто, и приезжаешь раз в год. Хотя мне грех жаловаться, к некоторым совсем не приезжают. — Вздохнула мать.
— Ну, мама… ну ты же понимаешь…
— Я все понимаю, сынок. Я все понимаю. У меня замечательный сын. Все мои оставшиеся в живых подружки мне завидуют. И все это, — она махнула рукой в сторону стен, увешанных картинами, — тоже благодаря тебе. — Иван посмотрел на нее удивленно. — Да, благодаря тебе. На чем я остановилась? Ах да, я не знала, кто я. Какая-то женщина в прошлом. Даже не с прошлым, а именно в прошлом. Было такое ощущение, что потеряв всех близких, я потеряла и себя. Как будто каждый из них забрал с собой кусок меня, и вот осталась лишь оболочка — несчастная одинокая старуха, внутри которой пустота. С такими мыслями я и существовала. Заполняла эту пустоту телевизором. А ты… ты предложил сделать ремонт. Вот с этого все и началось. Мне, конечно, все это не нравилось — грязь, пыль, шум, посторонние люди в доме. Никаких условий для нормальной жизни. Но однажды, когда обед готовила для строителей, я поняла, что снова живу. Что у меня снова появились желания. Мне хотелось, чтобы этот бардак поскорее закончился. Еще мне теперь хотелось, чтобы мой дом впервые за десятилетия своего существования стал красивым и удобным. Я сама выбирала обои, краски, плитки. А потом уже настал черед мебели, занавесок, светильников. Это было так… волшебно! Создавать красоту. Я впервые в жизни с удовольствием тратила деньги, не думая о том, что я слишком расточительна, что если я куплю это, то мне не хватит на то. Ты же помнишь, как мы жили — каждую копейку считали. И вот ремонт был закончен, я смотрела на голые стены, и мне хотелось их как-нибудь украсить. И, знаешь, я придумала! Однажды я пошла клубнику собирать на луг… Собираю я ягоды и кроме них ничего не вижу, а потом голову-то подняла, а тут и цветы, и травы. Как пелена с глаз упала: смотришь на что-то одно, зацикливаешься на чем-то одном, света белого вокруг не видишь… А иногда достаточно просто поднять голову и посмотреть вокруг — мир-то, он огромный, в нем столько всего есть… Трава вот, цветы. Вспомнила я, как гербарии нас на каникулах в школе заставляли делать, и подумала, что из этих-то растений такие композиции можно сотворить. И компьютер… Позвала внука Марь Петровны, соседки, он меня пользоваться научил, в Интернет заходить. Гордый был — старую бабку чему-то учит, да еще и деньги зарабатывает. Платила я ему за уроки-то. Копейки, а малец и рад. Мне подруги говорят: «Куда ты лезешь? В Интернет она подалась! Не смеши людей! Сиди уж смирно, да век свой доживай». А мне интересно. Я научилась. Нашла, как растения правильно сушить, чтобы они цвет не теряли. Все лето собирала, а осенью начала композиции составлять. Красиво ведь получилось?
— Красиво, — подтвердил Иван.
— Всем знакомым еще раздарила. Они рады были, а мне приятно — польза какая-то от меня. А еще мне краски твои старые попались, школьные еще, когда я коробки с вещами разбирала. После ремонта все недосуг было. А тут смотрю: краски, кисточки. Дай, думаю, попробую — рисовала же в детстве. Попробовать-то попробовала, да не получается ничего. А загорелась уже, хочется рисовать, и чтоб красиво было. И тут я вспомнила про твоего преподавателя из художественной школы Александра Васильевича. — Тут мать снова покраснела, снова глубоко вздохнула и продолжила, — я номер его в телефонной книге нашла и позвонила. Он, конечно, был удивлен, что баба на старости лет обучаться живописи надумала, но согласился. Даже от денег сначала отказывался. Интересно ему было, что из этого выйдет, да и он тоже немолодой ведь уже — мой ровесник, под семьдесят ему. Да одинокий — овдовел тоже недавно. Скучно ему. Но и заплатила-то я ему всего за два месяца, — мать покраснела еще гуще, помолчала, — в общем, молодежь, Новый год он с нами будет встречать. Вы ведь не против?
Иван от изумления поперхнулся шампанским. Когда откашлялся, восхитился:
— Ну ты, мать, даешь! Так вы что? Как бы это сказать?… Вместе? — она кивнула. — Ну, мама! Ну, мама! Экая ты шалунья! Глядя на тебя и ста… то есть, извини, взрослеть не страшно. Конечно, пусть приходит, я тоже буду рад с ним снова встретиться. Только вот… я ведь не оправдал его ожиданий, боюсь, он будет разочарован.
— Ваня, твоя жизнь — это твоя жизнь. И ты проживаешь ее так, как хочешь ты, — сказала мать очень серьезно. — И отвечаешь за нее только перед собой. Мне так человек один сказал, он, правда, наверное, и не существует вовсе. Он во сне мне явился. — Иван напрягся. — Как раз тогда, когда ты мне ремонт предлагал делать, а я отказывалась, помнишь? — Иван кивнул. — А он мне и говорит, мол, хлопоты — это проявление жизни, пусть и несколько обременительное, а унылое прозябание перед телеэкраном — это почти уже смерть. А к тому же, ведь никто не знает, чем могут обернуться хлопоты и ремонт в том числе, может, это начало чего-то нового? Нового этапа в жизни. И ведь как в воду глядел. А я, дура старая, спорила. Говорила: какой новый этап? О кладбище думать пора… Длинный у нас разговор был во сне-то, а я до сих пор каждое слово помню, будто наяву это было. Ой, что-то разболталась я, вот ведь что алкоголь-то с людьми делает, трезвая о таких вещах и говорить бы не стала. Это кто ж поверит-то: во сне является человек и наставляет на путь истинный.
— А что ж не верить-то? — осторожно возразил Иван. — Может, это просто вещий сон был?
— Может, и так, только мне иногда кажется, что не во сне все это было.
— Мам, а этот человек сказал, как его зовут?
— Да. Петр Вениаминович. Странный такой. Был в фуфайке, галошах и в бабочке. — Мать рассмеялась. — В красной такой, как у конферансье. Хотя у них черные обычно бывают.
Иван уронил бокал. Он звонко разбился о сероватую напольную плитку, имитирующую старые каменные плиты.
«Кто же такой этот чертов Петр Вениаминович? — размышлял Иван, когда после завтрака они с женой прилегли отдохнуть в гостевой комнате: мать завела и такую в тайной надежде, что сын будет приезжать чаще, — только из моих знакомых он снился Машке, маме и мне. Это, конечно же, выглядит довольно странным, но убеждает, что Петр Вениаминович существует, не вполне понятно в какой реальности, но он определенно существует. Итак, Машке он явился, когда она вела распутный образ жизни, и заставил искать свое предназначение. Она думала, что главное в ее жизни — это самореализация, творчество, а оказалось, что она, в общем-то, обыкновенная баба, и как для любой бабы ее главная миссия в этой жизни все же рожать детей и быть хранительницей очага. Машка, конечно, этого не ожидала при своих-то талантах, амбициях и честолюбии, но материнство в итоге приняла с радостью и сейчас счастлива, что у нее есть дочь. То есть, получается, что наш добрый волшебник ей помог. Теперь мать. Ее Петр Вениаминович, так сказать, посетил, когда ей начало казаться, что ей осталось только доживать свой век и ничего хорошего с ней уже не случится. Она тогда стояла перед выбором начинать или не начинать ремонт, а в глобальном смысле — соглашаться ли на перемены или продолжать доживать. Менять ей, безусловно, ничего не хотелось, поскольку в таком возрасте перемены воспринимаются исключительно как ненужный стресс, к тому же она не верила, что перемены могут быть к лучшему. Ибо она чувствовала себя одинокой, потерянной и никому не нужной. Она и сама на себя, судя по всему, махнула рукой. А я-то ведь, дурак, ничего и не знал. Не догадывался даже. Да, прав был Петр Вениаминович, не до кого мне не было дела. И ремонт этот я затеял исключительно для успокоения собственной совести, а не из сострадания к матери. Так вот, Петр Вениаминович является к матери и убеждает ее, что ремонт может стать началом нового этапа в ее жизни, и оказывается прав. То есть, получается, что и ей он помог. А почему тогда он так глумится надо мной? Почему он гоняет меня по моему прошлому и поганит мне настоящее? Чтобы тоже мне помочь? Ну, так я, вроде, в помощи не нуждался. У меня все в порядке было до его появления. Он хочет, чтобы я спас какую-то близкую мне женщину? Но, ведь если следовать логике, если бы эта женщина, нуждалась в неотложной помощи, то он должен был избрать какой-нибудь более эффективный и быстрый способ. Например, явиться к ней лично. Значит, ему нужен я. Только непонятно, зачем? Или он по каким-то причинам не может придти непосредственно к ней. Так, так, так. Что объединяет меня, мать и Машку? Я? Одна моя мать, вторая — моя первая любовь. Но к Ирине-то он не приходил, а она тоже моя бывшая любовь. Или она просто об этом не упоминала? Бог его знает. Что еще? Все мы увлечены или увлекались живописью. Мы, все трое, родились в этом городе. И что из этого следует? Что Петр Вениаминович покровительствует или же преследует только жителей этого города, причем тех, кто умеет и любит рисовать? Слишком мало информации, чтобы делать хоть какие-то выводы. Слишком мало. И кто же он? Он не может быть плодом моего воображения, потому что как минимум еще двое его тоже видели. Он умеет читать мысли и, кажется, знает о человеке все. Кто он? Ангел? Демон? Призрак-извращенец, которому доставляет удовольствие спасать людей, предварительно подвергнув изощренным психологическим пыткам? Или он какое-нибудь мутировавшее божество сновидений? Морфей какой-нибудь? Вообще-то если мерить его по людским меркам, то он похож на отставного актера-неудачника. Или конферансье, как верно заметила моя матушка. Допустим, в прошлом это существо действительно было человеком, а после смерти, предположим, он в силу каких-то обстоятельств получил способность влезать в сны к людям. О боже, о чем я думаю? Какая чушь! Какая чушь! Господи, еще пару месяцев назад мир был таким простым и понятным, а сейчас я всерьез размышляю о каких-то потусторонних силах. Безумие. Кто-нибудь, дайте мне машину времени и верните меня назад и сделайте так, чтобы никогда не являлись ко мне во снах никакие Петры Вениаминовичи. Кто-нибудь, верните мне мой сугубо материалистичный мир! Мне лучше в нем».
Всем этим размышлениям Иван предавался, лежа в кровати, с закрытыми глазами — вроде бы пытался заснуть. Когда он открыл глаза, его взгляд уперся в картину, висевшую над кроватью. Это был какой-то хаотичный, яркий калейдоскоп, составленный из домиков, цветов, кошек, собак, людей, колодцев, писанных в примитивистской, лубочной манере. Полотно, скорее всего, принадлежало кисти матери, и оно было безумно талантливым. На нем был изображен его родной городок — пестрый, незатейливый, с его простыми радостями, с его чуть наивной провинциальной жизнью. Иван даже подумал, что надо бы выпросить эту картину у матери в подарок, уж очень она хороша. Глядя на нее, он и думать забыл о Петре Вениаминовиче и своей тоске по прошлому понятному миру, как вдруг увидел на полотне надпись, вьющуюся среди домишек: «Разуйте глаза: мир интереснее, чем кажется! Намного интереснее!».
«Одно из двух, — подумал Иван, — либо досточтимый Петр Вениаминович никакой не Морфей, а истинный дьявол, либо у меня паранойя. И второй вариант кажется мне более привлекательным. Чертовщина, чертовщина! Но не могу не согласиться — мир интереснее, чем кажется».
Иван никогда не видел мать такой элегантной. Он отметил, что, несмотря на возраст, она сохранила достаточно стройную фигуру. Мать надела очень простое и очень дорогое темно-синее платье с белой каймой и белыми пуговицами, которое подарила ей Иванова жена. На шее — жемчужное ожерелье, которое подарил ей сын в один из приездов. А на ногах — старые белые туфли, которые мать надевала еще в молодости в особо торжественных случаях. Иван поморщился, глядя на эти туфли — они идеально подходили к ее наряду, который весьма изысканно намекал на моду шестидесятых, но они были старые. Старые! На Ивана навалилось чувство вины. Его мать красивая женщина, она и теперь еще красива, а уж в молодости была… Впрочем, Иван в детстве не замечал красоты матери — у нее всегда был усталый вид, на ней был замызганный халат или какие-то унылые, отвратительные платья и юбки. Государство очень успешно крало у женщин их красоту и индивидуальность, наряжая своих гражданок в однообразный, бездарный ширпотреб. Сейчас Иван периодически покупал для матери наряды, но вот как покупать ей хорошую обувь? В Москве не купишь без примерки, а здесь приличной не найдешь. Надо бы чаще выманивать ее в гости.
— О! Какая прелесть! — вдруг восхитилась жена, — винтажные туфли! Я давно о таких мечтаю, да все не могу найти. Вам повезло, что они у вас есть. Это тренд сезона.
Иван посмотрел на нее с благодарностью.
Александр Васильевич был зван к десяти часам вечера, ровно в десять он и явился, несколько смущенный, при себе имел два больших целлофановых мешка подарков. В одном было две бутылки советского шампанского, еще бутылочка самодельного винца из черноплодной рябины, баночка маринованных опят и конфеты. Этот пакет он церемонно передал Ивану, со словами, что бесконечно рад снова встретить своего лучшего ученика, а так же его очаровательную супругу, а это его скромный вклад в новогоднее застолье. А вот другой пакет, где, судя по очертаниям, была какая-то большая папка, он суетливо задвинул в угол.
Александр Васильевич постарел, будто стал ниже ростом, Иван, возможно, и не узнал бы его, если бы просто встретил на улице, но был он бодр, опрятен, и костюм на нем был не совсем старый, а галстук, так тот вообще новый, хоть и дешевый. Александр Васильевич всегда был щеголем, насколько это было возможно в те времена да при его зарплате.
Расселись за столом. Две пары: пожилая и молодая. Впрочем, Иван был уже не так уж и молод, и, глядя на своего учителя живописи, он как-то особенно сильно это ощущал. А тут еще и очередной год жизни должен был вот-вот закончиться и начаться новый. Как водится, выпили за старый год. Поговорили о жизни в столице, о житье-бытье в провинции. О ценах, которые постоянно растут и никак за ними не угнаться, и никакие повышения пенсии не спасают. О погоде, о том, что зимы нынче не те, настоящие морозы случаются редко, а так все слякоть, странно, что этой зимой как-то подозрительно холодно, прямо как в старые добрые времена, о которых молоденькая Иванова жена, наверное, и знать не знает. Незаметно за разговорами стрелки часов подползли к двенадцати. По телевизору начал президент выступать, а Иван торопливо открывать очередную бутылку шампанского, на сей раз ту, что привез с собой, настоящего, французского. Разлил по бокалам. Куранты начали бить полночь, все чокнулись, стали торопливо пить шампанское и загадывать желания. Иван загадал спасти, в конце концов, эту женщину и снова зажить спокойно, а еще купить-таки домик на Лазурном берегу. Его жена загадала, чтобы в этом году у них с мужем родился ребенок. Его мать загадала, чтобы все близкие были живы и здоровы. Его учитель загадал, чтобы этот год не стал последним в его жизни, а еще, чтобы эта чудесная женщина в темно-синем платье, стоящая рядом, согласилась бы жить с ним постоянно, потому что стар он уже по свиданиям-то бегать. А потом Иван с женой метнулись к своим чемоданам, мать — в спальню, а Александр Васильевич — в угол, за пакетом. Начался обмен подарками. Жена Ивана получила от него очередные серьги с бриллиантами, он сам от нее — запонки и галстук. Матери Иван с женой надарили ворох одежды и искренне радовались ее молодому блеску в глазах, восторгу и веселому смеху. Александру Васильевичу вручили бутылку дорогого коньяка, поскольку заранее подарок ему не приготовили, ибо они и не подозревали, что этот человек снова войдет в их жизнь. Мать вынесла большое полотно, похожее на то, что висело в спальне: те же нарядные домики, цветы, кошки… Иван тут же кинулся искать надписи — может, и в этой картине присутствует какое-то послание от Петра Вениаминовича, и ведь нашел: «Кто ищет, тот всегда найдет», — гласила надпись. «Как-то не слишком затейливо», — разочарованно подумал Иван. Жена тут же восторженно объявила, что эта картина будет просто чудесно смотреться над столом на кухне. Мать, смущаясь, передала Александру Васильевичу красиво упакованную коробку. Учитель рисования тут же ее развернул и обнаружил в ней парфюм, галстук и еще кисти. Радостно улыбнулся, потянулся губами к щеке матери, на полпути осекся, покраснел и сдержанно произнес: «Спасибо, Наденька, мне уже сто лет не делали таких замечательных подарков». Все с любопытством ждали, что же принес он, что в этой таинственной папке? А он с хитрой улыбкой выложил пакет на стол, предварительно расчистив пространство от бокалов и тарелок, не спеша достал папку.
— Вы знаете, что это? — спросил он значительно. Все отрицательно покачали головой. — А это работы моего лучшего ученика. Он был самым талантливым из учеников за все время моего преподавания в художественной школе нашего города. Это был мальчик, которому я иногда завидовал, потому что я сам не обладал и одной десятой того дара, который был дан ему. Вы знаете, как зовут этого ученика? — все опять отрицательно замотали головами, хотя Иван-то уже начал догадываться. — А я уверен, что знаете, поскольку он сейчас сидит среди нас. — Долгая пауза. — Это Иван Лёвочкин. — Александр Васильевич раскрыл папку. — Все твои рисунки, Ваня, я хранил. Вот они. Теперь эти детские сокровища снова твои.
Иван осторожно взял папку. Начал смотреть рисунки. Там были бригантины в бушующем море. Замки на неприступных утесах. Рыцари. Горящие танки и солдаты, идущие в атаку. Машка, сидящая за мольбертом. Церквушки. Улочки. Грибы в корзинке. Зеленые яблоки на красной тряпке — Иван сразу вспомнил, как они рисовали этот натюрморт. Нос и глаз Давида, голова Давида полностью. Рябина на снегу, очень похожая на ту, что он купил у известной художницы Мари Арно, то есть у Машки. Это был детский мир Ивана, полный фантазий, мечтаний, творчества и любви. Иван думал, что этого мира больше не существует, он утрачен навсегда. Оставлен и забыт. Разбит о превратности судьбы, коварство и ветреность юной возлюбленной Ивана. Растоптан гонкой за деньгами, статусом, материальными благами. Но оказалось, что этот детский Иванов мир все еще существует, бережно сохранен старым учителем рисования, который ценил дарование Ивана гораздо больше, чем он сам. Да что уж там, Иван его вообще не ценил, он отбросил его как детскую забаву, как ненужное, бесполезное увлечение. Отбросил вместе со своей любовью к светловолосой и светлоглазой девочке — почему-то девочка эта и живопись слились для него в одно, и из-за предательства девочки он попрощался и с ней, и со своим талантом. Сейчас почти сорокалетний Иван разглядывал свои рисунки и впервые жалел, что так легкомысленно забросил то, что, возможно, было его призванием. В его воображении теснились картинки: вот он, Иван, в мастерской за мольбертом, в рубахе, перепачканной красками, и пишет портрет белокурой обнаженной красавицы. Беззаботный, легкий, знаменитый, обласканный вниманием женщин, которые не ждут от него ничего, кроме мгновений радости и счастья. Они внезапно появляются в его жизни и также внезапно исчезают навсегда, не оставляя после себя ничего, кроме терпкого вкуса наслаждения. И даже имен их память не хранит. И не нужно ему идти за тридевять земель в тридесятое царство, стаптывая тридцать пар железных башмаков в поисках Василисы Прекрасной, которую нужно спасти. Иван вздохнул. Картинка показалась привлекательной, и тут же возникла другая: ночь, полная луна, кладбище, кресты. Здесь Иван зарывает свой талант. Ожесточенно орудует лопатой. Яма глубока — таланту уже не выбраться.
— Милый, а почему ты больше не рисуешь? У тебя так здорово получалось. — Голос жены вернул Ивана с кладбища талантов за новогодний стол в родительском доме. И глаза матери, и глаза Александра Васильевича, казалось, спрашивали о том же.
— Мммм…, — Иван не знал, что сказать — был способен лишь на мычание, но тут же собрался, — это детство, всего лишь детское увлечение. Я не хочу больше рисовать, это не мое. — Он принужденно рассмеялся. — Я теперь взрослый и творчество для меня — это умение зарабатывать деньги.
— Ваня, а зачем тебе много денег? — спросил Александр Васильевич, хитро прищурившись.
Иван задумался.
— Странный вопрос. Все хотят много денег.
— Как ни странно, не все. Я, например, старый дурак, не хочу. Деньги мне, разумеется, необходимы, куда же без них, а вот много денег мне, пожалуй, не нужно. Ни к чему это. Я и так вполне счастлив и доволен жизнью. Пусть живу я в маленьком городке, но у меня есть свой дом, у меня двое сыновей, трое внуков, я всю жизнь занимался своим делом — делом, которое мне нравится, которое мне по душе, а сейчас я встретил прекрасную женщину, с которой, надеюсь, проведу остаток своих дней. В общем, мне не нужно много денег. Зачем они тебе? Лично тебе?
— Деньги — это свобода, — промямлил Иван. — Это свобода выбора. Я могу выбирать, где жить, куда ехать, что есть. Только с деньгами я могу позволить себе выбирать. Деньги — это возможность вести такое вот, знаете, очень комфортное существование: жить в большом красивом доме, в красивом месте, есть то, что захочется, не думая о цене, ездить куда угодно. А потом, знаете, это безумно приятно — осознавать, что можешь себе позволить все, что захочешь, если точно решишь, что тебе это нужно. Вы вот в маленьком городке живете, потому что вам хочется или потому что не можете себе позволить жить, например, где-нибудь в Швейцарии? Там ведь объективно лучше.
— Да, наверное, ты прав. Там, наверное, лучше, но мне и здесь хорошо. Мне здесь очень хорошо. Тут я дома. А потом… Для современного человека это парадоксально звучит, но когда не с чем сравнивать или же ты находишь в себе силы не сравнивать — живется намного проще. Сравнение — дело неблагодарное: всегда найдется кто-то умнее, талантливее, богаче, чем ты. И получится, что ты никто, ты неудачник. А ведь это не так. Человек ценен не количеством заработанных денег, а своими поступками, делами. Хотя даже не так, человек ценен просто так, сам по себе. Вот твоя мать… Да мне все равно, бедная она или богатая, грешила она или нет, создала ли что-то великое или ее жизненный путь состоял из каждодневных хлопот, из готовки, стирки, из мытья посуды, которая тут же снова становится грязной. Вроде бы это бессмысленно, но этот вот ежедневный труд, эта забота и есть проявление любви к своей семье, к своему дому. И это вот важно, что она умеет дарить любовь, что она добрая, великодушная, мудрая… А Швейцария… Швейцария — это хорошо, но вот кому-то в Испании больше нравится. Или где у вас там сейчас, состоятельных людей, модно отдыхать? На Мальдивах? Понимаешь, твои аргументы кажутся мне убедительными, но не в достаточной степени. Чувствуешь ли ты себя счастливым и довольным жизнью, имея деньги, имея выбор? А может быть, этот выбор вообще не более, чем иллюзия? Так ли уж ты свободен со своими деньгами? Ты ведь тоже не сможешь жить в той же Швейцарии, потому что там ты не сможешь зарабатывать свои деньги. Они привязывают тебя к Москве. Получается так, что это единственный город, где ты можешь богатеть и дальше. Человек становится заложником этой гонки за деньгами, он уже не может соскочить. Он уже не может снизить планку. Он боится все потерять. Причем здесь свобода? Свободен тот, кому терять нечего и некого. Свободен бомж, свободен нищий художник. Иногда, впрочем, я склоняюсь к мысли, что свободы вообще не существует. Ее придумали люди, чтобы к чему-то стремиться.
— Весьма вероятно, — ответил Иван задумчиво и отпил большой глоток шампанского. — Весьма вероятно. Но уже поздно что-то менять. Александр Васильевич, вы сами сказали, что соскочить сложно, уже невозможно сойти с дистанции… Я не хочу быть ни бомжом, ни нищим художником. К тому же мой талант…Мой талант зарыт и предан забвению. Его нет! Его больше нет! Я от него отрекся! И вы забудьте! — Иван совсем помрачнел. Не о таком празднике он мечтал.
— А вот это что, не талант? — спросила жена, продолжая рассматривать рисунки. — Это талант.
— Ради бога, оставьте меня в покое, — взмолился Иван. Он нервно откупорил еще одну бутылку шампанского. Пробка выстрелила в потолок, вино растеклось по столу. Жена торопливо убрала рисунки. Мать бросилась за тряпкой. Иван разлил остатки шампанского по бокалам, выпил. — Милая, — обратился он к жене, — ну представь, что я сейчас вовсе не состоятельный мужчина, который обеспечивает тебе беззаботную жизнь, а свободный художник. Нищий художник. Да, именно так — талантливый нищий художник. Нужен я был бы тебе? Да ты бы даже не заметила моего существования. Ты готова быть музой непризнанного гения? Это ведь не самая простая судьба. Ты готова?
— Готова! Да, я готова! — выкрикнула жена. — Может, тогда я чувствовала бы, что хоть чуть-чуть нужна тебе!
— А сейчас ты мне разве не нужна? — Иван удивился.
— А что, нужна? — удивилась жена. — Зачем?
— Нужна. Ты мне очень нужна.
Глаза жены заблистали слезами.
— Я предлагаю выпить за любовь и счастье, — предложила мать, — а потом отправиться спать, пока мы тут все не перессорились и не перебили мою парадную посуду. Мы же не хотим потом ссориться весь год. Да и поздно уже. Всем спать!
Глава четырнадцатая
Утром Ивана разбудил почти забытый запах оладушек. Так пахло в этом доме во времена Иванова детства по воскресеньям. Это были дивные завтраки — оладушки со сметаной, медом или клубничным вареньем. Тогда Ивану казалось, что на свете нет ничего вкуснее этих вот маминых оладушек и варенья из клубники с собственного огорода. Иван вдруг почувствовал себя беспечным ребенком. Он представил, как сейчас встанет, отправится на кухню, от души поест оладушек, не задумываясь о том, что может набрать пару лишних килограммов (Иван, как истинный метросексуал следил за своим весом), а потом тепло оденется, возьмет старые облезлые лыжи или санки и отправится кататься с горок. И испытает и радость, и восторг, и легкость! И он замерзнет, и он промокнет, но будет счастлив. Абсолютно счастлив! После первого завтрака в новом году, который по времени вполне совпадал с обедом, Иван совершил поступок, противоречащий его возрасту и социальному статусу: он действительно направился в сарай, пока не подвергшийся реконструкции, на поиски санок. Они были там же, где и всегда — висели на огромном ржавом гвозде на стене возле двери. Краска на дереве облезла, полозья заржавели, но это Ивана не смутило — это были те самые санки, из его детства, он катался на них в овраге недалеко от дома еще в те времена, когда и помыслить не мог, что когда-нибудь сможет позволить себе кататься на самых лучших горнолыжных курортах мира. Сейчас он вроде бы был рафинированным солидным господином, изнеженным деньгами и комфортом, но в нем вдруг проснулся бесшабашный мальчишка, склонный к риску и авантюрам. Он ворвался в дом с криком, обращенным к жене: «Одевайся теплее! Мы идем кататься на санках!».
Он усадил жену на санки и довез ее до оврага. Она верещала и визжала, как маленькая глупенькая девчонка. Несколько раз он специально сваливал ее на дорогу. Она возмущалась и беспокоилась о состоянии своей дорогущей шубки, а Иван отмахивался и легкомысленно заявлял, что шубка — это полная фигня, что шубку можно новую купить, это не проблема, а вот ощущения! Ощущения! Когда ты, дурочка, будешь еще ехать на санках по малюсенькому городишке, а везти тебя будет такой роскошный мужчина. Наслаждайся, дурочка! Когда еще ты будешь так весела и румяна!
Иван летел с крутой горы, и брызги снега обжигали его лицо, сердце замирало от страха и острого, пронзительного счастья…
Как в детстве, он вернулся домой уже затемно, весь извалянный в снегу, жена обметала его куртку веником, а потом он обметал ее шубу и отдирал с нее снежные комья, а потом мать поила их глинтвейном, чтобы они согрелись, и кормила жареной курицей, картофельным пюре, квашеной капустой и солеными груздями. Ощущение счастья никак не желало покидать Ивана. И это было волшебно… А уже поздно вечером Иван с женой отправился на прогулку по заснеженным улочкам, с редкими фонарями, с деревянными домиками, похожими на декорации к фильмам о провинциальном бытии, с купеческими особнячками, с нарядными церквушками, очевидно, недавно отреставрированными, со скудненькой иллюминацией. Иван заглядывал в окна — еще с детства была у него такая привычка, ему все хотелось подсмотреть чужую жизнь. В окнах сияли огнями елки, мерцали экраны телевизоров. А жена вдруг сказала: «Посмотри, какие звезды! В Москве нет таких звезд!». «Там точно такие же звезды, ты же знаешь. Просто в столичной суете нам некогда на них смотреть. Мы их не замечаем», — ответил Иван и тоже посмотрел на небо. А потом Иван долго целовал жену. А потом они замерзли и почти бегом устремились домой, к теплу, но по дороге Иван несколько раз успел повалить жену в сугроб, и один раз позволил ей повалить себя. И им было весело, и они хохотали как безумцы, и Ивану даже подумалось, что, может, и зря он уехал из этого тихого городка, ведь здесь он чаще всего и бывал счастлив.
Утром мать заявила:
— Молодежь, хотите не хотите, но сегодня на обед к нам приходит Александр Васильевич, а после обеда он дает нам урок рисования. Возражения не принимаются, — добавила она, заметив смятение и зарождающийся протест на лице сына, — это приказ. В конце концов, не так уж часто мы видимся, и не так уж часто я отдаю тебе приказы.
Александр Васильевич азартно собирал натюрморт, как когда-то это делал в художественной школе: на круглый столик накинул кусок атласа цвета незабудок, поставил заварочный чайник кипенно-белого фарфора, чайную чашку, три зеленых яблока и серебряный подсвечник. Иван тут же вспомнил, как все ученики в классе следили за созданием натюрморта и тут же оценивали, сложный он или простой. Этот натюрморт был средней сложности: трудность для Ивана представляли только переливчатые складки атласа.
— А у нас сейчас какой урок? — спросил Иван своего бывшего учителя, — живопись или рисунок?
— Живопись, живопись, — ответил он, — будем писать акварелью. Краски и кисти извольте получить у вашей матушки.
Иван окунал кисть в пол-литровую банку с водой, которая обрела уже мутный зеленовато-синеватый цвет, смешивал краски на листе бумаги, который служил ему палитрой, и наблюдал за окружающими. Александр Васильевич был умиротворен — он был занят любимым делом. Мать была сосредоточенна и серьезна — будто экзамен сдавала, будто, если она плохо его сдаст, то есть рисунок получится неудачным, двое любимых мужчин станут хуже к ней относиться. Жена неумело держала кисть, акварель брала густо, как гуашь, мазки делала мелкие, осторожные, неуверенные — она очень старалась, даже язык высунула, как незабвенная Машка. Иван улыбнулся — впервые за долгие годы это воспоминание не кольнуло его обидой…
Это всегда удивляло: только что был чистый лист бумаги, и будто бы вдруг на нем появлялись сначала легкие карандашные линии, а потом цвет, объем. Будто бы из ничего рождается красота. Ивана это завораживало. Хотя и понимал он, что происходит это чудо вовсе не вдруг — он сам творит это чудо, своими собственными руками. Вот и сейчас, когда на листе бумаги заиграл переливами голубой атлас, тускло заблестел фарфор, зеленые яблоки осветили резкой яркостью нежный, пастельный натюрморт, он, как в детстве, снова удивился этому волшебству, а потом подумал, что это ведь никакое не волшебство, это просто творчество. Творчество! Создание нового маленького мира, пусть и ограниченного форматом листа бумаги. И ведь все, что нужно для того, чтобы быть настоящим творцом — найти время, кисти и краски — и все. Все! И ты испытаешь восторг созидания. Или даже созидателя. Создателя? Наверное, это происходит, когда пишешь книги, музыку, строишь дома, делаешь ремонт, лечишь больного, передаешь свои знания ученикам, рожаешь ребенка. А чем он, Иван, занимался всю свою жизнь? Продавал алкоголь. Да, он заработал достаточно много денег, но было ли это созиданием? Он продавал людям радость и даже эйфорию, расслабление и веселье, но одновременно он спаивал людей и вредил их здоровью. Иван всегда утешал себя тем, что он просто продает алкоголь, а вот покупать его или нет, уже дело каждого. Разумеется, он был заинтересован в том, чтобы товар, который он продает, покупали. Собственно, суть его трудовой деятельности именно к этому и сводилась. И все же. И все же он никого не заставлял покупать насильно. Иван был уверен, что он прав в этом своем убеждении. То есть с моральной и нравственной точки зрения он не усматривал в своем бизнесе ничего предосудительного, а вот созидание… Его не было. У него даже до сих пор не было собственного ребенка. Страшился он ответственности и потери некоторых свобод, к которым привык за долгую уже свою жизнь. Во время этих невеселых размышлений Иванов натюрморт начал утрачивать прозрачность и воздушность, в нем появились резкость и драматизм в сочетании цветов. Иван остановился, вздохнул, взглянул с любопытством на работу матери — она рисовала, как ребенок, это редкий дар, многие художники стремятся к такой манере письма, только у них ничего не выходит, а у матери вот получалось. Взглянул на натюрморт Александра Васильевича — как всегда чистые цвета, плавные переходы от света к тени, точные линии — классика жанра, все правильно. Слишком правильно. Нет божественного огня. Может, поэтому старый учитель и не стал великим художником. Впрочем, судя по всему, он был доволен своей жизнью, а значит, он в любом случае состоялся как личность, нашел себя. Иван даже поймал себя на том, что он завидует этому немолодому уже провинциальному художнику. У него не было денег, больших амбиций, но не было и завышенных ожиданий от жизни, не было и разочарований — он был намного счастливее Ивана. Жена… Ну, она рисовать решительно не умела. Умудрилась затереть бумагу почти до дыр. За такие рисунки в художественной школе ставили тройки, да и то исключительно из жалости — не принято было в этой школе ставить двойки. Хотя дети с такими способностями к рисованию, как у жены, конечно, в этой школе и не учились. Это только в музыкалку можно насильно отправить ребенка без слуха и без голоса, а тут совсем другое дело — без каких-то хоть минимальных способностей здесь делать было нечего. Ну и бог с ним, что жена совсем не умела рисовать, и ни к чему ей это, и хуже она от этого не становится. Нисколечко.
Первым свой натюрморт закончил Александр Васильевич — профессионал все-таки. Вышел во двор покурить. Следом завершил работу Иван, потом мать, а потом уж и жена. Вернулся Александр Васильевич, пахнущий дешевыми сигаретами. Как когда-то разложил не успевшие подсохнуть рисунки на полу и начал разбор полетов. Похвалил Иванову жену за усердие, Иванову мать — за всегдашнюю непосредственность и монохромность, почти невозможную в акварели. А самому Ивану он сказал:
— А руки-то помнят, мальчик мой. Они все помнят. Талант! Талант! Какая цветовая драма разворачивается на твоем чайнике! Тут у тебя не какой-нибудь заурядный мещанский натюрморт, тут у тебя прямо шекспировские страсти.
— Ага, быть или не быть? Кризис среднего возраста во всей красе, — ввернула мать и усмехнулась. — Вот ведь жизнь: сначала дети быстро растут, потом — взрослеют, а потом и быстро стареть начинают. Не успеешь оглянуться, а твой ребенок, который еще позавчера под стол пешком ходил, уже весь седой.
— Спасибо, мама, — ответил Иван сухо. В его голосе звучала обида.
— Не обижайся — ты пока еще только взрослеешь, — мать обняла Ивана. — До старости тебе еще далеко.
— Драпировка у тебя получилась совершенно чудесная, — задумчиво сказал Александр Васильевич, обращаясь к Ивану. — Обычно, когда возвращаются к живописи спустя много лет, навыки утрачиваются. А тут смотри-ка: два капризных материала — акварель и атлас, а ты справился — и блеск ткани передал, и легкость, и цвет.
Иван почему-то от этой похвалы пришел в ярость. Захотелось порвать на мелкие клочки этот свой чертов рисунок и сломать что-нибудь из мебели. Впрочем, он почти ничем себя не выдал. Только спросил раздраженно:
— Что, заманили меня в ловушку? Довольны? Теперь я согласно вашему коварному плану должен все бросить: свой бизнес, свою привычную жизнь и начать рисовать как одержимый, чтобы наверстать упущенное? Зачем вы все это затеяли? Зачем вам все это надо? Чтобы удовлетворить свое тщеславие? Вам обидно, что ни один из ваших учеников не стал гениальным художником? Что полотна ваших учеников не скупают коллекционеры, что их не выставляют в галереях, что они не экспонируются в крупнейших музеях мира? Но это ваши неисполненные желания, ваши мечты, ваши рухнувшие надежды! Я-то здесь причем?! У меня своя жизнь! Свои надежды и мечты! Почему я должен исполнять ваши?
— Не кипятись, Ваня, не кипятись! Ты прав, ничего ты мне не должен. Мы с твоей мамой затеяли этот урок рисования всего лишь как забаву, как развлечение. Я даже не вполне понимаю, почему ты так разгорячился, хотя и догадываюсь. — Александр Васильевич вздохнул. — Ты, разумеется, и дальше можешь жить так, как жил, и никто тебя ни к чему ни принуждать, ни даже подталкивать не будет, но! Но после сегодняшнего эксперимента ты вспомнил, каково это — рисовать, ты вспомнил запах акварели и бумаги, ты вспомнил, что чувствуешь, когда рисуешь. Я могу поспорить, что ты, покрывая бумагу цветными мазками, ощущал себя творцом. Я ведь угадал? — Иван смущенно кивнул. — Так вот, Ваня, теперь ты знаешь, что твой талант никуда не делся, он по-прежнему в тебе есть. И что из этого следует? А из этого следует, что теперь у тебя есть выбор — оставить все как есть или изменить свою жизнь, если тебе этого захочется. Теперь ты точно знаешь, что ты это можешь. Путь перемен — непростой путь, но часто он ведет к себе. К истинному Я, которое мы в силу различных обстоятельств часто утрачиваем. Я же вижу, Ваня, что не все так благополучно в твоей душе, хоть и выглядишь ты вполне преуспевающим.
— Ах, оставьте, Александр Васильевич. Такие тонкие материи я готов обсуждать только со своим психотерапевтом, которого у меня нет и к которому я, разумеется, никогда не пойду. А знаете что? Давайте-ка чайку попьем, а потом вы еще один натюрмортик соорудите. Я, пожалуй, еще поупражняюсь. Мне понравилось. Да и все равно заняться тут больше нечем. Тут либо пить и много есть, либо рисовать. Ох, не знал я, Александр Василевич, ох, не знал, что вы такой хитрец! Просто змей-искуситель! А прикидывались-то тихим интеллигентным человеком! А-я-я-й, как можно?
Поздно вечером Иван надел джинсы и теплый, не слишком дорогой, вполне демократичный свитер, который он специально взял в поездку, чтобы никого не шокировать в провинции, и направился к своему другу детства. Жену он оставил дома наедине со своей мамой, телевизором и глянцевыми журналами.
Гришка Ильин класса с пятого мечтал вырваться из родного городка, сбежать, уехать. Он был одержим этой идеей. Иван не помнил, чтобы он хоть раз слово доброе сказал о городе, в котором жил: все ему было не то, все не так, и хуже, чем эта дыра, по его словам, места на земле не было. Но по иронии судьбы в этой дыре Гришка и застрял на всю жизнь. Собственно, встречаться с ним Иван не хотел — слишком уж они теперь разными стали. Иван боялся, что им даже не о чем будет поговорить, но все же пошел — Гришка был женат на Леночке Зиминой, которую Иван трепетно любил с девятого до середины десятого класса. В общем-то, он мог бы любить ее и дальше, только вот лучший друг — Гришка Ильин увел ее у Ивана. Сейчас-то Ивану было уже все равно, он давно уже решил для себя, что ему тогда крупно повезло, и Гришка на самом деле избавил его от многих проблем, но тогда, после двойного предательства, Ивану пришлось очень не сладко. Друг давно был прощен, но он уже не был другом. Так, бывший одноклассник, к которому Иван иногда заскакивал попить пивка во время своих редких приездов в родной городок. Несмотря на кратковременность связи, которая в большей степени носила платонический характер, хотя Ивана это и не вполне устраивало, Леночку Зимину он включил в свой список женщин, которых он некогда любил. Так что он непременно должен был с ней увидеться и выяснить, не нуждается ли она в незамедлительном спасении. Когда Иван ехал в родной город, он, собственно, планировал разобраться здесь с тремя любимыми женщинами: своей матерью, Леночкой Зиминой и Светкой Калмыковой, непутевой, легкомысленной пионервожатой, совратительницей малолетних, которая первой приобщила его к радостям секса. Мать по его наблюдениям счастлива как никогда: она на старости лет умудрилась найти свое призвание и новую любовь. Так что в спасении она явно не нуждалась, разве что в материальной и эмоциональной поддержке. Было у Ивана искушение со своими подростковыми увлечениями не встречаться — Петр Вениаминович давно не появлялся, и жила в Иване отчаянная надежда, что этот загадочный демон-конферансье про него забыл. Но надежда эта была слишком зыбкой и, по большому счету, безосновательной — по всему родительскому дому были рассыпаны знаки, которые даже, скорее, походили на инструкции по дальнейшим действиям. Одни надписи на материнских полотнах чего стоили. Так что идти к Гришке и Ленке было совершенно необходимо.
Иван зашел в супермаркет — не идти же в гости с пустыми руками. Магазин был вполне современный: большой, с тележками, камерами хранения, чистый, светлый, на прилавках помимо стандартного набора продуктов встречались и деликатесы. Иван был приятно удивлен — не ожидал он такого разнообразия от захолустного провинциального супермаркета. Отметил про себя, что теперь, пожалуй, в родном городе уже можно жить с известным комфортом: пусть тут не стало намного чище, по-прежнему было мало фонарей, зато появились такие вот отличные магазины, на многих домах висели спутниковые антенны, по улицам ездили дорогие машины, хотя, надо признать, сами дороги были разбитыми, как и в старые добрые времена.
Купил виски для себя и Гришки, для Ленки — бутылку красного сухого вина, набрал разных сыров и колбас. Он давно уже привык к продовольственному изобилию, но тут вдруг вспомнил жуткие очереди за вареной колбасой по два двадцать. Еще вспомнил, что колбаса для него и его сверстников в детстве считалась признаком хорошей жизни. Даже ее символом. Посетило его и еще одно воспоминание: молодая учительница истории рассказывает классу, как хороша советская власть, как чудесно живется людям при советской власти, а отчаянный троечник Серега Николаев спрашивает: «А если все так хорошо, почему колбасы в магазинах нет?». Этот вопрос он задавал почти на каждом уроке, а молодая учительница то краснела, то бледнела, то отмахивалась от наглого, смелого троечника, то ставила ему двойки, то лепетала что-то невнятное о временных трудностях, которые неизбежны на пути нашего государства к развитому социализму, но так ни разу и не смогла ответить на этот вопрос. Сейчас Иван колбасу не любил — на свете есть гораздо более вкусные и полезные вещи, но для него колбаса в магазинах была своеобразным критерием — если она есть, если ее много, значит, дела в стране идут не так уж и плохо. Заблуждение, конечно, но так уж сложилось. Все мы родом из детства.
Иван подошел к небольшому домику в три окна, крашеному в темно-малиновый цвет, как и большинство домов на улице. Здесь и обитало семейство Ильиных. Иван постучал в окно кухни. В доме хлопнула дверь, послышались шаги, на пороге появился Гришка, здоровенный, мрачный мужик. Иван вроде и сам был не маленький, но рядом с этим почти двухметровым гигантом чувствовал себя карликом.
— Ну, заходи, коли пришел, — промямлил Гришка не вполне дружелюбно, хотя они и договорились о встрече заранее, посторонился и пропустил Ивана в дом.
Жило Гришкино семейство небогато, но было у них уютно, тепло, была у них какая-то особая атмосфера, особый запах. Иван не знал, как это назвать, но для него это была атмосфера настоящего дома, семьи, где завтраки, обеды и ужины происходили по строгому расписанию, где пахло щами и компотом, звучал детский смех, росли лимонные деревья и фикусы в больших горшках, об ноги гостей терлись кошки. Ни в одной из квартир Ивана, какой бы роскошной она ни была, не было такой атмосферы. Сейчас Гришкин дом дохнул на Ивана какой-то затхлостью, духом запустения и одиночества. Иван прежде, чем увидел, почувствовал — что-то здесь не так. Маленькая кухонька была завалена немытой посудой, пустыми бутылками. Растения в горшках засохли. Гришка убрал со стола несколько тарелок и стаканов.
— Ну, садись, — промямлил он, — извини, у меня бардак.
Иван осторожно сел — табуретка тоже была грязноватой.
— А где Лена? — спросил он.
— Лена, говоришь? — протянул Гришка угрожающе, Ивану даже показалось, что бывший друг хочет его ударить. — А нету твоей Ленки. Ушла, сука… И детей забрала. Прав ты был тогда, когда говорил — предала меня, предаст и тебя. Как в воду глядел. Сосунок совсем был, а гляди ж ты, умный. Или ты нас проклял? — Гришка раскатисто расхохотался, Ивану страшно стало. — Чего съежился? Шучу я. Давай, доставай, чего у тебя там в пакете. Слышал, бутылки там звякали.
Иван покорно стал доставать из пакета свои покупки. Судя по обилию пустой стеклотары на кухне — пьет Гришка крепко. Иван засомневался, хватит ли алкоголя, чтобы у него развязался язык. Ивану непременно нужно было знать, куда, к кому и почему ушла Лена. Еще терзала его тревога — не полезет ли бывший школьный друг в драку: неспокойный он какой-то, нервный. Как напьется, да и выместит на нем свою вселенскую злобу. Нужно быть осторожнее в высказываниях. Гришка тем временем ополоснул под умывальником два стакана, две тарелки и две вилки. Поставил на стол. Иван облегченно вздохнул: хорошо хоть, что есть и пить предстоит из относительно чистой посуды. Гришка молча нарезал колбасу и сыры. Выражение лица при этом имел самое зверское — ни дать ни взять помесь Ильи Муромца и Соловья-разбойника. Иван заворожено смотрел на нож и снова беспокоился за свою физическую целостность. Гришка разлил виски — сразу по целому граненому стакану. И снова испугался Иван — а не заставят ли его осушить этот стакан залпом? Такой манере пития столичный сноб обучен не был. Сплошной стресс! Чертов Петр Вениаминович, если б не он, разве пошел бы я сюда? Да лучше б еще один натюрморт нарисовал, а еще лучше попробовал бы написать портрет жены. Интересно, получилось бы или нет? А вместо этого сижу тут, как идиот, на грязной кухне рядом с психопатом. Нет, вообще-то Гришка вполне адекватным мужиком был, это, видимо, из-за развода он в разнос пошел. Рядом с ним же реально страшно находиться.
— Ну, за дружбу! — провозгласил тост Гришка и залпом выпил полстакана.
«Точно бутылки не хватит», — подумал Иван и залпом выпил четверть стакана.
К счастью, Гришка не заметил, что друг выпил значительно меньше, чем он сам.
— Ну, и как там, в Москве вашей?
— Суетно.
— И денежно? — Гришка расхохотался.
— И денежно, — подтвердил Иван.
— А вот самолет ты можешь купить или яхту, например?
— Яхту — могу, только очень маленькую, а самолет, наверное, нет.
— Да ты нищий, брат!
— Нищий, — согласился Иван вслух, а сам обиделся. Ну, какой он нищий? Хотя если с олигархами сравнивать, то, может, и нищий.
— А я вот богат! У меня ни гроша за душой, а я богат! — пророкотал Гришка.
— И с чего ты взял, что ты богат? — четверть стакана виски сделали Ивана смелее.
— А потому что мне не нужно больше, чем у меня есть! Вот и весь секрет. А тебе слабо так жить?
— Слабо, мне всегда всего мало.
— Вот и не видать тебе ни покоя, ни счастья, ни богатства! — Гришка снова злорадно расхохотался. — Давай еще выпьем.
Выпили.
— Вот ты говоришь, тебе не нужно больше того, что у тебя есть, а как же развитие? Ты же зависаешь в одном и том же состоянии и никуда не двигаешься. В перестроечные времена это явление называлось «застой». Это же тупик. То есть ты всю жизнь готов жить в этом вот доме, на этой вот улице, ездить на своей ржавой шестерке и работать электриком?
— Да, меня все устраивает, — ответил Гришка с вызовом и снова разлил виски по стаканам.
— И тебе не хочется ездить на «Мерседесе», например, или на «Ауди», быть директором и зарабатывать кучу бабок, путешествовать по всему миру и любить самых красивых женщин?
— Нет, — буркнул Гришка и выпил еще полстакана, посмотрел на Ивана мутным взглядом, — а мне никто кроме Ленки не нужен, и без нее ничего не нужно.
— Почему она ушла?
— Да она права была, что ушла, бедняжка. Ну как с таким жить? Я ведь выпиваю, я ведь не стремлюсь ни к чему, я ведь и в самом деле доволен тем, что имею, а она… она пилила меня, требовала, чтобы я денег больше зарабатывал, хотела, чтобы я в доме ремонт сделал, чтобы машину новую купил, нарядов ей хотелось, детей опять же одевать надо, кормить, в отпуск ей хотелось. Скандалили постоянно. Она пилит, я — пью. Я пью, она — пилит. Замкнутый круг. Вот так-то, друг. Такая жизнь. — Гришка хлебнул еще виски. — А год назад после очередного скандала собрала она вещички, детей забрала и ушла. Все, нету больше у меня Леночки. Ушла она, ушла.
— А она к родителям ушла?
— К родителям! Ха! Как бы не так! К мужику она ушла, сука! О детях даже и не подумала! Сережка школу заканчивает, ответственный момент в жизни, а мамка фьють, мужа родного бросила и к хахалю своему ускакала. Сука! Сука! — Гришка ударил своим кулачищем по столу, стаканы с бутылкой подпрыгнули и жалобно звякнули. — А чем он лучше меня, чем? Ну, богатый он, на джипе ездит, хоромы у него огромные, ну три магазина у него и еще автомастерская, но разве ж это в человеке главное? Главное же, что у него внутри. Как не понимает, что мы созданы друг для друга? Я ж ради нее… Я ж из-за нее… Да я из-за нее институт профукал. Я ж поступил на исторический, а она даже на филфак не прошла. И я же ради нее, чтобы с ней быть, не поехал никуда, остался в этом мерзком городишке. Ты же знаешь, как я его ненавижу. В электрики пошел. Поначалу-то вообще по столбам лазил, потом только в ЖЭК устроился. И девки за мной бегали покрасивее Ленки, да и поумнее, а я ей даже не изменил ни разу, идиот. Да что там, я даже на сторону ни разу не посмотрел. Это ведь, знаешь, что было… Ты меня прости, что я увел ее у тебя, но ты ведь теперь уже понимаешь, что не твоя это женщина, не тебе она предназначена была. У нас ведь, как это у Аристотеля? У нас ведь это и агапе, и мания. Все сразу. Вроде бы и не бывает так, а вот бывает.
— Так, стоп, что такое агапе? — поинтересовался захмелевший Иван.
— Эх, темный ты человек! Агапе — это жертвенная любовь. Когда для любимого человека и звезду с неба, и в огонь за него, и в воду, и все для него, и все ради него. Про себя и не помнишь, все для любимого. Для единственного. Любил ты так кого-нибудь? Любил?
— Нет, — ответил Иван, скорее, чтобы успокоить несчастного друга, а потом задумался и понял, что ведь, действительно, никого так не любил. А главное, никого не любил так долго.
— То-то и оно, что не любил. Это ведь мало кому дано. Да про нашу любовь роман писать можно. А то ведь про Ромео и Джульетту написали, а про Гришку и Ленку нет, а Гришка-то с Ленкой без малого двадцать два года вместе, а кто их знает, Ромео с Джульеттой, может, они через три года совместной жизни возненавидели бы друг друга, если бы живы были? Кто их знает? Скорее всего, так и было бы.
— Но послушай, если ты так ее любил, если это было агапе, почему ты не слушал ее, почему не пошел учиться заочно, почему не осваивал другие профессии, почему не пробовал зарабатывать больше денег?
— Дурак, дурак, — промямлил Гришка меланхолично, — вот если бы в нее стреляли, я бы ее своим телом прикрыл не задумываясь, а работу искать… нет, на это я оказался не способен. Что-то такое во мне сломалось тем летом, когда я поступил в университет, а учиться не поехал. Решил тогда поставить крест на своей карьере ради любви. Это же был шанс — вырваться из этого города. Я вырвался уже почти. Я надеялся, что Ленка тоже поступит, а она… а она не добрала один балл! Нет, ну ты задумайся, чертова оценка, всего один балл, который разрушил всю мою жизнь! Она тогда сказала: ты можешь ехать учиться. А я спросил: а как ты тут без меня? А она и говорит: нормально, потоскую-потоскую и другого найду. Я не пропаду, можешь не беспокоиться. А я же тогда с ума по ней сходил, ни одного дня без нее прожить не мог, вот и не поехал никуда. А она, сука, сбежала от меня, предала, растоптала. Вот скажи мне, Ванька, скажи, ради чего я тогда собой пожертвовал? Ради чего? — он снова ударил кулаком по столу. — Ради чего? Ради того, чтобы сидеть тут на кухне одному, пить горькую, проклинать ее, судьбу, себя? Скажи мне, Ванька, что за подлая штука жизнь? Почему она забирает то, что было для тебя всего дороже?
— Гриша, ну если Ленке плохо с тобой было, она ведь имела право изменить свою жизнь? Она ведь не твоя наложница, не рабыня, она вполне могла уйти, если с тобой ей было невыносимо.
— Ты эту суку еще защищать будешь? — взревел Гришка. Ивану снова стало страшновато.
— Нет. Ленка действительно сука. Я еще помню, как она меня кинула, точно также как и тебя сейчас. Форменная сука!
— Не смей, сволочь, оскорблять женщину, которую я боготворю! — снова взревел Гришка. — Она святая, слышишь? Она великомученица! Столько лет терпеть такого, как я! Еще раз ее оскорбишь, я за себя не ручаюсь, слышишь?
— Все, все. Больше не буду, — миролюбиво сказал Иван, — давай-ка лучше выпьем. — Они выпили без тостов, не чокаясь. — А знаешь, я сегодня снова рисовал. Так, ничего особенного — натюрморты. Помнишь, в детстве рисование было для меня очень важно, я жил живописью, я был одержим, ну, помнишь же, я всегда рисовал — дома, на уроках? Помнишь, я карикатуры на учителей рисовал и на хулиганов наших, мы потом еще дрались с ними. А потом, когда Машка Аверкиева меня бросила, я перестал рисовать. Тоже, знаешь, одна маленькая, глупая девчонка перевернула всю мою жизнь. Я думал, что никогда больше не прикоснусь к кистям и краскам, а сегодня снова рисовал. И был счастлив. Понимаешь, счастлив! Мы не можем позволить, чтобы бабы ломали нам жизни. Мы хозяева нашей судьбы, а не они. Наплюй ты на свою Ленку. Только свистни, и толпа баб к тебе сбежится. А можешь и вообще без них прожить. Главное, помни, брат, никогда не поздно менять свою жизнь. Начинай мечтать, ставь цели, достигай! Удача любит только тех, кто что-то делает. А будешь тут на кухне над бутылкой водки слезы лить, так и сдохнешь либо от цирроза или сердечного приступа какого-нибудь, либо с перепоя. Только не заводи тут шарманку, что стар ты уже. Ты еще молодой, здоровый, как вол. Ты же Илья Муромец, он тридцать лет на печи лежал, а как только встал, так сразу подвиги начал совершать. Гришка, вставай с печи, хватит уже себя жалеть, что ты, как баба, ей-богу! Даже хуже. Вот на мать на мою посмотри — ей уж под семьдесят, а она художницей стала, влюбилась, глаза горят. Учись. А ты, молодой мужик, как в свинарнике тут живешь, человеческий облик скоро потеряешь. А, знаешь, мне тебя не жалко, ты ведь сильный, но силой своей не пользуешься. Это ведь куда как удобно — пей себе, на судьбу-злодейку пеняй да сожалей, что в юности свой шанс упустил. Да шансов и сейчас хоть пруд пруди. Только ты ведь их не видишь, не пользуешься.
— Ну, назови мне хоть один шанс?
— Я, например.
— Что ты?
— Захочешь бизнес свой открыть, я могу тебе денег дать в долг. Без процентов, разумеется. Но, конечно, деньги ты получишь только тогда, когда из запоя выйдешь и перестанешь ныть. Смотреть на тебя противно.
— Вон отсюда! — взревел Гришка. — Пока я тебе череп не проломил. Нашелся тут благодетель! Пошел вон, я сказал!
— Я уйду, уйду, но ты подумай над моим предложением…
Координаты Ленки Иван все-таки добыл: когда Гришка отлучался по нужде, он беспардонно влез к нему в телефон и переписал номер ее мобильного. Некрасиво, конечно, а что делать? Ивану хватило ума не спрашивать у помешавшегося от горя друга телефон бывшей жены, тот еще чего доброго заподозрил бы его в каких-то посягательствах на Ленку. Кто его знает, что придет в голову этого патологического ревнивца?
После завтрака Иван вышел во двор, якобы подышать свежим воздухом, а сам набрал Ленкин номер. Никакого трепета и волнения он не испытал, вот уж, действительно, прошло так прошло. Наверное, прав был Гришка, когда говорил, что не были они созданы друг для друга, и эта их встреча, и эта их полуплатоническая связь была ни чем иным, как прологом к встрече Ленки с Гришкой. Это ведь Иван их познакомил, тогда ему казалось, что на свою беду, а сейчас… сейчас Иван был рад, что Гришка тогда увел у него эту зеленоглазую пухленькую блондинку. Это тогда было так, легкое увлечение, дань возрасту и обезболивающее: Ивану же нужно было как-то залечивать раны, нанесенные ветреной и прекрасной Машкой. Правда, и уютненькая, миленькая Ленка умудрилась нанести Ивану серьезный удар, ну да ладно, дело прошлое. Иван стоял в саду, смотрел на старые яблони, белоснежные сугробы, соседние дома, заборы и думал, а что было бы, если бы он остался с Ленкой, точнее, Ленка осталась с ним? Они бы тоже вместе поехали поступать в университет, и Ленка также не поступила бы и так же, как Гришку, поставила бы его перед выбором: учеба или любовь? Она или университет? Чтобы он выбрал? Сейчас он бы выбрал учебу, а тогда? Тогда, может, и любовь. И застрял бы в этом городишке? И не видел бы ничего, кроме этого вот сада, яблонь, заборов? А может, оставшись здесь, он был бы счастливее и спокойнее, потому что ему, как и большинству жителей этого городка, было бы достаточно того, что он имеет? Кто знает? Иван посмотрел на свой телефон — нужно звонить. В этом звонке ведь нет ничего личного. Это практически переговоры о деловой встрече: у Ивана есть задача — найти женщину, которую нужно спасти, вот он и ищет. Необходимо проверить все варианты. Набрал номер.
— Алло, — голос совсем уже бабский какой-то.
— Лена, добрый день.
— Кто это?
— Лена, это Ваня Лёвочкин. Я бы хотел увидеться с тобой сегодня.
— Тебя Гришка подослал? Можешь ему так и передать, я к этому ироду не вернусь.
— С Гришкой я вчера встречался, конечно, но он меня не подсылал, уговаривать вернуться не буду, обещаю.
— А чего это тогда тебе со мной приспичило встречаться? Сколько мы не виделись, года четыре? И прекрасно жили друг без друга, и не вспоминали. Чего тебе надо от меня, отвечай.
— Ничего не надо. Просто в кои-то веки приехал на родину, хочу повидать старых друзей, кто знает, когда еще сюда приеду-то. Соглашайся, я не займу много времени. Так, посмотреть на тебя, поболтать, молодость вспомнить.
— Хорошо, — сдалась Лена, — только смотри, если про Гришку хоть слово услышу, я не знаю, что с тобой сделаю.
— Ну я же обещал.
— И вот еще что, я женщина замужняя, муж у меня ревнивый, так что встретимся в супермаркете, будто бы случайно. Чтобы никаких подозрений. А то у мужа тут каждая собака знакомая, вмиг донесут, что я с посторонними мужиками по улицам шарахаюсь. Ты знаешь магазин в гостинице?
— Да, вчера там был, очень приятный магазин.
— Вот там и встретимся через час. А кстати, как ты узнал мой номер? — вдруг спросила она подозрительно.
— Честно сказать?
— Честно.
— Залез к Гришке в телефон, когда он в туалет выходил, и нашел.
— Как был хулиганом, так и остался, — рассмеялась Ленка.
Положив трубку, Иван облегченно вздохнул — деловые переговоры прошли удачно, да и свидание с бывшей возлюбленной обещало быть коротким и легким: не будет же Ленка мелодраму устраивать в магазине, где наверняка с ней все продавщицы здороваются. Да и ни в чем Иван перед ней не виноват — в разрыве этого короткого юношеского романа он точно был пострадавшей стороной.
Через сорок пять минут Иван изъявил настойчивое желание прогуляться в магазин, прикупить кое-каких вкусностей и пополнить истощившиеся запасы спиртного. Жена хотела было увязаться за ним, но Иван сказал, что не стоит беспокоиться, он уж как-нибудь сам, по-быстрому, туда и обратно.
Ленка подкатила к магазину на серебристой «Шевроле-нива». С достоинством выбралась из машины, гордо нажала на брелок сигнализации. Увидела Ивана, сделала вид, что не заметила, прошествовала к входу, скрылась в магазине.
«Не женщина, а загадка, — подумал Иван, — вроде простая пасконно-домотканная баба, а туда же, актриса. И вроде вся правильная-правильная, покорная судьбе и своему мужчине, а как выкинет какой-нибудь фортель, не каждая роковая женщина на такое способна. Так что мелодрамы, возможно, все-таки и не будет, а вот спектакль гарантирован». — Иван зашел в магазин, взял тележку, покатил ее между рядов. И вот, у полок с выпечкой и обнаружилась Ленка. Сейчас она соблаговолила его заметить.
— Ваня? — спросила она удивленно и нарочито громко — неподалеку толстая продавщица в форменном халате взвешивала какому-то покупателю мандарины. — Ты здесь какими судьбами?
— Да вот на каникулы приехал, мать навестить. Как у тебя дела?
За четыре года, что они не виделись, Ленка раздалась и теперь походила на меховой шарик: была на ней богатая норковая шуба, украшенная огромными пуговицами со стразами. Руки ее были унизаны перстнями. На ногах кокетливые сапожки на шпильках. На лице — яркий мейкап а-ля середина 90-х, волосы — пергидрольные. Ленка являла собой образец провинциальной роскоши и, наверняка, была объектом зависти местных кумушек. Во время их последней встречи, которая проходила в декорациях Гришкиной кухни, была Ленка значительно худее, выглядела замученной, волосы и вовсе были некрашеные, пепельные, с пробивающейся сединой. На ней был старинный, байковый халат неопределенного цвета. Иван тогда еще задался вопросом — как такую можно любить? Ему, избалованному московскими модницами, было уже дико видеть такую запущенную, неухоженную женщину. Он уже не понимал, как мог когда-то страдать из-за нее. А Гришка? Он ведь ее столько лет любит. Вот уж, действительно, агапе. Тогда он про агапе не знал, а сейчас понял. Нынешняя Ленка выглядела значительно лучше себя прежней. Хоть она и растолстела, хоть и была вульгарна, зато она была теперь свежа, зеленые глаза снова стали яркими, в них появился блеск.
— А у меня все отлично! Я второй раз вышла замуж. Ты не представляешь, какой это замечательный человек! — верещала Ленка. — Старшенький мой, Мишка, школу заканчивает в этом году, в Москву собирается поступать, а Сашка, младшенький, в пятом классе. А Женька, ну это муж мой новый, он нанял домработницу, она к нам три раза в неделю приходит, и заявил, что не позволит мне больше корячиться, ну в смысле убираться, стирать, гладить, в огороде возиться. Я теперь только готовлю и то лишь потому, что мне это нравится, в охотку мне готовить. Заставил на права выучиться, машину купил. Я теперь даже маникюр в салоне делаю, вот, — Ленка сунула под нос Ивану пухленькую лапку с алыми ноготками. — Мне так нравится быть богатой! Ты не представляешь. Все эти годы нищеты… Я так устала. Ты, наверное, уже и не помнишь, как это — быть нищим?
— Давно это, конечно, было, но я помню.
— Тогда ты меня поймешь. Как мне хотелось вырваться из этого гадюшника, сбежать от этих жутких халатов, от стоптанных тапок и туфель, которые я носила до тех пор, пока они совсем не разваливались. А колготки? Ты представляешь, мне приходилось зашивать капроновые колготки. Все нормальные люди выкидывали, а я зашивала, потому что новые купить было не на что. Ты когда приезжал, это было для меня настоящим кошмаром. Ты весь такой холеный, в дорогой одежде, самоуверенный, и я в своем драном халате.
— Вот только не говори мне, что ты жалела, что выбрала тогда не меня.
— Жалела. — Вздохнула Ленка.
— А это вот ты зря.
— Это еще почему?
— А я бы тебе изменял, а потом совсем бросил. Или ты меня, когда бы совсем устала от моих похождений. Постоянство, знаешь ли, не входит в число моих добродетелей. Лучше скажи мне, ты этого нового мужа своего любишь?
— А это важно?
— Все люди стремятся к любви.
— Не знаю. Гришку я любила, а счастливой не была. А к Женьке у меня какое-то очень спокойное чувство: уважение, нежность. Не уверена, что это любовь. Но знаешь, я так с ним счастлива — мне с ним надежно. Вот что главное, я больше не живу на вулкане, как с Гришкой. И колготки я сразу выкидываю, как только на них появится зацепка.
— Ты сейчас не играешь? Не морочишь мне голову? У тебя точно все в порядке?
— Почему ты спрашиваешь про игру?
— Ну, ты такой спектакль разыграла с этой якобы случайной встречей. В тебе пропала великая актриса.
— Как видишь, не совсем пропала, — она засмеялась.
— Ну, так у тебя точно все в порядке?
— Да, да! Не беспокойся! — Ленка расстегнула шубу, Иван посмотрел на ее живот и понял, что ничего она не растолстела, просто она была беременна.
— Какой месяц?
— Пятый. У нас с Женькой будет ребенок. Я так счастлива…
Итак, у Ленки все было замечательно. Даже если она и несколько преувеличивала масштабы своего счастья, в спасении явно не нуждалась. А вот Гришку было жалко.
Глава пятнадцатая
После обеда Иван уселся рисовать. На сей раз никто его не принуждал. Он сделал это по собственному желанию. Жена сидела на диване со своими журналами, а Иван ее рисовал. Тонко заточенным карандашом. Это было чудесно. Получалось не очень, но сам процесс был прекрасен. Мать сидела рядом и тоже рисовала — что-то там опять фантазировала на тему родного городка: огромные синие и сиреневые кошки на фоне голубых, розовых и желтеньких домиков. Очень жизнерадостно.
— Мама, — спросил Иван тихо, — ты помнишь Светку Калмыкову? Ну, жила в квартале отсюда, в восьмой школе работала пионервожатой?
— Ты ничего не знаешь? — удивилась мать.
— А что я должен знать?
— Ее больше нет.
— В каком смысле?
— В прямом. — Мать принялась покрывать самую синюю кошку желтым горошком. — Умерла.
— Как?
— Спилась она. Дома шалман устроила. Постоянно какие-то мужики к ней ходили. Вот один и прирезал года полтора назад по пьяни — из ревности. Ну, его посадили, конечно, только Светку-то уже не вернуть. Сын у нее сиротой остался. Кто отец — и не знает никто. Мы всей улицей мальчонке одежду собирали, подкармливали. Лет семнадцать ему тогда было. Потом в армию его забрали. Служит теперь. — Мать вздохнула. — Вот так.
Иван сломал карандаш. Взял другой.
— А что это ты вдруг ее вспомнил? — поинтересовалась мать.
— Вожатой она у меня в пионерском лагере была, а сегодня я мимо ее дома проходил, вот и вспомнил. Жаль, — сказал Иван. — Веселая была девушка.
— Слишком, по-моему, — хмыкнула мать, — но все равно жалко.
Иван сделал еще несколько штрихов, потом перечиркал рисунок, скомкал лист и швырнул его на пол.
— Ну, все, муза улетела!
— А почему тебя так взволновала смерть этой женщины? — подозрительно спросила жена.
— А потому что это всегда так нелепо, так странно и так страшно, когда уходят твои ровесники, те, кого ты помнишь молодым, красивым, полным жизни и надежд. Что от Светки осталось? Дурная слава, которая забудется через пару лет? Могильный крест? Несчастный сын? Вот и все.
— Сын, это не так уж и мало, — резко сказала жена. — Я бы тоже хотела, чтобы после меня остался сын или дочь. А если я прямо сейчас умру, после меня и дурной славы не останется — слишком уж я примерная.
— Значит, после тебя добрая слава останется.
— Добрая слава остается после добрых дел, а я…, — жена вдруг разрыдалась, — а я ни рыба, ни мясо. Так, супруга уважаемого джентльмена, его бледная тень. А без тебя я никто.
— Что за глупости! — возмутилась мать. — Хоть с ним, хоть без него, ты красивая, добрая образованная девушка. А не хочешь быть тенью — иди работай! Добивайся чего-то сама. А не хочешь работать, так и сетовать нечего.
Жена разрыдалась еще сильнее и убежала в свою комнату. Иван сидел на стульчике. Взгляд его был пуст — так он ошарашен смертью Светки, которая была лишь коротким эпизодом в его жизни, но зато очень значительным и ярким эпизодом. А жена его еще и добила — оказалось, что она не так счастлива и довольна, как ему казалось. Господи, неужели еще и с ней придется возиться? В качестве немногословной, прекрасной тени она его вполне устраивала, а что будет, если она вдруг самоутверждаться начнет?
— Пойди, утешь ее, — сказала мать.
— Не могу. — Промямлил Иван. — Пойду я, прогуляюсь.
— Ей плохо, — настаивала мать, — она в чужом доме, со свекровью. Я, может, и не самая плохая свекровь, но все же.
— Мама! Я не могу сейчас! — взвыл Иван и бросился в прихожую.
После восьмого класса в возрасте пятнадцати лет в пионерский лагерь Иван попал только благодаря связям бабушки — начальница лагеря была дочерью ее старинной приятельницы. А так бы его не взяли — слишком взрослый. Была у Ивана затаенная мечта — найти в лагере какую-нибудь девчонку и закрутить безумный роман. Не то, чтобы это была возрастная потребность, нет, это было, скорее, желание мести — Машка ведь изменила ему, когда была в лагере. Весь восьмой класс он провел в попытках забыть Машку, но, тем не менее, постоянно о ней думал, вел с ней нескончаемые мысленные диалоги, в которых она, повинуясь воле Ивана, признавала свою вину и соглашалась, что он самый лучший. Еще он бился над вопросами, почему все так произошло, и что он сделал не так? Разумеется, забыть он Машку не смог — она в его воображении сделалась еще более коварной и жестокой. К лету его охватила жажда мести. Он благополучно сдал экзамены, а потом на пляжах начал предпринимать попытки знакомств. К тому времени он подрос, окреп — был вполне складным и даже красивым подростком: обладателем широких плеч, узкого таза и длинных стройных ног. Девушки на него засматривались и млели от счастья, когда он подходил к ним знакомиться. В итоге к началу июля он ходил на свидания сразу с тремя девчонками, а с двумя из них даже целовался. Но ни одна из них ему даже не нравилась. Он просто убеждался в своей мужской привлекательности и, изменяя каждой из них, мстил Машке. Но это все было не то. Он хотел влюбиться. И чтобы девчонка в него влюбилась, может тогда Машка и выветрилась бы из его головы. Окончательно.
Иван сразу заприметил светленькую худенькую девочку с голубыми глазами, начал оказывать ей знаки внимания: то есть постоянно над ней подшучивал, делал ей пасы во время игры в волейбол и даже за косички дергал, как в первом классе. Еще приглашал ее на медленные танцы на дискотеках, в лесу показывал ей самые ягодные места, забирался за ней в кусты малины, а во время купаний в мелкой, но бурной речке азартно брызгал ее водой. Девочка реагировала на Ивановы ухаживания весьма благосклонно, и к середине смены они уже целовались по кустам. Поцелуи эти, пахнущие земляникой и малиной, были Ивану приятны. Но он постоянно сравнивал эту девочку с Машкой, и сравнение было не в пользу девочки: и глаза у нее поменьше и не такие яркие, и ноги не такие длинные, и целуется она хуже, и талантов у нее никаких особых нет, и интеллектом она не блещет. В общем, влюбиться так и не удалось, но отсутствие чувств никак не влияло на получение удовольствия от поцелуев и прочих невинных подростковых ласк. Имени той девочки Иванова память не сохранила: только когда он ел землянику, вдруг вспоминал то лето и ту девочку, ее мягкие, неумелые губы и наивные, доверчивые глаза. Она ведь не знала, что Ивану лучше не доверять. Да он и сам еще не знал. В королевскую ночь Иван расцеловал на прощанье свою девочку и отправился в палату — у них с мальчиками были большие планы: они собирались пойти мазать зубной пастой младшие отряды. Собственно, на выходе из домика восьмого отряда Иван и был схвачен за шиворот пионервожатой Светланой Николаевной. Товарищам Ивана удалось улизнуть. На Светлану Николаевну засматривались все мальчишки, вступающие или вступившие в половозрелый возраст. Была она невысокая, ладная, с тонкой талией, широкими бедрами и огромной грудью. Когда Светочка шла по лагерю во главе своего отряда, грудь ее колыхалась под белой рубашкой, и каждый мальчишка, который становился свидетелем этого зрелища, впадал в полуобморочное состояние, начинал испытывать невыносимое томление и волнение и принимался мечтать увидеть эту необыкновенную пионервожатую в купальнике, а еще лучше голой. Фантазии особо искушенных пионеров заходили еще дальше. Весь лагерь знал, что у Светочки бурный роман с высоким плечистым плавруком. Вся мужская половина лагеря ему нестерпимо завидовала. Женская половина нестерпимо завидовала Светочке. Точнее — ее формам. Некоторые девочки даже подкладывали в свои крохотные лифчики вату и носочки, чтобы хоть чуть-чуть стать похожей на эталон красоты отдельно взятого пионерского лагеря, затерянного в сосновом бору. Как-то однажды, когда Ивана навещали родители, Светочка тоже вышла зачем-то за ворота. Мать Ивана, осмотрев девушку с ног до головы, недовольно заметила, что таких дамочек к детям-то допускать нельзя, мол, такие, как она, могут дурно повлиять на подрастающее поколение. Отец смотрел на Светочку как-то странно. Иван даже тогда заподозрил, что, возможно, он еще и не настолько стар, чтобы не обращать внимание на женщин, и, возможно, они с мамой даже… в общем, занимаются чем-нибудь таким по ночам. Хотя, конечно, в это не верилось. Отец тогда сказал:
— Это же Светка, дочка Любаши Калмыковой, почтальонши. Живут они на Кутузова, недалеко от нас. Безотцовщина она, Светка-то. Способностей у нее никаких, ума тоже особо нет, красота — это, пожалуй, единственное ее достоинство.
— А ты откуда знаешь? — осведомилась мать и с подозрением посмотрела на отца.
— Она же у меня училась. Классическая двоечница. А сейчас в восьмой школе пионервожатой работает. Взяли ее туда из жалости, она какая-то дальняя родственница завуча — не пропадать же девке. После восьмого класса в ПТУ она пошла, но даже там доучиться не смогла.
— И вот таким людям мы доверяем наших детей! — возмутилась мать.
— Да нет, она добрая, ответственная, просто глупая.
— А что это ты ее защищаешь? — прошипела мать.
Иван тогда не понимал, с чего это его добродушная, рассудительная мать вдруг так взбеленилась. Только став взрослым, он понял, что это была самая настоящая ревность. Ивану, конечно, в те времена, когда он двадцатилетних парней считал чуть ли не стариками, не могло прийти в голову, что его престарелого предка можно ревновать. Это сейчас он понимал, что отец в свои сорок пять был еще весьма видным мужчиной, а в пролетарском городке он со своими пиджачками и галстуками вообще был образцом стиля: импозантный, интеллигентный и красивый. Когда повзрослевший Иван рассматривал отцовские фотографии, он понимал, что отец был очень красивым. Так что у матери были некие основания его ревновать.
Вот эта самая Светка, которая не оставляла равнодушным ни одного мужчину, и поймала Ивана за шиворот в одну из ночей конца июля, пахнущую соснами и остывающим песком.
— Идем! — приказала она и двинулась куда-то в темноту, по направлению к ограде. Иван послушно побрел за ней. — Ты знаешь, что мазать пастой маленьких детей плохо? — спросила она строго, когда они оказались в зарослях кустарника.
— Да. — Ответил Иван виновато.
— А зачем ты тогда это сделал, негодный мальчишка?
— Не знаю.
— Не знаю, — передразнила она его. — Этот козел тоже не знает, как он оказался в постели у этой дряни. Все вы, мужики, одинаковые. Натворите делов, а потом сами не знаете, как так получилось.
Светочка придирчиво осмотрела Ивана. Неизвестно, что там ей удалось разглядеть в темноте, но она вдруг развязала пионерский галстук, бросила его на ветку куста и начала расстегивать пуговки на своей белой рубашке. Сняла и ее, потом неловко расстегнула лифчик и тоже повесила его на ветку.
— Ну! — сказала она нетерпеливо.
— Что ну? — спросил Иван испуганно. Он не смел смотреть на Светочкину голую грудь и не мог понять, что происходит.
— Беда с этими девственниками, ничего не умеют, — проворчала пионервожатая, — положила руки ошалевшего юного комсомольца на свои груди и вцепилась губами в его губы. — Пора уже становиться мужчиной, мальчик, — прошептала она, оторвавшись от его губ, а потом вцепилась в них снова…
— А ты далеко пойдешь — смотри ж ты, резвый какой, — сказала Светочка, когда все было закончено.
Когда Иван вернулся в свою скрипучую железную кровать, он чувствовал себя самым счастливым человеком в этом пионерском лагере, да что там — во всем мире. Он был, наконец, влюблен.
Иван возвращался домой, болтаясь на ухабах на заднем сиденье отцовского мотоцикла. Он смотрел на выцветшие луга, рябившие ромашками и какими-то еще цветами, на пруды, на реку, на домишки, очень разные и в тоже время похожие друг на друга. Иван мечтал. Как соберет огромный букет полевых цветов, придет к Светочке, а она отбросит цветы куда-нибудь в сторону и снова набросится на него с поцелуями и неистовыми ласками… И так будет каждый день и каждую ночь. А еще было бы замечательно, чтобы это не прекращалось ни днем, ни ночью — Иван даже был готов на некоторое время отказаться от еды. Ивана распирала гордость — он стал настоящим мужчиной. А отец, который сидит теперь впереди него и ведет свой старенький «ИЖ Юпитер», даже ни о чем не догадывается. Какие глупые эти взрослые, они ничего не знают о своих детях. А строят из себя всезнаек! И лишь одна мысль портила общее Иваново идиллическое состояние — Светочка даже не спросила его имени. Но может быть, она его откуда-то знает. Вдруг она давно его заприметила и навела справки? Тем Иван и успокоился.
Три дня Иван собирался с духом. Потом от кого-то услышал, что Светочка едет в лагерь и на третью смену, и понял, что медлить нельзя. Он, согласно своему плану, тайком срезал в мамином саду три нарядные рыжие лилии, три дерзких синих дельфиниума и пять ромашек. С этим букетом он и отправился к дому Светочки. Оказалось, что идти по городу с цветами как-то неловко. Все прохожие подозрительно на тебя косятся и, кажется, догадываются, что этот юнец в отглаженной голубенькой рубашечке идет на свидание. Навстречу Ивану попалась его одноклассница, Маринка Балалайкина, редкостная сплетница и задира.
— О! Жених выискался! — тут же закричала она на всю улицу, — куда это ты так вырядился? Ба, да еще и с цветочками! Неужели на свидание? Ванечка, а Ванечка, очкарик ты наш, это какая же дура согласилась с тобой встречаться? Ба, да еще и прыщ на носу. Ну, красавец, красавец! Куда деваться!
— На себя посмотри, кикимора болотная, — рявкнул Иван и решительно прошел мимо.
Светочка жила в маленьком деревянном домике с палисадником, заросшим сиренью. Домик был серым, некрашеным и бедным даже по меркам этого небогатого городка. Адрес Светочки Иван узнал у приятеля из восьмой школы. Соврал ему, что она якобы после какого-то лагерного концерта, который проходил в последний день смены, забыла за сценой свою косметичку, а он, Иван, ее нашел и должен теперь вернуть. Приятель скептически хмыкнул, но описал, где живет Светочка, и лишних вопросов задавать не стал.
Влюбленный юноша подходил к дому Светочки не в первый раз — все три дня он регулярно прогуливался мимо него в тайной надежде случайно увидеть предмет своего обожания. Так и не случилось. Но одно дело просто прогуливаться, а другое дело — набраться смелости и позвонить в дверь. Когда Иван почти дошел до заветной калиточки, он замедлил шаг и чуть было не поддался искушению снова пройти мимо, но сказал себе: «Если ты мужик, сейчас позвонишь в эту дверь, а если струсишь, то ты тряпка!». Позвонить, впрочем, не удалось — звонка на двери не было. Иван принялся стучать, но никто не вышел на его стук. В доме явно кто-то был — из окон слышался смех, а Юра Шатунов пел про белые розы. Иван толкнул дверь — она была не заперта. Юноша осторожно заглянул во двор: там никого не было. Двор был захламленный, полный каких-то старых, ржавых ведер, тазов, сломанного садового инвентаря. Даже деревянных тротуаров здесь не было. Иван тут же представил, какая тут грязища во время дождя. Как такая принцесса, как Светочка, может жить в столь жутком месте? Иван вошел во двор, с опаской направился к крыльцу. Поднялся, снова забарабанил. На сей раз, спустя пару минут непрерывного Иванова стука по деревянной рассохшейся двери, выглянула Светочка. Она была пьяна.
— Ты кто? — спросила она.
— Ваня.
— Какой такой Ваня?
— Ну, помнишь… помните, в лагере, в королевскую ночь вы меня поймали с зубной пастой, а потом…, — Иван густо покраснел.
— А-а-а…, — протянула Светочка, — так это я тебя девственности лишила. Ну, а сейчас-то чего приперся? Еще хочешь? — она расхохоталась. Так, как, наверное, не смеются приличные женщины.
— Вот, — Иван протянул ей букет.
— Ну, спасибочки, — она взяла цветы. — Все, веник отдал и проваливай.
Ноги у Ивана подкосились, но он все же нашел в себе силы пролепетать:
— Света, я тебя… я вас люблю!
— Не надо мне твой любви, щенок! — закричала она. — Пошел ты, знаешь куда, со своею любовью!
— А почему же? — лепетал Иван, — а зачем же вы тогда ночью? Я думал…
— Да мне начхать, чего ты там думал! Думал он… Мне отомстить тогда было нужно и все, да мне пофиг с кем было, хоть с чертом лысым. Думал он… Придурок!
В дверях появился плаврук. Шлепнул Светочку по заднице, оперся о косяк и поинтересовался:
— А это еще что за гусь? — в его голосе была угроза.
— Да очередной идиот влюбленный, — испуганно защебетала Светочка, — ты же знаешь, эти молокососы вечно в меня влюбляются. Ходят за мной по пятам, а этот урод самый наглый. Гляди ж ты, даже домой посмел припереться.
— А, вспомнил, был такой пионэр, плавать умеет только по-лягушачьи. А то смотри у меня, шалава, — он сунул Светочке под нос свой здоровенный кулак. — А ты, шкет, пшел вон отсюда. И чтоб больше я тебя здесь не видел. Все понял?
Иван молча развернулся и направился через двор к выходу.
Машка была забыта. Кто такая Машка? Ее затмила Светочка, которая рисовалась в воображении Ивана коварной искусительницей, совратительницей молоденьких мальчиков, которая использует их для своих утех и тут же забывает. На самку богомола она, конечно, не тянула, но самцов после употребления выбрасывала из своей жизни. Впрочем, очевидно, была еще одна категория мужчин, которая использовала саму Светочку, причем делала это не лучшим образом. Ивана терзали противоречивые чувства. С одной стороны, Светочку ему хотелось придушить — никто и никогда его еще так не унижал. Кем он для нее был? Вещью? Жеребцом? Быком-осеменителем? Ну, уж точно не человеком и тем более не личностью. С другой стороны Светку хотелось спасти. Разлучить ее с этим мужланом — плавруком, который в грош ее не ставит: оскорбляет, изменяет, приучает к самогонке. Почему-то Иван был уверен, что пили они именно самогонку — в стране был сухой закон. Светочку нужно заставить читать умные книжки — она ведь совершенно невежественна, обучить хорошим манерам. Заставить ее получить образование — ну какое у нее может быть будущее с восемью классами? Не век же ей пионервожатой работать? А потом куда? Полы мыть? Или в дворники? Куда ее такую возьмут? Иван мнил себя Пигмалионом. Он воображал, что если бы он был рядом со Светочкой, то силой своей любви заставил бы ее измениться. Он даже представлял, как они после ласк лежат в постели, обнявшись, и читают книги. Светочка снилась Ивану по ночам. Не с книжкой, разумеется, а вообще без ничего. Нагишом. Просыпаясь после таких снов, Ивану уже не было никакого дела ни до спасения Светочки, ни до ее образования, он просто ее хотел. Вот и все. Хотел снова коснуться ее груди, снова услышать ее какие-то первобытные, немного животные стоны. И эта неутоленная жажда каждый день гнала его к Светкиному дому, питала его глупые надежды и пустые мечты. Он увидел ее в конце августа, перед началом занятий в школе. Светка в коротеньком, пестреньком грязноватом халатике шла от колонки с ведрами, полными воды. Иван подскочил к ней и, заикаясь, предложил свою помощь. Светочка удивилась, но ведра отдала. У самой калитки, когда Иван поставил ведра на землю, она спросила его:
— Снова ты?
— Я.
— Упорный. Как тебя, говоришь, зовут?
— Ваня.
— Вот что, Ваня, — сказала она устало, — забудь ты меня. Очень тебя прошу. Ничего хорошего со мной не будет. Дрянь я, шалава. А ты хороший мальчик. Из приличных, смотрю, в очочках вон. А я неуч, ничего не умею, только в постели…, — она покраснела, — и вот хоть любить буду мужика до смерти, а все равно налево пойду. Такая уж я. Измучаешься ты со мной, Ваня. Не нужна я тебе. Иди уж… Найди себе хорошую девочку, а меня забудь.
— Я люблю тебя, — повторил Иван.
Светочка молча подхватила ведра и скрылась во дворе.
Разум подсказывал Ивану, что нужно забыть эту распутную девицу, у которой кроме груди не было ничего выдающегося, но не получалось. Она была недосягаема и от этого еще более желанна. Это была заветная золотая медаль для марафонца. Путь к ней был долог и изнурителен, но почему-то казалось, что ради этой женщины стоит его пройти. Иван стал писать ей письма. В них он писал о своих чувствах, цитировал размышления о любви великих, рассказывал об историях любви, воспетых писателями и поэтами. В ответ Иван не получил ни строчки. Светочку, конечно, можно было заподозрить в том, что она не умела писать, но можно было предположить, что за восемь лет в школе кое-какой грамоте она все ж таки обучилась. По-прежнему все маршруты прогулок Ивана проходили мимо Светочкиного дома. Часто из окон неслась музыка, мужской смех, крики. Он понимал, что сейчас в этом сером, маленьком домишке происходит пьянка, а возможно и оргия. Иван догадывался, что его нежно любимая Светочка в этот самый момент может отдаваться какому-нибудь своему собутыльнику. Об этом думать не хотелось. Но Иван думал и задыхался от ревности. Через полтора месяца, когда в городке царила осень и непролазная грязь, Иван запретил себе прогулки мимо Светочкиного дома, тем более что асфальта на ее улице не было, и грязища там была просто невообразимая. В общем, прогулки в краях, где обитала пионервожатая-блудница, утратили хоть какую-то приятность. Чтобы как-то отвлечься от своей несчастной любви и ревности, Иван записался в Штаб комсомольского актива. Там собирались творческие, умненькие ребята: они ставили спектакли, устраивали тематические дискотеки для школьников, пели песни под гитару. Там было много симпатичных девчонок. В отличие от Светочки, они были вполне себе целомудренными — соблазнить таких было не так-то просто, зато была уверенность, что они не станут спать с первым встречным. А еще они были образованными, с ними можно было и об истории многострадального отечества поговорить, и о перестройке, и о Горбачеве, и о литературе, и о живописи. К декабрю Иван увлекся Леночкой Зиминой, которая тоже ходила в штаб. Эта пухленькая блондиночка немного напоминала Светочку, бюст, впрочем, был не столь примечательный, но все же внушительный. К нему прилагалась милая, обаятельная улыбка, женственность, веселость, смешливость, болтливость. Словом, Леночка была обворожительна. О Светочке Иван думал все меньше. Он встретил ее на дискотеке в городском Доме культуры прямо перед Новым годом. Была она сильно накрашена, на голове имела огромный начес, склонный к карикатурности, было на ней красное платье с черным широким поясом, черные бусы, модные колготки в сеточку. Она была вульгарна. Она была сильно пьяна. И была она не одна, а с каким-то здоровенным металлистом в косухе с клепками, увешанной цепями. Иван не знал этого парня. Посмотрел Иван на Светочку, которая бесстыдно висла на своем металлисте, пыталась его целовать, а он небрежно ее отталкивал, и впервые подумал: «Как я мог с ума сходить по этой бляди? Ну я и дурак!». Все, как отрезало.
О Светочке Иван еще услышал. Через год, когда он был уже в выпускном классе, ее погнали из школы. История была темная, но в городе поговаривали, что уволили пионервожатую за связь с девятиклассником. Якобы эту парочку застали прямо в классе. Иван был склонен поверить, что так оно и могло быть. Он тогда снова испытал какие-то сложные чувства: смесь злорадства и жалости к этой непутевой девке.
Спустя годы, когда Иван уже имел достаточно обширный сексуальный опыт, он иногда вспоминал свою самую первую любовницу. Неизвестно, то ли потому, что она была первая, то ли потому, что она действительно имела необыкновенный талант в сексе, но Светочка казалась Ивану лучшей. Непревзойденной.
Вот и сейчас, стоя под окнами пустого, темного, совсем обветшавшего Светочкиного домика, он думал о том, что она, как и он, разбазарила свой дар. Раздала его слишком многим, тем самым обесценив. Она сгубила свой талант, да и себя тоже. Интересно, а была бы она счастлива, если бы дарила свою любовь, свою страсть кому-то одному? А был бы ее избранник счастлив? Кто знает? Скорее всего, нет. И она не была бы счастлива. Она могла бы развить свой талант, довести его до уровня искусства, стать настоящей путаной. О, господи! О чем он сейчас думает? Желать женщине стать проституткой! Глупенькая, нищая, бескорыстная Светочка не смогла бы сделать на своем даре бизнес. Она повиновалась только чувству, только зову своего тела. Но зато скольким мужчинам она подарила острые мгновения истинного наслаждения. Бедная девочка. Скорее всего, ее участь была предрешена уже в момент ее первого соития. Кто знает, когда и с кем это было?
— Ты что, тоже из этих? — услышал Иван мужской голос. Он обернулся. Рядом стоял прилично одетый, высокий, полный мужчина, примерно ровесник Ивана.
— Из кого, из этих, простите? — переспросил Иван.
— Из кого, из кого, из Светкиных полюбовников, конечно.
— Да, а вы, что, тоже?
— Ага. Давно уже в Сибири живу, приехал вот родителей навестить, узнал, что убили ее.
— Я тоже только что узнал.
— Это из-за меня ведь ее тогда из школы уволили, и покатилась она тогда по наклонной. Я бы никому не сказал, но нас завуч застукала. Я со спущенными штанами, она — с задранной юбкой, тут уже не отвертишься. Нет, конечно, если бы меня сейчас жена застала в такой ситуации с посторонней бабой, я бы нашел, что соврать, а тогда-то сосунок еще совсем был, растерялся. Как я тогда мучился. Совесть меня загрызла. Я к ней пришел тогда, денег принес, копил я на мопед, и мне дарили родственники на дни рождения, на праздники, а она меня прогнала и денег не взяла. Пьяная была и с мужиком каким-то. Эх, — вздохнул он, — дура была, хоть про покойников плохо и не говорят, а жалко бабенку. До сих пор ведь ее вспоминаю, такая горячая штучка была. Давай помянем, что ли. — Мужчина достал из кармана дубленки бутылку коньяка. — Миша меня зовут.
— Иван. Да, надо помянуть. Как это я сам-то не догадался, слишком был шокирован новостью.
Миша вылил немного коньку в снег и первым глотнул прямо из горла. Потом протянул Ивану бутылку. Помолчали. Потом Миша снова глотнул и сказал:
— Пусть земля тебе будет пухом, маленькая шлюшка, прекрасная богиня любви! Все мы, кому ты дарила свою страсть, огонь своей души и тела, все мы помним тебя. Спи спокойно. Ты заслужила покой.
— Да, заслужила, — подтвердил Иван и подумал, что этот сибиряк как-то странно красноречив. Хотя, какая разница? Больше ведь они никогда не увидятся. И вряд ли когда-нибудь Иван придет еще к этому домику. Мертвой женщине он ничем не мог помочь. Ее душа — уже не его забота.
Глава шестнадцатая
Петр Вениаминович рассматривал картину над кроватью, курил сигару и довольно сопел.
— Иван Сергеевич! Я восхищен вашей матушкой! Какая женщина! Какой талант! А ведь могла бы тихо помереть перед телевизором, в одиночестве, душевной пустоте и забвении. Но ведь нашла в себе силы, ожила, возродилась, стала творить. Будь я журналистом, я бы про нее написал, хотя нет, я бы ее по телевизору показал в назидание современникам! Пусть поучатся! А то растрачивают свою жизнь черт знает на что. Смотреть противно. А знаете, Иван Сергеевич, пора вам, пожалуй, и честь знать, загостились вы тут что-то. Я по вашей милости утратил в своем мыслевыражении высокий стиль и скатился к какому-то захолустному просторечью. Чудесный городок, спору нет, но уж слишком незамысловатый. Слишком. А люди такие душевные, такие милые, такие общительные, что так и норовят своим общением подпортить мое изысканное, отточенное десятилетиями тренировок красноречие.
Иван никогда бы не подумал, что наступит такой момент, когда он будет ждать ночного визита Перта Вениаминовича. Но он ждал. Когда Иван фантазировал перед сном, в каком амплуа может на сей раз предстать перед ним этот загадочный конферансье-мефистотель, воображал, что будет он трагичен, одет, например, в черный траурный сюртук, а бабочка будет задумчиво-фиолетовая. Но нет, Петр Вениаминович был с ног до головы в камуфляже: в камуфляжной кепке, камуфляжной фуфайке, камуфляжных штанах и даже валенки на нем были камуфляжные. И только бабочка, как пионерский галстук, алела среди этого серо-зеленого массива.
Петр Вениаминович перехватил взгляд Ивана, направленный на его одежду:
— Вот и одеваться стал здесь по-простому, по-народному, никакого лоска, никакой изысканности. Знаете ли, с мужиком с одним, егерем знакомым, на охоту ходил. Это, скажу я вам, да! Я бы точно того лося подстрелил, если бы мне ружье доверили, разумеется. Так ведь не дал, ирод! Так за егерем-то тем и болтался как зритель.
— А вы что же и днем к некоторым являетесь? Я думал, вы исключительно ночной гость.
— Нет, днем я не являюсь, днем я наблюдаю, присматриваю, так сказать. Вы же, людишки, странный народ, все так и норовите влезть в какие-нибудь неприятности. Хлебом вас не корми, дай найти приключений на свою, пардон, жопу.
— И все же, кто вы, позвольте полюбопытствовать? — Иван решился задать мучивший его вопрос, почувствовав, что Петр Вениаминович настроен сегодня вполне благодушно.
— Не позволю, — отрезал тот, — не положено.
— Но послушайте, вы приходите ко мне, приходили к Маше, к моей матери, вас можно было бы считать сновидением, но ведь так не бывает, чтобы один и тот же человек снился разным людям, но с каждым говорил о чем-то своем. Я еще могу представить, что нескольким людям снится один и тот же сон, но чтобы так… Скажите мне, кто вы? Прошу вас! — взмолился Иван.
— Не положено! А свои пинкертонские штучки оставьте при себе. Меньше знаешь, лучше спишь! — Петр Вениаминович расхохотался. Потом вдруг снова стал серьезным. Даже помрачнел. — А, знаете, к Светочке я ведь тоже захаживал, не по долгу службы, а так, на общественных началах, из сострадания. В высшей степени волнующая особа! Так ведь она меня как в первый раз увидела, креститься начала да визжать. И слова мне сказать не дала. Так и исчез я ни с чем. Совершенно невежественная, темная и суеверная дамочка была. Принять меня за черта! Ну как можно! Я — и вдруг черт! Но я, заметьте, после такого фиаско не спасовал, не отступил, а проявил упорство — я снова к ней пришел. Ради нее я даже сделал исключение — без сигары явился. Даже бабочку снял, чтобы не слишком шокировать это простодушное существо. Говорил ей что-то, говорил. Погибнешь, говорю, ходишь по краю пропасти. А она мне: «Только одного от жизни и хотела — любить, а так и не смогла. Никого никогда не любила. Только тело свое раздавала направо и налево, но не любила никого. Зачем мне жить?». Так и не смог ее спасти. Твоя Светочка — это мой провал. Знаете, это очень странно, самые простые люди, они и оказываются самыми сложными, может потому, что убеждений у них мало, зато они свято в них верят и от них не отступаются. А жизнь-то ведь идет, все меняется, и иногда приходится признавать, что в чем-то заблуждался, отказываться от своих принципов и верований, если они мешают двигаться дальше, ставить новые цели, приобретать новые ценности, если прежние устарели. Гибче нужно быть. Сложно организованные люди чего-то ищут, плутают, выбирают новые пути, дойдя до перепутья, а эти… как встали в колею, так и прут. Хоть там Змей Горыныч у них на дороге, хоть Кощей Бессмертный, все равно прут. — Петр Вениаминович как-то уж слишком задумчиво затянулся своей сигарой. Таким Иван раньше его никогда не видел. Может, сейчас он сбросил все маски и был собой. А может, это какая-то очередная его личина доморощенного философа и спасителя несчастных нимфоманок, которым так и не удалось полюбить никого из сотен своих партнеров. — Сколько раз я зарекался делать добрые дела, спасать кого-то не из служебной надобности, а по собственному почину, так нет, гляди ж ты, опять полез, старый дурак! И что из этого вышло? Да ничего путного так и не вышло. Как спасти того, кто не хочет спастись, кто ищет своей погибели? А ей-то ведь и нужно было не пить несколько дней, чтоб пелена с глаз упала, оглянуться вокруг и увидеть, что есть рядом человек, который ее любит, и которого она могла бы полюбить. Жил он по соседству. А она его и не замечала. Ну да ладно, дело прошлое, и ничего уже не вернуть. Поворачивать время вспять еще никто не научился. А вы ведь, Иван Сергеевич, кажется, еще будучи пылким, наивным юношей тоже пытались ее спасти и тоже безуспешно… Забудьте. Вернее, помните ее, помните, человек ведь жив, пока его помнят, но не казнитесь, не терзайтесь. Ни в чем вы перед этой женщиной не виноваты.
Петр Вениаминович отвернулся, Ивану даже показалось, что он тайком смахнул слезу, когда он повернулся, на лице его снова было привычное глумливо-циничное выражение.
— Ну что ж, молодой человек, не могу не признать, что за последние три дня вы проделали колоссальную работу. Может, вы и разочарованы, но оставшиеся в живых дамы в этом городке, которых вы любите или имели честь любить, я имею в виду вашу прекрасную матушку и Леночку Зимину, прекрасно обходятся без вас. Они великолепно устроены. И какой мы делаем из этого вывод?
— Какой?
— Я понимаю, что вы только что пережили серьезное потрясение, могу также предположить, что вы чувствуете некоторое смятение, эмоциональную опустошенность и даже, не побоюсь этого слова, грусть, но вам надлежит продолжить исполнять свою миссию. Причем незамедлительно. Теперь вы, надеюсь, воочию убедились, что некоторые женщины действительно нуждаются в спасении. И это вам не шуточки. Они вон и помереть могут, если их не спасать. Вам бы еще на кладбище сходить, постоять у кривенького, деревянного крестика на заброшенной могилке Светочки, подумать о скоротечности жизни, о том, что завтра может и не быть, что нужно ценить своих близких, что любимым делом нужно заниматься сейчас, а не когда-нибудь потом. Этого вот «потом» может и не случиться. Но не найдете вы, пожалуй, могилку-то на заснеженном кладбище… Итак, даю вам еще один день на то, чтобы на саночках с гор покататься — и в путь. А кстати, позвольте полюбопытствовать, рисовать-то вам понравилось?
— Нет, — буркнул Иван, — глупое занятие для детей и пенсионеров.
Петр Вениаминович снова обратил взор на картину Ивановой матери.
— Знаете, что я чувствую, глядя на полотно вашей матушки? Я чувствую радость и умиротворение. А знаете, что я думаю, глядя на полотно вашей матушки? Я думаю, что жизнь прекрасна и многолика. Ознакомившись с этой картиной, я и на ваш родной городок смотрю по-другому: теперь я вижу не серые унылые заборы, однообразные домики в три окошка. Теперь я вижу его скромную, неприметную красоту: белоснежные сугробы, росчерк березовых веток по голубому небу, освещенные окна в темноте, за которыми люди занимаются любовью, ужинают или просто смотрят телевизор, мечтают, растут, стареют. Жизнь — это так прекрасно. А искусство творит новый мир, новую жизнь. Впрочем, не стану вас переубеждать. Детство ваше уже миновало, значит, будем ждать пенсии, чтобы вы вернулись в лоно искусства? Но хочу напомнить, что нам не дано знать, насколько долго продлится наша жизнь, и в какой момент она может оборваться. Вдруг сегодня утром вы просто не проснетесь? — Петр Вениаминович демонически расхохотался и исчез.
— А я-то, дурак, подумал, что наш Мефистофель внезапно подобрел. Чудес не бывает, — хмыкнул Иван. Несмотря на последний аккорд их беседы, таящий в себе угрозу, Иван почувствовал облегчение — его не терзало больше чувство вины по поводу смерти Светочки. Остаток ночи он проспал с улыбкой на лице. Ему снились картины, которые он, возможно, так никогда и не напишет.
После завтрака Иван взял планшет, карандаш и принялся рисовать. Он рисовал жену, мать, пришедшего в гости Александра Васильевича. Он так и был запечатлен с хитрой, торжествующей улыбкой на лице — старый учитель был очень доволен, что его ученик вновь увлекся рисованием. К вечеру рука Ивана обрела твердость и уверенность — он, разумеется, не достиг своего же уровня мастерства, каким обладал в четырнадцать лет, но все же смелые, решительные линии его рисунка свидетельствовали, что способности не утрачены. Просто они слишком долго не были востребованы.
На следующее утро жена Ивана отбыла в Москву, а сам он отправился в город своей юности, где он учился в университете и делал первые шаги в карьере. Жене он сказал, что едет навестить дочь, а на самом деле ему предстояло встретиться и с мамой девочки, и еще с одной дамой. Но жене знать об этом, разумеется, было не обязательно.
Этот город Иван тоже считал родным. И ему было странно, что в этом городе, где у него были десятки знакомых и несколько друзей, ему негде было остановиться. Можно было бы к кому-нибудь напроситься, но он не хотел никого стеснять, а еще больше хотелось ему просто побыть одному. Такси доставило его в гостиницу. Здесь он обычно и останавливался, когда приезжал навещать дочь. Хотя в последнее время чаще она его навещала — так было удобнее им обоим. Ивана не тянуло в город своей юности, зато Лесю тянуло в Москву. Там она весело проводила время с Ивановой женой: они бегали по музеям, по магазинам, гуляли по переулкам, сидели в кафе — Леся чувствовала себя взрослой. По вечерам Иван выводил их обеих в дорогие рестораны. И тогда во время этих ужинов он ощущал редкое чувство покоя. И тогда он вдруг начинал жалеть, что его семья состоит только из него самого и жены, с которой он не очень-то и близок, да и семья ли это вообще. Что совместная жизнь с Лесиной матерью оказалась сущим кошмаром, но самое ужасное, что он влез в него сам, по собственной воле. Что он трус и не может решиться завести собственного ребенка, а время, между тем, идет, и не успел он оглянуться, а молодость уже миновала, и на горизонте маячит старость. И все так быстро, так быстро! А еще он был счастлив, что благодаря Ольге, этой коварной, хитрой, жестокой красавице, в его жизни появилась Леся. Он считал ее своей дочерью. Ей было уже семнадцать — совсем взрослая. Красивая, как и ее мать. Иван искренне надеялся, что не такая жестокая. Но уже избалованная и капризная.
В номере Иван прилег на кровать отдохнуть. Ему не хотелось никому звонить. Даже дочери. Он слишком устал. Слишком устал. Он снова задавал себе вопрос: «Почему я не однолюб? Почему?» и еще: «А смогу ли я когда-нибудь остановиться? Существует ли на свете женщина, которая сможет стать для меня единственной? Куда заведут меня эти поиски, и не останусь ли я в полном одиночестве на старости лет?».
Иван набрал номер дочери.
— Да, папа! — очень забавный у нее голосок, как у десятилетней девочки, только почему-то очень грустный.
— Как дела, заяц?
— Нормально. — Голос какой-то совсем-совсем грустный.
— Что случилось?
— Ничего.
— Я в городе, давай пообедаем.
— Почему ты не предупредил? У меня планы.
— Заяц, я приехал только ради тебя.
«Всегда она так, — подумал Иван, — как быстро мы перестаем быть нужными. Как быстро они вырастают».
— Ну что ж, — сказал он уже вслух, — мне очень жаль. Я соскучился по своему маленькому белому зайцу. Тогда, может быть, завтра?
— Ладно, давай сегодня.
— А твои планы?
— Отменю. Там ничего серьезного.
Они встретились в кафе в центре города: респектабельный господин средних лет и молоденькая красивая девушка. Ивана всегда забавляло, как на них последние года два реагировали окружающие: они явно не видели в этой паре отца и дочь — им чудился растлитель малолетних со своей жертвой. Они уселись на желтые полосатые диваны друг против друга. Леся заказала себе пиццу.
— Может, что-нибудь поприличнее? — спросил ее Иван и недовольно поморщился.
— Я хочу пиццу, папа. — Ответила она упрямо.
Ну да, возраст такой — отстаивают свою независимость.
— Пиццу, так пиццу, — согласился Иван, а себе заказал пасту с белыми грибами и карпаччо из говядины с руколой. — Что будешь пить? — он снова обратился к дочери.
— Пиво. — Сказала она.
Иван хотел было рявкнуть, что рано ей еще пить, а потом вспомнил, что она уже взрослая и выпить немного пива ей, наверное, уже можно, хоть и не желательно. И вообще, бог ее знает, что и сколько она пьет со своими друзьями. Да и имеет ли он право ей что-то запрещать, он ведь даже не воскресный папа, а так, в лучшем случае — каникульный. Или как там правильно — каникулярный?
— Два пива. — Сказал Иван официантке. — Как в школе? Как четверть закончила? — спросил уже Лесю.
— Тебе правда интересно? — с вызовом.
— Правда.
— А почему ты тогда не позвонил в конце декабря, когда четверть закончилась и нам выставили оценки? Почему ты только сейчас интересуешься? — в голосе обида, в глазах — злость.
— Извини. Закрутился. Ты же меня знаешь: работа, работа, ни на что не хватает времени. Были еще и крупные неприятности. Из головы вылетело. Но если я не спросил, это не значит, что я о тебе не думал.
— Все ты врешь! — почти закричала Леся. — Тебе вообще нет до меня никакого дела!
— С чего ты взяла?
— Потому что ты мне не отец, ты мне чужой дядя! Ты мне вообще никто, и я для тебя никто!
Официантка принесла пиво.
Леся вцепилась в бокал и сделала несколько больших глотков. Иван тоже отпил немного. Что это? Просто подростковое недовольство тем, что он мало уделяет ей внимания, или ей кто-то рассказал, что Иван действительно ей не родной отец?
— О чем ты говоришь? Я не понимаю. — Спросил он осторожно.
— Ты ведь мне не родной отец, признавайся!
— С чего ты взяла?
— Что ты юлишь! — закричала Леся. — Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю!
— Нет, не понимаю. — Ответил Иван твердо. Он давно уже научился лгать. — И еще я очень попросил бы тебя вести себя прилично. Мы все-таки в общественном месте находимся.
— Почему вы все такие? — зашипела Леся, — в кабаке, по-вашему, кричать нельзя, а врать человеку всю жизнь — можно! По-моему, куда приличнее в кафе устроить истерику — вреда от этого никакого, а вы подумали, что я чувствую из-за вашей лжи?!
— Леся, ты можешь нормально сказать, что случилось? Я действительно не понимаю, о чем ты говоришь.
— Мама мне рассказала, что ты мне не родной отец. — В глазах девочки блеснули слезы. — А еще она сказала, что женился ты на ней только из-за денег и меня удочерил тоже! А на самом деле ты меня совсем не любишь. Это правда? — она снова сорвалась на крик.
Иван медленно глотнул пива.
— Да, кое-что из того, что ты сейчас наговорила, действительно правда.
— И что же? — спросила Леся холодно.
— Я на самом деле не твой биологический отец. И мы с твоей мамой договорились, что не будем говорить тебе об этом. Точнее, решили, что скажем тебе, когда ты будешь готова спокойно воспринять подобного рода информацию.
— То есть вы договорились врать мне? Вы что, серьезно думали, что человек когда-нибудь может быть готов услышать, что мужчина, которого он отцом считал, любил как отца, на самом деле ему никто? Вы серьезно думали, что такое возможно? — Леся расхохоталась. — Вроде, взрослые люди, седые уже, а такие идиоты!
— Ты считаешь, что я тебе никто? — спросил Иван. — А ты думаешь человеку, который вырастил тебя как отец и любил тебя как дочь, легко слышать, как ты говоришь про меня — никто. Леся, я — твой отец.
— Ты бросил нас с мамой! — взвизгнула она. Родных детей не бросают.
— Твой родной отец бросил тебя еще до рождения, как только узнал, что твоя мать беременна. А я тебя воспитывал, заботился о тебе. Наш развод с твоей мамой не имел к тебе никакого отношения, я хочу, чтобы ты поняла это. Это были только наши с ней проблемы — мы не могли больше оставаться вместе. Наша совместная жизнь превратилась в ад.
— Могли бы потерпеть ради меня. — Проворчала Леся.
— Я бы мог сейчас сказать, что ты жуткая эгоистка, но я так не скажу. Я задам вопрос: ты хотела бы взять ответственность за то, что мы несчастливы, на себя?
— Это еще с какой стати? — возмутилась Леся.
— Ну, мы терпели бы друг друга ради тебя, то есть, если перефразировать — ИЗ-ЗА тебя. Значит, именно ты и была бы виновата. Логично?
— Логично, — нехотя подтвердила Леся.
— А сейчас ты отвечаешь только за себя, а за свои неприятности мы уж как-нибудь ответим сами, — Иван рассмеялся будто бы беззаботно. Он очень надеялся, что дочь перестанет задавать неудобные вопросы, и они просто начнут болтать о всяких пустяках.
Леся тоже улыбнулась, попросила заказать еще пива. Иван недовольно поморщился, но заказал и ей, и себе. Он, было, расслабился, но тут дочь задала следующий вопрос:
— Ну, хорошо, ты мне по-прежнему отец, хоть и не родной, а что насчет твоей женитьбы на маме из-за денег, это правда?
Иван пожалел, что не заказал чего-нибудь покрепче пива. Он смотрел в окно и думал, как ответить. Пауза затягивалась.
— Так это правда? — Леся уже не спрашивала, а, скорее, утверждала.
— Самое забавное, что это правда, но одновременно и неправда. Я хотел собственную квартиру и хотел спасти твою маму. Мне тогда казалось, что это можно как-то совместить. — Иван решил, что его повзрослевшая дочь имеет право знать, как все было на самом деле, но он не представлял, что по этому поводу ей наговорила ее мать. Тем более он не представлял, насколько его версия может отличаться от версии Ольги. Что ж, была не была. — Твоя мама была очень красивой девушкой. Может быть, самой красивой в этом городе. По крайней мере, я красивее не встречал. Я видел ее несколько раз, но даже мечтать не мог, что она когда-нибудь обратит на меня внимание, тем более что и у меня в то время была девушка, которую я очень любил…
Иван рассказал своей дочери, как ее мать отшила его на дискотеке, как его пригласил в гости ее отец и предложил сделку, как он решил отказаться, а Ольга уговорила его согласиться, чтобы спасти ее…
Свадьба была богатая — Михаил Львович еще в советские времена поднаторел в умении пускать пыль в глаза. Торжество проходило в самом большом и роскошном ресторане города. Невеста была в самом дорогом и элегантном платье, которое только удалось найти. Платье было очень простым — Ольга наотрез отказалась надевать на себя разные там, как она выразилась, кремовые торты, как полагалось по тогдашней моде. Ивана тоже принарядили в серьезный темно-синий костюм. Он и не подозревал, что бывают костюмы из такой тонкой шерстяной ткани. Собственно, он не подозревал, что вообще бывает такая ткань — в его гардеробе была лишь турецкая одежка, купленная на рынке, которая по тем временам считалась образцом стиля и признаком состоятельности. Гостей было человек двести. И Иванову родню пригласили — он не хотел впутывать родителей в свой фиктивный брак, больше похожий на сделку, но Михаил Львович строго-настрого наказал позвать и их, чтобы ни у кого не было сомнений, что свадьба самая настоящая. Ивану пришлось спешно отправиться в родной город — объясняться. Он хотел было придумать для родителей красивую сказочку о поразившей его внезапно неземной любви и последовавшей за ней беременностью объекта страсти. Все три часа в автобусе на пути домой он продумывал детали «легенды», а дома, когда вся семья собралась за ужином, неожиданно для себя выложил всю правду. Над столом повисло молчание. Потом отец потребовал водки. Мать принесла из чулана припрятанную бутылочку беленькой. Разлили по рюмкам и Ивану плеснули в первый раз в жизни, будто признав, наконец, что он стал взрослым. Выпили по одной. Разлили еще.
— Никогда, сынок, слышишь, никогда мы, Лёвочкины, не продавались! Никогда! — изрек отец. — Лучше быть бедным, но честным. Честь потерять легко, и потом ее ни за какие деньги не купишь. Пойми это! Что ты собрался делать? Зачем тебе это? Стоит ли эта дурацкая квартира поруганной чести?
— Папа, мне нужно где-то жить. — Возразил Иван. — Квартира нужна. Ну, скажи, сколько лет я должен работать, чтобы купить себе жилье? Или, может быть, вы с матерью можете мне помочь в этом вопросе? Папа! Я не хочу возвращаться в этот город! Я вырос из него, пойми! Где я буду здесь работать? Я ведь уже профессионал. Ты хоть знаешь, сколько я сейчас зарабатываю?
— Что, много? — спросил отец и язвительно посмотрел своими холодными голубыми глазами в холодные голубые глаза сына.
— Достаточно! — выкрикнул Иван.
— Достаточно для чего, позволь поинтересоваться?
— Для жизни!
— Значит ли это, что и свою квартиру ты сможешь купить сам?
— Смогу, но не скоро. К тому же, мне придется уволиться, вернее, не так, меня уволят, потому что мой шеф — это отец моей фиктивной невесты. И тогда, прежде чем начать копить на квартиру, я еще должен буду найти новую работу.
— Ты умен?
— Да.
— Молод?
— Да.
— Энергичен?
— Да.
— Талантлив?
— Вроде, да.
— Так неужели ты не сможешь заработать себе на квартиру?
— Смогу.
— Так зачем продаваться? Ты сам все сможешь!
— Папа, я ей обещал. Я не мог отказаться. Понимаешь, если я на ней не женюсь, отец выдаст ее за своего полуграмотного водителя, а она образованная, интеллигентная девушка. Как она с таким? Я должен ее спасти. И я уже обещал на ней жениться, понимаешь? Как я могу отступиться от данного слова? Это не предательство, по-твоему? Это, по-твоему, не потеря фамильной чести и моей собственной?
Отец не отвечал. Он молча налил водки себе, Ивану и своей жене. Все, не сговариваясь, выпили. Без тостов, как на поминках.
— Я всегда тебя ценила за то, что ты держал свое слово, — вдруг сказала мать, обращаясь к отцу, — я тебя за это уважала, и за верность своему слову я тебя и люблю до сих пор. Вы оба не представляете, до какой степени это важно. Нет ничего важнее для женщины, чем возможность верить своему мужчине, доверять ему. Это ее опора в жизни. Это такая редкость. Ваня, раз обещал, женись на этой девушке. Я тебя благословляю. Но должна предупредить, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не сможешь ты с ней расстаться через месяц после женитьбы. Затянет она тебя. И ребенок ее станет твоим ребенком. Не спрашивай меня, откуда я это знаю. Я сама не знаю, но я это чувствую. Мне кажется, ты хочешь на ней жениться, может быть, ты немного в нее влюблен?
— Мама! Это фиктивный брак! Это сделка!
— Значит, точно влюблен, — рассмеялась мать.
— Дал слово? — уныло спросил отец.
— Да, дал слово.
— Значит, придется жениться. Лёвочкины держат свое слово. Это у нас в крови. Да, именно так — мы порядочные люди, а это по нынешним временам не такое уж и достоинство, скорее тяжкий крест.
— Не волнуйся, сынок, все будет хорошо, поступай так, как считаешь нужным. — Резюмировала мать.
— Спасибо, мама. А на свадьбу-то приедете?
— Приедем-приедем, — уверила его мать, — к тому же и родственников придется привезти — нам теперь, как и твоему будущему тестю, придется пускать пыль в глаза: нечего им знать, что ты ради квартиры и данного слова женишься, пусть все будет вроде как по-настоящему. А то не отмоешься потом. Разговоров не оберешься. Не такой судьбы я тебе желала, Ваня, но ты взрослый уже и должен сам искать свою дорогу.
— Спасибо, мама. — Прошептал Иван.
— А может, просто так женишься? А квартиру-то брать не будешь? — предложил отец.
— Папа, — ответил Иван строго, — социализм закончился, мы вступаем в эпоху рыночных отношений. Кодекс строителей коммунизма больше не действует. Забудь о нем. Мир изменился. Квартиру я возьму, это плата за мои услуги.
— Куда катится мир? — вздохнул отец.
Перед свадьбой Иван встречался со своей невестой всего два раза: гуляли по парку и обсуждали стратегию поведения на бракосочетании. Ивану все хотелось поцеловать Ольгу. Но он не решался. Это ведь был фиктивный брак. К тому же ему полагалось страдать от разрыва с Ириной. Он и страдал, но как-то не слишком сильно, и это его смущало.
Михаил Львович тоже пару раз приглашал Ивана на аудиенции. Давал инструкции: смотреть на его дочь нужно было с искренним, неподдельным обожанием, с тестем и тещей обращаться почтительно, с гостями, среди которых будет немало весьма уважаемых людей, общаться вежливо, интеллигентно. Когда будут кричать «Горько!», целоваться с чувством, страстно. Говорили не только о театральной стороне предстоящего события, но и об оплате этого спектакля. Михаил Львович возможности выбрать самому будущую жилплощадь Ивану не дал — подобрал все сам, или были у него какие-то резервные квартирки, кто его знает. Сказал, что и Иван, и Ольга получат документы, подтверждающие право собственности, за два дня до свадьбы, и это будет акт доверия к будущему родственнику. Михаил Львович выразил надежду, что жених не предпримет попытку сбежать, как только получит желаемое. Добавил, что он так поступать настоятельно не рекомендует, ибо времена сейчас неспокойные, жизнь человеческая вообще ничего не стоит, и кто знает, что может случиться при таких раскладах? Кирпич на голову упадет, например, или шальная пуля заденет. К тому же всегда есть шанс шашлыком из собачатины отравиться. Ну, мало ли. Иван заверил будущего тестя, что он предельно ясно понял ход его мыслей и беспокоиться абсолютно не о чем — он с радостью выполнит все условия договора. Михаил Львович оказался человеком широкой души: хотя метраж квартир и не обсуждался, и Иван надеялся на что-то вроде однокомнатной хрущевки, но получил он двухкомнатную квартиру новой планировки в кирпичном доме. Такую же жилплощадь получила и Ольга, только эта квартира была полностью обставлена и с хорошим ремонтом: именно в нее и должны были переехать молодожены — по условиям контракта Иван должен был прожить с Ольгой не менее полугода, чтобы потом уже развестись, не вызывая подозрений, мол, не сошлись характерами. Обычное дело. Когда Иван получил ключи от своей собственной квартиры, от своей первой собственной квартиры, он был счастлив. Им овладела самая настоящая эйфория. Это было похоже только на первый секс. Тогда, в пионерском лагере, в возрасте пятнадцати лет, когда он лежал в постели после самого первого своего соития, он испытывал нечто подобное. Когда Иван ходил по своей собственной квартире, по двум ее небольшим пустым комнатам, оклеенным блеклыми старыми обоями, оставшимися от прежних хозяев, он чувствовал себя баловнем судьбы — как далеко он ушел от своих нищих сверстников: у него есть работа, приличная зарплата, а теперь вот и квартира — собственные 50 квадратных метров. И уже точно не нужно возвращаться в родной город! Душа его пела и ликовала. Но продолжалось это недолго. Уже на следующий день, накануне свадьбы, его начали терзать сомнения: поступает ли он правильно, не совершает ли он роковую ошибку, не предает ли он себя, сможет ли он выпутаться из этой ситуации без потерь и, вообще, сможет ли он выбраться? Сердце, как тисками, сжало тревогой: Ивану вдруг начало казаться, что его заманили в западню, то, что казалось ему сделкой, приключением, благородным поступком, может обернуться потерей свободы, ярмом, каторгой. А что если это семейство, всемогущий отец с замашками местечкового князька или даже царька и его не по годам умная и коварная дочурка, не выпустят его? Или, наоборот, вышвырнут, как старую тряпку, после того, как он перестанет быть им нужным. Стоит ли эта дурацкая квартира таких перспектив? Зачем он в это ввязался? Зачем? Вот дурак! Вот идиот!
Утром следующего дня он в своей комнате в общежитии надел новый темно-синий костюм, белую рубашку, малиновый галстук, дорогущие туфли — все это было куплено на деньги будущего тестя будущей тещей. Посмотрел на себя в зеркало. Почему-то оно отразило не благородного рыцаря, каковым он себя долгое время воображал, а красавчика-жиголо, то есть редкостного подонка. Иванов юношеский максимализм делал жиголо именно подонками. А кем же еще? И вот он — один из них. Прелестно! А что если все-таки сбежать? Вернуть Михаилу Львовичу его квартиру? Прав был отец — он и сам может заработать на любую жилплощадь, какую только пожелает. Вспомнил про шальную пулю и отравленные шашлыки из собачатины. Вспомнил Ольгин округлившийся живот, вспомнил ее несчастные глаза. Понял — отступать поздно. Все было решено еще в тот мартовский солнечный день под обнаженными деревьями, когда Ольга в синем берете, похожая на школьницу, попросила его о помощи. Вот тогда все и решилось, а теперь уже поздно, слишком поздно что-то менять. Друг Ивана налил ему полстакана водки для храбрости, дал закусить горбушкой черного хлеба с солью — больше в комнате ничего не было, сказал: «Везет тебе, на такой красивой девушке женишься!». Иван хмыкнул, выпил водку и вышел за дверь — навстречу своей судьбе.
Свадьбу Иван помнил плохо. Помнил свое не очень уверенное «да» в ЗАГСе, помнил слезы матери, помнил, как в первый раз хмельные гости закричали «Горько!», как Ольга посмотрела на него немного испуганно, но призывно и начала подниматься, как он тоже неловко поднялся, опрокинув бокал шампанского, как робко приник к ее губам, как она остервенело захватила его губы своими губами. Как у него закружилась голова, как он тоже начал ее целовать по-настоящему. Помнил, что гости кричали «Горько!» часто. Помнил, как он пьянел от водки, но еще больше от женщины, которая нежданно-негаданно стала его женой. Еще помнил, как его и Ольгу привезли в их новый дом, где пока не было ни одной их вещи. Это был все равно, что гостиничный номер. Хотя, признаться, Иван еще ни разу и не бывал в гостиничных номерах. Он улегся на кровать.
— Проваливай, — неожиданно резко сказала Ольга.
— Куда? — удивился Иван.
— На диван. У нас фиктивный брак, ты забыл?
— Ты меня так нефиктивно целовала, так натурально, что я забыл.
— Это был спектакль, а я хорошая актриса.
— Ты, дорогая, слишком хорошая актриса. По-моему, такие поцелуи сыграть нельзя.
— Ну, увлеклась немного, подумаешь, — пожала плечами Ольга, — но это все равно не значит, что я буду с тобой спать.
— Как скажешь, милая. — Разочарованный Иван поплелся на диван. Как ни странно, уснул почти мгновенно. Проснулся он от громких всхлипов — видимо, Ольга рыдала в соседней комнате. Иван обернулся одеялом и пошел к ней.
— Ты чего? — спросил он. Даже на краешек кровати присесть не решился.
— Ничего! — крикнула Ольга. — Иди отсюда, чего приперся?
— Помочь хотел, но не надо, так не надо. — Иван вышел из комнаты и вернулся на диван. Больше уснуть не получалось. Он ворочался с боку на бок и предавался невеселым мыслям о своем будущем. Да и настоящее тоже не радовало. Оказывается, жить с малознакомой фиктивной женой не одно и то же, что жить в общежитии с малознакомыми парнями, которые впоследствии чудесным образом становятся друзьями. С ними как-то проще — они не ревут по ночам, ну, разве что пьют иногда и орут песни под гитару. А что делать с этой беременной истеричкой? Он понятия не имел.
Она неожиданно появилась на пороге гостиной, завернутая в одеяло, как и Иван несколько минут назад.
— Подвинься, — приказала она и легла рядом. Так и лежали каждый под своим одеялом. — Ваня, — вдруг зашептала Ольга, — ну почему жизнь такая ужасная штука! Почему мы влюбляемся в одних, а в постели в первую брачную ночь оказываемся с другими? Какие мы с тобой несчастные, Ваня! — всхлипнула она. — Вот почему он меня бросил? Беременную! Его ребенком беременную! Вот почему твоя девушка не захотела тебе поверить, даже выслушать не захотела? — опять всхлип. — Обними меня, Ваня, обними, мне так одиноко. — Ольга ужом вползла к Ивану под одеяло. Она была совершенно голая. Он обнял ее, она положила голову к нему на плечо. Он свободной рукой начал гладить ее по голове, а она… Она снова поцеловала его, как на свадьбе, а у Ивана снова закружилась голова.
— Какой ты гладенький! Слушай, а может, поженимся по-правдашнему? — Ольга рассмеялась.
— Ты меня с ума сведешь! — вскричал новоявленный молодожен и снова принялся целовать свою фиктивную жену, которую вскоре намерен был сделать настоящей супругой.
Когда это произошло, Ольга прошептала задумчиво:
— Думала, что выхожу замуж по расчету, а оказалось — по любви.
— Это ты серьезно? — удивился Иван.
— Нет, малыш, это цитата. Из романа, я его недавно прочитала: «Циники» Мариенгофа. Потрясающая вещь. Не читал? — Иван отрицательно помотал головой. — Обязательно прочитай, я тебе дам, у меня есть эта книжка. Там главную героиню тоже Ольга зовут. Так вот, она выходит замуж, а наутро после первой брачной ночи говорит своему мужу: «Думала, что выхожу замуж по расчету, а оказалось, что по любви: зимой вы совсем не будете греть». Действие происходит в Гражданскую войну, тогда проблемы с отоплением в Петербурге были. Вот и я думала, что выхожу замуж по расчету, а оказалось…
— Что оказалось?
— По страсти, деточка, по страсти!
Она снова поцеловала своего мужа.
— Ах, так это страсть? Ну, хоть что-то, — устало сказал Иван, когда супруга наконец перестала терзать его губы.
— Не могу понять, что меня в тебе так привлекает, ты ведь самый обычный парень, — задумчиво прошептала Ольга.
— Сам удивляюсь, что во мне нашла такая необыкновенная девушка? — хмыкнул Иван.
Всего дочери Иван, разумеется, не рассказал. Интимные подробности он благоразумно опустил. Умолчал также и об угрозах в свой адрес со стороны Лесиного многоуважаемого деда. Тем более что потом Иван с тестем своим подружился и их партнерские отношения продлились намного дольше, чем брак с его дочерью. Он оказался вполне вменяемым мужиком, жестковатым немного, так ведь в бизнесе по-другому и нельзя. Это Иван потом уже понял, впрочем, сам все же чаще в качестве основных методов воздействия использовал не давление и запугивание, а убеждение, расчет и хитрость.
— Значит, получается, что ты продался за квартиру? — спросила Леся. — Мама мне тоже так про тебя сказала. А все эти разговоры про спасение моей мамы и верность обещанию — это всего лишь сказочки. Так, запудривание собственных мозгов для самооправдания.
— Получается, что так. Думаю, да, ты права. Это я сейчас понимаю, а тогда ведь мне казалось, что я, действительно, совершаю благородный поступок. Такой у тебя отец был дурак. Ты меня презираешь?
— Не знаю. — Леся как-то сжалась, скрестила руки — закрылась. — Ты совсем не любил маму?
— Знаешь, Заяц, я не вполне готов обсуждать природу взаимоотношений с твоей матерью.
— Ты что, хочешь сказать, что ты ее просто хотел и ничего больше?
Иван покраснел:
— Заяц, я вроде бы понимаю, что ты уже выросла, но не могу с этим смириться. Мне сложно говорить с тобой о таких вещах.
— Папа! Как ты не понимаешь! Мне семнадцать лет! Я знаю, откуда берутся дети! Да я уже столько психологической литературы прочитала, сколько ты наверняка за всю свою жизнь не прочитал. И знаешь ли анатомические атласы и медицинские справочники я тоже листала. Я ведь в медицинский собираюсь. Ну, так что у вас там было с мамой?
— Зачем тебе это?
— Папа! Ты хоть понимаешь, как мне тяжело?
— Что тяжелого? Переходный возраст?
— Причем здесь это? — взвизгнула Леся.
— А разве ни при чем?
— Папа! Как ты не понимаешь! Вы же врали мне столько лет! Я думала, у меня есть мама. У меня есть папа. Думала, они когда-то любили друг друга, а потом любовь прошла, и они разошлись. Обычная история. У нас у половины класса родители развелись. А теперь плюс ко всему еще и оказывается, что отец у меня ненастоящий и женился он на моей матери из-за квартиры. Как мне жить дальше? — Леся рыдала.
Иван закрыл лицо руками. Что он может сказать? Как он может вернуть привычный мир этой девочке? Своей дочери. Так уж получилось, что он действительно считал эту малышку своей дочерью.
— Я твой настоящий отец. Я кормил тебя из бутылочки по ночам, я стирал твои пеленки и, кстати, автоматической стиральной машины у нас тогда не было, я с тобой гулял, когда ты лежала совсем крохотная в коляске, я видел, как ты сделала первый шаг, как впервые сказала «папа». Ты почему-то сначала сказала «папа» и только потом «мама». Мать тогда еще жутко злилась и ревновала. Я читал тебе сказки на ночь. Все эти годы, что меня не было рядом, я давал деньги на твое содержание, я приезжал к тебе, хотя я не люблю бывать в этом городе. Я скучал по тебе, волновался за тебя. Ты мне очень дорога, я тебя очень люблю.
— Правда?
— Правда.
— А мама?
— Мама… мама очень необычная женщина. Очень непростая. Я ею восхищался. Это редкое, невозможное, невообразимое сочетание красоты и ума. Это была страсть. Это было выше нашего понимания. Мы не могли это контролировать. Мы не могли это остановить. Пока это не закончилось само. А когда это закончилось, остались два разных человека, совсем непохожих друг на друга, у которых, оказывается, нет ничего общего. По сути, выяснилось, что мы чужие друг другу. Понимаешь, совсем чужие. Да, изначально это был брак по расчету, а потом он вдруг превратился в союз по страсти, которую мы тогда принимали за любовь. Это сложно. Сложно, понимаешь? Что есть любовь, а что есть иллюзия любви? Должны пройти годы, прежде чем станет возможно понять это. Но сейчас я думаю, что даже если тебе только казалось, что ты любил кого-то, ты все равно его любил, потому что тебе так казалось и ты в это верил. Что есть истина и что есть заблуждение? Кто знает? Кто докажет, что истина — это истина, а заблуждение — это заблуждение? Так ли уж абсолютна истина? Господи, о чем я говорю? О чем я говорю?
— Я понимаю, папа, понимаю.
— Я ответил на твой вопрос?
— Кажется, да.
— Знаешь, я думаю, что женившись на твоей матери, я не совершил ошибку. Я все тогда сделал правильно — ведь у меня появилась ты, моя единственная дочь.
— Неродная, — уточнила Леся.
— Родная, — возразил Иван.
— Папа, он появился.
— Кто он?
— Мой биологический отец. Мама с ним снова встречается. По-моему, они собираются вместе жить. Она заставляет меня называть его «папой»! А я его ненавижу! Как я могу называть отцом человека, который бросил меня еще до рождения? А теперь вот явился, и я должна вдруг его полюбить, только потому… потому, что когда-то он с мамой… Я не знаю, что делать!
— Я тоже.
Леся посмотрела на него удивленно:
— Ты не знаешь?
— Не знаю. Знаю только, что любить его ты не обязана и папой называть тоже.
— Мама похорошела, ходит счастливая, глаза горят, даже добрее стала, кажется, я ее такой счастливой и не видела никогда. А я… Мне плохо. Я хочу, чтобы его не было в моей жизни! Не было его семнадцать лет — и не надо. Зачем он явился, чтобы все окончательно испортить, чтобы забрать у меня маму?
— Откуда он взялся? Кто он такой? Твоя мама никогда о нем не говорила. — Иван вдруг почувствовал острый укол ревности. Он даже не понял, почему он ревновал бывшую жену к этому незнакомцу, благодаря которому так круто изменилась его жизнь. Кто знает, по какому сценарию она бы пошла, если бы не он? Кто знает? Иван и тогда, давным-давно, ревновал Ольгу к этому мистеру Икс, к этому незнакомцу, который, очевидно, был подлецом, легкомысленным хлыщом, возможно, еще и трусом, который обрюхатил девку, изменил судьбы нескольких человек, а сам сбежал в уютное лоно своей семьи, которую сначала предал, и которая вдруг снова оказалась для него важной. Хотя кто он такой, чтобы осуждать этого человека? Сам-то не лучше. С Ириной вон как поступил, да и нынешней жене своей изменял, правда, все же осторожно и с использованием противозачаточных средств. И все равно, того человека Иван привык ненавидеть и винить в некоторых своих бедах. И вот, спустя годы, этот призрак прошлого вновь врывается в Иванову жизнь. И что же? Ольга, которую Ивану так и не удалось сделать хоть чуточку счастливее, с ним счастлива, к тому же этот подонок пытается увести у него дочь.
— Он старик, — говорит Леся, — ему лет сорок пять. — Иван усмехнулся про себя: «Молодость, молодость… сорок пять лет — это для них уже глубокая старость». — Он лысый и толстый. И, кажется, бедный: мама платит за него в ресторанах. Сам еще ни разу не платил. Приходит к нам, хоть бы конфеточку принес ребенку, то есть мне, — Леся улыбнулась, — сядет на кухне, как король, а мать вокруг него вьется: на тарелочку все положит, нож и вилку ему даст, а он ей спасибо даже не говорит. Шутит он еще постоянно и смеется как-то, как бы это сказать, гаденько, что ли. Над мамой постоянно издевается, представляешь? Они выглядят-то вдвоем, как красавица и чудовище, а он ей заявляет, что она постарела, растолстела, советует пару килограммов сбросить, ботокс сделать, кремик купить от морщин.
— А что мама?
— А она только смеется, говорит, что он очаровательный старый завистник, да еще целует его в эту мерзкую лысину. Смотреть противно.
— Похоже, она его любит.
— Похоже. — Тяжелый вздох. — И что мне, смириться? Я не хочу, чтобы она была с этим… с этим…, — Леся не могла подобрать слов.
— Заяц, а может, мама сама разберется, с кем ей быть? Тебе бы понравилось, если бы она лезла в твою личную жизнь, решала с кем тебе встречаться, а с кем нет?
— А ты думаешь, она не лезет?
— И тебе это нравится?
— Нет, — призналась Леся.
— Все правильно, потому что это не ее дело. И с кем встречается мама, тоже не твое дело.
— А мне-то что делать? Моя жизнь превратилась в кошмар! Папа, как ты не понимаешь? Слушай, а забери меня отсюда! К себе, в Москву? Что тебе стоит?
— Это не выход. А что если тебе не понравится, что я, допустим, слишком много внимания уделяю свой жене или работе? Ты будешь изводить меня и мою жену? Может быть, пора понять, что мир не вращается вокруг тебя? Что ты не центр вселенной?
— Я так и знала! — закричала Леся. — А еще говорил, что любишь меня! Мне плохо, а тебе все равно! Ты даже не хочешь мне помочь! Мать влюблена, ей до меня сейчас и дела нет, а ты… ты далеко, и тебе тоже нет до меня дела! — Леся вскочила и бросилась к выходу. Иван устремился за ней. Догнал у выхода. Обнял. Она вырывалась. «Успокойся, — шептал он, — успокойся, мы что-нибудь придумаем. Ты нужна мне, и маме тоже нужна. Я тебя люблю».
— Может, нужно было сменить ориентацию, — подумал Иван, когда они вернулись за стол, — устал я от этих баб. Бедная Ольга, Леся, наверное, ей ежедневно такие представления устраивает. Может, еще и с большим драматизмом. Ох, уж эти подростки! Неужели и я был таким невыносимым?
— Так ты заберешь меня в Москву? — вернулась к своему вопросу Леся.
— Школу сначала закончи, а там разберемся.
— Это пустые слова. Мне нужны гарантии. — Сказала девушка и как-то так посмотрела на Ивана, что ему захотелось взять под козырек, выкрикнуть «Есть, товарищ командир» и тотчас же побежать исполнять приказание. Вот тут-то Иван и понял, что Леся истинная внучка своего деда и дочь своей матери. Та же жесткость, несгибаемость, то же желание, чтобы все было непременно так, как они хотят, те же способности к манипуляциям. Иван представил себе, что этот симпатичный, очаровательный тиран поселится у него в доме, как будет наводить свои порядки, требовать деньги, устраивать истерики, если что-то будет не по ее, а если еще и женихов водить начнет? Ему придется волноваться, как бы она не связалась с дурной компанией или с каким-нибудь негодяем, как бы не забеременела, не стала наркоманкой, не вылетела из университета. И все это будет только его проблемами. К тому же придется попрощаться с привычным укладом жизни, может, он и не был самым лучшим, но Иван к нему привык. А тут — настоящая революция, подрыв устоев! Готов ли он к такому урагану перемен? Нет, наверное, нет. Любить на расстоянии и жить вместе — это две большие разницы. Второй вариант попахивал жертвой со стороны Ивана, и к такой жертве он, похоже, готов не был.
— Я жду. — Напомнила о себе Леся.
— Может, рассмотрим другие варианты? — весь этот разговор начал напоминать заключение сделки.
— Например? — перед Иваном сейчас сидела не юная девушка семнадцати лет, не нежная маргаритка, а делец, который собирается оценить любовь к себе в денежных единицах или других материальных ценностях.
— Например, когда ты закончишь школу, я или мы с мамой можем купить тебе отдельную квартиру в этом городе. Ты обретешь территориальную независимость.
— Ты меня не любишь, — надулась Леся и снова превратилась в нежную, ранимую маргаритку.
— И что я должен сделать, чтобы доказать свою любовь?
— Ты хочешь, чтобы я на всю жизнь осталась в этой дыре? Какие у меня тут перспективы? Какое здесь образование? Какие здесь возможности для роста?
— То есть ты хочешь квартиру в Москве? Я правильно тебя понял?
— Ну, не знаю…
— В Лондоне что ли?
— Нет, папочка, пожалуй, пока мне и в Москве маленькой квартирки будет достаточно.
— Ладно, — согласился Иван нехотя.
— Ой, папочка, ты у меня такой хороший, такой замечательный, — заверещала Леся. — Ты у меня самый лучший папочка на свете! Самый добрый, самый щедрый! — она подскочила к Ивану, обняла и поцеловала в щеку. — К тому же, заметь, мне никому не придется продаваться за квартиру.
«Этот ребеночек далеко пойдет, — подумал Иван, — она еще дальше мамочки своей пойдет. Той как-то тяжелее ее первая квартира досталась. И мне, в общем, тоже. До сих пор вот за нее расплачиваться приходится…».
Ночью, ворочаясь на гостиничной неудобной койке, Иван сожалел о своем внезапном приступе простодушия. Не то, чтобы ему было жалко денег, которые ему придется выложить за однокомнатную квартирку где-нибудь в южном Бутово. Хотя эти непредвиденные траты, безусловно, снова отдалят его от мечты о домике на Лазурном берегу. Дело было не в этом. Он все никак не мог понять, каким образом его, хитроумного одиссея, которого ни одному деловому партнеру не удавалось обмануть, так легко обводили вокруг пальца женщины. Как им удавалось вытягивать из него все, что им нужно? В чем причина? Какая-то семнадцатилетняя девчонка за какие-то пятнадцать минут умудрилась развести его на несколько сотен тысяч долларов. Что это, доказательство любви или это плата за возможность не любить слишком сильно? Или вовсе плата за нелюбовь? Или это возможность откупиться от собственного чувства вины? Он так и не смог ответить на свой вопрос. Заснул. Завтра ему предстояла встреча с Ольгой.
Глава семнадцатая
Утром после первой брачной ночи Иван не сразу смог понять, где он находится и кто лежит рядом. Незнакомая комната с ультрамариновыми обоями, желтыми занавесками, красивой мебелью и большим телевизором. Только через пару мгновений вспомнил, что лежит он на диване в своем новом доме, а женщина, что посапывает рядом — его жена. Жена была чудо как хороша: лицо ее сейчас было безмятежно, свежо. Без косметики она выглядела беззащитной, наивной девочкой. Так странно: эта незнакомка — его жена. Вчера брак для него был авантюрой, делом чести, возможностью решить квартирный вопрос, а что сегодня? Сегодня рядом с ним, свернувшись клубочком, спит беременная девочка: горячая, очаровательная, злая, непредсказуемая, волнующая. И теперь эта девочка — его семья. И сразу после того, как она откроет глаза, нужно будет что-то сказать, что-то сделать. А что она скажет и сделает? Кто знает, если она сама еще не знает. Нужно строить отношения, причем не товарно-денежные, а нормальные человеческие отношения. Час наслаждения и вот это уже не сделка, а семья! Стоило ли это мимолетное удовольствие таких жертв? Иван поймал себя на мысли, что готов сейчас тихонечко одеться и выскользнуть за дверь. Он проделывал такие фокусы несколько раз со своими одноразовыми ночными нимфами, музами, утешительницами, сладкими зазнобами. По утрам он исчезал. Без долгих прощаний, объяснений и пустых обещаний. Так проще и, как ему казалось, честнее. Ему ведь от них и не нужно было ничего, кроме кратковременных услад его юного, пылкого тела. А останься он, дождись их пробуждения, что бы было: когда ты мне позвонишь? Когда мы увидимся? А давай сходим в кино? К чему все это? Глупые иллюзии, беспочвенные надежды. А можно ли так сбежать от жены? Наверное, не получится.
Ольга открыла глаза.
— Я есть хочу, — сказала она как-то ворчливо, — и вообще, молодой жене положено кофе в постель или нет?
— А молодому мужу положен утренний поцелуй? — поинтересовался Иван игриво.
— Только после кофе. Предупреждаю, я злая по утрам. Я, собственно, злая в любое время суток, но по утрам особенно, пока кофе не выпью. Слушай, а ты готовить умеешь?
— Нет. А ты?
— Я — нет. Это просто чудесно! — воскликнула Ольга. — А как же ты в общаге-то жил, горе луковое?
— Не знаю, — пожал плечами Иван, — как-то жил: супы из пакетика, бутерброды, а еще сосед по комнате картошку умеет жарить и макароны варить.
— Придется учиться готовить-то.
— Тебе или мне?
— Тебе.
— Почему мне, ты же жена! — удивился Иван.
— Не забывайтесь, юноша, я тебе не жена, а квартира. Так что, сударь, будьте добры, отправляйтесь на кухню и извольте приготовить мне завтрак — Марь Сергеевна, домработница, должна была заполнить холодильник.
Иван почувствовал себя холопом, но на кухню пошел, затаив злобу и обиду. Поставил кипятиться красный в горошек чайник со свистком, порезал батон, сервелат — сделал бутерброды. Насыпал в чайную чашку растворимого кофе. Тут и чайник подоспел. Иван залил кофе кипятком.
— Прошу к столу, барыня, — сказал Иван жене с поклоном, — завтрак подан.
— Из всех категорий мужчин больше всего мне нравятся интеллигентные идиоты из приличных семей — они лучше всех поддаются дрессировке. — Ольга лениво потянулась, сбросила с себя одеяло и нагая прошествовала на кухню. Иван чуть сознание не потерял от такой красоты — он хоть и обладал этой красотой прошлой ночью, но видел ее впервые.
— Закрой рот, — приказала Ольга, — и продолжай за мной ухаживать. Стул вот отодвинь. Тебя не учили хорошим манерам? В каком Урюпинске ты вырос? Боже! Что это за жирные чудовища лежат на тарелке? Это что бутерброды? Милый, хлеб нужно резать тонко. Ты не в общаге! А кофе? Кофе пьют из кофейных чашек, во-первых, а во-вторых, его нужно варить, а не пить это быстрорастворимое дерьмо. Сколько с тобой еще возни! Сколько сил придется потратить, чтобы сделать из тебя аристократа, достойного своей жены… Ужасно! Ужасно! Ты что на меня так смотришь? Во взгляде явно читается желание меня ударить. Ванечка, милый, я же шучу. Все хорошо, спасибо! Чудесный завтрак. Давай уже есть!
— Ты не хочешь одеться?
— Нет. Знаешь, я мечтала, что первый завтрак своей супружеской жизни я проведу голой. Я дурочка?
— Весьма вероятно.
— А еще я мечтала, чтобы мой муж тоже был голым во время этого исторического завтрака. Правда, в моих фантазиях моим мужем был не ты, но раз уж так получилось… В общем, раздевайся.
— Нет.
— Ты что меня стесняешься, глупыш?
— Нет, не хочу и все.
— Каков упрямец! — Ольга встала, подошла к Ивану, наклонилась, обняла его за шею и поцеловала в губы. Иван было попытался высвободиться, но поддался требовательности этих упругих губ, закрыл глаза, расслабился и тут же Ольгины губы отстранились и произнесли, — а теперь раздевайся. Живо! — она расхохоталась.
Иван разделся. Неплохое начало семейной жизни! Не успел он опомниться, как его уже втянули в войну за лидерство. Пока он проигрывал 2:0. Пока явно не он в доме хозяин. Хотя, что уж говорить, конечно, не он.
После завтрака Ольга отправила Ивана наполнять ванну водой и душистой пеной, заявив, что принять совместно ванну — это второй обязательный пункт ее мечтаний о первом дне супружеской жизни. Этим эпизодом программы Иван остался доволен. Более чем. Он даже простил своей немного безумной супруге издевательства, которые имели место ранее. Он даже был счастлив. А потом Ольга, наказав Ивану сходить в магазин купить гранатового сока, ну и еще чего-нибудь, ушла. Вернулась она поздно ночью. Расстроенная, потерянная и, кажется, слегка пьяная. Во всяком случае, спиртным от нее пахло. Вручила Ивану какой-то тяжелый пакет со словами «Это тебе» и скрылась в ванной, громко хлопнув дверью. В пакете было две книги: роскошный сборник кулинарных рецептов и справочник по этикету. Иван уселся перед телевизором в гостиной, стал нервно листать книжки. Его душила ярость с отчетливым кислым привкусом ревности: он чувствовал, что Ольга была сейчас у мужчины, к тому же, все события сегодняшнего дня никак не вписывались в его представления о семейной жизни, сформированные родителями, бабушками и дедушками. Он и вообразить не мог, чтобы его мать погнала отца на кухню готовить завтрак, чтобы потом ушла, не сказав куда, и вернулась ближе к полуночи. Впрочем, чтобы кто-нибудь из его родственников женился или вышел замуж по расчету, он тоже представить не мог — разве что в стародавние времена, когда было принято создавать семьи по сговору родителей. Так что же это получается — он сам нарушил родовые традиции, а теперь хочет, чтобы его жизнь вернулась в семейный сценарий? Что же он наделал? Как ему жить в этом кошмаре?
— Где ты была? — спросил он мрачно, когда Ольга вышла из ванной.
— Я устала, давай завтра поговорим, — ответила она с вызовом, — а еще я надеялась услышать простое человеческое «спасибо» за свой подарок. Ты все-таки поражаешь меня своими дурными манерами.
— Может быть, у меня и дурные манеры, — вспылил Иван, — но я не являюсь домой среди ночи пьяный! Почему ты пила? Ты о ребенке подумала?
— Это мой ребенок! — закричала Ольга. — Что хочу, то и делаю, а ты не лезь! Ты вообще мне никто, и ребенку моему никто! Спишь сегодня на диване! Спокойной ночи! — она выскочила из комнаты, по квартире прокатился грохот захлопнутой двери.
Будто закрылась для Ивана дверь в его прошлую беззаботную жизнь. Он только в это мгновение понял, что прошлая жизнь, с ее сессиями, идиотами-преподавателями, недоеданием, любовными драмками, тщеславием, работой, была беззаботной. Все это были мелочи по сравнению с этим цунами по имени Ольга, который он так легкомысленно пустил в свою жизнь. Юность закончилась, началась взрослая жизнь.
Уже под утро Ольга снова появилась в гостиной, завернутая в одеяло и снова прилегла рядом с Иваном.
— Прости меня, милый, — зашептала она, всхлипывая, — прости. Ты такой хороший, такой добрый, а я… я стерва, я сволочь. Мне так тебя жаль, зачем ты со мной связался? Зачем? Глупенький, благородный дурачок! Иногда мне кажется, что в меня дьявол вселился. Я не хочу делать подлости, а все равно делаю. Это сильнее меня, понимаешь, я как будто мщу. Даже не знаю, кому я мщу и за что. А вот мщу всем подряд: родителям, тебе, себе. Прости меня, прости! — Ольга принялась целовать Ивана… И он снова ей все простил.
Ольга целыми днями валялась на диване или кровати с книжками и журналами. Ела сладости и фрукты. Иногда она исчезала без предупреждения, возвращалась поздно, говорила, что была с подружками. Однажды Иван, вернувшись домой с работы, застал ее стоящей голой перед большим зеркалом в спальне. Ольга плакала.
— Что он сделал со мной! Посмотри! Я теперь уродина! Жирная уродина! Ненавижу!
— Кого ты ненавидишь?
— Никого! — она бросилась на кровать и принялась рыдать еще сильнее.
— Оля, потерпи немного, когда ты родишь, твоя фигура станет такой, как раньше, — увещевал ее Иван.
— Я уже в это не верю! — крикнула Ольга, — к тому же, когда рожу, появится орущий и писающий комок, и что, я должна ему прислугой стать?
— Оля, ты же сейчас о своем ребенке говоришь.
— Да, у меня ребенок! Я одна с ним мучиться должна, а этому козлу хоть бы что! — Ольга взвыла еще сильнее.
Иван ушел за валерьянкой. Ему тоже хотелось кричать.
По дому Ольга ничего не делала — теща присылала свою домработницу. Теща же часто приходила днем, когда Ивана не было дома — приносила продукты, готовила еду. Иван тоже научился готовить — кулинарная книга пригодилась. Тесть попытался давать Ивану деньги, разумеется, чтобы он смог поддерживать тот уровень жизни, к которому привыкла его дочь. Иван твердо отказался, заявив, что сам в состоянии обеспечить свою семью, чем вызвал противоречивые чувства у своего нового родственника. С одной стороны, он зауважал своего зятя за бескорыстие и порядочность, а с другой — счел его лохом и полным придурком за отказ от денег, которые сами плывут в руки. Сам бы он никогда так не поступил. Пришлось тестю зятя повысить по службе и назначить ему более серьезную зарплату, тем более что был он парень толковый, расторопный, инициативный. Да что там говорить — был он самый перспективный сотрудник, с новым мышлением, не стесненным стереотипами советских еще времен. С зятем Михаилу Львовичу крупно повезло — и партнера надежного приобрел, и сокровище свое капризное, беременное и полубезумное сбагрил. Сам зять, впрочем, чувствовал себя загнанным в ловушку: слишком многое свалилось на его неокрепшие еще плечи. И работа, и учеба, и домашние обязанности, и сокровище это полубезумное и сильно уже беременное, неспособное уже компенсировать буйность своего нрава физической близостью — на седьмом месяце врачи категорически запретили ей исполнение супружеского долга. Впрочем, Ивану и самому не очень-то этого и хотелось: одно дело — тонкая, гибкая нимфа с вулканическим темпераментом, и совсем другое — истеричная, эгоистичная и жестокая бегемотиха, в которую эта нимфа превратилась. Иван иногда задумывался: а если бы это был ЕГО ребенок, как бы он относился к переменам во внешности Ольги, да и к самой Ольге? Ему казалось, что с нежностью и благодарностью. А сейчас было лишь раздражение, граничащее с ненавистью, и невыносимая усталость от тяжкого, бессмысленного бремени, которое он на себя взвалил, как крест, и нес как свой крест, не решаясь почему-то его с себя сбросить. По условиям устного контракта, заключенного с Михаилом Львовичем перед свадьбой, он мог освободиться от своего ярма уже совсем скоро, буквально через пару-тройку недель, ведь он должен был прожить с Ольгой всего полгода, а потом мог вернуть свою свободу. Но… но он почему-то не мог уйти от нее. Сам не понимал почему, но уйти не мог. Изредка он сбегал в свою общагу, в свою утраченную юность, к своим беззаботным нищим дружкам и веселым небеременным подружкам. Он приносил в общагу новомодные ликеры, спирт, водку, шампанское, дорогие продукты, которые были недоступны для простых шалопаев-студентов — они жили лишь на скромные подаяния собственных родителей, которые и сами бедствовали. Он приносил в общагу праздник, казался своим товарищам сказочным везунчиком, который с легкостью шагнул в какой-то другой, обеспеченный мир. А всего-то и нужно было — удачно жениться, да еще на такой редкостной красавице. Друзья ему завидовали. А Иван завидовал им. Их молодости, легкомыслию, праздности. Что значат деньги по сравнению с этим? Или все-таки значат? Он смотрел на эти пыльные коридоры, изгаженный сортир, грязноватые комнаты, обклеенные картинками из журналов, заваленные мусором, грязной посудой, по которым шныряют тараканы, и понимал, что хочет приходить сюда только в гости, но уже не хочет здесь жить. Когда еще его студенческие товарищи выберутся из этого убожества? А он, Иван, уже выбрался. И это дорогого стоит. И все же не слишком ли дорого Иван платит за свою сытую жизнь? Иногда ему казалось, что слишком, иногда — что нормально, вполне адекватно. В любом случае, пути назад для него не было. Ему нравилось немного побыть богатым дядюшкой или волшебным звездным мальчиком, а потом он возвращался домой, в свой бытовой комфорт… и в свой психологический кошмар.
Когда восьмой месяц беременности Ольги подходил к концу, как-то раз она вернулась домой поздно вечером, прислонилась к дверному косяку да так и осталась стоять. Иван вспылил и собирался было приступить к допросу с пристрастием, еще он хотел сказать, что слишком глупо и опасно шляться одной по ночам в ее-то положении, но так и замер, взглянув на супругу. Глаза ее невидяще смотрели в одну точку, бледно-землистое лицо искажено мукой, казалось даже, что она не дышит. Застывшая маска.
— Оля, что случилось? — закричал Иван, — тебе плохо?
Она не реагировала, будто даже его не слышала.
— Оля! — Иван дотронулся до ее щеки. Ольга даже на него не взглянула. — Оля!
Она сфокусировала взгляд на муже, потом отвела его куда-то в сторону шкафа.
— Он сказал, что я стала отвратительной толстухой… Еще он сказал, что я больше его не возбуждаю… Еще, что я истеричка и сука…, — Ольга говорила очень медленно и невнятно. — Я ему смертельно надоела… Он от меня устал… И еще он сказал, чтобы я убиралась из его жизни, никогда ему больше не звонила, не искала его. Он сказал, чтобы я забыла его. А он меня уже забыл. Все кончено.
— Кто это он? — спросил Иван настолько спокойно, насколько смог.
— Он…, — Ольга снова сфокусировала взгляд на муже, — мужчина, которого я люблю, отец вот этого, — она вяло кивнула на свой живот. — Господи! За что? Если бы не этот чертов ребенок, он был бы сейчас со мной! — Ольга кричала. — Я не хочу! Зачем? Не хочу! — она уселась на пол у порога и разрыдалась. Иван поднял ее, усадил на стульчик, снял с нее сапоги, пальто, отвел в спальню, уложил в постель, принес ей стакан воды и валерьянку, потом лежал рядом с ней, гладил ее волосы, спину, целовал ее руки… Ольга заснула… Иван долго сидел на кухне, обхватив голову руками. «Я не хочу! Зачем? За что? Не хочу!» — крутились мысли в его голове.
Глава восемнадцатая
Родилась девочка. Иван вместе с тестем и тещей отправился под окна роддома. Как они ни кричали, ни звали, Ольга в окне так и не появилась, ребенка так и не показала. Ивана вызвала заведующая роддомом, плотная дама с перманентом, лет сорока пяти, и сообщила, что жена его, то есть Ольга, отказывается даже взглянуть на своего ребенка, не то чтобы начать кормить, все время лежит, отвернувшись к стенке, молчит, часто и долго плачет, в разговоры с соседками по палате не вступает.
— Это пройдет, — улыбнулся Иван не слишком уверенно.
— Ваша жена хотела этого ребенка?
— Да, разумеется.
— Не похоже, — усомнилась заведующая.
— Это просто стресс. Все будет хорошо.
— Она может отказаться от ребенка?
— Нет.
— Вы уверены?
— Нет. — Иван почему-то ответил честно, — но я этого не допущу, и вся семья не допустит. С девочкой все будет в порядке.
— А с вашей женой? По-моему, она нуждается в очень серьезной помощи.
— Поможем.
Имя для новорожденной выбрал Михаил Львович — Олеся, Леся. Так звали его прабабушку. Забирать Ольгу с девочкой приехали на арендованном стареньком лимузине, как раз недавно он появился в городе — какие-то предприимчивые молодцы собирались делать на нем бизнес. Весь роддом наблюдал за этим неслыханным зрелищем. Роженицы тихо завидовали и мечтали, чтобы их Васьки и Сашки тоже приехали за ними на настоящем лимузине. Они не знали, что завидовать было нечему. Они не знали, что мать ребенка своего ненавидит, что красивый высокий парень, который держит его на руках, ему не отец, что парень этот напуган, растерян и понятия не имеет, что делать с этим пищащим кульком дальше. А бабушка с дедушкой, понятное дело, знали, как растить детей, но были разочарованы поведением дочери, к тому же, они боялись, что поведение это не изменится. То, что Ольга ненавидит свою девочку, было очевидно. Уже усевшись в лимузин, она заявила, что и близко к ней не подойдет и кормить грудью не будет, потому что эта маленькая дрянь уже попортила ей фигуру, и дальше она терпеть это не намерена. У Михаила Львовича возникло сильное желание залепить дочурке пощечину, но он сдержался, лишь зубами заскрежетал. Дома ждала Лесю прелестная кроватка с розовым балдахином, ворох красивых одежек и пеленок, игрушки, баночки-бутылочки, запас самых дорогих сухих смесей и чудо чудное: несколько упаковок новомодных подгузников — памперсов, которые только недавно появились в продаже на просторах бывшего СССР. Все было у этой девочки, кроме любви.
Ольга тут же скрылась в ванной. Ивана отправили готовить смесь. Строго по инструкции. Бабушка распеленала ребенка, поменяла подгузник, надела чистенькую рубашечку и снова запеленала, потом показала Ивану, как нужно держать ребенка, и заставила покормить со словами: «Учись, видимо, тебе да мне придется этим заниматься, пока Оля не придет в себя». Когда Иван держал на руках это крохотное беспомощное существо, смотрел, как оно жадно глотает молочную смесь, вдруг понял, что это больше не чужой ребенок, теперь это его дочь. Так уж получилось, что сейчас у этой маленькой девочки, можно сказать, не было матери, значит, Ивану придется стать отцом. После еды Леся заснула.
На семейном совете, который происходил на кухне за невеселым праздничным обедом с шампанским, было решено найти ребенку няню, кроме того, пока няня не найдена, днем с ним будет сидеть теща, а по вечерам Иван. Ничего не поделаешь. Михаил Львович предложил временно сократить рабочее время своего зятя с сохранением зарплаты, с тем, чтобы он мог больше уделять внимания ребенку и жене. Ольга вышла из ванной и медленно прошествовала в спальню. На дочь она даже и не взглянула. В глазах у тещи показались слезы:
— А что же с Олей-то делать? — всхлипнула она. — Ума не приложу.
— Пороть надо было в детстве, да меньше баловать, может, и не выросла бы такой эгоисткой. — Сказал Михаил Львович.
— Я уверен, что это у нее пройдет, она полюбит дочку, вот увидите, обязательно полюбит. Просто ей нужно время. — Успокоил родственников Иван.
— Твоими бы устами да мед пить, — вздохнул Михаил Львович, — будем надеяться на лучшее. А знаешь, Ванька, я рад, что выбрал тогда именно тебя. Ты человек! Настоящий мужик! С этого самого дня ты мне сын, родной. Что бы там ни случилось в будущем…
Иван стал для Леси и отцом, и матерью. Он научился купать девочку, кормить, баюкать, он стирал и гладил пеленки, вставал к ней по ночам. Бабушка тоже помогала, и няню, к счастью, нашли хорошую, душевную, мудрую. Она пыталась Ольгу воспитывать — приносила к ней ребенка, говорила какой он хорошенький, милый, предлагала подержать, приласкать, но та смотрела на девочку со злобой, а когда Леся плакала, начинала кричать: «Да сделайте же что-нибудь! Пусть она замолчит!». Няня качала головой, вздыхала и уходила.
Иван еще больше похудел и выглядел измотанным. Собственно, он и был измотанным: ребенок, учеба, работа, истеричная жена, которая либо молчала, либо сквернословила, либо рыдала. Квартира обошлась ему слишком дорого. Да он там и не бывал, некогда было, и ремонт он так и не начал. Когда ему? По выходным теща с тестем иногда забирали Лесю к себе, чтобы Иван мог хоть чуть-чуть отдохнуть. Он шел в общежитие, напивался там с друзьями — пытался хоть на время забыть о своей взрослой, такой непростой жизни. Даже ночевать там оставался, лишь бы не возвращаться к Ольге — находиться рядом с ней было невыносимо. Сколько раз он хотел сбежать от нее насовсем, но всегда возвращался. Не к ней, к Лесе. Как он ее оставит? Ну, он и влип. За три месяца Ольга вернула свою прежнюю форму: по нескольку часов в день она занималась спортом, купила велотренажер, ездила в бассейн. Она похорошела, в глазах появился блеск. Она начала встречаться с подругами, но к себе домой никого из них не звала — ходила к ним сама. Несколько раз Ольга даже допускала Ивана к себе в постель, сопровождая приглашения заявлениями, что ей необходимо срочно удовлетворить свои насущные физиологические потребности. Иван чувствовал себя униженным, но от предложений не отказывался — у него тоже были физиологические потребности, которые нуждались в удовлетворении. Во время таких ночей Ивану начинало казаться, что все наладится, что у них будет нормальная семья, они будут вместе завтракать и ужинать, вместе гулять с ребенком, вместе ходить в гости, вместе ездить за город на шашлыки, обсуждать книжки и фильмы, да и просто спать вместе. Но по утрам Ольга снова становилась отчужденной и предпочитала с мужем своим не разговаривать, а ребенка и вовсе не замечала.
Однажды, когда Иван вернулся с работы, он долго звонил в дверь, но ему никто не открыл. Он отпер дверь своим ключом, вошел. Ни на кухне, ни в гостиной, где он жил с дочкой, никого не было, детская кроватка была пуста, а коляска стояла в прихожей, значит, они не на прогулке. Иван забеспокоился, побежал в спальню, да так и застыл на пороге: Леся лежала на кровати, а Ольга целовала ей пяточки.
— Она такая хорошенькая, — выдохнула Ольга, — так вкусно пахнет. — Она улыбалась.
— А где все?
— У няни какое-то неотложное дело, а мама к врачу пошла на прием. Меня вот попросили посидеть. — Леся запищала. — А почему она плачет? — удивленно спросила Ольга.
— Описалась или есть хочет, а может, и то, и другое. Ты давно ее кормила?
— Нет, я ее совсем не кормила, — ответила Ольга растерянно.
— А подгузник давно меняла?
— А нужно было менять?
— Вот дуреха, нужно, конечно. Давай научу.
— А у меня получится?
— Получится, не волнуйся.
Так Ольга в одно мгновенье из кукушки превратилась в сумасшедшую мамашку, которая буквально тряслась над своим ребенком. Няню теперь звали только тогда, когда Ольге нужно было куда-нибудь отлучиться. Михаил Львович с женой нарадоваться не могли на дочку. Все были довольны, только Ивану снова не нашлось места в жизни собственной жены. Нет, она допустила его в свою спальню, она ужинала с ним, и с ребенком они ходили гулять вместе и даже, случалось, книжки обсуждали, но не было между ними близости, и раньше не было, а сейчас вся Ольгина любовь и ее внимание доставались Лесе. Ивану было одиноко. Он с удивлением обнаружил, что любит эту непредсказуемую сумасбродку — свою жену. Он ее ревновал. Раньше — к этому негодяю, неизвестному отцу Леси, который всегда незримо витал третьим лишним между Иваном и Ольгой, а теперь ревновал и к нему, и к дочери, и к каждому мужчине, что смотрел на его жену восхищенным взглядом, а так на нее смотрел каждый встречный. Иван смутно догадывался, что как только у Ольги закончится эта ее малообъяснимая материнская горячка, как только она заметит, что мир не замкнулся на ее маленькой дочурке, на ее улыбках, слезах, болях в животике, режущихся зубках, ее миленьких распашоночках, ползуночках и пинеточках, ее уже будет не удержать. Эту вольную, безумную птицу куда-нибудь унесет первым же попутным ветром. Куда ее унесет, к кому? Кто ее знает. Иван был с женой предупредителен, услужлив, заботлив, страстен, щедр, только она принимала его любовь и доброту за глупость, считала его тряпкой, подкаблучником и с каждым днем все меньше уважала. А любить, наверное, и не любила никогда. Правда, по-прежнему хотела.
В июне Иван закончил университет. С синим дипломом. Красный никак не смог выдюжить. Отец был огорчен. А мать сказала: «Глупости все это. Пустое тщеславие. Главное, чтобы голова хорошо соображала. Да и кому сейчас нужны эти дипломы? И вообще миром правят троечники».
Иван звал Ольгу в гости к своим родителям, но та наотрез отказалась, заявив, что нет у нее ни малейшего желания тащиться на перекладных в эту тьмутаракань, что ребенку этот лишний стресс совершенно ни к чему, а еще муж у нее совершеннейший кретин, раз до сих пор не догадался заработать на машину, и что совершенно неприлично ездить в этих дурацких троллейбусах вместе с плебсом, нет у Ивана никакого представления о том, как должны жить уважаемые, состоятельные люди. Родители сами приехали посмотреть на неродную внучку. Только одну ночь и переночевали, а потом, гонимые недобрыми Ольгиными взглядами, отбыли восвояси. Освободив часть своего времени и энергии от учебы, Иван придумал несколько хитроумных комбинаций и удачно провернул их вместе с Михаилом Львовичем, что позволило тестю еще больше обогатиться, а Ивану купить скромную «шестерку» и начать ремонт в собственной квартире. Всем он говорил, что давно уже пора было этим заняться, вроде как негоже, что квартирка стоит запущенная, да и деньги лишние появились. Вроде, все так оно и было, но где-то в глубине души Иван догадывался, что он готовит пути для отступления. Еще точно не знал, но уже догадывался, что пора. Ольга была недовольна и ремонтом, и машиной. Про ремонт она все поняла правильно, даже лучше, чем сам Иван — готовится к бегству. «А никто тебя и не держит! — кричала она, когда бывала не в духе, — ты и так уже тут слишком задержался! Можешь прямо сейчас уходить. Собирай манатки и вали! Тоже мне, благородный нашелся! Не нужно нам никаких одолжений! И без тебя проживем!». Иван тут же принимался извиняться, оправдываться, уверять, что она все не так поняла, и никуда он уходить не собирается. Принимался целовать Ольге руки, шею, оглаживать ей зад… Все заканчивалось бурными примирениями в постели. Иногда Ивану казалось, что Ольгу заводят только скандалы. Хорошо, что хоть что-то ее еще заводило. В Иванову машину она поначалу садиться отказывалась. Во-первых, потому что считала классику советского автопрома полным дерьмом, не достойным ее королевской особы, к тому же у ее папы давно уже был настоящий «Мерседес», пусть и не новый, ну а во-вторых, Иван еще плохо водил — совсем недавно получил права. Впрочем, второй аргумент был для нее менее важен, чем первый. Экстрим Ольга любила. Потом она сдалась, потому что с машиной, хоть и с плохонькой, было удобнее: и в поликлинику ребенка свозить, и к родителям, и в гости, и за город. Но при случае ворчала, что автомобиль надо бы поменять на что-то более пристойное, хоть на малиновую девятку, что б как у нормальных людей, у бандитов то есть.
Как-то так, в хлопотах, заботах, работе незаметно летело время. Вот Леся научилась сидеть, вот она начала ползать, вот она пошла, вот ей годик исполнился, вот ей состригли белокурые жиденькие локоны, вот она сказала первое слово: «Папа». Ольга была возмущена: смотрела на Ивана с ненавистью и все вопрошала: «Почему „папа“? Ну, вот почему „папа“? Ты что ли с ней возишься целыми днями? Ты что ли ночей не спишь? Да и вообще ты ей никакой не папа!». Даже принималась реветь пару раз. Иван где-то в глубине души был доволен, сам даже не знал, откуда в нем такое злорадство. Ничем он своих чувств не выдавал: изображал сочувствие. Ольга мучила Лесю: «Ну, скажи „мама“, девочка моя, лапушка, заинька, скажи „мама“»! Леся хитро улыбалась и говорила: «папа», «баба», «деда», «няня», а вот «мама» — ни в какую. Ольга чувствовала себя отвергнутой, злилась, нервничала, срывалась на дочку по любому поводу, а Ивана вообще растерзать была готова. Домой он больше не спешил: там, казалось, сам воздух начинен духом истерии. Еще больше работал. Предложил тестю не только распихивать товар по чужим магазинам, но и открыть свои. А еще на волне приватизации прикупить какой-нибудь из угасающих заводиков да наладить собственное производство спиртного. Бизнес нужно было расширять. Вот они и расширяли.
Года через полтора после рождения ребенка Ольга затосковала. Тесно ей стало дома. Скучна ей стала роль матери, единственная, которую она сейчас играла. Она была актриса широкого профиля, подмостки двухкомнатной квартиры были ей малы — ей нужно было блистать на большой сцене. К тому же и многочисленные наряды выгуливать было негде. Да и грешно скрывать свою красоту в четырех стенах. Ольга собралась на работу. Отец инициативу дочери поначалу не поддержал — зачем ей работать? Мать вон не работает и прекрасно себя чувствует, да и ребенок еще совсем маленький. Да и куда она работать-то пойдет, с ее-то совершенно бессмысленным филологическим образованием? В школу что ли? Малолетним хулиганам о высоких материях рассказывать? Да за ту грошовую зарплату, что учителям платят, дешевле дома сидеть да нервы свои беречь. Пригодятся они еще, нервы-то. Предложил денег больше давать на карманные расходы: в магазин лишний раз сходить, на маникюр, ну или там на массаж. Мало ли может быть развлечений у богатой, красивой, молодой девушки?
— Папа, я хочу свой магазин. — Твердо сказала Ольга.
— Что? — удивился Михаил Львович.
— Хочу свой магазин, — повторила Ольга.
— И какой, если не секрет? Чем торговать-то собираешься? Сама-то хоть знаешь?
— Старым барахлом.
— В смысле?
— Понимаешь, папа, это сейчас такое модное направление — называется секонд-хенд. Вот смотри, у нас же вся страна завалена турецким и китайским, извини, дерьмом. Ничего, народ хавает. Но, как ни странно, есть в нашей стране люди с хорошим вкусом, кто не может носить эти попугайские одежки, а денег больших у них нет. Вот для них и открывают секонд-хэнды. Понимаешь, в Европе люди сдают ненужную одежду, мы ее покупаем за копейки на вес, в Москве, кстати, можно купить, а здесь продаем тоже дешево, но все-таки значительно дороже, чем купили сами. Я бы сказала, в разы дороже. Дело верное, папа.
— Ты же не умеешь делать бизнес. У тебя же одни книжки и всякие глупости на уме.
— Папочка, а ты уверен, что ты хорошо меня знаешь? К тому же вы с Иваном мне поможете, да ведь, папочка?
— Ладно, черт с тобой. Только не думай, что я буду выкидывать деньги просто так. Сколько времени тебе нужно на составление бизнес-плана? Аренда помещения, поставщики, зарплаты продавцам, риски. В общем, расходы и предполагаемые доходы. Хочешь открыть свое дело — учись, рискуй, но в разумных, хоть как-то просчитанных пределах. Я понимаю, что в этой стране вообще сложно что-то планировать, прогнозировать и просчитывать, но все же делать это стоит.
Иван тоже заинтересовался проектом жены. Общая цель их даже на время сблизила.
Через пять месяцев Ольга открыла магазин. Помещение нашла не в центре, а в спальном районе, но на бойком месте. Начинающая предпринимательница решила, что секонд-хэнд в центре будет выглядеть как-то излишне респектабельно, а это может отпугнуть небогатую публику, на которую она, собственно, и рассчитывала. Никакого особенного ремонта Ольга решила не затевать — просто покрасила стены в бледно-лимонный цвет, развесила фотографии европейских достопримечательностей в ярких рамочках и старые виниловые пластинки, занавески в примерочные сшила из старых джинсов, которые собрала у всех своих родственников и знакомых — получился в известной степени артистичный и в достаточной степени демократичный интерьер. За товаром в Москву Ольга поехала сама, на «Газели», которую любезно предоставил ей отец. Так же, разумеется, он предоставил ей и надежного, опытного водителя. Позаботилась она и о рекламе: помимо объявлений в газетах, она разместила ролики на только что появившейся в городе первой музыкальной радиостанции — ее тогда слушали все. Даже пару раз выступила в прямом эфире — мило пообщалась с симпатичным ди-джеем о прелестях секонд-хенда, а именно о том, что здесь за копейки можно купить чуть-чуть поношенные, но очень качественные вещи известных марок, привезенные прямо из Европы. Это же так замечательно! Ведь все мы хотим выглядеть стильно, а когда одеваешься на рынке, это желание почти не осуществимо. К тому же, еще одна проблема рынков — они наряжают всю страну в совершенно одинаковый, безвкусный, вульгарный ширпотреб. Попробуйте найти там что-нибудь эксклюзивное. Это даже более бесперспективно, чем искать золотую руду в средней полосе России-матушки. А вот в секонд-хенде любая вещь гарантированно будет в единственном экземпляре. Так что велком! Таким образом, Ольга весьма успешно, во-первых, просветила население города по поводу существования такого явления в жизни как секонд-хенд, во-вторых, сформировала весьма положительное общественное мнение об этом явлении, а в-третьих, создала заметный резонанс. В итоге к моменту открытия магазина перед ним выстроилась очередь… Дело пошло. Довольно скоро оно стало приносить прибыль. На радостях от того, что дочь унаследовала от него предпринимательскую жилку, Михаил Львович прикупил Ольге подержанную иномарку, но не старушку какую-нибудь, а двухлетку. Немецкую. Чтобы перед товарищами стыдно не было, что дочка его на рухляди всякой ездит. И Ивану настоятельно рекомендовал сменить автомобиль — как-то не вписывался он со своей шестеркой в общий контекст состоятельного семейства. Позорил его, можно сказать. Иван купил девяносто девятую. На это тесть заявил, что Ивану нужно учиться относиться к собственной персоне с большим уважением и, безусловно, больше зарабатывать. Словом, и новой машиной зятя он удовлетворен не был.
Через год после открытия магазина Иван заметил некоторые странности в поведении жены: она все чаще стала задерживаться после работы, иногда от нее пахло спиртным, но даже не это было самым подозрительным — она то язвила с утроенной силой, то вдруг становилась кроткой, просила прощения по любому пустяку и лезла к мужу с несвойственными ей нежностями. И в постели… Такие кульбиты устраивала, каких Иван от нее и не видывал никогда, особенно в последнее время, когда из их занятий любовью уже ушла острота новизны и страсть. Все уже стало обыденностью, случавшейся, впрочем, не слишком часто. Иван тогда впервые узнал, что даже к такой темпераментной красавице, как Ольга, можно охладеть. И довольно быстро. Он уже посматривал на сторону, но пока еще не делал никаких шагов в этом направлении: в его идиллическое представление о нормальной семье не укладывалось наличие любовницы. Словом, к адюльтерам он относился крайне негативно. Более того, считал их недопустимыми и осуждал своих друзей-товарищей, которые при живых-то женах блудили направо и налево. Те в свою очередь смеялись над Иваном и заявляли, что он наивный идиот, который еще пожалеет о том, что так неосмотрительно расходовал свою молодость и мужские силы на одну единственную бабу, к тому же еще и редкостную стерву, хоть и красавицу тоже редкостную. Особенно когда она ему сама рога наставит. Вот уж он тогда будет локти кусать, вот уж он себя будет считать полным дураком. Она ему, так сказать, аргумент, а у него-то нет контраргументов, поскольку никаких превентивных мер он не предпринял. Иван отказывался верить. Не мог он поверить и в то, что Ольга сможет ему изменить. По себе ее судил. Собственно, и странностей жены он бы не заметил, поскольку был человеком в высшей степени занятым, голову всякими глупостями не забивал, на мелочи внимания не обращал. К тому же Ольгу без странностей вообще представить сложно, ибо человек она чудаковатый, экзальтированный и непредсказуемый. Но тут Ивану случайно в глянцевом журнале, которые начали тогда появляться в России, и которые он иногда просматривал, сидя в туалете, попалась статья о признаках измены. И тут он будто прозрел — все совпадает! И отлучки эти, и перепады настроения, и, казалось бы, немотивированная нежность и страсть, очевидно, вызванная чувством вины, и нововведения в постели. В голове Ивана угнездились подозрения. В душе его поселилась ревность. Он задавал жене вопросы: где ты была, с кем ты была, почему задержалась, почему у тебя взгляд, как у удовлетворенной кошки? Ольга сначала довольно спокойно отвечала, что ее задержали на работе дела, что нужно было срочно проверить бухгалтерию, что завезли новую партию товара, и было необходимо помочь продавцам все отсортировать, разложить и развесить, что она встречалась с подругами, что они ходили в ночной клуб, недавно открытый в городе, что она заезжала к родителям. Все было вроде бы убедительно, Иван даже частенько был склонен ей верить — это было гораздо проще и безопаснее — просто поверить, но червь подозрений продолжал точить его душу. Он продолжал задавать вопросы, Ольга раздражалась, разъярялась, называла Ивана Отелло, безумным ревнивцем и настоятельно советовала нанести визит психиатру и провериться на наличие паранойи, а то и других, более серьезных психических расстройств. Если раньше допросы еще имели шанс закончиться примирением в постели, то сейчас они перерастали в бурные скандалы с битьем посуды, переворачиванием столов, потоками слез и взаимных обвинений. Леся в ужасе забивалась куда-нибудь в уголок. После таких безобразных сцен Ивана отправляли спать на диван в гостиной. Подозрения у него были, а вот доказательств не было никаких. Лишь смутные догадки и выводы, основанные на рассуждениях досужей журналистки из глянцевого журнала. Он даже следил за Ольгой: караулил ее возле работы, а потом тихонечко ехал за ее машиной. Слежка ничего не дала. Ольга действительно иногда задерживалась на работе, периодически ездила к родителям и встречалась с подружками. Иван обшаривал карманы жены, штудировал ее записные книжки, но и там не нашел ничего подозрительного. Слежку он довольно скоро прекратил — она отнимала слишком много времени и вредила его работе. Иван понимал, что нужно бы как-то угомониться, успокоиться, иначе добром все это не кончится. Он и успокаивался на время, жизнь входила в привычное русло, а потом Ольга снова поздно возвращалась домой, от нее снова пахло спиртным и, кажется, каким-то жестким мужским парфюмом. И снова в Ивана вселялся бес ревности, который заставлял его задавать неудобные вопросы, подвергать сомнению каждое слово супруги и крушить те остатки теплоты и доверия, которым чудом удалось уцелеть в их отношениях. Однажды Ольга устало сказала: если я такая плохая, давай разойдемся, давай не будем больше мучить друг друга, тем более что срок нашего контракта истек давным-давно. Ты больше ничего не должен ни мне, ни моему отцу, ни моей дочери. Ты отработал сполна ту дурацкую квартиру. Ивана это предложение испугало — не готов он был потерять женщину, которая его так истязала, но которая почему-то была ему безумно дорога.
— Как ты не понимаешь, — сказал он, — я так себя веду потому, что люблю тебя. Я ревную. Как ты не понимаешь?
— Я не давала тебе поводов.
— У тебя правда никого нет?
— Нет.
— Ты мне не изменяешь?
— Нет.
— Поклянись.
— Клянусь.
— Чем клянешься?
— А чем нужно?
— Здоровьем дочери.
В Ольгиных глазах мелькнула нерешительность, но потом она все же тихо произнесла:
— Клянусь здоровьем дочери.
— Я тебе верю.
— Я рада.
Это была дивная ночь, каких уже давно не было у этой измученной ревностью пары. Иван отметил, что страх потерять любимую женщину добавляет огня, что так он не желал Ольгу даже в самую первую их ночь, когда она, заплаканная, неожиданно скользнула к нему под одеяло. Она, казалось, тоже снова прониклась любовью к своему фиктивному супругу, который так неожиданно стал настоящим. Иван был счастлив — никогда еще у них с Ольгой не было таких близких отношений: они вместе гуляли по вечерам, ужинали в ресторанах, танцевали в клубах, болтали обо всем на свете. Иван заново открывал свою жену: вдруг выяснилось, что она обладает очень серьезным интеллектом, имеет глубокие познания в литературе, истории, религии, живописи; прекрасно разбирается в политике и экономике, что она талантливый предприниматель. Иван восхищался смелостью ее замыслов и планов в бизнесе. Он ни капли не сомневался, что все у нее получится — она вела дела с мужской жесткостью и решительностью, и в то же время с женской фантазией и акцентом на интуицию. Только сейчас Иван и понял, какое сокровище ему досталось в придачу к квартире. А что квартира? Иван уже и не был уверен, что она когда-нибудь понадобится. Если только продать и его квартиру, и Ольгину и купить, например, большой-большой дом — в двушке их семейству было уже как-то тесновато. Иван все чаще возвращался к этой идее — он даже начал уже посматривать объявления в газетах о продаже земельных участков и прицениваться к стройматериалам. Он теперь связывал свое будущее только с этой женщиной — с Ольгой. И будущее это казалось ему безоблачным: виделись в нем Ивану любовь и гармония в отношениях с женой и дочерью, все возрастающие доходы семейства, развитие бизнеса, путешествия и, конечно же, большой дом, в котором будут счастливы и он, и Ольга, и Леся. А может быть, пора уже родить Лесе братишку или сестренку — при всей любви к Лесе хотелось Ивану и своего, родного ребенка — продолжателя рода, наследника. Хотя и наследница Ивана вполне бы устроила. Ивану уже начало казаться, что судьба решила вознаградить его покоем за испытания, что выпали на его долю в последние годы: это и потеря любимой девушки, и странная женитьба, и вынужденное отцовство, и эта безумная ревность. Словом, Иван наслаждался состоянием безмятежности, когда грянула катастрофа. Однажды он в обеденный перерыв заехал домой за документами, которые случайно забыл. В прихожей стояли Ольгины синие туфли, в которых она сегодня выходила из дома, и какие-то посторонние, мужские. Раньше он и не заметил бы их вовсе, но месяцы паранойи, вызванной ревностью, научили его быть внимательным к мелочам. Из спальни неслись какие-то шорохи, сдавленные вздохи и стоны, равномерный, жалобный скрип кровати, которая много чего уже повидала на своем веку. Иван хотел было незаметно выскользнуть за дверь, чтобы не слышать, не видеть, не знать, но вместо этого он тихо снял ботинки, надел свои тапочки и, пошатываясь, двинулся к спальне. Дрожащей рукой открыл дверь. Собственно, он догадывался, что там увидит: воображение уже нарисовало картинку, но все же Иван оказался не готов к тому зрелищу, что предстало перед ним. Белая тонкая Ольгина нога на смуглой узкой мужской спине. Иван подбежал к кровати и рывком сдернул этого мужчину с Ольги. Тут же ударил не глядя куда-то в это смуглое, упругое тело, которое только что обладало его любимой женой. Это был красивый парень. Слишком красивый. Его испуганные глаза. Ее испуганные глаза. Ольга пытается прикрыться. Парень пытается поднять свои вещи, разбросанные на полу рядом с кроватью. Иван снова бьет. Теперь уже в лицо. Снова бьет.
— Оставь его! — кричит Ольга. — Он ни в чем не виноват!
Иван опускает кулак. Парень все же хватает свои вещи, бежит к выходу. Иван позволяет ему уйти. Они остаются вдвоем — Иван и его жена — прелюбодейка, застигнутая на месте преступления.
— За что? — спрашивает Иван.
Ольга молчит и только скулит, как побитый щенок.
— За что? — повторяет вопрос Иван и, не дождавшись ответа, принимается выбрасывать из шкафа свои вещи. — Все же было хорошо! У нас же все было хорошо! — бормочет он.
— Хорошо? — вдруг встрепенулась Ольга. — Хорошо, говоришь? А чего хорошего-то у нас было? Не расскажешь? — взвизгнула она.
Иван застыл, прижимая к груди охапку своих костюмов.
— А что у нас было плохого? — удивленно спросил он.
— Я тебя ненавижу! Ненавижу! Правильный он, чистенький, благородненький! Ненормальный! Женился он на мне ведь не ради квартиры, а чтобы спасти! Умора! Да если б по расчету женился, я б еще поняла, а так, помочь он захотел! Придурок! Рыцарь, блин, печального образа! Ребенок родился, чужой, так этот идиот нет, чтобы свалить по-быстрому, пока не поздно, так он нянькаться с ним начал, и отца, и мать ему заменил! Блаженный! Юродивый! Баба другого любит, а он все равно к ней со всей душой. Она от любовника явилась, а он ее ужином кормит, да еще и успокаивает! Тапочки ей на ножки надевает! Ну, придурок, блин, придурок! Да меня тошнит уже от твоей правильности! Безгрешный ты наш Иван-дурак! Вот когда ты мне сцены ревности начал устраивать, вот тогда ты мне даже нравиться немного начал, хоть на мужика немного стал похож, а не на тряпку, а потом опять ангелом божьим стал! А мне как жить? Да ты хоть представляешь, кем я себя чувствую рядом с тобой? Да дрянью последней! Сукой, стервой, блядью! Да, блин, ты даже не представляешь, как скучно с тобой! Как невыносимо! Никакой страсти! Никакой драмы! Как такого, как ты, можно любить? У тебя же ни одного недостатка! Хотя нет, не так! Вот это и есть твой самый главный недостаток — то, что у тебя нет никаких недостатков! И умный он, и красивый, и талантливый, и добрый, и заботливый, и сексуальный, и смелый, и деньги он зарабатывать умеет, и порядочный, мать твою! Идеал, блин, а не мужик! Рассказали бы мне, что такие бывают, я б и не поверила! Боже, как же невыносимо это совершенство! Как невыносимо! Так и хочется сбежать от него к чертовой матери! К обычному мужику, несовершенному! Чтоб и матюгами тебя покрыл, и унизил, и ноги об тебя вытер, но любил чтоб, ненавидел! Чтоб живой был, со слабостями. А тебя в кунсткамеру или не знаю, куда там тебя еще сдать можно, чтоб стоял столбом, а снизу табличка чтоб была: «Эталон настоящего мужчины». А мне такой не нужен, я не идеальная женщина! Мне простой мужик нужен. Господи, а эти идиотки еще об идеальном мужчине мечтают! Принц им нужен! Да попробовали бы они с таким пожить! Да взвыли бы через месяц! А я еще вон четыре года с тобой продержалась! Думаешь, ты Иван-царевич? Да ты самый настоящий Иван-дурак! Ненавижу! Ненавижу! Вали отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели, чтоб духу твоего здесь не было! — Ольга запустила в Ивана подушкой, а тот бросился вон из квартиры, проклиная эту взбалмошную суку и обещая себе никогда-никогда больше к ней не возвращаться.
— Ты же здоровьем дочери поклялась! — выкрикнул он уже у двери.
— Ха-ха-ха! А я пальцы держала скрещенными! Не было никакой клятвы! Не было! Иванушка-дурачок! Иванушка-дурачок!
Ивана проводили взрывы истерического хохота.
Глава девятнадцатая
У нее была уникальная особенность — где бы она ни появлялась, все взгляды тут же обращались к ней. Вот и сейчас она стремительно ворвалась в кафе, и даже тощие, длинноволосые, мажористые подростки оторвались от своих ноутбуков и уставились на эту высокую блондинку неопределенного возраста в роскошной шубе из стриженой норки.
«Как же она все-таки хороша! — подумал Иван. — Сука! Я снова готов в нее влюбиться. Как Господь Бог распределяет свои дары? Почему такой стерве досталась такая ангельская внешность? Ну, вот как?».
— Привет, дорогой! — произнесла Ольга язвительно и умудрилась при этом презрительно скривить губы. — Ты обнищал? Что на тебе за плебейский джемпер? Это что, из прошлой нищей студенческой жизни? Что-то не припоминаю. Неужели новый? Неужели ты до сих пор покупаешь такое дерьмо? Милый, ты не перестаешь меня… разочаровывать.
— Я тоже рад тебя видеть, дорогая, — промямлил Иван, — ты тоже не меняешься, все такая же стерва, и даже твоя очаровательная шубка не в силах прикрыть твоей подлой, злобной сущности.
— А знаешь, — неожиданно задумчиво произнесла Ольга, — только с тобой я и могу общаться в таком вот взаимно оскорбительном тоне. Обычно, то ты оскорбляешь, и тебе это позволяют, то тебя оскорбляют, и ты это тоже позволяешь. Но если уж оба разошлись, то закончится это банальной сварой. А с тобой у нас такие дивные интеллигентские рокировки. Они меня так умиляют… Так зачем ты меня хотел видеть?
— Присядь, дорогая, давай закажем бутылочку «пиногриджо», что-нибудь поесть, а потом, будь спокойна, я расскажу тебе, зачем я хотел тебя видеть. Но, чтобы не томить тебя, не мучить ожиданием, могу сразу сообщить, что вовсе не желания сексуального характера заставили меня жаждать встречи с тобой, хотя, безусловно, ты не утратила способности волновать каждого встречного-поперечного мужчину, и вашего покорного слугу в том числе! — Иван галантно склонил голову.
— Все тот же словоблуд. — Ольга улыбнулась благосклонно и даже с оттенком доброты, ей несвойственной.
После того, как бывшие супруги обменялись традиционными вопросами «Как дела? Как жизнь?», получили в ответ ничего не значащее «Нормально и отлично» и посплетничали об общих знакомых, сделали заказ, получили заказ, выпили по глотку вина, Ольга снова спросила:
— Так зачем ты меня сюда позвал? Я, знаешь ли, женщина в высшей степени занятая, к тому же несвободная и не могу себе позволить роскошь терять время на разные досужие разговоры.
— Ты что же это, так занята, что не можешь просто расслабиться, насладиться вкусом вина и беседой с интересным, приятным человеком?
— С приятным — да, но ты к ним не относишься. — Фыркнула Ольга.
— Странно, очень странно, — протянул Иван, — а я-то всегда себя считал таким милым, чудесным человеком, а тут оказывается, что я почти уже сорок лет заблуждался. Кошмар! Ужас!
— Не утомляй меня своими глупыми шуточками, оставь их для соблазнения малолетних идиоток, а меня они уже не трогают, к тому же соблазнить меня у тебя все равно не получится.
— Я восхищен твоим самомнением! Одно непонятно, с чего ты взяла, что я ХОЧУ тебя соблазнить? Впрочем, ладно, ты права, давай перейдем к делу, а то так и до скандала недалеко. Я хотел поговорить с тобой о нашей дочери.
— У тебя нет никакой дочери: у меня есть, а у тебя — нет. — Тут же ощетинилась Ольга. — Леся в твоих услугах больше не нуждается — у нее теперь настоящий отец, родной.
Иван сделал большой глоток вина, пытаясь справиться с приступом ярости.
— Детка, — произнес он после минутной паузы, — я охотно верю, что ты в моих услугах больше не нуждаешься, собственно, ты уже давно в них не нуждаешься, и это вполне логично, но не говори за Лесю. Она меня считает своим отцом, а не этого незнакомого мужика, который сначала бросил тебя беременную, семнадцать лет от него ни слуху, ни духу не было, и вот явился — люби меня, доченька, я твой настоящий папа. Думаешь, у нее получится? Особенно, если учесть, что всю свою жизнь она считала меня своим отцом. Ты хоть представляешь, что сейчас творится в ее душе? Какое там смятение, какая паника? Ты хоть понимаешь, что это признание о тайне ее рождения разрушило весь ее мир? Она подросток, ей и так непросто, а тут еще и это. Тебе бы попробовать понять ее, помочь, а ты еще и давишь.
— О чем это ты? — удивилась Ольга.
— Зачем ты заставляешь Лесю называть того мужчину папой? Ей это невыносимо. Не может она, понимаешь?
— Ах, вот оно что! Ревность! Банальная ревность! Не хочется тебе терять статус отца, своих-то детей нет, так и не обзавелся! Хорошо устроился! Тринадцать лет, как от нас ушел, а отцом так и остался. Замечательно! Ни воспитывать не нужно, ни ухаживать, когда болеет, ни в садик возить, ни в школу, ни домашние задания проверять, ни с учителями общаться, ни трудности подросткового возраста переживать. Ты что же думаешь, это миф что ли? Нет, папочка, это реальность! Да она уже всю душу из меня вынула, мне иногда на луну от нее уже сбежать хочется! То она школу прогуливает, то по ночам где-то шляется, мальчики эти бесконечные, то у нее капризы, то она дерзит, а видел бы ты ее комнату — это же свалка настоящая! И по дому помочь не допросишься. Да ты и представить не можешь, как меня все достало! А ты… Да, тебе легко быть отцом — приехал раз в полгода, завалил подарками, денег дал, раз в год на курорт вывез — вот и все заботы. А я… Я устала нестерпимо. А тут вы еще затеяли воевать за отцовство…, — Ольга совсем сникла. Ивану даже стало немного жаль ее.
— Оля, не буду я воевать. В конце концов, она уже взрослая, и скоро мы все вообще будем не очень-то ей и нужны — так, постольку поскольку. Но все же, я тебя очень прошу, не принуждай ее называть того человека отцом — не может она пока. Возможно, когда-нибудь, когда у них возникнут какие-то теплые, а не враждебные отношения, она сама назовет его папой, а сейчас не может она — неожиданно это все для нее слишком, тяжело слишком. Знаешь, как она тут вчера рыдала? Просила даже забрать ее с собой в Москву, потому что она не знает, что делать и как себя вести с новообретенным папашей.
— А что ты? — Ольга насторожилась.
— Пока отказал.
— Что значит — пока?
— Значит — пока. Пока школу не закончит, а потом мы договорились, что она продолжит образование в Москве, а я куплю ей квартирку где-нибудь, ну, не совсем уж в центре.
— Договорились они! — вскричала Ольга. — А меня вы спросили? Может, я ее еще никуда не отпущу! Кто мой бизнес продолжать будет? У меня вон, супермаркеты, рестораны, куда все это? Кому? Все ведь для нее! Я надеялась, что она вырастет и помогать мне будет. Решили они! Да какое право вы вообще имеете что-то там решать? Она ребенок еще совсем, а ты ей вообще никто! Она останется здесь! — лицо Ольги перекосило от гнева.
— Оля, выслушай меня! Если ты не позволишь ей уехать, ты испортишь всю ее жизнь! Она же не обязана жить так, как хочется тебе, она сама вправе решать! Уезжать ей или оставаться, это только ее дело! Пойми! Я очень прошу тебя, не ломай ей жизнь!
— Идиот! — закричала Ольга. — Как ты меня уже достал со своим чертовым благородством! Как был Ванькой-дураком, так и остался! И ребенка он чужого от собственной матери защищает, и квартиру чужому ребенку готов купить в МОСКВЕ! Только придурку такое в голову может прийти! Тут от родных отцов алиментов копеечных не допросишься, а он миллионами готов швыряться ради совершенно чужой девчонки! Ты случайно не Гумберт-Гумберт, нет? — Ольга внимательно взглянула на Ивана. — Хотя нет, ты такой правильный, что на такие подвиги вряд ли способен. Короче, не смей портить моего ребенка своей поганой добротой! Оставь нас в покое! — Ольга решительно сдернула с вешалки свою шубу и стремительно направилась к выходу. Взгляды всех присутствующих снова обратились на нее. Потом вдруг замедлила шаг, развернулась, снова водрузила шубу на место, плюхнулась на свой стул и устало спросила:
— Думаешь, ей на самом деле лучше уехать?
Иван пожал плечами:
— Я не знаю. Безусловно, в столице образование лучше, чем в этом заштатном городишке… Знаешь, я думаю, она сама должна решить, что для нее лучше.
— Да что она понимает?! Она же маленькая еще! Жизни еще не знает. Чего она нарешать может?
— Оля, она справится. Справится. Леся умнее и самостоятельнее, чем нам кажется.
— Правда? Ты, правда, так думаешь?
— Уверен.
— Ты на самом деле собираешься купить ей квартиру?
— Квартирку. Небольшую. Точнее, маленькую. На первое время, мне кажется, сойдет.
— И у меня не получится ее удержать?
— Это вряд ли. Сейчас удержишь, так она потом сбежит. Только при этом утратит часть теплых чувств к тебе.
— Так, у нас вино еще осталось? — Иван кивнул. — Налей мне еще. — Скомандовала Ольга.
Некоторое время она мелкими глотками пила вино, смотрела в окно, за которым подмигивали огнями елки, а потом сказала:
— Ладно, я, пожалуй, тоже поучаствую.
— В чем?
— В чем, в чем? — проворчала Ольга. — В покупке квартиры! Знаю я ваши цены. Вдвоем-то мы сможем что-то поприличнее купить.
— А как же твой бизнес?
— А что с моим бизнесом?
— Ну как же, преемственность поколений, трудовая династия и все такое… Ты разве больше не хочешь, чтобы Леся тебе помогала?
— Отчего же? Хочу, но не могу же я ее заставить?
— Тебя что, подменили, детка? Какая-то ты добрая вдруг стала.
— И не надейся, — расхохоталась Ольга. — Я все та же эгоистичная сука. Так что не переживай так уж сильно. Со мной все в порядке. Просто сначала образование-то все равно получить надо. А мы уже выяснили, что в Москве оно лучше. Так?
— Так.
— Ну а потом, если захочет, то пойдет работать в мою фирму.
— А если не захочет?
— Не захочет, так не захочет. Хоть для себя поживу. Свободно. Да и шут с ним, с бизнесом. Его продать можно, когда надоест окончательно. Купить домик где-нибудь…, — Ольга мечтательно потянулась, — например, на Женевском озере и зажить там спокойно, умиротворенно, беззаботно! Заняться, наконец, любимым делом…
— И каким же, позвольте полюбопытствовать?
— Да книжки читать. А то все некогда, да некогда. А может, еще детектив какой напишу на досуге, мало ли… У меня уже столько материала набралось с моим-то опытом в коммерции… Цветочки в саду начну выращивать… А то все работаю, работаю, как проклятая, и денег, вроде, полно, а радости в жизни нет. Почему так? Зарабатываем деньги, чтобы быть счастливыми, а в итоге деньги занимают у нас столько времени, что счастливыми быть уже просто некогда.
— Это точно, — согласился Иван. — А ты что же, совсем-совсем несчастная? — насторожился он.
— Да нет, все у меня в порядке. — Отмахнулась Ольга. — Это просто закидоны из серии «богатые тоже плачут». Вроде, все хорошо, все есть, только точит душу-то червячок неудовлетворенности, точит. Вроде все так, а что-то все равно не так. Это все люди такие болваны или я одна?
— Насчет всех не могу сказать, но ты явно не одна — я точно такой же.
— Зажрались?
— Не знаю. Может быть, нам просто что-то другое нужно? Не деньги, не квартиры огромные, не дорогие машины? Может, мы просто сбились со своего истинного пути?
— А что может быть важнее денег, а особенно того, что на них можно купить?
И тут Иван сказал то, чего не говорил никогда и никогда не думал, что когда-нибудь это скажет. Потому что эта идея впервые пришла ему в голову, потому что раньше он и помыслить об этом не мог. Или у него просто не было времени задуматься об этом.
— Может быть, это любовь, близкие люди, а главное, главное… призвание. Главное, заниматься тем, для чего ты пришел в этот мир. Только ведь большинство из нас промахиваются, не находят они своего призвания, вот и маются. — Иван глубоко вздохнул. — Ты вот, например, своим делом занимаешься? Как считаешь? Торговля — это твое?
Ольга помолчала. Потом сказала уверенно:
— Мое. Особенно мне нравится ресторанный бизнес. Больших денег он не приносит, зато это так увлекательно. Это чистой воды творчество! — глаза Ольги горели. Давно Иван не видел такую Ольгу — незатейливую, человечную какую-то что ли, без этой обычной язвительной маски. Хотя кто ее знает, эту сумасшедшую женщину, какая она на самом деле, где у нее маска, а где истинное лицо? Или у нее с десяток этих самых истинных лиц? За все долгие годы знакомства с Ольгой он так этого и не понял. Эта златокудрая богиня являет собой гипертрофированное воплощение женщины-загадки. Хотя, с точки зрения Ивана, неплохо было бы ей быть и попроще. — Придумать концепцию, интерьер, а потом устраивать вечеринки, выставки картин и фотографий, приглашать музыкантов, — продолжала Ольга, — так жаль, что у меня нет времени этим заниматься. Это все специально нанятые люди делают, а я лишь их контролирую. Была я в Греции в одном малюсеньком уютненьком ресторанчике… Хозяева, пожилая супружеская чета, встречают каждого гостя, готовят для него еду, разговаривают, расспрашивают, улыбаются тебе так доброжелательно, как настоящие друзья. Даже лучше, потому что лично у меня таких друзей и не было никогда. Создается ощущение, что ты действительно им интересен, что им действительно важно, какое у тебя настроение, все ли у тебя в порядке со здоровьем и сколько стоит оливковое масло в твоем городе. И вот простая жареная рыба вдруг кажется тебе какой-то фантастически вкусной, а вино таким веселяще-пьянящим, и ты уходишь оттуда таким счастливым и мечтаешь снова вернуться в этот прожженный солнцем городишко, и снова заглянуть к этим людям, которые наверняка встретят тебя как старых знакомых. И даже если они тебя не узнают, все равно снова будут тебе рады, потому что ты для них по-настоящему дорогой гость. Знаешь, о чем я мечтаю? — Иван отрицательно покачал головой. — Я хочу стать хозяйкой салона, как в старинных романах, но в современном варианте, разумеется, кафе или ресторана, и чтобы туда приходили умные, талантливые люди, чтобы они там могли просто поговорить, чтобы они могли показать там свои работы, спеть свои песни, прочитать свои стихи и рассказы. Вокруг столько талантливых людей, но многие из них прозябают в безвестности. Интернет дело хорошее, но ведь и живое общение нужно. И картину хочется увидеть живьем, и голос живой услышать, да и хотя бы почувствовать, что ты не одинок, что есть люди, которым нравится то, что ты делаешь, да пусть хоть зависть ощутить! Даже это лучше, чем ничего. Не хватает нам художественной, творческой среды — разбрелись все по своим углам, по своим персональным компьютерам, и задыхаемся в этом виртуальном пространстве… Хочется уже живого, разностороннего общения. Такая глупая у меня мечта.
— Отчего же глупая? Мне нравится. А что мешает тебе ее осуществить?
Ольга задумалась.
— А что мне мешает? Черт! А ведь ничего мне не мешает! Да, точно! Нужно сделать! Я даже могу себе позволить, чтобы это заведение не приносило прибыли. Хотя нет, это неправильно, оно будет приносить прибыль! Да, еще там можно фильмы показывать, кино не для всех, проекторы повесить. Ух, так здорово будет! — Ольга разговаривала уже сама с собой.
— А мою выставку устроишь в своем будущем арт-хаузе?
— Простите, выставку чего? Вроде, ты не был замечен в порочных связях с искусством?
— Ты мало меня знаешь. Да будет тебе известно, что в детстве я был самым перспективным и многообещающим учеником художественной школы. — Заявил Иван гордо.
— И куда все делось?
— Зарыл талант в землю. Банальная история.
— Точно Иван-дурак, — резюмировала Ольга и усмехнулась, — ха, а ведь ты не так уж безупречен, как мне казалось: как большинство из нас — зарываешь таланты в землю. Так ты мне, пожалуй, даже нравиться начнешь, дорогой. И что же, ты возобновил свои художественные изыскания?
— Пока нет, но подумываю об этом.
— Пока ты будешь думать, жизнь пройдет.
В этот момент у Ольги зазвонил телефон. Она глянула на дисплей, и тут Иван стал свидетелем волшебного преображения. Таких он не наблюдал со времен общения с Иркой Завьяловой, когда она скидывала свои отвратительные одежки и из замарашки-Золушки превращалась в великолепную принцессу. Ольгины губы расплылись в какой-то детской счастливой улыбке, глаза засветились нежным, мягким светом, с лица исчезло это ее вечное язвительное, спесивое выражение, она сразу стала еще в двадцать раз красивее, чем обычно, хотя и казалось, что красивее уже вроде бы некуда.
— Да, милый, — прощебетала Ольга, — не скучаешь там без меня? Проголодался?… Подожди немножко, дорогой, я вернусь и тебя покормлю. Что тебе купить в магазине? Хорошо-хорошо… Я уже скоро освобождаюсь… Какой любовник? Ну что ты, у меня деловые переговоры… Ну и что, что каникулы? У бизнеса каникул нет… Малыш, я скоро буду. Целую. Я так по тебе соскучилась. Целую, целую.
— Это ты с Лесиным биологическим отцом сейчас разговаривала? — полюбопытствовал Иван.
— Да, а что, ты все еще ревнуешь?
— Вот еще, было бы к кому! — фыркнул Иван. — Да и вообще, с какой стати я тебя должен ревновать? Даже если я и испытывал к тебе некие теплые чувства, отдаленно напоминающие любовь, то это, девочка моя, давным-давно прошло. — Лицо Ольги снова стало злым. — А ты что же думала, что Иванушка-дурачок будет любить тебя вечно? Слушай, а этот вот, как его зовут, биологический отец…
— Олег, — подсказала Ольга.
— Вот, Олег, — продолжил Иван, — ты с ним сейчас сюсюкаешь, а он же бросил тебя беременную, что повлекло за собой цепь разного рода неприятных событий, включая и то, что ты вынуждена была выйти замуж за такого правильного болвана, как я.
— Ну и что? Все совершают ошибки.
— Он же издевался над тобой. Помнишь, как ты однажды чуть с ума не сошла, когда он тебя бегемотихой назвал и заявил, что больше не желает тебя видеть.
— Ну и что? А мне нравится его прямота и откровенность.
— Он много лет пудрил тебе мозги. Играл с тобой, как кошка с мышкой, то приближал, то снова кидал.
— А мне нравятся такие игры.
— Он же не то чтобы не принимал участия в воспитании собственной дочери, он и не видел ее даже до недавнего времени. Ему же плевать было и на тебя, и на нее.
— Он всего лишь человек и имеет право на слабости.
— А сейчас почему он появился? Потому что жизнь его пошла под откос, он лишился молодости, могу предположить, что еще он лишился семьи и денег. И тут он решил ухватиться за богатый, мощный локомотив под названием — моя давняя, преданная любовница.
— А мне плевать! Как ты не понимаешь, я люблю его! А для любви не имеет значения, негодяй твой любимый или праведник. Да мне вообще нет дела до того, какой он! Я люблю и все! Я понимаю, что, наверное, он не самый лучший человек на земле, только мне, знаешь, нет до этого никакого дела — я люблю именно его. Я столько лет его ждала, столько лет, и вот, наконец, он мой, только мой. Пусть он не работает, пусть живет за мой счет, пусть при этом меня же и оскорбляет, мне все равно. Я счастлива, что он со мной! Ладно, Ваня, мне пора. Олег меня ждет.
— Рад был тебя увидеть, еще больше рад был узнать, что у тебя все хорошо, и что нам удалось договориться по поводу Леси.
— Пока, мистер несовершенное совершенство!
Ольга поднялась, накинула шубу и пошла к выходу. И снова все присутствующие смотрели на нее. И снова на полпути она вернулась, подбежала к Ивану, чмокнула его в щеку и прошептала:
— Ванька, ты самый лучший мужчина, который встречался мне в жизни. Самый лучший! Жаль, что я так и не смогла тебя полюбить. А выставку я тебе устрою, ты, главное, рисуй! Не теряй времени. Жизнь, она ведь такая короткая! — Ольга почти побежала к дверям.
«Ну, вот и кто она: злобная стерва или святая? — подумал Иван. — Сейчас она показалась мне святой. Одно ясно — в спасении она точно не нуждается».
Глава двадцатая
Вот и получилось, что брак был вроде как фиктивный, зато развод случился вполне настоящий. После душераздирающей сцены в спальне Иван, как водится, запил. И с горя, и для расслабления, и для поднятия боевого духа, да и просто так, потому что хотелось. На третий день разлуки, ободряемый и научаемый друзьями лихих студенческих времен, он вдруг понял, что еще очень и очень молод — ему не было еще и двадцати пяти, что вся жизнь у него впереди, да и мужчина он хоть куда — красив, умен и даже в некотором роде богат. Словом… Да любая женщина счастлива будет как минимум ему отдаться, а как максимум стать ему верной, преданной подругой. Так стоит ли горевать о потере этой коварной, жестокой суки? Наверное, нет! Точно, нет! А баб-то вокруг пруд пруди. Конечно, мало кто из них сравнится с Ольгой в красоте, зато уж точно любая из них добрее и заботливее этой стервы! В ту же ночь, когда он сделал открытие, что на жене, почти уже бывшей, свет клином не сошелся, он получил тому неопровержимые доказательства — первая же дурочка в мини-юбке, которую он подцепил в клубе, согласилась разделить с ним постель, а наутро исчезла без следа. Ну, разве что пара длинных светлых волос осталась на новенькой подушке в свежеотремонтированной Ивановой квартире. От волос Иван незамедлительно избавился, ибо был человеком крайне брезгливым. Как звали девушку, он не запомнил, а может, даже и не спросил. Какое это имеет значение? Главное, Иван удостоверился, что нравится женщинам и может получить любую, не прилагая никаких особенных усилий. В следующую субботу он доказал себе это еще раз, а потом еще… Спустя месяц разгульной жизни Иван подал на развод — бросил, так сказать, жребий, перешел Рубикон и сжег мосты, чтоб уж наверняка разные злые силы не смогли вернуть его в лоно семьи. Ольга несколько раз звонила, интересовалась, как у него дела и говорила, что Леся очень тоскует по папе, плачет и требует, чтобы он вернулся. Возвращаться Иван твердо отказался, хотя искушение такое и возникло на мгновение, но тут же было прибито видением тонкой Ольгиной ноги на посторонней мужской спине. Лесю он раз, а то и два в неделю по будням забирал к себе. Ольга хотела было, как и многие женщины, запретить Ивану видеться с ребенком, тем более что это все равно не его ребенок, но не смогла: во-первых, Леся слишком любила Ивана и устраивала жуткие истерики всякий раз, когда мама говорила, что папа не придет, во-вторых, у самой Ольги была насыщенная личная жизнь, и дочка ей немного мешала, ну, а в третьих, сколько она ни убеждала себя, что этот «чертов муженек» сам во всем виноват, окончательно убедить так и не удалось, поэтому чувство вины слегка погрызывало черствую Ольгину душу.
Тестю и теще Иван сразу же все рассказал, опустив, впрочем, интимные подробности и оставив при себе свое мнение относительно того, какая же сука-дочь у этих уважаемых людей. Честно признался, что из дома ушел окончательно и навсегда, что намерен развестись в самое ближайшее время и даже готов незамедлительно уволиться с работы в том случае, если Михаил Львович сочтет, что бывшему зятю не место в его конторе. Михаил Львович повздыхал, почесал лысину, плеснул водочки и себе, и жене, и зятю своему почти что бывшему. Выпили, закусили, потом еще выпили и еще закусили, и после третьей уже стопки Михаил Львович изрек:
— Вот что, сынок, ты мне эти глупости брось! Я тебя ценю вовсе не за то, что ты муж моей дочери — ты мне как работник дорог, так что увольнять я тебя не собираюсь, только если ты сам вдруг надумаешь уйти. Твои отношения с Олей — это одно, а наши с тобой — это совсем другое, и не надо мне тут путать туризм и эмиграцию. Это разные вещи. А Оля… Жаль мне, конечно, что не сложилось у вас: с тобой я был за нее спокоен, даже не за нее больше, а за Лесю. Что и говорить, хороший из тебя отец получился, даже получше, чем некоторые родные папашки… Жаль, нда, очень жаль. — Михаил Львович тяпнул еще рюмаху, закусил маринованным огурчиком. — А может, простишь ее? Жили бы как прежде. — Иван отрицательно помотал головой. — Ну и правильно, я б за такое вообще прибил бы и из дома выгнал, в чем мать родила. — Михаил Львович грозно посмотрел на жену. Та съежилась. — Бабы, бабы — волос у них долог, да ум короток. Вишь ты, что эмансипация-то с ними сделала — совсем от рук отбились, черте что творят. При домострое-то их за такие дела живьем в землю закапывали, так, небось, и не прелюбодействовали, боялись! А сейчас равные у них, видите ли, права!
— Михаил Львович, — робко ввернул Иван, который сидел уже весь потный и красный, — я бы предпочел больше не обсуждать эту тему. Как-то она мне не слишком приятна, знаете ли.
— Ладно, не буду, не буду. Прости меня, дурака старого. — Михаил Львович похлопал Ивана по плечу. Давай выпьем за твою новую, свободную, холостую жизнь! — он завистливо вздохнул.
Когда Иван сообщил Ольге о предстоящем разводе, она долго бесновалась. Кричала, что это она должна была на развод подать, причем давно, что он всю жизнь ей своей добротой и благородством исковеркал! Что это совершенно несправедливо и недопустимо, что это он от нее ушел, а не она его выставила из дома, тем более еще разводиться собрался! Что она теперь будет подружкам говорить? Что ее муж бросил, потому что она ему изменяла? Никто ведь не поймет, что изменяла она ему исключительно потому, что он слишком хороший был. Этого ведь никто не поймет! У людей мужья пьют, дерутся, гуляют. Тут-то понятно все и простительно. А кто теперь ее, Ольгу, пожалеет? Кто ей посочувствует? Так! Никакого развода она ему давать не собирается, а если до суда дойдет, то она у него и квартиру отсудит, и алименты огромные, и с дочерью видеться не даст. И вообще она не понимает, зачем им разводиться: ну живут себе отдельно, ну трахаются с кем хотят, штамп в паспорте стоит, и она, Ольга, с этим штампом не разведенка какая-нибудь, а вполне себе законная жена, хоть и свободная. Так что она категорически против развода и будет всячески ему препятствовать. Иван твердо ответил, что он, в свою очередь, категорически настроен на развод и никакими угрозами его не запугать, а подружкам своим она может про него врать все что угодно, это его заботит мало.
Через неделю Ольга позвонила и сообщила, что она согласна на развод и на все условия Ивана. Он понял, что этому звонку предшествовал серьезный разговор отца с дочерью: Михаил Львович всегда был убедителен в аргументации своих пожеланий.
Саму процедуру развода Иван помнил плохо. Помнил, что волновался он даже больше, чем перед свадьбой, что вид имел крайне потрепанный, даже носки умудрился разные надеть и все переживал, что Ольга это заметит и будет над ним глумиться в своей обычной манере. Однако Ольга, похоже, и сама волновалась не меньше Ивана, хотя и выглядела в отличие от него даже лучше, чем обычно: была в прическе, сотворенной в салоне, в элегантном темно-синем платье, туфлях на высоченных каблуках. Весь вид ее кричал: видишь, какое сокровище ты теряешь! Где ты еще сыщешь такую красивую женщину? Ты еще горько пожалеешь, что отказался от меня! Горько пожалеешь! Впрочем, говорящим в Ольге был только вид — сама она хранила гордое молчание. Точнее, общалась исключительно со своим адвокатом, которого привела с собой, несмотря на достигнутые договоренности касательно развода, да отвечала на вопросы мирового судьи. Когда все было закончено, Ольга, так и не взглянув на своего теперь уже бывшего мужа, запорхнула в свою красивую машину и укатила в свободное, разведенное будущее. А Иван тоже сел в свою машину и тоже укатил. Он долго кружил по городу, пытаясь заглушить тоску, которая сменила волнение. Тщетно. Его преследовал образ Ольги, которая сейчас, когда он окончательно ее утратил, представлялась ему какой-то совсем уж невероятной красавицей. Он мучительно сожалел, что никогда больше не прикоснется к ее гладкой, прохладной коже, не задохнется от восторга, когда она выйдет из спальни в новом платье, что никогда уже они не будут спать в одной постели, тесно прижавшись друг к другу. Никогда. Развод — это ведь не смерть, но сейчас было очень похоже.
Дома Ивана встретили друзья-товарищи, которые пришли поддержать его в трудную минуту, которую, впрочем, они отчего-то называли радостной. Не дав новоиспеченному холостяку опомниться, сунули в его руку стопку водки и заставили выпить за собственное досрочное освобождение из оков брака. Иван послушно выпил. Потом они усадили его за стол, обильно уставленный закусками и бутылками, и принялись повествовать о прелестях свободной жизни, не забывая при этом выпивать и закусывать. Друзья поведали, что Иван для себя-то пожил как-то совсем мало — как-то слишком быстро его охомутали, что почти не довелось ему вкусить беззаботных радостей юности. Но ведь не поздно еще — он совсем еще молод и очень вовремя скинул с себя этот тяжкий груз, это ярмо в виде жены и дочери. И вот сейчас, сейчас — самое время наверстывать упущенное. Добрать все-все-все возможности, утехи и наслаждения, от которых он добровольно отказался ради сомнительного удовольствия быть женатым. Иван приободрился и с пьяным энтузиазмом распространялся на тему, какая же все-таки у него бывшая жена сука, да и вообще все бабы такие. Друзья-товарищи вдохновенно ему поддакивали и не скупились на примеры из собственной жизни.
Проснулся Иван рядом с незнакомой женщиной. Подумал еще — хорошо хоть в своей постели, а не где-нибудь в канаве. Как здесь оказалась эта блондинка с размазанной по лицу косметикой, он решительно не помнил. Позже выяснилось, что это проститутка, которую вызвонили для Ивана его друзья-товарищи в качестве подарка по случаю начала холостяцкой эпохи в его жизни. Вызванивали они ее всего на часочек, и уплачено ей было за часочек, только она как-то подзадержалась, поддавшись на уговоры выпить рюмочку «беленькой», а потом еще одну и еще одну… И теперь вот сидела она на Ивановой кровати, продирала обрамленные осыпавшейся тушью глаза и требовала с хозяина помещения плату за дополнительное время, проведенное с ним. Причем ни она, ни Иван не помнили, было ли между ними то, ради чего, собственно, и призвали сюда эту девушку. Деньги Иван ей все же отдал и даже чаем напоил. А потом, после того как она, наконец, ушла, мучаясь похмельем, проклинал свою невоздержанность, обещал себе больше так не напиваться и посмеивался, морщась от головной боли, над своим бравурным возвращением в отряд холостяков.
В последующие месяцы и даже годы Иван был крайне благожелательно настроен по отношению к сексу, но всячески старался избегать так называемых серьезных отношений: к чему это? Зачем ему новая боль? Он еще и со старой-то до сих пор не разделался. И тут снова добровольно лезть в ярмо? Нет уж! Ни за какие коврижки. Барышни только вот были какими-то странными: нет бы получить взаимное удовольствие, да разойтись в разные стороны подобру-поздорову, так ведь нет — чувства им какие-то подавай, перспективы, виды на будущее. А ему-то, Ивану, это зачем, позвольте спросить? Пробовал он с некоторыми понравившимися девушками по два-три раза встречаться в интимной, так сказать, обстановке, и к чему это приводило? Да ни к чему хорошему. Тут же начинают с хозяйским видом советовать — сюда, мол, надо бы картину какую повесить, а сюда вот полочку приспособить, а шкафчик-то у тебя платяной вообще какой-то совсем малюсенький. Это они, наверное, с намеком, что все их наряды сюда не поместятся. А и не надо им сюда помещаться, не будет тут их нарядов! Что это еще за беспочвенные фантазии? Иван незамедлительно от таких барышень избавлялся, вероятно, причиняя им при этом страдания разной интенсивности. Только Иван об этом предпочитал не задумываться — он, в конце концов, никого не обманывал — честно предупреждал, что его интересует только секс, ни на что большее в отношении его, Ивана, рассчитывать не нужно, ибо это глупо, и ни к чему все равно не приведет. А эти дурочки, они ведь и не верят ему. Им-то ведь кажется, что перед ними, всеми такими из себя красивыми, полными разного рода достоинств, тайных и явных, он не устоит, и их страстное соитие непременно будет иметь какое-нибудь продолжение. Наивные! Предупреждал же, чего они теперь от него хотят? На что рассчитывают? Все по-честному. Не обещал он им любви до гроба, обещал лишь ночь любви. Так что их страдания — это исключительно их проблема, а он, Иван, ни в чем не виноват. Абсолютно. Кстати, он заметил, что это вот его «Скажу сразу: могу предложить только секс и ничего больше» действует на некоторых дамочек самым волшебным образом — мгновенно стимулирует к принятию положительного решения относительно проведения ночи любви с Иваном — появляется у них тут же спортивный такой интерес: «а вдруг я все же смогу чем-нибудь зацепить этого прожженного Донжуана, и он будет только моим, будет принадлежать только мне». Впрочем, Иван был натурой творческой, и к каждой девушке он применял разные способы воздействия: то он прикидывался жертвой несчастной любви (хотя, собственно, почему прикидывался, так оно и было) и взывал к состраданию, то он проявлял чудеса щедрости — угощал девушку самыми дорогими напитками, то он покорял будущую жертву своим интеллектом и обаянием, то элементарно, незатейливо так, спаивал. Успеха он добивался не всегда, но это его не слишком огорчало — ведь на любой охоте случаются промахи. Ничего страшного — девчонок в этом городе полно. Словом, за два года свободы он наработал целый арсенал всевозможных уловок по соблазнению женщин. Стал, можно сказать, профессиональным Казановой. И с каждой женщиной он будто мстил Ольге, доказывал ей, что он настоящий мачо, и только такая дура, как она, могла им пренебречь и предпочесть его другому. Сама Ольга тоже однажды побывала в его постели. Встретились как-то в клубе, поговорили, напились… ну и вспомнили былое. Ольга после постельных безумств все же признала, что она, действительно, была дурой, что такого мужика ценить надо было — таких порядочных, чутких и заботливых ей больше не встречалось. Да и в сексе он, надо признать, хорош как никто. Какое это было мучительно-сладкое поглаживание Иванова истерзанного самолюбия. Та рука, что нанесла рану, теперь ее пыталась и лечить. Хотя, скорее всего, просто имел место пьяный бред или какая-нибудь хорошо замаскированная издевка. Глупо подозревать бывшую жену в каких-то благородных поступках. Это же просто кощунство! Когда Иван проснулся, Ольги и след простыл. Вместо нее на подушке лежал листок, вырванный из блокнота, на котором было написано: «Надеюсь, ты понимаешь, что это был всего лишь секс, и никакого продолжения не будет? Ты ведь умный мальчик? Кстати, мне понравилось». Так Ивана добили его же оружием. Но довольно скоро он возродился из пепла и принялся за старое. Так и жил, не без приятности, между прочим.
Глава двадцать первая
Верочку Иван встретил в музее. Каким-то она там была младшим научным сотрудником или кем-то вроде того. Она экскурсию проводила для иногородних партнеров Михаила Львовича. Безусловно, сам Михаил Львович в музей не пошел, он человек занятой, солидный — делегировал Ивана показать гостям достопримечательности города. Верочка рассказывала вдохновенно, неспешно, с массой подробностей, которые спустя пятнадцать минут после начала экскурсии показались Ивану чрезмерными. Он отозвал девушку в сторонку и шепнул ей деликатно, что надо бы как-то побыстрее что ли… Верочка возмущенно взметнула брови над очками, презрительно хмыкнула, но все же прочитала свою лекцию в ускоренном темпе. После музея, посещению которого предшествовала автомобильная прогулка по самым красивым местам города, Иван планировал отвезти гостей в ресторан, где к ним уже должен был присоединиться сам Михаил Львович. Иван потом даже себе не мог объяснить, что это на него нашло, но он подскочил к Верочке и залихватски предложил ей составить компанию ему и его товарищам. Верочка потом тоже не могла понять, что побудило ее согласиться. Как-то это было не в ее стиле — шляться неизвестно куда с шестью неизвестно какими мужиками. Да она вообще с мужиками никуда никогда не шлялась. Кто ж ее такую позовет? Убогонькую. Да, Верочка, мягко говоря, была не слишком-то сексуально привлекательна. Наряжена была она в кургузенький костюмишко серо-буро-малинового цвета. По-другому этот цвет и не назовешь. Такой костюмчик постеснялась бы надеть даже мать Ивана. На ногах — стоптанные туфли, впрочем, хорошо начищенные. Каковы были сами ноги, можно было только догадываться — ибо туфли были столь уродливы, а юбка такой отвратительной длины, что зрительно разрезала ноги в самом неподходящем месте, так что понять, какие они, было практически невозможно. То же можно было сказать о всей фигуре — то есть она была загадочна. Можно было вообразить, что она у нее отличная, а можно — и наоборот. Верочка вроде как была достаточно стройная — это все, что можно было сказать о ее фигуре. Волосы были собраны в куценький хвостик, лицо надежно спрятано за огромными очками в черной оправе. Словом, Верочка представляла собой жалкое зрелище, которое, впрочем, будило фантазию Ивана: что будет, если снять с нее эти идиотские очки, распустить волосы, накрасить, надеть на нее какой-нибудь легкомысленный цветастый сарафанчик, туфли на высоких каблуках, а еще лучше вообще раздеть. Любил Иван всякие фокусы с перевоплощениями. Он сам точно не знал, но пригласил он Верочку все-таки не ради гипотетической возможности метаморфоз, а в качестве… клоуна. Вероятно, ему показалась забавной перспектива беседы семи состоятельных джентльменов, живущих в исключительно материальном мире, с одной нищей барышней, пребывающей в каком-то сугубо духовном мире, неведомом для этих мужчин. Конечно, этот мотив лежал не на поверхности, и Иван раскапывать его не стал. Точнее, копнул — и не понравился ему как-то этот мотив, неблагородный он какой-то, так что пришлось его зарыть поглубже. Но, в общем-то, беседа получилась именно в таком ключе — в комическом. Джентльмены задавали барышне вопросы о том, чем занимается она в своем музее, нравится ли ей ее работа, хватает ли ей зарплаты на жизнь? И искренне потешались над ее ответами. Потому что получалось, что у нее самая интересная в мире работа — она несет людям свет искусства, она открывает им глаза на духовные ценности, а то ведь мир сошел с ума и помешался на деньгах. Ну а что касается ее, Верочкиной, зарплаты, то ее вполне хватает на скромную жизнь, тем более что запросы у нее невеликие, к тому же деньги — это зло, и чем меньше денег, тем меньше зла. Сначала джентльмены сдержанно похихикивали, а потом начали хохотать в голос. В Верочкиных глазах появились слезы, которые были многократно увеличены толстыми стеклами очков. Джентльмены немедленно извинились за свое неучтивое поведение, заказали барышне шампанского, слегка опоили, после чего барышня засобиралась домой, для нее было вызвано такси, и уже после того, как она покинула ресторан, мужчины приступили к решению деловых вопросов, которые сулили им немалые прибыли. А духовное… Да бог с ним, с духовным. У них-то запросы большие, им-то деньги нужны. А духовность… ее на хлеб не намажешь и в рот не положишь.
На следующее утро Михаил Львович сделал Ивану строгий выговор, в устной форме, разумеется, на тему того, чтобы впредь он не позволял себе проявлять инициативу и приглашать на деловые встречи посторонних людей. Девушка-то, безусловно, занятная, и давно уже никто его так не веселил, но все же… Вчерашняя выходка Ивана носила совершенно безответственный характер, ибо вполне могла привести к неблагоприятному исходу переговоров. Ивану просто повезло, что партнерам этот незатейливый аттракцион понравился, что с чувством юмора у них все оказалось в порядке, и не приняли они Михаила Львовича за шута горохового. В общем, впредь никаких экспромтов. Точнее, любой экспромт должен быть предварительно согласован с начальством — то есть с ним, Михаилом Львовичем. Так-то, сынок.
Иван не то, чтобы сильно обиделся, но ему была крайне неприятна эта выволочка — казалось ему почему-то, что за столько лет безупречной службы имеет он право на некоторые вольности, и на инициативу в том числе, и на экспромты. К тому же, до сих пор все переговоры, которые готовил Иван, проходили успешно. Так что можно было бы обойтись и без воспитательных мер. Тогда впервые в Иванову голову забрела мысль, что неплохо было бы как-то отпочковаться от Михаила Львовича и начать собственный бизнес, но тогда эта идея так и осталась просто идеей. Потому что ее затмила другая — насолить бывшему тестю, да и самому яблоку раздора, то есть Верочке, другим способом, более увлекательным и легким, как ему показалось в тот момент — он позвонит нелепой экскурсоводше. С целью ее соблазнить. Это была очень непростая дичь. Охота обещала быть увлекательной. А то эти легкодоступные девицы из клубов в последнее время стали навевать на него скуку — пара стандартных приемчиков, и они готовы. А потом Верочку можно будет предъявить Михаилу Львовичу в качестве своей невесты со словами: «Вы вот гневаться изволили, а, между прочим, эта дама оказалась моей судьбой».
Он позвонил ей в музей:
— День добрый, Вера! — произнес Иван низким бархатистым голосом, — а это вас Иван беспокоит, тот, который вчера имел дерзость пригласить вас в ресторан.
— Ну и чего вам еще надо? — поинтересовалась Верочка холодно, — снова поглумиться надумали?
— Ну что вы, Вера, и в мыслях не было.
— А эти ваши… товарищи, они, разумеется, вчера не надо мной смеялись?
Иван покаянно вздохнул:
— Вынужден признать — над вами. Но чего вы от них хотите?! Это же грубые, необразованные мужланы! Они же от культуры и искусства далеки, как Земля от Альдебарана. Они же так называемые новые русские! У них же одни деньги на уме! Вполне естественно, что ваши взгляды на жизнь показались им странными. Они же поклоняются исключительно золотому тельцу! Такой у них бог! Сокровищница мировой культуры для них наглухо закрыта! Если уж их и заинтересует что-то в каком-либо шедевре, то исключительно его стоимость. Вы уж их извините.
— Хотите сказать, что вы не такой?
— Я? Конечно, нет! Я, знаете ли, большой поклонник и знаток литературы, кроме того, я в некотором роде художник: с отличием закончил художественную школу. Рисую на досуге пейзажики, натюрмортики… Кстати, мечтаю написать ваш портрет.
— Мой? — удивилась Верочка. — Вы издеваетесь?
— Отчего же? У вас такой необычный типаж. Вы представляетесь такой хрупкой, ранимой, немного, извините, старомодной девушкой. Вы — штучный товар. Такие барышни нынче большая редкость. — Иван будто бы даже увидел, как Верочка зарделась. — Соглашайтесь!
— Ну, я не знаю, — промямлила девушка.
— Вы заняты?
— Да, вроде, не особо…
— Тогда, Верочка, вы уж извините, но я не вижу причин для сомнений. Соглашайтесь! А знаете что, давайте для начала вместе поужинаем, вы ко мне присмотритесь, а там уже и решение примете. Вы во сколько заканчиваете?
— В шесть часов вечера, — проговорила Верочка тихо.
— Хорошо, в шесть я буду ждать вас у выхода из музея.
— Но…, — начала было Верочка — в ухо ей полетели короткие гудки.
Вечером она безропотно села в машину к Ивану, смущаясь, приняла букет роз, улыбнулась, сказала, что ей впервые дарят цветы и умолкла. Даже не спросила, куда ее везут. А Иван, кстати, и не знал, куда ее везти — стыдно появляться в обществе с такой дурно одетой барышней. Он планировал сходить в ней в одно модное кафе, которое открылось совсем недавно и уже пользовалось большой популярностью, но потом подумал, что если, не дай бог, его увидит кто-то из знакомых в обществе такого чуда-юда… Да над ним же смеяться будут! Сегодня Верочка выглядела еще нелепее, чем вчера — на ней был явно мамин еще кримпленовый костюм, в каких щеголяли модницы семидесятых, туфли на толстенных каблуках тоже явно антикварные, в качестве прически снова был жиденький хвостик. Ну и очки… Подобное чудовищное сооружение надевала на нос Иванова бабушка, когда читала газету «Правда» или своего любимого Чехова. У бабушки была близорукость, но в люди она выходила без очков.
— А вас кто-нибудь когда-нибудь наряжал? — спросил Иван.
— Нет, никогда. Мать редко покупала мне новую одежду. Мы жили очень бедно. Да и сейчас, в общем, тоже живем не сильно богаче.
— А хотите, чтобы кое-что еще у вас сегодня было в первый раз?
— Это вы о чем? — Верочка вся сжалась и отодвинулась от Ивана настолько, насколько позволяло сиденье автомобиля.
— Чего вы испугались? — игриво поинтересовался Иван, — боюсь вас разочаровать, но, вероятно, я имел в виду вовсе не то, о чем вы подумали. Я хочу отвезти вас в магазин и превратить Золушку в принцессу. — Верочка насупилась и приготовилась возражать. — Послушайте, только не вздумайте обижаться и уж тем более отказываться! Я открою вам маленький секрет: я принц, такой вот современный молодой принц, и я обожаю маленькие чудеса, например, делать подарки. Все, мы едем в магазин.
— Ну, это неудобно… неприлично… я не знаю… я не могу…, — лепетала Верочка.
Иван безмолвствовал и упрямо вел машину к торговому центру.
А там началось настоящее волшебство. Иван даже будто захмелел от изумления и восхищения. Будто грамм сто пятьдесят коньяку выпил. Сначала Иван повел Верочку в отдел одежды, где Ольга обычно покупала кое-что для себя. Там продавались действительно приличные вещи, хоть и дороговатые. Иван подобрал для Верочки платье-карандаш длиной чуть выше колена, приглушенного василькового цвета, и белый жакет. Когда девушка вышла из примерочной, смущенная, раскрасневшаяся, Иван чуть не упал. Это была вроде все та же Верочка, но уже немного другая, преображенная — оказалось, что она очень тоненькая, стройненькая. Такие фигурки обычно называются точеными. Голова, украшенная уродливыми очками и куцым хвостиком, а также и ножки, обутые в прабабушкины стоптанные башмачки, выглядели совсем уж странно на фоне нового роскошного наряда.
— Вера, вам очень идет! — воскликнул Иван. — Платье и жакет мы берем, — обратился он к продавщице, — девушка пойдет в новых вещах, а старые, пожалуйста, упакуйте. — Или сразу выкинем? — спросил он у Верочки.
Она в ответ испуганно покачала головой и пискнула:
— Нет, лучше не надо.
— А еще мы, пожалуй, возьмем вот это и это платье. — Иван схватил с вешалки еще два платья. Так… размер… Размер подходит.
— А мерить не нужно? — робко спросила Верочка.
— Нет, — отрезал Иван, — я вижу, что они вам подойдут.
Когда эта странная пара — модный, красивый молодой мужчина и дурнушка, пришедшая в магазин в обносках, покинула отдел, продавщицы долго их обсуждали. Всё возмущались несправедливостью этого мира: ну вот почему они, две такие замечательные девушки, сидят тут почти невостребованные, на них только разные нищие Петьки с Сережками в спортивных костюмах и клюют, а таким вот мымрам достаются шикарные богатенькие красавцы? Да он этой замухрышке барахла накупил на две их зарплаты вместе взятые! Нет, ну есть ли справедливость в этом мире?
А между тем, парочка, вызвавшая столь бурную реакцию, направилась в обувной отдел. Там Иван купил для Верочки две пары туфель — синюю и белую. Иван никогда не догадывался, что женщину до такой степени может изменить обувь: как только Верочка встала на шпильки, из замарашки она мгновенно превратилась почти в принцессу. Ну, почти… Все-таки хвостик и очки как-то мешали окончательному преображению.
— Черт! — подумал Иван. — Парикмахерская займет слишком много времени, а уж очки… Их вообще за один день не сделать. — Иван решительно подошел к Верочке и сдернул резинку с ее волос. Подвел к зеркалу и приказал:
— Расчешите волосы. — Верочка покорно достала из сумки расческу. — Ну вот, посмотрите на себя, вы же совершенная красавица. И волосы у вас чудесные. К чему вам этот дурацкий хвостик? Он вам не идет. — Верочка принялась укладывать расческу в сумку. Иван взглянул на данный аксессуар и пришел в ужас: это был кошмарный драный мешок из дерматина. — А сейчас мы с вами заглянем еще в одно место и будем считать, что метаморфоза успешно завершена.
Иван купил Верочке великолепную сумку из белой кожи. Критически осмотрел девушку и удовлетворенно улыбнулся: она была очень хороша. Ну, если не считать очков, разумеется. Ладно, с очками он разберется позже. Она уже не похожа на пугало огородное. И тем не менее, в модное кафе он не решился с ней пойти — они заглянули в шашлычную на окраине города, а визит в какое-нибудь приличное заведение Иван решил отложить до тех времен, когда преображение Верочки будет окончено: то есть нужно было все же сменить ей прическу и очки.
Верочка долго изучала меню, которое и состояло-то всего из нескольких позиций, краснела, бледнела, пыталась заказать стакан воды и салат из помидоров. Когда Иван предложил ей взять мяса, поскольку в шашлычную ходят именно для того, чтобы есть мясо, она смущенно забормотала, что это слишком дорого, а он и так уже потратил на нее много денег, и ей неудобно вводить его в новые расходы. Иван посмотрел на девушку недоуменно, задумался на мгновенье и заказал для нее двести грамм шашлыка из свинины и бутылку «Киндзмараули» — нужно же было хоть как-то развязать ей язык. После первого бокала вина Верочка начала рассуждать о Бродском, а после второго призналась, что сама пишет стихи, но просила никому-никому не говорить об этом, потому что это большой секрет. После третьего бокала Верочка уже вовсю декламировала стихи собственного производства с характерными для поэтов подвываниями. Стихи, Иван не мог не признать, были неплохие, хотя и несколько наивные. Сколько лет было Верочке? Года двадцать три? А стихи будто принадлежали четырнадцатилетней девчушке. Ожидание любви, чуда, одиночество, мир, раскрашенный во все оттенки серого, миллионы людей вокруг, и среди них нет ни одной родственной души. Как-то так. Хотя Иван и понимал, что такому существу, как Верочка, действительно сложно найти родственную душу, но все же эти детские стишки его коробили, а в особенности манера и место их исполнения. Посетители кафе посматривали на пьяную поэтессу с усмешкой, а некоторые откровенно смеялись. Иван размышлял, как бы поскорее увезти ее отсюда, да и вообще жалел, что связался с этой сумасшедшей.
— Верочка, а знаете что? Может быть, вы дадите мне почитать свои стихи, а сейчас мы поедем по домам? Поздно уже, а завтра рано на работу.
— Вам не понравилось? — глаза Верочки наполнились слезами.
— Мне очень понравилось, правда, — Иван для убедительности даже руки к сердцу приложил, — очень понравилось, но завтра у меня очень важная сделка, и мне нужно быть в форме. Вы очень талантливая поэтесса, Верочка. Да, кстати, я бы с радостью еще послушал ваши стихи в машине по дороге домой.
Верочка дала себя увезти. Впрочем, стихов больше не читала, лишь тихо плакала, отвернувшись к окну.
— Я вас испугала? — спросила Верочка на прощанье, — вы, наверное, больше никогда не придете? Такая моя, видно, судьба: мужчины всегда бросают меня после первого свидания. Никому, слышите, никому не пожелаю я участи белой вороны! Это совершенно ужасно — быть не как все. Ни один человек на всем белом свете тебя не понимает. Это же беспросветное одиночество! Господи, как я несчастна! — Верочка глубоко вздохнула, будто бы пытаясь справиться со своими эмоциями, выдохнула. — Что ж, спасибо, Иван, за подарки, за ужин, за радость, что вы мне подарили. Вы были очень добры ко мне. Я этого никогда не забуду. Прощайте! — она утерла слезинку и скрылась за обшарпанной дверью подъезда. Жила она в потрепанной временем хрущевке, не в самом престижном районе города. Собственно, Иван, наверное, сильно подумал бы, если бы ему предстояло сунуться сюда вечером без машины.
Что сделал бы нормальный мужчина после такого дивного свидания, во время которого он не получил удовольствия, не получил даже надежд на удовольствие и испытывал лишь мучительное чувство неловкости, близкое к стыду. Зачем продолжать такие отношения? Вот, что бы он подумал. Словом, любой здравомыслящий человек сбежал бы от Верочки без оглядки. Любой здравомыслящий человек расценил бы ее прощальную тираду как уловку, как своего рода психологический шантаж и тем более сбежал бы без оглядки. Видимо, именно так и поступали все предшественники Ивана. Но Иван… Ему стало безумно жаль девушку. Она ведь такая бедная, такая одинокая, такая несчастная. Непременно должен найтись рыцарь, который вытащит царевну-лягушку из болота, в котором она вынуждена жить, и откроет для нее новый, яркий, радостный мир! И почему бы ему, Ивану, не стать этим чудесным рыцарем? К тому же, как он жил в последнее время? Болтался, как злобный, безответственный мотылек от цветка к цветку. Пора бы ему уже и доброе дело какое-нибудь сделать. Например, вытащить из трясины одиночества безумную, но, очевидно, очень добрую поэтессу. А вот интересно, как эта поэтесса целуется? И какова она в постели? А вдруг она настоящий ураган? Ведь так бывает. Вдруг у этой возвышенно-несчастной тихони вулканический темперамент. Непременно надо это проверить. К тому же, все-таки нужно узнать, как она выглядит с приличной прической и без этих отвратительных очков. А со спутанными волосами после бурной ночи? Столько загадок.
Утром Иван позвонил Верочке в музей и ласковым голосом предложил ей отпроситься у начальства часика на полтора после обеда. Верочка была настолько шокирована тем, что мужчина рискнул позвонить ей после той поэтической истерики, что она устроила вчера, что безропотно согласилась и даже не поинтересовалась, зачем ему это нужно. Но мысленно предположила, что этот добрый волшебник готовит для нее какой-то очередной приятный сюрприз. Может быть, он еще накупит ей нарядов? Это было бы так прекрасно. Дело в том, что вчера вечером, когда Верочка добралась до своей квартиры, желание рыдать у нее мгновенно исчезло: она достала все свои обновки, принялась их примерять и с упоением вертеться перед зеркалом. Впервые в жизни она была довольна своим отражением, впервые в жизни она поняла, что красива. Вот бы еще сходить в парикмахерскую и купить новую оправу. А еще лучше линзы — и вовсе избавиться от очков. Впервые в жизни Верочка разрешила себе подумать, что в деньгах есть какой-то смысл, что они могут сделать существование значительно приятнее. Разве выглядела бы она, как кикимора, если бы у нее были деньги. Собственно, и раньше подобного рода мыслишки посещали романтическую головку Верочки, но она с ними тут же жестоко расправлялась — ибо была убеждена, что счастье отнюдь не в деньгах и даже не в их количестве, и ценность человека тоже измеряется отнюдь не деньгами, которые он зарабатывает. Точнее, это было не ее собственное убеждение, а материнское, которое досталось Верочке в наследство. Если уж честно, это было почти единственное, что Верочке от нее досталось. Если не считать, конечно, с десяток комплексов, заблуждений и нескольких винтажных, пропахших нафталином, платьев, костюмов и туфель времен маминой молодости. Мама работала библиотекарем и была уверена, что в мире нет ничего дороже сокровищницы мировой литературы. Для нее будто бы имели ценность только книги, только искусство, только проявления духа. Других ценностей у нее, в общем-то, и не было. Разве что тоненькое золотое колечко с искусственным рубином, которое ей подарил в молодости некий поклонник. Изредка мама доставала его, клала на ладонь, любовалась и томно вздыхала. Иногда еще говорила: «Ах, Верочка, это была история, достойная пера Шекспира! Никому больше я не доверила бы этот сюжет! Это была такая любовь, такая любовь! Если бы нас не разлучили… обстоятельства, все могло бы быть по-другому… Я так и не смогла больше никого полюбить. Никто так и не смог сравниться с ним… Ах… Ох…». Когда Верочка интересовалась, о ком говорит мать, та лишь вздыхала еще тяжелее, закатывала глаза к потолку и произносила с невыносимой тоской в голосе: «Я не могу тебе этого сказать, девочка! Эту тайну я открою тебе только на смертном одре!». Верочкина мама непрестанно болела, но умирать, однако, не спешила. Поэтому девушка могла лишь догадываться, что речь идет об ее отце, которого она никогда не видела и ничего о нем не знала. На вопросы об отце мать не отвечала, лишь вздыхала и выдавала фразы вроде: «Это был замечательный человек, но судьба-злодейка помешала нам быть вместе». Не женщина, а чахоточный Сфинкс. Друзей у Верочки не было, поскольку дружба требует времени, а его-то как раз у девочки и не было — мама ведь постоянно болела, за ней нужно было ухаживать, нужно было самой убирать квартиру, готовить еду, мыть посуду, стирать. А мама по вечерам после работы сначала устраивала жуткий скандал, если была не помыта посуда, потом ела приготовленный дочерью ужин, а потом с разнесчастным видом укладывалась на диван, стонала, жаловалась на недомогание, головокружения, балбесов-студентов, которые утомили ее своим невежеством, необразованностью, грубостью и шумом, который они производят в читальном зале библиотеки. И вообще, жизнь ужасно несправедлива: таким вот молодым нахалам достается все, а тонким, высоко духовным натурам, как она, достаются лишь болезни, нищета и непослушная дочь, которая только из-под палки соглашается помочь по дому. Мать пускала слезу, Верочка обнимала ее. Мать успокаивалась и погружалась в чтение очередной книги, а девочка шла мыть посуду, замачивать белье в тазике, а потом еще доучивала уроки и уже ночью добиралась до чтения, которое тоже страстно любила. Только много лет спустя Верочка поняла, что мать, да и она сама тоже, просто сбегали из своей убогой, нищей жизни, в которой не было ровным счетом ничего примечательного, в прекрасный, увлекательный мир литературы, полный приключений, страстей, душевных терзаний, радости и боли. В том мире им было комфортнее, в том мире было интереснее, в том мире было счастливее. К тому же, когда они туда сбегали, можно было ничего не менять в реальном мире, в котором они жили… А точнее, существовали.
И вот сейчас Верочка кружилась перед зеркалом в первом в своей жизни красивом платье, в красивых туфлях и впервые позволяла себе хотеть много денег, а еще мечтать, как она выйдет замуж за этого сказочного Ивана-царевича и будет жить с ним богато и счастливо. Да она и сейчас была счастлива… На пороге Верочкиной комнаты появилась мать, она смотрела на дочь несколько секунд, а потом сказала:
— Дура ты, Верка, заморочит он тебе голову и бросит. Все они такие, мужики.
Верочка отклеила с лица улыбку, сняла платье и туфли, убрала обновки в шкаф, расплакалась и подумала, что мать права, она действительно дура, размечталась, раскатала губу… Да этот Иван, скорее всего, и не позвонит больше…Точно не позвонит, ведь никто и никогда не звонил ей после первого свидания.
Так вот, когда Иван все-таки позвонил, Верочка была так удивлена, что готова была побежать за ним хоть за тридевять земель, хоть в тридесятое царство… Оказалось, так далеко ходить не нужно: Иван будто угадал ее мысли и сначала отвез ее в оптику, где выбрал дорогую, красивую оправу, а потом отвез ее в парикмахерскую, улыбнулся девочке-мастеру, наказал, чтобы сделали ему из этой вот барышни конфетку, и исчез, сказав Верочке, что вернется часа через три.
Когда Иван вернулся, некоторое время метался по парикмахерской в поисках Верочки и не мог найти, пока не понял, что красавица, сидящая на диванчике с журналом, это и есть она. Ее неопрятные космы мышиного оттенка перекрасили в огненно-рыжий цвет, слегка подстригли, от чего они превратились в модную стрижку. Верочка была великолепна! Но тут она надела свои очки, и все очарование исчезло.
«Ну, ничего, — подумал Иван, — скоро будут готовы новые. Еще немного нужно потерпеть».
— Верочка, ты такая красивая! — воскликнул он вслух.
Верочка смущенно улыбнулась и подумала, что сказки про прекрасных принцев, возможно, и не сказки вовсе, такое и в жизни бывает.
Иван вернул Верочку в музей. У порога она выжидательно посмотрела на своего принца. Тот легкомысленно хихикнул и заявил, что сегодня, к огромному сожалению, он не сможет уделить больше времени своей маленькой Золушке, ибо вечером у него важные переговоры, что деньги, как это ни прискорбно, не падают на него с неба, и их приходится зарабатывать потом и кровью. Верочка попыталась было завести волынку на тему, что не стоит поклоняться деньгам и возводить их в ранг божества, поскольку деньги — это всего лишь деньги, и их нужно ровно столько, чтобы удовлетворить первичные потребности. Но Иван, строго взглянув на Верочку, заявил, что первичные потребности у него весьма обширные и весьма дорогостоящие, подножным кормом он питаться не приучен, а, напротив, приучен питаться в ресторанах, поэтому не стоит становиться препятствием между ним и золотым тельцом. И к тому же, он еще полностью не расплатился за новую оправу для Верочки. Так что… извините.
На самом деле никаких важных переговоров у Ивана на этот вечер запланировано не было, но ему необходимо было отдохнуть от Верочки, подумать, что делать с ней дальше. Да, она уже превратилась в довольно соблазнительную особу — остался лишь последний штрих, и Ивана это волшебство завораживало, как обычно. Еще эта девушка манила его своей необычностью, таинственностью. Возбуждала его возможность разгадать загадку — что же таится за этой оболочкой бедненькой скромницы? Что-то там было, сильное, необузданное, может быть, даже недоброе, дьявольское. Он это чувствовал, только вот не знал точно, что это было. А как хотелось узнать! И потом… было совершенно не понятно, как эту девицу соблазнить? Иван уже догадался, что ни одна из многочисленных уловок, которые он обычно использовал, на нее не подействует. Хотя если развить тему несчастного рогоносца, брошенного горячо любимой женой… Это может принести положительные результаты. Но так не хотелось лишаться ореола всемогущего, сильного, благородного рыцаря. Что это за рыцарь такой — с рогами вместо меча и копья? Ну да, где наша не пропадала! Иван решил, что в течение недели он непременно заманит Верочку в свою постель. Чего бы ему это ни стоило. Ивану пришла в голову мысль, что модные красотки отчего-то обходятся ему значительно дешевле, чем эта неприхотливая замарашка.
Вечером следующего дня Иван встречал Верочку у входа в музей с лучезарной улыбкой на лице и с коробочкой в руках. В коробочке были новые очки. Когда девушка надела их, Иван понял, что деньги свои он потратил не зря: поработал доброй феей для страшненькой Золушки — превратил ее в настоящую красавицу. Иван даже и предположить не мог, что Верочка хороша до такой степени. Ну и что, что пока ему еще не удалось воспользоваться этой красотой. Все еще будет. Иван был в этом уверен. Сегодня он, наконец, решился вывести Верочку в приличный ресторан. Выглядела она отменно. Правда, Иван испытывал некоторое беспокойство: не начала бы она снова читать свои стихи. Это было бы совсем не комильфо.
За ужином Верочка снова после первого бокала начала выражать свои восторги по поводу творчества Цветаевой и Ахматовой, после второй приготовилась было приступить к чтению своих виршей, но сегодня Иван был во всеоружии — он был без машины, поэтому тоже имел возможность поглощать вино, а посему был чрезвычайно смел и дерзок… Так вот, как только самодеятельная поэтесса возвела очи к небу, набрала воздуха в грудь и совсем уж было собралась приступить к декламации, Иван, придав своему лицу самое восторженное выражение, приник к Верочкиным губам. Она была так удивлена, что даже не сопротивлялась. Впрочем, и на поцелуй она не ответила. Губы ее были плотно сжаты. Иван не мог понять, то ли она напугана, то ли не умеет целоваться? Когда он оторвался от Верочки, она еще несколько секунд сидела с ошалевшим видом, а потом прошептала: «Как это было прекрасно!». Ивану целовать сжатые губы не слишком понравилось. Он предложил выпить за их первый поцелуй и продолжить. Верочка зарделась, но возражать не стала.
— Губки нужно приоткрыть и пустить мой язычок в свой ротик, — проворковал Иван, прежде чем снова прильнуть к губам Верочки.
Она оказалась талантливой ученицей. После ужина Иван с Верочкой долго гуляли по городу и запойно целовались под луной. Иван чувствовал себя мальчишкой, подростком, а Верочка, напротив, взрослой женщиной — она ведь целовалась впервые в жизни, но стеснялась в этом признаться своему кавалеру. Что касается самого кавалера, то тело его настоятельно требовало продолжения банкета, в том смысле, что чего-то большего, чем поцелуи, а разум рекомендовал не спешить с этим — ведь так можно насмерть перепугать неискушенную девушку, а то и вовсе отвратить от себя. А у Верочки кружилась от счастья голова, ноги подкашивались: она была пьяна — от вина, от губ Ивана, света луны и дурманящего запаха цветущих лип, что несся над городом. Возле Верочкиного подъезда Иван в последний раз поцеловал ее, пожелал спокойной ночи и отбыл восвояси. Дома ему пришлось посмотреть фильм для взрослых, чтобы как-то унять зов своего тела. Уснул он вполне довольным и удовлетворенным. Верочке повезло значительно меньше — она рыдала почти до рассвета. Дело в том, что характер Верочкиной мамы с того времени, как она вступила в так называемый бальзаковский возраст, начал стремительно портиться. Не то, чтобы она раньше отличалась ангельским нравом, но приближение старости еще более озлобило ее. К тому же эти вечные болезни. Верочка не осуждала ее, но находиться рядом с матерью становилось все тяжелее. Вот и сейчас… как только девушка зашла домой, мать с перекошенным от бешенства лицом обрушилась на нее с руганью.
— Где ты шлялась? — кричала она. — Ночь на дворе, а она шарахается неизвестно где! Мать волнуется! С матерью чуть инфаркт не случился, а ей и дела нет! Я ее растила, кормила, поила, ночей не спала, и никакой благодарности! Ты бы морду свою сейчас видела! Прям лоснится, как у кошки сытой! Ты там чем занималась-то? Блядствовала? Ни стыда у тебя, ни совести! Ээххх! Дрянь ты, бессовестная! Шалава подзаборная! Вырядилась! За что тебе, скажи на милость, барахла-то накупили? За секс, небось! Так у вас, у молодежи, разврат-то называется?
— Мама! — выкрикнула Верочка, — не смей так со мной разговаривать! Мне уже двадцать четыре года! Я имею право на личную жизнь!
— Ах, право ты имеешь! — мать завелась еще сильнее. — Вот когда свой дом у тебя будет, тогда ты и право будешь иметь! А пока ты в моем доме живешь, будь добра, соблюдай мои правила! А знаешь, что это значит? Никаких гулянок до ночи и никаких мужиков! Не хватало, чтобы принесла мне тут в подоле неизвестно от кого! А не нравятся такие правила — пошла вон! Иди на все четыре стороны!
— Ну и уйду! — взревела Верочка, повернула ключ в замке, открыла дверь и уже выскочила, было, в подъезд, но в этот момент мать, схватившись за сердце, со стоном сползла по стене на пол.
— Вызывай скорую, Верка, — запричитала она, — ой, плохо мне! Вот ведь до чего мать довела!
— Мама, мама, что с тобой? — лепетала Верочка. Та в ответ лишь стонала. Девушка помогла матери подняться, довела до дивана, уложила, укрыла пледом, потянулась уже за телефоном, чтобы вызвать врачей, но мать ее остановила:
— Не надо скорую-то, вроде полегчало. Принеси мне чаю сладкого, да и спать ложись. И потише там! Вечно я из-за тебя не высыпаюсь.
Когда Верочка вернулась из кухни с чаем, мать уже сладко спала. Девушка рухнула на свою узкую скрипучую кровать и разрыдалась. За этим упоительным занятием ее и застал рассвет. С первыми лучами солнца она, наконец, заснула.
А утром матушка проводила на работу свою растерзанную, заплаканную дочь словами:
— Жду тебя дома к девятнадцати ноль-ноль и не минутой позже.
— Но, мама, — пыталась было возразить Верочка.
— Ты, разумеется, можешь и задержаться, но в этом случае ты рискуешь обнаружить здесь мой хладный труп. Хотя разве тебя волнует, что матери может быть плохо! Ты же выросла! У тебя же теперь своя жизнь!
— Мама, не начинай! Хорошо, я вернусь в семь. — Верочка снова готова была разрыдаться, ведь сегодня она должна была встретиться с Иваном. Ей так этого хотелось.
Глава двадцать вторая
Иван тоже мечтал снова увидеть Верочку. Более того, он намерен был увидеть ее сегодня совершенно голой, ибо, как ему казалось, существует множество предпосылок к тому, чтобы, в конце концов, добиться своей цели — то есть затащить ее в постель. Он набирал Верочкин номер, полный самых радужных предчувствий, и что же он услышал в ответ:
— Ваня, извини, у меня сегодня не получится.
— А что случилось? — спросил он разочарованно.
— Я не могу тебе сказать, но, поверь, у меня действительно есть серьезная причина. Правда, никак не могу сегодня. — Голосок совсем печальный.
— Я тебя чем-то обидел?
— Нет, что ты. Вчера был самый счастливый вечер в моей жизни.
— Тогда я совсем ничего не понимаю.
— Ванечка, ты здесь совсем ни при чем. Так сложились обстоятельства.
— И когда же я смогу тебя увидеть?
— Я не знаю, пойми, я не знаю! — сдавленное рыдание. Короткие гудки.
— Черт подери! — воскликнул Иван, обращаясь к стене в своем кабинете. — Не девушка, а чума! Да я не перед одной бабой так не скакал на задних лапках! Да я таких красоток укладывал в койку одной левой! А эта? Кикимора кикиморой! Я из нее человека сделал, а она теперь, видите ли, не знает, когда сможет уделить мне пару часов своего драгоценного времени. Да кого она из себя возомнила, эта музейная крыса, питающаяся поэзией? Никогда! Никогда больше я не наберу ее номер! Ноги моей больше не будет в этом идиотском музее!
Вечером следующего дня Иван стоял у порога музея, сжимая в потных от волнения руках пакет с самой лучшей косметикой, которую только удалось найти в этом городе, и поджидал Верочку. Он был намерен во что бы то ни стало объясниться с ней и добиться свидания. Она вышла в каком-то стареньком своем платьице, в стареньких же босоножках. Только волосы были прежние — огненно-рыжие, да и очки были те, что купил ей Иван. Вот и все, что осталось от преобразований, которым подверглась в последние дни Верочка.
— Ты? — воскликнула она радостно. — Ванечка! Я так соскучилась!
— Я тоже, — ответил Иван удивленно. Такой реакции на свое появление после вчерашнего разговора он уж никак не ожидал. — Это тебе. — Он протянул девушке пакет.
Верочка заглянула в него и восхищенно взвизгнула:
— Ванечка! Ты ангел! У меня никогда еще не было такой косметики! — она полезла к Ивану обниматься и даже чмокнула его в щечку. Иван решительно ничего не понимал.
— Может быть, съездим куда-нибудь поужинать? — предложил он робко.
— Да! Поехали! Я ужасно голодная! Только вот…, — Верочка осмотрела свой наряд. — Наверное, я не могу поехать с тобой в этом.
— Ничего, сначала мы заедем в магазин.
Таким образом, Верочка получила новую кофточку, юбочку и еще одни туфли. На сей раз черные.
«Кто она, — размышлял Иван, когда вез Верочку в ресторан, — расчетливая сука или святая простушка, которая выманивает у него деньги просто так, случайно, по наитию, так сказать. А если она все-таки расчетливая сука, которая зарабатывает на жизнь своим образом наивной нищей поэтессы? Если так, то перед ней стоит снять шляпу, которой у меня нет — она великая актриса».
Ответ он получил той же ночью в своей спальне: Верочка была, скорее всего, простушкой. Потому что она была девственницей. В двадцать четыре года! И это в конце двадцатого века! С его сексуальными революциями и свободой нравов! Опять загадка — что это, Верочку никто никогда не пытался соблазнить или она была слишком строго воспитана? Или что-то еще? Сам по себе факт девственности означал только то, что до этого момента у нее не было близости с мужчиной, это, однако, не исключало вероятности того, что она и раньше вела какие-то игры с представителями противоположного пола. Будучи непорочной девой, пожалуй, играть даже и удобнее. Мужчина, например, одарил ее с ног до головы, жаждет благодарности, а она ему: «Извини, дорогой, но я девственна, берегу себя для мужа, так что…». Но подобного рода догадки Иван сразу отмел: Верочка в постели была слишком трогательно неуклюжа — вряд ли можно так убедительно сыграть абсолютную неопытность в этой сфере. Она же все-таки не Сара Бернар и не Любовь Орлова… А главное, ее белье — оно было пуританским, уродливым, старым, застиранным. Не носят коварные кокетки такого белья. Нет, скорее всего, она все же бедная, маленькая, кем-то запуганная дурочка. Надо бы ее расспросить, кто же ее так запугал-то?
После ужина в ресторане, который, к счастью, обошелся без поэзии, зато был полон страстных поцелуев и нежных поглаживаний, Иван рискнул пригласить Верочку к себе домой выпить по бокалу настоящего французского коньяка. Глазки у девушки загорелись, она принялась верещать, что ни разу еще не пробовала коньяк, тем более французский. Кажется, она даже не догадывалась об истинной цели этого приглашения. А Ивану было приятно открывать для этого неискушенного наивного создания новый мир. В квартире Ивана Верочка восхищенно озиралась по сторонам и восклицала:
— Надо же, как красиво! Я думала, что так только в музеях и дворцах бывает! Ой, какая картина! Ой, какие часики! Ой, а кухонный гарнитур какой!
Иван, хотя и начал уже задумываться о расширении жилплощади или хотя бы о ремонте и смене обстановки — поскольку, с его точки зрения, квартирка эта перестала уже соответствовать его статусу, все же был польщен. Он подумал: «Это в какой же дыре живет Верочка, если его холостяцкая берлога кажется ей дворцом?», а вслух сказал:
— Ну что ты, это обычная квартира, вон и обои уже местами отклеиваться начали, и мебели года четыре, какая-то она немодная уже. Если бы я сейчас ремонт делал, я бы такую, конечно, уже не купил — слишком дешевая и некачественная. Но тогда приличной мебели-то еще не продавалось, да и зарабатывал я существенно меньше, чем теперь.
— Это дешевая мебель? — удивленно спросила Верочка, оглаживая фасад шкафа, — а какая же тогда дорогая?
— Ну, итальянская, например, из натурального дерева. Слушай, а что у тебя-то в квартире стоит?
— Развалюхи какие-то, — ответила Верочка и покраснела, — бабушкины еще. Мама вообще ничего из мебели не покупала, только табуретки, когда старые совсем сломались. Мама у меня библиотекарь — нам и на еду-то не хватало. Всю жизнь с хлеба на воду перебивались. Какая уж тут мебель. — Девушка вздохнула.
— Да, два мира, два детства, — глубокомысленно изрек Иван и достал из шкафчика бутылку коньяка. — Ты присаживайся, — обратился он к Верочке. Та села на краешек стула и принялась теребить подол юбки. Иван разлил коньяк в пузатые бокалы. — Коньяк нужно начала согреть теплом своей руки: взять бокал за ножку и как бы обнять его ладонью. Вот так, — он показал как, — а потом пить маленькими глотками, чтобы ощутить букет. Обрати внимание, в этом коньяке есть очень тонкие цветочные нотки, в нем солнце юга Франции, я даже будто бы чувствую аромат лаванды. Знаешь, когда-нибудь мы с тобой обязательно поедем в Прованс. Черт, еще ни разу не был за границей. Нужно срочно паспорт сделать. Ну, за тебя! — Иван поднял бокал.
— И за тебя! — откликнулась Верочка, отпила глоток, сморщилась. — Ой, какой крепкий! — пискнула она.
Иван рассмеялся…
Еще сидя за столом на кухне, он начал целовать Верочку, а потом повлек ее сначала в гостиную под предлогом показа квартиры, а потом и в спальню, там, стоя рядом с широкой кроватью, Иван вновь приступил к страстным лобзаниям, а затем легким, непринужденным движением завалил Верочку в постель со словами: «Так нам будет удобнее». Дальше они продолжили свои упражнения в области поцелуев, а потом Иван осторожненько потянулся к груди девушки, она не сопротивлялась. Он расстегнул пуговки на ее новенькой блузке, она не сопротивлялась. Он снял с нее блузочку. Она не сопротивлялась. Под блузочкой обнаружился отвратительный лифчик, очевидно, некогда бывший белым, а ныне имеющий серовато-землистый оттенок. Иван поморщился и поспешил избавиться и от этого предмета гардероба, пока у него не пропала охота вообще что-то снимать с этой замарашки. Верочка не сопротивлялась. Напротив, она неловко, но очень экспрессивно принялась стаскивать с Ивана рубашку…
Верочка имела самые смутные представления о том, что все население земного шара называет сексом, а ее мать развратом. Но когда Иван повалил ее на кровать, она догадалась, что сейчас может произойти. Первый порыв ее души был таков — вырваться и сбежать. Но потом она подумала, что быть девственной в ее возрасте, по меньшей мере, смешно и подозрительно, и пора бы уже избавиться от этого нелепого статуса. А тут и случай подходящий, и мужчину она, кажется, любит. Но отнюдь не любовь двигала Верочкой, когда она сдирала с Ивана рубашку, а затем и штаны. Решимости Верочке придавала обида — она хотела отомстить матери. Раз уж та пытается держать дочь под замком, раз уж она обзывает ее шалавой и обвиняет во всех смертных грехах, так пусть уж эти обвинения будут иметь под собой основания! Вот сейчас она и согрешит. Назло матери. Верочка превратила таинство своего первого соития в бунт, в локальную постельную революцию. Революция, как и положено революции, была кровавой. Ну, немного.
— Ты что, девственница?! — вскричал Иван. — У тебя никогда не было мужчины?
— Нет, — ответила Верочка кротко.
— Почему ты не сказала?
— Не думала, что это для тебя так важно. Продолжай.
— Я буду ласков, девочка моя.
Так Иван стал наставником Верочки в сексе. Ему понравилась эта роль. Так забавно развращать невинную великовозрастную девушку.
В ту ночь Верочка осталась у Ивана. Она попросила разрешения воспользоваться телефоном и уединилась в гостиной. Иван слышал обрывки фраз: «Мама, я не приду ночевать… Все в порядке… Нет… Я не хочу этого слышать… Вызови скорую… Нет… Спокойной ночи…». Верочка впервые ослушалась мать. Бунтовать, так бунтовать.
Иван накупил для своей странной подруги красивого белья, еще кое-какие пособия по сексу, еще несколько кассет с фильмами эротического содержания, которые он счел возможным использовать в качестве наглядных пособий, он трепетал от возбуждения при мысли о том, как будут проходить уроки страсти нежной, а Верочка… Верочка снова отказала ему в свидании. Она опять что-то лепетала о непреодолимых обстоятельствах, даже хлюпала носом — вероятно даже плакала. На вопросы о том, что это за обстоятельства непреодолимые такие, не отвечала. Иван затосковал: как же так? Это что же получается, его сексуальные способности не произвели впечатления даже на неискушенную поэтессу? Так это что же получается, хреновый он мужик? Так и импотентом стать недолго. На кой черт он связался с этой придурочной? И что теперь, отступать? Ну, уж нет! Несколько дней Иван звонил ей на работу, получал отказы и слышал просьбы не ждать ее после работы, поскольку от этого всем будет только хуже. И по-прежнему она ничего не объясняла. В конце концов, Иван не выдержал и все же пришел к музею к шести вечера в надежде встретить Верочку. Она выпорхнула из дверей легкая, воздушная, в одном из платьев, что купил ей Иван. Она была такая красивая!
— Ваня! — закричала она и бросилась к нему на шею. — Ванечка! Как я рада тебя видеть! Как я соскучилась!
— Ну, ты же сама мне запрещала, а так я бы пришел раньше. — Иван поцеловал Верочку. Она отстранилась:
— Ну не здесь же! Если наши музейные крысы нас увидят, тут же примутся мне кости перемывать. Замучают расспросами. Развлечений-то у них никаких.
— Ну, давай сбежим отсюда куда-нибудь в укромное местечко! — предложил Иван.
Верочка на секунду задумалась, а потом воскликнула:
— Была не была! Поехали!
Как только они добрались до Ивановой квартиры, тут же принялись срывать друг с друга одежды, Верочку буквально трясло от возбуждения. Иван не ошибся: оболочка неуклюжей скромницы действительно скрывала страстную натуру.
Как только все закончилось, Верочка потребовала тотчас доставить ее домой.
— Но почему? — спросил Иван. — Мы могли бы прогуляться, посидеть в летнем кафе. Вечер такой прекрасный! Девочка, я не хочу тебя отпускать! Мы ведь так долго не виделись!
— Ванечка, поверь, я не могу остаться. — Верочка виновато улыбнулась.
— Да ты можешь мне, наконец, объяснить, что происходит? Сколько можно мне голову морочить? Я никуда тебя не повезу, пока ты не ответишь на мои вопросы.
— Мама…, — тихо сказала Верочка.
— Что мама?
— Мама болеет. Она вечно болеет. А когда я пытаюсь заняться своей личной жизнью, она начинает болеть еще сильнее. Как будто бы специально. Она житья мне не дает. Ты не представляешь, что было, когда я осталась у тебя ночевать! Что она мне наговорила! Это было ужасно. И вот теперь она требует, чтобы я возвращалась домой сразу после работы. — Верочка вздохнула. — Если я не явлюсь домой через полчаса, мама разыграет очередной сердечный приступ, меня снова ждет истерика и бессонная ночь. Теперь тебе все понятно?
— Да, с твоей мамой все понятно, но совершенно не понятно, что делать нам?
— Мне кажется, нам лучше расстаться. — В голосе Верочки зазвенела слеза.
Иван подумал, что в словах девушки, безусловно, есть рациональное зерно, потому что и безумная дочка уже успела свести его с ума, а если к ней присоединится еще и полоумная мамаша, то его вольная жизнь преуспевающего молодого хлыща превратится в сущий кошмар. Зачем ему это надо? Вроде бы совершенно незачем. Однако Ивана так влекло к этой странной девушке, чья сексуальность только начала пробуждаться, что он готов был как-то приноровиться к ее мамаше.
— Верочка! Разве ты этого хочешь? Скажи честно.
— Не хочу, но понимаешь, она все равно не даст нам встречаться! Она меня изведет! Да и тебя тоже, если ты попадешь в поле ее зрения.
— Ты же не ее собственность! Ты же уже взрослая! — возмутился Иван.
— Расскажи это моей мамочке! Я с семи лет для нее сиделка, прислуга, жилетка, в которую она выливает злобу на весь мир. А ты даже представить не можешь, сколько у нее этой злобы! Ваня, я так устала! Иногда мне хочется сбежать на край света, лишь бы не слышать ругани и вечного ворчания моей мамаши. Наверное, плохо так говорить про собственную мать, но я устала, я очень устала. Скажи мне, почему вместо того, чтобы сейчас отправиться на прогулку с тобой, как ты предлагаешь, я должна тащиться в эту халупу, которая является моим домом, и выслушивать оскорбления в свой адрес? Если бы у меня были деньги, я бы давно переехала от нее. Я так хочу жить отдельно!
— Не расстраивайся, бедная моя девочка, мы обязательно что-нибудь придумаем. — Иван крепко обнял Верочку, а потом вручил пакет с бельем. Девушка зажмурилась от восторга.
Он придумал встречаться днем, во время обеденного перерыва. Тайные любовники! Это так романтично! И так увлекательно. Все сделать так, чтобы бдительная мамочка ничего не заметила. Ивану, разумеется, этих коротких встреч было мало, но драматичность ситуации несколько компенсировала недостаточность близкого общения с Верочкой. Через месяц Верочка сообщила, что мама утратила бдительность, перестала подозревать дочь в связях с мужчинами. На радостях, что дочь снова перешла в ее единоличное пользование, даже решила выздороветь. Кроме того, она даже возобновила свои вечерние прогулки с приятельницей из библиотеки. Так что теперь она иногда задерживается после работы. А как-то на днях даже поинтересовалась у Верочки, а что, дескать, ты сразу после службы бежишь домой, погода-то стоит отменная, и ты могла бы с подружками прогуляться по набережной и насладиться прекрасным летним вечером. Иван воспринял эту новость с энтузиазмом:
— Вот давай и насладимся прямо сегодня! И вечером насладимся, и друг другом!
Так они и сделали. Теперь раза два в неделю, а иногда даже и по выходным Верочка говорила матери, что идет гулять с подружкой или едет на дачу к сослуживице, а сама сбегала к Ивану. Однажды в один из таких вечеров, опьяненный близостью Верочки, красным вином, шашлыками и багряным закатом над рекой, он признался ей в любви. Просто сказал, выслушав какую-то очередную Верочкину очаровательную глупость:
— Как же я люблю тебя, моя дурындушка!
— И я тебя! Я тебя с первого взгляда полюбила. А что было бы, если бы ты не пришел тогда в наш музей с этими своими коллегами? Как бы я тогда жила без тебя? — Верочка прижалась к Ивану.
Он хотел сказать, что Верочка, скорее всего, жила бы как прежде: вела бы партизанскую войну со своей мамашкой-узурпаторшей, носила бы старушечьи костюмы и очки, писала бы свои наивные вирши и мечтала бы о прекрасном принце, который приехал бы к ней на каком-нибудь транспортном средстве и вырвал из заточения в башне, которая волей судеб оказалась замызганной хрущевкой в пролетарском районе. Еще он хотел добавить, что шансы на то, что нашелся бы еще один безумный принц, который ринулся бы на спасение неказистой принцессы Верочки, были равны нулю. Ну, кто бы еще смог разглядеть в музейной замухрышке истинную красавицу. Тут глаз художника нужен… Но ничего такого Иван благоразумно не сказал. Вслух он произнес:
— Я тоже не знаю, как бы жил без тебя.
Глава двадцать третья
Идиллия закончилась неожиданно. Однажды августовским вечером Иван с Верочкой прогуливались по набережной и нежно целовались под каждой березкой и липкой. Влюбленные не замечали ничего и никого вокруг, но это, увы, не значило, что окружающий мир был так же безучастен к ним. За молодыми людьми наблюдали. И вовсе не с тем умилением, с которым иногда смотрят на влюбленные парочки. И даже не с завистью. В глазах женщины, которая стала свидетельницей сцены поцелуя под очередной березкой, горела ярость… Что касается глаз Ивана, то они в это мгновение были закрыты, ибо была у него такая особенность — закрывать глаза во время поцелуя, поэтому он не сразу понял, отчего вдруг Верочку будто рывком оторвало от него. Когда он открыл глаза, его взору предстала совершенно дикая сцена: его маленькую красавицу таскала за волосы какая-то ведьма. Эта дурно одетая невысокая женщина, действительно, была похожа на ведьму — такое злое у нее было лицо. Дама между тем не безмолвствовала — свои действия она сопровождала громкими воплями:
— Ах, ты шалава! Ты что это такое творишь? Лижешься на глазах у всех с каким-то проходимцем! Шлюха! Разве так я тебя воспитывала? Как ты можешь позорить свою мать!
Иван растерялся — он не знал, что делать. Долг джентльмена призывал его вырвать свою возлюбленную из лап этой разъяренной фурии. С другой стороны, эта самая фурия приходится родной матерью его возлюбленной, следовательно, возможность физического воздействия исключалась. Собственно, бить женщин вообще было не в правилах мужчин из рода Лёвочкиных, даже в том случае, если бы эти женщины и в самом деле были ведьмами.
— Послушайте, — начал бормотать он, — пожалуйста, очень вас прошу, прекратите! Пожалуйста! Перестаньте!
— А ты, засранец, вообще заткнись! — рявкнула на него Верочкина мать. — И вали отсюда, пока и тебе не досталось!
— Но послушайте! Мы же интеллигентные люди! Перестаньте ее избивать! Ей же больно!
— Пшел вон, я сказала! Моя дочь! Что хочу, то и делаю! Хочу за волосы таскаю, захочу — вообще убью! — продолжала вопить почтенная библиотекарша, но волосы Верочки все же выпустила их своих когтистых лап. — Ах, ты дрянь! От тебя еще и винищем несет! — обратилась она к дочери. — Пойдем домой, пьянь подзаборная!
— Но, позвольте…, — начал, было, Иван.
— Молчать, я сказала! Попробуй только еще подойти к моей дочери! Не для такого хлыща я ее растила! Развратник! Тоже мне, Казанова выискался! Как только земля таких, как ты, носит?!
— Я люблю вашу дочь! — не сдавался Иван.
— Ты этой дуре можешь зубы заговаривать, а меня не проведешь! Все вы любите, а потом ищи ветра в поле! Все, аудиенция окончена! — женщина схватила Верочку за руку и потащила ее в сторону автобусной остановки. Та безропотно поплелась за матерью. За все время этой сцены Верочка не проронила ни слова, только тихонечко плакала. А Иван так и остался стоять, как столб. Толпа, собравшаяся поглазеть на скандал, начала расходиться…
Когда Иван отмер, он пошел в ближайшую забегаловку и напился.
На следующее утро в процессе тяжелой борьбы с жуткой головной болью он принял решение бросить Верочку, чтобы не иметь ничего общего с этим сумасшедшим семейством. Да, он слышал фразу: «Сын за отца не в ответе» и ее даже вполне можно было интерпретировать, как «Дочь за мать не в ответе», но все же… Даже если предположить, что Верочка не такая, что она не способна на подобного рода выходки, но ее мамаша-то, эта старая мегера, способна. Да она представляет угрозу для общества! Да ее изолировать нужно! Дурдом по ней плачет! А эта чокнутая преспокойно разгуливает по улицам и безнаказанно занимается рукоприкладством и оскорблениями ни в чем не повинных граждан! И что же ему теперь с Верочкой на улицу не высовываться? А если эта безумная еще и адрес его узнает? Он что, и в собственном доме не сможет чувствовать себя в безопасности? Да, не нужно ему такого счастья! Пускай там сами как-нибудь разбираются, а у него и своих проблем выше крыши. Зарекался он не заводить так называемые серьезные отношения и правильно делал. И вот, спрашивается, зачем он опять ввязался во все эти любови-моркови? Да ладно бы девица еще была бы нормальная, а то ведь, если уж рассуждать объективно, тоже кандидат в психушку. Стишки эти, девственность, наплевательское отношение к деньгам, зависимость от мамочки, безропотность. Да она же, как лодка без весел, куда течение понесет, туда она и плывет. Неужели нельзя настоять на своем? Неужели нельзя бороться за свое достоинство? За свою любовь, в конце концов! Нет уж! Раз она так наплевательски относится сама к себе, так зачем ему-то такая? Трудно ценить человека, который сам себя не ценит! К черту!
На работу Иван явился вольным человеком и пребывал в этом блаженном состоянии до четырнадцати часов тридцати пяти минут пополудни. Именно в это время в кабинете Ивана раздался телефонный звонок. Из трубки полились Верочкины всхлипы, а затем и более членораздельные звуки, впрочем, не вполне:
— Я… мне… куда мне теперь деваться?… За что мне все это?…
— Верочка, я тебя не понимаю, о чем ты?
— Мама… Мама…
— Что мама?
— Она… она… она… выгнала меня из дома! — долгая серия всхлипов. — Я не знаю, что делать! — еще серия всхлипов. — Мне некуда идти! — продолжительные рыдания. — Я утоплюсь… или повешусь… Что мне делать? — во время этой прерывистой речи с Иваном случилось раздвоение личности, так вот — раз — и в одном человеке вдруг возникло сразу два: Иван-прагматик и Иван-дурак, ну или благородный Иван-царевич, что, в общем-то, одно и то же. Так вот, Иван-прагматик говорил:
— Старик, это проблемы Верочки, и не стоит во все это вмешиваться. Эти-то две бабы все равно помирятся, потому как они, похоже, жить друг без друга не могут, а тебя сделают виноватым! Не получится ничего путного, если ты вмешаешься!
А Иван-дурак, он же царевич, вещал:
— Ты обязан спасти девушку, которую ты любишь! Не ночевать же ей на улице, в самом деле! Куда она пойдет? Она же такая беспомощная! Такая беззащитная! Ты же себе никогда не простишь, если ей не поможешь!
— Идиот! — возражал Иван-прагматик, — она же сейчас как сядет тебе на шею, так и не слезет, да еще и мамку свою подсадит, а у тебя уже родители на шее, дочка, зачем тебе еще одна обуза? Ты вспомни, старина, как ты жил беззаботно! Каждый уик-энд новая девочка — и никаких отношений, и никаких проблем! Невыносимая легкость бытия! Опомнись! Во что ты влезаешь?
— Я порядочный человек! — кричал Иван-дурак, — я не могу оставить женщину в беде!
— Ну, как знаешь, только ты потом пожалеешь. Стопудово пожалеешь.
— Ну и пусть!
— Мое дело предупредить, я умываю руки. Ну и дурак же ты, старик!
— Верочка, — проворковал Иван вслух, — успокойся, не плачь, девочка моя, не плачь. Пойди, умойся, выпей водички, а вечером я за тобой приеду. Все будет хорошо.
Иван предложил Верочке пока пожить у него. Она с радостью согласилась. А поскольку девушка сбежала от грозной родительницы, в чем была, то пришлось купить ей зубную щетку, ну и несколько комплектов одежды и обуви — нужно же ей было в чем-то ходить? Иван был человеком щедрым, но как-то слишком дорого обходилась ему Верочка. Если так дальше пойдет, то ему либо нужно будет, как минимум, вдвое больше зарабатывать, либо отказаться от своих наполеоновских планов по улучшению своих жилищных условий. Вон, жена его бывшая, Ольга, вместе с Лесей еще полгода назад переехала в новую стометровую квартиру с евроремонтом, причем большую часть денег на эту покупку она заработала сама — Ольга постоянно расширяла свой бизнес. У нее был явный предпринимательский талант. А он сам? Он столько денег тратил на женщин и развлечения, что за те два года, что он жил холостяком, только и успел — поменять машину. Приобрел шедевр баварских производителей. Автомобиль, который, как казалось Ивану, добавлял ему сексуальной привлекательности. Девочкам Иван, действительно, больше нравился с машиной, чем без нее. И, вообще, по наблюдениям Ивана, кошелек для женщин является самым сексуальным органом в мужчине, так что придется больше зарабатывать, раз уж расходы так сильно возросли. Мыслишки на счет того, как именно можно подзаработать, у Ивана имелись. Надо только найти время и силы, чтобы приняться за их воплощение…
Первая неделя совместной жизни с Верочкой прошла в эйфории: какое это счастье — каждый день заниматься любовью, засыпать и просыпаться в одной постели, ни от кого не скрываться! А какие завтраки готовила Верочка! А какие ужины! А как чисто теперь стало в квартире! А отглаженные рубашки! Ах, какая она чудесная, эта Верочка!
В середине второй недели Иван понял, что Верочка занимает слишком много места в его бытии — на работу времени практически не оставалось: днем она слишком часто звонила по каким-то пустякам, а по вечерам ждала, что он заберет ее из музея в 18.00. А у него на службе в это время только и начиналось самое интересное: неформальные встречи и переговоры, от которых часто и зависел успех бизнеса. Иван и так в последние месяцы, что он пребывал в любовной горячке, дела несколько позабросил. Шеф, то есть бывший тесть Михаил Львович, был им в высшей степени не доволен. Один раз даже пригрозил понизить в должности. А в другой раз, театрально вздохнув, разочарованным тоном протянул: «Хотел вот тебя в компаньоны взять, но если так дальше пойдет, может, и уволить придется. Не радуешь ты меня в последнее время, не радуешь. Ты пойми, сынок, бабы приходят и уходят, а дело остается. Дело — для мужика главное. Так что давай, берись за ум».
Когда Иван отказал Верочке забрать ее с работы, сославшись на неотложные дела, она сказала покорно, что ничего страшного — она доберется сама. Вернулся в тот день он поздно — производственная пьянка несколько затянулась. Верочка сидела на кухне над остывшим ужином, в нарядном платье, с красными от слез глазами.
— Где ты был? Почему ты так поздно? — вопрошала она. — Я волновалась, мне было так одиноко без тебя в этой чужой квартире. У меня нет дома! Мне некуда пойти, а ты пропадаешь по ночам!
— Верочка, я работаю, — начал оправдываться Иван, — чтобы покупать тебе красивые платьишки и вкусную рыбку, которую ты так любишь, нужны денежки. А денежки на дорожке не валяются. Чтобы они появились в моем кошелечке, нужно их зарабатывать.
— Не нужны мне никакие платьишки! — дула губки Верочка, — и рыбка не нужна! Мне ты нужен! Я хочу, чтобы ты был рядом!
— Извини, малыш, но так не получится. Всегда рядом я быть не могу, потому что мне нужны денежки и новые дорогие костюмчики. А еще я хочу новую большую квартирку, в которой нам с тобой будет намного уютнее, чем в этой. Кстати, завтра вечером у меня снова важная встреча, и я приду домой поздно.
— А я могу пойти с тобой на эту встречу? — робко поинтересовалась Верочка.
— Нет. — Отрезал Иван.
— А что же мне делать весь вечер?
— Ты же поэтесса, вот и занимайся творчеством. Книжку можно почитать, вон тут целая библиотека. С подружкой можно погулять. Неужели тебе нечем заняться? На мне ведь свет клином не сошелся.
— Сошелся! — ответила Верочка, глядя Ивану в глаза с неподдельным обожанием, — когда нет тебя, будто бы нет и меня! Я не могу без тебя!
Ивану бы испугаться такого заявления, а он, дурак, обрадовался, подхватил свою очкастенькую малышку на руки и закружил. Докружил до спальни, где и продемонстрировал ей всю глубину своей признательности за такую безмерную любовь…
А утром протянул Верочке несколько красивых, хрустящих купюр. Это чтобы она не скучала вечером без него. Чтобы не тосковала сильно без своего обожаемого мужчины. Чтобы заняла себя покупками. Глаза ее замерцали алчно. Она их поспешно опустила и сказала тихо:
— Ну что ты, не надо. Ни к чему это. Я уж так, на кухне: ужин для тебя приготовлю, приберусь, рубашки твои постираю да поглажу.
— Девочка моя, нужно же иногда и баловать себя! Бери деньги, бери.
— Ну, раз ты настаиваешь, — купюры исчезли в Верочкиной сумочке. — Какой ты у меня щедрый! — она чмокнула Ивана в щеку, выпорхнула из машины и легко побежала в свой музей.
Через неделю Иван снова застал Верочку заплаканной на кухне за накрытым к ужину столом. На сей раз он задержался всего часа на два, и слезы эти были ему непонятны и неприятны.
— Что опять случилось? — спросил он, с трудом сдерживая раздражение.
— Мама…, — ответила Верочка, всхлипывая.
— А что у нас с мамой?
— Она звонила мне. Снова наговорила гадостей. Требует, чтобы я вернулась. Ей уход нужен.
— И что ты?
— А я не знаю! Я с тобой жить хочу, но как я маму могу бросить? Она же пропадет без меня!
— Но твоя мама взрослая женщина. Сколько ей лет?
— Сорок четыре.
— Да она же молодая совсем. Неужели она сама о себе позаботиться не может? Пойми, девочка, это родители обычно заботятся о детях, а не наоборот. Это уж только когда родители совсем старыми и немощными становятся. Но здесь ведь не тот случай. А дети… Дети вырастают и улетают из родного гнезда и вьют свое. Это закон жизни.
— Мама, она же у меня, как ребенок. Я должна ее хотя бы навестить. Можно я сейчас поеду?
— Хорошо, я тебя отвезу. — Согласился Иван нехотя.
Верочка уехала и пропала. Она не вернулась ни на следующий вечер, ни через день. Иван тосковал в холодной постели. Только сейчас он понял, что привык к Верочке, что ему без нее плохо. Она звонила днем и докладывала, что маме все еще плохо, и вернуться она пока не может. К вечеру третьего дня разлуки Иван не выдержал и поехал встречать Верочку к музею. Она радостно бросилась к нему на шею, а ехать к нему смущенно, но твердо отказалась:
— Мама еще не окрепла, — лепетала она.
— А что с ней?
— Не знаю, врачи не могут поставить диагноз, но ей очень плохо, она совсем без сил, бледная, похудела, жалуется на головокружения, ходит с трудом, шатает ее.
— А ты не допускаешь мысли, что…, — Иван закашлялся — что она притворяется?
— Как ты можешь? — возмутилась Верочка. — Мама действительно болеет! Ты черствый, ты жестокий! В тебе нет ни капли сочувствия! Я думала, ты добрее!
— Ну, извини! Милая, как ты не понимаешь, я же соскучился! Знаешь, как мне одиноко в постельке без моего пушистого котеночка. Что же нам теперь делать?
— Я не знаю. Мне тоже без тебя очень плохо, но я же не могу оставить маму одну. — В глазах Верочки появились слезы.
Иван прижал ее к себе:
— Хорошо-хорошо, я подожду. Лечи свою маму, — проговорил он ласково, а сам подумал: «Маму! Тоже мне мама! Карга старая! Симулянтка хитрожопая!»
Через две недели разлуки Иван готов был сесть с этой каргой старой за стол переговоров.
По рекомендации Верочки он надел костюмчик, галстучек, а не джинсы (мама их не одобряет), накупил разных деликатесов, (мама их отродясь не пробовала, и они должны были смягчить мамин крутой нрав), прихватил две бутылочки настоящего «бордо» (мама обожает французские романы и всегда мечтала выпить французского вина, а не копеечного портвейна, как обычно). Еще Верочка посоветовала ему сделать маме непрозрачный намек на свои серьезные намерения, то есть на перспективу женитьбы на ее очаровательной дочери (мама не признает никаких новомодных гражданских браков, только традиционные). Иван напрягся.
— Да ты не бойся, ты, главное, намекни, а замуж-то я сама пока не хочу. — Успокоила его Верочка.
— А вдруг она опять начнет драть кого-нибудь за волосы и ругаться, как базарная баба?
— Не беспокойся. Она очень интеллигентная женщина, дерется и ругается только, когда что-то не по ее выходит, тогда она беситься начинает. Да, забыла предупредить, ее любимые писатели Достоевский, Кафка, Франс, Пруст, Фейхтвангер, Манн, ну и еще десятка два. Всех не упомнишь — она постоянно читает.
— Всем сказала, что больна, а сама читать, читать и читать, как завещал великий Ленин. А что, удобно, заболел, и уже никто и ничто не мешает предаваться любимому занятию. Может, и мне так попробовать? Хотя нет, у меня еще и в жизни есть чем заняться, кроме как сбегать в мир чужих фантазий, иллюзий и заблуждений, пусть и написанных хорошим языком. Нет уж, увольте! Поживу еще, рано мне себя хоронить под горой сомнительной мудрости.
— Ты такой циничный! Чем больше я тебя узнаю, тем больше ты меня пугаешь. Ты что же, совсем не любишь литературу?
— Как ты могла подумать обо мне такое? Всему лучшему в жизни я обязан книгам, так же, как и великий пролетарский писатель Алексей Пешков.
— Все шутишь…
— Отнюдь. Книги могут быть частью жизни, но не подменять же собой саму жизнь? Разве я не прав?
— Не знаю, никогда не думала об этом. Так ты сможешь поддержать разговор о литературе? Тебе хоть известны имена, которые я сейчас назвала?
— Ну, о «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского я определенно слышал — училка данное произведение как-то упоминала на уроке.
— Ваня, я серьезно!
— Девочка моя, мужчина, который имеет честь вас любить, получил отличное образование. Не извольте беспокоиться. Великосветские беседы я вести умею. У меня большой опыт.
Как ему не хотелось снова видеть эту ужасную женщину, да еще и строить из себя того, кем он не является. Ну зачем? Зачем?
И вот он нажимал кнопку древнего звонка на хлипкой, ободранной двери, обитой дерматином, и потел от страха. Он, взрослый, преуспевающий мужчина, у которого все есть, у которого ребенок есть, робел, как подросток. Дверь ему отворила Верочка. Критически его осмотрела, кажется, осталась довольна его внешним видом, взяла за руку, провела в гостиную.
— Мама, познакомься, это Иван, мой жених. — Произнесла она торжественно. — Иван — это моя мама, Зинаида Васильевна.
— Очень приятно, — сказал Иван и растянул губы в доброжелательную улыбку, а сам чуть сознание не потерял от ощущения дежа вю: было уже такое — так Ирина Завьялова представляла его своему отцу, а тот, помнится, читал Карамзина, «Историю государства Российского». Так, а у этой что лежит на коленях? Бог мой! Опять Карамзин! «Бедная Лиза» на сей раз. Она это что, специально? Намек, так сказать! Дескать, вот что бывает, когда юная, невинная бедная девушка связывается с богатым эгоистом! Нет, глупость! Нелепая подозрительность. Это просто совпадение.
Зинаида Михайловна не произнесла ни звука, только смотрела на будущего зятя цепким взглядом, от которого Ивану было не по себе. Он церемонно вручил потенциальной теще (тьфу-тьфу-тьфу) букет роз. Зинаида Васильева сухо его поблагодарила и тут же распорядилась, чтобы Верочка поставила цветы в вазу с водой, сама же не сдвинулась с места. Девушка убежала на кухню. Иван остался наедине с фурией, изображающей приличную даму. Ему было страшновато. Дама молчала.
— Вот, я тут принес…, — промямлил Иван и принялся выкладывать на стол из пакетов фрукты, сырокопченую колбасу, форель, семгу, красную икру, сыры. — Ну и вот еще, настоящее «бордо». Верочка мне сказала, что вы мечтали его попробовать.
— Вас неправильно информировали, это только алкоголики могут возвести желание выпить некий спиртной напиток в ранг мечты, а у духовного человека мечты находятся в совсем иной плоскости. А «бордо»… это так… Я бы назвала это маленькой прихотью, возможностью прикоснуться на материальном, что ли, уровне, к французской литературе, которую я очень люблю. Мы, бедные люди, к сожалению, можем себе позволить путешествовать лишь посредством своего воображения, и поэтому разного рода отправные точки, будь то глоток французского вина или запах духов, или саше с лавандой, для нас очень важны.
— По поводу мечтаний. Извините, но алкоголик не станет мечтать о коллекционном вине или коньяке. И даже просто о хорошем вине мечтать не станет. Он о любом вине мечтает, если у него есть потребность напиться и ему все рано, что пить. А вот мечтать о каком-нибудь «Шато-лафите» 1982 года могут позволить себе лишь эстеты.
— Вы, кстати, молодой человек, чем занимаетесь, что можете позволить себе такую роскошь? — Зинаида Васильевна обвела взглядом стол, уставленный продуктами. Иван про себя отметил, что сама Зинаида Васильевна, готовясь к знакомству с женихом дочери, выставила лишь старенький заварочный чайник, три разномастные чашки, давно не чищенные, и крохотную хрустальную вазочку с дешевеньким печеньем.
«Интересно, они действительно так бедны? Или так скупы? Или это просто демонстрация нищеты, которая нужна им для каких-то целей?» — подумал Иван. Собственно, обстановка в квартире была удручающая: обои потеряли свой цвет, очевидно, еще лет двадцать назад, местами они вообще были ободраны, мебель из самого демократичного репертуара пятидесятых годов, даже приемник был, относящийся к той эпохе, все поверхности завалены какими-то книжками, газетами, старыми журналами. Было ощущение, что завалы эти не разгребались со времен юности Верочкиной матери. На абажуре раритетного торшера зияла дыра. Занавески скорее напоминали застиранные тряпки. Полы — с облупленной краской. Даже намека на уют не было в этой комнате. Да и чистотой она не блистала — было ощущение, что воздух в ней наполнен концентрированной пылью. Вслух Иван сказал:
— Я работаю в крупной компании, торгующей алкоголем.
— И какую должность вы там занимаете?
— Заместитель директора. Если все пойдет хорошо, то скоро стану и соучредителем, то есть партнером нашего хозяина.
— Ах, вот оно что! — воскликнула Зинаида Васильевна, — то есть вы спаиваете людей, они отдают последние деньги и свое здоровье за вашу водку, а вы жируете! Я так и думала, что честным путем на все это не заработаешь! — женщина снова обвела взглядом роскошные продукты на убогом столе. — Честные люди, которые не грабят и не спаивают народ, с хлеба на воду перебиваются. — Зинаида Васильевна скорбно поджала губы.
— Позвольте с вами не согласиться, — возразил Иван, хотя спорить с этой женщиной ему было страшновато, — мы никого насильно не спаиваем. Спрос, так сказать, рождает предложение. Мы, напротив, увеличением ассортимента стараемся развить культуру употребления спиртных напитков. Чтобы у человека был выбор: водку ему пить или благородные напитки, такие, например, как это «бордо». Смею вас уверить, что проблема алкоголизма вовсе не связана с виноторговцами, это, скорее, проблема отдельно взятой личности, ну и, может быть, она как-то перекликается с социальными болячками общества. Хотя с этой гипотезой можно и поспорить.
В комнату впорхнула Верочка и поставила на середину стола вазу с розами.
— Вера, будь добра, порежь то, что принес наш гость, да по тарелкам разложи.
Девушка похватала продукты и снова убежала. А мать возобновила допрос:
— То есть, насколько я вас понимаю, зарабатывая деньги на человеческих слабостях и пороках, вы сможете достойно содержать мою дочь, в случае, если она примет ваше предложение и станет вашей женой?
— Думаю, что да.
— А где же вы станете жить? С вашими родителями? Здесь, как мне кажется, нам троим будет тесновато, а если еще и дети пойдут…
— Я уже давно не живу с родителями: они у меня в одном из районных центров обитают.
— Так это что же, вы на нашу жилплощадь метите?
— Ну, что вы! — Иван вновь посмотрел по сторонам и попытался не показать своего отвращения, — у меня есть своя квартира.
— А сколько вам лет, молодой человек?
— Двадцать шесть.
Лицо Зинаиды Васильевны изобразило крайнюю степень удивления.
— Я вот почти до сорока пяти лет дожила, а на собственную квартиру так и не скопила. Ладно, хоть родители мне эту клетушку завещали, а то бы на улице оказалась. Как-то, знаете, подозрительно мне, что вы такой молодой, а смогли уже жилплощадь приобрести. Да еще и в чужом городе. Признайтесь, что-то здесь нечисто. Не верю я, что такой, извините, сопляк честно мог заработать на квартиру. Уж не бандит ли вы?
Иван натужно рассмеялся:
— Нет. Могу вас уверить, что квартиру свою я заработал честно, и досталась она мне нелегко. Поверьте, очень нелегко.
Зинаида Васильевна загадочно ухмыльнулась.
— Ну, что ж, будем считать, что вы меня убедили. Иван, понимаете, я человек, не отличающийся крепким здоровьем — постоянно на больничных, и жили мы, в основном, на Верочкину невеликую зарплату. Если она уйдет, мне только и останется, что с голоду помереть. — Женщина выжидательно посмотрела на Ивана.
Все намеки, касаемые денег, он понимал мгновенно: дама хочет отступные. А стоит ли ее дочка таких расходов? У Ивана возникло сильное желание просто взять и уйти. Пока не поздно. В этот момент в комнату заглянула Верочка.
— Ваня! — воскликнула она, — я ни разу не ела икру. А что с ней нужно делать?
— Тоненько порежь батон, помажь его сливочным маслом, а сверху положи икру. Это будут бутерброды. А если хочешь, можно икру ложкой есть. Это очень вкусно.
— Ой, нет, уж лучше я растяну удовольствие, бутерброды сделаю! — весело сказала Верочка и снова скрылась на кухне.
Иван в очередной раз умилился непосредственности девушки, и в очередной раз ему стало ее жалко — захотелось вытащить ее из этой нищеты, спасти ее из лап матери-тирана.
— Богато живешь! — хмыкнула Зинаида Васильевна. — Икру, значит, ложками ешь, а девочка такое чудо в первый раз в жизни видит. У нас вареная колбаса да сосиски самые дешевые только по большим праздникам. А уж курицу пожарить — так это только на Новый год.
Иван посмотрел в маленькие, холодные, серые глаза женщины. В это мгновение она перестала для него быть матерью любимой девушки и стала деловым партнером, который явно собирается его облапошить при заключении сделки. А это мало кому удавалось.
— И сколько вы хотите за то, чтобы ваша дочь жила со мной? — спросил он.
— Что вы себе позволяете! — взвизгнула Зинаида Васильевна. — Как вы могли такое подумать! Чтобы я, благородный человек, продавала свою дочь! Какая же ты гнида!
— Я рад, что не ошибся в вас, Зинаида Васильевна. Мне очень приятно слышать, что вы желаете счастья своей дочери и спокойно отпустите ее со мной просто так, не требуя никакой компенсации — ни моральной, ни тем более материальной, как и подобает настоящей матери, которая желает своей дочери только добра и понимает, что когда ребенок вырос, надо бы его отпустить, чтобы он мог зажить самостоятельной жизнью.
— Моя дочь не будет жить с вами. Я не дам своего согласия на ваш союз.
— Ну что ж, Зинаида Васильевна… как скажете. Я буду страдать, Верочка будет страдать. А вы, очевидно, будете наслаждаться нашими страданиями. Что ж, удачи! А мне позвольте засим откланяться. А Верочке я, пожалуй, объясню причину своего ухода позже. Если вы настроите свою дочь против меня, а я уверен, что вы это сделаете, я все равно найду способ донести до нее свою версию произошедшего. Впрочем, хоть я и не принадлежу к числу благородных людей, я могу этого и не делать. Думаю, дочери неприятно будет узнать, что мать не хочет, чтобы она была счастливой. Но это, как говорится, дела семейные. Я очень люблю вашу дочь, но мой жизненный опыт показывает, что кровные узы сильнее любовных. Всего доброго. — Иван поднялся.
— Сядьте, молодой человек, — приказала Зинаида Васильевна. — Очень прискорбно, что вы расценили мои слова как попытку продать собственную дочь. Очень прискорбно. Просто я лишаюсь кормильца, и мне действительно грозит голодная смерть. Увы, но это объективная реальность. Мои слова были продиктованы отнюдь не корыстью, а элементарным инстинктом самосохранения. Мне искренне жаль вас — деньги, очевидно, вас испортили, развратили, заставили видеть во всем лишь предмет торга. Буду с вами честной — мне не нравится, что моя дочь полюбила именно вас, но я не буду препятствовать вашим отношениям, потому что я люблю свою наивную, ранимую глупышку. — Женщина сменила суровое, надменное выражение лица на жалкое и несчастное. — Если ей с вами будет хорошо, то я готова смириться с вашим присутствием в ее жизни. Вы и представить себе не можете, на какие жертвы я иду ради ее благополучия. Ведь Верочка для меня — это поддержка и опора, она моя кормилица, я даже не представляю, как я буду жить без нее! Я очень вас прошу, останьтесь!
— Хорошо, я останусь. И могу вас заверить, что я в любом случае не допустил бы вашей голодной смерти… Две Верочкиных зарплаты в месяц вас устроят в качестве компенсации за потерю кормильца?
Зинаида Васильевна с ненавистью посмотрела на Ивана и молча кивнула.
Ужин прошел в непринужденной обстановке. Верочка периодически принималась читать свои стихи и, как ни странно, в этой облезлой обители лицемерия они казались вполне уместными. Иван обсуждал с Зинаидой Васильевной роль запахов в теории воспоминаний Марселя Пруста. И если бы Иван не помнил (к черту запахи, перед его глазами вставала картинка), как эта самая женщина таскает свою дочь за волосы посреди улицы и поливает ее площадной бранью, он мог бы подумать, что она и в самом деле милейшая, образованнейшая дама. Еще Иван вспоминал своего бывшего тестя и свою бывшую жену. Они, может быть, и не самые добродетельные граждане, но они и не пытаются строить из себя святош. Они такие, какие есть. Циничные, жестокие, корыстные, великодушные и… добрые в какой-то степени, как ни странно. И если уж Михаил Львович покупал Ивана, то делал это в открытую, не утверждая при этом, что он, вообще-то, человек благородный, но вынужден так поступать в силу обстоятельств. Или, скажем, инстинкта сохранения рода. Сейчас, спустя годы, Иван понимал, что это, несмотря ни на что, была честная сделка. Хоть и не слишком выгодная, но честная. А сегодняшняя? Черт ее знает. Ивану казалось, что с его стороны — да, а вот его партнер, то есть Зинаида Васильевна, слишком легко согласилась, явно задумала что-то еще. Предчувствия Ивана подтвердились довольно скоро.
Домой Иван вернулся с Верочкой. Теперь она для него стала своеобразным трофеем — некой Василисой Прекрасной, которую он вырвал из лап коварной Бабы-Яги. Он чувствовал себя героем. А Верочка, очевидно, чувствовала себя благодарной своему герою — по крайней мере, в постели в ту ночь она была особенно экспрессивной.
Глава двадцать четвертая
Пару месяцев Иван с Верочкой прожили спокойно, в мире и гармонии. А потом Зинаида Васильевна в очередной раз заболела. Несильно. Так, небольшая простуда: кашель, насморк… Однако больной кто-то должен был подавать стаканы с водой. Разумеется, этим кем-то была Верочка. Собственно, Зинаида Васильевна не настаивала, чтобы дочь непременно переселялась к ней.
— Нет, Верочка, не нужно ко мне приезжать, я сама справлюсь, — говорила она слабым, хрипловатым голосом и принималась натужно кашлять, — женщина должна быть подле своего мужчины. Дети ведь вырастают, начинают жить своей жизнью, и родители становятся им не нужны. Это же так естественно. По нынешним временам противоестественно быть благодарными тем, кто вас родил, кто вас кормил и поил, кто ночей не спал. Так что не беспокойся обо мне. Наслаждайся жизнью.
Тем же вечером Верочка отправилась к матери, предварительно взяв у Ивана денег на лекарства и продукты. Вернулась только через неделю. Пахнущая затхлой квартирой своей матери, супами из рыбных консервов и жареным луком. Еще чем-то вроде корвалола. Даже красота ее снова как-то потускнела. Верочка заламывала руки и стенала, что не знает, как ей жить дальше, как разорваться ей между немощной матерью и своею любовью! Ужасалась, что невозможно никак двух любимых людей совместить во времени и пространстве. Иван притворно вздохнул и цинично заявил, что жизнь вообще ужасно несправедливая штука. Просто ужасно несправедливая! Верочка слегка надулась было, а потом налепила на лицо очаровательную улыбку и принялась демонстрировать, как сильно она скучала по своему мальчику. А позже, когда лежали они в постели, утомленные и разнеженные, все же спросила робко:
— А может быть, мы перевезем маму к нам? Ей там одной совсем одиноко.
Иван сразу помрачнел, отстранился и произнес:
— Мне кажется, что это неудачная идея.
— Ты не любишь мою маму? — удивилась Верочка.
— А должен? — Иван удивился еще больше Верочки.
Верочка тихо расплакалась и, всхлипывая, удалилась в гостиную на диван. Иван изо всех сил ударил кулаком по подушке и решил Верочку не догонять. Не позволит он из себя веревки вить! Каждый день лицезреть эту мегеру? Ну уж нет! Он и с собственными-то родителями уже не готов жить, а тут чужая сварливая баба! Зачем ему это?
Наутро Верочка сердито молчала. Вид имела оскорбленный и разнесчастный. Иван боролся с сильным желанием как-то ее утешить. Чувствовал себя виноватым перед этой девочкой. Готов был завалить ее подарками, но впустить в дом чуму под названием Зинаида Васильевна он никак не мог. Утешать не стал. Нельзя проявлять слабость. Верочка нарядилась в старенький свой куцый костюмчик из прошлой жизни, собрала волосы в хвост. В таком виде Иван и доставил ее к музею. На прощанье она попросила Ивана, имея на лице выражение вселенской скорби, вечером помочь ей собрать вещи и отвезти к маме. Ибо, несмотря на те теплые чувства, что она питает к своему любимому, маму она бросить не может. Что всю ночь ее терзала проблема выбора, и встала она, так и не решив, что делать. Однако видя холодность Ивана, склонилась все же к тому, чтобы оставить его. А потом еще добавила, что все его подарки она может и не забирать — уйдет в том, в чем пришла. Верочка выскочила из машины и упорхнула в свой музей, оставив Ивана в состоянии глубокой задумчивости, если не сказать подавленности. Как добрался до своей работы, он помнил смутно, но кажется, были там какие-то неприятности: вроде чуть в кого-то не врезался, вроде чуть кого-то не сшиб, да еще и на красный свет светофора проехал. Да еще потом никак не мог переключиться с дел сердечных на зарабатывание денег.
Вечером Иван встречал Верочку у музея с букетом роз и белым флажком переговорщика. Специально привязал носовой платок к палке, которую тут же и обломал с какого-то дерева. Верочка шутку оценила — улыбнулась, впрочем, достаточно сдержанно. Иван галантно распахнул перед ней дверь машины.
В ресторан он ее не повез — выглядела Верочка сегодня неподобающе. Вместе заехали в магазин, накупили всяких вкусностей. Дома зажгли свечи, выпили шампанского.
— Давай искать компромисс. — Предложил Иван.
— Ты думаешь, он возможен? — обреченно спросила Верочка.
— Не знаю, но мы просто обязаны его найти. Ты очень дорога мне, и я не хочу тебя терять, но мне дорога именно ты, а не твоя мама. Уж извини. Вариант нашего совместного проживания с ней я рассматривать отказываюсь.
— Даже ради меня? — глаза Верочки начали наполняться слезами.
— Извини.
— И что же делать?
— Мы можем купить ей кошку или собаку, чтобы ей не было так одиноко, мы можем отправить ее в санаторий для поправки здоровья. А вообще было бы чудесно выдать ее замуж! Она же еще молодая женщина.
— Маму замуж? — Верочка отрицательно покачала головой. — Мама однолюб. Она любила только одного мужчину в жизни.
— Какая чушь! — возмутился Иван.
— Это не чушь! Это же так прекрасно — всю жизнь любить только одного человека! Мне кажется, только так и должно быть!
Иван даже перепугался немного, что эта вот девушка будет любить всю жизнь его одного, даже тогда, когда он ее разлюбит. В юности Иван тоже мечтал о вечной любви, но годы и опыт вытравили из него эту глупую фантазию. Провести с Верочкой остаток жизни? Ну уж нет! Такая будущность его не обрадовала. Хотя прямо сейчас он и не смог бы отказаться от этой девушки. Вслух он сказал:
— Да, ты права, любовь на всю жизнь — это чудесно. В общем, предложи маме санаторий для начала, а там посмотрим.
Зинаида Васильевна перспективу своего оздоровления в медицинском учреждении санаторного типа восприняла поначалу с энтузиазмом, а потом сникла и заявила, что ей, пожалуй, стыдно будет перед людьми в своих обносках да рванине: в санатории-то, поди, только люди состоятельные ездят, вон путевки-то каких деньжищ стоят. Как раз ее зарплата за полгода. Так что не обессудьте, но ни в какой санаторий она не поедет. Так и будет остаток дней своих гнить в этой норе, одна, без радостей, удовольствий и даже без надежды на что-то хорошее. Пусть! Видно, судьба у нее такая — быть несчастной. А курорты, это не для нее, это для других, это для тех, кому больше повезло в жизни. Иван, отчаянно матерясь про себя, выдал ей крупную сумму денег на обновление гардероба.
После посещения магазинов и парикмахерской выяснилось, что Зинаида Васильевна вполне себе симпатичная женщина: и фигура у нее стройная не по возрасту, девичья совсем, и лицо у нее молодое. И без этих мешковатых своих сумрачных одежд не выглядела она больной. Скорее наоборот, цветущей дамой средних лет.
В санаторий в заснеженных лесах Иван отвез Зинаиду Васильевну лично. Всю дорогу она изволила ворчать, переживать и сомневаться, стоит ли ей вообще туда ехать. Даже пару раз истерически приказывала повернуть обратно. Она, видите ли, понятия не имеет, что такое санаторий, как там себя вести, как ее там будут лечить и не залечат ли до смерти. Даже высказала предположение, что зятек ее, так сказать, гражданский, специально везет ее в этот санаторий — избавиться от нее, явно, хочет. И с врачами, небось, договорился, что б уж они постарались, долечили ее до могилы. Иван молча скрежетал зубами от ярости и упрямо вел машину к санаторию — впереди его ждал целый двадцать один день покоя и безмятежности без этой вздорной параноидальной бабы.
Из санатория Зинаида Васильевна вернулась посвежевшая, помолодевшая и даже, кажется, немного подобревшая. Месяца три не вмешивалась она в жизнь Ивана и Верочки. А жизнь их если и не была совсем уж безоблачной, то, по крайней мере, вполне благополучной. Одно только смущало Ивана: Лесе Верочка категорически не нравилась — она говорила отцу: «Папа, это очень плохая, злая тетя. Выгони ее». Иван эти слова списывал на ревность и детское Лесино желание, чтобы папа и мама снова жили вместе. Но, в любом случае, Ивану так пришлось организовывать встречи с дочерью, чтобы Леся и Верочка не пересекались. Особенно он страдал от того, что теперь Леся не могла у него ночевать. Он-то был не против, и Верочка — не против, но девочка не хотела ехать к Ивану, если там присутствует «эта злая тетя». Тогда Верочка решилась на благородный поступок, буквально пожертвовала собой — иногда на выходные она уезжала к матери, чтобы любимый мужчина мог побыть со своим ребенком. Иван не сказал Вере, что Леся ему неродная дочь. Верочка поначалу пыталась наладить отношения с девочкой: покупала ей подарки, порывалась читать ей книжки, но когда однажды Леся назвала ее злой ведьмой, от своих благих намерений отказалась, отошла в сторону, но затаила ненависть к этой богатенькой избалованной девчонке. Она с рождения получает даже больше, чем ей нужно, а ей, Верочке, приходится выживать, бороться за свое существование. Попробовала бы эта Леся так капризничать, имея нищую, вечно больную маму-библиотекаршу! Да у Верочки до сих пор нет таких дорогих нарядов, как у этой маленькой дряни!
Зинаида Васильевна хоть и поправила свое здоровье в санатории, только хватило его ненадолго. Вскоре она снова принялась болеть. Верочка снова с апломбом уезжала за ней ухаживать, а потом драматично возвращалась, страдая от того, что не может она разорваться между двумя любимыми существами, а эти самые существа никак не могут между собой поладить. В итоге, болезни принесли Зинаиде Васильевне неплохие дивиденды: Иван отремонтировал и обставил ей квартиру (у мамы жуткая аллергия на пыль), увеличил ей содержание (маме нужно лучше питаться, она больна от того, что всю жизнь голодала), еще несколько раз отправлял ее в санатории (маме нужно лечиться). Ивану приходилось работать как проклятому, чтобы содержать всю эту ораву. На четвертом году совместной жизни с Верочкой он смертельно устал. И от этих двух безумных истеричек, и от работы, и от жизни в целом. Он уехал во Францию. Один. Вроде бы в командировку — налаживать отношения с французскими поставщиками, но на самом деле он просто сбежал. И осуществил свою мечту к тому же. Возвращаться на родину не хотелось: слишком уж там было некрасиво да некомфортно. Раньше-то казалось, что нормально все, привычно. Это пока сравнивать не с чем было. А теперь… Впрочем за полторы недели успел он соскучиться и по Лесе, и по Верочке. Однако любимая женщина встретила его на вокзале как-то суетливо, без должной радости и воодушевления, быстренько распрощалась и улетучилась — мама снова была чуть ли не при смерти. Иван был разочарован и родиной, которая встретила его дождем и какой-то безнадежной блеклостью — и это посреди лета, хотя раньше она особо не замечалась, и Верочкой, которая, похоже, совсем по нему не скучала. Квартира дохнула на него особым запахом запустения, который появляется в домах, где долго не бывали люди, из чего Иван сделал вывод, что, скорее всего, Верочка за время его отсутствия здесь не появлялась. Он поставил чемодан в угол, принял душ, выпил чаю, поспал, а вечером отправился на прогулку. Он зашел в любимое кафе на набережной, чтобы полюбоваться на реку: город уже не казался ему таким уж убогим — была в нем какая-то своя тихая, неприметная красота. Иван сидел, пил пиво, ел шашлыки, размышлял о жизни и, в общем-то, был счастлив этим своим временным одиночеством или уединением, скорее, этим покоем, этим неярким закатом над рекой. Когда Иван отвлекся от реки, заметил, что в кафе появилась Верочка. Возмутительно прекрасная. Было на ней новое платье от известного дизайнера, видел такое Иван в Галерее Лафайет в Ницце, были на ней туфли на безумно высоком каблуке, была у нее прическа, явно созданная руками профессионала. Верочка была слегка пьяна. И Верочка была не одна. С ней был мужчина. И не просто мужчина, а один из самых состоятельных людей города: не слишком молодой, лысоватый, толстоватый Петр Павлович Казаков. Он легонько обнимал девушку за талию и лобызал ей ручку — Петр Павлович был известен не только своим богатством, но и изысканными манерами, которыми он, вероятно, пытался компенсировать недостатки своей внешности. Еще славился он какой-то категорической интеллигентностью. Многие еще удивлялись, как он смог-то при таких душевных качествах сделать серьезный бизнес в эти смутные времена. Иван застыл, сжимая в руке бокал с пивом. Этого не может быть! Этого просто не может быть! За что они так с ним? Все, кого он любил, ему изменяли! Даже эта тихоня! За что? Почему? Верочка тоже заметила Ивана. Их взгляды встретились. Удивление. Испуг. Верочка нервно высвобождается из объятий своего кавалера, разворачивается, бежит прочь. Петр Павлович бежит за ней. Но куда ему! Бегемоту не угнаться за стремительной ланью. Раздосадованный Петр Павлович возвращается в кафе. Видит Ивана, грузно усаживается за его столик.
— Иван Сергеевич, вы позволите составить вам компанию? — и тут же, не дожидаясь ответа, — вы видели это? Что это на нее нашло? Почему она сбежала?
— Очевидно, потому, что увидела меня. — Ответил Иван вяло.
— Ничего не понимаю! Вы, вроде бы, красивый молодой человек, приятный, так сказать, во всех отношениях. Почему нужно убегать, завидев вас?
— Я полагаю, точнее, надеюсь, что ей стало стыдно передо мной.
— Иван Сергеевич, вы говорите загадками. Вы совсем меня запутали. Вы хотите сказать, что Верочка имеет к вам какое-то отношение?
— Прямое, Петр Павлович, прямое. Дело в том, что Верочка моя девушка, более того, она моя гражданская жена, теперь уже, судя по всему, бывшая. — Иван залпом допил свое пиво.
— Любезный! — крикнул Петр Павлович официанту. — Любезный! Будьте добры, водки нам принесите какой-нибудь самой дорогой! И закуски какой-нибудь.
— Какой именно?
— Да, честно говоря, все равно. Несите что-нибудь на свой выбор. Вот так фортель! — обратился Петр Павлович к Ивану. — Вот так скромница! Я прошу вас меня извинить великодушно, не был я осведомлен, что Верочка несвободна. Чувствую себя совершеннейшим идиотом.
— Вы не одиноки в этом своем чувстве. — Пробурчал Иван.
— Забавно, — усмехнулся Петр Павлович, — мы с вами два серьезных человека, можно сказать, две акулы бизнеса, а стали игрушками в руках глупенькой девчонки.
— Глупенькой, зато, как выяснилось, очень хитренькой. Я бы даже сказал, коварненькой. — Хмыкнул Иван.
Помолчали.
Официант принес водку в графинчике, стопки, тарелки с мясными и рыбными нарезками, овощи, соленые огурчики и грибочки.
После второй стопки Петр Павлович пустился в откровения.
— Я ведь не красавец, сами видите, и не молод уже. И при этом нравлюсь юным красавицам. Я хоть и примерный семьянин, но случаются у меня иногда амурные приключения. Может, и нехорошо это, и безнравственно, но ничего не могу с собой поделать — против нашей мужской природы не попрешь. — Петр Павлович тяжко вздохнул. — Тут ведь главное, чтобы жена ничего не узнала. Не хочу я причинять ей страдания. Она ведь со мной такой путь прошла! Замуж-то выходила за нищего студента четвертого курса, не побоялась. Поддерживала меня во всем, помогала… А молодые свистушки эти, я же понимаю, что не я им нравлюсь, им деньги мои нравятся, рестораны, побрякушки да одежки дорогие. Верочка… Она мне такой чистой показалась… Внуков повел в музей, а там она — худенькая, тоненькая, в костюмишке каком-то кургузеньком, в туфлях стоптанных, в очочках, и так, знаете ли, вдохновенно повествует о первых поселениях на территории нашей губернии…
— Это когда было? — встрепенулся Иван.
— Прошлой осенью, в конце октября, кажется. Серо все так было вокруг, уныло и вдруг это светлое, рыжее солнышко. Я тогда подумал, что такая девушка никогда не будет судить о человеке лишь по толщине его кошелька. Подумал, что если такая девушка полюбит человека, то ей будет все равно, богат он или беден. Я, признаться, уже и не верил, что такие женщины еще существуют. Выходит, правильно не верил.
Иван усмехнулся:
— И вы ей позвонили?
— И я ей позвонил и пригласил на ужин. Знаете, робко, как юноша. Смущался очень. Не знал, можно ли вообще таких девушек в рестораны-то звать.
— А она застеснялась, стала сначала отказываться, говорить, что ей неудобно; вы придумали какой-нибудь благовидный и очень невинный предлог, она вроде бы согласилась, но тут же снова начала отказываться, потому что у нее нет подходящей одежды для выхода в свет, а вы, наверняка, предложили ей что-нибудь купить соответствующее случаю.
— Примерно так и было. А вы откуда это знаете?
— У нас тоже было как-то так же. Кстати, когда вы имели честь познакомиться с нашей чистой, светлой Верочкой, она жила со мной уже больше двух лет, и, поверьте мне, приличные наряды у нее были — целый шкаф барахла. Я столько денег на них потратил, страшно вспомнить. Я, честно говоря, думал, что она уже выкинула все это старье, в котором я ее подобрал. А она, оказывается, решила еще поэксплуатировать этот образ благородной, бескорыстной нищенки. А что, разумно! Стоит такая прекрасная замарашка со взором, горящим неземной любовью к искусству, повествует о запредельных высотах человеческого духа… Как тут устоять залетному доброму, щедрому, глупому принцу? Конечно, он кинется спасать несчастную Золушку из лап зловещей нищеты!
— Нда, — протянул Петр Павлович задумчиво, — примерно такие чувства я и испытывал, глядя на Верочку.
— Нет, ну какова! — Иван ударил кулаком по столу. Рюмки жалобно звякнули. — А дальше она, наверняка, начала исчезать, отказывать во встречах, потом призналась, что у нее больная мама, которая к тому же еще и по складу характера самый настоящий тиран. Вы начали давать ей деньги на лечение мамы, на хорошие продукты, то есть, грубо говоря, начали покупать свидания с Верочкой. Когда Верочка пропадала надолго, вы начинали сильно по ней тосковать, а когда она, наконец, появлялась, вы на радостях осыпали ее дорогими подарками.
— Да, — согласился Петр Павлович. — Мне очень нравилось, как Верочка выглядит в бриллиантах и платьях от Шанель и Диор. Я ей из всех поездок привозил наряды — у нас-то ведь здесь и не купишь ничего такого.
— Это что же получается, что когда она уходила из дома, якобы ухаживать за мамочкой, за ведьмой этой старой, она встречалась с вами? А когда вам говорила, что ухаживает за мамочкой, жила со мной. Отлично! Какая чудесная девушка! Много она из вас денег-то вытянула?
— Ну, это смотря с чем сравнивать, — протянул Петр Павлович, — но немало. Пожалуй, жена мне обходится несколько дешевле. Вы считаете, что Верочка встречалась со мной ради денег? Но ведь она никогда у меня ничего не просила. Я все ей давал сам. Она говорила, что любит меня! Она меня добрым бурым мишкой называла!
— Мне она тоже говорила, что любит. И денег у меня она тоже не просила первое время. Только вот она делала все, чтобы мне захотелось их дать. Это сначала хотелось, а потом я уже вынужден был давать, чтобы от мамаши откупиться и Верочку к себе на подольше заполучить. Да и Верочка стесняться перестала: если нужны были деньги, она спрашивала. Я думаю, что Верочка и ее маман — лицемерные манипуляторши. Предполагаю, что со мной она действительно была по любви какое-то время и деньги выманивала чисто интуитивно, видимо, талант у нее такой. Она, когда со мной встретилась, очевидно, о нем еще не догадывалась, а потом, когда поняла, решила его использовать. Одной дойной коровы ей, видимо, показалось мало, вот она еще и вас начала доить. А может ведь статься и так, что она не только нас с вами разводит, может, у нее и еще какой-нибудь донор есть! Еще один лопух вроде нас с вами.
— Иван Сергеевич, да вас послушать, так это не женщина, а монстр какой-то! Мне кажется, вы несколько сгущаете краски.
— Да, вероятно. Я, знаете ли, только что узнал, что любимая женщина мне изменяет и к тому же, по иронии судьбы, я в данный момент пью с ее любовником, а это, как вы догадываетесь, не самое простое испытание.
Петр Павлович расхохотался.
— Прекрасно вас понимаю! Я, как ни странно, сам в точно таком же положении. И все же… Я не хочу верить, что Верочка была со мной только ради денег.
— Что ж, в это, действительно, трудно поверить, в это тяжело поверить, в это невозможно поверить! Я сам отказываюсь верить, что меня использовали исключительно в качестве бумажника! Это же какой удар по самолюбию! Но факты, Петр Павлович, факты! Скажите мне, зачем ей надевать свои обноски, если шкафы ломятся от хорошей, дорогой одежды? Просто она поняла, что экскурсоводша в платье от Диора ни у кого не вызовет сочувствия. Может вызвать любопытство, да. Но кто, скажите, поверит, что роскошная дама в дизайнерском платье и дорогущих туфлях в чем-то нуждается. Кто захочет давать ей деньги? Кто захочет спасать? Никто! И потом, почему она не сказала вам, что у нее есть парень. Могла бы сказать… Что там обычно говорят в таких случаях? Мы перестали понимать друг друга, он совсем не уделяет мне внимания, он мне изменяет, мы стали чужими друг другу. А что она? Живем вдвоем с мамой в маленькой квартирке, в нищете, на одну мою зарплату, потому, что мама постоянно болеет. Так ведь? — Петр Павлович кивнул. — Вот видите! Возможно, это все придумала Верочкина мамаша, крайне неприятная дама, очень хитрая, но Верочка ведь не отказалась! Предала меня, лгала вам!
— Возможно, вы и правы, — согласился Петр Павлович. — Но ведь так не хочется расставаться со своими иллюзиями.
— Я пойду, наверное, хочется побыть одному.
— Насколько я понимаю, вы не станете продолжать отношений с этой женщиной?
— Нет.
— Я, пожалуй, тоже воздержусь. Вот старый дурак, понадеялся, что бывают бескорыстные женщины. Вот старый дурак! Позвольте один вопрос: вы будете забирать у нее свои подарки?
— Зачем?
— Не знаю, чтобы наказать, например, лишить того, ради чего она, собственно, и играла в эти игры…
— Я не Господь Бог, чтобы кого-то наказывать. Да и не в моих это правилах — отбирать то, что подарил.
— Пожалуй, вы правы. И небольшая просьба: надеюсь, все, что сегодня произошло, останется между нами?
— Да, разумеется. Рога не красят мужчин. Всего доброго!
Иван вышел в ночь.
Верочка звонила ему по нескольку раз в день и умоляла о встрече. Иван отказывал. Согласился лишь через неделю. Последнее свидание происходило в квартире Ивана. У порога он передал Верочке несколько пакетов с ее вещами и тут же попросил ее уйти.
— Ваня! Выслушай меня! Пожалуйста! — вскричала Верочка.
— Хорошо, говори, черт с тобой, — сдался Иван.
И она начала говорить. Она просила ее простить, утверждала, что любит Ивана как в первый день, что не любила никого, кроме него, и вряд ли когда-нибудь еще полюбит. А что касается Петра Павловича, так это мама ее заставила. Она не хотела, она сопротивлялась, а мама — она кричала, что им нужны деньги, много денег, потому что она устала от нищеты, потому что хочет, наконец, пожить по-человечески. А Иван, он много ли дает, да копейки. Хорохорится, а он ведь не так уж и богат. Не может же он квартиру им купить? Нет. Она угрожала самоубийством, если Верочка ослушается, падала в обмороки, с ней случались сердечные приступы, температура подскакивала под сорок. Что Верочке оставалось делать? Вот она и надела свой старенький костюмчик, как ее мама научила, и стала ждать очередного рыцаря. И дождалась Петра Павловича. Если бы Иван только знал, как тошно ей было ему врать, как она сама себе была противна, как она себя ненавидела! Сколько раз она хотела прекратить это безобразие, но мама радовалась, как дитя, когда Верочка деньги приносила или украшения. У мамы ведь и любовник был, молодой — в санатории подцепила. Так что маме одеваться красиво нужно было, за собой следить и подарки дарить дорогие. Андрюшечка, он ведь капризный такой: чуть что не так — и все, Андрюшечки и след простыл. А у мамы ведь личной жизни-то из-за Верочки не было — не хотела она травмировать нежную психику ребенка. Вот только сейчас, на старости лет и дождалась. Ну как Верочка могла огорчить маму, ведь та всю себя ей отдала. Так что Верочка просит Ивана понять ее и простить. Он ведь такой добрый, такой благородный! Настоящий рыцарь! Хотя Верочка, безусловно, понимает, что простить ее сложно. Вздох раскаянья. Слезы очищения.
— Знаешь, я не осуждаю тебя, я сам совершал подлости во имя денег. Я не осуждаю, но жить с тобой больше не хочу. И видеть тебя тоже не хочу. Извини.
— Да плевать я хотела на деньги, я тебя люблю! Как ты не понимаешь! Это все мама! Это все она! А я не хотела!
— Уходи, Вера! И мой тебе совет — беги ты от мамы своей куда глаза глядят! В Москву, в Америку, в Восточную Сибирь! На Марс, в конце концов! Погубит она тебя!
Верочка ушла, сгибаясь под тяжестью пакетов с барахлом.
Через неделю Ивану позвонил крайне взволнованный Петр Павлович.
— Она денег у меня требует! Много! Иначе она грозится рассказать все моей жене! — шептал он в трубку.
— Кто она? — Иван тоже начал шептать. — Верочка?
— Нет, мамаша ее бешеная. Я вот думаю, какое счастье, что я не был с ней знаком. Хотя если бы познакомился, может, хватило бы ума не заходить так далеко с ее дочкой. Что сейчас делать-то, ума не приложу. Денег я могу дать, но так ведь она еще потребует. Что ж и жить теперь, как на пороховой бочке? Что же делать-то?
— Расскажите все сами. — Устало прошептал Иван.
— Кому рассказать, что рассказать?
— Жене расскажите про Верочку. Разумеется, в выгодном для вас свете. Тогда если даже эта мегера, Зинаида Васильевна, вашей жене и позвонит, она уже ей не поверит. Не мне вас учить, что сказать собственной жене.
— Да, пожалуй, в ваших словах есть здравый смысл. Спасибо, Иван Сергеевич.
А Ивану звонила Верочка, все прощения просила и жаждала вернуться. Еще она писала ему длинные покаянные письма, щедро проиллюстрированные стихами собственного изготовления. Иногда она караулила его у подъезда. Или возле его конторы. Иван потерял покой.
Через полгода Иван отправился покорять столицу, заручившись благословением и рекомендациями бывшего тестя. То есть, откровенно говоря, Михаил Львович пристроил Ивана на хорошую должность в дружественную московскую контору, занимающуюся торговлей алкоголем. Так Иван сбежал из города, который многие годы был ему почти родным. Сбежал, разочарованный в устройстве мира, в женщинах, в духовности. А вот деньги, очевидно, действительно имеют ценность. Так что нужно заработать их как можно больше. А любовь? Иван поклялся, что никогда никого больше не полюбит. Самая бескорыстная женщина оказалась самой алчной. Теперь с женщинами он будет иметь лишь товарно-денежные отношения. Ведь суть любви одна — товарно-денежная. Все по-честному. Никаких масок. Никакого лицемерия.
Глава двадцать пятая
Оказалось, что после стольких лет найти Верочку не так-то и просто. По домашнему телефонному номеру отвечал незнакомый мужской голос и утверждал, что такая здесь больше не проживает и куда переехала — неизвестно. В музее изменились телефоны, но, в конце концов, Иван выяснил новые номера. Там долго никто не брал трубку. Потом ответили и сообщили, что Верочки нет на рабочем месте — она на больничном, да так давно, что коллеги уже начали забывать, как она выглядит. Иван стал допытываться, как найти Верочку. Ему ответили, что им запрещено разглашать конфиденциальную информацию. Иван применил свое незаурядное красноречие и все же выпытал у неизвестной дамы местоположение бывшей своей возлюбленной. Она находилась на излечении в первой городской больнице. От чего ее там лечат, в музее сообщить отказались наотрез.
Иван ее не сразу узнал: трудно было поверить, что живой скелет землистого цвета, лежащий на больничной койке, это и есть некогда прекрасная, нежная и румяная Верочка. Зато когда узнал, понял, что, видимо, ее и нужно было спасать, видимо, в спасении этой женщины и заключается его миссия. Вот оно! Вот! Да, да! Это оно! Осталось только понять, что с ней и как ее спасти.
— Здравствуй, Вера, — произнес он тихо.
Скелет с трудом открыл глаза:
— Ваня?
— Да, Ваня. Что с тобой?
— Врачи говорят — анорексия.
— Ты что, похудеть хотела?
Скелет улыбнулся:
— Нет, просто не могу есть. Не получается.
— У тебя что-то случилось?
— Случилось, Ваня, случилось. Не смотри на меня, отвернись. Мне неприятно, что ты видишь меня такую. Зачем ты пришел?
Иван отвернулся к окну.
— Да вот, приехал дочь навестить, услышал, что ты в больнице, решил зайти — проведать.
— Вовремя, как раз, чтобы проститься — умираю я, Ваня.
— Глупости, анорексия лечится, поживешь еще.
— Это если хотеть лечиться, хотеть жить, а я не хочу.
— Ты можешь подняться и выйти в коридор? Может быть, мы наедине поговорим?
— Говори здесь, мне все равно умирать скоро. Мне уже безразличны земные дела.
— Расскажи мне, что с тобой произошло. Почему ты оказалась в таком состоянии?
— Ваня, это уже не имеет значения.
— Расскажи, — приказал он.
Скелет долго молчал, вздыхал и кряхтел, а потом заговорил:
— Мама умерла от рака. Долго и мучительно умирала. Похоронила я ее, и тут выяснилось, что квартира ей уже не принадлежала… А, значит, и мне. Пришли какие-то люди, показали какие-то документы и заставили меня съехать в течение недели. Мне некуда было уходить, я осталась. Тогда пришли какие-то мужчины, взломали дверь, дали мне полчаса на сборы, а потом вышвырнули меня на улицу. Я в музее поселилась. Директор у нас добрая, не выгоняла меня. Только вот я есть перестала. Вот и вся история.
— Подожди, я не понял, а почему у тебя отобрали квартиру? Кто эти люди?
— Мама вступила в какую-то секту. Я не заметила сразу. Она и раньше-то невыносимая была, а тут еще хуже стала: стала носить все черное и меня заставила, запретила смотреть телевизор, говорила, что это зло. Она даже художественную литературу читать перестала и все книги, которые дома были, на помойку выкинула. Говорила, что все эти бредни — происки дьявола. Тут я и заподозрила неладное. Я пыталась ее убедить, что нужно ей уйти от этих людей, что она губит себя, да и меня тоже. Но ты же помнишь мою маму, она же всегда права, только она и никто больше… Вот на кого-то из сектантов перед смертью она и переписала квартиру.
— Ну не просто же так она в секту-то подалась?
— Отец…
— Что отец?
— Мой отец. Он, оказывается, вором был. Мама никогда мне о нем не рассказывала. Влюбилась в юности, а он вор. Его посадили, а мама меня родила. Он появился. Его в очередной раз из тюрьмы выпустили, и он к нам пришел: «Здравствуйте, я ваш папа!». Я была в шоке, а мама была счастлива. Никогда ее такой счастливой не видела. Отец три месяца у нас жил, а она не заболела даже ни разу, сама еду готовила, похорошела. А потом…, — Верочка умолкла. — Он украл все мои драгоценности и снова исчез. Мама состарилась в одно мгновение, заболела тут же. Она очень страдала. В секте пыталась найти утешение…, — Верочка заплакала. — А потом рак… и смерть… Я осталась совсем одна.
— А ты сама, у тебя как жизнь складывалась?
— Ваня, ну зачем тебе это?
— Думаю, как можно тебе помочь. Для этого мне нужна информация.
— Не нужно мне помогать…
— Думаешь, я буду спокойно смотреть, как ты умираешь?
Скелет усмехнулся:
— Извини, забыла, что ты у нас рыцарь.
— Рассказывай.
— Была у меня еще пара богатых любовников. Не любила я их. Тебя только и любила. Никого больше. Сама себе противна была, чувствовала себя проституткой, продажной женщиной. Но мама меня заставляла встречаться с этими мужчинами, денег требовала. Жили мы раньше спокойно, ну нищие и нищие, думали, что богатство — это не для нас. И не стремились ни к чему… Пока я тебя не встретила. А тут почувствовали вкус денег… И как с цепи сорвались. Особенно мама. Как я ее ненавидела! Часто твои слова вспоминала, когда ты мне говорил, что нужно бежать от нее хоть на край света, хоть на Луну! Только куда ж я сбегу? Крепко она меня держала своими болезнями. Всю жизнь мне сломала! — по впалой, дряблой щеке снова покатилась слеза. Верочка не стала ее утирать. — Мне перевалило за тридцать, — продолжила она слабым голосом, — и образ бедной немолодой экскурсоводши никого уже больше не привлекал. Я вызывала просто жалость и брезгливость что ли какую-то с оттенком презрения. Желающих мне помочь больше не было. Мы снова оказались в полной нищете. Потихоньку продавали мои украшения — много мне их надарили. А потом отец украл остатки драгоценностей… Ну, а дальше ты знаешь.
— Это, безусловно, очень печальная история, но поводов кончать жизнь самоубийством я не вижу. — Резюмировал Иван.
— Я умираю от болезни, а не кончаю жизнь самоубийством! — обиделась Верочка.
— У тебя не физиологическое заболевание, а психологическое. Значит, проблема в твоей голове. Позерство чистой воды! Твоя болезнь воплощение твоего лицемерия. Тебе же невыгодно выздоравливать, кто тебя тогда будет жалеть? Да и идти тебе некуда, а тут как-никак крыша над головой. Знаешь, от чего ты умираешь? — Верочка нашла в себе силы отрицательно покачать головой. — Ты умираешь от жалости к себе. Вот, что тебя убивает. А можно ведь начать есть и продолжить жить.
— Зачем? Мне негде жить!
— Дура ты! Ты, наконец, свободна! Ты вольна делать то, что хочешь ты, а не твоя мать. Только ведь ты сама-то жить и не умеешь. И смелости, чтобы попробовать, в тебе нет! Мне тебя не жаль, ты сама своими руками создала то, что сейчас имеешь. Ты ведь матери своей никогда не сопротивлялась, что она говорила, то ты и делала. Удивительно, что она еще на панель тебя не выставила. А ты и пошла бы — мама ведь велела!
Верочка рыдала в голос.
— А ты ведь можешь снимать квартиру, уехать в Москву, выйти замуж за границу. Да полно вариантов! — продолжал Иван. — Но ведь насколько проще лежать в больнице и медленно умирать!
— Ты такой жестокий! Чтобы сделать то, о чем ты говоришь, нужны деньги, а у меня их нет! Как жить без денег?
— А зарабатывать ты не пробовала?
— Я ничего не умею!
— А научиться? Под лежачий камень вода не течет!
Верочка продолжила свои рыдания, на Ивана зашикали ее соседки по палате.
— Уходите, молодой человек, уходите, — сказала ему дама лет семидесяти в цветастом халате, — не видите, плохо человеку, а вы ей еще такие вещи говорите. Стыдно! — она осуждающе покачала головой.
— Да, вы правы, пусть умирает спокойно. — Иван выскочил из палаты.
Он зашел в ординаторскую.
— Скажите, Вере Михайловой можно чем-то помочь? — спросил он у врача, мужчины лет тридцати пяти.
— А, анорексичке нашей? А вы ей кем приходитесь?
— Никем, по большому счету.
— Тогда, позвольте полюбопытствовать, какое вам дело?
— Я ее когда-то любил. Не прощу себе, если даже не попытаюсь ее спасти.
— Понятно… Медицина здесь бессильна, увы… Она не хочет жить. Что мы можем поделать? Могла бы помочь поддержка близких, но у Михайловой таковых не имеется. Психолог мог бы помочь, но сама она уже толком передвигаться не может, а чтобы кто-то приходил к нам сюда — нужны деньги. Ей нужно вернуть желание жить. У нас это не получается. Буду с вами откровенен, еще немного и в ее организме начнутся необратимые процессы, и тогда уже никто и ничто ее не спасет. Вот так.
— Вы можете найти ей толкового психолога?
— Могу, но не могу ему платить.
— Я заплачу.
— Хозяин — барин. Но скажу вам сразу, если даже вам сейчас и удастся ее вытащить, она потом еще что-нибудь придумает. Такой уж она человек… Жертва…
Доктор Буров был человеком циничным, много чего он повидал на своем веку, и удивить его было сложно. Однако вечером того же дня, когда он имел удовольствие общаться со странным респектабельным господином столичного вида и получил от него солидную сумму денег на оплату услуг психолога для одной из его пациенток, он был удивлен: пациентка эта попросила поесть. От нее такого никто уже не ожидал.
А Иван тем вечером сходил с Лесей на каток, а потом в своем гостиничном номере мысленно просил Петра Вениаминовича явиться к нему ночью и подсказать, как спасти Верочку, женщину, которая в свое время окончательно разбила его веру в любовь. Он понятия не имел, что делать, ведь речь, действительно, идет о жизни и смерти. Это уже не шуточки. Петр Вениаминович не внял мольбам — не явился. Что за нрав у этого мистического персонажа — приходит, только когда его не ждут. Пришлось выкручиваться самому.
Утром, после мучительных раздумий, Иван позвонил давнему своему приятелю, занимающемуся недвижимостью, и попросил в течение двух дней подыскать небольшую однокомнатную квартирку, неважно в каком районе, чем дешевле, тем лучше, но чтобы в относительно приличном состоянии и с мебелью. Приятель обещал помочь. Потом Иван позвонил доктору Бурову. Тот отчитался в том, что психолог найден, точнее психотерапевт, и уже сегодня приступит к работе, а у самой пациентки еще со вчерашнего вечера неожиданно разыгрался аппетит. Иван самодовольно хмыкнул — не зря он, значит, накануне устроил Верочке душевную экзекуцию, получил именно тот результат, на который и рассчитывал. Затем Иван отправился в книжный магазин и накупил дамских романов в мягких обложках — книжку в твердой обложке Верочка, пожалуй, и в руках-то не удержит. Что касается содержания выбираемых литературных произведений, то он брал только те, где рассказывалось о дамах, которые попали в, казалось бы, безвыходную ситуацию, а потом, преодолев множество препятствий, нашли-таки выход и обрели любовь, счастье, да и деньги в придачу. Данная литература по хитроумному замыслу Ивана должна была укрепить Верочкин дух.
— Ваня, — спросила она, как только Иван зашел к ней в палату, — а как можно выйти замуж за иностранца? Знаешь, я всегда мечтала жить в Англии. Может, попробовать?
Иван посмотрел на скелетообразную Верочку с сомнением, граничащим с ужасом, но вслух сказал:
— Может, и стоит. Только сначала надо выздороветь, а для этого надо хорошо кушать.
— Я уже начала есть, только мне пока дают совсем мало — говорят, помногу сразу нельзя. Вань, ну расскажи, как выходят замуж за иностранцев?
Иван пожал плечами:
— Не знаю, как-то данная тема далековата от моих интересов, но кажется, ищут женихов в Интернете на сайтах знакомств.
— В Интернете?
— Да.
Верочка вздохнула:
— У меня нет компьютера.
— Сейчас. — Ответил Иван и выбежал из палаты. Наблюдая этот Верочкин вдох и слыша эти ее слова «у меня нет компьютера», он понял, что жить она будет, раз уж к ней вернулся ее дивный талант — выманивать у мужчин деньги.
Он вернулся через два часа, в его руках была коробка с новеньким маленьким ноутбуком.
— Ну вот, теперь у тебя есть компьютер. — Торжественно сказал он Верочке. — С Интернетом. Сейчас будем учиться пользоваться.
Через два дня Иван зашел к Верочке попрощаться. Та тыкала прозрачным пальчиком в монитор и показывала Ивану какого-то улыбчивого Джона.
«Бедный парень, — подумал Иван, — если Верочка до тебя доберется, улыбаться ты будешь меньше».
— Он хочет, чтобы я прислала ему свою фотографию, — верещала Верочка, — а у меня ее нет. Я же не могу сейчас сфотографироваться. Еще по веб-камере хочет общаться, а я ему вру, что у меня компьютер без камеры. Как ты думаешь, скоро я наберу вес и снова стану красивой?
— Скоро, — заверил ее Иван, — у тебя же есть стимул. Ты откуда английский-то знаешь?
— Я же школу закончила с углубленным изучением английского, у мамы там какая-то студенческая подружка завучем была, а так бы меня туда ни за что не взяли. — Верочка снова углубилась в переписку с Джоном. Параллельно она отправляла сообщения еще какому-то Майклу, Стиву и Рональду. Глаза у нее горели. На нее даже уже не так страшно было смотреть.
— У меня для тебя сюрприз. — Сказал Иван. Верочка оторвалась от монитора и посмотрела на Ивана с любопытством и алчностью. Иван достал из кармана несколько пятитысячных купюр. — Это тебе немного наличных. — Иван протянул кредитную карточку. — Тут тебе деньги на реабилитацию после болезни. — Иван вытащил из пакета какой-то документ и вручил Верочке. — А это главный мой подарок.
— Что это? Это что, квартира? Это квартира, мне? — Иван кивнул. — Я больше не бездомная?
— Ты больше не бездомная. Поздравляю с началом новой жизни!
— Ваня, ты самый лучший мужчина, которого я встречала в своей жизни! Спасибо тебе! — Верочка потянула к нему свои тонкие-тонкие ручки с обвисшей кожей. Иван совершил над собой усилие, чтобы не уклониться от этих жутковатых объятий. Лишь бы она еще и целоваться не полезла. — Скажи, ты простил меня?
— Простил.
— Правда?
— Правда. Верочка, у меня поезд через полтора часа, мне идти пора. А ты поправляйся. Во всех смыслах этого слова. — Иван улыбнулся.
Уже у двери палаты он обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на Верочку. Он очень надеялся, что никогда больше ее не увидит.
— Ваня, а зачем ты меня спасаешь? — задала она вопрос, который, очевидно, долго ее терзал. — Я ведь так подло с тобой поступила.
— Дурак! — ответил Иван и вышел в коридор.
В этот морозный январский день в городе родилась легенда о том, как полубезумный Иван-дурак покупает квартиры своим любовницам, которые некогда его предали. Он мстит, делая им добро, наказывает их своей щедростью, чтобы они устыдились своего проступка. Точно, дурак!
Глава двадцать шестая
Иван чувствовал себя настоящим героем. Он сделал это! Он исполнил свою миссию! Он спас женщину, которую когда-то любил! Пока еще не совсем, конечно, но он был уверен, что Верочка непременно выкарабкается. Тут уж никакой Петр Вениаминович не подкопается! Хорошая работа! Почти идеальная! Иван пил на радостях шампанское, сидя в одиночестве в СВ поезда, везущего его в Москву. Домой! Наконец-то! Одиссей возвращается в Итаку!
— Ну, вы и транжира, батенька! Что это еще за неразумные траты? Вы так никогда на домик на Лазурном берегу не накопите, если каждой несчастненькой дамочке квартирки будете прикупать! Тут никаких денег не хватит! — ворчал Петр Вениаминович, лежа на соседней полке и покуривая сигару. Сегодня он был облачен в китайский спортивный костюм, крайне вызывающей расцветки образца начала девяностых годов. Бабочка нынче была цвета фуксии. Впрочем, она как-то терялась в павлиньих полосках костюма. — Нет, ну вам, может быть, и нравится обитать в этой шумной, безумной и порядком загазованной Москве! А обо мне вы подумали? Я уже немолодой человек, мне моря хочется, покоя, неспешности, респектабельности, в конце концов! А он вместо того, чтобы исполнять мои и свои мечты сорит деньгами! Ну не дурак ли? Уж извините за прямоту.
— О! Петр Вениаминович! Знаете, а я по вам даже скучал! Прелюбопытная вы личность! Вы же сами меня убеждали, что деньги — это не главное в жизни. Ну, подумаешь, потратил немного, еще заработаю, зато женщине помог! Петр Вениаминович, я же миссию свою выполнил! Я же такой путь проделал, но, как видите, я нашел ту, которую должен был спасти и спас! У меня праздник, а вы мне про какие-то деньги!
Петр Вениаминович воззрился на довольного Ивана с удивлением.
— Вы это что же, всерьез полагаете, что спасли Верочку?
— А разве нет? — Иван воззрился на своего ночного собеседника с не меньшим удивлением.
— Потрясающая наивность!
— Послушайте! — вскричал Иван, он начал раздражаться. — Баба умирала? Умирала! Жить не хотела? Не хотела! А я вернул ей желание жить, дал ей цель и даже, можно сказать, смысл существования. Вы ее видели? Она же живым мертвецом была! А как я появился, у нее хотя бы глаза ожили! Я обеспечил ее жильем, я дал ей денег — у нее больше нет причин желать смерти! И что бы вы мне ни сказали, я спас ее от смерти! Спас! Это факт! Я считаю, что ваш приказ или, пардон, просьбу, как вы это предпочитаете называть, я выполнил и могу быть свободным!
— Когда вы уезжали, Верочка была уже полностью здорова, позвольте поинтересоваться?
— Нет, но она уже пошла на поправку.
— А вдруг ей снова станет хуже?
— Вы мне что же, теперь еще прикажете сиделкой при этой особе стать? Да она мне отвратительна! Да я после общения с ней женщинам верить перестал. Она мне такой урок преподала! Такой она дивный учитель! Уже столько лет прошло, с тех пор как мы расстались, а до сих пор противно! И она мне противна, и сам себе противен, что таким идиотом был: слепым, глухим и упрямым! Не хотел верить в ее лицемерие, в ее подлость. Да была б она обычной алчной сукой, насколько все проще было бы. Тут все предсказуемо, по крайней мере, от таких знаешь чего ждать. А я как вспомню это ее: «Для человека главное духовные ценности, а деньги это мишура, не более того», тошнить начинает. И при этом более корыстной бабы я и не встречал. Мамашей прикрывалась. Да, мамаша, конечно, та еще стерва, хоть о покойниках плохо и не говорят, но у самой Верочки вроде голова-то на плечах была, могла бы ведь ее и ослушаться. Да ни за что не поверю, что можно было под мужиков ложиться по приказанию мамочки, если бы у самой такой склонности и желания не было! И что ж вы хотите, чтобы я рядом с ней сидел, за ручку ее держал и ждал, пока пальчики ее заново обрастут мясом? Работу свою бросить? Жену? Да я и так для нее больше сделал, чем нужно было бы! Никогда не думал, что быть несчастным — это так выгодно! Может, и мне прикинуться? Может, и меня кто-нибудь пожалеет и денег подаст?
Во время этой пламенной тирады Петр Вениаминович задумчиво смотрел на Ивана.
— Не простили ее? — спросил он, когда Иван прервал свою речь и закрыл лицо руками.
— Нет.
— А зачем же тогда помогли? Только потому, что я, так сказать, довлел над вами? Только потому, что вам надлежало исполнить миссию по спасению некоей женщины? Признайтесь, Иван Сергеевич, вам же не хотелось ей помогать. Вы же в глубине души даже обрадовались, застав Верочку в таком плачевном состоянии? А как же! Силы небесные за вас отомстили! Возмездие свершилось!
Иван отнял руки от лица и заглянул в черные колодцы глаз Петра Вениаминовича.
— Вы очень жестокий. Почему вы думаете, что люди такие плохие?
— Просто я слишком хорошо знаю людей, — усмехнулся Петр Вениаминович. — Не могу не признать, вы виртуозно ушли от темы, но все же, я бы хотел услышать ответ на свой вопрос.
— Да ужас я испытал, когда ее увидел, и жалость! Какая уж тут радость! Она, может, и не самая лучшая женщина на свете, но это уж слишком даже для нее. Еще страх испытал — не знал я, как ей помочь. Растерянность. Я вообще такого никогда не видел, только в кадрах кинохроники времен Второй мировой войны, когда концлагеря показывали. Да еще фотографии анорексичек этих сумасшедших в Интернете. Но это ж где-то там, в виртуальном пространстве, а тут перед тобой вполне реальный человек, женщина, с которой ты спал когда-то, ручки эти ее целовал, по которым сейчас строение скелета кисти изучать можно. Да, испугался я до смерти! — Иван принялся тереть лоб, потом продолжил. — Я бы в любом случае постарался ей помочь. Вы тут совершенно не причем. Хотя нет, причем — без вас я бы, разумеется, не узнал о болезни Верочки. Ведь только по вашей, хмм, просьбе я начал ее искать.
— Она же вам столько боли и разочарования принесла, вы же не простили ее, с чего это вдруг помогать-то? Квартиры покупать тем более?
— Что же мне, по-вашему, нужно было спокойно оставить ее умирать?
— Тысячи людей умирают ежедневно. Вы, молодой человек, намерены всех спасать? Как-то раньше не замечал я за вами такой склонности.
— Я что, по-вашему, похож на супермена? Или на супергероя? Я обычный человек. Не в моей компетенции спасать все человечество! Но я не понимаю, как можно не помочь умирающему человеку при условии, что когда-то он был для тебя самым близким на свете.
— Ключевое слово здесь «когда-то», не сейчас же. — Возразил Петр Вениаминович.
— Я вас решительно не понимаю! Вы являетесь ко мне среди ночи, требуете, чтобы я спас какую-то женщину, угрожаете неприятностями, если я вас ослушаюсь. Моя жизнь летит в тартарары, я забрасываю работу, я встречаюсь со своими бывшими любовницами, хотя глаза б мои на них больше не смотрели, и вот, наконец, я нахожу бабу, которая явно нуждается в моей помощи, я ее спасаю, а вы все равно недовольны! Все равно задаете какие-то идиотские вопросы! Вы что, садист? Вам нравится издеваться над людьми? Что вам еще нужно от меня? Я сделал все, как вы просили! Когда же вы, наконец, от меня отстанете?
— Молодой человек! — Петр Вениаминович затянулся сигарой, выдохнул большой клуб дыма, вздохнул устало и совсем уж по-человечески, а не по-мефистофельски как-то. — Вы от меня чего ждали? Чтобы я сейчас сказал, какой вы молодец, по голове погладил и поставил пятерку с плюсом за примерное поведение?
— Да! Именно так! — ответил Иван с вызовом. — Мне кажется, я заслужил пятерку с плюсом.
— Что ж, если для вас так важна моя оценка, я вам ее поставлю. Дайте ваш дневник, Лёвочкин. — Петр Вениаминович ухмыльнулся и снова затянулся сигарой. — Для хорошего человека ничего не жалко. Да, Иван Сергеевич, ты действительно молодец. Ты совершил самоотверженный, благородный поступок. Все равно, что спас утопающего. Буквально бросился в ледяную воду с головой. Пожалуй, пятерки в дневнике тут маловато будет, тут медаль нужна! А если серьезно… Верочку вы, безусловно, спасли, но всего лишь от смерти.
— Что это значит? Теперь я вас совсем не понимаю. Что значит — спас, но только от смерти? Разве этого недостаточно?
— Так-то оно так… Но знаете, если верить моим источникам, умирать эта дама и не собиралась вовсе. Она как раз перед вашим чудесным появлением намеревалась возобновить прием пищи — поняла, что в самом деле может, как это у вас говорят, в ящик сыграть, а это в ее планы не входило. Сообразила, что и хоронить-то ее некому. Ей людского сочувствия хотелось, внимания. А тут! Вся больница ее жалела. Целые делегации к ней ходили, о житье-бытье расспрашивали, самочувствием интересовалась, покушать уговаривали: ложечку за доктора Бурова, ложечку за старшую медсестру Марь Сергеевну, ложечку за санитарку Людочку. Денег вот только никто не давал. Точнее, много не давал, а так — кто по сто рублей, кто по пятьдесят, кто по десять, а скинулись на поддержку бренного существования разнесчастной сироты. А один постоялец из соседней палаты даже работу ей в своей фирме предложил. И неплохую работу — заведовать одним из его книжных магазинов, когда бедненькая Верочка поправится. И зарплату хорошую ей положил: как раз бы хватило, чтобы квартиру снять, ну и на очень скромненькую жизнь. Он, разумеется, обещания своего не сдержал бы, ибо этот его внезапный порыв доброты оказался бы кратковременным. Хотя, безусловно, продавщицей бы он ее взял. И зарабатывала бы она побольше, чем в музее своем. Словом, появились вы, Иван Сергеевич, очень вовремя, аккурат, когда Верочка созрела для воскресения. Вот она, кульминация! Девушка на такое развитие событий и не рассчитывала. Она, конечно, где-то в глубине души осталась барышней романтичной, но прекрасного принца дождаться уж отчаялась. Не было принца в ее сценарии. То есть он был, но где-то уж в совсем дерзких ее мечтах, в которые она сама предпочитала не верить. А тут являетесь вы. Весь такой холеный, красивый, солидный и все такой же благородный как… дурак. Извините. Ну, хорошо, батенька, уговорили, пусть будет рыцарь, а не дурак. — Петр Вениаминович расхохотался. — Истинный рыцарь. Да не переживайте вы так, лица на вас нет. Даже ведь и не спорит! Иван Сергеевич, вы начинаете меня беспокоить. Коньячку?
— Пожалуй, — промямлил Иван.
Два бокала материализовались на трясущемся столике СВ. Иван даже не удивился.
— За вас! — провозгласил Петр Вениаминович и сделал большой глоток.
— А стоит ли за меня-то пить? Опять эта бестия обвела меня вокруг пальца. Чувствую себя последним идиотом.
— А я вот вами восхищаюсь, Иван Сергеевич!
— С чего бы это? — недоверчиво хмыкнул Иван и хлебнул коньяку.
— Многим, безусловно, ваша игра в добрую фею, исполняющую желания в виде малогабаритных квартирок в спальном районе, может показаться верхом глупости, особенно, если учесть обстоятельства: она вам в душу нагадила, пардон, а вы ее, почитай, с того света вытащили путем растраты своих кровных денежек, но я лично придерживаюсь иной точки зрения. Должен признать: вы на самом деле поступили благородно — вы презрели старые обиды, перед вами ни на секунду не встал вопрос «помогать или не помогать», причем я уверен, что даже если бы вы не были близко знакомы со мной, вы все равно не сомневались бы. Вы не пожалели денег. Мне, кстати, молодой человек, весьма по душе перемена отношений в вашем любовном союзе.
— Вы о чем?
— Я имею в виду ваш союз с деньгами.
— И что у меня с деньгами?
— По-моему, вы постепенно начинаете спускать их с пьедестала, на который вы их возвели. Как вы мне сказали? «Ну, подумаешь, потратил немного, еще заработаю, зато я женщине помог!». Заметьте, как в данной фразе расставлены приоритеты. Главное здесь — женщину спас, а вовсе не деньги! Иван Сергеевич, вы можете собой гордиться, вы идете по пути духовного роста и самосовершенствования!
— Так что, я исполнил свою миссию? — с надеждой в голосе спросил Иван и глотнул коньяку.
— А вот на этом витке нашей беседы я вынужден процитировать самого себя. Помните, не далее чем несколько минут назад я сказал вам: «Вы спасли Верочку всего лишь от смерти». Как мы с вами только что выяснили, умирать она и не собиралась, но вы об этом не знали, поэтому будем считать, что все-таки спасли. В любом случае, значительно поспособствовали чудесному выздоровлению нашей пациентки. Но! — Петр Вениаминович торжественно поднял указательный палец. — Но! Вы не позволили ей извлечь урок из этой ситуации, не дали ей чему-то научиться. Верочка что теперь думать будет? То же, собственно, что и всю жизнь думала: «я утлое суденышко, гонимое волнами, от меня ничего не зависит, к каким берегам прибьет, к таким и прибьет, на мель сядет, так на мель, на пороги вынесет, так на пороги. И сама я себя спасти не могу, ну никак не могу. Пусть придет кто-нибудь и спасет. А я же маленькая, беспомощная, чего вы от меня хотите?». Мама за нее всю жизнь думала. Без мамы осталась — тут же ты явился и опять за нее все решил. Не позволил ей самой справиться с трудностями. И еще один аспектик, который не сразу бросается в глаза: как говорится, к гадалке не ходи, очевидно, что Верочка рано или поздно снова попадет в безвыходную ситуацию. И что же вы, опять кинетесь ее спасать? Эдак у вас ни денег, ни сил на эту бабенку не хватит.
— Надеюсь, что я больше никогда ее не увижу.
— К сожалению, существует очень большая вероятность, что она сама вас найдет. И не отвертитесь. И она знает это. Вы же добрый! А для нее это означает безотказность. Вот так-то, батенька, и добро имеет свою оборотную, теневую, так сказать, сторону. Но не казните себя, вы все сделали правильно. — На лице Петра Вениаминовича появилась улыбка. Открытая, бесхитростная. Просто улыбка. Иван на этом опереточном лице такой еще не видел.
— Петр Вениаминович, я выполнил вашу просьбу? Я спас женщину?
Улыбка исчезла.
— Да… и нет… Скорее да…, — Петр Вениаминович изобразил задумчивость. — А может статься, что спасли да не ту. И так бывает. И сдается мне, что сейчас именно такой случай.
— То есть, насколько я правильно понял, вы не отстанете от меня, пока я не разыщу всех своих баб? — закричал Иван.
— Ну, всех-то не надо! — развеселился Петр Вениаминович. — Вы же, Иван Сергеевич, всех-то и не помните, а некоторых и не видели ни разу при свете дня. Экий вы проказник! Надо ставить перед собой реальные цели. Нас интересуют только те, кого вы любили, или вам казалось, что вы их любили. Так что, голубчик, возвращение в Итаку откладывается на неопределенное время. Экспедиция по памятным местам продолжается! Одиссея ждут новые приключения!
— Но никого я не любил больше, никого!
— Это вам виднее! — Петр Вениаминович улыбнулся загадочно. — Засим позвольте откланяться!
— Но послушайте! — взвыл Иван, а его ночной гость судорожно допил свой коньяк и исчез. — К черту! Надоело! — Иван швырнул бокал в стену вагона.
Наутро он нашел осколок стекла на полу. Да кто же такой этот Петр Вениаминович?
Глава двадцать седьмая
Никого он больше не любил. Никого! Это совершенно точно. Говорят, сердцу не прикажешь. Какая глупость! Сердцу можно приказать! Еще как! Сказал сам себе — не любить больше, и не любил! Ну, разве что пару раз влюблялся, в жену свою будущую да в Лизочку Потапову. Только влюблялся, увлекался, но не любил. А есть ли она, любовь-то? Весь жизненный путь Ивана доказывал, что она не существует, что любовь не более чем гениальная выдумка человечества, передаваемая в наследство от поколения к поколению. Зачем нужна эта коллективная фантазия? Да все просто! Чтобы в жизни было все непросто. Простота — она ведь хуже воровства и губительна для человека разумного. Нужно же чем-то от животных отличаться: у них — инстинкт размножения, у нас — ЛЮБОВЬ! Это многое объясняет и оправдывает. А какая пища для утомленной скукой и трудом души! Все эти томления, терзания, сомнения, восторги, страсти, страдания — как они разнообразят жизнь! Человечество давно бы вымерло от всепоглощающей хандры, если бы не любовь! Только вот любовь не более чем фантом. Нет ее, нет. В основе этого мифического чувства всегда лежит либо порок, либо корысть. И не разубеждайте! Кто думает иначе — не более чем наивный близорукий болван в розовых очках. Что они называют любовью? Изводят близких людей придирками, ревностью, чего-то требуют постоянно, и не дай бог этот самый близкий человек не будет соответствовать придуманному ими образу, его ждет жесткая дрессировка, перевоспитание, грубая работа резцом по высеканию из груды несовершенного материала некоего идеала. Да еще и удивляются, что материал оказывает сопротивление — не хочет он меняться, не желает он быть идеалом! И эти мучения называются любовью? А сколько преступлений совершается во имя любви? Во имя любви преследуют свой объект страсти и превращают его самого в напуганное существо с ярко-выраженной манией преследования, а его жизнь в кошмар. Во имя любви грабят и убивают. Это любовь? Как там сказал кто-то умный? Любовь — это отсроченное предательство. Так и есть. Нет уж, увольте! Не нужно ему такого счастья! Так что, несмотря на полупрозрачные намеки Петра Вениаминовича, Иван считал свою миссию выполненной — он посетил всех женщин, которые были ему дороги, и некоторым он действительно помог. Все, финиш! Пора возвращаться к привычной жизни…
Таким размышлениям предавался Иван, едучи с вокзала домой.
Он долго звонил в дверь своей квартиры. Ему никто так и не открыл. Пришлось воспользоваться своими ключами. Иван начал беспокоиться — жена должна была быть дома, почему же не открыла? Вчера они созванивались — она ничего не говорила о своем возможном отсутствии. Может быть, в ванной? В квартире было темно и оглушающее тихо. Ни звука. Иван зажег свет.
— Аня! — закричал он. — Ты дома?
Ответа он не получил. Снял куртку и ботинки, прошелся по комнатам — жены нигде не было. Где же она? Иван растерянно опустился на кухонный стул. На столе он увидел листок офисной бумаги формата А4, исписанный мелким, стремительным почерком жены. Что это? А вдруг прощальная записка? Нет, он не будет читать это сейчас. Отчего-то было страшно. Иван схватился за телефон. Набрал номер Ани. Абонент недоступен. Иван снова взглянул на записку… Нет, не сейчас… Он направился в ванную. Половина Аниных баночек-скляночек исчезла. Значит, все же прощальная записка. Ожесточенно почистил зубы, умылся, залез под душ. Долго стоял под струями воды, не вполне понимая, где находится и что делает. Очнулся. Вылез из-под душа. Вытерся полотенцем. Накинул домашнюю свою клетчатую рубашку. Направился к Аниному шкафу в спальне — он был пуст, лишь какой-то забытый поясочек змеился на одной из полок. Ушла! Все-таки ушла? Но почему? Кинулся на кухню — читать письмо. Только сейчас заметил — рядом с листком лежат ключи от Аниной машины.
«Ваня! Прости, но я ушла. Ты, наверное, уже заметил это. И, наверное, терзаешься теперь вопросом: почему эта сука так со мной поступила? У нее ведь все было: жила в роскоши, ни в чем не нуждалась. Нуждалась, Ванечка, нуждалась. Еще как! Мне не хватало твоей теплоты, ласки, участия. Внимания ко мне, что ли… Ты ведь обо мне мало что знаешь: чем я живу, о чем мечтаю, что умею, чем увлекаюсь. Мне хочется верить, что у тебя просто не было времени, чтобы поинтересоваться всем этим, но я догадываюсь, что у тебя и желания не было. Я не хотела тебя упрекать, но, извини, так получается… Украшения, машины, путешествия, наряды, деньги — это все замечательно и для многих является пределом мечтаний, а я… Я, видимо, слишком требовательная, слишком капризная — хотела, чтобы меня еще и любили, пусть не так сильно, как я сама, но хоть чуть-чуть. Я ведь, наивная, провинциальная дурочка, почему-то считала, что ты женился на мне по любви, так же как и я выходила замуж по любви. Как я тогда радовалась счастливому совпадению — мужчина, которого я полюбила, не только красив и умен, но еще и богат. Ну, бывает же такое! Да, теперь я знаю, что такое, безусловно, бывает, но лишь в сказках. А в жизни… Это ведь была сделка? Так, Ваня? Ты мне статус замужней дамы, деньги, беззаботное с твоей точки зрения существование, а я тебе свою молодость и красоту, комфортный быт и заботу о твоем душевном покое. Поздно я это поняла. Дура, дура, дура! Твоя единственная любовь — это деньги! А я-то размечталась о нормальной семье, о детях! А я для тебя оказалась всего лишь удобной, красивой игрушкой, которую ты купил. Я догадывалась, разумеется. Я идиотка, конечно, но не до такой же степени. Догадывалась, но продолжала надеяться, что ты меня полюбишь… А вчера… Вчера я узнала, что ты мне изменяешь. Мир не без добрых людей — донесли, что ты встречаешься с какой-то журналисткой и снимаешь для нее квартиру. Даже осуждать тебя не могу. Как осуждать тебя за неверность, если я для тебя всего лишь вещь. Как можно хранить верность вещи? Но для себя-то я не вещь, я личность! И мне больно, невыносимо больно!
Вчера я сидела на этом самом стуле, на котором наверняка сейчас сидишь ты. Передо мной была горсть таблеток. Я хотела выпить ее и умереть, чтобы этот кошмар, в который превратилась моя, так называемая роскошная жизнь, наконец, закончился. Не буду лукавить — была у меня еще такая фантазия: ты возвращаешься, видишь мое бездыханное тело, и тебе становится стыдно, ты понимаешь, что живешь неправильно, что нужно научиться ценить не только деньги, но и людей, отношения между людьми, потому что вот это и есть главное, это и есть суть! Боже, мне так хотелось, чтобы ты ворвался в квартиру и спас меня! Сказал, что любишь, обнял бы меня и утешил! Но ты… тебя никогда нет рядом! И я никогда не знаю, где ты! Ты даже не позвонил в тот момент, когда я очень-очень нуждалась в твоей помощи! Да что там в помощи! Меня спасать нужно было! Я ведь и в самом деле умереть хотела! Я уже выпила штук пять таблеток, меня уже начало клонить в сон, и я пошла в ванную умыться, чтобы немного взбодриться и продолжить глотать таблетки. Я взглянула на себя в зеркало и удивилась — как же я еще молода и как я красива! Когда ты несчастен, ты забываешь о таких вещах. А я вообще давно уже начала казаться себе старой и уродливой. Так вот, я посмотрела на себя в зеркало и подумала: какого черта! Какого черта губить свою жизнь из-за одного мужика, который и виноват-то только в том, что не оправдал твоих ожиданий! У меня же все еще впереди! И тогда я промыла желудок, выпила чаю и решила, что уйду от тебя и начну жизнь заново. И пусть я лучше буду бедной, но не буду больше товаром. Я буду человеком. Я буду женщиной. Личностью.
Я забрала свою одежду и некоторые драгоценности — должно же хоть что-то напоминать мне о мужчине, которого я люблю. Самые дорогие я оставила в сейфе. Еще взяла свой ноутбук и немного денег — мне нужно на что-то жить первое время. Надеюсь, ты меня извинишь за это. Машину я оставляю. Не ищи меня. Когда я немного успокоюсь, я найду тебя сама, тогда мы уже уладим все формальности с нашим разводом. Не беспокойся — раздела имущества я требовать не буду. Все, что у тебя есть, ты заработал сам, и мне кажется, было бы несправедливо и непорядочно пытаться у тебя что-то отобрать.
Ваня, я тебя очень люблю и очень тебе благодарна за все, что ты для меня сделал. И за хорошее, и за плохое. Буду за тебя молиться. Очень хочу, чтобы ты был счастлив. И вот еще что… Ваня, я не знаю когда и при каких обстоятельствах ты свернул со своего пути, но желаю тебе на него вернуться, потому что сейчас ты проживаешь чью-то чужую жизнь — не свою. Возможно, я заблуждаюсь… Не знаю… Но я не верю, что деньги для тебя главное. Ты лучше, чем хочешь казаться. Просто когда-то, видимо, что-то сломило тебя, и ты свернул на какую-то тропинку, которая увела тебя от твоего истинного предназначения. Когда мы гостили у твоей мамы, я окончательно в этом убедилась.
Целую тебя всего. Нежно-нежно. В последний раз. Жаль…».
Иван отодвинул от себя листок. Обхватил голову руками.
— Какой же я дурак! — вскричал он беззвучно. — Возился с этими бывшими своими, прошлое ворошил, сколько сил потратил, нервов, денег, в конце концов! А бедная девочка в это время умирала от тоски и отчаянья! Каким же я был слепцом. Не замечал ничего! Под самым моим носом была женщина, которую нужно было спасать, а я ничего не видел! Думал, даю ей деньги, в путешествия вожу, а больше ей ничего и не нужно! Пока я там для этой блаженной квартиры покупал, она тут таблетки глотала! А я-то еще гордился собой, думал, что спас женщину, проявил чудеса изобретательности и смекалки! Невиданную щедрость проявил и благородство! А в это самое время… Аня, Аня… Куда же ты подалась, у тебя же нет родственников в этом городе. Я могу только надеяться, что, по крайней мере, есть настоящие друзья. Как же тебя найти? Или не искать, как ты просишь? Что же делать-то теперь? Опять тупик! Боже! Как же мне все это надоело! А может, и лучше жить одному — решать только свои проблемы. Избавиться, наконец, от этой обузы в виде баб. Ну, зачем мне все это? Устал я, как же я устал!
Ивану после продолжительных каникул надлежало сегодня выйти на службу, но он не пошел — не смог. Вместо этого отправился бесцельно бродить по московским улицам. Размышлял о своей непутевой жизни и везде искал глазами свою Аню: а вдруг она промелькнет где-нибудь в пестрой толпе. Глупо, очень глупо! По-мальчишески. Совсем как тогда, в юности, когда он бродил по улочкам родного городка, изнемогая от желания случайно увидеть пышненькую нимфоманку Светочку… Он заходил в кофейни и даже спустился в метро. Он еще помнил байки студенческих времен: говорили, будто в метро можно встретить даже тех, кого в собственном городе лет сто не видел. Вот Иван и вглядывался в людей, едущих на эскалаторе в противоположную сторону. Ани среди них не было. Только сейчас она стала для него по-настоящему дорога. Так и бывает: ценим только то, что потеряли. Как он хотел взять Аню за руку, попросить прощения и отвести домой. Или фантазировал, что он вернулся домой, а она ждет его там, встретит его у порога, выдохнет: «я так соскучилась» и поцелует в щеку. Как же так получилось? Почему по одной корыстной, лицемерной женщине он начал судить всех? С чего он решил, что женщине от мужчины нужны только деньги? Деньги, безусловно, тоже нужны, но ведь не только они. Не только. Ивану вдруг пришла в голову мысль, которая раньше почему-то его не посещала — таким пренебрежительным отношением к слабому полу он унижает в первую очередь себя. Это что же получается? Он, Иван, тридцати девяти лет от роду, умный, красивый, можно даже сказать, добрый и порядочный, без денег ничего не стоит и ни малейшего интереса для окружающих не представляет? Но это же чушь! Или не чушь? Кому он нужен без своих денег? Вот наденет он, например, дешевый костюмишко с рынка, туфли из кожзама, пойдет в кафе. Обратит там на него внимание какая-нибудь красавица? Это вряд ли. Разве что увядающая дамочка с отсутствующей пару десятилетий личной жизнью обратит на него свой взор — но ей-то уже не до жиру, лишь бы хоть какого-нибудь мужичишку заполучить, какие уж тут капризы. Сейчас вон юные барышни смотрят на него заинтересованно — чуют, видимо, запах его банковского счета. Да что это он, в самом деле! Что это он как себя принижает? Да любая счастлива будет разделить с ним ложе и жизнь! Разве нет? Или нет? Если так, почему же они бегут от него — успешного, богатого и красивого? Почему они от него бегут, а если даже не бегут, то непременно предают? Что в нем не так? Или это со всеми бабами что-то не так? Не угодишь на них. Сами не знают, чего хотят. А нам, мужикам, что же зайцами перед ними скакать? Да хоть что для них сделай, все равно останутся недовольными. Если им много внимания уделяешь, они злятся, что ты мало зарабатываешь. А как много зарабатывать, если ты все время подле их юбки прозябаешь? Если ты много работаешь и много зарабатываешь, они вопят, что ты совсем не уделяешь им внимания и от этого они очень страдают. Если ты им верен, они говорят, что им скучно с таким правильным. Если ты им изменяешь, им уже не скучно, зато очень-очень больно. И что делать? Вот почему ушла эта сучка? Ну чего ей не хватало? Да миллионы женщин мечтают о такой жизни, как у нее. Напридумывала себе бог знает чего, нафантазировала. Какая любовь? Не было речи ни о какой любви. Он был с ней честен. Если он комплиментами ее заваливал и подарками, это ведь не значит, что он ее любит. Он ее элементарно покупал. Неужели это не было очевидно? А то, что она в него влюбилась по глупости, так это ведь только ее проблемы. Он же не просил в него влюбляться. Он был с ней откровенен, и было в высшей степени глупо требовать от него то, на что он не способен. На любовь он после всего пережитого точно не способен. Стоп! Это письмо — фальшивка! В нем нет ни слова правды! Это просто неубедительная попытка скрыть истинные мотивы своего поступка: от таких, как Иван, состоятельных и состоявшихся, не уходят добровольно просто на улицу, начинать новую жизнь! От таких, как он, уходят только к еще более состоятельным и состоявшимся. Вот оно! Аня нашла другого! Так же, как Верочка! Она точно такая же похотливая, алчная сука! То же мне, придумала: мне ничего от тебя не нужно, я не буду требовать раздела имущества! Конечно, зачем ей эти крохи! Она наверняка отхватила себе более серьезный кус. Любовь! Да не любила она его никогда! С ее стороны это тоже была сделка! Но как в таком признаться? Это же так приземленно, так неблагородно! Вот и придумала красивую сказочку. Таблетки еще приплела, самоубийство! Нет, порядочных, бескорыстных женщин не существует! Да ну их всех! Он пока один поживет… А для удовлетворения физиологических потребностей есть специальные женщины, которые не будут ждать от него клятв в вечной любви, а деньги будут требовать строго по заранее оговоренному прайсу.
Иван вернулся домой. Квартира снова оглушила его темной тишиной и отсутствием запахов. Не пахло здесь больше ни едой, ни духами, ни шампунями, ни пудрой. Разве что пылью немного — нужно срочно вызвать домработницу. Иван снова затосковал по Ане. Он перечитал письмо и устыдился своих недавних дурных мыслей по поводу жены. Нет, не сбежала она ни к какому олигарху! Просто ушла от него. Просто ей действительно было плохо. Бедная девочка! Надо ее отыскать! Черт! А ведь он не знает, как это сделать. Он был знаком с некоторыми ее подругами, только вот номеров их телефонов он никогда не записывал. Не было у него и их адресов. Так что искать жену через подруг представлялось занятием бесперспективным, ибо их самих пришлось бы разыскать для начала. Родители? У Ани была только мать. Проживала она в Нижнем Новгороде, и Ане так ни разу и не удалось заманить мужа проведать свою матушку. Так что адреса своей тещи Иван тоже не знал. Впрочем, несколько раз она наведывалась в столицу сама. Так что Иван имел честь пообщаться со своей новой родственницей. Это была весьма и весьма приятная дама: все еще красивая, высокая, стройная, элегантная, интеллигентная и ненавязчивая. О существовании тещи Иван вспоминал только в момент ее непосредственного возникновения на пороге его квартиры. Она никогда не болела, а если и болела, до сведения Ивана эти прискорбные факты не доводились. В материальной поддержке она не нуждалась — трудилась главным бухгалтером на одном из крупных предприятий Нижнего. К тому же, вроде как, у нее имелась довольно стабильная личная жизнь. И она была всего лет на восемь старше своего зятя. Идеальная теща. О такой можно только мечтать. Только вот координаты этой чудесной женщины? Как-то раньше в них не было необходимости. И все же Иван принялся усердно изучать адресную книгу в своем телефоне. А вдруг? Вот он! Есть! «Елена Васильевна. Дом». Звонить? А вдруг она еще не знает, что Аня ушла от меня? Испугается. А вдруг она уже знает и не захочет разговаривать с обидчиком своей дочери? Да что ж такое! Да почему я волнуюсь, как первоклассник! Я же деловой человек и боюсь позвонить собственной теще!
Иван решительно набрал номер.
— Слушаю! — ответил ему низкий, какой-то волнующий даже, голос Елены Васильевны.
— Лена, здравствуй, это Иван. — Они давно уже договорились с тещей, что будут на «ты» из-за небольшой разницы в возрасте.
— Ваня? Привет! Что-то случилось?
— Почему сразу случилось? — Иван отметил, что голос у нее немного встревоженный, но не враждебный.
— Ты мне раньше никогда не звонил.
— Да, случилось, ты права. Аня ушла от меня.
— Да, я знаю, Анечка мне все рассказала.
— И ты еще спрашиваешь меня, что случилось? По-твоему, уход жены — это рядовое событие в жизни мужчины?
— Да, извини, ты прав, это я от неожиданности. Не думала, что ты будешь мне звонить. Хорошо, сформулирую вопрос по-другому: чего тебе нужно от меня?
— Аня не у вас?
— Нет.
— Почему я должен тебе верить?
— Ты можешь мне не верить. Никто тебя не заставляет, но ее здесь нет.
— Она в Москве?
— Ваня, я очень хорошо к тебе отношусь, и я, если честно, была против того, чтобы она от тебя уходила, потому что ее причины не показались мне достаточно убедительными, но я тебе не скажу, где Аня. Она меня очень просила, и я ей обещала. Извини, ничем не могу помочь.
— Лена, пойми, мне очень нужно ее найти.
— Зачем?
— Хотя бы поговорить, все выяснить. И…, — Иван замялся, — она нужна мне. Я беспокоюсь за нее.
— Ваня, дай ей побыть одной, разобраться в себе. Девочка сейчас ищет работу. Она ведь жуткая карьеристка. Очень непросто было ей в четырех стенах сидеть. Изнывала она от тоски.
— Но я ведь не запрещал ей работать! Я и не знал, что для нее это так важно. Я же думал, ей нравится быть домохозяйкой, нравится собой заниматься, по салонам ходить, по магазинам. Разве не об этом мечтают девушки, которые выходят замуж за состоятельных мужчин?
— Все девушки разные, Ваня.
— А где она живет? Может быть, ей деньги нужны? Я мог бы заплатить за аренду квартиры.
— Не примет она сейчас от тебя ничего. Аня, она такая, упрямая, если уж чего-то надумала, своего добьется. Сейчас она надумала пробиваться в жизни сама.
— Лена, передай ей, пусть хоть машину заберет. Это же ее машина, я ей на день рождения подарил. Она на нее оформлена. Мне-то она зачем? Я ключи у консьержки оставлю, пусть она заберет. А может, дашь ее телефон?
— Не могу, я ей обещала. Насчет машины я ей передам. И знаешь еще что… Не денег она от тебя ждет, а чего-то другого. Как раз никак не связанного с материальными ценностями. Какого-то поступка. Выбора. Я сама ничего толком не знаю, догадываюсь только, интуиция мне подсказывает. Что-то вроде алых парусов для Ассоли. Что-то такое, что показало бы ей, что она для тебя дороже денег. Даже не просто она, а вообще человек, личность ценнее, чем любые дензнаки. Она все смеялась, говорила, что тебе давно бы пора произвести внутреннюю маленькую революцию по освобождению себя от власти денег. Не знаю, если тебе и в самом деле дорога Анечка, если ты действительно хочешь ее вернуть, может, эта информация тебе и поможет. А вдруг она поможет тебе независимо от того, хочешь ты вернуть Анечку или нет… Ты мне звони, если будет такая необходимость. Ты очень хороший человек. Может быть, только немного запутавшийся. Да все мы такие, что уж говорить. — Елена Васильевна тихо засмеялась…
После разговора с тещей Ивану почему-то стало легче — предполагаемый враг оказался союзником. Да и вообще приятно, когда тебя хвалят. Душевная женщина, очень душевная. Может, и зря он на малолетках-то зациклился — взрослые женщины — они мудрее, они лучше тебя понимают, меньше глупостей совершают и легче прощают твои глупости. Иван позвонил и своей матери, все ей рассказал. Мать даже не удивилась, жестко сказала:
— Ты не замечал очевидного — все к тому и шло: Аня чувствовала себя очень одинокой и совсем не нужной тебе, а ты даже не потрудился развеять эти сомнения. Еще она ребенка хотела, а ты от нее деньгами да подарками откупался. А ей все эти бриллианты и не нужны были вовсе. Она бы самое дорогое свое кольцо с радостью бы обменяла на два часа простого разговора с тобой, только чтобы ты на телефон не отвлекался. Вот так-то. У вас любовный треугольник. Классический. Она любит тебя, а ты любишь деньги и совсем не любишь ее. Конечно, бедная девочка не выдержала и сбежала. Она ждет одного, а ты даешь ей совсем другое. К тому же, Анечка ведь очень умненькая и амбициозная девушка, думаешь, ей легко быть всего лишь твоей тенью? Всего лишь твоей женой?
— Всего лишь?
— Всего лишь, Ваня, всего лишь! Что это за почетное звание — жена такого-то?
— Да на протяжении веков этого звания для женщины было вполне достаточно.
— Бог мой, мы же не в средневековье живем! Не при Домострое! Времена изменились, женщины изменились! Ты совершенно не знал свою жену. Совершенно. Как так можно, я не понимаю? Она что у тебя там, в качестве декорации что ли жила, предмета интерьера? Ты, похоже, обращал на нее внимания не больше, чем на шкаф в прихожей. Пардон, в холле, теперь у вас так это называется?
— Мама, ну ты прямым текстом скажи, что во всем виноват только я, и добей меня окончательно!
— Не сгущай краски… Кстати, о красках! Александр Васильевич говорит, что лучшее лекарство от душевных невзгод — лист бумаги, кисти и краски. Живопись дает ощущение гармонии с собой и с окружающим миром.
— Мама! Не начинай! Живопись не для меня!
— Как знаешь. — Мать, похоже, надулась. Помолчала и продолжила, — она вернется, Ваня. А если даже и не вернется, жизнь все равно продолжается. Соверши какой-нибудь подвиг ради нее. Ах, как бы мне хотелось, чтобы Александр Васильевич совершил какой-нибудь подвиг ради меня! Например, посуду помыл. Но нет ведь! Не моет, зараза!
— Мама, какая же ты у меня романтическая старушка. — Иван рассмеялся.
Как же было неуютно спать в пустой постели. Хоть бы Петр Вениаминович, что ли, явился со своей вонючей сигарой. Может, что и присоветовал бы. Так ведь нет, как обычно — нужен он, а нет его. Утром Иван отправился на работу — предаваться главной страсти своей жизни — зарабатыванию денег. Этот процесс его успокаивал и наполнял смыслом существование. Хотя… сейчас он уже начал сомневаться, что в этом есть хоть какой-то смысл.
Глава двадцать восьмая
Иван всю жизнь считал себя сугубо провинциальным молодым человеком, казалось ему, что столица — не для него. Любил он губернскую размеренность, неспешность, покой, свободу перемещений, и даже то, что все в небольшом городе друг друга знают, ему нравилось — ибо много дел удавалось разрешить успешно именно благодаря связям. Едучи в Москву, был он полон тревог: а вдруг не приживется в этом мегаполисе, не верящем слезам. И пусть в отличие тысяч других провинциалов, отправляющихся покорять столицу, ехал он не в неизвестность, а на вполне определенное, неплохое, к тому же, место службы да еще и в заранее приготовленную съемную квартиру, все равно волновался. Волновался он, безусловно, не зря — ибо свой профессионализм ему пришлось заново доказывать, как в двадцать лет, когда только начинал он свою трудовую карьеру. Это у себя там, в областном центре, был он чуть ли не первым парнем, а здесь таких молодых и рьяных пруд пруди. Иван справился, разумеется. Через два года после переезда собрал он все сбережения, продал первую свою квартирку, которая так нелегко ему досталась, да и купил жилплощадь в центре столицы. Не такую большую, как хотелось бы, но все же: новых своих приятелей-снобов приглашать было не стыдно. С личной своей жизнью он по совету все тех же циничных приятелей поступил просто: раз в год на московском автосалоне выбирал себе подружку из моделей, рекламирующих авто, и встречался с ней до следующего салона. А что? Красиво, статусно, дорого и легко. А когда девушка надоедала либо, наоборот, Иван чувствовал, что начинает к ней привязываться: прощальный тур к голубым морям и золотым пескам, бриллиантовые серьги в подарок — и «до свиданья». Точнее, «прощай на веки». Девушкам, может, и не нравилось такое скоропостижное завершение романов, но Иван успокаивал себя тем, что был с ними честен: любви до гроба не обещал, сразу предполагал лишь краткосрочную интрижку, от которой сам намерен получить порцию сексуальных радостей, а партнерша щедрое денежное вознаграждение. Разумеется, он не был столь прямолинеен в обозначении своих пожеланий, но смысл был примерно таков, и Иван очень надеялся, что его понимали правильно. И все же разрывы часто бывали болезненными и даже скандальными. Иван иногда подумывал о каких-то более длительных, серьезных отношениях, наполненных не только плотским и товарно-денежным содержанием, а даже и чем-то вроде духовной близости, но такого рода союзов он страшился и всячески старался избегать. Аню он встретил на том же автосалоне. В тот день много чего совпало. И девушка эта была как-то особенно хороша или даже, скорее, мила, и на челе ее была ярко выраженная печать интеллекта, и видно было, что пришла она сюда не кавалеров богатых цеплять, а всего лишь работать, да и сам Иван к моменту их встречи, что называется, созрел: был измучен одиночеством и жаждал тепла и поддержки. Естественно, эту девушку пришлось завоевывать — такие без боя не сдаются. Они ведь не денег ищут, а любви. Любви он ей дать не мог, но был достаточно хитер и умел создать иллюзию. Впрочем, после третьего свидания он действительно влюбился, так что и играть ничего не пришлось. Бриллианты Аня принимала крайне неохотно, но все же принимала, и когда через месяц ухаживаний, свиданий в лучших ресторанах и идиллических прогулок по ночным переулкам, как писали в старинных романах, свершилась их любовь, Иван решил, что ему удалось купить и эту девочку, а Аня решила, что нашла свою половинку — лучшего мужчину на свете. Через полгода Аня из своей съемной квартирки, где она обитала с подругой, окончательно перебралась к Ивану. Собственно, она и раньше оставалась у него, но вещи ее хранились в скромной хрущевке в Чертаново. Она жила на два дома. С каждым днем расставаться им было все сложнее. Так что однажды Иван в порыве страсти предложил переехать к нему. Потом, конечно, раскаялся, но было уже поздно — Аня приняла его предложение. Оказалось, что жить с этой девушкой очень комфортно: она хорошо вела дом, была спокойна, весела, некапризна, умна и нетребовательна. И аппетиты у Ани по сравнению с бывшими подружками Ивана были весьма умеренные. Влюбленность и страсть прошли, для Ивана они так и не переросли в более серьезное чувство, но ему было хорошо с Аней: жить с ней было гораздо приятнее, чем одному. Наверное, не зря люди испокон веков стремились создавать семьи. Словом, через год Иван пропустил автосалон — от добра, как говорится, добра не ищут. Через полтора года он решил жениться на Ане. А почему бы и нет? Таким образом, он будто утвердился в своем статусе настоящего москвича — теперь у него здесь был свой дом и своя семья. Годы в бизнесе многому научили Ивана — он стал осторожен и предусмотрителен, поэтому перед свадьбой они с будущей женой подписали брачный контракт. Составлен он был таким образом, чтобы Иван не понес ощутимых потерь после развода: каждый из супругов оставался при своем имуществе, денежные средства также оставались у своих владельцев. Подарки, даже самые ценные, дарителю не возвращались. Так что по этому контракту Ане следовало бы выманить у Ивана как можно больше подарков — ибо, после того как брак распадется, ей ничего, кроме них, не достанется. Учитывая это обстоятельство, Иван включил в контракт пункт, согласно которому он обязался в случае развода обеспечить свою бывшую жену жильем, площадью не менее шестидесяти квадратных метров, в Москве или в любом другом городе России по выбору экс-супруги. Аня на этом пункте не настаивала, ибо она вообще отнеслась к брачному контракту в высшей степени легкомысленно, но Иван все-таки его внес, поскольку посчитал, что было бы крайне непорядочно поступить иначе.
Торжество было скромным: на нем присутствовали лишь молодожены, их матери (отец Ивана к тому времени уже умер) и ближайшие друзья. Ане, конечно, хотелось настоящую свадьбу — с белым платьем, с фатой, с подружками невесты, с толпой гостей, но когда будущий супруг рассказал ей трагическую историю первого своего брака, упустив, разумеется, некоторые подробности, особенно сюжетец с получением квартиры, она не стала капризничать и отказалась от своих грандиозных планов. После церемонии бракосочетания молодожены отбыли в свадебное путешествие в Париж, а потом начались семейные будни, полные тихих радостей, забот, хлопот, маленьких удовольствий. Будни без ярких событий, но и без особых потрясений. После того, как Аня стала законной супругой Ивана, он попросил ее оставить работу, поскольку теперь, с его точки зрения, в ней не было необходимости — он мог легко обеспечить их обоих. Аня сначала было отказалась, сказав, что дело тут не только в деньгах, но и в интересе, а потом на службе у нее случились какие-то неприятности, и она все-таки ушла. Стала состоятельной домохозяйкой с кучей денег и свободного времени. Ивану казалось, что она была счастлива и вполне довольна жизнью, но увы… Оказалось, он замечал лишь то, что хотел видеть…
Он привык жить один. Хотел было по своему обыкновению окунуться в пучину разврата, дабы развеять боль потери, но вдруг понял, что случайные связи приносят ему некоторое удовлетворение, но не удовольствие. Отчего-то ему стало это ненужным. Утонул в работе. Весь свой пыл туда направил, всю творческую энергию. Провернул несколько занятных комбинаций, заключил несколько смелых сделок и победил — заработал очень приличную сумму. И снова испытал лишь некоторое удовлетворение, но не удовольствие. И на что ему тратить эти деньги? Однажды прожил неделю на тысячу рублей — как пенсионер какой-то: в рестораны не ходил и даже продуктов в супермаркете почти не покупал, питался какими-то подсохшими сырами из холодильника — аппетита не было. Он даже пошутил горько, что начинает напоминать себе Верочку с ее театральной анорексией. Только у Ивана необходимости в таком представлении не было — кто ж его пожалеет-то, такого состоятельного и успешного. В лучшем случае пожмут плечами и усмехнутся: «у богатых свои причуды». Собственно, и семейная драма Ивана не вызвала у окружающих должного сочувствия: приятели оптимистично заявили: «Ванька, ну че ты паришься? Ты за свои бабки любую телку купишь. Анька она, конечно, красавица была, ну так ведь таких красавиц в Москве как грязи. Только выбирай!». А проблема Ваньки как раз в том и заключалась, что покупать он никого больше не хотел. Душу его бередили какие-то юношеские совсем мечты, чтобы нашелся кто-то, кто любил бы его таким, какой есть: хоть бедного, хоть богатого; хоть здорового, хоть больного; хоть доброго, хоть злого. Чтоб любили его, Ивана, не за что-то и даже не вопреки, а просто любили. Так его мать только, наверное, и любит. А может, Анька еще. Только если она его так любит, отчего же ушла? А скорее всего, никто его не любит. Не нужен он никому. Да и себе, похоже, тоже. Покупать-то любовь он больше не хотел, только по-другому уже не умел. Вот и Лесе приобрел квартирку намного больше, чем планировал. Послушал в телефонной трубке ее счастливый визг. И снова получил некоторое удовлетворение, но не удовольствие. Верочке еще денег выслал. Ей, правда, звонить не стал. Так, пофантазировал просто, как она обрадовалась. Матери отправил денег и строго-настрого наказал, чтобы она тратила их без зазрения совести, чтобы спустила все до последней копейки на всякие приятные глупости и ни о чем не жалела. Деньги — они ведь для того и нужны. И вообще, пора бы ей уж отправиться попутешествовать, мир посмотреть. Вот пускай хватает в охапку Александра Васильевича и едет. А мать взяла да и поехала. Она-то только сейчас и начала ощущать вкус жизни. Отправились они с Александром Васильевичем в Италию. Он там еще с отрочества мечтал побывать — ведь именно в этой стране проходили обучение многие русские художники. Старички радовались, как дети. А вот Иван радоваться, похоже, разучился. Совсем уж было собрался некогда вожделенный домик на Лазурном берегу прикупить или хотя бы в Подмосковье, но тут на него такая хандра навалилась, что и не совладать. Тут не только домик подыскивать, тут на улицу лишний раз выходить не хотелось. Все размышлял он о том, что такое счастье? И почему у него, у Ивана, вроде бы все есть, а вот счастья нету. И к чему все эти деньги, если даже нет желания их тратить. Хоть на трамвае катайся, в надежде заполучить счастливый билетик. Хотя кто его знает, какие сейчас билетики в трамваях — Иван уже и не помнил, когда в последний раз пользовался наземным общественным транспортом. А может, прав Петр Вениаминович, и Аня права — как-то не так он живет или действительно не свою жизнь проживает. Когда же он со своего пути-то свернул. И что это за путь такой — его?
А тут и Иваново сорокалетие подоспело. В середине июня жара стояла жуткая: Москва совсем взопрела, разомлела, испеклась. Отмечать день рождения Иван не собирался — чего людям настроение портить своей унылой физиономией? А потом решил, что с ума сойдет, если в этот день останется в полном одиночестве. Собрались с приятелями в кондиционированном ресторане. И разговоров-то за столом только и было, что о жаре да о делах, про именинника и не вспоминали почти. Все по парам были, один Иван бобылем. И пусть знал он, что Серега, например, жене своей изменяет, что Влад с какой-то случайной знакомой заявился, а Гоша привел одну из троих своих постоянных подружек, все равно завидовал — у друзей хоть кто-то есть, а он, Иван, один-одинешенек. Сидели недолго, сдержанно поздравили, пожелали всего наилучшего, вручили подарки, поели, да и разошлись… Подарков был целый багажник Ивановой служебной машины: коллеги уважили, друзья. Сам бы их Иван до квартиры донести не смог бы, спасибо водителю — помог. Вроде, ко всему можно привыкнуть, только вот с тишиной дома, в котором тебя никто не ждет, смириться сложно. А вот бы сейчас произошло чудо? Открыл бы он дверь, а за ней — ярко горит свет, кругом шарики, а посреди этого великолепия стоит улыбающаяся Аня… Открыл дверь: нет, дома никого нет. Это было предсказуемо, но почему-то Иван был разочарован. Как глубоко все-таки в человеке сидит вера в чудеса. Иван послонялся по пустым комнатам и с тоски начал разбирать подарки. Тоже никаких чудес: дорогие коньяки, виски, сыры, даже кусок хамона, редкие книги, альбомы с репродукциями шедевров живописи, пафосные ручки, очаровательные безделицы из специальных магазинов для людей, у которых все есть, серебряный кувшин, пара английских гравюр 19 века… Ничего особенного. Иван прихватил одну из бутылок коньяка и побрел на кухню — праздновать свой сороковник.
В дверь позвонили. Кто бы это мог быть? А вдруг она? Иван побежал открывать чуть ли не вприпрыжку. На дисплее видеодомофона он увидел какого-то подростка с огромным пакетом.
— Вам кого? — спросил Иван.
— Вам подарок! — ответил подросток.
Иван открыл дверь. Парень вручил имениннику пакет. Он был тяжелый.
— Молодой человек, а кто это передал? — поинтересовался Иван.
— Меня попросили вам не сообщать.
— А так? — Иван выудил из кармана тысячную купюру и протянул парнишке. Тот посмотрел на деньги с вожделением, замялся, на лице отразилась работа мысли.
— Нет, не скажу, я слово дал, что не проболтаюсь. Уговор дороже денег.
— Приятно иметь дело с человеком, который держит слово. — Удивился Иван. — По нынешним временам — это явление уникальное. А деньги все равно возьмите — за честность.
Парнишка принял деньги и с достоинством прошествовал к лифту.
В пакете были краски, пастель, карандаши, кисти, несколько папок с бумагой разного формата. Ни записки, ни открытки к подарку приложено не было. От кого это? Кто мог подарить ему ТАКОЙ подарок? Это что же, Петр Вениаминович опять шалит? Ну, это вряд ли. Он все-таки существо из сновидений, эфемерное, можно сказать, существо. Держать несуществующую сигару он еще может, а вот настоящий тяжеленный пакет с красками — наверняка нет. Хотя, безусловно, этот хитроумный персонаж мог внушить кому-нибудь замечательную идею презентовать бестолковому, непокорному Ивану Сергеевичу краски, чтобы вновь пробудить в нем тягу к художествам. Бред! Паранойя! Хотя учитывая способности этого любителя бабочек, не такая уж и абсурдная идея. А если отбросить мистику? Краски могли Ивану подарить только два человека в этом городе, ибо только они знали, что он когда-то баловался живописью. Это Машка Аверкиева, она же модная художница Мари Арно, и Анна Лёвочкина, его жена, которая так и не удосужилась объявиться, чтобы хотя бы уж развестись. Впрочем, однажды она все же была здесь, он это точно знал — Аня забрала свою машину. Он тогда почему-то очень обрадовался: если она забрала машину, значит, Иван не так уж ей и противен. Это вселяло надежду. Иван и сам не знал толком, надежду на что: то ли на ее возвращение, то ли на то, что она все еще неплохо к нему относится, то ли на то, что сам он неплохой человек и хотя бы этой дурацкой машиной смог расплатиться с ней за годы нелюбви. Впрочем, это совершеннейшая глупость, это вещи несопоставимые, но нужно же хоть чем-то себя утешить? Так кто из них: Машка или Аня? Это легко проверить — можно просто позвонить Машке и поблагодарить за подарок. Тогда сразу все станет ясно. Только вот нужна ли ему эта ясность? А вдруг на самом деле это Машка? А Ивану хотелось, чтобы это была Аня. Пусть будет она.
Иван принялся рассматривать содержимое пакета: обычная пастель, масляная, акварель, гуашь, масло. А какая бумага! В детстве он бы с ума сошел от счастья, если бы получил такой подарок! Боже, как он радовался, когда ему на день рождения подарили чешский набор фломастеров. Двенадцать цветов! Таких ни у кого в классе не было! Он об этих фломастерах два месяца мечтал, он по нескольку раз в неделю заходил в магазин полюбоваться на них и так боялся, что их раскупят — приличный товар в те времена долго на прилавках не залеживался. Он тогда схватил эти фломастеры и тут же принялся рисовать бригантину под цветными парусами. Он на неделю забросил учебу, потому что не мог остановиться: он рисовал, рисовал и рисовал… Он изрисовал весь альбом и принялся за другой… А потом мама отобрала фломастеры и пригрозила, что не отдаст, пока он не поест нормально, не исправит пару по математике, не выучит уроки и не погуляет, то есть не подышит свежим воздухом, что крайне полезно для здоровья…
Кем он хотел быть в детстве? Космонавтом, разведчиком, путешественником, археологом! Знаменитым художником, в конце концов! Таким, как Пикассо или Дали. Ну не алкоголем же торговать, в самом деле, он мечтал! Так почему же торгует? Откуда это взялось? Получается, что он всю жизнь этим занимается только потому, что когда-то в смутном и голодном начале девяностых он поступил на службу в контору, торгующую алкоголем? Только поэтому. А ведь он даже никогда и не задумывался, нравится ему эта работа или нет. Она приносила серьезный доход, и это было главным и единственным аргументом в ее пользу. Может, потому он так несчастен, что долгие-долгие годы занимается нелюбимым делом? Занимает чье-то чужое место? Проживает чужую жизнь? Деньги на одной чаше весов и его жизнь на другой? И что же до сих пор перевешивало? Деньги? Деньги! А что, ничего нельзя изменить? Но ведь можно же!
— Нельзя, Ванечка, нельзя! — пропищал в голове Ивана какой-то вредненький голосишко. Глас разума, может быть? Или сомнений?
— Это почему же?
— Да поздно, Ванечка, поздно! Вспомни, сколько лет тебе исполнилось?
— Ну, сорок! Так это ж только зрелость, еще не старость. Самое время, чтобы что-то менять, а то потом точно уже будет поздно.
— Да ты же, Ванечка, не умеешь больше делать ничего, кроме как население спаивать!
— Это я не умею?! — возмутился Иван. — Это я не умею?! Я тебе сейчас покажу, как я не умею!
Иван схватил большой лист бумаги, карандаш и, глядя в окно, начал набрасывать улицу и Аню, идущую к нему. Потом налил в новый серебряный кувшинчик, который первым подвернулся ему под руку, воды, открыл гуашь, взял кисти и нанес первый мазок. Очнулся он только под утро, когда рисунок был закончен. Он устал до дрожи в руках, глаза его слипались. Он был счастлив!
Глава двадцать девятая
Это была страсть. Одержимость. Служба теперь его раздражала. Он с трудом дожидался окончания всех дел и устремлялся домой: к своим холстам, кистям и краскам. Там он творил. А работа… Она представлялась теперь бессмысленной тратой времени. Совершеннейшей глупостью. Так он тосковал на службе, так тосковал по своему мольберту, как ни по одной женщине не тосковал. Тело его в кабинете сидело, а душа легкой бабочкой витала по холсту. Все никак не мог понять, как же мог он жить без живописи? Как же это он так сглупил тогда, когда бросил ее? Как он обходился без этого упоения, восторга, без этой счастливой усталости? И даже пресловутые муки творчества, когда не получалось у него ничего, Ивана радовали. Удовольствие доставляли. К августу он не выдержал — взял отпуск на целый месяц, чего не делал уже много лет, и отбыл на пленер. Сначала хотел было податься за вдохновением в родной городок, да передумал — в Италию отправился: очень его впечатлили этюды, которые привезли оттуда мать и Александр Васильевич. Снял небольшую виллу на Сардинии да и поехал. Сбылась мечта идиота. Домик у моря! И никаких баб! Все, как грезилось ему во время скитаний в поисках дамы, которую нужно было спасти. Так и не понял Иван, чего же хотел от него этот старый безумец — Петр Вениаминович. Мучил, мучил, а что в итоге? Иван кучу времени потратил, денег, чуть до нервного истощения не доспасался, и что же? И не спас никого, и у разбитого корыта остался. К чему все это было? И ведь нет бы объявиться, да все объяснить! Так нет же — пропал. Совсем пропал. А может, и не было никакого Петра Вениаминовича, может, это был только сон? Простое сновидение. Ничего больше. К чему были все эти мытарства? Только для того, чтобы понял Иван, что не в деньгах счастье? Что существуют все же в этом мире вещи, которые купить нельзя? Что гораздо ценнее простые человеческие отношения? Ну, так это каждый школьник знает. Многие, правда, потом об этом забывают… когда у них деньги появляются. Странные у Петра Вениаминовича способы преподавания жизненных уроков. Мог бы ведь и просто так сказать. К чему был этот путь? Что это, путь в никуда?
Впрочем, вскоре солнце, море, вино, покой и творчество освободили голову Ивана от тяжких раздумий, осталась в нем лишь радость. Он уже и забыл, что так бывает. Думал, осталось это состояние в детстве, которое давно ушло и не вернуть его больше. Думал, что только тогда и можно было радоваться простым вещам: утреннему стакану молока и куску батона с земляничным вареньем, случайному взгляду девочки, которая тебе нравится, пятерке по математике, похвале отца, запаху свежескошенной травы, снежным брызгам, которые обжигают твое лицо, когда ты летишь с горы на куске картона. А еще когда на белом листе бумаге, повинуясь твоей руке, рождается новый мир. Маленький мир, ограниченный размерами листа, но все же мир. Новый. И создаешь его ты. Как же так? Как получилось, что в вечной гонке за успехом, деньгами и женщинами он разучился радоваться жизни? Утратил способность наслаждаться ее маленькими, незаметными праздниками. В тот август на Сардинии Иван снова почувствовал себя ребенком.
Он просыпался рано утром и как мальчишка бежал купаться. Потом завтрак, простой и незамысловатый: кусок свежего хлеба, который он обмакивал в оливковое масло, и бокал белого холодного вина. Затем Иван прихватывал этюдник и отправлялся на охоту: искать причудливые виды и интересные типажи — часто он уговаривал ему попозировать трактирщиков, торговцев или туристов. В портретах Иван пока не преуспел, но не унывал по этому поводу: каждый новый рисунок становился все лучше и лучше. У Ивана формировался свой стиль — размашистый, нервный, экспрессивный. В каждом мазке трепетали Ивановы сомнения, метания, неспокойное счастье обретения себя. Или возвращения себя. Иногда поздним вечером, сидя в одиночестве на веранде и слушая плеск волн, он размышлял о своей прежней жизни: это был какой-то совсем другой Иван, не истинный. Иван, появившийся под влиянием обстоятельств, настроений общества, изломанный женщинами и компромиссами с собой, со своей совестью, со своими убеждениями. Зачем он так жил? Стоят ли деньги и материальные блага потери себя? Ну, он не беден, ну может себе позволить практически все, что пожелает. Ну, не все, конечно, не все, но многое. Почему же тогда он забыл, что такое счастье? Почему за последние двадцать лет он разучился получать удовольствие от жизни. Почему сейчас он не может вспомнить эпизодов, когда он был по-настоящему доволен жизнью? Почему он остался одинок, и почему так и не удалось ему купить любовь самой лучшей на свете женщины?
К окончанию своих творческих каникул Иван решил покончить с бизнесом и целиком посвятить себя живописи. Только покрывая уверенными широкими мазками холст или лист бумаги, он чувствовал себя собой. Тем Иваном, каким его, очевидно, и задумал Господь Бог. Ибо только рисуя, он исполнял свое предназначение. Тем более что Ивану довольно стремительно удалось снискать признание — все побережье знало странноватого, одинокого русского художника, который не был похож на художника, а скорее на холеного бизнесмена, и восхищалось его работами. Несколько рисунков он раздарил особо эмоциональным поклонникам своего творчества и был счастлив их счастьем. Господи, как же он жил-то без этой радости раньше? Это ни с чем не сравнимое наслаждение — видеть на лице человека, которому ты даришь свою картину, а, значит, и частичку себя, частичку своей души — восторг, подлинное счастье. Тогда и понимаешь, что живешь не зря. Словом, по возвращении в Москву Иван твердо решил уволиться — дабы ничто больше не отвлекало его от живописи. А это еще один род удовольствия — когда ты принял решение, и сомнения, наконец, тебя оставили.
В день перед отъездом Иван задремал в гамаке на веранде. Он пребывал в состоянии полнейшей безмятежности. Одно лишь его смущало, что завтра нужно было возвращаться в суетную Москву и объясняться с коллегами по поводу своего решения оставить службу. Иван предвидел, что это будет для них настоящим ударом и вряд ли они безропотно его отпустят — был он весьма ценным и изобретательным сотрудником, приносящим компании неплохой доход. Но это все будет завтра или послезавтра, а пока он вполне может себе позволить насладиться покоем.
Петр Вениаминович, как обычно, появился эффектно: он возник лежащим на шезлонге в сибаритской позе. В одной руке сжимал бокал циклопических размеров, наполненный красным вином, в другой дымилась неизменная сигара. На лице — выражение крайней удовлетворенности. Одет нынче Петр Вениаминович был без всегдашней своей эпатажности — обычный белый полотняный костюм, впрочем, несколько замаранный и слегка залитый вином; на голове имел капитанскую фуражку, острый черный взгляд прикрывали солнцезащитные очки. Бабочка синела на белом фоне костюма строгой кляксой. Петр Вениаминович молчал — не счел нужным даже поздороваться с Иваном: лишь жадно хлебал вино, будто его мучила нестерпимая жажда. А Иван также молча созерцал это загадочное существо и улыбался — он был раз видеть Петра Вениаминовича. Почему-то сейчас, расслабленный отдыхом и покоем, воспринимал он героя своих ночных кошмаров и причину своих мытарств как старого доброго знакомого, а возможно, даже и друга. К тому же Иван был убежден — сейчас он все делает правильно, как раз в соответствии с замыслом Петра Вениаминовича: вернулся к творчеству, презрел деньги, начал с должным уважением относиться к духовным ценностям. Была у Ивана такая фантазия, что именно к этому его и склонял старый обаятельный сатир. Жестокий, но справедливый. Иван в последние дни начал испытывать к Петру Вениаминовичу даже что-то вроде благодарности, ведь если бы не он, так и торговал бы Иван своим алкоголем, богател и был глубоко несчастен.
— Голубчик, вы не перестаете меня удивлять, — промолвил, наконец, Петр Вениаминович холодно и отчужденно.
— Отчего же? — удивился Иван.
— Что это еще за блажь, позвольте полюбопытствовать?
— Вы о чем?
— Оставить службу ради какого-то мифического творчества? Ради, пардон, каких-то там легкомысленных художеств?
Иван остолбенел:
— Как? Не к этому ли вы меня склоняли? Не вы ли толковали о предназначении? Об истинном пути? Не вы ли говорили мне о тщете денег и всего материального? Так вот я и решил, что моя жизненная стезя — это художества, как вы изволили выразиться. И вообще, Петр Вениаминович, что за вздорный у вас нрав! Вы непрестанно сами себе противоречите! Сами-то понимаете, чего хотите?
— Ишь, как осмелел! — проворчал Петр Вениаминович. — Ишь, как он заговорил! Дерзить изволите? — он снял очки и метнул в Ивана гневный взгляд. — Впрочем, будучи человеком мудрым, вполне могу понять ваше смятение. Однако! — он значительно поднял вверх указательный палец, — хочу заметить, это не повод хамить. Где вас только воспитывали, молодой человек? Хотя можете не утруждать себя ответом, я прекрасно знаю, где и как вас воспитывали. Вынужден преподнести вам урок учтивости: несмотря на то, что я зол на вас, на вопрос отвечу. Итак, я вполне понимаю, чего я хочу. Я, знаете ли, обожаю комфорт, даже, можно сказать, роскошь. Я, как вы наверняка уже успели заметить, гедонист. Я обожаю удовольствия, а вы своим странным поступком — я подразумеваю ваше предполагаемое увольнение — собираетесь меня всего этого лишить. Это негуманно! Это просто возмутительно! Вы на данный момент самый состоятельный из моих подопечных. И только с вами, Иван Сергеевич, я могу себе позволить пожить на такой чудесной вилле на берегу моря, как эта! Только с вами! То есть, я хочу присматривать за вами в условиях достатка и максимального удобства. Поэтому ваш выбор я нахожу странным и неприемлемым ни для себя, ни для вас! Тоже мне, свободный художник выискался! — хмыкнул Петр Вениаминович и вновь сосредоточился на вине. Его, кстати, как заметил Иван, меньше почему-то не становилось.
— А мне плевать на ваши прихоти, на ваши желания, — твердо ответил Иван. — Почему, позвольте полюбопытствовать, я должен жить так, как хочется вам? Да кто вы вообще такой?! Я от решения своего не отступлюсь! Вы поймите, — кипятился он, — я впервые за долгие годы счастлив, я нашел себя! И к чему же вы меня призываете? Снова вернуться к торговле алкоголем, к работе, которая давно уже не приносит мне ничего, кроме денег?
— А разве этого недостаточно? — Петр Вениаминович хитро сощурился.
— Теперь уже нет! Теперь мне этого уже мало! Я теперь, видите ли, хочу заниматься тем, что мне нравится, что удовольствие мне приносит! Чувствовать себя не рабом денег, условностей и представлений о жизни людей своего круга, а свободным человеком! Слышите! Свободным человеком!
— Браво! — вскричал Петр Вениаминович. Взор его запылал неподдельным огнем восторга. Он даже воспроизвел что-то вроде аплодисментов, легонечко ударяя сигарой о бокал. — Браво, юноша! Сколько патетики! Это слова не мальчика, но мужа! Презреть презренный металл, пардон за каламбур, ради высокого искусства, ради того, что раньше вы считали пустой забавой, шалостями для детей и пенсионеров. Боже, теперь вы готовы возложить на алтарь искусства все, что раньше составляло для вас смысл жизни! Я восхищен! — Петр Вениаминович приложился к вину, придал лицу участливое выражение. — Но позвольте спросить, а на что вы намерены жить? Вы что же, настолько самоуверенны, что надеетесь зарабатывать живописью? Осмелюсь высказать сомнения, что у вас это получится, по крайней мере, в ближайшее время. Иван Сергеевич, что вы так загрустили, закручинились? Думаете сейчас наверняка: «Конечно, художника каждый может обидеть, что же это он сейчас утверждает, что я бездарь какой-то». Так ведь, Иван Сергеевич? Да, люди искусства весьма чувствительные и ранимые, это общеизвестно. Вот и вы, всего месяц, как не занимаетесь бизнесом, а уже каким сентиментальным стали. Чудеса, да и только! Спешу вас успокоить, талант у вас определенно имеется. Могу даже вас уверить, что большой талант, однако вспомните, вы же образованнейший человек, сколько гениев от живописи погибло в нищете и безвестности. Вы к этому готовы? Готовы вы принести такую жертву во имя искусства?
Иван помрачнел. Хотел было выкрикнуть с юношеской горячностью: «Да, я на все готов!», но не выкрикнул — он задумался. Была в нем такая привычка, сложившаяся за годы его предпринимательской деятельности — просчитывать все на несколько ходов вперед. Тут же припомнил имена успешных художников, которые стали богатыми и знаменитыми еще при жизни. Пожалуй, что и в современной Москве таких довольно. Пусть талант некоторых из них и вызывает некоторые сомнения, но все остальные атрибуты успешности имеют место. Но у них уже есть имя. Они уже являют собой бренды. А что он, Иван? Кто о нем знает? Ему имя еще придется создавать. Как это сделать без денег и без связей? Решимость Ивана угасла. Очевидно, это слишком явственно отразилось на его лице, поскольку Петр Вениаминович задорно расхохотался:
— Что, мысленно распрощались со своими любимыми костюмчиками от Брионии, с большой квартирой в центре Москвы, которую вам тяжеловато будет содержать, когда станете нищим художником, с путешествиями? Матушка ваша опять же привыкла уже ни в чем себе не отказывать. Вы и ее успели приобщить к миру если не роскоши, то достатка. Она, кстати говоря, во второй половине сентября мечтает податься в Париж, ибо у нее, как и у большинства наших соотечественниц, имеются некие романтические грезы относительно этого города. Думаю, не вызывает сомнений, что милейшая ваша матушка не сможет уже жить, как большинство пенсионеров, довольствуясь малой подачкой от государства и огородом в качестве смысла бытия, то есть смочь-то она сможет — все-таки дама старой закалки, смирится, но вот удовольствие от такого существования получать уже вряд ли сможет.
— Что же за человек-то вы такой? — спросил Иван укоризненно. — Я все больше убеждаюсь, что вы самый настоящий садист! Какое бы решение я не принял, вы все подвергаете сомнению, вы всегда разворачиваете меня на сто восемьдесят градусов. Вы понимаете, что это невыносимо для меня? Невыносимо!
Петр Вениаминович блаженно затянулся сигарой, отпил вина, закрыл глаза, выдержал паузу, во время которой Иван беспокойно ерзал а своем гамаке, потом промолвил:
— Я, юноша, не человек, я всего лишь герой ваших сновидений. Откровенно говоря, я затрудняюсь ответить, может ли эфемерная субстанция вроде меня быть садистом. Лично я считаю себя милейшим существом, да и в уставе нашей конторы прописано, что мы должны помогать людям, а я довольно законопослушный господин.
— То есть изводить меня — это, по-вашему, помощь? Странные у вас представления о помощи.
— Как вы уже, надеюсь, успели заметить, юноша, мир не так уж и просто устроен: добро может обернуться злом, а зло, напротив, добром. — Петр Вениаминович придал лицу задумчивое выражение. — Пожалуй, я соглашусь с вами, мой стиль общения несколько напоминает садистский, но ведь вы не можете знать истинных мотивов моего поведения, и тем более вам не дано знать, к чему все это может привести.
— Петр Вениаминович, вы утомили меня своими ребусами. Чего вы все-таки от меня хотите?
— Иван Сергеевич, это совершенно не важно, чего от вас хочу я, важно, чего вы сами от себя хотите! Вот это действительно важно. И вот еще что! Нельзя предавать свою мечту, а вы, помнится, грезили о белом домике у моря, и не о съемной вилле какой-нибудь, а о собственном домике. — Петр Вениаминович еще раз с благостной полуулыбкой на лице затянулся сигарой, отхлебнул вина и исчез.
Когда Иван проснулся, обнаружил на столике бокал, полный красного вина. На белой глади стола играли рубиновые блики.
Глава тридцатая
Иван любил возвращаться домой. Как бы ни было ему хорошо в далеких прекрасных странах, дома было все равно лучше. Вот только раньше дома его ждала Аня. Или он возвращался вместе с ней. А сейчас сидя в кресле самолета, несущего его в Москву, он представлял, как откроет дверь своей квартиры, и встретит его гулкая тишина и пустота. Иван недовольно морщился — такая перспектива его удручала. Принялся было мечтать, что приедет он, а там Аня со своей теплой улыбкой и длинными ногами. Там ароматы духов и шампуней, там уютный запах еды. Там пахнет настоящим домом. А он свалит к ее ногам все свои рисунки и скажет: «Милая, я совершил ради тебя подвиг: я изменился, я, наконец, понял, что главная ценность в жизни — это близкие люди». Подумал, что люди в основном глупы и недоверчивы: вечно изобретают велосипеды, хотя все уже давным-давно изобретено. Есть пословица «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Так отчего же, чтобы понять ее смысл, человек должен проделать такой трудный путь. Нет бы просто принять на веру. Отбросил свои пустые фантазии по поводу жены — она не вернется. Очевидно, она ушла навсегда. Что ей эти его рисунки, что для нее его душевные терзания? Впрочем, вот она-то может и оценила бы его творчество. Помнится, она очень хотела, чтобы он возобновил свои занятия живописью. Но она не вернется. Ему остается только смириться с этим и жить дальше. Как жить дальше, он не знал. Разговор с Петром Вениаминовичем поверг его в смятение. Его решимость уволиться с работы сгинула, провалилась куда-то в потемки души, а голову его теперь занимали мысли рационального свойства: он вынужден был согласиться со своим мистическим оппонентом в том, что судьба нищего художника ему не вполне подходит. Ни сам он не хотел возвращаться в жиденькое болото бедности, ни близких своих туда сталкивать не хотел. И к тому же, может статься, что это его увлечение, эта его страсть к живописи скоро пройдет, как проходит любая страсть, и с чем же он останется? Ни семьи, ни работы. Да и друзей, скорее всего, не останется, ибо его состоятельные приятели навряд ли захотят общаться с сумасшедшим художником. Да просто не о чем будет им говорить. Точек соприкосновения не будет. Бывают же смелые люди! Вон Гоген все бросил ради искусства. И ни капли не сомневался. Или тоже сомневался? Кто его знает. Кто знает, как далось ему это решение и сколько времени оно заняло?
Ани, конечно же, в Ивановой квартире не оказалось — лишь тишина и затхлость встретили его на пороге. Иван дал себе день на отдых от отдыха. Он по-холостяцки, самостоятельно разобрал чемодан, загрузил грязные вещи в стиральную машину, немного побродил по городу, встретился с Лесей, которая к тому времени уже перебралась в Москву и стала студенткой медицинского ВУЗа, а вечером жажда творчества снова усадила его за мольберт.
На следующий день Иван отправился на службу, которая теперь представлялась ему самой настоящей каторгой. Галерами. Там он заперся в кабинете с Анатолием Владимировичем, своим непосредственным шефом, который был для него еще и другом, и компаньоном, ибо Иван был непросто наемным топ-менеджером, но и совладельцем фирмы, в которой трудился. Он долго и обстоятельно рассказывал шефу о своем увлечении живописью, о своем нежелании работать на благо конторы и о желании покинуть безвозвратно хлебное место. Впрочем, Иван, как обычно, был предельно тактичен, дабы ни в коей мере не оскорбить чувства своего компаньона и по возможности не ущемить интересы фирмы. Анатолий Владимирович был, мягко говоря, удивлен. Удивлен настолько, что нарушил свой многолетний принцип и приложился к коньяку в первой половине дня. После ста пятидесяти грамм алкоголя он, наконец, собрался с мыслями и изрек:
— Вот что, Иван Сергеевич, если бы не знал тебя столько времени, подумал бы, что ты сбрендил на старости лет. Трудно мне тебя понять, но я знаю, что с мужиками в период обострения кризиса среднего возраста и не такое творится. На собственном опыте знаю. Сам помню, с женой развелся, с малолетней свистушкой связался, которая меня потом чуть не обобрала до нитки, да и вообще изрядно покуролесил. — Компаньон задумался. — Вот что, брателло, отпустить я тебя не могу, да и сам ты потом мне не простишь, если отпущу я тебя, так что давай что-нибудь придумывать, чтобы и волки, как говорится, были сыты, и овцы целы. — Анатолий Владимирович поскреб гладко выбритый загорелый затылок. — Давай ты останешься при своей же должности, но займешься только каким-то одним направлением. И на работу тебе каждый день ходить не придется. Но зарплата у тебя меньше будет, извини, Иван Сергеич, но прежние бабки я тебе платить не смогу. Чем-то придется пожертвовать ради своей мечты. Мечты, брат, так же, как и красота, требуют жертв. — Анатолий Владимирович расхохотался над собственной шуткой. — Ну, так как, устраивает тебя такой расклад?
Иван кивнул довольно уныло. Терять деньги ему не хотелось. Но тут он был согласен с шефом — ради мечты нужно чем-то жертвовать. К тому же его внутренний калькулятор тут же подсчитал, что акции фирмы в любом случае будут ему приносить неплохую прибыль. К тому же были у него и другие источники дохода. Так что на жизнь хватит.
— Ну, а если надоест тебе художествами заниматься, возвращайся. Вернись, как говорится, я все прощу. — Анатолий Владимирович снова рассмеялся над своей шуткой. — Да, и вот еще что — найди себе замену. Иначе не отпущу. Я не могу допустить, чтобы предприятие страдало из-за твоей блажи. Ну и дурак же ты, Ванька, прости уж за откровенность.
— Может быть, — согласился Иван. — Но сейчас я не могу по-другому. Не могу. Спасибо тебе! Хороший ты мужик! Другой бы на твоем месте взбеленился, послал бы меня ко всем чертям, а ты…
— Да брось ты. Знаешь, я давно уже понял одну простую вещь: ты к людям задницей, и они к тебе задницей, ты к ним лицом, и они к тебе лицом. Сегодня я тебе помог, а завтра ты мне поможешь. Добро, как ни странно, приносит большие дивиденды, чем подлость, — Анатолий Владимирович усмехнулся. — Я однажды подлость совершил, до сих пор вспоминать стыдно… Я тогда думал, что ничего в жизни добиться нельзя будучи добреньким. Ну и воздалось мне потом по заслугам… А уж если на бабки кого кинешь, так потом у тебя Господь Бог вдвое больше заберет. И это я проходил. Так что, брателло, давай, твори! Картину-то хоть подаришь? Или покупать придется?
— Подарю-подарю! Первую. А дальше уже за деньги. Извини, но бизнес есть бизнес. — Иван рассмеялся. У него будто камень с души упал. Он и предположить не мог, что Анатолий Владимирович такой чуткий человек. А Иван-то думал, что шеф только одному богу молится — деньгам.
Когда Иван покинул кабинет шефа, тот подумал: «Ничего-ничего, месяца два поразвлекаешься со своими веселыми картинками и вернешься, никуда не денешься. Тоже мне придумал. Впервые встречаю такого идиота, который сам от такой работы отказывается. Да еще ради чего! Ради живописи! Тоже мне, придумал! Нет, ну просто редкостный дурак! Да-да-да, истинный Иван-дурак! А по виду так и не скажешь. Да он же больше всех нашей конторе денег приносит! Ндаа, надеюсь, скоро у него рассудок-то прояснится. А то ведь если запретишь, так еще слаще запретное яблочко-то покажется, и не удержишь тогда. Лучше не рисковать. Пусть перебесится. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы прибыль в клювике несло». Анатолий Владимирович был мудрым человеком, умеренно меркантильным.
Через две недели Иван вышел из своей конторы почти свободным человеком. Он, когда сбегал по ступенькам, жалел, что только почти: лучше бы уж совсем, а так — в любой момент могли вызвонить, оторвать от любимого рисования — Иван был сейчас одержим одним серьезным проектом: он решил создать галерею любимых женщин. Зря что ли он столько времени, сил и денег на них потратил? Собрал фотографии, а Машку Аверкиеву даже уже написать успел: худенькая девочка с белесыми косичками сверкала из-за мольберта любопытными большими голубыми глазищами. В такой немного модильяновской манере. Только глаза не пустые и даже не в клеточку. Глаза — совсем по Толстому — как зеркало души. Впрочем, Иван находил, что все-таки это его собственный стиль, а не бездарное подражание. Он фантазировал, что в этой юной девчушке на его картине уже угадывается будущий надлом, будущее беспутство и умение кружить головы мужчинам. Словом, первым портретом Иван остался вполне доволен и тут же принялся за пухленькую роковую блондиночку Леночку Зимину. Великолепная, несчастная Светочка Калмыкова будто предлагала себя каждому, кто смотрел на нее, словно готова была любому отдать свое тело, но никому не хотела дарить свою любовь. А потом была Ирина Завьялова. И как-то так смог изобразить ее Иван, что зритель сразу видел, что стоит этой замухрышке снять очки и одежду, как превратится она в волшебную соблазнительницу. Написал он и надменную, жестокую красавицу Ольгу, во взгляде которой читалась беззащитность и… доброта. Фарфоровая кукла Лизочка Потапова была чудо как хороша, только вот при ближайшем рассмотрении эта девочка оказывалась не куклой вовсе, а маленьким танком, который все снесет на своем пути к цели. А Верочка… Верочка была подлинным шедевром. Она была настолько милая, настолько наивная, настолько возвышенная и доверчивая, что верить ей было просто невыносимо страшно… Аня — безупречная красавица, статусная спутница серьезного мужчины, дорогая вещь, с невыносимой тоской в глазах — ей не нравится эта роль. В ее глазах слезы, они будто кричат: «Я же не виновата, что родилась красивой, я же не Барби, я человек, я личность!». Аня, Аня, где же ты сейчас, глупенькая, гордая девочка?
Иван не вернулся в строй через два месяца, как рассчитывал Анатолий Владимирович. Он и через четыре месяца не вернулся. Впрочем, даже появляясь на работе изредка, умудрялся приносить компании значительный доход. Теперь из рутины служба снова превратилась для него в творчество. В марте, когда зазвенели первые капели, Иван позвонил Машке Аверкиевой, то есть Мари Арно, и пригласил в гости. Будто бы на чашку чая. Будто бы было нужно ему что-то срочно с ней обсудить. А разговор совершенно не телефонный. Она покривлялась немного для приличия, поссылалась на занятость, но пришла. Только Иван ее на кухню не повел. Распахнул перед ней дверь своей мастерской. А там вдоль стен стояли Ивановы полотна. Машка, то есть Мари, ахнула. Во взгляде ее отчетливо прочиталась зависть, из чего Иван сделал вывод, что ей понравилось.
— Ты снова начал рисовать? — спросила она.
Иван кивнул:
— Как ты думаешь, что с этим можно сделать?
Машка от него отмахнулась:
— Да подожди ты, дай посмотрю. — Она медленно двигалась от портрета к портрету. Увидела себя. Ойкнула. — Это я?
— Ты. — Подтвердил Иван.
— Да, это я, — согласилась Машка. — Самая настоящая я. Как под рентгеном. Как ты, подлец такой, смог заглянуть мне в душу? В самую суть? Как ты посмел?! — воскликнула она с поддельным возмущением.
— Ну, извини, так уж получилось. — Иван улыбался.
— А кто остальные?
— Женщины, которых я любил.
— Их ты тоже рентгеном просветил?
— Боюсь, что да. — Иван виновато развел руками.
— Хороший у тебя вкус на женщин, — протянула Машка задумчиво, — все как на подбор — красавицы, только вот сразу видно — много крови они у тебя попили. Непростые барышни. — Она еще раз осмотрела портреты. — Только вот мне казалось, что женщин в твоей коллекции должно было быть побольше. Ты же у нас такой видный мужчинка.
— Так это же только тех, кого я любил, если бы я вздумал написать всех баб, с которыми спал, так это мне жизни не хватило бы. Да и разве всех упомнишь. Я же известный ловелас.
— Ты известный хвастун. Вот ты кто на самом деле. И циник. Хотя, в общем-то, дорогой, твои моральные принципы мне мало интересны, так же, как и твой образ жизни, я сама, знаете ли, не ангел. — Машка хлопнула в ладоши. — Так, уважаемый коллега, коньяк у тебя есть? А лучше шампанское! Надо бы выпить за рождение новой звезды на небосклоне отечественного изобразительного искусства.
— Шампанского нет, ибо дамы ко мне в последнее время не заглядывают, живу отшельником, так сказать, всецело принадлежу своей непьющей музе, так что шампанского не держу.
— Мог бы и подготовиться к встрече со мной! — картинно надулась Машка.
— Я подготовился! Коньячок-то у меня имеется.
— Стоп! А что значит, один живешь? У тебя же, вроде, жена была?
— Увы, сия достойнейшая дама покинула меня больше года назад. С тех пор я одинок.
— Вот те раз! — изумилась Машка. — Это какой же дурой надо быть, чтобы уйти от тебя?
— Ты же тоже ушла когда-то.
— Мы же, кажется, уже все выяснили по этому вопросу. — Машка мгновенно погрустнела. — Давай больше не будем затрагивать эту тему. Все, веди меня на кухню и пои уже чем-нибудь. Тоже мне, гостеприимный хозяин! Гостью не накормил, не напоил, ладно уж, на «спать уложил» я так и быть не претендую, но усадить-то все-таки надо! — она еще раз взглянула на полотна. — Но согласись, что драмы в личной жизни очень стимулируют творческий процесс.
Они переместились на кухню. После того, как они немного выпили за новорожденного гения, повосхищались работой друг друга, поругали за бездарность других художников, Иван повторил свой вопрос:
— Маша, я написал картины, что мне делать с ними дальше? Не на улице же мне ими торговать.
— А что, тоже вариант, — усмехнулась Машка и пристально посмотрела на Ивана. В ее глазах угадывалась какая-то внутренняя борьба. После долгой паузы она, наконец, сказала, — черт с тобой, конкурентом мне, конечно, будешь, но сведу я тебя со своим галеристом. Если ей понравишься, то устроит она тебе выставку. И продавать тебя будет. Но у меня есть одно условие: использовать только честные способы в борьбе за свой творческий успех.
— То есть? — не понял Иван.
— То есть барышню-галеристку не соблазнять.
— Хорошо, не буду! — рассмеялся Иван.
— И еще одно условие.
— Какое?
— Мой портрет ты подаришь мне. Это будет мне платой за услуги. — Иван посмотрел на Машку удивленно. — Да ладно тебе, не смотри на меня так, не такая уж я и корыстная. Просто мне портрет понравился. Если уж совсем откровенно, то слишком понравился. Никто и никогда еще так меня не писал. И никто так меня не чувствовал. Ты очень талантливый, не зря я в детстве так тебе завидовала. Ох, не зря… За мной должок, я в свое время тебя от живописи отвратила, я же и помогу тебе добиться успеха на этом поприще. Ты знаешь, я так рада, что мне, наконец, представилась возможность искупить свою вину перед тобой.
— Ты ни в чем не виновата. — Возразил Иван.
— Ты просто очень, очень добрый, отрицаешь очевидное. Не спорь со мной. Я помогу тебе, и мне станет легче. Видишь, в основе любого моего поступка лежат эгоистические мотивы. А кроме портретов у тебя есть что-нибудь? Боюсь, для выставки этого будет недостаточно. И продаются портреты плохо, если только не пишутся на заказ.
— Не беспокойся, я уже много чего успел натворить, — Иван улыбнулся застенчиво.
Галеристке Регине Власовой то, что натворил Иван, очень понравилось. Она, по ее собственным словам, пришла «в неописуемый восторг». Еще ее безумно впечатлили полотна Ивановой матушки. От них она тоже пришла в «неописуемый восторг». А работы Александра Васильевича ее умилили своей академической правильностью. Когда она узнала, что и Иван, и его матушка, и Мари Арно, и старый учитель родом из одного городка, она решила устроить их общую выставку, ибо провинциальные художники нынче в моде, а тут целых четыре таких ярких и таких разных дарования. А то, что Иван ушел в живопись из серьезного бизнеса, так это вообще расчудесно. Есть в этом что-то такое, гогеновское, драматическое, надрывное. Это, безусловно, привлечет к выставке внимание. К тому же, помимо внимания это привлечет и состоятельных друзей Ивана — потенциальных покупателей. Кроме того, Иван, вероятно, может оплатить и публикацию заметочек об этой выставке в серьезных глянцевых изданиях. Словом, Регина Власова такому необычному клиенту очень обрадовалась.
Глава тридцатая
Иван встречал гостей у входа в галерею, нервно сжимая в руке бокал шампанского. За последние недели он заметно осунулся, глаза горели каким-то полубезумным блеском, словом, он стал похож на настоящего художника. Только одет был совсем не как художник — слишком дорого и слишком тщательно. Входившие в помещение женщины поглядывали на него благосклонно, с интересом. Ивану был приятен интерес этих незнакомых ему нарядных дам, впрочем, ожидал он от них другого — вовсе не молчаливого восхищения собственной персоной, а восхищения его творчеством. Для этого сюда и позвали всех этих людей. Мужчин и женщин. Позвала их Регина. Заманила красивой сказочкой о том, как крупный бизнесмен, миллионер (это произносилось театральным шепотом), бросил карьеру и с головой ушел в живопись. И это в наше-то время, когда все одержимы деньгами и понтами. А он! Такое чудо! И ведь на редкость талантливым оказался! Кто бы мог подумать! А сам-то такой холеный, такой красивый! Не мужчина, а мечта. Словом, приходите и сами все увидите. Сказочка про Иванову мать, которая обнаружила в себе дар рисования совсем уж в преклонном возрасте, тоже раззадорила публику. Многие боятся старости, а зрелище насыщенной событиями, творчеством и счастьем старости как-то успокаивает, вселяет надежду, что и твоя собственная осень жизни будет состоять не из болезней, бедности и одиночества, будет походить не на наш холодный, промозглый, ноябрь, а на тихую осень… Где-то там, в неведомых краях, ведь есть тихая, ласковая, вечно золотая осень? Наверняка ведь где-нибудь есть. Любопытствующих собралось много. Регина порхала крайне довольная собой — предвкушала сенсацию и прибыли. Только вот гости, которых пригласил сам Иван, отчего-то задерживались. Он уже начал подумывать, что они и вовсе не придут. Галеристка была категорически против идеи новоявленного живописца зазвать на вернисаж всех героинь его романов, то есть женщин, изображенных на полотнах, объединенных одним названием «Любимые».
— Что это вы задумали? — шипела она, — у нас тут приличное, респектабельное заведение, с хорошей репутацией, которую я, между прочим, взращивала целое десятилетие. А вы, значит, решили собрать всех своих баб? А вы можете поручиться, что они тут мне дебош не устроят, за волосы друг дружку таскать не станут, а вдруг еще и до мордобоя дело дойдет? Это же будет скандал! Я не могу допускать скандалов в моей галерее! У нас тут не базар!
— Регина Леонидовна, — ответил Иван холодно, — мы с вами оба знаем, что скандал в вашем деле — предприятие крайне выгодное, лучшего пиара, чем небольшой скандалишко с битьем морд, и придумать невозможно. О вашей галерее тут же напишут в Интернете, а то и в газетенке какой-нибудь желтенькой, и клиент попрет смотреть на портреты уважаемых дам, которые устроили такую лихую потасовку. Так что мне тоже слава обеспечена. Впрочем, я уверен, что до физического проявления агрессии дело не дойдет.
— Ну, что ж, я умываю руки, — сдалась Регина, — приглашайте своих дамочек, но должна вас предупредить, Иван Сергеевич, если, не дай бог, скандал превысит рамки приличия и этот факт как-то навредит моему бизнесу, двери этой галереи будут навсегда для вас закрыты. Имейте это в виду. Я и так сильно рискую, устраивая выставку безвестных дебютантов. Я не говорю сейчас о милейшей Мари Арно, безусловно, она-то уже звезда.
— Все будет хорошо, — заявил Иван, — я вас уверяю, — и наградил Регину самой обаятельной своей улыбкой.
Наконец-то появилась Иванова матушка. Вместе с Александром Васильевичем они вели под белы рученьки былинного запойного богатыря и великого страдальца от любви Гришку Ильина. Тот держал себя смиренно, но на мясистой его простецкой физиономии было нарисовано желание увильнуть с этого великосветского раута. Кроме всего прочего, он был заметно напуган. Но самое удивительное, Гришка был кристально трезв. Иван хотел было пожурить матушку за опоздание, но вмиг понял, почему они задержались — Гришку уговаривали придти.
— Гришка! — воскликнул Иван как-то преувеличенно жизнерадостно, — рад тебя видеть!
Бывший школьный друг на приветствие Ивана не отреагировал, легонечко его отстранил и устремился к портрету Леночки Зиминой.
— Что, ведьма! — вскричал он. — Не действуют больше на меня твои чары! Не действуют! Я свободен! Я свободен! — запел он громовым голосом на мотив известной песни. Рафинированная публика была несколько шокирована поведением дурно одетого огромного мужчины деревенского вида, но данный неожиданный энтертеймент ее явно заинтересовал. — Ванька! Дружище! — Гришка резко развернулся к Ивану, — а ты, однако, мастер, истинный мастер! Ведь как изобразил! Как изобразил! И простушка вроде, а ведь на самом-то деле расчетливая искусительница, роковая женщина. И не красавица ведь, а мужиков с ума сводит. Только я излечился от нее! Я излечился! Знаешь, Ванька, тогда, после разговора с тобой, я будто от кошмарного сна очнулся, будто пелена с глаз упала. Я как протрезвел, сразу всю стеклотару-то из дома повыкинул, пыль-то из углов повымел, глаза-то свои пьяные промыл, да и прозрел! Не сошелся ведь свет-то на ней клином, не сошелся. Прав ты был, Ванька, гораздо проще пить горькую да на судьбу жаловаться, а чтоб задницу со скамьи-то поднять, да подвиги начать совершать, тут настоящее мужество нужно, смелость нужна! Ну, я тогда вспомнил твои слова-то про свой бизнес, да и решил бригадку сколотить ремонтников. Я — электрик, маляров-штукатуров нашел, плиточников… Не бог весть какие деньги зарабатываем, а ведь кураж какой! Азарт! Была халупишка жалкая, а мы ее в хоромы превращаем! Это ж ни дать ни взять творческий процесс. Да все равно, что кистью по холсту малевать: и тут шедевр, и там шедевр. В общем, спасибо тебе, Ванька, наставил ты меня на путь истинный! Я ведь и с бабой хорошей сошелся. Душевная такая бабенка, мягонькая. А ты, Ванька, молодец! Вот те крест, что ты молодец! Талант! Умеешь, брат, умеешь! — Гришка порывисто обнял Ивана, от чего у того хрустнули все косточки, и косолапо подался осматривать другие полотна.
— Еле уговорили Гришку приехать, — сказала Ивану мать. — Он, как приглашение твое получил — разволновался, ко мне прибежал. Я, говорит, всю жизнь в Москву мечтал съездить, как чеховские три сестры, да вот до сих пор не довелось, а тут и повод представился, а боязно мне. Как я, говорит, со своим свиным рылом да в Калашный ряд? Насилу привезли. Зато пока в такси ехали, он, как дитя малое, чуть ли не визжал от восторга. Жить, говорит, здесь хочу, мой город! Утверждает, что здесь-то он уж точно развернется, не то, что в нашем захолустье. Тесноват, говорит, для меня наш городок-то.
— Понятно, — протянул Иван, — думаю, что-нибудь придумаем. Появилась у меня мыслишка.
— Эх, Иванушка ты мой, дурачок, всем-то ты помочь хочешь. Гришка вон какой детина, пора уж ему самому со своей жизнью разбираться… А Леночка, кстати, приехать не смогла — ребенок у нее маленький, да и муж, говорит, не отпустил бы. А уж как узнала, что Гришка поедет, так и вообще наотрез отказалась. Но просила тебе кланяться.
Иван неопределенно пожал плечами и отправил матушку с Александром Васильевичем к Машке и Регине, чтобы те представили провинциальных художников столичному обществу…
Машка мелькала среди гостей в своем красном вечернем платье, высокая, стремительная, прекрасная. Судя по ее в высшей степени довольной физиономии и заливистому смеху, от гостей Машка получала исключительно комплименты. За перемещениями художницы наблюдал импозантный, светский мужчина в вопиюще дорогом костюме. Он вроде бы разговаривал с какими-то важными господами и в пух и прах разряженными дамами, но взгляд его неотрывно следовал за Мари Арно. Иван уже знал, что это единственный мужчина в жизни Машки, которого она любила по-настоящему, отец ее дочери, ее бывший муж, четвертый по счету. Скоро она должна была выйти замуж в пятый раз за своего четвертого мужа. Полгода назад Роману Борисовичу прискучили алчные объятья своих юных длинноногих подруг, он вдруг вспомнил про семейные ценности и вернулся к дочери и бывшей жене. Никто не знает, что за переворот случился в его душе, но он вдруг понял, что никто никогда не любил его так бескорыстно и так искренне, как это делала Машка. Никто не любил его отдельно от его миллионов, просто так, такого, каков он есть. Он вдруг понял, что такая любовь дорогого стоит. Машка, разумеется, устроила ему душещипательную, полную подлинного трагизма, сцену, заставила и на колени перед собой опуститься, и до слез даже довела, но потом милостиво простила и приняла обратно. И вот теперь олигарх Роман Борисович стоял посреди выставочного зала с бокалом шампанского и не сводил влюбленных глаз со свой бывшей и в то же время будущей жены.
Ирина Завьялова появилась в дверях галереи под руку с высоким брюнетом. На мужика в юбке Ирина больше похожа не была. А на замухрышку студенческих времен тем более. Была она теперь гранд-дамой, в струящемся платье, в изящных туфлях, женственная, очаровательная, молодая.
— Какая ты красивая, Риша, — искренне восхитился Иван.
— Здравствуй, — сказала Ирина с ласковой улыбкой, — знакомься, Ваня, это мой муж Кирилл. Ты пойди, пожалуйста, посмотри картины, — обратилась она к мужу, — а мне нужно сказать этому молодому человеку несколько слов наедине. Это, кстати, тот самый господин, который сначала сломал мне жизнь, а потом умудрился отреставрировать. Я тебе о нем рассказывала.
Кирилл смерил Ивана недобрым взглядом, в котором сверкнула самая настоящая ревность, но все же послушно двинулся вглубь помещения.
— Ваня, спасибо тебе, — прошептала Ирина. — Я ведь как будто под гипнозом была. Под гипнозом обиды и ненависти. Все мои действия были продиктованы лишь одним желанием — желанием мести. Ну, ты знаешь, отомстить я хотела тебе. А ты мне будто пощечин надавал, и я очнулась. Оглянулась вокруг, а там жизнь бурлит, столько событий происходит, а мужчины, оказывается, такие добрые, такие хорошие. А я-то, как выяснилось, привлекательная женщина. Я когда от шор избавилась, вдруг увидела, что даже мои прорабы ко мне все-таки не как к своему парню относятся, а как к бабе, жалеют даже. А еще я, наконец, заметила, что очень нравлюсь одному своему коллеге. — Ирина покраснела по-девичьи.
— Ему? — Иван кивнул в сторону ее мужа. — Это тот самый архитектор, о котором ты мне говорила?
— Да, это он. Ванька, он такой замечательный, ты не представляешь! — и тут же без перехода, — я жду ребенка. У меня, наконец, будет ребенок! Будет настоящая семья, о которой я всегда мечтала! Спасибо тебе! Спасибо!
— За что? — не понял Иван.
— Ты в тот вечер спас меня.
— От чего?
— От меня самой.
— Красавица ты моя, волшебная Царевна-лягушка, я так рад, что все твои желания сбываются, — Иван расцвел обворожительной улыбкой и даже слегка Ирину приобнял, — Риша, пардон за наглость, но у меня к тебе есть одна просьба. Не за себя прошу, а за товарища своего школьного. Вон он разгуливает, увалень такой. Пристрой, пожалуйста, его куда-нибудь к себе в контору. Он первоклассный электрик. Понимаешь, Гришка всю жизнь мечтал из нашего городишки вырваться, да так и не сумел. Не из-за лени, заметь, не из-за трусости, а из-за большой любви. Женщина, которую он любил, никуда уезжать не хотела, и он пожертвовал своими планами ради нее. Сама знаешь, редко какой мужчина способен на такое. А потом эта женщина ушла к другому. Так что теперь Гришка свободен и по-прежнему мечтает покинуть родной город. Давай ему поможем, а?
— Я такими мелочами, как наем электриков не занимаюсь, — высокомерно ответила Ирина, но тут же спохватилась, смягчилась, — ладно, позвони мне завтра, напомни, я распоряжусь.
«Нет, пожалуй, несмотря на эти шелка, утонченный вид и молодого мужа, она так и осталась мужиком в юбке», — подумал Иван.
Ирина воссоединилась с мужем возле собственного портрета. Когда она взглянула на него, прослезилась: она будто встретилась с собой прежней, страшненькой, закомплексованной дурочкой, которая имела уникальный дар превращаться в красавицу. Да и сейчас она такая. Мало что изменилось.
— Его, видимо, тоже в тебе привлекла твоя способность к метаморфозам, — задумчиво проговорил Кирилл, глядя на картину. — А он талантлив, этот твой первый коварный любовник, это я тебе как профессионал говорю. И еще совершенно очевидно, что он очень сильно тебя любил. — Мужчина обвел взглядом другие портреты и продолжил, — и тех остальных тоже. Очень необычный человек. Не зря ты столько лет по нему страдала, маленькая моя. Но теперь ведь это в прошлом?
— В прошлом, — выдохнула Ирина и поцеловала мужа в губы.
Лизочка Потапова появилась в сопровождении съемочной группы. Завидев Ивана, она сделала ему жест, означающий «подожди минутку», бодрым аллюром пронеслась по галерее, слегка споткнулась возле собственного портрета, вернулась к своим ребятам, что-то им начала объяснять, темпераментно размахивая руками и весьма некультурно тыча пальцем в сторону Ивана, и лишь после всех этих манипуляций подошла к виновнику торжества.
Лизочка за время разлуки с Иваном достигла значительных высот на карьерной лестнице: на своем телеканале она стала практически вторым человеком после директора. Зарплата у нее была вполне приличная, впрочем, Лизочке она уже начала казаться недостаточно приличной — девушка поставила перед собой новую планку, новую цель в соответствии со всеми правилами целеположения. Девушка с энтузиазмом посещала различные тренинги личностного роста, на которых не всегда успешные коучи учили, как добиться головокружительного успеха. Лизочка им верила. А во что же ей еще было верить, кроме как в возможность успеха на профессиональной стезе, ведь идея создания гармоничных отношений с мужчиной потерпела полное фиаско, притом не раз. Нет уж, лучше и не пытаться, сказала себе Лизочка и с головой ушла в работу, отвлекаясь от нее иногда лишь на ничего не значащий секс. Когда получила она приглашение от Ивана на выставку, которую он устраивает, удивилась — никогда не предполагала она в нем художника, заново восхитилась этим невероятным мужчиной, позволила себе на минутку посожалеть, что она так опрометчиво разорвала с ним отношения, а потом решила сделать ему маленький подарок: снять о вернисаже сюжет и показать на своем телеканале абсолютно бесплатно. Подумала, что потом еще и о самом Иване можно какую-нибудь передачку наклепать — это ж какая лакомая история — преуспевающий, циничный бизнесмен вдруг становится художником. Тут интрига есть, тайна.
Как увидела Ивана, сразу подойти не решилась, сделала вид, что сначала должна проинструктировать съемочную группу, а на самом деле просто испугалась. Оказывается, не так-то просто встречаться с бывшим возлюбленным.
— Чудесно выглядишь, — сказал ей Иван.
«Конечно, чудесно, — подумала Лизочка, — платье пришлось новое купить, маникюр-педикюр и все такое. Кучу денег потратила, а могла бы найти им и более достойное применение».
— Ты тоже хорош, — сказала она уже вслух, а Иван, как обычно, вздрогнул от несоответствия ее низкого голоса и кукольной хрупкости, — похудел, одухотвореннее, что ли, стал. Признаться, не ожидала от тебя. — Она махнула рукой в сторону полотен. — Ты же был такой, как бы это сказать, приземленный. Высокие материи тебя не интересовали. Только деньги, только работа, приносящая деньги. Что с тобой случилось?
— Очевидно, сошел с ума. — Ответил Иван. — Как у тебя дела?
— Расту. В карьерном смысле.
— А на личном фронте?
— А нет никакого личного фронта. У меня нет на это времени. — Лизочка вздохнула. — Если хочешь чего-то добиться в этом городе, приходится чем-то жертвовать. Я вот решила отказаться от погони за принцами. Крайне бесперспективное занятие.
— Это из-за меня? — тихо спросил Иван.
— Нет, это было вполне осознанное решение, продиктованное доводами рассудка, а не эмоциями. Просто я расставила приоритеты, и семьи или даже отношений на тот момент среди них не оказалось. А ты… ты спас меня тогда.
— Извини?
— Спас от разочарования в мужчинах. Когда посыльный принес от тебя эту подвеску, — Лизочка дотронулась пальчиком до сверкающего бриллиантами сердечка у себя на груди, — и твою записку, я поняла, что мужчины вовсе не козлы, не негодяи, они просто несовершенны, так же, как и женщины, впрочем. Я поняла, что мужчины могут быть благородными, могут быть благодарными, они могут простить, даже если ты их обидела, ты их унизила, а они в ответ присылают тебе письмо, в котором признаются в любви. Я тогда подумала, что долго не смогу забыть такого мужчину и полюбить другого, поэтому займусь пока покорением столицы, я ведь за этим сюда и приехала. А любовь… Новая любовь непременно случится, когда для нее придет время. Я в это верю.
В этот момент в зал вошел простой русский миллионер Анатолий Владимирович, шеф Ивана, несколько усталый после напряженного трудового дня, взгляд его рассеянно блуждал, ни на чем не останавливаясь, пока не сфокусировался на Лизочке. Анатолий Владимирович так и застыл, как столб, глядя на эту нежную фарфоровую куклу. Он после истории с юной аферисткой, которая умудрилась женить его на себе, а потом чуть не разорила на разводе, дал себе слово с профурсетками всякими не связываться. Да вообще с бабами не связываться. Не жениться больше никогда, да и никаких серьезных отношений не заводить. Ни к чему это. Да и возраст уже серьезный — под пятьдесят. Если у тебя есть деньги, то и одноразовую любовь можно купить, и девчонку модельного типа на выход найти. Вот и жил себе распрекрасно, а тут эта тоненькая брюнеточка, и все — бац: гром и молния, солнечный удар! Влюбился! Влюбился с первого взгляда! Как мальчишка. А она стоит рядом с художником этим нашим новообращенным, любезничает. Убил бы. Вот она оборачивается…
И тоже застывает, как соляной столб. Взгляды Лизочки и Анатолия Владимировича сплетаются, как любовники в самой изощренной позе из Камасутры. «Вот он!» — вскрикнуло Лизочкино сердечко. Иван разулыбался, глядя на две эти статуи.
— Кажется, пришла она, любовь-то, — подумал он, а вслух сказал. — Лиза, это Анатолий Владимирович, мой шеф. Анатоль, это Лиза, гений телевидения и просто красавица.
Лизочка и Анатоль синхронно произнесли: «Очень приятно» и по параллельным траекториям отправились куда-то вглубь зала. Иван припомнил, что в какой-то там геометрии, кажется, в Эвклидовой или, наоборот, в неэвклидовой, параллельные прямые пересекаются. Он был уверен, что пути этих двоих точно пересекутся, причем не где-то там, в абстрактной бесконечности, а буквально через несколько метров…
Когда Ольга вошла в помещение, все присутствующие, как обычно, обернулись к ней. Такая уж женщина. Златовласая богиня. С ней была Леся и какой-то жухлый, обрюзгший, лысоватый тип.
— Папа не смог приехать, извини, ему не здоровится, — произнесла Ольга скороговоркой, — это, кстати, Олег, Лесин отец. Ну, давай, показывай свои художества, сгораю от любопытства.
Иван повел всю компанию вдоль картин, а сам украдкой поглядывал на Олега и не мог понять, как так получилось, что этот вот, прямо скажем, не слишком приятный тип, с тонким капризным ртом слабого человека, умудрился попортить кровь стольким людям: Ольге, ему, Михаилу Львовичу, Лесе, выйти сухим из воды и остаться при этом любимым. За что Ольга его до сих пор любит? Вот за что? Иван впервые видел этого человека, из-за которого так круто изменилась его жизнь, которого он так ненавидел в молодости и к которому так ревновал Ольгу. Он прислушался к себе — нет, пожалуй, ненависти больше нет, но появилось какое-то чувство брезгливости, легкого отвращения, как к таракану. А Ольга, кажется, с ним счастлива: вон за пухлую, потную ладошку держит и улыбается подобострастно этому борову. Тьфу! Смотреть противно.
— Так, неплохо, весьма неплохо, — верещала Ольга, осматривая полотна, — вот уж никогда бы не подумала, что у моего бывшего мужа есть хоть какие-то таланты. На вид совершеннейший неудачник. А эту вещь твоя маман наваяла? Слушай, мне нравится, я ее куплю. Такой очаровательный наив. В гостиную повешу, у меня там как раз одна стена пустая. А эта вот моему папочке подойдет, он у нас консерватор, классику обожает. Кто автор? Ха! Любовник твоей матери? Как это мило. Надеюсь, у меня в ее возрасте тоже будут любовники. Ой, извини, Олежек! Это была шутка, ты же понимаешь. Ванька, а твои картины я покупать не буду, ты мне подаришь. В конце концов, я потратила на тебя свои лучшие годы, так что ты мне должен. Хотя… Спасибо! Наверное, настало время это сказать. Спасибо, что женился тогда на мне. Ты меня спас. А то бы я повесилась, и Леська тогда не родилась бы, и Олеженьку я бы не дождалась. Так что, спасибо. Боже, кто бы знал, как я ненавижу благодарить людей. Но иногда приходится. Так, где тут у вас шампанское? Надеюсь, это не российское пойло? Так, отлично, недорогое, но французское. Ты же небедный, что, не мог потратиться на свой первый вернисаж? Ты не перестаешь меня разочаровывать. Но пишешь все-таки хорошо. Не могу не признать. А мой портрет просто великолепен! Хотя даже не представляю, как меня можно написать плохо. Так что твоей заслуги тут нет. Я же совершенство. Кстати, я открыла кафе, о котором тебе говорила во время нашей последней встречи. Ты же знаешь, я всегда добиваюсь своего. Помнишь, ты мне обещал, что устроишь в моем кафе свою выставку, так что изволь исполнять. Мне нужны столичные знаменитости. Ну все, Ваня, ты можешь быть свободен, дальше я сама. — Ольга, ухватив Олега за руку, устремилась за еще одним бокалом шампанского.
— Папа, иногда мне бывает стыдно за маму. — Леся обняла Ивана. — Ты такой потрясающий художник, я тобой горжусь. Я завтра всех своих подружек сюда приведу. И знаешь, — девушка покраснела, — я рада, что именно ты стал моим настоящим отцом, а не этот, — она кивнула в сторону Олега. — И еще… Спасибо.
— За что? — удивился Иван.
— Ты спас меня. Благодаря тебе, квартире, которую ты купил, я обрела свободу. Вот представь, как бы я жила с этими двумя сумасшедшими. — Она посмотрела в сторону матери и Олега.
— Любой отец сделал бы для своей дочери такое, — смутился Иван.
— Не каждый! — еще один выразительный взгляд в сторону Олежки. — Не каждый! Ты отец, о котором можно только мечтать!.. Папа! Я так тебя люблю! — Леся набросилась на отца с объятиями. По щеке Ивана поползла слеза, которую он тут же украдкой смахнул. Негоже солидному джентльмену слезы лить…
Верочка уже не была похожа на скелет. Тонкие ее косточки обросли мяском. Даже чуть-чуть лишнего обросли. Верочка теперь была пухленькой. И настолько очаровательной, что страшно становилось от предчувствия, какой трагедией может обернуться это ее очарование. Как в старые добрые времена, было на ней платье от Шанель, а туфли от Маноло Бланик. Это что-то новенькое. Верочку держал за руку седовласый, элегантный мужчина иностранного образца. Сразу видно, что очень богатый.
— Ваня, это Джон, мой муж, Джон, это Иван, мой старый знакомый, — сказала она на безупречном английском. — В Интернете познакомилась, — уже по-русски. — Три дня назад расписались в нашем городе, так проще. А завтра мы улетаем в Америку. С Англией, к сожалению, не получилось… Пока не получилось. Джон, это Иван спас меня от смерти, когда я умирала от анорексии, — снова по-английски, — он оплатил мне психолога, купил квартиру и ноутбук, благодаря которому мы с тобой и познакомились. — Верочка темпераментно поцеловала Джона в губы. — Спасибо, Ваня, — снова по-русски. — Ты спас меня! Ты от смерти меня спас! Ты самый великодушный мужчина на свете!
— Вы очень ее любили? — спросил Джон Ивана.
— Очень.
— Вы настоящий мужчина, настоящий аристократ! Позвольте пожать вашу руку! Я благодарен вам, ведь если бы не вы, я никогда не встретил бы Вьеру. Она женщина моей мечты. Спасибо!
… Когда Верочка увидела свой портрет, ей захотелось его уничтожить: а вдруг Джон ее испугается? Иван будто вывернул ее душу наизнанку, сдернул все маски. Но Джон сказал: «Ты еще сложнее, чем мне казалось, мне это нравится, значит, я никогда тебя до конца не познаю, и ты никогда мне не наскучишь», и поцеловал ей руку. Верочка тут же успокоилась. А Иван, наблюдавший за этой сценой, подумал, что Верочка не прекратит свои блуждания по сайтам знакомств, пока не найдет настоящего английского лорда — она же целеустремленная, эта мнимая простушка Верочка. А Джон после развода останется с глубокой раной в душе и станет несколько беднее. Предупредить? Нет уж, пусть сами разбираются. В конце концов, опыт — это тоже бесценный капитал.
К Ивану подскочила Регина, схватила за руку и потащила в центр зала к микрофону.
— Все уже высказались, а ты все со своими бывшими любовницами женихаешься, — прошипела она несколько раздраженно и даже ревниво, — протокол мне нарушаешь. Друзья! — произнесла она торжественно уже в микрофон, — позвольте вам представить талантливого художника Ивана Лёвочкина. — Раздались аплодисменты. — Иван пришел в живопись совсем недавно, уже в зрелом возрасте. Он совершил настоящий подвиг — бросил бизнес ради искусства. Думаю, почему он это сделал, Иван расскажет сам.
— Добрый вечер! — Иван обаятельно улыбнулся. — Вот когда сейчас Регина говорила, что я ушел из бизнеса ради живописи, я знаю, что подумало большинство из вас. — Он выдержал паузу. — «Дурак! Иван — дурак!». Так ведь вы подумали? — смех в зале. — Я, признаться, и сам так иногда думаю. Точно нужно быть круглым дураком, чтобы отказаться от карьеры, от денег, от высокого положения в обществе, от статуса ради каких-то там художеств. Ради забавы для детей и пенсионеров. Это я раньше так думал про живопись. Да, вот так — забава для пенсионеров и детей. Не более того. А потом настал такой момент, когда деньги, карьера, статус показались такими пустяками, такой мелочью по сравнению вот с этим. — Он обвел рукой полотна на стенах. — Настал такой момент, что казалось, если прямо сейчас я не возьму в руки кисти и краски и не начну писать, я просто погибну! Умру! Перестану существовать! И что мне оставалось делать? Только рисовать. Спасибо маме и Александру Васильевичу за то, что в свое время подсунули мне краски и усадили писать натюрморт. В детстве я мечтал стать художником. Но много ли найдется людей, которые стали тем, кем хотели? Хотя нет, знаю таких. Вот Мари Арно, с которой мы вместе учились в художественной школе в маленьком городке, мечтала стать только художником. И стала. — Зал зааплодировал. — А я предал свою детскую мечту. Разменял ее на деньги. Но вы знаете, никогда ведь не поздно к ней вернуться, если вы, разумеется, не собирались стать космонавтом. Тут уж, пожалуй, без шансов. — Смех в зале. — Ведь именно в детстве человек точно знает, чего он хочет. Его сознание еще не замутнено условностями, обстоятельствами, опытом, знанием законов жизни, разочарованиями, даже на пожелания родителей ему пока еще плевать. Он ведь уверен, что сможет преодолеть все препятствия. Поэтому он хочет того, чего действительно хочет. А потом человек может свернуть со своего пути, но он ведь может на него и вернуться. Я вот вернулся. И вернулся, как мне кажется, вовремя. Ибо только сейчас, когда я уже многое испытал, многое повидал, я могу о чем-то сказать людям. Когда я писал эти полотна, я был по-настоящему счастлив. Даже не знаю, когда я был больше счастлив, когда заработал свой первый миллион или когда написал свою первую картину. Мне кажется, что когда написал картину… Это портреты женщин, которых я любил. — Иван кивнул на полотна. — Все они сыграли большую роль в моей жизни, и каждая чему-то меня научила. — Произнося эти слова, он старался не смотреть вокруг, но чувствовал себя будто под перекрестным огнем взглядов этих женщин. И действительно, каждая из них сейчас стояла рядом со своим мужчиной, но смотрела на теперь уже чужого для них мужчину в центре зала. Смотрели с любовью, с сожалением, с раскаянием, ведь каждая из них в свое время предала его, отказалась понять, вычеркнула из жизни, променяла на свою гордыню или другого мужчину. Смотрели эти женщины и друг на друга — с еще неизжитой злостью, с ревностью, с ненавистью. И каждая винила другую, не себя, в несчастливости Ивана. В том, что он стоит сейчас красивый, успешный, богатый, но совершенно одинокий. Всем помог, а сам совсем один, как перст. Иван откашлялся. — И сейчас я хочу сделать для них небольшие подарки — это их портреты. Дорогие мои девушки, как только закончится выставка, а идти она будет, если не ошибаюсь, что-то около месяца, вы можете забрать свои портреты на долгую добрую память. У меня все. Спасибо за внимание.
Зал разразился бурными аплодисментами, а Регина так и застыла с округлившимися от возмущения глазами:
— Что значит — подарки? — накинулась она на Ивана. — Мы их продать могли! Тут уже многие интересовались этими портретами! Вон тот господин, — она показала на Анатоля, — за портрет брюнетки хоть десять штук евро готов был отвалить.
— Обойдется, ему оригинал достался, — проворчал Иван. — Региночка, вам, видимо, еще только предстоит понять, что деньги не главное в жизни. Я писал эти портреты не для продажи, а именно для того, чтобы подарить.
— Иван, ты самый странный мой клиент. Ладно, будем надеяться, что остальные твои картины раскупят. Хотя после твоей трогательной речи пусть только попробуют ничего не купить.
К Ивану подходили знакомые и незнакомые люди, восхищались, поздравляли, благодарили за доставленное удовольствие. Одна экзальтированная дамочка даже заявила, что благодаря творчеству, а особенно словам Ивана, решила круто изменить свою жизнь и осуществить свою детскую мечту — стать клоунессой и выступать на детских праздниках.
— Слышь, Вань, — Анатоль выглядел смущенным и пьяным, то ли от любви, то ли от неумеренного потребления шампанского, — Лизонька — твоя бывшая, да? — Иван кивнул. — Понимаешь, Вань, влюбился я в нее. Как мальчонка какой желторотый. Ты… Ты ведь не будешь возражать, если мы с ней… Ну ты понимаешь… Лизонька такой ангел. Истинный ангел.
— Благословляю, — рассмеялся Иван. — Будьте счастливы, дети мои!
— Без обид?
— Без обид. И без ревности. Я рад, что Лиза попала в добрые руки. Ты уж веди себя с ней хорошо. Она не телка какая-нибудь, а тонкое ранимое существо.
— Постараюсь. — Анатоль помолчал, будто собираясь с мыслями, а потом сказал, — Вань, ты это, если не хочешь, не возвращайся пока на работу, трудись в прежнем режиме, как сейчас. Мне, конечно, очень тебя не хватает, и компании тоже, но ты рисуй, рисуй, у тебя хорошо получается. Я вон ту картинку уже прикупил. — Анатолий Владимирович показал на полотно большого формата, изображающее тихий московский переулок, залитый дождем, по которому шла одинокая женщина с синим зонтом. Это Иван тогда воображал, что где-то под дождем идет Аня и вспоминает о нем, об Иване. Такая светлая, очищающая грусть исходила от этой картины, что невольно вызывала печальную улыбку и воспоминания о своих любимых, которых мы потеряли из-за какого-нибудь, казалось бы, незначительного пустяка. Хотелось их вернуть. Ивану тут же стало жалко картину — будто ребенка своего в чужую семью отдаешь. Но он справился с этим своим порывом — произведение искусства невозможно посадить под замок, оно должно украшать собой жизнь людей.
— Десять кусков отвалил, — продолжал Анатоль. — Ты обещал подарить, конечно, но я решил поддержать молодое дарование. Не обеднею, а тебе наверняка приятно. — Иван кивнул. — Ну, в общем, на живописи особо не разбогатеешь, но можно вести вполне сносное существование. На хлеб с маслом хватит, на икру нет, но это уже роскошь! Без этого и обойтись можно. — Он, как обычно, рассмеялся над собственной шуткой. — Ну, ты все-таки возвращайся. Нужен ты мне. Может быть, как-то совмещать получится? — спросил он с надеждой.
— Думаю, да, когда страсть пройдет. Пока не прошла. Пока еще горю.
— Ну, что ж… буду ждать, когда потухнешь. — Анатоль направился к Лизочке.
Гости расходились.
Александр Васильевич сказал Ивану и Машке:
— Жизнью я своей был доволен, но была у меня такая тщеславная мечтишка: очень хотелось, чтобы кто-нибудь из моих учеников стал настоящим художником, а еще лучше, чтобы знаменитым. Я уж похоронил эту свою мечту, смирился, а тут вы… Спасибо, вам ребята. И тебе спасибо. — Он обернулся к матери Ивана, — ты ведь тоже моя ученица — талантливейшая художница. Теперь и умирать не страшно.
— Ваня, я счастлива, — сказала мать Ивану, — вот уж и не ожидала, что самые мои счастливые годы придутся на старость. Спасибо, сынок!
Регина поздравила Ивана с успехом и сообщила голосом, в котором слышался радостный перезвон монет:
— Я продала все твои картины, кроме, разумеется, тех, что ты так неосмотрительно раздарил. Такого у нас еще не было. Браво! Я восхищена! Матушку твою тоже частично продала — все от нее в восторге. Говорят, не хватает им в жизни такой вот трогательной, наивной простоты. И у Александра Васильевича кое-что купили. Словом, Иван Сергеевич, я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Да, это был успех, признание. От чего же Ивану было сейчас невыносимо тоскливо?! Может быть от того, что разделить свою радость ему было не с кем. Он проводил мать, Александра Васильевича и Гришку в свою первую московскую квартиру, которую так и не продал в надежде, что мать когда-нибудь переедет в столицу, а сам отправился домой, где его никто не ждал. Никто.
Глава тридцать первая
Было у Ивана какое-то странное ощущение, как бывало в раннем детстве после Нового года или в юности после дня рождения: все было, гости, подарки, веселье, только вот Дед Мороз так и не пришел, или девушка, которую ты больше всех ждал, так и не появилась. В этот вечер, в вечер своего триумфа, он ждал Аню. Где-то в глубине души он понимал, что сделал все это — отказался от карьеры, написал чертову кучу картин, устроил выставку не только для себя и не только ради себя. Это был его подвиг, который он посвящал своей потерянной музе по имени Анна. Она же хотела, чтобы он подвиг совершил, так он совершил, а она не пришла. Да Бог с ним, да хоть бы с новым парнем пришла, как все остальные, лишь бы посмотрела, оценила, чего он ради нее сделал. Так нет же, не явилась. Ведь передал же он через ее мать приглашение! И ни ответа, ни привета! Сейчас Ивану казалось, что один из главных уроков, который должен выучить человек в жизни — научиться прощать. Он вот, кажется, научился, стоптал десятки железных башмаков, сточил десятки железных посохов, но научился. А она, видимо, еще нет. Ну что ж… Ему остается только простить ее за то, что она его не простила. И за то, что не пришла. Пока не очень получалось.
Иван открыл дверь своей квартиры. Там горел свет, по холлу от сквозняка метнулись шарики на длинных нитках, парившие под потолком, а у порога стояла Аня в длинном синем платье с виноватой улыбкой на лице и протягивала Ивану бокал шампанского.
— Ты мне снишься? — спросил он.
— Нет, я вернулась.
— Правда?
— Правда. Ты меня еще ждешь?
— Жду. А если бы не ждал?
— Значит, не ждал бы. Значит, была бы в твоей жизни другая женщина. Значит, я бы исчезла навсегда. Неважно с кем ты, важно, чтобы ты был счастлив.
— Где ты пропадала?
— Работала. Училась быть самостоятельной.
— Успешно?
— Вполне.
Они стояли друг против друга у порога и больше всего на свете хотели броситься друг другу в объятья, но они продолжали задавать вопросы, потому что никто из них не решался сделать первый шаг.
— Прости меня, — наконец сказала Аня.
— И ты меня прости, — выдохнул Иван и привлек девушку к себе. — Как же я по тебе соскучился, девочка моя.
Когда они усталые и счастливые лежали в постели, Иван спросил:
— А те краски на мой прошлый день рождения ты прислала?
— Я. И еще я должна тебе кое в чем признаться. Я же не хотела от тебя уходить. Я мучилась, страдала, не знала, что делать. И хорошо мне было с тобой, и тяжело. Невыносимо тяжело. Но я бы тогда не ушла. Так и жила бы с тобой и страдала, пока бы ты сам меня не выгнал. А в ту ночь, когда я отравиться собиралась, сон мне приснился. Очень странный сон. Будто в этом самом кресле сидит какой-то необычный мужчина, на черта похожий из табакерки, но при галстуке-бабочке. И с сигарой. Вот он и говорит мне, сладенько так:
— А брось ты его.
— Кого? — спрашиваю.
— Да мужа своего, Ваньку-дурака. Понимаешь, милая, если ты тут рядышком с ним будешь сидеть, завтраками-ужинами его кормить, плакать по ночам да изредка ему истерики устраивать, когда совсем уж тоскливо тебе будет, он ведь не изменится, предназначения своего не исполнит, да и своего отношения к тебе не изменит. Переживаешь, что он к тебе, как к вещи, относится? Как к кошечке домашней? А ты, девонька, давала ему повод относиться к тебе по-другому? Что ты сделала для того, чтобы он считал тебя личностью? Ты работаешь? Нет. К чему-то стремишься? Нет. Ты поражаешь его остротой и незаурядностью своих суждений? Нет. Да ты даже деньги у него выпрашивать не умеешь. Почему у тебя до сих пор даже собственной квартиры в Москве нет? А Ванька-то человек щедрый, у него только попроси, он сразу купит. Так ведь ты ж и попросить не решилась. То-то и оно. Так что, милая, надо уходить. Пора уже становиться личностью. И он, глядишь, наконец, тебя оценит, когда потеряет. Вы же такие, людишки, смешной народ, не цените того, что имеете. И даже понимаете, что были когда-то счастливы, только когда на вас обрушивается целый каскад несчастий. Так-то. Так что, девонька, если хочешь, чтобы Иван обращал на тебя больше внимания, собирай вещички и уходи. Но только уходи элегантно, не обижай его, не оскорбляй. Помни, что твоя цель — вернуться, но уже в новом качестве. И никаких полумер. Звонков, выяснений отношений. Исчезла, так исчезла. Иначе ничего не добьешься. Иначе проиграешь. Удачи, девонька!
Я проснулась с ощущением, что все это было на самом деле, в реальности. Потом поняла, что это всего лишь сон. Только я успокоилась, как увидела пепел от сигар на полу рядом с креслом. Ты не представляешь, как мне стало страшно, я не знала, что и думать. Мне казалось, что я не одна в квартире. В общем, мне так страшно было, что я собрала вещи, написала тебе письмо и ушла. К тому же пока я чемоданы паковала, все думала над словами этого таинственного ночного гостя и поняла, что он прав, что стоит рискнуть. Либо пан, либо пропал. По-другому ничего я не добьюсь. И вот я ушла. Прости меня! Мне до сих пор стыдно за свой поступок, я, наверное, столько страданий тебе принесла. Но если тебя это утешит, мне было еще тяжелее, потому что ты остался дома, а я оказалась на улице — без работы, без жилья, без связей, хорошо у меня хватило ума прихватить немного денег. А я ведь не хотела, я же такая гордая девчонка. К счастью, несмотря на стресс и страх, разум возобладал — деньги я взяла и довольно много, извини.
— Не переживай, триста тысяч рублей — это совсем немного, — встрял Иван.
— Мне казалось, что много, и мне было стыдно. Я чуть ли не воровкой себя считала. Но инстинкт самосохранения победил совесть. В общем, сначала перебралась в самую дешевую гостиницу, потом сняла квартиру, нашла работу. Ты не поверишь, официанткой. А что, неплохая работа. Ресторан был очень приличный, джентльмены, вроде тебя, оставляли хорошие чаевые. А я вспоминала времена, когда я была не обслугой, а клиенткой. Знаешь, гораздо приятнее сидеть за столиком, чем бегать с подносом. Иногда я плакала, мне было так паршиво и так хотелось вернуться к тебе. Но я вспоминала слова того жутковатого клоуна в бабочке: «Исчезла, так исчезла, иначе ничего не получится», и оставалась в своей съемной халупе. Но продолжала искать другую работу. У меня ведь хорошее образование — экономическое плюс паблик рилейшенз. Вот меня и взяли в одну крупную ресторанную сеть. Я прошла собеседование и огромный конкурс. И меня взяли. В общем, я теперь высококлассный специалист по пиару. И высокооплачиваемый. В общем, я могу теперь быть даже твоим агентом. Только учти, мои услуги стоят недешево. — Аня расхохоталась. — Кстати, я бесконечно тобой горжусь! Ты лучший мужчина, который мне когда-либо встречался в жизни! И самый талантливый художник. А мне-то ты мой портрет подаришь?
— Подарю. А откуда ты знаешь про портреты и подарки?
— Я подружилась с твоей мамой. Она мне рассказывала о том, что происходит в твоей жизни. Надеюсь, ты ее простишь за этот маленький шпионаж?
— Так она постоянно общалась с тобой и ничего мне не рассказала?
— Я ее убедила. Я рассказала ей про свой сон, про того черта с бабочкой и сигарой, сказала, что он запретил мне тебе говорить. Она как про этого типа услышала, сразу согласилась. Я так и не поняла, почему.
— Вот старый пройдоха! — восхищенно воскликнул Иван.
— Ты тоже его знаешь?
— Ну что ты, милая, откуда я могу знать персонажа твоего сновидения. Давай спать. Знаешь, я столько времени мечтал о том, чтобы уснуть, прижавшись к тебе. И еще! Я тоже тобой бесконечно горжусь. Ты сумела отказаться от сытой, обеспеченной жизни и всего добилась сама. И я тоже от многого отказался и многого добился. Тот пройдоха был определенно прав. Вот же, шельмец!
Шельмец и пройдоха обнаружился той же ночью, в том самом кресле, в котором Иван увидел его в первый раз в жизни. Сейчас перед ним стоял Иванов журнальный столик, сервированный ведерком с шампанским, двумя бокалами, двумя фарфоровыми тарелками и серебряными приборами. Еще там имела место банка черной икры, разнообразные сыры, хамон и пепельница из муранского стекла.
— Присоединяйтесь! — воскликнул Петр Вениаминович, когда заметил, что Иван открыл глаза. — У меня сегодня праздник!
— А я думал, что праздник сегодня у меня и даже двойной.
— Вы, батенька, хоть и несколько переменились, но все тот же редкостный эгоист. Да, безусловно, у вас сегодня праздник, даже двойной. Но свой праздник вы уже отметили, а теперь мне нужно разделить с кем-то свой триумф! Я выбрал вас! Гордитесь, молодой человек! Это большая честь для вас. К тому же, без вас, как это ни прискорбно, никакого бы праздника не было бы.
— И что это за праздник, позвольте спросить?
— Повышение по службе. Я ждал его несколько десятилетий. И вот оно! Случилось! Когда я уже перестал ждать! Так ведь и бывает! Хоть в вашем мире, хоть в нашем. Законы бытия везде одинаковы. Давайте выпьем, Иван Сергеевич! — Петр Вениаминович разлил шампанское по бокалам. Одет он был сегодня так же, как во время первой встречи с Иваном — во фрак и бабочку красную в желтый горошек. Иван вдруг почувствовал, что больше никогда он своего ночного гостя не увидит. Он знал от Лизочки, что такая композиция истории называется кольцевой. Это когда сюжет начинается и завершается одной и той же ситуацией. Ивану захотелось плакать, как в детстве, когда ему сказали, что их кот Пушок пропал, а он догадался, что кот умер. И так защемило его сердце от того, что никогда он не увидит больше этого серого пушистого зверя с дурным характером, который не давал Ивану спать по ночам, царапался, когда бывал не в настроении. От которого были одни неприятности, но которого он так любил.
— Я хотел бы знать, за какое такое повышение мы пьем? — грубо спросил Иван, пытаясь скрыть волнение.
— Вы же меня знаете, я человек великодушный, поэтому, несмотря на то, что вы позволили себе задать мне вопрос в достаточно хамской манере, а некоторое время назад назвали меня пройдохой и шельмой, я все равно вам отвечу. Тем более что, как вы правильно угадали, видимся мы в последний раз. — Петр Вениаминович утер непрошенную слезу грязноватым платком. — Да, мне тоже грустно с вами расставаться. Ах, да, ваш вопрос! Меня назначили музой ночных сновидений.
Иван поперхнулся шампанским:
— Что это значит?
— Это значит, что видеть во сне вы меня больше не будете точно, но, тем не менее, я смогу незримо присутствовать в ваших снах и подсказывать вам идеи новых творений. Ну, не только вам, безусловно. У меня будет много подопечных! — Петр Вениаминович мечтательно поднял глаза к потолку. — Боже, боже! Как же это, наверное, великолепно наблюдать плоды своих мыслительных усилий в музыке, в литературе, в живописи, в театре. Пусть все эти произведения будут иметь других авторов, но ты-то будешь знать, что созданы они при твоем участии. А эти горе-авторы даже догадываться ни о чем не будут!
— Петр Вениаминович, я решительно ничего не понимаю! — возмутился Иван. — Какие еще музы ночных сновидений? А сейчас вы кто?
— Мне по уставу не положено разглашать подобного рода информацию. Ну да черт с вами, скажу! Я сегодня сам на себя не похож — слишком добрый. Так вот, позвольте представиться, Петр Вениаминович, скромный клерк Небесной канцелярии, сотрудник Отдела заблудших гениев. Курирую жителей вашего незначительного городка. Я имею в виду того, в котором вы появились на свет.
— А, так поэтому вы снились моей матери, Машке и мне, а все не мог понять, откуда такая странная избирательность, — догадался Иван.
— Извольте не перебивать, молодой человек! — бровь Петра Вениаминовича гневно изогнулась, — иначе я вынужден буду завершить свой рассказ на том самом месте, где только что остановился. — Он отхлебнул шампанского и отправил в рот сразу несколько кусков хамона. Торопливо прожевал, затем продолжил свое повествование. — В мои служебные обязанности входило обнаружение гениев, ну или, по крайней мере, талантливых людей на вверенной мне территории. Кстати говоря, с гениями на этой самой территории очень напряженно, их практически нет, талантливые люди есть, а вот гениев — нет. Признаюсь, данный факт всегда вызывал во мне некоторую досаду и зависть к более удачливым в этом плане коллегам. Грешен, каюсь. Но я уверен, что меня можно извинить за эту слабость, ибо я в прошлом всего лишь человек, к тому же, далеко не самый добродетельный. Так вот, мне вменялось в обязанности заносить этих людей в специальную картотеку, а затем следить за их жизнью. Конечной целью моей деятельности являлось следующее: мои подопечные должны были непременно исполнить свое предназначение, то, для чего они и явились на этот свет. Рано или поздно.
— Но, позвольте…, — попытался было встрять Иван, но был остановлен суровым взглядом Петра Вениаминовича.
— Не перебивать, я сказал! — рявкнул он. — Займите свой рот чем-нибудь. Сырочки вот кушайте, мясо, шампанское пейте. И не стоит переживать за свое пищеварение — не забывайте, что это всего лишь сон! Итак, вы хотели спросить, отчего же тогда некоторые люди умирают, не только не исполнив своего предназначения, но даже и не узнав о нем? Да все очень просто, Иван Сергеевич, точнее, совсем не просто: людишки, знаете ли, глупы, упрямы и склонны к самоуничтожению, а мы, хоть обладаем выдающимися способностями, но не всемогущи. Увы. К тому же большинство моих коллег, к сожалению, мягкотелые слюнтяи, добренькие слишком, используют только чинные благородные способы. А как показывает практика, лучше работает шоковая терапия, угрозы, шантаж и манипуляции. Э-э-х! — Петр Вениаминович обреченно махнул рукой. — Я все же предлагаю оставить общечеловеческие вопросы, ибо они к теме нашей беседы не имеют отношения. Тут и ночи не хватит, чтобы все обсудить. О чем это я? Ах, да! Так вот, когда красавица наша, Мари, вас, пардон, так беззастенчиво кинула, я сразу понял, что вы с истинного своего пути свернули. Я хотел было сразу принять меры, а потом понаблюдал за тобой и понял, что если прямо сейчас вернуть тебя к мольберту, так ничего путного из этого не выйдет. Для творчества ты должен дорасти. Дозреть, так сказать, до подлинного искусства, а так были бы всего лишь симпатичные бирюльки. Баловство, одним словом. Так вот, когда вы приблизились к своему сорокалетию, я понял, что вы уже достаточно запутались в своей жизни, достаточно горького опыта понабрались, и решил вмешаться. Ну а дальше вы, собственно, знаете. Вы оказались самым сложным моим клиентом. С Мари были только эпизодические трудности: она как встала в свою колею, так, пардон, и перла, без страха и сомнений. Напротив, так увлеклась, что умудрилась забыть о высоком предназначении женщины — рожать детей, продолжать род человеческий. Матушка ваша… Я, признаться, ее проглядел. Она когда с красками-то в детстве возилась, я ее в картотеку-то, разумеется, внес, но большого таланта не приметил. Подумал, что ее стезя — это мужа любить, сына воспитывать да детишек в школе учить. А потом, когда осталась она совсем одна — вижу, погибает человек, решил ей помочь, напомнить о детском ее увлечении. Я даже не ожидал, что так удачно все сложится. Мне, кстати говоря, за матушку вашу выговор на службе влепили. За то, что талант-то ее прозевал. Но я на нее не в обиде, напротив, я ее считаю огромной своей удачей. Она моя гордость! — Петр Вениаминович задумчиво затянулся сигарой. Потом принялся за еду.
— А как вы попали в Небесную канцелярию? — робко спросил Иван.
— Как, как? — ответил Петр Вениаминович чавкая, — умер. Что вы на меня так смотрите, Иван Сергеевич? Ну да, я умер. Завершилось мое бренное земное существование, и я вступил в вечность.
— Я что же, сейчас с привидением разговариваю?
— Молодой человек! Я, откровенно говоря, был лучшего мнения о гибкости вашего ума. Сколько же можно жить в узких рамках неверных представлений об окружающем мире, навязанных вам обществом. Кто такие привидения? Не более, чем выдумка человечества. С чего вы взяли, что мир, в котором вы живете сейчас, единственный? Нет, безусловно, благодаря религиям и фантастике вы можете предположить, что кроме как на этой маленькой планетке есть и другая жизнь во вселенной, что после смерти начинается какая-то другая, новая жизнь, но ваши представления о ней настолько же смешны, насколько и наивны. Ну, да, впрочем, это неважно. Эти знания и не должны постигать живые, это знания для мертвых. Мертвых, в вашем, человеческом, понимании, безусловно. Вот помрете и сами все узнаете! — Петр Вениаминович расхохотался, наполнил бокалы шампанским, при этом количество жидкости в бутылке не уменьшилось. — Шучу-шучу, уж поживите пока еще. — Он залпом выпил целый бокал.
— А кем вы были, — Иван замялся, — пока… пока не умерли?
— Да так, дрянь был мужичишка, по правде сказать. Но с большими амбициями. Все мечтал артистом быть, в театре служить, а работал в цирке.
— В цирке? — удивился Иван.
— Да. И не каким-нибудь там дрессировщиком, жонглером или канатоходцем. И даже, пардон, не клоуном. Ваша матушка все-таки очень мудрая женщина, проницательная. Она правильно угадала — я был конферансье в цирке. Кто такой конферансье в цирке? Да тьфу, недоразумение. Не звезда, а лишь человек, который объявляет звезд. Я страдал. Мое самолюбие было перманентно уязвлено. Меня ежедневно, ежечасно, ежеминутно мучила зависть. Черная, тягучая, как трясина. Засосет, и не выберешься. Вот и я не смог. И погиб-то я, собственно, из-за нее родимой, из-за зависти. Набрался «бордо» да и пожелал доказать нашему, как сейчас говорят, суперстару, укротителю тигров месье Поросенкову, что я тоже не лыком шит и с тиграми тоже управляться умею. Позвольте опустить подробности моей погибели, ибо вспоминать данный инцидент мне до сих пор крайне неприятно. И прошло-то уже, почитай, что сто годков, а все равно неприятно. — Петр Вениаминович скроил трагическую физиономию и опорожнил еще один бокал шампанского. — Нда, собственная смерть — не самая вдохновляющая тема для беседы.
Иван сидел, медленно тянул шампанское, слушая Петра Вениаминовича, и не мог смириться с абсурдом происходящего. Он не хотел слушать того, что говорил ему этот скромный клерк Небесной канцелярии. Не хотел слушать и при этом сгорал от любопытства. Ни к чему обычному сорокалетнему земному мужчине такие познания. Если верить Петру Вениаминовичу, то все это он должен был узнать лишь после смерти. Вот и ни к чему было торопить события. Впрочем, Иван понимал, что если бы сейчас его ночной гость не ответил на его вопросы, он бы мучился ими до скончания своего века. Но в то же время ему хотелось, чтобы всем переменам в его жизни, всем чудесным и грустным событиям последнего года нашлось какое-то более рациональное объяснение. Чтобы Петр Вениаминович был всего лишь сновидением, а не поводырем, и чтобы Иван абсолютно всего добился сам, а не был марионеткой в руках изобретательного сотрудника Небесной канцелярии.
— Да не переживайте вы так, юноша, — сказал Петр Вениаминович, чавкая хамоном, — обо всем, что я вам сегодня наговорил, вы наутро благополучно забудете — перепили вы, голубчик, шампанского-то, так что случится с вами провал в памяти. И к тому же нечасто люди запоминают свои сны. Но я бы не хотел, чтобы вы меня забыли совсем. Чай не чужие уже, вон сколько ночей-то провели вместе. — Он глумливо подмигнул и рассмеялся как-то по-мальчишески. Иван даже и не предполагал, что персонаж этот может быть таким симпатичным.
— А может быть, и не стоит мне забывать этот разговор? Как-то приятно все-таки знать, что после смерти ничего не заканчивается.
— Возможно, вам не страшно будет умирать, вот только жить будет невесело. Вы перестанете ценить каждое мгновение вашего существования, вы не будете спешить жить, вам не нужно будет чего-то достигать и к чему-то стремиться. Зачем это? Ведь вы точно будете знать, что впереди у вас вечность. Так что, думаю, будет разумнее все же устроить вам частичную амнезию. Страх смерти — это, как ни парадоксально, хороший стимул для жизни.
— Пожалуй, вы правы. — Согласился Иван с доводами Петра Вениаминовича.
— А что касается самостоятельности ваших решений и поступков, то я готов признать, что это были именно ваши решения и поступки, а я лишь вас чуть-чуть, легонечко так, ненавязчиво к ним подталкивал. Это для вас любой друг бы сделал, если бы, разумеется, у вас был такой друг, как я: умный и опытный манипулятор. — Петр Вениаминович снова задорно рассмеялся.
— Послушайте, а как же так получилось, что вас, не самого лучшего на свете человека — я извиняюсь, но вы сами так сказали — приняли на службу в Небесную канцелярию?
— Если бы на работу брали только праведников, то и работать было бы некому, — усмехнулся Петр Вениаминович. Как там было сказано в моей характеристике? «Умеренно добр, беспринципен, завистлив, корыстен, тщеславен, изворотлив, хитер, изобретателен, находчив, умен. Обладает обширными познаниями в различных областях, в том числе и в искусствах, обаятелен, харизматичен, талантлив, владеет даром убеждения, знаток человеческих душ. Свое земное предначертание не исполнил. Резюме — идеально подходит для службы в Отделе заблудших гениев». Вот и определили меня туда. Да и кинули в самое пекло — с городишком вашим возиться. Никто с земляками вашими справиться не мог — ленивы, невежественны, да и сильно пьющие, в основном. От безысходности пили-то. Только вроде бы до человека достучишься, а он бац — и преставился. Помер от пьянства. Был один мужик, который мог бы лет на двадцать раньше осчастливить человечество — телевизор изобрести. Ан нет, его даже грамоте толком выучить не удалось, а потенциал был! Какой был потенциал! Только он о нем так и не узнал. Ну, вы и сами знаете ваш народишко. Своенравный народишко. Гришка вон, друг ваш сердешный, самый типичный представитель — будет тридцать лет на печи лежать да у моря погоды ждать, а пока гром не грянет, так он и не перекрестится. Начальству нашему как раз и нужен был человек, такой, как я, пройдоха, одним словом.
— Как вы сегодня самокритичны, Петр Вениаминович! — вставил реплику Иван.
— Но-но, молодой человек, не забывайтесь. Я и позволил-то себе эту маленькую слабость в виде откровенности только от того, что это наша последняя беседа, к тому же, как я уже вас предупреждал, помнить о ней вы не будете. А знаете, как хочется-то иногда душу облегчить, покаяться, да не положено нам ни по статусу, ни по уставу. Но человеческую-то натуру ничем не переделать, смертью даже и новой жизнью. Нарушаем мы устав, нарушаем. Тоже обходим правила и радуемся, когда нам это удается. Так вот, нужен был им человек, который не сюсюкал бы с подопечными, не нянькался с ними, как с детьми малыми, а действовал бы жестко, непредсказуемо, а если надо и об колено хребет бы ломал, фигурально выражаясь, безусловно. Вот представьте, Иван Сергеевич, явился бы я вам весь такой добренький, в белом мундире и принялся бы вас увещевать, что живете вы неправильно, надо бы измениться, надо бы поспокойнее относиться к деньгам и потрепетнее — к людям, что нужно срочно найти себя, откопать свой талант, когда тебя бьют по одной щеке, тут же подставлять другую, да и вообще, добрее надо быть, добрее. Подействовали бы на вас такие уговоры? То-то и оно, что нет! Так что, уж извините, голубчик, но пришлось вас немного помучить. Для вашего же блага. Мой многолетний опыт показывает, что угрозы действуют намного эффективнее, чем уговоры…, — Петр Вениаминович взял паузу, во время которой он с аппетитом поглощал сыры и пил шампанское большими глотками.
— Послушайте, — подал голос Иван, — а та авария?
— Какая еще авария?
— Это было в самом начале нашего знакомства. Вы тогда еще пообещали, что в порошок меня сотрете, если я вас ослушаюсь и не стану искать женщину, которую нужно спасти. Аккурат после этого мой водитель и въехал в колымагу какую-то. У меня тогда чудесный фигнал на лбу нарисовался и благодаря этому украшению у меня чуть важная сделка не сорвалась. Это что, вы ту аварию подстроили? Мне кажется, что даже при всей вашей склонности к изуверствам, это уж слишком как-то, это перебор. К тому же, могу предположить, что это совсем уж грубое нарушение устава вашей уважаемой конторы. Пардон, канцелярии.
Петр Вениаминович расхохотался:
— Стыдно признаться, но я к той неприятности на дороге никакого отношения не имею.
— А что же это было? И, главное, почему так вовремя эта неприятность случилась! Вот что подозрительно. Так что позвольте вам не поверить.
— Полноте, Иван Сергеевич! — Петр Вениаминович продолжал веселиться. — Ни разу за сегодняшнее наше рандеву не я вам не соврал, честное благородное. Правда и только правда. Ночь откровений. Вы можете мне кое-что пообещать, молодой человек?
— И что же? — Иван снова сделался холоден и недоверчив.
— Да ничего особенного, просто не увольнять своего водителя.
— А почему, собственно, я должен его увольнять?
— Да зазевался он тогда просто, задумался о чем-то своем, вот и боднул ту машинёшку. А с тормозами все в порядке было. Это он от испуга присочинил немного, боялся вам правду-то сказать — местом своим дорожит, нравится ему его работа, и вы ему тоже нравитесь. Он, кстати говоря, когда вы на службу-то ежедневно ездить перестали, затосковал даже, грустно ему было без любимого-то хозяина. Так что вы уж его простите. — Иван примирительно улыбнулся. — Но раз уж такой инцидент имел место, я, разумеется, не мог не использовать его в своих интересах. Такова, собственно, моя роль в той давней истории. Приношу свои извинения, если излишне напугал вас. Но теперь-то вы понимаете, что действиями моими руководило исключительно желание помочь вам. Теперь вы мне верите?
— Верю. Послушайте, мне показалось, что вы влюблены в свою работу, во время наших с вами бесед мне представлялось, что вы с превеликим удовольствием измывались надо мной. Так с чего это вы музой-то мечтали стать?
— Да такой уж у меня поганенький характер, — ответил Петр Вениаминович, — я всегда недоволен тем, что имею. Знакомая черта, не правда ли? — он усмехнулся. — Я вполне отдаю себе отчет, что это глупо, и это значительно осложняет жизнь, зато с другой стороны, эта самая особенность натуры заставляет двигаться вперед. Вот и мечтал я стать музой ночных сновидений. Это же так великолепно — вдохновлять людей на создание великих творений!
— А как же ваши садистские наклонности? Боюсь, что в новой должности вам сложновато будет их реализовать. — Засмеялся Иван.
— Нда, это, конечно, минус. Может быть, мне удастся внедрить какие-нибудь новаторские методы в процесс вдохновения. Например, буду напускать на несчастного художника или писателя самые страшные, изощренные кошмары. О! Уверяю вас, я уж развернусь! С моей-то фантазией! Ну-с, за то, чтобы мечты сбывались! — Петр Вениаминович поднял бокал.
— Позвольте, помнится, вы говорили, что ваша мечта исполнилась благодаря мне…, — спросил Иван после того, как отпил шампанского.
— Ха! Вот именно, благодаря вам! Мне начальство сказало, что переведет меня в музы только при одном условии — если у меня получится перевернуть жизнь успешного, состоятельного господина, у которого, в принципе, все в порядке, который по нынешним меркам является эталоном успешности, в какой-то степени героем нашего времени. Я говорю «в какой-то степени», потому что у нашего времени, к сожалению, нет героев. Их заменил такой типаж, как вы — человек, который сделал себя сам, который лгал, предавал, поступался своими принципами, переступал через себя, отказывался от своих убеждений, от своих любимых ради своей цели. Который стал богатым, известным, который имеет все, о чем ему мечталось во времена нищей юности, и даже больше. Он при этом глубоко несчастен и часто одинок, хотя и окружен самыми красивыми женщинами, но он ни за что добровольно не откажется от денег ради того, что может помочь ему стать счастливым. Таким, как вы, страшно завидуют, но лишь немногое знают, что завидовать-то особенно нечему. Вот вы-то, Иван Сергеевич, и стали моим заданием. Мне надлежало вернуть вас на путь искусства, ибо вы были рождены, чтобы стать художником. То есть, я призван был и без всякого особого задания сделать это, ибо в этом и состоит суть моей службы, но ведь у меня могло и не получиться. А я давно просился в музы. И тогда начальство решило предоставить мне дополнительный стимул — мол, удастся тебе вернуть эту заблудшую овечку в стан изобразительного искусства, то получишь вожделенный статус музы. Вуаля! Все получилось, как нельзя лучше!
— Так вы меня просто использовали?! — вскричал Иван и еле справился с желанием ударить Петра Вениаминовича по его довольной, наглой, лоснящейся физиономии или, по крайней мере, плеснуть в него шампанским. — Вы разрушили мою привычную жизнь, вы лишили меня карьеры, покоя только ради того, чтобы добиться своих целей? Только ради своего меркантильного интереса? Люди, что, по-вашему, игрушки?! Глина, из которой вы можете лепить все что угодно? А что будет, когда вам надоест быть музой? На какую подлость вы пойдете, чтобы стать ангелом, например? А может, вы еще и Богом захотите стать? Устроите тогда дворцовый переворот и незапланированный конец света?!
— А что, это мысль! — Петр Вениаминович расхохотался. Демонически. — Не хочу вас разочаровывать, но такую роль я не потяну. Даже и пытаться не буду. Обещаю! У вас, к сожалению, есть все основания мне не доверять, но прошу мне поверить, я человек чести и слово свое держу. Не горячись, Иван Сергеевич, не горячись. С вами я действовал в рамках устава и необходимости. Просто так уж случилось, что мои цели совпали с вашими глубинными потребностями, правда, о них вы сначала и не подозревали. Да мне никто бы и не позволил использовать живого человека в своих корыстных интересах. У нас ведь с этим строго. И видите, юноша, как все устроилось к обоюдному удовольствию! Я стал музой, а вы обрели свое признание, любовь и по-настоящему преданного человека! А еще веру в себя, в людей, в справедливое устройство этого мира. Вы, наконец, узнали, кто вы на самом деле! Вы очистили себя от скорлупы, которой обросли под влиянием социума, обстоятельств, общественного мнения, строя, воспитания, и стали собой! Вы стали свободным человеком! — Петр Вениаминович снова приложился к шампанскому. В эту ночь Иван узнал не только о том, что сотрудники Небесной канцелярии реально существуют, но и о том, что могут быть пьяными не хуже людей. — Мир? — новоявленная муза протянула своему протеже руку, изрядно перепачканную жиром от мяса и сыра. Иван преодолел брезгливость и руку пожал:
— Мир.
— Ну, что ж, засим позвольте откланяться, засиделся я что-то, заболтался. Разоткровенничался. Наболтал лишнего. Надеюсь, у вас ко мне больше нет вопросов?
— Есть.
— И что же это за вопрос, позвольте полюбопытствовать?
— Кого я, в конце концов, должен был спасти? Или это просто была уловка?
— Что, вы так и не поняли?
Иван отрицательно помотал головой.
— Хммм, я был более высокого мнения о ваших мыслительных способностях. Имеется у меня, конечно, искушение еще немного помучить вас загадками, но не буду. Проявлю добросердечие. Речь шла не о женщине. Это была лишь аллегория. Речь шла о вашей жизни, которую вы планомерно губили. Ведь вы когда-то любили свою жизнь? Страстно любили? А потом подустали от нее, как от надоевшей любовницы, которая регулярно не оправдывает ваших ожиданий.
— То есть мне нужно было спасти самого себя?
— Именно так. Умница, мальчик. Видите, благодаря моей маленькой хитрости, не будем называть ее обманом, вы помогли стольким людям. И себе в том числе. Ну а теперь позвольте все же покинуть вас, как мне ни жаль.
— Спасибо! Спасибо вам! — Иван вскочил и нерешительно обнял Петра Вениаминовича. Как отца, давно уже утраченного. Которого он так ни разу и не обнял, потому что в их семье это было не принято.
— Да не за что, сынок, — ответил Петр Вениаминович. — Будь счастлив, Иванушка-дурачок!
Петр Вениаминович исчез.
Иван только успел прилечь на кровать и подумать, что ему будет не доставать этого старого, добродушного и одновременно злобного сатира, как он возник вновь. Со свежезакуренной сигарой.
— Забыл сказать, картину я забираю.
— Какую картину?
— Портрет Светочки Калмыковой. Насколько я понимаю, его вы не сможете подарить оригиналу по причине смерти этого самого оригинала. — Петр Вениаминович утер слезу. — А у меня, пожалуй, получится его передать. Светочка хоть ничего и не смыслит в живописи, но я уверен, она будет рада. А вот теперь прощайте!
На следующее утро из картинной галереи исчез портрет одной из любимых женщин Ивана. Регина подняла шум и хотела, было, вызвать милицию, но Иван ее отговорил, сказал, что сам отдал портрет одному почитателю своего таланта. Он смутно припоминал, что прошлой ночью ему, вроде бы, снился Петр Вениаминович, и, кажется, он собирался забрать портрет Светочки. Значит, взял. Кто такой этот Петр Вениаминович? Черт его знает. Но он точно не враг. Скорее, друг и защитник. Почему-то Иван был в этом уверен. И еще он был очень признателен этому человеку — или кто он там был, потому что сейчас Иван был счастлив, и Петр Вениаминович был к этому тоже причастен. Иван не знал, как сложится его жизнь дальше. Будет жить он в богатстве или в бедности? Родится ли у него сын, как мечтали они с женой? Купит ли он, в конце концов, домик на Лазурном берегу? Вернется ли он на службу? Будет ли снова торговать алкоголем? Или станет великим художником? Он не знал своего будущего. Но он верил, что у него все получится. Потому что сейчас был счастлив.
А недавно Ивану стали сниться картины. Чудесные картины. И пусть Иван их не запоминал толком, но после снов этих оставалось дивное послевкусие вдохновения и желание творить.
Ольга Лёушкина. Июль 2010.




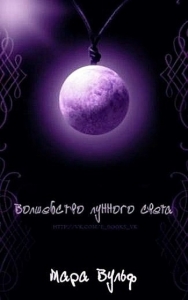





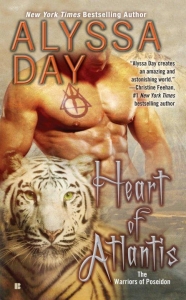



Комментарии к книге «Иван-Дурак», Ольга Анатольевна Матвеева
Всего 0 комментариев