Раннее утро, еще темень полная. Я несу мочу на анализ во флакончике, другие свою телесную жидкость — в естественной, натуральной посуде. То бишь в себе самих. Я особенный сотрудник, оттого мне и поблажки идут особые: свои анализы сдаю не по полной программе. Без наличия самого предъявителя. Господи, да желтую жидкость нацедить можно от любого мало-мальски здорового пациента, как-то я нахулиганил — кота вахтершиного подоил. Она его постоянно с собою таскает на дежурства. Просекли мигом, как получили, зато до того два часа чистой радости.
Кроме регулярных проверок — наработки на медкнижку, — мы еще и у населения кровь берем. И, натурально, у своих собственных страдников. Благо кабинеты смежные: с одной стороны полуклиника, с другой вошпиталь, как говорил мой денщик лет этак двести тому назад. То есть берут, разумеется, медсестры: колют пальчики, перевязывают локтевую вену резиновым жгутом, чтобы вспухло. Однако потом эта зараза вовсе не разливается по пробиркам, а прямым ходом идет ко мне через такой шланг с воронкой на одном конце и соской на другом. Я сижу за шторкой, изображаю из себя импортную машину для экспресс-анализа, на оригинал которой пожалели денег — сэкономили. И кормлюсь за компанию. Потому что на мне самом тоже. В смысле экономят.
А ведь и жалоб на меня нет, ибо работник я отменный. Блюду себя, как любой дегустатор или парфюмер: не курю, не бухаю, не нюхаю. Как та экспресс-машина, по одной капле определяю весь букет хворей, в придачу еще отчет отстукиваю на этом… ноутбуке. С нечеловеческой скоростью.
Зимой хорошо, рассветает поздно. Летом и весной госпитальная лаборатория работает без меня, я отсыпаюсь в каморке медперсонала рядом с рентгеновским кабинетом. Идиоты, кто же отдыхает рядом с жестким излучением? Ответ: я. Это еще пристойно; по ночам меня выгоняют оттуда и устраивают прямо на том лежаке, куда смертных помещают не иначе как накрыв тяжелым фартуком из свинца. Понятно, вместе с неразлучным моим ноутбуком и порядочно остывшими пробирками дневного урожая, потому что работа есть работа, отчет хоть помри, а выдай на-гора.
А платят чистым, незамутненным покоем и какой ни то едишкой. Ну и одёжка тоже чистая, рубаха, порты, халат, тапки, хирургические бахилы, все дела.
Ненавижу.
Вот они толпятся поутру перед тамбуром, ведущим в кабинеты кровеприемки. Тетка с животом, беременным десятью килограммами жира, явная диабетичка. Старые дамы с рожами разной степени изношенности. Юная толстуха в платье, которое на животе вздернуто настоящей и неприкрытой беременностью. Не средние века: быть может, это и романтично — выглядеть как на портрете супругов Арнольфини, но для этого фигурку надо иметь почти девичью, а то не младенец в чреве — одна грудь раскормлена. Старуха с волосами, крашенными пурпуром: в пурпуре явственно видны проплешины. Бабуля-мордоворот в старинных индийских бусах, которые нынче стоят гроши — аквамарины с большой дороги — но ценно умение держать фасон до победного. Ей я постараюсь вовсе не причинить боли, изымая кровь. (Не подумайте чего дурного, просто одна из моих напарниц наладилась попить кофейку, чтобы разогнать утренний сон, а я еще и гипнотизер отменный.) Снова женщина — копна; лишь маленькая изящная головка сверху копны выдает принадлежность к человеческому роду. Отчего-то мужички, изрядно потертые жизнью и насквозь пропитанные зеленым вином, не вызывают у меня таковой брезгливости: мои знакомые дворянчики еще и не так смотрелись в канун своей собачьей старости.
…Всех ненавижу.
Тускло освещенные коридоры с этими деревянными полосами, чтобы носилки не терлись по обоям (какие там обои — «оклеи» и «обмазы»!), продавленная уже после первого года мебель, вонючий линолеум вместо паркета. Амбре тухлой капусты и маринованного чеснока из столовой. Палаты с матрасами, на которых умерло уже не одно поколение страждущих: постельное белье меняют исправно, хотя трупяные запахи витают почти прежние. Ванна, куда смываются бациллы инфлюэнцы, чахотки, сухотки спинного мозга и синегнойной палочки. Про нужник я уж и не говорю, мне он без надобности, что радует несказанно.
…Всё ненавижу.
Врачи полагают, что за стенами госпиталя меня так и стерегут мои бывшие соратники, страстно жаждущие расправиться с ренегатом. Сами стены, по всей видимости, защищены тем, что какой-то поп окропил их веничком, смоченным в святой воде. Чушь: просто некому стало меня терроризировать (кошмарное новое словцо). Также медики искренне думают, что оказывают мне благодеяние. Ну да, такое, что впору решиться наконец и сдохнуть. Это куда проще, чем пишут в книжках: огонь охватывает так быстро, что боли и почувствовать не успеешь, а медицинского спирта здесь достанет для всех нужд. Можно бы и внутрь принять, как делают здешние первопоселенцы, но будет слишком похоже на самоистязание.
Что же мне мешает, наконец, осуществить это?
Уже после полуночи, завершив урочные дела, иду в обход. Ночные сестры это знают, знают и зачем — и обращают на меня внимание не более, чем на докучливого замкового призрака. Даже взора сонного не поднимают.
Я слушаю пациентов. Своим провидческим талантом я похож на описанного в бесплатной газетке «Мой район» больничного кота, что завел привычку ложиться на ноги умирающим. Только я еще и освобождаю их от телесной жидкости, что потребна мне самому. Ну, не так точно — я бы обошелся тем малым, что дает мне легальная работа, но ненавижу смертную агонию. Я ее чую за версту и за своими свинцовыми стенками.
Надеюсь, Бог делает с каждой отнятой нами души резервную копию.
Что меня здесь все-таки держит так долго?
Узкий, сплошь застекленный коридор, предназначенный только для медиков и — изредка — сплошь накрытых тканью каталок, соединяет наш терапевтическо-хирургический корпус с раковым. Туда мне нет ходу, там я могу лишь подглядывать.
Потому что там одни дети.
Их везут сюда со всей страны в тупой надежде исправить неисправимое и отклонить рок. Мы удобно устроились, потому что наши специалисты могут дополнительно подработать на консультациях, а наши няньки — помочь в уборке. Добровольцы (их именуют модным словом «волонтеры») и священники там свои.
После отца Георгия я прекратил туда просачиваться и смотреть в щелку, даже подслушивать. Он мне почти нравился: был похож на меня тем, что умел вбирать в себя заразу, только я делаю это вместе с большим количеством крови, а он всухую, так сказать. И о своем уникальном таланте не подозревал нисколько — пока в конце концов не вобрал в себя уйму этой пакости и не помер от той же болезни, что и его малая паства.
Нет, туда я больше не ходок, да и надобности нет.
Этот паренек попадал в раковый центр уже трижды. Вначале его ставили на ноги в детском корпусе, а в четвертый раз приблатненный папаша выдрал для него шикарный отдельный бокс по нашу сторону коридора, прямо в его начале. Сыну шестнадцать лет, как-никак. Переходный возраст: из отрочества во взрослость. Переходное пребывание — между местом надежды и обиталищем безысходности.
Ибо для него уже нет иного исхода, кроме смерти, и все это понимают, кроме его дикобразного отца. Не уверен, что отец его любит — просто жалеет расстаться с дорогим имуществом, на поддержание которого убухано столько бабок. С наследным принцем всего воровского отребья.
Сюда я хожу исключительно в сытом состоянии. Как они говорят, «хорошо нажратым». Они — это два тупоголовых богатыря косая сажень в плечах, иначе — амбалов два на два, что дежурят перед дверью. За те деньги, что папаша им дает, он мог бы принанять десяток сиделок получше той, что только и умеет, что махаться с ними по очереди на черной лестнице. Вот и сейчас один на страже, другой в резерве. Я незаметно, как туман, проскальзываю в палату — вот мы и здесь, почтенные.
Сашка распростерт на ложе: под шелковым стеганым одеялом совсем плоско, профиль костяной, роскошные белокурые волосы, нимало не нарушенные «химией», раскинулись по всей подушке, фиалковые глаза полуприкрыты. «Белее лилий, тоньше горностая», пропел бы сейчас король Анри Четвертый, заново переписав свою оду к прекрасной Габриэли (и — «последнее прости»).
Увидев меня, Сашка еле приподнимает голову, но радуется вполне громко:
— Михрютка! Вот молодец, что пробился. Вчерашний день пропустил, да?
— Прости, заспался, — смеюсь я почти без голоса. На самом деле просто не насытился как положено. — Скажи, как ты догадался, что я Михрютка?
— Выглядишь одно к одному, — улыбается он в ответ. — Волосы дыбом и чернющие, глаза как плошки с дегтем, на руках по три локтя, на ногах по четыре коленца.
Это каждодневный ритуал. Хотя я и на самом деле похож на известного неуклюжего персонажа шестнадцатой (так?) полосы «Литературки», которую он мог застать разве в архивах Ленинской Библиотеки (зал периодики, отделение для школьников). Годы — не тетка.
— Ты съел свой ужин, шпингалет? — спрашиваю я, и этот анахронизм приводит его в такой буйный восторг, что приходится зажать ему рот ладонью.
— Не-а. Маруся ушла погулять. Там каша заморская, манная в тарелке на столе. Говорили, от самого Гурьева.
Я кормлю его с ложечки остывшими комками, что также превращается в ритуал. Называется «Голодным ты совсем невкусный». С такого месива поправишься, как же: изюм размокший, урюк с жесткими волосами, и ведь если по-доброму кулинарить, поверху такая карамельная корочка должна получиться. Ну это нам без надобности, такое Сашке уже не проглотить.
— Ну как, ты решился, Михрютка? — спрашивает он, облизывая нижнюю губу. — А то я вообще истаю в шкилетину. И так во мне кровь не моя, а наполовину заёмная.
— Не дури. Тебе еще год остается по самым плохим прогнозам.
Вру. Нагло. Он понимает.
— Тогда расскажи сказочку.
Это тоже часть повседневного обихода. Но я вспоминаю для него не сказку, а быль, хотя и приукрашенную до неузнаваемости моим юношеским оптимизмом.
Птенцы гнезда Петрова. Ах, как хорош был я на капитанском мостике, брабантские кружева в блестках, шпага на перевязи, усыпанной мелкими алмазными розочками, пистолеты, такие неуклюжие, с колесным взводом курка! (Простите меня, если что-то перепутал: обеспамятел вконец.) А как блистал на ассамблеях! Пудреный парик до плеч — чаще я обходился своей пышной гривой, только подвивал ее крутым бараном и обсыпал то мукой, то мельчайшей белой глиной, но иногда стриг под корень ради накладных волос, выписанных из самого Парижа. А какие у меня были камзолы — с золотым шитьем, кованым кружевом, с бриллиантовыми пуговицами величиной с лесной орех! Трость с круглым резным набалдашником и трубка с крепчайшим кнастером в углу алого рта! На машкерадах я торжествовал в другом платье — иногда мужском, с такими короткими и задранными кверху фалдами, что напоминал самому себе танцорку, но по большей части — в тяжелой робе со шлепом, вздетой на кринолин. И ах, какие шутки были мною шучены! Как в меня были все влюблены — и кавалеры, и дамы, и мин херц, наш полудержавный властелин, и сам царь Петр, и царская блядка Анна Монс, и другая — Мария Гаментова! А уж персональный кубок Большого Орла был мне всегда их махальщиками предоставлен.
— Как ты неприлично говоришь, Михрютка: мама бы сказала, что ты для меня неподходящая компания.
Мама Сашки умерла незадолго до его болезни: лимфосаркома. Думаю, это у него наследственное.
— Ты про что? Ах, это словцо и производные от него были в таком ходу, что даже Антиох Кантемир употреблял их в своих сатирах ничтоже сумняшеся. Женки — б…ди, мужчины — б…ны.
— Ой, да перестань же!
Стеснителен он до удивления: не понимаю, как в такой семье, где даже его младшие сестры…
— Так что, мне продолжать?
Художник Рокотов. Портрет неизвестного молодого человека.[1] Треуголка, камзол тончайшего сукна, придворная шпага толщиной в вязальную спицу. Я описываю не парсуну, а оригинал. Такого, как я, тогда называли «хорошеньким мужчинкой», но без нынешней голубоватой окраски этих слов. И «…глаза как два обмана», влажно мерцающие, переменяющие настроение ежечасно и ежеминутно. Колдовские очи.
Тогда было много сражений — с турками, с немцем, со своими же холопами-пугачевцами, — и чистая кровь щедро лилась на землю. Эта иноземная шлюшка кавалер д'Эон тоже как-то слишком тесно со мной сблизился. Но сие я уже Сашке рассказывал.
Сашка слушает зачарованно. Ради одного этого я и тереблю старые раны.
— Гроза двенадцатого года…Ну, это долгая история, о ней как-нибудь позже. А потом настала новая эпоха. В чем-то более скудная, но и радостей было немало. Знаешь, эти хрестоматийные строфы тоже про меня:
Он три часа по крайней мере Пред зеркалами проводил И из уборной выходил Подобный ветреной Венере, Когда, надев мужской наряд, Богиня едет в маскарад.— Врешь! Это про Онегина, мы в школе заучивали!
— А сам Онегин-то кто?
— Русский денди, как учил нас Юрий Лотман!
Он такой умный, что даже не верится. Эльфийский корень сказался.
— Ну хорошо, не спорю. Это писано про моего друга Эжена. А вот сие про тебя, и не смей отнекиваться!
Он ловок был, со вкусом был одет, Изящно был причесан и так дале. На пальцах перстни изливали свет, И галстук надушён был, как на бале. …… И на устах его, опасней жала Змеи, насмешка вечная блуждала.— Это не про меня, а про тебя самого! — мальчишка едва не подпрыгивает от азарта.
— Ну что ты, разве я такой изысканный? Вот, может быть, ехидный такой же — это да. Герой, между прочим, твой тезка: Сашка.
— Нет, твой, твой! Помнишь, как ты мне о своем рождении рассказывал? Что родился таким заросшим, какими бывают только шестимесячные внутри мамы, и что собаки в честь тебя концерт устроили?
И цитирует по памяти:
А между тем печально у ворот Всю ночь собаки выли напролет, И, что страшнее этого, ребенок Весь в волосах был, точно медвежонок.— Ну, это Маёшка точно через край хватанул. Он там дальше сам признается, что у него было похожее рождение и что это у крестьян считалось большим счастьем — вроде как в сорочке родиться.
— Маёшка?
— Ну да. Три мушкетера: Монго, Маёшка и Михрютка. Алексей, Мишель и Алехан. Только я не попал в анналы.
— Ты… это… заливаешь.
Словцо он спер у меня самого.
— Фи, как неприлично! — возвращаю ему его же реплику. — Надо говорить «Компостируешь мне мозги». Или, на худой конец, «Вешаешь лапшу на уши».
Снова взрыв тихого смеха. Я начинаю за него бояться — не иначе жилы порвет, там стенки совсем прозрачные. Но на сей раз я говорю правду. Не всю правду, конечно.
Я сам попросил Мишеля не представлять меня широкой публике. Он послушался, хотя был далеко не из таких. Это именно он привесил мне ту дурацкую кличку, что я теперь ношу: не потому, что я тогда был «стёпой-растрепой», как говорили много позднее. Просто по сравнению со Столыпиным-юниор — вот уж кто был денди чистейшей воды! — мы с Мишелем смотрелись бледновато, а я не хотел ни в чем быть лучше Мишеля. Вот и не воспротивился «навешенному ярлыку». А припечатывать их он умел намертво! Это ж надо было назвать кавалеров любимой девицы кобелями — в то время, в ту эпоху и в той напыщенной среде!
— Ведь ты после той его дуэли так… ну, расстроился, — тихонько говорит Саша и гладит меня по волосам. — Что от Грушницкого не уберег. Кто жил и чувствовал, не может в душе не презирать людей… Да?
Я поправляю:
Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей; Кто чувствовал, того тревожит Призрак невозвратимых дней: Тому уж нет очарований, Того змея воспоминаний, Того раскаянье грызет.— Не надо, — он робко дотрагивается до моего плеча и снова падает на кровать. Наверное, он меня сейчас побаивается, несмотря на проведенный совместно час поэзии.
Кровь Мишеля тоже легла в землю, пропитала ее насквозь, и Монго стоял на коленях и плакал навзрыд, а дождь невозбранно мешался с той и другой влагой.
— Я… я, пошел, малыш. Спи крепко.
— До завтра, Михрик?
— До завтра, Сашок.
Завтра рано поутру снова сосание крови, стук ноутбука, комнатка с фоном, звоном и задернутыми темно-бордовыми шторами.
Я просыпаюсь оттого, что за стенкой вопят прямо-таки трубой иерихонской:
— Этот помойный выблядок, этот отморозок кровяной шастает, где хочет! Повсюду засветился радиоактивно! Уже и к моему сыну подбирается, падаль вековечная!
— Алехан же безвредный, — пытается оправдаться главврач. — И до сих пор приносил только пользу.
— Да куплю я вам эту грёбаную аппаратуру, биокардиочек называется! В ладонь размером — и не парься! На всех забугорных вокзалах стоят! Только чтоб его на этом свете…
— Это опасно, Роман Романович, — оправдывается кто-то.
— Фильтруй базар! То он вам теленок, то прям волчище. Вот мое последнее слово. Или вы с ним решаете вопрос до конца, как уж — дело ваше, или ждите, что на вас нехило наедут. И заодно на тех дохлятиков, что в обратном конце коридора. Тоже вам кормушка, верно?
Я уже рядом, но никто меня не видит — старый трюк, на который, однако, сейчас потребны все мои силы. Неправда, что солнце нас убивает, — это ведь не огонь, а та же радиация. Но вот чувствуешь себя примерно как человек при трех «же». Бревно бревном.
И тут я слышу тихое:
— Он же моей Альки первенец. Зеркало ее полное.
Это попадает мне уже в затылок. Я мчусь (ха!) по коридорам, на секунду прошмыгиваю в чистую перевязочную, где у меня заначка особого рода. И прямо к Сашке.
Не до церемоний. Кладу обоих стражей, няньку выношу за дверь. Хорошо, что мой паренек дремлет под капельницей, — жалюзи на окнах опущены, это для меня куда способнее тряпок.
— Сашка, — зову.
— Михрик… Пришел.
— Саш, у меня нет никакого времени. Уходить придется. Ты по-прежнему не боишься?
— Я же всегда хотел. Только ты мне все время сказки рассказывай, ладно?
Тем временем я выдергиваю из него иголки и отлепляю датчики. Дурачок мой, при этом же рот занят…
— Отец… он из-за меня побуянит и успокоится. Не так уж он меня любит. При маме — совсем не такой был. Веселый. Теперь одни деньги вместо куража.
— Ладно, — говорю я, — заговорю я тебе зубы, но не сказкой, а правдой. Ты меня кем, мужиком считаешь? А мы, Ночной Народ, на обе стороны поворачиваемся, такими уж созданы. (Тут я слегка плутую — мы просто неплодные отпрыски Гермеса и Афродиты.) Вот я хоть и юнец вечный с виду, но еще больше девушка, только тебе невдомек, потому что… и верно, прямым отребьем себя держу. Алексия, Алия, как мама твоя.
Он успокаивается, убаюкивается. Теперь он мой.
Вы когда-нибудь медитировали на то, как мы убиваем и как делаем себе подобных? Если взять всю кровь человека — значит убить, если соединить обе крови и перекачать из тела в тело означает сотворить себе подобного, то что получится, если вампир отдаст человеку всего себя, не трогая ни капли смертной крови?
Я приподнимаю Сашкину голову и прикладываю к своей округлой груди — той, что постоянно стягиваю нагрудником или бинтами.
— Пей и спи, мой мальчик.
Разумеется, из правого соска можно высосать только мечту, но ему пока того хватит. Высвободив из-под его спины левую руку, я вытягиваю наружу то, что припрятал (припрятала?): похожий на ножницы инструмент под названием «большой корнцанг». Вроде бы это им режут ребра при операциях на сердце.
Вампирам не бывает больно, я уже говорил, кажется. Не так больно, как мягкотелым. Иначе. И раны у них зарубцовываются прямо по ходу дела. Если сравнительно небольшие, разумеется.
Ножницы обоими своими крючковатыми клювами входят мне под левое ребро, я расширяю рану. Оттуда сразу потоком идет кровь — не красная, а пурпурная, почти фиолетовая. Оживший герб Оранских — пеликан и его голодные птенцы, которых он кормит… вот именно так, как я.
— Теперь пей по-взаправдашнему. Пей кровь от сердца моего, сердце мое.
У них такие инстинктивно сосательные рефлексы, у этих людей — диву даешься. Теперь только чтобы сосуды ему не порвало по всему телу. Ну, это не так страшно — наш ихор быстро всасывается в молодую плоть.
«Глаза-фиалки моей любви, за вас моя жизнь пропала». Я умираю. Нет, не так. Моих скудных знаний в микробиологии хватает, чтобы вернее понять происходящее. Мы ссыхаемся, мы делаемся до конца стерильны — мы, кто и вообще неспособен размножиться, теряем даже оттенок пола. И мы обращаемся в спору. Спора — о да, она может существовать практически вечно. До сих пор витают в воздухе, обитают в земле и даже в раскалённой лаве бактерии самого разного вида. Многие из них — бич Божий для рода людского. Чума ждет своего часа, чтобы снова убивать крыс на улицах счастливого города. Черная оспа смеется над теми, кто даже вакцину от нее уничтожил. Анаэробы переменяют местами детрит с золотом. Как корни в промёрзшей земле потихоньку растут, дожидаясь весны, так и споры улучшают свою смертоносную сущность, свою живительную сущность, выжидая.
Мы сторожим свой звездный час. В песке, пыли, во всяком бессмысленном соре. В земле, почти до предела напитанной братской смертной кровью. Я оставался последним, кто бодрствовал. Сашка будет другим, чем мы все: мы различаемся по своему отношению к жизни и морали так же сильно, как люди, но он — он, в отличие от прочих наших птенцов, сотворен из чистейшего материала. Ибо мне ничего не было нужно от мальчика: ни сытости, ни подчинения, ни благодарности, ни даже любви.
Я смеюсь в душе: упрямому быку достанется сынок, который будет гулять ночью сам по себе, как кошка, ничего не есть за жирным отцовским столом, никого… да, никого не убивать, даже если папочку прижмут так же крепко, как он грозился прижать нас. Он сильный, как все мы вместе взятые. Он — лучший результат возгонки моего иссохшего было втуне материнства.
Я сжимаюсь, впадаю сам в себя, иссыхаю, как русло пустынного ручейка, теряю чувства, память, речь…
Люди как же это выходит а вот это как получается странно люди я вас что всех поровну люблю?
Ф. Рокотов. Портрет неизвестного в треуголке
© Copyright Мудрая Татьяна Алексеевна (Chrosvita@yandex.ru), 11/02/2010.Примечания
1
Примечание. Самой загадочной работой Ф. Рокотова, пожалуй, является портрет неизвестного в треуголке, поскольку до сих пор исследователи не установили, кто изображен на нем: либо Екатерина в мужском платье, либо внебрачный сын императрицы от графа Орлова.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


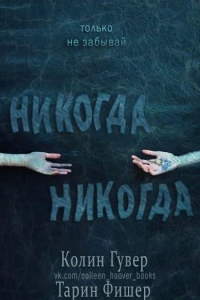


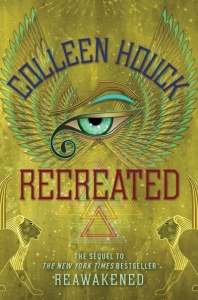





Комментарии к книге «Brat Prince and Михрютка», Татьяна Алексеевна Мудрая
Всего 0 комментариев