Странно, но все сегодняшнее утро я пыталась вспомнить вчерашний день. Я пыталась вспомнить его после пробуждения, высвобождаясь из пушистых лап сна, под душем, за чашкой кофе и, наконец, перед зеркалом у туалетного столика. Из зеркала на меня смотрела весьма самоуверенная молодая особа лет двадцати восьми с крупными, но красивыми чертами лица, с насмешливыми зелеными глазами. Она показалась мне странно незнакомой.
— Вчерашний день… — бормотала я, выдвигая ящики туалетного столика в поисках таблеток от головной боли. — Господи, что же было вчера?
Вспоминалась какая-то ерунда: запачканное платье, выбитый портфель из руки посередине бездонной пришкольной лужи. Мне 15 лет, я возвращаюсь со школьного праздника, а наперерез мне спешит извечный враг мой Семенов с боевым кличем ирокезов. Вопль так силен, что на первом этаже школы распахиваются окна, и десятиклассники, поплевывая через подоконники и обнимая подружек, начинают комментировать происходящее. Из углового окна второго этажа встревоженно смотрит Венька Сырцов, единственный из мужской половины класса, кто не посылает мне записки на уроках с требованием решить то или иное уравнение или перевести текст по английскому. Венька не нуждается в подсказках, он сам — ходячая энциклопедия, чудной и странный в своей безмерной любви к физике, всегда такой опрятный и почтительный. Венька — инвалид, его левая нога короче правой, она высохла и не разгибается, и потому я про себя иногда зову его «Байрон». Венька некрасив (все лицо в каких-то оспинах, зубы крупные, редкие), но добр и справедлив. Именно из-за этой проклятой справедливости он свесился сейчас из окна и кричит: «Не тронь ее!», и очки его падают с переносицы, а спустя мгновение солнце отражается в их стеклянных каплях на асфальте.
Ирокез зловредно смеется. Венька исчезает. Я обреченно останавливаюсь. Семенов смачно плюет под ноги, его руки с обкусанными заусенцами, в цыпках, что-то сжимают за спиной.
— Чмо козлиное, защитничек… — он вытирает щеку, расцарапанную о шиповник, о плечо (погоня шла через школьный сад), хитро косится на меня. — Ты, длинная, я те записку посылал?
Я не отвечаю, пытаясь обойти ирокеза стороной; моя последняя тоскливая мысль — «Пропало платье!», ибо вижу сероватый комок чего-то (очевидно, земли), что сжимает в руке мой недруг.
— Записку посылал? Ты чё, оглохла? Я из-за тебя у Машки пару получил!
Машка — наша «англичанка», рыхлотелая, пухлолицая, неряшливая. Она постоянно сморкается на уроках и сушит свои необъятные клетчатые носовые платки на батареях, что служит предметом сдержанного веселья класса во время скучнейших английских пересказов. Да, Семенов посылал эту проклятую записку, но я отмахнулась от нее, помогая своей соседке по парте, а потом и вовсе забыла, и теперь вот придется заплатить. Но…
Темные волны колышутся передо мной, странное воспоминание, как наваждение, исчезает, а я, мучительно закрыв глаза, пытаюсь вспомнить, но так и не вспоминаю вчерашний день.
— Ты больна? — раздается голос над головой, а я испуганно открываю глаза. Нет, это не Семенов, слава Богу, Семенов остался там, в том страшном детском прошлом, а это мужчина, высокий, худой, с темными антрацитовыми глазами и шапкой курчавых волос. Его некрасивое, удивительно знакомое лицо усыпано оспинами. Он подходит ко мне, улыбаясь и прихрамывая, целует в щеку.
— Ты больна, малыш? — повторяет он, и я вздрагиваю, потому что этот голос мне тоже знаком. — Ты только что разговаривала сама с собой.
— Венька… — тихо шепчу я, без сил облокачиваюсь на столик, и все косметическое хозяйство разноцветным пластмассовым потоком устремляется на пол. — Венька, это правда ты?
— Что ты хочешь сказать, дорогая? — в его глазах — нежность, черная, прохладная нежность, они напоминают ежевику после дождя. — Что с тобой?
Тогда я начинаю оглядываться, воспринимая по-новому комнату, вещи, зеленый свет за окном, и все это вновь кажется пугающе незнакомым. Причина этого страха, этой невозможности узнать мир, в котором я пребываю, вещи, которыми пользуюсь, — опять-таки в неспособности вспомнить, что было вчера.
— Дорогая… — мужчина склоняется надо мной, и в зеркале над столиком я вижу ранние белые нити в его шевелюре.
— Венька, — я вдруг поворачиваюсь и обхватываю руками его тонкую, почти мальчишескую шею. — Как ты постарел! Где мы, Венька?
Нежность в его глазах сменяется тревогой, он ласково гладит ладонями мое лицо, всматривается в него.
— Боже мой, дорогая, а мне-то сказали, что никаких последствий, никакой амнезии. Ведь все было хорошо, когда я вчера забирал тебя из больницы. А Эдуард Лаврентьевич…
— Я не помню никакого Эдуарда Лаврентьевича, — виновато бормочу я и тихо сползаю на пол за разноцветными футлярами помады, подводками, карандашами. Я в растерянности подбираю косметику, вновь пытаюсь вспомнить вчерашний день и вдруг с ужасом обнаруживаю, что не помню не только его, но и все, что было до него, все дни, месяцы, годы, с того самого мгновения, когда…
Кусок чего-то серовато-липкого впивается в мои волосы, и я слышу торжествующий вопль Семенова:
— Причешись теперь, штакетина!
Выбитый из руки портфель по короткой дуге с шумом опускается на середину пришкольной лужи и плавает, как полузатопленный оранжевый спасательный плотик. Лужа расходится кругами, отражая облака, деревья, птиц и еще — Венькино лицо. Незаметно подошедший Венька близоруко щурится и пытается длинной изогнутой палкой достать портфель. Из раскрытых окон первого этажа доносится басок старших и воркующий смех десятиклассниц.
Плача, я выдираю липучку из волос, а тем временем Семенов, почувствовав себя оскорбленным, через лужу кричит Веньке:
— Ты, сухоногий, а ну кыш отсюда!
Венька делает вид, что не слышит, вытаскивает мой портфель, открывает и заботливо проверяет, не испачкались ли учебники. Семенов свирепеет и направляется в обход лужи.
— Ты, пацан! — останавливает его басок одного из десятиклассников. — Ты борзеешь…
Десятиклассник Сашка Красовский, спортивная гордость школы и моя тайная любовь, пальцем манит к себе Семенова. Семенов покорно плетется к окну и получает затрещину, после которой летит в чахлые майские одуванчики и остается смущенно лежать в них, смешной и поверженный, а тем временем мы с Венькой уходим, уходим так быстро, как позволяет уязвленная гордость. Венька припадает на искалеченную ногу и стряхивает грязные капли с моего портфеля.
За школьными воротами — горьковатый запах чуть распустившихся тополей (лучший на свете запах!), воробьиный концерт, и солнце — в каждом стеклянном осколке, в каждой капле, в каждом людском и зверином зрачке.
— Не реви! — с грубоватой нежностью просит Венька и тут же поспешно добавляет: — Портфелю — ничего, правда…
— Волосы! — всхлипываю я.
Только теперь Венька замечает липучку, закрученную мне в косы. Выругавшись (первый раз слышу, как Венька ругается), он неловким движением пытается высвободить мои волосы, но в результате я реву еще сильнее. Венькино лицо становится совсем некрасивым, беспомощным. Он неуклюже топчется на месте.
— Ну, не реви, слышишь. Это… постричь можно, возьми… — он ковыляет к своему портфелю и после недолгих поисков достает громадные портновские ножницы (ума не приложу, зачем он таскает их в портфеле) и протягивает мне.
— Постриги свою бабушку! — я отшвыриваю ножницы и с плачем бегу к дому, позабыв про портфель, и последнее, что вижу, оглядываясь, это Венькины глаза, сине-черные, как ежевика, освещенная солнцем, с жалостью и какой-то взрослой печалью устремленные мне вслед.
Дома — небесно-голубая прохладная свежесть только что вымытых окон, музыкальный скрип половиц, пестрые дорожки и кот, спящий почему-то рядом с будильником. Я степенно прохожу в свою крохотную солнечную комнату и насмешливо здороваюсь с фотографиями своих родителей. Они — на стене, над моим любимым плюшевым ковром «Олени в лесу»: отец — высокий, импозантный красавец в обнимку с вертлявой смазливой бабенкой с улыбкой шлюхи, и мама — на Черноморском побережье Кавказа, в белом пляжном сарафане, под руку с тяжеловатым субъектом, на лице которого, как в том чеховском рассказе, «написаны все добродетели, кроме одной — способности мыслить». Это они, мои прекрасные, интеллигентные, горячо любящие меня (на расстоянии) родители, отец — с очередной женой, и мать — с очередным мужем, и я, снисходительно улыбаясь, смотрю на их очередное незамысловатое и недолговечное счастье. После развода они с головой погрузились в устройство своих судеб, подарив меня маленькой, горбатой, ворчливой «бабе Шуре», и это стало для меня воистину большим подарком. Я безумно полюбила бабушку, старый низенький дом, горькие заросли сирени под окнами и даже хитрого полосатого кота, который терпеливо сторожил холодильник и мастерски просачивался в раскрытые соседские форточки, сметая со столов съестное.
Отвесив еще пару насмешливых поклонов своим родителям, лица которых я буду скоро помнить только по фотографиям, я пробираюсь на кухню и уплетаю пироги с вареньем, запивая их молоком. Липучка так и остается торчать закрученной в волосы; время от времени я, морщась, трогаю серый комок и с грустью думаю о том, что выстригать все-таки придется. Набравшись храбрости, я, проскользнув в крохотный зальчик, вынимаю ножницы из серванта и вырезаю проклятый липкий серый шар. Проплешина заметна, но не совсем, я закрываю ее длинными боковыми прядями, закалывая их на затылке, а потом достаю из шифоньера голубые «Lee», придирчиво рассматривая их. Джинсы — совместный подарок моих фотогеничных любвеобильных родителей, и в «клетке» должны оценить их по достоинству. «Клеткой» называлась парковая танцплощадка с летней эстрадой, куда мы с Юлькой и Лерычем вот уже неделю каждый вечер ходили взирать на полупьяных лохматых музыкантов, вопящих под электрогитарный аккомпанемент:
Окунь морской Был у них головой!Истошно зазвонил будильник (интересно, кто завел его на три часа пополудни), с тумбочки вместе с кружевной салфеткой шмякнулся кот, а в дверях возник Венька.
— Привет, — как ни в чем не бывало, улыбается он, потрясая злополучным портфелем. — Вот, ты забыла…
Я отрешенно, непонимающе гляжу на него, перед глазами вновь — Сашка Красовский, заступившийся за меня. Сашка — идол нашей школы, спортивный кумир для малышей, сердечный — для девичьей ее половины. С удивительной, необъяснимой легкостью побеждает на городских олимпиадах по математике, выигрывает соревнования и с той же легкостью меняет девочек, которые так и образовывают вокруг него загадочно вздыхающую стайку. Последняя его симпатия, Белышева из 9 «А», печальная, белобрысая и уродливая девица, с близко поставленными глазами и характером зубрилы-отличницы, вызывает недоуменные усмешки у старшеклассниц, но в открытую смеяться никто не решается: во-первых, потому что Белышева в двух девятых классах (совсем как я в восьмых) служит превосходной шпаргалкой по всем предметам, во-вторых, если уж Красовский выбрал ее, значит, что-то в ней есть. Но я…
— Изобрел, — как сквозь плотную пелену доносится тихий, восторженный голос Веньки, и я лениво поднимаю веки, возвращаясь из своей мечты.
Вновь — дощатые половицы, домотканые половики и юноша-ребенок в нелепой школьной форме жуткого черно-синего цвета с клеенчатой эмблемой раскрытой книги на рукаве. В его глазах — сумасшедшая, какая-то неземная тоска, и он мне что-то протягивает в ладони, маленькое, черное, пластмассовое.
— Вот, посмотри. Вчера немного посидел, кое-что убрал, подсоединил. Я уже и название придумал — хронофаг. Вчера, когда эти дураки разбирали своего робота, я и…
— Ты скоро шизанешься со своей физикой и кибернетикой, — я лениво зеваю и с усмешкой смотрю на Венькино изобретение. — Хроно… Хронос… Хроно-фаг. Поглотитель времени, что ли?
Венька кивает и застывает посреди комнаты со своим изобретением, большерукий, смешной, печальный…
— Пока не поглотит хотя бы последний день четвертой четверти — не поверю! — философски заключаю я. — Брысь за шкаф, я блузку мерить буду.
Венька послушно исчезает за зеркальным шкафом, откуда вопрошает тоскливо:
— Вечером снова в «обезьянник»?
— Ага! Завидно?
— Не особо… Что ты делаешь с этими гиббонами?
— Отрываюсь!
— Хм… От чего?
— От класснухи, от Семенова, от тебя! Отвянь!
— Ир…
— От бесстыжая! — обличительно-певуче доносится с порога. В ясном проеме майского дня — баба Шура, в крапчатой косынке и синем «выходном» платье, с базарной корзинкой и пучком зеленого лука в руках. Крошечное птичье лицо ее жалостливо кривится. — Парня за шкаф загнала, голыми сиськами трясет! От бесстыжая! Выходи, выходи, милай! Полюбуйся на шалаву!
Я уворачиваюсь от маленьких, но крепких бабкиных кулаков, застегиваю последнюю пуговицу на блузке и гордо подтягиваю джинсы. Смущенный и растрепанный, Венька вылезает из-за зеркальной двери и растворяется за порогом, а я босиком скачу за бабой Шурой на кухню, по пути выуживая пакет с редиской из корзины.
— Бесстыжая! — непримиримо отзывается баба Шура, не заметив пропажу редиски, и выгружает на стол пакеты и банки. — Дылда длинноногая! Напишу, позвоню отцу…
— Он опять фотографию пришлет. С очередной женой.
— И матери напишу!
— Ты что, она ж только-только в четвертый раз замуж вышла! У нее медовый месяц.
— А не твое соплячье дело! — бабушка отчаянно бросается на защиту моих неуловимых, как призраки, родителей. — Деньги тебе присылают, подарки, срамоту заморскую шлют… Неблагодарная!
— Кто ж за срамоту-то благодарит… — я любовно оглядываю джинсы. — Баб, дай я картошку почищу…
И я скидываю дискотечный наряд, облачаясь в сарафан, и мы наперегонки чистим картошку, сваливая ее в голубую, поющую на огне кастрюлю, и майское солнце теплыми квадратами устилает некрашеный пол, и на подоконнике упоенно мурлыкает кот. Мне легко и радостно, как никогда, я любовно оглядываю кухню, оклеенную голубой клеенкой, герани на подоконниках, нежно шелестящие под весенним сквозняком занавески и кружевные вязаные салфетки. В такие минуты я не боюсь смерти. В такие минуты я думаю о Вечности, в которой есть место и этой, пронизанной солнцем и маем кухне, и старой женщине, которая ворчливо суетится возле меня и которую я люблю и безумно, мучительно боюсь потерять. Если Тот, Кто создал Жизнь, однажды призовет эту женщину к себе, я попрошу, чтобы он забрал и меня тоже, ибо сойду с ума без нее, и в страшное, безмерное одиночество превратится для меня бытие. Я люблю ее. Ее и Сашку Красовского.
Охота кота на вчерашнюю кильку, одиноко скучающую на тарелке, завершается успешно, и с победным кличем, ухватив зубами несчастную, он исчезает за окном. На плите звенит чайник. Бабушка искоса поглядывает на меня, желто-коричневое, как печеное яблоко, лицо ее вдруг жалостливо вздрагивает, и она тихо начинает причитать, шевеля впалым вздрагивающим ртом, и сверкающие дорожки слез ложатся на ее щеки.
— Умру… засохнешь ведь, как былиночка, как будылёчек… Золотой мой…
— Бутылёчек! — хохочу я, ласково передразнивая бабушку. — Ну перестань, перестань… Вот как я тебя люблю!
Я целую ее в морщинистую душистую щеку, и запах земляничного мыла кружит мне голову, стискивает горло и заставляет плакать, плакать по ней, утраченной навсегда, по тому лучистому майскому дню, по зеленому свету сирени под окнами, потому что…
Потому что я не помню. Ничего не помню. Потому что дивное и дорогое наваждение исчезает, и я стою, взрослая и испуганная, у белых, будто ледяных дверей отделения неврологии и нажимаю кнопку звонка, а запах земляничного мыла густеет и становится розовым снегом, что выпадает мне на волосы и плечи. А…
— Чиво нада?
Белое жирное лицо с узкими угольными глазами выплывает из-за ледяной двери, за ним — неопрятное туловище, облаченное в рваный, с желтоватыми потеками, халат. Запах чеснока, ядреный и беспощадный, перехватывает дыхание.
— Чиво нада?
Я гляжу в густую, маслянистую черноту взора и робко шепчу:
— Эдуарда Лаврентьевича.
— Щас посматрю, — понимающе кивает санитаркообразное, исчезая за дверью.
Я робко съеживаюсь в углу, застывая в сонливой обреченности, вдыхая запах болезни и смерти, запах хлорки, что убил все другие запахи, припоминая ужас встречи с Городом.
Ибо город страшен… Продутые сквозняками синие асфальтовые площади, мясистые фикусы за окнами, хищные и наглые автомобили неизвестных мне марок, полупрозрачные светящиеся щиты с незнакомыми буквами, с тоскливой жадностью пылающие перед сонными, неулыбчивыми лицами нелюдей, густой, вкрадчиво-душащий смог над запыленным телом парка, голодные и бездомные дети и животные, и — грязь, грязь, грязь. Бессмертная и беспощадная, она везде и во всем, это е е мир, е е время, и я закрываю глаза, признавая ее омерзительную власть.
Санитаркообразное впускает меня в отделение, и я иду под его ослепительными сводами, почти не видя немногочисленных обреченно-усталых больных, в синем сиянии кварцевых палат, и распахиваю «породистую», очень важную дверь матового стекла.
Холод и белизна, множество растений на окнах, странный, никогда не виданный мной телевизор с плоским огромным экраном в углублении в стене, полукруглый пластиковый стол, обтекаемая мебель. Боже мой, Космос! Космос чужой, незнакомый, космос предметов, которых я «не помню», и голос: «Я слушаю вас». Я оборачиваюсь, и вкрадчивая волна обаяния, перемешанная с дорогой парфюмерией, захлестывает меня, но я стараюсь не попасть под влияние ее, под очарование серо-зеленых прищуренных глаз, снисходительной улыбки жестко вырезанного рта и всего облика, что в пошлых мелодрамах о любви именуется обликом «красавца-мужчины».
— Я — Сырцова… — смущаясь, бормочу я и опускаю глаза, разглядывая невиданный бежево-розовый не то линолеум, не то ковер кабинета из чужого Космоса. — Я выписалась из вашего отделения десять дней назад. Я хотела бы узнать…
Мягкая музыкальная усмешка, слегка заинтересованный тон:
— Выписались, вот как? Но, дорогая, я помню в лицо и по именам всех пациентов по крайней мере ближайших пяти лет. Я утверждаю, что вы и не появлялись у меня в отделении… э… постойте, куда же вы?
Налетев на матовую «волнистую» дверь, пробормотав что-то вроде: «простите, это, кажется, не то отделение», я выскакиваю в коридор, пробегаю мимо сосредоточенно жующего санитаркообразного и после пятиминутного петляния по лестницам и коридорам, воняющим хлоркой и пригорелой кашей, оказываюсь на улице, в крохотном больничном саду, где начинаю в голос плакать, привлекая внимание прогуливающихся больных и кошек, потрошащих мусорные баки. Я плачу, потому что…
Потому что на пороге стоит Челентана, круглая, маленькая, насмешливая Челентана, моя подруга Юлька Петракова.
Юлька безумно влюблена в две вещи на свете: в пирожные «безе» и в волоокого итальянского актера-супермена, благодаря которому получила прозвище и фотографиями которого вдохновенно увешала облупленные стены крохотной коммуналки, в которой обитает вдвоем с полуглухой злющей теткой. Юлька мастерски сочиняет анекдоты, мечтает выучиться на зубного врача, разбогатеть и уехать в Италию. Я, посмеиваясь над ней, замечаю, что в таком случае придется отказаться от «безе», потому что в Италии в моде стройные и длинноногие.
Юлька шипит, как кошка, обзывая меня «жирафом», но через минуту уже смеется, припоминая очередной анекдот. Я обожаю ее, она не умеет долго злиться.
— Хипово! — Юлька восторженно-добродушным взглядом окидывает мои драгоценные «Lee». — Папашкин подарок?
— И мамашкин. Откупились! — я делаю вид, что сплевываю на домотканый половик. — Куда Лерыча дела?
— Ботинки пошел менять! — Юлька запрокидывает стриженую голову и заливисто, густо смеется. — Я иду, а он прет в своих розовых. Мне аж плохо стало. Сними, говорю, а то я с тобой в «клетке» не появлюсь! Переобуваться пошел. Между прочим, Челюсть тоже будет…
— Зубы выгуливать, — перебиваю я, и мы смеемся уже вместе и валимся на диван, перебрасываясь вышитыми подушками, и на столе весело звенят блюдца, и кот, только что воровато появившийся из форточки, шарахается прочь. Белобрысая, белоглазая Белышева по прозвищу Челюсть — предмет нашего неудержимого веселья, и, звонко визжа и перебивая друг друга, мы вспоминаем ее наряд последнего школьного вечера — жуткий костюм цвета сгнившей моркови. Веселье прерывается Лерычем, который, сутулясь, топчется у порога в старых разбитых кроссовках и брезентовых штанах, коренастый, косолапый.
— О, наконец-то, на человека похож! — радостно верещит Челентана. — Ой, Лер, а ты расческу не забыл?
Бритый наголо Лерыч (последняя мода мальчиков восьмого параллельного класса) многозначительно стучит пальцем по виску…
Мы втроем выскакиваем во влажный густеющий вечер и, взявшись за руки, тихо бредем по сыпучей песчаной дороге меж облупленных палисадников, зацветающих садов, замшелых сараев в горьком и теплом запахе юной майской травы.
Впереди, за голубой, дымящейся железной дорогой, за печальным сонным гулом поездов — темное лиственное тело майского парка, пронизанное огнями, и музыка, что наплывает волнами, то оглушая, то затихая в древесной глубине. Лерыч вдруг отстает, загребая песок кривоватыми ногами, призрачным шатром над ним повисает печаль, и я останавливаюсь, дружески обнимая его за плечи.
— Она тебе пишет? — губы его едва движутся, в рыжеватых глазах — темная, взрослая тоска.
— Нет, Лер, — я отвечаю бережно, осторожно.
— И мне нет.
— Забудь, — торопливо убеждаю я. — Вот еще, ерунда! У нее — Москва, студия… Забудь. Я тебя с Катькой познакомлю. Катька…
— Не надо, Ир, — тихо, совсем по-взрослому отвечает Лерыч, а я с горечью и восторгом вспоминаю прошлое печальное и радостное лето, когда в нашу подростковую компанию с заводской, пьяной и разгульной Угольной улицы затесалась белая и легкая, как лебединое перо, Нинка-балерина, приехавшая на каникулы к двоюродной тетке, и принесла с собой пьянящий привкус театров, проспектов, студий, спектаклей, привкус недостижимой, божественной Москвы, той Москвы, которую мы не знали.
Вокзально-магазинно-колбасное знакомство с Москвой, которое прошел каждый из нас, заслоняло от нас другую Москву, обольстительную, сияющую, концертно-балетную, театральную, и тоненькая девочка из Чертаново, с хвостом светлых волос на затылке, напоминающая в профиль морского конька, студентка хореографического училища, стала для нас воплощением бесконечно далекой, но радостной и праздничной жизни. Она вскоре уехала, увозя с собой букеты, фотографии, открытки… и еще — сердце Лерыча, о чем, наверное, даже не подозревала…
Лерыч ступает все тяжелей, все косолапей, как под невидимой тяжестью, пригибает стриженую голову.
— Ты вот, если б разбогатела, что бы сделала? — вдруг спрашивает он.
— А?.. Не знаю, Лер… Хотя. Нет. В Индию бы съездила, в Японию. «Подсолнухи» бы купила…
— ?!!
— Балда! — смеюсь я в ответ на его удивление. — Картина такая. Ван Гог написал, он еще под конец жизни с ума сошел и застрелился. Она недавно на аукционе во Франции продавалась. Знаешь, от нее такой свет… Такой свет золотой, что… сердце сжимается. У меня репродукция есть… Сорок миллионов франков.
Лерыч с интересом смотрит на меня, рыжеватые кошачьи глаза его теплеют.
— А я бы театр купил. Большой.
Я сдерживаю улыбку.
— Тебе бы никто не продал, Лер. Это достояние государства.
— Продали бы, — зло, с ожесточением шипит он. — За очень большие деньги. Театр и все эти чертовы балеты в нем — тоже. И лебедей этих драных, и красавицу спящую, и эту, как ее… «Капель».
— «Коппелию», Лер.
— А не один фиг! Всё бы купил, пришел и сказал: «На, танцуй! Только ты! Только тебе! Для тебя же жизнь — балетный станок! Ты же людей не видишь! Ты…» — и он матерится, по-детски неумело, тоскливо и безысходно, и крупные веснушчатые руки его вздрагивают, и мне до слез, до дрожи жаль его, жаль его первой, невыносимой любви.
И мы замираем в закатной пыли, и возмущенным джинсовым шмелем на нас налетает Челентана:
— Народ! Ну, совсем обалдели! А я-то, с понтом дела, бегу, думаю, они следом. Сейчас хмызники припрутся, места не останется. Вперед, живо!
И я беру Лерыча за руку, и мы спешим в парк по закатной пыли, а она клубится, она золотыми столбами повисает в воздухе, и от нее — свет, такой свет, что сжимается сердце…
Нет, это не от нее, это от «Подсолнухов» Ван Гога, чья репродукция — у меня на коленях, а сама я, укутавшись в плед, устало скучаю в кресле, а за раскрытой балконной дверью так же печально пылает вечер, вечер другого города, другой страны… Другого времени. Времени, которого я не помню…
«Подсолнухи» светлеют, расплываются в тяжелом сверкании слёз, а я плачу навзрыд, с ужасом и ненавистью оглядывая незнакомый мне дом и незнакомые вещи. Моя душа, как пленная птица, бьется о клетку плоти, стремясь в иной вечер, дороже которого не было для меня на свете, вечер, переполненный майским воздухом, розовым сумраком, наплывающей тьмою, шепотом и музыкой. И моей любовью…
— Малыш, — мужчина, такой же ненавистный, как сам дом и вещи вокруг, подходит ближе, влюбленно-тревожно смотрит на меня. — Господи, не плачь, малыш! Ты задремала в кресле, а я тем временем нашел в альбоме эту репродукцию. Помнишь, как ты любила ее в детстве? Это ведь «Подсолнухи» Ван Гога. Не плачь. Я сейчас уберу ее.
— Не тронь! — я прижимаю к груди «Подсолнухи», как память о рае, рае тихом, великом и ясном, где я была счастлива до сумасшествия. — Я сегодня была в больнице. В неврологии, у твоего любезного Эдуарда Лаврентьевича. Он сказал, что я никогда не лечилась в его отделении.
— Правильно, малыш, — Венька опускает ежевичные глаза, улыбается смущенно чему-то. — Я немного обманул тебя. Видишь ли, это произошло с тобой здесь, в квартире, странная потеря сознания, которая длилась несколько дней. Я не отвозил тебя в больницу, я приглашал профессора Маркевича на дом. Он здесь наблюдал тебя. Он пообещал, что не будет никакой амнезии…
— Профессор Маркевич заявил, что никогда в жизни не видел меня… Ты можешь объяснить, что это значит?
Венька щурится, склоняя голову на бок, со странной тоскливой веселостью разглядывает меня, и что-то тяжелое, темное проступает в этом взгляде.
— Не могу, малыш. Ты уж прости…
И тогда я кричу, и хватаю какой-то кувшин со столика напротив, и запускаю его в ненавистные ежевичные глаза, и бросаюсь в соседнюю комнату, запирая накрепко дверь, и опускаюсь на пол с «Подсолнухами» в руках. Я помню и люблю только их, их пшеничный теплый свет заливает мне руки и лицо, и я плачу навзрыд, впитывая плотью этот свет, и закрываю глаза, ощущая кожей его тихую, спокойную радость.
За дверью — осторожные шаги, вкрадчивый поворот ключа в замке и такая же вкрадчивая тень на пороге.
— Войдешь — убью, — буднично сообщаю я, и нечто в моем голосе заставляет тень отступить, с мягким шелестом миновать порог и пугливо раствориться в зыбких сумерках дома.
Я плюю ей вслед, плюю вслед печальному ежевичноглазому человеку-подростку, так странно, так мучительно в меня влюбленному, и засыпаю, собравшись в комок на пушистом песочном диване.
Утром от прежней ярости, от прежнего плача не остается и следа, лишь смутное недоумение переполняет сердце, и я тяжело двигаюсь по комнате, и касаюсь незнакомых вещей, и перелистываю незнакомые книги, не обращая внимания на Веньку, смущенно затихшего над газетой, и выхожу на балкон, и, опускаясь в плетеное кресло, смотрю сквозь цветные стекла террасы на чужие пространство и время подо мной…
Мир, который я ненавижу, я не помню твою былую мерзость, после моей странной болезни я словно знакомлюсь с твоей мерзостью заново.
Я заново знакомлюсь с мусорным ветром на твоих скучных до дурноты улицах, с бесприютным нищенством твоих детей и стариков, с одиночеством твоих женщин, до гроба обреченных на тебя, с похабными газетами в твоих киосках, с рекламными щитами, при виде которых приходят на память строки о скрежете зубовном в аду. Как могла я жить в тебе столько лет, смотреть на твои зачумленные звезды, дышать твоим воздухом, полным печали и тлена?! На дне моего сердца, как затонувший драгоценный камень, лежит иной мир, и я сейчас вспомню его, вспомню — или умру. Мир, который я ненавижу, ты не победишь меня…
И я, приникнув лицом к цветным нагретым стеклам, вспоминаю…
* * *
Мы — в «клетке», и низкое солнце оранжево сквозит через голубые прутья, и вечер душист и зелен, как крыжовничное желе, и на деревянной эстраде надрывается дешевый местный ВИА, пискляво выводя:
Больше не встречу! Такого друга не встречу! Такого друга, как ты, Дарит жизнь только раз!«Lee» стягивают мне ноги, идти неудобно, но я надменно шагаю в толпу разноцветных хихикающих пацанок, выстреливающих в толпу ухажеров многообещающими взглядами. Юлька отстала у входа, попав в объятия здоровенного рыжего хмызника. «Хмызней» называется местный машиностроительный техникум, с представителями которого мальчики с нашей Угольной не раз вступали в кулачные баталии, причины которых до смешного банальны: малолетняя шлюха или неодолженная вовремя сигарета. Фруктовое мороженое, прихваченное в дороге, нагло капает на новую сиреневую блузку, но мне наплевать на блузку и на мороженое, потому что впереди я вижу Белышеву. Господи, и уродилась же такая уродина! Толстая белесая коса нелепо уложена вокруг маленькой «гадючьей» головы, широченное платье-халат, крупный квадратный подбородок, близко посаженные глаза. Солидные очки в роговой оправе венчают это великолепие.
— Ой, чуть кишки не выдавил! — раздается за моим плечом возмущенный шепот Юльки. — Ир, а… — тут ее внимание привлекает Белышева, и Юлька сдавленно хихикает. — Челюсть, Челюсть-то, ты только погляди! Халат-то, наверное, с бабули сняла… Ой, и Красавчик здесь!
«Красавчик», Сашка Красовский, появляется неожиданно, как злодей в драме, прямой, как свеча, светлый, с ниспадающим на лоб крылом рыжеватых волос, с усмешливыми темными глазами, и мое сердце, превратившись в тоскливую осеннюю птицу, разрывает грудь и летит к этим глазам, к карему омуту взгляда.
— Чувак еще тот… — громкая и восторженная, Юлька продолжает верещать, не обращая внимания, что я уже несколько раз умерла и воскресла. — Да не завидуй ты этой пэзорнице! Не удержит она его.
— Не удержит… — как сомнамбула, шепчу я, а Красовский поворачивается ко мне, смотрит на меня в упор, и из теплого вечернего солнца, из ликования музыки и танца меня как будто с размаху бросают в глубину незамерзающей зимней реки, где гибельно, тягуче и радостно, и есть только одна мольба: пусть это будет навсегда…
— Щас медляк, щас медляк, — толстым, надоедливым шмелем гудит рядом Челентана. — Пойду поищу Лерыча.
Хихикая и плюя семечками, она исчезает. Лохматый ансамбль как сквозь землю проваливается, и дивная, фантастическая «Баллада» «Спейса», тихо трепеща, заполняет все вокруг, повисает над толпой. Я чувствую на себе взгляд Сашки Красовского, его улыбку, и улыбаюсь в ответ. Я будто стою на краю света, и миры, переливаясь, клубятся у меня под ногами, и уже не музыка «Спейса», а музыка светил поет вокруг, и мне остается только шаг, чтобы полететь к этим светилам.
Господи, зачем Ты сотворил все это, зачем Ты дал мне понять, что любовь — это боль, я не хочу болеть, я безумно люблю небо, птиц и цветы, я хочу быть вечной. Помоги мне, я не знаю, как быть, я мечтаю о вечности и умру за взгляд, за прикосновение, за единственный танец, в конце которого со смертью музыки умрет и моя душа… «Баллада» плывет, покачиваясь, как старинный корабль, на пурпурных волнах заходящего солнца, и в густом вечернем свете Сашкино лицо становится лицом Там Лина, рыцаря королевы эльфов из моей любимой шотландской сказки. Рядом с моим Там Лином — Белышева, и я грустно улыбаюсь. Это невозможно любить, это невозможно целовать, но тем не менее это — рядом, и охраняет дивной красоты пленника…
Сейчас я подойду к нему, и приглашу на танец, и положу руки на плечи ему, а он под моими руками превратится в кусок огня, или в скользкую змею, или в дракона, но я не брошу его, не отпущу, я поступлю, как Дженет в той печальной и светлой сказке, а Белышева королевой эльфов будет стоять рядом и смеяться: «Все равно не удержишь!» А я улыбнусь в ответ и крикну, что удержу, что всю свою скучную и скудную школьно-книжную жизнь ждала именно этой минуты, и, как Фауст, готова закричать мгновенно, чтобы время остановилось.
Я медленно иду по асфальту, исчерканному сотнями туфель, кроссовок, бахил, иду по краю света, по скалистой темной тропе, и камни осыпаются из-под ног моих и бесшумно-искристо исчезают метеорами в гигантской чаше Космоса.
Я иду к своему Там Лину, и (о Боже!) забываю от любви и печали, ч е м закончилась сказка.
— Потанцуем? — из далекого далека доносится очень одинокий голос, Космос и темная скалистая тропа проваливаются, вокруг — вновь безумие огней, замирающая «Баллада» и хихикающие парочки. — Потанцуем! — снова кто-то дергает меня за плечо, я оборачиваюсь и вижу Веньку Сырцова. На нем красная олимпийка, джинсы и белые кроссовки. Я с трудом удерживаю улыбку.
— У тебя нога больная, Вень. У тебя не получится танцевать.
— Так, как они, что ль? — он презрительно сплевывает в сторону, и я не узнаю прежнего Веньку. Куда делась его книжность, его робость, в нем появилась какая-то злость, гордость, какое-то отчаяние. — Сложное дело! Топчись на месте, тискай свою дуру да…
Грязное слово, слетевшее с Венькиных уст, ошеломляет и веселит меня, и я смеюсь от души. Да, это совсем другой Венька, Венька, которого я не знаю, и именно это кажется мне самым смешным. «Спейс» затихает, на сцену вновь орангутангами среднего возраста выпрыгивает лохматый ансамбль, и всё вокруг вдруг тоже становится смешным — девицы в джинсе и трикотине, раскрашенные польской косметикой, курящие и матерящиеся хмызники, парочки, дергающиеся в конвульсиях им одним ведомого танца. Я смеюсь, и вытираю слезы на глазах, и перемазываюсь тушью, а Венька стоит и смотрит на меня, мрачнея все больше.
— Истеричка! — изрекает он, когда приступ смеха заканчивается. — Из-за этого, что ль, пришла? — следует презрительный кивок в сторону Красовского, всю «Балладу» не спускавшего с меня глаз. — Нужна ты ему! Глянь, какая прелесть рядом… — и Венька глумливо хихикает, совсем как Семенов утром.
Белышева вертит головой, стараясь угадать, на что же смотрит ее прекрасный Там Лин, взгляд ее останавливается на мне, брови изумленно ползут вверх. Я победительно улыбаюсь, потому что Там Лин не сводит с меня глаз, улыбаюсь королеве эльфов (вернее сказать, королеве троллей), улыбаюсь ее безразмерному платью, полосатым очкам, дешевым танкеткам. Я победила, и на лице Там Лина, обращенном ко мне, нежность и интерес. Я делаю шаг к своему Там Лину, и…
— Пойдешь — пожалеешь! — Венька повисает на моей руке, лицо его раскраснелось, на лбу каплями — пот, глаза зло и отчаянно смотрят на меня. — Думаешь, красавица? — он пытается хихикать в стиле Семенова, но странное отчаяние заглушает смех. — Страус! Штакетина! Да у него таких, как ты…
— Сухоногий! — я позволяю себе то, что не позволила бы никогда, и весело смотрю с высоты своего роста в о чем-то молящие Венькины глаза. — Дай пройти, сухоногий!
Венька отлетает в сторону (так силен был мой толчок) и, кажется, падает, а я иду к Красовскому — Там Лину, и знаю, что никогда и никому теперь не уступлю его, и во всех мирах узнаю его, и в смерти тоже буду с ним.
Его темный взгляд теплеет от нежности; он смотрит на меня с ожиданием, восхищением, блеклая, белесая и навсегда удивленная Белышева в полосатых очках остается позади, он кивает мне и идет навстречу, самый светлый, самый печальный и радостный. Я победила, и…
— Дорогая, я принес кофе.
Воспоминания и грезы кончились, я открываю глаза и в кресле с застекленного балкона обозреваю тусклый панельный микрорайон, а позади меня Венька, мой муж Вениамин Сырцов, с подносом, полным чашек и печенья. Я прихлебываю горячий кофе, откусываю печенье и долго отрешенно взираю на забалконный пейзаж, потом вопрошаю:
— Ты помнишь, чем кончилась сказка про Там Лина? — и вслед за этим вижу, как страх накладывает свою печать на Венькин взгляд, на Венькино лицо, как каждой порой своего тела Венька начинает излучать ужас. — У меня был диафильм, — я вдохновенно жую печенье и вдруг понимаю, что Венькин страх связан с тем моим майским волшебным вечером из далекого детства, в котором были и Белышева, и Красовский, вечером, после которого я уже ничего не помню. — Я его часто смотрела, особенно зимой. Знаешь, он был весь золотой и зеленый, в рыцарских замках, дубравах, и в нем были Там Лин, Дженет и королева эльфов… Ты помнишь королеву эльфов?
— Дорогая… — ежевичные глаза Веньки становятся еще чернее от беспокойства.
— Да не бойся, не чокнулась! — я смеюсь и расплескиваю кофе. — Ты должен помнить королеву эльфов. Знаешь, на нее была похожа Белышева, ну, помнишь Белышеву, что бегала в «клетку» в материном платье и уродливых танкетках? Такая белобрысая, белоглазая… Тьфу! А вот Сашка Красовский (помнишь Сашку?) был похож на Там Лина. В сказке Там Лин был заколдованным принцем, похищенным королевой эльфов и обращенным ею в верного рыцаря. Он полюбил Дженет, дочь графа, и рассказал возлюбленной, как его расколдовать. В полночь Дженет вышла на лесную дорогу, по которой ехала со свитой королева эльфов, подошла к Там Лину и взяла за повод его коня. Там Лин свалился замертво к ней в руки и поочередно превращался то в кусок раскаленного железа, то в ледяную змею, то в дракона, но Дженет ни разу не разомкнула объятий, а когда он превратился в дракона, даже поцеловала. И она расколдовала Там Лина, вернула его к людям. Знаешь…
— И ты бы поцеловала Красовского, превратись он в дракона? — в насмешке Веньки слышится затаенная печаль. Я улыбаюсь, вспоминая драгоценнейший из вечеров в моей жизни.
— Я любила его, Вень, очень любила, и тогда, в «клетке», когда ты так кричал на меня, я хотела пригласить его на танец и рассказать всё-всё. Знаешь, мне кажется, потом бы у него не было никакой Белышевой. Потом бы, наверное, была я…
Венька молчит, складывает чашки на подносе, а я крошу в руке печенье и посыпаю крошками ковровую дорожку на бетонном полу.
— Но очень странно, Вень, что вот потом-то я ничего и не помню. Ничего. До вчерашнего дня.
— А ты и не можешь ничего помнить, — Венька странно, со злой и страдающей улыбкой смотрит на меня, и в его глазах я вижу две дневные погибающие звезды. — Потом ничего не было.
— Вень…
— Только знай… — дневные звезды склоняются ко мне ближе, они закрывают небо, на губах все та же непонятная улыбка. — Все, что я сделал, я сделал из любви к тебе.
— Я ничего не понимаю, Вень, — бормочу я, и, глядя в его влажные ежевичные глаза, вдруг начинаю до слез, до дрожи бояться его. — Я не помню, как я закончила школу, институт, как вышла за тебя замуж. Я не помню дни и годы, счастье и слезы, своих друзей и врагов, любимые вещи, книги, путешествия, я ничего не помню кроме того далекого вечера в майском парке, вечера с Там Лином и королевой эльфов, и еще с одним эльфом, маленьким, печальным и некрасивым, влюбленным в меня до безумия и ненависти.
— Не вспоминай, — вздрагивающая ладонь бывшего эльфа ложится мне на волосы и вдруг до боли сжимает затылок. — Нельзя вспомнить то, чего не было…
В подсознании я снова встаю на скалистую тропу где-то на забытом Богом краю света и смотрю, смотрю в млечную дымящуюся бездну под ногами. Господи, помоги мне! Что-то шевелится на дне бездны, что-то идет ко мне…
— Десять дней назад в твоем времени было все, что ты сейчас вспомнила, — шепчет Венька. — Десять дней назад тебе было пятнадцать лет.
Бездна шевелится, осыпая звезды с обрыва, и бирюзовыми глазами глядит на меня из бездны змея — моя догадка, моя память о лучших днях на земле. Страшное понимание колючим, злым осколком входит в душу. Я смотрю в глаза змеи (о, какой это великий и страдающий взгляд!), в нем — желтые и теплые, как цыплята, калужницы на заливном лугу, и старый кот возле будильника, и школьный диктант, и пасхальная мягкая голубизна вербы меж окон, и дивной прелести улыбка старухи, которую любила я больше жизни. И звезды в парке. И Там Лин…
— Это тот прибор? — я пытаюсь сдержать плач, но он рвется из меня, резкий, пронзительный, безнадежный. — Тот, о котором ты говорил?
Венька без слов кивает.
— За что? — меня начинает трясти, чашка с кофе вылетает из рук, а бирюзовый взгляд змеи застилает сияние слез. — Что я сделала тебе, Венька?! Что сделали тебе мы все?!
— Я тебя очень любил… — Венька смотрит вниз, в пыльное пространство июльского дня неизвестно какого года, неизвестно какой страны, а я закрываю глаза и плачу навзрыд, и прошу прощения у всех минувших за маленького злобного гения, сотворившего все это. Венька молчит, сутулится, курит, его ежевичные глаза влажно следят за мной.
— Я тебя очень любил… И я ненавидел свой подлый возраст.
— Что?!
— Подлый возраст. Это когда ты уже не ребенок, но еще и не взрослый. Этот возраст бывает у всех, у меня же он был особенно трудным… ты знаешь.
— Но ведь он был и у меня, — я невидяще улыбаюсь сквозь слезы, и темное, неотвязчивое желание ломит руки и плечи — подойти и подтолкнуть склонившегося над бездной чужого июля смешного и страшного человека-подростка. — И у Челентаны, и у Лерыча (я с любовью вылепливаю губами забытые имена, а змея со дна бездны смотрит пристально, завораживающе). — И у Сашки…
— Там Лина, — Венька вдруг со странным беспокойством начинает улыбаться. — Он бы выдержал… Все бы выдержали. А я — не знаю.
— И ты…
— Я решился. Я давно уже решился, — Венька тоскливо и виновато вздыхает. — В школе меня не считали человеком. Никто не считал меня человеком. Даже ты. Класса до четвертого еще терпели, а потом начался подлый возраст!
— Вень…
— И, главное, главное, я ничего никому не мог доказать! Доказать, что я такой же, как вы, что мне и больно, как вам, что я даже могу полюбить! Например, тебя. Для компании, для тусовки были другие: Лерыч, Красовский, даже этот урод Семенов, который мотает сейчас второй срок, даже он! Только не я, «сухоногий»!
— Но ведь я дружила с тобой. Господи, Вень, что же ты сделал? Я же дружила с тобой…
— Из жалости! — Венька вдруг плюет под ноги, на красную балконную дорожку, и смотрит на меня со странным чувством ненависти и обожания. — Ты просто жалела меня. Как покалеченного котенка, как подбитого воробья какого-нибудь. Я тоже не был для тебя человеком. Человеком был Красовский!
— Но…
— Не говори ничего! Когда я приходил в класс и видел свои книги в грязных следах на полу, а свою куртку — в мусорнице, я говорил себе: нет, ничего, переживу, это просто подлый возраст. Когда на доске я читал грязные стишки про мою мать (помнишь, она работала школьной уборщицей?), а этот жлоб Якубовский, выламывая мне руку, заставлял переводить текст по английскому, я шептал про себя: это подлый возраст, просто подлый возраст, его нужно переждать, перетерпеть, и только! Когда-нибудь я стану взрослым и знаменитым, и буду заниматься своей любимой физикой, и школа уйдет, как страшное прошлое, а я буду известным, богатым и удачливым, и дом мой будет полной чашей, и женой моей станет самая замечательная девчонка на свете. Ты… И потому, когда я увидел, как ты смотришь на этого смазливого баскетбольного идиота, как ты ловишь каждое его движение, каждый взгляд, как ты ради него каждый вечер бегаешь в эту грязную, похабную «клетку», я понял, что могу потерять тебя. Вот такого я уже не пережил бы. Даже в подлом возрасте.
— И тогда ты изобрел поглотитель времени?
Венька молча кивает.
— Сколько же лет поглощено? — я стараюсь говорить спокойно, ошеломленная этим черно-золотым потоком любви и ненависти, а змея с бирюзовыми глазами следит за мной из бездны, и во взгляде ее — самое прекрасное, что было у меня и что отнял маленький, уродливый и безнадежно влюбленный эльф. — Сколько лет ты украл у меня? У Сашки? У бабушки?
— Тринадцать… — Венька успокаивающе гладит меня по руке, и я не в силах вырвать руку из его холодных, нечеловеческих пальцев. — Мы красивы и молоды, богаты и свободны, у нас впереди еще целая жизнь. Школа, вузы, первые ступени карьеры — всё позади. Страны, в которой мы родились, больше нет, да нам и не нужна она! Я в свои двадцать восемь — доктор наук, лауреат нескольких международных премий, работаю по контракту в США. Ты — искусствовед, специализируешься по своему любимому импрессионизму… Этого мало?
— Откуда?
— Что откуда?
— Откуда ты узнал, что Семенов мотает второй срок?
— Так это очень просто, дорогая. Прежде чем пожрать время, назначенное нам, поглотитель показал мне судьбы всех, кто меня интересовал. Кстати, Лерыч спился, ночует в подвалах и собирает бутылки. Твоя любимая Челентана стала зубным врачом, она еще больше потолстела и поглупела… Поглотитель времени показал мне судьбы Семенова, Красовского… И твою судьбу.
У меня темнеет в глазах, я тихо шепчу: «Там Лин» и еще крепче вцепляюсь в подлокотники кресла. Что еще мне суждено вынести?
— Дорогая, там было всё совсем плохо, — Венька наклоняется и вдруг целует мою руку. — Там было очень плохо. Афганистан. Тяжелая болезнь. Я ведь спас тебя…
— ?!!
— Ты должна была стать его девушкой после того вечера в «клетке», в майском парке, после белого танца. Он уже никогда и не вспомнил бы Белышеву. Он погиб через два года в Афганистане, на перевале Саланг, а ты… ты при этом известии в свои семнадцать заболела бы. Тяжело, страшно. Астма… Удушье каждый день… Там было всё так плохо…
— И ты не позволил мне заболеть и перетащил через тринадцать лет в эту квартиру, в эту неизвестную страну, в богатство, покой и довольствие? Ты сделал это в тот вечер, на танцплощадке? Хронофаг был у тебя в кармане?
Венька кивает, срывает с балкона плющ, теребит его в руках, туманно улыбается чему-то своему.
— Он еще так несовершенен… Он должен был наделить тебя ложной памятью, памятью о будто бы прожитой жизни. Переброска для тебя завершилась очень тяжело, ты лежала в соседней комнате, не приходя в сознание, десять дней, целых десять дней! Такая бледная, беспомощная, такая любимая… Я думал, что сойду с ума… Взгляни! — и Венька прикасается пальцами к седине на висках. — Каждый день я выходил знакомиться с миром. Было пыльно, солнечно, жутко и… прекрасно. До этого я знал его заочно (хронофаг показывал мне будущее), но знакомство вплотную потрясло меня. Это был мой мир (я понял это, как только ступил на его порог), мир великих свершений и безграничных возможностей. Он принял меня, и я был бы счастлив… если бы не ты. Потому что ты лежала в соседней комнате и не хотела просыпаться. Ты умирала, и каждый вечер, возвращаясь из очередного путешествия по новой реальности, я держал твою руку и просил Того, кто создал и этот мир, и многие тысячи подобных: «Оставь мне ее! Пожалуйста, оставь!» Совсем отчаявшись, я взял отпечатанные хронофагом доллары (он не только поглотитель времени, он еще и фальшивомонетчик, и многое другое!) и пригласил домой этого проклятого продажного эскулапа, специалиста в области неврологии и нейрохирургии, попросив хранить молчание. Осмотрев тебя, Эдуард Лаврентьевич заявил, что опасаться нечего и что ты вот-вот придешь в себя, а затем намекнул на солидный гонорар. Я заплатил ему тысячу долларов, фальшивых долларов, и поделом ему!
А пока ты приходила в себя, я дал хронофагу задание, и он блестяще справился с ним! Разработал программу нашей дальнейшей жизни, создал нам легенды, оформил визовые документы для выезда в Европу и США. А потом ты очнулась и так странно вспомнила все, вспомнила свой последний вечер перед прыжком через время. Он еще так несовершенен…
— Ты все украл у меня, — я глотаю слезы, а бирюзовая змея, память моя из бездны, кротко и печально смотрит мне в очи. — Будь ты проклят! Ты все украл. Не только Сашку, ведь были еще бабушка и дом… Их ты тоже украл.
— Я не воровал их. Их просто больше нет. За тринадцать лет многое случилось. Баба Шура умерла в больнице, а дом ваш продан… Не смотри на меня так. Я спас тебя, я подарил тебе прекрасную, дивную судьбу. Я любил и люблю тебя. Мы убили подлый возраст, возраст, когда с тобой не считаются, когда над тобой смеются, у тебя нет ничего — ни свободы, ни известности, ни денег. И любви тоже нет. И все это надо зарабатывать годами, и страдать, заново страдать! А мы миновали всё за один миг… Не смотри на меня так! Через неделю мы улетим в США. На два года. Скажи, неужели это не лучше… каждодневного удушья?..
Змея уснула, и бесконечность бездны погасла, и я улыбнулась со злой и обреченной тоской. Миры рушились вокруг меня, но я помнила только один-единственный — мир майского изумрудного света, бабушкиной любви, душного зацветающего парка и… Сашки Красовского. Чем там пугает меня маленький, злобный человек-подросток, укравший у меня мою солнечную и горькую, гордую и печальную судьбу? Афганистаном? Каждодневным удушьем? Пусть я заплачу за это страданием, но оставшиеся до него два моих самых счастливых года, года «подлого возраста» я проведу со своим Там Лином. А графиня Дженет не отреклась от любимого, не отреклась, даже когда силой волшебства он обратился в гибельного дракона. Вот и я не отрекусь, зная уже наверняка, что потеряю его через два года, что душу его поглотит синий заснеженный Саланг, что впереди — годы болезни, тьмы и одиночества…
Но бабушка, любившая меня больше жизни, уйдет в мир иной на моих руках, и я поцелую ее мертвое лицо за светлейшую на свете душу. Но каждую весну будет зацветать сирень возле старого дома, зацветать горько, свежо, радостно, и дорожки будут покрываться ослепительно-юной травой, и по вечерам в луговых росистых низинах тяжело и влажно затрепещут цикады. И ничто на свете не отнимет у меня этот мой мир…
Я с усмешкой смотрю на злобного и безнадежно влюбленного эльфа. А он склоняется, целуя меня, и шепчет тихо, убаюкивающе:
— Ложись отдыхать, малыш, ложись отдыхать. Завтра утром мы уезжаем в Москву, а оттуда… Господи, да вся планета у наших ног. Мы одиннадцать дней живем в этом мире! Всего одиннадцать! Неужели он тебе не нравится?
Я молчу. Сквозь зеленые и красные стекла террасы светит цветное теплое солнце. Грохот обрушившихся миров затихает, зеленой-презеленой травой покрывается их великая могила, но мой прошлый мир еще живет, душный, цветущий, вечерний, с запахом листвы и одуванчиков, с птичьим щебетом, с бабушкой и Там Лином. Бесстыдно украденный, он трепещет, звучит, смеется, и я не могу, не имею права не вернуться в него…
— Мне очень жаль, Вень, но я не хочу этой жизни. Она не нужна мне. Я хотела бы вернуться в прошлое, в свой «подлый возраст», и по-своему прожить все, что суждено. И тьму, и болезнь, и… Там Лина. Я не люблю эту страну, эти холодные, страшные стены… Я не люблю тебя. Нельзя, невозможно любить ужас.
Дрожит воздух, и будто тысячи серебряных ключей поют неподалеку. Как сквозь волнистое стекло я вижу несчастное, навсегда изумленное Венькино лицо с печальными ежевичными глазами. Вокруг клубятся мягкие сумерки, и Венькино лицо почти сливается с подступающим полумраком, а я ухожу к «подлому возрасту», к двум самым сияющим годам украденного мира. А потом приходит тьма и заливает меня с головой, и во тьме этой — хриплые голоса орангутангоподобного ансамбля, и заплеванный асфальтовый пол «клетки», и огни над парком, и Там Лин…
— Попробуй, вот только попробуй! — прыщавый печальноглазый подросток с ненавистью и нежностью смотрит мне в лицо, сжимает пальцы на моем плече. — Попробуй, и увидишь, что будет!
В кармане его олимпийки — хронофаг, и я знаю это.
— А ничего не будет, Вень, — улыбаюсь я и изо всех сил бью по карману, слыша пластмассовый хруст, оглушенная тоскливым и яростным криком любящего и нелюбимого эльфа. — Ничего не будет. Прости меня.
Его ненавистное и ненавидящее лицо навеки остается позади, а я иду, нет, плыву над исшарканным асфальтом, над окурками, над смехом и шепотом, над звездами и горькими липами навстречу настоящей своей судьбе, боли, болезни и невообразимой любви, навстречу своему Там Лину.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
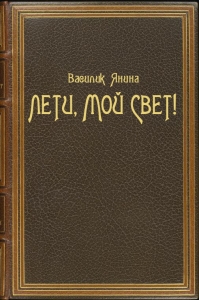





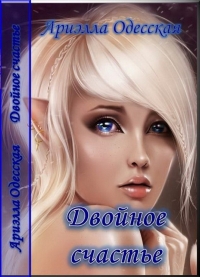





Комментарии к книге «Возраст, которого не было», Наталья Рузанкина
Всего 0 комментариев