КАПИТАН ЗВЕЗДОЛЕТА Сборник
Составитель Б. Петров Художник Ю. СинчилинОт составителя
Мечта — это первый вариант великих свершений. И не удивительно, что в нашей стране, в которой осуществляются самые дерзновенные мечты человека, любят литературу о будущем человечества, о научных свершениях, укрепляющих власть людей над природой, о чудесной технике завтрашнего дня.
Советская научно-фантастическая литература отличается богатством тематики и формы. Широк ее фронт по времени, пространству и проблемам; фантасты пытаются раскрыть загадки прошлого и рассказать о коммунистическом будущем, герои их произведений действуют на Земле, проникают в микромир и глубины Вселенной, решают научно-технические задачи и осуществляют гигантских масштабов преобразования.
Советская фантастика прошла путь от произведений, в которых элемент фантастики служил только целям усиления остроты сюжета или романтичности повествования, до романов, повестей и рассказов большого социального звучания, подлинной научности, смелого поэтического воображения. Но каковы бы ни были достоинства отдельных научно-фантастических произведений, в какое бы время они ни были написаны — 20-е или 60-е годы, — наша научно-фантастическая литература всегда отличается большой человечностью, твердой верой в будущее, серьезностью научного содержания. В советской фантастике отсутствует характерное для многих произведений западной, особенно американской фантастики, нагромождение ужасов, мистика, страх перед машиной Будущего, проповедь вражды между людьми и людей с разумными существами других миров.
В настоящем сборнике помещены научно-фантастические произведения как прошлых лет, так и современные. Они в какой-то мере дают представление о развитии этого жанра литературы в нашей стране.
Рассказы «Невидимый свет» А. Беляева, «Властелин звуков» М. Зуева-Ордынца, «Электронный молот» и «Мир, в котором я исчез» А. Днепрова, написанные в разное время — первые два в 20-х годах, вторые — в наши дни, одинаково актуальны, в них средствами фантастики разоблачаются нравы капиталистического общества.
«Золотая гора» — одна из малоизвестных повестей А. Беляева. Она была опубликована в 1929 году в просуществовавшем короткое время ленинградском журнале «Борьба миров». В «Белом карлике» И. Нечаева, написанном на рубеже 30-х и 40-х годов, предсказывается появление атомного оружия. Оба эти произведения являются интересным свидетельством научного предвидения советской фантастики и одновременно ярко иллюстрируют, насколько действительность обгоняет самую смелую фантазию.
Среди современных научно-фантастических произведений, представленных в сборнике, по праву почетное место занимают рассказы о завоевании Космоса. Советские люди проложили человечеству дорогу к звездам, и этот далекий и загадочный мир стал теперь намного ближе и понятнее. «Астронавт» В. Журавлевой, «Вторая экспедиция на странную планету» В. Савченко, «Легенды о звездных капитанах» Г. Альтова — все это рассказы о покорителе Космоса — человеке коммунистического будущего.
Рассказы «Черный лед» Г. Гуревича и «Глубокий поиск» Стругацких привлекают своеобразием тематики.
В сборнике помещены также произведения приключенческого жанра: небольшая повесть «Вилла Эдит» М. Баринова и рассказ Н. Томана «Секрет „Королевского тигра“».
Б. ПетровА. Беляев НЕВИДИМЫЙ СВЕТ
— По всему видно, что Вироваль — знаменитый врач.
— Приходится согласиться, если это видно даже абсолютно слепым.
— Откуда вы знаете, что я абсолютно слепой?
— Меня не обманут ваши ясные голубые глаза. Они неподвижны, как у куклы. — И, тихо рассмеявшись, собеседник добавил: — Между прочим, я вертел пальцем перед самым вашим носом, а вы даже глазом не моргнули.
— Очень любезно с вашей стороны, — горько усмехнулся слепой и нервно пригладил свои и без того причесанные каштановые волосы. — Да, я слепой и сказал «по всему видно» по старой привычке. Но богатство и славу можно воспринимать не только зрением. Лучший квартал города. Собственный дом-особняк. Запах роз у входа. Широкая лестница. Швейцар. Аромат дорогих духов в вестибюле. Лакеи, камеристки, секретари. Фиксированная высокая плата за визит. Предварительный осмотр ассистентами. Мягкие ковры под ногами, обитые дорогим шелком кресла, благородный запах в этой приемной…
— Замечательная психическая подготовка, — негромко заметил собеседник, сморщив в иронической улыбке свое желтое лицо. Он бегло осмотрел роскошную приемную Вироваля, как бы проверяя ощущения слепого. Все кресла были заняты больными, многие из которых носили темные очки или повязки на глазах. На лицах пациентов — ожидание, тревога, надежда…
— Ведь вы недавно потеряли зрение. Как это произошло? — обратился он снова к слепому.
— Почему вы думаете, что недавно? — удивленно поднял брови слепой.
— У слепых от рождения иные повадки. У вас, по-видимому, поражены зрительные нервы. Быть может, некроз нерва как последствие весьма неприятной болезни, которую не принято называть…
Щеки, лоб и даже подбородок слепого порозовели, брови нахмурились.
— Ничего подобного, — быстро, с негодованием в голосе заговорил он, не поворачивая головы к собеседнику. — Я электромонтер. Работая в одной из экспериментальных лабораторий Всеобщей компании электричества по монтажу новых ламп, излучающих ультрафиолетовые лучи…
— Остальное понятно. Я так и думал. Отлично! — собеседник потер руки, наклонился к слепому и зашептал ему на ухо: — Бросьте вы этого шарлатана Вироваля. С таким же успехом вы могли бы обратиться за врачебной помощью к чистильщику сапог. Вироваль будет морочить вам голову, пока не вытянет из вашего кошелька последнюю монету, а потом заявит, что сделал все возможное, и по-своему будет прав, так как ни одной монеты больше из вас уже не извлечет ни один специалист. У вас много денег? На что вы живете?
— Вы, вероятно, считаете меня простаком, — сказал слепой с гримасой отвращения. — Но даже и слепой простак видит вас насквозь. Вы агент какого-нибудь другого врача.
Собеседник беззвучно рассмеялся, собрав в морщины свое лицо.
— Вы угадали. Я агент одного врача. Моя фамилия Крусс.
— А фамилия врача?
— Тоже Крусс!
— Однофамилец?
— И даже больше, — хихикнул Крусс. — Я агент самого себя. Доктор Крусс к вашим услугам. Разрешите узнать вашу фамилию?
Слепой помолчал, затем неохотно ответил:
— Доббель.
— Очень приятно познакомиться. — Крусс дружески тронул слепого за локоть… — Я знаю, что вы обо мне думаете, господин Доббель. В этом городе торгашей и спекулянтов тысячи врачей отбивают друг у друга пациентов, прибегая к самым грязным средствам, уловкам и обманам. Но, кажется, еще ни один врач не унижал себя настолько, чтобы лично ходить по приемным других врачей, обливать конкурентов грязью и вербовать к себе пациентов. Признавайтесь, что именно такие мысли приходят вам в голову, господин Доббель.
— Допустим, — сухо сказал слепой. — И что же дальше?
— А дальше я имею честь сообщить, что вы ошибаетесь, господин Доббель.
— Едва ли вам удастся переубедить меня, — возразил слепой.
— Посмотрим! — живо воскликнул Крусс и продолжал вполголоса: — Посмотрим. Я приведу вам аргумент, против которого вы не устоите. Слушайте. Я доктор совершенно особого рода. Я не беру денег за лечение. Больше того, я содержу пациентов на свой счет.
Веки слепого дрогнули.
— Благотворительность? — тихо спросил он.
— Не совсем, — ответил Крусс. — Я буду с вами откровенен, господин Доббель, надеясь, что и вы подарите меня своей откровенностью. Скоро ваша очередь, буду краток… Родители оставили мне приличное состояние, и я могу позволить себе роскошь заниматься научными исследованиями по своему вкусу у себя на дому, где содержу небольшую клинику и имею хорошо оборудованную лабораторию. Меня интересуют такие больные, как вы…
— Что же вы хотите мне предложить? — нетерпеливо перебил Доббель.
— Сейчас ничего, — усмехнулся Крусс. — Мое время наступит, когда вы отдадите Вировалю последнюю монету. Однако мне нужно знать, каковы ваши сбережения. Поверьте, я не посягаю на них…
Доббель вздохнул:
— Увы, они невелики. Случай с моим ослеплением стал известен: о нем писали в газетах. Компания, чтобы скорее погасить шум вокруг этого дела, принуждена была уплатить мне сумму, которая обеспечивала меня на год. И это была: большая удача. В наше время даже совершенно здоровые рабочие не могут считать себя обеспеченными на год.
— И на сколько времени у вас еще осталось средств?
— Месяца на четыре.
— А дальше? Доббель пожал плечами.
— Я не привык заглядывать в будущее.
— Да, да, вы правы, заглядывать в будущее становится все труднее и для зрячих, — подхватил Крусс. — Четыре месяца. Гм… Доктор Вироваль, надо полагать, значительно сократит этот срок.
И у вас тогда не будет денег не только для лечения, но и для жизни. Великолепно! Почему бы вам тогда не прийти ко мне? Доббель не успел ответить.
— Номер сорок восьмой! — объявила медицинская сестра в белой накрахмаленной косынке.
Слепой поспешно поднялся. Сестра подошла к нему, взяла за руку и увела в кабинет. Крусс начал рассматривать иллюстрированные журналы, лежащие на круглом лакированном столике.
Через несколько минут Доббель с радостно-взволнованным лицом вышел из кабинета. Крусс подбежал к нему.
— Позвольте мне довезти вас на своей машине. Ну как? Вироваль, конечно, обещал вам вернуть зрение?
— Да, — ответил Доббель.
— Ну, разумеется. Иначе и быть не могло, — захихикал Крусс. — С его помощью вы, конечно, прозреете… в некотором роде. Вы спрашивали, что я могу обещать вам. Это будет зависеть от вас. Возможно, впоследствии я приложу все усилия, чтобы вернуть вам зрение полностью. Но сначала вы должны будете оказать мне одну услугу. О, не пугайтесь. Небольшой научный эксперимент, в результате которого вы, во всяком случае, выйдете из мрака слепоты…
— Что это значит? Я буду отличать свет от тьмы? А Вироваль обещает вернуть мне зрение полностью.
— Ну, вот! Я же знал, что сейчас говорить с вами на эту тему преждевременно. Мой час еще не пришел.
Когда они подъехали к дому, где квартировал Доббель, Крусс сказал:
— Теперь я знаю, где вы живете. Разрешите вручить вам свою визитную карточку с адресом. Месяца через три надеюсь видеть вас у себя.
— Я также надеюсь видеть вас, видеть собственными глазами, хотя бы для того, чтобы доказать вам, что Вироваль…
— Не обманщик, а чудотворец? — засмеялся Крусс, захлопывая дверцу автомобиля. — Посмотрим, посмотрим!
Ничего не ответив, слепой уверенно перешел тротуар и скрылся в подъезде.
* * *
И вот Доббель снова сидит на мягком сиденье автомобиля. Денег осталось ровно столько, чтобы оплатить такси. Звонки трамваев, шум толпы затихли вдали. На коже ощущение тепла и как бы легкого давления солнечных лучей. На этой тихой улице, очевидно, нет высоких домов, которые заслоняли бы солнце. Запахло молодой зеленью, землей, весной. Доббель представил себе коттеджи, виллы, окруженные садами и цветниками. Тишину изредка нарушает только шелест автомобильных шин по асфальту. Машины принадлежат, вероятно, собственникам особняков. Крусс должен быть действительно богатым человеком, если он живет на этой улице. Шофер затормозил, машина остановилась.
— Приехали? — спросил Доббель.
— Да, — ответил шофер. — Я провожу вас к дому. Запахло цветами. Под ногами заскрипел песок.
— Осторожнее. Лестница, — предупредил шофер.
— Благодарю вас. Теперь я дойду сам.
Доббель расплатился с шофером, поднялся на лестницу, тронул дверь — она была не закрыта — и вошел в прохладный вестибюль.
— Вы к доктору Круссу? — послышался женский голос.
— Да. Прошу ему передать, что пришел Доббель. Он знает… Теплая маленькая рука прикоснулась к руке Доббеля.
— Я провожу вас в гостиную.
По смене запахов и температуры — то теплой, то прохладной, по изменению отраженных от стен звуков Доббель догадывался, что спутница ведет его из комнаты в комнату — большие и малые, освещенные солнцем и погруженные в тень, заставленные мебелью и пустые. Странный дом и странный порядок водить пациентов по всем комнатам.
Чуть скрипнула дверь, и знакомый голос Крусса произнес:
— О, кого я вижу! Господин Доббель. Можете идти, Ирен. Маленькую теплую руку сменила холодная, сухая рука Крусса.
Еще несколько шагов, и Доббель почувствовал сильный смешанный запах лекарств. Звенели стекла, фарфор, сталь. Вероятно, кто-то убирал медицинские инструменты и посуду.
— Ну, вот вы и у меня, господин Доббель, — весело говорил Крусс. — Садитесь вот сюда в кресло… Однако сколько мы с вами не виделись? Если не ошибаюсь, два месяца. Позвольте, совершенно верно. Мой почтенный коллега доктор Вироваль обчистил ваши карманы даже раньше предсказанного мною срока. Видите ли вы меня — об этом, полагаю, спрашивать не нужно.
Доббель стоял, опустив голову.
— Ну, ну, старина, не вешайте носа. — Крусс трескуче рассмеялся. — Вы не пожалеете, что пришли ко мне.
— Что же вы хотите от меня? — спросил Доббель.
— Буду говорить совершенно откровенно, — отвечал Крусс. — Я искал такого человека, как вы. Да, я возьмусь бесплатно лечить вас и даже содержать на свой счет. Я употреблю все усилия, чтобы по истечении срока нашего договора полностью вернуть вам зрение.
— Какого договора? — с недоумением воскликнул Доббель.
— Разумеется, мы заключим с вами письменный договор, — хихикнул Крусс. — Должен же я обеспечить свою выгоду… У меня есть одно изобретение, которое мне необходимо проверить. Предстоит операция, связанная с известным риском для вас. Если опыт удастся, то вы, временно оставаясь слепым, увидите вещи, которых не видел еще ни один человек на свете. А затем, зарегистрировав свое открытие, я обязуюсь сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть вам нормальное зрение.
— Вы полагаете, что мне остается только согласиться?
— Совершенно верно, господин Доббель. Ваше положение безвыходно. Куда вам от меня идти? На улицу с протянутой рукой?
— Но объясните же мне по крайней мере, что произойдет со мною после операции? — раздраженно воскликнул слепой.
— О, если опыт удастся, то… Я думаю, я уверен, что после операции вы сможете видеть электрический ток, магнитные поля, радиоволны — словом, всякое движение электронов. Невероятные вещи! Каким образом? Очень просто.
И, расхаживая по комнате, Крусс тоном лектора продолжал:
— Вы знаете, что каждый орган реагирует на внешние раздражения присущим ему, специфическим образом. Ударяйте легонько по ушам, и вы услышите шум. Попробуйте ударить или надавить на глазное яблоко, и вы получите уже световое ощущение. У вас, как говорят, искры из глаз посыплются. Таким образом орган зрения отвечает световыми ощущениями не только на световое раздражение, но и на механическое, термическое, электрическое.
Я сконструировал очень маленький аппаратик — электроноскоп, нечто вроде панцирного гальваноскопа высочайшей чувствительности. Провода электроноскопа — тончайшие серебряные проволоки — присоединяются к зрительному нерву или зрительному центру в головном мозгу. И на ток, который появится в моем аппарате — электроноскопе, зрительный нерв или центр должен реагировать световым ощущением. Все это просто.
Трудность заключается в том, чтобы мертвый механизм электроноскопа приключить к системе живого зрительного органа и чтобы вы могли световые ощущения проецировать в пространстве. По всей вероятности, ваш зрительный нерв не поражен на всем протяжении. Не легко будет найти наилучшую точку контакта. Впрочем, к операции мы прибегнем лишь в крайнем случае. Ведь электрический ток может добраться до зрительного нерва и по смежным нервам, мышцам, сосудам. Вот основное. Подробности я вам объясню, если вы решите…
— Я уже решил, — ответил Доббель, махнув рукой. — В жизни мне нечего терять. Экспериментируйте как хотите. Можете даже продолбить мне череп, если потребуется.
— Ну, что же, отлично. У вас теперь по крайней мере есть цель жизни. Видеть то, чего еще не видел ни один человек в мире! Это не всякому выпадает на долю.
— А уж на вашу долю в связи с этим, наверное, тоже кое-что перепадет! — язвительно сказал Доббель.
— Выгодная реклама, не больше, которая поможет мне отбить у Вироваля всех его пациентов, — с самодовольным смехом ответил Крусс.
* * *
— Темнота. Черная как сажа и глубокая как бездна, впрочем, я лгу: полная темнота не имеет пространственного измерения. Я не представляю, простираются ли передо мною тысячи кубических километров или сантиметры темноты, нахожусь ли я в пустоте или же со всех сторон меня окружают предметы. Они для меня не существуют, пока я не дотронусь до них или не расшибу себе лба…
Доббель замолчал.
Он лежал на кровати в большой белой комнате. Голова его и глаза были забинтованы. Крусс сидел в кресле возле кровати и курил сигару.
— Скажите, доктор, почему вы так тяжело дышите? — спросил Доббель.
— Не знаю. Наверно, сердечко шалит. От волнения… Да, я волнуюсь, господин Доббель. Волнуюсь, наверно, больше вашего… Почему так долго ничего…
— Послушайте! — вдруг воскликнул Доббель и приподнялся на кровати.
— Лежите, лежите! — поспешил Крусс уложить голову Доббеля на подушку.
— Послушайте! Мне кажется… я вижу…
— Наконец-то! — свистящим шепотом произнес Крусс. — Что же вы видите?
— Я вижу… — взволнованно ответил Доббель, — мне кажется… если это только не зрительная галлюцинация… Бывают зрительные галлюцинации у слепых?
— Да ну же, ну, что вы видите? — вскричал Крусс, ерзая в кресле.
Но Доббель замолчал. Его лицо было бледным и таким сосредоточенным, словно он к чему-то прислушивался. Крусс поднялся, осторожно ступая, дошел до двери и нажал кнопку электрического звонка. Когда появилась санитарка в белом халате, Крусс приказал тихо, как бы боясь нарушить грезы Доббеля:
— Скорее… нитроглицерин… у меня сердечный припадок.
— Доктор! Господин Крусс! Да, да, я вижу… тьма ожила! — заговорил Доббель, как в бреду. — Проходят какие-то сгущения светового тумана…
— Какого цвета? — взвизгнул Крусс, хрипло дыша.
— Свет белый… хотя на фоне мрака кажется чуть-чуть голубоватым… Световые пятна приходят и уходят ритмически, как волны…
— Волны! — хрипел Крусс. — Проклятье! Недостает только, чтобы я умер именно сейчас. Давайте! Скорей давайте! — обратился он к вошедшей санитарке, жадно выпил лекарство, опустил веки и откинулся на спинку кресла. Хрипы становились все реже я тише.
— Прохождения световой материи бывают то короче, то длиннее, — говорил Доббель о своих видениях.
— Быть может, это работает радиотелеграф? — высказал предположение Крусс. — Ну вот, мне лучше. Мне значительно лучше. Я вас слушаю!
— Удивительно. Передо мною словно появляется фотографическая пластинка, Я вижу больше света… Пятна, точки, дуги, кольца, волны, узкие, трепещущие лучи пересекают, пронизывают друг друга, сливаются, расходятся, переливаются… Световая сетка, узоры… Как трудно разобраться во всем этом!
— Замечательно! Бесподобно! — восхищался Крусс удачными результатами своего опыта. — Вам трудно разобраться потому, что вы еще не приспособились регулировать аппарат и не можете выделять токи различной силы. Не мудрено, что вы находитесь как бы в световом хаосе. Но вы быстро овладеете регулятором и сможете выделять токи от слабых до сильных любого напряжения. Да не жалейте же слов, дружище! Что вы видите еще?
— Нет больше темноты, — продолжал Доббель. — Пространство полно света. Свет разной силы и — да, да! — разной окраски — голубой, красноватой, зеленоватой, фиолетовой, синей… Вот с левой стороны вспыхнуло световое пятно величиною с яблоко. От него исходят голубоватые лучи, как от маленького солнца…
— Что такое? — воскликнул Крусс, вскакивая с кресла. — Вы видите? Не может быть! Ведь это луч солнца из окна упал и осветил полированный шарик на ручке двери. Но не можете же вы видеть этот шарик!
— Я не вижу шарика. Я вижу только световое пятнышко и голубоватые лучи, исходящие от него.
— Но как? Почему? Какие лучи?
— Мне кажется, я нашел разгадку, господин Крусс. Энергия солнечного луча, осветившего шарик, начала вырывать с металлической поверхности шарика электроны.
— Да, да, да, да! Вы правы. Вы совершенно правы. Как только я сразу не догадался! А ну-ка, проделаем такой опыт. Вы, конечно, не видите, где находятся провода электрической лампы? Так. Теперь я включаю свет. Электрический ток двинулся и…
— И я увидел электрический провод. Светящаяся линия проходит по потолку, — Доббель указывал пальцем, Крусс утвердительно кивал головой, — по стене… а вон там, в углу, происходит утечка тока. Вам придется пригласить монтера… Дальше провод проходит через ряд комнат, спускается в первый этаж, выходит на улицу… Я вижу и горящую электрическую лампу. Вот она. Только я вижу не свет, а токи электронов от накаленного волоска…
— Термионная эмиссия, или эффект Эдисона, — кивнул головой Крусс.
— А знаете что, господин Крусс? — весело сказал Доббель. — Я вижу кое-что и более интересное, чем эффект Эдисона в горящей лампочке. Вижу, даже не поворачивая головы. Будьте добры, подойдите к моей кровати. Так. Здесь ваша; голова? А здесь ваше сердце?
— Совершенно верно… Гром и молния! Неужели вы… неужели вы видите электротоки, излучаемые моим мозгом и сердцем? Хотя что же тут удивительного? Ведь в каждой клетке нашего организма происходят сложные химические процессы, сопровождаемые электрическими явлениями. Но сердце и в особенности мозг — это настоящие генераторы.
— От вашей головы исходит мягкий лиловый свет. Он усиливается, когда вы усиленно думаете. А когда волнуетесь, разгорается пламенем ваше сердце, — сказал Доббель.
— Вы клад, Доббель! Вы золото! Вы незаменимый для науки человек! Ведь гальванометр не может рассказать всего, как вы! Я горжусь собою… и вами, Доббель. Сегодня вечером мы покатаемся с вами по городу в автомобиле, и вы расскажете мне о ваших видениях!
* * *
Перед Доббелем открылся новый мир. Тот вечер, когда Крусс катал его по городу в авто, навсегда остался в памяти Доббеля. Этот первый вечер был совершенно волшебным, фантастическим.
Доббель видел свет всюду, где только имелся электрический ток, а где нет электричества в большом городе! Доббель видел вспышки высокого напряжения, которые дает магнето автомобильного двигателя. Моторы трамваев катились по улицам, как китайские колеса фейерверков, отбрасывая от себя снопы искр — электронов. Словно расплавленные канаты, висели вдоль улиц трамвайные провода. Вокруг них были такие мощные магнитные поля, что светом наполнялась вся улица. Доббель видел, вернее угадывал, как свет — ток от воздушного токонесущего провода — бежал по бугелю под крышу вагона к контролеру на передней площадке, затем под пол — в железную раму вагона, в ось, в колеса, в рельсы, в подземный кабель. Многочисленные кабели ярко светились под землей. Кое-где они были неисправны, и Доббель отчетливо видел уходящие в землю голубоватые ветвистые ручейки — утечка тока. А позади себя, далеко на окраине города, он видел зарево и целые каскады огня. Там была расположена одна из многих городских электростанций с ее мощными альтернаторами. Они-то и излучали эти огненные каскады.
Любопытно было смотреть на многоэтажные дома. Доббель не видел стен. Он видел только ярко светящуюся сложную решетку проводов электрического освещения и более слабый свет телефонных проводов, как бы светящийся скелет небоскребов. По этим скелетам Доббель узнавал отдельные здания города. Там и сям в домах виднелись косматые световые пятна — моторы.
Все пространство было наполнено рассеянным светом от проходящих радиолучей, а над городом, до самых звезд, как бы связывая небо с землею, текли световые потоки, ливни, реки света — то была игра космических лучей, вырвавшихся из недр солнца электронов и магнитных токов самой земли…
— Не один ученый дал бы выколоть себе глаза, чтобы видеть все это! — восторженно воскликнул Крусс, слушая описания Доббеля. — Кстати, будьте готовы, Доббель. Завтра вас интервьюируют журналисты крупнейших газет, а послезавтра я демонстрирую вас в научном обществе.
* * *
Изобретение Крусса произвело сенсацию. Несколько дней подряд все газеты наперебой трубили о нем, и Крусс купался в лучах славы. Доббеля тоже непрерывно интервьюировали и фотографировали, а затем он начал получать письма с деловыми предложениями.
Военное ведомство предполагало использовать Доббеля для перехватывания во время войны радиотелеграмм противника. Доббель воспринимал волны радиотелеграфа как ряд световых вспышек разной продолжительности. Преимущество Доббеля перед приемной радиостанцией заключалось в том, что ему не надо было перестраиваться на длину волн: он видел их все — и длинные и короткие.
Крупная фирма «Электроремонт» предлагала ему работу — контроль над утечкой тока в подземных кабелях и обнаружение так называемых бродячих токов, причинявших повреждения подземным кабелям и разным металлическим конструкциям. Фирма подсчитывала, что живой аппарат — Доббель — обойдется дешевле монтеров и техников, вооруженных обычными аппаратами, определяющими место утечки тока.
Наконец Всеобщая компания электричества сделала ему предложение — служить живым аппаратом при опытных работах в научной лаборатории компании. В экспериментальной лаборатории испытывались различные системы катодных трубок и ламп, осциллографов, аппаратов, излучающих ультрафиолетовые и рентгеновы лучи, искусственные гамма-лучи; здесь изучалась вся школа электромагнитных колебаний, делались опыты бомбардировки атомного ядра, изучались свойства космических лучей. Такой живой аппарат, как Доббель, конечно, мог быть очень полезен при производстве опытов над невидимыми лучами.
Крусс разрешил Доббелю принять предложение Всеобщей компании электричества.
— Но жить вы будете по-прежнему у меня, — сказал Крусс. — Так мне будет удобнее. Ведь договор наш остается еще в силе. Я не произвел еще над вами всех интересующих меня наблюдений.
* * *
Для Доббеля вновь началась трудовая жизнь.
Ровно в восемь утра Доббель уже сидел в лаборатории, где всегда пахло озоном, каучуком и какими-то кислотами. Производились ли опыты при солнечном свете, или же вечером, при свете ламп, или, наконец, в полной темноте, Доббель всегда был окружен своим призрачным миром светящихся шаров, колец, облаков, полос, звезд. Машины гудели, жужжали, трещали. Доббель видел, как возле них возникают сияющие магнитные поля, как срываются потоки электронов, как эти потоки изгибаются или ломаются в пути под влиянием хитроумных электрических преград, сетей и ловушек. И Доббель объяснял, объяснял и объяснял все виденное. Две стенографистки записывали его речь.
Он видел интереснейшие световые феномены и делал ученым сообщения о вещах совершенно неожиданных. Когда начинала работать гигантская электромагнитная установка, которая была больше и тяжелее самого большого паровоза, Доббель говорил:
— Фу, ослепнуть можно! Эта машина наполняет ярким светом целый квартал города, а крайние пределы светящегося магнитного поля выходят далеко за окраину города. Ведь я вижу весь город насквозь — электрический скелет города, вижу сразу во все стороны. Я теперь вижу все вещи и вас, господа. Электроны облепили меня, как светящийся улей. Вон у господина Ларднера искры уже сыплются с носа, а голова господина Корлиса Ламотта напоминает голову Медузы Горгоны в пламени. Я отчетливо вижу все металлические предметы, они горят, как раскаленные, и все связаны светящимися нитями.
При помощи Доббеля, говорящего и мыслящего аппарата, было разрешено несколько неподдававшихся разрешению обычным путем научных вопросов. Его ценили. Ему хорошо платили.
— Я могу считать себя самым счастливым среди слепых, но зрячие все же счастливее меня, — говорил он Круссу, который ежедневно выслушивал его отчеты о работе и продолжал на основании их свои изыскания по усовершенствованию изобретенного им аппарата.
И вот настал день, когда Крусс сказал:
— Господин Доббель! Сегодня истек срок нашего договора. Я должен исполнить свое обязательство — вернуть вам нормальное зрение. Но вам тогда придется потерять вашу способность видеть движение электронов. Это все-таки давало вам преимущество в жизни.
— Вот еще! Преимущество быть живым аппаратом! Не желаю. Довольно. Я хочу иметь нормальное зрение, быть нормальным человеком, а не ходячим и болтающим гальваноскопом.
— Дело ваше, — усмехнулся Крусс. — И так, начнем курс лечения.
* * *
Настал и этот счастливейший день в жизни Доббеля. Он увидел желтое, покрытое морщинами лицо Крусса. Молодое, но злое лицо сестры, помогающей Круссу, увидел капли дождя на стеклах большого окна, серые тучи на осеннем небе, желтые листья на деревьях. Природа не позаботилась встретить прозрение Доббеля более веселыми красками. Но это пустяки. Были бы глаза, а веселые краски найдутся!
Крусс и Доббель некоторое время молча смотрели друг на друга. Потом Доббель крепко пожал руку Крусса.
— Не нахожу слов для благодарности…
Крусс отошел от кресла, приподняв правое плечо.
— Благодарить незачем. Для меня лучшая награда — успех в моей работе. Я же не шарлатан, не Вироваль. Вернув вам зрение, я доказал это всем — надеюсь, его приемная очень скоро опустеет… Но довольно обо мне. Вот вы и зрячий, здоровый, нормальный человек, Доббель. Можно позавидовать вашему росту, вашей физической силе и… что же вы теперь намерены делать?
— Я понял ваш намек. Я больше не ваш пациент и потому не должен обременять вас своим присутствием. Сегодня же перееду в отель, а затем подыщу себе квартиру, работу.
— Ну что ж, желаю вам успеха, Доббель.
* * *
Прошел месяц.
Однажды Крусса попросили сойти вниз, в вестибюль. Там стоял в пальто с приподнятым воротником и со шляпой в руке Доббель. Струйки дождя стекали на паркетный пол с полей его шляпы. Доббель выглядел уставшим и похудевшим.
— Господин Крусс! — сказал Доббель. Я пришел еще раз поблагодарить вас. Вы вернули мне зрение. Я прозрел…
— Вы лучше скажите, удалось найти вам работу?
— Работу? — Доббель желчно рассмеялся. — Я прозрел, господин Крусс. Прозрел вдвойне. И я хочу просить вас… ослепить меня. Сделайте меня слепцом, навсегда слепцом, видящим только движение электронов.
— Добровольно подвергнуть себя ослеплению?! Но ведь это чудовищно! — воскликнул Крусс.
— У меня нет другого выхода. Не умирать же мне с голоду.
— Нет, я не сделаю этого, решительно отказываюсь! — горячо возразил Крусс. — Что подумали бы обо мне! И потом вы опоздали. Да. Занимаясь электроноскопом, я внес в него кое-какие конструктивные изменения, запатентовал и продал патент Всеобщей компании электричества. Теперь каждый человек может с помощью моего электроноскопа видеть электроток. И компания не нуждается в таких ясновидящих слепцах, каким были вы, Доббель.
Доббель молча надел мокрую шляпу и в раздумье посмотрел на свои сильные, молодые руки.
— Ладно — сказал он, в упор взглянув на Крусса. — Они годятся по крайней мере на то, чтобы сломать всю эту чертову мельницу. Прощайте, господин Крусс! — и он вышел, хлопнув дверью.
Дождь прошел, и на синем осеннем небе ярко сияло солнце.
А. Беляев ЗОЛОТАЯ ГОРА
Болезнь, которая не поддается лечению
Голубое небо прозрачно, как хрустальные воды горного озера. Высоко-высоко журавлиной стаей летят легкие перистые облака. Под облаками парит орел, распластав свои огромные крылья. Он делает медленные круги и смотрит вниз. Под ним расстилаются горы с белыми шапками снега, темная зелень лесов, горные озера, похожие на куски разбитого зеркала, белое кружево водопадов, серебряные ленты речек… Но не эта знакомая картина интересует орла. Его зоркие глаза прикованы к большому белому камню, что лежит у реки, на мшистом склоне холма. На камне сидит человек, а около него вертится черный как смоль живой комочек. Он, должно быть, очень жирный, этот комочек! Хорошо бы упасть камнем и, схватив черный комочек, отнести в гнездо, на вершину горной сосны, своим голодным детенышам… Но человек мешает… Зачем он пришел сюда, в это пустынное место? Что ему надо?
На эти вопросы человек, сидевший на белом камне, не мог бы ответить. Он откинулся на спину, посмотрел в голубую пустыню неба, увидел орла и, обняв руками черного пуделя, сказал:
— Не вертись, Джетти, и не волнуйся. Орел не возьмет тебя. Ты мешаешь мне думать, Джетти! — И человек, закрыв глаза, погрузился в свои думы, подставляя загорелое, бритое лицо под лучи осеннего, но еще теплого солнца.
Сегодня надо решить. Но сначала нужно разобраться в самом себе, продумать каждый свой шаг, сделанный на пути сюда, к этому белому камню.
Как это началось?.. Москва. Номер гостиницы. Датчанин Скоу-Кельдсен звонил по телефону и сообщил, что он получил билет в ложу иностранных корреспондентов на балет «Красный мак»…
Нет, это не главное. Началось это раньше, еще в Нью-Йорке, на третьей авеню, в небольшой квартирке, которую занимал Клэйтон. Он заболел. Да, с этого все и началось! Заболел скукой.
Физически он был совершенно здоров, успешно занимался спортом и был даже чемпионом по легкой атлетике. В жизни ему везло. Сын небогатого фермера, Клэйтон рано начал зарабатывать самостоятельно. Ему было семнадцать лет, когда он из сонного Запада приехал в кипящий котел Нью-Йорка и быстро приспособился к новым условиям жизни. Переменив несколько профессий, он остановился на журналистике. К двадцати пяти годам он уже был видным сотрудником газеты «Нью-Йорк тайме». И тут он начал скучать. Город, знакомые, — все ему надоело.
Чтобы спастись от непролазной одуряющей скуки, Клэйтон начал брать самые рискованные поручения. Он «провел» на баррикадах две мексиканские революции, кочевал с африканскими племенами, восставшими против французов, летал на южный полюс с экспедицией, разыскивающей Оуэна…
Наконец по совету одного друга Клэйтон отправился специальным корреспондентом в Москву. По мнению друга и самого Клэйтона, это предприятие было самое рискованное из всего предпринятого Клэйтоном. Поэтому Клэйтон и приехал в Москву. Действительность разочаровала его. Он не нашел тех ужасов, о которых говорили ему «очевидцы». Клэйтон искал экзотики и не находил. В окружающей жизни он многого не понимал и не старался понять, — он прошел американскую газетную школу, которая не приучила проникать в сущность явлений.
Новый Стэнли
Клэйтон переодевался в вечерний костюм, чтобы идти в театр, когда позвонил телефон. Завязывая на ходу галстук, Клэйтон подошел к телефону и, к своему удивлению, услышал голос Додда — своего приятеля по газете, одного из корреспондентов «Нью-Йорк таймс».
— Вы здесь? Какими судьбами? — удивился Клэйтон.
— Да, здесь. Приезжайте немедленно ко мне, — ответил Додд и дал адрес частной квартиры на Арбате.
— Но я… я иду сегодня в театр, — ответил Клэйтон. — «Красный мак» — балет, говорят, нечто изумительное. Может быть, вы пойдете со мной? У нас ложа.
— Надеюсь, этот балет не снимут с репертуара, — насмешливо возразил Додд. — Приезжайте немедленно. Есть дело, и как раз в вашем вкусе! Сам редактор поручил его вам.
Клэйтон был хорошо вышколенным работником. Он не стал больше расспрашивать Додда, быстро закончил свой туалет, вызвал по телефону абонированное такси и отправился на Арбат.
Додд — маленький человечек с красным лицом, безусый, но с небольшой светлой бородкой, похожий на карикатурное изображение дяди Сэма, — усадил Клэйтона на диван, предложил сигару и приступил прямо к делу.
— Я имею для вас восхитительное предложение: немедленно ехать на Алтай разыскивать мистера Микулина.
Додд вынул записную книжку и, перелистывая страницы, продолжал:
— Микулин, Василий Николаевич… Русский ученый, работал в лаборатории Академии наук. Был избран действительным членом Великобританской Академии наук. Небывалый случай со времени избрания Менделеева. Обычно иностранных ученых, даже с выдающимся именем, избирают только членами-корреспондентами. Можете представить, что за голова должна быть у этого Микулина! Некоторое время работал в Ленинграде, а потом как-то незаметно исчез. О нем перестали говорить и писать, как будто он умер. Но смерть такого человека не прошла бы незамеченной.
«Зачем Микулин поехал на Алтай? Почему мы, американцы, должны разыскивать его? Откуда Додд знает, что Микулин жив?..» — раздумывал Клэйтон.
— У Микулина в Англии был друг, — продолжал Додд. — Фамилия его Гиббс. Он американец, молодой ученый, приехавший в Англию для усовершенствования. Гиббс и Микулин — оба физики, оба работали в одной лаборатории. Наконец, оба изучали строение атома и старались осуществить давнишнюю мечту человечества о превращении элементов. Но Микулин был талантливее Гиббса. Надо прямо сказать, позабыв о национальном самолюбии: Микулин гениален, а Гиббс только на голову выше рядового научного работника. Микулин далеко ушел вперед и, по мнению Гиббса, был совсем близок к решению задачи. Быть может, Микулин тогда уже разрешил эту огромную задачу теоретически. Однажды, в минуту откровенности, — слушайте внимательно, — Микулин сказал Гиббсу, что он, Микулин, на родине будет продолжать работу.
«Но для того, чтобы скорее окончить мой труд, мне необходимо полное уединение, — сказал Микулин. — Я не могу сосредоточиться, когда в моей лаборатории снуют лаборанты, студенты и даже, как у вас здесь, высокие покровители наук. Я сибиряк, родился в Семипалатинске, недалеко от чудеснейшей русской Швейцарии — Алтая. Я знаю одно местечко южнее Рахмановских ключей, недалеко от китайской границы. Прекрасный горный климат, полное уединение, тишина, покой. Туда уйду я с одним или двумя помощниками, и пусть мир забудет меня до той поры, пока… пока я переверну мир!»
— Поверьте, Клэйтон, что эти слова не пустое бахвальство. Микулин действительно сможет перевернуть мир, если только ему удастся осуществить то, над чем сломало себе шею немало ученых. Представляете вы, что значит превращать один элемент в другой? Это значит из кирпичей, булыжника и песка вы можете делать чистейшее золото, из дерева — шелк, из стекла — алмазы, из алмазов… пасту для зубов, словом, возьмите пару любых предметов и превращайте их один в другой. Такой человек должен быть всемогущим. Но и этого мало. Микулин обещает освободить и использовать внутриатомную энергию. А это изобретение способно перевернуть весь мир. В руках этого человека, большевика, окажется почти сверхъестественное могущество. Он начнет снабжать свое правительство целыми вагонами золота. Чем это кончится? Всеобщая золотая «инфляция», полнейшее обесценение золота, всеобщие кризисы в капиталистических странах, банкротства, рабочие волнения… Бороться с Советской Россией? Но разве можно будет бороться со страною, которая обрушит на голову врага взбесившиеся силы природы — миллиарды, — не лошадиных, а дьявольских, — сил, сидящих в каждой песчинке! Вы понимаете, что будет?..
Да, Клэйтон понимал. Он чувствовал, как холодеет его сердце. Но мысль не хотела мириться с этой страшной судьбой обреченного мира. Может быть, не все потеряно, может быть, есть выход?..
— Золото можно заменить другим металлом, — сказал Клэйтон, — например, серебром или какими-нибудь редкими металлами. Впрочем, простите, я сказал, не подумав. Ведь Микулин может изготовлять любой металл, любое вещество…
— Вот именно, — кивнул головой Додд. — Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему мы интересуемся Микулиным. Гиббс, возвратившись из Англии, как истинный патриот, счел своим долгом сделать доклад одному из членов правительства и нескольким финансистам. Сообщению этому вначале не придавали особого значения. Но когда узнали, что Микулин исчез из Ленинграда, то начали серьезно беспокоиться. На официальные запросы мы получали ответ, что Микулин уехал якобы в научную экспедицию. У нас этому ответу, конечно, не поверили. Пока Микулин работал в Ленинграде на глазах у всех, он не был так страшен; все его изобретения тотчас становились бы достоянием гласности. Если бы даже удалось ему сделать открытие, им воспользовались бы и другие страны, и силы, таким образом, уравнялись бы. Но это «бегство» Микулина наводит на очень серьезные размышления…
Клэйтон нервно поднялся и зашагал по комнате.
— Довольно! Мне все понятно. Итак, каковы мои ближайшие задачи?
— Ехать на Алтай разыскивать Микулина, постараться проникнуть в его лабораторию, заслужить его доверие и узнать, разрешил ли он задачу получения искусственного золота.
— Но как же я найду его, имея такой неопределенный адрес: «Алтай, южнее Рахмановских ключей, у китайской границы?»
— А как Стэнли нашел Ливингстона? У Стэнли был еще более короткий адрес: Африка — и больше ничего. Мы не могли узнать более точно. Нам все равно не сообщили бы адреса, а расспросы только возбудили бы подозрение. Ведь наши цели… не совсем мирные, и потому нам надо соблюдать осторожность. Как видите, я не вызвал вас даже к себе в отель, а выбрал эту частную квартиру вполне надежного человека.
— Да, наши цели не совсем мирные. Поэтому мне труднее оправдать свое появление, если даже я и найду Микулина. С неба что ли свалиться? Инсценировать авиационную катастрофу? Наш редактор пойдет на такие расходы?
— Можете Ломать целую эскадрилью самолетов, если понадобится, — усмехнулся Додд. — За редактором стоят люди, которые откроют неограниченный кредит. Вы лично не останетесь в убытке. Десяток тысяч долларов я вручу вам немедленно. Я буду жить в Кобдо. Постараемся завязать связь через перевал Улан-даба.
— Ну, а если Микулин нашел средство делать золото и извлекать внутриатомную энергию? — раздумчиво спросил Клэйтон.
— Вы сообщите об этом и получите соответствующие инструкции…
Где огонь падает с неба
Этот разговор происходил в мае. Как много событий произошло за это время! Клэйтон быстро собрался в путь и выехал из Москвы, так и не посмотрев «Красного мака». Клэйтон мчался на поезде, плыл на пароходе, ехал на косматых горных лошаденках и, наконец, шел пешком. Перед ним открылась совершенно новая страна, которая поразила его своей красотой. Высочайшие горы, поросшие пихтами, кедрами, елями, лиственницами и увенчанные вечными снегами, бесчисленные водопады, красивые, быстрые горные речки с тополями и ивами на берегах, тучные пастбища… Многоголосый птичий крик, плескание рыбы в реках, простор и… безлюдье.
Чем ближе подвигался Клэйтон к Рахмановским ключам, тем больше он волновался. Удастся ли ему, как Стэнли, найти своего «Ливингстона», и как встретит Микулин незваного гостя? Мысль об инсценировке воздушной катастрофы Клэйтон давно оставил. Это было слишком сложное и рискованное предприятие. Почему не избрать прямой путь: явиться к Микулину в качестве богатого американского туриста, который случайно узнал, что в этих глухих местах живет русский.
От кого узнал? Скажем, от проводника. Ведь не может же быть, чтобы Микулин не поддерживал никаких связей с окружающим населением. Должен же кто-нибудь поставлять ему продукты питания.
Найти Микулина было не так легко. Десять дней пробродил Клэйтон вокруг Рахмановских ключей — горячего и холодного, — встречал много больных, пришедших к ключам за исцелением, расспрашивал всех, но никто не знал о русском, живущем в горах на юг от Рахмановских ключей. Но Клэйтон не падал духом, и в конце концов ему удалось встретить одного старого охотника, который случайно набрел в горах на неизвестный маленький поселок. Кто живет — охотник не знал.
— Я ни за что не пойду туда еще раз, — сказал охотник. — Там огонь падает с неба на дом, и дом не горит.
Однако деньги — много денег — заставили охотника побороть страх и отправиться в горы вместе с Клэйтоном.
Путники перевалили через несколько горных кряжей с настоящей луговой альпийской растительностью, спустились в долину и оказались на краю огромного болота.
Старый охотник, по каким-то одному ему известным приметам, прыгая с кочки на кочку, пошел по болоту. Клэйтон последовал за ним, удивляясь не только его ловкости, но и бесстрашию: несмотря на весь опыт, предательская трясина могла ежеминутно засосать смельчака.
Перевалив еще через одну небольшую горную гряду, старый охотник остановился и сказал:
— Дальше не пойду. Озолоти — не пойду. Тут близко. Теперь ты сам найдешь. Иди все прямо. Мимо большого белого камня пройдешь, поверни направо. Там и увидишь. Назад пойдешь? Если скоро пойдешь, я тебя тут подожду, назад провожу.
Пойдет ли он назад и скоро ли? Этого Клэйтон не знал.
— Ты подожди меня день и ночь. Если не вернусь, иди. Только вот что! Через перевал Улан-даба ходил? В Кобдо был? Отлично. Иди в Кобдо, передашь письмо, я сейчас напишу.
Клэйтон написал Додду о том, что ему, Клэйтону, по-видимому, удалось найти местопребывание Микулина. Если все будет хорошо, (он придет к болоту в полнолуние, через месяц. Додд может через охотника прислать письмо или явиться сам.
— Вот, возьми письмо. Если ты доставишь его, то получишь много денег и подарков. Может быть, с тобою сюда придет один господин, ты проведи его.
Старый охотник взял письмо, положил его под шапку-папаху, кивнул головой и уселся на кочку, а Клэйтон отправился дальше.
Он шел по южному склону горы, который защищен от северных холодных ветров. Был второй час дня. Жара стояла невыносимая. Джетти — черный пудель, неизменный спутник Клэйтона во всех его путешествиях, плелся, высунув язык, с которого падала слюна. Ни малейшего ветерка. Даже листья тополя были недвижимы. Клэйтон спускался вниз по берегу горной речки. Джетти несколько раз подбегал к реке и лакал воду.
— Жарко, Джетти, кажется, гроза будет, — сказал Клэйтон. И в самом деле, где-то вдали глухо прогремел гром. Горное эхо несколько раз повторило рокочущий звук. Гроза быстро приближалась. Верхушки деревьев зашумели, и первые крупные капли дождя упали на лицо и руки Клэйтона. Поправив дорожный мешок за спиною, Клэйтон побежал к большой косматой ели, чтобы укрыться от дождя.
— Вот так, Джетти, ложись здесь! — устраивался Клэйтон под деревом. Собака легла, но сразу же вскочила на ноги и залаяла, поджав свой пушистый, давно не стриженный хвост. Что-то испугало собаку.
Сквозь шум дождя и рокотание грома Клэйтон услышал топот. Затем с пригорка на поляну вылетел золотистый конь, на котором сидела молодая девушка. На ней была короткая юбка цвета хаки и блуза с открытым воротником. На ногах — высокие зашнурованные ботинки. Стриженные под скобку волосы развевались на ветру, лицо покраснело от быстрой езды. Девушка улыбалась и что-то кричала. Она промчалась мимо Клэйтона и скрылась внизу за густыми ивами. Секундой позже на поляну выехал молодой человек — блондин, похожий на калмыка, очень весело улыбавшийся. Он подгонял свою лошадь, видимо, желая догнать ускакавшую амазонку. Следом за молодым человеком по пригорку катился какой-то большой бурый шар. Клэйтон принял этот шар за большую собаку, но когда шар подкатился, оказалось, что это медвежонок. Вот почему так истерически лаял Джетти: он почуял зверя. Но медвежонок не обратил на пуделя никакого внимания: он нагонял наездников. Странно, однако, что наездники, убегавшие от медведя, улыбались так весело. Клэйтон быстро снял с плеча винтовку, но не выстрелил: он подумал, что, быть может, зверь ручной, а всадники убегали не от медведя, а от дождя.
«Советская Диана», как мысленно назвал Клэйтон наездницу, удивила его. Клэйтон никак не ожидал встретить в дебрях Алтая такую красивую женщину. Но кто она? И кто этот мужчина? Микулин? Как жалко, что Додд не показал Клэйтону карточку Микулина.
Гром грохотал уже над самой головой Клэйтона, дождь лил водопадом, но Клэйтон уже не обращал на это никакого внимания Он побежал следом за наездниками. Обогнув заросли ивы, он увидел большую поляну, примыкавшую к почти отвесной скале. У скалы стояли три деревянных дома. Над средним возвышались металлические мачты — радиостанция, как решил Клэйтон. Дома были окружены цветниками.
Бродяга По Призванию
Неподалеку стояли два сарая, за которыми виднелось поле ржи.
«Однако, тут целая ферма, — подумал Клэйтон. — Но где же наездники?»
В эту минуту из двери дома, над которым возвышалась антенна, выбежал молодой человек. Он побежал к мачте антенны, что-то осмотрел и вернулся к дому. Огромная молния, раздирая воздух, с оглушительным треском сорвалась с неба и ударила в острие металлического шеста.
«Громоотвод, — подумал Клэйтон. — Вот что испугало старого охотника».
«Черт возьми, это не громоотвод, а молниепривод», — подумал Клэйтон в следующую минуту. В самом деле, мачты и провода как будто собирали электрические разряды со всех сторон. Над домом разряды следовали беспрерывно. Сине-лилово-белая полоса молнии соединила небо с землею, и точкою соединения были вершины мачт. Даже здесь, на расстоянии добрых сотни метров от дома, жутко было стоять. Но каково было молодому человеку, который находился под самым потоком молний! Несмотря на громоотводы, молнии разветвлялись, смертоносные бичи разряжались совсем близко от молодого человека. А он как ни в чем не бывало ходил вокруг дома, что-то поправляя и осматривая. Неожиданно взгляд молодого человека остановился на Клэйтоне. Как будто тень недовольства прошла по его лицу, но вслед за этим он улыбнулся и приветливо махнул рукой, приглашая Клэйтона подойти.
Клэйтон не без содрогания направился к дому, на который низвергались молнии, как будто собранные со всего Алтая.
Кричать было бесполезно, потому что удары грома были оглушительны. И когда Клэйтон приблизился, молодой человек только указал на дверь. Клэйтон взошел на крыльцо.
В дверях он столкнулся с девушкой. Она была еще в том же мокром платье. Посмотрев на Клейтона с изумлением, девушка выскочила на крыльцо и побежала по дорожке к домику с мезонином, стоявшему недалеко от скалы.
Клэйтон вошел в комнату и огляделся. Стол у окна, две скамьи у стен, несколько табуреток. У стены шкаф с посудой. Очевидно, это была столовая. Клэйтон не решался сесть на скамью — с него так и текло. Джетти также оставлял после себя лужи.
Гром стал понемногу стихать, и скоро в комнату вошел молодой человек, пригласивший Клэйтона.
— Здравствуйте, — сказал он по-русски. — Вы иностранец?
Я не ошибся. Садитесь, пожалуйста. Я сейчас растоплю печь, и вы сможете обсушиться. — Молодой человек улыбнулся. — Но мы еще не знакомы. Моя фамилия Микулин.
«Неужели этот молокосос способен перевернуть мир?» — думал Клэйтон, разглядывая лицо Микулина. Оно действительно выглядело очень молодым. Прекрасный лоб и в особенности глаза — большие, голубые, прозрачные и в то же время глубокие — привлекали особое внимание. От этих глаз трудно было отвести взгляд.
— А моя фамилия Клэйто… — удар грома прогремел очень своевременно… — Клэйн, говорю я. Американец, турист, вернее, бродяга по призванию. Я исколесил все пять частей света и был приятно поражен, попав на Алтай. Признаюсь, я не ожидал здесь встретить такую красоту.
— Но как вы прошли… через болото? — спросил Микулин.
— Охотник провел меня. Он сказал, что это самый близкий путь к китайской границе, куда я направляюсь. По дороге проводник занемог и отправился домой, а я пошел вперед один и вот… неожиданно наткнулся на вашу ферму. Вы здесь, как видно, неплохо живете. Когда я шел сюда, меня обогнали амазонка, наездник и медвежонок, которого я едва не подстрелил, вообразив, что он гонится за людьми.
Микулин рассмеялся.
— Это Аленка, Елена Лор, химик и мой помощник, наездник — Ефим Грачев. Лаборант, а медведь — Федька. Воображаю, как была бы огорчена Аленка, если бы вы подстрелили ее медведя.
— Но что вы здесь делаете, в такой глуши? — спросил Клэйтон, разыгрывая роль наивного туриста.
— О, мы здесь двигаем науку! — с шутливой серьезностью ответил Микулин. — Видали мои молнии? Я их «засаливаю», собираю впрок, как мельник собирает воду. — Не прекращая разговора, Микулин принес железный ящик, оказавшийся электрической печкой, протянул шнур, вставил штепсель, и Клэйтон скоро почувствовал тепло.
— Вот видите, как молния отопляет нас! Сейчас на дворе тепло, и вы высохли бы на солнышке, но это скорее. Подождите, я пущу еще вентилятор со струей теплого и сухого воздуха. Ну вот, через пять минут вы будете сухи, как Сахара в полдень. Молния дает мне энергию для освещения, отопления и научных опытов. Я аккумулирую небесный огонь. Ведь самая «захудалая» молния в десять тысяч ампер в продолжение одной сотой доли секунды дает энергию не менее семисот киловатт-часов. За месяц над моим домом произошло сто разрядов. Это дало мне семьдесят тысяч киловатт-часов. Недурно? Я изобрел такие «громоприводы», которые притягивают сюда молнии чуть ли не со всего Алтая, и все эти молнии я загоняю, как зверей в клетки, в небольшие аккумуляторы.
— А для вас самих разве они не представляют опасности? — спросил Клэйтон.
— Разумеется. В 1753 году в Петербурге во время опыта был убит молнией академик Рихман. Малейшая неисправность — и конец. Лучше не иметь совсем никакого громоотвода, чем ставить плохо сконструированный. В этом отношении наши прадеды были не так уже неправы, опасаясь ставить громоотвод. Где-то я читал, что домовладелец французского городка Сен-Омара Виссери де Буавалле поставил на крыше своего дома громоотвод в виде меча, направленного в небо и укрепленного на шаре, а шар был приделан к металлической палке. Это было в 1783 году. Столь непочтительного вида громоотвод задел религиозные чувства сен-омарцев. Ведь это было почти вызовом небу, объявлением войны господу богу. Когда же граждане увидали на острие меча пляшущие языки небесного пламени и низвергающуюся молнию, то пришли в ужас. Гнев бога мог спалить маленький французский городок, как Содом и Гоморру. Муниципальные власти предъявили к Виссери де Буавалле иск о снятии неприличного и опасного в пожарном отношении громоотвода. На этом процессе со стороны домовладельца выступал молодой адвокат — тогда еще двадцатипятилетний юноша Робеспьер. Это имя, конечно, известно вам? Этот процесс, нашумевший во Франции, положил начало известности Робеспьера. Он блестяще выиграл процесс и «отстоял» громоотвод. Процесс этот сыграл немалую роль в распространении громоотводов.
Что касается моих «громоприводов», то они как будто не представляют опасности. Я предусмотрел все. Меня может погубить только случайная неисправность. Работа в лаборатории сопряжена с гораздо большими опасностями.
Обсушились? Не хотите ли чаю? Или есть? Мы сейчас будем обедать. А вот и гроза прошла.
В комнату вошла высокая старуха. Она казалась последним представителем вымершей породы великанов. Старуха искоса взглянула на Клэйтона, сухо поклонилась и начала накрывать на стол.
Следом за ней вошла в комнату девушка. Теперь на ней была белая блузка и клетчатая юбка-шотландка.
— Познакомьтесь, — сказал Микулин. — Елена Лор. Мистер Клэйн. Турист по призванию.
Еще одно лицо появилось в комнате: молодой человек с калмыцким лицом. На этот раз он был в толстовке и брюках навыпуск, в туфлях на босую ногу. Это несколько шокировало Клэйтона.
— Грачев, Ефим Яковлевич. А это наша завхоз, повар, ключница и прочее и прочее — Егоровна. Не хватает только ее почтенного супруга — Данилы Даниловича Матвеева, великого ловца зверей. Он вчера с вечера пошел на охоту и еще не вернулся.
Когда все уселись за стол, Микулин рассказал гостю, как они живут. Лор и Грачев иногда вставляли свои замечания. Клэйтон слушал и в то же время внимательно наблюдал за этими людьми, пытаясь определить их отношение друг к другу. Его больше всего интересовал вопрос, какое место в сердце каждого из молодых людей занимает Лор и кто из них завоевал ее сердце. По мнению Клэйтона, роман был неизбежен. Для этого имелись все данные: молодость всех троих, красота Лор, одиночество. Пожалуй, имелись данные даже для драмы: оба молодых человека неизбежно должны были влюбиться в Лор, но кто же из них счастлив? У Микулина больше данных: он красивее, он шеф этой маленькой общины, наконец, он гениален. А Грачев? Он интересен только своей необычайной веселостью и жизнерадостностью. Разве несчастный влюбленный может так смеяться, как Грачев? Но кто же, кто из них?.. Неужели эти молодые люди умеют так прекрасно владеть своими чувствами? У них ровные товарищеские отношения с Лор. Ни тени «ухаживания». Они не оказывают ей за столом услуг, общепринятых в кругу друзей и знакомых Клэйтона, как будто она не девушка, а их товарищ — юноша. И она тоже не оказывает ни одному из молодых людей особого внимания. Клэйтону даже показалось, что на него она поглядывает гораздо чаще, чем на своих товарищей по работе. Это внимание могло доставить Клэйтону большое удовольствие, но он скромно объяснил свой успех тем, что он здесь новый человек, э жизнь «колонистов», по-видимому, не отличается разнообразием. Обед подходил к концу, и Клэйтон начал беспокоиться. Приличия требовали, чтобы он, поблагодарив хозяев за гостеприимство, отправился своим путем. Надо было придумать предлог, чтобы задержаться здесь на возможно большее время. Прикинуться больным — нельзя, так внезапно. На всякий случай Клэйтон решил подготовить почву. Он незаметно перевел разговор на себя и сказал: — Я, быть может, не совсем точно выразился, аттестовав себя бродягой по призванию. Это не совсем так. Скорее я бродяга поневоле. Дело в том, что у меня странная болезнь. Англичане, пожалуй, назвали бы ее сплином. И только во время путешествия я успокаиваюсь. От времени до времени у меня бывают сердечные припадки. Иногда они быстро проходят, иногда же мучают меня по нескольку дней… Позвольте вас поблагодарить… мне пора в путь!
Микулин и даже Лор предложили ему остаться. Клэйтон едва не согласился «погостить денек — другой», но выдержал характер: у него уже был готовый план. Он распростился с новыми друзьями и вышел. Микулин, Лор и Грачев вышли его провожать.
— Если будете еще в наших краях, заходите! — крикнул ему Микулин.
— Благодарю, — ответил Клэйтон, удаляясь от дома. «Выдержка, выдержка», — шептали его губы.
Припадок
У белого камня, лежавшего недалеко от речки, Клэйтон встретил великана — седого старика с убитой косулей на плечах. Пояс его был увешан гирляндой из горных куропаток и дроф. Из-за спины торчало дуло ружья. Это и был, очевидно, великий ловец — Данилыч. Клэйтон почти с ужасом посмотрел на него. Старик остановился и учинил Клэйтону настоящий допрос. Узнав, что Клэйтон был у Микулина, старик смягчился и подал свою, похожую на тарелку, ладонь.
«Ну и пара, — подумал Клэйтон, пожимая руку великана и вспоминая старуху, прислуживавшую за столом. — Где они только подобрали друг друга».
— Куда идешь? — спросил старик. Он со всеми был на «ты».
— В Кобдо, — ответил Клэйтон.
— Так не пройти. Иди к перевалу… — и Данилыч подробно объяснил путь.
Они расстались. Но Клэйтон не пошел на перевал, а остался в лесу неподалеку от фермы Микулина и начал незаметно наблюдать за фермой. Мысль притвориться больным занимала его. Сначала он хотел выследить, по какой дороге Лор ездит на прогулку, и лечь на ее пути, притворившись больным. Но на это надо было потратить не менее двух дней, а Клэйтона охватило нетерпение. Ведь он ушел от Микулина, несмотря на приглашение остаться. Этим самым он достаточно замаскировал свои намерения. И Клэйтон решил «заболеть», не откладывая.
Он вернулся к белому камню и улегся на него. Из окон дома камень виден. Рано или поздно его должны заметить. Клэйтон корчился на камне, как полураздавленный червь, имитируя судороги, и наконец замер в глубоком обмороке. Он лежал неподвижно, одним глазом поглядывая на дом. Но его не замечали и никто не шел ему на помощь. Так пролежал он более двух часов. Это начинало надоедать. Бок болел от твердого камня. Клэйтон уже хотел встать и придумать что-нибудь другое, как вдруг одна мысль пришла ему в голову.
Джетти уже давно опротивело вынужденное бездействие, он нетерпеливо скреб камень лапами и отрывисто лаял. Клэйтон начал тихо стонать. Нервный пудель не мог переносить стона и завыл, сначала тихо, а потом все громче. Этот вой был неожиданно поддержан густым гудением медвежонка Федьки. Получился довольно дикий дуэт, который должны были услышать все обитатели фермы. Однако Федька едва не испортил дела. Он вдруг выбежал из сарая и направился к белому камню. Увидав медведя, Клэйтон с трудом удержался, чтобы не вскочить и не убежать, хотя и знал, что медведь ручной. Притом медведи не трогают трупов, а Клэйтон лежал неподвижно, как мертвый. Джетти завизжал так, словно медведь уже драл его, медведь ревел еще громче. На этот шум вышла Егоровна и позвала Федьку. Но тот был слишком увлечен возможностью завязать знакомство с Джетти. Он не отходил от Клэйтона.
— Ах, трясцы тебя побери! — выбранилась Егоровна и направилась к белому камню. Она отогнала медвежонка, прикрикнула на пуделя, потом обратилась к Клэйтону.
— А вы что тут лежите?.. Спите, что ли?
Клэйтон простонал, не открывая глаз.
— Ишь ты, заболел, немец! — Для Егоровны все иностранцы были немцами. Она наклонилась над ним, подвела руки под его спину и подняла Клэйтона с такою легкостью, как будто он был маленький ребенок.
Клэйтон совсем иначе представлял свое возвращение на ферму. Он, бледный, с закрытыми глазами, лежит в красивой позе на дороге. Выезжает очаровательная наездница и видит его. Соскакивает с лошади, наклоняется к нему, быть может, целует… И вместо всего этого какая-то престарелая великанша несет его под мышкой, как зарезанного каплуна!.. Только бы Лор не видела этой картины.
Судьба смилостивилась над Клэйтоном. Никто не видел этого печального шествия. Молодежь работала в лаборатории, а Данилыч свежевал косулю за сараем. Егоровна принесла Клэйтона в домик с мезонином, положила на скамью и тихо сказала:
— Вот еще навалился на нашу голову. Помрет, пожалуй, наделает хлопот. — И вышла из комнаты.
Клэйтон оглянулся, спрыгнул со скамьи и подбежал к окну. Егоровна скрылась в дверях лаборатории, но через минуту опять вышла в сопровождении Лор. Клэйтон быстро отбежал от окна, улегся на скамью и закрыл глаза… Дверь открылась, вошли Егоровна и Лор.
— Как будто дышал еще, — сказала Егоровна. Лор подошла к Клэйтону и взяла его руку.
— Пульс немного повышен! — сказала она. — Я сейчас схожу за нашатырным спиртом. А вы, Егоровна, приготовьте воды.
Вскоре девушка принесла дорожную аптечку и стала растирать виски Клэйтона одеколоном, давала нюхать спирт, брызгала водой. Только бесчувственный труп мог остаться равнодушным к такому заботливому уходу. Клэйтону хотелось продлить удовольствие, но в то же время не терпелось скорее посмотреть на девушку глазами, исполненными благодарности. Он не чужд был романтики, этот «бродяга по профессии».
Увы, сцена разрешилась совсем иначе. Лор слишком близко подставила склянку со спиртом к носу Клэйтона. Он чихнул так громко и неожиданно для самого себя и Лор, что та уронила склянку, а Егоровна ахнула густым басом.
— Вам лучше? — спросила Лор. — Как вы себя чувствуете? — и тут же рассмеялась. — Вы так напугали меня!
— Простите… Да… Отлично чувствую! То есть ужасно… Боли в груди, сердце… спазмы!.. Припадок… Все пройдет, надеюсь…
— Лежите спокойно, — сказала Лор. — Я вам положу на сердце лед.
— Нет, не надо! — испуганно возразил Клэйтон. — От льда мне будет хуже…
— Не рассуждайте! — строго сказала Лор, как заправский врач.
В стане неизвестного
Клэйтон «поправлялся» очень медленно. Правда, встал он в тот же день вечером, но был ужасно слаб.
— Эти припадки обессиливают меня на много дней… — говорил он, — я очень огорчен, что доставил вам столько беспокойства.
Клэйтону очень хотелось сопровождать Елену Лор в ее прогулках, но он должен был выдерживать роль больного. Иногда «припадок» повторялся в легкой степени. Тогда Лор отказывалась от своей обычной прогулки и ухаживала за больным. Таким образом Клэйтон провел с девушкой немало часов. По мнению американца, это должно было возбудить ревность у Микулина или Грачева. Но, очевидно, у этих людей были куски льда вместо сердца; никто из них не обращал внимания на то, что Лор проводила все свои свободные часы у постели больного.
Клэйтона поместили в том же доме, где жил Грачев. В среднем доме, примыкавшем к скале, находилась лаборатория. Там жил Микулин, а Лор занимала мезонин в доме, где помещались старики-великаны — супруги Матвеевы, старообрядцы, когда-то бежавшие в леса Алтая от гонений царского правительства. Вообще за эти несколько дней Клэйтон узнал многое. За эти несколько дней он ближе познакомился со всеми обитателями фермы. Джетти подружился с медвежонком Федькой, и они целыми днями гонялись друг за другом. Лор очень полюбила Джетти, Грачев и Микулин дружески встречали больного и всегда осведомлялись о его здоровье.
Когда Клэйтону было «лучше», он заходил к Микулину. Ученый встречал его любезно и охотно давал разъяснения.
— Мы с Аленкой идем разными путями к одной цели. Аленка, — так Микулин называл Лор, — последовательница классической химии, я — физик. Иногда у нас с ней происходят маленькие споры. Я утверждаю, что классическая химия отжила свой век и что на смену ей идет физика. Даже в тех областях, где химия считала себя неограниченным владыкой. В самом деле, сколько труда тратят химики хотя бы на то, чтобы создать синтетическим путем каучук! А я достигаю этого очень скоро при помощи своих катодных трубок высокого напряжения. Вот, полюбуйтесь.
Микулин подошел к стене и повернул рубильник. Между двумя огромными электродами-полюсами проскочила искра величиною с яблоко, как показалось Клэйтону.
Микулин передвинул рубильник, и искра превратилась в бешеные потоки голубовато-белого огня, который ревел, трещал, шипел так сильно, что Клэйтон невольно отступил к двери.
— Отойдите еще дальше! — крикнул Микулин. — На этом месте однажды едва не убило Аленку.
— А вы? — спросил Клэйтон.
— Мне надо! — ответил Микулин. Он повернул рубильник назад. Страшные огненные змеи исчезли, притаились. Но они были здесь, готовые каждую минуту выпрыгнуть по приказу своего укротителя. Да, Микулин, этот красивый юноша с выразительными глазами, был страшный своим могуществом человек.
— Это настоящая молния, — пояснил Микулин. — В ней два миллиона вольт. Но я могу довести напряжение до десятка миллионов. Настоящая молния лопнет от зависти. Теперь смотрите сюда. — Микулин повернул другой рычаг. Шесть длинных стеклянных лампочек, соединенных цепью, засветились приятным зеленоватым огнем.
— Это не так страшно, не правда ли? — спросил Микулин. — А между тем здесь заключены те же ужасные стихийные силы. Но я заставил их служить человеку. Вот из этого окошечка в трубке я выпускаю «пи-лучи». Это настоящие лучи смерти для многих живых существ. И в то же время они способны делать чудеса, превращая химические элементы. Пусть злится Лор! Это моя физическая катодная химия. Я разбиваю и перемещаю атомы по своему желанию. Из углеводородов я могу сделать искусственный каучук, из угля — бензин и нефть. Из дерева — сахар и шелк и скоро, кажется, я получу живую протоплазму. — Микулин погасил лампочки. — Идемте, пора обедать.
— Вы, кажется, скоро будете превращать камни в золото? — шутливо спросил Клэйтон, волнуясь в душе. Микулин уселся на ступенях крыльца, покачал головой и сказал:
— Не так скоро, как я сам предполагал. — Он взял несколько камешков и начал укладывать их в ряд. — Практическая химия имеет дело с очень небольшим количеством химических элементов. Кислород, водород, углерод, азот. Вот основные строители бесчисленного количества видимых веществ. Молекулы этих элементов вступают во всевозможнейшие отношения, — вот так, как я раскладываю эти камешки. И каждый раз получается новое вещество: то анилиновая краска, то взрывчатое вещество, то ароматическая эссенция. Одним и тем же веществом я могу взорвать скалу или надушить ваш платок. Аленка Лор рекордсмен в этой области. Но все это еще не то, что мне надо. Эта игра в камешки уже не занимает меня. Меня интересует превращение самих «камешков». Изучая природу самих атомов, перемещая расположение их электронов и протонов, я хочу превращать основные элементы: из кислорода делать водород, из углерода — азот. Тогда я буду мастером «перевоплощения» материи. Но как много трудностей на этом пути!
Я похож на путешественника в неведомых странах. Мне надо заготовить «фураж», прежде чем двинуться в путь, и Лор и Грачев помогают мне в этом. С этим багажом я двигаюсь в путь к намеченной цели. Эта цель кажется близкой, как горная вершина. Но вы знаете, как горный воздух скрадывает расстояния и обманывает? Вы идете, идете день и ночь, падаете от усталости, а вершина как будто уходит от вас… Вот здесь, на Алтае, есть гора Белуха. Пять тысяч пятьсот метров. Еще ни одна человеческая нога не ступала на эту вершину. А между тем она не кажется такой высокой и недоступной. Попробуйте, взойдите на нее!.. То же происходит и со мной. Иногда мне кажется, что я совсем близко у цели. И когда мне оставалось сделать только последний шаг, я вдруг видел прежде скрытую от моих глаз расщелину, глубокий провал, который нельзя перейти. И надо было начинать все снова. Но цели-то своей я в конце концов достигну.
— И будете превращать булыжники в золото?
— И золото в булыжники, — ответил Микулин.
— Скоро?
— Да, теперь скоро. Предварительные работы закончены. В моей лаборатории все приготовлено к опыту. Теоретически вопрос решен. И, быть может, не пройдет и нескольких дней, как вы будете свидетелем осуществления мечты алхимиков. У всех этих алхимиков было зерно истины! Великий алхимик средних веков араб Абу-Музы-Джафар-аль-Софи говорил, что металлы — тела меняющейся природы, состоят из меркурия, то есть ртути и серы, и потому им можно придать то, что им недостает, и отнять от них то, что находится в избытке. Мы, современные «алхимики», действуем очень похожим методом: стараемся изменить атомное строение, отнимая или прибавляя недостающие электроны. В периодической системе Менделеева золото занимает семьдесят девятое, а ртуть — восьмидесятое место, и атомный вес их очень близок: золото — 197,2, ртуть — 200,6…
— Обедать! — послышался сильный и низкий голос Егоровны.
— Идемте обедать, — поднялся Микулин, — а сегодня вечером приходите в лабораторию. Вы будете присутствовать в качестве благородного свидетеля при появлении первого золотого слитка.
«Однако мне везет», — подумал Клэйтон.
Все складывалось лучше и проще, чем он ожидал.
Неудавшийся опыт
После обеда Клэйтон вернулся в свою комнату и, как полагалось больному, улегся в постель. Но его мертвый час был наполнен довольно живыми размышлениями. Клэйтону надо было обдумать дальнейший план действий, если секрет получения золота искусственным путем будет открыт сегодня Микулиным. Убить! Но это не легко. Совсем не легко. Пожалуй, легче всего убить Грачева. Но он только лаборант. Нечто вроде слуги. Подай, подогрей, возьми… Микулин? Говорят, он гениален… Вполне возможно. Однако Микулин обладает еще одним талантом: привлекать к себе симпатии окружающих. Клэйтон старался убедить самого себя, что Микулин замышляет погубить цивилизацию, но маска злодея спадала с лица Микулина, и на Клэйтона смотрели большие глаза, от которых трудно было оторвать взгляд.
— Не может быть, чтобы Лор была равнодушна к этим глазам, — прошептал Клэйтон. И мысли его перешли к девушке прежде, чем он «покончил» с жизнью Микулина. Убить Лор? Убить молодую девушку, похожую на веселого мальчика? Да он и не собирался никого убивать! Он узнает о том, что секрет золота открыт, сообщит Додду, и пусть они делают, что хотят. Впрочем, нет. Клэйтон был бы плохим патриотом, если бы отказался выполнить свой гражданский долг. Надо меньше размышлять, а больше делать. Я не возбуждаю у Микулина подозрений и спрошу его прямо, как он думает использовать свои изобретения. Если он в самом деле думает сделать их орудием революционной борьбы, то с ним и со всеми ими не придется церемониться.
Вечером Клэйтон отправился в лабораторию. Там уже кипела работа. Лор и Грачев, видимо, волновались. Грачев хотел скрыть свое волнение под маской обычной шутливости.
— Как ты думаешь, Вася, — спрашивал он у Микулина, — скоро у нас из золота будут делать общественные уборные?
Микулин улыбался, как всегда. Ни малейшего напряжения мысли не видно было на его большом открытом лбу, как будто делал он совсем простое, обыденное дело.
— Сыпь сюда, на эту полочку, — приказал он Грачеву вместо ответа. Грачев насыпал на небольшую полочку у стеклянной трубки белого порошка.
Руки Грачева немного дрожали.
— Довольно?
— Довольно, Ефим, спасибо. Аленка, отойди, ты опять стоишь против трубки. Сейчас буду пускать ток…
Лор отошла. В лаборатории наступила; торжественная тишина. Микулин повернул рубильник. Загудел мотор, затрещала искра. Пустотные трубки наполнились зеленоватым огнем. Четыре пары глаз внимательно смотрели на белый порошок.
— Идет! — крикнул Грачев. — Чернеет!
— Ничего не идет, — спокойно ответил Микулин. — Порошок не должен чернеть.
Вскоре белый порошок сделался черным как уголь. Микулин рассмеялся и, обратившись к Клэйтону, сказал:
— Простите, я поторопился позвать вас. Опять неудача! Хотя я не понимаю, как это могло случиться. Аленка, иди сюда на расправу.
На лицах Лор и Грачева было написано самое искреннее огорчение.
Микулин и Лор засели за небольшой чертежный столик. Микулин начал быстро писать на старом чертеже химические формулы, от времени до времени обращаясь к Лор с вопросом:
— Так?
Смущенная девушка кивала головой.
— Пока все верно, — вздохнул Микулин. — Но был ли химически чистый препарат? Достаточно ли тщательно ты промыла посуду?
— Я…
— А ну, пойдем в твою лабораторию. — И еще раз обратившись к Клэйтону, Микулин сказал:
— По независящим от дирекции обстоятельствам, спектакль не состоится. Публика может получить из кассы деньги обратно.
— Но, может быть, позже? — спросил Клэйтон.
— Если вы имеете терпение подождать. Мы не окончим работу, пока не отыщем ошибку или причину неудачи. И если нам посчастливится, — мы сегодня же попробуем повторить опыт.
— Я подожду, — сказал Клэйтон.
Выйдя на крыльцо, он сел на ступеньку и закурил трубку. Дверь в лабораторию была открыта. Проходили часы за часами, а Микулин, Лор и Грачев все еще работали в лаборатории. Иногда слышались вопросы Микулина и быстрые ответы Лор.
Месяц зашел за гору, утренний холодок заставлял ежиться. В лаборатории заговорили громче, потом затихли. Клэйтон подошел к окну и посмотрел. Три головы склонились над большой колбой, под которой горела бунзеновская горелка.
— Ага! — воскликнул Микулин. — Кто прав?
— Как всегда, ты, — ответила Лор. — Но кто виноват? — А кто мыл посуду?
— Ефим.
— А-а! — зарычал Микулин и вытащил Грачева из лаборатории на крыльцо.
— Заждались? Вот он — преступник! — сказал Микулин. — Ефим Грачев, погубивший первый слиток золота. И из-за него общественные золотые уборные будут построены несколькими часами позже!
Грачев был так огорчен, что на глазах у него появились слезы.
— Ну, не грусти, Ефим. С кем не бывает, — утешал его Микулин. Лор тоже вышла из лаборатории, на ее лице также было написано огорчение и усталость. Она проработала всю ночь с большим напряжением. Глаза ее смыкались.
— Будем продолжать? — спросил Микулин. Он совсем не выглядел утомленным, но, посмотрев на своих усталых товарищей, сказал:
— Баста! Пора спать. Завтра мы до обеда успеем приготовить все для опыта.
Грачев хотел протестовать, но Микулин настоял на своем.
— Пусть отдохнут, — сказал он Клэйтону, когда Лор и Грачев ушли. — Они много поработали. У самой цели перед нами опять открылась пропасть, и нам не удалось перейти ее сегодня. Но это пустяки. За ночь, пока они будут отдыхать, я поработаю в лаборатории и сам приготовлю все для опыта. А вам тоже пора спать, мистер Клэйтон. Ваша трубка давно погасла.
— У меня бессонница, — ответил Клэйтон. — И если бы я мог быть полезен, я охотно помог бы вам.
— Не откажусь от вашей помощи, — ответил Микулин, и они прошли в химическую лабораторию Лор.
Клэйтон был довольно сообразительным и ловким малым, и через час Микулин говорил:
— А знаете, из вас вышел бы прекрасный помощник! У вас все в руках спорится. Вы не привыкли к химической посуде, и все-таки ничего не бьете и не роняете.
Клэйтон был польщен этой похвалой. Они проработали все утро. Солнце уже давно осветило вершины деревьев и белый камень, когда наконец они кончили приготовления.
— Готово! — сказал Микулин. — Теперь пойдем, подышим свежим воздухом.
Удовольствие быть чертом
Они вышли из дому и направились мимо белого камня, вдоль берега речки. Утреннее солнце золотило ивы и тополя. Микулин посмотрел на снежную вершину дикой горы, окутанную легкой дымкой.
— Отличное утро, — сказал Микулин. — А гроза все-таки будет сегодня. Она, пожалуй, и лишняя. Мои аккумуляторы заряжены и мои кладовые полны консервированными молниями. Притом у меня есть небольшая гидростанция. Скоро опыты закончатся, и энергия нужна будет только для производства золота. Положим, на это потребуется немало энергии.
— Что вы будете делать с золотом? — не удержался от вопроса Клэйтон.
— А мы наденем ярмо на золотого тельца и заставим его пахать наше поле! В древнеиндийских книгах — Атава-Веда — золото называется жизненным эликсиром. Смотрите на этот край. Природные богатства его неисчислимы. Красота неописуема. Климат прекрасный. А кто здесь живет? Дикий зверь, птица да горсточка людей. Что можно сделать с этим диким краем? Тысячи водопадов и горных речек будут вращать колеса турбин. По красивым долинам заснуют новенькие трамвайные вагончики, задымят заводские трубы, вырастут дворцы-санатории, оживут горы и леса. И не только здесь, на Алтае, золото станет эликсиром жизни. — И Микулин начал с увлечением говорить о том, как быстро будет развиваться хозяйство страны, увеличиваться благосостояние масс. Но Клэйтона мало интересовала эта тема. Это было, так сказать, употребление золота для мирных целей. Клэйтона интересовало иное. Дождавшись паузы, он спросил:
— В Атава-Веда золото названо средством против колдовства. Против какого же колдовства вы собираетесь использовать золото?
— Против колдовства самого же золота. Против колдовства капитала, поработившего рабочих, ослепившего разум людей.
«Додд был прав. Вот когда Микулин показал свое настоящее лицо!» — подумал Клэйтон.
— Но ведь это причинит большие несчастья людям. Я хочу сказать, пока вам не удастся осуществить ваш новый строй…
— А скажите, положа руку на сердце, разве строй любезной вашему сердцу Америки обеспечивает счастье большинству населения? И даже те немногие, кто наслаждается счастьем за счет несчастья других, разве богачи счастливы по-настоящему? Разве их не беспокоит мысль о крушении капитализма? Спокоен только тот, за кем будущее.
Микулин еще долго говорил о грядущем, но Клэйтон думал только об одной фразе: спокойным может быть только тот, за кем будущее. Черт возьми, выходит, что будущее за большевиками! Ну, он убьет Микулина, убьет Лор и Грачева, а дальше что? Всех большевиков он перебить не сможет. Счастливая Россия. Ей не грозят революции, не грозит страшный призрак, который не дает спокойно спать европейским и американским капиталистам.
«Лучший способ перестать бояться черта — самому стать чертом», — подумал Клэйтон.
— По-китайски Алтай называется Кин-шан — золотая гора, — продолжал Микулин. — И ему не напрасно дано такое название. В горах Алтая очень много золота — я делал разведки. Но это золото может спокойно оставаться в земле. Гораздо проще и дешевле будет получать золото лабораторным путем. Я поставлю производство на широкую ногу, и здесь в буквальном смысле возникнет золотая гора.
«А если этот черт будет обладать золотыми горами, то быть одним из чертей совсем не плохо!» — продолжал развивать свою мысль Клэйтон.
Микулин еще о чем-то говорит, а Клэйтон, почти засыпая, думает: «И как это мне раньше в голову не приходило? Останусь здесь, женюсь на Елене Лор». Распростившись с Микулиным, Клэйтон вошел в дом, быстро разделся, лег на кровать и уснул мертвым сном.
Никогда не спал он так крепко. Но этот могучий сон был прерван сильнейшими ударами грома. Клэйтон открыл глаза и долго не мог сообразить, где он и что с ним. Гроза! Синие зигзаги режут за окном серую муть. Отсветы молний озаряют бревна стены. Где-то кричат… Или это ему показалось? В промежутке между ударами грома ясно послышался голос Микулина. А вот громоподобный голос Данилыча…
Клэйтон подбегает к окну. Удивительное зрелище! Один из металлических стержней на крыше того дома, в котором помещается лаборатория, надломился. Молнии ударяются об этот стержень и соскакивают на нижележащий шпиль уже не по проводу, а прямо по воздуху. Клэйтон понял всю опасность положения. Сильная молния может перепрыгнуть не на шпиль, а прямо на крышу. Вот один огненный клубок прыгнул на крышу, и она задымилась… Дом сгорит, а с ним и все научное оборудование лаборатории, редкие машины… Клэйтон быстро оделся и выбежал на улицу.
Вокруг дома толпится вся колония: Микулин, Лор, старики Матвеевы и Грачев. Он в странном костюме, похожем на костюм водолаза. Это изоляционный костюм. На руках толстые резиновые перчатки. В правой руке палка с резиновым наконечником. Грачев забегает за угол дома и через минуту появляется на углу крыши. Он, видимо, хочет сбить палкой кусок обломанного, наклонившегося стержня.
Клэйтон даже сквозь удары грома, услышал, как вскрикнула Лор, увидав Грачева на крыше. Несмотря на изоляционный костюм, Грачев подвергался страшной опасности. Микулин, желая перекричать гром, потрясая кулаками, требовал, чтобы Грачев немедленно вернулся обратно. Но, не обращая внимания на крики Микулина, Грачев продолжал медленно ползти по скользкой крыше. Несколько раз молния ударяла в шпиль на расстоянии какого-нибудь метра от смельчака.
Видя, что Грачев не слушает его, Микулин, крича на ухо, приказал Данилычу стянуть Грачева с крыши багром. Великану-старику ничего не стоило достать Грачева, не влезая на крышу. Но в тот момент, когда он уже поднимал багор, молния ударила в сломанный стержень. Минуя резиновый наконечник, она перескочила на мокрую палку, которую держал в руках Грачев, скользнула по ней и ослепительно взорвалась, как показалось Клэйтону, на груди Грачева. В то же мгновение раздался такой страшный удар грома, что Клэйтон зашатался, а Лор упала на колени. Клэйтон закрыл глаза, ослепленный молнией, но тотчас заставил себя опять открыть их. Тело Грачева, окруженное облаком пара и синим дымком, сползло с крыши и упало на землю.
— Ефим! — крикнула Лор и бросилась на грудь Грачева, как бы желая своим телом потушить еще тлеющую одежду. Клэйтон содрогнулся, почувствовав запах горелого человеческого мяса. Лицо Грачева было иссиня-черно, изоляционный костюм, одежда и белье изорваны.
Микулин подбежал к Лор и поднял ее с земли. Она посмотрела на Микулина, тяжело вздохнула, закусила губу и замолкла. Она удивительно скоро справилась со своим волнением. Но Клэйтон не мог забыть ее короткий крик. О товарище и друге так не станет сокрушаться женщина, — по крайней мере, американская. Значит, Лор или любила Грачева, или же чувство товарищества у них гораздо глубже и сильнее, чем у людей того круга, в котором жил Клэйтон.
Опять загремело. Молния вновь ударила в стержень, перескочила на шпиль и ушла в землю. Гроза затихала, но положение продолжало оставаться серьезным. Данилыч унес труп Грачева, а Клэйтон думал, что предпринять. Вдруг его осенила блестящая мысль. Он сбегал к себе в дом за своей прекрасной автоматической винтовкой. Клэйтон был неплохой стрелок. Несколько выстрелов, и надломленный конец стержня упал, он уже не мог больше отводить молнии в сторону. Еще одна молния упала на стержень и ушла в землю уже по проводу. Опасность миновала. Микулин с благодарностью взглянул на! Клэйтона. И этот взгляд обрадовал Клэйтона гораздо больше, чем он сам ожидал. Нет, решительно Микулин обладает тайной привлекать к себе сердца людей!
Наконец гроза окончилась. Лор ушла, и у дома остались Микулин, Егоровна и Клэйтон. Егоровну Микулин отослал к Лор.
— Бедный Грачев, — сказал Микулин. Его лицо как будто постарело, а в глазах появилась тайная глубокая и искренняя скорбь, какую Клэйтону не приходилось видеть никогда в жизни. Но прошло несколько мгновений, и спокойный взгляд Микулина уже был устремлен на крышу — на струйку дыма, курившегося в том месте, где был убит молнией Грачев.
Клэйтон все больше удивлялся этим людям. Их психология казалась ему необычной. Быть может, это психология будущего человека? Эта глубина переживаний и вместе с тем умение быстро «переключить» свое внимание на другое, сосредоточить все свои душевные силы на одном предмете? С какой самоотверженностью полез Грачев прямо в огонь, не думая ни о чем, кроме спасения лаборатории!
— А ведь крыша тлеет! — сказал Микулин. Он сбегал за топором, влез на крышу и начал обдирать гонт. Скоро показались красноватые языки пламени.
— Так и есть! — сказал Микулин и, продолжая работать топором, крикнул Клэйтону:
— Сбегайте, пожалуйста, в лабораторию и принесите огнетушитель. Он висит на стене у двери, направо!
И Клэйтон, который явился сюда для того, чтобы убить страшного Микулина, с готовностью побежал исполнять его приказания. Этот «холодный огонь», скрытый энтузиазм начал заражать Клэйтона. Он принес огнетушитель и взобрался на крышу. Отсюда он видел, как из дома, куда Данилыч внес труп Грачева, вышла Лор. Если бы не ее суровое лицо и чуть-чуть сдвинутые брови, никто не мог бы предположить, что эта девушка только что перенесла сильнейший удар.
— Потушили? Я ничем не могу вам помочь? — спросила Лор.
— Конечно, — ответил Микулин. — Иди отдохни, Аленка! Лор молча удалилась. Микулин и Клэйтон слезли с крыши. Вечером в тот же день в сосновом гробу, сколоченном Данилычем, тело Грачева было опущено в землю. Засыпали. Молча постояли над могилой. Только Данилыч что-то шептал.
Через несколько дней, сидя за вечерним чаем, Микулин сказал:
— Трудно теперь работать без Грачева.
— Да, — ответила Лор. — Придется выписать кого-нибудь из наших ребят. Но на это уйдет немало времени.
— Разрешите мне сделать одно предложение, — сказал Клэйтон. — Я одинок, решительно ничем не связан. Для меня «где хорошо, там и родина», как говорили римляне. Здесь мне очень хорошо. Болезненные припадки не повторяются. С каждым днем я чувствую себя здоровее. Я с большим удовольствием остался бы у вас по крайней мере до весны и помогал бы вам в лаборатории.
Микулин взглянул на Лор.
— А что, Аленка, ведь это не плохо? Мистер Клэйтон уже помогал мне и оказался способным. У него ловкие руки.
Клэйтон строит мосты
Клэйтон достиг цели. Он присутствовал при опытах, мог следить за «путешествием» Микулина по неведомым странам молекул, атомов и электронов. Постепенно Клэйтон начал и сам знакомиться с этими удивительными странами. Его сведения были поверхностны и, быть может, не совсем точны. Но он обладал живым воображением, и даже во сне Клэйтону снились атомы и электроны. Он был в необычайном мире микрокосма. Он видел центральные ядра-протоны, вращающиеся вокруг самих себя, как солнца. Видел планеты-электроны, которые вертелись, как волчок, и облетали вокруг центрального ядра. Иногда крайняя «планетка» отрывалась от своей солнечной системы, подойдя слишком близко к другому солнцу. Равновесие нарушалось. В маленьком мирке происходили настоящие «космические бури». Вечные странники — ионы, как кометы, прорезывали солнечные системы атомов и нередко становились пленниками. Закон всемирного тяготения царил и здесь. Бродячие электроны превращались в планеты, вращающиеся как на привязи вокруг солнца. Это был мир вечного движения, вечно, меняющийся и в то же время устойчивый. Вечно нарушаемое равновесие тотчас восстанавливалось.
И вот приходит Микулин со своею «пушкой» и начинает бомбардировать электроны пи-лучами. Атомы расщепляются. Отдают внутреннюю энергию. Процессы, на которые природа тратит миллиарды лет, проходят в несколько минут… Клэйтону снятся груды золота, золотые горы Кин-шан.
Придя на утро в лабораторию, Клэйтон рассказывал Микулину свои сны. Микулин внимательно слушал, иногда смеялся и говорил:
— Вы делаете успехи.
Клэйтон поражался работоспособности Микулина. Микулин работал, не отрываясь, целые дни и неизвестно, когда спал. Казалось, никакие интересы не существуют для него, кроме науки. Но Клэйтон знал, что научный энтузиазм поддерживается у Микулина чисто практическими целями — сделать жизнь трудящихся лучше, легче, богаче.
Наконец настал день, вернее вечер, когда Микулин возобновил свой опыт с превращением элементов.
На этот раз уже Клэйтон положил белый порошок на полочку у окошечка стеклянной лампы.
— А что это за порошок? — спросил Клэйтон.
— Висмут.
— И из него вы сделаете золото?
— Сейчас увидите.
Микулин повернул рубильник под напряжением тока в пять миллионов вольт, электроны завились винтом и с необычайной силой начали вылетать из окошечка. Никто их не видел, но зато видна была их работа: через несколько минут порошок висмута превратился в крупинку какого-то вещества, впрочем мало похожего на золото.
— Опять неудача?
— Все в порядке, — ответил Микулин, рассматривая полученный элемент. — Это свинец. Будем продолжать опыт.
Свинец был превращен в талий. А из талия получилась блестящая капелька ртути. Еще раз вспыхнули трубки-лампы зеленоватым огнем, и ртуть превратилась в горошину чистейшего золота. У Клэйтона дыхание перехватило.
— Что же вы будете делать с этим первенцем? — спросил он.
— Вновь превращу в висмут.
Клэйтон вздохнул. Золото превратить в порошок от расстройства желудка. Нет, решительно этот человек не от мира сего!
Микулин увидел огорченное лицо Клэйтона и рассмеялся.
— Вам так жалко этой горошины? Так и быть, я подарю вам ее. Можете сделать из нее брелок.
— Благодарю вас, — ответил Клэйтон, бережно опуская золотую горошину в жилетный карман. — Теперь вы займетесь производством золота?
— Вы ошибаетесь, мой друг. Эта горошина обошлась мне ровно в три раза дороже, чем стоит такой же кусочек ископаемого золота. Мой способ добычи золота еще не рентабелен, как говорят хозяйственники. Мое открытие еще не имеет практической ценности. Нужно удешевить производство золота.
Клэйтон был и разочарован, и обрадован одновременно. Разочарован тем, что к золотым горам нужно еще долго идти, обрадован тем, что предстоит дальнейшая работа с Микулиным.
Потянулись рабочие дни. Микулин неустанно продвигался вперед по стране неведомого. Лор «заготовляла фураж», делала подготовительные опыты, Клэйтон помогал Микулину «строить мосты» через пропасти и совершать обходные движения. Иногда один и тот же опыт Микулин повторял по десять раз, иногда работа целой недели шла насмарку, и приходилось начинать все снова. Электроны — вели себя совсем не так, как им полагалось по предварительным расчетам. Надо было найти причину, а для этого приходилось делать новые и новые опыты.
Сердце женщины
Клэйтон нередко сопровождал Лор в ее прогулках. Что касается Микулина, то он предпочитал гулять в одиночестве, чтобы ему никто не мешал думать. Притом и эти редкие прогулки Микулин совершал в предутренние часы, проработав всю ночь напролет. Таким образом Микулин не мешал Клэйтону.
Однажды Клэйтон и Лор заехали к самому болоту, и Клэйтон решил поговорить с девушкой о том, что давно занимало его.
— Присматриваюсь я к вам, новым для меня людям, и многого не понимаю, — начал он издалека.
— Что же вам непонятно? — спросила Елена.
— Да вот… хотя бы вы для меня загадка. Простите, что я говорю о вас, но мне кажется, что…
— Пожалуйста, говорите.
— У нас, в Штатах, — с вашего разрешения, я буду откровенен, — девушку вашего возраста и вашей внешности сочли бы ненормальной, если бы она никого не любила. Женщина остается женщиной. И склянки с пробирками не могут, не должны заменять в ее сердце живого человека, живой любви. Я помню ваш короткий крик над трупом Грачева. Вы так горячо любили его. Этого я не заметил в ваших отношениях к Грачеву. Еще меньше это можно сказать про ваши отношения к Микулину. А возникновение любви к нему тем более вероятно, что здесь нет выбора.
— Почему же нет выбора? — задорно спросила Лор. — Вот вы, например?
Это было так неожиданно, что Клэйтон покраснел, как школьник.
— Я… я не выдерживаю никакого сравнения с мистер… товарищем Микулиным, — сказал он, запинаясь.
— Отчего же не выдерживаете? — не унималась Лор. — Вы мне нравитесь. Мне кажется, что я даже влюблена в вас. И даже очень!
Клэйтон едва не слетел с седла, перед ним была новая женщина, новый человек. Вместо ученой, веселой, но с холодным сердцем женщины, Клэйтон увидал какое-то двуликое существо, — не то прожженную кокетку, не то наивную девочку, которая говорит такие вещи, что голова идет кругом. Лор засмеялась, глядя на осевшую фигуру Клэйтона и его растерянное лицо. Потом вдруг стала серьезной.
— Да, я люблю вас.
— Любовь! — воскликнул Клэйтон и… мгновенно его лицо побледнело. Он едва не лишился чувств. Лор принуждена была поддержать его.
— Что с вами, Клэйтон, вам дурно?
— Н-ничего… небольшой сердечный припадок… сейчас все пройдет.
Круто повернув лошадь, он поскакал по направлению к дому.
Лор последовала за ним.
Вдруг откуда-то из болота донесся протяжный стон.
— Что это, Клэйтон, вы слышите?
— Наверно, болотная птица, выпь, — сказал он. Румянец уже вернулся на его щеки.
— Но выпь кричит по ночам.
— На болоте часто слышатся странные звуки, — сказал Клэйтон. — Мне говорили, что когда выходят газы, болото стонет.
Они замолчали, прислушиваясь, но кругом все было тихо.
До самого дома Клэйтон ехал задумчивый.
«Неужели его так расстроило мое признание?» — думала Лор.
Свидания на болоте
Лор соскочила с лошади, сама отвела ее в конюшню и поднялась к себе на мезонин. А Клэйтон, оставшись один в своей маленькой комнатке, схватился за голову.
Разговаривая с Лор о любви и кинув взгляд на болото, он на болотном островке увидал своего проводника-охотника и рядом с ним Додда. Охотник махнул рукой, но не крикнул: он видел, что Клэйтон не один. Потом скрылся за густыми ветвями ивы и несколько раз прокричал, как выпь. Выпь кричит в полночь. Не значит ли это, что в полночь Клэйтон должен прийти на болото? Ну да, конечно. Додд явился. Клэйтон совсем начал забывать о нем и о своем поручении. После сегодняшнего разговора с Лор у Клэйтона были на уме совсем другие мысли. Да и вообще за это время он во многом изменился. Общение с Микулиным не проходило даром. Незаметно для себя Клэйтон начинал все больше увлекаться мыслью о строительстве новых, неведомых в истории человечества форм жизни. Микулин умел рисовать грандиозные перспективы будущего, превосходившие своими масштабами даже американский размах. И если Клэйтон еще не совсем освоился с мыслью, что будущее за Советской Россией, а не за его Штатами, то от былой его национальной гордости не осталось и следа. Теперь он был не в силах убить Микулина, не говоря уже о Лор.
Но что делать? Что сказать Додду, который не знает его сомнений и колебаний? У Додда все ясно и непоколебимо: интересы Штатов выше всего.
Клэйтон посмотрел в окно. Солнце село. Быстро сгущались сумерки. Только на вершинах гор тихо догорал закат.
«Ну, что я ему скажу?..» — думал Клэйтон.
Он вышел из дома, когда совсем стемнело, и медленно побрел к болоту. Где-то далеко шумел горный водопад. Этот однообразный мягкий шум не нарушал молчания ночи.
Клэйтон подошел к краю болота. В тот же момент крикнула выпь и вдали сверкнул огонек. Это Додд, подавая знак, зажигал и гасил электрический фонарик.
Осторожно ступая по болоту, Клэйтон добрался до островка, на котором его ожидали Додд и охотник.
Додд по обыкновению крепко, до боли, пожал руку Клэйтона.
— Как дела? — спросил он. — Овладел Микулин секретом делать золото?
— Да, но он может делать золото только лабораторным способом. Его изобретение не имеет никакого практического значения. Сейчас он изыскивает способы найти средство делать золото наиболее дешевым путем. Но это ему не удается.
— Не удается сегодня, удастся завтра, — сказал Додд. — Вопрос о Микулине решен. Вот, возьмите… Это мина большой разрушительной силы. Вы установите ее в лаборатории Микулина с таким расчетом, чтобы она взорвалась, когда Микулин там будет работать со своими помощниками.
Клэйтон взял тяжеловесную коробку и сказал смущенно:
— Едва ли мне удастся… Микулин не разрешает мне входить в его лабораторию. Она усиленно охраняется. У Микулина много лаборантов, а на ферме — рабочих и сторожей… Мне удалось до сих пор оставаться на ферме только потому, что я притворился тяжело больным.
Додд зорко посмотрел на Клэйтона.
— Уж не трусите ли вы? — спросил он. — Даю вам пару дней на исполнение этого поручения. Если вас что-нибудь задержит, придите сюда и скажите. В крайнем случае, если вам в самом деле не удастся, у меня есть другой проект. Мы организуем вооруженное нападение. Итак, до свидания через два дня на этом самом месте.
— До свидания! Постараюсь выполнить поручение, — сказал Клэйтон и отправился в обратный путь, осторожно неся опасную коробку.
Когда болото осталось далеко позади, Клэйтон остановился, послушал и, убедившись, что никто за ним не наблюдает, вырыл руками яму под корнями ели, положил туда коробку и закопал.
Был третий час ночи, когда Клэйтон вернулся на ферму. В окне лаборатории светился огонек. Микулин еще работал. Клэйтон вошел в лабораторию, открыв дверь, которая никогда не закрывалась.
— Все работаете? — спросил Клэйтон, присаживаясь на белую табуретку.
— Да, и очень успешно, — ответил оживленно Микулин. — Мне удалось разрешить задачу раньше, чем я думал. Вот, не угодно ли полюбоваться! — Микулин высыпал из склянки на ладонь щепотку золотистого порошка.
— Золото. Здесь пять граммов. И получение этого золота не стоило пяти копеек. Теперь держитесь, Клэйтон, мы с вами скоро перевернем мир!
Клэйтон поднялся, прошелся по лаборатории и сказал:
— Послушайте, Микулин. Вы сказали: мы с вами перевернем мир. Почему вы так доверяете мне? Я ведь пришел неведомо откуда. А что если я шпион, если я подослан сюда, чтобы убить вас или украсть секрет вашего изобретения?
Микулин внимательно посмотрел на Клэйтона.
— Я охотно отвечу на ваш вопрос. Недоверие всегда порождается страхом, а я не боюсь, потому и доверяю вам. Вы можете убить меня, но разве вы можете убить научную мысль? В худшем случае, вы только немного задержите ход событий. И потом, говоря лично о вас, — если бы вы захотели убить меня, то давно могли бы это сделать. Значит, или у вас не было такого намерения, или же вы не способны на убийство. Что же касается кражи моего секрета, то, пожалуйста, — если только вы что-нибудь поймете в нем.
— Хорошо, допустим, что вы не боитесь политических врагов, но ведь могут быть просто бандиты, — возразил Клэйтон. — Что, если они явятся сюда? Нас только трое мужчин. Я не видел у вас даже ружей. Как вы сможете защищаться? Не может быть, чтобы вы не дорожили своей личной жизнью. Наконец, на вас лежит ответственность за сохранение жизни живущих здесь женщин…
Микулин ссыпал порошок с ладони обратно в склянку и, не оборачиваясь, сказал:
— Или вы, Клэйтон, влюблены, или же что-нибудь в самом деле обеспокоило вас. Говорите прямо, в чем дело?
Клэйтон смутился. Хорошо, что Микулин был занят своими колбами.
— Я… мне показалось… я сегодня гулял в лесу. Мне послышалось, как будто кто-то пел…
«Зачем я говорю это, — думал Клэйтон, — ведь я выдаю Додда. Может быть, Микулин пошлет своего великана на разведку».
— Ну и что же в этом удивительного? Тут нередко бродят охотники, — беспечно ответил Микулин. — Пусть поют. Тот, кто поет, — не опасен.
На другой день Микулин окончательно убедился, что Клэйтон влюблен: в первый раз его помощник разбил две пробирки и сделал несколько ошибок, помогая Микулину в вычислениях.
Клэйтон очень волновался. Ему хотелось признаться во всем. Но вместе с тем он не хотел предавать своего недавнего товарища и к тому же соотечественника. Признаться Додду в том, что он, Клэйтон, не хочет выполнить поручения, Клэйтон также не решался.
Додд сочтет его трусом и, может быть, даже предателем. Тогда Клэйтону не сдобровать…
Не идти на болото тоже рискованно. Если Додд организует бандитское нападение, то не поздоровится и Клэйтону… Нет, надо идти, но как-нибудь затянуть дело. А там, может быть, найдется выход… Проще всего было бы бежать отсюда, предоставив Микулина и Додда самим себе. Но Клейтон не мог уйти без Лор, а она, конечно, не покинула бы Микулина.
Так Клэйтон ничего и не придумал, отправляясь на болото в условленное время. Ночь была темная. И ему казалось, что кто-то крадется за ним. У Клэйтона замирало сердце, когда он слышал за собою хруст веток, шелест листьев, хотя ветра не было. Казалось, кто-то раздвигал ветки рукою… Неужели Микулин следит за ним? Один раз Клэйтон даже остановился и тихо спросил: «Микулин, это вы?..» — но не получил никакого ответа.
Вот и болото… Додд сигнализирует короткими вспышками огня…
— Я не слыхал взрыва, — строго сказал Додд, еще не подавая руки.
— Мне удалось поставить мину, но она не взорвалась. На утро ее нашел Микулин и учинил настоящий допрос. Он…
Додд схватил Клэйтона за руку выше локтя и крепко сжал ее.
— Вы лжете, Клэйтон. Мина не могла не взорваться. Я сам заряжал ее. Говорите, что вы сделали с миной? Впрочем, можете ничего не говорить. Я больше не верю вам. Вы не тот. Вас как будто подменили. Скажите, что с вами случилось, Клэйтон? Может быть, там есть женщина?
«И он о том же», — с тоскою подумал Клэйтон. И вдруг неожиданно для самого себя сказал:
— Да, вы отгадали, Додд. Там есть женщина.
— Ну вот, теперь все понятно, — сказал Додд. — Вы больше не пойдете туда, Клэйтон. Недоставало, чтобы вы стали защищать Микулина. Вы пойдете с нами. У меня есть наготове дюжина отличных головорезов. Они быстро справятся с людьми Микулина, хотя бы их было там две дюжины.
— Но я не могу оставить ее, — с искренним чувством сказал Клэйтон.
— Вы не пойдете к ней. И никогда ее не увидите. Теперь вы должны повиноваться мне.
— Но почему должен, черт возьми! — возмутился Клэйтон.
— Хотя бы потому, — ответил спокойно Додд, направив на Клэйтона дуло револьвера…
— Это, конечно, отличный аргумент, но… послушайте, Додд. Вы говорите, что у вас дюжина головорезов, которые могут справиться с двумя дюжинами здоровых молодцов… В таком случае, буду я на вашей стороне, или на стороне Микулина, это не решит исход сражения. Если я вам изменю, вы прикажете своим головорезам прирезать и меня, — только и всего. Но я не собираюсь изменять вам. Я только хочу быть возле девушки и спасти ее. Ведь не собираетесь же вы убивать молодую, красивую девушку… Если я останусь здесь, то Микулин поймет, что против него замышляется что-то неладное. И он примет свои меры. А он не так беззащитен, как. вы думаете. У него есть молнии, которые он держит, как факир змей в корзинке. Он может выпустить свои молнии, и они убьют вас. Если же я буду с ним, он будет спокоен, и вам легче осуществить свой план.
Додд подумал, проворчал «горе с этими влюбленными», но все-таки отпустил Клэйтона.
— Но помните, если только вы совершите что-нибудь во вред: мне, вы будете убиты вместе с вашей красавицей! Я не пощажу никого. Еще одно поручение, подождите. Я буду через два дня. Вы? должны сообщить нам, когда удобнее произвести нападение. Приходите сюда в среду в двенадцать часов ночи.
«Когда же кончится это мучение?» — думал Клэйтон, возвращаясь.
И опять ему показалось, что за ним кто-то крадется.
«Однако нервы мои начали расстраиваться», — думал он, оглядываясь назад.
На другой день, отговорившись нездоровьем, он не пошел в лабораторию. Ему надо было решить — идти с Доддом или против Додда. Но он ничего не решил, и второй день провел в тех же размышлениях на белом камне. А когда настала ночь, он побрел вдоль реки к болоту. И как в прошлый раз, чьи-то шаги преследовали его.
— У меня все готово, — сказал Додд. — Когда лучше произвести нападение?
— Завтра днем. Еще с утра несколько рабочих отправляется на охоту.
— Сколько остается на ферме? — спросил Додд.
— Человек двадцать, — ответил Клэйтон, — не считая меня.
— Надеюсь, вас не придется считать, — сказал Додд. — Я изменил свое решение. Вам больше нечего торчать у Микулина. Ночью он вас искать не будет, а завтра рано утром мы нападем на ферму. Извольте идти за мной.
— Что это, арест? — пытался протестовать Клэйтон.
— Называйте, как хотите, — отрезал Додд и, обернувшись к проводнику, сказал: — Показывай нам дорогу!
Идти по болоту ночью очень рискованно. Старый охотник неодобрительно зачмокал губами и с крайней осторожностью двинулся в путь, в противоположную от фермы сторону. За проводником Додд. пустил Клэйтона, а сам замыкал шествие.
«Это насилие, — негодовал Клэйтон. — Какое право имеет Додд так распоряжаться? Нет, он не может примириться с этим. Он; должен вернуть себе свободу во что бы то ни стало».
Клэйтон шел и обдумывал план бегства. Он немного отставал от проводника и неожиданно кинулся под ноги Додду, тот упал, перевалившись через Клэйтона, и выругался. Клэйтон отполз назад и, поднявшись на ноги, побежал.
— Эй, где же вы! — крикнул Додд. Но Клэйтон бежал, не обращая внимания. Тогда Додд пригрозил, что он будет стрелять. Но Клэйтон все продолжал бежать.
Голоса Додда и проводника становились все тише и тише. Клэйтон уже различал опушку леса на краю болота. Ему везло: несмотря на то, что он бежал напрямик, он не только не провалился в окно, но даже ни разу не упал. Вот и твердая почва под ногами…
Ах… Сначала одна, а потом и другая нога Клэйтона увязли в болоте. Он пытался вытащить то одну, то другую, но от этих усилий ноги увязают еще глубже. Клэйтон чувствовал, как его ноги медленно погружаются в вязкую тину. Вот они ушли до колен, вот и колени погрузились в холод тины, Клэйтон старался нащупать рукой куст или хоть пучок травы, но напрасно: вокруг не было никакой растительности.
«Погиб!» — подумал Клэйтон, обливаясь холодным потом. Во рту у него было сухо. Язык как будто распух. В глазах рябило. Клэйтон вдруг так ослабел, что сел на холодную тину, но тотчас с ужасом поднялся, он сразу провалился по пояс. Проходила минута за минутой, и тело Клэйтона погружалось все глубже. Вот оно погрузилось до груди… Клэйтон делал невероятные усилия, чтобы пошевелить ногами, но они были как будто парализованы. Клэйтон поднял руки вверх, чтобы сохранить их свободными возможно дольше… Вот тина дошла до подмышек… Еще несколько минут — и плечи опустятся в тину, потом голова. Клэйтон вдруг закричал. Но на ферме не услышат его крика. А кругом — пустыня… Быть может, этот предсмертный крик донесется до ушей старика-охотника и Додда, но они не придут на помощь дезертиру…
Вдруг чья-то сильная рука схватила Клэйтона за шиворот и начала вытягивать его из болота.
— Это вы… Додд? — спросил Клэйтон. Неизвестный не отвечал. Он продолжал тянуть. Это была нелегкая работа. Увязнувшее в болоте тело не поддавалось усилиям. Клэйтон начал раскачиваться, судорожно подергиваться. Но это, очевидно, не облегчало, а скорее затрудняло работу неизвестного. По крайней мере, он тихо, прерывающимся от страшного напряжения голосом, пробормотал:
— Не двигайся!.. Ирод!.. Только мешаешь!
Его голос казался знакомым. Во всяком случае, это был не Додд. Неизвестный говорил на чистейшем русском языке.
Прошел добрый час, пока Клэйтон был извлечен наполовину. Его мог спасти только человек необычайной силы. Клэйтону казалось, что ноги его не выдержат и оторвутся. Он стонал от боли, но неизвестный продолжал тащить его из болота.
Когда Клэйтон был наконец вырван из тины, как пробка из узкого горлышка бутылки, неизвестный бросил его на твердую землю и сам в изнеможении опустился рядом. Тут Клэйтон, напрягая зрение, увидал, что его спас великан — старик Данилыч.
— Спасибо, Данилыч! — сказал Клэйтон, пытаясь подняться. Но Данилыч придавил его своей пятерней к земле.
— Лежи и не двигайся. Не надо бы и спасать тебя, иродово отродье…
— Почему вы так говорите со мной? — спросил Клэйтон, притворяясь ни в чем не повинным.
— Потому что лучшего не стоишь. Вот Василий Николаевич расправится с тобой. Ты что по ночам по болотам шляешься? С кем разговаривал? Ты думаешь, я не видал? Я давно слежу за тобой.
«Так вот чьи шаги я слышал», — подумал Клэйтон.
Отбитая атака
У Клэйтона сжалось сердце, когда между стволами тополей мелькнул огонек в окне лаборатории. Было, вероятно, около четырех часов утра, а Микулин еще работал. Данилыч крепко схватил Клэйтона за шиворот и, приподняв одной рукой, внес в лабораторию.
— Шпиона поймал, — сказал он, опуская на пол задыхавшегося Клэйтона.
Данилыч подробно рассказал о том, как, запоздав на охоте, он случайно увидал у болота Клэйтона, который о чем-то говорил с двумя людьми, как после этого он, Данилыч, начал следить за Клэйтоном и как спас его.
— Я думал, — закончил старик свой доклад, — может быть, вы узнаете от него что-нибудь важное. Только для этого я и вытащил его из болота.
— Что это значит, мистер Клэйтон? — спросил Микулин. Лицо его было сурово, сдвинутые брови говорили о непреклонной воле. Клэйтону стало страшно. Таким он еще никогда не видал Микулина.
— Я все объясню, — сказал Клэйтон. — Но позвольте мне говорить по-английски. Я волнуюсь, и говорить по-русски мне трудно. — Клэйтону было неприятно выступать в роли обвиняемого перед Данилычем.
Микулин, подумав, сказал:
— Данилыч имеет такое же право судить вас, как и я сам. Нам торопиться некуда. Можете говорить медленно, но говорите по-русски.
Клэйтону не оставалось ничего другого, как повиноваться. И он рассказал о своем долгом пути из Нью-Йорка к Рахмановским ключам.
— Но я никогда не решился бы причинить вам зло. Если бы я хотел это сделать, я давно мог убить вас миной, которую передал мне мистер Додд. Я закопал эту мину под елью.
Данилыч крякнул и сказал:
— Это правда. Он что-то закапывал, я видал. Но я боялся. Думал, что там такое? Не убило бы.
— И еще одно, — продолжал Клэйтон, — если бы я хотел изменить вам, я не бежал бы от Додда, который принуждал меня идти вместе с ним.
— Может быть, вас что-нибудь здесь… задерживает?.. Например, любовь?..
Клэйтон покраснел.
— Хотя бы и так. Тем больше оснований доверять мне. А если вы еще все не верите, то я открою планы мистера Додда. Сегодня же на заре он нападет на вашу ферму. Додд предупредил меня, что первая пуля будет пущена в мою голову.
Микулин взглянул на старика.
— Как ты думаешь, Данилыч, что сделать с мистером Клэйтоном?
Старик задумался.
— Конечно, может, он и не виновен. Видишь, какое дело. А доверять ему больше нельзя, шаткий он. Я бы его не выпустил. Связал бы, и пусть сидит, по крайней мере, пока эти головорезы не побывают здесь.
— Вы слышите, Клэйтон? Пусть будет так. Я оставляю вас здесь арестованным. Я не буду вас связывать веревками — у меня есть кое-что понадежнее: вас будут охранять несколько маленьких змеек. Они очень ядовитые.
Микулин передвинул свои аппараты, отгородил часть комнаты несколькими рядами проволоки и повернул рубильник.
— Вот так. Имейте в виду, что по этим проволокам идет ток, который может убить целый полк солдат. А теперь мы пойдем, приготовимся отбить атаку.
Клэйтон оказался запертым в углу комнаты. Ничтожные тонкие проволоки охраняли его лучше замков. Правда, окно было свободно, но на дворе виднелась внушительная фигура Данилыча. Микулин подошел к дому, в котором жила Лор, и крикнул:
— Аленка, Аленка! Вставай!
Окно в мезонине открылось, и Клэйтон увидал голову девушки.
— Зачем так рано? — спросила она.
— Все идите в лабораторию, — сказал Микулин.
Через несколько минут все обитатели фермы стояли в нескольких шагах от Клэйтона.
— Что это такое? — спросила Лор. — Вы арестованы?
— Увы, да, — ответил Клэйтон.
Микулин повернул включатель и снял проволоки.
— Я думаю, теперь вас можно освободить от этих сторожей. Ну-ка, расскажите еще раз свою историю.
— Хорошо, я расскажу, но позвольте раньше поговорить о делах более срочных. Додд навербовал не менее дюжины вооруженных бандитов. А нас, если только вы окажете мне честь включить и меня в число защитников, всего пять человек, считая и женщин. Вы не вооружены. Я полагаю, что…
— Не беспокойтесь, — ответил Микулин. — Мы вооружены лучше, чем вы полагаете. Итак, чтобы нам не было скучно ожидать гостей, начинайте, мистер Клэйтон. Лор еще не слышала вашей истории.
И Клэйтону пришлось снова рассказать о всех своих злоключениях.
— Ого, вот, кажется, и гости, — перебил Микулин рассказ Клэйтона.
У белого камня показались люди. Впереди шел высокий тощий человек с ружьем наперевес.
— Это Додд! — воскликнул Клэйтон.
Додд отдал какое-то приказание, и бандиты, рассыпавшись цепью, начали подходить к ферме.
И вдруг один из них, шедший впереди, взмахнул руками и упал навзничь, как будто его поразила какая-то невидимая сила. Микулин молча усмехнулся. Вот еще два бандита упали на землю, на том же месте, где лежал первый. Очевидно, какая-то преграда защищала ферму от врагов. Но Клэйтон не видел проволоки, по которой мог быть пущен ток. Место было совершенно открытое.
— В чем дело? — спросил Клэйтон.
— Дело простое, — отвечал Микулин. — Мне удалось осуществить передачу энергии на расстояние. У меня уже давно все прилажено. Я пускаю узкий пучок радиоволны. Пронизывая воздух, она делает его хорошим проводником электричества. Вы понимаете, не по эфиру, а по воздуху идет ток высокого напряжения, он-то и убивает людей. Ясно?
Да, для Микулина это было ясно, но мистер Додд не мог понять, почему его люди падают. Видя, что бандиты начали колебаться и несколько из них бросилось в панике назад, Додд крикнул на беглецов, выстрелил для острастки из револьвера и сам побежал вперед, увлекая за собой колеблющихся. Увы, их всех постигла печальная участь. Клэйтон видел, как Додд, выронив револьвер, грохнулся на землю. Два оставшихся в живых с дикими воплями скрылись в лесу.
— Ну, вот и все, — сказал Микулин. — Видите, как гладко прошло сражение.
— Теперь мне понятно, почему вы были так доверчивы и даже беспечны, — сказал Клэйтон.
— Надеюсь, «ваши друзья» теперь надолго оставят меня в покое?
— Они больше не друзья мне, — нахмурился Клэйтон.
— Да, мертвые не друзья живым. Но что мы будем делать с вами, Клэйтон? Оставить на свободе под поручительство мисс Лор? Аленка, ты поручишься за него? Возражений нет? Кто против? Принято. А теперь работать, работать.
Мих. Зуев-Ордынец ВЛАСТЕЛИН ЗВУКОВ
Гибель будильника
Клерк Джим Картрайт проснулся внезапно, словно от какого-то внутреннего толчка, от глухого подсознательного ощущения несчастья, свалившегося на его голову.
Спустив ноги с кровати, привычно поймал туфли. Взгляд упал на будильник, стоявший против кровати, на этажерке.
«Полчаса десятого… Ну, так и есть! — подумал Джим. — Вот несчастье. Опоздал в контору на полтора часа!»
С ощущением человека, падающего в бездну, Джим вообразил свое сегодняшнее появление в конторе Акционерного общества по распространению сосисок «Эксцеленца». Контрольные часы, конечно, уже заперты. Придется отметить свое опоздание на полтора с лишним часа. А насмешливые улыбочки сослуживцев, а грозно нахмуренное чело шефа!..
Джим с ненавистью посмотрел на будильник. «И это называется патентованный будильник „Вставай-вставай“! — подумал он, закипая бешенством. — Это паршивая гадина, которая не звонит когда надо, а если и звонит, то так, что не может разбудить спящего человека!»
Джим сгреб фарфоровую кружку, стоявшую на ночном столике, и с силой запустил ею в будильник. И, сам того не ожидая, попал очень метко. Кружка ударила несчастный «Вставай-вставай», сшибла его с этажерки, послала вслед за ним за компанию еще пару гипсовых статуэток и, наконец, сама скатилась на пол, разбившись вдребезги.
Джим испуганно вытаращил глаза. Он ожидал услышать страшный грохот, способный перепугать всю квартиру, и… не услышал ни единого звука.
— Что же это такое? — испуганно воскликнул он. И испугался еще больше. Язык его действовал как всегда, все мускулы лица тоже вполне повиновались ему, и все же он не услышал своих слов.
Мелькнула страшная мысль: «Я внезапно оглох во время сна!» Джим сорвался с постели, схватил тяжелый дубовый стул и с силой ударил им о пол. Стул мячом подпрыгнул кверху и с поломанными ножками отлетел в угол, а Джим все же не услышал ни единого звука, ни малейшего шороха.
Ноги Джима подкосились, и он сел прямо на пол:
— Да. Оглох совершенно…
Долго ли он сидел так на полу, Джим не помнит. Пришел в себя от бесцеремонных пинков в спину. Обернулся вяло. Над ним стояла, покачивая сожалеюще головой, его квартирная хозяйка, почтенная девица Эльжбет Мадсвик.
Как ни был подавлен Джим своим неожиданным несчастьем, все же он сообразил, что принимать мисс Эльжбет в одном белье немного неудобно. Вскочив с пола, Джим нырнул за ширму и, высунув оттуда голову, крикнул:
— Мисс Эльжбет, я совершенно оглох!
Но мисс Эльжбет в ответ почему-то затрясла отрицательно головой, тыча руками в свои уши.
— Она не слышит меня, — догадался Джим. — Боже мой, неужели же я и онемел?!
Если бы у Джима осталась хоть капелька спокойствия, он непременно заметил бы, что и его квартирная хозяйка потеряла свою обычную чопорность. Кружевной передник мисс съехал набок, из-под чепца космами лезли седые волосы, которые она всегда ревниво прятала от постороннего взгляда. На лице мисс Эльжбет ясно отпечатались недоумение и испуг. Но Джим думал только о себе, он думал только о том, как сообщить мисс о своем несчастье.
Оглядевшись, он увидел недалеко от себя газету и карандаш. Схватив то и другое, Джим написал на полях газеты:
— Мисс Эльжбет, я так несчастен. Я оглох.
И передал газету мисс. Та прочла, кивнула головой и, вырвав из рук Джима карандаш, быстро зацарапала им по газете. Джим, высунувшись из-за ширмы, через плечо мисс прочел:
— Я тоже оглохла часа два тому назад. Но мне кажется, что оглохли не только мы, а и весь Нью-Йорк, если не весь свет.
Джим от удивления широко раскрыл рот. А когда закрыл, мисс Эльжбет уже не было в комнате.
Одевшись наскоро, без галстука и шляпы, Джим вылетел на улицу.
Нью-Йорк оглох
Первым, кого Джим увидел на улице, был сослуживец по конторе, старший клерк Джефф Коттон. Схватив товарища за руку, Джим потащил его к магазинной витрине и на запотевшем стекле написал пальцем:
— Джефф, что случилось?
Коттон перечеркнул его надпись и сверху вывел крупно:
— Оглох весь Нью-Йорк.
Как ни был поражен и напуган Джим, все же в нем сразу сказалась служебная дрессировка. В своем блокноте он написал:
— Я думаю, Джефф, что ввиду такого исключительного случая можно и не являться в контору?
Коттон в ответ лишь досадливо кивнул головой, а затем широким жестом обвел улицу, молчаливо приглашая Джима убедиться в том, что теперь не до конторы.
На улице, действительно, творилось что-то невообразимое. Громадные толпы нью-йоркцев в паническом страхе, словно спасаясь от чего-то ужасного, неслись по тротуарам. Мелькали поднятые с мольбой руки, широко раскрытые, видимо, что-то громко кричавшие рты. И, не слыша своих криков, люди пугались еще больше, теряя рассудок от страшного, необъяснимого отсутствия каких-либо звуков.
Джим и Джефф втиснулись в глубокую стенную нишу и молча смотрели на весь этот ужас.
Автомобили, такси, автобусы, развивая безумную скорость, неслись лавиной по улицам. Видно было, как шоферы отчаянно жали на кнопки сигналов, но, не слыша этих предостерегающих звуков, люди сами лезли под колеса.
Волоча по земле громадную тень, мелькнул на высоте четвертого этажа поезд надземной железной дороги и вдруг круто остановился, безжизненно повиснув над обезумевшей улицей. Механик поезда, выключив ток, бежал, не вынеся всеобщей могильной тишины. Пассажиры с искаженными ужасом лицами метались по вагонам, ища способ выбраться из воздушной западни.
А стрелки автоматических часов на углу улицы по-прежнему равнодушно и безучастно скользили по циферблату, отмечая уходящие минуты и часы.
Джим и Джефф, потрясенные, подавленные, забыли обо всем. Им порой казалось, что они смотрят в кино кошмарный немой фильм.
Когда стрелки часов слились в одну на цифре «12», Джим пришел в себя и сообразил, что безопаснее было бы сидеть сейчас дома. Он снова написал в блокноте своему товарищу:
«С меня довольно. Толпа, кажется, редеет. Попробую пробраться домой».
А вернувшись домой, Джим написал в том же блокноте:
«14 октября Нью-Йорк оглох. На улицах паника. Что это значит? Пока — загадка».
«Кухня ведьмы»
Нью-Йорк оглох ровно в шесть утра, но паника, охватившая гигантский город, началась только в девятом часу, и началась она на Тайме-сквере. В первые часы всеобщей глухоты, часы раннего утра, когда не все еще нью-йоркцы проснулись, никакой паники не было, замечались, правда, удивление, растерянность, но не панический, животный, вернее, звериный страх, когда человек думает только о спасении своей шкуры. Люди, охваченные беспокойством, почуявшие опасность, обычно ищут общения с себе подобными, недаром же говорится, что на миру и смерть красна. Нью-йоркцы выходили и выбегали на улицы, собирались кучками, потом небольшими толпами, но не то оглохшие, не то ставшие вдруг немыми, как рыбы, они не могли обсудить или как-то объяснить сообща свалившееся на их головы несчастье. Они смотрели растерянно друг на друга и на небо, видимо, оттуда ожидая или объяснения, или какого-то ужасного, неотвратимого бедствия. Особенно большое скопление людей было на Тайме-сквере. Площадь была буквально забита людьми, стоявшими тесно друг к другу, а с прилегающих улиц напирали новые тысячные толпы, и глаза всех с испугом и ожиданием были подняты на гигантский небоскреб-утюг, принадлежавший газете «Нью-Йорк тайме». Но световой экран на утюге «Нью-Йорк таймса» до восьми часов был пуст. И только в начале девятого вспыхнули неоновые слова:
САТАНИНСКИЙ ЗАМЫСЕЛ КРАСНЫХ!
НЬЮ-ЙОРК ОБЕЗЗВУЧЕН РУССКИМИ!!
ОГЛОХШИЙ НЬЮ-ЙОРК БЕЗЗАЩИТЕН!!!
ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?
ПАРАШЮТНОГО ДЕСАНТА?
РАКЕТНОГО УДАРА?
По экрану бежали и еще какие-то слова, но паника уже началась, Через пять минут на Тайме-сквере и на прилегающих улицах было пусто. Нью-йоркцы бросились вон из своего обреченного, как им казалось, города. Короли Уолл-стрита и «капитаны» промышленности удрали первыми на личных самолетах и вертолетах. Простые люди бежали на велосипедах, мотоциклах, собственных машинах, на чужих, украденных машинах, дожидавшихся на улицах своих хозяев, захваченных автобусах, грузовиках, санитарных, ассенизационных, поливальных, подметальных машинах, погребальных авто-катафалках и даже полицейских машинах, отбитых у полисменов после ожесточенных, но бесшумных перестрелок. Полиция вскоре тоже бежала, видя свое бессилие прекратить панику и, а это, пожалуй, главное, охваченная тем же темным, безрассудным ужасом. Правда, через пару дней синемундирников под угрозой армейских пулеметов погнали обратно в город. Только пожарные отстояли свои обозы от обезумевших толп, и только они не бежали из города. Этим подлинным героям пришлось тотчас ринуться в бой с огненной стихией. Первые пожары вспыхнули на Пятой авеню и в торговых районах Бродвея. Горели дворцы миллионеров и миллиардеров, роскошные бродвейские магазины. Подожгли их гангстерские банды, решившие устроить чудовищный пир во время чумы. Но пожарные машины помчались не на улицу денежных королей и не на великое торжище, а к казначейству, государственному банку, музеям, таможне и ратуше, подожженным бандами. Зарево пожаров всю ночь полыхало над городом, но к утру люди-герои победили огонь. Пожары начали гаснуть.
Жуткая ночь нехотя отступила перед рассветом. Утро, пасмурное и гнилое, заплакало осенним дождем над безмолвным городом. Мертвыми громадами высились небоскребы, безлюдными щелями вытянулись длинные улицы; тридцатипятиверстный Бродвей раскинулся безжизненной пустыней. На его блестящем от дождя асфальте растянулись, словно отдыхая, тела людей, растоптанных во время паники.
Многие дома носили следы дикого разгрома, а к небу, борясь с дождем, медленно поднимались черные дымные султаны потухающих пожаров…
«Кухня ведьмы», «свободная» американская пресса и на этот раз осталась верной себе.
Сенатор Аутсон берется разгадать нью-йоркскую загадку
Нью-йоркские газеты не выходили. Американцы узнавали о трагедии, разыгравшейся в их великом городе, из вашингтонских и чикагских газет. Первая страница «Вашингтон пост» кричала громадными буквами:
ЕЩЕ О НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ЗАГАДКЕ
ВАШИНГТОН. 18. Государственным департаментом получена из Москвы резкая нота протеста. Советское правительство называет обвинения, брошенные ему американской прессой, опасной провокацией и раздуванием уже не холодной, а горячей войны. Москва категорически отрицает, что нью-йоркская глухота искусственно вызвана русскими, и предлагает послать самых крупных своих ученых для совместной работы с американскими учеными с целью выяснения причин загадочной нью-йоркской глухоты.
НЬЮ-ЙОРК. 19. Вчера точно выяснены границы загадочной глухоты, охватившей Нью-Йорк. Оглох целиком весь город, а также Бруклин, Лонд-Айланд. Сити, Ричмонд и прочие нью-йоркские предместья. За пределами города и его предместий глухота распространилась не далее, чем на пять-шесть километров, охватив, таким образом, окружность радиусом около сорока километров.
Конгресс организовал комиссию для выяснения причин этого загадочного явления и для борьбы с ним. Председателем комиссии назначен сенатор Аутсон, облеченный президентом исключительными полномочиями. Лучшего назначения нельзя желать, так как сенатор Аутсон, счастливо сочетавший в себе железную волю, гибкий природный ум и блестящее образование, памятен всем нам своей громадной и плодотворной работой по укреплению всеобщего мира, т. е. работой в штабе НАТО.
Аутсон уже вчера вылетел в Нью-Йорк. Перед отбытием из Вашингтона мистер Аутсон отдал приказание об экстренном созыве научной подкомиссии для выяснения причин нью-йоркской загадки. В состав подкомиссии вошли все лучшие профессора Америки по кафедрам физики, химии, радиологии и кибернетики. Выразили желание работать в составе научной подкомиссии и многие европейские светила. Советским ученым участвовать в работе подкомиссии отказано.
Комиссия избрала местом своего пребывания местечко Бикон (три часа автомобильной езды от Нью-Йорка), не пораженное глухотой, но расположенное вблизи границ обеззвученной территории. Таким образом, мы накануне полного выяснения этого странного явления.
Нью-йоркские беспорядки понемногу ликвидируются. Потушены все пожары, войска расстреливают из пулеметов банды грабителей, нью-йоркская полиция Подкреплена бригадами из Вашингтона, Чикаго и Бостона. Случаи разбоев и грабежей значительно сократились, а поджоги совершенно прекратились. Организован подвоз продуктов. На днях будут пущены электростанции. Но, по имеющимся сведениям, перепуганные нью-йоркцы весьма неохотно и в незначительном количестве возвращаются в свой город.
Многие политические лидеры снова и снова высказывают убеждение, что истинные виновники нью-йоркской катастрофы — большевики. В Белый Дом явились и были приняты президентом делегации заводовладельцев и плантаторов Юга, потребовавшие посылки ультиматума Москве.
Сенатор Аутсон опускает в бессилии руки
Тяжело и безнадежно вздохнув, сенатор снял запотевшие очки, протер стекла и, оседлав нос, снова склонился над бумагой.
«…Итак, выяснить точно происхождение загадочного акустического явления, местом которого стал Нью-Йорк, научная подкомиссия пока не в состоянии, и мы вынуждены ограничиться предположениями».
«Медицинское освидетельствование жителей Нью-Йорка доказало, что никаких изменений в их органах слуха нет. Следовательно, злоумышленник или злоумышленники, обеззвучившие Нью-Йорк, действуют каким-то таинственным способом не на самих людей, не на их слуховой аппарат или мозговые центры, а на окружающий их воздух».
«Что распространение звуков возможно лишь при наличии воздуха или иной проводящей среды, доказано еще в XVII веке знаменитым английским физиком Робентом Бойлем».
«Самый воздух, химический состав его не изменился, в противном случае это отразилось бы на всем живом. Не изменились и плотность, и упругость воздуха».
«Учитывая все вышесказанное и принимая во внимание результаты многочисленных опытов, мы пришли к выводу, что обеззвучить Нью-Йорк могли лишь двумя способами.
Первый способ — это искусственное повышение или понижение количества колебаний (звуковых волн) в воздухе.
Известно, что способность нашего уха воспринимать звуки, т. е. слышать их, ограничена с двух сторон. Если вызванный чем-либо или кем-либо звук имеет меньше восьми колебаний в секунду, то такой (низкий) звук уже не будет слышен нами. И, наоборот, если возбудитель звука даст более 32000 колебаний в секунду, то звук будет настолько высок, что мы опять-таки его не услышим.
На основании этого мы можем предполагать, что злоумышленниками изобретен аппарат, который неизвестными нам способами каждый звук Нью-Йорка при самом его возникновении искусственно повышает или понижает до такого предела, что он уже не воспринимается ухом, т. е. становится неслышным. Это — первое из двух возможных объяснений».
«Мы должны оговориться, что в науке не было еще случая, даже попытки к изобретениям подобного рода аппаратов».
«Другое наше предположение построено на законе интерференции звуков.
Суть такого физического явления в следующем. Если вызвать два идеально одинаковых по высоте тона и силе звука, то они могут взаимно уничтожить друг друга, и тогда не будут слышны оба. Но это случится лишь при условии, что расстояние между точками, из которых звуки выходят, будет равно непременно длине нечетного числа звуковых волн. Многие из людей могли наблюдать, как громко звонящие, одинаковые по тону колокола двух церквей вдруг на какую-то долю секунды оба замолкают. Получается какой-то провал звуков. Это тоже звуковая интерференция.
Благодаря этим условиям, устройство аппарата, который интерференцировал бы, т. е. поглощал все звуки Нью-Йорка, затрудняется двумя серьезными препятствиями.
Во-первых — невообразимым разнообразием звуков, которыми до 14 октября шумел и гремел Нью-Йорк. Ведь нечеловечески трудно для уничтожения каждого, даже самого незначительного нью-йоркского шороха вызвать точно такой же шорох или звук. Сколько же тогда звуков нужно вызвать?
Второе препятствие — это то обязательное расстояние между двумя звучащими предметами, о котором мы говорили выше. Где же тогда стоит этот аппарат, который глушит все звуки Нью-Йорка, если он должен находиться на известном, точно определенном физикой расстоянии от каждого говорящего или кричащего нью-йоркца, от каждого станка грохочущих нью-йоркских фабрик и заводов, от каждого пыхтящего паровоза, гудящего авто, звонящего колокола, рыкающего джаз-бандом мюзик-холла, стонущего скрипками оперного или театрального зала? В какой же точке Нью-Йорка стоит этот аппарат, если он должен быть на точно определенном расстоянии даже от каждой лающей собаки, мурлыкающей кошки, плачущего ребенка и каждой жужжащей нью-йоркской мухи?..»
«Но все же мы не берем на себя смелость утверждать, что подобного аппарата человек создать не может, ибо мы знаем, что изобретательность человеческого ума безгранична. Примером этому служат блестящие успехи советских ученых в освоении космоса».
Сенатор поморщился: «Вот здесь и надо было категорически, недвусмысленно заявить, что нью-йоркская глухота — дело большевиков. Ох, эти ученые! Не умеют доводить дело до конца!» Дальше в докладе было написано:
«Вот все то, господин сенатор, что мы имели сообщить вам. Это — наше объяснение того загадочного явления, которое волнует и пугает весь цивилизованный мир. Бороться же с этим явлением, уничтожить его мы пока бессильны, ибо в данном случае бессильна вся наука, все знания, которые сейчас в нашем распоряжении. Но мы, а вместе с нами и ученые всего свободного мира, еще не сдаемся. Мы будем искать, чтобы бороться…»
«Примите, господин сенатор, уверения в совершенном почтении…»
Следовали многочисленные подписи американских и европейских ученых.
Аутсон устало потер лоб. Он ясно почувствовал в этой докладной записке полную растерянность, бессилие и недоумение ученых.
«Бессильна даже наука, — думал сенатор. — Если уж гениальнейшие умы нации не могут объяснить, то, значит, дело совсем дрянь. А кто может поручиться, что завтра не оглохнет вся Америка?..»
Черной беззвучной тенью в кабинет скользнул негритенок-бой. Протянул сенатору на подносе визитную карточку.
Аутсон прочел:
АРТУР БАКМАЙСТЕР
Профессор-радиолог
А на обороте бледным карандашом:
«По поводу нью-йоркской загадки».
«Шарлатан, — подумал Аутсон, — один из тех, которые тысячами обивают мои пороги. Пользуясь случаем, надеются выманить тысчонку — другую долларов. Не приму», — решил сенатор. И вдруг, не отдавая себе отчета в поступке, кивнул утвердительно головой.
Выдрессированный бой широко распахнул дверь. Стремительным броском влетела в кабинет маленькая фигурка и замерла у стола сенатора. Аутсон вскинул глаза. Перед ним стоял урод, горбун-карлик.
Деловое предложение
«Теперь уже поздно, не прогонишь», — подумал, раздражаясь, сенатор.
Резким жестом указал на кресло, приглашая садиться. Горбун сел, как ребенок, подтянувшись на высокое кресло на руках.
— Говорите! — резко приказал сенатор.
— Я найду виновника нью-йоркской глухоты, — неожиданна гулким басом ответил горбун.
Он говорил спокойно и уверенно. Сенатор посмотрел на него с интересом.
— На каких условиях вы согласны помочь комиссии?
— Я американец, сенатор. Я не могу допустить, чтобы это новое оружие попало в руки наших врагов. А это оружие, и страшное оружие! Вообразите страну нашего потенциального врага, оглохшую в первые минуты войны.
— Значит, вами двигает только патриотизм? Замечательно! Величественно!
— Не только патриотизм, сэр. Вы слышали — я американец. Значит, прежде всего я деловой человек. Миллион долларов, и я разгадаю эту загадку!
Аутсона поразила громадная сумма требуемого вознаграждения. До сих пор еще ни один шарлатан не заводил разговор о миллионах.
«Если это и авантюрист, — подумал сенатор, — то из крупных. Ухо надо держать востро».
— Я заплачу вам два миллиона долларов, если предложение ваше серьезно! Но что можете сделать вы, когда в данном случае бессильны лучшие ученые Америки и Европы?
Аутсон подвинул Бакмайстеру только что прочитанный доклад научной подкомиссии. Горбун перелистал его небрежно и, презрительно улыбаясь, ответил:
— Все ваши ученые — ослы. Эта загадка по плечу одному мне, Бакмайстеру.
— Если это не тайна, объясните, откуда у вас такая уверенность?
Горбун опустил голову и долго молчал, видимо, собираясь с мыслями. Воспользовавшись длительной паузой, сенатор с любопытством разглядывал уродца.
Тщедушное, изуродованное горбом тельце, казалось, с трудом несло тяжесть громадной головы. Оттопыренные, как крылья нетопыря, уши, выпуклый, нависший над глазами лоб, переходивший в лысину, и острый, треугольником, подбородок уродовали лицо профессора, делая его жутким и отталкивающим. Уголки тонких губ то и дело дергались в злой и презрительной усмешке. По-обезьяньи близко посаженные маленькие глазки ежеминутно беспокойно перебегали с предмета на предмет. Но когда взгляд их встречался со взглядом сенатора, Аутсону делалось как-то не по себе, и он отводил глаза в сторону.
Горбун поднял голову, и гулкий бас его загудел на весь кабинет. — Я — профессор Копенгагенского университета. Там же, в Копенгагене, я познакомился с одним молодым ученым-любителем, неким Оле Холгерсеном, шведом по национальности. Нас сблизила общая идея — желание создать машину, которая уничтожала бы все звуки на нужной нам площади. Во время нашей совместной работы над этой машиной я поражался знаниям Холгерсена. Я должен сознаться, что он — не профессионал-ученый, а дилетант — знал больше меня, старой крысы, отдавшей всю свою жизнь науке. И в нашей работе первенствующее положение занимал он, а я был не более, как его помощником.
Работа наша близилась уже к концу, но конца-то мне и не суждено было дождаться. Виною этому была моя торопливость. Однажды я высказал предположение, что недурно было бы продать нашу машину какому-нибудь богатому государству. За нее дадут нам целое состояние, так как она принесет громадную пользу как при нападении, так и при обороне.
Холгерсен запротестовал. Он был одним из тех слюнтяев-идеалистов, которые ненавидят войну. Говорю же вам, сэр, — слюнтяй! Посмотрели бы вы на него вне стен лаборатории! На работе он огонь, пламя, он обжигает, он искрится, как алмаз! А в жизни — рассеян, беспомощен. Огромное доверие ко всем! От любви к людям, от раскрытого настежь сердца! И это еще не все. Самое страшное — абсолютно равнодушен к деньгам! К доллару! Скажите, сэр, похож такой тип на делового человека? Можно с ним вести деловые разговоры? Сенатор пожал плечами.
— Оле не только не откликнулся на мое предложение, — продолжал горбун, — мы крупно поссорились, а на другой день он пропал. И машина наша осталась недостроенной, так как без него я был, как слепой котенок.
Я шесть лет искал его по всему свету, но он как в воду канул. А когда Нью-Йорк поразила эта загадочная глухота, я понял, что подобную штуку мог выкинуть только Оле Холгерсен, только он один и больше никто на земле.
— Один момент! — сенатор поднял карандаш и крепко стукнул его торцом об письменный стол. — Отвечайте немедленно! Каков принцип вашего изобретения? Интерференция звуков, или…
По лицу Бакмайстера Аутсон понял, что продолжать дальше бесполезно. Гнусный рот карлика улыбался и говорил без слов: «За болвана меня считаешь?»
— Говорите дальше, — угрюмо буркнул сенатор.
— При многих неудачных попытках докончить машину без Холгерсена я случайно натолкнулся на открытие чрезвычайной важности. Я изобрел прибор, нечто вроде пеленгатора, которым могу определить точку, где стоит машина Холгерсена. Для этого нужно лишь, чтобы машина его действовала, излучая в воздух свои радиоволны. А так как оглохший Нью-Йорк лучшее доказательство того, что она действует, то я безошибочно определю, где скрыта эта машина, а с нею и Холгерсен. Я не требую от вас вперед ни одного цента, но в случае успеха вы платите мне оговоренную сумму. Согласны?
— Согласен. Работайте! За всем, что вам будет нужно, обращайтесь непосредственно ко мне.
Бакмайстер стремительно сорвался с кресла и, подбежав к сенатору, схватил его за руку. Пожатие холодной руки горбуна заставило Аутсона вздрогнуть от непреодолимого отвращения.
Горбун метнулся к двери и пропал.
«Не сон ли все это?» — думал сенатор, глядя на пустое кресло, в котором минуту назад нервно дергалось уродливое существо. — «И Москва здесь ни при чем? Новая неудача! Но посмотрим, посмотрим, как дальше лягут карты!..»
Это стоит два миллиона долларов!
Снежно-белый «Боинг» уже стрелял голубоватыми струйками дыма, готовый каждую минуту сорваться со скучной земли. Президент вызвал сенатора Аутсона для личного доклада.
Услужливые руки уже готовились распахнуть дверцы кабинки. Аутсон занес ногу на подножку и вдруг попятился: кто-то сильно потянул его сзади за пальто. Сенатор гневно обернулся. Перед ним стоял горбун Бакмайстер.
— Ну что?.. Что?.. — крикнул сенатор.
— Я запеленговал Холгерсена. Едемте скорее к нему.
— Куда? Где он? — вцепился сенатор в плечо горбуна.
— Сначала деньги, а потом Холгерсен. Платите, сэр. Аутсон почувствовал, как кровь ударила ему в голову.
— Неужели вы не верите мне, сенатору Штатов? — крикнул он.
— Нет, — коротко ответил горбун.
Аутсона пошатнуло, как от крепкой пощечины. Подняв кулаки, он шагнул вперед и остановился перед Бакмайстером. Горбун спокойно нагнулся и, сорвав какую-то травинку, начал внимательно рассматривать ее.
Кулаки Аутсона бессильно опустились. Он отвернулся, вытащил чековую книжку и написал чек в государственное казначейство на миллион долларов.
Бакмайстер почти вырвал чек из рук сенатора и, быстро взглянув на цифру, протянул его обратно сенатору.
— Это стоит два миллиона долларов, сэр! Держите свое слово, сэр.
Аутсон разъяренно швырнул чековую книжку секретарю и взбежал в самолет. Через несколько минут в самолет поднялся Бакмайстер. Он держал в руках два чека, и оба протянул сенатору.
— Подпишите на два. Старый чек можете уничтожить. Сенатор подписал и зло отвернулся.
— Благодарю. Вот это честная игра. А теперь вылезайте из самолета. Мы никуда не полетим.
Сенатор медленно поднялся. В глазах его были отчаяние, страх и ярость.
— Захотели в газовую комнатку? — прохрипел он.
— Спокойнее, сэр, — поднял карлик крошечную ладонь. — Самолет не нужен. Всего тридцать километров.
Он протянул сенатору лист тонкого картона. Это был крупного масштаба полицейский план одного из районов Бруклина. Красным кружком был обведен дом № 421.
— Полисмены нужны? — спросил уже деловито сенатор.
— Это государственная тайна, сэр. Зачем лишние глаза и уши? — поучающе, с издевкой ответил горбун. — Оле в счет не идет. Свиреп только его преданный слуга, негр Сэм. У вас есть револьвер, сенатор?
Аутсон молча хлопнул по карману.
— У меня тоже есть. Достаточно. Поехали, сэр!
* * *
Лимузин буквально глотал пространство. Дома Бруклина, словно отбрасываемые невидимой рукой, отлетали назад. Отсутствие всякого движения на улицах позволяло сенаторскому лимузину развить бешеную скорость.
«А мой полет в Вашингтон? А мой доклад президенту, — вспомнил вдруг Аутсон. Махнул рукой. — Э, после…»
Машина круто затормозила и остановилась. Горбун бесцеремонно толкнул Аутсона и показал на дом направо. Сенатору бросилась в глаза громадная вывеска кино на высоте первого этажа.
Выскочив из автомобиля, горбун подбежал к входной двери кино. Дернул. Заперто. Наклонился над замком, ковырнул каким-то металлическим предметом. Опять тронул за ручку. Дверь подалась.
«Ловко, — подумал Аутсон. — Из этого профессора вышел бы недурной взломщик».
Горбун вытащил револьвер. Решив ничему не удивляться, сенатор тоже вытянул из кармана свой браунинг.
Горбун неуверенно шагнул вперед. Старик негр встал в дверях, загородив проход. Но поднятые револьверы красноречивее всяких слов пояснили ему, чего хотят эти двое белых. Старик попятился, оскаливая желтые клыки.
Бакмайстер растерянно закружился по громадному фойе. Нерешительно толкнул ладонью какую-то дверь и скрылся за нею. Сенатор последовал за горбуном. Они очутились в пустом зрительном зале. Вправо и влево уходили ряды кресел. Смутно белел экран. В серой полутьме можно было разглядеть маленькую дверь вправо от экрана. Сенатор резко отстранил карлика и нетерпеливо толкнул дверь. Она легко открылась. За дверью тоже была тьма, но ее чуть подсвечивал неяркий красновато-желтый свет, похожий на свет потухающих углей. Сенатор шагнул через порог и теперь разглядел, что тлеющий свет шел не от углей в камине, а от больших радиоламп. Их золотистый свет перемежался зелеными и красными глазками индикаторов и сигнальных лампочек.
Вдруг вспыхнул яркий свет. И когда сенатор открыл ослепленные светом глаза, он увидел, что почти рядом с ним стоит худой, высокий и тонкий, как жердь, рыжеватый человек с большими голубыми и по-детски круглыми глазами. Рука человека еще лежала на выключателе. Это он зажег свет.
Властелин звуков
Большая комната, в которую вошли сенатор и Бакмайстер, не имела окон. Видимо, это был конец зрительного зала, отгороженный сплошной стеной, но с вырезом для экрана. Большую часть комнаты занимала машина невиданной конструкции. С первого взгляда бросились в глаза два огромных, в человеческий рост, металлических конуса, привинченные к кронштейнам осями параллельно полу, на расстоянии метра один от другого. Конусы были повернуты друг к другу вершинами. От конусов поднимались кверху два толстых, изолированных провода и через отверстие в потолке уходили куда-то наружу.
«Там, на крыше, антенна, — подумал сенатор и почувствовал, как холодок побежал у него по спине. — Так вот она, таинственная машина, обеззвучившая Нью-Йорк! Вот та загадка, разгадать которую не смогли ученые всего мира!»
Горбун выступил из-за спины сенатора и, ткнув пальцем в худого длинного человека, отошел в сторону, как бы говоря: «Я сделал все, что нужно. Моя миссия окончена». Голубоглазый человек только теперь заметил Бакмайстера, и в его по-детски чистых глазах появилось сложное выражение испуга, ненависти и презрения.
Сенатор подошел к висевшему на стене киноплакату, изображавшему Жанну Гарлоу в купальных трусиках, и написал на голых ногах кинозвезды:
«Вы Оле Холгерсен?»
Голубоглазый утвердительно кивнул головой.
Снова на ножках Гарлоу сенатор нацарапал пляшущими от волнения буквами:
«Вы обеззвучили Нью-Йорк?»
Холгерсен опять ответил кивком.
«Сейчас же прекратите действие машины! Я — сенатор Аутсон».
Холгерсен, прочитав приказание сенатора, пожал плечами и, улыбаясь, перевел едва заметный рычажок. Конусы легко повернулись друг к другу основаниями и…
Сенатор ясно услышал тяжелое дыхание горбуна.
— Что это? — крикнул сенатор, и, как всегда, услышал свой голос. — Я слышу!
— Да, мы слышим. Вот наша… его машина, — прохрипел горбун, бросаясь вперед. Холгерсен преградил ему дорогу. Усталое, молодое лицо его судорожно задергалось.
— Я ждал этого, Бакмайстер, я ждал, что вы будете травить меня и затравите. Доллар, доллар, только доллар! О, боже!
Карлик все еще рвался к Холгерсену, но сенатор отбросил Бакмайстера к двери и, схватив Холгерсена за руку, рявкнул, наслаждаясь звуками собственного голоса:
— Да вы чародей, кудесник! Знаете ли вы это, дорогой мой?!
Холгерсен ответил спокойным, очень усталым, без всяких интонаций голосом:
— Да, сэр, знаю. Не кудесник, не чародей, но работа моя доведена до конца. Это — цель моей жизни.
Спокойный, отнюдь не польщенный сенаторскими похвалами, Холгерсен начал раздражать Аутсона. «Изобретателишку надо сразу же поставить на место!»
— А вы знаете, скольких жертв стоил ваш неосторожный опыт с обеззвучиванием Нью-Йорка? — зловеще спросил сенатор.
— Жертв? — Холгерсен поднял на сенатора усталые глаза. — Каких жертв?
— Человеческих, конечно! — жестко ответил Аутсон. — Сотни людей растоптаны и раздавлены на улицах!
— Сотни людей растоптаны и раздавлены? — шепотом переспросил Холгерсен и вдруг отчаянно закричал: — Нет, нет! Неправда! Вы лжете!
— Я говорю правду! — безжалостно сказал сенатор. — В оглохшем Нью-Йорке была чудовищная паника.
Холгерсен обессиленно опустился на стул. Его колотил нервный озноб. Сенатор ждал.
— Видит бог, я не хотел этого, — глухо проговорил изобретатель. В глазах его были ужас и мука. — Прошу вас, верьте мне. Я не знал, я не предполагал такого несчастья. Я не учел того обстоятельства, что внезапная глухота испугает людей, а следовательно, вызовет панику. За эту неделю я ни разу не выходил отсюда, следя за работой моего обеззвучивателя. Я почти не спал эту неделю. А окон, как видите, у меня нет. Я не мог видеть, что происходит на улицах города. Я припоминаю, что в начале опыта мой старый Сэм прибежал перепуганный до смерти и пытался что-то объяснить мне жестами. Но я лишь посмеялся над ним, так как счел это за вполне понятный испуг от внезапно наступившей глухоты… Он-то видел, что творилось на улицах оглохшего Нью-Йорка, но не мог сообщить мне этого толком, так как неграмотен, а я был слишком занят… Да, я виновник тысячи смертей… За это я готов ответить, когда и как угодно… Но, я не хотел этого… я не хотел!..
«Вот удобный момент», — подумал сенатор. Он ласково и успокаивающе положил руку на плечо изобретателя.
— Ни о какой вашей ответственности не может быть и речи. Вы уже прощены. За это ручаюсь я, сенатор Аутсон. Но объясните, ради создателя, почему вы ютитесь в этом паршивеньком кино? Вы здесь работаете, вы нуждаетесь?
— Нет, это мой кинотеатр. Я купил его на остатки моих средств. Здесь мне очень хорошо работалось. Неудобство одно — приходилось по десять раз в день смотреть один и тот же фильм. Да еще с обратной стороны! От медовой улыбки Ирины Дунн, от деревянного смеха Роберта Тейлора, от подхалимских взглядов Дика Поуэлла меня будет всю жизнь тошнить! Но зато я мог знать, когда кончается фильм, и успевал выключить мои испытательные стенды, чтобы рев их моторов не вызвал подозрений.
— Сколько неудобств! Вечный страх, натянутые нервы, вредные для здоровья условия работы! Зачем все это? — сожалеюще покачал головой Аутсон. — Можно было подыскать помещение для прекрасной лаборатории!
— В Америке, при всеобщем повальном шпионстве друг за другом, это невозможно. В мою работу начали бы совать носы, вынюхивать, выслеживать!
— Правительство Соединенных Штатов создало бы для вас лучшую в мире лабораторию. И не одну — две, а пять, десять! У вас были бы сотни научных и технических сотрудников. И ни один паршивый нос не сунулся бы в вашу работу!
Холгерсен медленно покачал головой.
— Это невозможно.
— Для Америки нет ничего невозможного.
— А я говорю — невозможно! — с раздраженным упрямством повторил изобретатель. — Вы, сенатор, назвали меня кудесником, чародеем. Да, в руках ученого — волшебная магическая палочка. Взмах — и открыта еще одна тайна мироздания! Но тотчас, как только тайна открыта, у кудесника отберут магическую палочку.
— Кто отберет?
— Вы.
— Я вас не понимаю, мистер Холгерсен. Давайте говорить по-деловому.
— Молчите, сенатор, и слушайте! — резко оборвал Аутсона Холгерсен. — Когда я работал над своим изобретением, я не задумывался над его практическим применением. Кое-что, правда, мне мерещилось… Может быть, санаторий тишины… лечение тишиной… Но это в очень большом отдалении. Мою работу я сравнил бы с вдохновенным творчеством поэта. Я создавал поэму о безграничности человеческих познаний! О взлетах человеческого ума в сияющие высоты знания! Вот как я работал…
Холгерсен подошел вплотную к сенатору:
— А вы, сэр, уже нашли, конечно, где и как пустить в ход мое изобретение? Признайтесь!
— Конечно, мистер Холгерсен. Ваш обеззвучиватель усилит Атлантическую мощь. Вы тоже примите участие в гигантском сражении за свободный мир. Великое, почетное, почти божественное назначение!..
Холгерсен тихо, горько рассмеялся.
— Я этого ждал. Чем больше познает человек, тем это опаснее для всего человечества. Вот — ужасная истина! Но она открылась мне слишком поздно. За это я и наказан. И по заслугам! Я жил с повязкой на глазах, и некому было сорвать эту повязку. Я боялся близости народа. Я был уверен: ученому нужна окрыленность, утонченность ума, ученый должен уйти в хрустальную башню своей лаборатории.
— Неужели ученый должен советоваться с толпой? — угрюмо пробормотал молчавший до сих пор Бакмайстер.
Холгерсен метнул в его сторону быстрый, ненавидящий взгляд.
— Да, и советоваться с народом. А главное, искать в народе веру, силу и защиту. Не скажу, что я вообще не думал о народе. Нет, я мечтал мощью науки освободить человечество от изнурительного труда, я мечтал, что ученые создадут на земле рай, я мечтал и верил в безоблачное грядущее. Я работал, мечтал и отгораживался от народа. И вот теперь я, бессильный одиночка, схвачен моими злейшими врагами. Они отнимают у меня мою магическую палочку.
— Друг мой! — необыкновенно тепло сказал сенатор, широко раскинув руки, словно намереваясь обнять изобретателя. — Что за мрачные мысли? И какие несправедливые слова! Никто ничего не думает отнимать у вас. Наоборот! За ваше изобретение вы получите колоссальную сумму! Назовите сами цифру, которая вас устраивает. Смотрите, не продешевите. Мы торговаться не будем.
Холгерсен снова покачал головой.
— Меня уже вынуждал продать изобретение вот этот негодяй. — Он указал на Бакмайстера. — А когда я отказался, он пытался удушить меня во время сна хлороформом и украсть мои записи и чертежи.
Округлившиеся от удивления глаза сенатора остановились на Бакмайстере. Горбун испуганно съежился.
— Я вынужден был бежать и, скрываясь от него, здесь, в Нью-Йорке, закончил свою работу над машиной. Но она не продается.
— Я понимаю вас, мистер Холгерсен, — сочувственно сказал Аутсон. — Вы патриот, и передадите изобретение своей родине, Швеции? Тогда я умолкаю. Понимаю, сочувствую и благословляю!
Холгерсен зло улыбнулся.
— Благословляете передать моей родине? А через пару месяцев Америка отберет мое изобретение у Швеции! Или соблазняя долларами, или угрожая кулаками! И тогда мой труд опять-таки будет служить делу войны. Этого не будет, сенатор! Я не хочу помогать войне! — Голос Холгерсена зазвучал нежностью. — Есть на земле страна, великая страна! Ей я с радостью отдал бы свое изобретение, и там оно служило бы делу мира. Но я знаю, вы не выпустите меня и мое изобретение из Америки. А коли так, пусть оно не достанется и вам. Смотрите! — крикнул Холгерсен и нажал кнопку на стене.
Сияющий, невыразимой красоты фиолетовый луч сверкнул между опять повернувшимися с легким треском конусами. И тотчас же вспыхнула изоляция на проводах, уходящих под потолок, горящими хлопьями падая на пол. Блестящая поверхность конусов потускнела, потом почернела, как вороненая сталь.
Сенатор почувствовал, как крупные капли пота скатились с его лба. Горбун же бессильно опустился на стул, со стоном закрыв руками исказившееся лицо.
Аутсон решил испробовать последнее средство.
— Если вы уступите нам свои чертежи, — закричал он, — мы уплатим вам сумму, равную половине годового бюджета ФБР. Это колоссальная сумма! В противном случае — газовая камера за массовое убийство нью-йоркцев!
— Я знал, в какой стране нахожусь и с кем мне придется иметь дело, — тихим, безжизненным голосом проговорил Холгерсен. — Все чертежи и расчеты мною сожжены неделю назад, когда я убедился, что опыт удался. И я готов ответить за мое невольное преступление. Я буду здесь ждать полисменов. А пока… — Он хлопнул в ладоши. Вошел старик-негр.
— Сэм, проводите этих господ. Они желают уйти. Злорадно улыбнувшись, негр широко распахнул дверь. Выйдя на улицу, сенатор остановился, озаренный внезапной мыслью: «А все же кое-какой выигрыш у нас есть. Сейчас же назначаю пресс-конференцию и заявляю: „Комиссия Конгресса раскрыла загадку нью-йоркской глухоты. Мы имеем неопровержимые доказательства, что это дело Москвы! Подробности сообщены не будут. Это — государственная тайна. Американцы, усиливайте оборону нашей родины!..“»
Все в порядке
…Узнав, что оглох не один он, а весь Нью-Йорк, Джим Картрайт успокоился. Он нашел даже, что эта глухота не такая уж скверная вещь. Благодаря ей можно хорошо отдохнуть, полениться, что удается не так часто бедному клерку.
И в этот день, 21 октября, Джим предавался сладкому ничегонеделанию. Задрав ноги высоко на подоконник, он удобно развалился на диване со старой газетой в руках.
Но газета наводила скуку. Джим сочно зевнул. И замер от испуга. Он ясно услышал свой зевок. Быстро сбросил ноги с подоконника и услышал, как каблуки глухо ударились о пол.
— Да ведь я слышу! — крикнул Джим. Его тенорок звучал, как всегда.
Бросившись к окну, Джим растворил его и перевесился через подоконник, прислушиваясь.
Нью-Йорк гудел, но еще слабо и как-то нерешительно. Гулко топоча по тротуару тяжелыми сапогами, пробежал рабочий. Он кричал:
— Я слышу! Я снова слышу!
За ним неслась женщина, размахивая руками, как безумная, плача, смеясь и крича что-то бессвязное. Где-то близко-близко бахнул колокол, и звон его больно ударил по отвыкшим от звуков ушам.
Целый час лежал Джим на подоконнике, жадно вслушиваясь в шум оживающего Нью-Йорка.
Но октябрьский холод давал себя чувствовать. Нехотя слез Джим с подоконника и затворил окно. Подошел к столу, вытащил записную книжку. Подумал и написал под старой записью от 14 октября:
«21 октября в 4 часа дня Нью-Йорк снова зашумел. Слышны все звуки. Загадочная глухота длилась ровно неделю. Инцидент исчерпан».
Поставив точку, Джим сладко зевнул и громко, наслаждаясь своим голосом, сказал:
— Не опоздать бы завтра в контору…
Николай Томан СЕКРЕТ «КОРОЛЕВСКОГО ТИГРА»
I
В лесу было тихо. Косые лучи утреннего солнца едва пробивались сквозь густую листву.
Отделение разведчиков старшего сержанта Нечаева направлялось к полигону. Путь был не торный, но зато самый короткий, и к тому же Нечаев хотел лишний раз потренировать своих солдат в ходьбе по лесу, так, чтобы не трещал валежник, не шумели раздвигаемые ветви.
Чем ближе к опушке, тем чаще попадались молодые, пятнадцатилетние березки, веселым хороводом обступившие своих отцов и матерей. Все чаще деревья расступались, образуя полянки ромашки, все чаще разведчикам приходилось обходить круглые ямы, заросшие травой.
— Воронки от бомб, — сказал Нечаев, — стокилограммовки. Скоро — бывший передний край.
— И деревья покалечили, — почему-то совсем тихо произнес Ефетов. «Рыжик» — прозвали его в роте за щедро усыпанный крупными веснушками нос.
Впереди стояли старые обезглавленные клены и дубы, вершины их были срезаны снарядами, надломленные сухие ветви безжизненно свисали вниз.
До этого солдаты были веселы, беззаботно любовались красотой леса, радовались первым лучам солнца, но и воронки, и пораненные деревья — эти немые свидетели недавней войны — согнали улыбки с лиц, невольно заставили умолкнуть.
Сразу за опушкой путь преградили полуобвалившиеся траншеи, размытые водами нескольких весен. И здесь были воронки. В одной из них торчал остов разбитой противотанковой пушки, меж останками которой пробивались травы и голубые цветы.
Перед траншеями стояло несколько подбитых фашистских танков и бронетранспортеров, которые еще не успели увезти в переплавку. Защитная краска на них или обгорела, или пожухла и облупилась от времени.
— Передохнем малость у «королевского тигра», — скомандовал Нечаев и остановился у громадной, неуклюжей машины. Бортовая броня «тигра» была в глубоких вмятинах, длинный ствол орудия с широким надульником уткнулся в землю.
Солдатам не раз приходилось проходить здесь, и все же они с любопытством осматривали некогда грозную машину.
— Здоров зверь! — сказал Ефетов, ощупывая броню.
— Здоров не здоров, а с копыт долой, — усмехнулся ефрейтор Казарин.
Нечаев, по привычке опытного разведчика все рассматривать, все примечать, быстро оглядел машину и насторожился.
На фронте командир взвода, в который попал Нечаев, сразу угадал в нем будущего разведчика.
«Удивительно, — сказал командир, — откуда у вас, городского жителя, талант следопыта?»
Смутившись, Нечаев ответил, что, вероятно, цепкость глаза выработалась у него на ответственной государственной службе — он работал на заводе приемщиком готовых изделий.
Богатый опыт накопил Нечаев за войну. И теперь терпеливо учил своих солдат.
— А ну-ка, товарищ Ефетов, — обратился старший сержант к молодому разведчику, — дайте-ка мне анализ этого фашистского зверя.
Ефетов обошел машину и хотел уже было заглянуть внутрь нее, но Нечаев остановил его:
— Хватит, товарищ Ефетов. Что о шкуре зверя скажете?
— Окраска камуфлированная… Серьезных повреждений на броне незаметно, — неуверенно ответил солдат.
— Так, так! — Старший сержант нахмурился. — Серьезных повреждений незаметно, однако хищник сложил все же голову. А вы что скажете, товарищ Казарин?
Ефрейтор Казарин, невысокий, немного угловатый парень, привыкший все делать обстоятельно, медленно обошел машину и не спеша доложил:
— На броне имеются следы нескольких попаданий снарядов, но нет ни одной пробоины. Шкура на редкость прочная… Полагаю, товарищ старший сержант, что его таранили наши танки. Вот вмятины в борту… От этого, наверное, мотор вышел из строя.
— Резонно, — согласился Нечаев, — однако наблюдение неполное. Что вы еще заметили?
Казарин молчал. Ему казалось, что он ничего не оставил без внимания.
— На броне танка бубновый туз нарисован, — вставил Ефетов.
— Туз — пустяки, — недовольно поморщился Нечаев. — Чуть не каждый день мимо этого «тигра» ходим, а главного вы не заметили. На люк обратили внимание? Вчера был плотно закрыт, а сегодня крышка его открыта и чуть свернута набок, будто одна из петель оторвана… А ну, Ефетов, взберитесь на танк!
Шустрый Ефетов быстро взобрался на громоздкий корпус танка и встряхнул крышку люка.
— Так точно, товарищ старший сержант! Правая петля крышки люка подпилена. Следы подпилки свежие. Вот даже опилки. — Он потер что-то между пальцами, понюхал. — Олифой пахнет. Ножовкой кто-то орудовал и олифой ее смазывал, чтобы закалка стали не отпускалась… Штука знакомая: я ведь до армии слесарем работал…
«Странно, — подумал Нечаев, — подбитые танки давно уже увозят на склады металлолома, но увозят их туда целиком. Зачем: же нужно отпиливать крышку?..»
II
Тема сегодняшних занятий — «Техника наблюдения за полем: боя». Однако прежде чем расположить свое отделение в специально отрытых окопчиках и приступить к наблюдению за движущимися макетами, Нечаев обратил внимание солдат на какой-то небольшой: предмет, блеснувший в кустах под лучом солнца.
— Принесите-ка вон ту штуку, — приказал он Ефетову. Разведчик проворно побежал выполнять приказание. Когда он вернулся, все с удивлением увидели в руках Рыжика пустую консервную банку.
— Так-с! — Старший сержант внимательно оглядел банку и вернул ее солдату. — Что можете сказать об этой посудине, товарищ Ефетов?
Ефетов осторожно, словно это была граната, взял банку и осмотрел ее со всех сторон. Этикетки на банке не было, не успевшая заржаветь жесть тускло поблескивала.
— Так что же? — нетерпеливо спросил Нечаев.
Ефетов поднес банку к носу и несколько раз с шумом втянул в себя воздух.
— Печенкой трески пахнет…
— И только?.. А вывод?..
— Запах свежий, — продолжал Ефетов. — Видно, кто-то закусывал совсем недавно…
Прислушиваясь к разговору старшего сержанта с Ефетовым, их окружили остальные разведчики. Заметив среди них Казарина.
Нечаев кивнул ему:
— А вы что скажете, товарищ ефрейтор?
Казарин взял банку из рук Ефетова и тоже деловито понюхал ее.
— Во-первых, подтверждаю, что в банке была печенка трески, — уверенно заявил он. — Во-вторых, лакомился ею человек не военный.
— Почему так решили? — приподнял брови Нечаев.
— Печенка трески не входит в армейский сухой паек. Солдату, во всяком случае, не положено. А офицеру нет нужды закусывать здесь под кустиками. Тут ни жилья поблизости, ни дорог.
— Правильный анализ, товарищ Казарин, — одобрительно улыбнулся Нечаев. — Учитесь, Ефетов…
После полудня, возвращаясь с полигона и проходя мимо «королевского тигра», Нечаев снова остановил свое отделение.
— А ну, товарищ Ефетов, обследуем-ка еще разок этот «труп». Вслед за Ефетовым и сам Нечаев взобрался на танк. Вдвоем они легко открыли крышку люка и сразу заметили, что теперь чуть подпилена и вторая петля.
— Так-с, так-с, — пробормотал старший сержант, — выходит, пока мы были на полигоне, и второй петлей кто-то занялся…
Нагнувшись, Нечаев поднял небольшой обломок стальной пластинки и протянул ее Ефетову.
— Что такое, по-вашему?
— Обломок полотна ножовки! — воскликнул Ефетов. — Утром его тут не было. Я с этого самого места опилки сгребал.
— Выходит, так, — заключил Нечаев. — Первую петлю отпилил кто-то спокойно, а вторую только начал — сломал ножовку, выходит, торопился…
На обратном пути в часть старший сержант думал о подпиленной крышке люка. Раза два он вынимал из кармана обломок ножовки и внимательно рассматривал его. На ножовке, видимо, была вытиснена марка завода, но на обломке остались только три буквы. Их сочетание показалось старшему сержанту необычным.
— Товарищ Казарин, — обратился он к ефрейтору, — вы у нас немецким владеете. Не сообразите ли, что за слово тут было?
Он протянул разведчику обломок ножовки, на котором стояли три буквы — ТНЕ…
Казарин посмотрел на буквы, наморщил лоб.
— Не соображу что-то, слово явно не полное, к тому же, видимо, не немецкое, а английское. Скорее всего, буквы означают определенный артикль, который в английском языке употребляется перед именами существительными.
Старший сержант задумался. Чутье подсказало ему, что дело тут нечистое. Уж очень непонятно, кому и зачем могла понадобиться крышка люка. Профессия разведчика приучила Нечаева во всех подозрительных случаях принимать самостоятельные решения. И он неожиданно остановил отделение, приказав Ефетову:
— Товарищ Ефетов, возвращайтесь немедленно назад. Задача: вести скрытное наблюдение за «королевским тигром»…
Возвратившись в часть, Нечаев тотчас доложил командиру взвода лейтенанту Львову о своих подозрениях и передал ему обломок ножовки.
— Поступили вы правильно, — одобрил лейтенант действия Нечаева, — хотя дело-то, может быть, и не такое уж таинственное. Могла ведь эта крышка понадобиться кому-нибудь из танкистов, что стоят неподалеку от нас. Или, может быть, из склада кто-нибудь заинтересовался ею.
— Им незачем было делать это украдкой, — заметил Нечаев. — А тут кто-то тайком действует: торопился, сломал ножовку. К тому же буквы эти…
— Сломать ножовку о броню можно и не торопясь, а в буквах тоже нет ничего удивительного, — усмехнулся лейтенант. — Эти ТНЕ могут входить и в состав русского слова, а потом у нас имеется и заграничный инструмент.
— Едва ли русское, — с сомнением произнес Нечаев. — Я что-то не могу придумать такого слова, которое бы подходило по своему смыслу для надписи на полотне ножовки. Все мое отделение над этим голову ломало, а комсомолец Казарин — лучший кроссвордист во всей роте.
— Тогда вот что, товарищ Нечаев, — решил лейтенант, — я доложу командованию, свяжемся с танкистами и наведем справку в складе, а вы тем временем сходите к Ефетову…
III
Подойдя к подбитому танку, Нечаев не обнаружил возле него Ефетова. Лишь после того, как старший сержант негромко крикнул кукушкой, Ефетов вылез из кустов.
— Докладывайте, товарищ Ефетов.
— Происшествий, товарищ старший сержант, можно сказать, почти не было, так как я, кажется, спугнул этого типа, — смущенно ответил Ефетов.
— То есть как это спугнул?
— Нечаянно спугнул. Решил подойти к танку незаметно, большую петлю сделал. Зашел со стороны вон тех кустов и как раз на типа этого напоролся. Сидит он себе у кустов, отдыхает вроде. По виду самый натуральный прохожий. Увидел меня, не смутился даже. Поздоровался, спросил, который час. Потом встал и хотел идти, а я попросил у него закурить, чтобы получше разглядеть его. Он дал мне папиросу и на мой вопрос, далеко ли путь держит, ответил, что идет в МТС. Хотел было я документ у него проверить, да решил, что этим все дело испортить можно: насторожится. А если это тот самый тип, его надо с поличным поймать. Правильно я рассудил, товарищ старший сержант?
— Пока правильно. Рассказывайте дальше.
— Потом, когда он скрылся за деревьями, забрался я на танк, осмотрел крышку. Она все в том же положении. Выходит, ее никто не трогал с тех пор, как мы с вами ее осматривали. Тогда я замаскировался, думал: вдруг вернется человек. Но он больше не появлялся.
Нечаев промолчал, однако Ефетов слишком хорошо знал своего командира, чтобы не заметить его досады.
— Я и сам теперь понимаю, что не так нужно было действовать, — сокрушенно вздохнул он.
— Конечно, не так, — недовольно произнес Нечаев. — Незачем было вам на танк взбираться. Вы бы сделали вид, что уходите, а потом из-за прикрытия повели бы наблюдение. «Прохожий», если это тот самый, хитрее вас оказался. По-видимому, он спрятался и наблюдал за вами, а когда вы на танк полезли, сразу все сообразил… Теперь ищи ветра в поле!
Ефетов был самым молодым в отделении Нечаева, и хотя старался он больше всех, военная наука давалась ему нелегко. Он частенько допускал ошибки и, по убеждению командира взвода, не годился в разведчики. Только по просьбе Нечаева его до сих пор не отчислили из разведчиков. Ефетов знал об этом и изо всех сил стремился оправдать доверие старшего сержанта, который дал слово сделать из него настоящего разведчика.
Вот почему сейчас Ефетов был настолько удручен своим промахом, что на вопросы старшего сержанта отвечал неточно и неуверенно.
— Какие приметы «прохожего»?
— Особых примет не имеется… Так, средняя личность. Роста высокого, блондин… Костюм поношенный, серый, тоже без особых примет. Брюки заправлены в яловые сапоги… Да, вот во рту у него нескольких зубов не хватает. Это точно.
Старший сержант подошел к танку, осмотрел со всех сторон, взобрался на него, осторожно открыл крышку люка и влез внутрь.
Ефетов, сокрушенно вздыхая, посматривал по сторонам и прислушивался к движениям старшего сержанта в танке. Минут через пять Нечаев показался в отверстии люка и окликнул Ефетова:
— Какими папиросами угощал вас «прохожий»? Не «Беломором» ли?
— «Беломором», — удивился Ефетов. — Как вы догадались? Старший сержант выбрался из люка и спрыгнул на землю.
— Знаком вам? — подал он Ефетову окурок.
— Точно такой я недавно выбросил, «Беломорканал»!
— Какой вывод из этого следует?
— Ясно, товарищ старший сержант: подпиливал крышку этот самый «беззубый».
— А может, совпадение? «Беломор» многие курят…
— Да нет, едва ли… — усомнился Ефетов. — Тут редко кто посторонний ходит.
— Вот ведь можете же вы рассуждать логично, товарищ Ефетов, — удовлетворенно проговорил Нечаев, — да не всегда, к сожалению…
— Если бы на войне все это было… там бы я… — начал Ефетов.
— Бросьте! — раздраженно перебил Нечаев. — Кто в мирное время — ротозей, тот и на войне не шибко соображает… Насмотрелся я на таких…
Ефетов совсем приуныл:
— Не получится, видно, из меня разведчика…
— От вас зависит. Пока не очень получается… Пойдемте, сегодня караулить «тигра», пожалуй, бесполезно. Вряд ли теперь к нему придет кто-нибудь…
Всю дорогу старший сержант молчал, занятый своими мыслями.
— Хорошую вы школу прошли, товарищ старший сержант, — сказал вдруг Ефетов. — Только вам ведь теперь все это ни к чему.
— То есть как это? — повернулся к нему Нечаев.
— Демобилизуетесь скоро…
— И что же из этого? Разве только на военной службе глаз нужен?.. Нам в любой обстановке острый глаз необходим… Ну, ладно, хватит об этом! Слушайте приказание, товарищ Ефетов: осторожно возвращайтесь к танку. Замаскируйтесь как следует, да не будьте больше шляпой. Я увел вас от танка нарочно, чтобы обмануть вашего «прохожего» на случай, если он наблюдал за нами. Ясна задача?..
IV
Когда Нечаев пришел в часть, дежурный приказал ему срочно явиться к командиру роты.
Командир роты капитан Карпов тотчас же принял старшего сержанта.
— Расскажите мне, товарищ Нечаев, возможно обстоятельнее о «королевском тигре».
Докладывая подробности странного посягательства; на крышку танкового люка, старший сержант заметил на столе обломок полотна ножовки.
— Узнаете эту штуку? — спросил капитан.
— Так точно, товарищ капитан.
— Обломок весьма любопытный, — заметил Карпов. — Не от русской и не от немецкой ножовки. Английское либо американское изделие. Инженер-майор Тюльпанов говорит, что такой ножовкой можно пилить самую твердую сталь. Она называется «THE JAW CUTTING» — по-английски «режущая (или секущая) челюсть».
Зазвонил телефон. Капитан снял трубку. Разговор был короткий.
— Меня вызывают, но вы еще понадобитесь. Никуда не отлучайтесь, — приказал Карпов.
Нечаев вышел вслед за капитаном в канцелярию, сел за стол и начал перелистывать свежий номер «Советского воина».
— Фотографию свою в окружной газете видели? — спросил ротный писарь.
— Какую фотографию? — не сразу понял Нечаев.
— Вы таким героем на фотографии получились, — улыбнулся писарь. — А под снимком подпись: «Отличник боевой и политической подготовки такой-то». Я вам сейчас покажу.
Однако Нечаеву не удалось посмотреть на собственный портрет. Снова раздался звонок. Писарь подошел к телефону и, подозвав жестом Нечаева, передал ему трубку.
— Товарищ Нечаев, — услышал старший сержант голос капитана, — немедленно явитесь в штаб части…
На крыльце штаба его ждал дежурный офицер.
— Нечаев? — спросил он.
— Так точно.
— Срочно к подполковнику…
Подполковник Вольский, пожилой мужчина, с коротко подстриженными волосами и глубоким шрамом на щеке, встретил Нечаева приветливо:
— Здравствуйте, старший сержант! Поздравляю вас с высоким званием отличника боевой и политической подготовки. Портрет свой в окружной газете видели? Поглядите. — С этими словами он протянул Нечаеву газету и минуту спустя уже официальным тоном добавил: — А теперь к делу. Номер подбитого танка запомнили?
— Так точно, товарищ подполковник. Сто пятнадцать дробь ноль четыре.
— И бубновый туз?
— Так точно, и бубновый туз.
— Прекрасно, — удовлетворенно произнес Вольский, поглядев на сидящего рядом капитана Карпова, — как раз то, что нам нужно. Возьмите, товарищ Нечаев, кого-нибудь из своих разведчиков и немедленно выставьте возле танка охрану. На ночь, при смене караулов, я прикажу установить там постоянный пост.
— Я уже поставил «секрет» возле этого танка, товарищ подполковник, — доложил старший сержант.
— Правильно поступили, — удовлетворенно произнес Вольский. — Теперь снимите этот «секрет» и выставьте официальный пост.
— С чего это такой интерес в дивизии к подбитому танку? — спросил Карпов, когда ушел Нечаев.
— Пока не знаю, — пожал плечами Вольский. — Шифровка штаба дивизии крайне лаконична: предписывают немедленно поставить охрану возле подбитого танка, похожего по типу на «королевского тигра», с номером сто пятнадцать дробь ноль четыре и бубновым тузом. И все…
V
«Все ли там в порядке у Ефетова?» — тревожно думал Нечаев, пробираясь вместе с Казариным по лесной чаще. После разговора с подполковником он понял, что подбитый танк представляет какой-то особый интерес.
Только выйдя на опушку и сразу увидев откинутую, слегка покосившуюся крышку люка, возвышающуюся над корпусом танка, Нечаев успокоился и подал условный сигнал.
Ефетов тотчас выбрался из кустарника.
— Все в порядке, товарищ старший сержант. Крышка на месте. Я на этот раз умнее был. Спрятался в кустах подальше от танка, но крышку верхнего люка все время на прицеле держал.
— Теперь нет нужды маскироваться, — сказал Нечаев. — Возле танка устанавливается официальный караул. Товарищ Казарин, примите от Ефетова пост.
Ефрейтор не спеша обошел вокруг танка, затем взобрался на него, через люк спустился внутрь машины и почти тотчас же выскочил назад.
— Крышка нижнего лаза исчезла, товарищ старший сержант? Точно помню: была на месте, когда я в первый раз машину осматривал.
Нечаев одним махом вскочил на танк, быстро влез в него — крышка нижнего лаза в самом деле исчезла.
— Опять, значит, я прошляпил! — испуганно прошептал Ефетов. — А ведь глаз не сводил… Позицию, значит, неверно выбрал. За верхней крышкой только наблюдал, а весь корпус был от меня кустами скрыт. Что же делать-то?..
— Что за причитания? — вспылил Нечаев. — Действовать нужно, а не причитать!
— Почему же тип этот сразу нижнюю крышку не взял? — осмелился спросить Ефетов. — Она и размером меньше и отпиливать ее внутри танка безопаснее.
— Размеры его, видимо, не очень смущали, — ответил Нечаев. — Крышку можно и увезти на чем-нибудь. Зато работать вверху было куда удобнее… А когда он догадался, что за ним следят, тут уж не до удобств, приходилось поторапливаться.
— Кто торопится, тот и ошибки совершает, — заметил Казарин.
— Пока ошибок не видно, — возразил Нечаев. — Ефетова, однако, он ловко обвел.
— А все-таки, — повторил Казарин, — раз уж он начал торопиться, не миновать ошибок. С крышкой-то люка неладно у него, получилось: хотел отвезти ее на чем-то, а теперь наверняка на себе тащит. Уже помеха, уже не так, как было задумано.
— Проверить кусты, — распорядился Нечаев. — Может быть, он припрятал ее где-нибудь. Посмотрите, нет ли где поблизости свежих следов лошади или какой-нибудь тележки. Хотя едва ли днем он осмелится на лошади приехать.
Разведчики поспешили выполнять приказание, а Нечаев, взобравшись на танк, осмотрелся по сторонам.
«Удивительная вещь, — кому могла эта крышка понадобиться?1 Будь бы деталь орудия или пулемета, а то крышка люка…»
Старший сержант даже плюнул с досады. Сверху ему видно было, как шевелились кусты, из которых то там, то здесь появлялись вдруг штыки винтовок разведчиков.
Поиск длился десять минут. Нечаев подумал, что, вероятно, найти ничего не удастся. Нужно что-то срочно предпринимать. На едва он собрался окликнуть разведчиков, как из кустов вышел Ефетов. В руках у него была скомканная газета.
— Вот, — сказал он, протягивая спрыгнувшему с танка старшему сержанту газету. — Нашел в кустах, на том месте, где встретил того типа. Полагаю, что это его газета.
— Полагаете или можете доказать?
— Могу и доказать.
Ефетов расправил скомканный газетный лист и понюхал его.
— Печенкой трески попахивает. Баночку, которую мы утром в кустах обнаружили, помните?
В это время из кустов вышел и Казарин.
— Допустим, так, — согласился Нечаев, — допустим, что этой газетой вытирал руки именно тот человек, который ел консервы. Но из этого еще не следует, что именно он утащил крышку люка.
— А кто же еще мог тут консервы кушать? — спросил Ефетов.
— Не очень-то убедительно, — заметил Нечаев.
— Почему не убедительно, товарищ старший сержант? — спросил Казарин. — Мы ведь в прошлый раз решили, что консервы не мог здесь есть военный, а гражданские лица очень редко тут бывают. Если допустить, что независимо друг от друга здесь были почти одновременно два гражданских лица — человек, евший консервы, и другой, отпиливший крышку люка, — это будет случай почти исключительный. И зачем вообще второму человеку приходить сюда? Под кустиком закусить?
Не ответив, Нечаев развернул скомканную газету и тихонько свистнул.
— Совсем любопытно. Газета калининградская.
— И мы калининградскую получаем, — вставил Ефетов.
— А вы поглядите, за какое число. Вчерашняя! Мы вчерашнюю только с вечерним почтовым поездом получим. А эту, значит, утренним, пятичасовым скорым кто-то привез. И если он поездом приехал, поездом и уедет.
Нечаев почти не сомневался теперь, что человек, евший консервы и укравший крышку люка, — одно и то же лицо. То, что он прибыл из Калининграда и туда же, видимо, уедет — вещь вполне вероятная.
Прикинув все это, Нечаев решил немедля действовать на свой страх и риск.
— Слушайте внимательно. Решение такое: ефрейтор Казарин остается у танка на посту, рядовой Ефетов следует в часть и докладывает обо всем командиру взвода. Я направляюсь на станцию. Вполне возможно, что этот тип попытается перебросить крышку люка товарным порожняком. До станции недалеко, может быть, я его и настигну.
Одно смущало Нечаева: пистолета у него не было, а винтовку свою он передал Ефетову — действовать с ней в такой обстановке неудобно: слишком бы уж она бросалась в глаза.
— Может, следы его поискать? — спросил Ефетов, вглядываясь в землю.
— Мы сами тут столько натоптали, что ничего не разобрать, — вставил Казарин. — Если бы он был в ботинках, а ты сам же говорил: на нем яловые сапоги. И у нас такие же…
— Выполняйте приказание, — сказал Нечаев.
VI
Когда из-за деревьев показались дома железнодорожного поселка, Нечаев убавил шаг. Нельзя, чтобы кто-нибудь заметил, что он торопится и волнуется.
Станция была небольшая, но на ней из-за загруженности соседней, узловой станции часто стояли товарные составы, среди которых было много порожняка. Сесть незамеченным не представляло особого труда. Нечаев не сомневался поэтому, что «беззубый», как мысленно называл он похитителя крышки люка, именно так и поступит.
На этот раз на станции стояло всего два поезда, оба — товарные порожняки. Один из них направлялся в сторону Каунаса, другой — в Калининград.
Длинные составы из вагонов и платформ невозможно было охватить одним взглядом. Старший сержант пошел вдоль первого, направляющегося на Каунас.
Двери большинства вагонов были заперты. Возле них Нечаев не задерживался.
Первые две платформы были пусты. На третьей сидело несколько солдат. Потом опять пошли вагоны, саморазгружающиеся хопперы и гондолы, цистерны и ледники.
Обойдя хвостовой вагон, старший сержант перешел через несколько путей к калининградскому поезду. И уже тогда, когда он начал обходить новый состав, ему показалось, что в одном из вагонов каунасского поезда кто-то торопливо задвинул дверь.
Бросить осмотр второго состава и вернуться к каунасскому? Но калининградский поезд по всем признакам вот-вот должен тронуться. К тому же похититель крышки люка, если он действительно решил уехать, вероятнее всего находится именно в калининградском составе.
На платформах и площадках калининградского поезда народу было больше. Пришлось останавливаться возле каждой платформы. На одной из них ехали два моряка. Они весело крикнули Нечаеву:
— Садись, пехота, подвезем!..
Осматривая состав, старший сержант напряженно думал, как бы он поступил на месте «беззубого». Пожалуй, он не сел бы на платформу, на которой находятся другие люди. Он постарался бы уединиться.
Паровоз калининградского поезда между тем опробовал тормоза, дал протяжный гудок, слегка осадил состав и медленно двинулся вперед.
Решение нужно было принимать быстро: либо прыгать на одну из площадок, либо возвращаться к каунасскому составу.
Вот перед Нечаевым медленно поплыл саморазгружающийся вагон-хоппер с огромной воронкой кузова. Под одним из откосов этой воронки, возле лестницы, ведущей наверх, ссутулившись, сидел мужчина. Видавший виды костюм его был скорее чуть рыжеватый, чем серый, однако брюки были заправлены в сапоги. Нечаев схватился за железные перекладины лестницы и на ходу вскочил на небольшую площадку под откосом кузова.
— Здравствуйте, — приветливо улыбнулся незнакомец. — Далеко ли путь держим?
— В Калининград, — коротко ответил Нечаев.
— Попутчики, значит. Давайте познакомимся: Дергачев, механик калининградской автобазы.
— Савельев, — отозвался Нечаев, подивившись про себя разговорчивости Дергачева. — Краткосрочный отпуск получил, к дяде на выходной день отпросился. Пассажирского долго ждать…
— А я брата навещал. На станции тут работает, — добродушно улыбнулся Дергачев и подвинулся, уступая Нечаеву место.
Как бы поудобнее устраиваясь, старший сержант осмотрелся вокруг. Никакого свертка на площадке не было; впрочем, крышку люка легко спрятать в ларях под бункером хоппера. Зубы соседа тоже пока не удалось рассмотреть, так как тот сидел к Нечаеву вполоборота.
Ритмично постукивая на стыках рельсов, поезд набирал скорость. Быстро мелькали телеграфные столбы, линуя небо штрихами проводов. Вдоль железнодорожного пути тянулись типичные в этих краях аллеи лиственных деревьев. Дальше к горизонту медленно разворачивалась холмистая равнина, проплывали утопающие в фруктовых садах деревни.
— Не хуже курьерского! — усмехнулся Дергачев.
«Какие же у него зубы все-таки?..» — Нечаев начинал сомневаться, правильно ли он поступил, сев именно на этот поезд. Нужно что-то предпринять, чтобы узнать, что же это за человек.
— Я, по-моему, встречался с вами где-то, — неожиданно сказал сержант. — И вроде совсем недавно…
— Что-то не упомню, товарищ Савельев… Впрочем, может быть, на вашей станции…
Дергачев улыбнулся, обнажив крупные, крепкие зубы. Открытие это сильно разочаровало старшего сержанта.
День кончался. Солнце почти совсем скрылось за горизонтом. Лишь небольшая часть раскаленного диска, будто зацепившись за колючие гребни далекого леса, озаряла высокие перистые облака.
— Каков закат! — прервал Дергачев размышления Нечаева. — Говорят, перистые облака — к хорошей погоде. Сегодняшний-то денек был отменным…
Казалось, Дергачев был рад неожиданному попутчику. Вид у него был самый безобидный.
— Нет ли закурить? — спросил Нечаев. — Торопился, не успел купить папирос на станции.
— Угощайтесь, — радушно предложил Дергачев, доставая из кармана пачку «Севера».
Нечаев взял папиросу. По всему судя, он ошибся, приняв Дергачева за «прохожего», угостившего Ефетова «Беломорканалом».
«На первой же станции пересяду на встречный поезд, — решил Нечаев. — Может быть, успею вернуться на станцию до отхода каунасского поезда. Товарный порожняк подолгу иногда стоит».
Поезд шел теперь под уклон по высокой насыпи. Густые клубы пара, смешанного с дымом, стлались по откосу, цеплялись за кроны деревьев, оседали в курчавом кустарнике.
Ветер рвал с головы пилотку. Без шинели становилось прохладно. Дергачев застегнулся на все пуговицы, поднял воротник пиджака.
— А не забраться ли нам в бункер? — предложил он. — Там от ветра можно укрыться, а то свежо стало.
— Что ж, это можно, — согласился Нечаев и, поднявшись, хотел было взяться за лесенку, ведущую на верх хоппера.
В это время Дергачев неожиданно вскочил и ударил старшего сержанта в подбородок.
Нечаев пошатнулся, стараясь сохранить равновесие, судорожно ухватился левой рукой за перекладину лестницы. Но Дергачев не дал ему опомниться, он ударил ногой по руке старшего сержанта, и тот полетел под крутой откос насыпи.
VII
Придя в себя, Нечаев не сразу решился пошевельнуться. Казалось, все кости переломаны. В голове стоял страшный шум, в глазах рябило. Где он? Как попал сюда? Что делал до этого? Но забытье длилось лишь мгновение, затем все отчетливо всплыло в памяти. С трудом подняв голову, Нечаев посмотрел вверх, на насыпь железнодорожного полотна. На фоне вечернего неба он увидел быстро уменьшающийся последний вагон поезда.
Нечаев лежал под кустами, на толстом слое свеженакошенного сена. Если б не это сено… Приподняв правую руку, он попробовал согнуть ее. Рука ныла, но свободно сгибалась в локте. Зато левой рукой нельзя было пошевелить. Особенно сильная боль ощущалась в плече.
Опираясь правой рукой о землю, старший сержант с трудом приподнялся и сел. Брюки были порваны и выпачканы кровью. Кровь сочилась из неглубокой раны на колене.
Заметив неподалеку грабли, Нечаев оперся на них и, преодолевая боль во всем теле, встал на ноги. Километрах в трех он увидел рощу и несколько домиков какого-то хутора.
«Добраться бы до них… — невольно мелькнула мысль, но другая, более властная, перебила ее: — А как же с Дергачевым? Теперь ведь нет сомнения, что именно он украл крышку люка…»
Досада охватила Нечаева: как это он не разгадал вовремя бандита. Все бы тогда по-другому повернулось…
Дергачев теперь далеко, наверное, скоро к соседней станции подъедет… Хотя нет! Вряд ли он решится ехать до станции. Незаметно с тяжелой крышкой танкового люка ему там не проскочить. Нет, если уж этот мерзавец решился сбросить его с поезда, значит, он собирался предпринять что-то другое, и Нечаев, видимо, ему мешал. Пожалуй, Дергачев хотел спрыгнуть с поезда, сбросив предварительно крышку люка. Тут, кстати, совсем недалеко, километрах в двух, начало крутого подъема, на котором поезда всегда замедляют ход. Нечаев хорошо знал это место. Конечно, бандит задумал спрыгнуть именно на этом подъеме и поторопился избавиться от незваного попутчика.
Старший сержант попробовал немного пройти. Ноги болели сильно, но двигаться он мог. Что же делать? Добраться до хутора, где окажут помощь, или, не теряя времени, попытаться настичь Дергачева?
Не раздумывая долго, Нечаев решил сделать последнее, хотя понимал, что если он и догонит Дергачева, то нелегко будет справиться ему с рослым и, безусловно, вооруженным противником.
Сделав из рукоятки граблей нечто вроде посоха, сержант двинулся вперед. Боль отдавалась во всем теле. Голова кружилась.
«Ничего, — ободрял себя Нечаев, — надо только „разойтись“ и все обойдется…»
С трудом преодолев первый километр, старший сержант решил, что благоразумнее идти не по открытому месту, а ельником, посаженным в этом месте вдоль железнодорожного пути для защиты от снежных заносов. Сумерки все более сгущались. Нельзя было терять ни минуты. К счастью, взошла луна. Даже в ельнике стало светлее.
Кругом стояла тишина. Где-то крикнул филин. Из-под елочки выскочил перепуганный заяц и поскакал к лесу.
Вдруг тонкий слух разведчика уловил глухой звук. Вот еще…
Нечаев пошел медленнее, боясь задеть неосторожно сухой сучок, и наконец, раздвинув ветви, увидел Дергачева, зарывавшего что-то в землю.
«Что делать? Броситься на него — безрассудно». Каждое движение левой руки вызывало резкую боль. К тому же Нечаев сильно утомился и, конечно, не смог бы справиться с рослым бандитом.
«Есть ли у него оружие? — лихорадочно думал старший сержант. — Что это у него в руке? Нож, кажется… Нет, сук. Он им яму закапывает».
Лунный свет хорошо освещал плотную фигуру Дергачева. Он заметно торопился. Пиджак его висел неподалеку на ветке: видно, жарко стало от поспешной работы.
Нечаев неслышно сделал несколько шагов, протянул здоровую руку к пиджаку, ощупал карманы. Оружия в них не было.
Притаившись за деревом, старший сержант внимательно присматривался к врагу. Намокшая от пота рубашка Дергачева прилипла к широкой спине. Брюки, несколько узковатые, плотно облегали ноги, задний карман заметно оттопырился.
Все внимание свое Нечаев сосредоточил сейчас на этом кармане и в свете луны заметил металлическое поблескивание над его прорезью.
Зарывая яму, Дергачев все ближе и ближе подвигался к дереву, за которым стоял старший сержант. Вот уже всего один шаг разделял их друг от друга. Теперь Нечаев совершенно отчетливо видел рукоятку пистолета, торчащую из заднего кармана брюк. Наверное, Дергачев специально засунул его так, чтобы в случае нужды удобнее было выхватить.
Момент был благоприятный. Не раздумывая, Нечаев осторожно раздвинул ветви и, решительно шагнув, выхватил пистолет из кармана Дергачева.
— Ни с места, Дергачев! — негромко сказал он.
Дергачев, видимо, узнал голос Нечаева и на мгновение замер от неожиданности, но старшему сержанту этого оказалось достаточно, чтобы отскочить в сторону.
В следующее мгновение Дергачев резко повернулся и увидел наведенное на него дуло пистолета.
— Руки вверх! — скомандовал Нечаев.
Дергачев положил сцепленные в пальцах руки на голову…
VIII
На следующий день Дергачева ввели в кабинет полковника Есаулова. Полковник пристально посмотрел на арестованного.
— Так вы, значит, стоите на своем и утверждаете, что фамилия ваша Дергачев и работаете вы будто бы на калининградской автобазе?
— Вы же проверяли мои документы, — спокойно ответил Дергачев. — В Калининград вы тоже, наверное, звонили, и там вам ответили, что я в самом деле работаю на автобазе и числюсь не на последнем счету.
— Да, на автобазе работает механик Дергачев, поразительно на вас похожий, — ответил полковник. — Только у того Дергачева не хватает семи передних зубов в верхней челюсти. Если у вас настоящие зубы, а не протезы, мне нелегко будет поверить, что вы именно тот Дергачев, за которого себя выдаете.
— Пожалуйста, — Дергачев не спеша вытащил изо рта протез.
— Теперь вижу, что вы работаете на автобазе, — усмехнулся полковник. — Зачем же вам понадобилась крышка люка «королевского тигра»? Не для коллекции же?.. Вы что же, задание от майора Шеффера получили или от самого Гудериана? Танки — это ведь по его специальности.
Дергачев молчал.
— Напрасно упорствуете, — нахмурился полковник. — Ваш приятель и коллега по гитлеровской разведке «Абвер» Фридрих Поггендорф, попавшийся на «королевском тигре» номер сто пятнадцать дробь ноль три, пиковой масти, дал о вас исчерпывающую информацию.
Полковник не спеша закурил.
— Нам известно, что вы не Дергачев, а Штарке, Людвиг Штарке, и что вы не очень-то щепетильны, недолго ходили безработным и, не задумываясь, как и генерал Гудериан, сменили фюрера на босса. Это ведь общеизвестно, что в Оллендорфе создан разведывательный штаб во главе с Гудерианом… Перейдем, однако, к делу… Вы что же, очной ставки желаете с Поггендорфом или выложите все и без этой малоприятной процедуры?
— Спрашивайте, — хмуро сказал Штарке, глядя в окно.
— Что вам известно о «королевском тигре» сто пятнадцать дробь ноль четыре, бубновой масти?
— Танки, похожие по типу на «королевского тигра», под дробными номерами: ноль один, ноль два, ноль три и ноль четыре с четырьмя тузами — трефовым, пиковым, бубновым и червонным — были пробными экземплярами и по внешнему виду своему мало чем отличались от обычных танков этого типа, созданных почти к самому концу войны. Они были сделаны из сверхпрочной стили, полученной профессором Иоганном Шлоссером. После первой же выплавки этой стали на металлургический завод и находившуюся при нем лабораторию налетели ваши самолеты, и все полетело к черту. Секрет стали погиб вместе с профессором и его лабораторией, а опытные экземпляры четырех мастей пропали где-то здесь во время разгрома нашей третьей танковой армии в апреле 1945 года. Попросив разрешения, Штарке закурил.
— После поражения нам было не до секрета этой стали… Ну, а теперь кое-кто интересуется им…
— Вам поручили раздобыть образец брони? — спросил полковник. — Зачем же понадобилось таскать громоздкую крышку люка?
— Более легкую деталь отпилить ножовкой не было возможности. Сталь этих «королевских тигров» чертовски крепка. Я, впрочем, рассчитывал потом, в более подходящем месте, отпилить от крышки кусочек полегче. Заподозрив слежку, я вынужден был спешить…
Когда Штарке увели, полковник снял телефонную трубку и вызвал подполковника Вольского.
— Здравствуйте, товарищ Вольский! Как здоровье старшего сержанта Нечаева? Отлично!.. Прошу заполнить на него наградной лист…
М. Баринов «ВИЛЛА ЭДИТ»
Он ходил по комнате, щурясь и улыбаясь, то потирая руки, то по старой привычке приглаживая свои густые непокорные черные волосы. Десять лет мы не виделись. Саша стал чуть плотнее, но глаза, такие же черные, как волосы, по-прежнему ярко блестели, а голос, как и раньше, был чуть хрипловатым.
Я смотрел на него, и казалось мне, что мы не пережили войны, что нас не отделяло от юности добрых полтора десятка лет. Передо мной был все тот же Сашка: кумир малышей — членов драмкружка Дома пионеров на Большой Пироговой, старший студиец, великолепный чтец Блока, Есенина, Маяковского. Я хорошо помню: почтительное отношение к нему кружковцев переходило в восхищение, когда этот серьезный, вдумчивый юноша вдруг преображался, становился гибким, подвижным, как пламя. Развлекая нас, он с молниеносной быстротой переворачивался через голову, сразу выходя в стойку, гигантским прыжком перемахивал прямо со сцены в зал через наш большой круглый студийский стол.
Да, это был прежний милый Сашка. Конечно, в радиокомитете, где он теперь работал, никто не называл его Сашкой. Александр Степанович Асанов — вот кто он был — редактор иностранного отдела!
Много лет прошло, много воды утекло…
Мы с волнением рассматривали друг друга, боясь прервать это хорошее молчание каким-нибудь неуместным замечанием. Наконец Саша заговорил:
— Ну, начинай, рассказывай, как и что. С чего начинать? С Москвы, с Дальнего Востока, с Севера… Ты ведь, как метеор, всю страну исколесил от края до края за эти годы.
— Пусть начинает старший, — напомнил я нашу старую традицию. — Итак, ты начал войну в парашютно-десантных войсках…
Мой друг замахал руками:
— С ума сошел!.. Так мы и до утра не кончим. Ведь через час нам — на «Лебединое».
Потянувшись за спичками, лежавшими на тумбочке, я невольно взглянул на стену сзади. Там, над письменным столом я увидел два фотопортрета. Сначала мне показалось, что я вижу два разных лица. С одной фотографии на меня смотрела весело смеющаяся девушка с лукавым и кокетливым выражением глаз. Она сидела и легком кресле в изящной позе. На другом портрете была молодая женщина в военной форме с орденом Красной Звезды на груди. Серьезное и задумчивое лицо ее было очень выразительно и красиво. Я не мог отвести глаз от фотографий, и, чем больше смотрел на них, тем больше очаровывала меня незнакомка. В том, что это одно и то же лицо, — не было сомнений. Я обернулся. Саша тоже смотрел на портреты женщины.
Не дав мне сказать ни слова, он заговорил:
— Знаешь что… Давай отложим вечер воспоминаний на завтра, а сейчас позволь мне задать тебе один вопрос.
Я молча кивнул, в душе удивляясь этой несвойственной Саше нерешительности.
А он продолжал:
— Ты, наверное, часто ездишь по шоссе Калининград-Балтийск. Скажи, не приходилось ли тебе у железнодорожного переезда, на окраине Калининграда, видеть красивый серый особняк с надписью «Вилла Эдит»?
— «Вилла Эдит»? — переспросил я удивленно.
Минуту назад я был уверен, что с женщиной, изображенной на фотографиях, у Саши связаны обычные романтические воспоминания, но после неожиданного вопроса почувствовал, что стою на пороге какой-то удивительной истории.
«Вилла Эдит»! Еще бы ее не знать!
Два дня назад я ехал из Балтийска в Калининград. Я спешил на московский поезд и боялся опоздать. А если вы, читатель, — военный человек или были военным, то знаете, что значит потерять день отпуска, особенно, если много лет не были дома. Шофер вел машину на предельной скорости. На этой бешеной скорости мы, вероятно, и въехали бы на улицы города, если бы не оказался закрытым железнодорожный переезд. Проходил длинный состав, и возле полосатого шлагбаума уже скопился хвост автомобилей. Резко затормозив, остановилась и наша машина.
Я огляделся, и уже в который раз мой взгляд упал на особняк, стоявший в стороне от дороги, окруженный густо разросшимися старыми березами и каштанами. Давно этот дом привлекал мое внимание. Часто, проезжая мимо, я читал вырубленные на фасаде слова «Вилла Эдит» и думал о той чужой жизни, которая когда-то наполняла этот дом. Кто были его хозяева? Богатые обыватели или потомки юнкерского рода? Кто была Эдит? Сухая старуха, жившая воспоминаниями о вильгельмовских гвардейцах, или очаровательная куколка — игрушка какого-нибудь нацистского чиновника?
Теперь здесь все было по-иному. Толстощекие карапузы играли на куче песка перед виллой, и сквозь шум машин на шоссе доносилось их веселое щебетание.
Я часто вспоминал этот дом, и понятно мое изумление, когда именно о нем спросил меня Саша.
Часть первая
1
— Вижу, без вечера воспоминаний сегодня не обойтись, — начал задумчиво Саша, прохаживаясь по комнате.
— В сорок втором, — продолжал он, — мы стояли в Мурманске. Ты, конечно, помнишь этот заполярный город рыбаков и моряков, где солнце несколько месяцев не сходит с небосвода, а другие несколько месяцев только полярное сияние изредка разгоняет мрак. Гитлеровцы рвались к городу. Он был единственным незамерзающим портом, связывающим нас с союзниками. Наша часть «обслуживала» участок фронта в районе Кандалакши. Время было жаркое. Иногда после очередного рейда по тылам врага нам представлялась возможность отдохнуть с неделю в Мурманске. В один из таких дней я познакомился с американским капитаном Клифтоном Брандтом.
Молодежь охотно собиралась в интернациональном клубе моряков, куда приходили и наши моряки, и офицеры с кораблей союзников. Однажды во время концерта дружбы Брандт пел популярную песенку «Джемс Кеннеди». После концерта я случайно столкнулся с ним у буфетной стойки, и мы разговорились. Это был остроумный, веселый парень. Мы беседовали на том американо-русском жаргоне, который был тогда в ходу на Севере. Оказалось, мой собеседник плавал на транспорте «Барбара Фрича» представителем по доставке нам радиоаппаратуры. А за этим товаром немцы охотились особенно усердно. Брандту часто доставалось во время переходов из Англии в Мурманск: «Барбара» иной раз приходила полузатопленной.
Мне нравился этот веселый, легкий человек, с видимым сочувствием относившийся к нам, русским, к тяжелой нашей борьбе. Правда, он не раз говорил мне, что не верит в коммунизм, но тот, кто вместе с нами, плечом к плечу борется против общего врага, естественно, становится если не другом, то союзником.
За время, что мы воевали на Севере, я раз восемь встречался с Брандтом, и последняя наша встреча была особенно теплой. Не думал я, что встретимся с ним когда-нибудь снова…
В конце 1944 года меня с двумя товарищами неожиданно откомандировали в Москву. Мы должны были явиться в часть, которая располагалась в чудесном подмосковном санатории на берегу Синежского озера. Перед отъездом меня вызвал командир нашей дивизии и передал небольшой сверток с просьбой отвезти его своему старому московскому другу.
В Москву мы приехали морозным декабрьским утром. Я решил прежде всего выполнить просьбу комдива. В тот же день разыскал небольшой дом на Молчановке, и старая женщина, отворившая дверь, подтвердила, что это действительно квартира Петровского. Я посчитал неудобным спрашивать комдива, кто такой его друг, и с любопытством ждал встречи с хозяином.
Старуха провела меня по темному коридору в небольшую гостиную, вышла в соседнюю комнату, и я услышал, что она набирает номер телефона. Я огляделся.
Ничего особенного не было в этой квартире в старом московском доме. Все очень просто, без претензий на показной шик. Гостиная обставлена по-спартански: кушетка, два кресла да маленький столик в углу — вот и все. Правда, кушетку покрывал великолепный бухарский ковер, занимавший всю стену и спускавшийся на пол, как это принято на Востоке.
И вот на ковре я увидел два портрета. Не знаю, что подумал бы ты, но я в тот момент понял, что можно влюбиться в женщину вот так, только взглянув на фотографии.
Тут же на ковре висела кривая шашка в черных ножнах, богато инкрустированных серебром. Я не вытерпел, подошел ближе и прочел выгравированную на рукоятке надпись: «Незабвенному другу на память о бое при Алык-Ахире. 1920 г.».
Шорох за спиной вывел меня из задумчивости. Старуха смотрела с явным неодобрением.
— Николай Александрович сказали, чтобы посылочку мне передать.
Мне ничего не осталось, как распрощаться с не особенно гостеприимной хозяйкой.
Можешь мне верить или не верить, но я уходил из этой квартиры в таком состоянии, словно оставил здесь что-то неизмеримо дорогое. Я знал, что никогда не буду больше в старом доме на Молчановке, что не узнаю, кому принадлежат фотографии этой удивительной женщины, не узнаю, кто она.
Но обстоятельства сложились по-иному. Мне пришлось встретиться с человеком, которому наш комдив передал свой подарок. И не только встретиться!..
Со смутным настроением я приехал в «санаторий». Кстати, его так и называли — санаторий, хотя уже более трех лет в этом доме жили только военные люди, которые вместо лечебных процедур занимались совсем другими делами.
Да, это были необычные дела… Мы бегали на лыжах, прыгали с парашютами, упорно тренировались… Попав в необычную обстановку, мы — я и два моих друга по дивизии — удивительно быстро освоились со своими обязанностями и скоро уже ничему не удивлялись. Наверно, мы приняли бы, как должное, если бы получили приказ изучать хеттскую клинопись, родословную египетских фараонов или способы приготовления сложнейших эмульсий против веснушек и летнего загара.
Саша остановился посередине комнаты и, улыбаясь такой знакомой улыбкой, спросил:
— Может быть, закурить разрешишь?
Я молча протянул ему пачку папирос, боясь заговорить. Саша присел на ручку моего кресла, закурил и продолжал:
— Свой день рождения мне удалось встретить дома. Старики вернулись из эвакуации. Мама выскоблила до блеска нашу старую московскую квартиру, отец где-то между книг нашел бутылку вишен, настоенных на спирту, и мы сели за праздничный стол.
Нашему пайковому шпигу мама сумела придать очень аппетитный вид, а разведенный спирт, перелитый из фляжек в хрустальный графинчик, выглядел тоже весьма привлекательно.
Мои друзья — старший лейтенант Виктор Воронов и младший лейтенант Володя Леонтьев — замерли от восторга при виде всей этой «роскоши». А тут еще прибежала сестренка Женя с подружками, принесла патефон…
Представь себе этот вечер: небольшую компанию родных и друзей в комнате с затемненными окнами, друзей, которым выпало почти сказочное счастье собраться вместе в Москве, в теплой и уютной квартире в то время, когда шли жесточайшие бои. Даже папа, наш строгий папа, не возмутился, когда сестренка стала проигрывать одну веселую пластинку за другой. Звучали веселые волжские частушки в исполнении Руслановой, уже дважды мы прослушали Прокошину. Потом Женя объявила:
— Песня Еремки…
И в этот самый момент раздался звонок в передней. Отворять побежала Женя.
Я хорошо помню, как мельком взглянул на часы — было без четверти десять, как вошел боец и, обращаясь только ко мне, отчеканил:
— Приказано быть немедленно в «санатории».
Одеваясь, я видел сочувственные взгляды друзей, видел, как отец сосредоточенно счищает с рукава костюма несуществующую соринку. Мама и Женя суетились рядом, помогая мне надеть шинель и ремни.
— Развлекай гостей, — сказал я, улыбаясь, Жене. — Смотри, Виктор с тебя глаз не сводит.
Женя, моя милая чудесная сестренка, в ответ на шутку только весело и лукаво улыбнулась. А сорок минут спустя, минуя просторную приемную, я подходил к кабинету, на двери которого висела табличка: «Начальник санатория». Здесь, в этом уютном кабинете, и были приняты решения, которые оставили путаный, но большой след в моей жизни.
Генерал, едва я доложил ему о себе, представил меня человеку в сером костюме, сидевшему на диване. Незнакомец изучающе посмотрел мне в глаза и по-немецки спросил:
— Вы москвич, капитан Асанов?
— Да, москвич, — ответил я на том же языке и добавил: — Разрешите узнать, с кем я говорю?
— Вы и два ваших товарища, которые занимались по специальной программе, поступаете с сегодняшнего дня в мое распоряжение, — проговорил человек в сером костюме, не отвечая на мой вопрос.
Я повернулся к генералу, тот кивнул головой и, попросив разрешения у незнакомца, вышел из кабинета.
— Вы хотите знать, кто я? — заговорил сидевший, когда мы остались вдвоем. — Я генерал Петровский…
Теперь я не сомневался, что это именно тот самый человек, друг моего комдива, на квартире которого я побывал в первый день своего приезда в Москву.
— Слушаю вас, товарищ генерал, — произнес я как можно спокойнее. Кажется, мне удалось скрыть свое волнение.
— Где ваши товарищи?
— В краткосрочном отпуске в Москве, у меня на квартире.
— Они так же хорошо говорят по-немецки, как и вы?
— Один из них лучше меня, второй так же, как я.
— Доложите мне, что они за люди.
Не скрывая удивления, я взглянул на генерала.
— Я знаю о них, — пояснил он, — но хочу выслушать ваше мнение. Ведь вы будете во главе группы, на которую возложено особое задание.
— Они — мои близкие друзья, — ответил я генералу Петровскому. — Воронова я знаю по службе в дивизии. Это очень опытный и смелый разведчик. Он потомственный волжский грузчик. Человек огромной физической силы. Веселый, очень добродушный человек. Во время службы в парашютно-десантных войсках проявил себя, как прирожденный следопыт. Леонтьев — мой старый школьный товарищ. Великолепный лингвист, в совершенстве владеет тремя языками. Он ни при каких обстоятельствах не теряет спокойствия и ясности мысли. Выглядит немощным, но на самом деле очень вынослив. Он пришел в армию два года назад добровольцем, сам просился в парашютно-десантные войска, участвовал в ряде трудных рейдов. В короткий срок завоевал большой авторитет в части, а в прошлом году ему присвоили офицерское звание.
— Значит, вы считаете их пригодными для выполнения сложного и опасного задания?
— Да, безусловно.
Генерал неожиданно легко встал, прошелся по кабинету и, остановившись передо мной, сказал:
— Теперь мы вас троих будем учить в течение месяца «набело». — Он улыбнулся, затем, на мгновение задумавшись, добавил: — Впрочем, срок этот может быть и сокращен…
Я уходил из кабинета обрадованный и взволнованный. Скоро задание! И параллельно этой мысли шли уже привычные, почти незаметные, как биение сердца, мысли о женщине, чей портрет висел в квартире Петровского.
«Кем она приходится ему? Какая связь между генералом и ею?» — думал я, шагая по заснеженной ночной улице.
2
Ненастной ночью, месяц спустя после первой встречи с Петровским, я и мои товарищи сидели в тесной холодной кабине самолета, который шел на запад, к Кенигсбергу. Отлично пригнанная и уже обношенная нами форма офицеров эсэсовской танковой дивизии «Великая Германия» совсем преобразила нас. За месяц мы прошли основательную подготовку: каждый отлично знал «свое» происхождение, «своих» родных в Германии, «своих» командиров и подчиненных в дивизии. Мы имели самые свежие сведения о действиях «нашей» дивизии, которую Гитлер бросал с фронта на фронт в надежде задержать стремительное продвижение советских войск. Этой дивизии везло не более других — ее жестоко трепали в боях, а командир ее, генерал Хеймнитц, несколько месяцев тому назад был убит.
Итак, мы знали все, что касалось нас самих, но мы не знали человека, с которым должны были встретиться в Кенигсберге. Он должен был ждать нас у вокзала, подойти и спросить, который час, потом предложить купить кольцо точно такое же, какое было надето на палец каждого из нас.
Спрыгнули и приземлились мы благополучно. Ночь проблуждали, разыскивая друг друга по придорожным полям. Привычка к подобным поискам и немалый опыт помогли к восьми часам утра собраться вместе у отмеченного на карте ориентира. Уже рассвело, и мы забрались в стог сена, чтобы дождаться темноты.
Ночью мы остановили на магистрали новенький «вандерер», направлявшийся к городу. Трупы трех эсэсовцев заняли наше место в стогу, а мы смело покатили к заставе города.
Шел мокрый снег. Со стороны Кенигсберга доносились глухие раскаты взрывов — это наша авиация бомбила военные объекты города.
Шлагбаум на заставе оказался опущенным. Напуганные бомбежкой караульные сидели в бункере. Я отправился к ним и с трудом добился, чтобы их старший проверил наши документы и дал приказ пропустить нашу машину. В воздухе посвистывали осколки зенитных снарядов, и караульные боязливо втягивали головы в плечи, когда очередной осколок падал рядом.
Путь в город был открыт. Мы направились к центру. Было около трех часов ночи. По дороге нас останавливали редкие патрули, но фронтовые отпускные билеты служили надежным пропуском для проезда по ночным улицам города.
Загнав машину в глухой переулок возле разбитой кирхи, мы бросили ее и дальше отправились пешком.
По карте у нас была отмечена гостиница на Шлегетерштрассе. Виктор предложил разыскать ее. Но я категорически возразил. Мы должны прежде всего представиться нашему начальнику, и он скажет, не вызывает ли наша внешность подозрений. Конечно, в Москве все было проверено и перепроверено не один раз, но лишняя проверка на месте была очень важна. Лишь после нее мы сможем спокойно ходить по городу.
Пройдя несколько кварталов, мы остановились в узкой кривой улочке, круто поднимавшейся вверх. Признаться, я чувствовал себя неважно. «Хорошо ли мы играем свою роль, нет ли за нами слежки с той самой минуты, как мы прибыли в город?» — эти мысли не оставляли нас.
Мы не пошли в гостиницу, не пошли и в ночной офицерский ресторан. Перекусив консервами и сухарями в развалинах какого-то большого здания, похожего не то на дворец, не то на музей, мы по очереди дремали и эту вторую ночь. Было сыро и холодно. Небо вспыхивало зарницами взрывов, порою слышался далекий гул артиллерийской канонады.
Утро наступило хмурое и туманное. Мы медленно шли по улице к вокзалу, чтобы в назначенное время быть на месте.
Огромная военная машина немцев работала, казалось, без перебоя. Десятки грузовиков мчались во всех направлениях, проходили подразделения солдат. Понурые, прижимаясь к домам, спешили жители. Настороженно оглядывая встречных, шагали эсэсовцы. Повсюду баррикады «ежи», доты, бронеколпаки, амбразуры в стенах домов, крикливые плакаты на афишных тумбах.
Мы проходили мимо форта, у входа в который стояли два танка. Стены форта опоясывал глубокий и широкий ров, наполненный водой. На глаз можно было определить ширину рва — около десяти метров. Перед фортом лежала пустынная площадь и, судя по тому, как ее старательно обходили и объезжали, она была густо заминирована.
Над городом возвышался королевский замок. Он был центром всей сложной и еще не ясной для нас системы укреплений.
— Да… орешек крепкий, — проговорил Виктор.
— Укрепления прямо-таки вписаны в кварталы города, — академическим тоном отозвался Володя Леонтьев. — Посмотрите, как замечательно оборудованы капониры, как естественно сочетаются стены с местностью.
— Восторгаться нечем, — оборвал я его. — Прольется немало крови наших людей, прежде чем эта махина будет взята.
— А взята она будет, — убежденно сказал Воронов.
Вот, наконец, и привокзальная площадь. Время, назначенное для встречи, еще не наступило, и мы снова углубились в переулки.
Здесь, ближе к окраине города, окна домов были плотно закрыты. Во дворах виднелись длинные, покрытые брезентом грузовики или такие же длинные телеги. Это население города по приказу гаулейтера Восточной Пруссии готовилось к «неожиданностям» — фашистская пропаганда не смела произнести слово «эвакуация».
На стенах домов мы читали категорические, немного наивные приказы и призывы к населению города: «Занд унд вассер — эрсте хильфе» — «Песок и вода — первая помощь», «Вир капитулирен нихт» — «Мы не капитулируем».
— Смотри, — дернул меня за рукав Володя, показывая глазами на стену дома, где крупными буквами было написано: «Свет — твоя смерть».
— Справедливо сказано. Для фашистов свет — это смерть, — по-своему истолковывая надпись, призывающую к светомаскировке, улыбнулся Виктор.
На стенах многих домов белой краской было выведено: «Бомбоубежище» и тут же призывы: «Смерть воздушным пиратам!» Геринг объявил всех союзных летчиков вне закона и призывал население линчевать экипажи сбитых самолетов.
Мы вышли на Врангельштрассе и очутились возле мрачного здания политической тюрьмы. Здесь, за этими мертвыми стенами, томились лучшие люди Германии. Лица моих друзей были очень серьезны и чуть-чуть бледны, когда мы проходили мимо похожей на дот проходной будки тюрьмы. Очевидно, в этот момент мысли наши были одинаковы: «Рот-фронт, друзья. Мы сражаемся и за вас, и за вашу свободу. Рот-фронт!»
3
Ровно в двенадцать мы подошли к главному входу Центрального вокзала. Здесь было особенно многолюдно. Привокзальную площадь заполняли толпы беженцев и солдат. Лица солдат были угрюмы. От того наглого вида и нахального задора, которые мы часто наблюдали на лицах пленных в сорок первом году, не осталось и следа.
С каждой стены смотрели на нас огромные плакаты с крикливыми заявлениями, сделанными начальником штаба крепости полковником генерального штаба Гусскендом: «22 января 1758 года не повторится никогда»[1].
Не успели мы остановиться, как к нам подскочил щуплый субъект и шипящим шепотом осведомился, не желают ли господа офицеры купить американские доллары? Виктор, почти вдвое выше его ростом, резко крикнул:
— Найн!
Спекулянт мгновенно исчез, как будто его сдуло ветром.
К нам подходили какие-то подозрительные личности, одни предлагали купить иностранную валюту, другие — всевозможные документы, третьи спрашивали, не желаем ли мы продать драгоценности или картины. Мы поняли, что попали на своеобразную черную биржу.
— Офицеры, ко мне! — раздался внезапно властный окрик. Мы обернулись и увидели возле бровки тротуара две машины. Из одной высунулся человек в генеральской форме, с сухим холодным лицом. Мы подскочили и вытянулись перед генералом, отчаянно щелкнув каблуками. С тревогой я заметил на петлицах генерала знаки различия танкистов.
— Откуда? — отрывисто бросил генерал.
— Командир танковой роты дивизии «Великая Германия» обер-лейтенант Отто фон Монцер, — отрапортовал я, не отводя взгляда от холодных глаз генерала.
На лице генерала мелькнуло любопытство.
— Это какие же Монцеры? Баварские?
— Так точно, господин генерал.
— Эрих фон Монцер…
— Мой двоюродный дядя, господин генерал.
— Отлично. Будете писать, передайте привет от Конрада фон Граббе, генерала инженерных войск. Я, господа, не только танкист, но и сапер! — подняв тонкий указательный палец, воскликнул генерал. И тут же спросил:
— Как сражаются наши доблестные танкисты?
Я чуть замялся, так как по нашим сведениям «Великой Германии» здорово досталось в последние дни.
— Танкисты «Великой Германии» готовы умереть за фюрера! — отрапортовал Виктор, делая шаг вперед.
Генерал-сапер-танкист с одобрением посмотрел на этого гиганта, милостиво кивнул головой и отвернулся. Машина взвыла и сорвалась с места, за ней последовала вторая.
Поеживаясь от нервного озноба, я вдруг услышал насмешливый голос Володи:
— Приветик дяде не забудь передать.
Он был спокоен и холоден, как всегда, и я в душе позавидовал его выдержке.
Но тут нас снова окликнули. На этот раз голос принадлежал женщине. Мы обернулись. На месте, где стояли машины генерала и его свиты, остановился небольшой элегантный «мерседес». За рулем сидела девушка.
Нам прежде всего бросились в глаза ее белокурые волосы, длинными пышными локонами спадавшие на плечи. Девушка была в сером спортивном костюме, на руках ее, лежавших на руле автомашины, были изящные замшевые перчатки, сшитые на манер шоферских — с высокими раструбами, аккуратно завернутыми вверху. Правильные черты ее овального лица с чуть заметным загаром и голубые глаза показались мне удивительно знакомыми. У меня мелькнула мысль, что я где-то встречал ее.
Девушка улыбнулась и тоном избалованного ребенка еще раз окликнула нас:
— Господа, подойдите сюда!
Мы недоуменно переглянулись и медленно подошли к машине.
— Вы танкисты «Великой Германии»? — спросила девушка.
— Да, фрейлейн, — сухо подтвердил я, отвешивая короткий поклон.
— Ах, как я рада! — затараторила она. — Я встречаю офицеров «Великой Германии», как родных. Я — Эдит Хеймнитц, дочь покойного генерала Ульриха Хеймнитца, бывшего командира вашей дивизии.
Мы поспешили изобразить на своих лицах радостное изумление: «Мы очень рады!..», «Вот счастливая встреча!» Но каждый из нас при этом подумал, какими осложнениями может грозить эта «радостная» встреча. На минуту наступило неловкое молчание.
— Ну, как наша славная дивизия, господа? Как наши герои-танкисты? — интересовалась непрошеная собеседница.
— Танкисты сражаются, как львы, как славные легионеры Цезаря и Антония! — вступил в беседу Леонтьев.
Я мельком огляделся, боясь пропустить человека, которого мы ждали. Девушка оказалась наблюдательной.
— Мне кажется, вы спешите. Я тоже! — воскликнула она. — Кстати, сколько времени на ваших часах?
Посмотрев на часы, я ответил, думая при этом, что уже полтора часа, как мы ждем напрасно.
— Ну, хорошо, господа, — проговорила дочь генерала. — Мне пора ехать. Я так была рада этой встрече. Так приятно увидеть значок родной дивизии…
«Вот она — немецкая сентиментальность», — подумал я.
— Да, кстати, обер-лейтенант, — снова обратилась ко мне девушка. — Взгляните, не понадобится ли вам вот такая вещица?
Стянув с руки перчатку, она показала мне кольцо. Взглянув на него, я замер, пораженный. Это был платиновый перстень с пластинкой в виде старинного щита. На зачерненном фоне щита было выгравировано изображение северного оленя. Закинув на спину могучие рога, животное гордо стояло на высокой скале.
Я медленно стянул перчатку и поднял правую руку на уровень окна машины. Мои товарищи стояли рядом, удивленные не меньше меня. А девушка за какое-то мгновение совершенно преобразилась и пристально, уже без улыбки оглядев меня, негромко сказала:
— Пожалуй, о деталях продажи мы договоримся дома. Садитесь, господа.
И тут я вспомнил, где видел это лицо. Ее поразительная способность к перевоплощению, в чем пришлось убедиться уже позднее, ввела меня в заблуждение, возбудив в то же время смутное беспокойство в первый момент встречи. Но теперь, когда с нее упала маска легкомысленной немочки, я сразу узнал то самое врезавшееся мне в память лицо, которое я видел на фотографиях в доме Петровского.
— Вы очень взволнованны, обер-лейтенант. Надо быть сдержаннее, — снова переходя на шутливый тон, заметила девушка. От этого упрека мне сделалось не по себе: ведь она совсем не поняла причины моего волнения, и «дай бог, чтобы не поняла никогда», — подумал я про себя, садясь в машину.
Все время с момента вылета из Москвы мы думали о человеке, к которому идем, ожидая увидеть его или в форме офицера германской армии, или в роли спекулянта с черной биржи. И мы никак не подозревали, что наш начальник, свой родной советский человек, предстанет в облике вот такой очаровательной девушки с модной прической и изысканными манерами, обладательницы шикарного автомобиля.
«Мерседес» медленно катил по улице в направлении Шарлоттенбурга. Я сидел рядом с девушкой и украдкой смотрел на нее. Теперь, видя ее совсем близко, я понял, что она значительно старше, чем можно было ей дать на первый взгляд. Она была или ровесницей мне или чуть моложе.
— Ну, а теперь, здравствуйте, дорогие друзья, — заговорила девушка уже по-русски дрогнувшим от волнения голосом, когда машина вышла на широкую часть улицы. — Вы не представляете, что значит так долго не видеть родных людей!
Я не мог сказать ни слова и только молча положил свою руку поверх ее руки, лежавшей на рулевом управлении, крепко пожал ее. А девушка, снова став серьезной, словно боясь, что слишком дала волю своим чувствам, обратилась ко мне:
— Скажите, как вы добрались?
Я коротко сообщил ей о наших приключениях. Она слушала очень внимательно, изредка улыбаясь. Я был рад услышать ее похвалу, когда рассказал о том, что мы не пошли в гостиницу. Я говорил и чувствовал, что рядом со мной сидит близкий, дорогой мне человек…
4
…Саша помолчал, потом встал и продолжал рассказ, шагая взад и вперед по комнате.
Она сказала, что многие очень смелые, очень хорошие наши люди гибли из-за неосторожности, из-за какой-нибудь мелкой ошибки, допущенной в разговоре или одежде. Осторожность — вторая сторона мужества.
— Вы правильно сделали, — продолжала девушка, — что дождались встречи со мной. Впрочем, одну серьезную проверку вы уже прошли: я наблюдала ваш разговор с генералом и приблизительно догадываюсь о его содержании. Вы держались именно так, как нужно было. Однако кое-что следует немедленно исправить. Первое и главное — снимите знаки дивизии «Великая Германия». Они теперь не особенно требуются, дисциплина в немецких войсках пошатнулась, этого нельзя не учитывать. Таким образом вы избежите встреч с «однополчанами».
Мы выехали на площадь. Я огляделся и увидел памятник Шиллеру. Его вдохновенное лицо показалось мне лицом старого друга. Как, должно быть, одиноко стоять ему здесь, в этом мрачном городе, ему, почетному гражданину республики Франции времен грозного якобинского конвента, ему, неукротимому мечтателю!
Через полчаса мы сидели в низких мягких креслах в гостиной особняка. Мы здорово проголодались, поэтому кофе со свежими булочками, которые подал нам на легком передвижном столике старик-немец, казались особенно вкусными.
Хозяйка, уже переодетая в черное домашнее платье, остановилась возле небольшого рояля.
— Я знаю каждого из вас, — говорила она. — Вы тоже должны знать меня… до некоторой степени. Чтобы вам не было досадно выполнять мои указания, — улыбнулась она мне, — знайте, что мы с вами в одном звании. Я — капитан. Зовите меня Эдит. Это мое здешнее имя. В доме никого нет. Прислугу я сейчас отпустила. Вы пройдете в библиотеку. Оттуда — ход в небольшой тайник, где все приготовлено для жилья. Сколько вам придется здесь пробыть, не знаю, но думаю, что очень недолго. Никто не знает и не должен знать, что вы здесь. Когда наступит время действовать, я скажу.
Мои товарищи старались не пропустить ни одного ее слова. Казалось, они забыли, где находятся, с них как бы спало все напряжение последних дней. Что касается меня, то я был занят одной мыслью: не выдать того чувства, которое овладело мной целиком в эти минуты.
Эдит продолжала:
— Вам потребуется некоторое время, чтобы освоиться с новой обстановкой, я помогу вам в этом. Одно только прошу не забывать: мы должны сделать много, очень много.
Эдит все так же стояла у рояля, и выражение ее лица все время менялось. То холодновато рассудительная, то страстно гневная, то насмешливая, она совершенно не была похожа на ту, что несколько часов назад встретила нас у вокзала.
— Не подумайте, — продолжала она, — что немецкая оборона в Восточной Пруссии распалась полностью. Наши войска добивают южную группировку. Готовится штурм Кенигсберга. Немцы основательно подготовились к его защите. В городе стоит гарнизон не менее чем в сто тысяч человек, кроме того, командующий Земландской группировкой генерал Мюллер отдал приказ о переброске в крепость 61-й и 317-й пехотных дивизий. Королевский замок обороняют эсэсовский батальон и полицейский полк «Форст».
— Это очень важные данные! — воскликнул Виктор. Эдит слегка улыбнулась и коротко ответила:
— Наши знают… Кенигсберг — первоклассная крепость. Город окружен мощной цепью укреплений. Внутри — форты Литовского вала и внутреннего обвода. Внутренний обвод проходит по старой городской черте. Здесь пятнадцать фортов. Главные из них — «Король Фридрих-Вильгельм», «Дер Дона», «Врангель». Они вооружены 305-миллиметровыми орудиями, противотанковой артиллерией и всем вооружением, которое только имеют в своем распоряжении фашисты. Форты защищают специальные крепостные батальоны. Между фортами расположена густая сеть бункеров, дотов, капониров. На подходах к городу — пятнадцать фортов внешнего обвода…
Я слушал Эдит и думал: чего стоило этой женщине получить такие сведения! И уже не только милой и обаятельной девушкой представлялась она мне. Она вставала передо мной умным и бесстрашным бойцом.
Беседа закончилась, и Эдит повела нас в библиотеку, чтобы пройти через нее в тайник.
5
Впервые за трое суток мы провели ночь в мягких постелях. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. На потолке мирно светила синяя ночная лампочка, рядом слышалось ровное дыхание спящих товарищей. Взглянул на часы: стрелки показывали шесть. Быстро одевшись и тщательно приведя в порядок свой мундир, я направился к выходу из тайника. Хозяйка предупредила нас, что если появится опасность, она выключит свет. В таком случае покидать тайник запрещалось.
Открыв дверь, которая не издала при этом ни единого звука, я очутился в уже знакомой мне библиотеке и остановился, пораженный тем, что увидел и услышал. В глаза мне хлынул ослепительный поток солнечных лучей, но странно — солнце всходило на западе. В этом я не мог ошибиться, так как хорошо запомнил расположение окон в комнате. Я услышал музыку. Исполнялась пятая симфония Чайковского, и впечатление было такое, словно где-то совсем рядом играл большой оркестр. Я пытался сообразить, утро сейчас или вечер, и в этот момент заметил Эдит. Одетая в вечернее платье, она стояла в гостиной спиной ко мне и, опершись рукой на угол лакированного стола, слушала музыку. И таким спокойствием дышала вся ее фигура, что я невольно залюбовался ею и пожалел, что своим вторжением спугну сладкий миг, которому отдалась она в эти минуты. Мысли ее, вероятно, были далеки от мрачного Кенигсберга, от опасной службы. Быть может, она вспомнила задумчивые, до боли родные каждому москвичу тихие переулочки нашей столицы или перенеслась в величавый и прекрасный Ленинград, может быть, улетела на берега красавицы Волги…
Так я простоял минуты две и, возможно, простоял бы еще, если бы не окончилась музыка. Выключив приемник, Эдит обернулась в мою сторону, и потому, как она сделала это, мне стало ясно: она еще раньше догадалась о моем присутствии.
— Что же вы стоите, капитан? Входите, — заговорила хозяйка, улыбаясь.
Я прошел в гостиную.
— Теперь я вижу, вы умеете не только бодрствовать по трое суток, но и компенсировать это хорошим сном. — Эдит жестом пригласила меня сесть. Я смущенно пробормотал, что вообще-то, дескать, не в моих правилах спать по восемнадцать часов. Но Эдит рассмеялась, а потом, посерьезнев, сказала:
— Я хочу сделать вам дружеское замечание: когда вы попадаете в чужой дом, то помните, что, кроме вас, в нем находятся хозяева, и они, как и вы, умеют наблюдать.
Был я тогда еще молодым разведчиком и не знал, что самое тяжелое в нашей работе — уметь владеть своими чувствами. Об этом не написано никаких наставлений!
Я не успел ей еще ничего ответить, как в холле раздался звонок. Эдит подошла к окну и, взглянув из-за шторы, жестом указала мне на дверь библиотеки.
Я спрятался между книжных шкафов, присев на маленькой ковровой табуретке и оставив дверь полуоткрытой.
Послышались приближающиеся голоса Эдит и еще чей-то мужской. Со стыдом я поймал себя на нелепом в моем положении чувстве ревности, мгновенно кольнувшем сердце. Голоса стали ясными и четкими.
— Ах, Ульрих, я боюсь… эти бесконечные бомбежки, эти потоки беженцев на улицах, что только будет…
Я не узнавал голоса Эдит в этом капризном плаксивом тоне. Ей ответил хрипловатый баритон:
— Не волнуйтесь, моя дорогая. Пока вы со мной, вам не угрожает никакая опасность. Служба СС гарантирует вам это.
— Ульрих, но почему мы не можем уехать, почему не бросить этот страшный город, ведь по вашему совету я уже продала имение в Раушене, а этот особняк, в конце концов, можно просто бросить…
— Но мой долг, дорогая… — проговорил гость.
— Ах, долг! — перебила его Эдит. — Вы просто не любите меня.
— Нет, моя дорогая, вы сами знаете, как я люблю вас. И сейчас я докажу это, — решительно сказал тот, кого звали Ульрихом. — Скажите, где вы держите ваши деньги?
— Деньги?.. — в голосе Эдит зазвучала растерянность. — Здесь, в имперском восточно-прусском банке, в Риме, в национальном банке в Берлине…
— Вы должны немедленно закрыть все счета в этих банках и перевести деньги в аргентинский банк. Еще не поздно.
— Ульрих… Какой ужас! Вы меня пугаете. Что это значит?
— Это значит, моя радость, что вам я открываю государственную тайну. Есть директива моего высокого шефа и друга, доктора Гиммлера, о тайном укрытии всех ценностей империи, об уходе в подполье виднейших деятелей. Это значит — мы готовимся к поражению в войне. К поражению… Но мы еще вернемся, мы восстанем из пепла, как Феникс!
И, переходя от патетического тона к деловому, собеседник Эдит закончил:
— Вот поэтому и нам надо подумать о своих делах. Я заготовил доверенность на свое имя для ведения всех ваших дел, так что вам ни о чем не придется беспокоиться. Вот бумага, вот перо…
— Ах, все, что угодно, Ульрих! Какой ужас, какой ужас!.. Но сегодня мы едем в Кристалл-Палас, да? Я уже готова.
— Мне очень жаль, дорогая, но именно сегодня я не смогу. Завтра ко мне приезжает важный гость, и я должен вечером и часть ночи поработать, чтобы встретить его. А после этой встречи мы с вами свободны, как птицы.
— Правда? Значит, послезавтра мы уезжаем?! — воскликнула Эдит.
— Правда, радость моя. А теперь мы распрощаемся. Раздался звук поцелуя, и тяжелые шаги заскрипели по лестнице.
С сильно бьющимся сердцем, мучаясь и ругая себя за глупую и нелепую ревность, я осторожно вышел из тайника. Эдит неподвижно сидела на диване. На лице ее я прочел огромную внутреннюю собранность, сосредоточенность, она мельком взглянула на меня, кивнула на кресло и продолжала обдумывать, должно быть, что-то очень важное. Потом, внезапно подняв голову и пристально посмотрев на меня, она вдруг спросила:
— О чем вы думаете сейчас, Саша?
От этого неожиданного обращения я растерялся и вдруг выпалил совсем не то, что надо было сказать.
— Мне неприятно, что этот человек целовал вас. И еще я думал о том, почему ваши фотографии висят в квартире генерала Петровского.
Удивление отразилось на лице моей собеседницы.
— Вы были у нас дома? Я не знала об этом, хотя генерал сообщил мне о вас все. Расскажите, как это случилось?
Страшно волнуясь, чувствуя, что это — мое признание в любви, я сбивчиво рассказал о своем посещении квартиры на Молчановке, о сердитой старухе, о фотографиях… Эдит пристально смотрела на меня, чуть склонив голову, и еле заметная улыбка дрожала на ее губах. Наконец, я замолчал. Она встала, отошла к окну, поглядела на меркнущие тона вечернего неба и заговорила, не поворачивая головы.
— Мы с вами здесь для выполнения очень важного и опасного дела, Саша. Вы — опытный парашютист-десантник, но еще совсем молодой разведчик. И вы должны знать, что ни о чем и ни о ком, кроме дела, мы не должны думать. Ульрих фон Вольф, оберштурмбаннфюрер СС — мой жених, и я должна думать, — она сделала ударение на последних двух словах, — о нем и думаю о нем, как бы отвратителен он мне ни был. Вы, капитан Асанов, присланы сюда для выполнения важной операции, и думать о вас иначе, как о своем помощнике, я не могу, хотелось бы мне этого или не хотелось.
Я встал, чувствуя, что лицо мое пылает от стыда. Эдит подошла ко мне и, дружески прикоснувшись к моей руке, закончила гораздо более теплым тоном:
— Не спешите, у нас есть еще время для беседы. Я ведь просто хотела, чтобы все было ясным и ваша голова не занималась тем, что тяжело и не нужно в нашем положении.
— Расскажите же о себе, Эдит! — взмолился я.
6
— Кое-что расскажу.
Как я стала дочерью генерала Хеймнитца? Барон фон Хеймнитц, один из прусских магнатов, был генералом старого вермахта, другом и соратником Гинденбурга. Доктрина «Дранг нах Остен» была целью и смыслом жизни генерала. Овдовев в сорок пять лет, он женился вторично, и результатом этого брака было рождение Эдит. Это случилось двадцать три года назад. Мать Эдит умерла во время родов.
Генерал Хеймнитц преклонялся перед Италией и Римом и большую часть времени жил в окрестностях Рима, занимаясь раскопками. Он имел уникальную библиотеку по истории империи эпохи Суллы-Цезаря-Августа.
Когда в Италии к власти пришел Муссолини, Хеймнитц первым из иностранцев приветствовал «дуче», а после нацистского переворота в 1934 году вернулся в Германию и стал активнейшим сторонником «Третьего Райха». Гитлер, оценив преданность старого генерала, сделал его бригаденфюрером СС и командиром одной из дивизий своей черной гвардии. Хеймнитц погиб, командуя дивизией СС «Великая Германия».
Что же касается Эдит, то она продолжала жить в Италии, где воспитывалась в закрытом пансионе для детей из высшего общества. Каким образом я заняла ее место, рассказывать долго. Важную роль сыграло очень большое внешнее сходство и то, что в Германии только очень немногие знали дочь Хеймнитца. Люди, среди которых она вращалась, остались в Италии.
В прошлом году я ехала через Германию к своему мнимому отцу. Нужно было выполнить одно важное задание, а потом исчезнуть, не доезжая Кенигсберга, — «отец», разумеется, разоблачил бы меня при встрече. Но тут пришло известие о его гибели. Это неожиданное обстоятельство открыло передо мной широкие возможности. Я приехала в Кенигсберг, была в Танненберге на похоронах «отца», и там произошла встреча с «моей» теткой, видевшей Эдит последний раз десятилетней девочкой. Она «узнала» племянницу, и это окончательно укрепило мои позиции. Вы сами понимаете, какие возможности открыты для меня здесь, пока я живу в этом особняке, считаюсь богатой невестой, имею широкий круг знакомств.
Но близится штурм и падение крепости, и вот сейчас возникло дело, которое я не смогу выполнить одна. Для выполнения его потребуется ваша помощь.
Эдит замолчала. Я осторожно спросил:
— А ваши фотографии у Петровского?
— Мой отец погиб на границе, когда мне было пять лет, а вскоре умерла мама, и Николай Александрович взял меня на воспитание. Всем, что я знаю, умею, чего добилась, я обязана своему приемному отцу, — коротко ответила она.
Настольная лампа, горевшая на низкой тумбочке, едва заметно мигнула. Я не придал этому значения, но Эдит встрепенулась.
— Мне надо уходить. Меня ждут…
Встретив мой взгляд, она улыбнулась:
— Друзья…
Она вышла из гостиной, а я побрел в тайник, стараясь разобраться в переполнявших меня чувствах. За последние сутки Эдит совсем незнакомая мне женщина, вдруг стала очень близкой. Но чем лучше я узнавал ее, тем больше она отдалялась…
Проспав почти сутки, мы, разумеется, не сразу смогли уснуть этой ночью. Время в нашем тайнике определялось лишь по часам. Мы поели и снова легли, стремясь по привычке, выработанной в военные годы, каждую редкую свободную минуту использовать для отдыха. Но сон не шел ко мне.
Я думал о Эдит. Краем уха слышал, как Володя Леонтьев рассказывает Виктору о «Городе на заре» — постановке пьесы Арбузова в Москве, которую он смотрел незадолго перед началом войны. Володя страстно любил театр и втайне страдал от полного, как он считал, отсутствия у него артистических способностей.
7
Ранним утром следующего дня внезапно отворилась дверь, и в комнату вошла Эдит. В руках у нее был какой-то лист плотной бумаги, сложенный вчетверо. Поздоровавшись с нами, она присела на табурет, стоявший возле кровати.
— Я хочу кое-что рассказать вам, друзья, — начала она. Мы приготовились внимательно слушать.
— Один из моих «знакомых», подполковник разведки Ульрих фон Вольф, собирается жениться на мне. Я официально считаюсь его невестой. Вольф почти заново отстроил свою загородную виллу и назвал ее в мою честь «Эдит». Правда, теперь он больше помышляет о бегстве из крепости, чем о медовом месяце в своей вилле.
Эдит говорила спокойным голосом, каким обычно опытные учителя объясняют уроки своим ученикам.
— Вы немного познакомились с тем, что такое Кенигсберг как крепость. Но вы не знаете другого Кенигсберга — подземного. Здесь, под Кенигсбергом, существуют громадные подземелья, создававшиеся веками. Туннели подземных коммуникаций пересекают город во всех направлениях. Вы понимаете, какую опасность будет представлять собой этот кенигсбергский лабиринт для наших наступающих войск?! Есть и еще одна сторона дела. Многочисленные сокровища Королевского прусского музея, ценности, отобранные у населения, — все это спрятано в подземельях. План подземных коммуникаций и объектов хранится у Вольфа, второй экземпляр — в Берлине, но нам пока туда не добраться. Вольф должен все передать человеку, который прибудет с личным предписанием рейхсфюрера СС Гиммлера. Я узнала, что этот человек должен прибыть завтра, и потому — наступает пора действовать. Вот планы «Виллы Эдит» и прилегающих к ней кварталов. Вы должны отлично знать этот план. Все. До вечера, друзья.
Эдит поднялась, мягко улыбнулась, как только она умела улыбаться, и ушла, а мы принялись изучать план.
Шли часы. Наступил вечер, потом ночь. Мы изучили и дом, и район, в котором он расположен, и представляли теперь все это не хуже, чем если бы сами побывали там.
Около двенадцати ночи дверь распахнулась. Резкий повелительный голос Эдит заставил нас встать, как по команде.
— Немедленно собирайтесь! Едем!
И уже спокойно она объяснила план операции.
— Через некоторое время вы получите возможность познакомиться с «моей» виллой. В карауле у виллы сегодня два эсэсовца. Надо их бесшумно снять. Там же две собаки. И те, и другие меня знают. Собаками я займусь сама, а эсэсовцы… По этому сигналу действуйте вы.
Эдит коротко свистнула.
— В доме еще два охранника, но они, очевидно, спят. Тех не трогать, не задерживаться. Мой «жених» и тот, кого мы застанем с ним, будут, по всей вероятности, в кабинете, наверху. Во время церемонии представления вы должны их связать. Если знакомство не состоится, то вязать их по тому же сигналу. Все.
Незаметно выскользнув из дома, мы уселись в машину, и Эдит вывела «мерседес» на улицу. Ночь была безоблачной, ярко светила луна.
Мы молчали. Изредка нас останавливали патрули, но Эдит имела пропуск за подписью Гусскенда, и мы задерживались не более чем на минуту. Машину несколько раз сильно тряхнуло на исковерканной автостраде, и еще через минуту она резко повернула вправо.
— Едем в переулок к кирхе на холме, помните по карте, — тихо произнесла Эдит. — Я не оставлю машину на шоссе, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств нас не задержали. От кирхи ведет другая дорога — мимо кладбища.
Эдит отворила дверцу и вышла. Мы последовали за ней. За себя я не боялся. Мне не раз приходилось снимать часовых, мои товарищи тоже имели немалый опыт. Но все же нервный холодок, так хорошо знакомый тем, кто когда-либо шел на опасное, хотя и знакомое дело, пробегал по спине.
Открыв своим ключом калитку в ограде, Эдит жестом приказала нам прижаться к стене. С глухим рычанием, огромными прыжками к нам приближались два черных пса. Я узнал в них специально выведенную немцами породу — помесь дога с немецкой овчаркой. «Черные волки» — так называли гитлеровцы этих собак.
Негромко назвав собак по именам, Эдит бросила им что-то. Послышался хруст и чавканье.
— Стой! Кто? — раздалось одновременно с двух сторон.
К нам бежали два человека с автоматами в руках. Мы стояли в тени, оставаясь невидимыми, а Эдит смело вышла на освещенное место.
— Это вы, фрейлейн? — спросил подбежавший эсэсовец. — Просим прощения, но господин оберштурмбаннфюрер приказал никого не пускать. Даже вас.
— Как? Почему? Что случилось?! — воскликнула Эдит, делая шаг вперед. Теперь она стояла между нами и охранниками. Мы следили за каждым ее движением, нас не отвлекло даже то, что псы вдруг повалились наземь и молча скорчились в предсмертных судорогах.
— Он очень занят, фрейлейн. Сейчас к нему должен прибыть важный гость, — ответил эсэсовец.
— Кто? Наверное, женщина! — топнув ногой, воскликнула Эдит и вдруг коротко, резко свистнула. В одно мгновение мы очутились возле нее. Я схватил одного эсэсовца за голову, а маленький Володя Леонтьев вонзил ему в горло свой златоустинский нож. Виктор разделался с другим без оружия. Беззвучно, повинуясь жесту Эдит, мы устремились вперед, огибая виллу. Однако в следующую секунду она подняла руку.
Прижавшись к углу здания, мы увидели возле подъезда только что подъехавший автомобиль. Из него кто-то вышел. Второй человек, стоя на крыльце, встречал прибывшего. Мы не различали в свете луны лиц, но ясно видели, как прибывший и встречавший коротко о чем-то переговорили и скрылись за дверьми.
Выждав несколько минут, Эдит постучала. Отворил старый немец.
— Входите, господа, — обернулась она.
Мы вошли в небольшой освещенный холл. В то же мгновение на улице завыла сирена: в городе была объявлена тревога. Мы сбросили шинели, оправили мундиры и мельком огляделись. Лицо Эдит было спокойно и холодно. Мы встретились с нею глазами, и она улыбнулась. Не так, как Эдит Хеймнитц — дочь фашистского генерала, а нашей, родной, хорошей улыбкой.
Повинуясь знаку Эдит, мы поднялись по ступеням, покрытым толстым ковром. Стены холла были отделаны мрамором, с них смотрели крикливые, безвкусные картины модернистов, на площадке стояли вычурные золоченые кресла.
Эдит подбежала к двустворчатой двери и одним толчком распахнула ее. Два человека в глубине комнаты, стоявшие с бокалами в руках возле столика, заставленного бутылками, резко обернулись при нашем появлении. Один из них — полный, откормленный, с бульдожьим лицом, а второй…
О, я сразу, мгновенно узнал его, несмотря на всю необычайность встречи! Перед нами в элегантном коричневом костюме стоял мой старый знакомый — американский капитан Клифтон Брандт.
Эдит сделала шаг навстречу своему «жениху» и сказала:
— Позвольте представить вам, Ульрих, моих друзей. — И, обернувшись в нашу сторону, показала рукой на Владимира, который стоял ближе к ней.
И вот тут произошло то, чего никто из нас не мог предвидеть: Клифтон Брандт узнал меня. Я заметил, как лицо его мгновенно изменилось, вытянулось, глаза расширились, и он, вдохнув в себя воздух, словно собираясь прыгнуть в воду, крикнул:
— Вольф! Русские!.. Стреляйте!
Думаю, если бы Брандт увидел привидение, оно не произвело бы на него такого впечатления, как наше появление. Возглас его был столь неожиданным, что ни Эдит, ни мои товарищи, ни сам Вольф в первый момент ничего не поняли.
Дальше все совершилось мгновенно. Я бросился на Брандта, схватил его, но он успел выстрелить. Я почувствовал сильный удар в плечо и резкую боль. Брандт выскользнул из моих рук и опрометью кинулся к двери. Пока у меня происходила схватка с Брандтом, Виктор бросился на Вольфа и ударом кулака оглушил его. Володя поспешно запер дверь на ключ.
— Кто из вас опознан? Почему? — резко обратилась к нам Эдит.
— Опознали меня, — ответил я. — Человек, который в меня стрелял, — американец, мы знакомы с ним по Северу.
— Какая досада! — с горечью произнесла Эдит. — Немедленно уходить! Взять с собой Вольфа и уходить. Ничего не потеряно.
Мне наскоро сделали перевязку. На это было затрачено не больше пяти минут, но они приблизили дальнейшие события. Лишь только мы собрались идти, как снизу донесся многоголосый шум. Виктор подскочил к окну. Зазвенело разбитое толстое стекло, в комнату ворвался морозный воздух. Нас отделяла от сада решетка в виде острых копий, перевитых железными виноградными лозами. Виктор с бешеным усилием навалился на нее. Мы еще по дивизии знали его «фокусы» с железными прутьями, которые он вязал в узлы, и с надеждой смотрели на друга. Эдит, безмолвная, тоже смотрела на окно.
Уже загрохотали шаги по лестнице, когда Виктор обернулся, тяжело дыша:
— Готово. Можно пролезть.
— Леонтьев, прыгай первым, принимай Эдит и Воронова с Вольфом, — распорядился я.
— Отставить! — голос Эдит был резкий и жесткий. — Леонтьев — вперед! Примите Воронова и Вольфа. Я — последняя.
Володя подбежал к окну, протиснулся сквозь решетку и исчез в темноте. Виктор, схватив безжизненное тело Вольфа, протащил его за собой сквозь решетку и прыгнул вниз. Я глянул в окно: внизу, возле стены виднелись силуэты Воронова и Леонтьева. Вокруг — никого: враги были уверены, что мы в мышеловке, и заранее торжествовали.
В дверь бешено заколотили. Прогремела автоматная очередь, и вслед за ней раздался громкий голос Брандта:
— Эй, Александр! Сдавайтесь! Нас много, на окнах решетки, вам не уйти.
Эдит, повелительным жестом указывая мне на окно, достала из висевшей у нее на руке сумки пистолет и выстрелила в дверь. Чувствуя, что теряю последние силы, я протиснулся между прутьев и прыгнул вниз. Меня поддержал Виктор. Через секунду рядом с нами была и Эдит. Володя уже сидел в машине.
Девушка схватила меня за руку, и мы побежали к калитке. Воронов с Вольфом на плечах бежал впереди. Леонтьев подъехал и ждал нас.
Эдит последней вскочила в машину. Володя дал газ, мотор взревел, и мы помчались прочь от виллы «Эдит».
Бомбежка загнала патрули в железобетонные бункеры, и «мерседес» беспрепятственно несся по улицам города. Небо во всех направлениях пересекали прозрачно-серебристые лучи прожекторов. Глядя на эти перебегающие лучи света, можно было подумать, что огромный спрут шарит по небу щупальцами. Повсюду вспыхивали взрывы зенитных снарядов, небо чертили разноцветные искорки трассирующих пуль. То в отдалении, то совсем близко раздавались взрывы тяжелых фугасных бомб.
Я полулежал рядом с Володей, а Виктор и Эдит сидели сзади. Под ногами у них лежал не пришедший в сознание Вольф.
Эдит наклонилась к своему «жениху», взяла его руку и прощупала пульс.
— Здоровье подполковника драгоценно для нас, — с усмешкой заметила она.
— Куда ехать? — спросил Леонтьев.
— На Инстербургское шоссе.
Замелькали заводские корпуса, пригородные парки. Мы подъехали к развилке дорог и увидели шлагбаум и бункер заставы.
— В боковых карманах дверец — гранаты. В переднем ящике — дымовые шашки, — бросила Эдит.
Мы приготовили оружие.
Шлагбаум был закрыт, и Виктор пошел по направлению к бункеру. Мы напряженно ждали. Не успел он сделать и двух шагов, как раздался треск автоматов из амбразур бункера. Наш друг упал.
«Значит, Брандт не терял времени и позаботился, чтобы заставы были предупреждены», — мелькнула у меня мысль.
Механически, почти не думая, я метнул одну за другой две гранаты и дымовую шашку, Володя резко дал ход и машина сквозь клубы дыма подскочила к Виктору.
— Со мной все нормально, — услышали мы голос друга. Он лежал в нескольких шагах от шлагбаума и стрелял по амбразуре. Володя бросился к нему.
В это время сзади вскрикнула Эдит, и сразу же машину резко встряхнуло. Обернувшись, я увидел Вольфа, метнувшегося из машины. Эдит сидела, странно скорчившись, обхватив руками живот. Голова ее была опущена.
Вольф обманул нас. Он давно пришел в сознание и выжидал подходящий момент для бегства.
Забыв о раненой, я ринулся за ним, но, неловко ударившись плечом о дверцу, на миг потерял сознание. Очнувшись, увидел: Вольф, пригибаясь, зигзагами бежал к бункеру и кричал что-то визгливым голосом. Жандармы возобновили стрельбу из автоматов, стремясь отсечь дорогу Виктору и Володе, которые бежали наперерез Вольфу. Было ясно, что им не успеть.
Медленно подняв вальтер и стараясь унять дрожь руки, я три раза выстрелил, метя в голову фашисту. Вольф упал возле самой двери бункера. Два немца, выскочившие навстречу, поволокли его в бункер.
Мы не могли продолжать схватку. В любой момент могла появиться погоня. Друзья помогли мне сесть в кабину, и «мерседес» рванулся вперед, прямо по полю, в объезд шлагбаума. Володя включил внутреннее освещение, и мы на ходу осмотрели раненую.
Теплый шерстяной свитер, в котором осталась Эдит, сняв шубку в вилле, был пропитан кровью. Леонтьев осторожно разрезал его спереди. И без специалиста нам все стало ясно: в область живота нанесена глубокая ножевая рана. Не могу сказать тебе, дружище, что пережил я за эти часы. Из-за нелепой случайности сорвалось дело. А рядом со мной лежала тяжелораненая девушка, дороже которой для меня не было никого на свете. Я забыл о своей ране, не чувствовал боли, и все мои мысли были о ней.
Мы мчались навстречу огненным зарницам, навстречу гулу канонады, обгоняя порой грохочущие танки и беженцев, жмущихся к обочинам дороги. Никто не думал задерживать нас на этой, охваченной лихорадочной тревогой военной дороге. Вода в радиаторе кипела, от «мерседеса» валил пар. Вдруг Виктор, придерживающий Эдит, негромко окликнул нас. Девушка пришла в себя. Даже тяжелое ранение и глубокое забытье, в котором она находилась, не смогли заслонить от нее того, что произошло.
Я услышал слабый голос Эдит.
— Передайте, — с усилием сказала она, — план… план… хранится… — и снова потеряла сознание. Виктор, поддерживая ее голову, повернулся ко мне.
— Что будем делать, командир? — спросил он сразу охрипшим голосом.
— Вперед, сколько хватит сил, — ответил я.
Низко склонившись над баранкой, Володя пристально всматривался вперед и выжимал из «мерседеса» все возможное. Завывая и дребезжа, машина неслась навстречу неизвестности.
«Только бы не налететь на завал. Только бы не попасть в воронку…» — думал я, до боли в глазах стараясь что-либо рассмотреть на слабо отсвечивающей влажной ленте несущегося нам навстречу шоссе. Впереди вдруг что-то затемнело, и в тот же миг Володя резко затормозил. Визжа тормозами, «мерседес» пополз в сторону и остановился чуть ли не поперек дороги. Я выскочил из. машины, тревожно осматриваясь.
— Руки вверх! — раздалась вдруг откуда-то сбоку повелительная команда, которую я, впрочем, не смог бы выполнить, так как был схвачен и чуть не потерял сознание — раненую руку безжалостно завернули за! спину.
В следующее мгновение вспыхнуло несколько фар, и я увидел танк — тридцатьчетверку. На боевой башне белела свежая надпись: «Даешь Кенигсберг!» Тот же голос, которым был отдан приказ поднять руки, докладывал:
— Товарищ полковник, улов богатый, машина с офицерами. Сразу несколько языков.
— Отлично! Молодец, Маркесян, — раздалось в ответ, — тащи их сюда ближе.
Можешь себе представить мое состояние: страшное беспокойство за Эдит, радость от встречи с нашими, нечеловеческая боль, в раненой руке…
Стараясь говорить твердо и спокойно, я сказал, обращаясь в ту сторону, откуда раздался голос полковника:
— Должен вас огорчить, товарищ полковник, произошла ошибка. Мы, советские офицеры, возвращаемся со спецзадания.
— Что за черт!? Свои, говорите? — раздалось в ответ восклицание.
— Да, — ответил я. — И крайне нуждаемся в медицинской помощи. В машине тяжелораненая женщина.
Наступал уже рассвет, и можно было различить множество танков, стоявших в стороне от дороги под деревьями. Видимо, здесь было не меньше полка.
Мне перестали крутить руки, хотя продолжали крепко держать. Полковник распорядился о враче и направился ко мне. Но я, обернувшись к машине, задал вопрос, который волновал меня сейчас больше всего:
— Как Эдит?
Ответом было молчание. Вырвавшись из рук державших меня людей, я бросился к машине, схватил Эдит за плечи и ощутил необычную тяжесть ее тела. Не веря, не допуская мысли о несчастье, я прижался губами к ее лбу.
— Она мертва, — тихо сказал кто-то.
Саша ходил по комнате и курил, делая глубокие затяжки. Потом он надолго замер у окна.
— Ну, что еще сказать тебе, дружище, — продолжал он через некоторое время. — Танкисты выкопали могилу, мы опустили в нее тела Эдит и двух танкистов — молодого лейтенанта и пожилого механика-водителя. Полковник приказал поставить перед могильным холмиком подбитый танк «Т-34».
Откровенно говоря, я плохо помню, как мы добирались до Москвы. Запомнились только полевой аэродром, где мы садились в самолет, да лежавший в развалинах Минск.
В Москве я узнал от Петровского, что Эдит имела хорошее русское имя Нина.
Саша снова замолчал, подошел к окну и долго смотрел на уже безлюдную ночную улицу. В комнате стояла тишина, и лишь откуда-то из-за стены до нас доходил негромкий голос радиодиктора. Через полминуты послышались знакомые мелодичные звуки московских курантов. Это Красная площадь возвещала о начале новых суток.
Мне не хотелось больше тревожить Сашу.
Мы расстались с надеждой на скорую встречу, но я никак не предполагал, что события, связанные с «Виллой Эдит», вновь напомнят о себе.
Часть вторая
1
В тот памятный вечер, я, если не забыл читатель, должен был идти в Большой театр. Слушая друга, я ни разу не вспомнил об этом, и только на второй или третий день обнаружил в кармане кителя билет.
Мне не давала покоя история замечательного подвига советской девушки, и приблизительно год спустя я написал об этом рассказ.
Прошел еще год. И вдруг я получил неожиданное письмо. В нем было всего несколько строчек: «Если вы хотите знать продолжение истории „Виллы Эдит“, то по приезде в Москву приглашаю вас на Молчановку, дом 9, квартира 11. Считаю, что история эта поучительна для наших людей. Петровский».
Мог ли я остаться спокойным?! Ведь письмо было написано знаменитым генералом Петровским, который, видимо, прочел мой рассказ в газете.
Немедленно взяв отпуск, я вылетел в Москву.
Квартира генерала оказалась именно такой, какой описал мне Саша. Генерал — сухой, подтянутый, совсем седой, но по-юношески подвижный, сам встретил меня.
— Хорошо, что приехали сразу. Я сейчас… — он замялся… — в отпуске. Сердце… — И генерал махнул рукой, как-то вдруг став знакомым и близким, словно я знал его уже много лет. Не верилось, что передо мной прославленный друг и соратник Дзержинского.
А Петровский тем временем деловито заговорил:
— Я пригласил вас потому, что, прочтя ваш рассказ, понял, как важно, чтобы эта история стала известной до конца. Вы правильно сделали, изменив имена врагов. До времени, может быть, действительно не стоило открывать карты, но теперь нет смысла таиться. Эта история поучительна еще и потому, что вначале, как вам известно, она окончилась для нас поражением.
— Вначале?! — воскликнул я. Петровский кивнул.
— И Саша ничего не знает?
— А вы давно с ним встречались? — спросил в свою очередь генерал.
Я вынужден был сознаться, что вот уже около года не видел своего друга и не переписывался с ним.
— Да, да, это похоже на вас, молодых людей, — слегка улыбнулся генерал. — Были бы вы стариком, не потеряли бы из виду друга.
Этот заслуженный упрек заставил меня покраснеть. Я отвернулся, скрывая смущение, и мой взгляд упал на большой портрет Нины, висевший в соседней комнате. Петровский остановился сзади меня и тихим голосом, в котором я уловил нотки боли, проговорил:
— Вот она какая была, моя доченька.
Я ждал, что генерал еще что-нибудь скажет о своей приемной дочери, но он уже другим тоном продолжал:
— Не будем отвлекаться, приступим к делу. Петровский подошел к дивану, сел и пригласил меня.
— Ну, что ж, наберитесь терпения выслушать до конца эту историю. И вот еще о чем я вас попрошу: не пишите от моего имени.
Я выполнил просьбу генерала и переношу вас, читатель, к следующим главам повести.
2
…Гладкая поверхность моря всколыхнулась, и из воды появились две головы в прозрачных колпаках-шлемах. Пловцы направились к маленькой шлюпке. Перевалившись через борт шлюпки, они быстро и ловко сняли с себя легкие резиновые костюмы и с наслаждением подставили обнаженные тела яркому калифорнийскому солнцу. Невдалеке виднелась зеленая шапка острова Каталина. По направлению к шлюпке спешила небольшая двухмачтовая яхта с белоснежным корпусом и сверкающими бронзой надстройками.
— Чудеса, Джон! — воскликнул один из пловцов, щурясь на солнце и потирая руки. Второй довольно рассмеялся и осторожно, стараясь не замочить, открыл пачку сигарет.
— Неправда ли, здорово, Клифтон? — Он вытащил зубами одну сигарету и ловко прикурил.
— Ваш подводный сад не имеет себе равных, особенно эта аллея актиний, — продолжал восторгаться тот, кого назвали Клифтоном. Это был уже знакомый нам Клифтон Брандт.
— А коралловая беседка?
— О беседке не говорю, прелесть!
Оба замолчали, наслаждаясь солнцем и спокойным морем.
— Алло, мистер Эллиот, какие будут приказания? — донесся крик с яхты.
Джон лениво повернул голову.
— Ждать в дрейфе. Позову.
Молчание снова нависло над шлюпкой. Вдруг на острове что-то сверкнуло раз… другой. Эллиот рассмеялся.
— Это Мэдж зовет нас обедать. Видите, Клифтон, когда я долго вожусь в своем саду, она сигналит, что пора на обед.
Клифтон вздохнул.
— Да, хорошо женатым людям. А вот меня некому звать обедать.
— А я давно говорю тебе, дружище, что пора жениться. Хватит жить бобылем, губить молодость, — наставительно произнес Эллиот. Брандт расхохотался.
— Молодость, сэр! Где она, моя молодость? На Севере? В Германии? На полях России?! И потом дело не только в молодости. Мне почему-то кажется, что до тех пор, пока я не буду иметь такой яхты, как ваша «Рыбка», такой виллы, как ваша «Звезда»…
— Такого подводного сада… — подсказал Эллиот.
— Нет, Джон, с подводным садом я бы подождал, — серьезно возразил Брандт.
— Словом, — перебил его снова Эллиот, — ты недоволен своим материальным положением. Не так ли?
— Я не могу этого сказать, — осторожно возразил Брандт.
— Во всяком случае, ты не прочь заработать?
— Что-нибудь новое, Джон? — догадался Брандт.
— Нет, Клифтон, не угадал. Старая история. То, на чем ты дважды чуть не сломал себе шею.
— «Вилла Эдит»? — удивленно произнес Брандт.
— Она. В пятьдесят первом ты впустую прогулялся к ней. Сознаюсь, в тот год я немало пережил, нас преследовали неудачи за неудачами. Потерять такой самолет! Это слишком дорогое удовольствие, и я представляю ликование русских, когда они отправили его на дно Балтийского моря. Но теперь все о’кей: мы нашли человека…
— Нашли Вольфа?!
— Да, мой друг, — торжествующе подтвердил Эллиот.
3
…Развалясь в шезлонге, человек читал газету. Рядом на легком столике лежала целая груда газет и журналов. Поодаль от кресла стоял еще один стол с пишущей машинкой и кипой бумаги. Солнце, пробиваясь сквозь зеленые побеги плюща, которыми были увиты потолок и стены террасы, бросало на пол и на человека яркие блики.
Отбросив газету, человек встал, хрустнул пальцами, энергично прошелся по террасе. Он был еще не старый, держался бодро, хотя под глазами набухли мешки, а фигура предательски расплылась.
— Ральф Краузе, старый разбойник, — бормотал он, косясь на газету. — Ге-не-рал Ральф Краузе снова на коне! Старый дружище, удачно увильнувший от петли в Нюрнберге! Ха-ха! — Человек остановился у окна.
— Да, да, эту мысль необходимо записать: старые кадры становятся надежным оплотом нового мира, — пробормотал он, поворачиваясь к машинке, и, не садясь, стал бойко выстукивать.
— Ральф, черт побери, генерал Ральф! Как его называли у нас в Бухенвальде?.. Ах, да — «Смерть-Краузе»… Но, нет! С меня довольно! Не выманишь даже генеральским чином. Паола! — вдруг закричал человек. — Паола, мой кофе!
В глубине дома послышался шум, и на террасе появилась старая женщина с подносом.
— Мартинес докладывает, что машина готова, синьор, — проговорила она.
Хозяин рассеянно кивнул головой, беря чашку с кофе и гренки. Старуха ожидала, стоя позади шезлонга.
— Эй, где тут гасиенда «Ночная роза»? — вдруг раздался веселый громкий голос со стороны дороги, скрытой густым кустарником. Хозяин замер с недонесенной до рта чашкой.
— Синьор, это к нам; — проговорила старуха.
Бешеными глазами хозяин взглянул на старуху, а в это время с дороги снова послышался все тот же голос:
— Алло, есть тут кто-нибудь живой, черт побери?!
Кусты затрещали, и прямо перед террасой появился человек в светлом спортивном костюме и такой же светлой шляпе. Он весела расхохотался.
— Ай-ай-ай, дружище, разве можно заставлять меня в мои годы лазить через заборы, словно мальчишку, — проговорил он, легко взбегая по лестнице на террасу. — Вы так спрятались, что вас сразу не найдешь. Полчаса езды от Буэнос-Айреса, а глушь, словно в центре сельвы.
— У нас нет сельвы, — внезапно осипшим голосом отозвался хозяин.
— Ну и не надо, — весело согласился гость. — Но я что-то не замечаю, что вы рады встрече, оберштурмбаннфюрер Вольф.
При последних словах хозяин вскочил, со злобой глядя на гостя:
— Какого черта вы ворошите прошлое! Меня зовут синьор Энрико Хаунес, а вы болтаете черт знает что.
— Ну, ну, хорошо… Надеюсь, вы все же поздороваетесь, ведь мы как-никак — друзья… — примирительно сказал гость, садясь вместо хозяина в шезлонг. Вольф побагровел, но сдержался. А человек как ни в чем не бывало огляделся и, заметив машинку, с интересом склонился над листами.
— О! «Мемуары воина». Очень хорошо, — весело продолжал гость. — А это что? Так, интересно: «Старые кадры становятся надежным оплотом нового мира». Прекрасно, Вольф, это именно та самая мысль, которую я надеялся уловить в вашем сегодняшнем настроении. Рад, искренне рад!
Вольф мрачно смотрел на пришедшего.
— Кстати, дружище, чтобы вы не забыли: меня теперь зовут Дэнни, Джемс Дэнни.
— Ну, здравствуйте, Джемс Дэнни, — пробурчал Вольф.
— Здравствуйте, дорогой, здравствуйте, — засиял Дэнни. — Я очень рад, что вы, наконец, узнали меня и вспомнили нашу старую дружбу.
— Которая была так коротка, — насмешливо вставил Вольф.
— Не надо, Вольф, — серьезно возразил гость, — не богохульствуйте, господь сохранил вас именно для нашей дружбы, и мы не должны смеяться над этим.
— А вы стали ханжой, Брандт, — заметил Вольф.
— А вы стали очень невнимательны. В прошлый раз вы сразу стали угощать меня чудесным коньяком, а потом перестрелкой. На первое я согласен и сейчас…
— Паола! Коньяк и еще кофе! — приказал Вольф женщине, которая продолжала безмолвно стоять в углу комнаты.
— Вы неплохо устроились, Вольф. Гасиенда, слуги… И счет в банке совсем неплохой.
— Вы и счет успели проверить? — со злобой проговорил Вольф.
— Так, случайно. Собственно, меня интересовал не сам счет, а некая доверенность…
— Какая еще доверенность? — Вольф наклонил голову и стал похож на боксера, готовящегося встретить атаку противника.
— Да так, одна фальшивая доверенность, выданная некогда советской разведчицей некоему гитлеровскому разведчику, на основании которой последний завладел состоянием одной знатной немецкой дамы.
Вольф усмехнулся.
— Ну, тут мне беспокоиться не о чем. Вы не докажете, что моя покойная невеста не была истинной Эдит Хеймнитц. А доверенность?.. Это вы бросьте… ее составлял лучший нотариус Кенигсберга.
— А вы уверены, что Эдит — покойница? — спросил Брандт.
— Абсолютно, — самоуверенно отозвался Вольф, — этому удару ножом я напрактиковался в Мюнхене, а там — сами знаете — умели учить.
Брандт, улыбаясь, молча смотрел на Вольфа. Тот резко отодвинул свой кофе.
— Вы хотите сказать, что, возможно, я ошибся и Эдит жива. Но меня это не беспокоит — шпионка не предъявит своих прав на мои деньги.
— Вы совершенно правы, — не предъявит. Тем более, что в Мюнхене вас действительно научили толковому удару. Год назад я имел печальное удовольствие посетить так называемую Германскую Демократическую Республику.
— Вот как! — заинтересованно проговорил Вольф. — Вы были в Германии?
— Да, проездом.
— Проездом? — Вольф расхохотался, — Представляю себе…
— Да, проездом, — невозмутимо подтвердил Брандт. — И, кстати, совершенно случайно узнал там забавную вещь.
— Какую же?
— Я узнал, что настоящая Эдит, Эдит Хеймнитц жива, что она прожила всю войну в России, в плену, пока ее русская преемница обделывала свои дела в Германии. А после войны она была отпущена на родину и вернулась в Рим.
Брандт замолчал и с удовольствием стал прихлебывать кофе, долив в стакан коньяку.
— Послушайте, ну и что же? — с беспокойством проговорил Вольф.
Брандт не спеша поставил кофе на столик около машинки, плеснув при этом на листы рукописи.
— Тысяча извинений, Вольф, я залил ваши труды. Да, так вот, она, конечно, не знает, что потеряла деньги не в результате войны и военных случайностей, а благодаря вам, Вольф.
Брандт проговорил это, добродушно посмеиваясь, но взгляд его, обращенный на Вольфа, был пристальным, испытующим, холодным. Вольф побледнел, но старался держаться спокойно.
— Так, дальше… — проговорил он, облизывая пересохшие губы.
— Да ничего не было дальше, — рассмеялся Брандт. — Не надо так волноваться, мой друг. Просто я хотел сказать, что Эдит вышла замуж за своего старого поклонника Джона Костера, американского миллионера, так что вы, к сожалению, не можете повторить своего жениховства. Ну, а Джона Костера, вы, конечно, знаете, он своего не упустит.
— Но почему же… — у Вольфа перехватило горло, и он не смог говорить дальше.
— Вы хотите спросить, почему мы, зная, что вы ограбили Эдит, не сообщили Костеру об этом? Да потому, дружище, что мы вас любим и совсем не хотим, чтобы вы стали нищим.
Долгое молчание нависло над террасой. Брандт пил кофе, все больше и больше доливая коньяком пустеющий стакан, а Вольф мрачно задумался, упершись глазами в неподвижный куст огромного колючего кактуса. Солнце бросало сквозь листву красноватые отсветы, небо пылало багряным пламенем. Откуда-то из глубины дома раздалась музыка — американский рокк-энд-ролл. Вольф повернулся в своем кресле, с ненавистью взглянул в сторону, откуда доносилась музыка. Брандт, напротив, весело притоптывал в такт. Потом, налив в свой совсем пустой стакан коньяку, придвинул кресло поближе к Вольфу.
— Понимаете, дружище, теперь, после прошлых неудач, мы должны очень многое сделать, чтобы исправить положение. Нам, американцам, не безразлично, если русские разберутся в подземных коммуникациях города. Подземное городское хозяйство, все туннели, мастерские и склады, скрытые под землей, — все это в ваших документах, которые нам не удалось извлечь из тайника и увезти ни в сорок пятом, ни в пятьдесят первом году. Русские не представляют, что у них под ногами. Они только частично используют энергетическую систему, водопровод и канализацию. А архивы разведки, оставленные вами в тайнике? А списки восточнопрусской агентуры?..
— Вы знаете и об этом? — Вольф поднял удивленный взгляд на Брандта. Тот коротко кивнул.
— Знаю. И еще знаю, что перед моим прибытием в Кенигсберг было исполнено два приказа вашего фюрера: первый — сбор всех драгоценностей от населения, второй — захоронение этих драгоценностей и всех сокровищ Королевского прусского музея, в том числе и знаменитой янтарной комнаты, вывезенной в сорок втором году фельдмаршалом Кюхлером из Петергофа. Знаю, что оба эти приказа были исполнены особоуполномоченным Гиммлера оберштурмбаннфюрером Вольфом. Так вот, все эти сокровища должны принадлежать нам, американцам, или… пусть будут погребены навечно.
Вольф тяжело вздохнул.
— Вот так-то. Придется поработать. Нам нужен план подземелий, нам нужны архивы разведки, нам нужно знать, где хранятся сокровища. Хочу добавить: никто не знает точно, что именно из ценностей было спрятано в подземельях. Поэтому с нас не спросят отчета… Запасайтесь чемоданами!
Глаза Вольфа алчно блеснули.
— А если я откажусь от экспедиции?
— Мы перестанем любить вас, — с улыбкой ответил Брандт.
— А если русские уже все отыскали? — продолжал упорствовать Вольф.
— Это исключено. По данным нашей разведки — а мы не можем ей не верить, — русские не открыли тайн кенигсбергских подземелий.
— Тогда… — хотел что-то еще сказать Вольф.
— Тогда вперед, к богатству! — воскликнул Брандт. — Ведь мы с вами, друг мой, старейшие и опытнейшие разведчики и пройдем всюду, куда только захотим.
Вольф налил в стаканы коньяк и чокнулся с Брандтом.
— Когда мы едем?
— Ну, не так скоро. Сначала мы побываем у моего друга Джона Эллиота. Если бы вы знали, какая у него яхта, какой чудесный подводный сад!..
4
Вечерняя Москва была шумной, оживленной. По обеим сторонам улицы деловито проплывали троллейбусы, проносились автомобили, по тротуарам бурлили потоки прохожих, спешивших в кино, клубы, театры, на концерты.
Никто из многочисленных прохожих, задержавшихся у светофора на углу Садового кольца и улицы Горького, не обратил внимания на сверкающий лаком «бьюик», который, прошелестев шинами по мокрому асфальту, промелькнул под зеленым светофором и исчез, смешавшись с десятками машин, в направлении Смоленской площади. Милиционер, стоявший постовым на площади Маяковского, тоже проводил «бьюик» равнодушным взглядом.
На Смоленской площади машина свернула влево, долго кружила по переулкам Арбата, затем по набережной доехала до Каменного моста, пересекла Красную площадь, миновала многошумную улицу Горького, вновь пересекла Садовое кольцо, но уже в другом месте, и вынеслась на Ленинградское шоссе. Здесь автомобиль не задерживали светофоры, и он прибавил скорость. Через несколько минут сверкнули перебегающие по воде блики света, замелькала ограда Химкинского речного вокзала, и «бьюик» резко затормозил. Из машины выскочили два человека, оглянулись и, увидев, что на шоссе никого нет, скрылись в темных аллеях парка. Автомобиль снова набрал скорость и растаял в темноте.
Люди, покинувшие машину, ничем особенным не отличались. Один, плотный и высокий, был одет в парусиновую гимнастерку и брюки, заправленные в кирзовые сапоги, на голове его была фуражка, в руках он держал туго набитый старенький портфель. Такую полувоенную форму любят у нас носить хозяйственники. Второй, сухощавый, среднего роста, был в шелковой безрукавке и спортивных брюках. Он нес маленький чемодан. Оба имели озабоченный вид людей, боявшихся куда-то опоздать. Они быстро миновали темные аллеи парка и, пройдя мимо ярко освещенного здания вокзала, увенчанного шпилем со звездой, снова вышли на шоссе. Ни разу за все время они не заговорили друг с другом. Оглядевшись, толстый «хозяйственник» подошел к такси, стоявшему неподалеку от входа в вокзал. Второй последовал за толстяком.
— К станции «Белорусская»! — тоном бывалого хозяйственника сказал шоферу толстяк, когда он и его спутник сели в такси.
Пока «победа», набирая скорость, мчалась по автостраде, сухощавый незаметно поглядывал в окно. Возле станции метро «Белорусская» они на ходу расплатились с шофером. Спустившись на эскалаторе, они сделали нелепую, с точки зрения постороннего наблюдателя, вещь: немедленно перешли на эскалатор, идущий вверх, и, пока поднимались, внимательно смотрели: не повторит ли кто-нибудь их трюк. Снова выйдя на улицу, они сели в другое такси. На этот раз их заказ был более солидным: — В Можайск!
Шофер переспросил и, получив подтверждение, повел машину по направлению к магистрали Москва-Минск.
Поздно вечером спутники приехали в Можайск, явились на станцию железной дороги и, став в очередь к кассе, взяли бесплацкартные билеты на поезд Москва — Калининград. Когда, сверкая огнями, подошел поезд и отъезжающие бросились разыскивать свои вагоны, двое не спеша пошли вдоль состава туда, где светился красный огонек последнего вагона.
5
Московский поезд прибыл в Калининград точно по расписанию. Сквозь широкие окна вагонов была видна оживленная толпа встречающих.
Асанов не спешил покинуть свое купе и, лишь когда перрон стих, вышел туннелем в город.
Саша давно хотел и никак не решался приехать в Калининград. Слишком живы были воспоминания о событиях тех лет. С трепетным чувством он вышел на площадь перед вокзалом и огляделся. Как все изменилось с тех пор! На том месте, где он и его товарищи увидели сидевшую в автомашине Эдит, стояло несколько такси, и около них толпились пассажиры. По площади со звоном мчались новые трамваи, сновали грузовики. По тротуарам пробегали стайки школьников, шли девушки в спецовках, густо припудренных известковой пылью, проходили щеголеватые военные моряки. К пригородному поезду спешили женщины с корзинками и авоськами, наполненными покупками.
Асанов пешком направился по улице, ведущей от вокзала к центру города. Здесь еще видны были следы войны. Целые кварталы руин заросли травой и кустарником, древние готические строения, назначение которых теперь трудно было определить, зияли глазницами окон. Но улица вставала из развалин. В груде битого кирпича неторопливо ворочался огромный экскаватор, и перед ним выстроилась целая очередь самосвалов. На уже расчищенной площадке работали бульдозеры — готовили место новому дому. А вот и новые дома — большие, просторные, светлые. Их словно из детских кубиков — блоков — собирали башенные краны, похожие на гигантских аистов.
Миновав мосты через канал и Преголю, Саша остановился на площади у бывшего королевского замка. Глядя на мрачные развалины, на полуразрушенный главный корпус, на разбитую сторожевую башню, Асанов думал о той всесокрушающей силе, которая пронеслась над этой цитаделью прусских хищников.
Не замечая усталости, он шел дальше. Его поразила новая асфальтированная площадь, и он понял, что, видимо, сюда переместился теперь центр города.
А вот и знакомый памятник Шиллеру. Буря войны пронеслась над высокой бронзовой фигурой.
Саша не сел в такси, не вскочил в проходивший трамвай, хотя уже узнал, что первый номер довезет его к переезду, от которого рукой подать до «Виллы Эдит». Слишком сильно было волнение от встречи с прошлым…
Увидев здание с надписью гостиница «Москва», он, не раздумывая, зашел в вестибюль.
За окошечком, над которым висела табличка: «Дежурный администратор», сидел пожилой мужчина, углубившись в какой-то журнал. На вопрос: «Есть ли свободный номер?» — дежурный, отложив журнал, бойко ответил:
— Да, пожалуйста, на втором этаже.
— Можно занять его?
— Будьте добры, ваши документы.
Саша подал паспорт администратору. Тот, мельком посмотрев его, приподнял брови, внимательно перечитал фамилию и, возвращая паспорт, проговорил, передавая маленькую бумажку: — Вам вызов.
— Какой вызов? — не понял Саша.
— Вызов на телефонный разговор. В четырнадцать часов. Москва.
Асанов изумленно взглянул на администратора.
— Разговор с Москвой?..
Теперь удивился администратор.
— Да, а в чем дело?
— Но, позвольте, я только что приехал к вам в город, я даже не знал, что у вас тут есть такая гостиница, и пришел совершенно случайно.
Администратор рассердился:
— Вот что, гражданин! Не хотите говорить, не говорите, дело ваше, а меня прошу не задерживать.
Саша, недоумевая, опустил бумажку в карман. Первая мысль была о том, что что-то случилось в радиокомитете, где знали, что он проводит отпуск в Калининграде, вторая — о доме. Но он жил один, сестра с мужем уехали на курорт, следовательно, оттуда никто не мог звонить. Да и кто же мог предположить, что он остановится именно в «Москве».
Размышляя, Асанов заполнил анкету приезжающего, прошел в номер, переоделся в легкий летний костюм и взглянул на часы. Было двенадцать. Отдыхать не хотелось. Тревога, охватившая его при получении вызова, смешивалась с настроением, не покидавшим с самого момента прибытия в город. Эти два чувства властно гнали его снова на улицу, туда, откуда десять лет назад, весенней мартовской ночью мчался «мерседес», увозя Эдит в последний путь…
6
Кустарник, разросшийся за эти годы, заслонял дом с улицы, и, только подойдя вплотную к нему, Асанов увидел за тонкой металлической оградой-сеткой фасад дома и поблекшую от дождя и времени надпись — «Вилла Эдит».
Впервые он видел виллу весной, ночью, в лунном свете. Теперь ярко сияло солнце, воздух был напоен медовым ароматом цветущих лип. Воспоминания нахлынули на Асанова. Машинально он шагнул вперед, отворил калитку и замер, забыв об окружающем.
Вот здесь, на крыльце, стоял Вольф. Вот сюда подъехала машина Брандта. Там, за углом, притаились они: Виктор, Володя, Нина и он. Ему вдруг до боли отчетливо почудилось, что она здесь, стоит рядом, смотрит на этот дом.
Асанов вздрогнул, почувствовав чье-то прикосновение и, обернувшись, увидел мальчика лет шести-семи. В синей рубашонке-косоворотке и коротеньких серых штанишках мальчик держал в руке тонкий веревочный повод, которым был привязан разомлевший от жары пестрый щенок.
— Вам кого нужно, дяденька? — с любопытством рассматривая незнакомца, спросил этот новый хозяин виллы.
— Никого… Я так… — вдруг смутился Саша и, облегченно вздохнув, потрепал светлые волосы мальчика. — Никого, дружок, я просто ошибся домом.
Асанов направился к выходу, а мальчик побежал в сад. Обходя небольшой разбитый в саду газон, Саша скорее почувствовал, чем увидел, двух пожилых мужчин на тротуаре напротив дома. Что его заставило свернуть в росший поблизости кустарник, этого он не мог себе объяснить ни в тот день, ни позже. Но, оказавшись в кустах и взглянув еще раз на мужчин, он мгновенно узнал их. Да, да, он узнал их! Это были Вольф и Брандт., Много времени прошло с тех пор… Вольф, сильно постаревший и обрюзгший, был одет в парусиновый костюм и сапоги. В руках он нес потертый портфель. Брандт выглядел моложе. Сухая ловкая фигура его была так же стройна и подтянута, как десять лет назад. На нем были шелковая безрукавка и спортивные брюки.
Саша весь сжался, лихорадочно соображая, что делать. Вольф и Брандт остановились недалеко от калитки и, вполголоса переговариваясь, поглядывали временами на дом. Асанов не мог слышать, о чем шел у них разговор.
Дом казался безлюдным, даже мальчик с собакой не появлялся. Постояв с минуту, Брандт и Вольф медленно двинулись по направлению к городу. Еще не решив, что предпринять, но твердо зная, что нельзя упускать этих людей из виду, Асанов осторожно вышел на улицу, пересек ее, прячась за липами, и пошел вслед за удаляющейся парой.
Как-то несколько месяцев назад, разговаривая с друзьями, Саша спросил: «Братцы, осталось у нас что-нибудь от бывших „крылатых воинов“, бесстрашных десантников-парашютистов?» Майор Воронов, смеясь, заявил тогда, что брат его жены превратился в типичного штатского и даже завел подтяжки, «чтобы свободнее жирок нарастал…» Сейчас, следуя по пятам врагов, Асанов понял: нет, ничего не забыто! Он все тот же солдат, воин.
Почему они здесь? Зачем пришли к вилле? Ответ мог быть только один. Значит, документы не найдены до сих пор и по-прежнему очень нужны Брандту, раз десять лет спустя он все пытается разыскать их.
Вольф и Брандт остановились на трамвайной остановке. Асанов сначала замедлил шаг, а потом тоже остановился, сделав вид, что рассматривает вывешенные на столбе правила выпаса скота в районах линий железных дорог. Когда трамвай тронулся и проехал несколько метров, Саша бегом догнал его и вскочил во второй вагон.
Остановки следовали одна за другой. Кондукторша привычным голосом объявляла: «Кинотеатр „Победа“», «Каштановая аллея», «Площадь Победы»… Через окно трамвая было видно, как Вольф н Брандт сошли на площади.
Стараясь оставаться незамеченным, Асанов снова направился за ними. Лавируя между спешащими во всех направлениях людьми, он вдруг увидел шпионов в нескольких шагах, около лотка с мороженым. Оба держали в руках вафельные стаканчики.
Из-за угла вынырнул «ЗИМ» с двойным рядом шашечек на кузове. Саша увидел, как Вольф махнул рукой, шофер затормозил, и оба шпиона скрылись в машине. Как назло, вокруг не было ни одного такси.
С отчаянием Асанов смотрел на номер машины — «КЕ–52–30». Надо немедленно бежать в Комитет государственной безопасности! Взглянув на часы, Саша махнул рукой: без пяти два, разговор с Москвой не состоится…
7
В вестибюле дома, окна которого были, как занавесом, закрыты густо разросшимся плющом, Асанов потребовал, чтобы его немедленно провели к начальнику.
В темноватом прохладном кабинете Сашу встретил пожилой седой полковник. Стараясь говорить как можно короче и яснее, Асанов заявил:
— Только что я видел двух шпионов. Одного я знаю тринадцать лет, другого — десять. Они уехали в неизвестном направлении в такси «КЕ–52–30».
Полковник приподнял брови, взял карандаш.
— Ваша фамилия? — произнес он.
— Асанов, — начиная раздражаться нарочитой, как ему показалось, медлительностью полковника, ответил Саша.
— Как? — переспросил полковник и встал.
— Асанов, — еще раз повторил Саша, видя, как полковник быстро листает записную книжку.
— Где вы остановились в Калининграде?
Обескураженный невниманием полковника к его сообщению и странными вопросами, Саша пожал плечами:
— В «Москве». Но это не имеет отношения к моему сообщению!
— А может быть, и имеет. Разве вам не передавали вызов на телефонный разговор с Москвой?
Александр изумленно взглянул на полковника, но ничего не успел сказать: на столе зазвонил телефон.
— Не беспокойтесь, товарищ генерал. Он здесь… Нет, в том-то и дело, что нет. Сам не понимаю еще, хотя чувствую, что он каким-то своим путем добрался до дела… Пожалуй, даже новое… Есть, ясно.
Полковник протянул трубку Александру:
— С вами хочет говорить ваш старый знакомый.
Стараясь подавить внезапно нахлынувшее волнение и догадываясь, кто этот «старый знакомый», Асанов взял трубку.
— Здравствуйте, майор, — услышал он далекий, но ясный голос генерала Петровского, и от того, что к нему обратились, назвав старым воинским званием, Сашу охватило еще большее волнение.
— Здравствуйте, товарищ генерал!
— Вы предупредили мое намерение. Пока я разыскивал вас в Москве, вы укатили в Калининград. — Голос генерала был весел, но Александр напряженно вслушивался в его слова. Он знал, что Петровский говорит всегда только то, что нужно сказать.
— Ваш северный приятель объявился в Москве, — говорил тем временем Петровский.
— Нет, — вырвалось у Александра.
— Что? — не понял генерал.
— Десять минут назад я видел его здесь в сопровождении «жениха» Эдит.
Последовала короткая пауза. Потом снова раздался голос Петровского:
— Где вы их видели?
— У виллы. Они стояли и беседовали. Потом уехали. В такси. Я потерял их из виду.
— Все ясно. С вами побеседуют. Жду с победой. До свидания. Александр попрощался и на минуту замер у телефона. Все, что произошло с момента отъезда из Москвы, всколыхнуло давно забытое, напомнило молодость, заставило сильнее биться сердце. Однако какая еще будет беседа? Что скажет ему полковник?
Кладя на место телефонную трубку, он вдруг заметил военного, которого вначале не увидел в полумраке кабинета. В глубоком кресле сидел худощавый полковник. Военный встал, и в ту же секунду Саша узнал Леонтьева. Какое-то мгновение друзья молча смотрели друг на друга.
— Ты здесь?.. Сидел и молчал?.. Откуда взялся? Ведь за тридевять земель!.. — бессвязно говорил Саша, обнимая Леонтьева.
Положив руки на плечи друга и заставляя его сесть, Леонтьев обратился к полковнику:
— Надо распорядиться, Павел Иванович, насчет такси, все-таки это — ниточка…
Полковник вышел.
— Я здесь по приказанию Петровского, — заговорил Леонтьев, когда они остались вдвоем с Асановым. — Молчал потому, что ты говорил и даже спорил за всех троих, а потом просто не успел — позвонил генерал.
Леонтьев улыбнулся, затем стремительной легкой походкой прошелся по кабинету, отдернул синюю шелковую штору и распахнул окно. В тишину кабинета ворвался шум города.
— Ты видел Брандта здесь, на улице, — снова заговорил он. — Значит, нас опередили. Мы предполагали, что Брандт еще в Москве, и генерал из чистой предосторожности послал меня сюда. А сегодня ночью я был предупрежден, что должен разыскать тебя… Так, значит, и Вольф здесь?
— Да, и он здесь, — коротко подтвердил Асанов. — Документы найти не удалось?
— Нет, Саша. Не удалось. Я работал в Калининграде с 1946 года по пятидесятый. Прощупал всю «Виллу Эдит» и могу сказать точно: там ничего спрятано не было. Больше того, я обследовал все окрестности в радиусе трехсот метров. Возможно, Нина знала что-то.
— А документы имеют значение и до сих пор?
— Видишь ли, фашисты работали с дальним прицелом. Мы имеем данные, что, кроме чертежей и схем подземелий города, Вольф хранил списки тайной агентуры. В подземельях старого Кенигсберга было захоронено огромное количество ценностей. После войны мы пытались разобраться в этих подземных лабиринтах, но без карт и схем сделать это нелегко. Теперь ты понимаешь, как нужны нам документы Вольфа?!
В кабинет вернулся полковник.
— Я распорядился выяснить, где высадились пассажиры такси «КЕ–52–30».
— Мы уходим, Павел Иванович, — обратился Леонтьев к полковнику. — Распорядитесь, пожалуйста, установить усиленное наблюдение за виллой.
— Я уже сделал это.
Владимир вышел и через несколько минут вернулся, переодетый в гражданское платье.
— Ну, куда мы идем? — спросил Саша, когда они вышли на площадь.
— Пока никуда. Нам нужно ждать ночи. Ночью они придут…
8
Ночь была ветреная, и Саша чувствовал, как холод заползает за ворот рубашки. Леонтьев лежал рядом совершенно неподвижно, и даже дыхания его не было слышно. Морской влажный ветер гнал по небу тяжелые грозовые тучи.
В доме было тихо. Изредка по шоссе проносились машины. Город спал. Это была третья ночь, которую Леонтьев и Асанов проводили около «Виллы Эдит».
Да, в лице Брандта они имели дело с опытным и умным разведчиком! Поймать такого не так-то легко и просто. Ведь удалось же ему ловко ускользнуть в пятьдесят первом!
Размышления Саши были прерваны. Сильные пальцы Леонтьева сжали его руку. Еле слышный шорох донесся со стороны дома. Казалось, кто-то крадется вдоль задней стены ограды. Теперь оттуда нетрудно попасть к дому — старой решетки нет.
— Я свистну, только тогда… — прошептал Владимир. Он пополз вперед. Сжимая в руках пистолет, Асанов последовал за другом.
Внезапно Асанов замер, и в то же мгновение он увидел две тени. Они были на расстоянии не более пяти шагов.
Незнакомцы тихо переговаривались, а минуту спустя один из них поднялся на брусья колодца и вдруг исчез в нем. Туда же последовал и второй.
— Что это? — обернулся Саша к Владимиру.
— Колодец, но он наполнен испорченной водой, я обследовал его.
Неслышно подойдя к колодцу, Асанов и Леонтьев остановились.
Ни единого звука не доносилось снизу.
Нащупав тонкую веревку, уходящую вниз, Владимир осторожно потянул ее. Веревка свободно подалась. Товарищи переглянулись.
— Ждать?
— Нет, вниз! — ответил Александр.
— Нет, ждать! — решил Владимир.
Друзья сели возле колодца, чутко прислушиваясь. По-прежнему ни звука не доносилось из железобетонной трубы. Минут через десять они поднялись.
— Что же делать?
— Ждать. Это не просто колодец! Ясно, что это вход в подземелье.
— А может быть, из него есть другой выход?
— Тогда они бы не пришли к вилле.
— А ты уверен, что другого выхода нет?
— Нет, не уверен, — признался Леонтьев.
— Товарищ полковник, какие будут приказания? — раздался вдруг шепот из темноты. Темный силуэт отделился от кустов.
— Караульте возле колодца. Брать только живьем. Если позовем, придете на помощь, — распорядился Леонтьев, перекидывая ногу через край колодца. — Дерну два раза, потом спустишься ты, — обратился он к Асанову. — Не подам сигнала пять минут, спускайся с людьми сразу. — Леонтьев скользнул вниз по веревке.
В тревоге Саша склонился над колодцем. Дохнуло затхлой сыростью. Он невольно поежился.
Прошло около минуты. Веревка, которую сжимал Асанов, дважды дернулась. Не раздумывая, Саша перекинул ноги через край колодца. Стены его были липкими и холодными.
Ноги Асанова коснулись чего-то упругого, похожего на железную сетку. Взглянув вверх, он увидел кружок темно-синего неба. Колодец оказался очень глубоким — не меньше тридцати метров. Воздух был затхлый, от него першило в горле и слезились глаза.
Два луча фонариков вспыхнули почти одновременно. Друзья осмотрелись. Они стояли в центре круга не менее двух метров в диаметре. Под ногами у них была редкая железная сетка, покрытая илом. Ясно были видны следы тех, двух.
— Смотри, — прошептал Леонтьев, показывая на отверстие в цементной стене колодца.
Оба нагнулись. Пролезть через отверстие было невозможно: толстые железные прутья крест-накрест загораживали и без того узкий проход.
— Это водосток, — сказал Владимир. — Они каким-то образом открыли его, и вода ушла из колодца. Саша пристально всматривался в следы на иле. Возле водостока виднелись отпечатки, не похожие на следы ног. Казалось, кто-то стоял на коленях перед отверстием.
Асанов встал на колени и просунул руку в отверстие.
— Есть!
— Что такое?
— Не понимаю: какой-то рычаг, ручка…
Как только Асанов нажал рычаг, откуда-то сверху упали куски слизи. Кусок стены бесшумно выдвинулся наружу, и мрак колодца прорезал электрический свет.
Асанов на руках подтянулся к образовавшемуся входу. Длинный с овальным сводом туннель открылся перед ним. Покрытые слоем пыли, тусклым светом горели на потолке плафоны, убегая бесконечной лентой вдаль.
— Ну, что там? — нетерпеливо толкнул Асанова Владимир.
Саша пролез через дверцу и очутился в туннеле. Владимир последовал за ним. Положив в карманы ставшие ненужными фонарики, друзья безмолвно смотрели на пустое, мрачное подземелье.
— Откуда же свет? — проговорил наконец, Асанов.
— Потайная проводка от главного кабеля. Как видишь, она сохранилась после войны.
— И все эти годы здесь горел свет?
— Нет, конечно. Это они включили его. Значит, они вполне уверены в своей безопасности. Пошли, — решительно произнес Леонтьев.
Туннель шел неровной линией. Он представлял собой овальную железобетонную трубу около двух метров высотой. Какой-то странный желобообразный рельс шел по потолку, убегая вперед блестящей полосой. Стены были абсолютно гладкими.
Саша и Леонтьев быстро шли вперед, держа оружие наготове, ожидая в любую минуту встречи с врагом. Однако впереди никого не было. Временами они останавливались, чутко прислушивались. Ощущение опасности, напряженное ожидание решающей схватки поглотили все остальные чувства Асанова. Одна мысль, одно желание собрало в себе, как в фокусе, всю силу, всю волю Саши: не упустить врага, не просчитаться ни в чем.
Пыльные светляки плафонов по-прежнему убегали вперед. Ни ответвлений, ни подъемов, ни спусков. Можно подумать, что туннель прорыт сквозь землю.
Леонтьев, шедший впереди, вдруг остановился и поднял руку.
— Дверь!
Рядом в бетоне чернела железная дверца. Низкая, заржавевшая так, что еле угадывались петли и замки, она, очевидно, давно не отпиралась.
— Куда же она ведет? — Саша нагнулся и потрогал железную ручку.
— Они не прошли через эту дверь?
Леонтьев тоже нагнулся и внимательно обследовал дверцу.
— Нет, ею не пользовались много лет.
Метров через сто линия плафонов оборвалась. Впереди была пустота.
— Сколько же мы прошли?
— Не меньше трех километров. — Леонтьев снова вынул фонарь.
Луч света нащупал на стене пыльный выключатель. Владимир подошел к нему, раздался щелчок, но свет не загорелся.
— Здесь, видимо, обрыв проводки.
Туннель кончился. Бетонная стена с отверстием посередине, в которое с трудом мог пролезть человек, возникла под лучом фонарика. Осветив проход, Леонтьев вполз в него и скрылся в глубине. Асанов последовал за другом. Ползти пришлось недолго. Проход раздался вширь и ввысь, и скоро уже можно было встать во весь рост.
Здесь все было иначе, чем в туннеле. Лучи выхватывали из темноты циклопическую кладку средневекового подземного хода. Направо был виден черный провал, налево — круто вверх уходили узкие ступени винтовой лестницы. Прямо впереди — глухая стена.
Владимир вынул записную книжку, вырвал двойной лист, поджег его и бросил в видневшийся справа провал. Бумажка падала, освещая влажные стены. Листок погас, не долетев до дна, осветив при последней вспышке блеск воды.
— Спуститься они не могли. — Асанов и Леонтьев начали подниматься по лестнице. С каждым метром она становилась все уже. Вскоре гладкие каменные плиты сменились темной кирпичной кладкой. Казалось, давно пора бы быть на поверхности, но лестница вилась все выше и выше…
Но вот в лицо дохнуло свежим ветром. Неожиданно показались звезды. Значит, конец подземелью! Асанова охватило беспокойство: враги могут уйти, унося с собой документы. Друзья остановились. В наступившей тишине наверху послышались неясные звуки. Теперь можно было различить два мужских голоса.
Асанов и Леонтьев поднялись на узкую неровную площадку. Они были высоко над землей. В стороне, на расстоянии полукилометра, рисовались контуры какого-то огромного здания. Александр узнал развалины королевского замка. Теперь он понял, куда они попали, — это был кафедральный собор, вернее, его развалины.
За порывами ветра с трудом можно было разобрать разговор двух людей, силуэты которых виднелись на фоне ночного неба.
— Ну, что ж, Вольф, пора кончать наш отдых и приниматься за дело. — Было видно, как при этих словах Брандта Вольф резко дернулся. — Там у себя, в Южной Америке, вы удивительно разжирели. Вы потеряли способность понимать простые вещи. Если мы с вами здесь, у черта на рогах, рискуем свернуть себе шеи, не говоря уже о том, что за нами возможна слежка, то все это вовсе не за тем, чтобы вернуться с пустыми руками.
— Но я боюсь. Я чувствую себя на краю гибели, мне все время кажется, что сзади на меня смотрят чьи-то глаза, — проговорил немец.
— Глупости, мистика. Нам осталось сделать еще несколько шагов, и мы у цели.
— Дальше я не пойду. Идите один, — угрюмо заявил Вольф.
— Вы должны беречь меня, Вольф, — сказал Брандт. — Разве вы забыли, как напутствовал вас мистер Эллиот. Если хоть один волос упадет с моей головы, вас найдут даже под землей. А мистер Эллиот никогда не отступает от своих слов. Ну ладно, — голос Брандта стал жесток, — пошли!
Вольф покорно поднялся.
С величайшей осторожностью шпионы полезли по крутому откосу, образованному проломом. На большой высоте, ночью, при сильном ветре это было рискованно.
Асанов и Владимир осторожно вышли из засады и очутились на площадке, только что покинутой шпионами. Подойдя к краю стены, они начали напряженно всматриваться.
Тем временем Вольф и Брандт поднялись довольно высоко. Внезапно сверху донесся радостный возглас Вольфа.
— Есть, есть!
— То-то, черт побери. А вы собирались возвращаться. Ну, живее, мы ведь до рассвета должны выбраться из этого дьяволова логова.
Вдруг все стихло. Фигуры наверху исчезли. Как ни всматривались друзья, они ничего не могли увидеть.
— Не понимаю, как сквозь землю провалились! — шептал Асанов.
— Понял! В этом месте из-за обвала стены нарушен ход. Они искали продолжение его и нашли.
Не глядя в пропасть под ногами, куда каждую минуту грозил сбросить их порыв ветра, Асанов и Леонтьев принялись карабкаться вверх, цепляясь за кирпичи, прижимаясь к стене. Метрах в десяти выше площадки, там, где кончалась лестница, показалось черное отверстие — продолжение потайного хода. Они не стали включать фонари и на ощупь протиснулись на лестницу. Теперь она вела вниз. Впереди послышались голоса. Уверенные в полной безопасности, Вольф и Брандт не боялись громко разговаривать.
Лестница все глубже уходила под землю, кирпич сменился гладким камнем. Друзья шли в полной темноте, не зажигая из предосторожности фонарей, ориентируясь по звукам, раздававшимся впереди.
За поворотом мелькнул желтоватый свет.
9
Низкое железобетонное помещение было освещено несколькими плафонами. В середине его и около стен стояли серые от плесени столы, диваны и кресла, заржавевшие сейфы…
— Вот здесь я когда-то работал, — задумчиво проговорил Вольф, указывая на массивный стол в углу.
— Неуютно, — заметил Брандт, поеживаясь и осматриваясь. Какого черта вам понадобилось залезать в такую дыру?
— Хм… Я имел великолепную резиденцию на Гроссфридрих-штрассе, но это убежище, как видите, абсолютно надежно. Мы перебрались в него в 1944 году.
— Есть ли выход отсюда, кроме того пути, которым мы прошли?
— Был, он взорван нами в апреле сорок пятого. Колокольню мы использовали в качестве наблюдательного пункта.
— Однако, Вольф, — голос Брандта стал жестким, — где там ваши бумажки, доставайте!
Вольф медленно подошел к стене, достал из кармана Монету и в одном месте провел ею по невидимой полоске. Открылся потайной сейф, о существовании которого до этого было бы невозможно догадаться. Через секунду в руках Вольфа появился зеленый кожаный портфель.
— Ключ потерян, придется резать, — с сожалением проговорил он.
Брандт вынул из кармана носовой платок, тщательно протер им край стола, положил портфель и рядом большой блестящий портсигар. Вольф, с нетерпением посматривающий на манипуляции своего спутника, не выдержал:
— Какого черта, Дэнни! Идемте скорее, ведь через пару часов рассвет. Мы только-только успеем выбраться из колодца.
— Терпение, мой друг, терпение, — засмеялся Брандт. — Ведь не хотите же вы, чтобы первый попавшийся постовой милиционер, случайно задержав нас, отобрал бы этот портфель.
— Что вы хотите сказать?
— А вот что! — Брандт ловко укрепил на столе миниатюрную магниевую лампу и только тогда осторожно перочинным ножом взрезал зеленую кожу портфеля. Так же осторожно он вынул из него пачку тонких папок, большой, сложенный вчетверо лист плотной бумаги и несколько писем.
— Аккуратно сделано! А что это за письма?
— Моя переписка с фюрером, — с гордостью ответил немец.
— Ха! Я, как последний дурак, под видом штукатура ремонтировал девять лет назад вашу виллу от подвала до чердака и чуть не попался под конец. Почему вы не сказали мне при первой встрече, что папка не в вилле?
— Если вы помните, — усмехнулся Вольф, — у нас тогда не было времени для беседы.
— Да, эти дьяволы тогда задали нам работу. Однако за дело!
Брандт вынул из папок и разложил на столе листы бумаги, развернул карту и сделал несколько снимков микрофотоаппаратом, вмонтированным в портсигар. Вольф, наблюдая за его работой, заметил иронически:
— Постовой милиционер, конечно, не догадается, что в портсигаре — фотоаппарат.
— Если милиционер все же арестует нас, — проговорил Брандт, поджигая листки и карту, — он не получит ничего: я брошу портсигар на землю, и все сгорит в нем. О, мой портсигар — волшебный. Вот смотрите!
Вольф подошел и увидел, как откинулся крохотный диск в боковой стенке и появился ствол миниатюрного пистолета.
— Аптечка первой помощи. — Брандт рассмеялся. — Пуля с булавочную головку, но продырявит рельс… Послушайте, Вольф, а где же план захоронения сокровищ?
На этот раз рассмеялся Вольф. Смех его был хриплый, лающий.
— Ваш портсигар навел меня на забавную мысль.
— Какую же? — в голосе Брандта мелькнула тревога.
— Видите ли, я подумал: там, где пройдет один, не всегда удобно пройти двоим.
— Я не понимаю? — Брандт пристально посмотрел на Вольфа.
— Так вот, друг мой. Я не скажу вам сейчас, где сокровища. Я не хочу получить пулю в спину из этого изящного «портсигара». Вы доставите меня домой в мою «Ночную розу», я отмечу на схеме, которую вы сфотографировали, интересующие вас места. После этого вы вернетесь сюда и будете делать все, что вам угодно.
— Черт бы вас побрал! — В голосе Брандта явно выразилось разочарование. С минуту он молчал. Мгновенно оценив обстановку, он понял, что проиграл:
— Согласен. Пошли.
10
Бесшумно приблизившись к низкой железной двери, ведущей в подземную канцелярию Вольфа, Леонтьев и Асанов внимательно наблюдали за действиями шпионов. Силы были равными, но на стороне друзей — внезапность.
Вот Брандт перешагнул высокий порог, за ним Вольф. Асанов молча, изо всех сил ударил Вольфа по голове рукояткой пистолета, Леонтьев направил оружие на обернувшегося Брандта:
— Руки вверх!
— Портсигар! — отчаянно крикнул Асанов. Все, что произошло дальше, заняло секунды. Брандт по одному возгласу узнал Асанова. В натренированном мозгу разведчика молнией сверкнула мысль: если тут Асанов, значит, русские знают о нем все. Еще миг — и микропленка со снимками плана кенигсбергских подземелий окажется в их руках. Выработанная годами привычка делать хорошую мину при плохой игре не отказала и сейчас. Она помогла привести в исполнение то, в чем несколько минут назад заподозрил его Вольф.
— Чудеса! — воскликнул он, улыбаясь. — Мы словно не расставались с вами, Александр. На этот раз я подчиняюсь вам…
Не обращая внимания на слова Леонтьева и сделав вид, что он хочет передать портсигар, Брандт протянул правую руку, держа ее как-то на отлет. В ту же секунду раздался резкий, точно удар бича, щелчок. Следующим движением Брандт рассчитывал уронить портсигар на пол, чтобы тот сгорел, но Леонтьев опередил его. Быстрым ударом он выбил портсигар из рук шпиона и подхватил его на лету. Пальцы Брандта застыли в воздухе.
— Игра окончена! Руки вверх! Не вздумайте сопротивляться. Стрелять будем без предупреждения, — проговорил Владимир, опуская портсигар в свой карман.
Брандт медленно поднял руки, фигура его сразу обмякла, лицо побледнело.
Асанов обыскал Брандта, забрал у него фальшивые документы, во внутреннем кармане пиджака нашел ампулы с ядом, которыми шпион решил, видимо, не пользоваться. Затем он осмотрел неподвижно распростершегося Вольфа. Игловидная пуля, выпущенная из портсигара-пистолета, попала в голову немцу, пробила ее насквозь и застряла в цементном полу.
— Двинулись! — подал команду Леонтьев.
Брандт шел впереди. Когда вошли в туннель, он, видя, что ему не грозит непосредственная опасность, снова заговорил:
— Должен вам сказать, господа, никогда и никто еще за всю мою жизнь не смог сделать того, что сделали вы. Десять лет я охотился за этими документами, и вот теперь присутствую при развязке затянувшейся истории. И притом вы должны быть мне благодарны: я разделался с этим негодяем Вольфом.
— Слушайте, Брандт, — перебил его Асанов. — Здесь вам не бокс-матч, чтобы делиться впечатлениями после раунда. Оставьте ваши излияния для другого раза, но, думаю, вам больше не представится такого случая.
— Что вы, Александр, — не умолкал Брандт. — Разве вы забыли наши северные встречи? Или обиделись на то, что десять лет назад я вас немного поцарапал? Я искренне сожалею…
Брандт говорил не переставая.
…Да, да. Говорить, говорить, вперемежку ерунду и серьезное, отвлечь внимание русских… Еще не все потеряно… Он всегда был удачником, «Клифтон — счастливая звезда» — так звали его те, с кем он работал. И Брандт продолжал говорить, нервно похохатывая, оглядываясь и улыбаясь.
— Довольно болтать! Молчать! — прикрикнул Леонтьев.
Шпион понял, что ускользает последняя надежда. И он решился: резко обернувшись, молниеносным движением нанес Владимиру страшный удар ногой в пах. Это произошло как раз у самого перехода из одной части туннеля в другую. Асанов бросился вперед, намереваясь оглушить шпиона ударом пистолета, но Брандт рванулся и нырнул в трубу туннеля. Прогремел запоздалый выстрел, и пуля, беспомощно взвизгнув, рикошетом отскочила от стены.
Бетонную трубу Асанов проскочил, не чувствуя, как обожгла локти и колени ее неровная поверхность. Уже перед самым выходом из отверстия, включив фонарь, он увидел Брандта: тот споткнулся, но тут же вскочил и, не оглядываясь, побежал по туннелю.
Туннелю, казалось, не было конца. Уже давно позади осталась неосвещенная его часть, вот вновь бесконечной лентой вытянулись плафоны, лившие таинственный свет на стены мрачного подземелья. Вспоминая позднее об этих минутах, Саша не мог сказать, слышал ли он топот ног убегающего Брандта. Не слышал он и того, как, преодолевая боль, бежал в каких-нибудь трехстах метрах от него Леонтьев.
А Брандт был занят одной-единственной мыслью: к колодцу, к колодцу! Там веревка и, может быть, спасение!
Асанов спрыгнул в колодец всего несколькими секундами позже Брандта. Едва переводя дыхание, он поднял голову к светлеющему кружку вверху и увидел беглеца, с ловкостью обезьяны карабкавшегося по веревке. Александр выстрелил, стараясь не попасть в Брандта.
— Что случилось, товарищ полковник? — послышался голос наверху.
Этот искаженный трубой голос подействовал на Брандта подобно удару. Асанов заметил, как движения рук его, перехватывающих веревку на узлах, замедлились, потом он как бы замер в нерешительности, а в следующую секунду тело его оторвалось от стены и полетело вниз.
В двери колодца показался Леонтьев.
Эпилог
В купе уютно светила лампа. Из репродуктора неслась негромкая мелодия вальса. Мерно перестукивали колеса поезда.
— Люблю ездить. — Леонтьев сделал два шага по купе. Потом, помолчав, спросил: — Ну, а каковы теперь твои планы?
Асанов смотрел в окно и думал о последних часах, проведенных в городе. Сегодня утром они ездили туда, к памятнику-танку, туда, где похоронена Нина.
Не отвечая на вопрос Леонтьева, Асанов задумчиво проговорил:
— Я ехал в город, куда вели меня воспоминания юности. Мог ли я поверить, что спустя столько лет я смогу выполнить последнюю волю Нины… Теперь она была бы довольна…
— Да, теперь тобой будут довольны. — Владимир дружески опустил руку на плечо Саши.
Г. Гуревич ЧЕРНЫЙ ЛЕД
В ясные дни из окна видны были горы. Подножие их скрывала толща плотного равнинного воздуха, и морщинистые вершины, оторвавшись от земли, плыли по небу с развернутыми парусами ледников. В предрассветной мгле льды были нежно-розовыми, как лепестки, как румянец ребенка, но когда солнце подымалось на небо, они блекли, голубели и в конце концов таяли в синеве, как сахар в теплой воде.
Эти далекие горы были так прозрачны, так непрочны, что не верилось в их существование. Они казались складками на кисейном пологе неба. И вдвойне было странно, когда их очертания проступали на небесной эмали в разгаре среднеазиатского дня, наполненного зноем, известковой пылью, ревом ишаков и автомобилей, скрежетом трамваев и арб, криком, звоном, бранью, песнями и гудками…
На рассвете, сидя в кресле у окна, министр смотрел на горы. Он был очень болен, смертельно болен, и знал это. Комната его пропахла лекарствами, мебель была по-больничному белой, даже жена приходила сюда в косынке и белом халате. Ночи министра водного хозяйства республики были ужасны: душные южные ночи с парным воздухом, которым противно дышать, потными простынями, саднящей болью в боку. Всю ночь он ворочался и думал, а когда начинали светлеть щели в соломенных занавесках, садился в кресло у окна и продолжал думать…
О воде.
Всю жизнь он думал о воде. Этой весной уровень в реке ниже многолетнего. В низовьях необходимы насосы, вода опять не достанет до рисовых полей. А в верховья надо послать контролера: люди наливают слишком много воды и портят почву. В Намангане строится завод дождевальных машин, плотина водохранилища требует ремонта, в Голодной степи засолили почву, просят воды для промывки.
Воды!.. Воды!.. Воды!.. — вечный припев Средней Азии.
«Где кончается вода, там кончается земля!» — гласит восточная пословица. Там, где есть вода, — зеленые рисовые поля, белая пена хлопчатника, бахчи с полосатыми арбузами, бархатистые персики, виноградники, рощи, сады. Где нет воды — сухая потрескавшаяся равнина, бурые пучки обгоревшей травы, саксаул, горькая полынь, песчаные волны барханов.
Египет называют даром Нила. Средняя Азия — дар лопаты. Сотни поколений рабов и крестьян перелопачивали жирную землю, давая путь воде. Жизнь приходила с водой. Рождались деревни, города, государства.
История Средней Азии — это история борьбы за воду. В периоды расцвета строили много новых каналов, в периоды упадка — забрасывали старые. Приходили знаменитые завоеватели, разрушали города, уничтожали плотины, но едва только оседала пыль, поднятая копытами их коней, вновь трудолюбивый крестьянин брался за лопату, чтобы наполнить водой арыки — артерии страны.
Но сколько бы он ни копался, вода была чужая. Она принадлежала персидскому шаху, согдийскому афшину, арабскому калифу, монгольскому хану, хану бухарскому, хивинскому, кокандскому, русскому царю, своим собственным баям. Земля была рядом, земли было сколько угодно, но без воды она не стоила ничего.
Сколько лет было министру (тогда еще не министру, а просто безземельному батраку Митрофану Рудакову), когда он взял в руки винтовку, чтобы драться за землю и воду?
И после он отдал ей всю свою жизнь. Он дрался за воду с басмачами, баями, кулаками, с вредителями, маловерами, бюрократами, консерваторами, лодырями, болтунами. Он дрался в окопах и на съездах, в кабинетах, лабораториях и проектных мастерских, но больше всего на стройках, где звенят кетменями смуглые землекопы с цветными платками на поясе, а экскаваторы вытягивают шеи и лязгают жадными железными челюстями.
Вся его жизнь — борьба за воду… но жизнь подходила к концу, таяла, как дымка далеких гор в знойной синеве полуденного неба.
В 10 часов, начиная рабочий день, в дверь стучит секретарь Исламбеков, плотный коренастый мужчина с черными усами. Голос у него густой, солидный, уверенный. Исламбеков деловит, безукоризненно точен, исполнителен. Рудаков очень ценит его, но немножко недолюбливает и за его усы, и за его голос, и даже за деловитость. Вероятно, дома у себя Исламбеков рассказывает своей жене, что он заправляет всем министерством; возможно, он надеется со временем стать министром.
Рудаков подписывает бумаги, потом принимает посетителей. Большей частью это председатели колхозов и гидротехники. Колхозники просят воды, инженеры достают ее. И Рудаков слушает, спорит, запрашивает, распоряжается, разносит, обещает, приказывает, пишет, диктует, возмущается, волнуется…
Из-за воды, о воде.
Дел по горло, а сил в обрез. Уже к полудню на щеках у него красные пятна, под глазами мешки, пухнут пальцы, колет в боку. И, чувствуя, что силы иссякают, он торопливо обрывает посетителей, сердится на терпеливого секретаря.
Затем приходит жена — чернобровая, с усиками на верхней губе, такая пышная, что, кажется, платье вот-вот лопнет на ней. Жена ставит на стол тарелочку с манной кашей и сердито кричит на секретаря:
— Довольно! Уберите бумажки! Митрофан Ильич устал…
— Но, позвольте, уважаемая Раиса Романовна… — возражает секретарь.
Они громко спорят у изголовья больного — оба здоровые, цветущие, полные сил — и вежливо вырывают друг у друга папку с делами. Министр следит за ними усталыми глазами и переводит дыхание. Наконец секретарь уступает. Он пятится к двери, прижимая к груди обеими руками дело, и говорит тоном человека, умывающего руки:
— Профессор Богоявленский вернулся из Москвы. Ждет внизу. Передать, чтобы приехал завтра?
— Ну, конечно, завтра, — решает жена.
Но больной уже набрался сил, чтобы приподняться на локте.
— Зовите профессора, товарищ Исламбеков. Я приму его сейчас…
Профессор Богоявленский руководил научной работой в министерстве. В юности он был плечистым богатырем, а сейчас стал сутуловатым сухим стариком с выпуклым лбом и загорелой лысиной. Годами профессор был старше министра, даже преподавал ему гидравлику лет двадцать назад и до сих пор в разговоре с бывшим учеником то и дело сбивался на лекцию.
Сегодня профессор привез хорошие вести. Москва утвердила проект Аму-Дарьинского канала. Из водных запасов великой реки республика сможет брать пять кубических километров в год. Богоявленский настаивал, чтобы дали по крайней мере девять кубических километров, но в Москве урезали проект. «Впрочем, — утешал себя профессор, — для начала нам хватит».
Он разложил карту на зеленом мохнатом одеяле больного. Вот здесь, недалеко от афганской границы, будет водозаборная плотина. Отсюда речная вода пойдет налево в Туркмению и направо в Узбекистан. Трасса пройдет здесь и здесь: тут пересечет пустыню, здесь обойдет предгорья. Старик Зеравшан, выпитый до последней капли полями и садами, получит помощь от Аму-Дарьи. Посевные площади вокруг Бухары и Самарканда будут увеличены вдвое. Если стройка начнется в будущем году, вероятно, лет за шесть можно будет закончить и плотину и канал.
Кивая головой, Рудаков смотрел поверх карты в окно. Сегодня опять среди белого дня проступили очертания гор. Подножие их было скрыто толщей равнинного воздуха, и морщинистые вершины, оторвавшись от земли, плыли по небосводу с развернутыми парусами ледников.
— А что делают в наших институтах? — спросил он. Профессор с неудовольствием сложил карту. Ему хотелось без конца говорить о проекте, смаковать все подробности. Двадцать пять лет твердил он на всех перекрестках, что Зеравшану нужна вода из Аму-Дарьи. И вот наконец строительство разрешили…
— Что в институтах? — сказал он, пожимая плечами. — Алиев занят дождевальными установками, обещает экономить восемь процентов воды на каждом гектаре, Кравчук бурит колодцы, Львов опресняет солоноватые воды, Нигматулин ищет овощи с длинным корнем. Уважаемый Митрофан Ильич, через шесть лет, когда; мы получим аму-дарьинскую воду, все наши проблемы будут решены разом.
Министр не ответил. Он все еще смотрел в окно. В ликующей синеве далекие горы таяли, как сахар в теплой воде.
— Отсюда видны горы, — сказал он неожиданно.
Глаза профессора раскрылись от недоумения, и на его лице появилась виноватая улыбка.
«Неловкий я человек, — подумал он, — говорю о том, что будет через шесть лет, а Митрофан Ильич и шести месяцев не протянет. Конечно, ему неприятно слушать».
Но Богоявленский недооценивал Рудакова и поэтому не угадал его мыслей.
«Профессор большой специалист, — думал министр, — в этом его сила и в этом его слабость. Он гидротехник и верит в каналы, а в дождевальные машины, в опреснение, в новые виды растений он не верит. Он слишком любит свой проект и не умеет признавать чужие. На его месте нужен человек с более широким кругозором. Но кто? Таких Богоявленских можно по пальцам пересчитать. В конце концов можно работать и с ним, только нужно держать его за руку и говорить: „Обрати внимание!“ Иначе он пройдет мимо и не заметит, как сам Рудаков не замечал гор, пока не заболел».
— Вот, например, горы, — сказал он вслух, — у нас тридцать семь градусов в тени, а там льды. Вы, гидротехники, занимаетесь ледниками?
Профессор улыбнулся. Вопрос показался ему наивным.
— Само собой разумеется, — ответил он. — В Академии наук есть специальная ледниковая секция. Мы измеряем ледники, изучаем их движение и таяние, у нас есть каталоги. В Средней Азии более тысячи крупных ледников, среди них такие гиганты, как ледник Федченко или Иныльчек. В одном только Зеравшанском леднике 8 кубических километров льда, он дает Зеравшану 200 миллионов кубометров воды ежегодно. Один только этот ледник орошает 20 тысяч гектаров земли. Ледники — необходимое звено в круговороте воды. Солнце испаряет морскую воду, ветер гонит водяные пары, в горах они оседают в виде снега, который лежит годами и превращается в лед, лед сползает вниз по склонам гор и тает, образуя ручьи и реки, несущие свои воды в моря. Без ледников вообще не было бы Средней Азии. Нарын, Чу, Аму-Дарья, Зеравшан — все наши реки рождаются в ледниках. Но мы знаем, что большинство ледников у нас убывает, они укорачиваются, тают, используя старые запасы льда, накопленные в прошлых веках.
Рудаков терпеливо выслушал. У него была привычка всегда выслушивать до конца.
— Об этом я и говорю, — сказал он. — Этот прошлогодний снег — золотые запасы воды. Вы не думали, как привести эту воду в колхозы?
Профессор оторопело посмотрел на него.
— Что же вы хотите — пилить ледники и возить лед на поля?
Министр усмехнулся.
— Стыдитесь, профессор! Такое решение недостойно ученого. Это я, простой батрак, мог бы предложить пилить и возить. (Рудаков кончил два факультета, всю жизнь учился, но все еще любил бравировать своей мнимой необразованностью). У науки должны быть более удобные способы. Вы бы еще предложили мне сплавлять лед по реке — возить воду по воде.
Самолюбивый профессор вспыхнул и закусил губу.
— В сущности, — сказал он немного погодя, — вопрос транспорта отпадает. Природа сама возит воду. Нужно, чтобы снега растаяли, и тогда ручьи сами потекут в реки и существующие каналы. Вопрос о том, как растопить. Не знаю… когда-нибудь, возможно, применят для этого атомные бомбы. Если заложить их в толщу — Атомные бомбы отпадают, — резко заметил министр. — Если поливать огороды шампанским, это обойдется дешевле вашей атомной воды. Нет, я серьезно вас спрашиваю?
Профессор задумчиво ерошил брови.
— Н-ну… н-не знаю, — тянул он, — сразу не скажешь. Может быть, ставить зеркала, направлять солнечные лучи… Но, конечно, это тоже фантастика. Надо подумать… А, вот что! Можно посыпать снег солью. Смесь снега с солью тает при температуре ниже нуля. Таким образом, это же самое солнце растопит гораздо больше снега. Вас удовлетворяет такое решение?
— А сколько понадобится соли? — деловито спросил Рудаков.
— Это нужно подсчитать. Вообще говоря, чем больше, тем лучше. Морская вода, например, содержащая около четырех процентов солей, замерзает при двух градусах холода, а двадцатипроцентный раствор соли — при тринадцати градусах.
— Отставить, — сказал Рудаков. — Вода нужна для орошения. Хлопок и рис не поливают морской водой.
— Ну, тогда не знаю. — Богоявленский махнул рукой, и голос его зазвучал веселее, как будто ему стало легче после того, как он признался в своем бессилии.
Митрофан Ильич заложил руки за голову и потянулся, глядя на потолок.
— А помнится, в детстве, — сказал он, — мы на Клязьме посыпали лед золой, чтобы протаять проруби. Какие, собственно, соли в золе?
— Правильно, — отозвался Богоявленский, — я забыл. Есть такой способ. Но дело здесь не в солях, а в цвете. Черная зола впитывает все солнечные лучи, а белый снег отражает их, как зеркало. Именно поэтому в белой одежде прохладно, а в черной жарко. И если бы снег был черным, он таял бы в три раза быстрее.
Рудаков стремительно выпрямился.
— Как?! — воскликнул он, — это значит, что в наших реках будет в три раза больше воды только оттого, что мы снег посыплем золой?
— Ну, не в три раза, скажем для осторожности — в полтора. Но, безусловно, цвет имеет большое значение. Ледники тают заметно быстрее, если они покрыты пылью. А когда на льду лежат темные камешки, под ними образуются ямки с водой, так называемые ледяные стаканы.
— И теперь я вспоминаю, — продолжал профессор, — что в 1948 году мы рассматривали проект некоего Файзлутдинова. Он был альпинистом и два года спустя провалился в трещину на хребте Академии наук. Так этот Файзлутдинов предлагал посыпать вечные снега сажей. Он даже представил расчеты. У него получалось на гектар снега кубометр сажи. И с каждого зачерненного гектара льда он орошал гектар полей.
— Ну и почему же вы отказались?
— Ну, что вы, — профессор усмехнулся, — это просто идея, нечто в общем и целом. И тогда это было совершенно не нужно. В наших реках имелись еще огромные запасы воды. Сначала надо было отрегулировать их, чтобы не пропадали зря воды паводка, построить для половодья водохранилища.
— Хорошо. А сейчас, когда водохранилища давно построены и использованы?
— Но ведь это титанический труд! Нужно целые горы посыпать золой.
И тогда министр неожиданно закричал громко и сердито. Казалось, он долго сдерживался, чтобы разом огорошить профессора.
— Как? — кричал он. — Трудно горы посыпать золой? А строить канал легче? 500 километров по пустыне, 500 миллионов кубических метров земли, 11 миллионов кубометров бетона, плотина поперек Аму-Дарьи! И все-таки мы беремся строить. Потому что нам нужна вода. Почему вы уткнулись в свой проект и ничего не хотите замечать вокруг? Вам предлагают за тонну сажи получить гектар хлопка. Даже, если за пять тонн… Почему вы не проверяете, не исследуете, не ищете?
Он остановился, чтобы перевести дух, и продолжительно позвонил. В дверях показалась румяная и усатая физиономия секретаря.
— Товарищ Исламбеков, — сказал Рудаков совершенно спокойно, как будто все его раздражение израсходовалось на звонок, — будьте добры, достаньте в шкафчике лед для компрессов. И сходите на кухню, принесите нам золы… Да, да, печной золы и побольше. Не надо поручать поварихе, принесите сами. И не бойтесь испачкать руки, потом вымоете. А вы, — продолжал он, когда возмущенный секретарь скрылся, — пишите: профессору Богоявленскому в недельный срок составить план научно-исследовательских работ. Общие соображения поручите написать, например, Батурину… Проектное задание — оросить в долине Зеравшана 40 тысяч гектаров новых земель. Пожалуй, больше 40 тысяч гектаров мы не освоим за год. Затем свяжитесь с…
Четверть часа спустя Раиса Романовна — жена Рудакова заглянула в комнату и остановилась на пороге пораженная: в углу на корточках с сосредоточенным видом сидели два старика, один в белом полотняном костюме, другой — в полосатой пижаме; профессор держал на коленях тазик со льдом, а министр сыпал на лед золу и равнял ее чайной ложечкой.
Гор не было видно. Ночь затягивала небо черным бархатом. На нем, словно бриллианты, лучились звезды. Рудаков, вконец измученный бессонницей, сидел у окна и думал…
О воде.
Болезнь его прогрессировала, и он знал это. Знал это потому, что гости были подчеркнуто терпеливы и уступчивы, потому, что жена все дольше шушукалась с врачами за дверью, а Исламбеков все небрежнее подавал бумаги на подпись. И Рахимов — председатель Совета министров республики вежливо намекнул о годичном отпуске по болезни.
Жизнь уходила, богатая жизнь, насыщенная трудом, надеждами и победами, жизнь, посвященная борьбе за воду. За последние двадцать лет не было ни одной крупной гидростройки в Средней Азии, где бы не участвовал инженер и министр Рудаков. Он строил Большой Ферганский, Большой Чуйский и Южный Голодностепский каналы, Кзыл-Ординскую плотину в низовьях Сыр-Дарьи и Фархадскую в среднем течении, он строил водохранилища для сбора паводка — Катта-Курганское на Зеравшане, Орто-токойское на Чу… Но это было в прошлом. А министр думал о будущих стройках — о тех, которые начинались при нем и должны были кончиться без него: о Красноводском и Аму-Дарьинском каналах и еще более отдаленной стройке — соединении сибирских рек с Аральским морем, но больше всего о том насущном и близком, чему он сам положил начало, — окраске ледников в черный цвет.
Почти ежедневно к нему поступали рапорты о ходе работ. Краску для льда искали в химико-технологическом институте. Из всех красок черные — самые дешевые. Как правило, их получают из сажи — печной, ламповой, газовой, ацетиленовой. Но, как часто бывает в технике, трудности возникли из-за масштаба. Если нужно вырыть яму в саду, ты берешь лопату — и яма готова через час, но рытье котлована для фундамента плотины (то есть такой же ямы) — это сложная техническая задача, требующая расчетов и проектирования. Горсть сажи для опыта можно было наскрести в собственном дымоходе, но едва ли можно было наскрести сажи хотя бы на один ледник из всех печей Средней Азии. Когда понадобилось заготовить 50 тысяч тонн сажи, истратив на это 1 миллион кубометров древесины, инженеры стали в тупик. Вопрос о сырье едва не сорвал все дело — пришлось резко сокращать планы. Министр с трудом добился разрешения на постройку завода черной пыли из молотого каменного угля в Кизыл-Кия. Завод уже заложили, но вдруг оказалось, что он не нужен. Нурмухамедов, простой землекоп на стройке, внес предложение вместо молотого угля взять отходы производства обогатительной фабрики. Когда на этой фабрике обрабатывали руду, оставались ненужные отходы в виде черного порошка. За несколько лет работы позади корпусов выросли громадные черные холмы. Химики проверили отходы — они были несколько светлее сажи, но для ледников годились.
Пока химики искали краску, инженеры конструировали «кисточку». Но этот вопрос не вызвал затруднений. «Маляры» должны были летать на самолетах и обрызгивать лед сверху. И можно было применить для этого обычную самолетную установку для борьбы с малярийными личинками или садовыми вредителями, слегка видоизменив ее.
Где красить? В верховья Зеравшана была направлена специальная экспедиция для уточнения устаревших карт и определения снеговой линии (ниже снеговой линии снег стаивает за лето, и незачем ему помогать черной краской).
Неожиданную оппозицию идея окраски льда встретила в ученых кругах. Глава среднеазиатских климатологов профессор Гусев, мировой авторитет по ледниковедению, выступил в печати со статьей, доказывая, что уничтожение вечных снегов ухудшит климат Средней Азии. Профессор Богоявленский, все еще скептически относившийся к окраске льда, поддержал Гусева; Батурин — его помощник — выступил против. Он говорил, что почти вся вода, идущая на орошение, впоследствии испаряется, и водяные пары возвращаются назад в горы. В Академии развернулась жаркая дискуссия о том, что было бы, если бы в Средней Азии совсем не было ледников. Пришел даже запрос из Москвы, и Рудаков сам написал лаконичное письмо:
«Мы взяли для опыта один процент ледников. Они растают лет за сорок, не раньше. Опыт покажет…»
А сколько хлопот было с санитарной инспекцией, утверждавшей, что черная краска отравит питьевую воду. Тот же Батурин специально пил две недели мутную воду под наблюдением врачей. Краска оказалась безвредной, но министр дал специальное указание построить в каждой деревне отстойники и фильтры.
А новые оросительные каналы! А постройка домов для колхозников! Вербовка переселенцев! А школы, дороги, больницы… Освоить 40 тысяч гектаров не шутка — для этого нужно 40 тысяч человек.
Однажды, уже летом, — на прием к министру пришел необычный посетитель. Это был рослый парень, широколицый и курносый, из-под форменной фуражки его падал на лоб залихватский клок русых кудрей. На пороге гость козырнул и отрапортовал:
— Сорокин. Командир эскадрильи Сельхозавиации.
И сразу он наполнил унылую комнату скрипом сапог, сиянием пуговиц, раскатами молодого голоса.
— Ш-ш, — зашипела на него Раиса Романовна, убиравшая с тумбочки ненавистную Митрофану Ильичу манную кашу, — тише, он себя плохо чувствует.
Смутившись, летчик на цыпочках проследовал к стулу, но сапоги его заскрипели еще сильнее.
— Митя, ты не задерживай товарища, тебе отдохнуть нужно. И вы, товарищ, покороче! — сказала жена и выплыла из комнаты, такая полная и цветущая.
Рудаков неодобрительно посмотрел на нее. Они не очень хорошо прожили жизнь. Жена была гораздо моложе его и никогда не интересовалась его делами, а он не мог простить ей этого. «Теперь она ухаживает за мной с увлечением, как будто чувствует свою значительность и тешится ролью сиделки, белым халатом, косынкой», — думал он.
Но тут Митрофан Ильич упрекнул себя за несправедливость: «Брюзжишь, старик; жена у тебя чудесная, а если не интересуется твоими делами, сам виноват — не умеешь рассказать».
Летчик встал. Ему казалось неприличным сидя разговаривать с начальством.
— Разрешите доложить, товарищ министр. Завтра в 5.00 сводная эскадрилья под моим командованием вылетает на Зеравшанский ледник. Цель полета: провести окраску в квадратах…
Глаза Рудакова заблестели.
— А ну рассказывайте, рассказывайте!
Летчик вытащил планшетку. Горячась, видимо, сам увлеченный небывалой задачей, он говорил все громче, так громко, что ложечка звенела в стакане, и тут же спохватившись, краснел и шепотом переводил свою мысль на официальный язык.
«Хороший парень! — думал Митрофан Ильич, глядя на него. — Молодой, горячий, честный. И краснеть еще не разучился. Я тоже таким был. Нет, пожалуй, не был…»
Память нарисовала молодого Рудакова — долговязого, худого, с острыми скулами и большими ладонями, несгибающимися от мозолей.
«Нет, наша молодость труднее была, — подумал он, — для них старались. А что ему? Летает, песни поет, вихор отрастил, девушек смущает. Был бы я сейчас молодым, тоже пошел бы в летчики. Интересно, хочется ли ему быть министром? Вероятно, нет. А Исламбекову хочется. Так пускай бы он и лежал в моей постели, а я полетел бы на ледник».
И он сказал неожиданно:
— Товарищ Сорокин, в вашей эскадрилье есть вертолеты связи?
— А как же! — воскликнул Сорокин и тут же поправился. — Так точно, есть.
— Так слушайте. Прикажите пилоту связи сегодня в три часа ночи посадить вертолет в моем саду.
На открытом лице летчика можно было прочесть недоумение.
— Но ведь вы нездоровы. Без разрешения врача…
— Я имею право приказывать, — напомнил министр и, немного подумав, добавил: — Вы хорошо помните Фауста?
И замялся. Он хотел сослаться на пример старика Фауста, который поставил творчество выше жизни, но как-то неловко было говорить о сокровенных чувствах перед этим юнцом. Поймет ли он, что величайшее счастье для человека — увидеть результаты своего труда, что довести дело до конца важнее, чем прожить лишнюю неделю.
— Понимаю, — произнес летчик задумчиво и, сразу загоревшись, воскликнул: — Разрешите мне лично вести вертолет, вам удобнее будет передавать через меня указания.
— Хорошо! — Рудаков был очень доволен, что летчик понял его с полуслова. Парень оказался гораздо глубже, чем показалось сначала. — Хорошо! На обратном пути осмотрите сад. Там есть поляна. Машину сажайте тихо, чтобы… чтобы жена не проснулась. Потом подойдете к окошку, окликните меня или свистнете… или нет, свист не годится… Мяукнуть сможете? Ну вот, значит, подойдете к окошку и будете мяукать.
Ему стало весело от собственного мальчишества. А летчик вскочил в восторге.
— Есть мяукнуть, товарищ министр.
Мяуканье раздалось ровно в 3.00.
Голова немного кружилась, не то от свежего воздуха, не то от волнения. Колени сгибались неуверенно: Рудаков отвык ходить. Он с трудом поспевал за летчиком, который увлекал его в тень.
Ночь была прохладная. На черном небе сияла полная луна — ослепительно сверкающий, начищенный до блеска медный таз. На луну было больно смотреть сегодня — она гасила звезды и заливала весь сад жемчужно-серым светом. Дорожки были полосатыми, поперек них тянулись прямые угольно-черные тени тополей.
На крокетной площадке стоял новенький вертолет. Министр впервые видел такие. Аппарат со своим щупленьким фюзеляжем, широко расставленными колесами, огромным четырехлопастным винтом показался ему каким-то разухабистым, несерьезным, и он с некоторой опаской взобрался на сиденье, чувствуя, что и сам он совершает что-то несерьезное.
— Товарищ министр, наденьте, пожалуйста. Разрешите, я застегну. Вот шарф, я принес его для вас: наверху холодно, — хлопотал летчик.
Потом над головой застрекотал винт подъема, и, когда лопасти его слились в мерцающий круг, Рудаков увидел вровень с собой макушки деревьев. Вертолет поднимался плавно, еле ощутимо и совершенно отвесно. Земля бесшумно проваливалась вниз. Вот поравнялись с кабиной монументальные тополя, мелькнула крыша дома и освещенное окно в его спальне, затем все растворилось во тьме. Остались небо, звезды, тьма и думы…
О воде, конечно, как всегда, о воде…
Отсюда сверху земля казалась огромной гидрографической картой. Суша тонула во мраке, видна была только вода — поблескивали, как стеклянные осколки, затопленные поля, сверкали тонкие проволочки арыков, а широкие реки с плавными очертаниями были сплошь залиты лунным серебром, на их сияющем фоне виднелись даже купы деревьев и строения.
…Здесь он работал десятником, здесь — инженером, здесь — секретарем райкома. Тут он вел воду по акведуку, тут взорвал на выброс 20 тысяч кубометров земли…
Под ними была страна, которую называли когда-то Мирзачуль — Голодная степь. Рудаков помнил ее. Это была потрескавшаяся равнина, так трескаются губы у человека, погибающего от жажды. О Голодной степи рассказывали легенду. Говорили, будто некогда красавица Ширин-Кыз обещала свою руку тому, кто оросит Мирзачуль. Богатырь Фархад взялся за работу… Но изнеженный царевич Хосрой перехитрил его. Он выстелил степь циновками, и при лунном свете солома заблестела, как вода. Ширин вышла замуж за Хосроя. А когда взошло солнце и обман открылся, она покончила с собой. Убил себя и Фархад, а степь на долгие века осталась мертвой.
Но сейчас она вся сверкала в лучах луны, и это были не циновки, а настоящая вода. У скал Фархада большевики создали плотину. Три канала тянулись от нее, унося воду Сыр-Дарьи. Голодная степь кормила досыта полмиллиона человек.
Вероятно, не было здесь арыка, план которого не обсуждал бы министр. Сегодня он видел свои проекты в натуре и, может быть, в последний раз…
Позади была долгая жизнь, до предела заполненная трудом, а впереди…
Горы!
Это летчик прислал ему записку. На ней было одно слово:
«Горы!».
Разве это горы? По светлеющему небу плыли алые вихри. Да, действительно — горы, те самые вечные льды, которые будут штурмоваться сегодня…
Небо светлело с каждой минутой — из темно-лилового стало темно-синим, сиреневым, серым. Золотой ободок обвел контуры хребта, и вдруг из-за перевала выкатился гигантский маслиновый шар.
Солнце!
Теперь горы были близко, они придвинулись, нависли над головой. Что можно представить себе больше неба? Горы заслонили полнеба. Вертолет, как мотылек, порхал вдоль крутых склонов, огибая скалы, посыпанные снежной мукой.
Но вот снега, залитые багрянцем и золотом, остались внизу. Впереди поднялся новый хребет, еще более высокий, хмурый, заснеженный, с еще более острыми вершинами. А внизу между хребтами в глубокой расщелине змеился Зеравшан, и ущелье казалось таким тесным, таким крутым, что непонятно было, как могут здесь жить люди и где здесь нашлось место для целого района.
Вертолет повернул на восток, вверх по реке. Самой реки еще не было видно: ущелье тонуло в матово-синей тени, туман, как ватное одеяло, прикрывал русло, и глубокий сумрак сонной долины как бы подчеркивал сверкающее великолепие горных вершин.
Рудаков чувствовал себя прекрасно. Суровый и мощный пейзаж бодрил его. Это было так не похоже на город, в котором он жил, где природа была загнана в скверики, за решетку, как редкий зверь; так не похожа на очерченные арыками орошенные поля, где земля кротко зеленела с разрешения человека. Здесь, в горах, природа была хозяином, а человек — гостем. Скалы громоздились где попало и как попало, а тропинки, протоптанные людьми, вежливо обходили их. На крошечных площадках над пропастями робко лепились серые домики, тесные поля, крохотные садики… Здесь было полным-полно работы. И, глядя в лицо спесивым горам, старик смеялся, потирая руки…
— Ну что же, поборемся… поборемся!
Вскоре туман рассеялся, и каменистая долина верхнего Зеравшана выглянула на свет во всей своей неприглядности. Выше кишлака Духаус появилась первая морена (гряда камней, принесенных ледником). Когда-то, давным-давно Зеравшанский ледник был много длиннее и доходил почти до кишлака. Впрочем, ученые все еще спорят об этой гряде; некоторые из них считают, что на самом деле это не морена, а просто остатки древней плотины. Науке нелегко быть точной, когда речь идет о прошлом.
Бурная извилистая река блуждает по долине. Всюду камни, камни, камни… Островерхие хребты с крутыми склонами сходятся все ближе, вот-вот сомкнутся. Впереди поперек долины — желто-серая плотина.
Это и был ледник. Когда вертолет подлетел ближе, Рудаков увидел толщу грязного полосатого льда и темную пасть грота, откуда вытекала река, зародившаяся на леднике. Зеравшан вырывался на дневной свет многоводным мутным потоком, почти черным от глины и, клокоча, с ревом нес камни, осколки льда и главное — воду, драгоценную влагу на поля.
Летчик опять прислал записку. «А где же лед?» — спрашивал он.
Под ними текла каменистая река, заполнявшая долину от края до края — бесконечное множество острых и окатанных глыб. Камни покрывали ледник толстым слоем, лед даже не просвечивал сквозь них.
Обычно на ледниках середина чистая: осколки камней, скатившихся с горных склонов, движутся по бортам, образуя так называемую боковую морену. Справа и слева ледник принимает множество ледников-притоков, каждый из них выносит в общее русло свои боковые морены, и все они, перепутавшись и сбившись в кучу, сплошь устилают нижнюю треть ледника каменным ковром. Когда в 1881 году здесь проходил Мушкетов — знаменитый геолог и исследователь Средней Азии, первый человек, поднявшийся по Зеравшанскому леднику до перевала, — он не мог найти воды на леднике для своей экспедиции, страдавшей от жажды.
Вертолет миновал несколько ледников-притоков. Правые текли в глубоких темных ущельях, левые спускались по склонам, образуя ледопады и ледяные пороги. Поверхность главного ледника постепенно очищалась от морен, и вскоре полосы ослепительно сверкающего зернистого снега заняли всю долину.
Не долетая до перевала Матча, на высоте около четырех тысяч метров, вертолет совершил посадку. Кругом расстилалось блестящее море снега, и в нем, как обломанные зубы, торчали черные остроконечные скалы. Справа вздымалась гора Игла, и острая тень ее ложилась на снежный цирк. Зеравшанский ледник могучим белым потоком уходил на запад, а на восток круто падал другой ледник — изломанный, разбитый, беспокойный. За ним виднелась горная страна, где чудовищные скалы со странными очертаниями громоздились одна на другую, а дальше в голубой дымке тонула Фергана — жемчужина Средней Азии, древняя страна семидесяти городов.
Ни звука, ни ветерка. Торжественное безмолвие подавляло. Можно было подумать, что путники забрели на поле битвы, где яростно сражались между собой целые хребты, и, изрубив друг друга в куски, горы навеки остались здесь, их каменные тела занесло белым снегом.
Рудаков пробил каблуком заледеневшую корочку и набрал в горсть сыроватый слипающийся снег.
— Вот, — сказал он, — урожай 2000 года. Мы с вами стоим на чистом хлопке. Каждый комок снега — это хлопковая коробочка. Но мы возьмем его сейчас. Через полгода мы превратим его в пряжу, а через год — в сарафаны и костюмы.
Летчик шумно рассмеялся. Ему, молодому, общительному, было не по себе в этом торжественном безмолвии.
— А где мы возьмем сарафаны для 2000 года? — спросил он. Министр взглянул на него одобрительно. Этот парень нравился ему все больше и больше.
— Вы задали хороший вопрос, — сказал он. — Конечно, одним черным льдом мы не обойдемся. Нельзя все болезни лечить одним лекарством или в вашем деле, например, все грузы возить на самолетах. Самолеты сами по себе, барки сами по себе. Так и у нас. Мы навалимся на пустыню разными способами, разной водой — и черным льдом, и каналами, и опреснением. И в конце концов мы добьем пустыню.
Раскатистый пушечный выстрел раздался за спиной. Что это? Неужели сказочные великаны все еще сражаются? Нет, это просто снежная лавина.
И вдруг солнце померкло, все вокруг потемнело. Рудаков протер глаза, пальцы были черные. И рукава, и пальто, и шлем, и лопасти винта вертолета, и снег под ногами — все матово-черное. А Сорокин, превратившийся в негра, махал руками и кричал восторженно:
— Это же наши, Митрофан Ильич! Наши летят!
Белки его сверкали на чумазом лице, с волос сыпалась смолистая пыль.
Вслед за первым самолетом показался второй, третий, четвертый. Они проносились на бреющем полете над ледником, волоча дымчатые хвосты распыленной краски, и на ослепительно сверкающий снег ложились черные полосы, похожие на расщелины. Появились другие звенья над соседним склоном. На белой ленте ледника они чертили иероглифы. Казалось, самолеты хотят записать на вечном льде рассказ о новой победе человека над природой.
— Товарищ министр, садитесь, мы поднимемся в воздух.
— Не надо. — Рудаков задыхался от волнения. — Включите микрофон. Передайте им: «Прекратить беспорядок. Пусть кладут на ледниках поперечные полосы от края до края. Красить надо только южные склоны, незачем тратить краску на северные. Пусть действуют с умом: они же пилоты, а не маляры».
— Пилоты, а не маляры! — кричал Сорокин в микрофон. Минут через десять, исчерпав запасы краски, самолеты ушли на северо-запад. Сорокин выбрался из кабины. Его щеки, лоб, льняные волосы были заляпаны черной грязью, но на лице сияла счастливая улыбка. И снова они вдвоем, первобытная тишина окружала их. Только вместо ослепительно сияющего снега теперь лежала вокруг мрачная черная равнина.
— И небо стало темным, — заметил летчик.
— Да, да, — отозвался Рудаков, — так и должно быть. Это замечено в Арктике давным-давно. Над ледяными полями небо светлее, чем над открытой водой.
Он замолк. Не хотелось тревожить тишину словами.
Неожиданно явственный звук нарушил молчание. Клик-кляк! Как будто капля упала на камень. Под ногами что-то шелохнулось. Митрофан Ильич отступил в сторону — там, где были следы, выступила влага.
Черный снег был тепловатым на ощупь, становился ноздреватым, набухал водой. И вот, звеня льдинками, запел первый ручей.
Ледник начал таять.
Теперь очередь была за солнцем, и оно делало свое дело: солнце превращало фирновый снег в мокрую кашу, солнце гнало бесчисленные ручейки, и все они, звеня, стуча камешками, крутясь в рытвинах, бежали вниз, то смывая краску, то окрашивая белый снег. Ручьи падали в трещины, бурлили, вытачивая ледяные колодцы и спиральные лестницы, пробивали ходы в толще ледника, просачивались к подошве, выбивались сбоку; они несли тепло, а тепло рождало новые ручьи.
Солнце принялось за дело. Там и сям на поверхности ледника сверкали озерца, наполненные чернильной водой. Солнце вытачивало ледниковые столы под большими плоскими камнями и, полюбовавшись на свое искусство, обрушивало их тонкие ножки. Солнце разрушало ледник, лепило ледяные фигурки и ломало их, как ребенок, забавляющийся кусочком пластилина. Но что бы оно ни творило, все превращалось в воду, и нарастающий черный поток с ревом вырывался из грота в самом низу ледника.
Окраска продолжалась больше месяца. Тонким слоем черной пыли была покрыта свободная от морены верхняя часть Зеравшанского ледника, его притоки — ледники Скачкова, Толстого, Ахун и другие, ледник Рама, полоса вечных снегов от горы Обрыв до перевала Матапан и снежные поля в долине Ягноб-Дарьи.
Река прибывала. Уже на девятый день после окраски гидрологи на станции в кишлаке Духаус отметили небывалый подъем воды. На двенадцатый день по верхнему течению реки начали возводить плотины на случай наводнения. Толпы людей собирались на лугах и с волнением глядели, как бурлили холодные волны, клокотали в фарватере, переворачивали валуны и набегали на берег, оставляя черную грязь.
Начальник Катта-Курганского водохранилища (так называемого Узбекского моря) сообщил в министерство, что котловина не может вместить непредвиденных четырехсот миллионов кубометров воды (он так и сказал: «У меня море не резиновое!»). Поэтому обком принял меры, чтобы досрочно закончить оросительную сеть в новом районе.
Новый район принимал воду 10 августа в 12.00.
Небо было по-южному густо-синим, и в горячей синеве стояли горы, такие прозрачные, такие непрочные, что не верилось в их существование. Они казались морщинами на небесной эмали. Но белые паруса ледников были спущены сегодня, и там, где они находились прежде, в темно-синих пятнах можно было угадать полосы крашеного льда.
К полудню жара стала нестерпимой, и тени совсем съежились, залезли под подошвы. Но люди ждали; ждали узбеки — владельцы этой земли, их ближайшие соседи — туркмены и таджики, и казахи, и русские, и украинцы, и татары, и дунгане — как всегда, на новых землях селились все национальности.
Но вот прогремел пушечный выстрел, сверкнули на солнце ножницы, упала, извиваясь, белая ленточка и дрогнули тяжелые ворота шлюза. Черная и сердитая, вся в белой пене, вода заклокотала на бетонном дне канала, а потом пошла и пошла прямым ходом в пустыню, набирая скорость, наполняя русло.
И тотчас же на обоих берегах вскипели клубы пыли. Обгоняя воду, мчались всадники с радостной вестью. Мчались, сверкая клинками, соскакивая и взлетая на коня на ходу, крича неустанно:
— Вода-а-а-а!
Впрочем, скакали они по традиции, главным образом для собственного удовольствия. Кони сделали только первый скачок, а о воде уже знали, воду увидели и в новых колхозах, и в далеких кишлаках, и в Самарканде, и в Ташкенте… на мерцающих экранах телевизоров.
И в новеньком домике, который вырос на скале над лаково-черным ледником, тоже клокотала и ревела черная вода… и за окном, и на экране.
— Признаю… — сказал профессор Богоявленский. — Вынужден признаться. Мы, специалисты, упустили. Ничего не скажешь, вы оказались кругом правы, Митрофан Ильич!
Худой, с ввалившимися глазами, Рудаков сидел рядом в кресле, сидел… не лежал в постели.
— Жалко, что мы не с народом, — вздохнул он. — Но не рискую, знаете ли. После того полета в горы я прямо ожил. А потом опять жара, духота, нечем дышать. Вижу, одно спасение для меня — горный воздух. Поживу здесь, а годика через полтора попробую спуститься. Конечно, телефон, телевизор, вертолет, работать можно и тут. Но главное сражение — там, внизу. Все-таки добьем мы пустыню. Как полагаете, добьем?
Профессор начал охотно пересчитывать ресурсы: «Ледник Федченко мы покрасим в будущем году, он пополнит Вахш. Язгулемские и прочие ледники Памира пойдут прямо в Аму-Дарью, возьмем их для Кара-Кумского канала. А группу Хан-Тенгри трогать не будем: она для дружественного Китая. Из Пекина уже приезжали мелиораторы, просят помочь им оросить долины Яркенд-Дарьи…»
— А я вот что думаю, — прервал министр. — Ведь и у нас в России полезно подумать о черном снеге. Белый снег отражает до 80 процентов падающих лучей. Если подкрасить его, то он растает на месяц раньше. Весна придет не в апреле, а в марте. На месяц раньше трава… и всходы…
— Но эта титани… — начал было Богоявленский и осекся. — Я подсчитаю, я подсчитаю и доложу вам, Митрофан Ильич. Теперь я ничего не отвергаю без расчетов.
«Этот человек загадывает на десятки лет, — подумал он про себя, — как будто у него две жизни».
И, словно отвечая на мысли профессора, Митрофан Ильич сказал:
— Мы, советские люди, живем дольше всех, потому что часть души у нас в Будущем. Больше волнений, больше хлопот, зато и радости больше. А Будущее приходит, когда его зовешь. Приходит и становится Настоящим.
И. Ефремов ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ
Несколько лет назад я прошел с маршрутным исследованием часть Центрального Алтая, хребет Листвягу, в области левобережья верховьев Катуни. Золото было тогда моей целью. Хотя я и не нашел стоящих россыпей, но был в полном восторге от чудесной природы Алтая.
В местах, где я работал, не было ничего особо примечательного. Листвяга — хребет сравнительно низкий, вечных снегов — «белков» — на нем не имеется, значит, нет и сверкающего разнообразия ледников, горных озер, грозных пиков и всей той высокогорной красоты, которая поражает и пленяет вас в более высоких хребтах. Однако суровая привлекательность массивных гольцов, поднимающих свои скалистые спины над мохнатой тайгой, горы, толпящиеся под гольцами, как морские волны, вознаграждали меня за довольно скучное существование в широких болотистых долинах речек, где и проходила главным образом моя работа.
Я люблю северную природу с ее молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картинную яркость юга, назойливо лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишенные вершин могучие лиственницы и хмурые глубины сырых еловых лесов…
Короче говоря, я был доволен окружающей меня однообразной картиной и с удовольствием выполнял свою задачу. Однако у меня было еще одно поручение — осмотреть месторождения превосходного асбеста в среднем течении Катуни, близ большого села Немал. Кратчайший путь туда лежал мимо самого высокого на Алтае Катунского хребта, по долинам Верхней Катуни. Дойдя до села Уймон, я должен был перевалить Теректинские белки — тоже высокий хребет — и через Онгудай снова выйти в долину Катуни. Несмотря на необходимость спешить, вынуждавшую к длинным ежедневным переходам, только на этом пути я испытал настоящее очарование природы Алтая.
Очень хорошо помню момент, когда я со своим небольшим караваном после долгого пути по «урману» — густому лесу из пихты, кедра и лиственницы — спустился в долину Катуни. В этом месте гладь займища сильно задержала нас: кони проваливались по брюхо в чмокающую бурую грязь, скрытую под растительным слоем. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Но я не остановил караван на ночевку, решив сегодня же перебраться на правый берег Катуни.
Луна рано поднялась над горами, и можно было без труда двигаться дальше. Ровный шум быстрой реки приветствовал наш выход на берег Катуни. В свете луны Катунь казалась очень широкой. Однако, когда проводник въехал на своем чалом коне в шумящую тусклую воду и за ним устремились остальные, вода оказалась не выше колен, и мы легко перебрались на другой берег. Миновав пойму, засыпанную крупным галечником, мы попали опять в болото, называемое сибиряками карагайником. На мягком ковре мха были разбросаны тощие ели, и повсюду торчали высокие кочки, на которых вздымалась и шелестела жесткая осока. В таком месте лошади вынуждены были бы всю ночь «читать газету», то есть оставаться без корма, а потому я решил двигаться дальше.
Начавшийся подъем давал надежду выбраться на сухое место. Тропа тонула в мрачной черноте елового леса, ноги лошадей — в мягком моховом ковре. Так мы шли часа полтора, пока лес не поредел; появились пихты и кедры, мох почти исчез, но подъем не кончался, а, наоборот, стал еще круче. Как мы ни бодрились, но после всех дневных передряг еще два часа подъема показались очень тяжелыми. Поэтому все обрадовались, когда подковы лошадей зазвякали, высекая искры из камней, и показалась почти плоская вершина отрога. Здесь были и трава для коней, и годное для палаток сухое место. Мигом развьючили лошадей, поставили палатки под громадными кедрами, и после обычной процедуры поглощения ведра чаю и раскуривания трубок мы погрузились в глубокий сон.
Я проснулся от яркого света и быстро выбрался из палатки. Свежий ветер колыхал темно-зеленые ветви кедров, высившихся прямо перед входом в палатку. Между двумя деревьями, левее, был широкий просвет. В нем, как в черной раме, висели в розоватом чистом свете легкие контуры четырех острых белых вершин. Воздух был удивительно прозрачен. По крутым склонам белков струились все мыслимые сочетания светлых оттенков красного цвета. Немного ниже, на выпуклой поверхности голубого ледника, лежали огромные косые синие полосы теней. Этот голубой фундамент еще более усиливал воздушную легкость горных громад, казалось, излучавших свой собственный свет, в то время как видневшееся между ними небо представляло собой море чистого золота.
Прошло несколько минут. Солнце поднялось выше, золото приобрело пурпурный оттенок, с вершин сбежала их розовая окраска и сменилась чисто голубой, ледник засверкал серебром. Звенели ботала, перекликавшиеся под деревьями рабочие сгоняли коней для вьючки, заворачивали и обвязывали вьюки, а я все любовался победой светового волшебства. После замкнутого кругозора таежных троп, после дикой суровости гольцовых тундр — это был новый мир прозрачного сияния и легкой, изменчивой световой игры.
Как видите, моя первая любовь к высокогорьям алтайских белков вспыхнула неожиданно и сильно. Любовь эта не несла в дальнейшем разочарования, а дарила меня все новыми впечатлениями. Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озер, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызывал во мне обостренное понимание красоты природы, Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в горном мире, и, без сомнения, моим открытием, о котором я сейчас расскажу, я обязан в какой-то мере именно этой высокой настроенности.
Миновав высокогорную часть маршрута, я спустился опять в долину Катуни, потом в Уймонскую степь — плоскую котловину с превосходным кормом для лошадей. В дальнейшем Теректинские белки не дали мне интересных геологических наблюдений. Добравшись до Онгудая, я отправил в Бийск своего помощника с коллекциями и снаряжением. Посещение Чемальских асбестовых месторождений я мог выполнить налегке. Вдвоем с проводником, на свежих конях мы скоро добрались до Катуни и остановились на отдых в селении Каянча.
Чай с душистым медом был особенно вкусен, и мы долго просидели у чисто выструганного белого стола в садике. Мой проводник, угрюмоватый и молчаливый ойрот, посасывал окованную медью трубку. Я расспрашивал хозяина о достопримечательностях дальнейшего пути до Немала. Хозяин, молодой учитель, с открытым загорелым лицом, охотно удовлетворял мое любопытство.
— Вот что еще, товарищ инженер, — сказал он. — Недалеко от Немала попадется вам деревенька. Там живет художник наш, знаменитый Чоросов, — слыхали, наверно. Однако старикан сердитый, но ежели ему по сердцу придетесь, все покажет, а картин у него красивых — гибель!
Я вспомнил виденные мною в Томске и Бийске картины Чоросова, особенно «Корону Катуни» и «Хан-Алтай». Посмотреть многочисленные работы Чоросова в его мастерской, приобрести какой-нибудь эскиз было бы недурным завершением моего знакомства с Алтаем.
В середине следующего дня я увидел направо указанную мне широкую падь. Несколько новых домов, блестя светло-желтой древесиной, расположилось на взгорье, у подножия лиственниц. Все в точности соответствовало описанию каянчинского учителя, и я уверенно направил коня к дому художника Чоросова.
Я ожидал увидеть брюзгливого старика и был удивлен, когда на крыльце появился подвижный, суховатый бритый человек с быстрыми и точными движениями. Только всмотревшись в его желтоватое монгольское лицо, я заметил сильную проседь в торчащих ежиком волосах и жестких усах. Резкие морщины залегли на запавших щеках, под выступающими скулами и на выпуклом высоком лбу. Я был принят любезно, но не скажу, чтобы радушно, и, несколько смущенный, последовал за ним.
Вероятно, под влиянием искренности моего восхищения красотой Алтая Чоросов стал приветливее. Его немногословные рассказы о некоторых особенно замечательных местах Алтая ясно запомнились мне — так остра была его наблюдательность.
Мастерская — просторная комната с большими окнами — занимала половину дома. Среди множества эскизов и небольших картин выделялась одна, к которой меня как-то сразу потянуло. По объяснению Чоросова, это был его личный вариант «Дены-Дерь» («Озера Горных Духов»), большое полотно которой находится в одном из сибирских музеев.
Я опишу этот небольшой холст подробнее, так как он имеет важное значение для понимания дальнейшего.
Картина светилась в лучах вечернего солнца своими чистыми красками. Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу у самых корней поваленного дерева. Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесенные к небу руки. На заднем плане прямо в озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми ребрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой налево вьется шарф розовых облаков. Левый край долины — трога[2] — составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей спускаются к дальнему концу озера…
От всей картины веяло той отрешенностью и холодной, сверкающей чистотой, которая покорила меня в пути по Катунскому хребту. Я долго стоял, всматриваясь в подлинное лицо алтайских белков, удивляясь тонкой наблюдательности народа, давшего озеру имя Дены-Дерь — Озера Горных Духов.
— Где вы нашли такое озеро? — спросил я. — Да и существует ли оно на самом деле?
— Озеро существует, и должен сказать, оно еще лучше в действительности. Моя же заслуга — в правильном выражении сущности впечатления, — ответил Чоросов. — Сущность эта мне недешево далась… Ну, а найти это озеро нелегко, хотя и можно, конечно. А вам зачем?
— Просто побывать в чудесном месте. Ведь такую штуку увидишь — и смерти бояться перестанешь.
Художник пытливо посмотрел на меня.
— А это верно у вас прозвучало: «Смерти бояться перестанешь». Вы вот не знаете, наверно, какие легенды связаны у ойротов с этим озером.
— Должно быть, интересные, раз они так поэтично назвали озеро.
Чоросов перевел взгляд на картину.
— Вы ничего такого не заметили?
— Заметил. Вот тут, в левом углу, где гора конусом, — сказал я. — Только извините, но тут мне краски совсем невозможными показались.
— А посмотрите-ка еще, повнимательней…
Я стал снова всматриваться, и такова была тонкость работы художника, что чем больше я смотрел, тем больше деталей как бы всплывало из глубины картины. У подножия конусовидной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Перекрещивающиеся отражения этого света и света от сверкающих снегов на воде давали длинные полосы теней почему-то красных оттенков. Такие же, только более густые, до кровавого тона, пятна виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, над льдами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры столбы синевато-зеленого дыма или пара, придававшие зловещий и фантастический вид этому ландшафту.
— Не понимаю, — показал я на синевато-зеленые столбы.
— И не старайтесь, — усмехнулся Чоросов. — Вы природу хорошо знаете и любите, но не верите ей.
— А сами-то вы как объясните эти красные огни в скалах, сине-зеленые столбы, светящиеся облака?
— Объяснение простое — горные духи, — спокойно ответил художник.
Я повернулся к нему, но и тени усмешки не заметил на его замкнутом лице.
— Я не шучу, — продолжал он тем же тоном. — Вы думаете, название озеру только за неземную красоту дано? Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я картину сделал, а ноги еле унес. В девятьсот девятом я там был и до тринадцатого все болел…
Я попросил художника рассказать о легендах, связанных с озером. Мы уселись в углу на широком диване, покрытом грубым желто-синим монгольским ковром. Отсюда можно было видеть «Озеро Горных Духов».
— Красота этого места, — начал Чоросов, — издавна привлекала человека, но какие-то непонятные силы часто губили людей, приходящих к озеру. Роковое влияние озера испытал и я на себе, но об этом после. Интересно, что озеро красивее всего в теплые, летние дни, и именно в такие дни наиболее проявляется его губительная сила. Как только люди видели кроваво-красные огни в скалах, мелькание сине-зеленых призрачных столбов, они начинали испытывать странные ощущения. Окружающие снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их голову, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Людей тянуло туда, к круглой конусовидной горе, где им мерещились сине-зеленые призраки горных духов, плясавшие вокруг зеленоватого светящегося облака. Но как только добирались люди до этого места, все исчезало, одни лишь голые скалы мрачно сторожили его. Задыхаясь, едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетенной душой, несчастные уходили из рокового места, но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников после невероятных мучений добрались до ближней юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и храбрость. С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Дены-Дерь, и люди почти перестали бывать на нем. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растет ничего, даже трава. Я еще в детстве слышал эту легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных духов. Двадцать лет тому назад я провел там два дня в полном одиночестве. В первый день я не заметил ничего особенного и долго работал, делая этюды. Однако по небу шли частые облака, меняя освещение, и мне не удавалось схватить прозрачность горного воздуха. Я решил остаться еще на день, заночевав в лесу, в полуверсте от озера. К вечеру я ощутил странное жжение во рту, заставлявшее все время сплевывать слюну, и легкую тошноту. Обычно я хорошо выносил пребывание на высотах и удивился, почему на этот раз разреженный воздух так действует на меня.
Утро следующего дня обещало отличную погоду. Я поплелся к озеру с тяжелой головой, испытывая сильную слабость, но вскоре увлекся работой и забыл обо всем. Солнце порядком пригревало, когда я закончил разработку этюда, впоследствии послужившего основанием для картины, и отодвинул мольберт, чтобы бросить последний взгляд на озеро.
Я очень устал, руки дрожали, в голове временами мутилось, и подступала тошнота. Тут я и увидел духов озера. Над прозрачной гладью воды проплыла тень низкого облака. Солнечные лучи, наискось пересекавшие озеро, стали как будто ярче после минутного затмения. На удалявшейся границе света и тени я вдруг заметил несколько столбов призрачного сине-зеленого цвета, похожих на громадные человеческие фигуры в мантиях. Они то стояли на месте, то быстро передвигались, то таяли в воздухе. Я смотрел на небывалое зрелище с чувством гнетущего страха.
Еще несколько минут продолжалось бесшумное движение призраков, потом в скалах замелькали отблески и вспышки кровавого цвета. А над всем висело светящееся слабым зеленым светом облако в форме гриба…
Я вдруг почувствовал прилив сил, зрение обострилось, далекие скалы будто надвинулись на меня, я различил все подробности их крутых склонов. Схватив кисть, с дикой энергией я подбирал краски, стараясь торопливыми мазками запечатлеть необыкновенную картину.
Легкий ветерок пронесся над озером, и мгновенно исчезли и облако и сине-зеленые призраки. Только красные огни в скалах по-прежнему мрачно поблескивали, дробясь на воде в отбрасываемых скалами тенях. Возбуждение, охватившее меня, ослабело, недомогание резко усилилось, словно жизненная сила утекала с концов пальцев, державших палитру и кисть. Предчувствие чего-то недоброго заставило меня торопиться. Я закрыл этюдник и собрал свои пожитки, чувствуя, как страшная тяжесть наваливается мне на грудь и голову… Ветер над озером усиливался. Прозрачное голубое зеркало померкло. Облака закрыли вершины гор, и чистые краски окружающего быстро тускнели. Одухотворенная и чистая красота озера сменилась печальной хмуростью, красные отблески на месте призраков погасли, и лишь темные скалы чернели там среди пятен снега. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из моей груди, когда я, борясь с упадком сил и давившей меня тяжестью, повернулся спиной к озеру. Путь до места, где, по уговору, ожидали меня мои проводники, отказавшиеся идти на Дены-Дерь, я прошел, как в смутном сне. Горы качались передо мной, приступы рвоты приводили меня в полное изнеможение. Временами я падал и долго лежал, не в силах подняться. Как я добрался до моих проводников, не помню, да это и безразлично. Главное, что привязанный на спине ящик с этюдами уцелел.
Проводники издалека увидели, что делается со мной. Они перенесли меня к лагерю и положили на спину, подсунув под голову переметную суму.
«Однако, ты пропадешь, Чорос», — тоном беспристрастного наблюдателя заметил старший из проводников.
Я не умер, как видите, но долго чувствовал себя очень плохо. Вялость и притупление зрения мешали жить и работать. Большую картину «Дены-Дерь» я написал только год спустя, а эту отделывал все время понемногу, когда встал на ноги. Как видите, правда об озере Дены-Дерь и населяющих его горных духах далась мне недешево.
Чоросов умолк. Сквозь частый переплет большого окна виднелась погруженная в сумерки долина. Крайне заинтересованный рассказом, я не имел оснований не верить художнику, но в то же время не мог подыскать никакого объяснения чудесным явлениям, запечатленным в красках его произведения. Мы перешли в столовую. Яркая лампа-молния над столом прогнала тень нереального, навеянного странным рассказом. Я не утерпел и спросил, как разыскать Озеро Горных Духов на случай, если бы мне еще раз представилась возможность побывать в тех местах.
— Ага, забрало вас это озеро! — улыбнулся Чоросов. — Что ж, побывайте, если не боитесь. Записывайте.
Я достал из сумки записную книжку и карандаш.
— Место это в Катунском хребте, на его восточном конце. Это глубокое ущелье между Чуйскими и Катунскими белками. Километрах в сорока вверх по Аргуту от его устья, справа по течению, выходит речка Юнеур. Это место приметно потому, что Аргут дает здесь кривун и устье Юнеура выходит в широкое, плоское место. От устья его пойдете вверх по Аргуту левым берегом, считайте так — километров шесть, и здесь, справа по ходу, окажется небольшой ключ, или речка, если хотите. Речка-то небольшая, а долина очень широкая и глубоко уходит в Катунский хребет. По этой долине вам и ехать. Место сухое, лиственницы большие, раскидистые. Уже подниметесь высоко, когда встретите большой крутой порог, с него водопад маленький, и тут долина повернет вправо. Дно долины будет совсем плоское, широкое, и на нем — цепью — пять озер, одно от другого где с полверсты, где с версту. Последнее, пятое, озеро, откуда дальше нет ходу, и будет Дены-Дерь. Вот и все. Только смотрите не ошибитесь ущельями, а то там и долин и озер много. Да, вот вспомнил, хорошая примета! В устье ключа, куда; повернете с Аргута, будет небольшое болотце; на краю его, налево, стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной вершиной, как чертовы вилы. Если еще уцелела, по ней узнаете.
Я записал указания Чоросова, не подозревая того значения, которое имели они впоследствии.
Утром я просматривал работы Чоросова, но ни одна не шла в сравнение с «Дены-Дерь». Понимая большую ценность картины, я не решался даже намекнуть на возможность приобрести ее при моих весьма скромных средствах. Я купил два наброска снежных гор да еще получил в подарок маленький рисунок пером, где мои любимые лиственницы были изображены с глубоким знанием характера дерева.
На прощание Чоросов сказал мне:
— Вижу, как вы к «Дены-Дерь» присматриваетесь, но эту вам подарить не могу. Я подарю вам этюд, сделанный мной на озере. Только, — он помолчал немного, — это уже после того, как помру, сейчас мне расстаться с ним трудно. Ну, не огорчайтесь, это будет скоро… вам перешлют, — серьезно, со своей смущающей бесстрастностью добавил художник.
Пожелав Чоросову долгой жизни, а себе — скорой встречи с ним, я сел на коня, и судьба, как оказалось, навсегда разъединила нас.
Я не скоро попал на Алтай. Четыре года прошло в напряженной работе, а на пятый я временно выбыл из строя. Жестокий ревматизм — профессиональная болезнь таежников — на полгода свалил меня, а потом пришлось возиться с ослабевшим сердцем.
Устав от вынужденного безделья и скуки, я бежал с южного курорта в хмурый, но милый Ленинград. По предложению главка, я занялся ртутным месторождением Сефидкана в Средней Азии. В солнечной суши Туркестана я надеялся выгнать одолевшую меня хворь и вернуться к унылой дикости Севера, навсегда пленившей меня. Я был однолюбом и с трудом преодолевал приступы острой тоски по Сибири.
В один из теплых весенних вечеров, когда я сидел за микроскопом у себя дома, принесли посылку, которая больше огорчила, чем обрадовала меня. В плоском ящичке из гладких кедровых досок лежал этюд «Дены-Дерь» как знак того, что художник Чоросов окончил свою трудовую жизнь. Достаточно было мне снова увидеть «Озеро Горных Духов», как на меня нахлынули воспоминания.
Далекая и недоступная красота Дены-Дерь наполнила меня тревожной грустью. Стараясь рассеять печаль работой, я установил под микроскопом новый шлиф рудной породы из Сефидкана. Привычно я опустил тубус винтом кремальеры, настроил фокус микрометром и углубился в изучение последовательности кристаллизации ртутной руды. Шлиф — отполированная пластинка породы — представлял собой почти чистую киноварь, и с его изучением дело не ладилось. Тонкие оттенки цветов, отраженные от шлифа, скрадывались электрическим светом. Я заменил опак-иллюминатор[3] сильвермановским для косого освещения и включил лампу дневного света — превосходную выдумку, заменяющую солнце в суженном мире микроскопа…
Озеро Горных Духов продолжало стоять перед моим внутренним взором, и я сначала даже не удивился, увидев в микроскопе кроваво-красные отблески на фоне голубоватой стали, так поразившие меня в свое время на картине художника. Секундой позже до сознания дошло, что я смотрю не на картину, а наблюдаю внутренние рефлексы ртутной руды. Я повернул столик микроскопа, и кроваво-красные отблески замигали, потухая или переходя в более глубокий коричневато-красный тон, в то время как большая часть поверхности минерала продолжала отливать холодной сталью. Взволнованный предчувствием еще не родившейся догадки, я направил луч осветителя с дневным светом на этюд «Озера Горных Духов» и увидел в скалах у подножия конусовидной горы оттенки цветов, в точности сходные с только что виденным под микроскопом.
Я поспешно схватил цветные таблицы, и тут оказалось, что цвета с формулами… Впрочем, зачем приводить здесь самые формулы? Скажу только, что для науки, изучающей руды различных металлов и металлы, — минерографии — созданы цветные таблицы тончайших оттенков всех мыслимых цветов, которых насчитывается около семисот. Каждый из оттенков имеет свое обозначение, сумма оттенков составляет формулу минерала. Так вот, оказалось, что краски Чоросова в его изображении местообитания горных духов по этим таблицам точно соответствуют оттенкам киновари в разных условиях освещения, углах падения и всей прочей сложной игры света, в науке, называемой интерференцией световых волн.
Тайна озера Дены-Дерь вдруг стала мне ясной. Я только недоумевал, почему подобного рода догадка не пришла давно, еще там, в горах Алтая.
Я вызвал по телефону такси и вскоре подъезжал к ограде, за которой светились большие окна химической лаборатории. Мой знакомый — химик и металлург — был еще здесь.
— А, сибирский медведь! — приветствовал он меня. — Зачем пожаловали? Опять срочный анализ?
— Нет, Дмитрий Михайлович, я к вам за справкой. Что вы знаете замечательного о ртути?
— О, ртуть — металл столь замечательный, что книгу толстую написать можно! Что нужно-то, растолкуйте яснее.
— Да вот, ртуть кипит при трехстах семидесяти градусах, а испаряется при скольких?
— Всегда, дорогой инженер, за исключением сильного мороза.
— Значит, летуча?
— Необычайно летуча для своего удельного веса. Запомните: при двадцати градусах тепла в кубометре насыщенного ртутными парами воздуха — пятнадцать сотых грамма, а при ста градусах — уже почти два с половиной грамма.
— Еще вопрос: ртутные пары сами светятся или нет и каким цветом?
— Сами не светятся, но иногда, при сильной концентрации в проходящем свете, дают сине-зеленоватые оттенки. А при электрических разрядах в разреженном воздухе светятся зеленовато-белым…
— Все ясно. Большущее спасибо!
Через пять минут я звонил у дверей моего врача. Встревоженный старик сам вышел в переднюю, узнав мой голос.
— Что случилось? Опять сердце пошаливает?
— Нет, в порядке. Я на минутку. Скажите, каковы главные симптомы отравления ртутными парами?
— М-м, вообще ртутью — слюнотечение, рвота, а вот насчет паров сейчас посмотрю… Заходите.
— Да нет, я на минуточку. Посмотрите скорее, дорогой Павел Николаевич!
Старик ушел в кабинет и через минуту вернулся с раскрытой книгой в руках.
— Вот видите, пары ртути: падение кровяного давления, сильное возбуждение психики, учащенное, прерывистое дыхание, а дальше — смерть от паралича сердца.
— Вот это великолепно! — не удержался я.
— Что великолепно? Такая смерть?
Но я только засмеялся, мальчишески радуясь недоумению доктора, и сбежал с лестницы. Теперь я знал, что весь ход моих мыслей, безусловно, верен.
Вернувшись домой, я позвонил начальнику своего главка и сообщил, что в интересах нашей работы мне необходимо немедленно ехать на Алтай. Я попросил отпустить со мной Красулина, молодого дипломника, физическая сила и хорошая голова которого были очень нужны мне при моем все еще болезненном состоянии.
В середине мая уже можно было беспрепятственно достигнуть озера. Как раз в это время я с Красулиным и двумя опытными таежниками-рабочими и вышел из селения Иня на Чуйском тракте.
Я помнил все наставления покойного художника о предстоящем пути, и, главное, в боковом кармане у меня лежала старая, истрепанная полевая книжка с маршрутом, записанным со слов Чоросова.
Когда мой маленький отряд раскинул вечером палатку на сухой рели в устье долины, против похожей на вилы лиственницы, я не без волнения почувствовал, что завтра будет подтверждена правильность моих предположений, верен ли путь разума через фантазию или я выдумал нечто еще более невероятное, чем сказочные духи художника-ойрота. Красулину передалось мое волнение, и он подсел ко мне на бугорок, где я задумчиво созерцал рогатую лиственницу.
— Владимир Евгеньевич, — тихо начал он, — помните, вы обещали рассказать о цели нашей поездки, когда попадем в горы.
— Я надеюсь не позднее чем завтра обнаружить крупное месторождение ртути, может быть, частично самородной. Завтра увидим, прав я или нет. Вы знаете, что ртуть встречается обычно в рассеянном виде, в малых концентрациях. Большое месторождение с богатым содержанием ртути известно только одно в мире — это…
— …Альмадена в Испании, — подсказал Красулин.
— Да, уже много веков Альмадена снабжает ртутью полмира. Один раз там было найдено крохотное озеро чистой ртути. Так вот, я рассчитываю найти нечто подобное. Что здесь целые утесы чуть ли не целиком состоят из киновари, в этом я убежден, если только…
— Но, Владимир Евгеньевич, если мы откроем такое месторождение, это переворот в ртутной экономике!
— Конечно, дорогой! — Ртуть — важнейший металл для техники и медицины. Ну, а теперь — спать, спать! Завтра поднимемся еще затемно. Кажется, день будет пасмурный, а нам это и нужно.
— Почему так важен пасмурный день? — спросил Красулин.
— Потому, что я не хочу отравить всех вас, да и сам отравиться. Пары ртути не шутка. Доказательство хотя бы в том, что открытие этого месторождения задержалось на сотни лет именно из-за гибельных свойств ртутных паров. Завтра мы сразимся с горными духами Дены-Дерь, а там видно будет…
Дымка розового тумана заволокла горы. В долине стемнело. Только острые вершины белков еще долго светились в невидимых нам лучах солнца. Потом и они потухли. Пепельная завеса скрыла горы. Сверкнули затуманенные пасмурным небом звезды. Я все еще сидел, куря у костра, но в конце концов поборол свое волнение и улегся спать.
Все события следующего дня запомнились мне почему-то в отрывках.
Отчетливо врезалось в память обширное, совершенно плоское дно долины между третьим и четвертым озерами. Середина долины лежала ровным зеленым ковром мшистого болота, без единого деревца, а по краям высились большие кедры. Лишенные ветвей с одной стороны, кедры тянули могучие ветви в сторону Озера Горных Духов, как мрачные флаги на высоких столбах. Низкие, хмурые облака быстро проносились над кедрами, словно торопясь к таинственному месту.
Четвертое озеро было невелико и кругло. Из голубовато-серой воды, покрытой пыльной дымкой ряби, торчала гряда острых камней. Перебравшись через них, мы попали в густые заросли кедрового стланца, и еще через десять минут я стоял на берегу Озера Горных Духов. Пепельный цвет печали лежал на воде и снежных склонах горной цепи. Тем не менее я сразу же узнал в нем храм горного духа, поразивший мое воображение несколько лет назад в студии Чоросова.
Добраться до отливающих сталью скал у подножия конусовидной горы оказалось нелегкой задачей. Но все трудности были нами мгновенно забыты, когда геологический молоток, звеня, отбил от ребра утеса первый тяжелый кусок киновари. Дальше скалы понижались скошенными ступенями к небольшой впадине, над которой вился легкий дымок. Впадину заполняла мутная горячая вода. Вокруг из глубоких расселин били горячие ключи, окутывая туманом края впадины.
Я поручил Красулину глазомерную съемку рудного участка, а сам двинулся вместе с рабочим сквозь пелену тумана к подошве горы.
— Что это там, товарищ начальник? — спросил вдруг рабочий.
Я взглянул в указанном направлении. Наполовину скрытое каменистой грядой, блестело тусклым и зловещим блеском ртутное озерко — моя воплощенная фантазия. Поверхность озерка казалась выпуклой. С непередаваемым волнением склонился я над его упругой поверхностью и, погружая руки в ускользающую и неподатливую жидкость, думал о громадном количестве жидкого металла — моем подарке Родине.
Прибежавший на мой зов Красулин застыл в немом восхищении. Однако пришлось умерить восторги и поторапливать своих спутников в выполнении необходимой работы. Уже чувствовались тяжесть в голове и жжение во рту — зловещие признаки начинающего отравления. Я защелкал направо и налево лейкой, рабочий наполнил фляги ртутью из озерка. Красулин и второй рабочий спешно обмеряли выходы рудных пород и размеры озерка. Казалось, все было готово с молниеносной быстротой, тем не менее обратно мы шли медленно, вяло, борясь с усиливающимся чувством угнетения и страха. Пока мы с трудом огибали озеро по левому берегу, облака разошлись, и нашим глазам открылся граненый алмазный пик. Косые солнечные лучи прорвались сквозь ворота дальнего ущелья, вся долина Дены-Дерь наполнилась искрящимся прозрачным светом. Обернувшись, в увидел сине-зеленые призраки, мелькавшие в недавно покинутом нами месте. К счастью, берег постепенно выравнивался, и мы скоро добрались до лошадей.
— Гони, ребята! — вскричал я, поворачивая своего коня.
— В тот же день мы спустились по долине до второго озера. В наступивших сумерках протянутые нам навстречу ветви кедров как бы грозили, пытаясь задержать нас.
Ночью мы чувствовали себя неважно, но в общем все обошлось благополучно.
Остается сказать немного. Волшебное озеро дало и дает теперь Советскому Союзу такое количество ртути, что обеспечивает все потребности нашей многосторонней промышленности. Я навсегда сохранил признательную память о правдивом художнике, бесстрашном искателе души гор.
И. Нечаев БЕЛЫЙ КАРЛИК
Не так давно в одной из популярных английских газет была напечатана статья под интригующим заголовком «Белый карлик». Автор статьи, английский военный корреспондент Бэдбюри, обслуживает части британских военно-воздушных сил, наносящих частые «визиты» немецким военно-промышленным объектам.
Читатели, привыкшие к репортажу Бэдбюри о действиях тяжелых бомбардировщиков над Германией, на этот раз были немало удивлены, так как в статье «Белый карлик» речь шла о событиях, имеющих большую давность и нисколько не связанных с операциями королевских военно-воздушных сил.
Впрочем, примечание к статье известного кембриджского физика объясняло читателям, что редакция газеты не без умысла возвращалась к истории, как бы подчеркивая актуальность очень важной научной проблемы, затронутой в статье «Белый карлик».
Счастливый случай свел нас с Бэдбюри и его другом — британским военным летчиком майором X. Последний уверял, что историческое откровение Бэдбюри появилось в результате успешных операций английских бомбардировщиков над Эссеном. Бэдбюри лично наблюдал, как многотонные бомбы кромсали и поднимали на воздух заводы, и после возвращения на аэродром имел неостороженость воскликнуть: «Ах, если бы здесь был бедняга Крейбель, он получил бы почти полное удовлетворение!»
Заинтересованный этой фразой, майор X. упорно вызывал Бэдбюри на откровенность и, когда это ему удалось, уговорил корреспондента выступить со своими воспоминаниями в печати.
Воспользовавшись возможностью лично побеседовать с Бэдбюри и майором X., а также руководствуясь статьей «Белый карлик», нам удалось почти во всех деталях восстановить события, свидетелем которых был Бэдбюри.
Это было в тот день, когда весь мир был потрясен очередным актом чудовищной агрессии, совершенным гитлеровской Германией. Вооруженные до зубов полчища нацистов нарушили границы Чехословакии и один за другим захватывали города и села маленького свободолюбивого государства.
Буквально накануне этого мрачного в истории человечества дня Бэдбюри, как и другие иностранные корреспонденты, был под впечатлением трагического происшествия, глубоко взволновавшего всю общественность города П.: известный изобретатель инженер Истер, успешно работавший над повышением стойкости броневой стали, был найден умерщвленным в своей лаборатории.
Еще не были распутаны нити этого тяжелого преступления, как новая мрачная сенсация отодвинула на задний план все события дня. Теперь уже никто не интересовался печальной участью инженера Истера; внимание всего мира было приковано к судьбе маленького государства, ставшего жертвой разбойничьей агрессии нацистской Германии.
В полдень Бэдбюри вернулся домой. До этого он несколько часов провел на телеграфе, сообщая своей газете информацию о движении германских войск на территории Чехословакии.
На столе он увидел письмо и по почерку сразу же угадал, что оно было написано его другом, известным ученым Иосифом Крейбелем, чьи работы упоминались наряду с открытиями знаменитого физика Резерфорда.
Последние несколько недель Крейбель вел образ жизни затворника, и Бэдбюри был очень удивлен, что его друг дал о себе знать.
Вскрыв конверт, Бэдбюри прочел лаконичную записку, в которой Крейбель настойчиво просил немедленно приехать к нему в лабораторию.
«Могу вас заверить, — писал Крейбель, — что вы нисколько не пожалеете о своем визите, ибо ваши профессиональные чувства будут удовлетворены в полной мере».
Через несколько минут Бэдбюри вошел в резиденцию ученого. Помещение, в котором находилась лаборатория Крейбеля, пребывало в хаотическом состоянии. Битая посуда, измерительные приборы, обрезки металла усеивали пол и столы. Среди этого разора стоял Крейбель и в полном одиночестве при спущенных шторах сжигал в вытяжном шкафу бумаги. Напротив, в углу, пылала нестерпимым жаром вертикальная электрическая печь. Огненный ручей вытекал из нее снизу по желобу и, застывая, превращался в странную смесь из стекла и металла.
— Рад, что вы приехали, Бэдбюри, — сказал Крейбель. — Еще минута, и вы бы меня здесь уже не нашли: я собираюсь бежать. Видите, я расплавляю свои аппараты, уничтожаю следы…
Он произнес все это скороговоркой, не подав Бэдбюри даже руки. Движения его были торопливы, но лицо невозмутимо, как всегда.
Покончив с бумагами, он заспешил к печи, снял огнеупорную крышку и, защищая лицо рукой, заглянул в раскаленное жерло.
— Теперь все! Едемте! — сказал он Бэдбюри, стоявшему в выжидательной позе у двери.
— Мне останется еще только один короткий визит, который, впрочем, и вам, наверное, будет интересен. А затем мы сможем поговорить.
Они спустились вниз к машинам почти бегом. Крейбель, хотя и шел налегке, неся на руке только дорожную куртку, заметно запыхался. Его ассистент, или секретарь, по знаку бросился в лабораторию, едва они вышли оттуда. Вскоре он появился с небольшим чемоданом и поставил его в автомобиль шефа. Бэдбюри поразило, что этот сильный с виду молодой человек на ходу качался и изгибал туловище, как будто волок непосильную тяжесть. Лицо его побагровело, на шее вздулись жилы.
«В чемодане — золото! — догадался Бэдбюри. — Ай-да Крейбель!»
Они быстро миновали рабочие кварталы, прилегавшие к заводу, и въехали в тихий зеленый пригород, растянувшийся на склоне огромного холма. Здесь, в парке, стоял домик Истера. Молчаливая экономка открыла им дверь. Истер был холостяком, и теперь в его доме царило безмолвие могилы.
Черный труп лежал еще на том самом месте, где его обнаружили накануне. Бэдбюри стало немного не по себе, когда он увидел это искаженное мертвое лицо, судорожно сжатые кулаки… А Крейбель присел над мертвецом и стал с силой давить на его пальцы, пытаясь их разжать. Бэдбюри передернуло.
— Приходили сегодня из полиции? — спросил Крейбель экономку.
— Нет, — ответила она. — Со вчерашнего вечера никого не было. Они говорят: «Нам сейчас не до покойников. Хороните его, и дело с концом». В четыре часа его отвезут в крематорий.
Крейбель резко выпрямился.
— В крематорий?! — вскричал он. — Этого нельзя допустить! Весь город взлетит на воздух!
Было ли это шуткой? Бэдбюри не успел даже вдуматься в смысл услышанной им нелепой фразы. Новое движение Крейбеля вдруг отвлекло его внимание.
Внезапно подскочив к окну, Крейбель жестом подозвал Бэдбюри к себе. Из окна открывался вид на весь город, лежавший в котловине. По ту сторону его, на возвышенности, Бэдбюри заметил какую-то темную движущуюся массу: она шевелилась на дороге, спускавшейся в город.
— Немцы! — сказал Крейбель. — Германская моторизованная колонна…
Несколько секунд он молча смотрел вперед, о чем-то размышляя. Потом решительно отошел от окна и снова нагнулся над трупом.
— Вот что, Бэдбюри, — сказал он, — помогите-ка мне разжать ему руку. Объяснения после. Сейчас дорога каждая секунда. Поверьте, так нужно.
Преодолевая брезгливость, Бэдбюри прикоснулся к ледяной руке мертвеца. С полминуты они оба возились над ним, пытаясь раскрыть окоченелый кулак, но это было выше человеческих сил.
— Хорошо, — произнес Крейбель. — Остается один выход: повезти с собой. Я сам его похороню, слышите, — сказал он, обращаясь к экономке. — Но никому ни слова об этом!
— Делайте так, как вы считаете нужным, — ответила женщина. — Я знаю, вы не поступите дурно с телом господина Истера.
Но труп почти невозможно было сдвинуть с места. Он был тяжел, как свинцовая глыба. С огромным трудом они вытащили его в переднюю. Еще труднее было завернуть его в штору, которую Крейбель содрал в коридоре. Когда они приподнимали тело, Бэдбюри почувствовал, что у него обрываются внутренности: труп весил, по меньшей мере, втрое больше нормального человека!
На улице не было ни души.
— Теперь на аэродром! — сказал Крейбель, когда они управились с мертвецом. — Если вы полетите со мной, вы услышите величайшую сенсацию, которую когда-либо слышал журналист. О своей машине не беспокойтесь.
Англичанин молча кивнул головой. Его начинала интриговать эта почти кинематографическая ситуация.
На заводском аэродроме их ждал самолет, готовый к отлету. Пока механики заводили мотор, они перетащили труп в самолет. Затем Бэдбюри пролез в кабину и уселся. Непрерывная гонка на автомобиле и эта возня с мертвецом утомили его. Он с нетерпением ожидал подъема в воздух, чтобы узнать, наконец, зачем он понадобился Крейбелю. «Похоже на детективный роман, — думал он. — Похищаем трупы, бежим с чемоданом золота…»
Крейбель, переодевавшийся у автомобиля, подозвал механика и велел ему убрать из-под колес самолета деревянные колодки. Затем он аккуратно натянул большие пилотские перчатки и направился к самолету. Взревел мотор, поднимая на невысокой траве аэродрома мелкие волны.
Вдруг Бэдбюри подскочил на своем сиденье и испуганно замахал рукой. Крейбель обернулся. По шоссе от завода мчалась кавалькада серых машин — броневик, грузовики с солдатами, несколько легковых автомобилей. Далеко вперед вырвался мотоцикл. Как пуля, проскочил он в ворота аэродрома и в мгновение ока очутился у самолета.
Мотоциклист — полный немец в черной форме со свастикой на рукаве — еще на ходу закричал, стараясь пересилить шум мотора.
— Мне нужен доктор Крейбель! Вы — Крейбель?
— Я, — спокойно ответил Крейбель.
— Следуйте за мной: вы арестованы!
— Кем?
— Гестапо…
— Я нахожусь на территории независимой республики, — сказал Крейбель, пожимая плечами, — и не признаю никаких гестапо.
Он повернулся к немцу спиной и шагнул к самолету. Полицейский соскочил с мотоцикла и грубо схватил доктора за рукав:
— Я приказываю вам следовать за мной!
Все, что произошло затем, промелькнуло перед Бэдбюри с потрясающей быстротой, нереально и ярко, как при вспышке молнии.
— Не валяйте дурака, господин гестапо! — сказал Крейбель и сильно толкнул немца.
Тот с перекошенным от злобы лицом выхватил маузер и, ощерясь, в упор — Бэдбюри почувствовал, как у него останавливается сердце, — выпустил все заряды в грудь доктора. Крейбель хладнокровно смотрел, как в его тело всаживают пули. Потом не спеша влез в кабину. Оттуда он помахал рукой ошеломленному гестаповцу, дал газ и поднял самолет в воздух. На подъеме было видно, как вся серая кавалькада несется к месту взлета, где неподвижно, с вытаращенными глазами и разинутым ртом стоял представитель тайной государственной полиции Германии.
Не в силах произнести ни слова, Бэдбюри с суеверным ужасом смотрел на доктора, деловито управляющего самолетом.
— Я вас предупредил, — прокричал Крейбель в переговорную трубку, — я вас предупредил, что вы услышите и увидите сегодня сенсационные вещи! На мне, мой милый Бэдбюри, надета броня, изобретение бедного Истера. Она не толще жести, но ее нельзя пробить даже бронебойным снарядом, а не то что пулями, которыми палил в меня этот полицейский осел. Когда Истера убили — это дело рук немцев, гестапо, можете не сомневаться, — когда его убили, я стал ожидать своей очереди и надел броню.
— А если бы вам выстрелили в голову? — спросил Бэдбюри.
— Тогда бы я, конечно, не летел сейчас в вами, — ответил Крейбель. — Впрочем, — добавил он, — броня — это, в сущности говоря, пустяки…
Он включил автоматическое управление, расстегнул куртку и вынул из-за пазухи маленький серый шарик, вроде орешка.
— Возьмите-ка, — сказал он англичанину, — подержите это, только смотрите, не уроните — он тяжелый.
Бэдбюри подставил ладонь и невольно закричал: страшная тяжесть навалилась ему на руку. Руку потянуло вниз, как если бы ее нагрузили гирей в полцентнера весом. Напружинив мускулы, он еле-еле удерживал на своей широкой ладони маленький шарик.
— Этот орешек начинен водородом, — сказал Крейбель. — Легчайшим из газов, которым наполняют воздушные шары и дирижабли, чтобы они могли подняться над землей.
— Вы смеетесь надо мной, — проговорил Бэдбюри, подпирая немеющую правую руку левой. — В нем не меньше пятидесяти килограммов веса!
Крохотный груз давил ладонь, растягивал мышцы; еще секунда — и Бэдбюри вынужден был бы уронить его на пол. Крейбель вовремя перетащил шарик к себе и подвесил на внутренней стороне своей куртки в особом бронированном гнезде.
— Я нисколько не смеюсь, — сказал он. — Здесь, в свинцовой скорлупе, находится самый настоящий водород или — почти настоящий. Мы с Истером назвали его «БК» — это начальные буквы слов «белый карлик». Они ничего вам не говорят?
Это странное сочетание слов показалось Бэдбюри знакомым, словно он где-то однажды уже слышал их. Но он не мог припомнить, где и по какому поводу.
— «Белый карлик», — продолжал Крейбель, — это звезды, сравнительно редко встречающийся тип белых, сильно раскаленных звезд. Они очень малы по своим размерам, иногда не больше нашей маленькой Земли, но они обладают колоссальной массой.
Он запнулся. Серое облачко вдруг возникло под стеклянным полом кабины, и одновременно такие же облачка появились по бокам самолета. Кто-то невидимым железным кулаком ударил по фюзеляжу.
— Зенитки! — вскричал Крейбель.
«Самая подходящая обстановка для того, чтобы слушать лекцию по астрономии», — подумал Бэдбюри. Самолет круто рванул кверху.
— Ловкие мерзавцы! — проворчал Крейбель, маневрируя рулями. — Уже успели пустить в ход свои дрянные хлопушки! Теперь я не стану удивляться, если через пять минут нам на хвост сядет немецкий истребитель…
Они благополучно выбрались из полосы обстрела и пошли на большой высоте. Плохо видя земные ориентиры, Крейбель вынужден был непрерывно следить за приборами. Не выпуская из рук штурвала, он то и дело оглядывался — видимо, опасался нового нападения. Все же он успевал время от времени, нагнувшись к трубке, прокричать англичанину что-нибудь о своем «белом карлике».
Это странное вещество, имеющее какую-то связь со звездами, обладало, по его словам, громадной разрушительной силой.
Крейбель утверждал, что один грамм «БК» производит такое же действие, как хороший 150-миллиметровый фугасный снаряд. Один грамм — это ничтожная, почти невидимая пылинка! Ничего не стоит начинить ими обыкновенные пули, и тогда один простой пистолет мог бы заменить батарею мощных гаубиц.
Поистине «величайшая сенсация»! Следовало ли, однако, принимать это всерьез? Крейбель имел обыкновение подшучивать над своим другом журналистом за его невежество в естественных науках. Не шутит ли он и на этот раз? Вряд ли! Хотя Бэдбюри почти ничего не понял из его отрывистых замечаний о природе «белого карлика», зато он держал это вещество в руках. Оно было в тысячу раз тяжелее железа, золота, свинца; почему же оно не могло быть в сотни тысяч раз разрушительнее нитроглицерина или аммонала?
— Представьте себе, — говорил Крейбель, — армию, имеющую в своем распоряжении много «белого карлика». Это грозная армия, неправда ли? Каждый рядовой боец из винтовки или даже из пистолета бьет по противнику снарядами, не уступающими по своему действию шестидюймовым. Один единственный пулеметчик заливает позиции врага дождем таких снарядов — сто штук в минуту! А артиллерия этой армии стоит далеко в тылу и выбрасывает орешки с «БК» в стратосферу. Пролетев километров пятьсот, орешек падает где-нибудь в Эссене и одним махом стирает с лица земли какой-нибудь заводик вроде крупповского…
— Вы делали такие опыты? — недоверчиво спросил Бэдбюри. — Вы проверяли это?
— Нет, — сказал тот, усмехаясь, — на Круппе я, к сожалению, этого еще не проверял, а маленькие пульки с одним граммом «БК» мы испытывали… Но вам, кажется, сейчас представится возможность лично убедиться…
Он показал пальцем направо. Бэдбюри увидел немецкий самолет, круживший в нескольких сотнях метров над ними. Фашистский пилот высовывался из кабины, махал им рукой, очевидно, предлагая приземлиться. Чтобы не оставалось никаких сомнений, он направил на них пулемет и снова повелительным жестом указал на землю.
— Опустите-ка стекло, — сказал Крейбель англичанину. Оба самолета стали сближаться. В каких-нибудь ста метрах от фашистского истребителя Крейбель дал резкий крен. Продолжая управлять самолетом левой рукой, он правой достал из кармана пистолет, прищурился и выстрелил.
На одно мгновение вражеский истребитель заволокло облаком бледного синеватого пламени, потом оттуда вырвался еще столб пламени и книзу стремительно полетели дымящиеся обломки самолета.
— Вот, — невозмутимо сказал Крейбель, пряча пистолет. — Исследователю никогда не мешает лишний раз проверить свое открытие.
Он внимательно оглядел небо и, убедившись, что никто их больше не преследует, продолжал:
— Если хотите знать, это всего только третье испытание «белого карлика», а в воздухе — даже первая проба. Мы с Истером добились решающих результатов только в самое последнее время, когда все кругом уже кишело немецкими агентами. Они сидели в дирекции, в конструкторском отделе… Всюду они совали свой нос, атмосфера была уже отравлена, и нам приходилось всячески изворачиваться, чтобы сохранить в тайне результаты работ. Но они кое-что все-таки разнюхали: и про разрушительное действие «БК» и про истеровскую броню. Это они забрались к Истеру третьего дня, чтобы выманить или похитить у него наши изобретения. Но Истер был не из тех, кого можно запугать или сбить с толку. Однако не находите ли вы, что нам следует приготовиться к новому визиту истребителей и надеть парашюты? Мало ли что может случиться…
Вероятно, чтобы сократить путь, Крейбель срезал угол и пошел над территорией Германии. Угроза вторичного нападения теперь была особенно велика, и Бэдбюри молча последовал примеру Крейбеля, подвязывавшего парашют. Впрочем, был ли в этом какой-нибудь смысл? Если бы им пришлось выброситься из самолета, то на земле их ждал бы не слишком хороший прием. Или, может быть, Крейбель надеялся со своим волшебным пистолетом пробиться к границе в крайнем случае пешком.
— Я не возражаю, — сказал Крейбель, покончив с парашютом, — если вы пустите теперь в большую прессу некоторый намек на то, что вы слышали и видели. Я потому и вызвал вас, когда убили Истера, что мне нужен был свидетель — благожелательный свидетель, понимаете, на всякий случай… В П. я все успел уничтожить перед бегством, там не осталось никаких следов. Кроме Истера и меня, никто ничего определенного не знал ни о «БК», ни о броне. Те немногие килограммы «БК», которые мы успели изготовить на лабораторной установке, я увез. Они вот здесь, в чемодане, и еще у него…
Он кивнул головой назад, туда, где лежал завернутый в штору труп Истера.
Так вот в чем было дело! Вот зачем надо было разжать его руки! Вот зачем они, надрываясь, похищали это мертвое тело! Чтобы «белый карлик» не достался немцам…
Бэдбюри вспомнил странный разговор о кремации, который происходил утром в доме Истера: «Этого нельзя допустить! Не то город взлетит на воздух…» Теперь все разъяснилось! Однако какое отношение ко всему этому имели звезды? И что, собственно, представлял собой этот чудовищно тяжелый «белый карлик»? Бэдбюри хорошо запомнил, но плохо понял ученую фразу Крейбеля: «Мы получали сверхмощные потоки протонов и уплотняли их с помощью новой силы, не подвластной еще ни одному другому физику в мире. Я имею в виду внутриядерные силы сцепления…»
Крейбель уверял, что все это «очень просто». Но англичанин был на этот счет другого мнения. И, пристально вглядываясь в далекие холмы, синевшие на горизонте, он думал о том, что ему, пожалуй, и в самом деле придется скоро последовать ироническому совету Крейбеля и засесть за изучение точных наук.
— Видите ли, Бэдбюри, — сказал ученый, когда под ними замелькали заводы и шахты Рурского бассейна, — вы, конечно, никогда не предполагали, что Иосиф Крейбель — романтик. Но у каждого из нас бывают критические минуты, когда мы преображаемся и на момент становимся совершенно другими людьми. Могу привести яркий пример — смерть Эдуарда Истера. Это был величайший скептик и сухарь, какой когда-либо существовал в мире. Но он умер, как романтик, как настоящий герой. У него в квартире стоял наш первый аппарат для изготовления «БК», первая несовершенная конструкция, работавшая на токе высокого напряжения, — впоследствии мы от нее отказались. Когда убийцы проникли к нему, он, очевидно, испугался, что они завладеют этим аппаратом и двумя шариками «БК», которые он хранил у себя. И он предпочел убить себя, чем отдать их фашистам… По-видимому, он первым делом схватил вещество, зажал его в кулаках, а потом грудью бросился на включенный аппарат. Он уничтожил его током высокого напряжения, устроив короткое замыкание через свое собственное тело. Напишите об этом, Бэдбюри, — может быть, вы хоть немного разбередите совесть трусов…
Бэдбюри слушал, съежившись, и молчал. Было зверски холодно, и он совершенно окоченел. Досада охватывала его, когда он вспоминал о том, что они могли бы уже сидеть сейчас где-нибудь в кафе, в тепле и безопасности. Но все же он был доволен и испытывал глубокое профессиональное удовлетворение.
Нет, не зря гитлеровские танки и грузовики мчались от границы до П. со скоростью пожарной машины. Очевидно, фашистские главари решили, что после покушения на Истера Крейбель вздумает бежать, и тогда добыча окончательно ускользнет из их рук. Бэдбюри вспомнил мотоциклиста из гестапо, пытавшегося задержать Крейбеля перед самым отлетом. Несомненно, он ворвался в П. вместе с авангардом оккупационных войск. Вся эта колонна пронеслась через весь город, не останавливаясь, прямо на завод, а оттуда на аэродром за Крейбелем. У них были основания торопиться.
Что последует дальше? Ясно, что история «белого карлика» только еще начиналась. «Кто знает? — размышлял Бэдбюри. — Может быть, мир станет свидетелем любопытнейших событий, если патриот Крейбель попытается использовать свое могущественное оружие против поработителей его родины?»
…Истекал третий час их воздушного путешествия. Самолет вышел, наконец, к морю. Впереди смутно темнела береговая линия Ютландского полуострова.
— Бензин на исходе, — озабоченно сказал Крейбель. — Надо дотянуть, дотянуть во что бы то ни стало: не падать же нам в воду в десяти километрах от берега!..
— Вы дотянете, Крейбель, теперь нам нечего беспокоиться, — сказал Бэдбюри.
Странный стук неожиданно заставил их замолчать. По металлическим бокам кабины снаружи защелкал частый град. Крейбель и Бэдбюри переглянулись, пораженные одной и той же догадкой: неужели их все-таки настигли?
Над морем в боевом строю шла тройка быстроходных германских истребителей. На этот раз фашисты не делали никаких предупреждений, не угрожали, — они просто расстреливали беглецов из двенадцати пулеметов.
— Черт побери! — сказал Крейбель. — Признаюсь, у меня сейчас совсем нет настроения драться: у нас осталось бензина на пятнадцать минут. Но делать нечего! Опустите, Бэдбюри, стекло!
Он повернул самолет и с бешеной скоростью повел его прямо на врагов. Но те не приняли этой лобовой атаки. Они ускользали в стороны и, проделывая головокружительные эволюции, все норовили зайти Крейбелю в тыл. Пули продолжали колотить по фюзеляжу, по плоскостям и в двух местах пробили стекла кабины.
— Дело дрянь! — ворчал Крейбель, работая ручкой и педалями. — К сожалению, я не тренирован для высшего пилотажа… И у меня не сверхскоростной истребитель, развивающий шестьсот километров в час… Вот что, Бэдбюри: выбрасывайтесь-ка — и поскорей! Подберут! Если я не сумею уйти от них, я выпрыгну вслед за вами.
Бэдбюри колебался.
— Прыгайте, прыгайте! — закричал Крейбель и с силой пожал ему руку.
Через секунду Бэдбюри уже висел в воздухе под куполом парашюта и медленно опускался к воде. Он не думал о страшной опасности, которой подвергался сам, а с волнением и страхом наблюдал за Крейбелем. Мотор самолета скоро замолк, и он стал планировать по пологой линии, преследуемый истребителями. Очевидно, в баках иссяк бензин.
Вдруг под самолетом мелькнула темная фигура. Через мгновение над ней раскрылся упругий белый зонт, но еще через мгновение шелк сморщился и обвис на прыгающих по ветру стропах…
— Оборвался! — со стоном вскричал Бэдбюри. — Проклятие. Он забыл отстегнуть «белого карлика». Темная фигура молнией пронеслась в воздухе и со страшной силой врезалась в волны. И почти в тот же момент над головой Бэдбюри раздался оглушительный грохот: самолет Крейбеля вспыхнул и разломался на тысячи кусков.
Бэдбюри плохо помнит, что произошло потом. Он тонул и был уже без сознания, когда его подобрал немецкий катер береговой охраны. Очнулся он в Берлине, в тюрьме, откуда его некоторое время спустя препроводили в концентрационный лагерь. Он пробыл там три месяца, три страшных месяца, которые больше научили его сочувствовать чужим страданиям и ненавидеть, чем все сорок лет предыдущей жизни.
Чудом удалось ему выбраться из неволи и добраться на родину.
Послесловие
Редакция английской газеты сочла нужным дать к статье Бэдбюри небольшое примечание. Автор его — кембриджский физик, сравнил Иосифа Крейбеля с Резерфордом. Разумеется, в этом примечании не было и не могло быть ничего, кроме некоторых элементарных разъяснений и неопределенных догадок, но для читателя, мало знакомого с новейшей физикой, оно, возможно, представит известный интерес. Приводим его поэтому целиком.
«„Белыми карликами“, — писал ученый-кембриджец, — современные астрономы называют звезды особого типа, обладающие сравнительно небольшой величиной и огромной массой. Плотность их вещества в десятки тысяч раз больше плотности любых, даже наиболее плотных земных веществ. Астрономы объясняют эту чудовищную плотность „белых карликов“ тем, что атомы их материи разрушены под воздействием сверхвысокой звездной температуры и обломки этих атомов стиснуты внутри звезд колоссальным давлением наружных слоев.
Всякий атом, как известно, состоит из положительно заряженного тяжелого ядра, вокруг которого обращаются отрицательные электроны. По своей величине ядро в тысячи и десятки тысяч раз меньше всего атома, но почти вся масса сосредоточена именно в нем, в этом неуловимо малом центре атома. В раскаленных Недрах „белых карликов“ с атомов ободраны все электроны, и ядра там существуют самостоятельно. Оголенные от электронов эти, ничтожные по величине, но сравнительно тяжелые, частицы могут уплотняться в десятки тысяч раз сильнее, чем более громоздкие целые атомы. Вот почему на „белых карликах“ в единице объема может быть сосредоточено в тысячи раз больше вещества, чем у нас на Земле.
В истории науки известен случай, когда новое вещество было обнаружено сначала на звезде — на Солнце, затем уже, много лет спустя, и на Земле. Я имею в виду историю открытия благородного газа гелия. Теперь мы видим повторение этого случая. Исследователи Иосиф Крейбель и Эдуард Истер изготовили на Земле сверхплотное звездное вещество — „белый карлик“. Насколько можно судить из сообщений мистера Бэдбюри, они воспользовались для этого ядрами атомов водорода — протонами.
Сконцентрированные в небольшом объеме протоны должны обладать колоссальной разрушительной силой. Вообразите гигантскую молнию, „упакованную“ в наперсток, или „луч смерти“, сдавленный, сжатый до тысячекратной плотности материального тела. Это и будет нечто, похожее на „белый карлик“ Иосифа Крейбеля.
Для нас, правда, остается совершенной загадкой, каким образом он мог до поры до времени удерживать это вещество в „покорном“ состоянии и свинцовой оболочке. Но зато мы отлично можем себе представить, что должно произойти, когда мириады стесненных протонов внезапно выпускаются из свинцового плена. Освобожденные ядра мгновенно должны разлететься в стороны, „наброситься“ на окружающие целые атомы — атомы воздуха, воды, земли, домов, человеческого тела… Они будут рвать их на части, отбирать у них электроны. Произойдет грандиозное разрушение материи, распад, взрыв, катастрофа…
Для науки особенно интересно знать, каким именно способом Крейбелю удалось сконцентрировать миллиарды миллиардов протонов в небольшом объеме. На звездах ядра атомов стиснуты благодаря колоссальному давлению, которое господствует в центре этих небесных тел. Искусственно создать такое давление на Земле немыслимо. Очевидно, Крейбель и Истер нашли какие-то новые мощные силы и использовали их для уничтожения „ободранных“ атомов водорода. Какие же это силы? Внутриядерные силы сцепления, сообщает нам мистер Бэдбюри, со слов самого Крейбеля. Но если исследователи действительно раскрыли природу внутриядерных сил и с помощью аппаратов неизвестной нам конструкции научились управлять ими, то это открытие, несомненно, могло бы произвести величайшую революцию в науке и в технике. Овладев силами, действующими внутри атомного ядра, человечество получило бы возможность по своему произволу использовать неисчерпаемые, грандиозные запасы внутриатомной энергии. Кроме того, оно оказалось бы в состоянии создавать из составных частей ядра любые комбинации: иначе говоря, из любой глины можно было бы искусственно изготовить все бесконечное разнообразие вещества, какое существует в мире!
Потрясающие перспективы!
К сожалению, тот, кто владел этой величественной тайной, лежит теперь на дне Северного моря, храня на себе свое чудесное звездное вещество».
А. Днепров ЭЛЕКТРОННЫЙ МОЛОТ
1
Капитан развернул листок бумаги и прочел: «Дорогой друг! Податель этого письма мне хорошо известен. Увы, его семья перенесла тяжелое несчастье. Отец, небогатый фермер, в прошлом году скоропостижно скончался. Горе лишило мать возможности двигаться и, по-видимому, навеки приковало к постели. Всего в семье — семь человек. Тот, который передает тебе это письмо, — самый старший и, следовательно, кормилец семьи. Его имя Фред Аликсон. Я помню, ты хотел иметь хорошего помощника. Если ты возьмешь его к себе в лабораторию, не только обретешь такового, но и сотворишь доброе христианское дело. Мы так часто забываем Евангелие, где говорится о помощи ближнему. Обнимаю тебя, старина. Твой верный Август».
Итак, Фред, вы пересекли континент, чтобы работать у меня? — спросил Кеннант высокого, немного сутуловатого блондина с большими голубыми глазами (на которые с выпуклого лба наползали белесые волосы).
— Да, профессор. Мне это посоветовал ваш друг, Август Шредер.
— Хорошо. Что же вы умеете делать?
— Все, что вы прикажете. Я не боюсь никакой работы.
— А ваше образование?
— О, не очень много. Три курса факультета естественных наук. Больше не хватило денег и…
— Ясно, ясно.
Кеннант уставился в одну точку и несколько минут тер поросший щетиной подбородок.
— А как поживает Август? — спросил он наконец.
— Спасибо. Хорошо. Он по-прежнему коллекционирует марки.
— А как его здоровье?
— Пока не жалуется. Правда, иногда, особенно осенью и весной, у него шалит сердце.
— Сердце, говорите?
— Да, — ответил Фред. — Мой отец тоже умер от сердца.
Кеннант, покашливая и продолжая тереть подбородок, несколько раз прошелся по кабинету. Затем он остановился возле Фреда и посмотрел на него своими слезящимися глазами.
— Ну, добро. Я вас беру. Беру потому, что вас рекомендует мой лучший друг. Вам надлежит благодарить не меня, а его.
— О, профессор… — Фред сделал резкое движение в сторону Кеннанта, чтобы пожать ему руку. Старик с седой гривой, покоящейся на белоснежном воротнике, испуганно попятился назад.
— Нет, нет, нет… — произнес он торопливо, подняв руки на уровень нагрудных карманов пиджака. — Я вам сказал, благодарить будете Августа.
Молодой человек смущенно подвигал в воздухе длинными неуклюжими руками и спрятал их в карманы брюк.
В течение нескольких минут оба молчали. Фред смотрел на странную установку. Она напоминала по виду несколько вдвинутых друг в друга коротких труб, обернутых черным изоляционным материалом. Кеннант наблюдал за выражением лица молодого гостя. Наконец он сказал:
— Собственно говоря, а вы знаете, чем мы будем заниматься?
— Признаюсь, нет. — Фред виновато улыбнулся.
— Штука, на которую вы смотрите, называется линейным ускорителем.
— Вот как. Значит, на этом приборе ускоряются ядерные частицы?
— В некотором смысле, да. Если только электроны можно назвать ядерными частицами.
— Ускоритель электронов? — спросил Фред. Кеннант кивнул головой и, обойдя обернутые в черный материал трубы, включил рубильник. На мраморном щите вспыхнула красная лампочка. Застучал вакуумный насос.
— Сейчас нам придется выйти в другую комнату. Энергия ускоренных электронов составляет около пяти миллионов электроно-вольт. Пробиваясь наружу через тонкую алюминиевую фольгу из камеры ускорителя, они создают сильный фон гамма-излучения. Это небезопасно.
Профессор и его новый ассистент быстро вышли из лаборатории в смежную комнату, плотно закрыв за собой тяжелую дверь, обшитую листовым свинцом.
Кеннант уселся за письменный стол и, перелистывая какие-то бумаги, казалось, совершенно забыл о своем новом ассистенте. Фред бесшумно переминался с ноги на ногу и оглядывался. На небольших столиках в углах комнаты стояли металлографический микроскоп и микропроектор. У входной двери возвышался огромный массивный сейф. Это был некрашеный чугунный ящик высотой более полутора метров со стенками, по крайней мере, сантиметров десять толщиной.
— Вам придется познакомиться с работой электронного молота, — снова произнес профессор Кеннант.
— Электронного молота?
— Да. Это, конечно, фигуральное название. Однако оно в некотором смысле передает основную идею. Электронами можно ковать металл. Да, да, и, если хотите, вы попали в кузницу атомного века. А я — кузнец в этой кузнице.
Кеннант прищурил глаза и лукаво улыбнулся.
— Ну, что ж. Я с удовольствием буду вашим подмастерьем, если вы этого пожелаете. — Фред тоже улыбнулся.
— Добро. Но прежде всего вы должны понять основную идею. Вы знаете, для чего куют металл?
Фред задумался. В нынешний век очень часто задают с первого взгляда чрезвычайно простые вопросы, на которые проще всего ответить в том случае, если ты ничего не смыслишь в современной науке.
— На этот вопрос лучше всего мог бы ответить какой-нибудь потомственный кузнец, — заметил Фред смущенно.
— Значит, не знаете. Ну что же, я вам расскажу. Конечно, очень коротко. Остальное вы прочтете в книгах. Металл подвергают ковке не только для того, чтобы придать ему нужную форму, но для того, чтобы сообщить ему некоторые важные свойства. Когда мы обрабатываем металл ударами молота, мы создаем на его поверхности плотный слой, делающий изделие прочным. Происходит упрочение металла.
— Ясно, — сказал Фред.
— Ковку металла можно с успехом вести только до определенного предела. Если через норму перевалить, металл будет трескаться из-за внутренних напряжений.
— Представляю.
— Все это — внешние признаки. Более важно то, что происходит внутри металла, подвергающегося ковке. Вы знаете, что происходит внутри?
— Нет, не знаю.
— Ковка искажает кристаллическую структуру металла. Атомы металла сближаются. После ковки образуется более плотная, чем вся остальная масса, оболочка. Она-то и придает металлу прочность.
— Понимаю.
— Теории на сегодня достаточно. Я иду обедать, а вы садитесь за мой стол и читайте вот это.
Кеннант протянул Фреду книгу, которая называлась «Изменение структуры металлов при ковке».
— Хорошо, я ее прочту.
— Я вернусь часа через два — три. Если вздумаете уходить, ключ в двери. На первом этаже института сдадите дежурному.
Фред, усаживаясь за столом профессора, кивнул головой.
Когда дверь закрылась и шаги Кеннанта затихли, Фред несколько минут листал книгу. Затем он отодвинул ее и стал рассматривать стол, за которым сидел. Придвинув к себе роскошный чернильный прибор — позолоченная бронза на черном мраморе, — он обнаружил под ним огромную дыру. Это было бесформенное отверстие, сделанное каким-то тупым инструментом. Лохмотья изуродованного дерева торчали во все стороны. Вокруг отверстия виднелось еще несколько — поменьше.
Окончив осмотр письменного стола, Фред тихонько поднялся, прислушался и прошелся по комнате. Затем подошел к сейфу и вначале слегка, а после изо всех сил потянул за ручку дверцы. Сейф был заперт. Когда Фред тянул за ручку, изнутри внезапно раздалось шипение и треск. Фред сделал огромный прыжок в сторону и вытер потный лоб. Потом он снова подошел к сейфу и еще раз, без всякого результата, подергал за ручку дверцы.
2
Круглая вогнутая чашка из хрома была закреплена в специальном зажиме, насаженном на вращающийся вал. Когда вал начинал вращаться, чашка совершала колебательные движения вверх и вниз, вправо и влево, описывая в пространстве сложную траекторию.
— Совсем как эпициклы Платона, — заметил Фред, глядя, как металась во все стороны металлическая чашка. — Для чего все это?
— Это необходимо для того, чтобы электронный пучок обработал всю поверхность, — ответил Кеннант. — Если электроны все время будут ковать одно и то же место, оно мгновенно накалится добела и, наконец, расплавится. Этого допускать нельзя.
— Вы говорите, энергия электронов равняется пяти миллионам электроновольт?
— Да, Фред. При этой энергии электроны способны смещать атомы металла с узлов кристаллической решетки. Атомы металла сближаются и обработанная поверхность приобретает большую плотность. Точь-в-точь, как при ковке металла молотом. Если обычное расстояние между атомами хрома равно примерно трем ангстремам, то после его обработки электронным молотом это расстояние уменьшается до одной десятой ангстрема. Вы представляете, что это значит?
Фред непонимающе заморгал глазами.
— Плотность вещества обратно пропорциональна кубу расстояния между атомами. Не трудно сообразить, что после электронной ковки плотность металла возрастет более чем в тысячу раз. Если вес одного кубического сантиметра хрома равен семи граммам, то один кубический сантиметр кованого хрома будет весить более семи килограммов.
— Ого! Совсем как звездное вещество. Говорят, плотность вещества, из которого построены некоторые звезды, фантастически огромна. Один кубик этого вещества весит несколько тонн.
— Совершенно верно. Это происходит за счет уплотнения атомных ядер.
— Значит, вы хотите воспроизвести звездное вещество? Кеннант подошел к импульсному генератору и включил напряжение.
— Давайте выйдем. Сейчас начнется электронная обработка металла.
Кеннант и Фред прошли в соседнюю комнату, оставив за собой ревущий генератор. Электронная ковка хромовой чашки началась.
— Значит, вы хотите воспроизвести звездное вещество? — повторил вопрос Фред.
Кеннант уселся за стол и долго смотрел в глаза своего помощника.
— Дело в том, мой молодой друг, что создание звездного вещества — не главная задача. Все, что я делаю, необходимо для решения одной чрезвычайно важной прикладной проблемы из области оптики.
— Вот как? Оптики? — удивился Фред. — А я считал, что вы занимаетесь чисто металлургической проблемой.
— Нет. Все это необходимо для другого. Я решил построить гамма-микроскоп.
— Гамма-микроскоп?
— Да, гамма-микроскоп. Он поможет людям видеть отдельные атомы и, может быть, даже электроны…
— Вы шутите, профессор, — недоверчиво произнес Фред.
— Нисколько. В обычных микроскопах используются световые лучи с длиной волны от четырехсот до семисот миллимикрон. Примерно таковы минимальные размеры объектов, которые можно изучать в этих лучах. Существуют микроскопы, где используются ультрафиолетовые лучи. Это позволяет видеть объекты размером в десяток раз меньше. Чем меньше размеры микроскопических тел, которые мы хотим наблюдать, тем короче должна быть длина волны света. Размеры атома — около одного ангстрема. Это соответствует гамма-лучам.
— Но как вы эти гамма-лучи сфокусируете, как вы заставите их подчиняться законам геометрической оптики? Ведь это невозможно.
— Возможно, — продолжал Кеннант. — Для этого необходимо иметь материал, из которого, как вы правильно заметили, нужно создать фокусирующие устройства для гамма-лучей. Не трудно догадаться, что это вещество должно обладать огромной плотностью, то есть очень малым межатомным расстоянием. Если расстояние между атомами вещества будет значительно меньше длины волны гамма-лучей, они от него будут отражаться, как свет от обычного зеркала.
— Вот как! И для этого вы и занимаетесь электронной ковкой металла?
— Да.
— Но ведь это же здорово! И вам это удается?
— Почти, — ответил Кеннант, — вот посмотрите на эту диаграмму.
Кеннант подвел Фреда к стене, на которой висела схема зеркального микроскопа.
— Здесь изображены три сферических зеркала. Это — параболический конденсатор. Это — объектив зеркала, в который вводятся гамма-лучи. Изображение формируется на люминесцирующем экране.
— Все это, действительно, очень просто. Конечно, за исключением получения материала для изготовления зеркала, отражающего гамма-лучи.
— Вот в этом-то и помогает электронный молот. Минуту помолчав, Фред как бы в раздумье заметил:
— Если такой материал можно изготовить, то тогда можно построить и прожектор гамма-лучей…
— Для чего? — насторожился Кеннант. Седые брови его нахмурились.
— Ведь это был бы идеальный прожектор лучей смерти, о которых так давно мечтали…
— Что? Лучи смерти? — профессор встал и сурово посмотрел на своего помощника.
— Ну, да. Можно изготовить большое параболическое зеркало и в его фокусе укрепить источник гамма-излучения, например, кусок кобальта с атомным весом 60. От лучей такого прожектора невозможно было бы скрыться даже за каменной стеной.
— Мне не нравятся эти разговоры, Аликсон. Выбросьте их из головы. В моей лаборатории думать о смертоносных приборах я категорически запрещаю.
Старик несколько раз прошелся по кабинету.
— Попытка использовать мои работы для этой цели уже была. Но успехом она не увенчалась и, я думаю, не увенчается.
Кеннант вышел. Фред слышал, как в «электронной кузнице» хлопнул рубильник. Профессор выключил электронный молот. Через несколько минут он вернулся, держа в руках обработанную хромовую чашку. Открыл сейф и спрятал ее внутри. Ни слова не говоря, он покинул помещение.
3
— Теперь, Фред, вы знаете, как и что нужно делать. Я уезжаю дня на два и поручаю вам обработать эти хромовые параболоиды. Они нам пригодятся для конденсатора будущего микроскопа. Только прошу вас, после обработки немедленно прячьте их в сейф и до моего приезда не трогайте. Понятно?
— Да, профессор.
По лицу Фреда мгновенно пробежала какая-то тень и сразу исчезла. Он посмотрел на своего шефа.
— Ключ от сейфа вы мне оставите?
— Конечно. Учтите, эти параболические зеркала чрезвычайно ценны. Помните, вы мне говорили о лучах смерти? Так вот, эти зеркала особенно пригодны для этой цели. Если бы военное министерство нашей страны знало, что они у нас имеются, оно бы не поскупилось ни на какие деньги, чтобы их приобрести. Поэтому повторяю, каждое изготовленное зеркало немедленно прячьте под замок. Вот вам ключ.
Кеннант протянул ключ от сейфа. Фред обеими руками прижал его к груди.
— И еще, — продолжал Кеннант, — если у вас случайно разобьется какое-либо из этих зеркал, в моем письменном столе находятся хромовые заготовки. Вы можете повторить опыт.
— Разобьется? — удивился Фред.
— Да. Они иногда разбиваются. После электронной ковки они часто становятся хрупкими. Итак, вам все ясно?
Кеннант несколько минут походил по лаборатории, внимательно осмотрел все приборы и установки и остановился у двери.
— Заклинаю вас. Каждое вновь изготовленное зеркало немедленно прячьте в сейф. Это крайне необходимо, понимаете? Если вы этого не будете выполнять…
— Что вы, профессор! — воскликнул Фред. — Я все сделаю так, как вы сказали.
— Тогда желаю удачи. До свидания.
Едва Кеннант покинул помещение, Фред подскочил к линейному ускорителю. Он заправил в держатель хромовое параболическое зеркало и включил электронный молот. Через сорок минут он повторил то же самое со вторым параболоидом, после с третьим, с четвертым, с пятым. Работу он окончил поздно ночью, когда на письменном столе уже лежало семь готовых параболических зеркал — отражателей гамма-лучей.
— Старый осел! — злорадно шептал про себя Фред. — Какой же он идиот! Наконец-то я получу за эту работу то, что мне причитается. И как это Брайту не удалось сделать это раньше?
Окончив работу, Фред открыл сейф и заглянул внутрь.
— Хитрая бестия! — шептал он про себя. — Он уничтожил все, что было сделано раньше! Одни осколки.
Действительно, внутри сейфа он не обнаружил ни одного целого зеркала. На четырех полках были разбросаны лишь мелкие осколки бывших сферических и параболических зеркал.
Фред положил пять зеркал внутрь сейфа, а два засунул себе в карман. Они были тяжелыми, и брюки сползали вниз.
После этого он запер сейф и покинул лабораторию.
В кафе «Сирена» Фред торопливо набрал телефонный номер.
— Кайзер? Привет, старина. Надеюсь, чековая книжка при тебе. Так вот, мчись ко мне и получай товар. Да, да. Я не понимаю, как это не удалось Брайту. Проще простого! Он сам все отдал в мои руки. Что? Это все предусмотрено. Он сказал, что некоторые из них могут стать хрупкими и разбиться. Эти в полном порядке. Скорее приезжай и бери, а то я останусь без брюк. Они тяжелые, как авиационные бомбы. Что? Хорошо, пока я согласен на аванс. После испытания — остальное? О’кей. Итак, кафе «Сирена». Жду.
Кайзер не вошел, а ворвался.
— Поздравляю, счастливчик! — прошептал он на ухо Фреду и пожал ему руку.
— Бойко я обработал этого античного пацифиста, а?
— Шикарно. Не понимаю, как это тебе удалось так скоро. Наш босс в восторге. Где они?
Фред осмотрел пустое кафе и осторожно вытащил из кармана сначала одно, а потом второе параболические зеркала.
— Деньги на бочку.
Кайзер подал чек. Прочитав цифру, Фред широко улыбнулся.
— Я только что звонил в министерство, главному. Завтра он лично повезет их на специальный полигон для испытания. Если все будет в порядке, эта сумма будет увеличена в пять раз. Вот гарантийное письмо.
— Порядок. — Фред передал своему приятелю оба зеркала. — Не забудь сказать главному, что мне еще причитается за то, что я знаю, как эти штуки делаются. Ведь ими скоро начнут вооружать армию! Я могу взять на себя задачу наладить массовое производство.
— Само собой разумеется. Это имеют в виду. Ну, а теперь давай выпьем — и по домам. Тебе пора спать. Ведь завтра у тебя, черт возьми, напряженная научная работа. Два зеркала получились хрупкими и разбились. Их нужно изготовить вновь. Так ведь?
Кайзер и Фред громко расхохотались.
4
Кеннант застал Фреда за письменным столом. Тот развалился в кресле, вытянув ноги и пышно выдыхая сигарный дым.
— Привет, молодой друг, — весело обратился профессор к своему ассистенту.
— А, шеф, прибыли! Как вы себя чувствуете?
— Спасибо, хорошо. Даже очень. А вы?
— Все в порядке. Немного устал. Эти проклятые зеркала…
— Что с ними? — Кеннант улыбнулся.
— Да то, о чем вы меня предупреждали. Два из них получились очень хрупкими и разбились…
Кеннант внимательно посмотрел на молодого человека, покачал головой и грустно произнес:
— Я так и знал. В этом все несчастье. Не пойму, что с ними делать? Именно в этой хрупкости вся загвоздка.
— Не беспокойтесь, я сделал новые. — Фред встал и подошел к профессору. — Как вы и велели. Всего семь штук. Хотите посмотреть?
— О да, конечно. Покажите.
Фред подошел к сейфу, щелкнул ключом и широко распахнул дверцу.
— Пожалуйста, смотрите.
Кеннант заглянул внутрь ящика. Несколько секунд он стоял молча, затем поднял удивленные глаза на Фреда.
— Где же они?
— Как где, вот… здесь…
Последнее слово застряло у Фреда в глотке. Он заглянул в сейф и не обнаружил зеркал. Полка, на которой они стояли, была покрыта толстым слоем металлической пыли и осколков. Фред перевел отупелый взгляд на профессора.
— Они там были…
Кеннант криво улыбнулся.
— Увы! С ними случилось то же самое, что и с теми двумя.
— С какими? — прошептал Фред.
— Ну, с теми, о которых вы говорите, что они разбились.
Кеннант отошел от сейфа и глубоко вздохнул.
— Хорошо, что вы уцелели, — сказал он как бы между прочим. — И это благодаря тому, что вы строго выполняли мои инструкции и сразу же после обработки прятали зеркала в этот ящик.
Фред с встревоженным лицом пошел за профессором, ожидая разъяснений.
— Ах, если бы не эти ужасные внутренние напряжения! — с горечью воскликнул Кеннант. — Мы бы давно построили гамма-микроскоп.
— Какие напряжения?
— Да вот те самые, из-за которых наши зеркала становятся такими хрупкими и сами по себе разлетаются, как осколочные гранаты. Посмотрите.
Кеннант отодвинул на край письменного стола чернильный прибор и обнажил под ним бесформенную дыру.
— Вот результаты моего первого эксперимента. Я изготовил первое зеркало и положил на стол. Оно спокойно лежало два дня и… взорвалось. Осколки прошили крышку стола. К счастью, в этот момент я находился в комнате, где стоит линейный ускоритель. Помните, я вам говорил, что даже при обыкновенной ковке поверхность металла иногда трескается из-за возникающих при этом напряжений. То же самое происходит и при электронной ковке, но только металл не просто трескается, а буквально взрывается. После первого опыта я и приобрел этот сейф. Зачем рисковать жизнью?
Фред с бледным, как у мертвеца, лицом таращил на Кеннанта выпученные от ужаса глаза.
— Ну, теперь бояться нечего. Главное, что вы своевременно спрятали обработанные зеркала в сейф. Я вас понимаю. Вы представляете, что было бы, если бы вы не выполнили мои инструкции.
Кеннант добродушно захихикал и похлопал Фреда по плечу.
— Профессор, я себя очень плохо чувствую, — наконец прохрипел Фред. — Разрешите удалиться…
— Пожалуйста, не имею ничего против, — проговорил Кеннант, усаживаясь за письменный стол. — Можете идти домой и отдохнуть. Без меня вы неплохо поработали, не так ли? Вы заслужили свой отдых.
Фред обхватил голову обеими руками и выбежал из кабинета.
Кеннант насмешливо посмотрел ему вслед. Затем взял лист бумаги и написал:
«Дорогой Август. Итак, история подошла к своему логическому концу. Минуту тому назад твой „протеже“ в панике бежал. Я думаю, сейчас он изо всех сил старается приобрести билет на самолет, чтобы улететь куда-нибудь в Чили или на острова Санта Крус. Иначе ему будет туго. Вряд ли военное ведомство простит ему эту штуку. Трагическая гибель начальника отдела специальных исследований от взрыва подложенных в автомобиль осколочных гранат, о чем ты, наверное, уже прочел в газетах, — вполне достаточное основание для того, чтобы обвинить Фреда в терроре, в диверсии или шпионаже в пользу некой иностранной державы. Кстати, ты спрашиваешь, как я узнал, что Фред — жулик, подосланный ко мне военщиной? Очень просто, когда они сочиняли письмо от твоего имени, они не учли, что ты — отъявленный безбожник. Как часто, совершая подлость против человечества, наши официальные господа ссылаются на Евангелие! Твой Кеннант».
А. Днепров МИР, В КОТОРОМ Я ИСЧЕЗ
I
Меня купили мертвым и вывезли к Удроппу из морга. В этом нет ничего удивительного, как нет ничего странного и в том, что я попал в морг. Просто перерезал себе вены в ванной комнате гостиницы «Новый Свет». Если бы не долги за номер, меня не нашли бы так скоро, вернее, нашли бы слишком поздно. Но долги были, и частично из-за них я сделал неудачную попытку отправиться в лучший мир. Мне очень хотелось встретиться там с моими недальновидными родителями и сказать им, что я думаю про них и вообще про всех тех, кто плодит детей для нашего цивилизованного государства.
Как мне сейчас известно, Удропп купил меня за 18 долларов 9 центов, причем 3 доллара 9 центов у него взяли за одеяло, в которое он меня упаковал. Так что круглая мне цена — 15 долларов. Это — стандартная стоимость бездомного мертвеца для медицинских экспериментов. Я достаточно бездомный, чтобы подходить под эту категорию, за исключением, может быть, одного пункта, не учтенного законом: мне кажется, неблагоразумно продавать мертвецов для медицинских экспериментов, пока они хорошенько не вылежатся в холодильнике.
Я себе представляю, с какой скоростью Удропп прокатил меня от морга до своего коттеджа в Грин-Вэли! Если бы не эта скорость, плакали бы его денежки. Вместо меня ему досталось бы несвежее одеяло плюс расходы на мои похороны.
Меня оживили по всем правилам: влили три литра крови, впрыснули адреналин, куда-то накачали глюкозу с рыбьим жиром, обложили грелками и опутали электрическими проводами. Затем Удропп выключил электрический ток, и я начал дышать без посторонней помощи, а сердце забилось как ни в чем не бывало.
Я открыл глаза и увидел Удроппа и рядом с ним девушку.
— Как самочувствие? — спросил Удропп, тип в белом халате, с физиономией человека, занимающегося ради собственного удовольствия убоем крупного рогатого скота.
— Спасибо, сэр. Хорошо, сэр. Кто вы такой, сэр?
— Я не сэр, а Удропп, Гарри Удропп, доктор медицины и социологии, почетный член Института радиоэлектроники, — прорычал Гарри. — Есть хотите?
Я кивнул головой.
— Принесите ему тарелку супа.
Девушка вспорхнула со стула и скрылась. Гарри Удропп бесцеремонно задрал кверху мою рубаху и при помощи шприца влил в меня какое-то химическое вещество.
— Теперь вы совсем живой, — сказал он.
— Да, сэр.
— Гарри Удропп.
— Да, сэр Гарри Удропп.
— Я надеюсь, у вас не очень развиты интеллектуальные способности?
— Я надеюсь, нет.
— Где вы учились?
— Почти нигде. Кончил что-то вроде университета. Но это так, между прочим.
Про себя я решил, что Гарри меньше всего нуждается в людях с высшим образованием.
— Гм… Чему вы там учились?
Я решил, что в моих интересах ничему там не учиться.
— Игре в гольф, танцам, ловле рыбы, ухаживанию за девушками.
— Это хорошо. Только не вздумайте ваши знания применять к Сюзанне.
— А кто это?
— Девушка, которая пошла за вашим ужином.
— Уже ночь?
— Нет, уже позавчерашний день. И вообще, какого черта вы задаете вопросы?
Я решил, что бывшему мертвецу неприлично задавать много вопросов Гарри Удроппу, доктору, почетному члену Института радиоэлетроники и так далее.
II
Сюзанна сказала:
— Вы будете участвовать в выполнении проекта «Эльдорадо». Кстати, как ваше имя?
— Гарри.
— Плохо. Босс не любит, когда, кроме него, есть еще какой-нибудь Гарри. Вы не ошиблись? После смерти это бывает.
— А что такое «Эльдорадо»? — спросил я.
— Это мир счастья и процветания, достатка и социального равновесия, мир без коммунистов и безработных.
— У вас это здорово получается! Как у дикторши из «Нейшенл видео».
— В «Эльдорадо» вам отводится важная роль.
— Вот как! Какая же?
— Вы будете рабочим классом.
— Кем, кем?
— Не кем, а чем. Пролетариатом.
Я подумал и спросил:
— Вы уверены, что я воскрес?
— Вполне.
— А какую роль в «Эльдорадо» отводят вам?
— Я буду обществом предпринимателей.
Сюзанна вышла, и вошел Гарри Удропп.
— С сегодняшнего дня мы вас кормить не будем.
— Чудесно! Вы исследуете процесс умирания от голода? — спросил я.
— Старо!
— И все же, как я буду питаться?
— Вам нужно будет поступить на работу.
— Вы еще не выбросили одеяло, в котором меня можно увезти обратно?
— В моем высокоорганизованном обществе найти работу не будет проблемой.
— Мне придется долго ходить и искать. Я не выдержу.
— Вам никуда не придется ходить.
— А как же?
— Вам нужно будет нажимать только кнопку. Когда вас примут на работу, появится зарплата, а появится зарплата — появится еда!
— Скорее ведите меня к этой кнопке!
— У вас еще не подготовлен психологический фактор. Вы не сможете нажимать кнопку с должным энтузиазмом.
— Я буду ее нажимать с любым энтузиазмом!
— Для чистоты опыта нужно поголодать еще пару часиков.
— Я буду жаловаться!
— Вы не будете жаловаться, потому что вас нет.
— Как так?
— Вы давно умерли.
«Эльдорадо» — это три огромных машины в разных углах обширного зала. Они соединены между собой проводами и кабелями. Одна машина отделена стеклянной перегородкой. Гарри Удропп сел за пульт в центре зала и сказал:
— Шизофреники, профессора и сенаторы пытаются усовершенствовать наше общество при помощи комиссий и подкомиссий, докладов добровольных комитетов и фондов, экономических конференций и министерства социальных проблем. Все это чепуха. Достаточно четырехсот двух триодов, тысячи пятисот семидесяти шести сопротивлений и двух тысяч четырехсот девяноста одной емкости, и вся задача решается. Вот схема организации нашего общества на сегодняшний день.
Гарри Удропп развернул передо мной и Сюзанной синьку с радиосхемой.
— Справа — блок «производства», слева — блок «потребления». Между ними положительная и отрицательная обратная связь. Заменяя радиолампы и прочие детали «общества», можно добиться того, что система не будет попадать ни в режим сверхрегенерации, ни в режим затухающих колебаний. Когда я этого добьюсь, проблема будет раз и навсегда решена!
Объясняя свой гениальный замысел, Гарри Удропп размахивал руками и вертел головой — такая у него, видно, была привычка.
— Но я предусмотрел нечто большее, — продолжал он. — Я ввел в схему человеческий элемент, который нерационально и слишком дорого заменять эквивалентным электронным роботом с ограниченной памятью. Эту функцию будете выполнять вы, — Гарри показал пальцем на меня, — и вы, — сказал он, обращаясь к Сюзанне.
Затем он заложил, наконец, руки за спину и четыре раза обошел вокруг пульта.
— Здесь, — он грохнул кулаком по крышке пульта, — мозг нашего «общества», его «правительство». Наверху неоновая лампа выполняет функции президента, то есть стабилизирует напряжение. Вот так!
Мы с умилением посмотрели на «президента», который светился розовым огоньком.
— А теперь за работу! Вы — марш в «производство», вы — в «потребление».
«Оригинальный случай увлечения электронным моделированием, — подумал я. — В университете профессора нам говорили, что при помощи радиоэлектроники можно построить модели чего угодно: черепах, станков, межпланетных кораблей и даже модель человека. Гарри Удропп построил электронную модель нашего государства. И не только построил, но решил ее усовершенствовать и, таким образом, предложить „гармоническую“ структуру нашего общества. Интересно, что у него из этого получится?»
Я подошел к машине справа. Сюзанна скрылась за стеклянной перегородкой в «сфере потребления».
— Что я должен делать? — спросил я.
— То, что и в жизни. Работать.
— Это здорово! Я голоден, как гиена!
— Прежде всего в «сфере производства» нужно получить работу.
— Как?
— Нажимай белую кнопку справа.
— А что будет делать она? — я кивнул в сторону Сюзанны.
— То, что делают предприниматели.
Я застыл перед огромным металлическим шкафом. На передней стенке блестели шкалы приборов, в разных местах выступали разноцветные кнопки, рубильники и рычаги. В электрическом монтаже этой машины Гарри воплотил идею экономической и политической структуры мира, в котором мы живем. Здесь в форме электрической энергии создавались модели материальных ценностей, и эти ценности циркулировали по проводам между «сферой производства» и «сферой потребления»!
Я нажал белую кнопку.
— Ваша специальность? — рявкнула машина.
«Ого, совсем, как в жизни! Машина даже интересуется моей специальностью!»
— Художник…
— Не требуется.
Я в недоумении посмотрел на Удроппа.
— Мне тоже нажать белую кнопку? — спросила Сюзанна.
— Конечно.
— И что будет?
— Получите прибавочную стоимость, запасенную в схеме. У Сюзанны щелкнуло реле.
Я опять нажал белую кнопку.
— Ваша специальность?
— Зубной врач.
— Не требуется.
В это время Сюзанна опять нажала свою кнопку, и автомат выдал ей пакет.
— Специальность? — тупо спросила меня машина.
— Механик.
— Зайдите через месяц.
Электронная модель производства работала отлично. Сколько раз до того, как я попал к Удроппу, я ходил в поисках работы и слышал такие же вопросы и такие же ответы!
— Так дело не пойдет, босс, — обратился я к Удроппу.
— Отвернитесь, я надену новое платье! — крикнула Сюзанна.
— Босс, я не могу ждать месяц!
— Пробуйте еще. Я уменьшил отрицательное смещение на сетку генераторной лампы «спроса на рабочую силу».
Сюзанна нажала кнопку, и автомат ей ничего не выдал.
— В чем дело? — запротестовала она.
— Когда он, — Гарри кивнул на меня, — создаст «прибавочную стоимость», ваш автомат снова включится. Сейчас наступила фаза «накопления капитала».
Я нажал белую кнопку.
— Специальность?
— Грузчик.
— Берем!
Из машины прямо мне в живот вылез рычаг.
— Работайте! — крикнул Гарри из-за пульта.
— Как?
— Ворочайте рычагом вверх и вниз.
Я начал ворочать рычагом. Он ходил очень туго.
— И сколько времени я должен это делать?
— До получения зарплаты.
— Как это?
— В ящик под вашим носом вывалятся жетоны. На них вы сможете есть, пить и развлекаться.
Я ворочал рычагом, пока рука не заныла. На секунду я остановился.
— Что вы делаете? — заорал Гарри.
— Хочу отдохнуть!
— Вас уволят.
Я схватился за рычаг и стал лихорадочно нагонять упущенное.
Мысленно я представил себе электронный блок, который мог меня «уволить». Наверное, двигая рычагом, я создавал электрические заряды, которые при помощи реле удерживали его в рабочем состоянии. Стоило мне прекратить работу, как срабатывал механизм, который убирал рычаг внутрь шкафа.
— Ага! Мой автомат заработал! — сказала Сюзанна.
У меня со лба капал пот.
— Босс, когда же зарплата?
Удропп возился с «президентом». Не глядя на меня, он проворчал:
— Я слежу за приборами. Прибыль должна быть максимальной.
— Когда я получу свои жетоны? — повторил я.
— Когда анодное напряжение, которое вы создаете на конденсаторе, отопрет тиратрон.
— Есть хочется…
— Плохо работаете. Каждый взмах — всего полтора вольта. Быстрее качайте.
Сюзанна снова включила свой автомат. Ей досталось второе платье.
— Я не хочу больше платьев, — сказала она.
— А что?
— А то, что вы обещали. Нейлоновую шубу.
— Сейчас я прибавлю еще отрицательное смещение на сетку и сниму часть напряжения с его конденсатора на ваш автомат.
Так я и знал! В схеме Удроппа роль капитала выполняет электроэнергия. Она-то и перекачивается из моей «сферы производства» в «сферу потребления», в карманы «общества предпринимателей». Моделями карманов были конденсаторы и аккумуляторы.
— Ну, это слишком! Какого черта все только для нее? Автомат щелкнул. В ящике перед моим потным носом затарахтели жетоны.
— Берите свою зарплату.
Я достал пять медных жетонов.
— Что я должен с ними делать?
— Идите в «сферу потребления» и пользуйтесь автоматом. Я забежал за перегородку.
— Покойник! — весело воскликнула Сюзанна. — Вам вон в тот автомат, рядом.
Я получил миску супа, холодную котлету и кружку пива. И то слава богу!
Мой первый рабочий день кончился. Сюзанна с ворохом тряпок пошла спать.
Что-то будет завтра!
III
Когда утром я пришел в «сферу производства», моего рычага не было. Сюзанна сидела в кресле рядом с «президентом» и пила пиво.
— В чем дело? — удивился я.
— Вас уволили, — сказала она, ухмыляясь, и кивнула на стенные часы.
Было пять минут девятого.
— За что меня уволили?
— За опоздание. Попытайтесь снова получить работу.
— Откуда у вас пиво?
— Это за ваши жетоны. Они теперь мои.
Никогда не видел подобной наглости!
— Специальность? — спросила машина.
— Грузчик, — не думая, ответил я.
— Плохая рекомендация, — сказала машина и умолкла.
Машина, оказывается, обладает памятью! Она взяла на заметку факт моего увольнения за опоздание на работу. Опять все, как в жизни. Может быть, в этих электронных моделях экономических и социальных структур и есть какой-то разумный смысл? И все же я не мог согласиться с тем, что такое чрезвычайно сложное явление, как жизнь многих миллионов живых людей в обществе, можно достаточно точно изобразить при помощи радиоламп, транзисторов, сопротивлений и реле…
Я стал думать, что мне делать. Мой взгляд упал на электронный мозг.
Если в нем сосредоточено все управление электронной моделью, почему бы не попытаться «усовершенствовать» ее по-своему?
— Вы не ябеда? — спросил я Сюзанну.
— А что?
— Я хочу попытаться усовершенствовать «общество».
— Пожалуйста.
Я подошел к пульту управления и наобум повернул первую попавшуюся ручку. Потом другую, третью. Их здесь было около сотни. Машины дико взревели. До этого едва теплившийся «президент» стал пылать, как стеариновая свечка. В надежде, что мой рычаг все-таки вылезет, я вытащил «президента» из гнезда и спрятал в карман. В этот момент вошел Удропп.
— Ага, бунт! Это хорошо! Покушение на правительство? Чудесно! А где стабилизатор напряжения? Ликвидация верховной власти? Прекрасно! Верните «президента».
Я возвратил неоновую лампу.
— Мы предусмотрим и этот человеческий элемент. Я заэкранирую правительство сеткой и подведу к ней высокое напряжение. Две тысячи вольт хватит! «Президента» мы спрячем в колпак и подведем к нему пять тысяч вольт. Вот так. Таким образом, государство будет гарантировано от внутренних беспорядков.
Я стоял уничтоженный. Гарри Удропп подводил к электронному мозгу высокое напряжение.
— Дайте хоть какую-нибудь работу, — взмолился я.
— А ну-ка, попробуйте сейчас, пока я не установил все потенциометры в прежнее положение.
Я нажал кнопку спроса рабочей силы. Репродуктор ни с того, ни с сего запел голосом Джонса Паркерса: «Как счастливо ты умирала в объятьях моих голубых…». Из машины вылезли не один, а сразу три рычага, и они сами, без посторонней помощи, стали качаться вверх и вниз. Жетоны посыпались в коробку, как из рога изобилия!
— Босс, вот удача! Кажется, «Эльдорадо» получилось! — воскликнул я, выгребая медные кругляшки из коробки.
— Черта с два, — прохрипел Гарри. — В сфере потребления ничего нет. Пусто.
Я помчался за перегородку к автомату и сунул жетон. Никакой реакции. Сунул второй. Молчание.
— Н-да. Производство просто сошло с ума.
Электроника Гарри Удроппа, видно, работала только в строго определенном режиме. Модели производства и потребления балансировали на точке неустойчивого равновесия. Стоило машину вывести из этого режима, и она теряла разум. Она превращалась в нелепый клубок радиосхем, который делал что попало.
Гарри установил потенциометры, как нужно, и все рычаги, кроме одного, упрятались в машину. Джонс Паркере перешел на контральто, затем на колоратурное сопрано и умолк на ноте «ля» седьмой октавы. Я ухватился за оставшийся рычаг и стал его усердно качать, чтобы восстановить свою добрую репутацию.
— Отдайте жетоны, — сказал Гарри.
— Зачем?
— Они достались вам даром. Так не полагается.
— А почему ей все достается даром? — указал я на Сюзанну, которая уснула в кресле.
— Не задавайте глупых вопросов и отдайте жетоны. Два жетона я все же припрятал!
Весь рабочий день Сюзанна проспала, а я к вечеру заработал еще семь медяшек. Удропп обезопасил за это время «правительство» и несколько раз снимал напряжение с моего конденсатора. Вообще он возился со своей машиной очень усердно. Впоследствии Сюзанна мне сказала, что за проект «Эльдорадо» Гарри отхватил хороший куш.
Теперь я был умнее и на еду истратил только два жетона. Это был почти голодный паек, но я понял, что нужно думать и о черном дне!
IV
Утром следующего дня я застал Сюзанну с заплаканными глазами.
— Почему ревет «общество предпринимателей»? — съехидничал я.
На работу я вышел рано. Позвякивавшие в кармане жетоны оказывали благотворное влияние на мое настроение.
— Это свинство! — сказала Сюзанна.
— Что?
— Он все у меня отобрал. И платье, и белье, и шубу.
— Кто?
— Удропп.
— Почему?
— Чтобы все начать сначала. Он их снова упрятал в автомат.
Я бросил рычаг и подошел к Сюзанне. Мне стало ее жалко.
— Мне не очень нравится эта игра, — сказал я.
— Теперь и мне не нравится.
— Ничего, Гарри добьется, что будет гармония.
— Я не знаю, что это такое. Но только свинство — отбирать то, что тебе дали.
Вошел Удропп.
— Что это за идиллия? Марш по местам! Я, кажется, слишком увеличил потенциал на тиратроне. Вы ничего не делаете, и вас не уволили.
— Одну секундочку, босс!
Я кинулся к рычагу, но поздно. Он исчез. Довольный Удропп захихикал.
«Черт с тобой, на сегодня у меня есть жетоны». Сюзанна насупилась и больше не пользовалась своим автоматом. Я нехотя нажимал белую кнопку, перебирая разные специальности. Никто не нужен. Неужели наше «общество» насытилось и врачами, и педагогами, и техниками, и поварами? Я еще раз нажал белую кнопку.
Специальность?
— Журналист.
— Берём.
Я остолбенел. Из машины вылез стол с пишущей машинкой. Ну и Гарри! Даже до этого додумался!
— Пресса в нашем обществе — доходное дело, — сказал Удропп. — Вы будете получать тем больше, чем с большей охотой Сюзанна будет читать ваши сочинения. Итак, начинайте.
Удропп вышел.
Я сел за машинку и задумался. Затем я начал: «Экстренное сообщение! Небывалая сенсация! В результате радиоактивных мутаций появились новые виды животных! Говорящие ослы! Собаки-математики! Обезьяны-гомеопаты! Поющие свиньи! Петухи, играющие в покер!»
— Чушь какая-то, — сказала Сюзанна, вытаскивая из своего автомата лист бумаги. — Если так будет продолжаться, я не буду читать, и вы умрете с голоду.
— Не нравится? — спросил я.
— Нет.
— Хорошо, я попробую другое.
«Небывалая сенсация! 18 миллиардеров и 42 миллионера отказались от своих миллиардов и миллионов в пользу рабочих…».
— Послушайте, Сэм, или как вас там! Я больше читать вашу белиберду не буду.
— Еще одна попытка.
— Не буду.
— Ну, пожалуйста, Сюзанна!
— Не хочу.
— Ну, Сузи!
— Не смейте меня так называть, слышите? Я напечатал:
«Сузи, вы чудесная девушка. Я вас люблю».
Она ничего не сказала.
«Я вас люблю. Вы это читаете?»
— Да, — тихо ответила она. — Продолжайте.
«Я вас полюбил с того момента, как воскрес. Все время, пока мы занимаемся этим идиотским проектом, я думаю, как нам удрать вдвоем. Вы и я. Хотите?»
— Да, — тихо ответила она, вытаскивая лист бумаги из автомата.
«И вот что я придумал. Как-никак, а у меня есть специальность. Мы уйдем от Удроппа и попытаемся найти настоящую работу, а не эту электронную чепуху. Вдвоем нам будет легче. Честное слово, после того, как я вас увидел, я пришел к выводу, что резать вены глупо».
— Я тоже так думаю, — шептала Сузи.
Вошел Удропп.
Он посмотрел на свои приборы и щелкнул пальцами.
— Ага! Дело, кажется, идет! Напряжение стабилизировалось. Сдвигов фаз нет! Мы близки к гармонии между производством и потреблением.
— Конечно, босс, — сказал я. — Должно же наше общество когда-нибудь зажить как следует.
— Продолжайте в том же духе, а я все это нанесу на схему, — сказал он, выходя из зала.
«Сегодня ночью давайте встретимся здесь. Мы выскочим в окно».
— Хорошо.
До конца дня я сочинил около десятка идиотских сообщений и заработал кучу медяков. Сюзанна исправно отрывала листы бумаги, демонстрируя электронному истукану свою заинтересованность в моей продукции. Гармония была полная, и Гарри Удропп лихорадочно снимал схему «Эльдорадо», чтобы продать ее за миллион долларов. Она этого стоила, потому что в ней был учтен человеческий элемент!
На весь заработок я набрал бутербродов и спрятал их в карманы.
Ночью, пробираясь к окну, я и Сюзанна остановились у «общества предпринимателей».
— Ты вчера ни разу не пользовалась своим автоматом.
— Если бы я пользовалась, ты бы заработал меньше.
— Хочешь, мы заберем платья и шубу?
— А ну их к черту!
— Я могу Удроппу оставить записку, что это сделал я. Все равно меня нет.
— Не нужно. Так будет легче идти.
Мы вылезли в окно, перемахнули через ограду и оказались на широкой асфальтовой дороге, ведущей в большой город. Над ним неистово пылало оранжевое небо. На мгновение Сюзанна прижалась ко мне.
— Не бойся. Теперь мы вдвоем.
Я ее обнял, и мы зашагали вперед. Только один раз я остановился у электрического фонаря и, посмотрев в доверчивые глаза девушки, спросил:
— Сузи, а как ты попала к Удроппу?
Она слабо улыбнулась, вытянула левую руку и показала мне запястье. На белой коже резко выступал продолговатый малиновый рубец.
— Так и ты?..
Она кивнула.
И вот мы идем, два человека, которых нет в этом мире…
Арк. Стругацкий, Бор. Стругацкий ГЛУБОКИЙ ПОИСК
Кабина была рассчитана на одного человека, и сейчас в ней было слишком тесно. Акико сидела справа от Званцева, на чехле ультразвукового локатора. Чтобы не мешать, она прижималась к стене, упираясь ногами в основание пульта. Конечно, ей было неудобно сидеть так, но кресло перед пультом — место водителя. Белову было тоже неудобно. Он сидел на корточках под люком и время от времени осторожно вытягивал затекшие ноги, поочередно то правую, то левую. Вытягивая правую, он толкал Акико в спину, вздыхал и басом извинялся по-английски: «Beg your pardon». Белов и Акико были стажерами. Океанологи-стажеры должны мириться с неудобствами в одноместных субмаринах Океанской охраны.
Если не считать вздохов Белова и привычного гула перегретого пара в реакторе турбины, в кабине было тихо. Тесно, тихо и темно. Изредка о спектролит иллюминатора стукались креветки и испуганно выбрасывали облачка светящейся слизи. Это было похоже на маленькие бесшумные розовые взрывы. Словно кто-то стрелял крошечными снарядами. При вспышках можно было видеть серьезное лицо Акико с блестящими глазами.
Акико глядела на экран. Она с самого начала прижалась боком к стене и стала смотреть, хотя знала, что искать придется долго, может быть, всю ночь. Экран находился под иллюминатором в центре пульта, и, чтобы видеть его, ей нужно было вытягивать шею. Но она глядела не отрываясь и молчала. Это был ее первый глубоководный поиск.
Акико была чемпионом по плаванию в вольном стиле. У нее были узкие бедра и широкие мужские плечи. Званцеву нравилось видеть ее, и ему хотелось под каким-нибудь предлогом включить свет. Например, чтобы в последний раз перед спуском осмотреть замок люка. Но Званцев не стал включать свет. Он и так помнил Акико: тонкая и угловатая, как подросток, с широкими мужскими плечами, в полотняной куртке с засученными рукавами и в широких коротких штанах.
На экране возник жирный светлый сигнал. Плечо Акико прижалось к плечу Званцева. Он почувствовал, как она вытягивает шею, чтобы лучше разглядеть, что делается на экране. Он почувствовал это по запаху духов и, кроме того, ощутил едва заметный запах океанской воды. От Акико всегда пахло океанской водой: как-никак, она проводила в воде две трети своего времени, не меньше.
Званцев сказал:
— Акулы. Четыреста метров.
Сигнал задрожал, распался на мелкие пятна и исчез. Акико отодвинулась. Она еще не умела читать сигналы ультразвукового локатора. Белов умел, так как уже прошел годичную практику на «Кунашире», но он сидел позади и не видел экрана. Он сказал:
— Акулы — мерзость.
Затем он неловко зашевелился и снова пробасил:
— Beg your pardon, Акико-сан.
Говорить по-английски не было никакой необходимости, потому что Акико пять лет училась в Хабаровске и прекрасно понимала по-русски.
— Тебе не следовало так плотно наедаться перед спуском, — сердито сказал Званцев. — И не следовало пить. Ты ведь знаешь, что бывает.
— Всего-навсего жареная утка на двоих и по две рюмки коньяку, — ответил Белов. — Я не мог отказаться. Мы с ним сто лет не виделись, и он улетает сегодня ночью. Он уже улетел, наверное. Всего по две рюмки… Неужели пахнет?
— Пахнет.
«Это скверно», — подумал Белов. Он вытянул нижнюю губу, подул тихонько и потянул носом.
— Я слышу только духи, — сказал он.
«Дурак!» — подумал Званцев.
Акико виновато сказала:
— Я не знала, что это так серьезно. Я бы не душилась.
— Духи — не страшно, — сообщил Белов. — Даже приятно.
«Патентованный дурень!» — подумал Званцев. Белов шевельнулся, стукнулся макушкой о замок люка и зашипел от боли.
— Что? — спросил Званцев.
Белов вздохнул, сел по-турецки и поднял руку, ощупывая замок над головой. Замок был холодный, с острыми грубыми углами. Он прижимал к люку тяжелую крышку. Над крышкой была вода. Сто метров воды до поверхности.
— Званцев, — сказал Белов.
— Да?
— Слушай, Званцев, почему мы идем под водой? Давай всплывем и откроем люк. Свежий воздух и все такое.
— Наверху пять баллов… — ответил Званцев.
«Да-да, — сообразил Белов, — пять баллов. На поверхности болтанка, открытый люк зальет водой. Но все равно, сто метров над головой — это неуютно. Скоро начнется спуск, и будет двести метров, триста, пятьсот. Может быть, будет километр или даже три километра… Зря я напросился, — подумал Белов. — Нужно было остаться на „Кунашире“ и писать книгу».
Еще одна креветка стукнулась в иллюминатор. Словно крошечный розовый взрыв. Белов уставился в темноту, где на миг появился силуэт стриженой головы Званцева.
Званцеву, разумеется, такие мысли и в голову не приходят. Званцев совсем другой, не такой, как многие. Во-первых, он опытный глубоководник. Во-вторых, у него железные нервы. Такие же железные, как проклятый замок. В-третьих, ему наплевать на неизведанные тайны глубин. Он погружен в методы точного подсчета китового поголовья и в вариации содержания протеина на гектар планктонного поля. Его заботит хищник, который зарезал молодых китов. Шестнадцать молодых китов за квартал, и все как на подбор, самые лучшие! Чуть ли не гордость тихоокеанских китоводов.
— Званцев!
— Да?
— Не сердись.
— Я, не сержусь, — сердито сказал Званцев. — С чего ты взял?
— Мне показалось, что ты сердишься… Когда мы начнем спуск?
— Скоро начнем.
Пок… Пок-пок-пок-пок… Целая стайка креветок. Совсем как новогодняя пиротехника. Белов судорожно зевнул и торопливо захлопнул рот. Вот что он сделает: будет все время держать рот закрытым. Но он и минуты не выдержал.
— Акико-сан, how do you feel? Как самочувствие?
— Хорошо, спасибо, — вежливо ответила Акико. По голосу было понятно, что она не обернулась.
Тоже сердится, решил Белов. Это потому, что она втрескалась в Званцева. Званцев сердится — и она тоже. Она смотрит на Званцева снизу вверх и называет его не иначе, как «господин субмарин-мастер». Очень уважает его, прямо-таки благоговеет. Да, она втрескалась в него по уши, это всем ясно. Ясно, наверное, даже Званцеву. Только ей самой еще не ясно. Бедняжка, ей очень не повезло. Человек с железными нервами, чугунными мускулами и медным лицом. Монументальный человек этот Званцев. Человек-будда.
В два часа ночи Званцев включил свет и достал карту. Субмарина висела над центром впадины, в восьмидесяти милях к юго-западу от дрейфующего «Кунашира». Званцев рассеянно чиркнул по карте ногтем и объявил:
— Начнем спуск.
— Наконец-то! — проворчал Белов.
— Господин субмарин-мастер, — сказала Акико. — «Орига» будет спускаться по вертикали?
Субмарина Званцева называлась «Ольга», а не «Орига». Акико иногда не выговаривала букву «л». Званцев ни разу не встречал японца, который выговаривал бы «л» всегда правильно.
— «Ольга» не батискаф, — сухо сказал Званцев. — Мы будем спускаться по спирали.
Он и сам не знал, почему он сказал это сухо. Может быть, потому, что снова увидел Акико. Он думал, что хорошо помнит ее, но оказалось, что за несколько часов в темноте он наделил ее черточками других женщин, совершенно не похожих на нее. Женщин, которые нравились ему раньше, товарищей по работе, актрис из разных фильмов. При свете эти черточки исчезли, и она показалась ему тоньше, угловатее, смуглее, чем он представлял себе. Она была похожа на мальчишку-подростка. Она смирно сидела рядом с ним, опустив глаза, положив руки на голые колени.
«Странно, — подумал он, — я никогда не замечал раньше, чтобы от нее пахло духами».
Званцев включил свет и повел субмарину в глубину. Нос ее сильно наклонился, и Белов уперся коленями в спинку кресла Званцева. Теперь через плечо Званцева он видел светящиеся циферблаты и экран ультразвукового локатора в верхней части пульта. На экране вспыхивали и пропадали дрожащие искры: вероятно, сигналы от глубоководных рыб, еще слишком далеких, чтобы их можно было опознать. Белов перевел глаза на циферблаты, отыскивая батиметр — указатель глубины. Батиметр был крайним слева. Красная стрелка медленно подползла к отметке «200». Потом она так же медленно будет ползти к отметке «300», потом «400»… Под субмариной — трехкилометровая пропасть, и подводный кораблик этот — крошечная соринка в невообразимо огромной массе воды.
Белов вдруг почувствовал, будто что-то мешает ему дышать. Темнота в кабине сделалась плотной и безжалостной, как холодная соленая вода за стенами субмарины. «Начинается!» — подумал Белов. Он вобрал в себя воздух и задержал его в легких. Затем зажмурил глаза, вцепился обеими руками в спинку кресла и принялся считать про себя. Когда перед зажмуренными глазами поплыли цветные пятна, он шумно выдохнул воздух и провел ладонью по лбу. Ладонь стала мокрой.
Красная стрелка миновала отметку «200». Это выглядело красиво и зловеще: красная стрелка и зеленые цифры в настороженной тьме. Рубиновая стрелка и изумрудные цифры: 200, 300… 1000… 3000… «Боже мой, почему все-таки я океанолог? Почему не металлург или не садовник? Ужасная глупость! На каждые сто человек только один подвержен глубинной болезни. И вот этот один — океанолог, потому что ему нравится заниматься головоногими. Он просто без ума от головоногих. Цефалоподы, будь они неладны! Почему я не занимаюсь чем-нибудь другим? Скажем, кроликами. Или дождевыми червями. Жирные дождевые черви в мокрой земле под горячим солнцем. И нет ни темноты, ни ужаса перед соленой трясиной. Только земля и солнце».
Белов громко позвал:
— Званцев!
— Да?
— Слушай, Званцев, ты бы хотел заниматься дождевыми червями?
Званцев нагнулся и пошарил в темноте. Что-то звонко щелкнуло, и в лицо Белова ударила струя ледяного кислорода. Он жадно подышал, зевая и захлебываясь.
— Довольно, — сказал он. — Спасибо.
Званцев отключил кислород. Ему было, конечно, наплевать на дождевых червей. Красная стрелка проползла отметку «300».
Белов снова позвал:
— Званцев!
— Да?
— Ты все-таки твердо уверен, что это кальмар?
— Что — кальмар?
— Что это кальмар зарезал китов?
— Скорее всего, кальмар.
— А может быть, это касатки?
— Может быть…
— Или кашалот?
— Может быть, кашалот. Хотя кашалот нападает обычно на маток. В стаде было много маток. А касатки нападают на одиночек.
— Нет, это ика, — сказала Акико тонким голосом. — Оо-ика!
Оо-ика — это гигантский глубоководный кальмар. Он свиреп и стремителен, как молния. У него мощное туловище в роговом панцире, десять цепких «рук» и жесткие умные глаза. Он бросается на кита снизу и мигом вгрызается в его внутренности. Затем он медленно опускается с китовой тушей на дно. И ни одна акула, даже самая голодная, не смеет приблизиться к нему. Он зарывается в ил и пирует на свободе. Если его настигает субмарина Океанской охраны, он не отступает. Он принимает бой, и акулы собираются, чтобы подхватить клочья мяса. Мясо гигантского кальмара тугое, как резина, но акулам это безразлично.
— Да, — согласился Белов, — наверное, это кальмар.
— Скорее всего, кальмар, — сказал Званцев.
Все равно, кальмар это или не кальмар, подумал он. В таких вот впадинах могут хозяйничать и не такие твари, как кальмары. Их нужно найти и уничтожить, не то покоя от них не будет, раз они уже попробовали китового мяса. Потом он подумал, что если встретится действительно что-нибудь неизвестное, то стажеры обязательно повиснут у него на плечах и будут требовать, чтобы он «дал им разобраться». Стажеры всегда путают сторожевые подлодки с исследовательским батискафом.
Четыреста метров…
В кабине было очень душно. Ионизаторы не справлялись. Званцев слышал, как тяжело дышит Белов за его спиной. Зато Акико совсем не было слышно, можно было подумать, что ее здесь нет. Званцев подал в кабину еще немного кислорода. Потом он взглянул на компас. Субмарину разворачивало поперек курса сильным подводным течением.
— Белов, — сказал Званцев, — отметь: теплая струя, глубина четыреста сорок, направление зюйд-зюйд-вест, скорость два метра в секунду.
Белов скрипнул рычажком диктофона и что-то пробормотал слабым голосом.
— Настоящий подводный Гольфстрим, — сказал Званцев. — Маленький Гольфстрим.
— Температура? — спросил Белов слабым голосом.
— Двадцать четыре.
Акико робко заметила:
— Странная температура. Необычная…
— Если где-нибудь под нами вулкан, — простонал Белов, — это будет интересно. Вы не пробовали ухи из кальмаров, Акико-сан? Вот я…
— Внимание! — перебил его Званцев. — Сейчас я буду выводить «Ольгу» из течения. Держитесь за что-нибудь.
— Легко сказать! — проворчал Белов.
— Хорошо, господин субмарин-мастер, — сказала Акико.
«Можете держаться за меня», — хотел предложить ей Званцев, но постеснялся. Он круто положил субмарину на левый борт и бросил ее вниз почти отвесно. «О-ух!» — вырвалось у Белова, и он уронил диктофон Званцеву на затылок. Потом Званцев почувствовал, что в его плечо вцепились пальцы Акико, вцепились и соскальзывали. Руки Званцева были заняты на пульте управления.
— Обнимите меня за плечи, — приказал он сквозь зубы.
В этот миг пальцы ее сорвались, и она чуть не упала лицом на край пульта. Он едва успел подставить руку, и она ударилась лицом о его локоть.
— Извините! — виновато сказала она.
— Ох, тише, — простонал Белов. — Тише ты, Званцев!
Ощущение было такое, словно проваливаешься в бездну на стратоплане, когда он идет на посадку. Званцев снял с пульта правую руку, пошарил направо от себя и нащупал пушистые волосы Акико.
— Вы ушиблись? — спросил он.
— Нет, спасибо…
Он нагнулся и подхватил ее под мышки.
— Спасибо, — повторила она. — Спасибо… Я сама.
Он отпустил ее и взглянул на батиметр. Шестьсот пятьдесят… шестьсот пятьдесят пять… шестьсот шестьдесят.
— Тише же, Званцев! — взмолился Белов сдавленным голосом. — Хватит же!!
Шестьсот восемьдесят метров. Званцев перевел субмарину в горизонталь. Белов громко икнул и отвалился от спинки кресла.
— Все! — объявил Званцев и включил свет.
Акико прикрывала нос ладонью, по щекам ее текли слезы.
— Искры из глаз… — проговорила она, с трудом улыбаясь.
— Простите, Акико-сан, — сказал Званцев.
Он чувствовал себя виноватым. В таком крутом пике не было никакой необходимости. Просто ему надоел бесконечный спуск по спирали. Он вытер пот со лба и оглянулся. Белов сидел скорчившись и прижимал ко рту смятую рубашку. Лицо у него было мокрое и серое, глаза красные.
— Ужин! — сказал Званцев. — Запомни, Белов!
— Запомню… Дай еще кислорода…
— Не дам. Отравишься.
Званцеву хотелось сказать еще несколько слов о коньяке, но он сдержался и выключил свет. Субмарина снова пошла по спирали, и все долго молчали, даже Белов. Семьсот метров, семьсот пятьдесят, восемьсот…
— Вот он! — прошептала Акико.
Через экран неторопливо двигалось узкое туманное пятно. Животное было еще слишком далеко, и определить, что оно собой представляет, было пока невозможно. Это мог быть кальмар, кашалот, кит-одинец или крупная китовая акула, а может быть, какое-нибудь неизвестное животное. В глубине еще много животных, неизвестных или малоизвестных человеку. Океанская охрана имела сведения об исполинских длинношеих и длиннохвостых черепахах, о драконах, о глубоководных пауках, гнездящихся в пропастях к югу от Бонин, об океанском «гнусе» — маленьких хищных рыбках, многотысячнымистаями идущих на глубине полутора-двух километров и истребляющих все на своем пути. Проверить эти слухи пока не было ни возможности, ни особой необходимости.
Званцев тихонько поворачивал субмарину, чтобы не упускать животное из поля зрения.
— Давай поближе к нему, — попросил Белов. — Подойди ближе!
Он шумно дышал в ухо Званцеву. Субмарина медленно пошла на сближение. Званцев протянул руку и щелкнул переключателем, и на экране вспыхнули две светлые перекрещивающиеся нити. Узкое пятно плыло возле перекрестия.
— Погоди, — сказал Белов. — Не торопись, Званцев.
Званцев рассердился. Он нагнулся, нашарил под ногами диктофон и ткнул его через плечо в темноту.
— В чем дело? — недовольно спросил Белов.
— Диктофон! — сказал Званцев. — Отметь: глубина восемьсот, обнаружили цель.
— Успеем.
— Дайте мне, — сказала Акико.
— Beg your pardon. — Белов кашлянул. — Званцев! Не вздумай стрелять в него, Званцев. Сначала нужно посмотреть.
— Смотри…
Расстояние между субмариной и животным сокращалось. Теперь было ясно, что это гигантский кальмар. Если бы не стажеры, Званцев не стал бы медлить. Работник Океанской охраны не имеет права медлить. Ни одно морское животное не причиняло китоводству такой ущерб, как гигантский кальмар. Он подлежал немедленному уничтожению при встрече с любой субмариной. Его сигнал вводился в перекрестие нитей на экране, затем субмарина посылала торпеды. Две торпеды. Иногда, для верности, три. Торпеды мчались к цели по ультразвуковому лучу и взрывались рядом с целью. И на гром взрывов со всех сторон слетались акулы.
Званцев с сожалением снял палец со спускового рычажка торпедного аппарата.
— Смотри! — повторил он.
Но смотреть пока было не на что. Граница ясного зрения в самой чистой океанской воде не превышала двадцати пяти — тридцати метров, и только ультразвуковой локатор позволял обнаруживать цели на расстояниях до полукилометра.
— Скорее бы! — возбужденно сказал Белов.
— Не торопись.
Субмарины-малютки Океанской охраны предназначены для охраны планктонных посевов от китов и для охраны китов от морских хищников. Субмарины не предназначены для исследовательских целей. Они слишком шумны. Если кальмар не захочет познакомиться с подлодкой поближе, он уйдет прежде, чем можно будет включить прожектора и разглядеть его. Преследовать бесполезно: гигантские головоногие способны развивать скорость втрое большую, чем скорость самой быстроходной субмарины. Званцев надеялся только на удивительное бесстрашие и жестокость кальмара, которые иногда толкают его на схватку со свирепыми кашалотами и стаями касаток.
— Осторожно, осторожно, — повторял Белов нежно и просительно.
— Дать кислород? — спросил Званцев свирепо.
Акико тихонько тронула его за плечо. Она уже несколько минут стояла, согнувшись над экраном, и ее волосы щекотали ухо и щеку Званцева.
— Ика видит нас, — сказала она.
Белов крикнул:
— Не стреляй!
Пятно на экране — теперь оно было большим и почти круглым — довольно быстро двинулось вниз. Званцев улыбнулся, довольный. Кальмар выходил под субмарину в позицию для нападения. Кальмар и не думал убегать. Он сам навязывал бой.
— Не упускай его, — шепнул Белов.
Акико, тоже сказала:
— Ика уходит.
Стажеры еще не понимали, в чем дело. Званцев стал опускать нос субмарины. След кальмара снова всплыл в перекрестии нитей. Стоило только нажать на спуск, и от гадины полетели бы клочья.
— Не стреляй, — повторял Белов. — Только не стреляй! Будем наблюдать…
«Интересно, куда девалась его глубинная болезнь?» — подумал Званцев. Он сказал:
— Кальмар сейчас будет под нами. Я поставлю субмарину на нос. Будьте готовы.
— Хорошо, господин субмарин-мастер, — сказала Акико. Белов, не говоря ни слова, принялся деятельно ворочаться, устраиваясь поудобнее. «Ольга» медленно переворачивалась. Сигнал на экране увеличивался и принимал очертания многоконечной звезды с мерцающими лучами. Субмарина неподвижно повисла носом вниз.
Видимо, кальмар был озадачен странным поведением предполагаемой жертвы. Но он колебался всего несколько секунд. Затем он двинулся в атаку, стремительно и уверенно, как делал, наверное, тысячи раз в своей невообразимо долгой жизни.
Сигнал расплылся и заполнил весь экран.
— Даю свет, — сказал Званцев.
Он включил сразу все прожектора: два по сторонам люка и один под днищем. Свет был очень ярким. Прозрачная вода казалась желтовато-зеленой. Акико коротко вздохнула. Званцев покосился на нее. Она сидела на корточках над иллюминатором, держась рукой за край пульта. Из-под руки торчало голое поцарапанное колено.
— Глядите! — хрипло завопил Белов. — Глядите, вот он!
Сначала светящаяся мгла за иллюминатором была неподвижной. Затем какие-то тени зашевелились в ней. Мелькнуло что-то длинное и гибкое, и через секунду они увидели кальмара. Вернее, они увидели широкое бледное тело, два жестких равнодушных глаза в нижней его части, а под глазами, словно чудовищные усы, два пучка толстых шевелящихся щупалец-рук. Все это в одно мгновение надвинулось на иллюминатор и заслонило свет прожектора. Субмарину сильно качнуло, что-то противно, как ножом по стеклу, заскрежетало по обшивке.
— Вот так! — сказал Званцев. — Насладились?
— Какой ог-ром-ный! — с благоговением произнес Белов. — Акико-сан, вы заметили, какой он огромный?
— Оо-ика, — сказала Акико.
— Пожилой, заслуженный субъект, — подтвердил Званцев.
Белов сказал:
— Никогда не встречал упоминания о таких крупных экземплярах. Я оцениваю его межглазное расстояние в два с лишним метра. Как ты думаешь, Званцев?
— Около того…
— А вы, Акико-сан?
— Полтора — два метра, — ответила Акико помолчав.
— Что в обычных пропорциях дает… — Белов пошептал, загибая пальцы. — Дает длину туловища по меньшей мере метров пятнадцать, а вес…
— Слушайте, — перебил их Званцев. — Что делать дальше?
Акико заглянула в желто-зеленую мглу за иллюминатором, выпрямилась н расправила плечи, закинув назад голову. Потом она перехватила взгляд Званцева, ссутулилась и смущенно прошептала:
— Извините, господин субмарин-мастер…
Белов сказал:
— Надо как-то оторваться от него и сфотографировать целиком.
Субмарину снова качнуло, и снова послышался отвратительный скрип роговых челюстей о металл.
— Это тебе не кит, голубчик, — злорадно пробормотал Званцев.
Потом он подумал и сказал:
— Можно попробовать кое-что. Добровольно он от нас теперь не отстанет и будет ползать по субмарине часа два, не меньше. Я попробую рывком освободиться от него, стряхнуть его, — понимаете? — и тогда он попадет под струю кипятка из турбин. Мы быстро развернемся, сфотографируем и расстреляем его. Хорошо?
Сумбарина раскачивалась все сильнее. Видимо, кальмар рассвирипел и пытался согнуть ее пополам. На несколько секунд в иллюминаторе показалась одна из его «рук» — лиловая кишка толщиной в телеграфный столб, усаженная шевелящимися присосками.
— Какой огромный! — повторил Белов. — Слушай, Званцев, а: нельзя ли вместе с ним всплыть?
Званцев запрокинул лицо и, прищурившись, поглядел на Белова снизу вверх.
— На поверхность? — переспросил он. — Пожалуй… Сейчас он не отцепится от нас. Сколько, ты говоришь, он может весить?
— Тон семьдесят, — сказал Белов неуверенно. Званцев свистнул и снова повернулся к пульту.
— Но это на воздухе, — поспешно добавил Белов, — а в воде…
— Все равно, не меньше десятка тонн. «Ольга» не вытянет. Готовьтесь, будем переворачиваться.
Акико покорно опустилась на корточки, не спуская глаз с иллюминатора. Она очень боялась пропустить что-нибудь интересное.
Если бы не стажеры, особенно Белов, можно было давно уже прикончить этого гада и приняться искать его родственников. Званцев не сомневался, что где-то на дне впадины скрываются дети, внуки и правнуки чудовища — будущие, а может быть, и уже действующие пираты на новых трассах миграций китов.
«Ольга» вернулась в горизонтальное положение.
— Духота… — проворчал Белов.
— Держитесь крепче, — предупредил Званцев. — Готовы? Вперед!
Он до отказа повернул рукоятку скорости. Полный ход, тридцать узлов! Пронзительно взвыли турбины. Позади что-то стукнуло, донесся неясный вопль. «Бедный Белов», — подумал Званцев.
Он сбросил скорость и завертел штурвальчик рулевого управления. Субмарина описали полукруг и вернулась к кальмару.
— Теперь смотрите, — сказал Званцев.
Кальмар висел в двадцати метрах перед носом субмарины, бледный, странно плоский, с обвисшими скрюченными щупальцами и обвисшим туловищем. Он был похож на паука, которого прижгли спичкой. Глаза его были задумчиво скошены вниз и вбок, словно он размышлял над чем-то. Званцев никогда прежде не видел живого кальмара так близко и разглядывал его с любопытством и отвращением. Это был действительно необычайно крупный экземпляр. Может быть, один из самых крупных в мире. Но в эту минуту ничто в нем не позволяло предположить могучего и страшного хищника. Званцеву почему-то вспомнились кучи размякших китовых внутренностей в огромных чанах на китобойном комбинате в Петропавловске.
Прошло несколько минут. Белов лежал животом на плечах Званцева и трещал кинокамерой. Акико что-то бормотала в диктофон (кажется, по-японски), не сводя глаз с кальмара. У Званцева заныла шея, к тому же он боялся, что кальмар очнется и удерет или снова бросится на субмарину, и тогда все нужно будет начинать сначала.
— Вы еще не скоро? — осведомился Званцев.
— Очень… — ответил Белов сипло и невпопад.
Кальмар приходил в себя. По его лапам прошла зыбкая судорога. Громадные, величиной с футбольный мяч, глаза повернулись, словно шарниры в гнездах, и уставились на свет прожекторов. Потом лапы вытянулись в струнку, снова сжались, и бледно-лиловая кожа налилась темным цветом. Втиснутое в серый панцирь тело поднялось в уровень с головой. Кальмар был ошпарен, оглушен, но он готовился к новому прыжку. Кальмар не отступал.
— Ну? — спросил Званцев нетерпеливо.
— Ладно, — недовольно сказал Белов. — Можешь.
— Слезай с меня, — сказал Званцев.
Белов слез и положил подбородок на правое плечо Званцева. По-видимому, он уже забыл о глубинной болезни. Званцев взглянул на экран, затем положил палец на спусковой крючок.
— Близко слишком, — пробормотал он. — Ну ничего. Выстрел!
Субмарина вздрогнула.
— Выстрел!
Субмарина вздрогнула еще раз. Кальмар медленно раскрывал лапы, когда под его глазами одна за другой взорвались две противокашалотные торпеды. Две вспышки и два громовых раската: «Бомбр-р-р! Бомбр-р-р!» Кальмара затянуло черным облаком, а затем субмарину бросило на хвост, она опрокинулась на левый борт и принялась танцевать на месте.
Когда волнение прекратилось, прожектора осветили буро-серую колышущуюся массу, из которой в пучину вываливались, крутясь, бесформенные дымящиеся лохмотья. Некоторые еще извивались и дергались в лучах света, отбрасывая в желто-зеленую толщу пыльные тени, и исчезали во мраке. А на экране локаторов уже появились один за другим четыре, пять, семь сигналов, нетерпеливых и выжидающих.
— Акулы, — сказал Званцев. — Тут как тут.
— Акулы мерзость, — хрипло сказал Белов. — Вот кальмара… жалко… Такой экземпляр! Варвар ты, Званцев…
Званцев с трудом промолчал и включил свет. Акико сидела, прислонившись к стене, склонив голову на плечо. Глаза ее были закрыты, рот полуоткрыт. Лоб, щеки, шея, голые руки и ноги лоснились от пота. Диктофон лежал под ногами. Званцев подобрал его. Акико открыла глаза и смущенно улыбнулась.
— Сейчас будем возвращаться, — сказал Званцев. Он подумал: завтра ночью перебью остальных.
— Очень душно, господин субмарин-мастер, — сказала Акико. — Еще бы, — сердито бросил Званцев. — Ароматы…
И коньяк, и духи…
Акико опустила голову.
— Ну ничего, — сказал Званцев. — Сейчас будем возвращаться. Белов!
Белов не ответил. Званцев обернулся и увидел, что Белов поднял руки и ощупывает пазы люка.
— Что ты делаешь, Белов? — спросил Званцев.
Белов повернул к нему серое лицо и сказал:
— Душно здесь. Надо открыть.
Званцев ударил его кулаком в грудь, и он упал навзничь, запрокинув острый кадык. Званцев торопливо отвернул кислородный кран, затем поднялся и, перегнувшись через Белова, осмотрел замок. Замок был в порядке. Затем Званцев ткнул Белова пальцем под ребро. Акико следила за ним блестящими глазами.
— Господин Белов? — спросила она.
— Слишком плотный ужин, — сердито сказал Званцев. — И глубинная болезнь в придачу.
Белов вздохнул и сел. Глаза у него были сонные, он посмотрел на Званцева, на Акико и сказал:
— Что случилось, друзья мои?
— Ты чуть не утопил нас, дурак.
Званцев поднял нос субмарины вертикально и начал подъем. Было четыре часа утра. Должно быть, «Кунашир» уже вышел к точке рандеву. Дышать в кабине было нечем. Ничего, скоро все кончится. Когда в кабине включен свет, стрелка батиметра кажется розоватой, а цифры — белыми. Шестьсот метров, пятьсот восемьдесят, пятьсот пятьдесят…
— Господин субмарин-мастер, — сказала Акико, — можно спросить?
— Можно…
— Ведь это удача, что мы так скоро нашли ика?
— Мы его не нашли. Это он нас нашел. Он, наверное, километров десять за нами тащился, присматривался. Кальмары всегда так.
— Званцев, — простонал Белов. — Нельзя ли поскорее?
— Нельзя, — сказал Званцев. Терпи.
«Почему ему ничего не делается? — подумал Белов. — Может быть, он действительно железный? Или это привычка? Господи, только бы увидеть небо! Только бы увидеть небо, и я никогда больше не пойду в глубоководный поиск. Только бы удались фото. Я устал. А вот он совершенно не устал. Он сидит чуть ли не вверх ногами, и ему ничего не делается. А у меня от одного взгляда на то, как он сидит, тошнота».
Триста метров…
— Званцев, — снова сказал Белов. — Что ты будешь делать завтра?
Званцев ответил:
— К «Кунаширу» придут Хен Чоль и Вальцев со своими субмаринами. Завтра вечером мы прочешем впадину и перебьем остальных.
Завтра вечером он снова спустится в эту могилу. И он говорит это спокойно и с удовольствием!
— Акико-сан!
— Да, господин Белов?
— Что вы завтра делаете?
Званцев взглянул на батиметр. Двести метров. Акико вздохнула.
— Не знаю, — сказала она.
Они замолчали. Они молчали до тех пор, пока субмарина не всплыла на поверхность. Субмарина закачалась на легкой волне.
— Открой люк, — сказал Званцев.
Белов поднял руки, передвинул защелки замка и толкнул крышку вверх.
Погода изменилась. Ветра больше не было, туч тоже не было. Звезды были маленькие и яркие, в небе висел огрызок луны. Океан лениво гнал небольшие светящиеся волны. Волны плескались у башни люка.
Белов первым выкарабкался наружу, за ним вылезли Акико и Званцев. Белов сказал:
— Как хорошо!
Акико тоже сказала:
— Хорошо.
Званцев тоже подтвердил, что хорошо, и добавил, подумав:
— Просто замечательно!
— Разрешите, я искупаюсь, господин субмарин-мастер, — сказала Акико.
— Купайтесь, пожалуйста, — вежливо разрешил Званцев и отвернулся.
Акико разделась, сложила одежду на край люка и потрогала ногой воду. Красный купальник на ней казался черным, а ноги и руки — неестественно белыми. Она подняла руки и бесшумно соскользнула в воду.
— Пойду-ка я тоже, — сказал Белов.
Он тоже разделся и сполз в воду. Вода была теплая. Белов обогнул «Ольгу», подплыл к корме и сказал:
— Замечательно!
Затем он вспомнил лиловое щупальце толщиной в телеграфный столб и поспешно вскарабкался на субмарину. Подойдя к люку, на котором сидел и курил Званцев, он сказал:
— Вода теплая, как парное молоко. Дай сигарету.
Званцев дал ему сигарету, и они сидели и молча курили, пока Акико плескалась в воде. Голова ее черным пятном качалась на фоне светящихся волн.
— Завтра мы перебьем их всех, — сказал Званцев. — Всех, сколько их там осталось. Нужно торопиться. Киты пойдут над впадиной через неделю.
Белов, вздохнув, щелчком отбросил окурок.
Акико подплыла и ухватилась за край люка.
— Господин субмарин-мастер, можно завтра я опять с вами? — спросила она с отчаянной смелостью.
Званцев ответил медленно:
— Конечно, можно.
— Спасибо, господин субмарин-мастер…
На юге над горизонтом поднялся и уперся в небо луч прожектора. Это был сигнал с «Кунашира».
— Пошли, — сказал Званцев поднимаясь. — Вылезайте, Акико-сан.
Он взял ее за руку и легко поднял из воды. Белов мрачно сообщил:
— Я посмотрю, какая получилась пленка. Если плохая, я тоже спущусь с вами.
— Только без коньяка, — сказал Званцев.
— И без духов, — добавила Акико.
— И вообще я спущусь с Хен Чолем, — сказал Белов. — Втроем в этих кабинах слишком тесно.
В. Журавлева АСТРОНАВТ (Капитан звездолета)
«— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.
И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой».
М. ГорькийМне придется в нескольких словах объяснить, что привело меня в Центральный Архив Звездоплавания. Иначе будет непонятно, о чем я хочу рассказать.
Я — бортовой врач, участвовала в трех звездных экспедициях. Моя медицинская специальность — психиатрия. Астропсихиатрия, как сейчас говорят. Проблема, которой я занимаюсь, возникла давно — в семидесятых годах двадцатого века. В те времена полет с Земли на Марс длился свыше года, на Меркурий — около двух лет. Двигатели работали только на взлете и при посадке. Астрономические наблюдения с ракет не велись — для этого существовали обсерватории на искусственных спутниках. Что же делал экипаж в течение многих месяцев полета? В первых рейсах — почти ничего. Вынужденное безделье приводило к расстройству нервной системы, вызывало упадок сил, заболевания. Чтение и радиопередачи не могли заменить то, чего не хватало первым астронавтам. Нужен был труд, причем творческий, к которому привыкли эти люди. И вот тогда было предложено комплектовать экипажи людьми увлекающимися. Считалось, что чем именно они увлекаются — безразлично, лишь бы это давало им занятие в полете. Так появились пилоты, которые были страстными математиками. Появились штурманы, занимающиеся изучением древних рукописей. Появились инженеры, отдающие все свободное время поэзии…
В летных книжках астронавтов прибавился еще один — знаменитый двенадцатый — пункт: «Чем увлекаетесь?» Но очень скоро пришло другое решение проблемы. На межпланетных трассах начали летать корабли с атомарно-ионными двигателями. Продолжительность полетов сократилась до нескольких дней. Двенадцатый пункт вычеркнули из летных книжек.
Однако несколько лет спустя эта проблема возникла вновь и еще более острой форме. Человечество вступило в эпоху межзвездных перелетов. Атомарно-ионные ракеты, достигавшие субсветовых скоростей, тем не менее годами летели к ближайшим звездам. Перелеты продолжались восемь, двенадцать, иногда двадцать лет…
В летных книжках вновь появился двенадцатый пункт. Межзвездный перелет, с точки зрения пилотирования, на 99,99 % состоял из вынужденного безделья. Телепередачи прерывались уже через несколько дней после отлета. Еще через месяц умолкала рация. А впереди были годы, годы, годы…
Экипаж ракеты тех времен составляли всего шесть — восемь человек. Тесные каюты, оранжерея длиной в полсотни метров — вот и все жизненное пространство. Нам, летающим на межзвездных лайнерах, трудно представить себе, как люди обходились без гимнастического зала, без плавательных бассейнов, без стереотеатра и прогулочных галерей…
Но я отвлеклась, а рассказ еще не начат.
Я не знаю, не успела еще узнать, какой архитектор создал здание Центрального Архива Звездоплавания. Это очень талантливый человек. Талантливый и смелый. Здание расположено на берегу Сибирского моря, возникшего двадцать лет назад, когда на Оби была построена плотина. Главный корпус Архива стоит на прибрежных холмах. Не знаю, как это удалось сделать, но, кажется, здание висит над водой. Легкое, устремленное вверх, похожее издали на белый парусник…
В Архиве работают пятнадцать человек. С некоторыми я успела познакомиться. Почти все они приехали сюда на время. Австралийский писатель собирает материалы о первом межзвездном перелете. Ученый-ленинградец пишет историю Марса. Застенчивый индус — знаменитый скульптор. Два инженера — рослый саратовский парень с лицом Чкалова и маленький, вежливо улыбающийся японец — работают над каким-то проектом. Каким именно — я не знаю. Японец очень вежливо ответил на мой вопрос: «О, это совершенно пустяковое дело! Оно не достойно утруждать ваше высокое внимание».
Однако я вновь отвлеклась. Перейду к рассказу.
Я приехала в Центральный Архив Звездоплавания, чтобы познакомиться с историей двенадцатого пункта — это было необходимо для моей научной работы.
В первый же день, вечером, я говорила с заведующим Архивом. Это еще нестарый человек, но взрыв топливных баков на ракете почти лишил его зрения. Он носит какие-то специальные очки — с тройными линзами. Стекла отблескивают голубым. Глаз не видно. От этого кажется, что заведующий никогда не улыбается.
— Что ж, — сказал он, выслушав меня, — вам надо начать с материалов сектора 0-14. Простите, это наша внутренняя классификация, вам она ничего не говорит. Я имею в виду первую экспедицию на звезду Барнарда.
К стыду своему, я почти ничего не знала об этой экспедиции.
— Вы летали по другим направлениям, — пожал плечами заведующий. — Сириус, Процион, Шестьдесят первая Лебедя… Вы изучали историю полетов в этих направлениях, не правда ли?
Меня удивило, что он так хорошо знает мой послужной список.
— Да, — продолжал он, — история Алексея Зарубина, командира этой экспедиции, ответит на многие интересующие вас вопросы. Через полчаса вам доставят материалы. Желаю удачи.
За голубыми стеклами не было видно глаз. Но голос звучал грустно.
И вот материалы у меня на столе. Бумага пожелтела, на некоторых документах чернила (тогда писали чернилами) обесцветились. Но кто-то тщательно восстановил текст: тут же подшиты фотоснимки документов в инфракрасном свете. Бумага покрыта прозрачной пластмассой; на ощупь листы кажутся очень плотными, гладкими.
За окном — море. Глухо накатывается прибой, волны шуршат, как переворачиваемые страницы…
Экспедиция к Звезде Барнарда по тем временам была предприятием дерзким, даже отчаянным. От Земли до звезды Барнарда свет идет шесть лет. Половину пути ракете предстояло пройти с ускорением, вторую половину — с замедлением. Полет туда и обратно должен был продолжаться около четырнадцати лет.
Для тех, кто летел в ракете, время замедлялось: четырнадцать лет превращались в сорок месяцев. Срок этот сам по себе не велик. Но опасность состояла в том, что почти все время — тридцать восемь месяцев из сорока — двигатель ракеты должен был работать на форсированном режиме.
Сейчас кажется неоправданным риском — уйти в космос, не имея резервных запасов топлива. Но тогда нельзя было иначе. Корабль не мог взять больше того, что инженерам удавалось разместить в его топливных отсеках… Поэтому малейшая задержка в пути означала бы гибель экспедиции.
Я читаю протокол заседания комиссии, отбиравшей экипаж. Выдвигаются кандидатуры капитанов, и комиссия говорит: «Нет». Нет — потому что полет исключительно тяжел, потому что капитан должен быть и великолепным инженером, потому что колоссальная выдержка должна сочетаться с почти безрассудной смелостью. И вдруг все говорят: «Да».
Я переворачиваю страницу. Здесь начинается личное дело капитана Алексея Зарубина.
Еще три страницы — и я понимаю, почему Алексей Зарубин единогласно был назначен командиром «Полюса». В этом человеке самым необыкновенным образом уживались «лед и пламень», спокойная мудрость исследователя и бешеный темперамент бойца. Наверное, поэтому его посылали в самые рискованные полеты. Он умел выходить из самых, казалось бы, безнадежных положений.
Комиссия выбрала капитана. Капитан, по традиции, сам отобрал экипаж. Собственно говоря, Зарубин не отбирал. Он просто пригласил пятерых астронавтов, уже летавших с ним. На вопрос: «Готовы ли вы к трудному и рискованному полету?» — все они ответили:
«С тобой — готовы».
В материалах есть фотографии экипажа «Полюса». Снимки одноцветные, необъемные. Капитану шел тогда двадцать седьмой год. На фотографии он выглядит старше: полное, слегка припухлое скуластое лицо, плотно сжатые губы, крупный, с горбинкой, нос, вьющиеся, наверное, очень мягкие волосы и странные глаза. Они спокойные, даже ленивые, но где-то в уголках затаилась озорная, бесшабашная искорка…
Остальные астронавты еще моложе. Инженеры — муж и жена; в папке их общая фотография, они всегда летали вместе. Штурман — у него задумчивый взгляд музыканта. Девушка-врач — очень строгое лицо. Астрофизик — упрямый взгляд, лицо в пятнах от ожогов: вместе с капитаном он совершал вынужденную посадку на Дионе, спутнике Сатурна.
Двенадцатый пункт летных книжек. Я перелистываю страницы и убеждаюсь: да, снимки сказали правду. Штурман — композитор и музыкант. Строгая девушка увлекается серьезным делом — микробиологией. Астрофизик упорно изучает языки: он уже в совершенстве владеет пятью языками, на очереди — латынь и древнегреческий. Инженеры, муж и жена, увлекаются шахматами, причем новыми шахматами, с двумя белыми и двумя черными ферзями и доской в восемьдесят одну клетку… Заполнен двенадцатый пункт и в летной книжке капитана. У командира странное увлечение — необычное, уникальное. Мне еще ни разу не приходилось встречать ничего подобного. Капитан с детства увлекается живописью — это понятно: его мать была художницей. Но капитан почти не пишет, нет, его интересует другое. Он мечтает открыть давно утерянные секреты средневековых мастеров — составы масляных красок, их смеси, способы нанесения. Он ведет химические исследования, как всегда, с упорством ученого и темпераментом художника.
Шесть человек — шесть разных характеров, разных судеб. Но тон задает капитан. Его любят, ему верят, ему подражают. И поэтому все умеют быть до невозмутимости спокойными и безудержно азартными.
Старт. «Полюс» уходит к звезде Барнарда. Работает ядерный реактор, из дюз вылетает невидимый поток ионов. Ракета летит с ускорением, постоянно ощущается перегрузка. Первое время трудно ходить, трудно работать. Врач строго следит за установленным режимом. Астронавты привыкают к условиям полета. Собрана оранжерея, поставлен радиотелескоп. Начинается нормальная жизнь. Очень немного времени занимает контроль за работой реактора, приборов, механизмов. Четыре часа в день — обязательные занятия по специальности. Остальное время каждый использует как хочет. Серьезная девушка взахлеб читает монографии по микробиологии. Штурман сочинил песенку, ее напевает весь экипаж. Шахматисты часами просиживают над доской. Астрофизик читает в подлиннике Плутарха…
В бортовом журнале короткие записи: «Полет продолжается. Реактор и механизмы работают безупречно. Самочувствие отличное». И вдруг почти крик: «Телесвязь прервана. Ракета ушла за пределы телеприема. Вчера смотрели последнюю передачу с Земли. Как тяжело расставаться с Родиной!» Снова идут дни. Запись в журнале: «Усовершенствовали приемную антенну рации. Надеемся, что радиопередачи с Земли удастся ловить еще дней семь-восемь». Они радовались как дети, когда рация работала еще двенадцать дней…
Набирая скорость, ракета летела к звезде Барнарда. Шли месяцы. Ядерный реактор работал с исключительной точностью. Топливо расходовалось строго по расчету — и ни на миллиграмм больше.
Катастрофа произошла внезапно.
Однажды — это было на восьмой месяц полета — изменился режим работы реактора. Побочная реакция вызвала резкое увеличение расхода горючего. В бортовом журнале появилась короткая запись: «Не знаем, чем вызвана побочная реакция». Да, в те времена еще не знали, что ничтожные примеси в ядерном горючем иногда могут изменить ход реакции…
За окном шумит море. Ветер усилился, волны уже не шуршат — они зло фыркают, наскакивают на берег. Откуда-то издалека доносится женский смех. Я не могу, не должна отвлекаться. Я почти вижу этих людей в ракете. Я знаю их — и не могу представить как это было. Быть может, я ошибаюсь в деталях — какое это имеет значение? Впрочем, нет, даже в деталях я не ошибаюсь. Я уверена, что это было так.
В реторте кипела, пенилась коричневая жидкость. Бурые пары шли по змеевику в конденсатор. Капитан внимательно рассматривал пробирку с темно-красным порошком. Открылась дверь. Пламя горелки задрожало, запрыгало. Капитан обернулся. В дверях стоял инженер.
Инженер умел держать себя в руках, но голос выдавал волнение. Голос был чужим, громким, неестественно твердым. Инженер старался говорить спокойно — и не мог.
— Садись, Николай, — капитан придвинул ему кресло. — Я проделал эти расчеты вчера и получил такой же результат. Так ты садись…
— Что же теперь?
— Теперь? — капитан посмотрел на часы. — До ужина пятьдесят пять минут. Значит, мы успеем поговорить. Предупреди, пожалуйста, всех.
— Хорошо, — машинально ответил инженер. — Я скажу. Да, я скажу.
Он не понимал, почему капитан медлит. С каждым мгновением скорость «Полюса» увеличивалась, решение нужно было принимать безотлагательно.
— Посмотри, — сказал капитан, передавая ему пробирку. — Тебя это, наверное, заинтересует. Там ртутная киноварь. Чертовски привлекательная краска. Но обычно она темнее на свету.
Он долго объяснял инженеру, как ему удалось получить устойчивую на свету ртутную киноварь. Инженер нетерпеливо встряхивал пробирку. Над столом висели вделанные в стену часы, и инженер не мог не смотреть на них: полминуты — скорость увеличилась на, два километра в секунду, еще минута — еще четыре километра в секунду…
— Так я пойду, — сказал он наконец. — Надо предупредить остальных.
Спускаясь по трапу, он вдруг заметил, что уже не спешит и не считает секунды.
Капитан плотно прикрыл дверь каюты. Небрежно сунул пробирку в штатив. Усмехнулся: «Паника — та же цепная реакция. Все постороннее замедляет ее…» — прошел к креслу. Тихо гудела охлаждающая система реактора. Работали двигатели, ускоряя полет «Полюса».
…Через десять минут капитан сошел вниз, в кают-компанию. Пять человек встали, приветствуя его. Все они были в форме астронавтов, надеваемой лишь изредка, в торжественных случаях, и капитан понял: объяснять положение никому не надо.
— Так, — проговорил он. — Кажется, только я не догадался надеть мундир…
Никто не улыбнулся.
— Садитесь, — сказал капитан. — Военный совет… Ну ладно. Пусть, как положено, первым начнет младший. Вы, Леночка. Что нам делать — как вы думаете?
Он обернулся к девушке. Та ответила очень серьезно:
— Я врач, Алексей Павлович. А вопрос прежде всего технический. Разрешите, я выскажу свое мнение позже.
Капитан кивнул:
— Пожалуйста. Вы самая умная из нас, Леночка. И, как всякая женщина, самая хитрая. Готов держать пари, что мнение у вас есть. Уже есть.
Девушка не ответила.
— Итак, — продолжал капитан, — Леночка будет говорить потом. Тогда ты, Сергей.
Астрофизик развел руками.
— К моей специальности это тоже не относится. Твердого мнения у меня нет. Но я знаю, что горючего хватит на полет к звезде Барнарда. Почему же возвращаться с полдороги?
— Почему? — переспросил капитан. — Да потому, что вернуться оттуда мы уже не сможем. С полпути — можем. Оттуда — нет.
— Согласен, — задумчиво сказал астрофизик. — А впрочем, разве мы не сможем вернуться оттуда? Сами мы, конечно, не вернемся. Но ведь за нами прилетят. Увидят, что мы не возвращаемся, и прилетят. Астронавтика развивается.
— Развивается, — усмехнулся капитан. — С течением времени. Итак, лететь вперед? Я правильно понял? Хорошо. Теперь ты, Георгий. К твоей специальности это относится?
Штурман вскочил, оттолкнул кресло.
— Сядь, — сказал капитан. — Сядь и говори спокойно. Не прыгай.
— Ни в коем случае не возвращаться! — штурман почти кричал. — Только вперед. Через невозможное — вперед. Нет, ну, в самом деле, подумайте, как можно вернуться?! Знали мы, что экспедиция будет трудной? Знали! И вот первая трудность, и мы готовы отступить… Нет, нет, только вперед!
— Та-ак, — протянул капитан. — Через невозможное — вперед. Красиво сказано… Ну, а что думают инженеры? Вы, Нина Владимировна? Ты, Николай?
Инженер посмотрел на жену. Та кивнула, и он начал говорить. Он говорил спокойно, словно размышляя вслух:
— Наш полет к звезде Барнарда — исследовательская экспедиция. Если мы, шесть человек, узнаем нечто новое, сделаем какие-то открытия, это еще не будет иметь никакой цены. Открытое нами приобретает цену только тогда, когда станет известно людям, человечеству. Если мы долетим до звезды Барнарда и не будем иметь возможности вернуться назад — что толку в наших открытиях? Сергей говорил, что за нами в конце концов прилетят. Верю. Но те, кто прилетит, и без нас сделают эти открытия. В чем же будет наша заслуга? Что сделает для людей наша экспедиция?.. По существу, мы принесем только вред. Да, вред. На Земле будут ждать возвращения нашей экспедиции. Ждать совершенно напрасно. Вернемся сейчас — потери времени удастся свести к минимуму. Вылетит новая экспедиция. Собственно, мы же и вылетим. Пусть мы потеряем несколько лет. Зато собранный нами материал будет доставлен на Землю. А сейчас мы лишены этой возможности… Лететь? Для чего? Нет, мы — Нина и я — против. Надо возвращаться. Немедленно.
Наступило продолжительное молчание. Потом девушка спросила:
— А как думаете вы, капитан?
Капитан грустно улыбнулся.
— Я думаю, что наши инженеры правы. Красивые слова — только слова. А здравый смысл, логика, расчет — на стороне инженеров. Мы летим, чтобы сделать открытия. И если эти открытия не будут переданы на Землю — грош им цена. Николай прав, тысячу раз прав…
Зарубин встал, тяжело прошелся по каюте. Ходить было трудно. Тройная перегрузка, вызванная ускорением ракеты, сковывала движения.
— Вариант с ожиданием помощи отпадает, — продолжал капитан. — Остаются две возможности. Первая — повернуть к Земле. Вторая — лететь к звезде Барнарда… и все-таки вернуться оттуда на Землю. Вернуться, несмотря на потерю горючего.
— Как? — спросил инженер.
Зарубин подошел к креслу, сел, ответил не сразу.
— Я не знаю как. Но у нас есть время. До звезды Барнарда еще одиннадцать месяцев полета. Если вы решите возвращаться сейчас — мы вернемся. Но если вы верите, что за одиннадцать месяцев я смогу придумать, изобрести, открыть нечто такое, что позволит нам выкрутиться, тогда… тогда через невозможное — вперед!.. Вот так, друзья. Что же вы скажете? Вот вы, Леночка?
Девушка лукаво прищурилась.
— Как всякий мужчина — вы очень хитрый. Готова держать пари, что вы уже кое-что придумали.
Капитан расхохотался.
— Проиграете! Ничего не придумал. Но придумаю. Обязательно придумаю…
— Мы верим, — сказал инженер. — Твердо верим, — он помолчал. — Хотя, по правде сказать, я не представляю, как удастся выкрутиться. На «Полюсе» останется восемнадцать процентов горючего. Восемнадцать вместо пятидесяти… Но раз вы сказали — все. Летим к звезде Барнарда. Как говорит Георгий, через невозможное — вперед.
Тихо поскрипывают ставни. Ветер перелистывает страницы, рыщет по комнате, наполняя ее влажным запахом моря. Удивительная вещь — запах. В ракетах его нет. Кондиционеры очищают воздух, поддерживают нужную влажность, температуру. Но кондиционированный воздух безвкусен, как дистиллированная вода. Не раз испытывались генераторы искусственных запахов; пока из этого ничего не получилось. Аромат обычного — земного воздуха слишком сложен, воссоздать его нелегко. Вот сейчас… Я чувствую и запах моря, и запах сырых осенних листьев, и едва уловимый запах духов, и временами, когда ветер усиливается, запах земли. И еще — слабый запах краски.
Ветер перелистывает страницы… На что рассчитывал капитан? Когда «Полюс» долетит до звезды Барнарда, на ракете останется только восемнадцать процентов горючего. Восемнадцать вместо пятидесяти…
Утром я попросила заведующего показать мне картины Зарубина.
— Надо подняться наверх, — сказал он. — Только… Скажите, вы прочитали все?
Он выслушал мой ответ, кивнул.
— Понимаю. Я так и думал. Да, капитан взял на себя большую ответственность… Вы бы ему поверили?
— Да.
— Я тоже.
Он долго молчал, покусывая губы. Затем встал, поправил очки.
— Что ж, пойдемте.
Заведующий прихрамывал. Мы медленно шли по коридорам Архива.
— Вы еще прочтете об этом, — говорил заведующий. — Если не ошибаюсь, второй том, страница сотая и дальше. Зарубин хотел разгадать тайны итальянских мастеров эпохи Возрождения. С восемнадцатого века начинается упадок в живописи масляными красками — я имею в виду технику. Многое считалось безвозвратно утерянным. Художники не умели получать краски одновременно яркие и долговечные. Чем ярче были тона, тем быстрее темнели картины. Особенно это относится к синим и голубым краскам. Ну, а Зарубин… Да вы увидите.
Картины Зарубина висели в узкой, залитой солнцем галерее.
Первое, что мне бросилось в глаза, — каждая картина была написана только одним цветом — красным, синим, зеленым…
— Это этюды, — сказал заведующий. — Проба техники, не больше. Вот «Этюд в синих тонах».
В голубом небе бок о бок летели две хрупкие человеческие фигурки с пристегнутыми крыльями — мужчина и женщина. Все было написано синим, но никогда мне не приходилось видеть такого бесконечного многообразия оттенков. Небо казалось ночным, иссиня-черным у левого нижнего края картины и прозрачным, наполненным жарким полуденным воздухом — в противоположном углу. Люди, крылья переливались оттенками голубого, синего, фиолетового. Местами краски были упругие, яркие, сверкающие, местами — мягкие, приглушенные, прозрачные.
Рядом висели другие картины. «Этюд в красных тонах»: два алых солнца над неведомой планетой, хаос теней и полутеней — от кроваво-красных до светло-розовых. «Этюд в коричневых тонах»: феерический, выдуманный лес…
Заведующий умолк. Я ждала, глядя в голубые, непроницаемые стекла его очков.
— Прочитайте дальше, — тихо произнес он. — Потом я покажу вам другие картины. Тогда вы поймете.
Я читаю так быстро, как только могу. Я стараюсь схватить главное — и вперед, вперед…
«Полюс» летел к звезде Барнарда. Скорость полета достигла предела, двигатели начали работать на тормозном режиме. Судя по коротким записям в бортовом журнале, все шло нормально. Не было аварий, не было болезней. Никто не напоминал капитану о его обещании. И сам капитан был, как всегда, спокоен, уверен, весел. Он по-прежнему много занимался технологией красок, писал этюды…
О чем он думал, оставаясь в своей каюте? Бортовой журнал, личный дневник штурмана не отвечают на этот вопрос. Но вот интересный документ. Это — рапорт инженеров. Речь идет о неполадках в системе охлаждения. Сухой, точный язык, технические термины. А между строк я читаю: «Друг, если ты передумал, это позволит повернуть. Отступить с честью…» И тут же надпись рукой капитана: «Систему охлаждения будем ремонтировать на планете звезды Барнарда». Это звучит так: «Нет, друзья, я не передумал».
Спустя девятнадцать месяцев после вылета ракета достигла звезды Барнарда. У тусклой красной звезды оказалась одна планета — по размерам почти такая же, как и Земля, но покрытая льдами. «Полюс» пошел на посадку. Ионный поток, выбрасываемый из дюз ракеты, расплавил лед, и первая попытка оказалась неудачной. Капитан выбрал другое место — снова лед начал плавиться… Шесть раз заходил «Полюс» на посадку, пока, наконец, не удалось нащупать подо льдом гранитную скалу.
С этого момента в бортовом журнале начинаются записи, сделанные красными чернилами. По традиции, так отмечались открытия.
Планета была мертвой. Ее атмосфера состояла почти из чистого кислорода, но ни одного живого существа, ни одного растения не оказалось на этой планете. Термометр показывал минус пятьдесят градусов. «Бездарная планета, — записано в дневнике штурмана, — но зато какая звезда! Каскад открытий…»
Да, это был каскад открытий. Даже сейчас, когда наука о строении и эволюции звезд далеко шагнула вперед, даже сейчас открытия, сделанные экспедицией «Полюса», во многом сохранили свое значение. Исследования газовой оболочки красных карликов типа звезды Барнарда и по сей день остаются классическими.
Бортовой журнал… Научный отчет… Рукопись астрофизика с парадоксальной гипотезой эволюции звезд… И, наконец, то, что я ищу, — приказ командира о возвращении. Это неожиданно, невероятно. И еще не веря, я быстро переворачиваю страницы. Запись в дневнике штурмана. Теперь я верю, знаю — это было так.
Однажды капитан сказал:
— Все! Надо возвращаться.
Пять человек молча смотрели на Зарубина. Мерно щелкали часы…
Пять человек молча смотрели на капитана. Они ждали.
— Надо возвращаться, — продолжал капитан. — Вы знаете, осталось восемнадцать процентов горючего. Но выход есть. Прежде всего мы должны облегчить ракету. Нужно снять всю электронную аппаратуру, за исключением корректирующих установок, — он увидел, что штурман хочет что-то сказать, и остановил его жестом. — Так надо. Приборы, внутренние переборки опорожненных баков, часть оранжереи. И главное — громоздкие электронные установки. Но это не все. Основной расход топлива связан с небольшим ускорением в первые месяцы полета. Придется смириться с неудобствами: «Полюс» должен взлететь не с тройным ускорением, а с двенадцатикратным.
— При таком ускорении невозможно управление ракетой, — возразил инженер. — Пилот не сможет…
— Знаю, — жестко перебил капитан. — Знаю. Управление первые месяцы будет вестись отсюда, с планеты. Здесь останется один человек. Тише! Я сказал — тише! Запомните — другого выхода нет. Будет так. Теперь дальше. Вы, Нина Владимировна, и ты, Николай, не можете остаться. У вас будет ребенок. Да, я знаю. Вы, Леночка, врач, вы должны лететь. Сергей — астрофизик. Он тоже полетит.
У Георгия мало выдержки. Поэтому останусь я. Еще раз — тише! Будет так, как я сказал.
Передо мной — расчеты, сделанные Зарубиным. Я врач, не все мне понятно. Но одно я вижу сразу: расчеты сделаны, что называется, на пределе. До предела облегчена ракета, до предела форсированы стартовые перегрузки. Большая часть оранжереи остается на планете, и поэтому расчетный рацион астронавтов невелик — много ниже установленных норм. Снята с ракеты система аварийного энергопитания с двумя микрореакторами. Снято почти все электронное оборудование. Если в пути случится что-то непредвиденное, возвратиться к звезде Барнарда ракета не сможет. «Риск в кубе», — так записано в дневнике штурмана. И двумя строчками ниже: «Но для того, кто останется здесь, — риск в десятой, сотой степени…»
Зарубину придется ждать четырнадцать лет. Только тогда за ним придет другая ракета. Четырнадцать лет одному на чужой, замерзшей планете…
Снова расчеты. Главное — энергия. Ее должно хватить на телеуправление ракетой, ее должно хватить на четырнадцать долгих, бесконечно долгих лет. И опять все рассчитано на пределе, в обрез.
Фотоснимок жилища капитана. Оно собрано из секций оранжереи. Сквозь прозрачные стенки видна электронная аппаратура, микрореакторы. На крыше установлены антенны телеуправления. Кругом — ледяная пустыня. В сером, подернутом мутной дымкой небе, холодно светит звезда Барнарда. Ее диск вчетверо больше солнца, но немногим ярче Луны.
Я быстро перелистываю бортовой журнал. Тут все — и наставления капитана, и договоренность о радиосвязи в первые дни полета, и список предметов, которые надо доставить капитану… И вдруг два слова: «„Полюс“ вылетает».
А потом идут странные записи. Кажется, их сделал ребенок: строки наползают друг на друга, буквы угловаты, изломаны. Это двенадцатикратная перегрузка.
Я с трудом разбираю слова. Первая запись: «Все хорошо, проклятая перегрузка! В глазах фиолетовые пятна…» Через два дня: «Набираем скорость по расчету. Ходить невозможно, приходится ползать…» Еще через неделю: «Тяжело, очень (зачеркнуто)… Выдержим. Реактор работает на расчетном режиме».
Два листа в бортовом журнале не заполнены. А на третьем, залитом чернилами, наискось сделана надпись: «Телеуправление нарушено. Лучи рассеиваются каким-то препятствием. Это (зачеркнуто)… Это конец…» Но тут же, у самого края листа, выведено другим — четким почерком: «Телеуправление восстановлено. Индикатор мощности показывает четыре единицы. Капитан отдает всю энергию своих микрореакторов, и мы не можем ему помешать. Он жертвует собой».
Я закрываю бортовой журнал. Сейчас я могу думать только о капитане. Наверное, для него было неожиданностью нарушение телеуправления. Внезапно зазвонил индикатор…
Тревожно звенел контрольный сигнал индикатора. Стрелка, вздрагивая, опускалась к нулю. Радиолуч встретил препятствие, телеуправление прервалось.
Капитан стоял у прозрачной стены оранжереи. Тусклое солнце заходило за горизонт. По ледяной равнине бежали коричневые тени. Ветер гнал, подхлестывал снежную пыль, поднимал ее в мутное, красно-серое небо.
Настойчиво звенел контрольный сигнал индикатора. Радиоизлучение рассеивалось; его мощности не хватало для управления ракетой. Зарубин смотрел на заходящую звезду Барнарда. За спиной капитана лихорадочно метались вспышки ламп на панели электронного навигатора.
Багровый диск быстро скрывался за горизонтом. На мгновение заискрились бесчисленные алые огоньки: последние лучи преломились в мириадах льдинок. Потом наступила темнота.
Зарубин подошел к приборному щиту. Включил сигнал индикатора. Стрелка стояла неподвижно. Зарубин повернул штурвал регулятора мощности. Оранжерея наполнилась гулом моторов охлаждающей системы. Зарубин долго вращал штурвал — до отказа, до упора. Перешел на другую сторону щита, снял ограничитель и еще дважды повернул штурвал. Гул превратился в надсадный, пронзительный, звенящий рев.
Капитан побрел к стенке, сел. Руки его дрожали. Он достал платок, вытер лоб. Прижался щекой к прохладному стеклу.
Нужно было ждать, пока новые — огромной мощности — сигналы дойдут до ракеты и, отразившись, вернутся обратно.
Зарубин ждал.
Он потерял представление о времени. Ревели микрореакторы, доведенные почти до взрывного режима, выли, стонали двигатели охлаждающей системы. Содрогались хрупкие стены оранжереи…
Капитан ждал.
Наконец какая-то сила заставила его встать и подойти к приборному щиту. Стрелка индикатора мощности переместилась к зеленой черте. Мощность сигналов теперь была достаточна для управления ракетой. Зарубин слабо улыбнулся, сказал: «Ну вот…» — и взглянул на расходометр. Энергия расходовалась в сто сорок раз быстрее, чем предусматривал расчет.
В эту ночь капитан не спал. Он составлял программу для электронного навигатора. Нужно было устранить отклонения, вызванные нарушением связи.
Ветер гнал по равнине снежные волны. Над горизонтом разгоралось неяркое полярное сияние.
Гремели взбесившиеся микрореакторы, отдавая энергию. То, что было скупо рассчитано на четырнадцать лет, сейчас щедро изливалось в пространство…
Заложив программу в электронную машину, капитан устало прошелся по оранжерее. Над прозрачным потолком светили звезды. Где-то там «Полюс», набирая скорость, уверенно шел к Земле.
Было очень поздно, но я все-таки пошла к заведующему. Я вспоминала, что он говорил о каких-то других картинах Зарубина. Заведующий не спал.
— Я знал, что вы придете, — сказал он, поспешно надевая очки. — Идемте, это рядом.
В соседней комнате, освещенной флюоресцентными лампами, висели две небольшие картины. В первый момент я подумала, что заведующий ошибся. Мне показалось, что Зарубин не мог написать этих картин. Они нисколько не походили на то, что я видела днем: ни экспериментов с красками, ни фантастических сюжетов. Это были обычные пейзажи. На одном — дорога и дерево, на другом — опушка леса.
— Да, это Зарубин, — словно угадав мои мысли, проговорил заведующий. — Он остался на планете — вы, конечно, уже знаете. Что ж, это был дерзкий выход, но все-таки выход. Сужу как астронавт, как бывший астронавт, — заведующий поправил голубые очки, помолчал. — Но потом Зарубин сделал то, что… Да вы знаете… Энергию, рассчитанную на четырнадцать лет, он отдал в течение четырех недель. Он восстановил управление ракетой, вывел «Полюс» на курс. Ну, а когда ракета достигла субсветовой скорости, началось торможение с обычными перегрузками; экипаж сам управлял ракетой. В микрореакторах Зарубина к этому времени почти не осталось энергии. И ничего уже нельзя было сделать… Ничего… В те дни Зарубин и писал картины. Он любил Землю, жизнь…
На картине — проселочная дорога, идущая на подъем. У дороги — могучий, взлохмаченный дуб. Он написан в манере Жюля Дюпре, в манере Барбизонской школы: приземистый, узловатый, полный жизни и сил. Ветер гонит растрепанные облачка. У придорожной канавы лежит камень; кажется, на нем только что сидел путник… Каждая деталь выписана тщательно, любовно, с необыкновенным богатством цветовых и световых оттенков.
Другая картина не окончена. Это лес весной. Все наполнено воздухом, светом, теплом… Удивительные золотистые тона… Зарубин знал душу красок.
— Я привез эти картины на Землю, — тихо сказал заведующий.
— Вы?! — Да.
Голос заведующего звучал совсем грустно, даже виновато.
— В тех материалах, что вы смотрели, нет конца. Это относится уже к другим экспедициям… «Полюс» вернулся на Землю, и сразу же была выслана спасательная экспедиция. Сделали все, чтобы ракета пришла к звезде Барнарда как можно скорее. Экипаж согласился проделать весь путь с шестикратным ускорением. Они достигли этой планеты — и не нашли оранжереи. Они десятки раз рисковали жизнью, но не нашли… Потом — это было уже через много лет — послали меня. В пути была авария… Вот, — заведующий поднял руку к очкам. — Но мы долетели. Обнаружили оранжерею и картины… Нашли записку капитана.
— Что там было?
— Только три слова: «Через невозможное вперед!»
Мы молча смотрели на картины. Я вдруг подумала, что Зарубин писал их по памяти. Кругом были льды, зловеще светила багровая звезда Барнарда… А он смешивал на палитре теплые солнечные краски… В двенадцатом пункте анкеты Зарубин мог бы написать: «Увлекаюсь, нет, люблю, безумно люблю нашу Землю, ее жизнь, ее людей».
Тихо в опустевших коридорах Архива. Окна полуоткрыты, морской ветер шевелит тяжелые шторы. Размеренно, упорно накатываются волны. Кажется, они повторяют три слова: «Через невозможное — вперед!» Тишина, потом приходит волна и выплескивает: «Через невозможное — вперед!» И снова тишина…
Мне хочется ответить волнам: «Да, только вперед, всегда вперед!..»
В. Савченко ВТОРАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА СТРАННУЮ ПЛАНЕТУ
I
Косматый пылающий диск Ближайшей стремительно погружался в желто-красные зазубрины горизонта. Вместе с ней ныряли за скалы яркие точки звезд. Процедура заката заняла не больше полминуты. Некоторое время еще отражал свет неподвижно висевший в высоте корпус звездолета. Но вот и он растворился в черной пустоте.
— Смотри-ка, Сандри, — не оглядываясь, кивнул Новак, — а вон Солнце. Чуть ниже «Фотона-2», видишь?
— Вижу…
Некоторое время они следили за неяркой желтоватой звездочкой, быстро проплывающей мимо иллюминатора. В кабине разведочной ракеты было темно. Раздался короткий звук, осветился экран. На нем возникло возбужденное лицо Патрика Лоу, дежурившего в звездолете.
— Капитан! Они снова что-то передавали от нас… Удалось записать. Передаю вам через замедлитель.
…Экран несколько раз мигнул. Появились расплывчатые дрожащие линии, затем стали возникать и исчезать быстрые, как вспышки, изображения. Антон Новак и Сандро Рид затаили дыхание, всматриваясь.
Вот их разведочная ракета, медленно падающая в магнитном поле на поверхность Странной планеты… Вот два человека, приникшие к скалам в нелепо напряженных позах… Мелькнули какие-то упрощенные и непонятные, вероятно, символические изображения. Затем (Новак вздрогнул от неожиданности) на экране появилось его же продолговатое лицо, перекошенное гримасой. Лицо смешно вытянулось, потом сократилось, как мяч, на который наступили ногой. Сандро фыркнул.
— Это вчера, когда их «ракета» пикировала прямо на меня, — пробормотал Новак. — Я поднял голову… Ага, вот и ты!
Да, это была голова Сандро Рида, накрытая прозрачным колпаком скафандра. Черты лица карикатурно искажены… Затем появилась целая группа: Максим Лихо, Патрик Лоу и Юлий Торрена, — они, сильно наклонившись вперед и вбок, передвигались по поверхности планеты… Снова замелькали символы. Вот на экране появилась «ракетка» — были отчетливо видны четыре острых выступа на носу, частые ребристые полосы вдоль сигарообразного фюзеляжа, заканчивавшегося тремя плоскими отростками, похожими на стабилизатор бомбы крупного калибра… «Ракетка» исчезла. Вместо нее на экране — сосредоточенное лицо Ло Вея с внимательно суженными глазами и растрепавшимися над лбом прямыми жесткими прядями. Затем экран погас.
— Ло Вей ведь не опускался на планету! — воскликнул Сандро. — Как же?..
— Значит, они наблюдают и за звездолетом. Ло не раз выходил наружу, проверял рефлекторы.
— Наблюдают… — хмуро проворчал Сандро. — Что же они сами не покажутся? Боятся нас, что ли? Где они? Какие они? Почему в этих видеосообщениях они никогда не показывают себя? Только «ракетки»… Скажи, Анти, вы и в первую экспедицию не видели их?
— Нет. Были только «ракетки». Впрочем, тогда эти летательные аппараты больше походили на скоростные самолеты, чем на ракеты. У них были крылья, и летали они, опираясь на атмосферу… Д-да, тогда была атмосфера преимущественно из инертных газов. Были красивые переливчатые красно-зеленые закаты и восходы Ближайшей. Куда могла деться атмосфера за какие-то 20 лет, ума не приложу!
— Инертные газы? Гм, они не могли соединиться с почвой…
Скажи, а тот раз вы не пробовали посадить или сбить эти «ракетки», а?
Новак помолчал, сказал глухо:
— Пробовали… Из-за этой затеи погибли Петр Славский и Анна. Они поднялись на вертолете, чтобы развесить металлическую сеть. «Ракетки» разбили винт вертолета…
— Антон… — Сандро помедлил, — скажи: ты очень любил ее? Анну? — Новак пошевелился в темноте, но ничего не ответил. Сандро смутился: — Извини, Анти, я глупо спросил… Я ведь еще никого не любил, понимаешь?
В этот момент полуторачасовая ночь кончилась. Ближайшая выскочила из-за горизонта. Через иллюминатор на противоположной стенке в кабину хлынул прожекторный сноп света. Он резкими без полутонов контурами изваял из темноты две сидящие в креслах фигуры. Одна — массивная, с крепко посаженной, задумчиво наклоненной головой; седые волосы сверкали крупными мраморными завитками; глаза запали в черные тени от надбровий. Вторая — по-юношески стройная — откинулась в кресле; линии света ясно очертили профиль: крутой лоб, тонкий нос со слабой горбинкой, мягкие черты губ и подбородка. Резкие лучи высекли из тьмы часть пульта с приборами, стойку с полупрозрачными нескладными фигурами, низ обшитой кожей стены.
Скалы снаружи загорелись разноцветным сверканием. Новак тряхнул головой, встал:
— Пора, Малыш! Собирайся, пойдем собирать минералы. — Он легко разворошил черные кудри на голове Сандро. — Эх, ты! Разве можно любить «не очень»?
II
Планета вращалась вокруг своей оси так стремительно, что у экватора центробежная сила почти уравновешивала тяготение… В средних широтах, где совершила посадку разведочная ракета, это вызывало своеобразный гравитационный эффект: стоять на поверхности планеты можно было, только наклонясь градусов под пятьдесят в сторону полюса… Новак и Рид карабкались по скалистой равнине, вздыбившейся до горизонта сплошной каменной стеной. При неловких прыжках с камня на камень в сумках перекатывались отбитые образцы пород.
В колпаке Новака мигнул вызов звездолета.
— Капитан! — послышался певучий голос Ло Вея. — Вы слышите меня? У нас возникла идея… Вы слышите?
— Слышу. Так что же?
— На волнах, на которых мы принимали передачи этих существ, отправить свою видеоинформацию. Возможно, это поможет наладить контакт с ними. — Дельно. Что вы намереваетесь передать?
— О солнечной системе, о ее месте во Вселенной, о Земле, о людях Земли, о наших сооружениях, о научных исследованиях… Торрена предлагает показать им наше искусство. Конечно, придется передавать все в сильно ускоренном ритме, иначе они не воспримут.
— Так… — Новак в раздумье остановился, ухватившись за край скалы. — Информацию о солнечной системе и о ее координатах передавать не следует. Остальное попробуйте.
— Почему, Антон? — вмешался в разговор Сандро. — Нужно же сообщить им, откуда мы взялись!
— Нет, не нужно, — отрезал Новак. — Мы еще не знаем, кто они такие… Ло Вей, об искусстве тоже, пожалуй, не стоит передавать. Не поймут…
— Хорошо, капитан. У меня все. Буду монтировать кинограмму.
Ло Вей отключился. Некоторое время они молча пробирались по наклонной скалистой пустыне. Звезды были и вверху и под ногами — бесконечная звездная пропасть, за каменистую стену которой они цеплялись. Звезды перемещались так ощутимо быстро, что это вызывало головокружение. Длинный сверкающий корпус «Фотона-2», неподвижно висевший в вышине на незримой привязи тяготения, казался единственной надежной точкой в пространстве.
Новак оглянулся на Сандро, увидел капельки пота на его лице.
— Отдохнем, Малыш. — Он попрочнее уперся в обломок скалы, сел, откинулся.
— Уф-ф! Воистину Странная планета. Где «верх», где «низ»? Не разберешь… — Сандро засмеялся, опустился рядом, начал устраиваться поудобнее, но замер.
— Антон, смотри, «ракетки»! На северо-западе…
Новак поднял голову.
— Вижу.
Высоко в звездной пустоте появились три маленькие серебристо сверкающие капли. Их движение было похоже на огромные плавные прыжки: они то падали к поверхности планеты, то, не долетев, снова резко взмывали вверх и вперед. «Ракетки» описывали круг.
— И все-таки в «ракетках» нет живых существ, — как бы продолжая давний спор, сказал Сандро. — Никакое живое существо, кроме разве бактерий, не в состоянии перенести такие ускорения. Смотри, что делает!
Одна «ракетка» отделилась от остальных, улетевших за горизонт, и мчалась теперь над ними бесшумной серебристой тенью. Вот она внезапно, будто ударившись о невидимую преграду, остановилась и повисла в пространстве; начала падать со все возрастающей скоростью на острые зубья скал… Потом произошло нечто похожее на бесшумный выстрел: «ракетка» мгновенно взмыла в высоту, описала там петлю и снова начала падать.
— Похоже, что она ищет нас…
— Да, похоже. — Новак движением головы нажал кнопку вызова звездолета. — «Фотон-2»! «Фотон-2»!
— Зачем?! — схватился Сандро. — Она нас запеленгует!
— Ничего. Мы сейчас проделаем с ней небольшой опыт… «Фотон-2»!
— Слышу вас, капитан!
— Патрик? Включите систему радиопомех, держите нас под ее прицелом. По моему сигналу пошлете луч на нас.
— Хорошо.
…«Ракетка» пикировала прямо на них — беззвучно и ослепительно, как молния перед ударом грома. Сердца Сандро и Антона сжались в тоске. Серебристая капля вырастала так стремительно, что глаза не успевали улавливать подробности. Но вот в неуловимое мгновение, оставшееся ей, чтобы не врезаться в камни, она затормозила и повисла в пустоте. От огромного удара магнитного поля искривились горизонт и силуэты скал, раскалились добела и тотчас остыли какие-то металлические осколки. «Ракетка» кувыркнулась и взмыла вверх. Сандро и Антон одновременно выдохнули воздух из легких.
— Патрик! — снова радировал Новак. — Переключите систему помех на автоматическое управление от моих биотоков. Иначе ничего не выйдет… И включите максимальную энергию луча.
— Готово! — тотчас доложили из звездолета.
…Темно-серые с отливом синевы стены дождя над степью кто-то раскалывал ослепительно белыми извилистыми трещинами молний. Пятилетний мальчуган бежал босиком по скользкой траве, по жидкой грязи, по лужам, кричал и не слышал собственного голоса среди непрерывного грохота бури. Но вот совсем рядом дождь, стегавший косыми струями по лицу и плечам, проколола слепящая сине-белая точка — молния, направленная прямо в него! В нестерпимом ужасе мальчик шлепнулся в грязь и зажмурился…
Это воспоминание из далекого детства прошло перед глазами Новака, когда «ракетка» пикировала на них второй раз. Ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сосредоточиться. «Не пропустить нужного мгновения… не заспешить». Теперь он уже не думал, а рассчитывал — хладнокровно и непреложно, как автомат. «Ракетка» была уже в нескольких десятках метров над скалами, сейчас она должна начать магнитное торможение… Сознание Новака материализовалось в одной непроизнесенной команде мозга: «Луч!»
…Система помех ответила сразу. Навстречу «ракетке» метнулся мощный хаос радиоволн. На ничтожную долю секунды она потеряла управление — и с огромной скоростью врезалась в камни. Без звука содрогнулась почва. Сверкнув в пологих лучах заходящей Ближайшей, метнулись во все стороны осколки «ракетки» и, смешиваясь с лавиной камней, устремились «вниз», в сторону экватора.
Новак вскочил так стремительно, что едва не потерял равновесия. — Скорее! — бросил он Сандро. — До темноты нужно успеть найти хоть несколько кусков!
Эту скоротечную ночь Новак и Рид провели в экспресс-лаборатории разведочной ракеты. Новак рассматривал поверхность подобранных осколков «ракетки» в микроскоп, водил по ним острием электрического щупа, записывал показания осциллографов. Сандро сперва помогал ему — сделал пробный химический анализ вещества «ракетки», но потом, сморенный усталостью, задремал в мягком кресле.
Антон снова и снова глядел в микроскоп на неровные блестящие сколы, веря и пугаясь оформлявшейся в мозгу догадки. Коричневые шестигранные ячейки, сплетенные в причудливую мозаику, сверкающие прослойки белого металла, оборванные извилистые жилки-проволочки, желтые прозрачные кристаллики… Когда ослепительная Ближайшая снова взлетела в черное небо, Новак поднял воспаленные, покрасневшие от напряженного всматривания глаза на дремавшего Рида, осторожно тронул его за плечо:
— Знаешь, Сандри, мы с тобой убили живое существо. Причем гораздо более высокоорганизованное, чем мы, люди.
— Как?! — Сандро широко раскрыл глаза. — Неужели в «ракетке»?..
— Нет, не в «ракетке», — перебил вопрос Новак. — Не в «ракетке», а, гм, нам следовало догадаться об этом раньше, — а сами «ракетки» — живые существа. И никаких иных на этой планете, вероятно, нет…
По стеклу иллюминатора быстро, как светлячки, ползли звезды. Сверкали, нагромождаясь к полюсу в гористую стену, скалы. Невысоко над ними вылетела из-за горизонта «ракетка» и помчалась «вниз» пологими многокилометровыми прыжками.
— Почему «мы с тобой убили»?.. — тихо и неуверенно пробормотал, глядя в сторону, Сандро. — Ведь я же и не знал, что ты сделаешь это…
Новак удивленно посмотрел на него, но промолчал.
III
…Земля была такой, какой ее видят возвращающиеся из экспедиций астронавты: большой шар, окутанный голубой дымкой атмосферы, сквозь которую смутно обозначаются зеленые и пестрые пятна континентов и островов среди сине-серой глади океана; белые шапки льдов на полюсах и, будто продолжение их, белые пятнышки туч. Контуры материков расширялись, разбивались на множество линий и становились осязаемо четкими. Вот уже горизонт опрокинулся чашей с зыбкими туманными краями. Внизу стремительно проносятся массивы лесов, расчерченные голубыми полосами каналов и тонкими серыми линиями дорог; скопления игрушечно маленьких зданий, большие желтые квадраты пшеничных полей, обрывающийся скалами берег и — море, море без конца и края, играющее сине-зелеными валами сверкающей под солнцем воды.
…Теперь Ло Вей и Патрик Лоу мчались по улицам Астрограда — мимо куполов и стометровых мачт Радионавигационной станции, мимо сияющих пластмассовой отделкой и стеклом жилых домов, мимо гигантских ангаров, где собирали новые ракеты. Всюду было много людей. Они работали в ангарах, шли по улицам, играли в мяч на площадках парка, купались в больших бассейнах. Рослые, великолепно сложенные, в простых одеждах, с веселыми или сосредоточенными лицами, они были красивы. Эта красота лиц, тел и движений не была нечаянным даром природы, щедрой к одним и немилостивой к другим, — она пришла к людям как результат сытой, чистой, одухотворенной трудом и творчеством жизни многих поколений… Шли, обнявшись, девушки по краю улицы и пели. Под развесистым темнолистым дубом сосредоточенно возились в песке дети.
…Город кончился, стали видны заслоненные домами скалы. Ло и Патрик мчались к космодрому, к жерлу 500-километровой электромагнитной пушки, нацеленной в космос. Они поднялись на высоту и сейчас видели целиком блестящую металлическую нить, ровно протянувшуюся от Астрограда к высочайшей вершине Гималаев — Джомолунгма. Вот из жерла пушки в разреженное темно-синее пространство серебристой стрелой вылетела сцепленная вереница грузовых ракет…
Экран погас — кинограмма кончилась. Ло Вей и Патрик Лоу молча сидели в затемненной кабине звездолета, боясь словом вспугнуть ощущение Земли. В напряженной работе, под непрерывным потоком необычных впечатлений астронавты мало думали о Земле. Они сознательно отвыкали от нее. Но сейчас она позвала их — и они почувствовали тоску… Нет, никаким кондиционированием воздуха не заменить терпкий запах смолистой хвои и нагретых солнцем трав; никакие миллиарды космических километров, пройденных с околосветовой скоростью, не заменят улицу, по которой можно идти и просто так улыбаться встречным; никогда мудро рассчитанная красота приборов и машин не вытеснит из сердца человека расточительной, буйной и нежной, яркой, тонкой и грозной красы земной природы…
— Как там мой сынишка? — тихо сказал Патрик. — Когда я вернусь, он будет совсем взрослым.
— Оставь об этом, — сказал Ло, сердясь и на себя и на товарища. — Как ты думаешь, хватит для них?
— Да, пожалуй… — Патрик вздохнул напоследок и встал. — Интересно, почему капитан не разрешил показать звездные координаты Солнечной? Все в порядке, Ло, можешь передавать.
То, что при просмотре продолжалось полчаса, в ускоренной телепередаче заняло две с небольшим минуты. Многосторонние дипольные антенны «Фотона-2» распространили электромагнитные лучи во все стороны планеты. Ло Вей по многим наблюдениям знал, насколько быстрее счет времени у существ Странной планеты: чтобы улавливать их видеоинформацию, приходилось применять экраны с послесвечением, затягивавшие вспышки изображений на доли секунды. Он несколько раз повторил передачу кинограммы, потом переключил все видеофоны на прием и стал ждать.
В радиокабине было тихо и сумеречно. Восемь телеэкранов слабо мерцали от помех. На стене светились два циферблата: земные часы, отсчитывавшие с учетом релятивистских поправок время Земли, и часы звездолета. Сейчас они шли вровень… Прошло десять минут, а на экранах не появлялось никаких изображений. Пол кабины вдруг мягко дрогнул, будто уходя из-под ног. Ло Вей взглянул на часы: ну да, это электромагнитная катапульта «Фотона-2» приняла разведочную ракету с Новаком и Ридом.
…На крайнем левом экране вспыхнуло и пропало смутное изображение. Ло Вей насторожился, включил запись. Изображение мелькнуло снова, на этот раз яснее: два человека в скафандрах, прижавшиеся к скалам, повисшая над ними «ракетка», потом символы. «Ага, это они сообщают о „ракетке“, которая разбилась!» Экран потемнел. Немного подождав, Ло Вей выключил запись.
Все последующее произошло ровно за те доли секунды, которые потребовались пальцам Ло Вея, чтобы перебросить рычажок записи на «выключено» и тотчас же снова на «включено» Естественно, что на ленте записи ничего не зафиксировалось, и в событиях, последовавших некоторое время спустя, действия Ло Вея определялись лишь тем, что он смог увидеть глазами… Одновременно засветились два средних экрана. Изображения чередовались: было похоже, что двое существ переговариваются между собой. На левом вспыхнул упрощенный, без деталей, почти символический силуэт звездолета. На правом в ответ замелькали отрывочные кадры кинограммы: застывшие волны моря, улица Астрограда, лица людей, горы, ракеты, вылетающие из жерла электромагнитной пушки. Из-за послесвечения экрана изображения накладывались друг на друга, сливались в причудливые переплетения светящихся контуров; Ло Вей различал их только потому, что знал, что это такое… Второй экран ответил несколькими непонятными символами. Первый показал звездолет (на этот раз детально): из кормовых дюз вылетели столбы пламени. На втором появилось четкое изображение улицы Астрограда возле Радионавигационной Станции; вспыхнув, оно сразу же начало блекнуть: потемнело голубое небо, растворились мачты и купола Станции, дома и деревья. Но прежде чем полностью исчезли земные очертания, через экран промчалась стайка «ракеток»…
Оба экрана погасли — «разговор» двух существ закончился раньше, чем Ло включил запись. Он недоуменно размышлял над последними вспышками изображений. «Что это было? Наложение изображений? Мне показалось, что одна из „ракеток“ в своем полете обогнула контуры купола Радионавигационной Станции… Показалось? Или… И потом: кажется, предметы исчезали не так, как это бывает при угасании экрана. Сперва — яркое небо, потом — более темные деревья и здания. Должно быть, наоборот… Померещилось? Или — что они имели в виду?»
Ло Вей прождал еще несколько часов, но ничего больше не увидел.
IV
— …Да, мы столкнулись здесь с кристаллической жизнью. Именно столкнулись, потому что не были подготовлены к этой встрече. Слишком долго на Земле господствовало мнение, что возможна лишь органическая жизнь, что высшим проявлением жизни является человек; что, когда нам доведется встретиться с разумными существами в других мирах, то они будут отличаться от нас весьма незначительно, скажем, формой ушей или размерами черепа… Наиболее радикальные умы допускали, что возможна высокоорганизованная жизнь на основе других химических элементов: германия или кремния вместо углерода, фтора или хлора вместо кислорода. Все предшествующие экспедиции не могли ни подкрепить, Ни опровергнуть это мнение, так как человеку не удалось обнаружить достаточно сложную жизнь ни на планетах солнечной системы, ни в иных мирах… И когда мы второй раз отправлялись сюда, на Странную планету, чтобы установить связь с какими-то «невидимыми», но, несомненно, разумными существами, то мы представляли их себе подобными…
Перед отлетом экипаж «Фотона-2» собрался в общем зале, чтобы обсудить результаты экспедиции. О сделанном докладывали кратко, не вдаваясь в глубокий анализ: впереди было четыре года пути, по необходимости отведенные для тщательной обработки всех данных, собранных за два месяца работы на Странной планете, для расчетов, споров и размышлений, в результате которых на Землю будут принесены ясные и точные знания.
Сандро Рид — самый молодой из всех — перечислил геологические находки и наблюдения, собранные на планете. Максим Лихо — немолодой, рыжеволосый гигант, с простодушными синими глазами, товарищ Новака по первой экспедиции, — сообщил об открытии неизвестных ранее частиц материи в излучении Ближайшей. Ло Вей скупо рассказал о записях видеоизлучения «ракеток» и о наблюдениях за способом их движения в пустоте, которые они проводили вдвоем с Патриком Лоу. Худощавый смуглый брюнет с горячими глазами Юлий Торрена увлекся было, рассказывая о наблюдении новых гравитационных и магнитных эффектов, связанных с быстрым вращением Странной планеты, но его деликатно остановили.
Новак докладывал последним: — Нам пришлось долго наблюдать, чтобы увидеть очевидное: эти «летательные аппараты», эти «ракетки» и есть живые существа, населяющие Странную планету… Странная планета — странная жизнь. По-видимому, она сродни не нам, а скорее тому, что создано руками и умом человека: электрическим двигателям, фотоэлементам, ракетам, электронным математическим машинам, собранным на кристаллических приборах, и так далее.
Новак в раздумье помолчал, потом продолжал:
— Очень приблизительно я объясняю себе различие между нами и ними так: мы — растворы, они — кристаллы. Мы «собраны» природой из клеток, которые являются не чем иным, как весьма сложным раствором различных веществ и соединений в воде. Наша жизнь основана на воде, наши ткани на две трети состоят из нее. Они, «ракетки», состоят из различных сложных и простых кристаллов — металлических, полупроводниковых и диэлектрических.
— И в этом все дело. Как вы знаете, в растворах элементарным носителем энергии является ион. В кристаллах носители энергии — электроны. И все непреодолимое различие между нашей, органической, и их, кристаллической, жизнью определяется простым физическим фактом: при равных электрических зарядах ионы обладают в тысячи, в десятки и даже в сотни тысяч раз большей массой, чем электроны… В нас все жизненные процессы — и нервные и мышечные — происходят благодаря перемещению и изменению энергии ионов и нейтральных молекул, благодаря обмену веществ. В них нет обмена веществ — только обмен электронной энергии. Мы усваиваем энергию весьма окольным химическим путем: разлагая и окисляя пищу. «Ракетки» могут питаться непосредственно светом и теплом, как кристаллические термо- и фотоэлементы. Так они могут сосредоточивать в себе огромную энергию и развивать поистине космические скорости движения…
— Но главное различие не в скоростях движения, а в скоростях внутренних процессов. В нашем теле любой элементарный процесс связан с перемещением тяжеловесных ионов и молекул, попросту говоря — с переносом вещества. Поэтому ничто в нас не может проистекать со скоростью, большей скорости распространения звука в воде. Скорость электронных процессов в «ракетках» ограничена лишь скоростью света. У них и счет времени иной, и представление о мире иное.
— Все то, чего человек достиг после тысячелетий труда и поисков, естественным образом вошло в организмы «ракеток». Электромагнитное движение, телевидение, космические скорости, радиолокация, представления об относительности пространства и времени… Только что Ло Вей сообщил, что они с Патриком установили невероятный факт: «ракетки» в своем движении учитывают поправки теории относительности. А ведь это объясняется просто. Кристаллические существа движутся со скоростью до 20 километров в секунду, отсчет времени у них также в десятки тысяч раз более точный, чем у человека. Поэтому в своем обычном движении они «чувствуют» то, что мы, люди, едва можем себе представить, — изменение ритма времени, искривление пространства, возрастание массы. Вероятно, вот так же они «чувствуют» волновые свойства частиц микромира. Так же они «чувствуют» и многое, от чего нас, людей, отделяют десятилетия научных исследований…
Новак замолк и сел. Тотчас вскочил Торрена, рукой откинул волосы:
— Антон, какая же это «жизнь» без обмена веществ? Можно ли это считать жизнью?
— Почему же нет? — пожал плечами Новак. — Они движутся, развиваются, обмениваются информацией.
— Но как развиваются? Как образовалась кристаллическая жизнь? Как размножаются эти «ракетки»?
Новак улыбнулся:
— Ты бы еще спросил: есть ли у них семья и любовь! Не знаю. Мы слишком мало знаем о них.
— Кристаллические существа… — в раздумье повторил Сандро и оглядел окружающих. Глаза и щеки его горели. — Подумать только — за минуту они могут придумать больше, чем я за месяц! Целый водопад мыслей, и каких мыслей… Хотел бы я побыть «ракеткой» хоть несколько часов.
— Подождите, Антон, — сказал Патрик Лоу. — Если это жизнь и, как вы утверждаете, разумная жизнь, то она должна быть созидательной. Где же то, что они создали? Ведь планета имеет дикий вид.
— Я думал об этом, — кивнул капитан. — Все объясняется чрезвычайно просто: им — кристаллическим существам — не нужно это. Им не нужны здания и дороги, машины и приборы, потому что они сами мощнее и быстрее самых сильных машин, совершеннее и чувствительнее самых сложных приборов. Они не проходили стадию машинной цивилизации и не будут ее проходить. Вместо того чтобы создавать и совершенствовать машины и приборы, они развиваются сами… В прошлую экспедицию мы видели не «ракетки», а «самолетики» — так они изменились за двадцать лет.
— Но можно ли считать их разумными существами, если нет никаких следов их коллективной работы? — возразил Лоу. — Может быть, это еще кристаллические «звери», а?
— Есть! — Новак хлопнул по поручню кресла. — Есть следы! Правда, вряд ли это можно назвать созиданием… Я имею в виду исчезновение атмосферы Странной планеты. По-видимому, атмосфера мешала им летать, мешала увеличивать скорости. «Ракетки» уничтожили ее — вот и все…
Лоу не хотел сдаваться:
— Если они разумные существа, то почему они не общаются с нами? Почему «ракетки» ничего не ответили на кинограмму? — Видите ли, Патрик… — Новак несколько секунд помолчал, обдумывая ответ. — Боюсь, что им понять нас еще несравненно труднее, чем нам их. Стремительность мышления и движения «ракеток» так огромна, что наблюдать за нами им было труднее, чем нам увидеть рост дерева. Помните, чтобы внимательно рассмотреть нас, «ракетки» пикировали?.. Кто знает, не принимают ли они за живые существа наш звездолет и разведочную ракетку, а не нас самих?
Максим Лихо сквозь прозрачную часть пола смотрел на Странную планету. То место ее, над которым висел звездолет, уходило в ночь. Извилистая, размытая рельефом граница света и тени захватывала все большую и большую часть планеты, и она без остатка исчезала в черном пространстве. Только последние искорки — отражения от вершин самых высоких скал — еще теплились некоторое время. Дневная часть, играя резкими переливами света, уплывала назад.
Максим поднял голову:
— Послушай, Антон. Если ты догадывался, что «ракетки» — разумные существа, то зачем же ты… не знаю, как и сказать: разрушил, что ли, — словом, сбил эту «ракетку»? Не нужно было этого делать.
Новак недоуменно поднял брови:
— Но… догадку следовало проверить. Иначе мы улетели бы, так ничего и не поняв. И потом ты помнишь первую экспедицию? Они с нами тоже не церемонились.
— Да ведь тогда были совсем не те «ракетки», что сейчас. Если следовать твоей гипотезе, то они так же отличались от нынешних, как мы отличаемся от питекантропов. Они развиваются с неслыханной стремительностью! Убить существо мыслящее, возможно обладающее большим разумом, чем наш… нет, этого нельзя было делать. Что они подумают о нас, людях Земли? — Максим Лихо покачал головой и упрямо повторил: — Этого не следовало делать.
Остальные молчали. Новак поднялся с кресла.
— Понятное дело: трудно сразу осмыслить все это. Ну что ж, впереди у нас немало времени… Совещание закончено. Сейчас, — голос его приобрел металлический оттенок, — всем готовиться к старту!
V
Новак ошибся: времени для размышлений оказалось немного.
…Первым заметил корабль «ракеток» Сандро Рид. «Фотон-2», набирая скорость, уже десятые сутки огибал Ближайшую и выходил на расчетную инерционную траекторию. Члены экипажа, прикованные к сиденьям 4-кратной перегрузкой, тяготились от вынужденного безделья и неподвижности. Сандро выбрал себе хорошее место — обсерваторию — и наблюдал за созвездиями. Он и заметил какое-то тело, частично затемнявшее собою уменьшающийся диск Ближайшей. «Фотон-2» набрал уже более сорока тысяч километров в секунду, но тело не отставало, а, наоборот, приближалось. Слепящие вспышки антигелия, сгоревшего в дюзах, мешали как следует рассмотреть форму тела.
Сандро вызвал рубку управления:
— Антон! Нужно остановить двигатели.
— В чем дело? — на экране было видно, как Новак от изумления даже попытался подняться в кресле.
— За нами летит какое-то тело…
При выключении двигателей автоматически заработали два центробежных маховика — на носу и в корме звездолета. Они создавали противовращение огромной массы «Фотона-2» со скоростью десяти оборотов в минуту: этого было достаточно, чтобы создать в жилой и рабочей частях звездолета нормальное центростремительное тяготение.
Небо за кормой казалось конусом из тонких светящихся окружностей, стремительно прочерчиваемых звездами. Диск Ближайшей описывал яркое огненное колесо. В этой головокружительно вращающейся вселенной трудно было что-либо разобрать. Новаку пришлось переключить маховики на обратный ход, чтобы остановить вращение звездолета. Через полчаса небо приняло нормальный вид.
Пожалуй, это нельзя было назвать «кораблем». Скорее, это был плотный рой из нескольких тысяч «ракеток». Сходство дополнялось еще и тем, что «ракетки» двигались внутри роя, принимавшего то форму шара, то вытягивавшегося в эллипсоид. Изнутри роя исходило яркое переменное свечение. Была ритмическая связь между изменениями яркости свечения, колебаниями форм роя и его движением. Похоже было, что какое-то центральное ядро вспышками-импульсами толкало рой вперед, растягивая его в эллипсоид. Потом «ракетки» снова стягивались в шар.
Все собрались в обсерватории и молча наблюдали за приближением роя «ракеток». С каждым импульсом он вырастал в размерах.
— Интересно, как они движутся? — задумчиво проговорил Максим Лихо.
— Капитан, они догоняют нас! — всегда невозмутимый и сдержанный Ло Вей казался встревоженным. — Осталось десять — двенадцать тысяч километров… Не пора ли включить двигатели?
— Подождем еще, — не отрывая глаз от окуляра, ответил Новак.
…Когда между «Фотоном-2» и роем осталось не более тысячи километров, свечение в рое вдруг прекратилось, и он стал невидим в черной пустоте космоса. Сандро включил радиотелескоп: на экране возник висящий в пространстве шар «ракеток».
— Кажется, они не собираются на нас нападать, — облегченно вздохнул Торрена. — Разумеется! Они прекрасно могли это сделать на Странной планете… «Ракетки» собираются лететь за нами в солнечную систему, вот что! — Новак требовательно оглядел собравшихся. — Что вы думаете по этому поводу?
— Вот здорово! — Сандро был в восторге. — Познакомить людей с этими кристаллическими существами… Установить с ними взаимопонимание, творческое сотрудничество. Какие колоссальные сдвиги в сознании людей, какие изменения в их истории, а?
— В распоряжение «ракеток» можно было бы предоставить Меркурий, — деловито добавил Максим Лихо. — Там условия сходны со Странной планетой. Пусть обоснуют там колонию… Я знаю, что тебя беспокоит, Антон. — Максим прямо посмотрел на капитана, качнул головой: — Напрасно. Человечество достаточно сильно, чтобы справиться с ними в случае чего. Но я не верю, что дело дойдет до конфликта. Мыслящие существа всегда найдут способ понять друг друга…
Антон Новак стиснул челюсти, но, ничего не ответив ему, повернулся к Торрене:
— Ты, Юлий?
— Нужно тщательно изучить, как движется рой. — В черных глазах Торрены светилось любопытство ученого. — Нет замкнутой конструкции, судя по всему, нет антивещества, а они уже достигли скорости сорока тысяч километров в секунду. Интересно, смогут ли они достичь околосветовых скоростей?
— Ло Вей?
Этот ответил не сразу:
— Они не хотели с нами общаться, не попытались хоть как-то сообщить нам, что будут лететь за нами… Меня настораживает это. Я не верю, что они не смогли передать информацию.
— Вы что думаете, Патрик?
— Откровенно говоря, мне нравится идея: привести их на Згмлю. Вот и все… А ваше мнение, капитан?
— Мое мнение… — Новак оглядел всех и сказал, чеканя каждое слово: — Нам следует любыми путями отделаться от них.
VI
Новак и Ло Вей, выбиваясь из сил, тащили по коридору к входной камере электромагнитной катапульты контейнер со сжатым антигелием. Огромная масса этого небольшого цилиндрика из ядерного материала при каждом толчке вырывалась из рук, при неверном шаге заносила в сторону, стремилась раздавить хрупкое человеческое тело о стену. «Фотон-2» летел с околосветовой скоростью — сказывался эффект возрастания масс. От непосильного напряжения бешено колотилось сердце, дрожали руки.
Из-за наглухо запертой двери общего зала в коридор несся грохот кулаков и гневные крики: там были Сандро Рид, Максим Лихо, Торрена и Лоу. Люк входной камеры был уже близко, когда Новак опустил контейнер на пол, почувствовав, что иначе пальцы разожмутся сами. Он распрямился и глубоко вдохнул воздух. В этот момент крики и грохот в общем зале прекратились.
— Они что-то задумали, — прислушавшись, сказал Ло Вей. — Совещаются…
Антон нагнулся и ухватил край холодного цилиндра:
— Взяли! — и они, шатаясь из стороны в сторону, снова потащили его вперед.
… Сказанное тогда Новаком вызвало горячие возражения. Его поддержал только Ло Вей.
— Да, я тоже считаю, что мы ведем на Землю неизвестную опасность! — он попытался пересказать то, что увидел на экранах. Но (видно, Ло Вей и сам не был уверен в своем впечатлении) рассказ вышел сбивчивый и никого не убедил. Однако время не терпело — решили продолжить дискуссию из кабин. Все разошлись по своим местам. Новак вернулся в рубку управления и включил двигатели; тогда он еще надеялся, что рой «ракеток» не выдержит соревнования в скорости…
Шли сороковые сутки разгона. «Фотон-2» близился к полусветовой скорости, однако рой не отставал. Гигантскими прыжками-вспышками он настигал звездолет, как только тот удалялся от него на несколько тысяч километров. Юлий Торрена внимательно исследовал спектры вспышек, однако мог только сказать, что это не антивещество. «Ракетки» знали какой-то иной принцип движения, не менее эффективный.
Дискуссия о том, как быть с «ракетками», не затихла, а, наоборот, все более и более разгоралась. Астронавты переговаривались с помощью видеофонов из своих кабин; когда же капитан на несколько часов выключал двигатели, чтобы люди могли отдохнуть от связывающей тяжести инерции, все собирались в общий зал и споры продолжались.
— Не только вести их за собой, но и даже указать направление на солнечную систему — значит поставить человечество под удар, — доказывал Новак. — Смешно думать, что они ограничатся Меркурием. Они захватят всю систему.
— Почему ты считаешь их завоевателями, Антон? — воскликнул Сандро. — Разве нас, людей, влечет в другие миры стремление покорить кого-то? И их тянет за нами жажда знаний.
— Знания нужны не просто так, а для дальнейшего развития жизни, Малыш. «Ракеткам» же для этого нужны еще и новые земли. Вокруг Ближайшей вращается только одна планета. Им на ней уже тесно. Когда людям двести лет назад стало тесно на Земле, они начали заселять Марс и Венеру, они создали атмосферу на Луне. А им деваться некуда.
— В Солнечной хватит места и для нас и для них. Зачем подозревать, что «ракетки» будут стремиться уничтожить людей? — вмешивался Патрик Лоу.
— Да потому, что между людьми и этими кристаллическими тварями не может быть ничего общего, — включился в спор Ло Вей. — Бред испортившейся электронной машины имеет больше общего с нашим мышлением, потому что все-таки мы программируем наши машины. А они… они не знают наших чувств, наших восприятий — и не поймут наших мыслей. Мы принципиально различны с ними. Нам нужен воздух — «ракеткам» он мешает летать. Нам нужна вода — для них она мало существенна. Нам нужна органическая пища — они потребляют лучистую энергию.
— Пустое! — раздавался уверенный бас Максима Лихо. — Между мыслящими существами не может быть пропасти. Они поймут нас.
— Нам будет от этого не легче! — тонкий голос Ло Вея после Максимовского баса сам по себе звучал неубедительно. — Они поймут, что мы — это комочки студенистой материи с ничтожно малым запасом внутренней энергии, с черепашьим темпом мыслей и движений. Они поймут, что мы люди, — очень несовершенное, из рук вон неудачное творение природы, и не почувствуют к нам ни симпатий, ни жалости, ни сочувствия…
Когда после отдыха расходились по своим кабинам, Новак с отчаянием в душе понял, что им, видно, так и не удастся прийти к общему взгляду.
…Был один момент, который решил дальнейшее. Именно о нем вспоминал сейчас Новак, когда, вися в пустоте жерла электромагнитной катапульты, укреплял контейнер на носу разведочной ракеты.
Это было на шестьдесят восьмые сутки разгона. «Фотон-2» должен был теперь совершить последний поворот для выхода на инерционную траекторию. Новак в оцепенении сидел перед приборами в рубке: вся борьба, разгоревшаяся в звездолете, сосредоточилась сейчас в нем, в одном легком движении пальцев правой руки. Небольшой поворот рукоятки регулятора, незначительное усилие большого, указательного и среднего пальцев — ив правые кормовые дюзы «Фотона-2» начнет поступать чуть больше ядерного горючего; ровно настолько больше, чтобы космический корабль смог с безопасным для его экипажа ускорением отклоняться все левее и левее, по направлению к солнечной системе.
Движение рукоятки… Оно укажет «ракеткам» направление к Солнцу. Дальше они, вероятно, не станут следовать за «Фотоном-2», а обгонят его. «Мы не сумеем даже предупредить Землю. А когда они появятся в Солнечной, события будут развиваться очень быстро. Того времени, за которое люди лишь успеют их заметить, „ракеткам“ будет достаточно, чтобы принять решение и начать действовать. Их „дни“ сосредоточены в секундах… Какое решение они примут? И какие действия последуют за ним?..»
На движущейся ленте звездной карты, на которой самописец вычерчивал курс звездолета, красная линия начала заметно уходить вправо от расчетной синей. Новак, как загипнотизированный, смотрел на перо самописца: оно с заметной глазу скоростью ползло по масштабным клеточкам, отсчитывая миллионы километров… «Ну, прав ты или не прав, Антон Новак? Сможешь ты взять на себя эту огромную ответственность, или ты предоставишь событиям развиваться, как им заблагорассудится?» Он мысленно еще раз прошел весь путь наблюдений и догадок, пережил те минуты, когда с микроскопом и электрическим щупом исследовал осколки тела «ракетки», снова взвесил все доводы и возражения Максима, Сандро, Патрика Лоу и Торрены…
Рукоятка регулятора осталась в прежнем положении. Теперь звездолет с каждой секундой удалялся на сотни тысяч километров от инерционной кривой. На душе у Антона Новака стало спокойно и холодно: теперь проблема того, как быть с роем кристаллических существ, становилась строгой физической задачей. Эту задачу следовало поскорее решить.
«Итак, дано: два тела, разделенные расстоянием в тысячу километров, летят в пустоте со скоростью, близкой к световой… От тела, летящего впереди, отделяется некий предмет, и, ускоряясь, летит навстречу газовое облако и обволакивает тело. В какой момент? И сколько нужно газа? И получится ли это при той скорости, с которой мчатся сейчас звездолет и рой?..»
Новак нерешительно посмотрел на стоявший рядом пластмассовый куб робота-оператора, но покачал головой: такая задача не предусмотрена в программах робота. А программировать заново?.. Пожалуй, проще решить самому. Он придвинул к себе лист бумаги и углубился в расчеты. Через несколько часов он знал: надежно решить эту задачу возможно лишь на скорости 0,9 от световой… Еще около четырех суток (по внутреннему счету времени) для работы двигателей.
…Первым заметил отклонение тот же Сандро: из обсерватории провода связи передали в рубку его тревожный голос:
— Антон! Что случилось? Мы сбились с курса!
Новак взглянул на показатель скорости: 0,86 световой. «Рано заметил… — с досадой подумал он. — Нужно еще около тридцати часов ускорения. Ну, начинается…»
— Сейчас объясню, Сандри, — он включил все кабины: «Внимание всем! Внимание всем! Звездолет идет под углом 42 градуса к расчетному курсу в направлении Бета Большой Медведицы. Внешняя скорость — 260000 километров в секунду… Субъективная скорость — 585000 километров в секунду…»
— Это удар в спину! — раздался яростный крик Патрика Лоу. — Ты хочешь, чтобы мы не вернулись на Землю?!
— Нам не удалось уйти от роя «ракеток», — продолжал Новак. — Через тридцать часов будет предпринята попытка уничтожить рой… — Ты не сделаешь этого! — громыхнул в динамике голос Максима. — Ты сошел с ума! — На экране было видно, как Максим попытался подняться, но, сломленный перегрузкой, рухнул обратно в кресло. «Итак, двое… Пока работают двигатели, никто не сможет ничего сделать».
— Это позор! Неслыханное предательство!
«Трое… И Торрена с ними. Жаль, его наблюдения за движением роя сейчас очень нужны».
— Это месть! — голос Сандро дрожал от возмущения. — Я знаю, он мстит «ракеткам» за первую экспедицию, за то, что тогда на Странной планете погибла Анна Новак.
«Четверо… И Малыш с ними. Плохо… — Новака на секунду охватил страх. — Неужели я останусь один? Я ничего не смогу сделать… Тогда только одно, звездолет не свернет с этого пути. Мы не вернемся на Землю…» Он продолжал говорить:
— В нашем распоряжении около пятидесяти часов по субъективному времени. Если за этот срок мы уничтожим рой, запасов антигелия хватит для возвращения на инерционную траекторию. В противном случае «Фотон-2» не сможет выйти в район солнечной системы.
— Неправда, Новак! — крикнул Торрена. — У нас гораздо больший запас антигелия. Его хватит на месяц отклонения.
— Следует учитывать, — возразил Новак, — что часть антигелия придется истратить на истребление «ракеток»… — Он помолчал. — Предлагаю членам экипажа прекратить бесплодную дискуссию… После остановки двигателей всем следует собраться в общем зале для разработки плана действий.
— Я с вами, Новак! Слышите? — это сказал Ло Вей. В его тонком голосе звучала твердая решимость. — Вы правы — и я с вами.
И тотчас же из другого динамика крикнул Максим Лихо:
— Вас двое, нас четверо. Мы не дадим вам совершить преступление! Слышите, не дадим!
* * *
…Конечно, идти в общий зал не было никакого смысла. И Новак совершил еще одно преступление, обдуманной гнусности которого ему не забыть до конца своих дней. Он предупредил по проводной связи Ло Вея, чтобы тот опоздал к началу сбора в общем зале. Они встретились у его дверей. Ло был бледен, но решителен:
— Что вы думаете сделать?
— Прежде всего запереть их здесь. — Антон мотнул головой в сторону общего зала. — Иначе они помещают…
— Что вы, Новак… — Ло Вей нахмурился и опустил голову. — Это же… — он с трудом нашел почти забытое слово, — обман.
Нам еще четыре года лететь вместе. Как мы сможем смотреть им в глаза?
— Иначе нельзя. Мы ничего не сможем сделать… — глухо ответил капитан. — Может быть, потом они поймут, что мы сделали это в интересах человечества… Ну, действовать!
Вверху в стене была утоплена герметическая «дверь безопасности», которой еще ни разу не пользовались: она была предусмотрена во всех кабинах звездолета на тот случай, если метеорит пробьет оболочку корабля и воздух начнет из коридора вытекать в пространство. Новак сломал стекло автомата, приводящего дверь в действие, подвинтил нужные рычажки — сплошная полоса блестящей брони мягко опустилась по направляющим до пола. Ло Вей накрепко завинтил два затвора — вверху и внизу двери…
Все это было проделано быстрее, чем в зале успели что-либо понять. Но как только Новак отнял руку от автомата — на него навалилось никогда еще не пережитое ощущение совершенной подлости; что-то непередаваемо грязное и мутное вторглось в ясный мир его мыслей и поступков. Там, за дверью, были товарищи, с которыми он жил, работал, делил и мысли, и опасности, и радости удач. Горячий, вечно увлеченный новыми идеями Торрена; хладнокровный и умный экспериментатор Патрик Лоу; Максим, с которым они пережили неудачу и горе первой экспедиции на Странную планету; Сандро Малыш… Антон взглянул на Ло Вея и увидел в его глазах то же: омерзение, отвращение к нему и к себе.
Реакция была настолько сильной, что они едва не бросились вместе отвинчивать затворы. Потом они овладели собой.
VII
— Антон, зачем вы разогнали звездолет до такой скорости? Трудно будет возвращаться на расчетную траекторию.
— Чтобы уничтожить рой наверняка… так получилось по расчетам… — голос капитана звучал прерывисто. Он только что закончил установку контейнера с антигелием на носу ракеты и сейчас, прислонясь к стенке кабины, расшивал скафандр. — Видите ли, наша разведочная ракета не может развить ускорение больше одного километра в секунду за секунду… При малых скоростях «Фотона-2» и роя она покроет расстояние между ними за 45–50 секунд. Это огромное время в восприятии «ракеток» — они успеют заметить ее и обогнуть. Или просто разлететься во все стороны, кто знает? Пришлось бы выпустить огромный заряд антигелия — почти половину нашего запаса. Это было бы опасно для звездолета, взрыв мог бы повредить его, понимаете?
— И вы решили использовать релятивистские эффекты? — кивнул Ло Вей, не отрывая взгляда от пульта управления ракеты: он настраивал его приборы на автоматическую работу. — Замедление темпа времени, увеличение инерционной массы «ракеток»? — Да. И возрастание встречной скорости… Мы выигрываем во времени в шесть раз. Теперь «ракетки» если и успеют заметить встречное тело, не смогут уклониться… Все готово?
— Готово. — Ло Вей встал, окинул напоследок взглядом приборы, задумчиво повторил: — Все готово.
Через соединительную камеру они вышли из ракеты в коридор звездолета. Новак выключил ток электромагнитных держателей: теперь разведочная ракета висела в жерле электромагнитной катапульты, связанная с «Фотоном-2» лишь силами тяготения.
Антон и Ло направились в носовую часть звездолета, к пульту управления катапультой. Гулкая тишина коридора настороженно вслушивалась в дробные звуки шагов. Ло Вей остановился у дверей общего зала:
— Смотрите, Антон!
В бронированном щите зияла овальная дыра с неровными оплавленными краями. Ло Вей просунул в нее голову, посмотрел в зал — там было пусто.
— Вырезали током… — Новак потрогал край дыры пальцами. — Теперь они ищут нас. Идем скорее!
Небо позади звездолета состояло из концентрических светящихся кругов, описываемых звездами. Ближайшая уже затерялась во вращающемся пространстве. В том месте, куда сходились звездные круги, в темноте летел рой «ракеток». Ло Вей направил на него параболические антенны радиотелескопов. На экране появился шар из множества точек. Было заметно, как «ракетки» медленно сновали в рое.
… Прошло немногим более четырех внутренних часов с момента остановки двигателей, но Новака не покидало нетерпеливое желание: скорее, скорее покончить с этим! Он уже устал от нервного напряжения… Ло сосредоточенно промерял точное расстояние между звездолетом и роем, чтобы передать последние поправки для автоматов ракеты.
— Ну? — спросил Новак.
— Сейчас… — Ло Вей повернул несколько рукояток на пульте, потом, что-то вспомнив, поднял голову: — Антон, следует предупредить их, что сейчас будет толчок.
— Верно! Еще покалечатся, — капитан кивнул, включил микрофон: — Внимание! Максим, Сандро, Лоу, Торрена, слушайте! Через несколько секунд звездолет испытает толчок силой примерно в три ускорения земного тяготения… Внимание! Где бы вы ни находились, закрепитесь в креслах или возьмитесь за поручни…
В этот момент под ударами загремела дверь рубки. Новак растерянно посмотрел на Ло Вея:
— Они не слышали. В этой части коридора нет динамиков…
Что делать? — Секунду поколебавшись, он подошел к двери, рывком открыл ее и, не дав никому опомниться, оглушительно заорал:
— Отойдите от двери! Возьмитесь за поручни! Сейчас будет сильный толчок!!!
Здесь были все четверо: Максим, Патрик, Сандро и Торрена, — тяжело дышащие, с яростными лицами. На мгновение они опешили, но тут же молча все вместе рванулись в рубку.
— Ло, включай! — последним усилием сдерживая натиск, крикнул Новак.
…Пол коридора, на котором они стояли, вдруг превратился в вертикальную стенку, и все пятеро стремглав полетели «вниз». Новак на лету попытался ухватиться за поручни в стене, но, не рассчитав, ударился о них локтем и от пронзившей руку острой боли едва не потерял сознание… Через мгновение электромагнитная катапульта вышвырнула разведочную ракету в пространство, ускорение прекратилось, пол снова стал полом. Перекувырнувшись несколько раз, Антон растянулся на нем. Рядом грузно грохнулось тело Максима.
Тотчас забыв о боли, они вскочили, бросились в рубку и молча приникли к стеклу иллюминатора… Среди звездных кругов пространства разведочная ракета была видна по пламени из дюз, как яркая удаляющаяся звездочка. На экране радиотелескопа было видно, что в рое началось какое-то движение. Точки «ракеток» забегали по спирали, в центре роя обозначился просвет: видно, кристаллические существа заметили мчащееся навстречу тело и решили его пропустить. Но автомат времени на контейнере уже сработал: сжатый до тысячи атмосфер антигелий вырвался из цилиндра. Теперь навстречу «ракеткам» мчалось всеуничтожающее облако антивещества.
Все оцепенели на миг, ждали толчка отдачи, который должен был сообщить о том, что заряженный антигелием ионолет выброшен катапультой в пространство. Вдруг прозвучал растерянный и радостный возглас Ло Вея:
— Ой! Смотрите! Смотрите, что они делают!
Сейчас это можно было видеть не только на экране радиотелескопа, но и в иллюминаторы: рой «ракеток» ожил и светился. Он начал как бы выворачиваться наизнанку — «ракетки» расходились во все стороны от центра. Рой распустился празднично сверкающим бутоном, который тотчас превратился в большое кольцо…
— Они поняли опасность! Готовятся…
Но вот «ракетки» снова сошлись в плотный шар; внутри его замигали вспышки. В первый момент астронавты не поняли, почему каждая следующая вспышка оказывалась тусклее предыдущей.
— Уходят! — шумно выдохнул Максим.
…Вскоре ритмически вспыхивающую точку стало трудно различить среди быстро вертевшихся звезд. Вот и на экране радиотелескопа изображение роя, поблекнув, сошло на нет. Астронавты молча смотрели друг на друга; случившееся заставило их забыть о недавней распре.
— Испугались они, что ли? — недоуменно пожал плечами Лоу.
— Нет. Они поняли… — в раздумье заговорил Максим Лихо. — Испугались! Несколько «ракеток» из этого роя шутя могли бы разбить наш звездолет. Они поняли нас, вот что. Даже не то слово «поняли»… «Ракетки», видимо, уже давно поняли, что мы такое. Может быть, еще на Странной планете. Судя по тому, что они с расстояния в тысячу километров сумели разобраться в том, что творилось в звездолете, для них это не представляло проблемы… Но сейчас они впервые приняли нас всерьез. Да-да! — он упрямо тряхнул головой. — Они поняли, что мы не только — «что-то такое»: еле-еле живая белковая материя, — но и что мы «кто-то». Антон был прав: для «ракеток» это была несравненно более трудная задача, чем для нас… Словом, они поняли, что встретились с иной высокоорганизованной и мыслящей жизнью, которая развивается по своим законам, стремится к своим целям. Поняли, что нельзя ни пренебречь этой жизнью, ни бесцеремонно вмешаться в нее. Трудно сказать, что им внушило такое уважение: нацеленный на рой ионолет с антигелием или наши схватки? Как ты считаешь, Антон?
Новак поднял глаза на товарищей:
— Я считаю… мне нельзя быть вашим капитаном. Выбирайте другого.
— Э, зачем так, Антон! — Патрик Лоу досадливо сморщился. — В конце концов каждый из нас отстаивал свое, как мог.
— И пока еще никто не прав, — добавил Торрена.
— Анти смущает то, о чем мы все уже забыли… — исцарапанные щеки Сандро растянулись в лукавой улыбке. — Ведь никто уже не помнит, как мы… как нас… ой! — ну, словом… — общий смех помог ему запутаться еще больше. — Не думай об этом, Антон, вот и все.
— Конечно! — Максим мягко положил руку на плечо Новака. — Ведь все произошло ни по-твоему, ни по-нашему… Эти «ракетки» умницы, что ни говори! Мы еще полетим на Странную и договоримся с ними, вот увидишь.
Даже если бы у Новака внезапно не перехватило горло, он все равно не смог бы сказать своим товарищам то, что хотел. Потому что это были не мысли, а чувства — а излагать чувства он не умел и стеснялся. Он просто повернул голову к висевшей на стене звездной карте и изучал ее чуть дольше, чем следовало. Потом повернулся к команде.
— Будем сворачивать на инерционную траекторию. Всем — на свои места.
Г. Альтов ЛЕГЕНДЫ О ЗВЕЗДНЫХ КАПИТАНАХ
Огненный цветок
Прометей. Но кто же ты?
Земля. Я мать твоя. Земля.
Шелли. Освобожденный Прометей.Это началось с того, что звездный корабль «Топаз», поврежденный метеоритным ливнем, вынужден был изменить курс и опустился на планету Мот в системе гаснущей звезды Барнарда. Здесь, среди развалин древней цивилизации, капитан «Топаза» впервые нашел обелиск с изображением Огненного Цветка. С тех пор Звездные Капитаны часто встречали такие обелиски, потому что люди с планеты Мот еще миллионы лет назад отправляли в Звездный Мир свои корабли и на многих планетах поставили обелиски в честь Огненного Цветка.
Капитаны читали высеченные на этих обелисках надписи и, возвратившись на Землю, рассказывали об Огненном Цветке. Странные это были рассказы. Странные и волнующие. Говорили, что Огненный Цветок светится в темноте, переливаясь красками, подобно полярному сиянию. Говорили, что цветок этот удесятеряет силы человека, дает долгую жизнь. Говорили, что растущий на Земле женьшень в сравнении с Огненным Цветком то же, что стекло в сравнении с алмазом.
Не было среди Звездных Капитанов такого, который не мечтал бы найти Огненный Цветок. Но никто не знал, где его искать. Однажды капитан «Экватора» высказал мысль, что Огненный Цветок должен расти на горячих планетах, находящихся вблизи звезд. Он был мудр, старый капитан «Экватора». Он справедливо полагал, что только в раскаленной атмосфере могут расти цветы, называемые Огненными, ибо при недостатке тепла и света растения окрашены в темные тона.
Дважды проникал «Экватор» к самым горячим из известных тогда планет в системах звезд Альтаир и Процион. И оба раза безрезультатно. Испепеленные жгучими лучами планеты были мертвы. На ссохшейся, потрескавшейся почве ничего не росло. Но «Экватор» вновь ушел к горячей планете в системе звезды Лаланда и уже не вернулся.
Тогда возникли сомнения: там ли нужно искать Огненный Цветок? Капитан «Зодиака», чей скептический ум любил парадоксы, провозгласил, что Огненный Цветок должен расти на холодных, удаленных от своих солнц планетах. «Огненный Цветок светится в темноте, подобно рыбам в пучине океана, — говорил капитан „Зодиака“. — Надо искать его на планетах, где царит вечная ночь». После этого многие корабли опускались на ледяные вершины замерзших планет. Но в холодном мраке не светилось ни одного огонька. Лед сковывал планеты, и не было на них жизни.
Упорно искали Звездные Капитаны неуловимый Огненный Цветок. Ибо уже в те времена люди твердо знали: нет в Звездном Мире ничего такого, перед чем разум и воля человека были бы бессильны. Шли корабли в Звездный Мир навстречу неведомым опасностям, и ничто не могло остановить Звездных Капитанов.
Знаменитый капитан «Гранита», человек необыкновенной удачи, нашел на одной из планет в системе звезды Лакайля засыпанный песком обелиск в честь Огненного Цветка. В высеченной на обелиске надписи упоминалась звезда Лейтена. Через несколько лет бесшабашный командир «Тайфуна», тот самый, что четырежды терпел кораблекрушения, сумел прорваться сквозь сплошное облако астероидов, окружавшее звезду Лейтена, и высадился на единственной в этой системе большой планете. Это была жуткая планета, населенная орохо — самыми страшными существами Звездного Мира. В отчаянных схватках с орохо «Тайфун» продвигался вдоль экватора планеты, пока не удалось найти окаменевшие остатки Огненного Цветка.
Рассказывают, однако, что полвека спустя капитан «Каравеллы», великий знаток Звездного Мира, нашел где-то живой Огненный Цветок. Но «Каравелла» погибла на обратном пути, столкнувшись близ звезды Грумбридж с пылевым скоплением антивещества.
Время шло, и люди почти перестали верить преданиям об Огненном Цветке. Но именно тогда один из звездных кораблей открыл планету, на которой рос Огненный Цветок. Корабль этот назывался «Прометей».
В те времена уже привыкли называть капитанов по именам их кораблей. Это была хорошая традиция, ибо имя капитана подобно флагу корабля: оно должно быть гордым и ярким. И это была справедливая традиция, ибо в Звездном Мире жизнь капитана и жизнь корабля составляли одно целое. Если погибал капитан, погибал и его корабль, потому что в опасные рейсы капитаны уходили в одиночку — электронные машины заменяли экипаж.
Так вот, капитана, нашедшего Огненный Цветок, называли — по имени его корабля — Прометеем. Рассказывают, что он родился в маленькой колонии, основанной людьми на суровой планете Рен в системе звезды Проксима Кита. Рассказывают далее, что только в двадцатилетнем возрасте Прометей впервые попал на Землю. После многих лет, проведенных в тесной рубке корабля, он увидел нашу Землю: зеленые, шумящие под ветром леса, мягкую, звенящую голубизну неба, седой океанский прибой у скалистых берегов… Он понял, что даже в самом малом клочке Земли больше жизни и красоты, чем в безграничных межзвездных пропастях. Муравей на дрожащей травинке, капля росы на зеленом листе, журчащий под камнем ручеек — целый мир для человека, умеющего видеть и слышать.
Прометей полюбил Землю и людей. Наверное, это и сделало его поэтом, ибо о чем может слагать стихи человек, не любящий или не знающий красоты своей Земли?!
Прометей полюбил Землю и людей. Однако он был капитаном и часто уходил в Звездный Мир. Корабль шел к звездам, и с трепещущих антенн срывались и летели сквозь бесконечный мрак сложенные Прометеем строки. Их жадно ловили на Земле, потому что в стихах Прометея, как и на Земле, жили сильные и красивые люди с богатой и щедрой душой.
Трудно говорить из Звездного Мира с Землей: радиоволны гаснут, быстро тает накопленная в батареях энергия. И потому Шестая Заповедь Звездных Капитанов предостерегает от разговоров, не вызванных необходимостью. Но Прометею — таково было решение всех капитанов — дали право говорить с людьми, когда он хочет. Ибо он был поэтом.
Да, он был поэтом и Звездным Капитаном. Он по-своему смотрел на Звездный Мир. Другие знали — он еще и чувствовал. И потому в безграничных глубинах Звездного Мира он видел многое, чего другие еще не могли увидеть. Такова привилегия поэта. Искусство проникает на крыльях фантазии туда, куда разум еще бессилен проникнуть.
Прометей был поэтом, и он нашел Огненный Цветок. Рассказывают, что это произошло так.
Однажды, после долгого и трудного полета корабль Прометея приблизился к звезде Феридан. Это небольшая звезда, похожая на наше Солнце. В системе Феридана оказалось девять планет, как и в нашей солнечной системе. Восемь планет были безжизненными. Поверхность девятой — самой большой — планеты окутывала ионизированная, насыщенная облаками атмосфера. Прометей назвал эту планету Зевсом, потому что Зевс — другое имя Юпитера, крупнейшей планеты в системе Солнца.
В те времена посадка на неизвестную планету грозила смертельной опасностью. Локаторы отказывались работать в ионизированной атмосфере, оптические приборы слепли в плотных облаках. Корабль мог разбиться о скрытые туманом горы, мог упасть в бушующий океан, завязнуть в топком болоте, в зыбучих песках. Прометей не знал, что скрывалось за непроницаемой атмосферой Зевса. Одно только сказали приборы: масса планеты велика, тяжесть на ее поверхности вчетверо превышает земную.
Медленно входил корабль в атмосферу неизвестной планеты.
Содрогались от напряжения дюзы корабля, боровшиеся с притяжением планеты. Плотнее становилась атмосфера. Яростно пронизывали ее сиреневые острия молний. Рвались навстречу кораблю вихри нагретого воздуха. Видел Прометей, что экраны дальних локаторов покрылись яркими пятнами: это на поверхности Зевса извергали огонь многочисленные вулканы. Сплошные разряды молний наэлектризовали атмосферу, и чем ниже спускался корабль, тем туманнее становилось изображение на экранах локаторов. Только на мгновение прояснился один из экранов дальнего локатора, и Прометей увидел, что на север от экватора, у подножия вулкана, растут светящиеся цветы. И хотя экран тотчас же закрыли мерцающие вспышки, Прометей уже чувствовал, догадывался, знал: там растут Огненные Цветы!
А воздушные вихри с нарастающей силой сжимали титановые борта корабля. Гневалась планета на дерзость пришельца, и бушевал ураган в ее необъятной атмосфере. Корабль шел над черными пропастями, над жерлами вулканов. Сквозь скрученные, истерзанные ураганом тучи пробивались зловещие отблески огня.
Прометей нарушил Вторую Заповедь Звездных Капитанов. Он развернул корабль на север, в сторону от экватора, туда, где рос Огненный Цветок. Знал Прометей, что энергии реактора теперь не хватит на взлет. Знал, что корабль не сможет покинуть грозную планету. Но Прометей, как говорят, еще в детстве поклялся достать людям Огненный Цветок. Мог ли он отступить? К тому же он был поэтом.
Корабль опустился у подножия крутого скалистого вулкана. Со скалы двумя красно-желтыми реками стекала лава. А между раскаленными потоками на отвесном черном от пепла утесе горел Огненный Цветок…
Сейчас их много на Земле, этих Огненных Цветов. Мы привыкли к ним, и все-таки нас вновь и вновь поражает их сила и красота. Да, надписи, прочитанные когда-то Звездными Капитанами, сказали правду: Огненный Цветок удесятеряет силы человека, просветляет разум, дает долгую жизнь. Разве не потому влюбленный юноша вместо объяснения дарит девушке Огненный Цветок? Разве не потому лучшие свои праздники мы украшаем Огненными Цветами? В них светится огонь, давший когда-то человеку великую силу. Огонь любви… Огонь разума… Огонь жизни… Разве не это воплотилось в Огненном Цветке?
Прометей был поэтом, и он первым из людей взял в руки Огненный Цветок. Попробуйте же представить себе, что он тогда почувствовал?
Да, красив Огненный Цветок! Узкие его лепестки переливаются мягким светом, краски смешиваются, меняются: то становятся ослепительно яркими, то бледнеют, приобретая прозрачность, воздушность, какую-то непередаваемую тонкость…
Прав был старый, мудрый капитан «Экватора»: Огненный Цветок вырос в раскаленной атмосфере и вобрал в себя ее силу и краски.
Говорят, что Прометей, сорвав Огненный Цветок, от волнения впервые не мог сложить стихи. Он лишь изменил несколько слов в сказанном до него:
Ты можешь, Зевс, громадой тяжких туч Накрыть весь мир. Ты можешь, как мальчишка, Сбивающий репьи, Крушить дубы и скалы, Но ни земли моей Ты не разрушишь, Ни корабля, который не тобой построен, Ни этого цветка, Чей животворный пламень Тебе внушает зависть.Жадные языки раскаленной лавы лизали утес, подбираясь к титановым бортам корабля. Но Прометей уже положил руку на рычаг управления. Заглушая грозовые раскаты, взревели дюзы. Корабль устремился вверх, в изрезанное молниями небо. И потускнели молнии рядом с ослепительным пламенем, извергнутым мощными дюзами. Огненный Цветок был похищен у Зевса!
Однако тяжелая расплата ждала Прометея. Корабль не смог вырваться в Звездный Мир. Быстро иссякла энергия реактора, невидимые цепи притяжения сковали корабль, привязали его к планете, превратив в ее спутник.
Так Зевс отомстил Прометею.
Рассказывают, что тысячелетия назад люди придумали миф, похожий на историю Прометея — поэта и Звездного Капитана. Рассказывают также, что в этом мифе титан, похитивший у богов огонь и отдавший его людям, был за это много веков прикован к скале. Утверждают даже, что похитителя звали Прометеем. Жалкая выдумка! Разве люди оставили бы того, кто принес им огонь?! Они ополчились бы на богов. Кто может быть сильнее людей?!
Нет, скорее всего и не было такого мифа. Ибо совершенно иначе завершился подвиг Прометея — поэта и Звездного Капитана.
Люди Земли не оставили человека, похитившего для них Огненный Цветок. Антенны земных станций приняли сигнал бедствия, посланный Прометеем. И тотчас же всем кораблям во всех частях Звездного Мира земные станции послали приказ: «На помощь!» С той минуты, как радиоволны, несущие приказ, касались антенны корабля, капитан — где бы он ни находился — должен был прежде всего думать о спасении Прометея. Таков был смысл приказа.
Вслед за этим земные станции обратились ко всем людям во всех уголках Земли. И в этот час каждый человек, живущий на Земле, сделал для спасения Прометея то, что он мог сделать. Разум всех людей, их знания, опыт, воля, энергия слились в единое целое. Так возник план прорыва к звезде Феридан.
Эскадра из шести мощных кораблей ушла в Звездный Мир. На борту кораблей были самые смелые капитаны, самые опытные штурманы, самые искусные инженеры. Капитаны других кораблей, ранее покинувших Землю, спешили навстречу эскадре, чтобы отдать ей энергию своих реакторов. Пополняя запасы энергии, эскадра могла идти на скорости, которой еще никто не достигал.
Как сказано, в эскадре было шесть кораблей. Два корабля получили повреждения от метеоритов и вернулись на Землю. Эскадра же, набирая скорость, шла вперед. Два других корабля не смогли преодолеть магнитное поле у звезды Ван-Маанена и совершили посадку на планеты в системе этой звезды. Эскадра же, набирая скорость, шла вперед. Еще один корабль не выдержал огромной скорости полета и отстал. Но последний из посланных кораблей — на нем был поднят флаг эскадры — пробился к звезде Феридан.
С трудом погасив скорость, он подошел к планете Зевс и передал огромную мощь своего реактора кораблю Прометея. Разорвав цепи притяжения, оба корабля устремились в Звездный Мир. А навстречу им уже мчались другие корабли, несущие неизрасходованную энергию.
Так был освобожден Прометей.
Уходя к Земле, он сказал мстительной планете Зевс:
Вот я — гляди! Я создаю людей, Леплю их По своему подобью, Чтобы они, как я, умели Страдать, и плакать, И радоваться, наслаждаясь жизнью, И презирать ничтожество твое, Подобно мне!Он был поэтом, он похитил у Зевса для людей Огненный Цветок и потому имел право так говорить.
Сверхновая Аретина
«Первый год периода Чи-хо, в пятую Луну, в день Чи-чу появилась звезда — гостья к юго-востоку от звезды Тиен-Куан…
Она была видна днем, лучи света исходили из нее во все стороны и цвет ее был красновато-белый. Так была она видна двадцать три дня».
Китайская летопись.Много веков назад к звезде Аретина улетел корабль, который назывался «Изумруд». В те времена люди только прокладывали пути в Звездный Мир, и каждый корабль шел навстречу неведомым опасностям. «Изумруд» достиг звезды Аретина. Но при посадке на планету — единственную в системе этой звезды — произошла катастрофа. Снижаясь, корабль задел ледяной пик. От страшного удара погиб штурман «Изумруда», был тяжело ранен астроном экспедиции и лишь капитан корабля остался невредим.
Это была мрачная планета, от полюса до полюса покрытая ледяным саваном. В черном небе тускло светил маленький желтый диск звезды Аретина, и холодные лучи скользили по гигантским глыбам льда. Под одной из таких глыб капитан «Изумруда» похоронил погибшего товарища. И, зарыв ледяную могилу, он дал планете имя Ор, что означает «Разрушающая».
«Изумруд» был готов к отлету. Но капитан знал: лететь нельзя, ибо раненый не перенесет стартового ускорения. Так остался «Изумруд» на планете Ор. Время шло, и раненый поправлялся. Настал день, когда он смог подойти к своим приборам. Но едва взглянув в спектроскоп, он закрыл глаза и долго молчал. Потом сказал: «В звезде Аретина почти нет водорода. Она обречена. Придет мгновение — и это будет скоро — она вспыхнет, расширится в тысячи раз, изольется огнем. Такова судьба звезд, называемых Сверхновыми. Сила человека велика, но не беспредельна. Никто не сможет предотвратить взрыв Сверхновой. „Изумруд“ должен улететь. Оставь меня здесь». Покачал головой капитан, услышав эти слова: «Нет, мы улетим вместе или вместе останемся на планете Ор».
Так нарушил он Девятую Заповедь Звездных Капитанов, гласящую: «В Звездном Мире нет ничего страшнее взрыва Сверхновой. Словно миллиарды слившихся солнц, горит Сверхновая. И рвутся раскаленные струи материи, сжигая все на своем пути. Бойтесь Сверхновой, уводите корабли. Иначе — гибель».
С крыла «Изумруда» капитан смотрел на звезду Аретина. Она медленно плыла в темном небе планеты Ор, и холодные лучи света дрожали на острых вершинах ледяных пиков. И видел капитан: по желтому диску звезды, предвещая взрыв, пробегают багровые тени.
В те времена люди почти ничего не знали о Сверхновых, ибо вспыхивают такие звезды крайне редко. Говорят, уже тогда люди мечтали овладеть тайной тайн Звездного Мира. Но кто мог предугадать — когда и где вспыхнет Сверхновая?..
Капитан «Изумруда» не отходил от приборов. Светился на экранах желтый диск звезды Аретина. Приборы открывали то, что не было известно еще ни одному человеку. И с антенн корабля срывались незримые сигналы: «Люди Земли, люди Земли, нам осталось немного времени, но приоткрыта завеса над тайной тайн Звездного Мира…»
Когда по земному времени наступала ночь, капитан шел к раненому. Он был молод — капитан «Изумруда». Он смеялся, как будто ничего не произошло, и рассказывал предания древней реки Янцзы. Там он родился, и там — тысячелетие назад — люди впервые увидели в небе Сверхновую.
Слушая капитана, астроном вспоминал свою родину — суровый северный край. И лучше бальзама были эти воспоминания, ибо мысли о родине удесятеряют силы человека.
А утром капитан возвращался к приборам. Он не знал усталости. Он был молод — капитан «Изумруда».
Шло время. Над ледяными пиками планеты Ор плыла Аретина. Маленький диск ее уже не был желтым. Он горел зловещим красно-белым огнем, потому что звезда раскалялась. И антенны корабля торопливо бросали в эфир: «Люди Земли, люди Земли, мы узнали тайну Сверхновых… В огненных недрах звезды электроны соединяются с протонами, рождая нейтронный шквал. Исчезает электростатическое поле, и бешено рвутся нейтроны к центру светила. Так говорят приборы… Люди Земли, люди Земли, под страшным натиском нейтронов звезда Аретина вспыхнет и взорвется. Наступает последний день планеты Ор…»
И он пришел — последний день планеты Ор.
На черном небе ослепительно горела звезда Аретина. Ее красно-белый диск пульсировал, сжимаясь и расширяясь, и начали рваться в пространство горящие факелы — как огненные руки тянулись они к планете Ор.
Впервые рассеялся мрак над планетой. На экранах дальних локаторов видел капитан, как свет сошел с вершин ледяных пиков и залил планету от полюса до полюса. Бессчетные кристаллы льда отразили и преломили сверкающие лучи. Планета Ор сияла, как гигантский бриллиант на черном бархате неба.
И тогда взорвалась звезда Аретина.
Огненный диск ее начал стремительно расти — быстрее, быстрее, быстрее… Обрушились раскаленные лучи на планету Ор. И мгновенно погасла сверкающая планета. В безмолвии падали ледяные пики, и содрогалась планета под их ударами. Таял лед, кипела вода, рвался в небо пар.
В хаосе льда, воды и пара «Изумруд» поднимался над гибнущей планетой. На экране было видно: диск Аретины растет — быстрее, быстрее, быстрее… Огненная стена — слепящая, жгучая — шла к планете, и, казалось, корабль падает в безбрежный океан огня.
Крепкая рука капитана сжимала штурвал, и смело смотрел он на залитый огнем экран. Он был храбр — капитан «Изумруда». Ибо в те времена Звездными Капитанами становились лишь храбрые из храбрых. А на Земле уже тогда жили свободные, гордые, смелые люди. И не было среди них трусов.
Без страха вел капитан свой корабль сквозь кипящую атмосферу планеты Ор. На зачерненных экранах сплетались багровые вихри, жадно рвались — вперед и вперед — гигантские всплески огня. Огненная стена Аретины — теперь уже Сверхновой Аретины — приближалась. Неуклонно, неотвратимо — и быстрее, быстрее, быстрее…
Бушевал раскаленный океан, словно торжествуя победу. Но капитан держал штурвал, и руки его не дрожали. Он был храбр — капитан «Изумруда».
Корабль набирал скорость. Билась в реакторе плазма дейтерия и глухо ревели двигатели. «Изумруд» летел туда, где в черном небе спокойно светили звезды. Но сзади — все ближе и ближе — наползал огненный вал. И не было в Звездном Мире силы, которая могла бы преградить ему дорогу.
Огонь от края до края заполнил экраны, и, казалось, уже пылает корабль. Только на экране дальнего локатора дрожал черный диск планеты Ор. И было видно: неумолимый огненный шквал приблизился к обреченной планете. Приблизился — и поглотил ее.
Черный диск мгновенно стал багровым, потом — алым, потом вспыхнул синим пламенем. Металась в огне планета Ор, как капля влаги на раскаленном металле. Диск ее вытянулся, превратился в овал и растекся огненными струями.
Планета Ор погибла за шесть секунд.
Тогда, побледнев, астроном сказал капитану: «Мы не улетим. Ты должен был оставить меня там и давно уйти в Звездный Мир».
Рассмеялся капитан. И ответил: «Мы улетим — и улетим вместе. Так будет».
Он вел «Изумруд» в Звездный Мир, а сзади надвигался огненный океан, и жаркое его дыхание опаляло корабль. Сверхновая Аретина яростно вздымала горящие валы — все ближе и ближе к «Изумруду».
Стонали от напряжения двигатели — и не могли они ускорить бег корабля. Впереди был Звездный Мир, но уже настигали «Изумруд» огненные волны.
Содрогнулся корабль под их ударами. Тревожно, наперебой заговорили приборы: все несло гибель — температура, излучение, бешеный натиск огня.
И капитан оставил штурвал.
«Это конец, — сказал астроном. — Сила человека велика, но не беспредельна». Покачал головой капитан: «Кто знает предел силы человека?» Рука его легла на красный рычаг магнитной защиты реактора. Помедлила, впервые в жизни дрогнула — и потянула рычаг.
Так нарушил он Первую Заповедь Звездных Капитанов, гласящую: «Не снимайте в полете магнитную защиту, ибо хотя реакция и ускорится, но станет неуправляемой. И ничто не сможет ее остановить».
Магнитные вихри Сверхновой Аретины ворвались в реактор, и уже не плазма, а стремительные мезоны потекли из раскаленных дюз корабля. Было видно на нестерпимо ярких экранах, как замерла огненная стена. Замерла, а потом начала медленно отдаляться.
Путь в Звездный Мир был открыт.
Но погасли светлые диски приборов, и рука капитана не сжимала штурвал. «Изумруд» уже не подчинялся человеку.
Тогда вновь заговорили антенны. Суров и печален был их голос: «Люди Земли, люди Земли, „Изумруд“ уходит в безбрежные пространства Звездного Мира. Быстрее и быстрее гонят корабль вышедшие из повиновения двигатели. Нам не вернуться на Землю… Люди Земли, люди Земли, узнайте же тайну Сверхновых…»
Долго еще говорили антенны. Но слабее и слабее становился их голос. И, наконец, замер.
А скорость «Изумруда» нарастала, приближалась к скорости света, и опаленный огнем корабль уходил в бездонные просторы Звездного Мира.
На Земле прошли столетия.
Из года в год, из века в век мощные антенны внеземных станций бросали в Звездный Мир позывные «Изумруда». Но тщетно звала Земля своих сынов. Голоса антенн терялись в безграничных глубинах Звездного Мира. И не было им ответа. Однако антенны вновь и вновь повторяли свои призывы. Ибо люди знали: те, кто совершили подвиг, живы.
На Земле, как сказано, прошли столетия. Но «Изумруд» летел со скоростью, почти равной скорости света. А строгие формулы утверждают: когда корабль идет с такой скоростью, время на нем замирает.
Люди Земли прожили много веков, и поколения сменились поколениями. А на «Изумруде» прошло лишь несколько лет: может быть, — пять, может быть, — восемь.
Так говорят формулы древнего учения, названного когда-то теорией относительности.
Но и без этих формул люди знают: наступит день, и «Изумруд» вернется на Землю. Ибо мудрость поколений гласит:
«Совершившие подвиг не старятся и не умирают».
Икар и Дедал
«Будь мне послушен, Икар! Коль ниже свой путь ты направишь,
Крылья вода отягчит;
Коль выше, — огонь обожжет их».
Овидий. Метаморфозы.Это было давно. Время стерло в памяти поколений подлинные имена тех, кто летел к Солнцу. По именам кораблей люди стали называть их — Икар и Дедал. Говорят еще, что корабли назывались иначе, а имена Икара и Дедала взяты из древнего мифа. Вряд ли это так. Ибо не Дедал, а тот, кого теперь называют Икаром, первый сказал людям: «Пролетим сквозь Солнце!»
Это было давно. Люди еще робко покидали Землю. Но уже познали они опьяняющую красоту Звездного Мира, и буйный, неудержимый дух открытий вел их к звездам. И если погибал один корабль, в Звездный Мир уходили два других. Они возвращались через много лет — опаленные жаром далеких солнц, пронизанные холодом бесконечного пространства. И снова уходили в Звездный Мир. Тот, кого теперь называют Икаром, был рожден на корабле. Он прожил долгую жизнь, но редко видел Землю. Он летал к Проциону и Лакайлю, он первым достиг звезды Ван-Маанена. В планетной системе звезды Лейтена он сражался с орохо — самыми страшными из известных тогда существ.
Природа много дала Икару, и он щедро, как Солнце, тратил ее дары. Он был безрассудно смел, но счастье никогда ему не изменяло. Он старился, но не становился старым. И он не знал усталости, страха, отчаяния.
Почти всю жизнь с ним летала его подруга. Говорят, она погибла при высадке на планету в системе Эридана. А он продолжал открывать новые миры и называл их ее именем.
Да, среди тех, кто летал к Звездам, не было человека, равного по отваге Икару. И все-таки люди удивились, когда он сказал: «Пролетим сквозь Солнце!» Даже друзья его — а у него было много друзей — молчали. Разве можно пролететь сквозь раскаленное Солнце? Разве не испепелит безумца огненное светило? Но Икар говорил: «Посмотрите на газосветные трубки, которыми освещаем мы свои жилища. Температура в них — сотни тысяч градусов. Но я беру рукой газосветную трубку и не боюсь обжечься. Ибо вещество внутри трубки находится не в виде газа, жидкости или твердого тела, а в четвертом состоянии в виде плазмы, в состоянии крайнего разрежения». Ему возражали: «Разве не известно тебе, что внутри Солнца не плазма, а вещество в двенадцать раз более плотное, чем свинец?»
Так говорили многие. Но Икар смеялся: «Это не помешает нам полететь к Солнцу. Мы сделаем оболочку корабля из нейтрита. Даже в центре Солнца плотность будет ничтожно мала по сравнению с плотностью нейтрита. И подобно стеклу газосветной трубки нейтрит останется холодным».
Люди не сразу поверили Икару. И тогда ему помог тот, кого теперь называют Дедалом. Он был молод, очень молод. Но люди ценили его знания. Он никогда не летал в Звездный Мир, и только наука открывала ему тайны материи. Холодный, спокойный, рассудительный, он не был похож на Икара. Но если людей не убедили горячие речи Икара, то сухие и точные формулы Дедала сказали всем: «Лететь можно».
В те времена люди уже многое знали о пятом состоянии вещества. Сначала оно было открыто в звездах, названных «белыми карликами». При небольшой величине эти звезды имеют огромную плотность, ибо почти целиком — кроме газовой оболочки — состоят из плотно прижатых друг к другу нейтронов. После первых полетов к спутнику Сириуса, ближайшему к Земле «белому карлику», люди научились получать нейтрит — вещество, состоящее из одних только нейтронов. Плотность нейтрита в сто двадцать тысяч раз превосходила плотность стали и в миллион раз — плотность воды.
Корабли, на которых Икар и Дедал должны были лететь к Солнцу, собирались на внеземной станции. Здесь не ощущалось притяжение Земли, и люди легко могли поднимать листы нейтрита. По расчетам Дедала, достаточно было двухсантиметрового защитного слоя. Но даже при такой небольшой толщине нейтритовая оболочка каждого корабля весила миллионы тонн, ибо, как сказано, нейтрит был пятым — сверхплотным — состоянием вещества.
Что же касается самих кораблей, то, говорят, это были лучшие из всех, когда-либо отправлявшихся в Звездный Мир. Их могучие двигатели не боялись огненных вихрей Солнца, а огромная скорость позволяла стремительно пролететь сквозь раскаленное светило. И еще говорят, что именно тогда придумал Дедал гравилокацию. Внутри Солнца, в хаосе электронного газа, радио бессильно. Но тяжесть остается тяжестью. Локатор улавливал волны тяготения, и корабли могли видеть.
И вот настал день отлета. С Земли пришло последнее напутствие: «Не сближайте корабли, потому что сила тяжести повлечет их друг к другу. Но и не отходите далеко друг от друга, потому что неосторожного подхватит огненный вихрь и отнесет в центр Солнца».
Рассмеялся Икар, услышав эти слова. Спокойно выслушал их Дедал. И оба ответили «Будет сделано». Нетерпеливо положил руку на рычаг управления Икар. Внимательно оглядел приборы Дедал. А с Земли передали: «Счастливого пути и великих открытий!» Этими словами уже в те времена Земля прощалась со своими кораблями, уходящими в Звездный Мир.
Так начался полет.
Яростно извергали двигатели белое пламя, и содрогались корабли, набирая скорость. И казалось с Земли — две кометы устремились к Солнцу.
Впервые летел Икар без спутников, потому что никого не разрешили ему взять в свой корабль. Но Икар смеялся над опасностью и, глядя на серебристый экран локатора, пел песню старых капитанов Звездного Мира:
Это мы, своим владея светом, Мы, кто стяг до Солнца донесли, Мы должны нести другим планетам Благовестье маленькой Земли!А Дедал не замечал одиночества. Он впервые покинул Землю, но красота Звездного Мира его не волновала. И мысли Дедала — сухие и точные как формулы — были заняты тайнами материи.
Иногда расчеты Дедала говорили: «Впереди опасность. Внимание!» Но Икар — он летел первым — знал это и без расчетов. Ибо среди тех, кто водил корабли в Звездный Мир, не было капитана опытнее Икара.
Так летели они к сверкающему Солнцу, и люди Земли с трепетом следили за их полетом. С каждым часом корабли убыстряли свой бег, потому что могучее притяжение Солнца уже простерло навстречу кораблям свои невидимые объятия.
По земному времени истекали пятые сутки полета, когда корабли скрылись в ослепительных лучах Солнца. Последние — уже искаженные — волны радио принесли на Землю обрывок песни старых капитанов и сухой отчет Дедала. «Вошли в хромосферу. Координаты…»
Солнце встретило корабли огненными факелами протуберанцев. Словно негодуя на дерзость людей, разъяренное светило выбросило гигантские языки пламени, в сравнении с которыми корабли были как песчинки против горы. В безмолвном гневе рвалось пламя и жадно лизало нейтрит. Но пламя имело ничтожную плотность, и нейтритовая броня оставалась холодной.
Страшнее огненных языков пламени была тяжесть. Незримая, всепроникающая, огромная, она придавила Икара и Дедала. Было так, словно свинец разлился по телу, и каждый вдох требовал отчаянных усилий, и каждый выдох казался последним. Но сильная рука Икара крепко сжимала рычаг управления. А бесстрастные глаза Дедала пристально смотрели на светлые диски приборов.
Тяжесть нарастала. Солнце хотело раздавить непрошенных гостей. Лихорадочно, из последних сил, бились сердца Икара и Дедала, захлебываясь тяжелой, как ртуть, кровью. Мутная пелена застилала глаза.
Тогда улыбнулся Икар (смеяться он уже не мог) и выключил двигатель, предоставив кораблю свободно падать к центру Солнца. И тяжесть мгновенно исчезла.
На экране локатора — уже не серебристом, а кроваво-красном — увидел Дедал маневр Икара. И теряя сознание, успел его повторить. Но едва только исчезла тяжесть, сознание вернулось к Дедалу, и по-прежнему бесстрастно взглянул он на приборы.
С каждой секундой увеличивалась скорость падения. Сквозь огненный вихрь неслись корабли к центру Солнца. Огонь, огонь, бесконечный огонь летел навстречу. Клубились огненные облака, бушевал огненный ветер и повсюду — сверху и снизу — был огонь.
Трижды погас серебристый экран перед Икаром. Это говорил Дедал: «Пора возвращаться». Но Икар рассмеялся и ответил: «Рано».
Снова летели корабли сквозь огонь. И в бесстрастных глазах Дедала отражались светлые диски приборов. Не было тяжести, но приборы говорили о новой опасности. Быстро ломая расчеты и предположения, повышалось давление. Плотнее и плотнее становился огненный вихрь. От тяжелых волн огня содрогались корабли. А волны налетали все яростнее и яростнее. И уже не волны, а огненные валы обрушивались на тонкую броню нейтрита.
Вновь погас серебристый экран, предупреждая: «Пора! возвращаться!» Но Икар ответил: «Рано».
И он оказался прав. Плотная стена огня сама погасила скорость. Наступил момент — корабли почти замерли среди бушевавших огненных вихрей. Давление преградило путь вперед, тяжесть не позволяла уйти назад.
Не отрываясь, смотрел Дедал на светлые диски приборов, ибо они говорили о сокровенных тайнах материи. И Икар пел песню старых капитанов и вспоминал тех, кто шел с ним по дорогам Звездного Мира.
Но Солнце не признало поражения и готовило последний — самый страшный — удар. Где-то в недрах Солнца возник колоссальный вихрь. Он был подобен смерчу, но смерчу в миллионы раз увеличенному, и ярости его не было предела. Как щепки, подхватил он корабли, закружил их, а потом отбросил корабль Дедала.
И увидел Дедал на серебристом экране, как огненный смерч уносит Икара в глубь Солнца. Молчали двигатели корабля, и не отзывался Икар на призывы.
Понял Дедал: это гибель, и ничто не спасет Икара. Сухие и точные формулы оценили великую силу огненного смерча и сказали Дедалу: «Ты бессилен. Уходи!»
И тогда в глазах Дедала впервые вспыхнуло пламя. Это было всего лишь мгновение, но подобно взрыву оно преобразило Дедала. Ибо в это мгновение он почувствовал, что выше формул есть Жизнь, а выше Жизни — гордое звание Человека.
И рванув рычаг управления, он бросил свой корабль в пылающий смерч.
Ударило пламя двигателей, и огонь, послушный человеку, столкнулся с необузданным огнем Солнца. Обвились вокруг корабля тесные кольца смерча, но Дедал шел вперед, нагоняя корабль Икара.
А смерч бушевал и все сильнее сжимал свои кольца. Дрожала от напряжения нейтритовая броня, и стрелки приборов далеко ушли за красную черту. Но Дедал не видел опасности. Глаза его, горящие огнем, ярче огня Солнца, не отрывались от локатора. И было видно на серебристом экране как приближался корабль Икара.
Еще буйствовал огненный смерч, но притяжение уже подхватило корабли и мягко повлекло их друг к другу. Толчок был едва ощутим, и Дедал увидел на экране: корабли соединились. Теперь даже злобная сила смерча не могла их разлучить. На мгновение погас серебристый экран, и Дедал понял — Икар жив.
Протяжно, надсадно выл двигатель, преодолевая двойную тяжесть. Гремел огненный смерч, сплетаясь кольцами вокруг кораблей. Как обезумевшие, плясали стрелки приборов. И начала раскаляться нейтритовая броня. Но Дедал вел корабли, и сердце его, впервые познавшее счастье, ликовало.
Разорвав тесные кольца смерча, корабли уходили. Все быстрее и быстрее становился их бег. Но вместе со скоростью возвращалась тяжесть. И снова наливалось тело свинцом и снова захлебывалось сердце тяжелой, как ртуть, кровью. Шли корабли сквозь вихрь. Еще бушевало пламя, но уже близок был край Солнца. И светлые диски приборов звали: «Вперед!». Бешено взвыл двигатель, бросив корабли в последний прыжок. Но тяжесть выхватила из рук Дедала рычаг управления. И не было сил поднять руку, не было сил дотянуться до светлых дисков приборов.
Замерли корабли, повиснув над пылающей бездной. И сердце Дедала сковал страх. Но чья-то воля вновь приказала кораблям: «Вперед!»
Тогда, забыв о страхе, понял Дедал: это сильная рука Икара легла на рычаг управления.
…Настал день, и люди Земли увидели, как, тесно прижавшись, корабли уходят от Солнца. Перебивая друг друга, заговорили антенны: «С добрыми ли вестями возвращаетесь вы на Землю?» Этими словами уже в те времена люди встречали корабли, приходящие из Звездного Мира.
С волнением ждала Земля ответа. И он пришел. Два голоса пели песню старых капитанов Звездного Мира:
Это мы, своим владея светом, Мы, кто стяг сквозь Солнце пронесли, Мы должны нести другим планетам Благовестье маленькой Земли!Примечания
1
22 января 1758 года, в период Семилетней войны, русские войска вступили в Кенигсберг.
(обратно)2
Трог — долина, выглаженная ледником, с очень крутыми склонами.
(обратно)3
Опак-иллюминатор — специальный прибор в микроскопе для наблюдения минералов в отраженном свете.
(обратно)
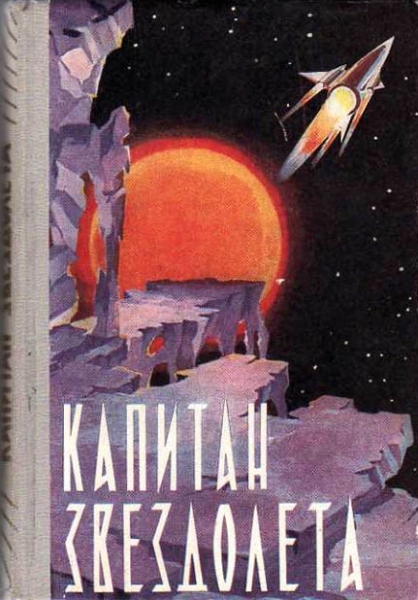


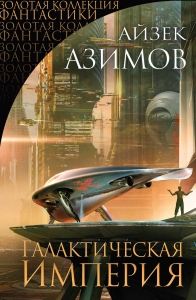

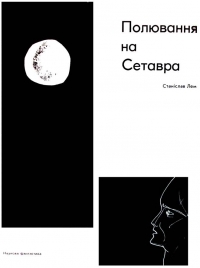


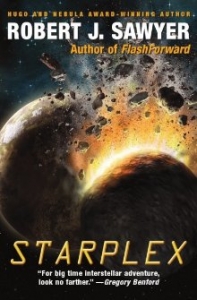
Комментарии к книге «Капитан звездолета», Валентина Николаевна Журавлева
Всего 0 комментариев