Миры Пола Андерсона. Том 19 ДОЛГАЯ НОЧЬ. НОВАЯ АМЕРИКА
От издательства
Девятнадцатый том собрания сочинений Пола Андерсона составили два сборника рассказов — «Долгая Ночь» и «Рустам».
Первый из них завершает цикл произведений о Технической цивилизации, в который входят и многотомные циклы о Торговотехнической Лиге и Терранской Империи. Писатель переносит нас во времена, когда Империя миллионов звезд давно рухнула под собственным весом, хотя и сумела увлечь за собой своего давнего противника, Мерсейский Ройдхунат. На галактических просторах царит анархия и хаос, и только окраинные миры, менее других пострадавшие от катастрофы, постепенно налаживают связи между планетами.
Но связи эти хрупки, а первые контакты после долгого отчуждения подчас становятся очень болезненными. Чужие, враждебные миры меняют саму природу человека — подчас безобидно, а подчас страшно. Миры вынужденного людоедства, как в удостоенном премии «Хьюго» «Возмездии Эвелит», или периодического безумия, как в «Ночном Лике», — еще не самые страшные из тех, которые может измыслить воображение. И только упорная уверенность автора в конечной победе человеческого духа скрашивает эти мрачные картины, напоминая, что вслед за Долгой Ночью все же наступит рассвет.
А второй цикл рассказов с Технической цивилизацией впрямую не связан, хотя по своему идейному содержанию отчасти сходен с рассказами о Николасе Ван Рийне. Публиковавшиеся в оригинале двумя сборниками — «Орбита неограничена» и «Новая Америка» — рассказы повествуют о колонизации планеты Рустам в системе эпсилона Эридана эмигрантами-диссидентами, изгнанными тоталитарным всеземным правительством. Трудно не усмотреть здесь аналогии с заселением Америки — бежавшие от тирании свободолюбивые колонисты осваивают негостеприимную землю. Несомненно, в этих рассказах Андерсон хотел описать утопию, соответствующую его политическим взглядам.
Писатель является убежденным либертарианцем. Но утопии не получилось. Слишком ясно автор демонстрирует проблемы «свободного» общества — не только созданные суровой природой Рустама, в плотной атмосфере которого большинство людей способно дышать лишь на небольшом высокогорном плато Новой Америки, но и обусловленные природой самой свободы. Борцы с тиранией очень легко становятся тиранами — и вот уже раздаются голоса, призывающие не пускать на планету новых колонистов, чужаков, инородцев, дармоедов…
Но и здесь автор находит выход. Этика смыкается со здравым смыслом. В конечном итоге бессердечие губительно. Можно запретить иммиграцию, закрыть границы и отгородиться железным занавесом — но это означает застой, отсутствие новых идей, загнивание, гибель. Свобода не может быть «для избранных». И немного символично, что убеждает в этом рустамцев Дэниел Коффин, первый человек, поселившийся в Низинах.
Долгая Ночь
Рухнула Терранская Империя. Одинокие миры, разбросанные по бескрайним просторам известного космоса, каждый по-своему выкарабкиваются из варварства. На Галактику опустилась долгая, долгая ночь…
Новая Америка
От тоталитарного всеземного правительства бегут в поисках свободы колонисты. Но далекая планета Рустам оказывается на свой лад не менее жестокой. Лишь немногим открыты все ее просторы, остальные же обречены вечно ютиться на высокогорном плато Новой Америки.
ДОЛГАЯ НОЧЬ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Первоначально данная книга была небольшой повестью и называлась «Год и один день». Когда я переработал и дополнил ее для отдельного издания, тогдашний редактор навязал мне нелепое заглавие «Пусть астронавты будут бдительны!» Приношу благодарность Джиму Бэну, моему нынешнему редактору, за то, что счел читателей не такими примитивными существами, какими они ранее считались. Со своей стороны не могу не признать, что он, по всей вероятности, правильно решил, что прежнее название чересчур тяжеловесно; отсюда появление нового названия.
В остальном содержание повести осталось неизменным. Ее сюжет вполне самостоятелен, и для его понимания не требуются ссылки на какие-либо созданные мною ранее произведения, однако читателю будет, возможно, интересно узнать, что предлагаемая книга входит в цикл «История будущего» наряду с книгами о Торгово-технической Лиге и Терранской Империи. Николас Ван Рийн, Дэвид Фолкейн, Кристофер Холм, Доминик Флэндри и некоторые другие персонажи для ее героев — люди из далекого прошлого. Империя уже распалась, и на крохотный участок Галактики, ранее исследованный и заселенный людьми, опустилась Долгая Ночь. Подобно бриттам римского происхождения после ухода последнего легиона, живущие на задворках цивилизации люди не имеют никакого представления о том, что происходит в ее бывшем центре. У них есть физическая возможность отправиться туда и разузнать все самим, но им не до того: они заняты борьбой за выживание. Кроме того, они, сами того не осознавая, закладывают основы нового общества.
Я лично не убежден, что история должна обязательно повторяться с такой точностью, но и не берусь отрицать подобную возможность. Об этом не известно никому. Учитывая уровень наших знаний, нельзя также поручиться за точность сделанных мною в ходе повествования предположений относительно генетических и психобиологических процессов эволюции человека. Перед вами просто вымышленная история, которая, надеюсь, вам понравится.
НОЧНОЙ ЛИК
1
«Кетцаль» покинул орбиту и развернулся в сторону планеты лишь после того, как получил «добро» от разведывательного бота, посланного вперед, чтобы подготовить посадку корабля. Тем не менее, как и полагалось в таком малоизученном районе, звездолет снижался медленно и осторожно. Мигель Тольтека рассчитывал, что в его распоряжении будет два свободных часа для того, чтобы полюбоваться открывающейся внизу панорамой планеты.
Не будучи в полном смысле этого слова сибаритом, Тольтека тем не менее любил расслабиться со вкусом. Прежде всего он зажег на двери каюты табличку «Не входить», чтобы какой-нибудь приятель не заскочил скоротать время. Затем он поставил на магнитофон вторую симфонию Кастеллани ре минор с низкочастотными эффектами, приготовил себе коктейль из рома с конхорой, трансформировал койку в шезлонг и уселся, положив свободную руку на верньеры наружной камеры. Черноту экрана заполнили зимние, немигающие звезды. Тольтека повертел ручку по часовой стрелке, и в поле зрения объектива появился Гвидион — крохотный голубой диск на черном фоне; такой ослепительной голубизны он не видел никогда в жизни.
В дверь позвонили.
— Эй, — раздраженно бросил Тольтека в переговорное устройство, — вы что там, читать не умеете?
— Виноват, — ответил голос Ворона, — мне казалось, вы начальник экспедиции.
Тольтека выругался, трансформировал шезлонг в кресло и шагнул к двери. Ощутив на мгновение небольшую перегрузку, он понял, что «Кетцаль» неожиданно стал набирать скорость. Это, несомненно, чтобы уклониться от метеоритного потока, отметил почти машинально его натренированный мозг инженера. Здесь, в этой сравнительно недавно образовавшейся планетной системе метеориты должны встречаться чаще, нежели в районе Нуэвамерики… впрочем, псевдогравитационное поле держит на совесть. Звездолет — прибор точный.
Тольтека открыл дверь.
— Слушаю вас, военачальник. — Он произнес наследственный титул Ворона небрежной скороговоркой, что звучало почти оскорбительно. — Какое у вас неотложное дело?
На мгновение Ворон задержался на пороге, внимательно оглядывая собеседника. Тольтека был еще молод, среднего роста, плечи широкие, литые, лицо худощавое, с резкими чертами, взгляд обращен прямо перед собой. Темно-каштановые волосы начальника экспедиции были, по обычаю его народа, гладко зачесаны назад и заплетены в короткую косицу. Как бы ни кичились Объединенные Республики Нуэвамерики своей недавно обретенной демократией, в Тольтеке чувствовалась порода — он происходил из древнего рода инженеров. На нем была форменная одежда астрографической компании «Арго», представлявшая собой по существу упрощенный, но хорошо смотревшийся вариант повседневного национального костюма нуэвамериканцев: синий китель, серые панталоны до колен, белые чулки и никаких знаков различия.
Ворон переступил порог и закрыл за собой дверь.
— Случайно, — сказал он, как всегда, невозмутимо, резкие нотки исчезли, — один из моих солдат услышал, как кое-кто из ваших кидает жребий, кому из них сойти на планету первым после вас и капитана корабля.
— Ну и что тут страшного? — саркастически спросил Тольтека. — Вы что, считаете, мы должны установить какую-то строгую очередность?
— Нет. Но меня… э-э… несколько удивило, что никто не вспомнил про мой отряд.
Тольтека удивленно поднял брови:
— Вы хотели бы, чтобы ваши люди тоже приняли участие в жеребьевке?
— Если верить тому, что сообщил мне мой солдат, до сих пор отсутствует сценарий высадки на планету и программа дальнейших действий.
— Что ж, — ответил Тольтека, — из элементарных соображений вежливости мы с капитаном Утиэлем — а также, если пожелаете, и вы — сойдем с трапа первыми и обменяемся приветствиями со встречающими. Как нам сообщили, на Гвидионе создан целый комитет, чтобы оказать нам достойный прием. И в конце концов, военачальник, не все ли равно, кто ступит на планету первым?
Ворон снова замер. Такова была неизменная привычка лохланских аристократов. В критические моменты они не напрягались. Они вообще редко принимали суровый и непреклонный вид: наоборот, их мышцы, казалось, расслаблялись, а глаза подергивались дымкой и смотрели поверх головы собеседника, будто что-то прикидывая. Порой Тольтеке казалось, что одна эта привычка сделала нуэвамериканскую революцию неизбежной: настолько чуждыми казались ему лохланцы.
Наконец — тридцать секунд спустя, но казалось, прошло гораздо больше времени, — Ворон произнес:
— Теперь я вижу, в чем причина возникшего недоразумения, господин инженер. За полвека независимости ваш народ успел создать ряд самобытных учреждений, но при этом позабыл некоторые наши обычаи. Во всяком случае, жители Лохланна не привыкли считать космические исследования, а также ведение переговоров чисто частным, даже коммерческим делом. Мы невольно сделали друг о друге неверные умозаключения. А то, что во время полета наши люди держались друг от друга в стороне, лишь укрепило нас в наших ошибках. Приношу вам извинения.
К этому нечего было добавить, но у Тольтеки невольно вырвалось:
— К чему вам извиняться? В происшедшем есть, без сомнения, доля и моей вины.
Ворон улыбнулся:
— Но я — военачальник этноса Дубовой Рощи.
Ставший внезапно вкрадчивым, чуть ли не мурлыкающим голос Ворона послужил сигналом, и из рукава его просторной епанчи высунулась голова в бурой маске, из которой выглядывали сверкающие холодным блеском голубые глаза. Это был Зио — огромный, сильный сиамский кот, наделенный поистине взрывным темпераментом. «Мняу-мрр», — требовательно проговорил он. Ворон почесал Зио под подбородком, тот откинул голову назад и запустил свой моторчик.
Тольтека хотел было огрызнуться, но передумал. Этот парень, как видно, страдает комплексом превосходства — ну и пусть его. Он зажег сигарету и сделал несколько коротких сильных затяжек.
— Ладно, — сказал он. — В чем заключается проблема?
— Следует исправить возникшее у ваших людей заблуждение. Первым сойдет мой отряд.
— Что? Если вы решили…
— В боевом порядке. Экипаж корабля должен быть готов к экстренному взлету в случае, если дело примет скверный оборот. Только после того как я дам сигнал, вы с капитаном Утиэлем можете выйти и произнести ваши речи. Но не ранее.
Тольтека онемел; прошло немало времени, а он все стоял, глупо тараща глаза.
Ворон бесстрастно ждал. Он был крепко сложен, как все лохланцы, уже много поколений живущие на планете с притяжением на четверть больше земного. Хотя соплеменники считали его высоким, для нуэвамериканцев он был не более чем среднего роста. Ширококостный и мускулистый, он двигался подобно своему коту, легкой скользящей походкой — Тольтеке и его людям всегда казалось, что он куда-то крадется и подслушивает. Голова Ворона была удлиненной формы, широкое, как и у всех его солдат, лицо не гармонировало с выдающимися скулами, крючковатым носом и желтовато-бледной кожей, гладкой, как у юноши, так как в ходе мутаций лохланцы лишились растительности на лице. Его костюм нельзя было назвать совсем безвкусным, но воспитанным в республиканском аскетизме нуэвамериканцам он казался варварским — блуза со стоячим воротником, синие мешковатые штаны, заправленные в мягкие полусапожки, а также епанча, расшитая узором из переплетенных змей и цветов и заколотая у шеи серебряной брошью с драконом. Даже на борту звездолета Ворон не расставался с кинжалом и пистолетом.
— Милосердный создатель, — прошептал наконец Тольтека. — Вы что, думаете, это очередная ваша вонючая захватническая экспедиция?
— Обычные меры предосторожности, — ответил Ворон.
— Но ведь первую экспедицию на эту планету встретили, как… как… а наш разведывательный бот? Его пилота так закормили, что он едва взобрался в кабину!
Ворон пожал плечами, отчего Зио бросил на него возмущенный взгляд.
— Со времени первой экспедиции прошел почти стандартный год, и у них было время обдумать полученные сведения. Между нами и нашими планетами лежит огромное пространство, а во временном исчислении оно и того больше. Прошло тысяча двести лет с тех пор, как после распада Содружества эта планета оказалась в изоляции. За время, проведенное ими в полном одиночестве, сумела возникнуть и пасть целая империя. Генетической и культурной эволюции требуется иной раз меньший срок, чтобы дать неожиданные результаты.
Тольтека с силой затянулся и резко заметил:
— Судя по полученным данным, эти люди ближе нуэвамериканцам, чем вы.
— Неужели?
— У них нет вооруженных сил и даже полиции — в обычном смысле этого слова; они это называют — в буквальном переводе — «распорядителями общественных служб». Нет… впрочем, нам придется еще выяснить, есть ли у них правительство, а если да, то каковы его полномочия. Первой экспедиции было не до того — объем исследований был чересчур велик. Но в одном можно не сомневаться: в любом случае власть правительства ограничена.
— Но хорошо ли это?
— По моим понятиям — да. Вы читали нашу конституцию?
— Читал. Для вашей планеты документик ничего. — Ворон нахмурился и, помолчав, продолжил: — Будь этот Гвидион хоть в чем-то похож на другие известные мне затерявшиеся колонии, не было бы и повода для беспокойства. Один лишь здравый смысл, понимание того, что за любое вероломство отомстит превосходящая их мощь, стоящая за нами, удержал бы их от необдуманных поступков. Но разве вам не понятно: когда, насколько нам известно, они не знают ни междоусобной борьбы, ни даже преступлений… и все же это далеко не простодушные дети природы… мне трудно представить, что лежит в основе здравого смысла таких людей.
— Зато мне все понятно, — ответил Тольтека, — и если ваши головорезы первыми спустятся по трапу и наставят ружья на людей с цветами в руках, мне легко вообразить, что они подумают о нас с точки зрения своего здравого смысла.
Хотя рот Ворона был узким, как щель, его улыбка оказалась, как ни странно, на редкость обаятельной.
— Неужели вы думаете, я настолько бестактен? Мы представим это как почетный караул.
— Который будет выглядеть по меньшей мере нелепо… на Гвидионе не носят мундиров… в лучшем случае прозрачные одежды… потому что они не идиоты. Ваше предложение отклоняется.
— Но уверяю вас…
— Я сказал «нет», и кончено. Ваши люди сойдут с корабля безоружными и по одному.
Ворон вздохнул:
— Поскольку мы уже давно рекомендуем друг другу литературу для чтения, не могу ли я, господин инженер, посоветовать вам ознакомиться с уставом нашей экспедиции?
— На что это вы намекаете?
— «Кетцаль», — терпеливо стал разъяснять Ворон, — направлен на Гвидион для выяснения некоторых вопросов и, если обстановка покажется благоприятной, для проведения переговоров с местными жителями. Вынужден признать, что за это отвечаете вы. Однако по очевидным соображениям безопасности, пока мы в космосе, последнее слово остается за капитаном Утиэлем. Но вы, по-видимому, забыли, что после посадки аналогичной властью наделен я.
— Ого! Если вы решили сорвать…
— Ни в коем случае. Как и капитан Утиэль, я должен буду в случае ваших жалоб ответить за свои поступки по возвращении. Однако ни один лохланский офицер не возложил бы на себя моей ответственности, не будучи облечен соответствующей властью.
Тольтека раздраженно кивнул. Теперь он вспомнил о том, что до сих пор не представлялось ему важным. В ходе экспедиций компании люди на дорогостоящих звездолетах забирались все дальше в глубь этого сектора Галактики, в такие места, куда вряд ли ступала нога человека даже в эпоху расцвета Империи. Никто не мог предугадать, что их там ждет, и разместить на каждом корабле вооруженную охрану было неплохой идеей. Но затем какие-то старые бабы в панталонах из Политического Совета решили, что обыкновенные нуэвамериканцы для этого не годятся. Стражу следует набирать из прирожденных воинов. В те дни торжества мира все больше лохланских отрядов оказывалось не у дел и нанималось на службу к иностранцам. Как на кораблях, так и в лагерях они держались отчужденно, и до сих пор все шло нормально. Но на «Кетцале»…
— Помимо всего прочего, — заявил Ворон, — мне приходится заботиться о своих солдатах, которых ждут дома семьи.
— Но не о будущем межзвездных отношений?
— Не думаю, что эти отношения стоят того, чтобы о них заботиться, если им так легко навредить. Мой приказ остается в силе. Прошу соответственно проинструктировать ваших подчиненных.
И Ворон согнулся в поклоне. Из своего гнездышка у него в рукаве выскользнул Зио, вонзил когти в епанчу и вспрыгнул на плечо хозяину. Тольтека мог поклясться, что кот ухмылялся. Дверь за ними закрылась.
Некоторое время Тольтека не мог сдвинуться с места. Между тем яростное крещендо напомнило ему о том, что он хотел со вкусом понаблюдать за посадкой. Тольтека оглянулся и посмотрел на экран. Благодаря изогнутой траектории корабля в поле зрения камеры попало солнце планеты — Инис. Компенсаторы притушили его ослепительное сияние, и величественная корона переливалась, как перламутр, а щупальца зодиакальных лучей тянулись к звездам. А какие, должно быть, великолепные у этой звезды протуберанцы! — ведь она принадлежит к классу Р и обладает массой почти в два Сола, а мощностью свечения превосходит его почти в четырнадцать раз. Но на расстоянии в 3,7 астрономических единицы был виден только диск фотосферы, занимавший всего лишь десять минут угломера. Короче, самая обыкновенная и ничем не выдающаяся звезда. Тольтека покрутил верньеры и снова отыскал Гвидион.
Планета явно прибавила в размерах, хотя и теперь казалась ему всего лишь выщербленным бирюзовым кружком. Скоро уже можно будет разглядеть полярное сияние и облачные массы. Континентов, как известно, там нет. Еще первая экспедиция сообщила: хотя Гвидион до поражающих воображение деталей походит на Старую Землю, он примерно на десять процентов меньше и плотнее — что вполне понятно — это молодая планета, сформировавшаяся в эпоху, когда во Вселенной было больше тяжелых атомов, а посему площадь ее суши значительно меньше и вся она состоит из множества островов и архипелагов. Благодаря обширным и неглубоким океанам климат на всей планете, от полюса до полюса, мягкий. Наконец из-за края ее диска, как крохотный стремительный светлячок, показалась луна; диаметр — 1600 километров, а радиус орбиты — 96 300 километров.
Тольтека разглядывал фон, на котором это происходило, с боязливым чувством. На таком близком расстоянии даже Млечный Путь, это громадное облако пыли и газа, выглядел всего лишь областью, где звезд было меньше, чем кругом, и они светили бледнее. Даже ближайшая звезда — ро Змееносца — казалась какой-то смазанной. Что касается Сола, то плотная, непроницаемая для его лучей завеса скрывала этот малозначительный желтый карлик, до которого было двести парсеков, и от глаз, и от телескопов. «Интересно, что там происходит? — подумал Тольтека. — Давненько мы ничего не слышали со Старой Земли».
Он вспомнил приказ Ворона и выругался.
2
Пастбище, на которое «Кетцалю» было предложено опустить свое гигантское цилиндрическое тело, находилось примерно в пяти километрах от города Звездара.
Подойдя к трапу, Тольтека остановился и окинул сверху взглядом расстилавшуюся вокруг на многие мили холмистую долину. Живые изгороди очерчивали луга, где среди сочной травы пестрели яркие цветы, бурые поля, на которых еще только пробивались первые нежные ростки злаков, фруктовые сады, перелески и разбросанные там и сям хозяйственные постройки, казавшиеся на таком расстоянии просто игрушечными. За деревьями, очень похожими на тополя, искрилась на солнце гладь реки Камлот. На обоих ее берегах раскинулся Звездар; красные черепичные крыши поднимались над внутренними двориками, сплошь засаженными цветами.
Большинство здешних дорог были мощеными, но узкими и извилистыми. Тольтека был уверен: порой дорога делала крюк лишь для того, чтобы обогнуть вековое дерево или сохранить в первозданном виде живописный склон холма. К востоку неровности рельефа исчезали, и ровный пологий склон спускался к дамбе, которая загораживала вид на море. К западу лесистые холмы становились выше и круче и закрывали горизонт. За ними высились горные пики, некоторые, судя по виду, вулканического происхождения. Над снежными шапками висело солнце. Его непривычно маленький размер скрадывался тем, что на него было невозможно смотреть — так ослепительно оно светило, суммарная освещенность достигала величины, почти равной одному стандартному Солу. На юго-западе клубились кучевые облака, и прохладный ветерок гнал рябь по лужам, оставшимся, видимо, после недавнего ливня.
Тольтека откинулся на сиденье открытого автомобиля.
— У вас красивее, чем в самых живописных уголках моей планеты, — сказал он Дауиду, — и все же Нуэвамерику считают очень похожей на Землю.
— Спасибо за похвалу, — ответил гвидионец. — Хотя это и не наша заслуга, просто природные условия этой планеты, ее биохимические свойства и экология как нельзя лучше подходят для проживания здесь человека. Насколько я понимаю, в большей части изученной вселенной Бог обращен к нам другим ликом.
— Хм…
Тольтека заколебался. Местный язык в том виде, в каком его записала первая экспедиция, заученный членами второй перед вылетом, давался ему нелегко. Подобно лохланскому, он происходил от англика, между тем как нуэвамериканцы всегда говорили по-эспаньольски. Правильно ли он понял всю эту тираду о Божьем лике? Почему-то ему показалось, что это нечто большее, нежели просто религиозное выражение. Впрочем, поскольку его культура носит сугубо светский характер, ему не трудно ошибиться в трактовке богословских терминов.
— Да, — сказал он наконец, — с точки зрения статистики различия так называемых террестроидных планет между собой не так уж велики, но для рядового человека эта разница порой огромна. К примеру, мы не могли заселить один из континентов нашей планеты, пока не истребили один из видов распространенных там растений. Большую часть года эти растения были безвредны, но весной они выделяли пыльцу, содержащую вещество, которое вызывает у людей отравление, похожее на ботулизм.
Дауид бросил на него удивленный взгляд. Он был явно обеспокоен, и Тольтека стал лихорадочно припоминать, где он оговорился. Возможно, он неправильно употребил какое-нибудь здешнее слово? Болезнь все-таки следовало бы назвать по-эспаньольски.
— Истребили? — пробормотал между тем Дауид. — Вы хотите сказать — уничтожили? Полностью? — Взяв себя в руки, он снова принял невозмутимый вид с легкостью, свидетельствовавшей о долгой тренировке, и сказал: — Ладно, не будем начинать с дискуссии о терминологических тонкостях. Это, несомненно, был один из Ночных Ликов. — Он снял руку с рулевой рукоятки и начертал в воздухе какой-то знак.
Тольтеку это слегка озадачило. Первая экспедиция в своих отчетах особо отмечала, что, хотя у гвидионцев существует множество символических церемоний и обрядов, они не суеверны. Правда, первая экспедиция высадилась на другом острове, но повсюду, где им удалось побывать, культура оказывалась неизменно идентичной.
(И им так и не удалось выяснить, почему заселен только район между 25-м и 70-м градусами северной широты, хотя многие другие места казались не менее благоприятными для проживания. Не выяснили они и многое другое.) Когда разведывательный бот возвратился, командиры «Кетцаля» посоветовались и решили, что Звездар будет наилучшим местом для посадки просто потому, что это один из крупнейших городов планеты и в его колледже имеется прекрасная библиотека справочной литературы.
Приветственная церемония также не представляла собой ничего сверхъестественного. Встречать гостей, правда, вышло все население Звездара: мужчины, женщины и дети с гирляндами, лирами и свирелями. Было немало приезжих из других мест; однако толпа оказалась не такой многочисленной, как это бывало в подобных ситуациях на других планетах. После официальных речей в честь новоприбывших была поставлена музыкальная пантомима. Все ее участники были в масках и прозрачных костюмах, но смысл представления так и остался для Тольтеки непонятным, хотя оно и произвело на него сильное впечатление. На этом официальная церемония закончилась, и люди с «Кетцаля» смешались с местными жителями. Пришельцам был оказан сердечный прием — правда, никто никого не обнимал, не хлопал по спине, не тряс рук, как это делают в подобных случаях нуэвамериканцы; не было здесь и сдержанного, но продуманного до мельчайших подробностей этикета Лохланна. Просто местные жители смешались с астронавтами, завязывался дружеский разговор, гвидионцы приглашали пожить в своих домах и жадно расспрашивали о том, что творится во Вселенной. Наконец большинство местных жителей вернулись в город пешком, но всех пришельцев повезли туда в маленьких изящных электромобилях.
У корабля осталась только символическая охрана — несколько пилотов и более многочисленный отряд лохланцев. Осторожность Ворона никого не обидела, хотя Тольтека все еще не мог прийти в себя.
— Не желаете ли вы найти приют в моем жилище? — спросил Дауид.
Тольтека наклонил голову:
— Почту за честь, сэр… — Он замолк. — Прошу прощения, я не знаю вашего титула.
— Я принадлежу к роду Симнона.
— Нет, это я знаю. Я имею в виду ваше… не вашу фамилию, а род занятий.
— Я врач и принадлежу к тому направлению, которое лечит не только лекарствами, но и песнями. (Тольтека спросил себя, насколько правильно он понял собеседника.) Кроме того, на мне лежит руководство обходчиками дамб, а еще я наставляю молодежь в колледже.
— Да-а? — разочарованно протянул Тольтека. — А я думал… значит, вы не состоите в правительстве?
— Ну почему же? Я же сказал, что надзираю за дамбами. Что еще вы имеете в виду? В Звездаре нет ежегодного короля или… нет, не может быть, чтобы вы имели в виду подобное. Очевидно, в нашем языке значение слова «правительство» разошлось с вашим. Будьте любезны, позвольте мне поразмыслить, — Дауид нахмурился.
Тольтека следил за ним, пытаясь прочесть по выражению лица то, что не удалось объяснить словами. Одной из главных особенностей гвидионцев было их поразительное сходство между собой — так бывает всегда, если колония ведет начало от очень немногочисленной группы людей и впоследствии не знает иммиграции извне. В отчетах первой экспедиции упоминалось о легенде, согласно которой родоначальниками всех гвидионцев были один мужчина и две женщины, одна светловолосая, а другая темноволосая — все, кто остался в живых после того, как первых колонистов уничтожил атомной атакой один из космических флотов, которые во время Смуты занимались межпланетным разбоем. Однако следует признать, что письменных свидетельств о столь отдаленных временах не сохранилось, и ничто не могло ни подтвердить, ни опровергнуть этот миф.
Как бы то ни было, генофонд местного населения, безусловно, ограничен. И все же это, вопреки общеизвестной закономерности, привело не к вырождению, а к процветанию. Первоначально гвидионцы при вступлении в брак следовали тщательно разработанной программе, чтобы избежать родственных скрещиваний. В настоящее время брак стал добровольным, однако люди с явными наследственными дефектами — в том числе со сниженным интеллектом и эмоциональной неустойчивостью — подвергаются стерилизации. Если верить первой экспедиции, они идут на эту процедуру с радостью, так как окружающие впоследствии чтут их как героев.
Дауид принадлежал к чистокровной европеоидной расе, что само по себе доказывало древность его происхождения. Он был высок ростом и, хотя уже не молод, все еще строен и гибок. Его светлые волосы, отпущенные до плеч, были тронуты сединой, однако серые глаза не нуждались в контактных линзах, а загорелая кожа сохранила упругость. Лицо у него было чисто выбритое, с высоким лбом и сильным подбородком, нос — прямой, чувственный рот. Одежда гвидионца состояла из зеленой туники до колен, белого плаща и кожаных сандалий. Голову его украшала золототканая повязка, на груди висел медальон, с одной стороны золотой, с другой — черный. Хотя на лбу у Дауида была татуировка в виде трилистника, он от этого все же не казался дикарем.
Его язык ненамного отличался от англика; лохланцы в свое время овладели им без труда. Несомненно, здесь, как и в других местах, печатные книги и звукозаписи не дали языку сильно измениться. Однако, если в устах гвидионцев он походил на ворчанье, лай и даже хрюканье, подумал Тольтека, гвидионцы произносят его звуки мелодично, так что они кажутся похожими на соловьиную трель. Никогда в жизни ему не приходилось слышать такую певучую речь.
— Да, понимаю, — сказал между тем Дауид. — Кажется, я уловил вашу мысль. Да, ко мне часто обращаются за советом, даже при решении вопросов всемирного значения. Это предмет моей гордости и одновременно смирения.
— Отлично. Что ж, господин советник, я…
— Но советник — это не… род занятий. Как я уже говорил, по роду занятий я врач.
— Минуточку, пожалуйста. Значит, вас формально никто не назначал и не избирал в руководители, советники, надзиратели?
— Нет. Да и к чему это? Репутация любого человека, будь она хорошая или дурная, постепенно становится известной повсюду. В конце концов доходит до того, что за его советом и мнением приезжают с другого конца света. Не забывайте, друг издалека, — тонко добавил Дауид, — население нашей планеты насчитывает каких-нибудь десять миллионов, мы располагаем как радио, так и самолетами и много путешествуем, посещая различные острова планеты.
— Но кто же управляет общественными делами?
— Ах вот вы о чем! Некоторые общины назначают ежегодного короля, или выбирают президентов, которые ведут их собрания, или для оперативного управления назначают инженера. Все зависит от местных традиций. Здесь, в Звездаре у нас нет таких обычаев. Разве что каждое зимнее солнцестояние мы коронуем Танцора, чтобы он благословил наступивший год.
— Я не это имею в виду, господин врач. Предположим… ну, к примеру, какой-то проект, например строительство новой дороги, или политическое решение — скажем, налаживать ли регулярные отношения с другими планетами… предположим, эта неопределенная группа мудрецов, о которых вы говорите, группа, объединенная лишь тем, что у всех ее членов хорошая репутация — предположим, они так или иначе решат подобный вопрос. А что будет дальше?
— Дальше их решение обычно воплощается в жизнь. Само собой разумеется, всех людей до единого ставят в известность о принятом решении заблаговременно. Если вопрос, который решается, важен, то он длительное время обсуждается в обществе. Но естественно, люди придают больше веса мнению тех, кто известен своей мудростью, нежели словам тех, кто глуп или невежествен.
— И все соглашаются с принятым решением?
— А почему бы и нет? Вопрос уже разобран по косточкам, и наиболее логичное решение найдено. Да, разумеется, всех убедить или удовлетворить невозможно никогда. Однако, поскольку они люди, то есть разумные существа, и находятся в явном меньшинстве, они подчиняются воле большинства.
— А как… э-э… финансируются подобные мероприятия?
— Это зависит от конкретного случая. Проект сугубо местного значения — например, постройка новой дороги — осуществляется непосредственно силами самой общины, и при этом каждую ночь устраиваются пиршества и увеселения. Для более крупных и специализированных проектов могут потребоваться деньги, сбор которых осуществляется в соответствии с местными обычаями. Например, мы, звездарцы, пускаем Танцора по улицам с мешком, и каждый жертвует ему столько, сколько считает разумным.
Тольтека решил на время прекратить расспросы: он и так продвинулся дальше, чем антропологи первой экспедиции. Впрочем, возможно, он был внутренне готов услышать подобные ответы и сразу же принять их на веру, вместо того чтобы неделями докапываться до тайны, которой на самом деле не существует. Если экономическая структура общества проста (а автоматизация производства упрощает ее до предела, при том, разумеется, условии, что материальные потребности людей остаются скромными), а само общество однородно, его члены в своей массе обладают интеллектом выше среднего и агрессивностью ниже среднего уровня, то почему бы и не возникнуть идеальному анархическому государству?
Кроме того, нужно помнить, что в данном случае анархия не означает аморфности. В целом гвидионская культура являлась одной из наиболее сложных и запутанных, из всех, которые когда-либо создавало человечество в процессе своей эволюции. А это, в свою очередь, тоже странно, поскольку в ходе научно-технического прогресса традиции обычно отмирают, отношения между людьми упрощаются. И все же…
— Какое, по вашему мнению, воздействие окажут контакты с другими планетами на ваш народ? — осторожно спросил Тольтека. — С такими планетами, где многое происходит совершенно по-другому, чем у вас?.
— Не знаю, — задумчиво ответил Дауид. — Для решения этого вопроса нам требуется больше исходных данных и время для их всестороннего обсуждения, а без этого предугадать возможные последствия не стоит и пытаться. Но я тоже иногда задумываюсь, не будет ли для вас более целесообразным постепенное внедрение в новую культуру, а не резкий переход к совершенно иному образу жизни.
— Для нас?!
— Не забывайте, мы прожили здесь долгое время. Мы лучше вас знаем ипостаси гвидионского Бога. Если бы мы, скажем, отважились посетить вашу родину, мы бы вели себя крайне осмотрительно; поэтому я со своей стороны советую вам приобщаться к нашему миру со всей возможной осторожностью.
Тольтека не удержался:
— Странно, что вы так и не попытались построить звездолет. Насколько я могу понять, ваш народ сохранил или воссоздал все основные научные знания предков. Если имеется достаточно многочисленное население и достаточно большой излишек национального продукта, можно соединить термоядерный реактор с гравитационным излучателем и вторичным импульсным генератором, окружить эту двигательную установку оболочкой и…
— Нет!
Это был почти вопль. Тольтека резко повернул голову, чтобы взглянуть на собеседника. Гвидионец был бледен как полотно.
Через секунду его щеки вновь порозовели и рука, конвульсивно сжимавшая рукоятку управления, расслабилась. Однако, когда он отвечал, его глаза продолжали, не мигая, смотреть прямо перед собой.
— Мы не применяем атомной энергии. Солнца, воды, ветра, приливов и биологических топливных элементов, а также электрических аккумуляторов вполне достаточно для создания запаса энергии.
Затем они въехали в город. Дауид вел автомобиль по широким, прямым улицам, не вязавшимся с увитыми плющом домами и остроконечными черепичными крышами, живописными парками и бьющими фонтанами. Во всем городе было лишь одно большое здание — массивное, угловатое строение из монолитного камня, угрюмо вздымавшееся над уютными печными трубами и резко контрастировавшее с ними. Переехав реку по изящно выгнутому мосту, Дауид остановился. Он уже настолько успокоился, что улыбнулся своему гостю:
— Это мое жилище. Не желаете ли вы войти?
Когда они сошли на мостовую, из-под крыши дома выпорхнула крохотная алая птичка, уселась Дауиду на палец и радостно защебетала. Он что-то прошептал ей в ответ, смущенно улыбнулся Тольтеке и повел его к парадному входу в дом. От улицы его заслонял куст высотой в рост человека, на котором зеленели только что раскрывшиеся звездообразные листья. На двери был установлен массивный замок, но, судя по всему, им не пользовались, и дверь была не заперта. Тольтеке снова невольно вспомнилось, что на Гвидионе, по всей видимости, отсутствуют преступления, так как его жители, беседуя с пришельцами, не могли даже взять в толк, что это такое.
Открыв дверь, Дауид развернулся и низко склонился перед гостем:
— О гость мой, а быть может — Бог мой, желанный и любимый всем сердцем, переступи порог дома сего. Во имя радости, здоровья и разума, Инис, Она и звезды свидетели — да будет мой огонь твоим огнем, да будет моя вода твоей водой, да будет мой скот твоим скотом, а мой свет — твоим светом. — Он перекрестился и, протянув руку, начертал пальцем крест на лбу Тольтеки. Этот обряд пришел, по-видимому, из глубокой древности, и тем не менее гвидионец вершил его не для проформы, а истово, со всей серьезностью.
Входя в дом, Тольтека заметил, что дверь только облицована деревом. По существу, это была стальная плита, плотно пригнанная к проему в украшенной лепкой стене, которая оказалась из прочнейшего железобетона двухметровой толщины. Натертый до блеска дощатый пол сверкал под солнечными лучами, льющимися в широкие окна, но каждое окно было снабжено железными ставнями. В отчете первой нуэвамериканской экспедиции отмечалось, что такие дома-крепости строят здесь повсюду, но почему — выяснить не удалось. Из уклончивых ответов аборигенов ученые-антропологи экспедиции сделали вывод, что это традиция, сохранившаяся со времен варварства, которые последовали непосредственно за уничтожением первой колонии водородной бомбой, и что нынешние мягкосердечные гвидионцы не любят вспоминать о той мрачной эпохе.
Впрочем, стоило коленопреклоненному Дауиду зажечь перед нишей в стене свечу, возникшее недоумение вылетело у Тольтеки из головы. В гвидионском святилище находился металлический диск, наполовину золотой и наполовину черный, с волнистой линией посередине — то был древний как Вселенная символ «инь-ян». Однако по бокам диска в нише лежали книги, как обычные, так и микрофильмированные, с заголовками вроде «Применение биоэлектрических потенциалов в диагностике».
Дауид встал.
— Садись, друг дома моего. Моя супруга ушла в Ночь… — Он замолк в нерешительности, но затем продолжил: — Она умерла несколько лет назад, и ныне лишь одна из моих дочерей не замужем. Сегодня она танцевала в поставленной в вашу честь приветственной пантомиме и поэтому будет дома позднее. Когда она придет, мы сможем принять пищу.
Тольтека оглядел предложенный ему хозяином стул. Его конструкция была так же рациональна, как у любого нуэвамериканского шезлонга, но сделан он был из бронзы и обит тисненой кожей. Космонавт провел рукой по орнаменту, в котором повторялся мотив свастики.
— Насколько мне известно, у вас во всяком орнаменте заключена скрытая символика. Мне в высшей степени интересно, потому что в этом отношении моя культура диаметрально противоположна вашей. Не могли бы вы для примера объяснить мне значение этого узора?
— Охотно, — ответил Дауид. — Это Пламенеющее Колесо, то есть солнце — Инис, а также все солнца Вселенной. Знак Колеса, кроме того, обозначает Время или, если вы физик, термодинамическую анизотропность, — добавил он со смешком. — Эти переплетенные лозы — крестоцвет; он цветет в первый сенокос года, и потому мы посвящаем его ипостаси Бога, именуемой Зеленым Мальчиком. Сочетание этих знаков, таким образом, обозначает Время, которое разрушает и воссоздает. Материал, на котором вытиснен узор, — кожа дикого аркаса, воплощение осенней ипостаси, именуемой Охотницей; ее соединение с Мальчиком напоминает нам о Ночных Ликах и одновременно о том, что их оборотной стороной являются Дневные Лики. Каркас из бронзы — сплава, изготовленного рукою человека, — обозначает то, что человек олицетворяет собою смысл и строение Вселенной. Однако, поскольку бронза окисляется и зеленеет, это также указывает, что все сущее рано или поздно исчезает, но при этом дает начало новой жизни… — Он внезапно замолчал и рассмеялся. — К чему вам эта проповедь? — воскликнул он. — Садитесь, и покончим с этим. Не беспокойтесь, можете курить. Нам этот обычай уже известен. Как мы обнаружили, нам нельзя ему следовать — из-за какого-то генетического отклонения никотин стал для нас опасным ядом, но если вы закурите, мне это нисколько не повредит. На нашей планете хорошо растет кофе — не угодно ли чашечку, или, может быть, предпочтете нашего пива или вина? Теперь, когда мы на некоторое время остались одни, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов — примерно десяток… эдак в пятидесятой степени!
3
Почти весь день Ворон бродил по улицам Звездара, приглядываясь к местным жителям, а время от времени и завязывая с ними разговор, чтобы кое-что разузнать о них и их жизни. Но ближе к вечеру он вышел за черту города и двинулся по дороге, петлявшей вдоль реки в направлении отгороженного дамбами моря. Позади, держа дистанцию в два шага, за ним следовали двое его солдат в боевых кольчугах и островерхих шлемах, с винтовками через плечо. За их спинами яростно пылало золотом закатное небо, а на его фоне чернели силуэты западных холмов. Воздух был пронизан лучами заходящего солнца, они проникали в каждую травинку, а река сверкала и переливалась, как расплавленный металл. Между тем впереди, на востоке, небо уже окрасилось в царственный пурпур, и на нем замерцали первые звезды.
Ворон шел не спеша. Он не боялся, что его застигнет темнота, поскольку знал, что период вращения этой планеты составляет восемьдесят три часа. Невдалеке у берега была построена пристань, и Коре решил задержаться и рассмотреть ее получше. Деревянные сараи на берегу были выстроены так же прочно, как и жилые дома, и так же красивы на вид. Пришвартованные к пристани рыбачьи лодки были очень изящны и богато разукрашены от острого носа до такой же острой кормы; они чуть заметно покачивались на воде, которая с тихим журчанием текла мимо. В воздухе носились терпкие запахи свежевыловленной рыбы, смолы и краски.
— Парусники с косой оснасткой, — заметил Ворон. — У них есть небольшие вспомогательные двигатели, но, похоже, запускают их только при крайней необходимости.
— А так они ходят под парусом? — Коре, высокий и тощий, сплюнул сквозь зубы. — Слушайте, командир, у них что, совсем мозгов нету?
— Так эстетичнее, — ответил Ворон.
— Зато, сэр, мороки-то сколько! — вставил молодой Вильденвей. — Я в анском походе сам с парусами дело имел. Только и следи, как бы эти проклятые веревки не перепутались…
Ворон ухмыльнулся:
— Согласен. Совершенно согласен. Но дело вот в чем; насколько я понял из отчетов первой экспедиции и сегодняшних разговоров с местными жителями, гвидйонцы думают по-другому. — И он стал размышлять вслух, объясняя что-то скорее себе, нежели солдатам: — Они мыслят не так, как мы или те, что прилетели сюда с нами. У них другое отношение к жизни. Средний нуэвамериканец думает лишь о том, как выполнить свою работу — независимо от того, нужна она кому-нибудь или нет, — и после этого как следует развлечься, причем и работает, и развлекается он так, чтобы произвести как больше шума. Для лохланца важно, чтобы и его работа, и его развлечения соответствовали какому-то отвлеченному идеалу; а если это у него не получается, он склонен махнуть на все рукой и превратиться в сущего зверя.
Но здесь таких различий просто не делается. Здесь говорят: «Человек идет туда, где есть Бог», и это, видимо, означает, что труд, игры, спорт, развлечения, искусство, личная жизнь и все остальное не разграничены, а представляют собой единое гармоничное целое. Поэтому здесь рыбачат на парусных судах, у которых форштевни украшены искусно вырезанными головами, а корпуса расписаны узорами, каждый завиток которых имеет десяток скрытых символических толкований. Кроме того, на рыбную ловлю берут музыкантов.
Здешние люди утверждают: когда добывание пищи совмещается с развлечением, эстетическим наслаждением и я уж не знаю, чем там еще, то и то, и другое, и третье, и четвертое получается гораздо лучше, чем когда они разложены по разным полочкам. — Ворон пожал плечами и двинулся дальше. — Кто знает, может, они и правы, — закончил он.
— Не знаю, сэр, чего вы из-за них так тревожитесь, — заметил Коре. — Они, конечно, все чокнутые, но я таких тихих и безвредных психов на своем веку еще не видывал. Бьюсь об заклад, у них нет машины мощнее колесного трактора или экскаватора, а оружия — опаснее лука со стрелами.
— Если верить первой экспедиции, они не охотятся, если не считать тех случаев, когда они в кои-то веки вынуждены добывать пищу или защищать поля, — кивнул Ворон.
Некоторое время он двигался вперед молча. Тишину нарушали только шарканье сапог, плеск реки, шелест листьев над головой и медленно приближающийся грохот морских волн, бьющихся о дамбу. В воздухе витал слабый аромат, исходивший от только что распустившихся пятиконечных листьев на кустах, которые росли здесь повсюду. Затем где-то вдалеке призывно зазвучал бронзовый рог, созывавший домой длиннорогий скот; эхо покатилось вниз по холмам.
— Этого-то я и боюсь, — произнес Ворон и снова погрузился в молчание, которое солдаты больше не решались нарушить.
Раз или два им попадались навстречу гвидионцы, которые степенно приветствовали их, но они шли дальше, не останавливаясь, пока не достигли дамбы. Ворон взобрался по лестнице наверх, солдаты последовали за ним. Стена с расставленными через равные промежутки башнями тянулась на многие километры. Несмотря на высоту и массивность, красивый изгиб и облицовка из дикого камня делали ее приятной для глаза. Для реки в дамбе было сделано отверстие и через галечный пляж прорыто искусственное русло к полукруглой бухте; вода, подсвеченная заходящим солнцем, с ревом набегала и билась о берег. Ворон завернулся в епанчу; здесь, наверху, ничто не защищало от прохладного, влажного, пахнущего солью ветра. Над головой летало множество серых морских птиц.
— Зачем они это построили? — полюбопытствовал Коре.
— Луна близко. Высокие приливы. Наводнения от штормов, — ответил Вильденвей.
— Могли бы поселиться и повыше. Чего-чего, а места, гром и молния, им хватает. Десять миллионов человек на всю планету.
Ворон указал на башни.
— Я интересовался, — сказал он. — Там приливные генераторы. Дают местным жителям большую часть электричества. Заткнитесь.
Не отрываясь, он смотрел на горизонт: с востока надвигалась ночь. Кругом бушевали волны и пронзительно вскрикивали морские птицы. От напряженной работы мысли начало резать глаза. Наконец Ворон сел, вынул из рукава деревянную флейту и рассеянно заиграл, как будто он просто искал, чем бы занять руки. Печальные звуки вторили тоскливым завываниям ветра.
— Стой! — резкий возглас Корса вернул его к действительности.
— Тихо, олух, — сказал Ворон. — На этой планете хозяйка она, а не ты. — И тем не менее, вставая, он будто невзначай положил ладонь на рукоять пистолета.
По бархатистому псевдомху, которым поросла дамба, к ним приближалась легкой походкой девушка. На вид ей было двадцать три-двадцать четыре стандартных года, одежда — белая туника и развевающийся на ветру синий плащ — только подчеркивала стройность фигуры. Ее белокурые волосы были заплетены в тяжелые косы и гладко зачесаны назад, чтобы была видна татуировка на лбу — условное изображение птицы. Брови у нее были темные, а глаза — синие, почти цвета индиго, широко расставленные. Выражение ее сердцевидного лица было строгим, губы сжаты, но вздернутый носик, усыпанный чуть заметными веснушками, смягчал впечатление. За руку она вела мальчика лет четырех, как две капли воды похожего на нее; он на ходу подпрыгивал, но, увидев лохланцев, посерьезнел. Оба шли босиком.
— Приветствую вас у слияния стихий, — сказала девушка. Голос у нее был грудной, с хрипотцой, но слова звучали еще более мелодично, чем у других гвидионцев, с которыми астронавтам приходилось разговаривать.
— Здравствуй, несущая мир. — Ворону было проще перевести ритуальное приветствие своей планеты, чем искать подходящее в местном наречии.
— Я шла танцевать для моря, — объяснила она, — но услышала музыку, и она позвала меня сюда.
— А ты человек, который стреляет? — спросил мальчик.
— Бьерд, замолчи! — От смущения лицо молодой женщины залилось краской.
— Да, — рассмеялся Ворон, — можешь называть меня человеком, который стреляет.
— А куда ты стреляешь? — спросил Бьерд. — В мишени, да? Можно, я стрельну в мишень?
— Как-нибудь в другой раз, — ответил Ворон. — Сейчас у нас нет с собой мишеней.
— Мама, он говорит, я могу стрельнуть в мишень! Пух! Пух! Пух!
Ворон удивленно приподнял бровь.
— Я думал, госпожа, на Гвидионе не знают огнестрельного оружия, — произнес он как можно более небрежным тоном.
— Это все тот корабль, который побывал здесь зимой, — с легкой грустью ответила женщина. — У тех, кто прилетел на нем, тоже были… как это называется… ружья. Они нам объяснили и показали, как эти штуки действуют. С тех пор на планете, вероятно, нет ни одного мальчишки, который бы не мечтал… ладно, по-моему, вреда от этого нет. — Она улыбнулась и взъерошила Бьерду волосы.
— Э… я — высокородный Ворон, военачальник этноса Дубовой Рощи из Ветряных гор на Лохланне.
— А те, другие? — спросила женщина.
Ворон дал знак, и его попутчики приблизились:
— Это мои сопровождающие. Сыновья вассалов моего отца.
Женщину озадачило то, что он не позволил солдатам включиться в беседу, но она решила, что такой у пришельцев обычай.
— Меня зовут Эльфави, — сказала она, делая ударение на первом слоге, и на губах у нее промелькнула улыбка. — Моего сына Бьерда вы уже знаете. Его фамилия Варстан, моя — Симнон.
— Как?.. Ах да, вспомнил. На Гвидионе женщины, выйдя замуж, сохраняют свою фамилию, сыновья получают фамилию отца, а дочери — матери. Правильно? Ваш муж…
Она поглядела на море и негромко ответила:
— Прошлой осенью в шторм он утонул.
Ворон не стал выражать соболезнований: в культуре его народа отношение к смерти было иным. Но он не удержался и задал бестактный вопрос:
— Но вы говорили, что идете танцевать для моря.
— Но ведь и он теперь стал частью моря, разве не так? — Она продолжала рассматривать волны, которые кружились в водовороте и стряхивали пену с гребней. — Какое оно сегодня красивое. — И, снова повернувшись к нему, совершенно спокойно закончила: — У меня только что был длинный разговор с одним из ваших, его зовут Мигель Тольтека. Он гостит в доме моего отца, где живем теперь и мы с Бьердом.
— Я бы не сказал, что это один из наших, — ответил Ворон, скрывая раздражение.
— Неужели? Постойте-ка… да, он действительно что-то говорил о прилетевших с ним людях с другой планеты.
— С Лохланна, — уточнил Ворон. — Наше солнце находится неподалеку от их солнца, примерно в пятидесяти световых годах вон в том направлении. — Он показал на небо, туда, где за вечерней звездой раскинулось созвездие Геркулеса.
— А ваша родина похожа на его Нуэвамерику?
— Едва ли.
И Ворону вдруг захотелось рассказать ей о Лохланне: о круто вздымающихся в кирпично-красное небо горных пиках, о карликовых деревцах, прижатых к земле ни на минуту не утихающими ветрами, о вересковых пустошах, ледяных равнинах и горько-соленых океанах, вода в которых такая плотная, что человеку в них невозможно утонуть. Ему вспомнилась крестьянская хижина с крышей, закрепленной на растяжках, чтобы не сдуло во время бури, и отцовский замок, сурово вздымающийся над ледником, звон подков во внутреннем дворе; но потом ему вспомнились разбойники, сожженные деревья и трупы, валяющиеся вокруг разбитой пушки.
Но ведь она этого не поймет. Или поймет?
— Зачем вам столько стрелялок? — не выдержал вдруг Бьерд. — К вам на поля приходят злые звери?
— Нет, — ответил Ворон. — У нас вообще не так уж много диких зверей. На нашей почве им не прокормиться.
— А я слышала… эта первая экспедиция… — Эльфави снова встревожилась. — Они что-то говорили о людях, которые сражаются против других людей.
— Это моя профессия, — произнес Ворон. Она ответила непонимающим взглядом, и он поправился: — Мое занятие. — Хотя и это было неточно.
— Как, убивать людей?! — воскликнула женщина.
— Злых людей? — спросил, вытаращив глаза, Бьерд.
— Тише, — бросила ему мать. — «Зло» — это когда происходит что-нибудь плохое, например, налетают стаи сырвиров и опустошают поля. Разве люди могут быть плохими?
— Они могут заболеть, — сказал Бьерд.
— Да, и тогда дедушка их лечит.
— Представьте себе, что есть такая болезнь, при которой людям хочется убивать себе подобных, — сказал Ворон.
— Какой ужас! — Эльфави изобразила в воздухе крест. — Какой микроб вызывает эту болезнь?
Ворон вздохнул. Если этой женщине не под силу представить себе даже убийцу-маньяка, то как ей объяснить, что разумные, честные и благородные люди порой находят разумные, честные и благородные основания для того, чтобы устраивать друг на друга охоту?
— Ну, что я тебе говорил? — буркнул Коре Вильденвею за его спиной. — У них не кровь, а сахарный сиропчик!
Если бы это было так просто, подумал Ворон, я мог бы забыть о своем беспокойстве. Но гвидионцы явно не хлюпики. Хлюпики не выходят под парусами на беспалубных лодках в океаны, где приливные волны достигают пятидесяти метров в высоту. Да и эта женщина смогла преодолеть свое заметное невооруженным глазом потрясение и задавать исполненные дружелюбного любопытства вопросы — это все равно как если бы он, Ворон, начал о чем-то расспрашивать внезапно появившуюся перед ним саблезубую куницерысь.
— Так вот почему вы с нуэвамериканцами почти не говорите друг с другом! Кажется, я заметила это еще в городе, но тогда я не знала, кто к какой группе принадлежит.
— Ничего, им на Нуэвамерике тоже пришлось повоевать, — сухо заметил Ворон. — Так было, например, когда они нас изгоняли. Более столетия назад мы вторглись на их планету и разделили ее на лены. Их революции помогло то, что лохланцы одновременно вели войну с Великим Альянсом — но тем не менее надо признать: они держались молодцом.
— Не понимаю зачем… Ладно, неважно. Мы еще успеем побеседовать. Вы собираетесь идти с нами в горы, это правда?
— Да, если… как, и вы тоже?
Эльфави кивнула, и уголки ее рта поползли вверх.
— Не нужно так удивляться, друг издалека. Я оставлю Бьерда у дяди и тетки, хотя, честно говоря, они его страшно балуют. — Она слегка обняла и прижала к себе мальчика. — Но экспедиции нужен танцор, а это мое занятие.
— Танцор? — задохнулся Коре.
— Нет, не главный Танцор. Он всегда мужчина.
— Но… — Ворон расслабился и даже улыбнулся. — Для чего экспедиции, отправляющейся в лесные дебри, требуется танцор?
— Чтобы для нее танцевать, — ответила Эльфави. — Для чего же еще?
— Да… больше не для чего. Вам известно, для чего мы предпринимаем это путешествие?
— А разве вы не слышали? Я узнала об этом из разговора отца с Мигелем.
— Да, естественно, я знаю. Но, может быть, вы что-то не так поняли? Когда встречаются разные культуры, это легко может произойти даже с умными людьми. Почему бы вам не изложить мне все это своими словами, чтобы я в случае необходимости вас поправил? — Предлагая это, Ворон на самом деле имел иную цель: ему хотелось подольше побыть с Эльфави, так как ему было хорошо в ее обществе.
— Спасибо, это вы хорошо придумали, — сказала она. — Так вот: планеты, на которых люди могут жить без специального снаряжения, встречаются во Вселенной редко и находятся на большом расстоянии друг от друга. Нуэвамериканцы, которые исследуют этот сектор Галактики, хотели бы устроить на Гвидионе базу, чтобы заправлять корабли топливом, ремонтировать их при необходимости и давать экипажам передохнуть среди зеленых рощ.
Тут Коре и Вильденвей расхохотались, и она бросила на них непонимающий взгляд. Что касается Ворона, он бы не прервал ее рассказа ни за какие деньги.
Отбросив со лба выбившуюся от ветра светлую прядь, Эльфави продолжала:
— Разумеется, жители нашей планеты должны решить, желают они этого или нет. Но пока это решается, вполне можно заняться поисками места для такой базы, правда? Отец предложил необитаемую долину в нескольких днях пути в глубь острова, за горой Гранис. Путешествовать туда будет куда приятнее пешком, чем по воздуху; по дороге мы вам многое покажем и о многом побеседуем и успеем вернуться до наступления Бэйла. — Тут Эльфави чуть нахмурилась: — Не знаю, мудро ли устраивать иностранную базу возле Святого Города. Но об этом можно будет поговорить потом. — Она звонко рассмеялась: — Господи, что я плету! — и, повинуясь неосознанному порыву, потянула Ворона за рукав и взяла его под руку. — Но вы видели столько планет, вы и представить себе не можете, как мы вас ждали. Как это чудесно! Сколько историй сможете вы нам рассказать, сколько песен спеть! — Она положила свободную руку на плечо Бьерду. — Подождите, пока этот болтушка перестанет вас стесняться, друг издалека. Если бы его вопросами можно было вертеть генератор, он мог бы осветить весь Звездар!
— Ой-й-й-й! — проверещал мальчик, вырываясь.
Мужчина и женщина, а с ними ребенок двинулись без особой цели, не замечая ничего вокруг, по верху дамбы. Двое солдат шли за ними следом. Стволы винтовок у них за плечами темнели на фоне облаков и походили на черные розы. Пальцы Эльфави соскользнули с неловко согнутой руки Ворона — на Лохланне у мужчин и женщин не было обычая ходить под ручку — и нащупали флейту у него в рукаве.
— Что это? — спросила она.
Он вытащил длинную флейту. Инструмент был сделан из дерева дарвы, покрыт резьбой и отполирован, чтобы подчеркнуть зернистую фактуру дерева.
— Флейтист-то я неважный, — сказал он. — Знатный человек обязан владеть каким-нибудь искусством. Но я всего лишь младший сын, всю жизнь брожу в поисках работы для своих штыков, и у меня не было времени всерьез учиться музыке.
— Те звуки, которые я слышала… — Эльфави замолчала, подыскивая слово. — Они мне что-то говорили, — произнесла наконец она, — но на языке, которого я не знаю. Не могли бы вы сыграть мне эту мелодию еще раз?
Ворон поднес флейту к губам, и полились холодные, грустные звуки. Эльфави вздрогнула, запахнула плащ и коснулась чернозолотого медальона на шее.
— Это больше нежели музыка, — сказала она. — Эта песня пришла от Ночных Ликов. Это песня, да?
— Да, и очень древняя. Говорят, ее сложили на Старой Земле за столетия до того, как люди побывали даже на планетах собственной Солнечной системы. На Лохланне мы поем ее до сих пор.
— А вы можете перевести ее мне на гвидионский?
— Возможно. Дайте поразмыслить… — Ворон некоторое время шел молча, мысленно подбирая фразы. Боевой офицер должен уметь владеть словом, а их языки были родственными. Наконец он сыграл несколько тактов, отнял флейту от губ и начал:
Нынче на небе тучи, любовь моя, И ветра шумят в полной силе. Где же радость моя, где любовь моя? Их в холодную землю зарыли. Что ж могу я сделать, любовь моя, Чтоб твою успокоить тень? Стану плакать я над могилой твоей Целый год и еще один день. Целый год и еще один день прошел — из-под камня раздался стон: «Кто рыдает здесь над могилой моей И тревожит мой тихий сон?»[1]Он почувствовал, как Эльфави напряглась, и резко остановился. Дрожащими губами, так тихо, что он едва расслышал, Эльфави произнесла:
— Не надо, пожалуйста.
— Простите, — озадаченно проговорил он, — если я… но что случилось?
— Вы не могли знать. И я тоже. — Она оглянулась, ища Бьерда. Мальчик, уже освоившись, отстал от них и шагал рядом с солдатами. — Он не слышит. Ну, значит, это не имеет значения.
— Вы не можете мне объяснить, что вас испугало? — спросил Ворон, надеясь, что ее объяснение поможет ему разрешить собственные сомнения.
— Нет. — Она покачала головой. — Не знаю, что со мной. Просто эта песня меня пугает. Страшно пугает. Как вы только можете жить, зная ее?
— Мы на Лохланне думаем, что это очень красивая песенка.
— Но мертвые не говорят. Они же мертвы!
— Разумеется. Это просто фантазия. Разве у вас нет мифов?
— Наши мифы не такие. Мертвые уходят в Ночь, и Ночь становится Днем — да она и есть День. Подобно Рагану, который попал в Пламенеющее Колесо, вознесся на небо и снова был сброшен на землю, где его оплакала Мать, все это ипостаси Бога, они обозначают сезон дождей, когда иссохшая земля возвращается к жизни, а еще они обозначают сновидения и пробуждение от них, и утрату-воспоминание-возрождение, и… да разве вы не понимаете, все это едино! А в вашей песне двое разлученных людей обращаются в ничто и даже жаждут превратиться в ничто. Этого не должно быть!
Ворон спрятал флейту, и они молча пошли дальше. Вдруг Эльфави отбежала от него, сделала несколько па какого-то медленного и величественного танца, неожиданно закончившегося длинным прыжком, вернулась с улыбкой на губах и снова взяла его под руку.
— Я забуду про это, — сказала она. — Ваша родина очень далеко. Здесь Гвидион, и когда Бэйл так близко, грустить нельзя.
— А что это за Бэйл?
— Это когда мы идем в Святой Город, — ответила она. — Так бывает каждый год — я хочу сказать, каждый гвидионский год, а он равен примерно пяти годам на Старой Земле. Все обитатели планеты идут в Святой Город своего округа, который его содержит в надлежащем виде. Вам будет скучно ждать нашего возвращения, разве что вы пойдете с нами… Может быть, так и будет! — пылко воскликнула Эльфави, и предвкушение грядущего погасило в ее душе остатки тревоги.
— И что там происходит? — спросил Ворон.
— К нам нисходит Бог.
— Да? — Ворон вспомнил о дионисийских обрядах у многих отсталых народов и как можно тактичнее спросил: — Вы видите Бога или чувствуете Вуи? — Последнее слово было местоимением всеобщего рода, который существовал в гвидионском языке наряду с мужским, женским и средним.
— Нет-нет, — ответила Эльфави. — Бог — это мы.
4
Танец закончился заключительным экзальтированным прыжком: птичья голова запрокинута к небу, радужные крылья трепещут. Аккомпаниаторы опустили свирели и барабаны. Танцовщица поклонилась так низко, что плюмаж у нее на голове коснулся земли, и исчезла в тростниках. Зрители, сидевшие, скрестив ноги, на траве, закрыли глаза и долгую минуту сидели в молчании. Тольтека решил, что такой знак одобрения и благодарности значительно красивее, чем аплодисменты.
Когда он снова огляделся вокруг, люди уже завершили обряд и готовились ко сну. Тольтека никак не мог к этому привыкнуть, и все же нужно было разбивать лагерь, ужинать и ложиться спать, хотя солнце не достигло еще и полуденного пика. Виной тому был, разумеется, длинный день. Гвидион только что миновал весеннее равноденствие. Но даже сейчас, в самом разгаре мягкой и дождливой зимы, в светлое время суток приходилось дважды ложиться спать.
В Звездаре это было не так заметно. С наступлением темноты улицы освещало искусственно генерируемое полярное сияние, и все продолжали заниматься своими делами. Таким образом, чтобы собрать экспедицию, потребовалось не более двух оборотов планеты. На заре они отправились в путь по холмам. Один день неторопливой ходьбы с двумя привалами уже позади; позади и ночь, когда луна светила так ярко, что путникам почти не требовалось фонарей; и вот опять дневка. Завтра — речь идет, разумеется, о «завтра» по-гвидионски — они достигнут той лощины среди холмов, где Дауид предложил устроить космодром.
Натруженные километрами бездорожья мускулы ныли, но спать еще не хотелось. Тольтека встал и оглядел лагерь. Дауид выбрал для него удачное место — поляну посреди леса. Несколько сопровождавших экспедицию гвидионцев, весело переговариваясь, прикрыли костер дерном и расстелили на траве спальные мешки. Один из них, выставленный для охраны лагеря от возможных нападений хищников, был вооружен луком. Когда охотник притащил на ужин убитого стрелой аркаса, Тольтека убедился, что это нешуточное оружие. Тем не менее он так и не смог понять, почему жители этой планеты вежливо, но твердо отказались принять привезенные на «Кетцале» в качестве дара винтовки и пистолеты.
Десяток принимавших участие в экспедиции нуэвамериканских ученых и инженеров поспешно готовились отойти ко сну. Вспомнив их смятение при вести о том, что поход будет проделан на своих двоих, Тольтека невольно фыркнул. Но с Дауидом следует согласиться: это наилучший способ изучить местность. Ворон с двумя солдатами также принимал участие в экспедиции. Лохланцы, казалось, не знали устали; их всегдашняя холодная вежливость ни разу им не изменила, но в пути они все время держались в стороне от остальных.
В заросли тростника вела тропинка, и Тольтека бесцельно побрел по ней. Хотя в этих холмах никто не жил, гвидионцы часто здесь гуляли, и маленькие роботы с питанием от солнечных батарей постоянно расчищали тропинки, не давая им зарасти. Он не смел надеяться на встречу с Эльфави, но желал ее, и, когда из-за усыпанного цветами дерева вышла она, его сердце так и подпрыгнуло.
— Ты не устала? — с трудом выдавил он из себя после того, как они обменялись приветствиями. Язык был как деревянный.
— Не очень, — ответила она. — Решила перед сном немножко прогуляться. Как и ты.
— Что ж, рад составить тебе компанию.
— Компанию? — Она рассмеялась. — Интересная мысль! Я слыхала, у вас на планете очень много коммерческих компаний. Это что, открываем еще одну? Будем наниматься гулять вместо людей, которые предпочли бы посидеть дома?
Тольтека поклонился:
— Если согласишься со мной пройтись, я буду считать, что сделал завидную карьеру.
Зардевшись от смущения, она поспешила ответить:
— Идем сюда. Если я не забыла эти места с тех пор, как побывала здесь в последний раз, тут недалеко есть чудесный вид.
Она успела сменить костюм птицы на обычную легкую тунику. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листья, золотили ее тело — гибкое тело танцовщицы; распущенные волосы волнами ниспадали на спину. Тольтека не мог найти нужных слов, но и непринужденно хранить молчание, как она, был тоже не в состоянии.
— Мы на Нуэвамерике не все делаем за деньги, — сказал он, боясь, что она подумает о нем плохо. — Это у нас просто… ну, скажем, способ организации экономики.
— Я знаю, — ответила Эльфави. — Мне он кажется таким… — обезличенным, сухим, каждый только сам за себя — но, может быть, я просто не привыкла к такому.
— Мы считаем, что государство должно как можно меньше вмешиваться в хозяйственную деятельность, — с жаром начал он объяснять идеалы, которые исповедовали люди Нуэвамерики. — Иначе у него окажется слишком много власти, и тогда прощай свобода. Впрочем, частное препринимательство тоже нужно держать под контролем, и в нем не должна затухать конкуренция, иначе оно также выродится в тиранию. — Ему поневоле пришлось вставить в свою речь несколько слов, которых не было в гвидионском языке, в том числе и последнее. Что означает тирания, он объяснил ей раньше, во время беседы в доме Дауида, когда они пытались понять жизненные взгляды друг друга.
— Но почему общество, или, как вы его называете, государство, обязательно должно противостоять личности? — спросила Эльфави. — Я так и не могу понять, в чем тут загвоздка, Мигель. Мы, гвидионцы, всегда поступаем так, как нам заблагорассудится. Большинство наших предприятий ты бы назвал частными. — «Нет, я бы их так не назвал. У твоих соплеменников очень ограниченные потребности. Мотив приращения капитала, в экономическом смысле этого слова, у гвидионцев полностью отсутствует», — думал он про себя, но воздержался от комментариев и не стал ее перебивать. — Однако их стихийная деятельность на деле служит общему благу, — продолжала она. — Деньги суть не более чем дополнительное удобство. Обладание ими не наделяет человека властью над ему подобными.
— Вы строите всю свою жизнь на разумных началах, — ответил Тольтека. — В этом ваша планета не похожа ни на одну из мне известных. Кроме того, вам не нужно обуздывать насилие. Вы даже почти не знакомы с гневом. А ненависть — этого слова также нет в вашем языке. Ненавидеть кого-то — значит постоянно гневаться на него. — Он увидел на ее лице ужас и поспешил добавить: — А еще мы должны бороться с лентяями, скупцами, бесчестными людьми… знаешь, я уже начинаю сомневаться, стоит ли нам строить эту базу. Может быть, вашей планете лучше не иметь связей с другими. Вы слишком добры; вы можете не вынести таких потрясений.
Она покачала головой:
— Нет, не нужно так думать. Нет нужды доказывать, мы отличаемся от вас. Очевидно, в ходе мутации мы утратили некоторые черты, присущие остальному человечеству. Однако различия между нами не так уж велики, и нельзя сказать, что мы выше вас. Не забывай, это вы прилетели к нам, а не мы к вам. Мы так и не сумели построить звездолеты.
— Не захотели, — поправил он ее.
В памяти Тольтеки всплыли слова Ворона, сказанные еще в Звездаре: «Нормальные люди не могут быть постоянно кроткими и разумными. При таком малочисленном населении они добились потрясающих успехов. Энергии им не занимать. Но куда они девают излишнюю энергию?» Тогда эти слова его разозлили, и он еще подумал: только профессионального убийцу может испугать всеобщее здравомыслие. Теперь он поневоле стал понимать, что с научной точки зрения вопрос Ворона вполне мотивирован.
— Мы отказались не только от этого, но и от многого другого, — сказала Эльфави с ноткой сожаления в голосе.
— По правде говоря, я так и не могу понять, почему вы хотя бы не освоили незаселенные территории Гвидиона.
— Несколько столетий тому назад мы заключили всеобщее соглашение, стабилизировавшее численность населения. Его дальнейший рост привел бы только к уничтожению природы.
Они снова вышли на поляну, простиравшуюся вверх по склону до самого обрыва. Трава была усыпана белыми цветами; как и везде, здесь рос уже знакомый Тольтеке кустарник со звездообразными листьями; воздух наполнял пьянящий аромат его бутонов, готовых распуститься. За грядой холмов лежала глубокая лощина, еще дальше в ясное небо устремлялись вершины могучих гор.
Эльфави обвела рукой вокруг.
— Неужели мы должны все это заселить? — спросила она.
Тольтека вспомнил о своем шумном и непоседливом народе, о сведенных лесах Нуэвамерики — и не ответил.
Девушка минутку постояла, нахмурившись, над обрывом. Порывы западного ветра прижимали ее тунику к телу и трепали белокурые локоны, позолоченные солнцем. Тольтека поймал себя на том, что засмотрелся на нее, и заставил себя повернуться в другую сторону, туда, где на расстоянии нескольких километров серел вулканический конус горы Гранис.
— Нет, — вдруг как-то нехотя проговорила Эльфави, — я не должна ничего приукрашивать. Здесь действительно когда-то жили люди. Это были всего лишь несколько фермеров и лесорубов, но они действительно вели самостоятельное хозяйство. Впрочем, это давно в прошлом. Теперь мы все живем в городах. Не думаю, что мы когда-нибудь вновь заселим эти места, даже если бы это было безопасно. Это было бы дурно. Любая жизнь имеет право на существование, правда? Людям следует ограничивать свой Ночной Лик необходимым.
Тольтека с трудом улавливал смысл слов Эльфави, так зачаровали его звуки ее голоса. Ночной Лик… ах да, это догмат гвидионской религии (если это можно назвать религией; скорее это философия, а еще точнее — образ жизни). Они верят, что все сущее — это грань бесконечного и непреходящего единства, именуемого Богом, а следовательно, смерть, разрушение, печаль — это тоже Бог. Но об этой стороне действительности гвидионцы почти не говорят и, видимо, цочти не думают. Тольтека вспомнил их искусство и литературу: подобно повседневной жизни гвидионцев, они жизнерадостны, полны света и совершенно логичны — для того, конечно, кто постиг их сложную символику. Их герои бестрепетно переносят боль, а смерть любимого оплакивают сдержанно — Ворон считал это достойным восхищения, но Тольтека понимал с трудом.
— Я не верю, что твой народ может нанести вред природе, — сказал он. — Вы сотрудничаете с ней и вживаетесь в нее.
— Таков наш идеал, — усмехнулась Эльфави. — Но боюсь, в среднем на Гвидионе идеалы воплощаются в жизнь не лучше, чем в других местах Вселенной. — Она опустилась на колени и стала рвать мелкие белые цветы. — Я сплету тебе гирлянду из жюля, — сказала она. — Это знак дружбы, ведь жюль цветет, когда начинается сезон роста. Как я красиво и гармонично поступаю, не правда ли? Но если бы ты спросил растение, оно бы, возможно, с этим не согласилось.
— Спасибо, — выдавил из себя ошеломленный Тольтека.
— Птица-Девушка носила венок из жюля, — сказала Эльфави. Тольтека уже знал, что у гвидионцев цитирование мифа используется для завязывания всех бесед, как у лохланцев — с вопроса: «Как здоровье твоего отца?» — Поэтому я сегодня и танцевала в костюме птицы. Сейчас ее время года, а сегодня день Речного Мальчика. Когда Птица-Девушка впервые увидела Речного Мальчика, он потерялся и плакал. Она отнесла его домой и вручила ему свой венец. — Эльфави оторвалась от работы и подняла на Тольтеку глаза. — Это миф нынешнего времени года, — объяснила она. — Дожди и наводнения в низинах кончаются, кругом солнце и цветущий жюль. Есть в этом мораль, которую так любят нам читать старцы, есть и еще сотня возможных истолкований. Вся легенда слишком сложна, чтобы рассказывать ее в такой теплый день, хотя эпизод с Деревом Загадок — это одна из лучших наших поэм. Но мне нравится представлять историю в танце.
Эльфави замолкла, лишь ее руки быстро сновали в траве. Не зная, что сказать, Тольтека указал на высокий куст, усыпанный бутонами.
— Как это называется? — спросил он.
— Тот, у которого пятиугольные листья? А, это бэйлов куст. Он растет повсюду. Ты наверняка видел такой же у дома моего отца.
— Да. Он, должно быть, фигурирует во множестве легенд.
Эльфави замерла. Потом взглянула на Тольтеку и отвела глаза.
На мгновение ему показалось, что эти синие, как вечернее небо, глаза ничего не видят.
— Нет, — отрывисто сказала она.
— Как? Но я думал… мне казалось, на Гвидионе у каждой вещи есть символическое значение. Обычно таких значений не одно, а несколько.
— Это всего лишь бэйлов куст, — произнесла Эльфави голосом, лишенным всякого выражения. — И больше ничего.
Тольтека поспешил прекратить расспросы. Должно быть, это табу… хотя нет, гвидионцы свободнее от безосновательных запретов, нежели даже его соплеменники. Но если она принимает это близко к сердцу, лучше не настаивать и сменить тему.
Девушка закончила работу, вскочила на ноги и набросила венок ему на шею.
— Ну вот! — засмеялась она. — Подожди, постой, он зацепился за ухо. Вот теперь хорошо.
Тольтека указал на вторую сплетенную ею гирлянду:
— А эту ты хочешь надеть на себя?
— Нет, что ты! Гирлянда из жюля всегда предназначается для других. Это для Ворона.
— Что?! — Тольтека оцепенел.
Она снова залилась краской, отвернулась и посмотрела в сторону гор:
— В Звездаре мы немного сблизились. Я возила его на машине, показывала город. А еще мы гуляли.
Тольтеке вспомнились те длинные лунные ночи, когда ее не было дома. Сколько их было! Он сказал:
— Мне казалось, Ворон не в твоем вкусе, — и про себя отметил, как резко прозвучал его голос.
— Я его не понимаю, — прошептала она. — Хотя нет, в некотором смысле понимаю. Так же, как я смогла бы понять бурю.
И она пошла назад, к лагерю. Тольтека поневоле двинулся следом. Он с ожесточением произнес:
— Мне казалось, ты менее, чем кто-либо на свете, способна поддаться на такой душевный блеск. Воин! Наследственный аристократ!
— Этого я в нем не понимаю, — сказала она, по-прежнему не решаясь посмотреть ему в лицо. — Убивать людей или заставлять их выполнять твои приказы, как будто это машины… Но на самом деле он не такой. Правда, не такой.
Некоторое время они шли в молчании, которое нарушали только топот ботинок и шорох сандалий. Наконец она пробормотала:
— Он постоянно живет среди Ночных Ликов. При одной только мысли об этом меня охватывает немыслимый ужас, а он — он может это терпеть.
«Ему это нравится», — хотелось проворчать Тольтеке. Но он вспомнил, что уже наговорил о Вороне много плохого за глаза, и сдержался.
5
Вернувшись, они обнаружили, что большая часть экспедиции, надев темные наглазники для защиты от слепящего дневного света, спит. Часовой отсалютовал им, подняв вверх стрелу. Эльфави пошла на край лагеря, где расстелили спальные мешки трое лохланцев. Коре похрапывал, не выпуская из рук винтовку; Вильденвей казался таким юным и беззащитным, что его хвастовству о кровавых битвах, которое Тольтека слышал на корабле, верилось с трудом. Ворон бодрствовал. Сидя на пятках, он хмуро перебирал ворох фотографий.
При виде Эльфави на его лице появилась улыбка; даже Тольтеке показалось, что он искренне рад ей.
— Какая удача! — воскликнул он. — Присаживайся! У меня как раз чай на углях вскипел.
— Нет, спасибо. Мне нравится эта штука, которую ты называешь чаем, но он не даст мне заснуть. — Опустив глаза, Эльфави стояла перед Вороном в нерешительности, в опущенной вниз руке покачивался венок. — Я только…
— Никогда не становись между человеком из этноса Дубовой Рощи и его чашкой чая, — сказал Ворон. — Приветствую вас, господин инженер.
Эльфави так и вспыхнула.
— Я только хотела тебя на минутку увидеть, — пробормотала она.
— А я тебя. Кто-то говорил, что этот район когда-то был населен, а недалеко отсюда на гребне холма я заметил следы жилья. Поэтому я прогулялся туда с фотоаппаратом. — Ворон выпрямился и разложил веером свои самопроявляющиеся пленки. — Когда-то там был хутор, несколько домов и хозяйственные постройки. От них мало что уцелело.
— Да. Они давно заброшены. — Эльфави подняла венок и снова опустила.
Ворон пристально посмотрел на нее и поправил:
— Уничтожены.
— Да? Ну конечно. Я слыхала, здесь опасно. Вулкан…
— Это не стихийное бедствие, — перебил ее Ворон. — Я могу отличить. Мы с солдатами расчистили кусты переносным лазером и покопались в земле. У этих строений были деревянные крыши и балки, они обгорели. Мы нашли два почти целых человеческих скелета. У одного из них был раскроен череп, у другого между ребрами торчала ржавая железка. — Он поднес снимки к ее глазам. — Видишь?
— Ой! — Она отшатнулась и невольно поднесла руку к губам. — Что…
— Все кругом твердят мне, что на Гвидионе люди никогда не убивали людей, — металлическим голосом продолжал Ворон. — Это не просто редкость, о таком здесь совершенно не известно. И тем не менее когда-то этот хутор подвергся нападению и его сожгли.
Эльфави шумно перевела дыхание. Между тем Тольтеку затопила горячая волна гнева.
— Слушай, Ворон! — бросил он. — Ты можешь сколько угодно изводить несчастных лохланских крестьян, но…
— Не надо, — попросила Эльфави. — Пожалуйста.
— Все ли дома здесь разделили ту же судьбу? — Ворон бросал эти вопросы ей в лицо негромко, но они все равно звучали как выстрелы. — Выходит, люди покинули эти холмы из-за того, что жить в изоляции опасно?
— Не знаю. — Эльфави никогда еще не говорила таким срывающимся голосом. — Я… как-то видела развалины… никто не знает, что с ними случилось. — И вдруг она вскрикнула: — Ты же знаешь, история рассказывает не обо всем! А ты сам, тебе известны все ответы на все вопросы о твоей планете?
— Конечно, нет, — ответил Ворон. — Но будь это моя планета, я бы по крайней мере знал, почему все дома здесь построены как крепости.
— Как что?
— Ты знаешь, что я имею в виду.
— Но ты меня уже об этом спрашивал… я тебе все рассказала, — запинаясь, проговорила она. — Прочность дома, прочность семьи… это символ.
— Я слышал этот миф, — сказал Ворон. — Ты меня также уверяла, что никто не понимает мифы буквально, они — всего лишь поэтические абстракции. Ваша прелестная сказочка об Анрене, создавшем звезды, не помешала вам прекрасно овладеть астрофизикой. Итак, от чего вы защищаетесь? Чего вы боитесь?
Эльфави вся сжалась и отпрянула назад:
— Ничего. — Язык плохо ее слушался. — Если… если… если бы что-нибудь было… мы бы наверняка придумали против этого оружие получше… луков и копий. Люди страдают — от несчастных случаев, от болезней и старости. Они умирают, уходят в Ночь… но это и все! Больше ничего не бывает!
Она стремительно развернулась и убежала.
Тольтека шагнул к Ворону, который, прищурясь, смотрел девушке вслед.
— Повернись, — сказал он, — я сейчас вышибу из тебя дух.
Ворон в ответ рассмеялся, этот звук походил на лисий лай:
— Какой у тебя дан по боевому каратэ, счетовод?
Тольтека схватился за пистолет.
— Мы принадлежим к другой культуре, — бросил он сквозь зубы. — Для того чтобы постигнуть, как далеко продвинулась наша мысль, не хватит и полувека научных исследований. Если ты думаешь, что можешь спокойно плевать в душу этим людям, не отдавая себе отчета в своих действиях, как бульдозер с поломанным автопилотом…
Оба ощутили, как под ногами задрожала земля. Еще мгновение — и до них донесся отдаленный грохот.
Трое лохланцев мгновенно вскочили на ноги и заняли круговую оборону. По всему лагерю люди просыпались, вскакивали и, пытаясь перекричать грохот, окликали друг друга.
Тольтека побежал искать Эльфави. Солнце, казалось, ушло куда-то далеко и безразлично взирало на происходящее внизу; от взрывов лязгали зубы, через подошвы чувствовалось, как дрожит земля.
Шум затих, но еще несколько секунд в воздухе носились раскаты эха. Дауид отыскал Эльфави и, обхватив ее руками, прижал к себе, пытаясь защитить. В воздух с криком взвилась стая птиц.
Врач пристально глядел на запад. Над деревьями поднимались черные клубы дыма. Подойдя к Симнонам, Тольтека увидел, что Дауид чертит в воздухе знак, предохраняющий от несчастья.
— Что это? — прокричал нуэвамериканец. — Что случилось?
Старик обернулся к нему. Несколько секунд он не мог различить, кто говорит, потом отрывисто бросил:
— Гора Гранис.
— А-а! — Тольтека хлопнул себя по лбу. Он ощутил такое облегчение, что чуть не расхохотался. Ну конечно! После столетия-двух молчания вулкан решил прочистить горло. Почему же, ради всей Галактики, гвидионцы сворачивают лагерь?
— Я такого не ожидал, — сказал Дауид, — хотя, вероятно, сейсмология у нас не достигла такого уровня развития, как у вас.
— Наш специалист кое-что прикинул и решил, что, если мы построим здесь космодром, нас не ждут никакие неприятности. Это ведь не было серьезное извержение, просто вылилось немного лавы и пошел дым.
— И западный ветер, — сказал Дауид. — Прямо от Граниса в нашу сторону. — Он помолчал и почти рассеянно добавил: — Место, которое я наметил для вашей базы, защищено от подобных случайностей. Я проверил господствующие направления воздушных потоков в данной местности на центральном метеорологическом компьютере в Бетгвисе — испарения никогда туда не достанут. То, что мы оказались точно в эту минуту на этом месте — не более чем случайное совпадение. Теперь мы должны бежать, и да придаст страх силы нашим ногам.
— Бежать? От струйки дыма? — недоверчиво переспросил Тольтека.
Дауид прижал дочь к себе.
— Это молодая планетная система, — объяснил он. — Здесь много тяжелых металлов. Когда пылевое облако накроет нас, концентрации этих элементов в нем будет достаточно, чтобы мы погибли.
Когда они сняли лагерь и припустили трусцой на юг по поросшему редколесьем гребню холма, тень облака уже упала на них. Коре бросил взгляд на тусклый серый шар солнца, наметанным глазом артиллериста прикидывая расстояние, подвигал своей квадратной челюстью, будто разжевывая что-то кислое, и заговорил:
— Командир, мы не можем вернуться тем же путем, которым пришли. Эта дрянь выпадет здесь повсюду. Мы должны бежать вон туда и надеяться, что сумеем выбраться. Спросите кого-нибудь из этих остолопов, знает ли он приличную тропу.
— А зачем нам тропа? — пропыхтел Вильденвей. — Давайте напрямик через лес.
— Послушайте только этого чертова дурака-степняка! — презрительно усмехнулся Коре. — Болван, да я вырос на Эрншоу. Ты пробовал хоть раз бежать через кусты?
— Заткнитесь, вы оба! — посоветовал им Ворон.
Прибавив шагу, он догнал голову колонны, где бежали Дауид и Эльфави. Трава хрустела под его сапогами, время от времени подковка звякала о камень, высекая искры. Небо стало тускло-бурым с черными прожилками, солнечные лучи приобрели медный оттенок и не отбрасывали теней. Единственными светлыми пятнами во всем мире были выбросы огня из жерла Граниса и развевающиеся волосы Эльфави.
Ворон решил задать ей свой вопрос. Он говорил так, чтобы не сбить дыхания, и дышал в ритме бега. Девушка, опытный бегун, отвечала точно так же:
— В этом направлении все дороги ведут в Святой Город. Если мы успеем туда добежать, мы спасены.
— До Бэйла? — воскликнул Дауид.
— Это запрещено? — спросил Ворон, прикидывая, не будет ли он вынужден проникнуть в табуированное убежище силой оружия.
— Нет… четких правил не существует… Но если Бэйл не настал, туда никто не ходит! — Дауид озадаченно покачал головой. — Это будет бессмысленный поступок.
— Бессмысленный… если в этом спасение? — запротестовал Ворон.
— Без символики, — объяснила Эльфави. — Это не лезет ни в какие рамки. — Она посмотрела на сгущающуюся над головой тьму и воскликнула: — Но надышаться этой пылью тоже будет бессмысленно! Я хочу снова увидеть Бьерда!
— Да. Так. Да будет так. — Дауид замолк и прибавил шагу.
Ворон внимательно смотрел себе под ноги, чтобы не оступиться на неровной земле, но вдруг в поле его зрения попали быстро мелькающие ноги Эльфави, и он уже не мог отвести от них глаз, пока не споткнулся о лиану. Тогда он выругался и заставил себя думать только о сложившейся ситуации. Только лабораторный анализ может с достоверностью подтвердить, является ли вулканический пепел таким ядовитым, как утверждает Дауид, но, если учесть особенности планеты, его доводы представлялись обоснованными. Первую экспедицию предупреждали о том, что многие виды местных растений ядовиты для человека лишь потому, что растут на насыщенной тяжелыми элементами почве. Не нужно вдохнуть так уж много соединений металлов, чтобы с тобой все было кончено: радиоактивные материалы, соли мышьяка, возможно, пары ртути, восстановленной из окислов нагревом — несколько глотков, и порядок. Возможно, ты умрешь не сразу: твою агонию продлят старания медиков вывести из организма безнадежно большую дозу ядов. Правда, Ворон не собирался дожидаться, когда его легкие и мозг сгниют заживо: его пистолет всегда при нем и готов оказать ему последнюю услугу. Но Эльфави…
Начинался спуск, и они остановились передохнуть. Один из гвидионцев стал возражать — из пересохшего горла вылетали сиплые звуки:
— Только не в Святой Город! Мы уничтожим весь смысл Бэйла!
— Нет, не уничтожим. — Дауид, на бегу успевший кое о чем поразмыслить, отвечал так авторитетно, что все покрасневшие глаза поневоле устремились на него. — Извержение, произошедшее в тот момент, когда мы были с подветренной стороны, — это такая невероятная случайность, что она лишена всякого смысла. Правильно? Это Ночной Лик, именуемый Хаосом. — Некоторые из гвидионцев перекрестились, но согласно кивнули. — Если мы исправим происшедшее… восстановим равновесие и последовательность событий… войдя в Средоточие Бога (притом в нашем чисто человеческом воплощении, а это делает наш поступок притчей о здравомыслии, о мощи человеческого ума и науки) — что может быть логичнее такого поступка?
Так они продолжали рассуждать на эту тему, а над головой у них сгущалась тьма, а позади рокотал Гранис. Один за другим гвидионцы пробормотали, что согласны. Тольтека шепнул Ворону по-эспаньольски:
— Ого, похоже, мы присутствуем при рождении нового мифа.
— Да. Еще несколько поколений — и они вставят туда кого-нибудь из своих божков, сохранив при этом точную историческую информацию о событиях!
— Но во имя Вселенной! Они спасаются от нелепой и ужасной смерти и при этом еще спорят, будет ли эстетично укрыться в этом капище!
— В этом больше смысла, чем тебе кажется, — мрачно заметил Ворон. — Помню, я еще был совсем мальчишкой — это, собственно, была моя первая кампания: междоусобица между кланом Горькой Воды и моим этносом. Мы окружили вражеский полк на Стауровых холмах и ждали, что они начнут окапываться. Однако они не стали: кругом были могилы храбрецов, Дануров, погибших триста лет назад. И они вышли на открытое поле, готовые к тому, что их всех перебьют. Когда мы разузнали, что к чему, мы позволили им уйти и дали еще сутки форы. Они соединились со своими основными силами, что, возможно, решило исход войны. Но победа на Стауровых холмах обошлась бы нам слишком дорого.
Тольтека покачал головой:
— Я тебя не понимаю.
— И не поймешь.
— А ты не поймешь, почему на нашей планете люди шли на смерть, чтобы разрушить вражеские замки.
— Может, и так.
Ворон прикинул, надышался ли он уже смертоносной пыли или нет. Во всяком случае, пока ничего серьезного, решил он. Воздух, который он вдыхает, чист, лесистые холмы просматриваются до самого горизонта. Крупные частицы и камни сейчас не опасны. Убивает лишь тонкодисперсная пыль, медленно рассеивающаяся на огромной площади.
Дауид будто читал его мысли, так как сказал:
— Святой Город — почти идеальное убежище для нас. Господствующие направления ветров под Колумкиллским обрывом, где он находится, защищают его от вулканического пепла. Хотя здешние вулканы извергаются крайне редко, такая возможность тем не менее была учтена при строительстве города. Нам придется дожидаться там дождя — в это время он пойдет максимум через несколько дней. Дождь прибьет к земле оставшуюся в воздухе пыль, выщелочит из почвы ту, что осела, смоет яды в реки, а оттуда, в растворенном до безопасной концентрации виде, они уйдут в море. В Городе хранятся обильные запасы еды, и я не вижу причин ими не воспользоваться. — Он поднялся и закончил: — Но сначала нам нужно туда добраться. Все отдышались?
6
Об оставшейся части пути у всех сохранились лишь очень смутные воспоминания. Они двигались рысцой по расчищенным дорожкам под прохладной сенью деревьев и останавливались на несколько минут только в случае крайней необходимости; тем не менее под конец люди шатались и валились друг на друга. Трое нуэвамериканцев рухнули на землю. Дауид приказал сделать для них носилки из срубленных шестов и плащей. Никто не жаловался на этот дополнительный груз — скорее всего потому, что на жалобы ни у кого не было сил.
Дойдя до Святого Города, Ворон сам был уже вряд ли в состоянии что-либо отчетливо видеть и понимать. У него еще остались силы, чтобы расстелить спальный мешок для Эльфави, которая тихо растянулась на нем и тотчас отключилась. Он принес чашку с водой для Дауида, который лежал на спине, бессмысленно уставившись глазами в одну точку. Он даже успел смыть с себя грязь и пот, прежде чем залезть в свой мешок. Но затем и его окутала тьма.
Когда он очнулся, потребовалось несколько секунд, чтобы он вспомнил, кто он такой, и чуть больше — чтобы понять, где находится. Призвав на помощь всю свою натренированность, он сумел убедить себя, что тело у него вовсе не одеревенело и мышцы тоже ни чуточки не ноют. Он лежал в тени стены, но прямо над головой сияли звезды. Неужели он столько проспал? Небо совершенно ясно; здесь людям действительно нечего опасаться. Очертания мерцающих созвездий были незнакомы. Ворон с трудом распознал то, что на Лохланне называли Пахарем; из-за непривычного вида звездного неба ему стало холодно и одиноко. Млечный Путь, скрывший одни звезды и высвечивающий другие, почему-то показался не таким чужим.
Выбравшись в темноте из мешка, Ворон присел на корточки и на ощупь открыл рюкзак, служивший ему подушкой; его привычные пальцы не нуждались в свете. Он быстро оделся. Пистолет и кинжал приятно оттягивали пояс. Накинув на желто-коричневую военную форму епанчу с широкими рукавами, так как она была расшита гербами его семьи и этноса, он бесшумно проскользнул между телами спящих беспробудным сном людей и вышел на открытую площадь.
Ничто не нарушало ночной тишины. Он стоял на форуме, если это можно было так назвать. В Святом Городе не было мостовых, под ногами лежала толстая подушка из прохладного росистого псевдомха. Со всех сторон поднимались длинные приземистые строения из белого мрамора; тонкие каннелированные колонны поддерживали крыши портиков, украшенных фризами с танцующими фигурами. Поросшие мхом пандусы вели к их входам — зияющим отверстиям без дверей; узкие окна напоминали щели. Флигеля и колоннады соединяли здания воедино, то был настоящий лабиринт. По внешнему периметру площади стояли кольцом тонкие, просто воздушные башни с бронзовыми куполами, которые при дневном свете должны были отливать зеленым. Весь комплекс окружало нечто вроде амфитеатра с пологими мшистыми ярусами, так что казалось, будто город лежит на дне гигантской чаши. Наверху по ее краям густо росли деревья.
Здесь, на ее дне, деревья не росли, зато здесь было множество регулярных садов — или скорее единый гигантский прямоугольный цветник, среди которого стоят дома и башни, утопая в ухоженных клумбах земных фиалок и роз без шипов, повсюду местный жюль, солнцецвет, бэйловы кусты и множество других цветов, которых Ворон не мог распознать. Над южным краем чаши вздымались крутые скалы, заслонявшие звездное небо, — это, видимо, и был Колумкиллский обрыв.
Рассмотреть все это в таких подробностях помогла ему восходившая на западе луна Она. Ей предстоит пройти свой ретроградный путь по небу за половину ночи и при этом сменить полцикла фаз. Сейчас Она была белым полукругом с угловым диаметром в один градус; ее мертвенный свет заливал все вокруг.
Посреди форума журчал фонтан. В нем Ворон мылся перед сном. Он подошел к маленькой, поросшей мхом чаше и стал пить, пока его пересохшая глотка не пришла в норму. Водосток в чаше фонтана имел неожиданно прихотливый вид: ему придали форму карикатурной рыбьей головы. Что ж, почему бы здесь, в геометрическом центре святости, и не пошутить? — подумал Ворон. Гвидионцы очень смешливы, они смеются чаще, чем другие люди, и не хрипло, как нуэвамериканцы, или раскатисто, как лохланцы. Их веселье какое-то кроткое, добродушное, они находят комические стороны где угодно, даже в самом что ни на есть величественном. Воду, должно быть, провели сюда из какого-нибудь ключа, который бьет в лесу, у нее не водопроводный вкус.
Услышав за спиной шум, он схватился за пистолет и развернулся. На залитой лунным светом площади стояла Эльфави.
— А, — с глупым видом промямлил Ворон, — ты проснулась, госпожа?
— Нет, я крепко сплю на своей кровати в Звездаре, — усмехнулась она и, мягко ступая, подошла ближе: — Я проснулась час назад, а то и больше, но мне не хотелось вставать. Полежать бы еще хотя бы денек! Потом я увидела, что ты здесь и… — Слова замерли у нее на губах.
Ворон приказал своему сердцу биться не так сильно, но оно плохо слушалось.
— Кто-то должен стоять на страже, — сказал он. — Почему бы не я?
— Это не нужно, друг издалека. Здесь нет опасностей.
— А дикие звери?
— Их отгоняют роботы. А другие роботы следят за порядком. — Она показала на небольшую машину на колесиках, которая тонкими щупальцами пропалывала клумбу.
Ворон ухмыльнулся:
— Да? А кто следит за роботами?
— Глупенький! Конечно же, автоматический центр. Каждые пять лет — я имею в виду здешние годы, так что получается примерно раз в поколение — посредине зимы наши инженеры устраивают церемонию, во время которой осматривают оборудование Святого Города и пополняют запасы продуктов.
— Понятно. А обычно сюда приходят только во время… э-э… Бэйла?
Она кивнула:
— Да, а зачем приходить сюда в другое время? Давай прогуляемся и посмотрим город? Может быть, от ходьбы мои ноги перестанут так ныть. — В ее предложении не было и тени благоговейного страха, казалось, она просто хочет показать ему местные достопримечательности.
Мох заглушал их шаги, и от ходьбы по этой пружинистой подстилке усталость как рукой сняло. Рядом с нависшей угрюмой громадой Колумкилла здания казались сказочно легкими; однако, входя в дверной проем, Ворон заметил, что их стены так же толсты и крепки, как и у других гвидионских строений. Внутри здания освещали флюоресцентные светильники, вделанные в высокий потолок. Вероятно, они питаются от солнечных батарей, подумал Ворон. Свет был тусклым, но рассматривать все равно было почти нечего: только красивый вестибюль и арки, ведущие в коридоры.
— Не будем уходить далеко, — сказала девушка, — а то мы можем заблудиться и проплутать по коридорам немало времени, пока отыщем путь назад. Смотри! — Она показала вдоль коридора туда, где сходились пять других коридоров. — Это всего лишь начало лабиринта.
Ворон потрогал рукой стену. Она поддалась; то же серое вещество, похожее на резину, покрывало и пол.
— Что это? — спросил он. — Синтетический эластомер? Им здесь покрыта вся внутренняя поверхность?
— Да, — сказала Эльфави. Ее тон стал безразличным. — Здесь вообще-то нет ничего интересного. Давай лучше поднимемся на одну из башен, оттуда мы увидим весь город.
— Позволь-ка еще минутку. — Ворон открыл одну из множества дверей, которые вели в ближайший коридор. Как обычно, она была стальной, но ее покрывал мягкий пластик, и она запиралась изнутри на засов. Комната за дверью вентилировалась через узкое окно. Единственными предметами обстановки в ней были унитаз и водопроводный кран, но в углу громоздились плотно набитые чем-то пакеты. — Что в них?
— Еда, запечатанная в пластикожу, — ответила Эльфави. — Это искусственная пища, которая никогда не портится. Боюсь, когда нам придется ею питаться, она покажется тебе пресноватой, но в ней есть все необходимые компоненты.
— Похоже, во время Бэйла вы ведете довольно аскетический образ жизни, — сказал Ворон, наблюдая за ней краем глаза.
— Это не то время, когда следует беспокоиться о материальном. Когда ты голоден — ты просто хватаешь пакет с пищей и вскрываешь ногтем, когда чувствуешь жажду — подбегаешь к фонтану или крану и пьешь, когда устал — падаешь, где придется, и засыпаешь.
— Понятно. Но что же это за такое зажное дело, по сравнению с которым поддержание жизни отходит на второй план?
— Я тебе уже говорила. — Быстрой, нервной походкой она вышла из комнаты. — Мы — это Бог.
— Но когда я спросил, что ты под этим подразумеваешь, ты ответила, что не можешь объяснить.
— Не могу! — Она старалась спрятать от него глаза. Ее голос чуть заметно дрожал. — Неужели ты не понимаешь, что язык здесь бессилен? Любой язык. Ты должен знать, что кроме речи у людей есть еще несколько языков. Один из них — математика, другой — музыка, третий — живопись, четвертый — хореография, и так далее. Судя по тому что ты мне говорил, Гвидион, видимо, единственная планета, где сознательно и систематически разрабатывался еще один язык — мифология. Но не мифология первобытных людей, в недрах которой зародились наука и здравый смысл. Это мифология людей, искушенных в семантике и знающих, что каждый язык описывает одну из граней реальности и прибегает к мифу, когда нужно говорить о чем-то, для чего ни один из других языков не подходит. Например, ты не поверишь, что математика и поэзия взаимозаменяемы!
— Нет, — ответил Ворон. Она отбросила со лба спутанные волосы и продолжала, теперь уже энергичнее:
— Так вот, то, что происходит во время Бэйла, можно назвать слиянием всех языков, включая и те, которые еще не известны никому из людей. А такой сверхъязык невозможен, потому что он будет противоречить самому себе.
— Ты хочешь сказать, что во время Бэйла вы постигаете или приобщаетесь к высшей реальности?
Они снова вышли на площадь. Эльфави перебежала форум, скользнула под полосатой тенью колоннады к видневшимся за крышами портиков шпилям. Ему еще не доводилось видеть ничего прекраснее этой женщины, бегущей в лунном свете. Она остановилась у входа в башню, исчезла в темноте, и оттуда донесся ее голос:
— Это всего лишь еще один набор слов, лиата. Нет, это даже не ярлык. Попробуй сам войти сюда и узнать!
Они вошли в башню и начали подниматься наверх. Винтовой пандус, обитый чем-то мягким, шел мимо множества дверей, которые вели в тесные каморки. Внутри башни было душно и горел тусклый свет. Так они поднимались в молчании, пока Ворон наконец не спросил:
— Что зхо за слово, которым ты меня назвала?
— Какое? — В полутьме было трудно различить, но ему показалось, что кровь бросилась ей в лицо.
— Лиата. Мне это слово не известно.
Длинные ресницы Эльфави затрепетали, выдавая волнение.
— Хорошо, давай угадаю.
Он хотел в шутку предположить, что это слово означает «олух», «варвар», «злодей», «подлец», но вспомнил, что у гвидионцев таких выражений не существует. В ее огромных глазах застыло ожидание, и ему поневоле пришлось промямлить: «Милый, любимый…»
Она остановилась и в смятении прижалась к стене.
— Ты говорил, что не знаешь!
Лишь выработанная с детства дисциплина помогла Ворону продолжить подъем. Когда она его догнала, он заставил себя, заглушая бешеное сердцебиение, сказать небрежным тоном:
— Ты очень любезна, несущая мир, но я польщен уже тем, что ты смогла уделить мне время.
— У меня будет предостаточно времени на все что угодно, — шепнула она, — когда ты меня покинешь.
В большой комнате на верху башни, под самым куполом, была не щель, а настоящее окно, забранное бронзовой решеткой. Через него в комнату струился лунный свет, от которого, несмотря на теплую погоду, казалось, будто волосы Эльфави припорошены инеем. Она указала на причудливое переплетение строений, башен и клумб внизу.
— Шестиугольники, вписанные в круги, означают законы природы, — начала объяснять она вполголоса, — причем их логическая правильность есть часть замысла более высокого порядка. Это знак Ована, Солнечного Кузнеца, который… — Она замолкла. Ни он, ни она не нуждались в словах: оба всматривались в лица друг друга, на которые через решетку падал лунный свет.
— Ты должен вернуться к себе? — спросила она наконец.
— Я обещал, — сказал он.
— А когда ты выполнишь обещание?
— Не знаю. — Он окинул взглядом чужое небо. В южном полушарии, где ось вращения планеты лежит ближе к тому направлению, откуда он прилетел, созвездия не так искажены. Но в южном полушарии никто не живет. — Я знал людей, выросших в одном месте и воспитанных в одной культуре, которые пытались врасти в другую, — сказал он. — Это редко получается.
— Стоит только захотеть, может и получиться. Например, гвидионец может жить вполне счастливо даже… ну, скажем, на Лохланне.
— Не знаю.
— Сделай кое-что для меня, пожалуйста. Прямо сейчас.
Его сердце учащенно забилось.
— Если смогу, госпожа.
— Спой мне песню до конца. Ту, которую ты пел во время нашей первой встречи.
— Какую? Ах да, «Потревоженную могилу». Но ты же не могла…
— Я бы хотела попробовать еще раз. Ведь ты ее любишь. Пожалуйста.
С ним не было флейты, но он негромко запел в прохладной полутьме:
Это я рыдаю, любовь моя, И тревожу твой тихий сон; Но одним поцелуем остылых губ Я бы был от тоски спасен. Просишь ты поцелуя остылых губ? Но они холодны, как лед; Не проси поцелуя остылых губ — Он в могилу тебя сведет.— Нет, — сказала Эльфави. Она перевела дух и обхватила себя руками, пытаясь согреться. — Прости.
Ворон снова вспомнил, что на Гвидионе нет трагического искусства. Начисто нет. Он попытался представить себе, какое впечатление произвели бы на нее, к примеру, «Лир», «Агамемнон» или «Старики в созвездии Центавра». Или даже реальные события: Вард из Хелдейла, поднявший мятеж в защиту семейной чести, в которую он не верил, разгромленный и убитый своими же товарищами; или молодой Бранд, который нарушил присягу, покинул друзей, богатство и возлюбленную, которую любил больше жизни, чтобы жить в крестьянской хижине и ухаживать за своей безумной женой.
«А достаточно ли у меня здравого ума, чтобы жить на Гвидионе?» — спросил он себя.
Девушка потерла глаза.
— Пожалуй, нам нужно возвращаться, — сказала она тусклым голосом. — Скоро проснутся остальные. Нас хватятся.
— Поговорим позже, — сказал Ворон, — когда отдохнем как следует.
— Конечно, — ответила она.
7
Дождь выпал на следующий день; над Колумкиллом заклубились первые грозовые тучи, иссиня-черные, как гранит, в их просветах сверкали молнии. Затем порывы восточного ветра принесли с собой потоки ливня, а потом буря постепенно начала стихать, и тогда гвидионцы, сбросив одежду, устроили шумную возню на мху под лучами солнца, пробивавшимися через завесу из искрящихся струй дождя, отвесно падавших на их обнаженные тела. Тольтека присоединился к игрокам в мяч — такой отличной игры он не помнил за всю свою жизнь. Вдоволь наигравшись, они ушли отдыхать под крышу, расселись у огня, на импровизированном очаге, сложенном из камней, и стали рассказывать истории. Обуреваемые ненасытной жаждой как можно больше узнать о том, что творится в Галактике, гвидионцы просили Тольтеку поделиться воспоминаниями. Со своей стороны им тоже было что рассказать, но только не о конфликтах между людьми — мысль о подобном, казалось, их озадачивает и тревожит, — а о происшествиях, случившихся с ними на море, в лесу или в горах.
— Так вот: сидели мы в этом водолазном колоколе и ждали, нащупают нас кошкой прежде, чем кончится воздух, или нет, — рассказывал Ллирдин. — Зато в шахматы я там наигрался на всю жизнь. Пока нас подцепили, совсем душно стало. Впрочем, могли бы иметь совесть и подождать еще пяток минут! Я придумал такой замечательный эндшпиль, а тут колокол начали тянуть наверх, и доска, само собой, опрокинулась.
— И что же это символизировало? — поддразнил его Тольтека.
Ллирдин пожал плечами:
— Не знаю, я вообще думать не мастак. Может, Бог любит время от времени пошутить. Но если так, то у Вуи своеобразное чувство юмора.
Когда гроза миновала, экспедиция продолжила свой путь к месту, предназначенному для космодрома. Целые сутки Тольтека потратил на обследование площадки и пришел к мнению, что она подходит просто идеально.
Хотя приближалось время Бэйла и гвидионцы торопились домой, Дауид приказал идти кружным путем. Дождь прибил вулканическую пыль, но, для того чтобы полностью очистить почву, одного дождя было мало. Идти по зараженной местности было просто неразумно. Дауид повел экспедицию через отрог, выступавший из горного массива и блокировавший проход к побережью. Перевал через этот хребет находился выше границы лесов, в зоне альпийских лугов, и подъем оказался не из легких. Перед тем как преодолеть последний участок восхождения, путешественники решили сделать привал и передохнуть на опушке леса. Это произошло, когда утро было в самом разгаре.
Поев, Тольтека вышел из лагеря, чтобы помыться в естественной чаше, находившейся ниже по течению протекавшего неподалеку горного ручья. Этот ручей брал свое начало в ледниках, и вода поначалу обожгла его холодом, но, растершись полотенцем, он почувствовал, будто заново родился. Натянув одежду, Тольтека побрел искать водопад, шум которого был отлично слышен. На душе у него было неспокойно. Через подлесок к водопаду вела звериная тропа. Тольтека уже готов был выйти на открытое пространство, когда услышал голоса. Ворон и Эльфави!
— Пожалуйста, — просила девушка дрожащим голосом, — молю тебя, будь разумнее.
Страдание, которое слышалось в ее голосе, потрясло Тольтеку до глубины души. Ослепленный гневом, он хотел было выскочить из леса и объясниться с Вороном начистоту, но сдержался. Подслушивать, конечно, не по-джентльменски. Даже если — а может, и особенно потому, что эти двое с той первой ночи в Святом Городе столько времени проводили вдвоем. А если у нее возникли какие-то проблемы, лучше узнать, в чем они заключаются, тогда он будет в состоянии ей помочь: вряд ли она раскроет ему душу, если он спросит напрямик. Между ними существуют культурные барьеры, табу, и, наконец, она просто смущается. Только Ворону, этому неотесанному мужлану, ничего не стоит сокрушить эти преграды.
Тольтека облизал губы. Его ладони стали влажными, пульс участился, в ушах стучало так сильно, что он почти не слышал, как грохочет низвергающийся прямо перед ним с утеса водопад.
Пенящийся поток падал в ущелье, поросшее молодыми деревьями, чья колеблющаяся листва рисовала причудливые узоры из света и тени на фоне бездонного, как это бывает только в горах, темно-синего неба. В тучах брызг плясали радуги, водяные струи образовывали водовороты вокруг валунов, покрытых мягкой зеленой порослью, от камней на дне речки в разные стороны разбегалась рябь. Прохладный, сырой воздух звенел от шума водопада. Высоко в небе кружила хищная птица.
Ворон, закутавшись в черный дорожный плащ, стоял на берегу неподвижно, как статуя, и неотрывно смотрел на девушку; его суровое лицо казалось отлитым в бронзе. Она, ломая руки, прятала глаза от его взглядов. Крохотные капельки воды, застрявшие у нее в волосах, вспыхивали под солнцем, как ослепительные светлячки, но Тольтеке казалось, что волосы Эльфави, эта распущенная копна волос, и есть самое яркое пятно вокруг.
— Я и так благоразумен. — Ворон говорил резко, почти грубо. — Когда меня в третий раз подряд тычут носом в одно и то же, я начинаю различать запах.
— В третий раз? О чем ты? Почему ты сегодня такой сердитый?
Ворон протяжно вздохнул и принялся загибать пальцы:
— Мы уже об этом толковали, и не раз. Во-первых, ваши дома построены как крепости. Да, ты говорила мне, что это символ, но мне не верится, что такие рассудительные люди, как вы, стали бы расходовать столько сил и средств на какой-то символ. Во-вторых, никто из вас не живет в одиночку, особенно в глуши. Мне не забыть тех мест, где это однажды попробовали. Люди, жившие там, были убиты при помощи оружия. В-третьих, когда мы осматривали площадку для космодрома, твой отец заметил, что пещеры в обрыве легко превратить в убежище для Бэйла. Когда я спросил его, что он имеет в виду, он вдруг вспомнил, что ему нужно отлучиться по срочному делу. Когда я спросил о том же двух твоих соплеменников, они почти так же помрачнели, как и ты, и пробормотали что-то насчет того, что нужно-де подстраховаться против непредвиденных случайностей.
Однако вопрос для меня решился, когда я несколько часов назад во время перехода попросил серьезного объяснения у Кардуира. Во всех остальных вопросах он был со мной настолько откровенен, что мне казалось, он не станет играть в молчанку и на этот раз. Но вдруг он вышел из себя — во всяком случае, я никогда еще не видел гвидионца, который бы был так близок к этому состоянию. Был момент, когда мне казалось, что он готов меня ударить, но он просто отошел в сторону, сказав, что мне нужно быть повоспитаннее.
Тут что-то не так. Почему вы темните и не объясняете нам, в чем опасность?
Эльфави повернулась, будто желдя уйти, и часто заморгала глазами; на щеке у нее что-то влажно заблестело.
— Я думала, ты… ты пригласил меня на прогулку, — сказала она. — Аты…
Он схватил ее за руку.
— Послушай, — сказал он уже более мягким тоном. — Прошу тебя, выслушай меня. Я докучаю тебе этим потому, что… ну, скажем, ты дала мне основания думать, что ты ответишь на важный для меня вопрос честно и прямо, за что я тебе признателен. А то, что я спрашиваю, для меня действительно важно. Ты никогда не видела насилия, но я видел. И даже слишком часто. Я знаю, что из этого выходит, и я… я должен сделать все, что в моих силах, чтобы защитить тебя от него. Ты понимаешь? Это мой долг.
Она перестала вырываться и застыла, вся дрожа и склонив голову так, что кудри упали ей на лицо и закрыли его. Ворон минуту рассматривал ее, и складки его рта смягчились.
— Сядь, родная моя, — сказал он наконец.
Эльфави опустилась на землю так, будто силы оставили ее. Он сел рядом и взял ее маленькую руку в свою. При виде этого Тольтеку пронзила жгучая боль.
— Вам запрещено об этом говорить? — спросил Ворон так тихо, что из-за рева водопада вопрос был едва слышен.
Она покачала головой.
— Так почему ты молчишь?
— Я… — Ее пальцы сжали его ладонь, а сверху она положила другую руку. Он сидел неподвижно и терпеливо ждал, пока она переведет дыхание. — Не знаю. Мы не… — Прошло несколько секунд, прежде чем она смогла выдавить из себя: — Мы почти об этом не говорим. И не думаем. Это слишком ужасно.
«Существует еще и бессознательное табу, — всплыло из глубин памяти Тольтеки, — наложенное личностью на самое себя».
— И не подумай, что плохое происходит очень часто, особенно теперь… теперь, когда мы научились… принимать меры предосторожности. Раньше, много лет тому назад, было хуже… — Она взяла себя в руки и посмотрела ему прямо в лицо. — Ты всю жизнь провел среди куда худших ужасов и опасностей, чем наши, правда?
Ворон улыбнулся одними уголками губ:
— Ага, уже лучше. Я отклоняю твою контрпретензию. Давай вернемся к нашей главной теме. Во время Бэйла что-то происходит или может произойти. Это видно невооруженным глазом. Твои соплеменники наверняка должны задаться вопросом, что же именно происходит в это время, если, конечно, они не знают об этом наверняка.
— Да. Мы делали предположения. — Эльфави, по-видимому, окончательно взяла себя в руки. Некоторое время она хмурясь смотрела в землю и наконец почти спокойно произнесла: — Видимо, мы, гвидионцы, куда меньше склонны анатомировать собственные души, нежели вы, пришельцы со звезд. Думаю, все дело в том, что мы проще устроены. Мигель как-то мне сказал, что до прилета на Гвидион не представлял себе, что может существовать целый народ, совершенно лишенный внутренних конфликтов. (Она упомянула мое имя! — мелькнуло в мозгу Тольтеки.) Не знаю, так ли это, но я знаю наверняка, что плохо владею искусством читать собственные сокровенные мысли. Поэтому я не могу тебе точно сказать, почему нам не под силу думать об опасности, подстерегающей во время Бэйла. Но разве не бывает, что ты боишься ассоциировать даже самые радостные минуты жизни с… с тем, другим?
— Может быть, — уклончиво ответил Ворон.
Она подняла голову, перекинула локоны на спину и продолжила:
— И все же Бэйл — это время, когда приходит Брг, а у Бога есть и Вуи — Ночные Лики. Не все возвращаются из Святого Города.
— И что же с ними происходит?
— Есть предположение, что от близости Бога горные обезьяны сходят с ума и устремляются в долины, убивая и уничтожая все на своем пути. Этим можно объяснить происходящее. Знаешь, думаю, если бы ты пристал ко всем гвидионцам, как ко мне, большинство сказало бы, что это предположение самое правильное.
— А вы не пытались его проверить? Почему бы не оставить кого-нибудь в горах? Пускай затаится в засаде и понаблюдает.
— Нет. Разве посмеет кто-нибудь из нас не отправиться в Святой Город, какие бы ни были на то причины?
— Хм! По крайней мере можно оставить автоматические камеры. Но это я смогу выяснить и позже. Как выглядят эти горные обезьяны?
— Это всеядные животные, которые часто охотятся на дичь. Обезьяны кочуют стаями.
— По-моему, от животных вполне защитят дверной засов и оконная решетка. И потом, разве вы не держите в ваших святилищах сторожевых роботов?
— Видишь ли, существует мнение, что у этих животных, возможно, имеются зачатки разума. Как бы могли они расселиться по многим островам, если бы не переплывали проливы на бревнах?
— Это могло произойти случайно. А может быть, ваши острова — это остатки когда-то существовавшего единого континента. Во всяком случае, в геологическом прошлом их могли соединять перешейки.
— Возможно, — неохотно согласилась она. — Но вдруг горные обезьяны настолько хитры, что могут обмануть даже сторожевых роботов? Ты сам понимаешь: даже если подобное происходит не слишком часто, оно может послужить поводом для беспокойства.
Предположим, обезьяны уже достигли такого высокого уровня развития, что научились изготовлять орудия, с помощью которых можно взламывать засовы и вскрывать двери. Мне кажется, никто так и не исследовал по-настоящему их повадки. Обычно они избегают встреч с людьми и таятся в лесных чащах, далеко от жилья. Только жители тех поселений, которые, как Звездар, находятся у опушки большого леса, имеют возможность иногда мельком увидеть издали кочующую стаю обезьян. Не забывай, нас всего лишь десять миллионов и мы рассеяны по всей планете. Она слишком велика, чтобы мы смогли узнать о ней все. — Казалось, Эльфави уже совсем успокоилась. Она обвела взглядом лощину, бурлящую реку, небо, где все так же кружила, высматривая добычу, хищная птица, и улыбнулась. — И хорошо, что мир таков, — сказала она. — Неужели ты захотел бы жить на планете, где нет никаких тайн и природа окончательно покорена?
— Нет, — согласился Ворон. — Думаю, поэтому-то прежде всего люди и начали летать к звездам.
— Да, и когда они познают все тайны близлежащих звезд, им придется забираться все дальше, — бросила Эльфави с жалостью, в которой при желании можно было уловить и самую малую долю презрения. — Мы предпочитаем не выходить за границы уже познанного.
— Мне нравится такой подход, — сказал Ворон. — Только не понимаю, какой смысл оставлять на свободе явную угрозу? Что ж, посмотрим, что это за горные обезьяны, и если все ваши неприятности из-за них, мы найдем на этих тварей управу.
У Эльфави отвисла челюсть; девушка смотрела на Ворона невидящими глазами.
— Нет, — выдохнула она, — вы их не истребите!
— Хм-м… да, правильно, вы ведь сочтете это безнравственным, так? Ну хорошо, пусть они как вид остаются жить. Но их можно уничтожить в населенных местностях.
— Что?! — Она вырвала у него свои руки.
— Подожди, подожди, — запротестовал Ворон. — Я же знаю, у вас нет никаких предрассудков насчет священности жизни. Вы ловите рыбу, охотитесь и забиваете домашних животных — не для развлечения, но по экономическим причинам — и делаете это с превеликим удовольствием. Какая же тут разница?
— Обезьяны могут быть разумными!
— Возможно, хотя и на очень низком уровне. Меня бы это не остановило. Но если вы такие чистоплюи, полагаю, их можно просто на время усыпить и перевезти по воздуху на дальнее плато или еще куда-нибудь. Уверен, они ничего не будут иметь против.
— Остановись! — Эльфави вся сжалась. Сквозь облегающую тунику, оставлявшую открытыми загорелые руки и ноги, было видно, как напряглись все мышцы ее прекрасного гибкого тела. — Неужели ты не понимаешь? Без Ночных Ликов нельзя!
— Ну-ну, не так резво, — сказал Ворон и протянул к ней руку. — Я только предлагал…
— Оставь меня в покое! — Она вскочила на ноги и с плачем бросилась бежать по тропинке; по дороге она чуть было не задела Тольтеку, но даже не заметила его.
Ворон выругался — в голосе его не чувствовалось злости, скорее горечь и боль — и бросился за ней. «Это уже чересчур!» — подумал Тольтека, внезапно вспылив, и вышел из своего убежища.
— Что здесь происходит? — требовательно осведомился он.
Ворон плавно перешел на шаг и остановился.
— И давно ты подслушиваешь? — спросил он вкрадчивым, как мурлыканье тигра, голосом.
— Достаточно долго, чтобы слышать, как она просила тебя не приставать. Вот и не приставай.
Некоторое время они стояли лицом к лицу. Пробивавшиеся сквозь лесную сень солнечные пятна сплошь расшили золотом черный плащ Ворона. Легкий ветерок от водопада бросал брызги прямо в лицо Тольтеке. Он ощущал на губах их прохладу, а в ноздрях — солоноватый запах, похожий на запах крови. «Если он на меня бросится, я буду стрелять. Да, стрелять».
Ворон тяжело вздохнул, его тяжелые плечи заметно обвисли.
— Наверно, это и к лучшему, — сказал он и отвернулся к реке.
От такого неожиданного поворота дела Тольтеке показалось, что стена, на которую он опирался, обрушилась. Он с ужасом осознал, что держал руку на рукояти пистолета, и поспешно отдернул ее. «Илем! Что со мной творится?»
«А что бы случилось, если бы…» — Тольтеке потребовалось все его мужество, чтобы не обратиться в бегство.
Ворон выпрямился.
— Твое благородное негодование делает тебе честь, — язвительно бросил он через плечо. — Но уверяю: я всего лишь пытался уберечь ее от гибели в одну расчудесную праздничную ночь.
Хотя потрясение еще не прошло, Тольтека ухватился за возможность сгладить впечатление.
— Знаю, — ответил он, — но тебе нужно уважать чувства этих людей. При контактах различных культур случается порой всякая чертовщина.
— Угу.
— Ты слыхал, к примеру, почему прекратилась торговля с Ориллионом, почему никто туда не летает? Поначалу он казался самой многообещающей из всех вновь открытых планет, на которые нам удалось набрести. Честные и сердечные люди. Настолько сердечные, что мы не смогли бы вести с ними никаких дел, если бы и дальше отклоняли их требования связать себя с ними узами личной дружбы… что означало, помимо всего прочего, вступление в гомосексуальную связь. Нам так и не удалось растолковать им, почему это в нашем понимании недопустимо.
— Да, я об этом слышал.
— Ты не должен врываться в святая святых этих людей, как артиллерийский снаряд. Подобные запреты коренятся в самой глубине подсознания. Люди не в состоянии мыслить о них в логических категориях. Предположим, я бы высказал сомнения в чести твоего отца. Ты бы, вероятно, убил меня за это. Но если бы ты сказал нечто подобное мне, моя реакция была бы намного слабее, во всяком случае, я бы не стал жаждать крови.
Ворон снова повернулся к нему и сухо спросил, подняв одну бровь:
— А какие у тебя самые чувствительные струнки?
— У меня? Ну… семья, пожалуй, хотя это чувство и не так сильно, как у лохланцев. Моя планета. Демократический способ правления. Я не против дискуссии на любую из этих тем и не полагаю их выше сомнения. Я не считаю возможным драться, если нет непосредственной физической угрозы, и не считаю себя непогрешимым. Я допускаю, что мои убеждения могут быть совершенно ошибочны. Во всяком случае, предела совершенству не существует.
— Автономная личность, — сказал Ворон. — Жаль мне (тебя. — И он быстро заговорил: — Но на Гвидионе есть какая-то опасность, особенно во время так называемого сезона Бэйла. Я узнал, что какое-то животное — горная обезьяна — считается ее причиной. У тебя нет сведений об этой твари?
— Н-нет. В большинстве языков слово «обезьяна» обозначает более или менее человекоподобное животное, которое достаточно сообразительно, однако не владеет какими-либо орудиями и развитой речью. На террестроидных планетах такие животные встречаются часто — параллельная ветвь эволюции.
— Знаю. — Ворон принял решение. — Послушай, ты согласишься, что нужно что-то предпринять хотя бы для обеспечения безопасности персонала на космодроме. О том, как ее обеспечить, не обидев при этом местных жителей с их предрассудками, будем думать позднее. Но сначала мы должны узнать, в чем, собственно, заключается проблема. Могут ли обезьяны действительно быть опасными? Когда речь зашла об этом, Эльфави вела себя настолько иррационально, что я не уверен, говорила ли она правду, как не уверен я и в других гвидионцах, к которым обращался с этим же вопросом. Как-то ты мне говорил, что охотился в лесах нескольких планет. Кроме того, полагаю, ты лучше меня умеешь выведывать у людей все, что нужно, не наступая им на любимую мозоль. Так вот: не мог бы ты как-нибудь потихоньку разузнать, как выглядят следы этих тварей и тому подобное? А потом, если представится возможность, отправимся сами и поглядим на них. Договорились?
8
Следов не встречалось, пока экспедиция не миновала перевал и не стала спускаться по поросшему лесом противоположному склону. Именно тогда молодой Беодаг, по профессии лесничий, заметил следы и обратил на них внимание Тольтеки и Ворона. Следы были довольно заметны: примятая трава и поломанные ветки, оборванные сочные бутоны деревьев кэрду, ямки на месте вырванных из земли клубней и корнеплодов.
— Будьте осторожны, — предостерег он их, — были случаи, когда они нападали на людей. Право, вам следует взять отряд побольше.
Ворон в ответ хлопнул себя по кобуре пистолета.
— Тут не на одну стаю хватит, — сказал он, — тем более что в обойме разрывные пули.
— Кроме того… э-э… более многочисленный отряд их только распугает, — добавил Тольтека. — К тому же вы нам все равно не поможете. Нам уже случалось встречаться с животными, находящимися на стадии развития, близкой к разумной, не говоря уже о вполне разумных негуманоидах. Мы знаем, чего следует опасаться, а вы, гвидионцы, — боюсь, пока еще нет.
Беодаг посмотрел на пришельцев с явным сомнением, но не стал настаивать: на Гвидионе считали, что любой взрослый человек знает, как ему следует поступать. Астронавты объяснили Дауиду и другим гвидионцам, что хотели бы познакомиться с образом жизни горных обезьян лишь для того, чтобы в случае необходимости обезопасить космодром от их набегов. Эльфави подавленно молчала, но не сказала, что Тольтека лжет.
— Что ж, — сказал Беодаг, — желаю удачи. Но сомневаюсь, что вы много увидите. Во всяком случае я лично не замечал, чтобы у них было что-либо похожее на орудия. Я, правда, слышал о подобном, но это были, что называется, слухи из третьих, а то и из четвертых уст, а вам известно, как они в таких случаях обрастают всякими небылицами.
Ворон кивнул, повернулся на каблуках и направился в лес. Тольтека поспешил за ним. Голоса гвидионцев вскоре затихли далеко позади, и пришельцы из других миров зашагали по молчаливому лесу, тишину в котором нарушали только шорохи и птичий гомон. Деревья здесь были стройные, уходящие высоко в небо, с прямыми стволами красноватого цвета. Их густые ветви переплетались, образуя высоко над головой сплошной шатер. Под сенью деревьев почти не было подлеска, только жирная почва, покрытая толстым слоем мягкого гумуса, в котором произрастал местный грибок. Температура воздуха была выше, чем обычно на таких высотах. Он был наполнен пряным ароматом, напоминающим запах чебреца, шалфея или тимьяна.
— Интересно, откуда этот запах? — подумал вслух Тольтека.
Ответ на его вопрос нашелся через несколько минут, когда они вышли на лесную поляну, густо поросшую кустарником. Вокруг испускавших терпкий аромат алых цветов, которыми ветви кустов были буквально усыпаны, вился рой насекомых, напоминавших пчел. Тольтека остановился, чтобы рассмотреть эти растения получше.
— Знаешь, — сказал он, — по-моему, это близкий родственник бэйлова куста. Обрати внимание на форму листьев. Однако этот вид, по всей вероятности, цветет чуть раньше.
— М-да. — Ворон постоял, потирая подбородок. Его холодные зеленые глаза стали задумчивыми. — По-моему, настоящий бэйлов куст откроет бутоны вскоре после нашего возвращения в Звездар — то есть как раз к началу празднования Бэйла, или как он там называется. Если учесть, какова местная культура, станет понятно, что совпадение названий куста и праздника не случайно. Тем не менее здешние жители так и не сложили об этом растении никаких мифов, как обо всем остальном, что попадает в их поле зрения.
— Я обратил на все это внимание, — сказал Тольтека, — но напрямик лучше не спрашивать, во всяком случае — до тех пор, пока не разузнаем побольше. Когда мы вернемся, я собираюсь послать наших лингвистов в корабельную библиотеку изучить слово «бэйл» с этимологической и семантической точек зрения.
— Отличная мысль. А заодно выкопай как-нибудь незаметно кустик этого растения и отдай на химический анализ.
— Хорошо, — сказал Тольтека, хотя от намеков Ворона его передернуло.
— А пока что, — сказал Ворон, — у нас другие планы. Пойдем.
И они снова нырнули в величественную тишину леса. Мягкий дерн настолько заглушал звук шагов, что даже собственное дыхание казалось им неестественно громким. Следы прошедшей здесь стаи обезьян были по-прежнему отчетливо видны: отпечатки лап, поврежденные растения, экскременты.
— Это, должно быть, крупные зверюги, если прут вот так через чащу напролом и никого и ничего не боятся. А грязнули-то! Ну точно как люди. Хотя думаю, во время охоты они ведут себя иначе и не поднимают шума.
— Как ты считаешь, сможем ли мы подобраться к ним поближе, чтобы понаблюдать за их повадками? — спросил Тольтека.
— Попробовать можно. Насколько мне известно, людей они почти не опасаются. Мы наверняка сможем найти брошенную стоянку, где они провели несколько дней, попытаемся исследовать оставленный ими после себя сор: может быть, удастся обнаружить разбитые камнями кости или следы обработки камня для получения примитивных рубил.
— Предположим, наши предположения относительно их подтвердятся. Что дальше?
— Пока трудно сказать. Можно уговорить гвидионцев бросить свои идиотские предрассудки…
— Это не предрассудки! — вознегодовал Тольтека. — По крайней мере в их понимании.
— Склонять голову перед лицом угрозы — это просто смешно! — взвился Ворон. — Когда ты перестанешь потакать глупости?
В памяти Тольтеки всплыло встревоженное лицо Эльфави.
— Довольно! — перешел на крик Тольтека. — Здесь не твоя планета. Экспедицию тоже возглавляешь не ты. Не зарывайтесь, сэр.
Они остановились. На высоких скулах Ворона проступил румянец.
— Попридержи-ка свой язык! — отрезал Ворон.
— Мы не для того сюда прилетели, чтобы их угнетать. Уважай, черт побери, их этику, или я прикажу заковать тебя в кандалы!
— Что ты, во имя хаоса, можешь знать об этике, серый торгаш?
— Да уж достаточно, чтобы не… не довести женщину до слез. И еще вот что. Оставь ее в покое, слышишь?
— Ах вот оно как, — едва слышно проговорил Ворон. — Вот, значит, куда ты клонишь?
Тольтека изготовился к драке, и драться действительно пришлось, но только не с тем, с кем он собирался. Внезапно воздух наполнился падающими телами.
Они прыгали с деревьев и набрасывались на людей. Ворон отскочил в сторону и вытащил пистолет. Первый выстрел был мимо. Второго ему сделать не удалось. Кто-то волосатый вскочил ему на спину, другой схватил за руку. Он упал и оказался под кучей навалившихся на него тел.
Тольтека пронзительно вскрикнул и бросился наутек. Одна из обезьян схватила его за штанину. Он изо всех сил впечатал второй ботинок в морду зверя. Державшие его руки разжались. На Тольтеку набросились еще две обезьяны. Он увернулся и бросился на землю. Прислониться спиной вон к тому стволу и дать по ним очередь веером… Он быстро крутанулся и поднял пистолет.
Одна из обезьян, которая держала в руках камень, швырнула его в Тольтеку. Метательный снаряд поразил человека точно в висок. Ослепленный болью, он зашатался, и тут обезьяны набросились на него. В нос, забитый шерстью, ударило нестерпимое зловоние. В сантиметре от лица щелкнули желтые клыки. В ярости он что было силы ударил куда-то кулаком. Кулак отскочил от твердых, как железо, мускулов. В мире не осталось ничего, кроме наносимых ударов и острых когтей, до крови раздиравших тело.
Когда минуту или две спустя Тольтека очнулся, две обезьяны крепко держали его за руки, не давая пошевелиться. Подошла третья, разматывая обвязанную вокруг пояса тонкую лиану. Ему связали руки за спиной.
В голове стучало, она разламывалась от боли; пленник мотнул ею, и капли крови полетели на китель. Оглядевшись, Тольтека увидел Ворона, который был точно так же связан. Между тем обезьяны то, присев на корточки, рассматривали их, то начинали прыгать и верещать. Их было около десятка, все самцы, ростом чуть более метра, хвостатые, крепко сложенные, покрытые зеленоватым мехом, с рыжевато-бурыми гривами. У них были плоские морды и четырехпалые руки с вполне развитым большим пальцем. Некоторые держали в этих руках берцовые и челюстные кости крупных травоядных.
— О-о, — простонал Тольтека, — так ты… ты…
— Со мной ничего страшного, — выговорил Ворон, с трудом разжав разбитые губы. Он даже нашел в себе силы хрипло рассмеяться. — Но каково унижение! Мы выслеживали их, а они — нас!
Одна из обезьян схватила валявшийся на земле пистолет, повертела и отбросила в сторону. Другие выдернули из ножен кинжалы астронавтов, но скоро также выбросили. Корявые руки стали дергать и щипать Тольтеку так, что от этих любопытных щипков на нем затрещала одежда. И вдруг он с ужасом осознал, что вполне может сейчас умереть.
Он подавил панику и пошевелил руками, проверяя, насколько крепки его путы. Разорвать лиану, стягивающую запястья, было невозможно. Ворон лежал в более удобной позе на спине, извиваясь и увертываясь от прикосновений забавлявшихся с ним обезьян.
Самый крупный самец что-то односложно буркнул. Стая сразу затихла и проворно вскочила. Хотя ноги у обезьян были короткими, а пальцы на них длинными, ходили они достаточно прямо. Людей без особых церемоний грубо подняли, поставили на ноги, и процессия двинулась в глубь леса.
Лишь теперь, когда мысли окончательно прояснились, Тольтека сообразил, что кости в руках его конвоиров — это импровизированное оружие: дубинки и ножи, лезвием которых служат зубы. «Зачатки разума…» — начал он. Шедшая рядом обезьяна ударила его в зубы. Очевидно, в пути полагалось молчать.
Спотыкаясь, Тольтека побрел дальше. К счастью, этот кошмарный путь длился недолго. Они вышли на другую поляну, поросшую цветущей травой и залитую лучами вызывающе яркого солнца. Самцы завопили, им ответили самки и детеныши, которых было столько же, сколько самцов. Они выскочили гурьбой из своего логовища под огромным валуном. Вся стая набросилась на пленников, яростно кусая и избивая их. Тольтеке показалось, что сейчас его живьем разорвут в клочья. Однако двое самых крупных самцов разбросали своих отпрысков в стороны и потащили Тольтеку с Вороном к скале.
Здесь их швырнули на землю. Тольтека заметил рядом груду обгрызенных костей и других отбросов. Над ней черной тучей вились насекомые-падальщики.
— Ворон, — прошипел он, — они хотят нас съесть.
— А как же, — ответил лохланец.
— Может, попробуем удрать?
— Думаю, да. Меня очень неуклюже связали. Тебя, кстати, тоже, но я могу дотянуться до узла. Постарайся их отвлечь на минугку-другую…
К пленникам приблизились двое самцов с поднятыми дубинами. Остальные члены стаи присели на корточки и мгновенно затихли, внимательно наблюдая за происходящим глубоко посаженными блестящими глазками. Тишина оглушила Тольтеку.
Он перекувырнулся через голову, вскочил на ноги и бросился бежать. Ближайший самец издал какой-то звук, похожий на смех, и ринулся ему наперерез. Сделав зигзаг, Тольтека увернулся. На пути у него выросла еще одна лохматая фигура. Вся стая завопила. Засвистела опускающаяся дубинка; удар был направлен Тольтеке в макушку. Он рванулся вперед, надеясь сбить обезьяну с ног. Расчет был верен: удар не достиг цели, а обезьяна повалилась, накрыв его собой. Тольтека защитил ее телом голову от новых ударов. Однако его схватили за ноги и куда-то потащили. Небо заслонили силуэты двух обезьян с дубинками.
Внезапно откуда-то возник Ворон. Ребром ладони лохланец ударил одну из обезьян по горлу. Жертва застонала и повалилась; из пасти хлынула синеватая кровь, а Ворон уже повернулся к другой обезьяне. Выбросив вперед обе руки, он вонзил большие пальцы ей в глаза и одним движением вырвал их. Третью подбежавшую обезьяну остановил жуткой силы удар ногой. Несмотря на быстроту, с которой все произошло, Тольтеку замутило.
Ворон нагнулся и стал развязывать ему руки. Сбившись в кучу, взбешенные, но напуганные обезьяны держались поодаль.
— Порядок, свободен, — пробормотал, тяжело дыша, Ворон. — У тебя вроде был ножик? Давай сюда.
Как только он двинулся к обезьянам, в нескольких сантиметрах от него на землю шлепнулось несколько камней. Раскрыв на бегу нож, Ворон бросился на ближайшую обезьяну, которая бросала камни, — это была самка. Она неловко попыталась его ударить, он отскочил и с дикарской расчетливостью полоснул ножом. Завизжав, обезьяна повалилась на спину. Ворон возвратился к Тольтеке, отдал ему нож и схватил с земли кость.
— У них кончились камни, — сказал он. — Отходим медленно, не поворачиваясь спиной. Нужно их убедить, что за нами не стоит гнаться.
Первые несколько минут все шло гладко. Тольтеке пришлось отбить две брошенные им вслед дубинки. Самцы ворчали, издавали отрывистые звуки, похожие на лай, кружили вокруг людей, но не отваживались на них наброситься. Однако, когда астронавты дошли до края поляны, ярость пересилила страх. Вожак обезьян крутанул дубинкой над головой и бросился вперед. Остальные последовали за ним.
— Прижмись к тому дереву! — скомандовал Ворон, поднимая дубинку как меч.
Когда вожак замахнулся на него дубинкой, Ворон парировал удар и, сделав ответный выпад, треснул противника по пальцам. Обезьяна взвыла и выронила оружие, а Ворон ткнул концом дубинки в открытую пасть вожака. Послышался хруст раздробленного нёба.
Тольтека тоже не стоял без дела. Его нож годился только для ближнего боя, а на него налетели сразу два зверя. По плечу полоснула острая челюстная кость. Не обращая внимания на боль, Тольтека обхватил обезьяну руками и глубоко вонзил нож. Его обрызгала кровь. Он толкнул раненую обезьяну на другую, та повалилась, затем вскочила и обратилась в бегство.
Ворча и повизгивая, оставшиеся в живых самцы отступили. Ворон нагнулся, схватил их издыхающего вожака и бросил в них. Тело тяжело грохнулось на траву. Обезьяны бросились от него врассыпную.
— Идем, — сказал Ворон.
Они пошли, но не спеша и часто останавливаясь, чтобы с угрожающим видом обернуться. Однако погони не было видно. Ворон испустил глубокий вздох облегчения.
— Порядок, — выдохнул он. — Звери не люди, они не бьются до конца. Кроме того… мы обеспечили их пищей.
Горло Тольтеки перехватил спазм. Когда они нашли свои пистолеты, что означало окончательное спасение, у Тольтеки начались судороги. Он упал на колени, и его вывернуло наизнанку.
Ворон присел отдохнуть.
— Не стыдись, — сказал он. — Это просто реакция. Для непрофессионала ты держался молодцом.
— Дело не в страхе, — сказал Тольтека. По его жилам пробежал холодок, и он вздрогнул. — Я вспомнил то, что произошло там, на поляне. Как ты дрался.
— Да? Я спас нас обоих. Это что, плохо?
— Нет, но твоя… тактика… Зачем ты действовал с такой злобой?
— Я просто действовал эффективно, Мигель. Не думай, пожалуйста, что мне это доставило удовольствие.
— Оа нет. Такого я о тебе не думаю. Но… честно сказать, не знаю. И вообще, что это за раса, к которой мы принадлежим? — Тольтека закрыл лицо руками.
Наконец он пришел в себя, собрался с силами и сказал каким-то бесцветным голосом:
— Это мы виноваты в том, что произошло. Гвидионцы избегают обезьян. На этой планете хватит места для всего живого. А нам… нам понадобилось влезть прямо к ним в пасть.
Подумав некоторое время, Ворон спросил:
— Почему тебе кажется, что боль и смерть так ужасны?
— Я их не боюсь, — ответил Тольтека, ощутивший легкий укол обиды.
— Я не это имел в виду. Мне просто кажется, что в глубине души ты не считаешь их неотъемлемой частью жизни. А я — да. И гвидионцы тоже. — Ворон медленно распрямился. — Пожалуй, пора возвращаться.
С трудом передвигая ноги, оба астронавта направились к главной тропе. На подходе к ней они столкнулись с Эльфави; ее сопровождали трое лучников и Коре.
Изумленно вскрикнув, она бросилась им навстречу. Тольтека подумал, что она похожа на дриаду, бегущую под зеленым сводом. Хотя он был гораздо больше окровавлен, она ухватилась обеими руками не за него, а за Ворона.
— Что случилось? Ой, как я волновалась…
— С обезьянами повздорили, — ответил Ворон и с довольно кислой улыбкой отстранил ее от себя. — Осторожно, госпожа. Особого вреда они не причинили, но я весь в грязи, а когда все тело ноет, тут уж не до объятий.
«Я бы так не смог», — безысходно подумал Тольтека и хриплым голосом рассказал, как все произошло.
Беодаг присвистнул:
— Значит, они уже на грани изготовления орудий! Но могу поклясться, я такого за ними не замечал. И на меня они никогда не нападали.
— Однако те стаи, которые тебе пришлось наблюдать, живут гораздо ближе к поселениям людей, так ведь? — спросил Ворон.
Беодаг кивнул.
— Тогда все ясно, — заявил Ворон. — Каковы бы ни были причины ваших неприятностей во время Бэйла, горные обезьяны в этом не виновны.
— Как? Но если у них есть оружие…
— У этой стаи — да. Она, должно быть, сильно обогнала в развитии другие. Вероятно, благодаря мутации, закрепленной при близкородственном скрещивании, эти обезьяны стали умнее среднего уровня. Остальные их сородичи, как мне представляется, не достигли даже этого уровня, хотя они, в отличие от нашей стаи, наблюдали людей, использовавших в работе инструменты. Убежден, наши лесные дружки не смогли бы проникнуть в ваш дом. Костью дверь не взломаешь. Кроме того, им не хватает упорства. Они вполне могли бы одолеть нас, и им следовало бы это сделать после той трепки, которую мы им задали, но они сдались. Да и к чему им грабить дома? Изделия человеческих рук не имеют для них никакой ценности. Они выбросили не только наши пистолеты, но и кинжалы. Про обезьян мы можем забыть.
Гвидионцев, судя по их виду, такой вывод обеспокоил. Глаза Эльфави наполнились слезами.
— Не мог бы ты забыть об этом наваждении хотя бы на день? — взмолилась она. — Какой бы это был для тебя замечательный день!
— Хорошо, — устало откликнулся Ворон. — Пожалуй, я лучше побеспокоюсь о лекарствах, перевязке и чашке чая. Ну что, довольна?
— Да, — ответила она, принужденно улыбаясь. — Пока что я довольна.
9
В Звездаре воцарился праздник. Тольтека поневоле вспоминал Карнавальную неделю на Нуэвамерике — не лихорадочную суету городов, а маскарады и уличные празднества в глухих уголках, где людское веселье еще не превратилось в источник прибыли. Как ни странно, в канун Бэйла обычно церемонные гвидионцы отбрасывали многие условности. Нет, они не теряли ни учтивости, ни честности, ни отвращения к насилию — эти качества, по-видимому, слишком глубоко укоренились. Однако мужчины на улицах то и дело затевали шумную возню, женщины одевались в такие роскошные наряды, которые в любое другое время длинного гвидионского года вызвали бы насмешку, школы превратились в площадки для игр, умеренные трапезы сменились настоящими пиршествами, а многие семьи извлекали на свет запасы вина и пили, пока хватало сил. Все двери были украшены венками из жюля, роз и пряно пахнущей травы маргви, музыка не смолкала ни на минуту круглые сутки.
И так происходит на всей этой планете, подумал Тольтека, во всех городах на всех обитаемых островах: наступил сезон цветения, и скоро люди отправятся в свои святилища.
Он шел по посыпанной гравием дорожке, держа за руку мальчика Бьерда. Вдалеке на западе дремали вздымавшиеся над кромкой леса угрюмые горные пики.
— А потом? — спросил Бьерд, слушавший, затаив дыхание, рассказ Тольтеки.
— Потом мы сидели в Городе и развлекались как могли, пока не пошел дождь, — ответил Тольтека. — А потом, когда ядовитой пыли можно было не бояться, мы добрались до цели нашего путешествия, осмотрели предназначенную для космодрома площадку — отличное, кстати, место — и вернулись назад. — Он не хотел рассказывать и даже вспоминать о том, что произошло в лесу. — Кстати, а когда точно мы вернулись?
— Позавчера.
— Да-да, так примерно мне и казалось… У вас здесь трудно следить за временем: жизнь так прекрасна, и никто не смотрит на часы.
— Ой, а Город? Он какой?
— А ты что, не знаешь?
— Не, моему двоюродному брату в школе немножко рассказывали, а он мне — вот и все. В прошлый Бэйл меня еще и на свете не было. А теперь я уже большой и могу пойти в Город с мамой.
— Город очень красивый, — начал Тольтека. Он с трудом мог понять, как малыши вроде этого могут участвовать в длительной религиозной медитации — если, конечно, это медитация — и как им удается потом держать пережитое в тайне.
Между тем Бьерд вспомнил еще об одном чуде:
— Большой Мигель, расскажи мне, пожалуйста, о планетах. Когда я вырасту, я хочу быть астронавтом. Как ты.
— Может, и станешь, — ответил Тольтека.
Бьерд получит здесь не худшее образование, чем в любом уголке исследованной Галактики. К тому времени когда мальчик подрастет, лет этак через десять, астроакадемии на планетах вроде Нуэвамерики с удовольствием распахнут свои двери перед курсантами-гвидионцами. Да и сам Гвидион через десятилетие будет нечто большее, нежели простая перевалочная база. Люди столь одаренные, как его жители, не смогут удержаться: в них наверняка проснется желание узнать больше о Вселенной (впрочем, почему «проснется»? Они и сейчас так живо всем интересуются, что лишь восхищение перед разумностью и содержательностью их вопросов позволяет выдержать их количество) — и, к чему скрывать, появляется желание оказывать на них влияние. Империя пала, человечество снова пришло в движение. Можно ли придумать для возникающей новой цивилизации лучший идеал, нежели Гвидион?
«А почему я забыл про себя? — подумал Тольтека. — Когда мы построим здесь свои космодромы — скоро их будет не один, а много больше, — на них потребуются нуэвамериканские администраторы, инженеры, торговцы, офицеры связи. Почему бы мне не стать одним из них и не прожить остаток жизни под Инисом и Ею?»
Он опустил глаза на лохматую головенку шедшего рядом мальчика. Мысль о том, чтобы жениться на женщине с ребенком, всегда ему претила. Но почему бы и нет? Бьерд — воспитанный и одаренный мальчик, но это не мешает ему быть по-детски непосредственным. Воспитывать его будет большим удовольствием. Вот, скажем, и нынешняя прогулка — предпринятая, честно говоря, с целью снискать расположение некоей Эльфави Симнон — очень его позабавила.
Тольтека вспомнил, как один из нуэвамериканских астронавтов выразил желание поселиться здесь, и Ворон предостерег его: мол, через стандартный год ты сойдешь с ума от скуки. Но что в этом понимает Ворон? Нет сомнений, в его отношении это предсказание справедливо. Лохланское общество, жестко разделенное на касты, регулируемое обрядами, надменное и жестокое, не имеет с Гвидионом ничего общего. «Но вот Нуэвамерика… стоит ли притворяться, что мне будет недоставать огней и высотных зданий, театров, баров, веселых вечеринок… да, время от времени я буду по всему этому скучать. Но что помешает мне ездить туда с семьей в отпуск? А что касается повседневной жизни, то вот — мирный, разумный, но при этом веселый народ, обладающий осмысленным и воплощенным в жизнь идеалом красоты и живущий на малозаселенной планете в полной гармонии с девственной природой. И при этом их жизнь отнюдь не стоит на месте. Они ведут научные исследования, разрабатывают новые инженерные проекты, да и искусство у них прогрессирует. Достаточно вспомнить, как они обрадовались возможности установить регулярные связи с другими звездами. Разве можно не влюбиться в Гвидион? А особенно в…»
Но Тольтека отогнал эту мысль. Он принадлежит к цивилизации, которая рассматривала все проблемы прежде всего с практической точки зрения. Поэтому не стоит предаваться пустым мечтаниям, лучше обдумать, что следует конкретно предпринять, чтобы добиться желаемого. Пока что удача сопутствует Ворону, однако вряд ли это обстоятельство явится серьезным препятствием, тем более чточ Ворон отнюдь не обнаружил желания остаться здесь навсегда. Бьерд продолжал приставать к Тольтеке с просьбами рассказать о других планетах, и астронавт пустился в воспоминания, не забывая, что его слушатель — всего лишь ребенок, так что остаток пути прошел быстро.
Они вошли в город. За время их отсутствия с ним произошла странная метаморфоза: улицы опустели, жители, еще несколько часов назад толпившиеся на улицах, теперь заперлись в домах. Время от времени то там, то тут мелькала одинокая фигура человека, спешившего куда-то с ношей в руках, но это лишь подчеркивало безлюдность города. И хотя нагретый лучами солнца воздух был неподвижен, из домов доносились отчетливые звуки, похожие на бормотание.
Бьерд выпустил руку Тольтеки и запрыгал по мостовой.
— Уходим, уходим! — закричал он нараспев.
— Откуда ты знаешь? — спросил Тольтека, уже знавший, что фиксированной даты наступления Бэйла не существует.
Мальчик в ответ улыбнулся всеми своими веснушками:
— Я знаю, большой Мигель! А ты с нами пойдешь?
— Я лучше, пожалуй, останусь присматривать за твоими зверюшками, — ответил Тольтека. У Бьерда, как и у большинства детей его возраста, был собран целый зверинец из жуков и земноводных.
— А вот и деда! Здравствуй, деда! — Бьерд пустился бегом.
Дауид, выходивший из дома, весь подобрался, когда внук ударился в него с силой небольшого циклона, обнял мальчика и подтолкнул к двери.
— Иди домой, — сказал он. — Мама собирается. Прежде чем мы отправимся в путь, ей нужно смыть с тебя хотя бы килограмм-другой грязи и собрать тебе еды в дорогу.
— Спасибо, большой Мигель! — бросил на бегу Бьерд и юркнул в дом.
— Надеюсь, он вас не слишком утомил, — сказал Дауид с добродушным смешком.
— Вовсе нет, — ответил Тольтека. — Мне очень понравилось с ним гулять. Мы прошлись вверх по реке до Дома философов. Я и представить себе не мог, что в месте, предназначенном для отвлеченных раздумий, могут быть площадки для пикников и карусель.
— А почему бы и нет? Как я наслышан, философам также ничто человеческое не чуждо. Возня с детьми их забавляет… а ребятишки, может быть, приучатся уважать мудрость. — Дауид вышел на улицу. — Мне предстоит одно дело. Не хотите ли составить мне компанию? Поскольку вы — человек технического склада ума, вам это может быть интересно.
Тольтека поспешил нагнать Дауида и пошел с ним рядом.
— Значит, вы вот-вот уходите? — спросил он.
— Да. Даже мне все признаки стали ясны. Пожилые люди не так чувствительны, а молодые все это утро сами не свои. — Глаза Дауида лихорадочно блестели. Его смуглое, изборожденное морщинами лицо уже не было таким безмятежным, как обычно.
— По прямой до Святого Города примерно десять часов ходьбы пешком, — продолжил он, помолчав. — Если ты не обременен детьми и стариками, то время пути сокращается. Если вы сами почувствуете приближение Бэйла, очень надеюсь, что вы последуете за нами и проведете вместе с нами эти дни.
Тольтека с силой втянул в себя воздух, будто надеясь распознать признаки приближения Бэйла. Воздух был напоен благоуханием сотен цветущих трав, деревьев, кустов, лиан; в солнечных лучах гудели, собирая нектар, насекомые-медоносы.
— А каковы эти признаки? — спросил он. — Мне этого никто не говорил.
Обычно, когда у Дауида спрашивали что-нибудь о Бэйле, он, как и другие его соплеменники, приходил в некоторое замешательство и менял тему разговора — сделать это было очень просто, ведь после тысячи двухсот лет изолированного существования у них было о чем поговорить. Теперь же врач громко расхохотался.
— Я не могу вам этого объяснить, — сказал он. — Я просто знаю их, вот и все. Откуда узнают бутоны, что настало время распуститься?
— Но неужели вы в другое время года не пытались научно исследовать…
— Вот мы и пришли!
Дауид остановился у здания из монолитного камня, того самого, что находилось в самом центре города. Его угловатая громада мрачно нависала над ними. Портал здания оказался открытым, они вошли и зашагали по прохладным коридорам, где царил полумрак. Их обогнал человек с гаечным ключом в руках. Дауид приветственно помахал ему рукой.
— Это механик, — объяснил он, — в последний раз проверяет центральный пульт управления. Все, что необходимо для жизни или является источником повышенной опасности, во время Бэйла свозят сюда. Например, автомобили ставят в гараж в конце вон того коридора. Моя обязанность… вот мы и на месте!
Он распахнул дверь, за которой оказался залитый солнцем огромный зал; вдоль его стен, покрытых яркими росписями, выстроились ряды колыбелей и детских манежей. Возле каждого из них стоял самодвижущийся робот, а в центре помещения гудела какая-то сверкающая машина внушительных размеров. Дауид прошелся по залу, заглядывая во все углы.
— Это рутинная инспекция, делающаяся, честно говоря, просто для проформы, — объяснил он. — Инженеры уже все здесь перебрали. Я как врач должен лишь удостовериться, что это помещение приятно на вид и соответствует нормам гигиены. Но еще не было случая, когда что-нибудь оказалось бы не в порядке.
— А для чего все это? — поинтересовался Тольтека.
— Вы не знаете? Чтобы ухаживать за малышами, за теми, кто не может отправиться с нами в Святой Город по малолетству. Впервые мы отваживаемся брать их с собой, когда они достигают возраста Бьерда. Одно крыло этого здания отведено под госпиталь — там во время Бэйла роботы нянчат больных и дряхлых, но его осматриваю не я. — Дауид щелкнул пальцами. — И что же еще, во имя хаоса, хотел я вам сказать? Ах да, конечно. На случай, если вас еще никто не предостерег. На время Бэйла это здание запирается. Если что-то — или кто-то — приблизится к нему на расстояние менее десяти метров, на него автоматически наводятся силовые лучи. Любой движущийся объект, добравшийся до наружной стены, будет уничтожен струями пламени. Лучше держитесь отсюда подальше!
Тольтека притих, встревоженный неожиданной грубостью последних слов.
Наконец он пробормотал:
— Не слишком ли это серьезные меры предосторожности?
— Бэйл длится примерно три гвидионских дня и три ночи, — сказал Дауид. Он неотрывно смотрел на один из манежей и бросал слова через плечо. — Это более десяти стандартных суток. Плюс время, которое требуется, чтобы дойти до Святого Города и назад. Мы стараемся подстраховаться.
— Но чего вы боитесь? Что может произойти?
Дауид ответил без обычной сдержанности: будучи во власти охватившей его эйфории, он наконец мог говорить не таясь:
— Случается, что некоторые из тех, кто отправляется в Святой Город, не возвращаются назад. Другие, вернувшись, порой обнаруживают, что, несмотря на замки и ставни, в городе кто-то учинил разгром. Поэтому-то мы и помещаем самые важные наши машины и тех из нас, кто не может обходиться без посторонней помощи, в такое место, куда никто не может проникнуть, и оставляем их на попечении механической прислуги, пока не сработают таймеры и замки не откроются автоматически.
— Нечто подобное я и предполагал, — вполголоса заметил Тольтека. — Но вы имеете какое-то представление о причине возникающих неприятностей?
— Точного представления — нет. Часто в этом винят горных обезьян, но после вашей встречи с ними их можно освободить от подозрения. Я точно не знаю, но, возможно, мы — не единственные разумные обитатели Гвидиона. Здесь могут жить настоящие аборигены этой планеты, настолько чуждые нам, что мы не смогли распознать признаки существования их культуры. Может быть, легенды о существах, живущих под землей или скрывающихся в лесной чаще, имеют под собой какую-то фактическую основу. Не знаю. А теоретизировать, не имея фактических данных, бессмысленно.
— Пытались ли когда-нибудь вы или ваши предки собрать эти данные?
— Да, и не раз. Мы неоднократно устанавливали камеры и другие записывающие устройства. Но они либо ничего не засекали, либо их обнаруживали и уничтожали. — Дауид внезапно замолк и продолжил свой обход. Его движения стали какими-то угловатыми, а походка неровной.
Когда они вышли из крепости, Тольтека собрался с силами и робко предложил:
— Может быть, мы, люди со звездолета, понаблюдаем за тем, что происходит, когда вас нет?
Дауид уже опять успокоился.
— Попробуйте, если хотите, — сказал он, — но сомневаюсь, что вас ждет успех. Видите ли, я не думаю, что кто-то появится в городе. Такого не случалось уже много лет. Даже во времена моего детства налет на брошенный населенный пункт был редкостью. Поверьте, для нас это не представляет серьезной проблемы. В отдаленном прошлом было хуже, но теперь подобные случаи почти прекратились и у нас нет даже стимула изучать их причины.
Тольтека решил про себя, что возможность открыть существование коренного населения на Гвидионе — для него лично уже достаточно серьезный стимул. Однако ему не хотелось еще больше волновать своего хозяина. На ходу он закурил сигарету. Если не считать его и Дауида, улицы совершенно обезлюдели. А между тем солнце продолжало заливать их своими лучами, отчего непонятный страх, закравшийся Тольтеке в душу, еще более усилился.
— Боюсь, вам предстоит скучное время, — сказал старик. Чем дальше уходили в прошлое вопросы нуэвамериканца, тем больше становился он похож на себя прежнего. — Все ушли, все заперто, и так по всей обитаемой планете. Может, вы захотите на это время слетать в южное полушарие и немножко его исследовать?
— Думаю, мы останемся здесь и приведем в порядок результаты наших изысканий, — ответил Тольтека. — Это уйма работы. А когда вы вернетесь…
— Несколько дней после Бэйла мы будем мало на что годиться, — предупредил его Дауид. — Смертной плоти нелегко быть Богом.
Они дошли до его дома. На пороге Дауид остановился в явном замешательстве:
— Мне следовало бы пригласить вас зайти, но…
— Понимаю. Семейные обряды, — улыбнулся Тольтека. — Я пойду прогуляюсь до парка на окраине города. Вы будете проходить мимо, и я помашу вам на прощанье.
— Спасибо, друг издалека.
Дверь закрылась. Тольтека постоял, сделал несколько глубоких затяжек, раздавил окурок каблуком и двинулся вперед между слепыми стенами, окна в которых были наглухо закрыты ставнями.
10
Парк пестрел цветами. Несколько членов экспедиции с комфортом устроились в тени деревьев, также желая понаблюдать за тем, как жители Звездара покинут город. Тольтека заметил среди них Ворона и стиснул зубы: «Нет. Я не выйду из себя». Он подошел к Ворону и поздоровался.
Ворон ответил с лохланской церемонностью. Собираясь на проводы жителей Звездара, наемник облачился в парадный костюм: блуза, брюки, сапоги из тисненой кожи, расшитая епанча. Он стоял возле самого бэйлова куста, который доставал ему до макушки. Бутоны на кусте распускались, он весь был буквально усыпан багровыми цветами. Запах их чем-то напоминал аромат родственного вида, растущего в горах, но было и какое-то характерное отличие: в нем был специфический фосфористый привкус и что-то еще, чему, несмотря на все усилия, память не могла подобрать аналога. На руках Ворона примостился сиамский кот Зио; пальцы хозяина поглаживали животное, а кот в ответ на ласку тихо мурлыкал.
Тольтека рассказал Ворону о предостережении, данном ему Дауидом относительно крепости. Ворон согласно кивнул:
— Знаю. Я бы на их месте поступил так же.
— Да уж, ты-то бы поступил, — ответил Тольтека, но спохватился о только что данном зароке и уже безразличным тоном добавил: — Однако у гвидионцев такая жестокость, кажется, не в обычае.
— Просто сейчас необычное время года. Каждые пять стандартных лет на протяжении примерно десяти стандартных суток с ними что-то происходит. У меня было бы куда легче на душе, знай я точно, что именно.
— Полагаю… — Тольтека сделал паузу. Ему было неприятно произносить подобное вслух, но в конце концов он выдавил из себя: — Дионисийская религия.
— Что-то не верится, — ответил Ворон. — Эти люди знают, как происходит фотосинтез. Они просто не могут верить в то, что магические действия делают землю плодороднее.
— И все-таки подобные церемонии могли у них сохраниться по каким-нибудь историческим или психологическим причинам. — Тольтека представил себе пьяную Эльфави, переходящую, задыхаясь, из объятий в объятия, и его так и передернуло. Однако, если он не скажет это сам, эта мысль придет в голову кому-нибудь другому; а он, продолжал убеждать себя Тольтека, — достаточно зрелая личность, чтобы принять другую культуру, какова бы она ни была. — Они по природе склонны к вакхическим оргиям.
— Нет, — возразил Ворон. — Здешняя культура не более дионисийская, чем наша с тобой — и это справедливо для любого времени года. Поставь себя на их место, и тебе все станет ясно. Их хладнокровие, рассудительность, чувство юмора просто не позволят им принять всеобщую свалку всерьез. Кто-то обязательно должен рассмеяться и испортить всю обедню.
Тольтека неожиданно для себя ощутил к Ворону некоторую симпатию.
— Полагаю, ты прав, во всяком случае, мне хочется в это верить. Но чем же тогда они там занимаются? — И, помолчав минуту, добавил: — Понимаешь, нас ведь, можно сказать, пригласили последовать за ними. Мы можем просто сходить и понаблюдать.
— Нет. Лучше не стоит. Если ты не забыл, в каких выражениях было сделано это уклончивое приглашение, то поймешь: непременным условием нашего появления в Святом Городе было следующее — мы становимся их единоверцами и участвуем в празднествах наравне с ними, какой бы характер ни имели эти празднества. Не думаю, что нам удастся подделаться под них. А если мы в такие минуты отвлечем их внимание — чем дальше, тем более я начинаю думать, что это празднество есть краеугольный камень всей их культуры, — если мы так поступим, то можем потерять их расположение.
— М-м-да, пожалуй… Минутку! Может быть, мы все-таки сможем последовать за ними. По-моему, они принимают какой-нибудь наркотик. Скорее всего это галлюциноген, наподобие мескалина, но, возможно, и что-нибудь вроде лизергиновой кислоты. Так или иначе, это, возможно, и есть основа Бэйла. Ты ведь знаешь: немало народов, в том числе и имеющих достаточно развитую науку, полагают, что с помощью их священного наркотика им открываются истины, не познаваемые никакими иными способами.
Ворон покачал головой.
— Если бы в нашем случае дело обстояло так, — ответил он, — на Гвидионе пользовались бы этой штукой чаще, чем раз в пять лет. Кроме того, вряд ли они стали бы так темнить насчет своей религии. Нам бы откровенно рассказали о наркотике или вежливо объяснили, что мы не прошли обряда посвящения, а посему то, что происходит в Святом Городе, нас не касается. Еще один довод против твоего предположения: они в повседневной жизни избегают употреблять какие-либо наркотики. Им претит сама мысль о том, чтобы нарушать нормальное функционирование организма и нервной системы. Ты знаешь, что вчера я впервые узнал и увидел, что гвидионцы, оказывается, тоже способны злоупотреблять алкоголем!
— Что ж, — раздраженно бросил Тольтека, — может, ты мне тогда объяснишь, чем они там занимаются?
— Если бы я мог!.. — Ворон обеспокоенно огляделся вокруг, и его взгляд наткнулся на бэйлов куст. — Вы уже закончили химический анализ этой штуки?
— Да, всего лишь несколько часов назад. Нам не удалось обнаружить ничего особенного.
— Совсем ничего?
— Э-э… ну да, среди других компонентов его запах содержит один фермент, вероятно, для привлечения насекомых-опылителей. Но он совершенно безвреден. Если бы его можно было вдохнуть в необычайно большой концентрации — скажем, в несколько тысяч раз больше той, что встречается на открытом воздухе, — тогда, может быть, тебя бы немного замутило. Но чтобы словить настоящий кайф — это вряд ли.
Ворон нахмурился:
— И тем не менее у этого куста и праздника одинаковые названия. И из всего, что можно найти на этой планете, лишь с этим кустом не связано никаких мифов.
— Хингес покопался в лингвистической литературе, и мы с ним проанализировали этот вопрос. Не забывай, гвидионский язык происходит от довольно архаичного диалекта англика, мало чем отличающегося от древнего английского. В зависимости от этимологии слово «бэйл» имеет несколько значений: «узелок», «костер», особенно погребальный, «зло» или «горе», а если забраться в глубь веков, мы найдем родственное ему слово «Ваал», обозначающее бога. — Тольтека достал сигарету, постучал ею по ногпо большого пальца и, нервным движением чиркнув спичкой о каблук, закурил. — Тебе нетрудно представить, как в сознании гвидионцев могут переплестись значения столь многозначного слова, — продолжил он, — какая здесь кроется запутанная символика. У этих цветов длинные лепестки, направленные вверх; полагаю, цветущий куст должен сильно напоминать костер — Неопалимую купину религии наших первобытных времен. Поэтому, возможно, он и называется «бэйлов куст». Однако это название может означать «Бог» и «зло». А цветет он как раз во время празднования Бэйла. Таким образом, благодаря всем этим совпадениям бэйлов куст символизирует Ночные Лики, деструктивный аспект реальности… возможно, его самую страшную и жестокую фазу. Вот почему о нем никто не говорит. Гвидионцы избегают создавать мифы, смысл которых столь явно лежит на поверхности. Они не отрицают существование зла и горя, но и не дают себе труда всерьез задуматься над этими явлениями.
— Знаю, — ответил Ворон. — И в этом отношении они походят на нуэвамериканцев. — Последнее слово Ворон произнес с плохо скрытым презрением.
Тольтека почувствовал это и пришел в ярость.
— В других отношениях тоже! — отрезал он. — Включая и тот факт, что вашим кровожадным воякам никогда не удастся устроить на этой планете резню!
Ворон посмотрел инженеру прямо в лицо. То же самое сделал Зио. Зрелище было не из приятных: кошачьи глаза сверлили Тольтеку таким же холодным и неподвижным взглядом, как и глаза человека.
— А ты уверен, — спросил Ворон, — что эти люди принадлежат к тому же биологическому виду, что и мы?
— Ах вот оно что! Если ты так думаешь… из-за своего проклятого расизма… всего лишь потому, что они слишком цивилизованны, чтобы затевать войны подобно тебе. — Тольтека сжал кулаки и подался вперед. «Если бы только Эльфави видела! — мелькнуло в его воспаленном мозгу. — Если бы она услышала, что это животное на самом деле о ней думает!»
— Впрочем, не исключено, что у нас с ними может быть общее потомство, — продолжил Ворон. — Еще немного — и мы сможем это установить со всей достоверностью.
От этих слов Тольтека окончательно потерял контроль над собой. Его кулак сам собой вылетел вперед.
Ворон вскинул руку — Зио при этом вскочил ему на плечо — и блокировал удар. Затем, скользнув рукой вниз по руке Тольтеки, Ворон ухватил его за предплечье, другой рукой за бицепс, а ногой дал подсечку. Тольтека рухнул на спину. Кот истошно завопил и бросился на него, выпустив когти.
— Не нужно, Зио. — Ворон отпустил нуэвамериканца. К ним спешили несколько солдат. Он знаком отослал их назад. — Все в порядке! — крикнул он. — Я просто показываю прием.
Коре, казалось, засомневался, но тут кто-то крикнул: «Идут!», и все внимание переключилось на дорогу. Тольтека поднялся на ноги; захлестнувшие его стыд, гнев и замешательство туманили глаза, и сквозь пелену он едва ли мог рассмотреть что-либо на дороге.
Впрочем, ничего сверхъестественного там не происходило. Жители Звездара шли не спеша, легким, пружинистым, натренированным шагом людей, привычных к дальним переходам. Никто не соблюдал строя. На людях были легкие развевающиеся одежды. Учитывая относительную непродолжительность пути, каждый взял с собой небольшой запас пищи, единственную смену одежды и более ничего. На ходу они весело переговаривались друг с другом, смеялись, пели и были чем-то похожи на беззаботную стаю птиц или на солнечные блики, играющие на чуть колышущейся ряби озера. В бурлящем людском потоке мелькали яркие разноцветные туники, венки в светлых волосах, множество загорелых рук и ног. То и дело кто-нибудь из взрослых принимался пританцовывать в окружении шумной ватаги резвящихся и подпрыгивающих на ходу ребятишек.
Все это медленно проплывало мимо пришельцев, люди шли в горы, где их ждал Святой Город.
Вдруг от толпы отделилась Эльфави. Подбежав к Ворону, она схватила его за обе руки и воскликнула:
— Пойдем с нами! Неужели ты ничего не чувствуешь, лиата?
Лицо Ворона окаменело; он окинул ее долгим взглядом и покачал головой:
— Нет. Прости.
Глаза Эльфави наполнились слезами — это тоже было совсем не по-гвидионски.
— Значит, ты никогда не сможешь быть Богом?
Она опустила голову, золотистые кудри закрыли ей лицо. Тольтека стоял неподвижно и смотрел. Что ему еще оставалось?
— Если бы я могла наделить тебя этой силой, — сказала Эльфави, — я бы отдала тебе свою. — Она отпрянула назад, воздела руки к солнцу и закричала: — Не может быть, чтобы ты этого не чувствовал! Бог уже здесь, он везде. Я вижу, как от тебя исходит Вуи, Ворон! Прошу, пойдем со мной, ты должен!
Ворон сложил руки под епанчой.
— Ты здесь со мной не останешься? — спросил он.
— Да, навсегда, навсегда.
— Нет, я имею в виду — сейчас. На время Бэйла.
— Что? О… нет, да… ты шутишь?
— Я слышал, Ночные Лики иногда являются людям и под Колумкиллским обрывом. И еще я слыхал, что далеко не каждый год все, кто ушел в Святой Город, возвращаются домой. — Ворон говорил медленно, чтобы до ее сознания дошел смысл его слов.
Эльфави отпрянула от него на шаг.
— Бог не только добр! — умоляющим тоном произнесла она. — Бог реален.
— Да. Не менее реален, нежели смерть.
— Великий илем! — взорвался Тольтека. — Слушай, чего ты хочешь? Туда идут вс&, кто способен стоять на ногах. У кого-то может быть болезнь в начальной стадии, у кого-то слабое сердце, у кого-то плохие сосуды. От напряжения…
Ворон пропустил его слова мимо ушей.
— Скажи, Эльфави, то, что происходит во время Бэйла, — это что, тайна? — спросил он.
Мускулы Эльфави напряглись. Бурлившее в ней веселье выплеснулось наружу:
— Нет. Просто слова такие бледные и тусклые. Той ночью в святилище я тебе уже говорила об этом.
Ворон еще больше помрачнел.
— Ну, кое-что, по крайней мере, можно описать и словами. Расскажи мне, что сможешь. Что происходит с твоим физическим телом? Что можно было бы снять на пленку?
Кровь отхлынула от лица Эльфави. Она застыла в неподвижности, похожая на статую. Наконец в сгустившейся тишине прозвучало:
— Нет. Не могу.
— А может быть, тебе нельзя? — Ворон схватил женщину за голые плечи с такой силой, что пальцы вдавились в тело. Она, казалось, даже этого не почувствовала. — Тебе нельзя рассказывать про Бэйл, ты не хочешь или не можешь?! — прорычал он. — Что именно? Ну, живо! Отвечай!
Тольтека попытался пошевелиться, но тело его не слушалось. А мимо, пританцовывая, все шли и шли звездарцы, слишком упоенные и ликующие, чтобы замечать что-либо вокруг. Свидетели происходящего — нуэвамериканцы возмутились. Но Вильденвей небрежным жестом вынул из кобуры пистолет и многозначительно ухмыльнулся им в глаза. Эльфави задрожала.
— Не могу! — выдохнула она.
Лицо Ворона снова окаменело и превратилось в неподвижную маску.
— Ты не знаешь, — сказал он. — В этом все дело?
— Пусти!
Он отпустил Эльфави. Споткнувшись, она чуть не налетела на бэйлов куст, на мгновение присела, тяжело дыша и всхлипывая, и тут же, как если бы на происходящее упал занавес, вновь вернулась в прежнее состояние безмятежного счастья. На ее щеках еще блестели слезы, но она взглянула на синяки у себя на теле, беззаботно рассмеялась, бросилась к Ворону и поцеловала его в неподвижные губы.
— Так жди меня, лиата! — Она сделала пируэт, затем скачок и исчезла в толпе.
Ворон стоял не шевелясь и неотрывно смотрел вслед удаляющейся по извилистой дороге толпе. Тольтека никогда бы не поверил, что человек способен простоять в полном оцепенении так долго.
Наконец, чувствуя появившийся во рту неприятный привкус, он спросил:
— Ну что, ты доволен?
— В некотором смысле — да. — Ворон по-прежнему стоял все в той же неподвижной позе. Его слов никто не понял.
— Не будь слишком самонадеян, — сказал Тольтека. — Она сейчас просто невменяема. Прежде чем тешить себя иллюзиями, подожди, пока она вернется и придет в себя.
— Что? — Устало моргая, Ворон обернулся. Казалось, он узнал Тольтеку не сразу. — Ах вот ты о чем! Ты не прав. Это не болезнь. Она не безумна.
— Гм…
— У вас на планете тоже меняются времена года. Если весной у тебя играет кровь, разве ты считаешь это болезнью? Разве для тебя не естественно, когда ясным осенним днем в твои жилы вливаетвя бодрость?
— На что ты намекаешь?
— Неважно. — Ворон пожал плечами, и они безвольно обвисли, как у дряхлого старика. — Ладно, господин инженер, не пора ли нам возвращаться на корабль?
— Но… Оа! — Тольтека с силой ткнул пальцем в лохланца. — Ты что, хочешь сказать, что разгадал?
— Да. Хотя, конечно, я могу и ошибиться. Пойдем. — Ворон поднял с земли Зио и долго устраивал ему уютное гнездышко у себя в рукаве.
— Что?
Не отвечая, Ворон двинулся к солдатам.
Тольтека схватил его за руку. Ворон резко развернулся. На секунду лицо лохланца исказила такая ярость, что Тольтека невольно отступил. Схватившись за кинжал, Ворон прошептал: «Никогда больше этого не делай».
Тольтека собрался с духом.
— В чем твоя догадка? — Он не спрашивал, он требовал ответа. — Если Бэйл действительно опасен…
Ворон взял себя в руки.
— Я знаю, что ты задумал, — сказал он уже спокойнее. — Ты хочешь отправиться туда и в случае нужды защитить ее, так что ли?
— Да. Предположим, они и в самом деле лежат там в коматозном состоянии. Какой-нибудь зверь может проскользнуть мимо сторожевых роботов и…
— Нет. Ты никуда не пойдешь. И остальные тоже. Это приказ, и я требую его выполнения данной мне властью военного командира. — Суровый тон Ворона смягчился. Он облизнул губы, будто пытаясь набраться мужества. — Неужели ты не видишь, — добавил он, — все это продолжается у них уже более тысячи лет? Они сумели постепенно выработать — не осмысленно придумать, а вслепую выработать — способы, которые свели опасность до минимума. Большинство остается в живых. Лишь Их предки могли бы объяснить, какое хрупкое равновесие ты можешь нарушить. — Еще помолчав, Ворон продолжил: — Я сталкиваюсь с таким не в первый раз. Мне приходилось, разработав наилучшую диспозицию, посылать солдат в бой, а потом сидеть и ждать, зная, что если я вмешаюсь, пытаясь им помочь, то лишь уменьшу их шансы выжить. А ведь куда труднее иметь дело с Богом, который к тому же способен повернуться к тебе любым ликом. — Устало переставляя ноги, он побрел прочь. — Ты останешься с нами здесь и будешь ждать.
Тольтека пристально смотрел ему вслед. А в его мозгу постепенно зрела мысль: «Нет, во имя хаоса, не буду!»
11
Ворон просыпался с трудом. Он взглянул на часы. Гром и молния, неужели он проспал одиннадцать часов? Да еще будто после наркотиков. Сон не унес усталость. Возможно, дело в том, что ему снились кошмары; какие именно — он не помнил, но в душе остался горький осадок. Ворон спустил ноги с койки и, сев на ее край, обхватил голову руками и попытался припомнить свой сон. Единственное, впрочем, что ему удалось, — это вспомнить отцовский замок, ястребов, гнездящихся на колокольне, себя, сидящим верхом на одной из лошадей, которыми лохланцы все еще пользуются; он собирается отправиться в путь, но остановился, чтобы взглянуть вниз на склон горы, болота, леса и жалкие клочки крестьянских полей, а затем все поплыло и растворилось в голубой необъятности. Лишь ветер доносил запах ледников.
Он нажал кнопку вызова вестового. В дверь каюты просунулся безобразный огромный нос Корса. «Чаю!» — приказал Ворон.
Чай обжег рот, но благодаря ему Ворон почувствовал себя менее разбитым и смог заставить себя расслабиться. Мозг со скрипом, но заработал. Все-таки не слишком разумно сидеть сложа руки и ждать, пока звездарцы вернутся домой. С Тольтекой он, пожалуй, перегнул палку, но этот парень его раздражал, а кроме того, только что сделанное открытие просто выбило его из колеи. Сейчас Ворон был уже в состоянии обсудить этот вопрос и все рассказать. Ему, честно говоря, не очень-то этого хочется. Какое право имеют жирные нуэвамериканские лавочники услышать такую истину? Но ее наверняка рано или поздно откроет какая-нибудь новая экспедиция. Если впервые правду услышат из уст аристократа, возможно, удастся избежать огласки.
«Не такой уж он и плохой, этот Тольтека, — заставил себя признать Ворон. — Наши раздоры наполовину из-за того, что он немного влюблен в Эльфави. Когда он поймет, что к чему, это скорее всего пройдет. Таким образом, он сумеет взглянуть на вещи объективно и, надеюсь, поведет себя достойно».
Эльфави. Ее образ предстал перед мысленным взором сурового лохланца и затмил все остальное. Многое между ними осталось недосказанным. Они так и не решились дать волю своим чувствам. Оба слишком опасались последствий. Но теперь… «Не знаю. Просто не знаю».
Он встал, оделся в простой повседневный костюм и вышел из каюты; Зио увязался следом. Каюта Тольтеки находилась в конце небольшого коридора. Ворон позвонил в дверь, никто не ответил. Ладно, посмотрим в кают-компании… В кают-компании сидел капитан Утиэль; он курил сигару, углубившись в какое-то старое письмо, и до него не сразу дошло, что от него хочет Ворон.
— Нет, военачальник, — ответил он на его вопрос, — я не видел господина инженера Тольтеку… э-э… уже добрых два, а то и три часа. Он сказал, что хочет посмотреть на прилив с дамбы и вернется не скоро. Он вам нужен по срочному делу?
Это известие оглушило Ворона, как удар молотом. Усилием воли он скрыл охватившее его волнение и ответил:
— Возможно, да. Он взял кого-нибудь с собой? Вы не заметили при нем каких-нибудь приборов?
— Нет. Только сухой паек и личное оружие.
В душе Ворона вскипала злость.
— И вы всерьез верите, что он отправился на техническую инспекцию?
— Ну… знаете, я об этом как-то и не подумал… да он мог просто пойти полюбоваться видом. Вы же знаете, прилив здесь — впечатляющее зрелище.
Ворон взглянул на часы:
— Прилив начнется не раньше чем через несколько часов.
Утиэль выпрямился.
— В чем дело?
У Ворона созрело решение.
— Слушайте внимательно, — сказал он. — Я тоже ухожу. Будьте готовы ко взлету. Посадите кого-нибудь на рацию. Если я не вернусь или не пришлю вам других инструкций, то через… ну, скажем, тридцать часов выходите на орбиту. В этом случае, и только в этом, один из моих людей передаст вам оставленную ему на хранение пленку с пояснениями. Вам все понятно?
Утиэль поднялся.
— Я не позволю, чтобы со мной обращались подобным образом! — возмутился он.
— Я говорю не об этом, капитан, — ответил Ворон. — Я спрашиваю, поняли ли вы мой приказ?
Утиэль вытянулся в струнку.
— Есть, военачальник, — выдавил он из себя.
Ворон быстрым шагом вышел из кают-компании. Очутившись в коридоре, он побежал к себе. Коре, стоявший на часах у двери его каюты, вытаращил глаза.
— Позови Вильденвея, — велел ему Ворон, проскользнул в каюту и закрыл дверь.
Он поставил на свой личный диктофон пленку, продиктовал все, что хотел сказать, снял пленку и, положив в коробку, запечатал сургучом с оттиском фамильного герба. Лишь после этого он позволил себе подойти к бару, где хранились концентраты, и перекусить.
Когда Ворон клал в карман миниатюрную рацию, вошел Вильденвей. Ворон вручил ему пленку, сделал необходимые распоряжения, а под конец добавил:
— Попробуй поискать на корабле и вокруг него Мигеля Тольтеку. Подними по тревоге всю роту, пусть ищут. Если найдете, свяжись со мной по рации, и я поверну назад.
— Куда вы, сэр? — спросил Коре.
— В горы. Мне не нужно сопровождающих.
Коре приподнял верхнюю губу и смачно сплюнул через щель между передними зубами, длинными и желтыми. Плевок шлепнулся на раструб мусорного рукава.
— Хорошо, сэр. Пошли.
— Оставайся здесь и карауль мои вещи.
— На это, сэр, хватит ума у любого незаконнорожденного недоноска, — ответил оскорбленный Коре.
Ворон почувствовал, как уголки его губ невольно поползли вверх.
— Хорошо, как пожелаешь. Но если ты когда-нибудь обмолвишься об этом хотя бы словечком, я вырву у тебя язык вот этими руками.
— Есть, сэр!
Коре выдвинул ящик и вынул оттуда две портупеи, в кармашках которых лежали провиант и дополнительный боезапас. Оба подпоясались.
Ворон осторожно опустил Зио на койку и почесал его под подбородком. Кот замурлыкал. Когда Ворон и Коре вышли из каюты, он хотел было последовать за ними, но Ворон толкнул его назад и захлопнул перед его носом дверь. Несколько минут Зио крыл на чем свет стоит отсутствующего хозяина.
Выйдя из звездолета, Ворон обнаружил, что уже смеркается. Небо было темно-синим, почти черным, на востоке загорались первые звезды, а на западе над горами висела подсвеченная последними лучами заходящего солнца туча — она походила на лужу запекающейся крови. Ворону показалось, что до него доносится рев бьющихся о дамбу морских волн.
— Нам далеко, командир? — спросил Коре.
— Может быть, до самого Святого Города.
— Тогда я сейчас подгоню самолет.
— Нет, техника только ухудшит положение. Будем передвигаться в пешем строю. И бегом.
— Дерьмо с навозом! — Коре прицепил к поясу фонарик и двинулся трусцой вперед.
Около часа их путь лежал через открытые поля. То тут, то там на фоне стремительно темнеющего небосвода возникали черные силуэты амбаров и сараев. Оттуда доносилось мычание коров и гудение машин, которые присматривали за скотом на безлюдных фермах. «Если из Святого Города никто не вернется, — подумал Ворон, — сколько времени пройдет, прежде чем роботы закончат выполнять свою программу? Сколько времени понадобится, чтобы скот одичал, а младенцы погибли?»
Ровная дорога кончилась, местность стала волнистой, теперь их путь лежал по узкой тропе мимо кустов и бурелома. Лохланец остановился передохнуть.
— Командир, вы гонитесь за Тольтекой, так ведь? — спросил Коре. — Мне убить этого сукина сына, когда мы его поймаем, или вы хотите сами?
— Если мы его поймаем, — поправил Ворон. — Он сильно оторвался от нас, хотя мы двигаемся гораздо быстрее. Нет, если он не окажет при аресте сопротивление, не стреляй. — Секунду он помолчал, чтобы придать веса следующей фразе: — А в гвидионцев не стреляй ни при каких обстоятельствах.
Он замолчал и, привалившись к дереву, полностью расслабился, стараясь ни о чем не думать. Десять минут спустя они продолжили марш-бросок.
По обе стороны тропы сплошной стеной высились деревья и кусты, листья смыкались над самой головой, образуя подобие крыши. Наступила полная темнота, лишь колеблющийся луч фонарика на поясе Корса выхватывал из мрака светлый круг земли с то и дело попадающими под ноги камнями. Кроме приглушенного топота сапог, тишину нарушали какие-то шорохи, скрипы, отдаленное чириканье, уханье и кряканье, студеное журчание ручья. Один раз до них донесся пронзительный вскрик какого-то лесного зверя. Чем выше они поднимались в гору, тем становилось прохладнее, но погода была по-прежнему мягкой, а воздух напоен ароматами. Ворону казалось, что он различает запахи земли и трав; когда тропинка пересекла ручей, повеяло сыростью, он узнавал ароматы некоторых цветов, остальные были незнакомы. Запахи, как ничто другое, обладают способностью всплывать в памяти; Ворон узнавал многое из того, что улавливал в воздухе, но вспомнить, что это такое, не мог. Все запахи перебивал отчетливый, пронзительный запах цветущих бэйловых кустов. За последние несколько часов цветы на кустах распустились все до единого.
«Завтра, при дневном свете будет казаться, что земля здесь объята пламенем», — подумал Ворон.
Постепенно ощущение времени стало исчезать. Этому сыновей аристократов обучали с детства полковые бонзы. Это было необходимо для того, чтобы выдержать на войне бесконечно тянущееся ожидание боя и не рехнуться. Ты просто отключаешь сознание, и все. Частично оно возвращалось к Ворону во время привалов на марше. Конечно, нелегко было останавливаться, не дойдя до цели, пить, жевать сухпаек и при этом отгонять мысли об Эльфави. Однако тело требовало своего. Поневоле приходилось поступать именно так.
Над Гранисом взошла луна. Однажды, оказавшись на открытой местности, Ворон на бегу бросил взгляд со склона горы вниз. Кругом, насколько хватал глаз, как пики торчали посеребренные лунным светом верхушки деревьев. Затем его снова поглотил лес.
Через восемь или девять часов пути Коре выругался и остановился. Его фонарик выхватил из темноты нечто на тонких паучьих ножках, в стальном панцире и с руками, кончавшимися острыми клинками.
— Гадство!
Ворон услышал, как щелкнул выхваченный из кобуры пистолет. В свете фонарика блеснули бесстрастные глаза-объективы, и машина исчезла в кустах.
— Сторожевой робот, — объяснил Ворон. — Против хищников. Он не нападает на людей. Мы уже у цели, так что гаси фонарь и заткнись.
И он с кошачьей осторожностью стал пробираться сквозь темноту, размышляя о том, что Тольтека, должно быть, здесь и впрямь его опередил. Хотя, возможно, и ненамного. Может быть, все еще можно исправить. Он преодолел последний крутой подъем и задержался на краю огромного амфитеатра.
На секунду его ослепила яркая Она, близкая к полнолунию. Луна висела прямо над обрывом; ее свет затмевал звезды и окрашивал обрыв в мертвенно-желтый цвет. Затем его глаза начали одну за другой различать более мелкие детали: поросшие мхом ступени амфитеатра, спускавшиеся до самого дна котловины, кольцо башен, окружавшее квадратный лабиринт, даже фонтан в центре — его тонкая струйка сверкала в лунном свете подобно ртути. Он разглядел даже парк, весь заросший бэйловыми кустами — здесь, среди стройных белоснежных башен, они казались черными. С форума доносился гул голосов, но что там происходит, было не понять. Соблюдая особую осторожность, Ворон выбрался на открытое пространство.
— Хи-хи, — сказал ему человек, сидевший на верхней террасе. — Какая пустота, друг мой по Бэйлу.
Ворон остановился как вкопанный. Коре, шедший следом, увидел, как куртка у него на спине влажно потемнела. Ворон медленно повернулся к сидящему лицом. Это был Ллирдин — тот самый, что вместе с ними ходил в горы и рассказывал, как играл в шахматы в водолазном колоколе. Теперь он сидел, обхватив руками колени, и, скаля зубы, дико ухмылялся. На его губах была видна кровь.
— Да, пустота, — сказал он. — Пустота. Бог пустой. Я говорю: пустой, пустой, пустой, пустой.
Ворон заглянул гвидионцу в глаза — в них отражалась луна, и они казались пустыми.
— Откуда на тебе кровь? — как можно спокойнее спросил он.
— Она была пустая, — сказал Ллирдин. — Пустая и такая маленькая. Зачем ей расти большой и быть пустой? Зачем? Так много ничего? — Он потер подбородок, взглянул на мокрые пальцы и печально проговорил: — Машины ее унесли. Это несправедливо. Ей было всего полтора года пустоты.
Ворон стал спускаться в амфитеатр.
— Она была ростом мне по пояс, — неслось ему вслед. — Кажется, когда-то давно, давным-давно, до пустоты, я учил ее смеяться. Я даже дал ей когда-то имя, и звали ее Полынь. — Ворон услышал, как Ллирдин заплакал.
Коре вынул пистолет, отстегнул кобуру от пояса и присоединил к пистолету как приклад.
— Не спеши! — сказал ему Ворон; он не оглядывался, но понял, что делает Коре, по звуку. — Тебе он не понадобится.
— Хрена в зубы не понадобится, — ответил Коре.
— Мы не будем стрелять в гвидионцев. А Тольтека, думаю, нам не опасен… теперь уже нет.
12
Они спустились на ровный газон и миновали башню. Ворон вспомнил, что на эту самую башню он поднимался вместе с Эльфави. На верхнем этаже у окна стояла маленькая девочка и молча билась о решетку.
Ворон прошел под колоннадой. Сразу же за ней на краю форума стояли, плотно сбившись, примерно пятьдесят жителей Звездара, большей частью мужчины. Одежда на них была разорвана, и даже при лунном свете на расстоянии в несколько метров Ворону бросилась в глаза щетина на небритых подбородках.
К ним обращался Мигель Тольтека.
— Но ведь Ллирдин убил эту девочку! — кричал нуэвамериканец. — Он убил ее своими руками и убежал, вытирая губы. А роботы унесли труп. И вы стоите и смотрите!
Вперед выступил лесничий Беодаг. Его лицо выражало глубокое благоговение.
— При свете Ее! — возопил он; его голос то гремел, то стихал, как в лихорадочном бреду. — А Она — это лишь отражение Иниса, а Инис — это Неопалимая купина, хотя мы пьем реку. Если река дает нам свет, о, взгляните, как танцует моя тень!
— Как Гонбан танцевал для своей матери, — сказал кто-то рядом с ним. — А это означает радость, ибо человек, рождаясь, приходит из тьмы.
— Ночные Лики — это Дневные Лики! Это Бог!
— Танцуй, Бог!
— Стенайте к Богу, Вуи пылает!
Старик повернулся к девушке, преклонил перед ней колени и сказал: «Благослови меня, мать». С необычайной нежностью она прикоснулась к его голове.
— Вы что, с ума все посходили?! — взвыл Тольтека.
В толпе заворчали. Те, кто пустился было в пляс, остановились. От толпы отделился человек со спутанными седеющими волосами и направился к Тольтеке, тот издал какой-то воющий звук и отступил. В этом человеке Ворон узнал Дауида.
— Что ты хочешь сказать? — спросил Дауид. В его голосе звучал металл.
— Я… я имею в виду… не понимаю.
— Нет! — ответил Дауид. — Что ты хочешь сказать?! Кто ты? Для чего ты? Зачем ты здесь?
— Ч-ч-чтобы помочь…
Толпа начала окружать Тольтеку, отрезая ему путь к отступлению. Он схватился за кобуру, но никак не мог ее нащупать, будто понимал, сколь немногих успеет он застрелить, прежде чем остальные свалят его на землю.
— На тебе худший из Ночных Ликов, — простонал Дауид. — Ибо это вообще не лик. Это безликость. Хаос. Пустота.
— Пустота, — шепотом подхватила толпа. — Пустота, пустота, пустота.
Ворон расправил плечи.
— Держись рядом и помалкивай, — велел он Корсу, вышел из тени колоннады на залитую лунным светом площадь и направился к толпе.
Первым его заметил стоявший на ее краю высокий мужчина; издав рык, похожий на медвежий, он развернулся и неуклюже побрел к пришельцам. Ворон остановился и подпустил гвидионца поближе. Тот замахнулся на него, согнув пальцы и метя в глаза. Ворон увернулся и сделал прием дзюдо, от которого его противник завертелся волчком через весь форум.
— Он танцует! — гаркнул Ворон, набрав полные легкие воздуха. — Танцуйте вместе с ним! — Он схватил женщину и оттолкнул от себя. Стараясь не упасть, она судорожно закрутилась. — Танцуйте на мосту между «инь» и «ян»!
Но гвидионцы не подчинились. Они стояли так тихо, что казалось, живые люди не могут так тихо стоять. У Тольтеки отвалилась челюсть.
— Ворон, — задыхаясь, пробормотал он, — оа, илем, Ворон…
— Заткнись, — прошептал Ворон и подошел к нуэвамериканцу. — Стой рядом. Никаких резких движений, и ни звука.
Дауид весь сжался.
— Я знаю тебя, — сказал он. — Ты моя душа. И поглощен вечной тьмой и вечно нет, нет, нет.
Ворон напряг память. Он слыхал столько мифов, должен же найтись подходящий… да, возможно… Снова его голос заполнил все пространство внутри лабиринта:
— Внемлите мне! Давным-давно Солнечный Кузнец принял образ оленя с серебряными рогами. Охотник заметил его и пустился за ним вслед. Они бежали вверх по склону горы, который весь порос крестоцветом, и повсюду, где копыта оленя касались земли, расцветали цветы, а там, где пробегал охотник, они увядали. Наконец они достигли вершины горы, где с крутого обрыва низвергался огненный водопад. Пропасть, в которую он падал, была холодна и вся наполнена туманом, так что охотник не видел, есть ли у нее другая сторона. Однако олень прыгнул через пропасть, и там, где ударили его копыта, посыпались искры…
Ворон стоял так же неподвижно, как и люди на площади, но его глаза бегали влево и вправо, и при свете луны ему было видно, что люди на площади начали успокаиваться. Ворон почувствовал, как лед, сковавший у него все внутри, начал понемногу таять. Он не знал, сумел ли он хоть в малой степени постичь сложную символику только что пересказанного им мифа. Без сомнения, он лишь смутно понимал его значение. Однако выбор оказался верным. Этот миф можно было интерпретировать нужным в данной ситуации образом и превратить отход в танец, который вернет этих людей к исполнению обрядов, возникших в ходе бесчисленных убийств себе подобных.
Продолжая говорить, Ворон отступал, делая один крохотный шажок за другим, будто от их числа зависела его жизнь. Рядом скользил Коре, прикрывая от гвидионцев дрожащего Тольтеку.
Однако они шли следом, и число их все время росло. Пока они миновали колоннаду, выходили все новые гвидионцы, одни — из зданий, другие — из башен. Когда Ворон поставил ногу на первую ступень амфитеатра, на него уже было устремлено не менее тысячи пар глаз. Никто не говорил ни слова, но он слышал их дыхание — этот звук напоминал шум волн, бьющихся о дамбу Звездара.
Миф окончен. Ворон поднялся еще на ступеньку, потом еще на одну, а они продолжали неотступно следить за ним. Ворону показалось, что, с тех пор как он спустился в эту долину, луна стала больше. «Не может быть, чтобы я провел здесь столько времени, — подумалось ему. — Неужели?»
Тольтека схватил Ворона за руку. Пальцы нуэвамериканца были холодны как лед. Коре еле слышно прошептал:
— Как вы думаете, сэр, сможем мы и дальше отступать, или эти говнюки на нас набросятся?
— Почем я знаю? — ответил Ворон. Несмотря ни на что, он рассердился на Корса за грубость.
Дауид раскинул руки в стороны.
— Танцуйте! Верните Солнечного Кузнеца домой! — крикнул он.
«Победа!» — пронзила сознание Ворона мысль. Он ощутил такое облегчение, что лишь сила воли помогла ему удержаться на ногах. Он увидел, как толпа закружилась, образуя цепочку из соединенных колец, и прошипел Корсу:
— Если будем осторожны, мы спасены. Только нужно постараться их не отвлекать. Будем продолжать медленно пятиться в такт их танцу, делая остановку после каждого шага. Если мы исчезнем в лесу при последнем такте, думаю, это их устроит.
— Что происходит? — прохрипел Тольтека.
— Тихо, тебе говорят!
Ворон почувствовал, как Тольтека зашатался и привалился к нему. Что делать? — подумал он. Это тяжелый удар, особенно для того, кто не привык глядеть смерти в лицо. Если занять Тольтеку разговором, он, может быть, не грохнется в обморок, а танцоры внизу — все их внимание было поглощено красивой фигурой, которую они старательно, как дети, исполняли, — едва ли заметят, что стоящие над ними персонажи из мифов перешептываются.
— Итак. — Наблюдая за танцем, Ворон почувствовал, что пора сделать еще шаг назад. Он взял Тольтеку под локоть, заставляя повторять свои движения. — Ты пришел сюда со своим идиотским намерением спасти Эльфави. А потом?
— Я… я… я спустился на… на площадь. Они… что-то бормотали. Что-то бессмысленное, это было ужасно…
— Не так громко!
— Я увидел Дауида. Попытался с ним заговорить. Они все, все до одного стали все больше возбуждаться. Дочка Ллирдина вскрикнула и побежала от меня. Он погнался за нею и убил. Роботы-уборщики п-п-просто унесли тело. Они начали… обступать меня.
— Понятно. Теперь внимание. Еще шаг назад. Стоп. — Ворон застыл: к нему повернулось множество голов. На этом расстоянии в свете луны у них не было лиц. Когда они снова занялись танцем, Ворон перевел дух.
— Должно быть, это мутация, — объяснил он. — Мутация и генетическое отклонение, случившееся с первоначальной малочисленной популяцией. Хотя их история о том, что они произошли от одного мужчины и двух женщин, похожа на миф, возможно, это и правда. Так или иначе, у них изменилась схема обмена веществ. Например, они совершенно не переносят табака — у них на него сильнейшая аллергия. С точки зрения эндокринной системы изменения приблизительно такие же. Биологически они, вполне возможно, еще способны давать общее потомство с нами. Но в культурном отношении… нет, по-моему, это уже совершенно другая цивилизация. Теперь уже да.
— Бэйлов куст? — спросил Тольтека тоненьким голоском, дрожащим, как у обиженного ребенка.
— Да. Ты говорил мне, что при цветении этот куст выделяет ароматическое вещество. На человека с нормальной биохимией оно не действует, но у гвидионцев обмен веществ нарушен, а это вещество по химическому составу похоже на те, что вызывают шизофрению. Эти люди чувствительны к нему. Каждую гвидионскую весну они теряют рассудок.
Беззвучный танец внизу ускорил свой ритм. Ворон поспешил использовать этот шанс, чтобы подняться сразу на несколько ступеней.
— Просто чудо, что они не вымерли в самом начале, — продолжил он, когда им пришлось снова остановиться. — Так или иначе, они выжили, и начался процесс их медленной болезненной адаптации. Само собой, они не помнят того, что происходит с ними в периоды безумия. Они просто не осмеливаются вспоминать. А вы бы посмели? Вот основная причина, почему они так и не сделали научного исследования Бэйла и не приняли мер предосторожности, которые для нас самоочевидны. Вместо этого они выстроили вокруг Бэйла свою религию и подчинили ему весь свой образ жизни. Лишь в самом начале сезона, когда они еще не потеряли рассудка, но уже чувствуют, что у них в крови закипает безумие — только тогда они способны признаться самим себе, что не понимают, что с ними происходит. В остальное время года они скрывают истину под шелухой бессмысленных слов о существовании какой-то высшей реальности.
Итак, их культура не создавалась по заранее сформулированному плану. Она вырабатывалась вслепую, путем проб и ошибок, в течение многих столетий. И наконец им удалось отыскать способ свести наносимый Бэйлом вред к минимуму.
Не забывайте, их психика, по существу, отлична от человеческой. Мы с вами — это смесь хороших, дурных и средних качеств; мы всегда несем в себе свои конфликты. Но гвидионцы, похоже, проживают все свои неприятности и несчастья в течение этих нескольких дней. Им удалось случайно наткнуться на способ, с помощью которого удается избежать больших жертв. По этой же причине они так и не заселили остальную планету. Им самим причина не известна, сдерживание демографического роста — это явная попытка найти предлог, но я точно знаю, в чем тут дело: просто в других местах нет бэйлова куста. Они так хорошо к нему адаптировались, что уже не могут без него жить. Хотел бы я знать, что случится с гвидионцем, если его лишить этого периодического помешательства. Боюсь, результат будет довольно плачевным.
Их предохраняет вся материальная культура: крепкие здания, никто не живет в одиночку, никакого огнестрельного оружия, никакой атомной энергии, все, что нужно уберечь и от чего нужно уберечься на время, пока бушует ад, запирают под замок. Этот Святой Город, как, я полагаю, и все остальные места такого рода на планете, построен в виде лабиринта из множества каморок, куда можно юркнуть, спрятаться, затаиться и переждать, пока кто-нибудь буйствует снаружи. Стены здесь мягкие, земля тоже, навредить себе трудно.
Но главный барьер, разумеется психологический. Мифы, символы и обряды настолько вошли в их повседневный обиход, что они помнят их даже в состоянии помешательства. Возможно, в безумии они помнят даже больше обрядов и мифов, нежели в здравом рассудке, особенно то, что они в нормальном состоянии вспоминать не смеют: трагические мифы и безобразные обряды. Ночные Лики, о которых не говорят вслух. Медленно, на протяжении веков и поколений, они нащупали способ сохранить на своей планете во время цветения бэйлова куста хотя бы некое подобие порядка и смысла. Мания уходит в другое русло, так что все обходится малой кровью: они изгоняют из себя ненависть и страх при помощи пантомимы и танца, они инсценируют свои мифы… вместо того чтобы разрывать друг друга на куски.
Между тем фигура танца начала рассыпаться. Значит, он так ничем и не кончится, подумал Ворон, а все просто бесцельно разбредутся кто куда. Что ж, если он при этом сможет исчезнуть и о нем забудут — это тоже неплохо.
Он сказал Тольтеке:
— Ты ворвался в их иллюзорную вселенную и нарушил ее равновесие. Это ты убил дочку Лллрдина.
— Оа, во имя милосердия! — Инженер закрыл лицо руками.
Ворон вздохнул:
— Забудь об этом. Тут есть и моя вина. Мне следовало сразу рассказать тебе, о чем я догадался.
Они поднялись уже до половины амфитеатра, когда кто-то пробился сквозь ряды танцоров и вприпрыжку направился к ним. Их двое, отметил Ворон и весь похолодел. Каскады лунного света серебрили их белокурые волосы, будто посыпая морозным инеем.
— Остановись! — вполголоса позвала его смеющаяся Эльфави. — Остановись, Воган.
Ворон задал себе вопрос, что принесет ему это случайное сходство между его именем и именем мифологического персонажа.
Она остановилась несколькими ступенями ниже. Бьерд, сжимавший ее руку, боязливо озирался по сторонам, но в его сверкающих глазах не было мысли. Хорошо знакомым Ворону жестом Эльфави отбросила прядь, упавшую на лоб.
— Вот Дитя Реки, Воган! — воскликнула она. — А ты — дождь. А я — мать, и во мне тьма.
Взглянув поверх ее плеча, Ворон увидел, что остальные услышали ее слова. Один за другим они останавливались и поднимали глаза вверх.
— Что ж, привет тебе, — сказал Ворон. — Возвращайся к себе в луга, Дитя Реки. Отведи его домой, Птица-Девушка.
Бьерд повернулся личиком к Ворону и завопил:
— Не ешь меня, мама!
Эльфави наклонилась и обняла сына.
— Нет, — приглушенно забормотала она, — о нет, нет, нет. Ты придешь ко мне, обязательно придешь. Разве ты не помнишь? Я лежала в земле, на меня падал дождь, и там, где я лежала, было темно. Идем со мной, Дитя Реки.
Бьерд вскрикнул и попытался высвободиться, но мать тащила его к Ворону. Из стоявшей внизу толпы раздался чей-то низкий голос:
— И земля пила дождь, и земля была дождем, и Мать была Дитя и несла Инис на руках.
— Эх, колокольчики-бубенчики! — пробормотал Коре. Его неуклюжая фигура подалась вперед, заслоняя командира от толпы. — Похоже, сорвалось.
— Боюсь, да, — согласился Ворон.
Ддуид вскочил на нижнюю ступень амфитеатра. Его голос рокотал, как призывная труба:
— Они спустились с неба и изнасиловали Мать! Слышите, как плачут листья?
— Что это? — Тольтека изумленно разглядывал гвидионцев, столпившихся на площади, казавшейся в лунном свете серой. — О чем это они? Это кошмар, это бессмысленно!
— В любом кошмаре есть смысл, — ответил Ворон. — В них проснулось желание убивать, и оно ищет объект, который нужно уничтожить. Похоже, они его нашли.
— Корабль, что ли? — Коре вскинул пистолет.
— Да, — ответил Ворон. — Дождь — это символ оплодотворения. Что, по-вашему, должен символизировать опустившийся на вашу родную почву звездолет, из которого вышел экипаж? Что бы вы сделали с человеком, который изнасиловал вашу мать?
— Мне бы не хотелось стрелять в этих несчастных безоружных ублюдков, — сказал Коре, — но…
Ворон ощерился, как зверь:
— Если выстрелишь, я убью тебя собственными руками!
Он взял себя в руки и вытащил из кармана миниатюрную рацию.
— Я велел Утиэлю взлетать через тридцать часов после моего ухода, но это слишком долго. Я предостерегу его немедленно. Они не должны найти звездолета, когда придут его штурмовать. А потом посмотрим, удастся ли нам спасти наши шкуры.
Между тем Эльфави уже поднялась по ступеням и подошла к Ворону. Она бросила Бьерда к его ногам — мальчик всхлипывал от страха: он был еще не сведущ в мифологии и не мог найти объяснения тому, что ощущал. Расширенными глазами Эльфави вгляделась в Ворона.
— Я тебя знаю, — прошептала она. — Ты когда-то сидел на моей могиле и не давал мне спать.
Он включил рацию и поднес к губам. Эльфави вонзила ногти ему в руку, и пальцы рефлекторно разжались. Она схватила коробочку и отбросила в сторону — он не ожидал от женщины такого далекого броска.
— Нет! — завизжала она. — Не оставляй во мне тьму, Воган! Ты уже однажды пробудил меня!
— Я ее достану, — сказал Коре и двинулся вперед.
Когда он проходил мимо Эльфави, она выхватила из ножен у него на поясе нож и вонзила ему между ребер. В ярком лунном свете было видно, как ошеломленный Коре рухнул на четвереньки.
Когда стоящие внизу увидели, что произошло, из толпы раздался жуткий вой. Шаркая ногами, Дауид подошел к рации, оглядел ее со всех сторон и бросил в толпу. Она поглотила коробочку, как водоворот.
Ворон склонился над Корсом и бережно приподнял его голову в островерхом шлеме. На губах солдата пузырилась кровавая пена.
— Уходи, командир. Я их задержу. — Он дрожащей рукой схватил пистолет и попытался прицелиться.
— Нет. — Ворон выхватил у него оружие. — Мы сами к ним пришли.
— Конские яйца… — сказал Коре и умер.
Ворон выпрямился. Он отдал Тольтеке пистолет и кинжал, который вынул из трупа. Поколебавшись минуту, он отдал также все свое оружие.
— Двигай, — сказал он. — Тебе нужно добраться до корабля раньше их.
— Иди ты! — вскричал Тольтека. — Я останусь…
— Я знаю приемы рукопашного боя, — сказал Ворон. — Я сумею задержать их гораздо дольше, чем ты, писарь.
На минуту он задумался. Рядом с ним стояла на коленях Эльфави. Она судорожно сжимала его руку. У ее ног дрожал Бьерд.
— Заруби себе на носу, — сказал Ворон, — что для лохланца главное — долг.
Он подтолкнул Тольтеку в спину. Нуэвамериканец глубоко втянул воздух и побежал.
— О, олень на краю пропасти! — радостно воскликнул Дауид. — Его пронзили стрелы солнца! — И он стремглав кинулся вслед за Тольтекой. Ворон оставил Эльфави, шагнул наперерез ее отцу и дал ему подножку. Дауид скатился по зеленым ступеням вниз, в вопящую толпу. Его тут же растерзали на куски.
Ворон возвратился к Эльфави. Она по-прежнему стояла на коленях, прижимая к себе сына, и нежно улыбалась. Никогда в жизни ему не приходилось видеть ничего трогательнее этой улыбки.
— Теперь наша очередь, — сказал он, — но ты еще можешь спастись. Беги, запрись в комнате на башне.
Она так сильно замотала головой, что волосы взвились вихрем.
— Спой мне ее до конца.
— Ты можешь спасти и Бьерда! — взмолился он.
— Это такая чудесная песня, — сказала Эльфави.
Ворон пристально смотрел на пиршество жителей Звездара внизу. Он почти потерял голос, но из последних сил старался выговаривать слова как можно отчетливее:
Там, в саду зеленом, где бьет родник, Где с тобою гуляли мы, Самый нежный цветок до срока поник И увял еще до зимы. Он увял до срока, любовь моя, Так же вянут и наши сердца. Не гневи же Бога, любовь моя, И живи на земле до конца.— Благодарю тебя, Воган, — сказала Эльфави.
— Ну, теперь ты уйдешь? — спросил он.
— Я? — спросила она. — Как я могу? Ведь мы — Трое.
Он сел рядом с ней, и она прижалась к нему. Свободной рукой Ворон ласково поглаживал влажные от пота волосы ребенка.
Наконец клубок тел внизу распался, и гвидионцы, тяжело ступая, начали подниматься вверх по ступеням. Ворон встал. Он отошел от Эльфави, которая осталась сидеть. Если он сумеет отвлечь их хотя бы на полчаса — а если ему повезет, полчаса он продержится, — они вполне могут забыть о ней. Тогда она переживет эту ночь.
И ничего не вспомнит.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Ночной Лик» — это не просто печальная повесть; это настоящая трагедия, пронзающая сердце читателя острой болью, как от удара кинжалом. Как же он был выкован, этот кинжал, и из какого металла?
Исходным материалом для романа послужили недюжинные и разносторонние знания Пола Андерсона. Будучи не понаслышке знаком с естественными науками, он сумел придумать биохимическую аномалию и выстроить вокруг нее целый мир. Хорошо зная природу, Андерсон рисует пейзажи, отличающиеся удивительной свежестью видения. Познания в области истории человеческих цивилизаций прошлого и настоящего позволяют ему очень правдоподобно изображать цивилизации воображаемые. Кроме того, изучение истории человечества подвигло Андерсона на создание своей истории, а наиболее успешным его опытом в этой области является его многотомный цикл о развитии Технической цивилизации, к которому принадлежит также «Ночной Лик» (действие этой повести происходит в конце третьего тысячелетия нашей эры, во время реконструктивного периода, последовавшего за падением Терранской Империи)..
Однако главный сюжетообразующий источник повести — мифология. Миф является и материалом, из которого создано это произведение, и формой, в которую он отлит. Основной компонент этого литературного сплава — кельтская традиция; чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить употребляемые в повести имена собственные. Действие «Ночного Лика» происходит на Гвидионе, вновь открытой планете, носящей имя героя уэльского сказания. В четвертой ветви «Мабиногиона» Гвидион — это наделенный тайными божественными силами сказитель, ученый и колдун, способный менять свой внешний образ. Он безнадежно влюблен в свою сестру Аранрод, «Властительницу Серебряного Колеса», воплощение богини луны. Жители Гвидиона именуют луну просто Она, вероятно, потому, что ее настоящее имя считается слишком священным для использования в повседневной речи. Солнце они называют Инис («Остров») — косвенный намек на острова, где, по кельтским верованиям, находится потусторонний Мир Блаженства. Герой повести «Ночной Лик», человек с Ночным Ликом Ворон — солдат с сумрачной планеты Лохланн. Лохланном (Ллихлином) в средневековом Уэльсе называли Норвегию, которая также носила шутливое название «страна белых чужеземцев».
Время Бэйла — начало гвидионской весны, когда расцветают огненно-красные бэйловы кусты — напоминает ирландский майский праздник Бельтанин, день, когда зажигали священные огни, чтобы наступающее лето было удачным. Бэйл — это время головокружительных безумств. Бельтанин был радостным, но и опасным празднеством, так как он символизировал поворот от холода, темноты и смерти зимы к теплу, свету и жизни лета. Подобные празднества, с поправками на место, время и условия, существовали у всех кельтских народов. Они стремились проникнуть в суть вечного столкновения противоположностей, сменяющих одна другую. Подобным же образом поступают гвидионцы, празднующие смену Дневных Ликов Ночными Ликами, которая знаменует очередной поворот Пламенеющего Колеса Времени. «Мертвые уходят в Ночь, и Ночь становится Днем, да она и есть День», — говорит героиня повести.
Разумеется, не вся гвидионская философия кельтского происхождения. Идея цикличности смерти и возрождения к жизни, которой так дорожат гвидионцы, напоминает древние ближневосточные верования или индуистское вероучение о круговороте разрушения и возрождения. Подобно приверженцам западных эзотерических учений, гвидионцы верят, что Бог — это сумма всех качеств, как добрых, так и дурных. Основной религиозный символ гвидионцев, черно-золотая эмблема «инь-ян», унаследованная от даосов, напоминает им, что День и Ночь всегда соседствуют.
Таковы лишь некоторые из материалов, использованных Андерсоном при создании «Ночного Лика». Но материалы остаются лишь косной материей, пока рука художника не расположит их в нужном ракурсе и не одухотворит своим прикосновением. В данном случае с помощью мифологических мотивов и драматического языка автор показывает нам, что мифология — тоже язык, и язык этот можно трагически неверно истолковать.
Сюжет повести — это круговерть недоразумений; три главных персонажа и цивилизации, которые они представляют, описывают круг за кругом в бесплодной погоне друг за другом — бесплодной, ибо они обречены на непонимание. Они подобны трем спицам трехконечного Огненного Колеса, загнутым в разные стороны, которым никогда не суждено сомкнуться. «Мы невольно сделали друг о друге неверные умозаключения», — говорит Ворон своему сопернику Тольтеке в начале книги. Эта фраза становится ключом ко всему последующему действию.
Ворон, младший отпрыск знатного рода с феодальной планеты Лохланн, стал наемником на службе у бывшего протектората его планеты, демократической Нуэвамерики. На Лохланне, таком же сумрачном и связанном законами чести, как средневековая Скандинавия, люди до сих пор братаются, отведав крови друг друга, а за данную клятву отвечают жизнью. Нуэвамериканцы считают такое общество «жестко разделенным на касты, регулируемым обрядами, надменным и жестоким», что не соответствует истине.
Суровость природных и общественных условий, в которых вырос Ворон, сделала его человеком, который «постоянно живет среди Ночных Ликов». Несмотря на это, он не чужд ничего человеческого, как мечей, так и роз. И все же, как ни парадоксально, именно сумрак, царствующий в душах его народа, роднит его с гвидионцами, кажущимися такими лучезарными. «Добро и Зло, Светлое и Темное ходят рядом». Лохланец, возможно, выглядит темным, а гвидионец — светлым, однако и тот и другой народы познали обе ипостаси земного бытия. (Заметьте, что жители Лохланна и Гвидиона говорят на родственных языках, совершенно отличных от языка Нуэвамерики.)
Тольтека, соперник Ворона и его полная противоположность, возглавляет нуэвамериканскую экспедицию на Гвидион. Его интеллект не впечатляет, но он принадлежит к классу наследственных интёллектуалов и, пользуясь своими привилегиями, тем не менее без тени смущения провозглашает демократические принципы. Его отношение к искусству чисто потребительское. Он слушает признанных классиков терранской музыки в магнитозаписи, в то время как Ворон сам исполняет народные песни, которые на его планете являются частью живой традиции. (Ворон называет Тольтеку «серым торгашом».) Кичась своей якобы просвещенностью и терпимостью, Тольтека всегда мерит людей исключительно своей меркой и выходит из себя, видя, что они чем-нибудь отличаются от принятых на его планете норм. Он не в состоянии почувствовать и оценить огромную ответственность перед обществом, которую несет на себе каждый лохланец, и даже менее жесткое влияние обычаев на поведение гвидионцев, потому что Нуэвамерика — это общество автономных личностей.
Нуэвамерика — это, возможно, дочерняя колония Нуэво-Мехико древней Терранской Империи, однако если это действительно так, то она утратила воинственность своих отцов-основателей. Культура Нуэвамерики лишь поверхностно иберийская, а ее обществу присущи крайний либерализм, меркантилизм, утилитаризм и сугубо светский характер. «Средний нуэвамериканец думает лишь о том, как закончить свою работу — независимо от того, нужна она кому-нибудь или нет, — и после этого как следует развлечься, причем и работает, и развлекается он так, чтобы произвести как можно больше шума».
Однако главный порок Тольтеки — и, соответственно, всего его народа — это наивная вера в возможность организации всей жизни на началах разума и гигиены. Они считают, что любую проблему можно решить обращением к разуму. Они не могут принять тот факт, что боль и смерть неизбежны и представляют собой неотъемлемые компоненты действительности. Фактически они пытаются уцепиться за одни Дневные Лики. Тольтека наивно полагает, что гвидионцам удалось претворить в жизнь идеал, провозглашенный его культурой, и видит в них одни светлые стороны.
Согласно легенде, все гвидионцы произошли от одного мужчины и его двух жен, брюнетки и блондинки. Однако теперь ситуация изменилась на зеркально противоположную: Муж Ночи и Муж Дня преследуют одну и ту же женщину. Эльфави, предмет их страсти — это воплощенная красота и безмятежность мира, в котором она обитает. Красота гвидионской природы столь велика, что о подобной жители сумрачного Лохланна даже мечтать не смеют, и, в отличие от многих местностей Нуэвамерики, она почти не тронута разрушительным воздействием человека (по словам Эльфави, «в большей части изученной Вселенной Бог обращен к нам другим ликом»). Мирный, не знающий государственности Гвидион — это рай, где умеренно развитая техника помогает созданию превосходных условий для жизни.
Однако само имя Эльфави говорит о том, что совершенство Гвидиона — не от мира сего. (Эльфави — это отзвук королевы эльфов, чья любовь гибельна для смертных, и Рианнон, несчастной королевы-матери духов в «Мабиногионе».) Гвидион — всего лишь обманчивая иллюзия, подобно кельтскому Миру Блаженных, который он напоминает.
Однако, если в дневной фазе Гвидион кажется преддверием рая, во время Бэйла его Святые Города превращаются в круги ада. Гвидион колеблется между гипертрофированной гармонией и полным хаосом. Его шизофреническое население не обладает подлинной добродетелью — гвидионцы просто недостаточно разумны, чтобы грешить.
Таковы люди, народы и их принципы, которые с такими роковыми последствиями сталкиваются в «Ночном Лике». То, что они не в силах понять друг друга, типично для межпланетных отношений в постимперскую эру, когда с течением времени языки и генотип людей стали значительно различаться между собой. (См. «Трагедию ошибок», «Возмездие Эвелит» и «Звездный туман».) Их история является еще одним доказательством — хотя в новых доказательствах вряд ли кто-нибудь нуждается, — что Вселенная вовсе не берет на себя обязательств быть справедливой.
Когда Тольтека, Ворон и Эльфави встречаются во время кровавой развязки, они принимают обличья героев гвидионской мифологии. Их судьбу решают случайно выбранные роли: жить среди архетипов безопаснее, нежели погружаться в них. Когда Ворон пытается спасти Тольтеку от гвидионцев, провозгласив его Солнечным Кузнецом, бегущим от врага в образе оленя, это только побуждает толпу броситься за ним в погоню. По иронии судьбы, в контексте повести нуэвамериканский инженер напоминает скорее преследующего Солнечного Оленя охотника, под ногами которого вянут цветы и который не в силах увидеть другого берега пропасти, через которую перескакивает олень. Это символизирует бессилие разума перед лицом тайны.
Хотя имя «Ворон» подразумевает горе, черноту и смерть в бою, его звучание совпадает с именем Вогана, гвидионского бога-спасителя, умирающего, будучи затянутым в Солнечное Колесо. Он принимает свою роковую роль и гибнет, чтобы спасти других. Только его темнота делает возможным появление зари. Эльфави отклоняет свою предыдущую роль бесплодной, всеугешающей Птицы-Девушки. Вместо этого она становится Матерью, опустошенной страстью к Вогану и спешащей оплакать его смерть. Однако она становится причиной его смерти не в песне, а в действительности.
Следует заметить в скобках, что Эльфави можно также сравнить с Эвридикой, потерявшей Орфея, однако не способной впоследствии оплакать эту потерю. «Ночной Лик» — необычный вариант темы «потерянного любимого», с такой остротой поставленной в «Мире без звезд», «Литании», «Песне фавна» и других произведениях того же автора.
Для читателей трагичность повествования заключается в том, что Ворон жертвует собой ради человека, не способного понять этот подвиг, и женщины, которая не сможет егр вспомнить. Однако для самого Ворона именно такая гибель является в некотором смысле триумфом. Он вознаграждает Тольтеку за нанесенную ему обиду и в то же время налагает на соперника такие моральные обязательства, которые тот не в силах исполнить. Кроме того, он и не хочет, чтобы жизнь Эльфави омрачали воспоминания о нем. Единственное его желание — чтобы она осталась жива и была счастлива. Чувства Ворона во всем подобны чувствам мертвой любимой из «Потревоженной могилы» — песни, которая является лейтмотивом всей повести и из которой взят ее первоначальный заголовок, — «Год и один день».
Наконец, с точки зрения автора, душераздирающая трагичность «Ночного Лика» заключена не в потерянной любви или напрасной смерти. Скорее трагичен сам факт нашего существования — жизнь подверженных ошибкам существ во Вселенной, обреченной на гибель. Трагический порок героев повести заключается в том, что они — люди.
Примером такого хладнокровного и сурового взгляда на жизнь может служить Ворон. Он показывает, что гвидионский миф о превращении человека в Бога ложен. Человек должен примириться со своей долей, радоваться выпавшим ему счастливым минутам, стойко переносить невзгоды, встречать лицом к лицу и Дневные, и Ночные Лики, пока не наступит его последний час.
Пример Ворона показывает, что боль — это то, что существует нагсамом деле, а смерть разлучает навсегда. Цветы увядают, сердца истлевают. Печаль нельзя преодолеть ни ее неприятием (как пытаются это сделать нуэвамериканцы), ни поверхностным объяснением (как поступают гвидионцы). Ничто не в силах помочь разлученным влюбленным, и им не возродиться к жизни вновь. Жизнь — это не стремящийся ввысь прогресс, как считает Тольтека, но и не цикл бесконечных превращений, как верует Эльфави. С каждым мигом Вселенная неумолимо приближается к своему концу. Время можно назвать и релятивистским измерением, и мифическим Пламенеющим Колесом, но, кроме того, оно — Мост, сгорающий за спиной у всех нас.
ВОЗМЕЗДИЕ ЭВЕЛИТ
С оружием Мору разобрался. Пришельцы успели продемонстрировать местным проводникам, сколь мощные вспышки пламени вылетают из бластеров — так назывались те штуки, что висели у каждого из них на боку. Но про видеопередатчики Мору, конечно же, знать ничего не мог. Возможно, он считал их амулетами.
Поэтому вышло так, что когда он убил Данли Сэрна, то сделал это на глазах у его жены.
В общем, произошла случайность. Биолог выходил на связь в установленные часы утром и вечером (сутки длились здесь двадцать восемь часов), а днем отсылал сообщения своему компьютеру. Но поскольку они с Эвелит поженились недавно и были столь беспредельно счастливы, Эвелит старалась перехватить послания Данли в любую свободную минуту.
И то, что она именно в этот момент оказалась у экрана, вряд ли можно назвать совпадением. Как милитех экспедиции, в чьи обязанности входила охрана форта, Эвелит уже осмотрела весь лагерь. Она родилась в той дикой части Кракена, где представители обоих полов в равной степени владели искусством ведения боя. Впрочем, местные жители на Локоне были настроены весьма дружелюбно по отношению к «сошедшим с небес». После каждой встречи с аборигенами Эвелит Сэрн убеждалась, что за их сдержанностью скрываются благоговение и страстная надежда на дружбу с пришельцами. Капитан Джонафер придерживался той же точки зрения. Ее служба превратилась в синекуру. Эвелит часто была не занята и старалась как можно больше узнать о работе Данли, чтобы помочь ему после его возвращения из долины.
Последнее медицинское обследование подтвердило, что она беременна, но Эвелит решила пока не говорить Данли об этом. Скажет потом, когда они вновь будут вместе. Однако сознание того, что они дали начало новой жизни, наложило свой отпечаток — Данли стал для нее как бы путеводной звездой.
В тот день, день его смерти, она вошла в биолабораторию, насвистывая. Был полдень. Снаружи нещадно палило солнце, заливая все вокруг горящей медью: и пыльную землю, и сборные домики, теснившиеся вокруг небольшого корабля, доставившего их с орбиты, припаркованные флюгеры и гравилеты, на которых космонавты облетали остров, единственную обитаемую сушу на этой планете, и самих космонавтов. За пределами форта виднелись перистые верхушки деревьев и грязно-кирпичные здания большого города, растянувшегося между их лагерем и озером Зело. Издалека доносились голоса. Ветер приносил резкий запах дыма.
Здесь, на этой планете, гравитационное поле составляло 77 процентов от стандартного. Меньше чем две трети от того, в котором выросла Эвелит. Высокая молодая женщина с красивым телом, но немного резкими чертами лица, она легкой походкой быстро прошла в конец комнаты.
Биолаборатория занимала больше половины дома, где жили Сэрны. Особых удобств не было. Их не бывает, когда горстка представителей разных культур стремится воссоздать цивилизацию на обломках империи. Для Эвелит, однако, это был их дом. Аскетическое существование совсем не тяготило ее. И в Данли, когда она встретила его на Кракене, она в первую очередь оценила легкость, с какой он воспринял суровую жизнь ее родного края. И это несмотря на то, что на Эфее он привык к комфорту.
Как холодно и зябко в доме! Однако Эвелит с удовольствием вдохнула прохладный воздух. Села, включила приемное устройство. Почти сразу же установилась хорошая картинка. На экране возникло трехмерное изображение лесной поляны.
— …по-моему, происходящие от клевера, — зазвучал спокойный голос Данли. Сердце Эвелит забилось сильнее.
Речь шла о рассыпанных среди красной травы растениях с зелеными трехлопастными листьями. Когда Данли опустил передатчик ближе к земле (он хотел отослать в компьютер необходимые детали), Эвелит ощутила запах клевера. Она нахмурила брови, пытаясь вспомнить… Ну конечно же. Клевер был одной из тех культур, которые еще до наступления Долгой Ночи человек перенес с Земли на многие планеты. О большинстве из них теперь никто не помнит. Часто эти формы жизни становились практически неузнаваемыми. Тысячи лет эволюция приспосабливала их к местным условиям. Иногда же небольшая исходная популяция кардинально преображалась под воздействием мутаций. Так было, например, на Кракене. Пока Данли со своей командой не появился там, никто не догадывался, что сосны и чайки, д$ и ризобактерии тоже — фактически изменившие облик иммигранты. Но банки данных на Эфее сверху донизу забиты информацией, и так уж устроена курчавая голова Данли…
На дисплее, во все поле экрана, показалась его рука, собирав ющая образцы. Как она хотела поцеловать ее!
Терпение, напомнила «невесте» другая часть ее души, «офицер». Мы же приехали сюда работать. Открыли еще одну потерянную колонию, прозябающую, вернувшуюся к крайне примитивному состоянию. 'Мы должны как можно лучше изучить их культуру и принять решение, стоит ли посылать сюда экспедицию, чтобы привести этих людей в цивилизованный вид. Или же на два-три столетия оставить их, а те немногие ресурсы, что может выделить Союз Планет, использовать в другом месте. Надо написать подробный отчет для Совета. Поэтому-то я здесь, на плоскогорье, а он — в джунглях среди дикарей.
Возвращайся скорей, любимый!
Она слышала, что Данли говорит на диалекте жителей джунглей. Это была какая-то исковерканная форма локонезского, который, в свою очередь, отдаленно происходил от англика. За несколько недель интенсивной работы лингвист экспедиции расшифровал язык, а затем все члены экипажа стандартным образом «загрузили» его в мозг. Тем не менее Эвелит восхищало, как быстро ее муж начал бегло говорить на диалекте дикарей после нескольких дней бесед с ними.
— Мы еще не пришли, Мору? Вы говорили, что это недалеко от нашего лагеря.
— Уже почти на месте, «человек с облаков».
В груди Эвелит зародилась тревога. Что происходит? Неужели Данли оставил своих спутников и отправился куда-то один на один с туземцем? Ведь Рогар из Локона предупреждал, что эти люди весьма вероломны и с ними надо быть настороже. Впрочем, только вчера проводники с риском для собственной жизни спасли Хэми Филла, упавшего в бурную реку…
Передатчик качался в руке Данли, изображение прыгало. У Эвелит слегка закружилась голова. Время от времени она бросала взгляд на дисплей. На экране царил лес. Он был наполнен многочисленными звериными тропами, ржавого цвета листвой, переплетением коричневых стволов и ветвей деревьев. Из темноты доносились резкие крики невидимых животных. Эвелит почувствовала едкие неприятные запахи, жаркую и влажную атмосферу джунглей. Этот мир — а он давно уже никак по-другому не назывался, кроме как просто Мир, поскольку его обитатели забыли, что в действительности представляют собой звезды, — этот Мир плохо подходил для колонизации. Жизнь, порожденная им, часто была ядовитой. Здесь всегда не хватало пищи. Благодаря привезенным с собой припасам люди выживали, правда, с большим трудом. Первые поселенцы, без сомнения, собирались исправить положение, но не успели. Разразилась катастрофа. Остались свидетельства того, что их единственный город был сметен с лица земли ракетным ударом, а сил для восстановления не хватило. Большинство людей погибло. Еще чудо, что от человека осталось что-то, кроме костей…
— Мы пришли, «человек с облаков».
Изображение перестало дергаться. Молчание проникло из джунглей в лабораторию.
— Я ничего не вижу, — проговорил наконец Данли.
— Иди за мной, я покажу.
Данли укрепил свой передатчик в развилке дерева. На экране было видно, как они с Мору идут по лугу. Голова дикаря была на уровне плеча Данли. Рядом с космическим скитальцем проводник казался ребенком. Но состарившимся ребенком: лицо, морщинистое и ссохшееся, обрамлял черный куст бороды и волос; обнаженное тело испещрено шрамами, правая нога хромая — сказывались старые раны. Он не мог охотиться и, чтобы прокормить семью, вынужден был ловить рыбу и ставить силки. Снаряжение Мору состояло из поясного ремня, веревки для изготовления силков, обвязанной вокруг тела, ножа из вулканического стекла и подобия рюкзака, сшитого из пропитанной жиром ткани столь плотного плетения, что при необходимости в нем можно было переносить жидкости. Остальные аборигены из группы вполне могли преследовать дичь и потому были более обеспеченными. Однако все они внешне мало отличались друг от друга. Не имея жизненного пространства для расширения, население острова постепенно вырождалось. Но даже по сравнению со своими товарищами Мору выглядел самым убогим. Должно быть, он был бесконечно счастлив, когда рядом с деревней приземлился флитгер и иноземцы предложили ее жителям сказочные товары, которые потом в течение недели или двух демонстрировались всей округе. Однажды с помощью передатчика Данли показал Эвелит соломенную хижину Мору: немногочисленные жалкие пожитки, женщина, изнуренная и состарившаяся от тяжкого труда, сыновья, выглядевшие сморщенными гномиками, хотя, по словам отца, им было лет по семь-восемь, что соответствует нашим двенадцати-тринадцати годам.
Рогар утверждал, что обитатели долин жили бы менее бедно, если бы не преследовавший их злой рок. Племена непрерывно воевали друг с другом. Однако, подумала Эвелит, какую реальную угрозу могли они представлять?
Мору присел на корточки, раздвинул руками ветви куста.
— Здесь, — прохрипел он и поднялся на ноги.
Эвелит хорошо знала, какое нетерпение сжигает сейчас Данли. Тем не менее он повернулся к передатчику и сказал на языке Эфеи:
— Любимая, может быть, ты сейчас видишь меня. Этим редким зрелищем я хочу поделиться с тобой. Скорее всего это гнездо птицы.
Она смутно припоминала, что наличие птиц на планете имеет большое значение для экологической обстановки. Но сейчас для нее важно было только одно — те слова, которые он только что произнес.
— О да, да! — чуть было не закричала Эвелит. Однако она знала, что он не взял с собой приемного устройства, так как в группе их было всего два.
Данли опустился на колени в высокую странного цвета траву. Эвелит видела, с какой нежностью, так хорошо знакомой ей, он прикоснулся к кусту, осторожно отвел в сторону сплетенные ветви.
Дикарь склонился над Данли. И вдруг обвил ногами его талию, резко схватил его левой рукой за волосы и отдернул голову назад. В правой руке сверкнул нож.
Струей хлынула кровь. С перерезанным горлом Данли не мог кричать. Сквозь кровавые пузыри пробивались лишь хрипы, а Мору все кромсал и кромсал ножом рану. Данли вслепую дотянулся до оружия. Мору выронил нож и схватил противника за руки. Они покатились по земле, сцепившись в кровавых объятиях. Данли пытался сопротивляться, но в конце концов упал. Из горла хлестала кровь. Мору не отпускал его. Куст дергался над ними, скрывая происходящее. Но вот на экране появился Мору, весь пропитанный кровью, задыхающийся, и Эвелит пронзительно закричала в стоящий около нее передатчик, в бесконечность. И продолжала кричать и отбиваться, когда ее пытались оттащить от дисплея, где убийца по-прежнему размахивал ножом, пока ее не пронзила острая боль, и она полетела вниз головой на дно вселенной, чьи звезды теперь погасли навсегда.
— Конечно же, мы ничего не знали, пока вы не объявили тревогу, — Хэми Филл с трудом разжал побелевшие губы. — Он ушел с этим… типом… на несколько километров от лагеря. Но почему вы не разрешили отправиться к ним немедленно?
— То, что мы увидели по передатчику… — Капитан Джонафер на минуту замолк. — Данли был мертв. Ему уже ничто не могло помочь. Вы же вполне могли попасть в засаду. Лучше было остаться на месте и охранять друг друга, пока мы вас не заберем.
Взгляд Филла миновал седоволосого капитана и, пройдя сквозь открытую дверь командирского блока, уткнулся в заграждение форта. Затем поднялся выше, к безжалостному полуденному небу.
— Но что это чудовище сделало за время… — Филл резко остановился.
— Как мы и предполагали, остальные проводники сбежали, как только почувствовали наш гнев. — В голосе Джонафера слышна была ненависть. — Я только что получил сообщение от Каллимана. Его команда вылетела в деревню. Она пуста. Все племя снялось с места. Боятся нашей мести. Правда, не так уж это и сложно — уйти, если ты можешь унести с собой весь свой скарб и за день сплести новое жилище.
Эвелит наклонилась вперед.
— Почему вы не хотите сказать мне правду?! — воскликнула она. — Что еще этот Мору сделал с Данли? Что вы могли предотвратить, если бы пришли вовремя?
Филл по-прежнему смотрел в сторону. На его лбу сверкали капельки пота.
— Ничего, ей-Богу, — промямлил он. — Ничего такого, что… Ведь он уже убил Данли.
— Я хотел спросить вас, что бы вы предпочли для него, лейтенант Сэрн, — перебил Джонафер. — Захоронить прах здесь, рассеять его в космическом пространстве или же забрать с собой домой?
Эвелит резко повернулась к нему:
— Я не давала разрешения на кремацию, капитан.
— Я знаю… Ну хорошо, посмотрите на вещи реально. Когда мы нашли тело, вы сначала были под наркозом, потом долго отходили от шока, а время шло. У нас, к сожалению, нет никаких препаратов для, гм, косметической обработки, нет специальных морозильных камер, и на такой жаре…
С тех пор как ее выпустили из лазарета, Эвелит охватило что-то вроде оцепенения. Она никак не могла до конца понять, что Данли больше нет в живых. Казалось, в какой-то момент он, освещенный солнцем, вдруг возникнет вон там в дверном проеме. Смеясь, окликнет ее, утешит. И кончится весь этот кошмар. Она знала, что так действуют психотропные средства, и проклинала «доброту» медиков.
Сейчас Эвелит чувствовала, что гнев постепенно нарастает в ней. Значит, таблетки перестают действовать. Вечером она сможет заплакать, оплакать Данли.
— Капитан, — медленно проговорила она. — Я видела, как его убили. Я и раньше видела много разных смертей, часто страшных. У нас на Кракене не принято скрывать правду, как бы ужасна она ни была. Вы лишили меня законного и естественного человеческого права похоронить мужа, закрыть ему глаза. Но вы должны рассказать мне все, это несправедливо — я хочу точно знать, что произошло.
Джонафер грохнул кулаком по столу:
— Но я не могу… не могу сказать вам этого.
— Вы обязаны, капитан.
— Хорошо! Хорошо! — закричал Джонафер. — Мы видели все на экране. Он раздел Данли, подвесил за пятки к дереву, пустил ему кровь и слил ее в свой заплечный мешок. Затем отрезал гениталии и швырнул туда же в рюкзак. Вскрыл тело, вынул сердце, легкие, печень, почки, предстательную и поджелудочную железы, положил в мешок и скрылся в лесу. Вас удивляет, что мы не позволили вам увидеть то, что осталось от Данли?
— Локонезцы предупреждали, что местных жителей надо опасаться, — мрачно проговорил Филл. — Но мы не прислушались. Они казались нам наивными восторженными гномами. К тому же проводники действительно спасли мне жизнь. Когда Данли спросил про птиц — описал их и стал узнавать, не видел ли кто-нибудь что-то похожее, — Мору ответил утвердительно. Сказал, что эти существа редко встречаются и прячутся от людей. И предложил кому-нибудь одному пойти с ним, чтобы посмотреть птицу и гнездо. Мору назвал это домом, но Данли решил, что он имел в виду гнездо. Они о чем-то говорили с Мору, стоя в стороне от нас. Мы их видели, но ничего не слышали. Наверно, это должно было насторожить нас. Может, надо было поговорить с другими мужчинами из племени. Но мы не сочли это необходимым — какой дикарь осмелится напасть на высокого сильного вооруженного бластером Данли? Кроме того, они и вправду относились к нам дружелюбно, с явным расположением. И были так же заинтересованы в дальнейших контактах с нами, как и жители Локона. Потом… — его голос предательски задрожал.
— Он украл что-нибудь — оружие, инструменты? — холодно спросила Эвелит.
— Нет, — Джонафер покачал головой. — Яв любой момент готов передать вам все, что было у Данли с собой.
— Не думаю, что Мору поступил так из ненависти. Скорее дело в каком-нибудь суеверии, — сказал Филл.
Джонафер кивнул:
— И мы не можем судить его по нашим меркам.
— А по чьим же? — Эвелит не сразу взяла себя в руки.
Сказывалось действие транквилизаторов или нет, но она сама удивилась, каким ровным голосом смогла продолжить:
— Не забывайте, я с Кракена. И не позволю, чтобы ребенок Данли вырос, зная, что его отца убили и никто не попытался добиться справедливого возмездия.
— Вы не можете мстить всему племени.
— Об этом речь и не идет, капитан. Однако вы сами знаете, что члены экспедиции — люди с разных планет. А в каждом обществе свои законы. И то, что обычаи всех членов команды должны уважаться, специально оговорено в уставе. Поэтому я требую, чтобы меня освободили от выполнения должностных обязанностей, пока я не арестую убийцу мужа и не свершу над ним правосудие.
Джонафер медленно склонил голову:
— Я вынужден дать вам свое согласие.
Эвелит поднялась:
— Благодарю вас. Если вы не против, я немедленно приступлю к расследованию.
Пока не прекратилось влияние транквилизаторов, она все еще действовала почти машинально.
На плоскогорье климат был сухим и прохладным. И потому, несмотря на то что после катастрофы колония потеряла цивилизованный облик, земледелие все же сохранилось. Поля и фруктовые сады, с усердием обрабатываемые орудиями времен неолита, поддерживали жизнь столичного города Локона и разбросанных вокруг деревень.
Здешние жители чем-то походили на обитателей леса, но были выше, стройнее, питались лучше, чем дикари. Их предками вполне могли быть немногие оставшиеся в живых первые поселенцы. Они носили сандалии и туники ярких расцветок, а наиболее обеспеченные — еще и украшения из золота и серебра. Волосы аккуратно укладывали, бороды брили. В отличие от жителей джунглей с их вечным страхом засады этот народ жил открыто и весело.
Но, строго говоря, и их свобода была весьма относительна. Когда антропологи с «Новой Зари» принялись в подробностях изучать местную культуру, то обнаружили на Локоне большой класс рабов. Одни служили прислугой в богатых домах и выглядели вполне довольными. Другие в обнаженном виде смиренно трудились на полях, в шахтах, каменоломнях — под ударами бичей надсмотрщиков и в окружении солдат, чьи шлемы и мечи были выкованы из старинного металла времен империи. Все это не очень-то удивило космических исследователей. Они не раз встречались с подобными явлениями на других планетах. Да и на Земле — в Афинах, Индии, Америке — в былые времена тоже существовали рабы. Информация об этом сохранилась в банках данных.
Эвелит продвигалась по извилистым пыльным улицам, мимо безвкусно раскрашенных глинобитных стен кубообразных зданий. Обыватели, спешащие по делам, почтительно приветствовали ее. Никто не боялся, что пришельцы причинят вред. Эвелит была намного выше любого из них, ее волосы отливали металлическим блеском, в глазах отражалось небо, а на талии висел бластер. И кто знал, какой властью она обладала. Они поклонялись ей как богине.
Сегодня даже солдаты и представители благородных сословий преклоняли перед ней колена. Суета и шум повседневной жизни стихали при ее появлении; на торговой площади прекратились все сделки; дети, едва завидев ее, разбежались. Тишине вокруг отвечала тишина в ее душе. Казалось, ужас сковал даже солнце и ледники скал Бурус. Ибо теперь в Локоне знали, что один из дикарей убил человека со звезд. И кто мог предугадать последствия?
Рогару уже сообщили о случившемся. Он ждал Эвелит в своем доме на берегу озера Зело, рядом со Святым Местом. Он не был ни королем, ни президентом Совета, ни верховным жрецом, но сочетал права всех троих, и именно с ним в основном общались пришельцы.
Его жилище, почти не отличаясь от остальных зданий, было больше их, но казалось ниже за счет примыкавшей к нему высокой стены. За ней размещалось множество построек, куда никогда не пускали иноземцев. У ворот всегда стояли охранники в алом одеянии и вычурных украшенных резьбою деревянных шлемах. Сегодня их число удвоилось. Двери Рогара также охраняла стража. Озеро блестело как полированное. На берегу, словно часовые, замерли деревья.
При появлении Эвелит в дверях возник мажордом Рогара, полный стареющий раб:
— Если Рожденная на Небесах согласится последовать за недостойным слугой, он проводит ее…
Стражники склонили перед Эвелит копья. В их глазах застыл ужас.
Клев Рогар сидел на помосте. Окна комнаты выходили во внутренний двор. По контрасту с жарой снаружи здесь чувствовалась прохлада. Эвелит с трудом могла различить фрески на стенах и узоры на коврах, впрочем, довольно грубой работы. Все ее внимание сконцентрировалось на Рогаре. Тбт не поднялся навстречу ей. Вместо этого он, как здесь было принято, в знак приветствия склонил седеющую голову и сложил перед грудью руки. Мажордом принес Эвелит скамью, а главная жена Рогара, прежде чем уйти, поставила перед гостьей чашку заваренного на травах чая.
— Приветствую тебя, Клев, — вежливо проговорила Эвелит.
— Приветствую тебя, Рожденная на Небесах.
Они выдержали положенную паузу. Первым заговорил Рогар:
— То, что случилось, ужасно, Рожденная на Небесах. Быть может, ты не знаешь, но моя белая одежда и босые ноги — знак траура, как по человеку моего рода.
— Мы запомним это.
Голос Рогара дрогнул:
— Надеюсь, ты понимаешь, что никто из нас не замешан в убийстве. Дикари — и наши враги. Еще ваши предки брали их в плен и делали рабами. Больше они ни на что не годны. Я предупреждал твоих друзей, что с ними не стоит иметь дела.
— Такова была их воля, — ответила Эвелит. — А я хочу отомстить за мужа.
Она не знала, есть ли в языке локонезцев слово «возмездие». Но это не имело значения. Под действием таблеток, заглушающих эмоции и потому помогающих логически мыслить, она могла достаточно ясно объяснить свою цель.
— Мы дадим вам солдат и поможем убить столько варваров, сколько вы захотите, — предложил Рогар.
— В этом нет необходимости. С моим оружием я могу одна уничтожить больше, чем вся ваша армия. Мне нужен ваш совет и совсем другая помощь. Как найти того, кто убил моего мужа?
Рогар задумался.
— Дикари чувствуют себя в джунглях как дома. Они умеют исчезать бесследно, Рожденная на Небесах.
— Может быть, дикари из другого племени смогли их выследить?
— Ты весьма проницательна. Эти племена все время воюют друг с другом. Если связаться с одним из них, то его охотники отыщут для вас племя убийцы. — Взгляд Рогара становился все более хмурым. — Но сам он скорее всего ушел из племени и спрятался до тех пор, пока вы не покинете планету. А найти одного человека практически невозможно. Жители джунглей поневоле научились хорошо прятаться.
— Но почему поневоле?
Ее непонимание очевидных для него вещей удивило Рогара.
— Если человек идет на охоту, — сказал он, — он не может брать с собой много спутников, они спугнут зверя. Поэтому он выслеживает хищника в одиночку. Но на его след может напасть кто-то из другого племени — ведь не важно, убит человек на поле боя или подстрелен в джунглях во время охоты, все равно его можно использовать.
— Но в чем причина этих бесконечных нападений друг на друга?
Рогар совсем был сбит с толку.
— Но как еще можно добыть мясо человека?
— Но ведь они не им питаются?
— Нет, конечно же, нет. Его едят только, когда это необходимо. Но, как вы знаете, это случается регулярно. В основном они убивают мужчин на войне. Тот, кто сумел одолеть врага, получает его тело, которое делит, естественно, только между близкими родственниками. Но не все удачливы в битве. Поэтому те, кто не смог никого убить, отправляются вдвоем или втроем на охоту в надежде выследить мужчину из другого племени. Вот почему они так искусно прячутся в джунглях.
Эвелит не шелохнулась, не произнесла ни слова. Рогар глубоко вздохнул и продолжил свои объяснения:
— Рожденная на Небесах, после того что произошло, я долго говорил с людьми из твоего отряда. Они рассказали мне, что увидели издалека с помощью ваших великолепных устройств. И мне стало ясно, в чем дело. Тот проводник — как его звали? Да, Мору — калека. И только обманом он мог убить кого-нибудь. Ему подвернулся удобный случай, и он им воспользовался.
Рогар осмелился улыбнуться.
— У нас такого никогда не произойдет. Мы не ведем войн, если только на нас не нападают, и не выслеживаем своих земляков, как зверей. Мы, как и вы, цивилизованные люди. — Его губы растянулись, обнажив потрясающие белые зубы. — Но, Рожденная на Небесах, они убили твоего мужа. Я предлагаю отомстить не только самому убийце, если мы его схватим, но и всему его племени. Это научит дикарей остерегаться и не нападать на тех, кто выше их. А потом мы разделим их тела поровну, половину — вам, половину — нам.
Эвелит остолбенела. Ей казалось, что она с размаху налетела на скалу. Она долго, бесконечно долго бессмысленно смотрела на усталое морщинистое лицо Рогара. Потом услышала свой шепот:
— Вы… здесь… тоже… едите людей?
— Рабов, — ответил Рогар. — И не больше, чем требуется. На четырех мальчиков — по одному мужчине.
Рука Эвелит судорожно сжала бластер. Рогар в тревоге вскочил.
— Рожденная на Небесах! — вскричал он. — Я же говорил, мы цивилизованный народ. Не бойтесь! Мы никогда не нападем на вас! Мы… мы…
Она была уже на ногах. Что прочитал он в ее взгляде? Рогара сковал страх за судьбу своего народа. Он съежился. Задрожал. Вспотел.
— Рожденная на Небесах, поверь, локонезцы ничем не угрожают вам… Пожалуйста, позволь мне показать… провести тебя в Святое Место… пойдем со мной… Вы подобны богам, они наверняка не рассердятся. Я покажу тебе, как это устроено, и ты увидишь, что у нас нет никакого желания, никакой необходимости быть вашими врагами…
Рогар открыл массивную дверь в стене. Эвелит заметила, как переменились в лице стражники. Услышала громкие обещания воздать многочисленные жертвы, чтобы умиротворить богов. Гулко раздавались шаги по каменной мостовой. Вокруг центрального храма стояли идолы. Рядом находился дом служителей, затрясшихся от страха при виде своего Учителя, приведшего с собой человека с другой планеты. Дальше располагались бараки рабов.
— Смотри, Рожденная на Небесах, мы хорошо с ними обращаемся, правда? Да, мы вынуждены в детстве раздробить им руки и ноги. Иначе было бы очень опасно содержать здесь сотни мальчиков и юношей. Но разве они плохо питаются? Их Священная Пища — тела мужчин, умерших в расцвете лет. Мы говорим им, что их жизнь продолжится в тех, для кого они предназначены. Большинство испытывают чувство удовлетворения, поверь мне, Рожденная на Небесах. Спроси у них. Но помни, их мозг не развит, ведь они год за годом ничего не делают. В начале каждого лета мы убиваем их — быстро, чисто — и не больше, чем требуется для нового поколения юношей, достигших возраста возмужания, по одному рабу на четырех мальчиков, не более. И это прекрасный обряд — настоящий праздник с последующим пиром и танцами. Понимаешь теперь, Рожденная на Небесах? Вам нечего бояться нас. Мы не какие-нибудь дикари, совершающие набеги на соседей и воюющие с ними, чтобы добыть человеческое мясо. Мы цивилизованны — не как вы, подобные богам, нет, так я никогда не скажу, — но цивилизованны, мы достойны вашей дружбы, правда же? Правда, Рожденная на Небесах?
Чена Дарнард, возглавляющая в экспедиции группу антропологов, дала компьютеру задание просканировать банк данных. Как и прочие, этот переносной компьютер был связан с базовым, расположенным на «Новой Заре». В данный момент космический корабль находился с противоположной стороны планеты, и пройдет некоторое время, прежде чем сигнал через серию ретрансляционных станций дойдет до него и вернется обратно.
Чена отклонилась назад и через стол внимательно посмотрела на Эвелит. Та сидела очень спокойно, что казалось неестественным. Да, Эвелит происходила из аристократического рода, жившего в весьма воинственном обществе. И, безусловно, каждому миру присущи собственные психологические реакции, но все-таки было бы лучше, если бы Эвелит смогла дать волю своему горю.
— Ты полностью уверена, дорогая? — произнесла антрополог как можно мягче. — Данный остров — единственная обитаемая земля, он очень большой, со сложной топографией и примитивными коммуникациями. И моя группа уже обнаружила следы древней цивилизации.
— Я говорила с Рогаром более часа, — все тем же ровным тоном ответила Эвелит, по-прежнему спокойно глядя на Чену. — Ты же знаешь, я умею расспрашивать людей, а он не был готов к этому и ничего не скрывал.
Рогар подробно рассказал мне обо всем. Локонезцы не так примитивны, как их технология. Они столетия жили под угрозой нападения дикарей, и это способствовало созданию широкой разведывательной сети. Поэтому они хорошо знают, что происходит вокруг. И хотя родовые обычаи чрезвычайно разнообразны, каннибализм развит повсеместно. Вот почему никто из локонезцев ни разу не упомянул о нем. Они почли за счастье, что у нас собственные пути добывания человеческого мяса.
— А что существует, э-э-э, множество способов?
— О да. На Локоне, например, откармливают для этой цели рабов. А дикари, живущие в джунглях, слишком бедны и вынуждены вести постоянные войны. Некоторые устраивают ежегодные битвы внутри племени. И… кто знает, что еще. Но везде, так или иначе, мальчики, достигающие половой зрелости, совершают обряд, согласно которому они должны съесть мясо взрослого мужчины.
Чена прикусила губу.
— Господи, как же это все началось?.. Поиск закончен? — обратилась она к компьютеру.
— Да, — раздался голос машины. — Данные о случаях каннибализма среди людей довольно скудны. На всех известных нам до сих пор планетах он запрещен, хотя ранее иногда считался возможным, если для поддержания жизни не существовало никаких других способов. Встречались очень ограниченные формы того, что можно назвать церемониальным каннибализмом. Например, на Лохланне среди фалкенов существовал обычай выпивать незначительное количество крови друг друга при произнесении клятвы братства…
— Все это сейчас неважно, — напряженно проговорила Чена. — Нас интересует, что произошло на этой планете. Что это, дегенерация? Или атавизм? Есть ли данные о Земле?
— Очень фрагментарные. Во-первых, многое было утеряно во время Долгой Ночи. Кроме того, последние примитивные общества исчезли там до того, как начались межпланетные путешествия. Но все же остались кое-какие сведения, собранные древними историками и учеными.
Каннибализм обычно был составной частью обрядов, связанных с принесением человека в жертву богам. Как правило, их оставляли несведенными. Но изредка попадались религии, где тела жертв или отдельные части их съедались либо людьми, принадлежащими к избранному классу, либо всеми членами сообщества. Так, например, в Мексике ацтеки за год приносили в жертву своим богам около тысячи человек. А следовательно, они вынуждены были вести войны, что, в свою очередь, в конце концов помогло европейским завоевателям найти союзников среди других малоразвитых народов. В основном пленников убивали, а их сердца отдавали идолам. Но известен по крайней мере один культ, где тела убитых распределялись среди церковнослужителей.
Каннибализм служил также некоей магической формой. Съедая кого-то, вы, по их понятиям, приобретали тем самым его достоинства. Это лежало в основе каннибализма в Африке и Полинезии. Современные исследователи сообщают, что подобные блюда поедались с наслаждением, что, впрочем, легко понять, особенно для бедных протеином ареалов.
Единственный факт неритуального каннибализма мы встретили у индейцев, живших на Карибских островах в Америке. Они ели мясо человека, поскольку им нравился его вкус. Там предпочитали есть детей и для рождения потомства специально брали в плен женщин. Мальчиков-рабов кастрировали, чтобы их мясо стало мягче и нежнее. Вследствие сильного отвращения и полного неприятия подобной практики европейцы истребили жителей Карибов до последнего человека.
На этом закончился отчет компьютера об имеющейся информации. Чена скривилась:
— Пожалуй, я понимаю европейцев.
Эвелит время от времени удивленно поднимала вверх брови, но при этом ее лицо по-прежнему казалось застывшей маской.
— Ты ведь считаешь себя объективным исследователем?
— Да, считаю. Но существует еще такая вещь, как экспертная оценка. И потом, они убили Данли.
— Не они. Один из них. И я его найду.
— Но он — продукт этой культуры, такой же больной, как и вся раса, — Чена вздохнула, пытаясь говорить спокойно. — Очевидно, что в основе этой болезни лежит какой-то ритуал. Думаю, что первоначально все шло из Локона. Практически всегда более развитые народы оказывают некое культурное воздействие на всех остальных. А здесь, на острове? Естественно, что ни одно племя не избежало подобной инфекции. Позднее локонезцы развили и рационализировали этот обычай, а у дикарей он остался в неприкрыто жестоком виде. Но и у тех и у других жизнь основана на человеческих жертвах.
— А можно отучить их от этого? — спросила Эвелит почти без всякого интереса.
— Да. Со временем. Теоретически. А практически… в общем, я знаю довольно много о том, что происходило на Земле и не только там, когда более высокоразвитые народы пытались реформировать примитивные сообщества. Разрушилась полностью вся структура. И это неизбежно.
Подумай, что произойдет, если мы скажем аборигенам, что они должны отказаться от этого обычая. Они нас просто слушать не станут. И не могут услышать. Они должны иметь внуков. И знают, что мальчик не станет мужчиной, если не съест определенные части мужского тела. Нам придется завоевывать их, большую часть убить, остальных взять в плен. Глупо. А когда подрастет следующее поколение мальчиков и они все-таки станут мужчинами без этой магической пищи, что тогда? Представь, какое чувство отчаяния и полнейшей деморализации охватит их. Ведь это потеря традиции, лежащей в самой сердцевине каждой личности. Пожалуй, гуманнее было бы до основания разбомбить этот остров.
Чена покачала головой.
— Нет, — резко продолжила она. — Действовать можно только постепенно. Послать миссионеров. Через несколько поколений их проповеди и собственный пример должны подействовать… Но, к сожалению, сейчас мы не можем позволить себе таких усилий. Слишком долгий путь. И слишком много в Галактике миров, гораздо более достойных той небольшой помощи, какую мы можем оказать. Я склоняюсь к мысли, что надо пока оставить эту планету.
Прежде чем задать вопрос, Эвелит пристально посмотрела на Чену:
— Но не влияет ли на решение твоя собственная реакция на происшедшее?
— Да, — согласилась Чена. — Я действительно не могу преодолеть отвращения. И ты знаешь, я пользуюсь определенным влиянием. Так что если Совет все-таки попытается набрать миссионеров, то вряд ли ему это удастся. — Она покачала головой. — Ты сама, Эвелит…
— Мои эмоции не имеют значения. Только долг. Спасибо за помощь.
Эвелит развернулась на каблуках и с военной выправкой вышла из комнаты.
Эвелит Сэрн на мгновение замерла перед небольшим строением, их с Данли домом. Таблетки перестали действовать. Искусственная защита разрушилась. Эвелит боялась войти. Солнце стояло низко, и все здание казалось наполненным тенями. Издалека слышались шаги, голоса, незнакомая мелодия флейты. Становилось холодно. Эвелит дрожала. Дом был слишком пуст.
Кто-то приближался. Эвелит с первого взгляда узнала Олсабет Мандейн с Нуэвамерики. Уж лучше собраться с силами и войти внутрь, чем слушать ее глупые утешения. Эвелит с трудом преодолела последние три ступеньки и закрыла за собой дверь.
Данли никогда больше не придет сюда. Ни-ко-гда.
Но все в комнате напоминало о нем. Кресло, в котором он любил сидеть с потертым томиком стихов. Эвелит не понимала их и потому поддразнивала его. Стол. Здесь он произносил тосты в ее честь, целовал. Шкаф, где висит его одежда. Поношенные шлепанцы. Кровать. Все, на чем останавливался ее взгляд, кричало о Данли. Эвелит быстро прошла в лабораторию и задернула занавес, отделявший жилые комнаты. Заскрежетали кольца, задевая за трос. В сумерках этот звук наводил ужас.
Тяжело дыша, она закрыла глаза, сжала кулаки. «Я не размякну, нет. Ты всегда говорил, что любишь меня за силу — среди прочих очаровательных качеств, добавлял ты, подмигивая, — и я не дам пропасть ничему из того, что ты любил.
Я должна торопиться, — сказала она ребенку Данли. — Командование экспедиции согласно с Ченой, и скоро мы отправимся домой. У нас осталось мало времени, чтобы отомстить за твоего отца.
Господи, что я делаю, — открыв глаза, в отчаянии подумала Эвелит. — Разговариваю с мертвым мужем и неродившимся ребенком».
Она включила свет и подошла к компьютеру. Он ничем не отличался от остальных. Но на нем работал Данли. Каждая царапина на поверхности этого ящика притягивала ее взгляд. Точно так же Эвелит не могла спокойно пройти мимо микроскопа мужа, его хроматографа и анализатора хромосомного состава, биологических препаратов… Хорошо бы выпить чего-нибудь покрепче, но сейчас нужна ясная голова. Эвелит села за компьютер и приказала:
— Включайся!
Загорелась желтая лампочка. Эвелит потерла подбородок, подбирая слова.
— Нужно найти дикаря, — проговорила она наконец, — который убил одного из членов нашей экспедиции, забравшего несколько килограммов его мяса и крови и скрывшегося затем в джунглях. Убийство произошло около шестидесяти часов тому назад. Как его отыскать?
Раздалось тихое жужжание. Эвелит представила себе всю цепочку: до челночного корабля, затем вверх сквозь бездонное черное небо до ближайшей орбитальной станции, от нее к следующей — вокруг обрюзгшей планеты, пока сигнал не достигнет космического корабля; затем искусственный мозг направит запрос в соответствующий банк данных, а сканеры бит за битом просмотрят имеющуюся информацию о сотнях и тысячах существовавших когда-либо миров, начиная с Земли, которой, возможно, уже больше нет — все те данные, что удалось сохранить и спасти во время крушения империи и последовавшие темные века. Эвелит отвлеклась от бесплодных размышлений, ей захотелось оказаться дома, на Кракене. Мы поедем туда, пообещала она ребенку Данли. Ты будешь жить вдали от всех этих бесконечных машин и расти так, как завещано нам богами.
— Запрос. — Произнес механический голос. — С какой планеты жертва преступления?
Эвелит слегка облизала пересохшие губы:
— С Эфеи. Это Данли Сэрн, твой хозяин.
— Вполне возможно, что удастся проследить путь вышеупомянутого аборигена. Вас интересует принцип, на котором основан поиск?
— Д-Да.
— Биохимическое развитие на Эфее шло примерно так же, как и на Земле, — металлический голос звучал четко и размеренно. — Поэтому у ранних колонистов не возникло никаких сложностей при употреблении в пищу земных пород. Они попали в весьма благоприятные условия, и вскоре популяция выросла настолько, что опасность расовых изменений вследствие мутаций или генных колебаний отпала сама собой. Современные жители Эфеи не сильно отличаются от своих предков с Земли, потому их психологические и биохимические особенности хорошо известны.
Этот фактор очень важен для большинства освоенных планет. В основном резкие изменения в генотипе происходили из-за того, что первоначальные поселения были слишком малы и обособлены. Эволюционная адаптация к новым условиям редко приводила к радикальным переменам в биологической структуре. Например, большая мощь среднего жителя Кракена вызвана сравнительно высокой силой тяжести на планете; белый цвет лица — следствие бедного ультрафиолетом солнца, а крупные габариты помогают легче переносить холод. Но их предками были люди, приспособленные к жизни в таком мире. Отклонения от присущей им нормы нельзя назвать чрезвычайными. Они не мешали поселенцам жить на большинстве планет, подобных Земле, и постепенно смешиваться с их коренным населением.
Но иногда вследствие каких-то исключительных условий происходят значительные вариации. Например, из-за малого размера первоначальной популяции. Либо ца данной планете не могло прокормиться много народу, либо люди погибли после падения империи. А в результате — значительные генетические отклонения и мутации в потомстве выживших колонистов. Естественно, что изменения наиболее вероятны в тонких структурах — эндокринной и ферментной системах, а не в анатомии человека. Примером может служить такой хорошо известный случай, как реакция жителей Гвидиона на никотин и некоторые обезболевающие средства. Иногда различия обитателей двух планет приводили к их взаимной стерильности.
Что касается этой планеты, — Эвелит почувствовала, что ее выдернули из задумчивого состояния, в которое она погрузилась во время «лекции», — то теперь многое прояснилось. Некоторые завезенные с Земли виды растений прижились здесь, другие отмерли после того, как была утеряна технология их возделывания. Таким образом, колонисты все больше и больше использовали для питания местные виды растений и животных. Но в них отсутствуют многие элементы, необходимые для нормального развития человека. Например, витамин С встречается только в растениях, первоначально привезенных с Земли. Сэрн заметил, что здесь употребляют в пищу огромное количество стеблей и листьев этих растений. И как следствие — значительные изменения в желудочно-кишечном тракте местных жителей. Это видно на флюорограммах. Интенсивные исследования мяса местных животных показали, что в нем не хватает трех основных аминокислот. Адаптация человека должна была повлечь за собой серьезные изменения на молекулярном и субмолекулярном уровнях. Соответствующие расчеты я могу провести.
Расчет окончен.
Эвелит крепко вцепилась в ручки кресла и затаила дыхание.
— Вероятность успеха поиска весьма велика, поскольку структура мяса человека с Эфеи близка к местным аналогам. Оно может быть переработано в процессе обмена веществ, но тело местного жителя, употребившего его в пищу, будет выделять некоторые вещества, которые, в свою очередь, придают определенный запах коже, дыханию, а также моче и фекалиям. Наши детекторы позволяют определить этот запах на расстоянии в несколько километров и в пределах шестидесяти — семидесяти часов с начала процесса. Но поскольку при этом соответствующие молекулы подвергаются распаду и сложным превращениям, то рекомендую вам действовать как можно быстрее.
— О, я найду убийцу Данли. — Эвелит погрузилась в темноту.
— Я могу приготовить для вас необходимые микроорганизмы и составить программу поиска. Хотите? — раздался вопрос компьютера. — Они будут в вашем распоряжении примерно через три часа.
— Да-а, — она заикалась. — И, пожалуйста., нет ли каких-нибудь еще… советов?
— Не надо убивать преступника сразу же. Лучше привести его сюда и обследовать. Если не из каких-то других соображений, то по крайней мере для того, чтобы довести до конца научные исследования.
— И это говорит машина, — мысленно вскричала Эвелит. — Она предназначена только для облегчения научного поиска. Ни для чего больше. Но это его машина. — Ответ компьютера так походит на то, что скорее всего сказал бы сам Данли, что она не смогла сдержать слез.
Сразу же после захода солнца на небе появилась большая луна, единственная в этом мире. В ее свете потонули звезды. Джунгли окрасились в серебристо-черные тона. Ледяные вершины горного массива Бурус растворились в пустоте нереального пейзажа этой странной планеты. Эвелит прижалась к рулю гравилета. Вокруг свистел ветер. Он нес с собой холод, хлюпал и хихикал за спиной. Время от времени в темноте что-то ухало, в ответ раздавались неясные скрипы и карканье.
Эвелит хмуро посмотрела на индикаторы поиска, горящие на панели управления. Мелькающие кривые, слепящий хаос — а ведь Мору должен быть где-то здесь! Он не мог за это время пройти пешком всю долину. Если она так и не найдет его в указанном районе, значит ли это, что Мору мертв? Но ведь его тело не может исчезнуть бесследно. Если только его не закопали на большой глубине. Ну что ж, попробуем еще раз. Здесь. Эвелит достала из пакета пузырек и открыла его. Множество крошечных «жучков» выбралось наружу. В лунном свете они образовали туманную пелену. Неужели опять ошибка?
Но нет! Похоже, танцующие в воздухе пылинки выстраиваются в едва заметную исчезающую в темноте светлую полосу? С замирающим сердцем она взглянула на индикатор. Нейродетекторная антенна больше не раскачивалась, а явно указывала на запад — северо-запад с отклонением в тридцать два градуса ниже горизонта. Так повлиять на ее поведение могла лишь высокая концентрация «жучков». И только особая смесь молекул, на которую эти «жучки» были настроены, могла заставить их целенаправленно двигаться к одной точке, источнику этой смеси.
— И-я-я-я! — Эвелит не смогла сдержать в груди неистового крика ястреба, увидевшего добычу. Но сразу же прикусила губу. И, не замечая, что кровь сочится по подбородку, не издавая больше ни звука, повела гравилет в нужном направлении.
Преодолев несколько километров, она нашла на опушке поляны в лесу что-то вроде стоянки. Среди пышной растительности мерцали лужи с грязной накипью на поверхности воды. Вокруг плотной стеной стояли деревья. Эвелит застегнула шлем и надвинула на глаза защитные очки, позволяющие лучше ориентироваться в темноте. Теперь она разглядела убогую постройку с односкатной крышей, сплетенную из виноградной лозы и ивовых прутьев. Хижина прижималась к высоким деревьям, чтобы под их ветвями укрыться от посторонних взглядов. Вскоре Эвелит заметила приближающихся «жучков».
Она опустила гравилет на высоту одного метра над землей и встала на ноги. Правой рукой вынула из кобуры пистолет, заряженный капсулами с быстродействующим снотворным. Левую положила на бластер.
Из укрытия ощупью выбрались сыновья Мору. «Жучки» кружили вокруг них, размывая, словно туман, их очертания.
— Конечно же, — Эвелит захлестнула волна ненависти. — Они устроили «пир».
Сейчас они более чем когда-либо напоминали гномов — большие головы, короткие руки и ноги, отвислый от постоянного недоедания живот. Мальчики их возраста на Кракене намного выше и ближе по развитию к мужчинам. А эти — какая-то пародия на взрослых.
За детьми выбежали родители. «Жучки» не обращали на них никакого внимания. Мать рыдала. Но внимание Эвелит было приковано к Мору.
Хромая, тот выбежал из хибары, всем своим видом напоминая жука, копошащегося в навозной куче. В правой руке он держал каменный нож.
Тот, которым он убил Данли, с ужасом подумала Эвелит. Я отниму этот нож вместе с рукой, которую он поднял на Данли. Я разоружу его, но оставлю в живых. Пусть он видит, как я поступлю с его отродьем.
Жена Мору пронзительно закрйчала. В свете луны она увидела отливающий металлическим блеском гравилет, возвышающуюся гигантскую фигуру женщины.
— Я пришла за тем, кто убил моего мужа, — громко проговорила Эвелит.
Мать вновь вскрикнула и бросилась вперед, прикрывая собой детей. Мору хотел обогнать ее, но хромая нога подвела его. Он споткнулся и упал в лужу. В тот момент когда он сумел выбраться из грязи, Эвелит выстрелила в женщину. Та свалилась, не произнеся ни звука.
— Бегите! — закричал Мору. Он бросился на гравилет. Эвелит нажала на кнопку управления, и машина моментально взмыла вверх, кружась над мальчиками. Эвелит подстрелила их сверху. Мору никак не мог помешать ей.
Он склонился над ближайшим из лежащих сыновей, взял тело на руки и поднял глаза вверх. Вокруг струился безжалостный лунный свет.
— Что вы теперь можете сделать мне?! — в отчаянии прокричал он.
Эвелит оглушила и его. Приземлилась, вышла из гравилета и быстро связала всех четверых. Погрузив тела на борт, она отметила, что они оказались даже легче, чем она ожидала.
Ее начало трясти, как от лихорадки. Пот лился ручьями, так что одежда прилипла к телу. В ушах стоял гул.
— Я уничтожу вас, — произнесла она с содроганием. — Уничтожу.
Голос звучал отчужденно. Какая-то частичка в глубине сознания удивилась тому, что она говорит на своем родном языке неизвестно с кем.
— Я бы предпочла, чтобы всего этого не было. Но я помню совет компьютера. Коллеги Данли должны провести исследования.
Это не так уж страшно. По правилам Союза Планет после того, что вы совершили, мы имеем право арестовать вас. И никто из друзей Данли не почувствует никаких сентиментальных сожалений по отношению к вам.
Нет, они не будут бесчеловечны. Несколько проб клеточных тканей, кое-какие тесты, анестезия, когда потребуется. Ничего, что могло бы причинить вред, всего лишь клиническое обследование, как можно более тщательное.
Без сомнения, питаться вы будете лучше, чем когда-либо. А если медики обнаружат какие-то недуги, они их излечат. В конце концов, Мору, они отпустят твою жену и детей.
Она взглянула на его лицо, ужасное лицо.
— И я довольна, — сказала она, — да, довольна, что для тебя, не понимающего, что происходит, все это будет мучительно. А потом, когда закончатся исследования, я потребую тебя обратно. Они не смогут отказать мне в этом. Даже твое племя изгнало вас. Так? Мои коллеги не позволят мне ничего сделать с тобой, но убить я тебя обязана.
Она включила мотор и стартовала по направлению к Локону. Как можно быстрее, пока чувствовала, что удовлетворена ходом событий.
А потом бесконечные дни без него, дни и ночи.
Ночью было легче. Она спала. Либо работала до полного изнеможения, либо принимала таблетки. Данли редко появлялся в ее снах. Но днем… днем она не могла глушить себя пилюлями.
К счастью, дел было много. Они готовились к скорому отлету, и рук, как всегда, не хватало. Предстояло размонтировать, упаковать и перевезти на корабль всю аппаратуру. Подготовить к полету «Новую Зарю». Оттестировать многочисленные системы управления полетом. Знания и опыт Эвелит позволяли ей также выполнять функции механика и руководить погрузочными работами. Кроме того, она по-прежнему отвечала за охрану лагеря.
Капитан Джонафер не считал последнее необходимым.
— Что вас беспокоит, лейтенант? Аборигены до смерти боятся нас. Они напуганы тем, что вы делаете — жутким грохотом в небе, роботами, слепящими лучами прожекторов в темноте. Я с трудом уговорил их не покидать город.
— Пусть делают, что хотят, — огрызнулась она. — Нам-то какое дело.
— Мы пришли сюда не для того, чтобы разрушить все до основания, лейтенант.
— Нет. Однако они, насколько я понимаю, поступили бы по отношению к нам именно так. Если бы им представилась такая возможность. Представьте себе, какими достоинствами обладает, по их мнению, ваше, например, тело.
Джонафер вздохнул и сдался. Но когда она отказалась принять Рогара, он приказал ей сделать это и вести себя с ним корректно, как полагается цивилизованным людям.
Клев вошел в помещение биолаборатории (Эвелит не хотела встречаться с ним в жилых комнатах), держа в руках подарок — меч, сохранившийся со времен империи. Она заколебалась. Без сомнения, это бесценный дар для музея.
— Положите на пол, — велела она Рогару.
Поскольку Эвелит занимала единственный стул, Рогар стоял. Он выглядел постаревшим.
— Я пришел, — прошептал он, — чтобы сказать, как мы в Локоне счастливы, что вы смогли отомстить убийце.
— Смогу отомстить, — поправила она.
Он не мог вынести ее угрюмого взгляда.
— Я рад, что Рожденная в Небесах смогла… легко… найти тех, кого хотела… и знает верность, живущую в наших сердцах… Мы не хотели зла ее народу.
Ответа не последовало.
Пальцы Рогара сплелись узлом.
— Тогда почему ты оставила нас? — взмолился он. — Когда вы пришли, когда мы увидали вас впервые и вы заговорили с нами, ничтожными, вы сказали, что останетесь на много лун, а после вас придут другие, чтобы учить и торговать. И сердца наши возрадовались. И не одни товары, что мы когда-нибудь купим у вас, тому причиной, и не способы ваших мудрецов покончить с голодом, болезнями, опасностями и скорбями. Нет, радость нашу и благодарность вы породили словами о чудесах. Мир наш, дотоле тесный и душный, распахнулся. Но теперь вы уходите. Я спрашивал, когда осмеливался, и всегда ваши мужи говорили, что никто более не вернется к нам. Чем мы оскорбили тебя, о Рожденная в Небесах, и как нам искупить вину?
— Перестать обращаться с другими людьми как со скотиной, — процедила Эвелит.
— Дошло до меня… что вы, люди со звезд, почитаете дурным то, что происходит в Святом Месте. Но мы делаем это лишь раз в жизни, о Рожденная в Небесах, и не по доброй воле!
— Иной причины нет!
Рогар пал перед ней ниц.
— Быть может, нет ее у Рожденных в Небесах, — взмолился он, — но мы лишь смертные! Если сыны наши не обретут мужества, им не придется зачать собственных детей, и последний из нас умрет в одиночестве, в мертвом мире, и некому будет расколоть ему череп в смертный его час, дабы выпустить душу…
Рогар осмелился поднять взгляд, но то, что увидел он, заставило его, скуля, уползти.
Позднее к Эвелит подошла Чена Дарнард. Они выпили по коктейлю, поболтали немного ни о чем, и только тогда антрополог перешла к делу.
— Ты была довольно сурова с сахемом.
— Как ты… А. — Эвелит вспомнила, что разговор записывался, как и все беседы с туземцами — для последующего изучения. — А что мне оставалось делать — поцеловать эту лживую тварь в щечку?
— Да нет, наверное. — Чена заметно вздрогнула.
— Ты первая подписалась под официальной рекомендацией предоставить эту планету ее судьбе.
— Верно. Но теперь… не знаю. Я испытывала такое отвращение. Оно и сейчас есть. Однако… я наблюдала за медиками, когда они обследовали твоих пленников… Ты была там?
— Нет.
— Зря. Если бы ты видела, как они дрожат и визжат от страха, когда в лаборатории их пристегивают ремнями, как льнут друг к другу, вернувшись в комнату.
— Но ведь им не причиняют боли и, надеюсь, никого не покалечили случайно?
— Конечно, нет. Им пытались объяснить, что бояться нечего. Но как они могут поверить словам своих тюремщиков. Во время исследований им не дают транквилизаторов, иначе результаты окажутся недостоверными. Их изматывает мучительный страх перед абсолютно неведомым. Ладно, Эвелит, хватит об этом. Больше не могу. — Антрополог вздохнула, пристально посмотрела на собеседницу. — А вот ты можешь.
Эвелит покачала головой:
— Ты думаешь, я злорадствую, торжествую? Нет, поверь. Да, я застрелю убийцу Данли, этого требует честь моей семьи. А остальные пленники смогут уйти, даже его сыновья. Несмотря на то, что они ели мясо моего мужа.
Она налила себе в бокал побольше и залпом выпила. Почувствовала, как горит все внутри.
— Надеюсь, ты будешь милосердна. Данли одобрил бы это. Он любил одну пословицу, по его словам очень древнюю — не забудь, мы из одного города и я знаю… знала его дольше, чем ты. Он часто повторял: не уничтожай врагов, если это поможет сделать их друзьями.
— Подумай, — ответила Эвелит, — ведь ты не пытаешься подружиться с ядовитыми насекомыми. А давишь их каблуком.
— Но человек — продукт того общества, в котором он живет, — настойчиво продолжала Чена. Она сжала руку Эвелит, но та не ответила на рукопожатие. — Что такое один человек, одна жизнь против всего, что его окружает, против тех, кто живет рядом с ним или жил раньше? Каннибализм не был бы распространен на острове повсеместно, если бы он не был наиболее глубоко укоренившимся культурным императивом этой расы.
— Что это за раса такая, — с возрастающим гневом хмуро ухмыльнулась Эвелит, — если они приняли такой императив. И, согласись, я ведь тоже имею право на свои собственные культурные императивы… Я стремлюсь домой. Хочу увезти ребенка Данли подальше от вашей безвольной цивилизации. Но он не будет расти униженным из-за того, что его мать оказалась слишком слабой, чтобы воздать за убийство его отца. А теперь, извини, мне пора — завтра рано вставать, предстоит много дел с упаковкой грузов и перевозкой их на корабль.
И день действительно оказался трудным. Эвелит вернулась домой на заходе солнца. Она устала больше обычного. Однако боль, постоянно терзавшая ее, понемногу стихала. Она подумала однажды, и эти абстрактные размышления не показались ей ужасными, что еще молода, что пройдут годы и, возможно, другой мужчина появится в ее жизни. Но моя любовь к тебе никогда не умрет! — мысленно обратилась она к Данли.
Эвелит шла, еле волоча ноги. Скрипел песок. Наполовину все уже было собрано, упаковано и отправлено на «Новую Зарю». Большая часть персонала тоже перебралась на корабль. Стоял тихий вечер. Небо отливало желтым светом. Немногие оставшиеся в лагере члены экспедиции суетились среди машин. Локон казался стихшим и успокоенным, каким он станет вскоре после их отлета. Глухой звук собственных шагов был приятен Эвелит. Она вошла в кабинет Джонафера.
Он ждал ее, неподвижно сидя за столом.
— Все прошло успешно, без всяких инцидентов, — отрапортовала женщина.
— Садитесь, — устало произнес капитан.
Она подчинилась. Оба молчали. Наконец, не меняя выражения лица, Джонафер сказал:
— Медики закончили клиническое обследование пленников.
Для Эвелит это было как гром средь ясного неба. Она попыталась подыскать слова:
— Как, уже?.. Я хотела сказать… ведь у нас нет специального оборудования и занималось этим всего несколько человек… да и без Данли, эксперта по биологии Земли… Антропологи нуждаются в полном исследовании на хромосомном уровне, его невозможно провести так быстро.
— Да, это так, — согласился Джонафер. — Ничего существенного они не нашли. Может, результаты и были бы другие, если бы Уден и его сотрудники представляли, что ищут. Тогда бы они сформулировали пару гипотез, а затем проверили бы их, исследуя организмы аборигенов. Может, и удалось бы понять, как идет у них процесс жизнеобеспечения. Вы правы, профессиональная интуиция Данли Сэрна смогла бы направить эти исследования в нужном направлении. А так им приходится практически наугад, да и от запуганных невежественных дикарей нет никакой помощи. В общем, биологи вынуждены работать вслепую, методом проб и ошибок. Они, правда, выявили некоторые особенности деятельности пищеварительной системы, но все это может быть следствием местной экологии.
— Тогда почему ученые прекратили обследование? Мы же уедем самое раннее через неделю.
— Они сделали это по моему приказу. После того как Уден продемонстрировал мне, что у них происходит. И сказал, что независимо от того, что я решу, он не намерен продолжать эти пытки.
— Пытки? А, понятно. Вы имеете в виду психологические мучения пленников?
— Да, я видел привязанную к столу тощую женщину, всю опутанную проводами от гудящих и вибрирующих приборов. Она не заметила меня. Ее глаза побледнели от ужаса. Ей, наверно, казалось, что из нее вынимают душу. А может, она думала, что происходит что-то более страшное, чему она не могла подобрать названия. Я видел в камере ее детей, держащихся за руки. Они как раз достигли возраста возмужания, и, кто знает, как все пережитое скажется на их психологическом и сексуальном развитии. В той же камере лежит их отец, напичканный наркотиками после того, как решился проложить себе путь прямо сквозь стену. Уден и его помощники пытались расположить к себе пленников, стать их друзьями, но ничего не вышло. Поскольку те знают, что они в руках ладей, ненавидящих их, а причина этой ненависти — смерть.
Джонафер на некоторое время замолчал.
— Всему есть предел, лейтенант, — продолжил он минуту спустя. — Наказанию и науке — тоже. Тем более что шансы обнаружить что-то новое чрезвычайно малы. Я приказал прекратить обследование. Завтра жену Мору и его детей отпустят домой.
— Почему не сегодня? — Эвелит заранее предвидела ответ капитана.
— Я надеялся, — Джонафер говорил очень медленно, — что вы согласитесь отпустить с ними и самого Мору.
— Нет.
— Ради Бога!..
— Вашего Бога. — Эвелит не смотрела на капитана. — Нет, не могу. Пожалуй, я и сама хотела бы уже избежать этого. Но Данли был убит не в честном бою — его закололи как свинью. В этом ужас каннибализма — он превращает человека просто в мясо, подобно любому животному. Я не могу вернуть Данли, но я считаю, что людоед — не что иное, как животное, опасное животное, которое необходимо застрелить.
— Понимаю.
Джонафер долго смотрел в окно. В заходящих лучах солнца его лицо казалось медной маской.
— Ну ладно. Вы не оставляете мне выбора, — наконец произнес он холодно. — По закону Содружества и согласно уставу экспедиции я вынужден уступить вам. Однако не будет никаких церемоний, и вам все придется сделать самой. Пленника привезут к вам, когда стемнеет. Вы сразу же расправитесь с ним, а затем будете присутствовать при кремации останков.
Ладони Эвелит моментально покрылись потом. Она никогда не убивала беззащитного человека!
НО ОН УБИЛ!
— Понятно, капитан.
— Отлично, лейтенант. А теперь можете идти наверх и присоединиться к ужину. И никому ни слова. Будьте готовы в двадцать шесть ноль-ноль.
Эвелит сглотнула, у нее пересохло горло.
— Это не очень поздно?
— Я хочу, чтобы в лагере все уснули. — Он в упор посмотрел на женщину. — И у вас будет время передумать.
— Нет! — она вскочила и почти побежала к двери.
Ее преследовал голос капитана:
— Данли наверняка попросил бы вас об этом.
Пришла ночь и заполнила собой всю комнату. Эвелит лежала, не включая света. Она не вставала. Казалось, будто стоящий на пути любимый стул Данли не позволял ей сделать это.
В конце концов она вспомнила про транквилизаторы. У нее оставалось несколько таблеток. Они помогут ей совершить экзекуцию. Без сомнения, Джонафер прикажет дать Мору наркотики. Теперь-то уж точно, перед тем как привезти его сюда. Почему бы ей тоже не привести себя в более спокойное состояние?
Нет, так нельзя.
Почему, собственно, нет?
Не знаю. Я больше уже ничего не понимаю.
А кто понимает? Один Мору. Он-то знает, зачем безжалостно убил доверявшего ему человека.
Эвелит неожиданно обнаружила, что устало улыбается в темноте.
Да, теперь Мору увидел, что у сыновей появляются первые признаки половой зрелости. Это должно немного утешить его.
Странно, что пережитый стресс не помешал перестройке организма юношей. Скорее могла произойти задержка в развитии. Конечно, повлияла сбалансированная диета, да и врачи помогли избавиться от некоторых заболеваний. И тем не менее странно. Кроме того, за столь короткое время даже в нормальных условиях и у нормальных детей не могли так явно проявиться внешние признаки. Данли точно заинтересовался бы этим фактом. Она представила себе его — сосредоточенного, потирающего лоб, радостно улыбающегося от удовольствия при встрече с неизвестным.
— Хорошо бы разобраться в этом самому. — Как бы услышала она его слова, обращенные к Удену за кружкой пива. — Это может полностью поменять нашу точку зрения.
— Как? — спросил бы Уден. — Ты занимаешься общей биологией. А психология человека — это совсем другое дело.
— Мм-м-м, и да и нет. Моя основная работа — изучать флору и фауну Земли и то, как они адаптируются к условиям новых планет. Кстати, человек тоже принадлежит к миру животных.
Но Данли больше нет, и никто не выполнит за него его работу. Хотя бы частично… Но она бежала от этой мысли, как и от воспоминаний о том, что она должна будет сделать сегодня. Она старалась не отвлекаться и думать только о том, что кто-то из сотрудников Удена должен попытаться использовать накопленные Данли знания. Как справедливо заметил Джонафер, Данли смог бы направить изыскания ученых, нашел бы на первый взгляд незаметное и неординарное решение. А Уден и его ассистенты шли по проторенному пути. Никому из них даже в голову не пришло воспользоваться компьютером Данли, посмотреть имеющиеся там данные. Но, с другой стороны, это понятно, они ставили перед собой только медицинские задачи. К тому же они не хотели быть жестокими. Страдания, которые они причиняли пленникам, как бы подсознательно вынуждали их поскорее закончить исследования и не развивать те идеи, которые могли бы привести к дальнейшему углублению обследования аборигенов. Данли с самого начала по-другому подошел бы к решению проблемы.
Неожиданно наступила темнота. У Эвелит перехватило дыхание. В комнате было слишком жарко. И тихо. Ждать еще долго, и надо что-то делать, иначе воля ослабнет и она не сможет нажать на спусковой крючок.
Она встала и пошла в лабораторию. Щелкнула выключателем. На мгновение свет ослепил ее. Эвелит подошла к компьютеру и сказала:
— Включайся!
Зажегся индикатор. Эвелит бросила взгляд на окна — они были абсолютно черными. Луна и звезды скрыты тучами.
— Как…
Звук ее голоса походил на хриплое карканье. В ней родилась злость. Возьми себя в руки и перестань бормотать. Что ты за мать такая будешь для своего ребенка?
— Как можно с биологической точки зрения объяснить поведение людей на этой планете? — смогла она наконец задать вопрос.
— По-видимому, эта проблема должна рассматриваться в терминах психологии и антропологии, — ответил голос машины.
— М-может быть, да, а может — и нет. — Она постаралась выстроить некую логическую цепочку и не дать разбежаться мыслям. — Возможно, развитие аборигенов на чем-то остановилось и их просто нельзя считать настоящими людьми. Я бы предпочла думать о Мору именно так. Просмотри все имеющиеся записи, включая подробное описание клинического обследования четырех пленников, сделанное за последние дни. Сравни с базовыми данными с Земли. Я хочу получить разумные теории. — Она заколебалась. — Вернее, те, которые напрямую не противоречат фактам. С разумными мы уже имели дело.
Машина загудела. Эвелит прикрыла глаза и положила руки на край стола. Данли, пожалуйста, помоги мне…
Неожиданно для нее как будто с другого конца бесконечности раздался голос машины:
— Обряд каннибализма, связанный с достижением юношами данной планеты половой зрелости, — единственный факт, который нельзя объяснить соответствующей средой и особенностями исторического развития. Согласно данным антропологов, истоком его мог быть культ человеческих жертвоприношений. Однако данная теория не объясняет некоторые моменты. А именно следующие.
На земле религии, включающие жертвоприношения, чаще всего расцветали в обществе, занимающемся сельским хозяйством, так как в отличие от охотников их уровень жизни сильно зависел от плодородия почвы и хорошей погоды. Но даже для них принесение людей в жертву богам в исторической перспективе оказывалось невыгодным, что хорошо видно на примере ацтеков. В Локоне рационализировали подобную практику, создав для этой цели строгую систему рабства и уменьшив таким образом негативное влияние на развитие общества. Но для жителей равнины этот обычай служит источником постоянной опасности, отнимая силы и ресурсы, жизненно необходимые для выживания. Представляется маловероятным, что при этих условиях перенятый у локонезцев культ мог распространиться среди всех племен острова. Однако произошло именно так. Следовательно, в нем заложен какой-то другой смысл, и мы должны выяснить истину.
Методы добычи приносимых в жертву людей весьма разнообразны, а потребность в них всегда примерно одинакова. Как и у локонезцев — для четырех мальчиков, достигших возраста возмужания, необходимо и достаточно тела одного взрослого мужчины. Убийца Данли Сэрна не мог унести с собой все его тело целиком. Те части, которые он забрал, наводят на следующие размышления.
Видимо, у мужского населения планеты развился диптероид-ный феномен. Подобное явление не встречалось ранее среди людей и высших животных известных нам миров, но оно возможно при некоторых модификациях У-хромосом. Необходимо оттестировать имеющиеся изменения хромосом и тем самым проверить данную гипотезу. Это не сложно.
Голос умолк. Эвелит чувствовала, как кровь пульсирует в венах.
— Не совсем понимаю, о чем идет речь.
— Этот феномен был ранее обнаружен на некоторых планетах среди низших животных, — раздался голос тсомпьютера. — Он редко встречается и потому мало известен. Название происходит от Дифтеры, одного из видов навозной мухи на Земле.
— Навозная муха — н-да, понятно.
Объяснения компьютера продолжались еще долго.
Джонафер шел с Мору по лагерю. Руки дикаря были связаны за спиной. Капитан значительно возвышался над ним. Однако Мору чувствовал себя вполне уверенно. Сквозь просвет в облаках белоснежной льдинкой сверкала луна. Эвелит стояла на крыльце у двери дома и ждала. Поселок казался пустым. Резко похолодало — здесь наступила осень, — а ветер поднимал с земли и кружил пыль. Шаги Джонафера были слышны издалека.
Капитан заметил Эвелит и остановился. Мору сделал то же самое.
— Узнали они что-нибудь?
Джонафер кивнул:
— После вашего звонка Уден сразу же принялся за работу. Тест получился более сложным, чем тот, что предложил ваш компьютер, — но это естественно, он ведь был рассчитан на Данли, а не на Удена. Без вашей помощи Уден никогда бы не придумал такое. И похоже, что гипотеза оказалась верной.
— Что конкретно он выяснил?
Мору, не двигаясь, ждал, когда кончится диалог на незнакомом языке.
— Я не врач. — Голос Джонафера звучал ровно. — Но, как мне сказал Уден, хромосомные мутации привели к тому, что мальчики не могут стать мужчинами без дополнительной подпитки гормонами. Он упоминал тестостерон и андростерон, необходимые для начала в организме целого ряда изменений, приводящих к зрелости. Уден считает, что они обратились к каннибализму, чтобы дать возможность выжить одному-двум поколениям, после того как колонию разбомбили и популяция стала чрезвычайно мала. В этих условиях и закрепились последствия мутации, которые иначе вскоре бы исчезли.
— Понимаю, — кивнула Эвелит.
— Надеюсь, вам ясно, что все это значит. Я думаю, мы сможем легко прекратить этот варварский обычай. Скажем, что у нас есть другая и лучшая Священная Пища, и снабдим их таблетками. А потом привезем сюда земных животных, мясо которых содержит все нужные вещества. Генетики же, наверняка, смогут привести их У-хромосомы к нормальному виду.
Хладнокровие покинуло Джонафера. Рот скривился, маска бесстрастия исчезла.
— Я должен бы был поблагодарить вас за спасение целого народа… — прохрипел он. — Но не могу. Прошу вас побыстрее все закончить.
Эвелит шагнула вперед и встала перед Мору. Он вздрогнул, но не отвел взгляда.
— Вы не дали ему транквилизатор? — остолбенела она.
— Нет, — ответил капитан. — Тут я вам не помощник.
— Что ж, это даже хорошо.
— Ты убил моего мужа, — обратилась Эвелит к Мору на его языке. — Справедливо ли, что я должна убить тебя?
— Да, — Мору говорил спокойно, — справедливо. Спасибо, что отпустили жену и сыновей.
Он помолчал секунду-другую.
— Я слышал, что вы умеете сохранять мясо долгие годы так, что оно не портится. Я был бы рад, если бы мое тело пригодилось твоим сыновьям.
— Моим оно не понадобится. И сыновьям твоих сыновей тоже.
— Ты знаешь, почему я убил твоего мужа. — В словах Мору прозвучала тревога. — Он был добр и подобен Богу. Но я хромой. И не мог по-другому добыть то, что так необходимо моим детям. Еще чуть-чуть — и они уже никогда не стали бы мужчинами.
— Он еще мне объясняет, как важно быть мужчиной.
Эвелит горько усмехнулась. Она повернулась к Джонаферу, застывшему от напряжения.
— Считайте, я уже отомстила за Данли, — сказала она.
— Что? — Джонафер обомлел.
— После того, как узнала об этом диптероидном феномене. Нужно было только промолчать. И тогда Мору, его сыновья, весь его народ были бы обречены на каннибализм навеки. Представив это, я около получаса наслаждалась местью.
— А потом?
— Почувствовала удовлетворение и смогла подумать о справедливости, — ответила Эвелит.
Она взяла нож. Мору выпрямился. Эвелит встала за его спиной и разрезала ремни.
— Иди домой, — сказала она. — И помни о нем.
НОВАЯ АМЕРИКА
КОНЮШНЯ РОБИН ГУДА
Глава 1
Свободе было около шестидесяти лет. Своего точного возраста он не знал. Уроженцы Нижнего уровня редко подсчитывали, сколько им стукнуло, а самым ранним воспоминанием Свободы были горькие рыдания в аллее, орошаемой дождем, да грохот автострады над головой. Потом умерла его мать, и какой-то человек, назвавшийся его отцом, хотя вряд ли им бывший, продал его воровскому учителю Инки.
Шестьдесят — глубокая старость для человека из низов, чем бы он ни занимался: пробирался ли крадучись, по-кошачьи, сквозь шум и копоть Нижнего уровня, где его в любой момент подстерегала внезапная смерть, или — с меньшей опасностью для жизни, но и с меньшей свободой — полз, извиваясь, по угольным штрекам, или заводил мотор планктонной жатки. Для жителя Верхнего уровня и для Блюстителя шестьдесят — всего лишь зрелый возраст. Свобода, проведший по полжизни в каждой из категорий, выглядел древним, как сатана, но мог надеяться прожить еще пару десятков лет.
Если вам угодно называть это надеждой, криво усмехнулся он про себя.
Опять разболелась левая нога. Изуродованная ступня была обута в ортопедический ботинок. Когда, лет двенадцати от роду, он перелезал через садовую ограду с серебряным кубком в руках, позаимствованным у некоего инженера Гаркави, разрывная пуля из пистолета охранника раздробила кости. Свободе все же удалось улизнуть, но жестокий удар навсегда выбил многообещающего ученика из рядов Братства. Инки передал его в подмастерья к скупщику краденого, а тот заставил парнишку научиться читать и писать, тем самым дав ему толчок к долгому пути наверх. Двадцать пять лет спустя, когда Свобода был Советником по астронавтике, врач посоветовал заменить увечную ступню протезом.
— Я сделаю вам такую ногу, что вы не отличите ее от настоящей, сэр, — сказал он.
— Не сомневаюсь, — ответил Свобода. — Насмотрелся я на наших старейших Блюстителей — у одного сердце искусственное, у другого желудок, у третьего глаз. Видимо, наука вскоре дойдет и до создания искусственных мозгов, неотличимых от настоящих. Глядя на некоторых своих коллег, я начинаю подозревать, что это уже свершившийся факт. — Он пожал костлявыми плечами. — Нет, я слишком занят. Быть может, позже.
Занят он был тем, что старался вырваться из департамента астронавтики, то есть из глухого тупика, в который его загнали озабоченные вышестоящие коллеги. А вырвавшись, тут же с головой погрузился в другие дела. Времени не хватало постоянно. «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте»[2].
Интересно, много ли в наши дни найдется людей, читавших «Алису»? — промелькнуло у него в голове.
Вообще-то нога беспокоила Советника не часто. Он остановился, чтобы унять пульсирующую боль.
— С вами все в порядке, сэр? — спросил Иеясу.
Свобода взглянул на гиганта и улыбнулся. Остальные шестеро его телохранителей — безмозглые ничтожества, эффективные и безликие орудия убийства. Иеясу обходился без оружия; он был каратистом и мог запросто пробить вам грудную клетку и вывернуть легкие наизнанку, если вы чем-то не угодили Свободе.
— Все путем, — ответил Советник по психологии. — Только не спрашивай меня, каким путем: какой-нибудь да отыщется.
Иеясу подставил локоть, и хозяин оперся на руку японца. Контраст был комичный. Советник, ростом не больше полутора метров, с лысым куполообразным черепом и кривым, словно турецкий ятаган, носом, был одет в кричащий огненно-красный плащ, переливающийся мундир с высоким воротом и темно-синие брюки клеш, сшитые по последней моде. Окинавец же был весь в сером, черная грива его свисала до плеч, а кисти рук были деформированы из-за бесчисленных разбитых ими кирпичей и толстых досок.
Свобода нашарил желтыми от никотина пальцами сигарету. Он стоял на посадочной террасе, на головокружительной высоте. Внизу не было ничего похожего на парковый ансамбль, обычный для резиденций Советников: башню своего департамента Свобода вознес над тем самым городом, что его породил. Город простирался под ногами во все стороны, насколько глаз мог пробиться сквозь висящую в воздухе копоть. Лишь на восточной окраине, за плавучими доками, ртутью поблескивал Атлантический океан.
Над планетой сгущались сумерки. Шпили башен вспарывали черными остриями красные остатки заката. На стенах и улицах Верхнего уровня начали загораться огни. А под ним черной бездной зиял Нижний уровень, приглушенно ворча не умолкающими ни на миг автострадами, генераторами, фабриками, вспыхивая кое-где искорками пробудившихся к жизни окон, или фар велокаров, или фонарей, с которыми пробирались по улицам вооруженные дубинками прохожие, сбившиеся в стайки из страха перед Братством.
Свобода выпустил дым из ноздрей, провожая глазами аэрокар, доставивший его сюда из океанского дома. На густой синеве небес белой точкой сияла Венера. Свобода, вздохнув, показал на нее рукой:
— А знаешь, я почти рад, что колонию там прикрыли. Не потому, что она себя не окупала, хотя, видит Бог, если он есть, мы не можем себе позволить разбазаривать ресурсы. Но я рад по другой причине.
— Какая другой причина? — Иеясу почувствовал, что Советнику хочется поговорить. Недаром они уже долгие годы были неразлучны.
— Теперь появилось хоть одно местечко, куда можно удрать от человечества.
— Воздух Венеры нехорош, сэр. Вы можете удрать к звезды и ходить там без скафандра.
— Девять лет в анабиозе до ближайшей звезды! Для отпуска это немножко слишком.
— Да, сэр.
— А потом окажется, что планеты-там не лучше Венеры… Или они похожи на Землю, но не совсем похожи, и у людей разбиваются сердца. Ладно, пошли поиграем в важных персон.
Свобода покрепче оперся на руку японца, быстрым шагом пересек террасу, прошел под арками портала и спустился в длинный коридор со светящимися стенами. Телохранители веером прикрыли его спереди и сзади, зорко глядя по сторонам. Иеясу остался рядом. Впрочем, Свобода не боялся покушения. Ночная смена в здании работала, поскольку департамент психологии считался самой главной вотчиной в структуре Федерального правительства, но на этом этаже мелкой сошке в такой час быть не положено.
В конце коридора находился зал телесовещаний. Свобода доковылял до мягкого кресла, Иеясу помог ему усесться и придвинул поближе пульт. Рядом с большинством людей, глядевших с экранов, стояли референты. Свобода был один, если не считать телохранителей. Он всегда работал один.
Премьер Селим кивнул в знак приветствия. На экране за его спиной виднелось открытое окно и пальмы.
— Ну наконец-то, Советник, — сказал Премьер. — Мы уже начали волноваться.
— Извините за опоздание, — отозвался Свобода. — Как вы знаете, я никогда не занимаюсь делами дома, поэтому пришлось идти на совещание сюда. Кессон у меня под домом потек, гиростабилизаторы не выдержали, и я, не успев сообразить, в чем дело, сверил часы по замученному морской болезнью осьминогу. Он отставал на десять минут.
Шеф безопасности Чандра моргнул, возмущенно открыл заросший бородою рот, потом кивнул:
— А-а, вы шутите. Я понял. Ха.
В Индии, где он сидел, восходило солнце, но правители Земли привыкли вставать в неурочный час.
— Давайте начнем, — сказал Селим. — Опустим формальности. Но прежде чем мы приступим к основному вопросу, может, у кого-нибудь есть еще что-то неотложное?
— Э-э… — робко проговорил Ратьен, нынешний Советник по астронавтике. Он был поздним сынком Премьера; папенька пристроил его на эту должность, и никто до сих пор не дал себе труда спихнуть его оттуда. — Э-э… господа, я должен еще раз поднять вопрос о ремонтных фондах для… Я хочу сказать: у нас есть несколько космических кораблей в превосходном состоянии, которые требуют лишь пары миллионов вложений на ремонт, чтобы… э-э… вновь достигнуть звезд. И еще об Академии астронавтики. Количество новобранцев там такое же низкое, как и качество. То есть я думал, если бы мы — в особенности мистер Свобода, это по его ведомству — организовали усиленную рекламную кампанию, дабы завоевать сердца младших сыновей Блюстителей или граждан с профессиональным статусом, убедить их в важности задачи… вернуть профессии присущий ей некогда… э-э… блеск…
— Прошу вас, — прервал его Селим. — В другой раз.
— Я мог бы кое-что сказать по этому поводу, — заметил Свобода.
— Что?! — Новиков из департамента полезных ископаемых изумленно воззрился на Свободу. — Вы собрали нас всех на экстренное совещание! И теперь хотите, чтобы мы теряли время на обсуждение несущественных вопросов?
— «Нет ничего несущественного», — пробормотал Свобода.
— Что? — не понял Чандра.
— Я просто цитирую Анкера, философского отца конституционализма, — пояснил Свобода. — Порой не вредно попытаться понять те вещи, которые собираешься запретить. По себе знаю — это дает поразительные результаты.
Чандра покраснел от досады.
— Но я не хочу… — начал он и раздумал продолжать.
Селим пребывал в замешательстве.
Ратьен простодушно проговорил:
— Вы собирались высказаться по поводу моего вопроса, мистер Свобода.
— Верно. — Маленький человечек закурил очередную сигарету и глубоко затянулся. Голубые глаза его, удивительно яркие и живые на высохшем как у мумии лице, перебегали с экрана на экран. — Советник Новиков мог бы привести вам убедительную причину упадка астронавтики, а именно: с каждым днем у нас все больше людей и все меньше ресурсов. Мы не можем позволить себе межзвездные экспедиции, как не можем себе позволить представительное правительство. Остатки обоих сокращаются с такой скоростью, с какой только позволяет ваше противоборство с конституционалистами. Хотя, насколько я знаю, не так быстро, как некоторым из вас, господа, хотелось бы. Однако слишком усердное подталкивание правительством социальных преобразований спровоцировало двадцать лет назад Северо-Американское восстание. — Свобода усмехнулся: — А потому мы должны усвоить уроки истории и не доводить департамент астронавтики до бунта. Легче позволить нескольким кораблям полетать еще пару десятков лет, чем штурмовать баррикады из стеллажей, где засядут доведенные до отчаяния бюрократы, размахивая кровавыми флагами в трех экземплярах. Но и вы, мистер Ратьен, не должны ожидать от нас расширения или даже сохранения вашего флота в нынешних размерах.
— Мистер Свобода! — выдохнул Ратьен.
Селим прочистил горло.
— Все мы знаем, что у Советника по психологии своеобразное чувство юмора, — сказал он скучным голосом. — Однако, поскольку он упомянул конституционалистов, я надеюсь, что мистер Свобода собирается перейти к основному вопросу.
Дюжина лиц повернулась к Свободе и уставилась парой дюжин глаз. Он скрыл свой собственный взгляд за вуалью сигаретного дыма и сказал:
— Хорошо. Искушать терпение Советников — опасная забава; лучше я начну искушать хорошеньких горожаночек: подцеплю несколько штук на улице и устрою им сеанс специнструктажа. — На сей раз сердито набычился Ларкин, Советник по пелагокультуре. — Возможно, мне следует ввести в курс дела тех из вас, кто с ним еще не знаком. Я представил новый отчет о конституционалистах Премьеру Селиму, мистеру Чандре и коменданту Северной Америки. Мнения оказались настолько противоречивыми, что пришлось созвать для обсуждения весь Совет Блюстителей.
Свобода кивнул Селиму. Грубое сморщенное лицо Премьера изумленно вытянулось. Можно подумать, Свобода милостиво дает ему разрешение продолжать! Премьер фыркнул, поглядел на лист бумаги у себя на столе и сказал:
— Загвоздка в том, что конституционалисты не политическая группировка. Иначе мы прихлопнули бы их хоть завтра. Но они даже не организованы формально и между ними нет полного единодушия. Их объединяет только философия.
— Плохо, — пробормотал Свобода. — Философия рационализирует эмоции. Вся их философия не что иное, как типичный фрейдистский сдвиг.
— Это что еще за штука? — поинтересовался Новиков.
— Кому же и знать, как не вам, — вкрадчиво отозвался Свобода. — У вас в сей области богатый опыт. Но перейдем к делу. Официально «конституционализм» означает всего лишь систему взглядов, утверждающую, что строение, или конституция, реальной Вселенной является основой для мышления. Антимистицизм, если угодно. Но я вырос здесь, в Северной Америке, где половина населения еще говорит по-английски, и, уверяю вас, в английском языке слово «конституция» нагружено вполне определенным смыслом. Северо-Американский мятеж вспыхнул из-за того, что Федеральное правительство постоянно и вопиюще нарушало — заметьте, не дух бедной латаной-перелатаной Конституции, это бунтовщики и сами умеют, — а букву ее.
— Все, что вы говорите, для меня не новость, — сказал Чандра. — Не думайте, что я не следил за вашими так называемыми философами. Многие из них участвовали в мятеже, или их отцы участвовали. Но они не опасны. Они могут ворчать себе под нос, однако в основном это люди преуспевающие. Им нет смысла затевать еще один бесплодный мятеж. — Чандра пожал плечами. — А потом, большинство из них достаточно умны, чтобы понимать, что Билль о правах, или как его там называют, просто не имеет смысла на континенте с полумиллиардным населением, восемьдесят процентов которого безграмотно.
— Кстати, кто они такие, эти конституционалисты? — спросил Дайлоло из департамента сельского хозяйства.
— В основном североамериканцы, — сказал Свобода. — Я имею в виду — коренные, а не новоприбывшие восточные иммигранты. Но их учение распространяется среди образованных граждан всех рас, по всему земному шару. Проведи вы тотальный опрос, вы бы обнаружили, что четверть грамотного населения — а среди ученых и технарей больше четверти — в основном согласны с этой философской доктриной. Правда, далеко не все они считают себя конституционалистами.
— Иначе говоря, — сказал Чандра, — перед нами не просто еще одна религия. Низы ее не поддерживают. Блюстители, за некоторым исключением, — он бросил на Свободу многозначительный взгляд, — тоже, равно как и граждане Верхнего уровня. Все это мне известно и без вас. Я проводил расследование. И установил, что конституционализм в основном исповедуют обеспеченные, но не богатые люди, зарабатывающие на жизнь упорным трудом: трезвомыслящие, добропорядочные, поднявшиеся на одну маленькую социальную ступеньку выше своих отцов и лелеющие надежду, что их сыновья сделают еще шажок наверх. Такие люди не бывают революционерами.
— И тем не менее, — сказал Свобода, — конституционализм набирает все большую силу, не сравнимую с малочисленностью его формальных приверженцев.
— Как это? — не понял Ларкин.
— Вы ведь не трогаете дочерей своих инженеров, правда? — спросил Свобода.
— При чем тут… Объяснитесь, пока я не впаял вам иск за клевету!
Свобода ухмыльнулся. Ларкина он мог сделать одной левой в любой момент.
— У Блюстителей есть власть, — сказал он, — а у остатков среднего класса Земли есть влияние. Чувствуете разницу? Низы не пытаются подражать Блюстителям, они нас даже толком не слушают. Слишком велика между нами пропасть. Их естественные лидеры — граждане из низших слоев среднего класса, которые, в свою очередь, ориентируются на средние и высшие слои своего класса. Мы, Блюстители, можем, к примеру, издать декрет об ирригации Марокко и согнать туда на рытье каналов и верную погибель миллионы заключенных — но только в том случае, если инженер из высшего слоя среднего класса убедит нас в осуществимости проекта. Не исключено, что он сам же его и предложит!
Опасность конституционализма в том, что с его помощью средний класс способен осознать свое потенциальное могущество и потребовать соответствующих голосов в правительстве. Нам это грозит всего лишь летальным исходом, не более.
Воцарилась тишина. Свобода докурил сигарету и принялся за следующую. Воздух со свистом вырывался из горла. Все биомедики мира не могли справиться с тем количеством яда, каким он накачивал свои легкие и бронхи. А что еще у меня в жизни осталось? — мрачно подумал он.
— Господа, речь не идет о непосредственной опасности для нас лично, — заговорил Селим. — Тем не менее Советник по психологии убедил меня, что, если нам небезразлично благополучие наших детей и внуков, мы должны отнестись к этому вопросу со всей серьезностью.
— Но вы же не собираетесь арестовать конституционалистов всех скопом? — всполошился Ларкин. — Как можно, господа! Да все мои технари на ключевых постах, насколько мне известно… То есть, я хочу сказать, это будет катастрофой для всех океанских городов Земли!
— Вот видите? — улыбнулся Свобода. И покачал головой: — Нет, не бойтесь. Помимо практических трудностей повальные аресты могут спровоцировать новые заговоры против Федерации. Я не такой дурак, друзья мои. Я предлагаю подточить корни конституционалистского движения, а не сражаться с ним в открытую.
— Но, послушайте, — вмешался Чандра, — если речь идет о простой пропагандистской кампании против чьих-то верований, вам не следовало собирать весь Совет Блюстителей, чтобы…
— Речь идет не только о пропаганде. Я хочу закрыть школы конституционалистов. Бог с ними, со взрослыми. Пусть думают, как нравится. Мы должны заботиться о подрастающем поколении.
— Надеюсь, вы не собираетесь пустить их щенков в наши школы? — возмутился Дайлоло.
— Уверяю вас, блох у них нет, — сказал Свобода. — Единственное, чем они могут заразить, так это некоторой оригинальностью. Но я не столь радикален. Хотя мое предложение достаточно радикально для того, чтобы нуждаться в одобрении всего Совета. Я хочу возродить старую систему бесплатного всеобщего образования.
После того как стих изумленный ропот — а стих он потому, что Свобода не обращал на него внимания, — Советник по психологии продолжил:
— В измененном виде, конечно же. Я не намерен загонять за парты безнадежные 75 процентов населения. Пускай живут и радуются по-своему. Нам ничего не стоит придумать условия приема, способные оградить школы от наплыва нежелательных элементов. Главное, чего я хочу, — это издать декрет о том, что среднее образование отныне будет финансироваться правительством, а потому обязано соответствовать официальным требованиям. Что означает — моим требованиям. Ремесленные училища, академии, монастыри и прочие полезные или безвредные учебные заведения я не трону. Но школы, проповедующие конституционалистские принципы, скатятся на плачевно низкий уровень. Я выгоню оттуда всех учителей и поставлю на их место преданных, но туповатых госслужащих.
— Поднимется шум, — предупредил Дайлоло.
— Да. Но не очень громкий. Конечно, родители будут против. Но что они смогут нам предъявить? Государство в приступе великодушия решило снять бремя платы за учебу с усталых родительских плеч (откуда оно возьмет деньги — это уже другой вопрос) и позаботиться о том, чтобы детей должным образом учили и адаптировали к общественной жизни. Если родителям непременно захочется внушить детворе свои нелепые идейки — на здоровье, пусть проповедуют по вечерам и выходным.
— Ха! — обрадовался Чандра. — Много они так напроповедуют!
— Вот именно, — согласился Свобода. — Философию нужно впитывать день за днем. Ее не усвоишь за час вечерней лекции из уст усталого папаши, особенно если тебе не терпится пойти погонять мяч. Одноклассники-неконституционалисты начнут высмеивать твои странности, а родителям вряд ли удастся добиться народной поддержки. По таким поводам революции не начинаются. Мы почти буквально убьем конституционализм в колыбели.
— Вы еще не убедили нас, что нам вообще имеет смысл пачкаться с этим убийством, — сказал Новиков.
— Я знаю, в чем причина, — мстительно проговорил Ларкин. — Сын мистера Свободы — конституционалист, вот вам и причина. Десять лет назад Советник порвал с ним отношения, и с тех пор они даже не разговаривают.
Глаза у Свободы побелели. Он вперил их в Ларкина и застыл. Ларкин заерзал, нервно теребя в руках карандаш, посмотрел в сторону, посмотрел назад и утер с лица испарину.
Свобода не отводил взгляда. В зале стало очень тихо — во всех залах, разбросанных по всему земному шару.
Наконец Свобода вздохнул.
— Я представлю вам и подробности, и их анализ, господа, — сказал он. — Я докажу, что конституционализм несет в себе семена социальных перемен, причем перемен радикальных. Вы хотите повторения атомных войн? Или хотите, чтобы буржуазия окрепла еще больше и попыталась заполучить голос в правительстве? Звучит не так угрожающе, конечно, но, уверяю вас, для Блюстителей это конец не менее верный. А теперь, дабы обосновать свое утверждение, я начну с…
Глава 2
Адрес, данный Тероном Вулфом, привел Коффина на пятидесятый этаж некогда престижного дома. Джошуа Коффин помнил, как сто лет назад это здание одиноко возвышалось посреди деревьев и только грязное облако на востоке напоминало о близости города. Но теперь город поглотил здание, окружив его дешевыми пластиковыми коробками жилых домов. При жизни следующего поколения дом окажется на Нижнем уровне.
— Как бы там ни было, — сказал Вулф, — а я прожил здесь всю жизнь и испытываю сентиментальную привязанность к этим стенам.
— Простите? — удивился Коффин.
— Наверное, космолетчику трудно такое понять, — улыбнулся Вулф. — Да и большинству богатых граждан тоже. Они теперь заделались кочевниками почище вас, капитан. В наши дни только Блюстители, имеющие родовые поместья, да самые задрипанные голодранцы, слишком нищие, чтобы переселяться, помнят о своих корнях. — Вулф погладил бородку и язвительно добавил: — Помимо всего прочего, нынче не так-то просто найти подходящее жилище. Население Земли увеличилось вдвое с тех пор, как вы ее покинули, капитан.
— Я знаю, — более резко, чем намеревался, ответил Коффин.
— Но входите же!
Вулф взял капитана за руку и провел с террасы в старинную гостиную с широкими окнами, массивной мебелью и деревянными панелями (не исключено, что настоящими). Книжные полки уставлены фолиантами и микрофильмами, на стенах — потрескавшиеся от времени картины, писанные маслом. Жена торговца, простоватая и выглядевшая на все свои пятьдесят, поклонилась гостю и ретировалась на кухню. Неужто она и вправду сама готовит? Непонятно отчего, но Коффина это растрогало.
— Садитесь, пожалуйста. — Вулф махнул в сторону неказистого потертого кресла. — Древнее, но весьма функциональное. Если только вы не предпочитаете, по теперешней моде, сидеть по-турецки на подушках. Даже Блюстители начинают находить это элегантным.
Конский волос зашуршал под тяжестью Коффина.
— Хотите сигару?
— Нет, благодарю. — Почувствовав излишнюю категоричность своего ответа, Коффин попытался объясниться: — Люди моей профессии обычно не имеют такой привычки. Видите ли, в межзвездном полете массовое соотношение примерно девять к одному… — Он осекся. — Извините, я не собирался утомлять вас деловыми разговорами.
— Но я ничего не имею против. Затем я вас сюда и пригласил, прослушав вашу лекцию. — Вулф взял из ящичка тонкую сигару. — Выпьете что-нибудь?
Коффин согласился на глоток сухого хереса. Херес оказался настоящий и, без сомнения, баснословно дорогой. Жаль переводить такое добро на человека с неразвитым вкусом, вроде него. Но, с другой стороны, Господь недвусмысленно высказался насчет греха потворства праздным желаниям плоти.
Космолетчик посмотрел на Вулфа. Торговец был дородный, вальяжный, крепкий для своих лет, с аккуратной вандейковской бородкой. Широко расставленные глаза придавали ему немного отрешенный вид, будто какой-то частью своего существа он постоянно наблюдал за миром со стороны. Торговая мантия надета поверх пижамы, на ногах — домашние тапочки. Усевшись, Вулф отхлебнул из бокала, смачно втянул в себя дым и сказал:
— Стыд и срам, что так мало народу пришло послушать вашу лекцию, капитан. Она была чрезвычайно занятной.
— Я не Бог весть какой рассказчик, — совершенно справедливо заметил капитан.
— Зато какая тема! Подумать только — планета у эпсилона Эридана, пригодная для жизни человека!
Коффина охватил приступ ярости. Не успел он его обуздать, как с языка слетело:
— С какой стати все хором повторяют, что я летал к эпсилону Эридана? Да будет вам известно: эту звезду исследовали несколько десятков лет назад и не нашли у нее ни одной планеты, где мог бы жить порядочный христианин. Мой «Рейнджер» летал к эпсилону Эридана! Я думал, вы слушали мою лекцию.
— Я перепутал. В наше время так редко обсуждаются вопросы астронавтики. Прошу прощения. — Вулф говорил учтиво, но без тени раскаяния.
Коффин понурил голову, щеки у него пылали.
— Это я прошу у вас прощения, сэр. Я был возмутительно груб.
— Забудем, друг мой. Мне кажется, я понимаю причину вашей нервозности. Сколько лет вы не были на Земле? Восемьдесят семь — из них вы бодрствовали пять лет плюс вахты во время перелета. Это был пик вашей карьеры, ведь мало кому из людей выпадало на долю нечто подобное. А затем вы вернулись. Ваш дом исчез, родные рассеялись по свету, люди и нравы изменились почти до неузнаваемости. И, что хуже всего, никому нет до вас дела. Вы предлагаете людям новый мир — планету, пригодную для обитания, хрустальную мечту всей двухсотлетней эпохи освоения космоса, — а они или зевают, или в открытую глумятся над вами.
Коффин молча вертел в руках бокал. Долговязый, с угловатым лицом типичного янки под шапкой волос, слегка подернутых сединой, он был одет в облегающий китель и черные брюки с безукоризненной стрелкой; на золотых пуговицах поблескивало изображение американского орлана. Даже для сотрудника космической службы такая форма была до смешного старомодной.
— Д-да… — заговорил он наконец, с трудом подбирая слова. — Я знал, что мир… что мир изменится, когда я вернусь. Естественно. Но я ожидал каких-то других перемен. Мы, то есть я и мои спутники, мы, как и все астронавты, прекрасно понимали, что избрали не совсем обычную жизненную стезю. Но ведь избрали во имя служения человеку, а значит, и Богу! Мы рассчитывали вернуться в космическое общество или по крайней мере в Сообщество астронавтов, своего рода нацию среди наций, — вы понимаете меня? Но общество так деградировало…
— Немногие пока осознают это, — кивнул Вулф, — однако похоже, что космическим полетам приходит конец.
— Почему? — пробормотал Коффин. — Чем мы провинились, за что нам такая суровая кара?
— Мы сожрали все свои ресурсы и расплодились до безобразия. Так что Четыре Всадника уже выехали на предсказанную тропу. Экспедиции нам больше не по карману.
— Но есть же заменители, новые сплавы… Алюминий наверняка еще остался. А термоядерная энергия, термионное превращение, диэлектрические аккумуляторы?..
— Да, конечно. — Вулф выпустил колечко дыма. — Все это есть, но всего этого мало. Теоретически мы можем произвести термоядерную энергию в неограниченных количествах. Но на одной энергии далеко не улетишь. Легкие металлы и пластики не заменят стали. Машинам нужно топливо. Конечно, можно разрабатывать и скудные месторождения, можно синтезировать органику и так далее. Но стоимость производства неуклонно растет. А все, что мы производим, с каждым годом приходится делить на возрастающее количество людей. Мы даже не притворяемся, что делим поровну, иначе все без исключения тут же скатились бы на Нижний уровень. Богатые нынче богатеют, а бедные нищают еще больше. Обычный исторический процесс: так было в Египте, Вавилоне, Риме, Индии, Китае, а теперь на всем земном шаре. Поэтому сознающие свою ответственность Блюстители (а таких больше, чем кажется на первый взгляд) не считают себя вправе тратить на чисто научные исследования те миллионы, что могут хоть немного смягчить нищету основной массы граждан. Безответственным же Блюстителям вообще все до лампочки.
Коффин, очнувшись от оцепенения, пристально взглянул на собеседника.
— Я кое-что слыхал об учении конституционалистов, — тихо промолвил он. — Вы разделяете их воззрения?
— Отчасти, — признался Вулф. — Хотя за столь пышным названием скрывается очень простая вещь: стремление воспринимать мир таким, какой он есть на самом деле, и вести себя соответственно. Анкер, кстати, не называл свою систему взглядов каким-то конкретным словом. Но Лэрд был человек тщеславный… — Вулф сделал паузу, сосредоточенно затянулся с видом рачительного хозяина, знающего цену табаку, и подвел итог: — Вы, капитан, наверняка такой же конституционалист, как любой из нас.
— Извините, я не согласен. Судя по тому, что я слышал, конституционализм представляется мне чем-то вроде веры — языческой веры.
— Но это вовсе не вера, в том-то все и дело! Напротив — мы, похоже, представляем собой последний оплот разума, противостоящий очередному религиозному всплеску. Низы, а с недавних пор и отдельные представители верхов, бегут с помощью мистицизма и марихуаны в более гуманный мир иллюзий. Я же предпочитаю жить в реальном мире.
Коффин поморщился. Он уже насмотрелся всей этой мерзости. Достаточно вспомнить хотя бы улыбающегося идола, воздвигнутого на месте белой церковки на берегу моря, где читал когда-то проповеди его отец.
Капитан переменил тему:
— Разве власти не понимают, что космические полеты — единственное средство выбраться из экономической западни? Пусть Земля истощается, но ведь к нашим услугам целая Галактика!
— Земле это мало чем поможет, — сказал Вулф. — Представьте, во что обойдутся нам полезные ископаемые, завозимые с ближайшей звезды, то есть за девять световых лет, с массовым соотношением девять к одному! И сколько потребуется средств, чтобы откачивать с Земли избыток населения, опережая его прирост? Даже если бы Рустам был раем — а вы сами признаете, что у планеты есть серьезные недостатки с человеческой точки зрения, — туда можно было бы отправить от силы несколько тысяч человек.
— Но зато мы сохранили бы традицию! — возразил Коффин. — Сама мысль о том, что существует колония, куда можно улететь, если жизнь покажется совсем невыносимой, — разве такая мысль не стала бы людям поддержкой здесь, на Земле?
— Нет, — безапелляционно ответил Вулф. — Наемные граждане-рабы — а на Нижнем уровне они рабы в буквальном смысле слова, несмотря на все разговоры о контрактах, — так вот, наемные рабы не могут себе позволить столь дорогостоящее путешествие. А с какой стати государству оплачивать им дорогу? Голодных ртов не станет меньше, а государство заметно обеднеет и не сможет им обеспечить даже нынешнее нищенское существование. Да и сами граждане не захотят куда-то лететь. Неужели вы думаете, что невежественное и суеверное дитя улицы и машин сможет выжить, вспахивая целину на чужой планете? Думаете, они хотя бы выразят желание попробовать? — Вулф развел руками. — Что же до образованного класса технарей, способных обеспечить успех подобному предприятию, так им это и вовсе ни к чему. Им и здесь неплохо живется.
— Мне тоже так показалось, — кивнул Коффин.
Широкое лицо Вулфа расплылось в улыбке.
— Ну хорошо, допустим, что колонию все-таки основали. Вы сами остались бы в ней жить?
— Боже упаси! — Коффин дернулся как ужаленный.
— Почему? Вы ведь так настойчиво стремитесь ее основать!
— Потому… потому что я космолетчик. Мое дело — межзвездные экспедиции, а не пахота или добыча полезных ископаемых. Снаряжать же свои собственные корабли и отправлять их в космос Рустам сможет разве только через несколько поколений. У колонистов и без того забот будет по горло. Мне казалось, что колония была бы благом для всего человечества; что касается моих личных интересов — я, в конце концов, астронавт, а не колонист.
— Вот именно. А я торговец мануфактурой. А мой сосед Израиль Штейн считает космические экспедиции грандиозным предприятием, но сам лично преподает в музыкальной школе. Мой друг Джон О'Малли — специалист по химии белков, человек для колонии весьма полезный. Кроме того, он отличный ныряльщик за жемчугом, а однажды спустил на сафари сбережения нескольких лет. Но его жена мечтает о престижной профессии для своих детей. А другие слишком любят комфорт, либо попросту боятся, либо не хотят отрываться от своих корней. Горсточки людей, которые захотят и смогут лететь, будет явно недостаточно, чтобы финансировать полет. Quod erat demonstrandum[3].
— Похоже, вы правы. — Коффин не отрывал глаз от донышка пустого бокала. — Все это я и сам уже понял, — сказал он после паузы, медленно и трудно выговаривая слова. — Как ни прискорбно, приходится признать, что моя профессия на грани вымирания. А ничего другого я не умею. Больше того, я и детей своих, если они у меня будут, мечтал увидеть космолетчиками. Потому что в жены я смогу взять только кого-то из Сообщества астронавтов. В других кругах, по-моему, нормальных семей уже не осталось… — Он осекся.
— Я понял, — насмешливо, но без сарказма отозвался Вулф. — Вы приносите мне извинения. Не стоит. Времена меняются, а вы выпали из временного потока. Я не стану вдаваться в подробности о том, что моя старшая дочь — любовница Блюстителя, и не хочу напрочь шокировать вас искренним заявлением, что меня это нимало не волнует. Ибо на Земле сейчас происходят куда более существенные перемены, которые я очень не одобряю. И я пригласил вас к себе сегодня главным образом из-за них.
— Что? — Коффин удивленно поднял голову.
Вулф лукаво подмигнул ему:
— Думаю, ужин уже готов. Пойдемте, капитан. — Он снова взял астронавта за руку. — Ваша лекция была восхитительно лаконичной и насыщенной фактами, но мне хотелось бы услышать более подробное описание. На что похож Рустам, какое оборудование потребуется для основания минимальной колонии, примерные издержки… словом, обо всем. Сдается мне, что вам куда интереснее вести деловую беседу, нежели обмениваться пустыми любезностями. Что ж — не упускайте случая!
Глава 3
Даже среди почитателей Торвальда Анкера многие удивились бы, узнай они, что он еще жив. Философ родился сто лет назад и никогда не был настолько богат, чтобы по-настоящему заботиться о своем здоровье. Он позволял смышленым, но бедным мальчишкам сидеть у своих ног и задавать вопросы, отказывая в этом состоятельным оболтусам, готовым заплатить любые деньги. Так что, само собой, он должен был уже умереть.
Его труды также давали все основания для подобной уверенности. Главная книга, дискуссии о которой не прекращались и по сей день, насчитывала уже шестьдесят лет от роду. Последний труд — небольшой томик эссе, изданный двадцать лет назад, казался ныне изящным анахронизмом: так легок был его слог и так отточенны мысли, как будто на Земле еще существовала какая-то страна или парочка стран, не забывшие о свободе слова. После выхода в свет последней книги Анкер безвылазно жил в домике на берегу Согнефьорда, избегая славы, к которой никогда не стремился. Район фьорда представлял собой осколок прежних времен. Его немногочисленное население своими силами добывало средства к существованию, изъяснялось неторопливо и прекрасным языком, а также заботилось об образовании своих детей. Анкер преподавал несколько часов в день в начальной школе, получая взамен еду и порядок в доме, а прочие часы делил между садом и заключительной книгой.
Ранним летним утром, когда на розах еще блестели капельки росы, он вошел в свой дом. Дом стоял здесь уже несколько столетий — крытая красной черепицей крыша, увитые плющом стены… Глянешь вниз — там лишь ветер, да солнце, да скалы, расцвеченные пятнышками дикорастущих цветов, да одно-единственное дерево. И, только приглядевшись попристальнее, на глубине нескольких сотен метров различишь утес и облако, отраженное водами фьорда. А за окном рабочего кабинета то и дело мелькают чайки.
Анкер уселся за стол. Отдохнул немного, подперев подбородок ладонью. Восхождение было долгим, от самой кромки воды, и по пути он то и дело останавливался, чтобы перевести дух. Его длинное иссохшее тело стало таким прозрачным, что, казалось, солнечные лучи струились прямо сквозь него. Зато оно почти не нуждалось во сне, и когда приходило время белых ночей — «небо было как белые розы», как сказал какой-то поэт, — старика непреодолимо тянуло на берег.
Ну да ладно. Он вздохнул, убрал упавшую на лоб прядь волос и включил пишущую машинку. Первым в стопке корреспонденции лежало письмо от юного Хираямы. Не просто прекрасно написанное письмо — в нем чувствовалось неподдельное желание общения, а это самое главное. Анкер не был против видеофона как такового, но считал своим долгом обходиться без оного, и не только потому, что аппарат вечно сбивает с мыслей. Молодые люди, желавшие общаться с Анкером, вынуждены были прибегать к письму, а письмо дисциплинирует ум не хуже беседы, если це лучше. К сожалению, эпистолярное искусство на Земле осталось уделом немногих.
Пальцы философа побежали по клавишам.
«Мой дорогой Сабуро!
Благодарю Вас за доверие, хотя и боюсь, что не сумею его оправдать, ибо своей репутацией я в основном обязан подражанием Сократу. Чем дольше я размышляю, тем более склоняюсь к мысли, что пробным камнем является эпистемологический вопрос. Откуда мы знаем то, что знаем, — и что именно мы знаем? Подобные сомнения обычно рождают новые познания. Хотя я вовсе не уверен, что познание схоже с мудростью.
Тем не менее я попытаюсь по возможности определенно ответить на Ваши вопросы, пусть даже настоящим ответом для человека может быть лишь найденный им самим ответ. Прошу Вас только помнить о том, что перед Вами соображения человека, давно удалившегося от современной жизни. Такое удаление, наверное, открывает взгляду перспективу, но гляжу-то я из бывшей реальности, ныне уже всем чужой: я гляжу на мир человеческой деятельности из мира соленой воды, рябиновых деревьев и бескрайних зимних ночей. И практические детали Вам, без сомнения, известны гораздо лучше, чем мне.
Итак, во-первых, я не советую Вам посвящать свою жизнь философии или фундаментальным научным исследованиям. „Порвалась дней связующая нить“[4], и Вам ничего не осталось, кроме бесплодного повторения того, что сказали или сделали до Вас другие. Мое суждение опирается не на мистические представления Шпенглера об упадке цивилизации, а на вполне трезвое замечание Донна о том, что „нет человека, который был бы как остров“. Как бы ни были Вы талантливы, Вы не сможете работать в одиночку; без творческой атмосферы, без плодотворного общения со столь же увлеченными, как Вы, коллегами, никакая оригинальность невозможна. Биологический потенциал человечества не изменился со времен Перикла или Ренессанса, о чем убедительно свидетельствует генетическая статистика. Но степень реализации этого потенциала и даже основные формы его выражения сильно зависят от социальных условий. Надеюсь, Вы не сочтете меня старым брюзгой, если я скажу, что нынешний век так же бессодержателен, как Рим времен Коммода. Тут уж ничего не поделаешь.
И во-вторых: Вы спрашиваете, можно ли как-то изменить положение вещей. Откровенно говоря, я никогда в это не верил. Теоретические способы, наверное, существуют, как, например, теоретически возможно превратить зиму в лето, ускорив вращение планеты по орбите. Мешают лишь практические ограничения. Но бороться с ними — все равно что смертному человеку пытаться победить всесильную судьбу.
Вы, наверное, считаете, что сам я, вопреки своим советам, активно занимался политикой и основал движение конституционалистов. Весьма распространенное заблуждение. Я не имею к этому никакого отношения и даже ни разу не встречался с Лэрдом. (Он для меня фигура загадочная: возник внезапно, неизвестно откуда — похоже, он был уроженец Нижнего уровня и самоучка — и через десять лет так же внезапно сгинул неизвестно куда. Может, его убили?) Он был моим увлеченным и понимающим читателем, но не сделал ни единой попытки личного контакта. Его феноменальный взлет начался после разгрома Северо-Американского восстания и окончательного крушения надежд американцев на создание независимого государства. Побежденная социально-экономически-этническая группа пошла за лидером, который четко сформулировал ее неясные идеи и чаяния и предложил ей практические принципы для повседневной жизни. На самом деле эти принципы сводятся в основном к традиционным добродетелям, таким, как терпение, мужество, трудолюбие и усердие, приправленным долей научного рационализма, но если они помогли людям вновь поверить в себя, то Лэрд оказал мне честь, цитируя мои работы.
Однако, на мой взгляд, у его последователей нет будущего. Слишком быстро катится общество к упадку. К тому же, я слышал, правители решили запретить конституционализм как движение, угрожающее нынешнему порядку. И сделали это с умом, под предлогом введения бесплатного образования, что даст им возможность полностью оболванить следующее поколение. Меня утешает лишь эгоистическая мысль о том, что мой бедный край вряд ли удостоят открытием общеобразовательной школы.
Если мы не можем переделать общество, то можем ли мы спасти самих себя? Способ есть. Как сказали бы американские первопоселенцы: „Убраться ко всем чертям!“ Монашеские ордены послеримской Европы, феодальной Индии, Китая и Японии служили именно этой цели. И я замечаю, что их современные аналоги становятся все более заметны в последние десятилетия. Я и сам принял такое решение, хотя предпочел быть анахоретом, а не послушником. Мне горько давать Вам такой совет, Сабуро, но другого пути для Вас я не вижу.
Когда-то существовал и другой путь: так, например, христиане в буквальном смысле покидали Град Обреченный. Американская история изобилует подобными примерами — тут Вам и пуритане, и квакеры, и католики, и мормоны. А в наше время звезды — это новая и еще более великолепная Америка.
Но, боюсь, нынешний век не годится для массового исхода. Недовольные жизнью пионеры, которых я упоминал, покидали цивилизацию сильную и энергичную, стремившуюся к экспансии. Для умирающей цивилизации не характерно экспортировать своих радикалов. Да и сами радикалы не жаждут уезжать. Я лично был бы счастлив провести последние дни жизни на новой планете по имени Рустам, какие бы крепкие корни ни привязывали меня к Земле, но кто отправится со мной туда?
Поэтому, Сабуро, нам остается лишь набраться терпения и ждать, пока…»
Рука Анкера упала с клавиатуры. Боль, пронзившая грудь, казалось, вспорола ее ножом.
Он встал кое-как, хватаясь за воздух. Вернее, встало его тело. Сознание вдруг отделилось, понимая, что ему осталась, наверное, одна минута, чтобы взглянуть вниз на фьорд и вверх — на небо. И он сказал себе, с какой-то странной благодарной радостью, слова пророчества трехтысячелетней давности: Одиссей, смерть придет к тебе из моря, смерть в самом нежном обличье.
Глава 4
Все знали, что Ян Свобода порвал со своим отцом-Советником. Но никаких приказов об аресте непокорного сына, ни даже о гонениях на него никто не издавал, так что путь к примирению не был отрезан. А примирение фактически, если не официально, означало обретение молодым гражданином, статуса Блюстителя. Поэтому с ним предпочитали не ссориться.
И по той же причине Ян Свобода не был уверен, обязан ли он своей карьерой самому себе или же какому-то дальновидному лизоблюду из офиса Океанических полезных ископаемых. За редким исключением он и в друзьях-то своих не был уверен. А попытки выяснить отношения или неожиданные вопросы в лоб ни к чему не приводили. Абсолютно ни к чему. И он ожесточился.
Отцовский декрет об образовании вдохновил Яна на такую филиппику, что глаза его соратников-конституционалистов зажглись завистью. Они и сами бы не прочь разразиться подобной тирадой, но они не были сыновьями Советников. Их официальную петицию правительство отвергло, и они порешили смириться с неизбежным, не опуская рук. В конце концов, они представляли собой образованный, состоятельный и прагматично ориентированный класс, и им вполне под силу проводить с детьми дополнительные занятия дома или даже нанять репетиторов.
Новую систему образования внедрили в жизнь. Прошел год.
Ветреным осенним вечером Ян Свобода посадил у дома свой аэрокар. Большие свинцовые волны бежали с запада и с шумом плескались между кессонами, взлетая пенными брызгами над крышей дома. Низкие косматые тучи проносились мимо. В серой мгле пропадало все, даже очертания соседних домов.
Тем лучше, подумал Ян. Жилье на море стоило недешево, и, несмотря на высокий оклад, Ян с трудом наскреб денег на покупку дома — и то лишь благодаря тому, что конституционалистам, как правило, был присущ умеренный образ жизни. Но брешь в бюджете все равно пробилась изрядная. А с другой стороны, где еще, скажите на милость, может поселиться человек, чтобы ему не загораживали горизонт толпы полудурков?
Аэрокар коснулся колесами главной палубы, дверь в гараж автоматически открылась и закрылась за ним, и Ян вылез из машины в тепличную атмосферу дома. Еле слышно урчали гиростабилизаторы, кондиционеры, энергоустановка; громче, но тоже приглушенно, завывал за стенами океан. Ян поборол в себе желание выйти и подставить лицо холодному сырому ветру. До этих идиотов, засевших в офисе, просто не доходит, что нынешняя ионообменная система, нагнетающая никому не нужную тропическую жару, неэффективна и что небольшое фундаментальное исследование могло бы стать основой для создания установки… Свобода треснул кулаком по машине. Нет смысла. Не с кем бороться. С таким же успехом можно пытаться неводом зачерпнуть воды.
Он вздохнул и пошел на кухню: среднего роста, стройный, смуглый, с высокими скулами, орлиным носом и глубокой не по возрасту складкой между бровей.
— Привет, дорогой! — чмокнула его жена. — Ух ты! Будто с разгону в кирпичную стенку впилилась! Что стряслось?
— Ничего особенного, — проворчал Свобода. Его насторожила непривычная тишина. — Где дети?
— Джоселина позвонила с материка и сказала, что хочет остаться ночевать у подруги. Я разрешила.
Свобода застыл на месте, не сводя с жены взгляда. Джудит отшатнулась.
— В чем дело? — спросила она.
— В чем дело?! — завелся Ян. — Ты хоть понимаешь, что мы с ней вчера прервались на середине теоремы конформного отображения? Похоже, наша дочь не в состоянии ее осилить! И ничего удивительного — ведь в школе она занимается исключительно домоводством и прочей дребеденью, словно у нее не будет в жизни иного выбора, как только стать игрушкой богатого мужа или рабыней бедного. Как, по-твоему, она научится ясно мыслить, если не усвоит элементарных принципов функционирования языка? Да у нее же в голове сквозняк! К завтрашнему вечеру он выдует все, что мне удалось вбить туда вчера!
Свобода заметил, что кричит в полный голос. Он замолчал, сглотнул слюну и постарался объективно оценить ситуацию.
— Извини, — сказал он. — Мне не следовало так орать. Ты же не знала.
— А если знала? — тихо спросила Джудит.
— Что? — резко обернулся Свобода, направившийся было к выходу.
Она собралась с духом и выпалила:
— В жизни есть вещи поважнее дисциплины. Ты хочешь, чтобы нормальные здоровые подростки четыре дня в неделю по шесть часов проводили в школе на материке, встречались со сверстниками, которые там живут, слушали, какие после уроков затеваются игры, экскурсии, вечеринки, — а потом возвращались сюда, где у них нет друзей, нет ничего, кроме твоих лекций и книг?
— Мы ходим в море, — растерялся Ян. — Купаемся, удим рыбу… В гости ходим… У Локаберов сын — ровесник Дэвида, а де Сметы…
— Мы видимся с этими людьми раз в месяц, — прервала его Джудит. — А друзья Джози и Дэви живут на материке.
— Ну да, целый выводок друзей, — буркнул Свобода. — У кого из них осталась Джози?
Джудит замешкалась с ответом.
— Ну?!
— Она не сказала.
Он кивнул, чувствуя, как задеревенели шейные мышцы.
— Я так и думал. Конечно, мы с тобой отстали от жизни. Мы не одобрили бы участие четырнадцатилетней девочки в невинной оргии с марихуаной. Если только там не будет ничего похлеще. — Он опять вышел из себя: — Чтобы такое было в последний раз! На все подобные просьбы в будущем отвечать категорическим отказом! И пусть их светская жизнь катится к чертовой матери!
Джудит прикусила дрожащую губу. Потом, не глядя на него, сказала:
— В прошлом году все было совсем иначе.
— Конечно, иначе! Тогда у нас были свои собственные школы. В дополнительных домашних занятиях никто не нуждался: всему учили на уроках. И об одноклассниках нечего было беспокоиться — дети из приличных семей, хорошо воспитанные, с разумными и честолюбивыми идеалами. Но что же нам делать?
Свобода прикрыл ладонью глаза. Голова раскалывалась. Джудит подошла, прижалась щекой к его груди.
— Успокойся, любимый, — прошептала она. — Вспомни, что говорил Лэрд: «Принимайте неизбежное».
— А ты не забывай, какой смысл он вкладывал в слово «принимайте», — угрюмо отозвался Свобода. — Он учил, что неизбежное нужно принимать так, как мастер дзюдо принимает атаку противника. Мы забываем его учение… Все забываем понемногу с тех пор, как его не стало.
Джудит безмолвно держала мужа в объятиях. Славное прошлое нахлынуло воспоминаниями; Ян, отрешенно глядя сквозь стену, вздохнул:
— Ты даже представить себе не можешь, как это было хорошо. Ты слишком молода, ты примкнула к движению уже после смерти Лэрда. Я сам был тогда мальчишкой, а мой отец высмеивал его учение. Но я слушал, как Лэрд говорил — и по видео, и наяву, — и уже тогда я знал, что он прав. Не то чтобы я в самом деле его понимал. Просто я знал, что есть в мире высокий человек с прекрасным голосом и что он вселяет надежду в сердца людей, чьи родные лежат под обломками разрушенных бомбежкой домов. Позже, когда я начал изучать теорию конституционализма, я всегда старался воскресить в себе испытанные в детстве чувства… А мой отец только и знал, что зубоскалить! — Он прервался. — Прости, дорогая. Я тысячу раз тебе это рассказывал.
— Но Лэрд умер, — вздохнула она.
Не сдержавшись, в новом приступе гнева, он выпалил то, о чем никогда ей не говорил:
— Его убили! Я уверен. И не какой-то случайный бандит из Братства на темной улочке, нет! До меня доходили слухи, намеки: дескать, мой отец беседовал с Лэрдом с глазу на глаз, обеспокоенный его растущим влиянием… Я открыто бросил отцу в лицо обвинение в том, что он убрал Лэрда. Он усмехнулся и не стал ничего отрицать. Тогда я порвал с ним. А теперь он пытается загубить труд всей жизни Лэрда!
Ян вырвался из объятий жены, бросился из кухни через столовую и гостиную, спеша поскорее выйти на воздух. Морской прибой остудит его кипящую душу.
На полу в гостиной сидел, поджав под себя скрещенные ноги, его сын Дэвид, покачивая головой с полуприкрытыми глазами.
Свобода остановился. Сын его не замечал.
— Что ты делаешь? — не выдержал Ян.
Невозмутимое девятилетнее создание, словно пробудившись ото сна, обратило к нему затуманенное лицо:
— Ох… Здравствуйте, сэр.
— Я спросил, что ты делаешь! — отрывисто бросил Свобода.
Дэвид, глядя из-под опущенных ресниц, что придавало ему какой-то плутоватый вид, пробормотал:
— Домашнее задание.
— Какое к дьяволу домашнее задание? И с каких это пор ваш тупоголовый учителишка изволил востребовать твой интеллект?
— Нам велели практиковаться, сэр.
— Не увиливай от ответа! — Свобода навис над мальчуганом, уперев руки в боки и сверля его свирепым взглядом. — Практиковаться в чем?
Судя по выражению лица, Дэвид был на грани бунта, но, поразмыслив, решил покончить дело миром.
— Эле… эле… элементарная настройка, — сказал он. — Просто о-вла-дение техникой. Нужны годы, чтобы… это… обрести реальный опыт.
— Настройка? Опыт? — Свобода почувствовал, что пытается неводом зачерпнуть воды. — Объясни, пожалуйста. Настройка на что?
Дэвид зарделся.
— На Невыразимое Сущее, — запальчиво ответил он.
— Погоди-ка. — Свобода изо всех сил старался держать себя в руках. — Ты ходишь в светскую, мирскую школу. По закону. Вас же не учат там религии, верно? — В это мгновение он почти надеялся, что учат. Ведь если правительство начнет превозносить один из миллионов культов в ущерб другим, неизбежны волнения, которые могут перерасти…
— Да нет же, сэр. Это факт. Мистер Це нам объяснил.
Свобода сел на пол рядом с сыном.
— Какой факт? — спросил он. — Научный?
— Не-а. Ну, не совсем. Ты же сам говорил, что наука не могет дать всех ответов.
— Не может, — машинально поправил Свобода. — Согласен. Утверждать, что может, было бы равносильно утверждению, что открытие структурированных данных представляет собой сумму совокупного человеческого опыта, а это очевидный абсурд.
Он с удовольствием отметил про себя ровность своего тона. Налицо обычное детское заблуждение, и сейчас он развеет его разумными доводами. Вид склоненной курчавой головки вдруг всколыхнул в груди безудержную нежность. Ему захотелось взъерошить темные волосы сына, позвать его с собой в солярий погонять в салочки. Однако…
— Слово «факт», — пояснил он, — означает, как правило, эмпирические данные или же неопровержимо доказанную теорию. «Невыразимое Сущее» — явная метафора. Примерно такая же, как когда ты говоришь: «Ух, налопался, аж из ушей прет». Оборот речи, но не факт. Ты, наверное, хотел сказать, что изучаешь какой-то вопрос из области эстетики: например, что делает картину приятной взору и так далее.
— Ах нет, сэр. — Дэвид энергично помотал головой. — Это истина. Истина, которая выше науки.
— Но тогда ты говоришь о религии!
— Нет, сэр! Мистер Це нам все объяснил. Старшие мальчики в школе уже умеют… это… немного настраиваться. Ну, в общем, эти упражнения, ими не просто пости… постигаешь Сущее. Ты становишься Сущим. То есть не каждый день, конечно, а…
Свобода вскочил. Дэвид не спускал с него глаз. Голос у отца дрожал от сдерживаемого гнева:
— Что за ахинею ты несешь? Что значат слова «сущее» и «настройка»? Какова структура этой идентификации, которая к тому же является идентификацией только каждый второй четверг? Объясни! Твоих знаний элементарной семантики вполне достаточно для объяснения! Ты можешь, по крайней мере, мне показать, где дефиниции теряют силу и верх берет наглядный опыт. Говори же!
Дэвид тоже вскочил: кулачки прижаты к бокам, в глазах набухли слезы.
— Ничего они не значат! И ты тоже ничего не значишь! Мистер Це так сказал! Он сказал: эта игра словами, де-дефи-нициями и логикой — чушь собачья! Он сказал — все это на нижнем, на матерь… матерьяльном уровне. Настройка — она настоящая! Твоя дурацкая наука устарела! Ты меня тянешь назад своей дурацкой логикой и… и… большие мальчики смеются надо мной. Я не хочу учить твою дурацкую семантику! Не хочу. И не буду!
Свобода целую минуту молча смотрел на сына. Потом зашагал обратно на кухню.
— Я уезжаю, — сказал он. — Не жди меня.
Дверь гаража хлопнула со стуком. Через пару минут Джудит услышала, как аэрокар взлетел навстречу буре.
Глава 5
Терон Вулф покачал головой.
— Тс-тс-тс, — проворчал он. — Спокойно, спокойно.
— Только не говори мне, что гнев — признак незрелости, — вяло огрызнулся Ян Свобода. — Анкер никогда не писал ничего подобного. А Лэрд говорил, что бывают такие ситуации, когда нормальный человек не может не злиться.
— Согласен, — сказал Вулф. — Не сомневаюсь, что ты как следует отвел душу, когда прилетел на материк, ворвался в однокомнатную квартирку бедняги Це и задал ему трепку на глазах у жены и детей. Хотя не думаю, чтобы ты чего-то этим добился. Ладно, пойдем отсюда.
Они вышли из тюрьмы. Полицейский учтиво кивнул в сторону машины Вулфа.
— Прошу прощения за ошибку, сэр, — сказал он.
— Все о'кей, — отозвался Вулф. — Вы обязаны были арестовать его, коль скоро он устроил потасовку не на Нижнем уровне. Вы же не знали, что он сын Советника по психологии. — Свободу передернуло. — Но вы правильно сделали, что позвонили мне, как он просил.
— Вы хотите выдвинуть обвинение против гражданина Це? — поинтересовался офицер. — Мы теперь глаз с него не спустим.
— Нет, — сказал Свобода.
— Послал бы ты ему цветы, Ян, — предложил Вулф. — Он всего лишь пешка, выполняющая приказы.
— Никто не заставлял его становиться пешкой! — взорвался Ян. — Мне обрыдло слушать эти причитания: «Не вини меня, вини систему!» Нет никакой системы! Есть люди, которые совершают поступки — хорошие или плохие.
Величавый, словно Юпитер, торговец прошествовал впереди Яна к машине. Аэрокар, с тихим шелестом промчавшись по пандусу, взмыл в воздух. Ночь была темная и по-прежнему ветреная. Сверкающая алмазами иллюминация Верхнего уровня тонкой паутинкой протянулась над кромешным мраком Нижнего. Горбатый месяц над восточным горизонтом рассыпал серебристые блики по черной поверхности неспокойного океана.
— Я велел пригнать твою машину к моему дому и послал весточку Джудит, чтоб не волновалась, — сказал Вулф. — Может, не стоит ее будить? Оставайся у меня, заночуешь, а завтра возьмешь выходной. Тебе нужно остыть.
— Ладно, — буркнул Свобода.
Вулф поставил аэрокар на автопилот, предложил Яну сигару и закурил сам. Красноватый огонек, разгоравшийся при каждой затяжке, высвечивал во тьме лицо торговца — лицо бородатого Будды с легкой усмешкой Мефистофеля.
— Слушай сюда, — сказал он. — Ты всю жизнь заводился с пол-оборота, но все-таки обычно не терял головы, иначе ты не был бы конституционалистом. Давай рассмотрим ситуацию объективно. Почему тебя так волнует, кем станут твои дети? То есть ты, разумеется, хочешь видеть их счастливыми и так далее, но зачем навязывать им свое представление о счастье?
— Избавь меня от своих гедонистических софизмов, — с усталым раздражением откликнулся Ян. — Я просто хочу, чтобы мои дети выросли порядочными людьми.
— Иначе говоря, инстинкт выживания присущ не только индивидуумам, но и культурам, — заметил Вулф. — Прекрасно. Я не возражаю. Наша с тобой культура отдает предпочтение сознательному мышлению. Быть может, оно не слишком полезно для здоровья, но мы все же считаем, что выбрали самый лучший путь. Однако нашу культуру поглощает культура новая, и она поднимает на щит никем до сих пор не определенные подсознательные и чисто животные начала. Поэтому мы сейчас, подобно иудейским зилотам, английским пуританам и русским староверам, пытаемся возродить определенные основы, преданные, как нам кажется, поруганию и забвению. (И точно так же, как все сектанты, в действительности мы создаем какие-то совсем новые основы; но я не стану затуманивать твою ясную целеустремленность чересчур глубоким анализом.) И опять-таки, как прежние сектанты, мы все сильнее расходимся с обществом. В то же время наши идеи начинают обретать популярность у определенного класса людей по всему свету. Что, в свою очередь, настораживает охранителей нынешнего порядка, и они принимают меры, дабы ограничить наше влияние. Мы отвечаем им тем же. Трение возрастает.
— Ну и?.. — спросил Свобода.
— Ну и, — сказал Вулф, — я не вижу, как мы сумеем избежать конфликта. А физическая сила по-прежнему остается ultima ratio[5]. Впрочем, это не значит, что я советую отправлять маленьких и исполненных благих намерений учителей в больницы.
Свобода резко выпрямился.
— Ты ведь не имеешь в виду еще одно восстание? — воскликнул он.
— Не такое, как последнее фиаско, — ответил Вулф. — Не стоит уподобляться староверам, они плохо кончили. Нам больше подходит пример Английской пуританской республики. Только нужно проявлять терпение… и благоразумие, друг мой. Мы должны организоваться. Не слишком увлекаясь формальностями, но так, чтобы мы могли действовать как единое целое. Задача вполне выполнимая: ты далеко не единственный, кому не нравится, что творят с его детьми. Сколотив организацию, мы начнем понемножку демонстрировать свою силу. Бойкоты, например; подкуп чиновников; и, между прочим, — только не гляди на меня с видом оскорбленной невинности, — на Нижнем уровне полно искусных убийц, взимающих весьма умеренную плату.
— Понимаю. — Свобода заметно успокоился. — Давление. Что ж, мы хотя бы добьемся восстановления наших школ, если ничего больше не получится.
— Но давление спровоцирует встречное давление. А мы, в свою очередь, будем вынуждены давить еще сильнее. Возможным и даже вероятным результатом будет война.
— Что? Ну уж нет!
— Или государственный переворот. Но скорее всего гражданская война. Если учесть, что некоторые армейские и полицейские офицеры уже разделяют наши взгляды, есть надежда, что мы завербуем и новых сторонников, а стало быть, у нас появятся шансы на победу. Если мы будем осторожны. Спешка тут ни к чему. Но… мы могли бы начать потихоньку запасаться оружием.
Свобода был потрясен. Ребенком он видел трупы на улицах. А грядущая война будет еще разрушительнее, ведь в ход пойдут атомные бомбы или искусственная чума. Много ли удастся восстановить потом на истерзанной войной планете?
— Мы должны найти другой путь, — прошептал он. — Нельзя позволить, чтобы конфронтация зашла так далеко.
— Не исключено, что придется, — сказал Вулф. — По крайней мере пригрозить придется точно. Иначе мы просто вымрем.
Он взглянул на чеканный профиль Свободы на фоне звездного неба. Прямо на глазах этот профиль затвердел еще больше, исполнившись решимости, от которой недалеко и до фанатизма. Вулф чуть было не выложил то, что действительно было у него на уме, но сдержался.
Глава 6
Советник Свобода посмотрел на часы.
— Уходите, — сказал он. — Пошли все вон.
Телохранители не без удивления повиновались. Остался только Иеясу: это подразумевалось само собой. В просторном кабинете воцарилась тишина.
— Ваш сын сейчас придет, да? — спросил окинавец.
— Через пять минут, — ответил Свобода. — Насколько я помню, он пунктуален. Впрочем, люди меняются, а мы с ним уже много лет не виделись.
Уголок рта подергивался нервным тиком. Да уймись ты, чтоб тебе провалиться в седьмой круг Дантова ада! Перестань, слышишь! Похожий на гнома человечек сполз с кресла и дохромал до прозрачной стены. Внизу блестели отапливаемые искусственно башни и улицы, но зима проглядывала в блеклых небесах и далеком морозном солнце. Затяжная нынче выдалась зима. Кончится она наконец когда-нибудь?
Конечно, время года не имеет большого значения, если всю жизнь проводишь в кабинете. Но хотелось еще раз увидеть, как цветет вишневый сад на крыше дома. Советник не позволял устроить у себя на крыше оранжерею. Должны же остаться на Земле хоть какие-то островки нетронутой природы!
— Может, поэтому и умирает человеческая цивилизация, — подумал он вслух. — Не из-за истощения ресурсов, или бездумной жажды размножения, или упадка культуры, или расцвета мистицизма. Все это следствия, а истинная причина — неосознанный всеобщий протест против стали и машин. Коль скоро человечество когда-то спустилось с деревьев, неужели оно посмеет вырубить последние деревья на планете?
Иеясу не отвечал. Он привык к перепадам настроения хозяина. Он только смотрел на Советника сочувственно глазами-щелочками.
— Если так, — продолжал Свобода, — то, наверное, все мои маневры в конечном счете бессмысленны. Но мы же люди действия, нам некогда остановиться и задуматься.
Самоирония подняла ему настроение. Он отошел от стены, уселся за стол и стал ждать с сигаретой в руке.
Дверь открылась, впустив в кабинет сына, как только часы пробили девять. Свободу как громом поразило: Бернис! Боже, он ведь совсем забыл, что у мальчика глаза Бернис! Сама она уже пятнадцать лет как в могиле. Советник оцепенел от мучительного чувства одиночества.
— Я слушаю! — холодно проговорил Ян.
Свобода расправил худые плечи.
— Садись, — предложил он.
Ян пристроился на краешке кресла и воззрился на отца через стол. Сын похудел, заметил Советник, но мальчишеская угловатость пропала без следа. Бескомпромиссное, жесткое лицо над простой синей блузой.
— Закуришь? — спросил Советник.
— Нет, — ответил Ян.
— Надеюсь, дома все в порядке? Как жена? Дети? — Большинству людей дарована привилегия видеть своих собственных внуков. Ладно, кончай ныть, ты, доморощенный Макиавелли!
— Физически все здоровы. — Голос у Яна был как сталь. — Мы оба занятые люди, Советник. Не хочу попусту отнимать у вас время.
— Да, разумеется. — Свобода зажал в губах новую сигарету, вспомнил, что в пальцах еще тлеет прежняя, и раздавил ее с неожиданной яростью. Вернув себе таким образом самообладание, сухо сказал: — Наверное, раз уж встал вопрос о переговорах между мною и представителем вашей новоиспеченной Ассоциации конституционалистов, более естественным для меня было бы встретиться с вашим президентом, мистером Вулфом. Ты, видимо, спрашиваешь себя, почему я остановил свой выбор на тебе, хотя ты всего лишь член политического комитета.
Ян напряженно сжал челюсти.
— Надеюсь, вы не рассчитывали на родственные чувства?
— О нет. Дело в том, что мы с Вулфом уже несколько раз беседовали. — Свобода хмыкнул. — Ага! Ты удивлен, верно? Пожелай я развалить вашу организацию, мне достаточно было бы оставить тебя переваривать эту новость. Но на самом деле Вулф просто поговорил со мной по видеофону, неофициально, и прощупал меня по поводу некоторых вопросов. Я в свою очередь тоже его прощупал, и мы достигли молчаливого соглашения.
Свобода оперся на локти, выпустил облако дыма и продолжил:
— Ваша организация была создана несколько месяцев назад. Конституционалисты вступали в нее тысячами, по всему земному шару. Но у каждого из них свое представление о задачах Ассоциации. Кто-то хочет, чтобы она стала выразителем его интересов; кто-то видит в ней революционное подполье; большинство наверняка вступило в смутной надежде на взаимную поддержку. Поскольку вы пока не приняли определенную программу, никто не чувствует себя разочарованным. Но скоро твой комитет должен будет предложить конкретный план действий, иначе вся ваша организация превратится в бесформенное желе.
— У нас есть план, — возразил ему сын. — Раз уж вы так хорошо информированы, я могу рассказать вам, каким будет наш первый шаг. Мы собираемся подать официальное прошение об отмене пресловутого декрета об образовании. У нас есть кое-какое влияние, в том числе и в кругу ваших друзей-Советников. Если прошение будет отклонено, мы прибегнем к более жестким мерам.
— Экономическое давление. — Свобода кивнул большой лысой головой. — Бойкоты и снижение темпа работы. Если не поможет — забастовки под видом массовых увольнений по собственному желанию. Следующий шаг, естественно, гражданское неповиновение. Затем… Ну да ладно. Схема классическая.
— Классическая, потому что срабатывает, — сказал Ян. Кровь прилила к его щекам, и он до боли стал похож на прежнего мальчугана.
— Иногда.
— Вы могли бы избежать многих осложнений, отменив свой декрет немедленно. Тогда мы пошли бы на компромисс по многим другим вопросам.
— Да, но я не собираюсь этого делать. — Свобода молитвенно сложил ладони, возвел очи горе и елейно протянул, не выпуская изо рта сигареты: — Общественные интересы требуют общеобразовательных школ.
Ян вскочил как ошпаренный:
— Вы прекрасно знаете, что это просто лицемерный предлог, под прикрытием которого вы хотите нас уничтожить!
— Между прочим, — сказал Советник, — я намереваюсь следующей осенью изменить учебный план. Время, отведенное для критического анализа литературных произведений, лучше будет потратить на заучивание текстов наизусть. И потом, раз уж в обществе так модно потребление галлюциногенов, не помешает ввести практический курс их правильного применения…
— Ты, паскудный подкидыш из помойки! — вскричал Ян, нагнувшись через стол.
Иеясу оказался рядом, словно бы и не пересекал разделявшее их пространство. Ребро ладони рубануло по кисти Яна. Стальные пальцы другой руки ткнули в солнечное сплетение. Ян задохнулся и свалился навзнйчь.
— Эй, осторожнее, — предупредил Свобода, вцепившись побелевшими пальцами в край стола.
— С ним все в порядке, сэр, — заверил его Иеясу. Усадив Яна в кресло, он принялся массировать ему плечи и затылок. — Через минута придет в себя. — И, с плохо скрытым гневом: — Так с отцом не разговаривают!
— Насколько я знаю, — сказал Советник, — он, возможно, прав.
Глаза у Яна прояснились, но все трое хранили молчание. Свобода закурил очередную сигарету, отрешенно глядя вдаль. Ему ужасно хотелось посмотреть на мальчика, быть может, в последний раз, но это было бы тактической ошибкой. Ян неуклюже развалился в кресле, над ним горою высился Иеясу. Наконец Ян угрюмо проронил:
— Я не буду извиняться. Чего еще вы ожидали?
— Ничего, наверное. — Свобода сложил пальцы шалашиком и поглядел сквозь них на сына. — Безусловно, подобные меры вызовут сопротивление. И все-таки я лишь ускоряю конфликт, который все равно рано или поздно назрел бы и привел к тем же самым последствиям. Ты не дал мне объяснить, почему я выбрал в качестве представителя Ассоциации для сегодняшних переговоров тебя, а не Вулфа. Видишь ли, ты человек молодой, горячий, а стало быть, лучше годишься на роль выразителя интересов нового поколения конституционалистов, чем пожилой, более осторожный и менее фанатичный Вулф. Экстремисты в вашей партии могут отвергнуть любое компромиссное соглашение, достигнутое Вулфом, просто потому что он Вулф, известный своей репутацией «и нашим, и вашим». Но если план будет исходить от тебя, они прислушаются.
— К какбму соглашению вы надеетесь прийти?! — прорычал Ян. — Пока вы не вернете нам наших детей…
— Ради Бога, только без сантиментов. Позволь мне объяснить, в чем проблема. Вы, конституционалисты, диаметрально противоположны правительству по взглядам на жизнь. Вы несовместимы. Когда-то, наверное, вы могли мирно сосуществовать. Такая возможность не исключена и в будущем, когда улягутся страсти. Но не сейчас. Представь себе, что мы решили сдать позиции, отменить декрет об образовании и возродить систему частных школ. Это будет победой для вас и поражением для нас. Вы добьетесь не только конкретной цели — вы добьетесь всеобщего уважения, поддержки, к вам хлынут новые силы. Мы соответственно все это проиграем. И очень скоро вы выдвинете новые требования: причин для недовольства вам не занимать. Получив обратно свои школы, вы захотите возродить право на критику политических основ; добившись его, вы потребуете права открытой агитации. Потом вам захочется представительства в Совете, потом… В общем, нет смысла продолжать. Нам выгоднее покончить с этим сейчас, раз и навсегда, пока вы не успели окрепнуть. А потому не очень-то рассчитывай на помощь моих друзей-Советников.
— Если вы думаете, что с нами так легко покончить!.. — снова взорвался Ян.
— О нет. Мы уже обсудили с тобой, какими способами вы можете оказывать давление. Я также прекрасно понимаю, что у вас есть все возможности для сбора оружия, подрывной деятельности в армии и в конечном итоге для открытого вооруженного выступления. Кое-кто из Совета Блюстителей жаждет арестовать вашу банду немедленно. Но, увы, нам без вас не обойтись. Вообрази, какой хаос начнется, если четвертая часть технического персонала департамента полезных ископаемых или пелагокультуры вдруг исчезнет, не оставив достойной замены. Или если Вулфа внезапно убрать с его окольных тропок, где он добывает свой товар, — откуда, скажи на милость, половина дам Верхнего уровня будут брать новые наряды, чтобы затмить вторую половину? Опять же, как известно, мученики стимулируют любое движение. Юноши, которым ваша философия была до лампочки, вдруг воспламенятся, увидев, что нд свете есть вещи дороже самой жизни. Нет, репрессиями мы только спровоцируем войну, вместо того чтобы ее избежать.
Свобода откинулся назад. Мальчик клюнул на наживку, сразу видно: взгляд озадаченный, рот полуоткрыт, рука неуверенно приподнята то ли для защиты, то ли с мольбой, то ли для рукопожатия.
— Существует вполне приемлемый компромисс, — продолжал Свобода.
— Какой? — прозвучал еле слышный шепот.
— Рустам. Эпсилон Эридана-2.
— Новая планета? — Ян вскинул голову. — Но…
— Если самые недовольные конституционалисты покинут Землю добровольно, подготовив себе компетентную замену, камень с нашей шеи упадет. Со временем мы, возможно, вернемся к школьным проблемам и порадуем ваших оставшихся дома друзей, не чувствуя себя при этом побежденными. Но даже если и нет, вам-то что? Вы от нас уже избавитесь — а мы избавимся от самых упрямых элементов оппозиции. Успешное же основание колонии увенчает лаврами Совет и одновременно послужит допингом для космических экспедиций, поэтому колонии будет гарантирована наша помощь и благословение. Что касается издержек, то твои друзья владеют ценным имуществом, которое с собой не возьмешь: пускай продадут его и финансируют проект.
Истории такие примеры известны. Массачусетс, Мэриленд, Пенсильвания были поддержаны правительствами, враждебно настроенными к идеям первопоселенцев и жаждущими избавиться от идеалистов. Почему бы нам не повторить спектакль?
— Но двадцать световых лет, — прошептал Ян. — И навсегда покинуть Землю…
— Вам придется многим пожертвовать, — согласился Советник. — Зато вы избежите риска быть раздавленными силой или задушенными с помощью моих злокозненных планов. — Он пожал плечами. — Конечно, если уютный морской домик с лучистым отоплением для тебя важнее философии, тогда оставайся, о чем речь!
Ян дернул головой, словно его опять ударили.
— Мне надо подумать, — сказал он.
— Посоветуйся с Вулфом, — предложил Свобода. — Он в курсе. Он сам подал мне эту идею.
— Что? — глаза Бернис округлились в неподдельном изумлении.
— Я говорил тебе, что Вулф не борец, — засмеялся Свобода. — Очевидно, он обсуждал перспективы свержения правительства и даже провел какую-то подготовку. Но, как мне кажется, он не думает о восстании всерьез. Это была просто вывеска для поддержания боевого духа маловеров. А основные усилия он направил на то, чтобы заключить с нами выгодную сделку… и заставить правительство послать вас на Рустам.
Он взял верную ноту, заметил Советник. Зная, что за кулисами стоит наставник Вулф, Ян не будет так бояться подвоха.
— Мне нужно поговорить с ним. — Мальчик встал, охваченный внезапной дрожью. — Поговорить со всеми. Нам надо подумать… Прощайте.
Он повернулся и, как слепой, побрел к двери.
— Прощай, сынок, — сказал Свобода.
Вряд ли Ян его услышал. Дверь закрылась.
Свобода долго сидел не шевелясь. Сигарета догорела до фильтра и обожгла ему пальцы. Выругавшись, он бросил ее в мусорник и с трудом встал. Покалеченная нога опять разболелась.
Иеясу скользнул вокруг стола. Свобода оперся на мощную, словно ствол, руку и доковылял до прозрачной стены, ловя глазами далекие отблески открытого океана.
— Ваш сын вернется, да? — спросил наконец Иеясу.
— Не думаю, — ответил Свобода.
— Вы хотите они летят на планету?
— Да. И они полетят. Я недаром столько лет работал, всю эту механику наизусть знаю.
Солнце было бледным, но свет его слепил глаза, так что Советнику пришлось протереть их кулаком. Отчетливо, но каким-то срывающимся голосом он проговорил:
— Старый Инки был в своем роде мужик образованный. Он любил утверждать, что главная аксиома человеческой геометрии звучит так: «Прямая линия не есть кратчайшее расстояние между двумя точками». Да и нет их, прямых линий, на свете. Похоже, он был прав.
— Это был ваш план, сэр? — В голосе Иеясу звучало скорее сочувствие, чем любопытство.
— Мой план… Да, верно. Книги Анкера и мой собственный здравый смысл убедили меня, что в обозримом будущем Земле надеяться не на что. Быть может, через тысячу лет упадка разразится окончательный кризис и на развалинах нашего мира родится нечто новое, но моему сыну это мало чем поможет. Я хотел отправить его отсюда, пока не поздно, на другую планету, где можно начать все с нуля. Но один он не мог улететь, нужно было основать колонию. А колонисты должны быть здоровыми, независимыми, способными людьми и, главное, добровольцами; другим там не выжить. Я рассчитывал на то, что пригодная для жизни планета будет найдена, но вряд ли стоило надеяться, что она окажется очень уж гостеприимной. И потом — как заставить этих людей улететь? Цивилизация еще не прогнила настолько, чтобы они не могли устроить себе вполне сносную жизнь здесь, дома, если дать им хотя бы полшанса.
Следовательно, нужно было создать такое препятствие на Земле, которое невозможно преодолеть одним лишь умом и усердием. Но что за препятствие? Неразрешимыми, как правило, бывают противоречия между разными типами культур. Когда сталкиваются аксиомы, логика бессильна. Поэтому я основал внутри Федерации общество, соперничающее с ней. Это было нетрудно. Здесь, в Северной Америке, умирающая культура только что сделала попытку возродиться через восстание — и потерпела крах. Но она еще не умерла. Ей только нужно было обрести новое дыхание и цели.
Я взял за основу философию Анкера. Нанял Лэрда — непревзойденного актера, человека с умом, но без совести. Обошелся он мне недешево, зато я мог на него положиться, ибо ясно дал ему понять, что его ждет в противном случае. Когда он сделал свое дело, я отпустил его на отдых — новое лицо, новое имя и щедрая пенсия. Он спился и умер четыре года назад. Но вопрос о том, что я причастен к его смерти, остался открытым. Первый чувствительный удар, за которым должны были последовать другие.
Свобода вспомнил о мальчике, в ярости покинувшем дом навсегда. И вздохнул. Никто не в состоянии предусмотреть всех деталей. По крайней мере внуки Бернис вырастут свободными людьми, если, конечно, Рустам их не сожрет.
— В конце концов я своими маневрами загнал конституционалистов в такой угол, что их хитроумный Вулф вынужден был своими маневрами выманить у меня согласие помочь им эмигрировать. Думаю, подъем мы одолели. Теперь мы с тобой можем сесть в сторонке и наблюдать за тем, как вагон катится под горку. А под горкой его ожидают звезды.
— Мы поедем на юг, — смущенно предложил Иеясу. — Вы можете видеть его новое солнце.
— Думаю, я умру раньше, чем он туда доберется, — сказал Свобода. Он задумчиво покусал губу, потом выпрямился и похромал от окна. — Ладно. Давай-ка навестим кое-кого из моих друзей-Советников и испортим ему настроение.
ГОРЯЩИЙ МОСТ
Глава 1
Послание было подобно электронному крику в ночи — самый мощный, узконаправленный и точный коротковолновый радиолуч, какой только позволяла создать математика и техника. И все же этот луч мог долгие годы блуждать по космосу в надежде случайно наткнуться на цель. Когда расстояния измеряются световыми неделями, малейшая неточность разрастается в чудовищную ошибку.
Но на сей раз случай оказался счастливым. Как только флагманский корабль сбросил ускорение, офицер-радист Анастас Мардикян врубил свои локаторы — огромные, окружавшие «Рейнджер», как паутина неосторожную муху, — и настроил их на широкий диапазон. Радиолуч попался в сети. Призрачно-рассеянный, с удвоенной допплеровским эффектом длиной волны, заглушенный космическими шумами, он, даже пройдя через сложную систему фильтров и усилителей, остался не вполне разборчивым.
Но этого было достаточно.
Мардикян ворвался в рулевую рубку. Радист был молод, и месяцы, проведенные в полете, еще не притупили в нем восторга от первого в жизни космического путешествия.
— Сэр! — крикнул он. — Сообщение!.. Я только что прослушал запись… Передача с Земли!
Командующий флотилией Джошуа Коффин вздрогнул. Это движение в невесомости подбросило его с палубы вверх. Притормозив натренированной рукой, он завис на месте и рявкнул:
— Если вы до сих пор не удосужились выучить устав, надеюсь, недели гауптвахты вам для этого хватит!
— Я… Но, сэр…
Радист попятился. Его униформа радужными бликами отразилась на металлических и пластиковых поверхностях. Коффин единственный из всех офицеров флотилии носил черный мундир, давно забытый сотрудниками космической службы.
— Но, сэр, — повторил Мардикян. — Весточка с Земли!
— Только дежурный офицер имеет право входить в рулевую рубку без разрешения, — напомнил ему Коффин. — Если у вас что-то срочное, существует переговорное устройство.
— Я думал… — выдохнул Мардикян. Помолчал немного и изобразил вариацию стойки «смирно» в свободном падении. Глаза его пылали гневом. — Виноват, сэр.
Коффин повисел еще, не двигаясь, глядя на темнокожего юношу в ослепительно ярком одеянии. Расслабься, сказал он сам себе. Времена изменились. Он вовсе не худший из них, из нынешних — беспечных, суеверных, болтающих между собой на незнакомых мне языках. Благодари Господа, что вообще удалось набрать рекрутов, и уповай, чтобы на твой век их еще достало.
Дежурный офицер Холлмайер — высокий, белобрысый — был уроженцем Ланкашира, но наблюдал за капитаном и радистом раскосыми азиатскими глазами. Все трое молчали, слышно было только тяжелое дыхание Мардикяна. А в носовом иллюминаторе теснились в кучу звезды, сгущая вечную ночь вокруг.
— Ладно уж, — вздохнул Коффин. — На сей раз прощаю.
В конце концов, подумал он, сообщение с Земли и правда событие. Радиолуч в принципе способен преодолеть расстояние от Солнца до альфы Центавра, но для этого нужна специальная аппаратура. А засечь горсточку кораблей, летящих с полусветовой скоростью, да еще засечь так точно, чтобы сравнительно слабый приемник Мардикяна смог поймать радиолуч… Да, у парнишки были уважительные причины для радости.
— Что передают? — спросил Коффин.
Он ожидал, что послание окажется обычной пробой, посланной для того, чтобы инженеры, отделенные от них расстоянием длиною в жизнь, могли узнать по возвращении флотилии, был зарегистрирован сигнал или нет. Если к тому времени на Земле еще останутся инженеры. И вдруг Мардикян выпалил:
— Старый Свобода умер! Новый Советник по психологии, Томас… Томсон… тут запись невнятная… Во всяком случае он сочувствует конституционалистам. Он аннулировал декрет об образовании… Обещал с большим вниманием относиться к местным традициям. Да вы сами послушайте, сэр!
Коффин невольно присвистнул:
— Но ведь из-за декрета колонисты и отправились к Эридану!
Его слова нелепо упали в глухую тишину.
Холлмайер проговорил наконец на своем шипящем английском (Коффин терпеть не мог этот акцент, напоминавший ему о Змие в некогда благословенном саду).
— Причины для основания колонии больше не существует. Но как мы узнаем мнение трех тысяч будущих пионеров, спящих в анабиозе?
— А разве мы обязаны их спрашивать? — Коффин не мог пока понять отчего, но мозг его работал в бешеном темпе, подгоняемый необъяснимым страхом. — Наше дело доставить их на Рустам. До получения особого приказа с Земли мы не имеем права вносить какие бы то ни было изменения в планы… Тем более что общее голосование провести все равно невозможно. Лучше, во избежание переполоха, вообще не упоминать…
Он осекся. Лицо Мардикяна исказилось смятением.
— Но, сэр! — вскричал радист.
Коффин похолодел.
— Вы уже проболтались, — сказал он.
— Да, — прошептал Мардикян. — Я встретил Конрада де Смета, он пришел за какими-то деталями для ремонта, и… я же не думал…
— Вот именно! — прорычал Коффин.
Глава 2
Флотилия насчитывала пятнадцать кораблей — более половины всего космического флота, имевшегося в распоряжении у человечества. Пересечь шесть парсеков до эпсилона Эридана и вернуться обратно они могли не быстрее чем за восемьдесят два года. Но правительство ничего не имело против. Оно расщедрилось даже на речи и оркестры по случаю отбытия колонистов. После чего, подумал Коффин, наверняка довольно ухмыльнулось и возблагодарило своих языческих богов за то, что гора свалилась с плеч.
— Не совсем, как выяснилось, — пробурчал капитан.
Он праздно сидел в общем зале «Рейнджера», ожидая начала совещания. Суровую строгость Стен зала нарушало всего несколько картин. Коффин хотел оставить стены голыми (кому, кроме него, интересно смотреть на фотографию шлюпки, на которой юный Джошуа ходил по Массачусетскому заливу, глянцево блестевшему на солнце тем далеким летом?), но даже теоретически абсолютная власть командующего флотилией имеет свои пределы. Слава Богу, экипаж все-таки не испоганил стен непристойными изображениями голых женщин. Хотя, если быть до конца откровенным, Коффин не был уверен, что эти картинки лучше… Мазки кисти по рисовой бумаге, намек на дерево и классический иероглиф… Нет, не понимает он новые поколения.
Шкипер «Рейнджера», Нильс Киви, был для командующего как дыхание родного дома: маленький бойкий финн сопровождал Коффина и в первом полете к Эридану. Они не были друзьями, ибо адмиралу положено держать дистанцию, но их молодость прошла в одном и том же десятилетии. Вообще-то, подумал Коффин, большинство астронавтов — ходячие анахронизмы. Я мог бы поговорить разве что с Гольдбергом, или Ямато, или Перейрой, не рискуя встретить недоуменный взгляд, если случайно упомяну фамилию умершего актера или спою пару тактов забытой песенки. Но они сейчас в анабиозе. Каждый из нас по очереди выстоит годовую вахту, а затем отправится в морозильник, так что до конца путешествия поболтать нам не придется.
— А это было бы занятно, — задумчиво протянул Киви.
— Что? — спросил Коффин.
— Еще раз пройтись по Верхней Америке, половить рыбку в Императорской речке, раскопать нашу старую стоянку, — пояснил Киви. — Были на Рустаме и славные денечки, не одна только работа да опасность.
Коффин подивился тому, как близко, почти в одном русле, текли их мысли.
— Да, — сказал он, вспоминая странные и дикие закаты над Расщелиной. — Хорошие пять лет мы провели.
— На сей раз все иначе, — вздохнул Киви. — Мне не очень-то хочется туда возвращаться. Мы были первооткрывателями, мы ходили там, где не ступала нога человека. Теперь пионерами будут колонисты, а мы всего лишь извозчики.
Коффин пожал плечами. Он наслушался подобных жалоб еще до старта, и во время полета тоже. Что ж, люди, запертые в замкнутом пространстве, должны научиться терпеливо сносить ограниченность друг друга.
— Надо с благодарностью принимать то, что тебе дано, — сказал он.
— Я вот о чем беспокоюсь, — сказал Киви. — Вдруг мы вернемся домой, а нашу службу уже ликвидировали? Никаких больше космических экспедиций. Если такое случится, я отказываюсь принимать это с благодарностью.
Прости его, воззвал Коффин к своему Богу, не очень-то щедрому на прощения. Страшно, когда рассыпается в прах весь фундамент твоей жизни.
В глазах у Киви вспыхнули искорки.
— Конечно, — сказал он, — если мы прервем полет и сразу повернем обратно, мы еще можем успеть. Не исключено, что там сейчас снаряжают какие-нибудь экспедиции к звездам и включат нас в списки.
Коффин усмехнулся. И снова он не совсем понимал причину своих эмоций — на сей раз гнева и злости.
— Я никому не позволю подвергать сомнению целесообразность нашего полета, — отрезал он.
— Ах, оставьте, — сказал Киви. — Будьте же благоразумны. Я не знаю, какие побуждения подвигли вас на этот несчастный круиз. Ваш ранг позволял вам отказаться — только вам из всего экипажа, Вы ведь не меньше меня хотите отправиться в разведывательную экспедицию. Если бы Земле было на нас наплевать, она не стала бы звать нас обратно. Зачем же упускать такой шанс? — Он прервался и взглянул на стенные часы. — Пора начинать совещание! — И включил межкорабельную связь.
Видеопанель ожила четырнадцатью экранами сразу, по экрану на каждое судно. На Коффина уставились встревоженные лица. Корабли, перевозившие только груз да команду в анабиозе, были представлены своими капитанами. На экранах же судов, груженных спящими колонистами, виднелись, кроме шкиперов, еще и штатские представители.
Коффин внимательно осмотрел всех по очереди. Космолетчиков он знал. Они все входили в Сообщество, и даже родившиеся гораздо позже Коффина были чем-то на него похожи. На всех лежал отпечаток дисциплины ума и тела, а глубоко в душе — мечта, подчинившая себе всю жизнь: новые горизонты под новыми солнцами. Хотя подобного рода поэзией никто из них не увлекался, слишком много было повседневных забот.
Колонисты — дело другое. Хотя что-то общее было у Коффина и с ними. Почти все они выходцы из Северной Америки, у них научный склад ума, и они питают глубокое недоверие к правительству. Но верующих среди конституционалистов немного, да и те в основном или католики, или иудеи, или буддисты — в общем, иноверцы. И все без исключения погрязли в характерном для новой эпохи грехе потворства своим желаниям: у всех у них на скрижалях написано, что ни один закон не властен над личной моралью и что свобода слова может быть ограничена лишь там, где она переходит в клевету. Коффин порой ловил себя на мысли, что с радостью распрощается с ними навеки.
— Все готовы? — начал он. — Прекрасно, приступим к делу. Наш офицер-радист, к несчастью, оказался чересчур болтливым. Он разг> ворошил осиное гнездо… — Коффин увидел, что идиома осталась для многих непонятной. — Он возбудил недовольство, угрожающее всему проекту. Мы должны как-то решить этот вопрос.
Конрад де Смет, колонист со «Скаута», ехидно усмехнулся.
— Вы предпочли бы просто умолчать о сообщении, верно? — спросил он.
— Это упростило бы нам жизнь, — натянуто отозвался Коффин.
— Другими словами, — сказал де Смет, — вы лучше нас знаете, чего мы хотим. От подобного высокомерия, сэр, мы как раз и надеялись избавиться. Никто не имеет права утаивать информацию, важную для общества.
Тихий насмешливый голос проговорил из-под маски:
— И вы еще обвиняли Коффина в склонности к чтению проповедей!
Глаза командующего устремились к экрану с изображением женщины. Он не мог разглядеть ее под бесформенным балахоном и маской, но он встречался с Терезой Зелены на Земле, во время подготовки к полету. Ее голос вдруг вызвал у него в памяти бабье лето на лесном косогоре столетие назад. Уголки губ непроизвольно поползли кверху.
— Благодарю вас, — сказал он. — Вы полагаете, мистер де Смет, что вы знаете, чего хотят спящие колонисты? Что вы вправе за них решать? К сожалению, мы не можем разбудить их для голосования, даже если будить только взрослых. У нас попросту нет места. И регенераторы воздуха не в состоянии обеспечить столько кислорода. Вот почему я не хотел ничего сообщать до прибытия на Рустам. А оттуда желающие могли бы вернуться на Землю вместе с флотилией.
— Мы можем будить их по нескольку человек и после голосования сразу погружать в анабиоз, — предложила Тереза Зелены.
— Это займет не одну неделю, — сказал Коффин. — Вам известно лучше, чем мне, что метаболизм трудно остановить и так же трудно опять привести в норму.
— Если бы вы могли увидеть сейчас мое лицо, — сказала она, опять со смешком в голосе, — я изобразила бы на нем «аминь!». Мне так надоело возиться с безжизненной человеческой плотью, что… В общем, я рада, что все они женщины и девушки. Заставь меня кто-нибудь делать массаж и уколы мужчинам, я дала бы обет безбрачия.
Коффин покраснел и выругал себя за это. Оставалось надеяться, что на ее экране ничего не будет заметно. Он увидал, как ухмыльнулся Киви. Чтоб он провалился!
Молодой колонист подхватил шутку и добавил, что его занятие — прекрасное лекарство от гомосексуальных наклонностей. Коффин отчаянно пытался найти слова, чтобы укротить насмешников. Ни стыда, ни совести не осталось у людей! Здесь, перед лицом вечной тьмы Господней, они говорят такие вещи, за которые их следовало бы покарать ударом молнии, а он, Коффин, вынужден все это выслушивать.
К счастью, Киви переменил тему:
— Будить колонистов по группам бессмысленно. За несколько недель мы уже минуем критическую точку.
— Какую точку? — спросил девичий голос.
— Вы не знаете? — изумился Коффин.
— Вы ей потом объясните, — вмешалась Тереза. И снова, как и раньше, Коффин подивился ее решительности. Она отсекала все несущественное с мужской прямотой и женской практичностью. — Просто поверь нам на слово, Джун, что, если мы не повернем назад в течение ближайших двух месяцев, нам придется продолжить полет к Рустаму. Значит, голосование отпадает. Мы могли бы разбудить несколько человек, но для статистики с таким же успехом сгодятся и те, что бодрствуют.
Коффин кивнул. Она говорила о пяти женщинах на своем корабле, стоявших годовую вахту и заботившихся о 295 спящих колонистках. За время перелета только 120 из них не будут разбужены для несения вахты — 120 детей. Пропорция на остальных девяти кораблях с колонистами была приблизительно такая же, в то время как экипаж всех судов насчитывал 1620 человек, 45 из которых бодрствовали одновременно. Будет ли жребий брошен двумя процентами человек или четырьмя-пятью — большой разницы нет.
— Давайте вспомним точно, что говорилось в сообщении, — сказал Коффин. — Декрет об образовании, непосредственно угрожавший вашему конституционалистскому образу жизни, отменен. Вы теперь не в худшем положении, чем до старта, но и не в лучшем, хотя в послании есть намеки на будущие уступки. Вас приглашают вернуться домой. Вот и все. Больше передач нам поймать не удалось. Согласитесь, для принятия такого ответственного решения, как возвращение, данных маловато.
— Решение о продолжении полета еще более ответственно, — возразил де Смет. Большой, нескладный, он склонился вперед, пока не занял весь экран. В голосе его зазвенел металл. — Мы люди способные, материально обеспеченные. Смею надеяться, Земле уже недостает наших услуг, особенно в области техники. Судя по вашему собственному отчету, Рустам — суровое место. Многие из нас там погибнут. Почему бы не повернуть домой, если есть такая возможность?
— Домой, — прошептал кто-то.
Слово наполнило внезапную тишину, как вода наполняет чашку, пока тишина не выплеснулась через край. Коффин сидел, прислушиваясь к голосу корабля — его генераторов, вентиляторов, регуляторов, — и вдруг уловил в их шуме новую частоту: домой, домой, домой.
Только у него нет дома. Отцовская церковь разрушена, да ее месте восточный храм; леса, где горел октябрь, расчищены под новые отростки города, а залив огорожен и превращен в планктонную ферму. Все, что у него осталось, — это корабль и несколько отвлеченная надежда на небеса.
Совсем молоденький юноша сказал, скорее сам себе, чем окружающим:
— У меня там осталась подружка.
— А у меня — подлодка, — откликнулся другой. — Я ходил на ней вокруг Большого Барьерного рифа, нырял с аквалангом из люка и всплывал на поверхность. Вы не поверите, какими голубыми бывают волны! На Рустаме, говорят, невозможно спуститься с горных вершин.
— Зато у нас будет целая планета, — сказала Тереза Зелены.
Человек с тонким лицом ученого ответил ей:
— В том-то вся и проблема, дорогая моя. Три тысячи колонистов, включая детей, абсолютно изолированные от магистральной линии развития человечества. Можем мы надеяться создать свою цивилизацию? Или хотя бы не деградировать?
— Вся ваша проблема, папаша, — сухо заметил стоявший рядом с ним офицер, — заключается в том, что на Рустаме нет средневековых манускриптов.
— Не стану спорить, — сказал филолог. — Больше всего я хочу, чтобы мои дети выросли мыслящими людьми. Однако, похоже, теперь они могут сделать это и на Земле… А будет ли у первых поколений на Рустаме возможность спокойно посидеть и подумать?
— Будут ли на Рустаме следующие поколения вообще?
— Сила тяжести на целую четверть больше земной. Господи! Я уже сейчас ее чувствую!
— И синтетика, год за годом синтетика и гидропоника, пока мы не установим экологическое равновесие. На Земле хоть иногда удавалось полакомиться бифштексом.
— А моя мама не смогла лететь, она у меня слишком слабенькая. Но она заплатила за сто лет анабиоза, все свои сбережения отдала… Просто на случай, если я все же вернусь.
— Я проектировал супернебоскребы. На Рустаме мне светят разве что бревенчатые срубы.
— А помните лунный свет над Гранд-Каньоном?
— А помните, как исполняли Девятую симфонию Бетховена в Федеральном концертном зале?
— А помните тот потешный кабачок на Среднем уровне, где мы пили пиво и распевали старинные романсы?
— А помните?
— А помните?
Тереза Зелены закричала, перекрывая их голоса:
— Во имя Анкера! О чем вы говорите? Если вам так неохота лететь, зачем вы вообще садились на корабль?
Они угомонились — не сразу, постепенно, пока Коффину не удалось наконец стукнуть по столу и призвать всех к порядку. Он поглядел Терезе прямо в глаза и сказал:
— Спасибо, мисс Зелены. Я боялся, что с минуты на минуту слезы хлынут потоком.
Одна из девушек всхлипнула под маской.
Чарльз Локабер, представитель колонистов «Курьера», кивнул:
— Конечно, это удар по нашей решимости. Я и сам, быть может, не стал бы голосовать за продолжение полета… Да только сомневаюсь я, стоит ли доверять сообщению на все сто.
— Что? — Квадратная голова де Смета, втянутая в плечи, подскочила вверх.
Локабер безрадостно усмехнулся.
— Правители с каждым годом становятся все деспотичнее, — сказал он. — Они отпустили нас, что верно, то верно. Но теперь, возможно, пожалели — не потому, что мы представляем собой непосредственную для них угрозу, а потому, что мы будем примером неблагонадежности для других. Или просто потому, что мы будем. Заметьте, я вовсе не уверен. Но они вполне могли решить, что мертвые мы будем надежнее, и хотят хитростью заманить нас обратно. Для диктаторов такое поведение вполне характерно.
— Самый фантастический бред, который я когда-либо… — возмущенно воскликнул женский голос.
— Не такой уж фантастический, как вам кажется, дорогая, — сказала Тереза. — Я немного изучала историю — настоящую, а не ту цензурованную кашку, что нынче подают под видом истории… Для нас тут есть еще одна опасность. Сообщение может быть совершенно правдивым. Но останется ли оно в силе, когда мы вернемся? Не забывайте, сколько времени пройдет. И даже если бы мы могли вернуться завтра и Земля встретила бы нас с распростертыми объятиями, кто из вас поручится, что наши дети и внуки не столкнутся с теми же проблемами, не имея, подобно нам, возможности вырваться на волю?
— Значит, вы голосуете за Рустам? — спросил Локабер.
— Да.
— Благослови нас Господь! Я с вами.
Киви поднял руку. Коффин заметил его жест и произнес:
— Думаю, экипаж тоже нельзя лишать права голоса в этом вопросе.
— Что?! — Де Смет побагровел. Подавился словами, клокоча от возмущения, и наконец выплюнул: — Вы всерьез считаете, что имеете право проголосовать за то, чтобы оставить нас в этой пристройке к аду, а потом благополучно смотаться на Землю?
— Вообще-то, — улыбнулся Киви, — экипаж, по-моему, предпочел бы вернуться сразу. Я лично…
— Я объяснил вам, как недальновиден ваш подход, — вмешался Коффин. — Космические полеты никогда не приносили барышей. Они были научными авантюрами, исследованиями в чистом виде, если хотите. И они скоро заглохнут, если люди не будут в них заинтересованы. Успешное основание колонии на Рустаме вдохновит Землю на снаряжение новых разведывательных экспедиций.
— Это вы так думаете, — парировал Киви.
— Надеюсь, вы осознаете, — с неприкрытым сарказмом проговорил совсем молоденький юноша, — что с каждой секундой наших дебатов мы удаляемся от дома на 150 тысяч километров.
— Не берите в голову, — посоветовал ему Локабер. — Что бы мы ни делали, ваша подружка превратится в старую грымзу раньше, чем мы доберемся до Земли.
Де Смет все еще шипел на Киви:
— Ты, извозчик паршивый, ты считаешь себя вправе играть нами, как пешками…
— А ты выбирай выражения, пень неотесанный! — окрысился Киви. — Не то я вобью их тебе обратно в глотку!
— Молчать! — крикнул Коффин. — Молчать!
— Пожалуйста! — эхом подхватила Тереза. — Во имя наших собственных жизней… Вы что, забыли, где мы находимся? Между нами и вечностью всего лишь несколько сантиметров! Пожалуйста, здесь не место для драк, иначе мы вообще не увидим ни одной планеты!
Ее слова не звучали ни мольбой, ни плачем. Они были скорее материнским увещеванием (неожиданным для незамужней женщины) и успокоили разъяренных мужчин быстрее, чем окрики Коффина.
Командующий флотилией подвел черту:
— Все, хватит. Мы чересчур возбуждены и не способны мыслить здраво. Продолжим совещание через четыре вахты, то есть через шестнадцать часов. Обсудите вопрос со своими попутчиками, поспите немного, а на следующем собрании изложите общую точку зрения.
— Шестнадцать часов! — ахнул кто-то. — Вы представляете, сколько времени обратного пути они нам прибавят?
— Вы слышали, что я сказал, — отрезал Коффин. — Желающие поспорить могут заняться этим на гауптвахте. Все свободны.
Он выключил видеопанель.
Киви, уже успокоившись, улыбнулся ему исподтишка:
— Суровый отеческий нагоняй не дает осечки, верно?
Коффин встал из-за стола.
— Я ухожу, — сказал он, и собственный голос показался ему хриплым и незнакомым. — Продолжайте полет.
Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким, — даже в ту ночь, когда умер отец. О Господи, Ты, что говорил с Моисеем в пустыне, яви ныне волю Твою! Но Господь молчал, и Коффин почти бессознательно отправился туда, где надеялся найти поддержку.
Глава 3
Одевшись в скафандр, Коффин помедлил немного в воздушном шлюзе перед выходом. Двадцать пять лет он уже был астронавтом — сто лет, если прибавить время, проведенное в анабиозе, — но до сих пор не мог без трепета предстать лицом к лицу перед творением Господним.
Бескрайняя тьма мерцала звездами, уводя взгляд все дальше и дальше, вплоть до яркого потока Млечного Пути, и еще дальше, простираясь вглубь другими галактиками и скоплениями галактик, свет от которых, пойманный телескопом сегодня, родился раньше Земли. Глядя из пещеры воздушного шлюза за локаторы и вереницу кораблей, Коффин почувствовал себя растворенным в ледяной беспредельности и абсолютном безмолвии. Но он знал, что эта пустота пылает и гудит смертоносной энергией, играет потоками пыли и газа, более массивными, чем планеты, и в муках рожает новые солнца; и он произнес вслух самое страшное имя: «Я есмь Сущий»[6], и капли холодного пота выступили под мышками.
Все это мог увидеть человек в пределах Солнечной системы. Полет же с полусветовой скоростью уносил сознание в такие дали, что порой оно не выдерживало нагрузки, и тогда еще одного лунатика погружали в анабиоз. Ибо движение искажало всю картину космоса, сгоняя толпы звезд прямо к носу, так что корабли рассекали пылающее звездное облако адской допплеровской синевы. Созвездия тоненькой полоской лежали на траверзе, а в боковых иллюминаторах был кромешный мрак. За кормой по-прежнему ярко сияло Солнце, но с каким-то зловещим красноватым оттенком, точно оно уже состарилось и скитальца по возвращении домой ожидала заледеневшая планета.
«Что значит человек, что Ты помнишь его?»[7] Строка принесла привычное успокоение; ведь и его, Коффина, бренную плоть, создавал Творец солнц атом за атомом, и меньше всего желал Он, чтобы душа человеческая была обречена на вечные муки. Коффин никогда не понимал, как его коллеги-атеисты выносят открытый космос.
Что ж, пора…
Он нацелился на ближайший корпус и выстрелил из маленького пружинного арбалета. Легкий линь размотался вслед за магнитной стрелой. Коффин машинально проверил прочность каната, подтянулся к соседнему кораблю, отцепил стрелу и выстрелил снова — и так от одного судна к другому, пока не добрался до «Пионера».
Неуклюжий уродливый корабль встал надежной стеной между Коффином и звездами. Астронавт проплыл мимо ионных трубок, ныне холодных. Хрупкие, скелетообразные — просто невозможно было поверить, что они выбрасывали из себя поток ионизированных атомов со скоростью, лишь вполовину меньшей скорости света. Вокруг судна опухолями выпячивались баки с реактивной массой. С учетом расходов на торможение (плюс небольшой запас) массовое соотношение составляло примерно девять к одному, то есть девять тонн топлива на каждую тонну, которой предстояло достигнуть эпсилона Эридана. Чтобы очистить достаточное количество реактивного материала на обратный путь, потребуются месяцы работы на Рустаме. А свободная часть экипажа будет тем временем помогать основывать колонию.
Если колонии вообще суждено состояться.
Коффин добрался до наружного люка и нажал на «дверной звонок». Внешний клапан открылся, и командующий очутился на борту. Капитан Карамчанд встретил его, помог выбраться из скафандра. Дежурный офицер под каким-то предлогом подплыл поближе, чтобы послушать, ибо однообразие жизни на судне разъедало душу не меньше, чем беспредельность и отчужденность космоса.
— О, сэр! Что привело вас сюда?
Коффин собрался с духом и выпалил резким от смущения тоном:
— Я хочу видеть мисс Зелены.
— Конечно. Но зачем идти самому? Я хочу сказать: телесвязь…
— Лично! — рявкнул Коффин.
— Что?
Дежурный офицер попятился и быстренько исчез, опасаясь скандала. Коффин не удостоил его даже взглядом.
— Срочно, — бросил он капитану. — Пожалуйста, свяжитесь с ней и организуйте нам конфиденциальную встречу.
— Нуда… нуда… Слушаюсь, сэр. Сей момент. Будьте любезны, подождите, пожалуйста, здесь… Я хочу сказать… Будет сделано, сэр!
Карамчанд умчался по коридору.
Коффин криво усмехнулся. Этим бедолагам можно посочувствовать. Он сам установил закон насчет женщин — твердый, как сталь, — а теперь сам же его нарушает.
Нужен ли вообще был этот закон? Коффин не мог сказать с уверенностью. До сих пор женщины ходили в космос лишь в пределах Солнечной системы и на отдельных кораблях. Межзвездных прецедентов не существовало. Тем не менее казалось очевидным, что за спящими в анабиозе колонистками должны ухаживать женщины, а мужчин к ним подпускать не следует (и наоборот). Но не будет ли свободное общение бодрствующих мужчин и женщин еще более взрывоопасным? Коффин решил изолировать дам от греха подальше в своего рода гарем и не будить супружеские пары одновременно.
Для здорового мужика и так нелегко осознавать, что женщина лежит в нескольких километрах от него. Нелегко глядеть на нее, спрятанную под маской, во время телесовещаний. (А может, маски только ухудшают дело, подогревая воображение? Кто знает?) В общем, лучшее, что можно было сделать, — это задраить жилые помещения и морозильные камеры, дабы не дразнить экипаж, а космолетчиков отправлять на женские суда только отстаивать вахты: пускай возвращаются обедать и спать на свои корабли. А потом оставалось лишь молить Всевышнего, чтобы твои распоряжения оказались правильными, да надеяться, что сатана не возьмет реванш, когда всех колонистов разбудят на Рустаме.
Коффин взял себя в руки. Закон потерял бы силу, если бы, например, в нас ударил большой метеорит. А послание с Земли гораздо опаснее. Поэтому не волнуйся о том, кто что подумает.
Карамчанд вернулся, отдал честь и, запыхавшись, отрапортовал:
— Мисс Зелены примет вас, капитан. Сюда, пожалуйста.
— Благодарю.
Коффин Проследовал к главному люку. Ключи от него были только у женщин, но сейчас дверь стояла нараспашку. Коффин с такой силой протиснулся в нее, что пролетел до противоположной стены и отскочил рикошетом.
Тереза засмеялась. Закрыла дверь, заперла ее на ключ.
— Исключительно ради спокойствия экипажа, — сказала она. — Бедняжки мужчины с их благими намерениями! Добро пожаловать, капитан.
Он с опаской обернулся к ней. Мешковатый балахон, слава Богу, по-прежнему скрывал фигуру, но маску она сняла. Красавицей ее не назовешь, подумал Коффин: курносая, с квадратной челюстью, почти уже старая дева. Но улыбка приятная.
— Я… — он не находил слов.
— Идите за мной. — Она повела его по короткому коридору, хватаясь руками за скобы. — Я предупредила девушек, чтобы не высовывались, так что не бойтесь.
В конце коридора был отгороженный переборкой отсек. Взять с собой на корабль можно было не так уж много вещей, но Терезе удалось придать отсеку индивидуальность с помощью картин, микроплейера, томиков Шекспира и Анкера. У нее были записи Баха, Бетховена и Рихарда Штрауса — музыки, в которой вечно открываешь что-то новое. Тереза, придерживаясь за опору, кивнула, внезапно посерьезнев:
— Зачем вы хотели меня видеть, капитан?
Коффин обнял опору согнутой рукой и уставился на свои ладони. Пальцы напряженно прижались друг к другу.
— Хотел бы я дать вам четкий ответ, — сказал он вполголоса, с трудом выговаривая слова. — Я никогда не сталкивался с подобной проблемой. Если бы дело касалось только мужчин, думаю, я бы справился. Но с нами женщины… и дети.
— И вы хотите услышать женскую точку зрения. Вы мудрее, чем я думала. Но почему вы выбрали меня?
Он заставил себя посмотреть ей в глаза.
— Вы показались мне самой разумной из всех бодрствующих женщин.
— Серьезно? — Она засмеялась. — Благодарю за комплимент, но неужели обязательно преподносить его таким суровым торжественным тоном да еще буравить меня глазами насквозь? Расслабьтесь, капитан. — Она вскинула голову, разглядывая его. — У меня тоже есть к вам вопрос. Некоторые девушки никак не могут понять этот фокус с критической точкой. Я пыталась объяснить, но я всего лишь дипломированная медицинская сестра и не сильна в математике, так что, боюсь, я только окончательно задурила им головы. Вы в состоянии объяснить суть вопроса в двух словах?
— Вы имеете в виду точку равновременья?
— Точку невозвращенья, как у нас ее называют.
— Ерунда! Это просто… Ну хорошо, слушайте. В общем, мы стартовали от Солнца с ускорением в одну силу тяжести. Быстрее разогнаться мы не осмелились, хотя и могли, потому что многие детали оборудования на корабле сделаны из легких сплавов в целях уменьшения массы. Морозильные камеры, например, развалились бы и люди, спящие в них, погибли, стоило нам только увеличить ускорение до полутора g. Ну вот, значит. Максимальной скорости мы достигли через 180 дней и за это время преодолели расстояние чуть меньше полутора световых месяцев. Теперь мы проведем почти сорок лет в свободном падении. (Сорок лет по космическому времени. Благодаря парадоксу временной относительности на корабле пройдет тридцать пять лет. Но это неважно.) В конце путешествия мы будем сбрасывать ускорение по одному g в течение 180 дней и пролетим последние полтора световых месяца до эпсилона Эридана, а затем войдем в пределы Солнечной системы на относительно низкой скорости. Наша межзвездная орбита была тщательно рассчитана, но неизбежные ошибки могут достигнуть многих астрономических единиц. К тому же нам придется маневрировать, выводить корабли на орбиту вокруг Рустама, посылать туда и обратно челночные ракеты. Поэтому мы везем с собой запас реактивной массы, который позволит нам изменить скорость приблизительно до 1000 километров в секунду.
А теперь представьте, что мы решили повернуть назад сразу по достижении максимальной скорости. Сбрасывать ускорение мы все равно сможем только в пределах одного Значит, мы проторчим в космосе год и удалимся от Солнца почти на четверть светового года, пока достигнем относительного покоя и сможем тронуться в обратный путь. Чтобы пройти эти три световых месяца со скоростью 1000 километров в секунду, понадобится примерно 72 года. А на все путешествие до Рустама и обратно с годовой стоянкой на планете уйдет около 82 лет!
Ясно, что, когда критическая точка будет пройдена, вернуться домой можно будет быстрее, если придерживаться первоначального курса. Этот переломный момент наступит в нашем случае через восемь месяцев после начала свободного падения, или через четырнадцать месяцев после старта. Нам осталось до него два месяца. Если мы повернем назад прямо сейчас, нам все равно придется добираться до Земли лет этак 76. Каждый день ожидания прибавляет к обратному пути месяцы. Неудивительно, что людям не терпится!
— Понимаю, — сказала она. — Желающие вернуться боятся, что упустят время и их родная Земля ускользнет в небытие, изменится до неузнаваемости. Но неужели они не понимают, что это уже произошло?
— Наверное, они боятся понять, — сказал Коффин.
— Вы продолжаете удивлять меня, капитан, — сказала Тереза со своей привычной полуусмешкой. — Вы, оказывается, не лишены обыкновенного человеческого сострадания!
Ты и сама не лишена его, отстранений подумал Коффин каким-то уголком сознания. Ты специально заставила меня прочесть лекцию, наполненную сухими цифрами, чтобы помочь мне преодолеть неловкость. Но он ничего не имел против. Теперь он спокойно чувствовал себя с ней наедине и разговаривал как с другом.
— Меня поражает сам факт, — сказал он, — что вообще нашлись желающие повернуть назад, не говоря уже о том, как много их оказалось. Ведь мы сэкономим максимум семь лет, даже если повернем немедленно. Почему бы просто не долететь до Рустама и там уже решить, что делать?
— По-моему, это невозможно, — сказала Тереза. — Видите ли, ни один нормальный человек не жаждет быть пионером. Разведчиком — да; первопоселенцем в новой богатой стране с известными и ограниченными трудностями — да; но не безумным игроком, рискующим своими детьми и будущим всего своего рода. Проект колонизации был вынужденным результатом неразрешимого конфликта на Земле. Если конфликт исчерпан…
— Но… Вы и Локабер… Вы сами сказали, что он не исчерпан. Что в лучшем случае Земля дает вам передышку.
— И все же людям хочется верить в обратное, так ведь?
— Хорошо, — сказал Коффин. — Но некоторые из колонистов, пребывающих ныне в анабиозе, безусловно согласились бы с вами и проголосовали за продолжение полета. Почему бы не доставить их на Рустам? Это было бы только справедливо. А желающие вернуться смогут отправиться вместе с флотилией.
— Как бы не так! — Она покачала головой, и короткие пряди волос рассыпались легкимвьжшнами, а свет заиграл в них отблесками цвета красного дерева. — Я изучила ваши отчеты. Горсточка людей не выживет на Рустаме. Три тысячи — необходимый минимум. Решение должно быть единодушным, каким бы оно ни было.
— Я надеялся избежать подобного вывода, — проговорил он устало, — но, похоже, не вышло. О'кей. Почему они не хотят взглянуть на Рустам; а тогда уже голосовать? Трусы должны понимать, что за ними большинство. Они могут себе позволить честную игру.
— Нет. И я скажу вам почему, капитан. Я хорошо знаю Конрада де Смета и одного или двух других возвращенцев. Они хорошие люди. Зря вы называете их трусами. Просто они убеждены, и совершенно искренне, что нам лучше вернуться. Чисто интуитивно они наверняка понимают, что, если мы прилетим на Рустам, их шансы резко упадут. Я видела ваши фотографии, капитан. Как бы ни был Рустам опасен и суров, он настолько прекрасен, что мне не терпится увидеть его наяву. Там простор, свобода, чистый воздух. Мы вспомним все, что ненавидели на Земле; содрогнемся при мысли о погружении в анабиоз; более трезво, нежели теперь, когда мы сыты космосом по горло, взвесим перспективу долгого возвращения на Землю и обдумаем, насколько приемлемая ситуация может нас там ожидать. Не считая повышенной силы тяжести, а ее мы почувствуем в полной мере, лишь занявшись тяжелым ручным трудом, мы не успеем столкнуться на Рустаме ни с какими трудностями, тогда как трудности космического перелета и земные неприятности будут еще свежи в памяти. Многие колонисты передумают и проголосуют за колонию. Возможно, большинство. Де Смет это знает и не хочет рисковать. Ведь Рустам и его самого может покорить!
— После нескольких дней торможения, — задумчиво пробормотал Коффин, — реактивной массы хватит лишь на обратный путь до Солнца.
— Де Смет знает и об этом, — сказала Тереза. — Капитан, вы можете принять волевое решение и не отступать от него. Не зря же вы командующий флотилией. Однако не забывайте, как мало на свете людей, кому такое под силу. Большинство из нас надеется, что некто или нечто придет и скажет, что нам делать. Даже под жестким давлением принять решение о полете на Рустам было нелегко. А теперь, когда появился шанс отменить решение и вернуться домой, в привычный безопасный уют — несмотря на реальный риск, что, когда мы доберемся до Земли, она перестанет быть безопасной и уютной, — нас заставляют решать все сызнова. Это же мучение, капитан! Де Смет и его сторонники в своем роде сильные люди: они вынудят нас принять необратимое решение, и сделают это быстро — просто потому, что оно будет окончательным. Как только мы действительно повернем назад, будущее перестанет зависеть от нас. И можно будет не терзаться больше мыслями.
Коффин взглянул на нее с некоторым удивлением:
— Но вы, по-моему, довольно спокойны.
— Я приняла решение там, на Земле. И не вижу причин менять его.
— А что решили женщины? — спросил он, прячась за укрытие безликого множественного числа.
— Большинство за возвращение, конечно. — Нежность тона смягчила суровый приговор. — Они полетели только потому, что так решили их мужья. Женщины чересчур практичны, их не волнует философия, освоение пространства и тому подобные вещи. Для них главное — это семья.
— И для вас тоже? — бросил он вызов.
Она задумчиво пожала плечами:
— У меня нет семьи, капитан. И в то же время что-то — чувство юмора? — не позволило мне сублимировать ее в Дело какого-либо рода. — И, переходя в контратаку: — Почему вас так волнует наше мнение?
— Почему? — Он вдруг почувствовал, что начинает заикаться. — По-по-потому, что я в ответе за…
— Да, конечно. Но вы ведь пробивали идею Рустамской колонии годами. А потом приняли на себя неблагодарную задачу командования колониальной флотилией, вместо того чтобы заняться своим настоящим делом, то есть отправиться к какой-нибудь новой, еще не исследованной звезде. По-видимому, Рустам многое для вас значит. Не волнуйтесь, я не стану подвергать вас психоанализу. Я и сама считаю основание колонии делом чрезвычайной важности. Если человечество прошляпит свой шанс, следующего оно может и не дождаться. Но это чисто теоретические рассуждения. А почему колония так важна для меня лично? Видимо, она отвечает каким-то моим глубинным потребностям, не иначе. Давайте смотреть правде в глаза, капитан. Ни вы, ни я не в состоянии относиться к этому хладнокровно. Нам очень хочется, чтобы колония состоялась. — Она умолкла и рассмеялась, залившись румянцем. — Ох, Боже мой, я настоящая болтушка! Извините меня. Давайте-ка вернемся к делу.
— Мне кажется, — медленно, через силу выдавил Коффин, — Благодаря вашим рассуждениям я начинаю понимать, в чем тут суть.
Она внимательно слушала, откинув голову.
Он обхватил опору ногой, чтобы удержать на месте свое сухопарое тело, и стукнул кулаком по ладони:
— Видит Бог, все дело и впрямь в наших чувствах. — Слова проясняли мысли, помогая им обрести форму. — Логика здесь абсолютно ни при чем. Некоторые из колонистов так сильно жаждали попасть на Рустам, что поставили на кон свои жизни и жизни своих жен и детей. Другие же полетели нехотя, вопреки собственному инстинкту самосохранения, и теперь, увидав путь к отступлению, причем вполне оправданный путь, они сметут любого, кто встанет у них на дороге. Да. Скверная ситуация. Но как бы там ни было, скоро придется принять решение. Мы не имеем права скрывать от людей факты. Каждый спящий должен быть разбужен и приведен в чувство теми, кто бодрствует. Год за годом право голоса должно переходить от одной группы колонистов и космолетчиков к другой. Иначе, какое бы решение мы ни приняли, они все равно придут в ярость, узнав, что ими распорядились без их ведома. И ярость — это еще слабо сказано. Вперед или назад, любой избранный нами путь пройдет по человеческим сердцам. А межзвездное пространство способно сломить самого спокойного человека… Сколько времени пройдет, пока процент недовольных, неуравновешенных и полубезумных не превысит допустимого уровня? Господь всемогущий, наставь нас на путь истинный, или мы погибнем!
Коффин прерывисто вздохнул.
— Извините, — прошептал он еле слышно. — Я не должен был…
— Изливать душу? Почему бы и нет? — спокойно сказала она. — Разве лучше быть железным капитаном до конца, а потом в один прекрасный день пустить себе пулю в висок?
— Поймите, — проговорил он с отчаянием, — я в ответе за них! За мужчин, женщин… детей… Но мне придется погрузиться в анабиоз. Я сойду с ума, если буду бодрствовать всю дорогу, организм такого не выдержит. Я буду спать, беспомощный и бессильный, а ведь эти корабли были доверены мне!
Его затрясло. Она взяла его руки в свои, и они долго молчали вдвоем.
Глава 4
Покидая «Пионер», Коффин чувствовал себя опустошенным, точно он вскрыл свою грудную клетку и выпотрошил сердце и легкие. Но мозг его работал четко, как машина. И за это он был благодарен Терезе. Она помогла ему взглянуть правде в глаза. Правда оказалась жестокой, но игнорировать ее означало обречь экспедицию на гибель.
А так ли это? Коффин, теперь уже трезво и без эмоций, взвесил все «за» и «против». Или флотилия летит на Рустам, или поворачивает назад. Во втором случае, хотя вероятность выживания не поддается точному процентному выражению, шансов у них будет немного. Безусловно, больше чем пятьдесят на пятьдесят, однако ни один капитан не пойдет на такой риск, если сможет его избежать.
Но как избежать?
Подтягивась к «Рейнджеру» Коффин не отрывал взгляда от паутины локаторов, а она все росла и росла на глазах, пока не поймала в свои сети дугу Млечного Пути. Такая тонкая сеть — и сколько от нее неприятностей! Нужно было вырубить локаторы перед торможением. Небольшая поломка — дело нехитрое. Но теперь уже поздно. Если бы только я знал!
Или если бы кто-нибудь на Земле, враг либо друг-дурак, пославший сообщение… Если бы он взял да отправил еще одну весточку: «Предыдущая передача ошибочна. Декрет об образовании по-прежнему в силе». В общем, что-нибудь в этом роде. Как же, держи карман шире! Чудес не бывает. Человек сам кузнец своего счастья.
Коффин вздохнул и стукнул подошвами по шлюзу флагмана.
Мардикян помог ему зайти. Сняв заиндевевший шлем, Коффин увидел дрожащие губы радиста. За несколько часов Мардикян постарел на несколько лет.
На нем было белое медицинское одеяние. Без всякой надобности, лишь бы нарушить гнетущую тишину, Коффин спросил:
— Собрались на дежурство в морозилку?
— Да, сэр, моя очередь, — промямлил радист, помогая укладывать на место громыхающий скафандр. — Нам скоро понадобится еще немного этанола, капитан, — добавил он несчастным голосом.
— Зачем? — буркнул Коффин. Он частенько жалел, что нельзя вообще обойтись без спирта, и держал ключи от канистры при себе. Некоторые капитаны позволяли экипажу во время полета небольшой рацион спиртного, уверяя Коффина, что риска туг никакого нет, а дело все исключительно в его предубеждении. («Что, черт возьми, может случиться на межзвездной орбите? Вахты вообще нужны только потому, что машины для ухода за спящими массивнее, чем парочка лишних членов экипажа. Почему не позволить человеку после дежурства расслабиться за стаканчиком грога? Ладно, ладно, уймись, абстинент несчастный! Слава Богу, я не летаю у тебя под началом!»)
— Гаммагенный фиксаж… и тому подобное… сэр, — запинаясь, пробормотал Мардикян. — Мистер Холлмайер напишет заявки.
— О'кей. — Коффин поймал испуганный взгляд радиста и спросил: — Больше передач не было?
— С Земли? Нет, сэр. Я… Я и не ожидал ничего подобного. Мы уже за… за… за пределами сообщения. Чудо, что ту удалось поймать. А чтобы еще одну… — Мардикян растерянно умолк.
Коффин не спускал с него глаз.
— Сильно они тебя допекли?
— Кто?
— Локабер и прочие сторонники продолжения полета. Они наверняка хотели, чтобы у тебя хватило ума не трепать языком или хотя бы посоветоваться сначала со мной. А другие, вроде де Смета, утверждали обратное. Не очень приятно оказаться в центре шторма, даже если это телешторм, а?
— Да, сэр…
Коффин отвернулся. Хватит мучить беднягу, ему и так досталось. Что случилось, то случилось. И чем меньше людей будут сознавать опасность и оттого пребывать в постоянном напряжении, тем меньше будет сама опасность.
— Избегайте подобных диспутов, — приказал Коффин. — А главное, не увлекайтесь размышлениями, не то доразмышляетесь до нервного срыва. Вы свободны.
Мардикян сглотнул слюну и отправился на корму.
Коффин поплыл в поперечном направлении. Судно вокруг него тихо урчало.
Сейчас не его вахта, а делить с кем-то рулевую рубку не хотелось. Надо бы немного поесть, но при мысли о еде сразу стало тошно; поспать бы, вот что надо, да разве тут заснешь? Сколько, интересно, времени он провел с Терезой, пока она прочищала ему мозги и утешала как могла? Пару часов, наверное. Значит, до встречи с представителями экипажа и колонистов осталось часов четырнадцать. И все это время флотилия будет бурлить.
На Земле, подумал он устало, выбор между продолжением пути и возвращением домой не довел бы людей до белого каления, даже если бы временные факторы остались теми же. Но Земля давно обжита. Подобные дилеммы могли возникнуть разве что много веков тому назад, когда несколько парусных судов устремились по волнам навстречу неизвестности, куда-то на край света. И правда, разве команда Колумба не была на грани мятежа? Но даже неисследованная, населенная легендарными чудищами Земля не была так сурова, как космос; и каравеллы не были так чужеродны, как космические корабли. Медики давно уже установили, что отсутствие внешних раздражителей очень быстро приводит к возникновению галлюцинаций — а полет на замкнутом, стерильном, со всех сторон окруженном пустотой космическом корабле через месяц-другой начинал действовать на психику примерно как плавание с завязанными глазами в бочке с теплой водичкой. Тронуться умом среди звезд куда легче, чем посреди океана: там перед глазами солнце и луна, ветер и дождь, неутомимо бегущие волны, есть надежда или рыбку поймать, или остров увидеть. Ни для кого не секрет, что к концу годовой вахты астронавты немного не в себе.
А если столь шаткому сознанию еще подкинуть для размышлений мучительную дилемму…
Коффин, вздрогнув, обнаружил, что забрел к радиорубке.
Он вплыл в тесную каморку. Одна стена радиорубки сплошь была занята сияющей электронной панелью, а все остальное пространство забито стеллажами с аппаратурой, инструментами, всякими приборами, деталями и полуразобранными блоками, предназначенными для каких-то специальных надобностей. Радист как таковой не очень-то и нужен был флотилии. Любой космолетчик мог справиться с радиоаппаратурой, а офицеры проходили углубленный курс по электронике. Но Мардикян как-то прижился здесь и оказался человеком сознательным, ответственным и хорошим специалистом.
Беда только, что человеком.
Коффин приблизился к главному приемнику. Между катушками медленно ползла пленка, на которую записывалось все, что попадало в сети локаторов. Коффин взглянул на пюпитр. Мардикян записал там полтора часа назад: «Передач не было. Пленка стерта и перезаряжена. 15 часов 30 минут». Может, с тех пор… Коффин щелкнул переключателем. Сканер быстро просмотрел записи, обнаружил там только космический шум — ничего похожего на упорядоченный код или речь — и проинформировал человека.
А что, если просто…
Коффин оцепенел. Уставившись пустыми глазами в пространство, он дрейфовал между приборами, почти не отличаясь от них. Только учащенное тяжелое дыхание выдавало в нем человека.
Господи, укажи мне путь истинный!
Где он, этот путь?
Я боролся бы с ангелом Твоим, пока не нашел бы ответ. Но времени нет. Господи, не гневайся на раба Твоего за то, что у меня нет времени!
Мучительные сомнения остались позади. Коффин принялся за дело. Решение будет принято через четырнадцать часов. Чтобы повлиять на него, передача должна прийти до собрания. Не слишком рано, но и не в последний момент. Часов одиннадцать у него в запасе есть.
Какой текст сочинить? Перечитывать предыдущее сообщение нужды не было, оно отпечаталось в памяти: Земля приглашала вернуться и обсудить все проблемы. Послание было поневоле лаконичное, с минимальной словесной избыточностью, что всегда увеличивает риск неправильного толкования.
Коффин, закрепившись у клавиатуры, начал набирать слова, стер их, начал снова, потом опять и опять. Простое опровержение предыдущей передачи не годится, слишком уж кстати оно првдет. А подозрение, терзая людей на протяжении годовой вахты, способно свести с ума не хуже, чем прямая уверенность в предательстве. Итак…
«Поскольку флотилия приближается к точке равновременья, действовать необходимо безотлагательно. Планы колонизации отменяются. Приказываем экспедиции — повторяю: приказываем — вернуться на Землю. Декрет об образовании аннулирован (человек, передающий сообщение, не может быть уверен в том, что первый радиолуч был пойман), апелляции о дальнейших уступках будут рассмотрены надлежащими инстанциями. Напоминаем конституционалистам, что их первейший долг — отдать свои силы на благо служения обществу».
Годится? Коффин прочел текст еще раз. Он не противоречит первому посланию, только превращает приглашение в приказ, будто кто-то с каждым часом все больше теряет терпение. (А картина нарастающего правительственного хаоса вряд ли кому покажется привлекательной, верно?) Фраза насчет «надлежащих инстанций» подчеркнет, что на Земле свободы слова по-прежнему нет и что бюрократы могут возобновить действие школьного декрета, как только захотят. Напыщенность же последнего предложения должна вызвать раздражение у людей, повернувшихся спиной к тому, во что превратилось земное общество.
Хотя кое-что можно подправить… Коффин вернулся к работе.
Записав окончательный вариант, он с изумлением обнаружил, что прошло уже два часа. Так много? На корабле было совсем тихо. Чересчур тихо. Коффин с запоздалым ужасом осознал, что его могли застукать в любую минуту.
Пленка крутилась весь день, но обычно ее проверяли и стирали каждые шесть или восемь часов. Коффин решил записать свою передачу так, чтобы создавалось впечатление, будто она получена семь часов спустя. Мардикян уже вернется с дежурства в морозилке, но скорее всего ляжет спать, а запись прокрутит перед самым собранием.
Коффин повернулся к вспомогательному магнитофону. Нужно пропустить записанный на пленку голос через систему, чтобы изменить его до неузнаваемости. И, конечно же, сделать его невнятным — то затухающим, то прорезающимся вновь, — а фон наполнить визгом, шумом и треском звездных разговоров. Нелегкая задача, особенно в невесомости. Коффин погрузился в нее с головой. Да он и не мог иначе: он боялся остаться наедине со своими мыслями.
Включим вот этот модулятор, добавим колебаний… Где там у нас логарифмическая линейка? Какое количество звука тебе надо?..
— Что вы делаете?
Коффин обернулся. Сердце сжалось, словно кто-то вцепился в него пальцами.
В дверном проеме плавал сонный Мардикян; разглядев, кто вторгся в его владения, он испуганно вытаращил глаза.
— Что случилось, сэр? — спросил радист.
— Вы же на вахте, — выдавил Коффин. — На дежурстве в морозилке.
— У меня перерыв, сэр. Я подумал, что проверю…
Радист вплыл в радиорубку. На фоне измерительных приборов и трансформаторов он был похож на какого-то футуристического святого. С юного черного лица срывались блестящие капельки пота и крохотными шариками устремлялись к вентиляционной решетке.
— Убирайся, — прохрипел Коффин. И тут же добавил: — Нет! Я не то хотел сказать! Стой где стбишь!
— Но…
Капитан без труда читал мысли радиста: Если старик, не дай Бог, спятил от космической лихорадки, что с нами со всеми будет?
— Слушаюсь, сэр.
Коффин облизал пересохшие губы.
— Все о'кей, — сказал он. — Я просто не ожидал тебя здесь увидеть. Все мы немного на взводе сейчас, поэтому я на тебя и наорал.
— П-прошу прощения, сэр.
— Есть тут кто-нибудь еще поблизости?
— Нет, сэр. Все на дежурстве или…
А на лице отразилось: Зачем я ему об этом сказал? Теперь он знает, что мы здесь одни!
— Все о'кей, сынок, — повторил капитан. Но голос его скрипел не хуже пилы, разрезающей кость. — У меня тут кое-какие дела… Э-э-э… Вернее, я тут немного покрутил пленки… и…
— Да, сэр. Конечно.
Поддакивай ему, пока не сумеешь выбраться отсюда и найти мистера Киви. Пускай он берет на себя ответственность. Я не хочу! Не хочу быть главным шкипером, без посредников между мной и небесами! Это для меня чересчур. Этак и спятить недолго.
Мардикян затравленно озирался. Взгляд его упал на черновые записи Коффина, которые тот не успел уничтожить.
Тишина сгустилась.
— Ну вот, — наконец проговорил Коффин. — Теперь ты знаешь.
— Да, сэр, — послышался сдавленный шепот.
— Я собираюсь подделать радиопередачу.
— Н-н-н… Да, сэр.
Поддакивай ему! Ноздри у радиста трепетали от ужаса.
— Видишь ли, — проскрипел Коффин, — она должна быть как настоящая. Мне надо их разозлить, чтобы они сплотились вокруг проекта колонизации Рустама. А я буду сопротивляться. Заявлю, что получил приказ о возвращении и не хочу неприятностей на свою голову. В конце концов, разумеется, я дам себя уговорить, хотя и неохотно. Поэтому никто не заподозрит во мне… мошенника.
Мардикян беззвучно шевелил губами. Коффин видел, что радист близок к истерике.
— Другого выхода нет, — сказал капитан и выругал себя за суровый тон. Хотя, наверное, ни один оратор в мире не смог бы сейчас убедить перепуганного парнишку. К тому же он, Коффин, понятия не имел, как предотвратить нервный срыв, ибо сам никогда не бывал на грани истерики. — Это будет наша тайна, твоя и моя.
Нет, все без толку. Неопытному Мардикяну легче поверить в то, что капитан рехнулся, чем представить себе, как месяц за месяцем будет разъедать людские души одиночество и разочарование.
— Да, сэр, — просипел Мардикян. — Конечно, сэр.
Даже если он действительно согласен хранить тайну, подумал Коффин, он может проболтаться во сне. Правда, я тоже могу; но адмиралу единственному из всего экипажа полагается отдельная каюта.
Он аккуратно собрал инструменты и повернулся лицом к радисту. Мардикян отпрянул, выпучив глаза.
— Нет, — прошептал радист, — нет. Пожалуйста…
Он открыл рот, чтобы закричать, но не успел. Коффин дал ему по шее. Радист обмяк, и капитан, обхватив его ногами и одной рукой, другой нанес несколько быстрых ударов в солнечное сплетение.
Мардикян перекувырнулся в воздухе, словно утопленник.
Коффин торопливо потащил его по коридору в аптечный отсек. Отпер канистру со спиртом, набрал жидкость в шприц, развел водой до нужной консистенции и сделал укол. К счастью, настоящего психиатра в экспедиции не было. Если кто-то срывался с катушек, его погружали в анабиоз и не будили до самого дома, где сразу отправляли в клинику.
Коффин доволок парнишку до воздушного шлюза и крикнул. Из рулевой рубки примчался Холлмайер.
— Он взбесился и набросился на меня, — задыхаясь, вымолвил капитан. — Пришлось его вырубить.
Мардикяна привели в чувство, но, поскольку он лишь бессвязно что-то лепетал, ему вкатили успокоительное. Двое дежурных подхватили его и повели в морозильник. Коффин сказал, что пойдет посмотреть, не поломал ли радист аппаратуру, и вернулся в радиорубку.
Глава 5
Тереза Зелены встретила его и молча проводила в свою каюту.
— Вот так, значит, — выдавил он из себя. — Мы летим к Рустаму, решение принято единогласно. Вы счастливы?
— Была, — спокойно сказала она, — пока не увидала, что вы несчастны. Не верю, что вас волнует неподчинение приказу с Земли. Вы имеете право принимать самостоятельные решения, если того требует ситуация. Что же вас гложет?
Коффин смотрел мимо нее.
— Мне не следовало приходить сюда, — сказал он. — Но я должен был поговорить с кем-нибудь, кто способен меня понять. Потерпите несколько минут? Больше я вас не побеспокою.
— До самого Рустама, да? — Ее улыбка была ободряющей. — Но я рада вас видеть. — И немного погодя: — Что вы хотели мне сказать?
Он выложил все, коротко и не щадя себя.
Она слегка побледнела.
— Парнишка был мертвецки пьян, и они ничего не знали, когда готовили его к анабиозу? Это очень опасно. Он может погибнуть.
— Знаю, — сказал Коффин и прикрыл ладонью глаза.
Тереза уронила руку ему на плечо.
— По-моему, у вас не было другого выхода, — очень нежно проговорила она. — А если и был, то времени, чтобы его придумать, не оставалось.
Он выговорил через силу, отвернувшись от нее:
— Вы меня не осуждаете. Но ведь тем самым вы нарушаете свои собственные принципы: гласность, свободное обсуждение и принятие решений. Разве не так?
— Так, наверное, — вздохнула она. — Только, каждый принцип имеет свои границы. Можете ли вы позволить себе здесь, в космосе, быть полностью свободным, или добрым… или человечным?
— Мне не надо было вам говорить.
— Я рада, что вы сказали. — И живо, скороговоркой, словно пытаясь отогнать от себя тяжелые мысли: — Если, как мы оба надеемся, Мардикян выживет, то правда неминуемо всплывет по возвращении флотилии на Землю. Нужно разработать для вас систему защиты. Или вам достаточно будет сослаться на необходимость?
— Это не имеет значения. — Он поднял голову, речь его зазвучала отчетливей: — Я не собираюсь играть с ними в прятки. Пускай говорят что хотят через восемьдесят лет. Я сам вынес себе приговор.
— Что? — Она отплыла на шаг, чтобы лучше рассмотреть его лицо. — Вы же не думаете остаться на Рустаме? В этом нет никакой необходимости! Мы можем…
— Лжец… Возможно, убийца. Я недостоин командовать флотилией. — Голос у него сорвался. — Да и вообще неизвестно, будет ли Земля продолжать космические исследования.
Он рванулся в сторону и выплыл в дверь. Тереза поспешила следом, чтобы выпустить его из женского отсека. И вспомнила, что ключ остался в дверях главного люка. У нее не было повода следовать за ним.
Ты не одинок, Джошуа, хотелось ей крикнуть вдогонку. Мы все на твоей стороне. Время — это мост, постоянно горящий за нами.
И ВСЕ-ТАКИ…
Глава 1
Сама по себе авария была пустячной. Ремонт занял бы от силы неделю, и в итоге ничего не пострадало бы, кроме разве самолюбия.
Но поскольку авария случилась там, где случилась, командующий флотилией Нильс Киви с первого же взгляда на приборы понял, что дело дрянь.
— Господи Иисусе!
Дрожь от удара и толчка волнами разбегалась по металлу. Ионный выброс прекратился, и невесомость швырнула Киви, будто с обрыва. Он услышал, как со свистом устремился наружу воздух, как с грохотом закрылся автоматический люк, преграждая доступ к поврежденному отсеку. Услышал, но не обратил внимания. Всем своим существом он был прикован к стрелке счетчика радиации.
Он провисел так секунду — и пришел в себя. Схватился за опору, метнулся к пульту управления. Палец нажал на кнопку внутренней связи.
— Всем покинуть корабль!
Усилители подхватили это хриплое восклицание, превратив его в оглушительный рев.
Учебные тревоги не проводились уже давно, но тренированное тело задушило панику выбросом адреналина и принялось действовать проворно и четко. Одна рука вытащила из автопилота катушку с записью полетных данных и сунула в карман. (Он даже вспомнил, как читал в какой-то книге, что капитаны тонущих в океане кораблей — давным-давно, на Земле — всегда брали с собой судовой журнал.) Нога, с силой ударив в кресло, рикошетом послала тело к дверям рубки, с небольшим отклонением, которое Нильс скорректировал, хлопнув ладонью по стене. Очутившись в коридоре, он с такой скоростью стал хвататься за скобы, что они расплылись в глазах.
К нему присоединились другие — дюжины мужчин с каменными от страха лицами мчались вперед, оставив свои посты. Кто-то уже забрался в челночную ракету, ставшую спасательной шлюпкой. До Киви донесся рев ее набирающих силу двигателей. Он завис у стены, пропуская людской поток, льющийся через воздушные шлюзы. Последним проплыл инженер Абдул Баранг. Киви поспешил за ним, спросив на ходу:
— Вы знаете, что стряслось? Похоже, что-то вывело из строя ядерную энергоустановку.
— Какой-то тяжелый предмет. Провалился через палубу из заднего трюма в машинное отделение и прошиб боковую стенку. — Баранг свирепо нахмурился. — Незакрепленный груз, как пить дать.
— Колонист…
— Свобода? Не знаю. Мы его, что ли, ждем? Он нас всех чуть не угробил!
Киви кивнул.
— Пристегнитесь, — скомандовал он, но в командах нужды не было: люди спешно занимали места.
Баранг метнулся на корму, чтобы преградить доступ к энергоустановке тем, у кого не хватит терпения дождаться приказа капитана. Киви уселся за пульт управления, впереди пассажирского отсека. Пальцы торопливо пристегнули ремни. Каждая секунда промедления смертной дрожью отзывалась в теле.
— Рассчитайсь! — велел он и, прослушав перекличку, убедился, что команда вся в сборе.
Киви собрался с духом и нажал на кнопку воздушного шлюза. Люк ракеты начал закрываться.
Через него протиснулся человек, кричавший по-английски:
— Вы что, хотели бросить меня там?
Киви услышал его и холодно ответил:
— Почему бы и нет? Мы не знали, живы ли вы. И потом, вы ответственны за аварию.
— Что? — Ян Свобода поплыл по проходу, подобно неуклюжей, размашисто жестикулирующей рыбе. Люди в креслах смотрели на него с неприязнью. — Я ответствен? — Он чуть не задохнулся. — Ах ты, самодовольный осел! Ты же сам согласился, чтобы…
Киви вдавил кнопку старта в панель, и корабль выпустил шлюпку. Маленький корпус отделился от большого. Киви не тормозил и не разглядывал виды в иллюминаторе: любое направление годится, когда летишь из центра преисподней. Он просто выжал до упора аварийный рычаг ручного управления. Шлюпка взревела и рванула вперед. Свободу тут же отбросило ускорением. Он с такой силой ударился о переборку, отгораживающую пассажирский отсек, что пластик затрещал. Яна пригвоздило к нему, лицо залило кровью. Уж не сломал ли он себе шею? — подумал Киви. Капитан почти надеялся, что сломал.
Глава 2
Коридоры «Курьера» гудели от недовольного ропота людей, расселявшихся по каютам. Пробираясь к лазарету, Киви слышал, как с его приближением смолкали разговоры. Потерять судно — это беда для любого капитана. А он теперь не просто капитан, он командующий флотилией. Старый Коффин наотрез отказался возвращаться, подал в отставку и поселился в колонии. Да и судно — не просто судно, а «Рейнджер», флагманский корабль. Обойтись-то без него можно, места после выгрузки колонистов хватит на всех, но впереди сорок с лишком лет пути от эпсилона Эридана до Солнца, а за годовую вахту любая мысль может превратиться в навязчивую идею, опасную для рассудка и даже для самой жизни. Адмирал, потерявший флагман флотилии, вполне годится на роль черного символа.
Киви со злостью подавил собственные мысли. Приземистый, коренастый, с высокими скулами и косящими голубыми глазами, он по характеру был человек веселый, компанейский и немного даже щеголеватый. Но сейчас он собирался повидаться с Яном Свободой.
Остановившись у одной из тонких внутренних дверей, Киви открыл ее и двинулся вперед через отсек, служивший одновременно приемной и врачебным кабинетом. Из палаты в этот момент выплыла чья-то фигура. Она столкнулась с капитаном, и оба разлетелись в разные стороны. Киви завис, опешив от изумления, а когда обрел дар речи, то глупо воскликнул:
— Но вы же остались на Рустаме!
Джудит Свобода помотала головой. Рассыпавшиеся в результате столкновения волосы взметнулись вокруг лица и плеч каштановым облаком с яркими рыжеватыми искрами. Простой комбинезон, несмотря на некоторую мешковатость при нулевой силе тяжести, не совсем скрывал стройную фигуру.
— Я услышала об аварии и о том, что Ян был ранен, — сказала она. — Последняя ракета, разгружавшая «Мигрант», передала весточку. Естественно, я поспешила к мужу.
Киви всегда нравились такие грудные женские голоса, как у нее. Правда, нельзя сказать, чтобы космолетчикам часто приходилось общаться с женщинами. Капитан грозно спросил:
— Кто пилот? Вы заставили его нарушить сразу четыре правила!
— Капитан, сердце-то у вас есть или нет? — взмолилась она. Хотя английским пользовались еще многие космолетчики и Киви владел им почти свободно, он не сразу понял, что вопрос задан в переносном смысле. — Ян мой муж. Я не могла оставить его здесь одного!
— Ладно. — Киви уставился на шкафчик с медицинскими картами. — Ладно. Значит, вы его видели? Как он?
— Лучше, чем я ожидала. Он скоро встанет на ноги… На ноги, на руки! — воскликнула она с досадой. — В невесомости все без разницы! — И быстро, понизив голос: — Почему вы так стремительно стартовали, Нильс? Ян сказал, что вы не дали ему времени пристегнуться.
Он вздохнул, внезапно почувствовав усталость.
— Теперь, значит, вы решили устроить мне допрос с пристрастием? Ваш супруг уже наговорил мне всяких гадостей, когда пришел в сознание. Пощадите.
— Ян очень перенервничал, — сказала она. — А потом такой шок и удар… Пожалуйста, не сердитесь на него, если он будет несдержан.
Киви обратил к ней недоумевающее лицо:
— Вы меня не обвиняете?
— Я уверена, что у вас была веская причина. — Она улыбнулась через силу. — Мне просто хотелось узнать какая.
В памяти у Киви всплыли дни и ночи, проведенные на Рустаме. Там он познакомился с Джудит, когда колонисты работали бок о бок с космолетчиками; он видел ее, перепачканную машинным маслом, с гаечным ключом в руке, помогающую собирать трактор; он видел ее под сенью зеленой листвы и под резким холодным светом луны Сухраб. Да, подумал капитан, эта женщина каждому человеку даст возможность объясниться. Даже космолетчику. Он сказал, тяжело роняя слова:
— Мы находились в радиоактивном поясе. У нас не было времени, ни секунды.
— Радиация была настолько сильной? В самом деле?
— Возможно, я поторопился.
Он должен был наконец выдавить из себя эти слова. Оглядываясь назад, он не мог найти убедительных логических доводов в свою защиту, не мог доказать необходимость столь поспешного старта, в результате которого Ян сперва чуть было не остался на «Рейнджере», а потом чуть было не погиб. В тот момент, насколько помнил Киви, его переполняла дикая ненависть к человеку, погубившему его корабль. И все-таки Свобода был мужем Джудит и отцом ее детей.
Капитана опять охватил приступ ярости.
— В конце концов, — бросил он резко, — если бы не халатность вашего супруга, мы не попали бы в такой переплет.
Лицо, похожее овалом на сердечко, напряглось.
— Вы уверены, что он виноват в аварии? — Интонация Джудит стала враждебной. — Ян утверждает, что вы позволили ему работать с грузом.
Киви почувствовал, что краснеет.
— Я позволил. Но мне и в голову не приходило, что он додумается открепить такую тяжелую штуковину.
— Вы могли поинтересоваться его планами заранее! Откуда он знал, что это опасно?
— Я положился на его здравый смысл. Признаю свою ошибку.
Они замолчали, испепеляя друг друга взглядами. В отсеке стало очень тихо. Киви почти физически ощущал пустоту корабля — пустые трюмы, пустые баки… Судно было пустой оболочкой, прикованной к орбите вокруг Рустама. Как и я сам, мелькнуло у него в голове. Он вспомнил ночи, проведенные в Верхней Америке, вспомнил пламя лагерного костра, освещавшее лицо этой женщины на фоне ночной темноты, полной тревожных шорохов. Однажды они провели вдвоем несколько часов, шагая вдоль Императорской речки в поисках дикорастущего вишневого сада, на который Киви наткнулся во время первой экспедиции, лет девяносто назад. Обычная прогулка, без особых приключений — только солнечный свет, блестящая рядом вода, промельки птиц и зверей. Тихая прогулка, они почти даже не разговаривали. Но забыть этот день он не мог.
— Извините, — сказал капитан. — Мы оба с ним виноваты, конечно.
— Спасибо. — Джудит схватила его за руку обеими руками. И чуть погодя спросила: — Что же все-таки произошло? Я никак не пойму. Пилот ракеты говорит одно, Ян — другое, оба твердят о каких-то смертельно опасных поясах, а для меня все это темный лес. Вы сами-то хоть понимаете, что случилось?
— Надеюсь. Я обязан буду обследовать поврежденное судно, но картина и так представляется мне довольно ясной. — Киви поморщился: — Я должен объяснить?
— Нет. Но мне бы хотелось услышать.
— Ладно.
Когда флотилия прибыла к Рустаму, суда легли на круговую орбиту на почтительном расстояний от радиационных зон ван Аллена и первозданного хаоса астероидов. Громадные, хрупкие межзвездные корабли с ионными двигателями не могли садиться на планеты. Сначала экипаж, а затем колонисты были разбужены и доставлены в Верхнюю Америку на челноках — крепких ракетах с выдвижными крыльями и термическими, а не электрическими двигателями. Чтобы доставка на планету груза не растянулась до бесконечности, корабли один за другим спускались на более низкую орбиту, чуть выше атмосферы, где разгружать их было удобнее и быстрее. Часть команды этим и занималась, в то время как другая часть очищала на Рустаме реактивную массу для обратной дороги; оставшимся же космолетчикам — то есть большинству — было велено помочь колонистам с основанием поселения.
Но нескольким колонистам, в свою очередь, пришлось помогать на разгрузке. Большая часть груза была незнакома астронавтам: горнорудное, сельскохозяйственное, химическое оборудование. Слишком высокое массовое соотношение не позволяло упаковать и разместить его со всеми удобствами. И теперь оборудование надо было перетащить по частям на ракеты под наблюдением специалистов, иначе какой-нибудь прибор из термопластика мог оказаться рядом с тепловым экраном, а образцы кристаллов — подвергнуться облучению и разрушиться. Ждать же замены неисправных деталей было неоткуда.
Яна Свободу как инженера отрядили в числе прочих колонистов наблюдать за разгрузкой. Когда «Рейнджер» начал спускаться на низкую орбиту, Ян попросил разрешения начать демонтаж груза. Киви, не меньше инженера заинтересованный в том, чтобы поскорее выполнить неприятную задачу, согласился.
«Рейнджер» развернулся на гироскопах так, чтобы ионный выброс происходил в противоположном движению направлении, и, стабилизировавшись таким образом, плавно заскользил по спирали вниз. Орбита пролегала почти в экваториальной плоскости, чтобы дать челночным ракетам возможность использовать все преимущества вращения планеты. Но спираль проходила через самые насыщенные участки опасных для жизни поясов.
Как любая планета, имеющая магнитное поле, Рустам был окружен заряженными частицами высоких энергий, которые образовывали пояса на разных расстояниях от центра. И хотя защитные экраны работали на полную мощность, Киви заметил небольшое усиление радиации. Оно ничем не грозило, конечно…
Пока детекторы не зарегистрировали метеорит, приближавшийся к кораблю по траектории, чреватой столкновением.
Несколько секунд пятикратной перегрузки — и автопилот без проблем отвел бы «Рейнджер» в сторону. Прозвучал предупредительный сигнал. Экипаж успел лечь на пол и уцепиться за тяжелые предметы. Метеориты достаточно солидных размеров, чтобы стоило от них уворачиваться, попадались вблизи планет не слишком часто, но и не так уж редко, поэтому подобный маневр не был чем-то из ряда вон выходящим.
И все прошло бы гладко, не открепи Ян Свобода часть ядерного генератора массой более тонны. Инженеру хотелось облегчить к нему доступ, чтобы начать демонтаж. Громадину удерживала на месте лишь легкая алюминиевая рама. Пятикратной перегрузки она не выдержала. Генератор рухнул, пробил палубу, отскочил от противопожарного экрана и продолбал в стене машинного отделения дыру, в которую уставились звезды.
Никто не пострадал. Все повреждения были поправимы. Но из строя вышла большая часть вспомогательного оборудования термоядерной энергоустановки. Запрограммированная на самоотключение в аварийных ситуациях, ядерная реакция прекратилась. Заработали батареи, но они могли поддерживать лишь внутреннюю электросистему, на ионный двигатель и защитный экран их энергии не хватало.
И корабль внезапно наполнился рентгенами.
В шлюпке не было места для противорадиационного генератора, в ней можно было лишь спасаться бегством, пока экипаж не нахватал опасных доз. Покинутый «Рейнджер» по-прежнему дрейфовал на орбите. Невидимые и неслышные смертоносные лучи пронзали его корпус.
— Понимаю, — кивнула Джудит. По волосам пробежала рябь. — Благодарю вас.
Во рту у Киви пересохло, хотя объяснение заняло всего лишь несколько минут.
— Всегда рад служить, — пробормотал он.
— Что вы теперь собираетесь делать?
— Я… — Киви сжал губы. — Ничего. Это неважно.
— Вы пришли проведать Яна? Я хотела устроиться где-нибудь на корабле, пока придет очередная ракета. Уверена, что Ян будет рад, если вы… — Она растерянно умолкла. Свобода был на ножах с капитаном, когда они работали в лагере.
— Да уж, не сомневаюсь, — едко усмехнулся Киви.
А про себя с удивлением подумал, что сам не знает, зачем сюда явился. Облегчить собственное горе, выплеснув его на раненого? Похоже, подсознательно он именно этого и хотел. Но почему? Свобода вспыльчив и характер у него не подарок, однако в общем он ничуть не хуже своих товарищей-землекопов. Как лидер конституционалистов он многое сделал для реализации колониального проекта. Конечно, ни один космолетчик от такого круиза в восторг не придет, но работа есть работа, и чем ругаться попусту, лучше выполнить ее, да и все.
— Я… Да, я хотел его проведать, — сказал капитан. — И… и посоветоваться с ним.
— Я к вашим услугам!
Резко крутанувшись вокруг опоры, за которую держался, Киви повернулся лицом к внутренней двери. Она была открыта. В проеме висел Ян Свобода.
Одет он был в больничную пижаму; лицо почти целиком скрывалось под бинтами; грудь была обмотана широкой повязкой, а левая ключица зафиксирована шинами, позволявшими двигать рукой.
— Ян! — воскликнула Джудит. — Иди ложись в постель!
— Что такое постель в свободном падении? — проворчал Свобода. — Всего лишь ремни, не дающие воздуху сдуть тебя с места. — Глаза из-под белой маски уставились на капитана. — Я вас слушаю. Что вы хотели сказать?
— Но врач… — запротестовал было Киви.
— Плевал я на его приказы, — сказал Свобода. — Я прекрасно знаю, в каких пределах могу передвигаться.
— Ян! — взмолилась жена. — Ну пожалуйста!
— Ты хочешь сказать, что мне нужно вести себя повежливее с человеком, который пытался меня убить?
— Довольно! — взорвался Киви.
Он представил себе саркастическую усмешку, скривившую губы под бинтами.
— Давайте, не стесняйтесь! — продолжал Свобода. — Я нынче не в форме, драться не стану. Вы же капитан — вы можете просто арестовать меня, и все дела. Давайте, делайте то, за чем пришли!
Джудит побелела.
— Прекрати, Ян! — сказала она. — Непорядочно обзывать человека громилой, если он на тебя нападает, и трусом, если он этого не делает.
Все трое умолкли. Только через минуту до Киви дошло, что он не сводит с нее глаз.
В конце концов Свобода натянуто проговорил:
— Ладно. Вопрос закрыт. Надеюсь, мы в состоянии обсудить практические проблемы без эмоций. Можно ли отремонтировать «Рейнджер»?
Киви оторвал взгляд от Джудит.
— Не думаю, — ответил он.
— Что ж… В таком случае когда мы начнем разгрузку? Я могу за ней понаблюдать, только желательно с помощником.
— Разгрузку? — Киви наконец отогнал от себя посторонние мысли. — Что вы имеете в виду? «Рейнджер» в радиоактивном поясе. Его нельзя разгружать.
— Минуточку! — Свобода уцепился за дверной косяк. Костяшки пальцев у него побелели. — На судне полно оборудования, позарез необходимого колонии!
— Колонии придется обойтись без него, — сказал Киви. Он вновь почувствовал, как его охватывает ярость, холодная и неукротимая.
— Что? Да вы… Нет, это невозможно! Должен быть какой-то способ вытащить груз из корабля!
— Мы обследуем его, конечно. — Капитан пожал плечами. — Но, по-моему, это безнадежно. Поверьте мне, Свобода, для меня потеря «Рейнджера» не менее тяжела, чем для вас — потеря груза.
Свобода изо всех сил замотал белой головой:
— Ничего подобного! Мы остаемся на Рустаме на всю жизнь. И недостаток оборудования нам здорово ее сократит. А вы возвращаетесь на Землю!
— До Земли далеко, — промолвил Киви.
Глава 3
«Мигрант» осторожно тронулся с орбиты; еле слышно урчали реактивные двигатели. Свобода ощутил слабый отзвук палубы у себя под ногами. Каким бы легким ни был вес, само существование «низа» показалось чудом.
Киви, сидевший перед пультом управления, взглянул на Яна.
— Вот он, — сказал капитан. — Полюбуйтесь, пока я подведу корабль поближе.
— С каким ускорением? — резко спросил Свобода.
В ответ послышался лающий смешок:
— Не больше половины силы тяжести. Пристегиваться не обязательно.
И капитан сосредоточился на управлении, щелкая переключателями и отдавая команды по внутренней связи. Судно в основном управлялось автоматически, даже во время сложных маневров. Задача Киви сводилась к тому, чтобы приказать роботу подойти к такому-то объекту.
Удержавшись от ответной колкости, Свобода склонился над видеоэкраном. Несмотря на максимальное увеличение, «Рейнджер» выглядел игрушечным, но рос в размерах прямо на глазах. Он вращался вокруг поперечной оси и, вихляя, двигался вдоль одной и той же плоскости. По уродливому корпусу гонялись друг за дружкой тени и яркие солнечные пятна. Инженер уже в который раз подумал, что даже челночные ракеты обтекаемой формы и те неприглядны на вид. Боже, скорее бы очутиться на Рустаме и проводить глазами последнюю улетающую ракету!
Что же до пресловутой беспредельности космоса, то эмоции на этот счет казались Яну преувеличенными. Звезды, правда, выглядят эффектно — немигающие ледяные искорки на фоне кромешной тьмы. Но без атмосферы их видно чересчур много. Только профессионал способен различить какие-то созвездия в этой бессмысленной каше. А здесь, на расстоянии в две трети астрономической единицы, эпсилон Эридана из звезды превратился в солнце, и, чтобы увидеть что-нибудь, кроме его полыхания, приходилось смотреть в другую сторону.
Голос Киви вывел Свободу из задумчивости.
— Вы не видите этот груз, из-за которого произошла авария? Он должен быть где-то на орбите рядом с судном.
— Нет, пока не вижу. В любом случае генератор наверняка поврежден. — Свобода прищурился, вглядываясь в экран. Черт бы побрал эту нерассеянную безвоздушную иллюминацию! В глазах рябит: сплошь черные пятна да ослепительные вспышки света, ничего не разберешь. — Надеюсь, нам удастся спасти хоть часть. А потом, когда построим в лагере мастерские, доведем его до ума.
— Боюсь, вы настроены слишком оптимистично. Скорее всего он потерян для вас навсегда.
Свобода обернулся к капитану. До сих пор он не придавал особого значения пессимистическим высказываниям Киви. Быть может, оттого, что боялся вникнуть в их смысл. Объятый внезапным ужасом, он неуверенно проговорил:
— Не мелите ерунды. Что нам мешает взять груз на «Мигрант»? Или даже отремонтировать «Рейнджер»?
— Да то, что магнитное поле планеты концентрирует заряженные частицы слоями, а «Рейнджер» находится на расстоянии 11 600 километров от центра Рустама, и так уж случилось, что там как раз самая интенсивная зона радиации. — Киви не скрывал сарказма. — Стоит поработать на борту двое суток или даже меньше, как схватишь смертельную дозу.
— Ради Бога! — не выдержал Ян. Взмахнул левой рукой, и сломанную ключицу в металлическом каркасе пронзила острая боль. — Скажите мне прямо! Наш противорадиационный экран простирается на несколько километров от корпуса. Почему бы нам не лечь на орбиту борт о борт с «Рейнджером» и не накрыть его защитным полем?
— Как бы вам объяснить? — протянул Киви. Свобода не мог понять, скрывается ли за этим тоном снисходительное терпение или издевка. — Надеюсь, вы знаете, как работает защитный экран? Генератор, используя магнитогидродинамический принцип, улавливает заряженные частицы и отталкивает их от корпуса. Но частицы в поясе ван Аллена обладают колоссальной энергией, их не так-то легко оттолкнуть. Большинство из них проникает довольно далеко внутрь поля (интенсивность которого обратно пропорциональна квадрату расстояния), прежде чем траектория их полета приобретет достаточную кривизну. Таким образом, концентрация проникших в поле частиц резко возрастает с каждым метром удаления от корпуса.
Если мы ляжем на орбиту бок о бок с «Рейнджером», то люди, работая на его борту с нашей стороны, окажутся в зоне четырехдневной летальной концентрации. То есть пятьдесят процентов человек, облучаемых такой дозой четыре дня, умрут от радиоактивной болезни. На дальней стороне «Рейнджера» концентрация будет 2,5-дневной. Теперь понимаете?
— Э-э-э… Нет, — сказал Свобода. — Людям не обязательно работать без перерыва. Они могут проводить там всего несколько часов подряд. Разве нет?
— Нет. — Киви покачал головой, воззрился на контрольную панель и нажал на кнопку. — Даже если не принимать во внимание радиацию, они все равно ничего не смогут сделать. Ведь силовой экран представляет собой пульсирующее магнитное поле гигантской мощности. Оно гетеродинировано таким образом, что не действует внутри корпуса, который защищает. Но если экран «Мигранта» накроет «Рейнджер»… Вы понимаете? Там не будет работать ни один аппарат сложнее газового резака. Никакая электроника — это точно, и многие электроприборы тоже. А ведь разбито в основном электронное оборудование. Как, по-вашему, ребята смогут его починить, настроить и проверить? Как вообще включить инструменты, которыми будет производиться ремонт?
Свобода воскликнул в отчаянии:
— Ну тогда давайте попробуем взять «Рейнджер» на буксир! Нам ведь только и нужно, что вытащить его из этой зоны на чистое место. И можно будет спокойно работать на борту. Сколько километров орбитального радиуса мы потеряем? Полторы тысячи? Две?
— Мы просто загубим еще один корабль, вот и все, — отрезал Киви. — Тащить за собой на буксире вообще ничего невозможно. Ионный выброс дезинтегрирует все, что окажется за кормой. А толкать «Рейнджер» перед собой тоже опасно: малейший дисбаланс — и неизбежно столкновение.
— Можно соединить корабли металлическими балками. Или даже подцепить к «Рейнджеру» два корабля, по одному с каждого бока.
— Ничего не выйдет. Межзвездные суда — это вам не бульдозеры. Их сопротивляемость продольно направленной силе весьма умеренна, а боковой так и вовсе ничтожна. Разыгрывая из себя буксиры, они просто вырвут с мясом собственные ребра. Мне тоже приходила в голову эта мысль, и я сделал кое-какие подсчеты, так что могу доказать вам ее несостоятельность.
— А если взять челночные ракеты…
— Да, они покрепче. Пара ракет, думаю, с «Рейнджером» управилась бы. Но на борту должны быть люди, дистанционно управлять таким непрочным трио невозможно. А как защитить экипаж от радиации? На челноках нет экранных генераторов. Можно, конечно, вести вплотную за ракетами корабль и слегка прикрыть их полем, чтобы дать команде поработать хотя бы десять минут, — но прикрытие вырубит на ракетах всю электронику! Так что это тоже не выход. А потому закройте рот и не мешайте мне!
Киви так рьяно занялся подходными маневрами, словно корабль приближался к врагу. Свобода сидел, молча кипя от злости. Приглушенное урчание моторов, оксигенаторов, воздуходувок эхом отдавалось в длинных пустых коридорах. Словно тебя живьем заглотила гигантская рыба, подумал Ян, и ты слушаешь, как она тебя переваривает. Он подавил в себе желание бежать отсюда.
Куда бежать? Там пустота, солнце в виде паяльной лампы и тьма, холодная, как подаяние. Органы чувств, не привыкшие к невесомости и ускорению, превратили работу по разгрузке в затянувшуюся пытку. Противорвотные таблетки, правда, помогали, но начисто лишали аппетита; а теперь к недоеданию добавился недавний шок и потеря крови. Знал бы Киви, какого труда мне стоит сдерживать напряженные нервы и не орать во весь голос, небось прекратил бы свои издевки. Но будь я проклят, если скажу об этом финну!
И вдруг в глазах потемнело от слабости. Словно на него разом навалилась вся тяжесть перенесенного путешествия — не только изматывающая годовая вахта, но и сорок лет, проведенные в морозильной камере. Он почти не заметил ни легкого толчка стыковки, ни наступившей вновь невесомости, ни дрожи, сотрясшей корабль, когда кошки прочно сцепили его с «Рейнджером». Ян машинально расстегнул ремни и лишь тогда услышал голос капитана:
— …и ни к чему не прикасайтесь, просто ждите. Поняли?
— А? — очнулся Свобода. — Куда вы?
— Надену скафандр и осмотрю повреждения. А вы думали, мы совершали развлекательную прогулочку?
— Но радиация…
— Поле «Мигранта» защитит меня на час-другой.
— Погодите, я с вами. Мне надо проверить груз.
— Нет, вы останетесь здесь. Вы уже набрали изрядную дозу во время аварии.
— Вы тоже. Почему бы вам не послать кого-нибудь из команды, кто не был на «Рейнджере»?
Киви расправил плечи.
— Я капитан, — промолвил он и покинул рубку.
Свобода даже не сделал попытки догнать его. Слабость не проходила. А еще в голове мелькнула дурацкая мысль, что Киви не женат. Космолетчики почти все холостые. А Джудит говорила, что хочет еще детей… Не стоит понапрасну лезть под облучение.
Зачем я вообще отправился в этот полет? Мог бы остаться с ней на «Курьере»… Нет. Я должен был убедиться, что Киви сделает все возможное.
Для командующего флотилией было бы только естественно бросить груз. Зачем ему рисковать ради каких-то паршивых колонистов? Свобода вспомнил о жизни в лагере, о ссорах, то и дело разгоравшихся между поселенцами и космолетчиками. Расчистка земельных участков, рубка леса, заливка бетона, бурение колодцев — такая работа не для астронавтов. И, что всего унизительнее, их вынуждали подчиняться приказам презренных землекопов. Неудивительно, что самые обыкновенные споры превращались в остервенелые стычки. Пока дальше кулачных боев дело не доходило, но Свобода чувствовал, что капитану тоже мерещатся кошмарные сцены: ножи и ружья, пущенные в ход, и покрасневшая Императорская речка.
Конечно, думал Свобода, никакими разумными причинами не объяснишь стремление астронавтов снова и снова пускаться в межзвездные полеты, из которых они каждый раз возвращаются на все более чуждую Землю. Космолетчики были первооткрывателями по натуре. Их тяга к неизведанному не находила отклика у конституционалистов, притащивших на Рустам корабли из-за мелочных стычек с правительством, казавшихся астронавтам непонятными и смешными. Неудивительно, что мы не можем ужиться друг с другом. Мы принадлежим к разным цивилизациям.
Свобода взглянул на#экран. Соединенные вместе, «Мигрант» с «Рейнджером» образовали новый космический объект со своими собственными инерциальными константами и угловым моментом. Корабли вращались, но слишком медленно, чтобы можно было ощутить какой-то вес. Теперь рулевая рубка повернулась лицом к Рустаму.
Планета была близка к стадии полуфазы. Она растянулась на небе на 64 градуса — огромный неясно очерченный круг, кромка ночной половины которого вспыхивала огнем там, где атмосфера отражала солнечный свет, а дневная половина своим ослепительным сиянием затмевала звезды. Края были размыты, но Свобода различил призрачные стяги Авроры, взметнувшиеся над ночным нимбом. Залитая солнечным светом часть круга переливалась всеми оттенками голубого, от бирюзы до опала. Пояса облаков добавляли белые, розоватые и серые мазки. Под ними Ян различил даже парочку континентов — коричнево-зеленых пятен. И представил себе, как хорошо было бы сейчас стоять на одном из них, чувствуя надежную привязь гравитации, вдыхая свежий ветерок. Рустам показался ему таким прекрасным, что Ян еле сдержал подступившие слезы.
Он напомнил себе, что планета покрыта непроходимыми лесными чащобами, холодными пустынями и отвесными скалами, на ней бушуют ураганы, ливни и метели, людей подстерегают засухи, враждебная окружающая среда, ядовитые растения и дикие звери. Три тысячи человек не выживут там без машин и научного оборудования.
И все равно он смотрел на нее не отрывая глаз, словно какой-то новоявленный Люцифер. Быстрое перемещение кораблей по орбите — полный круг за два часа и сорок три минуты — вскоре открыло взору все дневное полушарие, так что Ян чуть не ослеп от солнечного сияния, пристально вглядываясь в одно и то же пятнышко с извилистыми краями. Он прищурился, стараясь рассмотреть детали. Да, этот континент — Роксана, там его дети.
— Все еще ждете? — спросил за спиною Киви.
Свобода обернулся, разжав от неожиданности руку, и выплыл из кресла. Он беспомощно барахтался, страдая от унижения, пока Киви не усадил его обратно.
— Ну что? — Голос Яна прозвучал пронзительно и резко.
— Все без толку. — Киви отвел глаза. — Ничего не поделаешь. Повреждения слишком многочисленны, их на скорую руку не починишь. Корабль для нас потерян.
— Помилуйте, капитан! Да плевать я хотел на ваш дурацкий корабль! Нам нужно вытащить груз. Вы хотите нас всех погубить?
— Я не хочу погубить своих людей. — Киви бросил сердитый взгляд на жидкую пену Млечного Пути. — Дался вам этот груз! Что там такого важного?
— Все! Там генератор атомной энергии. Часть синтезирующей лаборатории. Биометрическая аппаратура…
— А без них вы не можете обойтись?
— Рустам — это вам не Земля! Здешние формы жизни для нас почти несъедобны. А земные растения не приживутся без экологической и химической подготовки. На планете наверняка есть болезни — или появятся в ближайшем будущем, как только местные вирусы мутируют, — против которых у человека нет иммунитета. Мы не в состоянии добывать руду и очищать ее в необходимых количествах без высокоэнергетического оборудования, а следовательно, без ядерного генератора.
— Вы можете на месте соорудить все, что вам необходимо.
— Нет, не можем. Чем мы будем питаться в это время, во что одеваться, какими инструментами работать? Мы и так взяли с собой минимум оборудования. — Свобода покачал головой: — У меня, как вы знаете, двое детей. Я не хочу рисковать их жизнью больше, чем было предусмотрено первоначальным планом.
— Что ж, тогда скажите мне, как вытащить хотя бы самые важные части оборудования, — вздохнул Киви. — Я слушаю вас.
— Но это же очевидно! Силовой экран нашего корабля позволит человеку провести на «Рейнджере» несколько часов. Люди будут разгружать оборудование вручную и перетаскивать его сюда. Пусть каждый член экипажа поработает часа четыре — и дело в шляпе!
— Сомневаюсь, — покачал головой Киви. — У меня больше 1600 человек, это верно. Но переброска груза вручную, на мой взгляд, потребует гораздо больше человеко-часов, чем четырежды тысяча шестьсот. А даже если и нет, я не могу приказать команде идти на «Рейнджер». Нам этот груз не нужен. Радиоактивность же в организме накапливается, и любой космолетчик даже в нормальных условиях за свою жизнь облучается больше чем нужно. Устав не позволяет мне в приказном порядке подвергать людей лишнему риску. Я могу лишь кликнуть добровольцев. Хотя вряд ли среди экипажа найдутся желающие рисковать своей шкурой ради вас, землекопов.
Свобода уставился на капитана. Как в дурном сне, подумал Ян. Они сотрясают воздух словами, но смысл не доходит до собеседника.
— Хорошо, — сказал он. — Мы сами перетащим груз. Мы, колонисты.
Киви невесело рассмеялся:
— Вы это всерьез? Неопытные, нетренированные люди — да радиация убьет их раньше, чем они приступят к делу! — Капитан посмотрел своему пассажиру прямо в лицо. В косящих глазах промелькнула искорка сочувствия. — Мне тоже нелегко, вы же знаете, — спокойно проговорил он. — На Земле с каждым поколением становится все меньше космических кораблей. И я потерял один из них. Лучше бы я лишился обеих рук! — И, помолчав немного, продолжил: — Предлагаю вам вернуться вниз и обсудить ситуацию с вашими друзьями. Они должны решить, хотят ли остаться здесь на таких условиях. Желающие смогут вернуться домой вместе с флотилией. Мы разместим их на оставшихся судах, а чтобы хватило морозильных камер, удлиним немного вахты.
— Но тогда придется вернуться всем! — вскричал Свобода. — Упрямцев, которые захотят остаться, будет слишком мало, чтобы выжить! Вы просто вынесли смертный приговор рустамской колонии, а вместе с ней и той вере, что привела людей сюда. Вы лишили смысла их жизни.
— Сожалею, — сказал финн.
Он подплыл к пилотскому креслу и закрепил ремни.
— Возвращаемся на «Курьер», — распорядился он в микрофон. — Отцепить «Рейнджер» и приготовиться к старту.
Пальцы капитана замерли над пультом.
— Я хочу сказать вам еще одну вещь, Свобода. Даже если бы мои люди согласились заняться выгрузкой, — в чем я сильно сомневаюсь, — я бы им не позволил.
Свобода сгорбился в кресле. Слишком много ударов обрушилось на него сегодня. Звездный свет стоял перед глазами, но не достигал сознания.
— Почему? — спросил он.
— Потому что работа растянулась бы на многие недели, — ответил Киви. — На борту «Рейнджера» одновременно находилось бы всего несколько человек. А остальные томились бы от безделья на других судах или на планете. И то и другое взрывоопасно.
— Что?
— Одно дело — чисто мужская экспедиция к новой звезде, — вяло, словно нехотя, проговорил Киви. — И совсем другое — когда вокруг тебя тысяча цветущих женщин, и все они чужие жены. Как вы думаете, в чем главная причина враждебности и стычек между космолетчиками и колонистами? Рано или поздно одна из потасовок закончится чьей-нибудь смертью. И я буду не я, если это не вызовет немедленный бунт. В то же время я не в силах заставить своих людей неделями безвылазно сидеть на орбите, если у них есть возможность пожить на Рустаме. Нам предстоит долгий обратный путь. И я не могу пускаться в него с морально неустойчивой командой.
Свобода закрепил ремни, хотя ускорение было пока незначительным. Впервые за все время он начал понимать, что у Киви были свои причины для несговорчивости.
Он уставился прямо перед собой. Смертоносный дождь должен быть видимым, он должен с шипением биться о магнитное поле. Незримая смерть, отражаемая незримым щитом — умом он способен такое понять, но инстинкты бунтуют. Всем своим существом он жаждал сейчас лишь одного: прижать к себе детей и Джудит под небом, грозящим разве что простыми молниями.
Озадаченный, он попробовал убедить себя с помощью физики. Нельзя считать электроны и протоны несуществующими только оттого, что они невидимы. Их следы можно наблюдать в камере Вильсона или на фотопластине… Магнитные поля не менее реальны. Хороший магнит может выхватить нож у тебя из рук и порезать тебя, если подойдешь слишком близко к одному из его полюсов. Планетный магнетизм стрелкой компаса указывает тебе путь домой.
Кстати говоря, никому еще не удавалось увидеть, услышать или измерить чувства. И тем не менее любовь, ненависть и страх гонят людей в межзвездные дали, где отчаяние их ломает. Большое, материальное человеческое тело, охваченное беспокойством, может бродить кругами, пока невесомая мысль не остановит его. Если бы с такой же легкостью могла она остановить корабль на орбите! Но мысль — не магнитное поле.
Или?..
Свобода выскочил из кресла. Левая рука ударилась о подголовник. Пронзительная боль прокатилась волной, увенчавшись невольным вскриком.
Киви обернулся.
— Ну что там еще? — рявкнул он.
Борясь с подступающими слезами, Свобода потрясенно выдохнул:
— Мне кажется, я знаю способ. Есть способ…
— Сколько времени он потребует? Много? — Киви ничуть не впечатлился.
— Может… может быть.
— Тогда забудьте о нем.
— Черт бы вас побрал! — Свобода опять почувствовал боль в ключице. Шины, похоже, остались на месте. Боль стихала, как отлив, то наплывая, то вновь уходя. Он выбрал момент, когда в мозгу немного прояснилось, и хрипло выкрикнул: — Вы будете меня слушать или нет? Мы можем спасти ваш корабль!
— С риском потерять человек двадцать в кровавых мятежах? Нет. — Киви безучастно смотрел вперед. — Я говорил вам, что напряжение между нашими группами уже стало опасным. Я жду не дождусь, когда мы наконец закончим выгрузку остальных судов и наполним топливные баки. А потом — немедленный старт! Ни одного лишнего дня в этом Богом проклятом месте!
— Но корабль… Вы говорили…
— Да, говорил. Моей репутации потеря корабля даром не пройдет, могут даже с должности снять. Но я не фанатик, Свобода. Вы хотите принести жизнь Джудит в жертву своей потусторонней философии. (Что она, ваша философия, как не утверждение бессмертной значимости вашей собственной личности?) А я не хочу подвергать людей риску, возможно смертельному, ради того, чтобы увековечить свое имя. Я собираюсь доставить домой если не всю флотилию, то по крайней мере всю команду. И если вы, поселенцы, решите отправиться с нами на Землю, вы ничего не проиграете. — Он уставился на Яна слепыми от бешенства голубыми глазами и заорал: — А теперь убирайтесь! Не хочу я слушать ваш безумный план! Уйдите из рубки и оставьте меня в покое!
Глава 4
Уединиться на корабле оказалось еще труднее, чем на Земле. Свобода с женой в конце концов отчаялись найти место, где могли бы побыть вдвоем. Члены экипажа наперебой приглашали их в свои отсеки, но слишком уж с большой готовностью. Супруги вернулись на полубак и примостились на отведенной им койке за ширмой. До них то и дело доносилось звяканье игральных костей по магнитному столу и невнятный шум голосов.
Ян вгляделся в полумраке в воспаленные глаза жены, обведенные темными кругами. Она была измотана не меньше его самого. Свободу мучило собственное бессилие, неспособность помочь ей.
— Неужели он даже не выслушал твое предложение? — спросила она. — Не могу этого понять.
— Да уж, — вздохнул Свобода. — Он врубил двигатели и велел мне убраться из рубки. Но по дороге к «Курьеру» немного остыл и, поскольку я настаивал, согласился меня выслушать. А я за это время произвел приблизительные расчеты, чтобы доказать ему, что мой план осуществим.
Джудит так и не спросила его, какой план он придумал. Но это для нее типично. Как большинство женщин, она берегла свое тепло для людей, оставляя абстракции на усмотрение мужа. Он частенько подозревал, что на Рустам она полетела не столько из-за своих убеждений, сколько из-за него.
Она спросила озадаченно:
— И он все равно отверг твою идею?
— Да. Он выслушал, согласился, что план выполним, но заявил, что выполнять его не будет. Когда я начал спорить, он опять вышел из себя и умчался из рубки.
— Это совсем не похоже на Нильса, — пробормотала она.
— С каких пор ты зовешь его по имени? — нахмурился Ян.
— По имени? Я думала, ты знаешь… — Джудит помолчала немного. — Хотя откуда тебе знать? Ты был так занят в лагере и держался с ним так отчужденно — вернее, не только с ним, а со всеми космолетчиками. Я и теперь не понимаю почему. Нильс был очень добр ко мне и детям, а с Дэви так просто неразлучен. Он учил Дэви ориентироваться в местных лесах и всяким следопытским хитростям, известным ему еще с первой экспедиции. — Она потерла ладонью глаза. — Поэтому я не понимаю его теперешнего отношения.
— Ну, ему, конечно, тоже сейчас несладко, — неохотно признал Свобода. — Потеря корабля — тяжелый удар.
— Тем более в его интересах сделать все, чтобы вернуть корабль!
— Логично. И тем не менее, хотя он и признал мою идею простой и элегантной, — Свобода криво усмехнулся, — но он прав в том, что ее осуществление потребует времени. К тому же заняты будут немногие космолетчики, все прочие будут болтаться без дела, пока мы не выгрузим последний трюм и не наполним топливные баки. И сатана, как водится, не преминет воспользоваться их праздностью.
— А нельзя их погрузить в анабиоз? Все равно им этого не избежать на обратном пути.
— Увы, нет. Мой план включает в себя маневры с большим расходом энергии и со значительными перегрузками. Морозильные камеры сейчас разобраны, но если их собрать, они не выдержат. А для осуществления моей идеи потребуется каждый корабль, иначе операция растянется донельзя. Нет, команде придется ждать на планете. Киви прав — это чревато осложнениями. Но он считает, что овчинка не стоит выделки, а я считаю — стоит.
Джудит нахмурилась:
— Не знаю… По-моему, уже… — и умолкла.
— Что? — отрывисто спросил Свобода.
— Да ничего.
Он схватил ее за руку с такой силой, что она поморщилась.
— Скажи мне! Я имею право знать.
— Да ничего не случилось, я же сказала! Просто несколько дней назад в лагере ко мне пристал какой-то космолетчик. Все обошлось. Я заорала, прибежал Чарли Локабер, и этот тип удрал. Даже драки не было.
Лицо у Свободы потемнело. Он резко сказал:
— Надо разбить два отдельных лагеря. И никаких контактов между ними. И запретить колонистам ходить поодиночке.
— Но это ужасно! Космолетчики помогали нам, не щадя своих сил. Они…
— Ладно, детали можно обдумать позже. — Свобода вздохнул. — Какое бы решение мы ни приняли, всем придется нелегко. Я понимаю желание Киви избавить свою команду от унижений подобного рода. До дома путь неблизкий, и капитан обязан заботиться о состоянии духа экипажа.
— Ты полагаешь, что он способен обречь на гибель колонию, только чтобы уберечь своих людей от лишних переживаний?
— Похоже на то.
— Нет, Ян, ты ошибаешься. — Джудит покачала головой. — Нильс заботится об экипаже, это правда. Но и к нам он не испытывает ненависти. Ты видел его лишь с одной стороны. А со мной и с детьми, я еще раз повторяю, он был сама доброта. Он из шкуры вон лез, лишь бы нам угодить. Нильс не оставит нас здесь умирать. Он на такое не способен.
Свобода посмотрел на жену долгим изучающим взглядом. Она не красавица, подумал он, во всяком случае по стандартным меркам; но она Джудит, а это гораздо больше. В голове мелькнула смутная догадка.
— Ты уверена? — спросил он.
— Да. Настолько, насколько вообще могу быть в чем-либо уверена, дорогой.
— О'кей. Тогда я, кажется, начинаю понимать ход его мыслей. Он не верит, что мы останемся здесь без оборудования, и рассчитывает, что мы решим вернуться на Землю. Так что убийцей он, разумеется, не станет. Он даже может сказать себе, что тем самым оказывает нам услугу. Никто ведь не отрицает, что многие из нас погибнут в первые годы на Рустаме, несмотря на любое оснащение.
— Да, возможно, он и впрямь так считает. Вряд ли его стоит упрекать за то, что он не видит смысла в колонизации. — Джудит слабо улыбнулась. — Пройдет много лет, прежде чем на Рустаме появятся свои космические корабли.
— Но дело не только в этом.
Свобода смотрел на жену, пока она не поежилась под его пристальным взглядом. Догадка превратилась в уверенность. Он даже не ожидал, что способен испытывать к Киви такое сочувствие, — теперь, когда понял, в чем главная надежда капитана.
— Значит, мы сдаемся? — прошептала Джудит.
Он ответил рассеянно, не спуская с нее глаз:
— Большинство наверняка проголосуют за возвращение.
— А меньшинство не смогут остаться, верно? — Ресницы ее затрепетали, словно пытаясь укрыться от его взора. — И возвращаться придется всем.
— Как лично ты к этому относишься?
— Я… Ну… Ну конечно, мне жаль, Ян. Очень жаль. И потом, мы же продали все имущество, чтобы финансировать проект, так что на Земле мы будем не только чужими, но и нищими. К тому же проект так много значил для тебя.
— И все-таки возвращение не станет для тебя крушением всех надежд, так ведь?
— К чему ты клонишь? — возмутилась Джудит. — И прекрати так смотреть на меня!
Свобода сжал зубы. Объясниться не было никакой возможности. Если кто-то из скучающих игроков в кости за ширмой понимает по-английски, они, без сомнения, подслушивают. Открыто изложить Джудит свой план означало лишить его смысла.
Да и не хотелось ему говорить о своих намерениях вслух. Догадавшись о слабости капитана, он, Свобода, должен был забыть о ней, а не пытаться использовать ее в своих интересах. Но другого выхода не было. Хотя неприятный осадок в душе все равно остался.
Свобода взял руки жены в свои ладони.
— Джудит, — сказал он. — У меня к тебе одна просьба. Непомерная, быть может, ведь ты и так сделала для меня гораздо больше, чем я вправе был ожидать.
Она успокоилась и неуверенно улыбнулась:
— Чего ты хочешь?
— Если все до единого колонисты проголосуют за возвращение, ты останешься на Рустаме со мной и с детьми?
Она конвульсивно вздохнула. Он почувствовал, как похолодели ее пальцы.
— Я не сумасшедший! — взмолился он. — Мы выдержим, клянусь! А даже если и нет… Ты помнишь, во что превращала Земля Дэви и Джози?
— Т-ты всегда говорил…
— Да. Старинный афоризм. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
— Красивый лозунг, — с горечью сказала она. — Нет. Я не останусь.
Он сделал последнюю ставку:
— А я останусь. В любом случае.
И замолчал. Наконец она прильнула к нему и прошептала:
— Я согласна.
Он обнял ее. Пускай они там за ширмой хоть лопнут от зависти!
Они немного поговорили о том, что будут делать, если и правда останутся одни в Верхней Америке. Но вскоре Джудит с натянутым смешком уклонилась от темы.
— Может, нам и не придется, — сказала она. — Я попробую уговорить Нильса спасти «Рейнджер».
— Если ты напрямую попросишь об этом, ничего не выйдет, — сказал Свобода. — Он просто посоветует тебе проявить благоразумие, заткнуться и вернуться на Землю.
— И все-таки, Ян, какой способ спасения корабля ты придумал?
— Способ? — Ян улыбнулся под бинтами. — Да самый очевидный. Если бы не я, так кто-нибудь другой до него непременно додумался бы. Ты имеешь представление о механизме образования поясов ван Аллена? Дело в том, что магнитное поле планеты не такое уж сильное, но оно покрывает огромные пространства и удерживает заряженные частицы в ловушке. Защитный экран корабля невозможно сделать столь же обширным, так что приходится выигрывать за счет интенсивности. Чтобы отбросить быстродвижущийся ион на несколько километров, нужна огромная энергия — такую энергию способны генерировать лишь термоядерные установки.
«Рейнджер» — это металлический объект, нагруженный другими металлическими объектами. То есть проводник. Когда проводник движется через магнитное поле — или наоборот, — образуется электромагнитная энергия, количество которой зависит от скорости движения и интенсивности поля. Ты наверняка видела школьный лабораторный опыт, когда медную пластинку бросают между полюсами сильного магнита. Войдя в поле, пластинка на глазах замедляет падение, потому что пересекает магнитные силовые линии. Это приводит к возникновению в меди вихревых токов, и таким образом энергия падения пластинки превращается из кинетической в электрическую, а затем в тепловую.
— Да, конечно! — воскликнула Джудит.
— Понимаешь? Каждый корабль флотилии будет по очереди пролетать мимо «Рейнджера», так близко и так быстро, как только возможно. А это значит — очень близко и очень быстро, если они пойдут на автопилоте по гиперболической орбите, противоположной орбите «Рейнджера». Думаю, скорость будет не меньше тридцати — сорока километров в секунду. И их магнитные поля замедлят движение «Рейнджера». Он потеряет энергию и сползет по спирали на более низкую орбиту, пока не окажется в безопасном месте. После чего ремонтная бригада сможет начать работу на борту.
— Идея просто замечательная! — Джудит немного поразмыслила. — А как остальные корабли? Им это не повредит?
— Ну, их движение тоже замедлится. Третий закон Ньютона. Но поскольку свои пробежки к «Рейнджеру» они будут совершать в свободном падении, особо напрягаться им не придется. Да и скорость судов уменьшится незначительно. Мы наполним их баки, девятикратно увеличим массу… У «Рейнджера» баки практически пусты. Однако сильно ускорить процесс не удастся. Вихревые токи генерируют тепло, которое необходимо рассеять, если мы не хотим, чтобы «Рейнджер» расплавился.
— От тепла можно быстро избавиться, — сказала Джудит. — Сооруди на одном из судов насос и поливай «Рейнджер» водичкой. Она закипит и унесет тепло с собой.
— Умница. Мне это тоже приходило в голову. Есть и другие способы, возможно даже более удобные. Главное, что мы могли бы спасти корабль, если бы Киви…
Из-за ширмы донесся чей-то голос с акцентом:
— Ми-истер и ми-иссис Шфобота просят яфиться в капитанская каюта.
— Что? — вздрогнула Джудит.
— Я так и думал, — сказал Свобода. — Кто-то подслушал нас и поспешил донести капитану. Тем лучше. Все решится прямо сейчас.
Они рука об руку выплыли в коридор. Сердце у Свободы колотилось. В ответ на стук из капитанской каюты послышалось грубое:
— Войдите!
Свобода пропустил Джудит вперед и закрыл за собою дверь.
Каюта у капитана — она же и рабочий кабинет — была тесная, заваленная книжными пленками и музыкальными катушками, а в остальном аскетичная, словно монашеская келья. Киви, сидевший за магнитной доской на паучьих лапах, служившей ему столом, встретил вошедших недружелюбным взглядом. Капитан выглядел каким-то взъерошенным, глаза у него горячечно блестели.
— Что за чушь вы несли? Зачем вам оставаться одним на Рустаме? — требовательно спросил он.
— Это наше дело, — ответил Свобода.
— Может, и ваше. Вы имеете полное право оставить на Рустаме свои кости, если охота. Но ваша жена? И дети? — Киви повернулся к Джудит: — Он не может вас заставить. Я предлагаю вам свою защиту.
Джудит прижалась к мужу.
— Меня никто не заставляет, — прошептала она.
— Да вы просто рехнулись! — заорал Киви. — Весь этот проект с самого начала был игрой со смертью. А теперь, без груза «Рейнджера», риск увеличился настолько, что большинство ваших друзей наверняка предпочтут вернуться. И всех остающихся ждет верная гибель.
— Позвольте мне самому решать, что делать, — сказал Свобода.
Киви взмахнул рукой, будто хотел его ударить.
— Джудит! — воззвал капитан. — Вы не знаете, на что идете!
Она вздернула подбородок:
— Зато я знаю, что я обещала своему супругу перед алтарем.
Киви сник.
— Я не злодей! — умоляюще воскликнул он. — Я хочу уберечь свою команду от неприятностей, возможно даже убийств. Поэтому я не буду выполнять никаких долговременных работ по спасению корабля.
Это одна из причин, подумал Свобода.
— Я с радостью отвезу ваших друзей домой, — продолжал Киви. — И потом, у меня есть деньги. Я могу помочь вам, Джудит, — вам и вашей семье — заново обосноваться на Земле. На что еще холостяку тратить свои сбережения?
— Нет, — отрезал Свобода. — Об этом не может быть и речи. Вы не имеете права принуждать нас вернуться на Землю. Если вы попытаетесь доставить нас туда силой, между колонистами и космолетчиками действительно начнется драка!
— Не говори так, Ян. — В глазах у Джудит стояли слезы. Она не смогла их удержать, и они крохотными звездочками поплыли к вентиляционной решетке. — Нильс желает нам добра.
Свобода сказал с намеренной жестокостью:
— Не сомневаюсь. Доверьтесь статистике, Киви. Сохраните покой в душах ваших людей. Наплюйте на колонию. В худшем случае это будет стоить всего лишь четыре жизни.
При виде трясущихся губ капитана, уже не сомневаясь в победе, Свобода отчаянно пожалел, что не может взять свои слова назад.
Киви содрогнулся. Взглянул на Джудит, отвел глаза — и снова посмотрел на нее.
— Вы знаете, что я не могу этого допустить, — сказал он. — Хорошо, мы займемся спасением «Рейнджера». А теперь, пожалуйста, оставьте меня одного.
ЖЕРНОВА БОГОВ
Глава 1
— Вонючка! Вонючка! Вонючка!
— Дуй назад, понял? Назад давай, говорю. От тебя воняет!
— Да-а, воняет от него будь здоров. Его выращивали в навозном баке, вот где его выращивали! В старом навозном баке!
— Эй, Дэнни, это не твоя сестричка? Вон та корова, видишь? Это же твоя родная сестра! Верно, Дэнни?
Ян Свобода треснул ладонью по контрольной панели.
— Хватит! — крикнул он. — Успокойтесь и садитесь по местам!
— Пускай Дэнни-вонючка идет назад! — сказал Пат О'Малли. — Я не желаю, чтоб рядом со мной сидели всякие животные, выращенные в баках.
— Вонючка! — крикнул Фрэрк де Смет и толкнул однокашника.
Дэнни Коффин приземлился в проходе на четыре точки. Фрэнк с Патом вскочили со своих сидений и принялись его мутузить.
— Хватит, я сказал! — Свобода так хватанул по панели, что она затрещала. — Сейчас надаю кое-кому по заднице!
Он привстал и обернулся. Малышня притихла, рассаживаясь по местам. Школьный аэробус колонисты водили по очереди, и Свобода очень быстро приобрел репутацию грозного дяди. Хотя его поведение было всего лишь самозащитой. Ребятишки не были по-настоящему испорченными — просто он возил их из школы, где они вкалывали без продыха, до дома, где им предстояло вкалывать еще усерднее. Конечно, им нужно когда-то выпустить пары, однако Свобода предпочитал, чтобы они этого не делали, пока старая развалюха болтается в воздухе.
— Какие вы злюки! Зачем вы дразните бедняжку Дэнни? — протянула Мэри Локабер — сплошь длинные золотистые кудряшки и накрахмаленная блузочка. — Он же не виноват, что вырос в баке.
— Ты тоже не очень-то задавайся! — откликнулся Свобода. — Ты сама выросла в баке. Правда, баком тебе послужила матка, а не экзогенный аппарат. На днях твои родители, кстати, усыновят экзогенного ребеночка, и он будет ничем не хуже тебя. — Свобода подумал и добавил: — Разве что несчастнее. О'кей, пристегните ремни.
Паренек, над которым измывались одноклассники, шмыгнул носом, утер его и уселся рядом с Фрэнком де Сметом. Дэнни Коффин был крепко сбитый мальчуган с плоским лицом и прямыми черными волосами: сказывалась восточная примесь в хромосомах. С начала школьных занятий он ходил как в воду опущенный и даже не пытался дать сдачи, когда его били, а лишь увертывался от ударов.
Надо поговорить о нем с Сабуро, подумал Свобода. Хираяма, деловой партнер Свободы, обучал в свободное время старшеклассников приемам дзюдо. Парочка хороших ударов позволит этому затурканному мальчишке завоевать уважение… Хотя, с другой стороны, стоит ли? С нашей гравитацией, на четверть больше земной, такими вещами шутить не следует. Он поежился, вспомнив недавний несчастный случай — человека, упавшего с крыши. Ребра у него вдавились в легкие, а таз раздробило всмятку. На Земле он скорее всего отделался бы сломанной ногой.
Свобода дернул за рычаг. Несущие винты взвихрили воздух. Аэробус грузно поднимался ввысь, пока школа, видимая в окошки, не превратилась в квадратик крытых дерном крыш с пыльным двориком посередине. Вместе с ней уменьшились и бревенчатые дома поселка Анкер, а затем и вовсе слились в небольшое пятнышко в обрамлении трех блестящих нитей. Ибо здесь две речки, Быстрая и Туманная, сбегавшие с запада, с отрогов Кентавровых гор, сливались в Императорскую реку. Пейзаж внизу был зеленый, с металлическим голубым отливом. По берегам тянулись темные массивы лесов, прореженные светлыми проплешинами полей, где боролась за жизнь посеянная фермерами кукуруза и рожь. К северу лесные чащобы сгущались; на юге вздымались горы — все более крутые и скалистые, до самой Геркулесовой гряды, окаймлявшей горизонт.
Приближаясь к осеннему равноденствию, Рустам делил свой 62-часовой период обращения почти поровну между днем и ночью. Солнце стояло, клонясь к закату, над Кентавровыми горами, обагряя снежные вершины и покрывая склоны непроглядной мглой. По земле тянулись гигантские тени. Оно было чересчур большое, это солнце, слишком яркое и слишком красное; оно ползло слишком медленно по слишком бледному голубому небу.
По крайней мере так считали колонисты, выросшие на Земле. Новое поколение, вроде первоклашек в аэробусе Свободы, находило и солнце и небо вполне нормальными. Для них Земля была не более чем словом, уроком истории, звездой, которую родители называли Солнцем. После семнадцати лет, проведенных на Рустаме — да нет, черт возьми, десяти земных лет! — Свобода чувствовал, что его память о материнской планете начинает тускнеть.
— Ну, погоди, училкин любимчик! Разнюнился, разорался, сопли распустил! Погоди, завтра я до тебя доберусь!
— Прекрати, Фрэнк! — прикрикнул Свобода.
Де Смет заткнулся, одарив его злобным взглядом. В густой атмосфере Верхней Америки с давлением, более чем вдвое превышающим земное над уровнем моря, звуковые волны распространялись настолько громко и ясно, что дети так и не научились выделять звуки из шумового фона, хотя этот фокус для их родителей был естественным, как дыхание. Свобода то и дело улавливал ребячий шепот, не предназначенный для его ушей.
Глядя в зеркальце заднего вида, он заметил, как Дэнни съежился в кресле и замер в горестном одиночестве. Черный прилегающий костюм выделял его из толпы детишек не меньше, чем статус первого экзогенного ребенка, переступившего школьный порог. Одежда на других детях тоже была грубой, если судить по земным стандартам, но родители по мере сил старались разнообразить расцветку или фасон. Старый Джош Коффин, очевидно, почитал это грехом не меньшим, нежели счастье. Свобода не мог понять, почему Коффины одними из первых усыновили экзогенного малыша: то ли потому, что Тереза никак не могла зачать, то ли потому, что Джошуа счел своим долгом взвалить себе на плечи еще одно бремя? Сразу после усыновления Тереза забеременела и стала рожать одного за другим. Но Дэнни это не принесло облегчения: вместо товарищей по играм он обрел в лице братьев и сестер ревнивых соперников.
Бедный мальчишка. Но совать свой нос в семейные дела на Рустаме было не принято. Пока ребенка не обижали в открытую, приемные родители имели право воспитывать его как считали нужным, не опасаясь вмешательства ни официальных, ни частных лиц. И все же… Я мог бы посоветоваться с Сабуро. Просто посоветоваться.
Свобода сосредоточил внимание на управлении. Маршрут менялся ежедневно — дети учились в три смены, по пять часов каждая, — чтобы по возможности справедливее распределить время, потраченное на дорогу от школы до дома. Аэробус приходилось вести, руководствуясь сложным узором наземных ориентиров и не забывая о воздушных потоках. При таком давлении даже легкий порыв ветра бьет как бешеный.
В который раз уже незанятая часть сознания Яна отметила взаимосвязь явлений. Старый Торвальд Анкер с его поговоркой «нет ничего несущественного» пришел бы в восторг от того, как она подтверждается на Рустаме. Взять, к примеру, хотя бы связь между экологией и школьными аэробусами. Поскольку местная флора на плато практически несъедобна, колонисты вынуждены выращивать земные растения. Но поскольку экологическая среда, необходимая для этих растений, еще неустойчива (один из примеров тому — здешний вирус, который поражает азотсвязывающие бактерии, живущие в симбиозе с земными бобовыми), урожаи пока что скудны, и, чтобы прокормить одного человека, приходится засевать много гектаров. Поэтому большинство колонистов становятся фермерами и живут изолированно посреди огромных угодий. И поэтому они не могут обойтись без воздушного транспорта — все еще столь немногочисленного и дорогого, что им владеет вся колония сообща, — как только им нужно выехать за пределы доступного лошадям расстояния. В особенности это касается перевозки детей в школу и из школы. И поэтому опять-таки пришлось возложить обязанность вождения школьного аэробуса на людей типа Свободы, то есть не фермеров. А это обостряет конфликт между профессиональными группами.
Свобода порой сомневался, а не подгнила ли уже та свобода, за которой они все сюда примчались.
Дэнни всегда попадал домой последним, каким бы маршрутом ни шел аэробус. Коффины жили дальше всех, рядом с Расщелиной. Свобода посадил машину на площадку Коффинов, и Дэнни молча прошел мимо него к выходу.
Услышав шум посадки, на крыльцо вышла Тереза Коффин с ребенком на руках. Еще одна малышка, недавно вставшая на ножки, цеплялась за ее юбку. Ровный солнечный свет милосердно окрашивал волосы Терезы в бронзовый цвет. Она исхитрилась помахать им рукой.
— Привет! — сказала она. — Заглянете на чашечку чаю?
— Нет, спасибо, — ответил Свобода, высунувшись из окна. — Джудит ждет меня дома.
Тереза улыбнулась ему через двор — голую утоптанную землю с единственным раскидистым дубом:
— Свадебные хлопоты?
— Она по уши занята стряпней, шитьем и Бог знает чем еще, — кивнул Свобода. — Я обещал ей помочь передвинуть мебель до ужина.
— Передайте Джудит, что я привезу обещанное печенье рейсовым аэробусом от Штейн-Лейка. Мне хотелось бы испечь побольше, но… — Она неловко махнула рукой. У Коффина было уже пятеро отпрысков, включая Дэнни, и шестой на подходе.
— Спасибо. Все так стараются нам помочь! По-моему, даже слишком: повод того не стоит.
— Но, мистер Свобода! Свадьба вашей собственной дочери!
— Конечно, конечно. Я, разумеется, рад, что Джоселина выходит за такого приличного парня, как Колин Локабер, и я хочу, чтобы все было как полагается. Но пытаться устроить на этой планете свадебный пир, какие закатывали на Земле на Среднем уровне… Да еще в разгар уборки урожая… — Свобода пожал плечами. — На мой взгляд, это чересчур.
Тереза, сойдя с крыльца, подошла к нему поближе. Лицо ее, обветренное и изрезанное морщинами не меньше, чем у него, посуровело.
— Вот здесь вы ошибаетесь, — сказала она. — Для нас нынче свадьба — самое важное событие.
Он подумал о Джоселине и Дэвиде, о родившемся на Рустаме Антоне, об экзогенном малыше Гейле; отогнал от себя видение маленькой могилки за вишневым садом. Им с Джудит еще повезло. В других семьях потерь было больше, и потери будут продолжаться. И Год Болезни наверняка повторится, и буран Дня Спокойствия, и еще черт знает что. В результате естественного отбора здесь со временем получится такая здоровая и одаренная раса, какой Земля не производила уже многие столетия. Да только в волосах у Джудит уже серебрятся седые пряди — впрочем, и у него тоже. Он, конечно, еще полон сил, но горные склоны стали самую малость покруче.
— Да, — сказал он. — Вы, безусловно, правы. Я не отрицаю, что время от времени людям необходимы праздничные торжества. Я вовсе не хотел быть похожим… — Он прикусил язык, с которого чуть было не сорвалось «на вашего мужа», и быстро продолжил, надеясь, что она ничего не заметила: — Ну, мне пора. До встречи.
— До встречи, — улыбнулась она. — Я буду где-то в 39.00.
Она, наверное, ждет не дождется этого визита к Джудит, подумал Свобода. Хоть на часок удрать из дома! Ему стало так жаль ее, что он забыл про Дэнни.
Глава 2
Как и большинство зданий поселенцев, дом Коффинов был сооружен из грубо обтесанных бревен, укрепленных сталью и бетоном против мощных ветров, с погребом, служившим убежищем во время шторма. Вытянутое и низкое, прохладное летом и теплое зимой, здание не было примитивным. Помимо электричества, поступавшего с атомной станции Анкера, в доме был солнечный коллектор, который собирал энергию в подземный резервуар с испаренной водой. Освещение было флюоресцентным, отопление — лучистым. Но хотя энергии хватало с избытком, электроинструментов недоставало. Хозяйственные помещения и мастерские занимали такую большую часть дома, что троим мальчикам приходилось жить в одной комнате. На Среднем уровне Земли такие условия считались просто роскошными, подчеркивал отец.
— Но мы же не живем на Среднем уровне! — запротестовал Дэнни, когда к нему подселяли Этана и Ахаба.
— Возблагодари за это справедливость и милосердие Господне, — отвечал Коффин. — Как, кстати, и за то, что тебе не пришлось увидеть первые годы на Рустаме, когда люди жили в палатках и землянках. А я видел, как умирали мужчины, женщины и дети, когда грянул ливень: как они лежали в мутной воде, а дождь, каких на Земле отродясь не бывало, бил по их лицам.
— Ну, это было давно! — сказал Дэнни.
Приемный отец поджал губы.
— Если ты думаешь, что взрослые могут позволить себе пристраивать по комнате с рождением каждого ребенка, ты глубоко заблуждаешься, — отрезал он. — Отныне вся дойка коров будет твоей обязанностью!
— Джошуа! — крикнула мама. — Он же еще ребенок!
— Ему пять земных лет, — ответил отец.
Дэнни не стал спорить. Он усвоил урок.
Коровы ему нравились — они были теплые, добрые, от них пахло летом, — но их было слишком много. Отец отшлепал его, обнаружив, что Дэнни не выполнил задания, и лишь потом заметил, что пальцы у мальчика одеревенели и не гнутся от усталости. Тогда отец, буркнув что-то вроде: «Ладно, может, это и правда слишком», — быстро вышел из хлева. Ночью, не в силах заснуть из-за боли в руках, Дэнни встал попить воды. Из темного коридора он увидел в гостиной маму и отца. Отец выглядел грустным, а мама гладила его по голове. С тех пор Дэнни больше не был уверен, заступается ли мама за него всерьез или просто для виду.
А теперь еще эта школа. Он согласился бы доить всех коров, лишь бы не ходить туда. Он просил родителей не посылать его больше в школу, где одноклассники кричали ему: «Вонючка! Вонючка! Вырос в навозе, как жирный поросенок!» Правда, он не рассказал родителям, как его дразнили. Это было слишком чудовищно. Но он плакал. Отец велел ему перестать реветь и вести себя как подобает мужчине.
Мама спросила у учительницы, в чем дело. Миссис Антропопулос знала, что дети обижают Дэнни, и приказала им прекратить издевки, но тем самым лишь подлила масла в огонь. («Погоди, завтра я до тебя доберусь!» — шепнул ему Фрэнк де Смет. А на краю школьного двора есть сарай…) Однажды, когда Дэнни вернулся домой в слезах, мама собрала в корзинку еду и отправилась с ним вдвоем на вершину Валунной горы. Они сидели на больших камнях — он любил воображать, что их прикатили сюда великаны, — и глядели вниз на дом и амбары, на зелено-голубые луга, где овцы казались шерстяными букашками, на пашню, где отцовский комбайн тянул за собой шлейф пыли, и на Расщелину — то есть на край света. Ветер развевал мамины волосы и вздыхал в кронах деревьев, вторя ее словам. Она говорила тихо и осторожно, как порой, он слыхал, говорила сама с собой, когда отец уходил на одну из своих долгих одиноких прогулок.
— Да, Дэнни, ты другой. Но это не значит, что ты хуже. Когда ты подрастешь, то будешь гордиться своим отличием от остальных. Ты же первый экзогенный человек на Рустаме! Таких, как ты, будет много… И мы так рады, что ты у нас есть. Потому что ты нужен нам, Дэнни.
Но когда он спросил, что значит «экзогенный», она ушла от ответа.
— Ты еще маленький, — сказала она, сцепив вместе пальцы. — Когда узнаешь о том, что такое наследственность, тогда поймешь. Для этого и нужно ходить в школу — чтобы тебя научили… э-э… всему. Всему, что мы должны знать, если хотим выжить на Рустаме. И зачем мы сюда прилетели. И чтобы ты узнал о том, о чем мы никогда не должны забывать — о Земле и людях Земли… Дэнни, они дразнят тебя потому, что сами ничего не понимают. А непонятное внушает им страх. Они ведь еще дети. Ты бы тоже мог постараться… вести себя подружелюбнее, что ли. Не задавай так много вопросов учительнице, не ходи один букой, поиграй со всеми вместе… Ох, я сама не знаю, что говорю. Мы прилетели на Рустам, защищая свое право быть непохожими на других. Вряд ли мне стоит начинать все сызнова, внушая тебе, чтобы ты подделывался под окружающих просто потому, что так легче.
Ее слова напомнили ему отцовские нравоучения, и пикник сразу потерял свою прелесть. Скоро они вернулись домой.
Позже он кое-что узнал об экзогенных баках. На космических кораблях не было помещений для домашних животных. Поэтому вместо них колонисты взяли с собой яйцеклетки и сперму. Они занимали так мало места, что можно было привезти с собой миллионы потенциальных животных — коров, свиней, овец, собак, лошадей, птицы и так далее. А жизнь в них поддерживали — и на корабле, и позднее в Верхней Америке — с помощью того же анабиоза, что сохранял живыми людей. Когда колонисты обосновались на Рустаме и подготовились к приему скота, биотехники оплодотворили яйцеклетки и потом выращивали зародыши в баках, пока не получали настоящих детенышей животных.
Они с классом как-то посетили биолабораторию в Анкере и поглядели на эти баки. Дежурный лаборант объяснил, что больше животных там не выращивают, потому что домашний скот теперь размножается естественным путем. Он сказал, что многие виды земной фауны вообще не были произведены на свет, но их зародышевые клетки сохраняются на случай, если в них возникнет нужда. Лаборант показал им фотографии этих земных существ: змей, слонов, мангуст, жаб, божьих коровок и так далее.
Так что Дэнни понял, что значит «экзогенный». Он понял также, что дети растут в своих мамах точно так же, как телята в коровах, после того как папы оплодотворяют мам своим семенем. Только… не все дети. Некоторых выращивали в баках — тех же самых, где раньше растили животных. Дэнни был первым. Зачем вообще это надо? Когда он спросил, ему ответили, что планете нужны люди разных родов и видов, но он все равно не понял. И почему каждая супружеская пара обязана усыновить хотя бы одного экзогенного ребенка?
Однажды Дэнни услыхал, как молодой мистер Лассаль разворчался по поводу этой обязанности во время молотьбы. Отец тогда вышел из себя и заявил:
— Что, понятие гражданского долга вам вообще незнакомо?
Выходит, отец с мамой взяли его потому, что так велел им долг.
Остальных детей они произвели на свет добровольно; значит, они хотели, чтобы у них появились Ахаб, Этан, Элизабет, Хоуп и этот новый младенец, которого Тереза должна была родить через несколько недель. С Дэнни же все обстояло иначе. Он был гражданским долгом.
Правда, некоторые люди относились к нему хорошо. Мистер Свобода, например. Дети тоже не всегда дразнили Дэнни. Большей частью они его игнорировали, а он не вязался к ним. Но иногда они вдруг нападали на него, как сегодня. Аэробус опоздал на несколько минут, а делать после уроков было нечего, вот Фрэнк и принялся задирать Дэнни, а потом к нему присоединились остальные.
Он утер нос кулаком, надеясь, что мама этого не заметит. Она разговаривала с мистером Свободой, а с ним, с Дэнни, даже не поздоровалась. Может, не заметила? Или ей все равно? Дэнни проскользнул у нее за спиной в дом. Нужно было переодеться из школьной формы в рабочий комбинезон. Прямо сейчас приступать к работе, правда, не обязательно, но с одеждой надо обращаться поаккуратнее — ее и мастерить трудно, и чистить тоже.
Ахаб сидел на своей койке в комнате. Он был на неполный год моложе Дэнни. (То есть земной год, 139 дней. В основном колонисты пользовались рустамским календарем, но возраст считали в земных годах и Рождество справляли тоже по земному времяисчислению. Дэнни этот загадочный и всесильный земной год, которому было плевать на сезоны, часто повергал в изумление.) Ахаб был стройный, с каштановыми волосами, как и все настоящие дети Коффинов.
— Приветик, — с надеждой сказал Дэнни.
— Ну и попадет же тебе, как отец вернется домой! — заявил Ахаб.
У Дэнни екнуло сердце.
— Я ничего не сделал!
— Ты ничего не сделал, — эхом отозвался Ахаб. — Это точно. Ты не запер в шесть часов ворота на северной стороне. Мама говорит, ворота стояли настежь.
— Я запер! Запер! Я всегда запираю ворота, когда выгоняю туда отару! Прямо перед школой и запер!
— Мама говорит, ворота стояли настежь. Туда мог забраться кошак. А может, кошак туда и забрался. А может, он прячется в лесу и будет резать баранов, пока отец его не пристрелит. Ты сам просто глупый баран! — Круглое лицо исказилось злорадством. Как только Ахаб с Этаном прознали, что их старший брат экзоген (неважно, что они понимали в своем возрасте под этим словом), они тут же обратили свое знание против него, поскольку он был сильнее и больше и мама была добрее к нему.
Они не задумывались о том, насколько добрее был к ним отец.
— Нет! — крикнул Дэнни и выбежал из комнаты.
Мама вернулась в дом и перепеленывала Хоуп.
— Мам, это не я, не я! Я знаю, что запер ворота! Я точно знаю!
Она обернулась.
— Точно? — спросила она.
— Я знаю!
— Дэнни, дорогой, — мягко проговорила она, — никогда не забывай о том, что объективность превыше всего. Это длинное слово, но одна из причин, почему мы прилетели на Рустам, заключается в том, что люди на Земле стали его забывать и оттого сделались несчастными, нищими и нечестными. — Тереза положила малышку на кровать, присела на корточки, взяла Дэнни за плечи и посмотрела ему в глаза. — Объективность означает стремление всегда быть правдивым. И в первую очередь быть правдивым с самим собой. Это труднее всего — и нужнее всего.
— Но я запер ворота! Я всегда их запираю. Я знаю, что в диких лесах есть плохие звери. Я не забыл.
— Дорогой мой, ворота сами не могли отпереться. А ты там был последним передо мной. Я понимаю, как все вышло. Тебе не нравится школа, и ты так глубоко задумался о ней, что забыл про ворота. Я знаю, что ты не нарочно. Но не надо прятаться от правды.
Он сглотнул подступившие слезы. Отец твердит, что Дэнни уже большой и ему не подобает быть таким плаксой, как… как Этан.
— М-м-может быть. Прости меня.
— Вот и молодец. — Она взъерошила ему волосы. — Я на тебя не сержусь. Я просто хотела, чтобы ты признал свою ошибку. Мы хотим, чтобы люди на Рустаме никогда не лгали самим себе. Я очень рада, что ты понял.
— А… а папа узнает?
Она прикусила губу.
— Кто-нибудь наверняка проболтается, — сказала она больше самой себе, чем ему. И живо добавила: — Не бери в голову. Я ему объясню, что ты не виноват.
— Ты всегда… — Он не смог выговорить дальше, просто вырвался из ее рук и ушел к себе в комнату. Она всегда говорила, что он не виноват, а отец никогда ей не верил.
— Ну, парень, и попадет же тебе сегодня! — тут же завелся Ахаб.
Дэнни не обратил на него внимания. Ахаба это задело сильнее оплеухи.
— Вонючка, вонючка, вонючка, как же тебе попадет, экзоген ты паршивый! — затянул он нараспев.
Дэнни переоделся и пошел в гостиную. Ахаб его преследовать не стал.
— Мам, можно я пойду погуляю?
Глаза у нее затуманились.
— Опять? Мне не нравится, что ты так часто гуляешь один. Я думала… — Лицо ее озарилось ясной улыбкой. — Я думала после ужина, когда я поеду к миссис Свободе, забросить тебя к Гонзалесам. Ты мог бы поиграть с Педро.
— Да ну его, мам. Он маленький, мне с ним не интересно. Мне нравится гулять одному, честное слово. И ничего со мной не случится. Видишь, я надел браслет! — Дэнни поднял руку. На запястье блеснул металлический ободок с нашлепками. Отец объяснил ему, что это транзисторный радиопередатчик и что если он, Дэнни, заблудится или попадет в беду, то любой взрослый с помощью локаторной антенны сможет его найти.
Слова звучали для Дэнни слишком мудрено, но главное он понял: если он будет носить браслет, его разыщут без труда. И действительно, пару раз он заблудился, и оба раза его быстро нашли. А потом отец варил ему горячий шоколад и рассказывал истории о короле Артуре.
Сегодня Дэнни хотелось не столько гулять, сколько уйти из дома.
— Ну что ж… Ладно, — сказала мама. — Только не забудь: через час пора кормить и доить коров. А потом я буду печь печенье для свадьбы мисс Свободы. Хочешь помочь?
— Ну-у… — Дэнни не хотелось огорчать ее отказом, но все-таки стряпня — это девчоночья работа. — Нет, спасибо. Честно говоря, не хочу. Пока.
Он прошел мимо амбара, перемахнул через изгородь, которой был огорожен клеверный лужок, и устремился через нетронутую высокую траву и подлесок на восток, к своему излюбленному местечку на краю Расщелины — то есть на краю света.
Глава 3
В Верхней Америке не существовало официального правительства. Возникавшие время от времени политические проблемы решались во время телесовещаний. Возникали они нечасто, так что большинство традиционных функций государства можно было предать забвению — военную оборону, например, — или передать в руки добровольных объединений. Со временем официальная структура на планете, конечно, усложнится, но это произойдет естественным образом и в рамках конституционалистской философии.
Так, по крайней мере, надеялись основатели колонии.
Однако кто-то должен был следить за выполнением немногочисленных законов, вести теледебаты, улаживать споры, присматривать за деятельностью таких общественных служб, как медицина и образование, и собирать налоги, чтобы их финансировать. Всем этим занимался мэр, избираемый сроком на семь лет (четыре и одна десятая по земному летоисчислению), если только он не потеряет вотум доверия раньше. Терон Вулф пока не потерял.
Его офис был расположен на втором этаже библиотеки и выходил окнами на Быструю речку. Зеленые воды ее бурлили под деревянным мостом. Правда, сейчас, когда солнце зашло, а луны еще не появились, за окном было темно. Но плеск воды доносился через открытое окошко, и вместе с ним струилась прохлада, принесенная рекой с заснеженных горных вершин.
Джошуа Коффин запахнул кожаную куртку. Вулф, необъятный и уютный в своей шерстяной мантии, отороченной мехом попрыгунчика, скосил глаз в сторону окна.
— Можете закрыть его, если дует, — предложил он.
Коффин сморщил нос:
— Честно говоря, я лучше померзну, чем травиться вашим табачищем.
Вулф взглянул на тонкую дешевую сигару, зажатую между пухлых пальцев.
— Дайте срок, — сказал он. — Это всего лишь третий урожай табака. Грубоват он, конечно, но после стольких лет воздержания… Дайте срок, и он помягчает: лист станет мягче или почва изменится — в общем, фермеры что-нибудь придумают.
— Лучше бы они пшеницей занимались, больше толку было бы. — Коффин сжал губы. — Ну да ладно, я не о том. Полагаю, вы знаете, зачем я пришел.
— Ваш сын пропал, я знаю. Мне очень жаль.
— И никто не хочет помочь его найти.
— Ну, не может быть. Мне говорили…
— Да, да, да. Мои соседи обшарили ближайшие участки прошлой ночью и сегодня днем. И больше не хотят. — Коффин ударил костлявым кулаком по обтянутому черной брючиной колену. — Они отказываются продолжать поиски.
Вулф пригладил ладонью волосы, от которых уже мало что осталось, и водрузил на нос старомодные очки. Единственный оптик в Анкере не дорос еще до изготовления контактных линз. Мэр выпустил струю дыма и ответил:
— Если, как вы говорите, собаки потеряли след у Расщелины, а сигналов от браслета мальчика запеленговать не удалось…
Голос Коффина сделался таким же резким, как его черты. Он повернул голову к окну и уставился во тьму.
— Ничего удивительного, что собаки потеряли след, — сказал он. — Там так сыро, что запахи улетучиваются за пару часов. Но браслет не мог выйти из строя.
— Даже если — простите меня! — парнишка заблудился и попал кошаку в лапы? Зверь мог проглотить браслет целиком, а желудочные кислоты…
— Чушь! — Коффин рывком повернул седую голову. Флюоресцентный свет потолка бросил тени на его глаза и прочертил на лице глубокие морщины. — Последнего крупного хищника в этой районе застрелили лет пять назад. Если бы один из них бродил по лесам, собаки давно бы его учуяли и подняли такой лай, что Лазарь и тот бы проснулся. Передатчик просто не может сломаться. Его рабочие части забраны сталью с тефлоновым покрытием. Он аккумулирует солнечную энергию. В сущности, это простейшее устройство, превращающее беспорядочные излучения в радиоволны определенной частоты. Ночью передатчик работает на микробатарейках, которые целый день подзаряжаются энергией солнца. Переносной пеленгатор может засечь его на расстоянии десяти километров.
— Вы напрасно мне все это объясняете, — мягко прервал его Вулф. — У меня есть внуки. — Он пригладил свою бородку. — Чем же вы объясняете неудачу с пеленгом?
— Тем, что мальчик прошел больше десяти километров, прежде чем заблудился, а потом так и не приблизился на нужное расстояние к границам поиска. — Коффин ткнул пальцем в сторону мэра. — А поскольку мы обыскали плато в радиусе пятидесяти километров, это означает, что он спустился в Расщелину. Жена говорит, он часто сидел там над обрывом и мечтал.
— Я знаю Дэнни, — сказал Вулф, который знал всех и каждого. — У него слишком высокий индекс интеллекта для счастья, но он парнишка разумный. Зачем ему лезть в Расщелину? Вы ведь его предупреждали, верно?
— И не раз. — Коффин посмотрел в окно, собрался с духом и вновь повернулся к Вулфу. — Жена говорит, он был расстроен, когда уходил. Дети задразнили его, и вдобавок он забыл запереть ворота и… и боялся, что я разозлюсь, когда вернусь с поля. Если он так часто мечтал о землях, лежащих под облаками… — Коффин был не в силах продолжать.
— Да, звучит правдоподобно. — Вулф прищурился на струйку дыма, выпущенную изо рта, и добавил: — Кстати, я уже говорил по телесвязи с некоторыми из ваших соседей. Они объяснили, почему отказываются спускаться с обрыва. Риск безумно велик. Особенно сейчас, в разгар страды. Если ливни загубят урожай на корню, всей колонии будет грозить голодная зима.
— Я готов рискнуть своей жизнью и урожаем!.. — Коффин опомнился. Краска залила его впалые щеки. — Простите меня, — пробормотал он. — Грешен, каюсь. Гордыня духовная. Я взываю к вам, мэр, как… как отец.
— Давайте обойдемся без сантиментов, — довольно холодно ответил Вулф.
— Как вам угодно. Я готов выполнить свой долг перед мальчиком и считаю, что сделал еще не все, что мог. Такая формулировка вас устраивает?
— Вполне. Но чем я могу вам помочь?
— Аэробус…
— Боюсь, это исключено. Вы знаете, какие вихри там в облаках, я уже не говорю о давлении! Ни один из наших неуклюжих аэробусов не выдержит, они и так летают на честном слове. У нас есть несколько мощных аэрокаров в приличном состоянии, да вот беда — пилотов нет. Люди вроде нас с вами уже разучились управлять воздушным транспортом: нам слишком редко приходилось летать на Рустаме, и мы определенно разобьемся о скалы. Наши постоянные водители аэробусов тоже не справятся. Я уже выяснял. Они говорят, что в принципе могли бы спуститься на аэрокаре до уровня моря, если бы не надо было держаться в пределах десяти километров от гор. Но ведь именно это и требуется от воздушного спасателя! Только О'Малли, Херцкович или ван Цорн могли бы решиться на такой сумасшедший полет, но они, как назло, ищут залежи меди в Искандрии. То есть за полпланеты отсюда. Мы не в состоянии связаться с ними даже по радио: наш передатчик мог бы послать сообщение на такое расстояние, но их приемники его не поймают, разве что случится какое-нибудь атмосферное чудо.
— Я знаю! — Коффин почти что криком прервал ровное, быстрое и вежливое журчание голоса мэра. — Вы думаете, я не вникал в детали? Конечно же, спасателям придется идти на своих двоих.
Я-то пойду, но идти одному — типичное самоубийство. Можете вы заставить кого-нибудь сопровождать меня? — И, не скрывая неодобрения: — Вы же отлично владеете искусством принуждения.
— Что в результате даст два самоубийства вместо одного, — проговорил Вулф, гораздо менее удивленный этим выпадом, чем ожидал Коффин.
— Люди и раньше спускались в Расщелину на несколько километров, даже ниже облаков, и благополучно возвращались.
— Осторожно выбирая самые надежные тропки. Вы же помчитесь сломя голову, стоит вам только засечь радиосигнал. — Вулф нахмурился. — Простите меня, Джошуа, но Дэнни уже, по-видимому, мертв. Если он и впрямь спустился в Расщелину (а склон там такой крутой, что через десять километров пути мальчик оказался бы пятью километрами ниже плато), если, повторяю, он и впрямь спустился на такую глубину, то воздух его доконает.
— Нет. Давление на глубине пяти километров действительно вызывает отравление углекислым газом у большинства людей, вы правы. Но Дэнни выносливее большинства. Его, например, никогда не одолевает зевота в душном помещении. И вообще, отравление на такой глубине не смертельно, если только не начнется азотный наркоз.
— А если он спустился еще ниже? Не забывайте, атмосферное давление возрастает почти по экспоненте с приближением к уровню моря. Почувствовав слабость и головокружение, мальчонка наверняка побрел дальше вниз, пока не свалился. Вряд ли он в таком состоянии сделал попытку взобраться наверх. К тому же он настолько оголодал, что смерть была бы для него избавлением.
— Дэнни пропал сотню часов тому назад, — так же угрюмо ответил Коффин. — Прибавьте еще сотню на поиски. За это время можно, конечно, умереть голодной смертью. Но не обязательно, особенно в его возрасте. И я уверен, что он не польстится на ядовитые плоды. Я молю Бога только об одном: чтобы мальчику хватило здравого смысла сесть, не двигаясь с места, когда он понял, что заблудился, и беречь силы. Разве не могло такого быть?
Тишина окутала комнату, лишь снаружи доносился холодный плеск реки. Потом на лесопилке взвизгнула электропила и смолкла. На Рустаме давно установился такой режим: десять-одиннадцать часов сна сменялись двадцатью часами бодрствования. В Анкере люди сейчас трудились, несмотря на ночную мглу. Пронзительный взвизг пилы заставил Коффина вздрогнуть и пробудил Вулфа от размышлений.
— Я, в общем, в курсе дела, — сказал мэр. Он и правда тщательно просмотрел все записи, касающиеся Дэниела Коффина: генетические, медицинские, школьные, а также записи сплетен. Мэр ничего не упускал из виду, хотя и делал это ненавязчиво. — Я ждал вашего визита и догадывался, какой план спасения вы предложите. Если я пытался вас разубедить, то лишь для того, чтобы удостовериться, что вы серьезно настроены.
— Иначе я бы не пришел.
Вулф вздернул брови и продолжил:
— Я пытался уговорить людей принять участие в спасательной экспедиции. Фермеры отказались, ссылаясь на жатву и слишком большой риск. Все они считают своим первостепенным долгом долг перед собственными семьями. Тем более что вы, откровенно говоря, далеко не самый популярный человек в Верхней Америке. Но теперь я хочу попробовать уговорить кого-нибудь, не занятого сельским хозяйством. Можно начать с Яна Свободы, например.
— Это который добывает железную руду? — Коффин потер свой длинный подбородок. — Я едва знаком с ним. Хотя моя жена с ним дружит.
— Я как раз думал о нем, когда вы пришли. Главным образом меня вдохновило расположение шахты Свободы. Она находится на северном склоне, тремя километрами ниже поверхности плато. Ян привык к высокому давлению, что немаловажно, и к нахождению в верхнем слое облаков, что еще важнее. — Вулф покачал головой. Свет заиграл отблесками у него на лысине. — Мы на удивление мало знаем о Рустаме, — задумчиво проговорил мэр. — Первая экспедиция осмотрела всего лишь небольшой участок одного плато на одном из континентов. Мы, колонисты, по уши заняты обустройством и выживанием, нам некогда исследовать нижние земли. Я вспоминаю, с какой легкостью мы болтали на Земле о планетах, будто это какие-то новые города, а не целые миры! Все познания Свободы и его многолетний опыт уместятся в одном параграфе толстенного географического тома, в котором будет когда-нибудь описан Рустам.
— Что толку попусту языком-то молоть, — пробурчал Коффин.
— О'кей. — Круглый живот мэра поднялся над столом, и тучная фигура с неожиданной легкостью устремилась к двери. — Мой служебный аэрокар припаркован рядом. Поехали в гости к Свободе!
Глава 4
Ракш, дальний спутник Рустама, восходил уже на небосводе, когда Вулф посадил аэрокар. Почти круглый диск, в наиболее близкой к планете точке он выглядел вдвое больше, чем Луна с Земли, — щербатый медный щит, озаривший далекие снежные вершины и засверкавший инеем в траве. Ракш восходил на западе. Медленно, очень медленно; 53 часа длился его видимый период — почти вдвое дольше периода обращения вокруг Рустама, — так что можно было наблюдать, как меняются его фазы и размеры, пока он висел на небе. Крохотная Сухраб тоже взойдет на западе, но невысоко — и тут же скроется за южным горизонтом.
Казалось бы, здесь, на Рустаме, с его двумя лунами, и звезды должны были выглядеть как-то по-особенному. Но они были лишь более тусклыми из-за густой атмосферы. Звезд Эридана из Верхней Америки видно не было, и созвездия на небе сияли все те же, привычные с Земли: Орион, Дракон, Большая Медведица, Кассиопея. Небольшие сдвиги в положении смог бы заметить разве что астроном. (Даже Солнце мерцало прямо над Волопасом, когда Ракш не затмевал его слабенького мерцания.) Двадцать световых лет, четыре десятилетия полета — мелочь для Галактики.
Коффин поежился, выйдя из машины. Изо рта вылетал белый пар. Холодный, призрачный свет струился над садом, окружавшим дом, серебрил длинные листья раскидистого дуба, расписывал узорчатой тенью ветвей тонкую наледь пруда. Покинутое осенью, но все еще светящееся фосфоресцирующими грибками гнездо птицы феникс висело на дереве, словно фонарик гоблина. Голубое мерцание накрыло крылом темнеющий за домом лес, откуда доносились трели ящерицы-певуньи, очень похожие на первые три такта старинной шотландской баллады. Ветер, медлительный и тяжелый, шелестел увядающей листвой совсем не так, как шелестит он в октябре в Новой Англии или вообще где-нибудь на Земле.
Но зато — в противоположность весне и лету, когда дикая живность Рустама оглашала ночи руладами, воплями и рыками, — было тихо. Гулко звенели шаги по мерзлой земле. Коффин с удовольствием, в котором не хотел себе признаться, ощутил тепло, обдавшее их из открытой двери, откуда струился желтый свет.
— О! Заходите же… — сказала Джудит Свобода. — Я не ожидала…
— Ян дома? — спросил Вулф.
— Нет, в шахте. — Она окинула их долгим взглядом, и краска сбежала с ее лица. — Я позвоню ему.
Пока она разговаривала по видеофону, Коффин примостился на краешке кресла. Вулф непринужденно обрушил свои телеса на кушетку, заставив ее застонать. Гостиная была просторнее, чем в других домах. Потолочные балки, каменный камин и лоскутные дорожки вызвали у Коффина такой приступ ностальгии, что он, до боли прикусив губу, вынужден был напомнить себе, что на Земле подобных домов давно уже не существует. Теперь, когда заработавший фотопринтер позволил распечатать в натуральную величину заснятые на пленки книги, в домах появились библиотеки. В гостиной у Свободы полки были уже заполнены, и репринтные томики Омара Хайяма, Рабле и Кэбелла стояли так, чтобы детям было легко до них дотянуться.
Джудит заглянула в комнату.
— Он вернется, как только сможет, — сказала она. — Ему нужно отключить автоматический черпак, потому что Сабуро занят ремонтом экскаватора: там какие-то неполадки с компьютерным управлением. — Она поколебалась. — Может быть, выпьете чаю?
— Нет, благодарю вас, — ответил Коффин.
— С превеликим удовольствием, — отозвался Вулф. — И если у вас завалялась парочка ваших знаменитых ягодных пирожных…
Она благодарно улыбнулась ему.
— Конечно, — сказала она и скрылась на кухне.
Вулф протянул руку к ближайшей книжной полке, вытащил томик и закурил очередную сигару.
— Я уже и не надеюсь, что когда-нибудь сумею понять Дилана Томаса, — сказал мэр, — но мне нравятся его стихи. К тому же я сомневаюсь, что он хотел быть понятым.
Коффин сидел, выпрямив спину и глядя в стену.
Вскоре Джудит вернулась с подносом. Вулф отхлебнул из чашки и причмокнул.
— Превосходно! — заявил он. — Вы, дорогая моя, можете по праву претендовать на звание первой леди Рустама, возродившей настоящее искусство заваривания чая. Я уже не говорю о том, что листья, выращенные здесь, приобретают какой-то особый привкус, так ведь еще и температура кипения на двадцать градусов отличается от земной! Какую смесь вы завариваете? Или это секрет?
— Нет, — сказала она рассеянно. — Я напишу вам рецепт… Извините за беспорядок. Свадебные приготовления, сами понимаете. Бал завтра после захода солнца. Но вы, конечно, и так знаете, вы же получили приглашения… — Она осеклась. — Простите, мистер Коффин, мне так жаль!
— Ничего страшного. — Коффин тут же понял, что сказал что-то не то, но не сумел найти верных слов.
Она, казалось, не заметила его оплошности.
— Я говорила с Терезой, — продолжала она. — Вряд ли у меня хватило бы мужества держаться так, как она.
— Если это должно было случиться, — проговорил Коффин, — то слава Богу, что пропал не ее собственный ребенок.
Джудит покраснела от возмущения.
— Думаете, для Терезы есть разница? — воскликнула она.
— Нет. Извините меня. — Он потер глаза большим и указательным пальцами. — Я так устал, что не соображаю, что говорю. Не поймите меня неправильно. Я буду продолжать поиски до тех пор, пока… пока мы не узнаем, по крайней мере, что произошло.
Джудит взглянула на Вулфа.
— Если Дэнни погиб, — сказала она дрогнувшим голосом, — вы должны дать Терезе другого экзогенного ребенка, и чем скорее, тем лучше.
— Если она захочет, — ответил мэр. — Мальчик прожил дольше минимально установленного срока. Она не обязана брать еще одного.
— В глубине души она захочет, я ее знаю. А если она сама не попросит, заставьте ее. Ей необходимо поверить, что это… что это не ее вина.
— А как вы думаете, Джош? — спросил Вулф.
У Коффина горели уши. Эти двое обсуждали его личные семейные дела. Но они желали ему добра, и он не смел обидеть жену Яна Свободы.
— В любом случае, — с трудом выговорил он, — мы обязаны будем взять ребенка, это наш долг.
— К черту долг! — вспылила Джудит.
Коффин был так измотан, что безотчетно поддался прежней привычке монаха-космолетчика обращаться с женщиной как с неразумным дитем. И сказал:
— Неужели вы не понимаете? Три тысячи колонистов не в состоянии обеспечить генофонд, достаточный для выживания вида. Особенно на чужой планете, где необходимо максимальное разнообразие человеческих типов, чтобы люди быстрее адаптировались к непривычным условиям. Экзогены, достигнув зрелости, станут прародителями миллиона новых родов.
— Джудит — женщина образованная, — сказал Вулф.
— Ну да. Конечно. Я не… Я хотел… — Коффин сжал кулаки. — Прошу прощения, миссис Свобода.
— Все в порядке, — довольно сухо отозвалась Джудит.
Не похоже, чтобы ее обидела его глупая лекция. Но тогда что? То, что он назвал усыновление экзогенных детей долгом? Но разве это не так?
В гостиной повисла тягостная тишина. Коффин с облегчением услышал шум дрезины Яна Свободы. Шум походил на стихающий стон, сменившийся ровным и тихим гудением. Предусмотрительно приняв во внимание проблему транспорта, Свобода построил свой дом рядом с железнодорожной веткой, соединявшей его шахту со сталеплавильней в Анкере.
Стон вновь раздался и утих, когда Ян отослал дрезину обратно и вошел в дом. Брюки на нем были заляпаны маслом, пятна от красного железняка разрисовали куртку.
— Добрый вечер, — бросил он гостям.
Коффин встал и обменялся с хозяином коротким рукопожатием.
— Мистер Свобода… — начал он.
— Я слыхал о вашем мальчике. Это ужасно. Я бы сам приехал на поиски, но Изя Штейн убедил меня, что ваши соседи могут прочесать все окрестности.
— Да. Могут, но не хотят. — И Коффин выложил Яну то, о чем говорил мэру.
Свобода взглянул на жену, на Вулфа, потом опять на жену. Она стояла, прижав ко рту ладонь, и смотрела на него огромными глазами. Его собственные глаза сделались непроницаемыми, а голос лишился всякого выражения:
— Значит, вы хотите, чтобы я спустился с вами в Расщелину? Но если мальчонка там, он уже погиб. Я понимаю, это звучит жестоко, но такова реальность.
— Вы уверены? — спросил Коффин. — И вы со спокойной совестью останетесь дома, в полной уверенности, что шансов на спасение нет?
— Но… — Свобода сунул руки в карманы и уставился в пол. На щеках заиграли желваки. — Давайте будем предельно откровенны. По-моему, шансы найти мальчика живым крайне невелики, в то время как вероятность погибнуть самим более чем реальна. На Рустаме, где нужна каждая пара рук, это непозволительная расточительность.
— Нет, мистер Свобода! — в сердцах вскричал Коффин. — Такая откровенность не предельна, она бесчеловечна!
— Не более чем ваши заявления в Год Болезни, что мы не должны засыпать камнями могилы умерших, чтобы дьяволы-падалееды могли их выкопать и сожрать.
— Тогда положение было почти безвыходным. К тому же мертвым все равно.
— Зато их близким не все равно. И вообще, Бога ради, чего вы ко мне привязались? Я занят.
— Приготовлениями к свадьбе! — прорычал Коффин.
— Свадьбу можно отложить… Если тебе надо идти, — прошептала Джудит.
Свобода подошел к ней, взял ее руки в свои и спросил как можно мягче:
— Ты думаешь, надо?
— Я не знаю. Ты сам должен решить, Ян. — Она высвободила руки. — У меня не хватает духу давать тебе советы.
Джудит вдруг повернулась и вышла из комнаты. Они услышали ее торопливые шаги, удаляющиеся по коридору к спальне.
Свобода рванулся было за ней, потом остановился и посмотрел на незваных гостей.
— Я остаюсь при своем мнении, — бросил он. — Кто из вас осмелится назвать меня трусом?
— Я считаю, что тебе следует еще раз подумать, Ян, — сказал Вулф.
— Вы? Вы так считаете? — изумился Свобода.
Коффин тоже разинул от удивления рот. Оба они воззрились на тучную фигуру на кушетке. Это говорил мэр, который голосовал против погребальных пирамид в год повального мора; который отговорил фермеров от истребления рогатых жучков, убедив их, что лучше понести некоторые убытки при сборе урожая, нежели подвергнуть последующие поколения опасности расплаты за возможное нарушение экологического равновесия; который подкупил Гонзалеса и пригрозил ему судебным иском, чтобы тот отказался от своего неразумного проекта постройки плотины на Туманной речке; который удержал молодого Трегенниса от строительства фабрики стиральных машин (грозившей, по мнению мэра, поглотить слишком много ограниченных ресурсов колонии) тем, что выиграл капитал Трегенниса в покер…
— Я уверен, что шансы вовсе не так уж ничтожны, — заявил Вулф.
Свобода взъерошил волосы. На лбу у него заблестела испарина.
— Я не отказываюсь помочь ребенку в беде, — запротестовал он. — Если бы была хоть какая-то вероятность найти его живым, я бы непременно пошел. Но такой вероятности нет. А у меня жена, и двое моих собственных детей еще маленькие, и… Нет. Мне чертовски жаль. Но в Расщелину я не полезу. Не имею права.
Коффин выдавил из себя:
— Что ж, вижу, вас не переубедить. Надеюсь, вы понимаете, что делаете. — Усталость согнула его плечи тяжким грузом. — Пойдемте, мистер Вулф.
Мэр встал:
— Я бы хотел поговорить с Яном с глазу на глаз, если вы не возражаете. — Вулф взял хозяина под руку, увел его в коридор и закрыл за собою дверь.
Колени у Коффина подогнулись, и он рухнул в кресло. Господи, оказаться бы сейчас в космосе! Голова безвольно упала на спинку кресла; он прикрыл воспаленные, огнем горевшие глаза.
Но слух у него не притупился, даже наоборот. Осознав, что приглушенный голос Вулфа достигает его ушей, Коффин решил встать и отойти подальше. Но у него не было сил. К тому же не имело значения, что скажет Вулф. Теперь уже ничто не имело значения. А голос мэра продолжал журчать:
— Ян, ты должен согласиться. Мне не хочется откладывать свадьбу твоей дочери и еще меньше хочется подвергать опасности твою жизнь. Но ты практически единственный человек, способный спасти мальчика — или найти его тело — и вернуться назад. Ты просто обязан попробовать.
— Ничего я не обязан, — мрачно ответил Ян. — Ты не можешь меня заставить. Общество не имеет права принуждать индивида, за исключением тех случаев, когда опасность угрожает всему обществу. А это не тот случай.
— Но твоя репутация…
— Вздор! Ты сам знаешь: каждый житель Верхней Америки меня поймет. — Свобода начал терять самообладание. — Боже мой, Терон! Отстань от меня! Мы прошли вместе такой долгий путь, мы вместе начинали на Земле проект колонизации… Ты же не хочешь перечеркнуть все одним махом?
— Нет, конечно. Я хочу совсем другого: чтобы ты заработал себе репутацию героя. Помимо чести для твоей семьи и чисто эгоистического удовлетворения, это могло бы оказаться полезным для дела. Рабочих рук у нас, как ты знаешь, не хватает, и хозяин, желающий нанять себе работников, должен быть фигурой популярной. Ты говорил, что хочешь расширить свое предприятие.
— Хочу, но не до такой степени. Терон, мой ответ — «нет», и мне очень больно повторять его вновь и вновь. Иди домой.
Вулф вздохнул:
— Ты сам меня вынуждаешь. Мне совсем не доставляет удовольствия шантажировать людей.
— Что?
— Мне известно про тебя и Хельгу Далквист. Про вашу ночь прошлым летом.
— Что-что? Что ты сказал? Это ложь!
— Спокойно, сынок. Я нем как рыба… в большинстве случаев. Но я могу доказать свое утверждение. Естественно, мне совершенно не хочется причинять боль твоей жене…
— Ты, паршивый жирный слизняк! Это было минутное наваждение! Мы оба напились, и… и ее муж тоже. Для него это будет еще больнее, чем для Джудит. Ты понимаешь? Он хороший парень. Мне больше было стыдно перед ним, чем перед собственной женой. Все вышло как-то нечаянно, мы просто поддались порыву… Хельга и я… Ты будешь держать свою поганую пасть на замке!
— Ну конечно. Если ты согласишься попробовать спасти Дэнни.
Коффин снова попытался встать, на сей раз более успешно. Ему не следовало слушать этот разговор. Он подошел к окну и уставился во мрак, чувствуя, как его переполняет ненависть к Рустаму, презрение к Свободе и осознание своей неизбывной вины.
Дверь за спиной отворилась. В гостиную вошел Свобода, говоря почти весело, чем окончательно поставил Коффина в тупик:
— …и спасибо. Ты настоящий провокатор, но я об этом не очень жалею. — Он сделал паузу. — Я буду у вас за час до восхода солнца, мистер Коффин.
Глава 5
Восточный склон плато Верхняя Америка не спускался вниз полого, как все прочие склоны, а обрывался неприступной крутизной. Километр за километром уходили вниз острые скалы, стометровые осыпи сменялись бездонными пропастями, и так до самых облаков, скрывающих нижние склоны. Только там, где геологические сдвиги раскололи горы и миллионолетняя эрозия выгрызла в них узкие, как раны, ущелья, мог попытаться пройти человек. Некоторые и пытались, но никому еще не удавалось спуститься до самого низа.
На уровне плато Расщелина была шириной около пяти километров. Книзу она расширялась. Хотя Свобода видел это уже не первый раз, он, раздвинув густой карминный кустарник, смотрел вниз с благоговейным трепетом.
Над головой выгнулось шатром предрассветное небо — пурпурное на западе, где последние звездочки мигали над горбом Центавра, голубое в зените, которого достиг уже побледневший Ракш, и почти белое на востоке. За спиной лежало плоскогорье — огромное, темное и тихое; верхушки деревьев вспыхивали изморозью в первых отсветах зари. Из-под ног вниз убегал скалистый обрыв, серо-голубой с красными и желтыми прожилками, с пятнами кустов, как-то умудрившихся вцепиться в него корнями, — убегал все дальше и дальше, до каменистой осыпи, более полого, но тоже уходившей вниз. Прямо впереди не было ничего, кроме морозного воздуха, и лишь приглядевшись, можно было различить на противоположном краю Расщелины высокую скалу и причудливую, бесконечно сложную игру светотени на ее челе. Меч-птица величиной с земного кондора парила вверху, посверкивая стальными перьями.
— Нам сюда, — сказал Коффин. Голос его ворвался громким диссонансом в утреннюю тишь. Камешки вприпрыжку разбежались из-под башмаков, покатились к краю обрыва и сорвались в пропасть.
Свобода поплелся следом. Рюкзак на плечах и пистолет на боку пригибали его к земле. Как и его спутник, Ян оделся для вылазки в грубую домотканую куртку и штаны цвета хаки; однако его спальное и кухонное походное снаряжение вызвало бы зависть у Дэниела Буна. Опыт первой экспедиции, дополненный вылазками самих колонистов, позволил усовершенствовать технику передвижения по дикой местности.
Жаль только, что этот опыт ограничивался в основном пределами плато. Люди, бросив быстрый взгляд на леса под облаками, тут же возвращались назад. Дел было по горло и на плоскогорье, так что соваться в низины, где ты едва мог дышать, никого без нужды не тянуло. В прошлом году Джон О'Малли спустился на аэрокаре до самого моря, отделавшись всего лишь жестокой головной болью; но мало кто из людей был способен выдерживать такое давление углекислого газа и азота. О'Малли сам сомневался, что смог бы протянуть там несколько дней.
А следовательно, Дэнни… Свобода поморщился. Ему не хотелось видеть труп мальчика. Он уже, должно быть, сильно разложился, если только до него не добрались дьяволы-падалееды или воронье.
— Вот, — сказал Коффин. — Здерь собаки потеряли след.
Свобода осмотрелся. Они достигли середины ущелья. Заваленное беспорядочно разбросанными камнями, оно змеилось, уползая вниз; почти отвесные стены его вздымались в поднебесье. А внизу клубились облака.
Ян не приглядывался к ним, когда смотрел в Расщелину с плато. Тогда облака были всего лишь белым покрывалом где-то в глубине. Но теперь они виднелись прямо по курсу. Половинка эпсилона Эридана, показавшаяся над скалами на востоке, заливала зыбкую белоснежную равнину ослепительным светом. К ногам ложились тени километровой длины. Ущелье начало заполняться туманом, серым и плотным, словно стена, поверх которой курился золотистый дымок. Свобода затаил дыхание. Как давно он уже не встречал рассветов над Расщелиной! И следом пришла мысль о том, насколько все-таки прекрасна эта планета — ее летние леса, ступенчатые водопады, Королевское озеро, бирюзовое по утрам и аметистовое вечерами, двойная лунная дорожка, дрожащая на водах Императорской речки… Вопреки всему он был рад, что попал на Рустам.
И не хотел окончить свою жизнь в Расщелине.
— Дэниел любил сидеть на этом валуне, поросшем ликоподием, — показал Коффин. — Он выдумывал самые невероятные истории о землях, лежащих под облаками. Во всяком случае, он предавался подобным фантазиям, когда был совсем маленьким. Я, разумеется, его не поощрял.
— Почему? — спросил Свобода.
— Что? — не понял Коффин. — Почему не поощрял?.. Но ведь это неправда! Вы, как конституционалист…
— Анкер никогда не говорил, что мечты и воображение — неправда, — отрезал Свобода. И, взяв себя в руки, продолжил: — Ладно, не будем углубляться в теории детского подсознания. Вы уже были здесь?
Коффин кивнул длинной костлявой головой:
— Первые два километра я обшарил очень тщательно и дважды вчера спускался сюда, даже немного ниже. А дальше… — Он пожал плечами. — Дальше увидим.
Он вытащил из кармана браслет-передатчик и положил его на валун, с которого Дэнни любил наблюдать за золотистым дымком. Несколько таких радиомаяков укажут им обратную дорогу.
— Пошли.
Коффин зашагал вниз по ущелью. Свобода последовал за ним. Туман, как река, поглотил их, скрыв лз виду солнце. Туманные пары могли часами висеть вровень с краями плато. Ждать, пока они рассеются, было некогда. И потом, не здесь, так ниже, все равно придется пробиваться сквозь туманы. Более горячий, чем Земля, и покрытый более обширными океанами, Рустам практически всегда был окутан слоем облаков. Плоскогорья, возвышавшиеся над этим слоем, представляли собой особую климатическую зону, чаще всего засушливую и бесплодную. Верхней Америке повезло — ее снабжали осадками еще более высокие горы, Кентавровы и Геркулесовы, так что влажность на плато была вполне приличной. Судя по скудным и отрывочным сведениям, можно было предположить, что облачный слой служил также границей между двумя зонами жизни.
Свобода сосредоточился на процессе ходьбы. Камни ускользали из-под подошв и с дьявольской точностью материализовывались прямо перед носками ботинок. Приходилось перелезать через нагромождения валунов; обходить кругом скалистые глыбы; пробираться через острые зубья обломков; съезжать по скользким крутым осыпям. Воздух сгущался, пока не превратился в сырую мглу. Коффин смутной тенью маячил впереди, а стены ущелья справа и слева спрятались за туманной кисеей.
Свобода прервал долгое молчание:
— Есть какие-нибудь следы на локаторе?
Коффин машинально оглянулся на черный ящик, пристегнутый к рюкзаку. Настроенная на длину волны браслета Дэнни направленная антенна вращалась на шарнирах в разные стороны.
— Нет, конечно, — ответил он. — Мы не дошли даже до границы моего вчерашнего спуска. Если будет сигнал, я вам сообщу, не бойтесь.
— Потрудитесь изменить свой тон! — вспылил Свобода. — Вы позвали меня на помощь.
— Дэнни нас обоих позвал на помощь.
— Сейчас не время для сантиментов. Тем более таких дешевых.
Коффин остановился и резко повернулся. На секунду лицо его ясно проглянуло в тумане — лицо и сжатый кулак. У Свободы замерло сердце. Пожалуй, мне лучше извиниться…
— Укрепи дух мой, Господи, — проговорил Коффин и продолжил путь.
Только не перед этим узколобым пуританином, решил Свобода.
И они пошли дальше. Шквальные порывы ветра шумели в ушах и гнали в лицо туман, не в силах разогнать его совсем. Почва становилась все влажнее, пока не заблестела в полумраке. Капли сочились с каждого камня, между валунами побежали ручейки, ключи забили на каждом шагу. Громкий рокот водопадов доносился со склонов гор, невидимых в клубящемся пару. И здесь не росло ни одной травинки. Двое человек, казалось, были единственными живыми существами.
— Погодите-ка минутку, — сказал наконец Свобода.
— В чем дело? — голос Коффина заглушала всепроникающая сырость.
— Мы вошли в слой постоянных облаков. Вы когда-нибудь спускались так низко?
— Нет. И что с того?
— Ну, моя шахта, например, находится немного выше. Но иногда, по той или иной причине, я спускался примерно на такую глубину или даже чуть ниже. Кроме того, существуют отчеты нескольких исследовательских экспедиций. Мы вступаем в опасную зону.
— Что в ней такого опасного? Это мертвая зона.
— Не совсем. Спуск будет все более крутым и скользким, ветер — просто чудовищным, а видимость нулевой. Нужно заранее подготовиться к дальнейшему пути. И вообще, пора сделать привал и подкрепиться.
— В то время, как Дэнни умирает, быть может?
— Не сходите с ума. Мы не поможем ему, если загоним себя до смерти.
Свобода присел и снял рюкзак. Через минуту к нему присоединился Коффин, недовольно бурча себе под нос. Они расстелили непромокаемую пленку, уселись на нее, разломили плитку шоколада и зажгли термокапсулу под чайником.
С точки зрения медицины кипятить воду не было необходимости — даже воду из самых зловонных болот нижних земель. Немногочисленные здешние болезни, которым были подвержены люди, все до единой передавались воздушным путем. Это было приятной стороной биохимической монеты; ее оборотной стороной была непригодность в пищу большинства местных растений. С животными дело обстояло немного лучше, поскольку желудок в состоянии расщепить самые экзотические белки, но даже съедобные животные не обеспечивали полноценного питания, к тому же среди них попадались разновидности не менее ядовитые, чем растения. Оборотной стороной мясной монеты был тот факт, что некоторым рустамским хищникам пришлась по вкусу человеческая плоть.
Свобода хотел горячего чаю, потому что он промок, продрог и устал.
— В поясе облаков сильная водная эрозия, — сказал он. — Камни будут крошиться. Нам надо пристегнуть подошвы с шипами и связаться веревкой. — Он вздохнул. — Не обижайтесь, но я предпочел бы в попутчики более опытного альпиниста.
— Вы могли взять с собой Хираяму, разве нет?
— Нет, не мог. Он пошел бы, если бы я попросил. Но я не просил. Я вообще ничего ему не сказал.
Коффин сжал челюсти. Воцарилось молчание; только ветер свистел и подвывал, да лопотали веселые ручейки. Наконец бывшему космолетчику удалось совладать с собой, и он спросил ровным тоном:
— Почему? Ведь чем больше в экспедиции людей, в особенности искусных скалолазов, тем больше надежда на успех.
— Да. Но Сабуро также отец семейства. И если я погибну, он продолжит работу в шахте и таким образом обеспечит доход и моим близким.
— Ваши близкие могли бы сами устроиться куда-нибудь. Рабочие руки у нас нарасхват.
— Я не хочу, чтобы Джудит работала. И дети тоже, пока не подрастут.
— Иначе говоря, вы предпочитаете сделать из них тунеядцев?
— Какого черта! — Свобода привстал. — Вы берете свои слова обратно, или я тут же ухожу домой!
— Никуда вы не уйдете! — прорычал Коффин.
— Еще как уйду!
— Вы с мэром Вулфом… Радуйтесь, что Господь не покарал вас за грехи еще суровее!
— Ты, пуританин хренов, так ты еще и подслушивал! А ну, вставай! Вставай, пока я не вышиб из тебя мозги!
Коффин помотал головой:
— Нет. Сейчас не время для драки.
Туман кружился и свивал водовороты. Чайник закипел. Коффин залил чай кипятком. Свобода стоял над ним, тяжело дыша.
Коффин медленно склонил голову. Краска стыда залила его щеки.
— Извините меня, — пробормотал он. — Я не хотел подслушивать, я случайно услышал. Это не мое дело. И мне ни в коем случае не следовало так говорить. Обещаю: впредь это не повторится.
Свобода закурил сигарету, присел и молчал до тех пор, пока не заварился чай и в руках у него не оказалась полная чашка. В конце концов, избегая смотреть на своего спутника, он сказал:
— О'кей, я согласен, сейчас не время ссориться. Но называть мою семью тунеядцами я все равно не позволю. Разве это тунеядство, если женщина — вдова, например, — ведет домашнее хозяйство и воспитывает детей? Разве школьник или студент — тунеядец?
— Нет, наверное, — ответил Коффин без особой убежденности.
— У нас с вами нечто вроде социального конфликта. — Свобода попытался улыбнуться, чтобы разрядить атмосферу. — Вы, фермеры, не любите нас, предпринимателей, потому что мы конкурируем с вами за обладание техникой, которой все еще не хватает. Но под внешним конфликтом подспудно зреет другой, более глубокий. Думаю, это неизбежно. Люди научного склада в основном тяготеют к деятельности, не связанной с сельским хозяйством. Они несколько прагматичнее фермеров и, я бы сказал, гедонистичнее. Мне частенько приходилось слышать ворчание фермеров по поводу того, что Верхняя Америка превращается в новую механизированную и пролетаризованную Землю.
— Это одна из причин, почему я выбрал фермерство, несмотря на свою прежнюю профессию, — признал Коффин.
Свобода уставился в клубящуюся мглу.
— Нам не о чем беспокоиться, по крайней мере в ближайшие столетия, — сказал он. — В нашем распоряжении целая необжитая планета.
— В том-то и дело, что не целая, — возразил Коффин, — а всего лишь несколько плоскогорий, к тому же в основном бесплодных. Мы заселим их за несколько поколений. А дальше что? Нужно заранее думать о будущем. Надо целенаправленно создавать свою культуру, чтобы она не угодила в ту западню, в какую попала Земля.
— Да, я слыхал подобные рассуждения. Хотя я лично не представляю себе, как вы сможете направлять развитие культуры по строго определенным рельсам, не потеряв при этом свободы, ради которой мы сюда заявились.
— Может быть, вы и правы. Хотя, на мой взгляд, вы сильно переоцениваете значение свободы… Впрочем, я ведь никогда не был конституционалистом. Но я твердо убежден, что никакая свобода немыслима без свободного пространства. Как может человек стать личностью, если ему негде пообщаться с Господом наедине? А в Верхней Америке через столетие-другое яблоку некуда будет упасть.
— Когда-нибудь появятся люди, способные жить на уровне моря. Природа позаботится о том, чтобы вывести такую породу.
— Лет через тысячу? И что это даст? От вашего либертарианизма и моего индивидуализма (а они не тождественны) к тому времени давно и следа не останется. — Коффин тоже вперил взгляд в зыбкую белую пелену. — И все-таки интересно: что там, под облаками, скрывается?
— Это всем интересно.
— Э-э… Мне кажется, вы как-то упомянули о том, что в облачном слое есть свои формы жизни. — Коффин явно стремился увести беседу в отвлеченное русло.
Свобода ничего не имел против.
— Вы слыхали о туманопланктоне? Хотя вам-то вряд ли приходилось с ним сталкиваться, он редко поднимается так высоко. О нем вообще мало что известно, кроме того, что он состоит из крохотных организмов — растительных, животных и промежуточных — и все они плавают в постоянном облачном поясе. У меня есть своя теория по этому поводу. Я думаю, все начинается с того, что ветер выдувает частички горных пород и приносит их сюда, где капли воды растворяют содержащиеся в них минералы. На Земле такое вряд ли возможно, но здесь, где есть плотный облачный слой и атмосфера, способная удерживать в себе довольно большие капли, в облаках может скопиться значительная концентрация ионов минералов. Углекислого газа тут в избытке, солнечного света тоже достаточно, хотя на первый взгляд и не скажешь. Так что, я полагаю, микроскопические формы жизни наловчились питаться этим жиденьким минеральным супчиком, а их самих стали поглощать чуть более крупные формы и так далее. Естественно, это живое покрывало очень разреженное — в лучшем случае десяток крошечных, с булавочную головку, живых существ на кубический метр. Но все-таки это жизнь. И одна из разновидностей местной фауны, превосходящая человека размерами, если не весом, питается туманопланктоном.
— Вы имеете в виду воздушных дельфинов? Я слыхал о них краем уха.
— Их мало кто видел. Я за многие годы несколько раз с ними сталкивался, и то мельком. Не далее как вчера один из них висел возле моей шахты. Хотя все логично: если дельфины кормятся туманопланктоном, то их и не может быть много. Я рассматривал их в бинокль. Они похожи на толстые сигары и передвигаются с помощью своего рода реактивного двигателя. Это опять-таки только догадка, но я думаю, их удерживает в воздухе большой внешний пузырь, наполненный биологически генерированным азотом; они всасывают воздух, поглощают из него планктон, а воздух выпускают из зада струей и таким образом передвигаются. Медлительные, безмозглые и безвредные. Я бы с удовольствием одного из них препарировал.
Коффин кивнул.
— Какой бы ничтожной ни была плотность планктона в среднем, — сказал он, — воздушные вихри должны создавать локальные концентрации. Атам, где восходящие потоки воздуха омывают голые скалы, как здесь, например, облака более минерализованы и планктон в них гуще. Наверное, именно это и привлекает дельфинов. — Он помолчал немного и спросил: — А дышать планктоном не вредно, как вы думаете?
— Постоянно я бы не советовал, — отозвался Свобода. — Силикоз можно заработать запросто. Но проходить сквозь него время от времени, думаю, не опасно. Те, кто исследовал облака до нас, вернулись невредимыми. Не исключено, конечно, что там есть какие-нибудь химикаты, из-за которых лет через десять разовьется рак легких. Кто знает? Но я сомневаюсь.
Коффин пожал плечами:
— Через десять лет в больнице будет полно противораковых средств. — Он осушил свою чашку. — Ну что, пошли?
Свобода заставил его промаяться еще полчаса, пока не отдохнул. Затем они надели шиповки, упаковали рюкзаки и связались веревкой. Свобода пошел впереди, ощупью спускаясь по незнакомому склону, все круче убегавшему вниз между невидимыми скалами. Туман был густой и вязкий; ручейки соединились в поток, и путникам пришлось пробираться вдоль него. Вода была серозеленой от минеральной пыли, с белыми барашками, шумной, торопливой и холодной.
Ян потерял ощущение времени. Ничего не осталось, кроме усталости в плечах и коленях, влажности прилипшей одежды, ударов ветра, скользкой дороги под ногами и сырости, забившей ноздри. Но он не забывал об отчете спускавшихся сюда ранее скалолазов. У них не было возможности составить точную карту, но они отметили все ориентиры, какие смогли. Там, где поток падает с высокого обрыва, нужно свернуть в сторону и идти вдоль уступа… И что это, если не грохот водопада, доносится сейчас из облаков?
Да, все правильно. Ян подал Коффину знак остановиться. Мокрая каменистая тропа обрывалась — и ничего, кроме тумана, не было видно впереди, словно они очутились на краю Гиннунгагапа. Слева река исчезала за гранью обрыва, и только шум, усиленный и подхваченный ветром, свидетельствовал о том, что ее не всосал в себя туман. Справа смутно выступал из скалы огромный мыс, будто сторожевая башня у замка великанов. Камень был выщерблен и изрезан непогодой. Узенький уступ, уходивший наклонно вниз, очевидно, и представлял собой тропинку. Верхушка утеса скрывалась в облаках, но скалолазы примерно определили его высоту по отражению звука. Сто или пятьдесят метров, сколько они там насчитали?
Свобода показал на уступ.
— Вот единственный путь вперед, — промолвил он. — На радиолокаторе, как я понимаю, по-прежнему ничего? Тогда малыш скорее всего спустился вниз. Он не мог остаться где-то выше в стороне, иначе мы непременно поймали бы сигнал. Если только его браслет не сломался.
— Вы зря теряете время, повторяя очевидные вещи, — проворчал Коффин.
Взглянув на изможденное лицо космолетчика, Свобода решил не обижаться и сказал как можно мягче:
— До сих пор спуск не был слишком трудным для здорового мальчугана, не обремененного поклажей. Я вполне допускаю, что он забрался сюда, пытаясь убежать в волшебную страну. Потому что он мог в любой момент вернуться назад, если бы захотел. Но, оказавшись здесь…
— Он вполне мог пойти дальше.
— Сомневаюсь. Поймите, проделав такой путь, он наверняка уже забыл про свои обиды. Он проголодался и замерз. А здесь начинается трудный участок — узкая и явно опасная тропинка. И, главное, к тому времени уже сгустились сумерки. Предположим, Дэнни просто не подумал о том, что его может застигнуть здесь ночь; но он не мог не понимать, что, ступив на эту тропу, отрезает себе легкий и быстрый путь домой.
— Зачем же он туда пошел? Признаюсь, ваши доводы меня озадачили. Дэнни мальчик неплохой, вы же знаете. По крайней мере, Терезу он любит, даже если… Нет, все равно не понимаю.
Свобода собрался с духом и сказал то, что Коффин не в силах был выговорить вслух:
— Если Дэнни оступился на этой тропинке и упал… Тут высоко. Браслет мог разбиться о камни.
Коффин ничего не ответил.
— И в таком случае нам его не найти, — закончил Свобода.
— А может, ему удалось спуститься? — выдохнул Коффин.
— В темноте? А затем, значит, он удалился отсюда на десять километров по прямой? Бьюсь об заклад, это не меньше тридцати километров пути по земле. Нет, простите меня, но давайте думать головой. Дэнни где-то у подножия этого утеса. — Свобода помолчал и тихо добавил: — Он, должно быть, умер мгновенно.
— Но мы в этом не уверены! — сказал Коффин. — Запасов еды у нас хватит, чтобы продолжать поиски до ночи и еще весь завтрашний день. Мы не имеем права останавливаться.
Какого черта я должен лезть головой в петлю? — подумал Свобода. Чтобы тебя не мучила совесть за то, как ты обращался с парнишкой? Другой причины продолжать этот фарс попросту нет.
Если не считать Терона с его грязным шантажом. Свобода задохнулся от злости.
— О'кей, — сказал он. И презрительным, резким тоном провел технический инструктаж.
Они начали спуск по ленте уступа. Шум водопада вскоре затих, поглощенный каменной стеной; но вода сочилась по утесу и капелью срывалась вниз. Порой тропинка расширялась так, что можно было нормально идти, но порой сужалась до того, что приходилось передвигаться боком, вжимаясь лицом в шершавый камень. Никакого шанса подкрепить силы едой и отдыхом у них не будет, пока они не достигнут нижнего склона, а судя по отчетам исследователей, до него еще несколько часов пути. Нужно было пообедать, прежде чем ступать на эту тропу. Но Свобода со злости забыл про еду. Теперь желудок напомнил о себе ворчанием. Начали слабеть ноги, и Свобода старался не думать о том, что будет, если приступ головокружения или неожиданный порыв ветра заставят его потерять равновесие.
Потерять равновесие и свалиться вниз. Десять — пятнадцать минут осознания своей неминуемой гибели, а потом — темнота.
Так было и с Дэнни. Внезапный ужас, свист воздуха в ушах…
Свобода пошатнулся.
Свист повторился. Твари, спикировавшие на Яна сверху, расцветкой и крючковатым клювом напоминали меч-птиц. Но размах крыльев у них был раза в два больше. Они кинулись на путников так стремительно, что те не успели вытащить оружие.
Когти ударили Свободу в грудь. Острый клюв вспорол рюкзак. Ян упал и скатился с тропинки.
Коффин напрягся что было сил. Шипы на подошвах вонзились в трещины в камне. Из отверстий выползли аварийные лезвия и накрепко пригвоздили ноги к тропе. Но Свобода своим весом тянул его вперед. Коффин рывком накренил туловище назад, стараясь устоять на ногах. На него спикировала вторая птица. Коффин, прикрыв рукой глаза, вслепую нашарил пистолет и выстрелил.
Птица вскрикнула. Полуоболочечная пуля пробила в огромном туловище сквозную дыру. Саданув Коффина крылом по голове, тварь упала. Ее товарка отцепилась от Свободы и кругами парила над ним, готовясь к новой атаке. Свобода вытащил свой пистолет. Перед глазами все плыло, прицелиться он не мог, поэтому переключил оружие на автоматический огонь и принялся поливать воздух свинцом.
Две окровавленные туши рухнули вниз и пропали за облаками.
Минуту спустя Свобода, собравшись с силами, схватился за веревку, уперся ногами в скалу и вскарабкался на уступ. Коффину, служившему якорем, эуа процедура далась нелегко — он был почти без сознания. Свобода, сняв с него шиповки, уложил его и подсунул под голову рюкзак. На левой щеке у Коффина зияла рваная рана, правый висок заплыл кровоподтеком размером с ладонь. Свобода был в лучшей форме. Толстая куртка защитила его от птичьих когтей, а рюкзак смягчил удары клюва, хотя и куртка и рюкзак были разодраны. Но наступившая вслед за напряжением реакция совсем его обессилила.
Когда Коффин очнулся, Свобода дал ему стимулирующую таблетку и проглотил полтаблетки сам. Теперь можно было поговорить.
— Что, черт возьми, это было? — просипел Коффин.
— Какая-то неизвестная разновидность меч-птицы, — сказал Свобода. Он все еще возился с шиповками Коффина, выдирая их из тропы и засовывая аварийные лезвия обратно в щель, где их держала специальная пружина. Свободе не хотелось углубляться в детали пережитого кошмара. — Летучие твари, живущие под облаками, как правило, превосходят размерами своих высокогорных сородичей. Давление держит их в воздухе.
— Но я считал, что облака представляют собой границу…
— Да, обычно так оно и есть. Но порой гигантские меч-птицы вылетают из облачного слоя. Они, наверное, охотились за воздушными дельфинами — это для них лакомая добыча. Но мы им, видно, тоже приглянулись. Там, внизу, где их крылья работают в полную силу, они наверняка способны схватить и унести животных размером с нас. Здесь им этот фокус не удался. Но если бы они скинули нас в пропасть, результат был бы тот же.
Коффин закрыл руками лицо.
— О Господи! — простонал он. — Точь-в-точь чудовища из Апокалипсиса!
— Забудьте о них. С ними покончено, и я не думаю, чтобы здесь была целая стая. Вряд ли они часто поднимаются так высоко, иначе кто-нибудь их непременно бы заметил. — Свобода прикрепил шиповки на ботинки Коффина. — Вы сможете идти? Вывихов, растяжений нет?
Коффин встал и осторожно размял конечности.
— Я в порядке. Синяки и шишки, ничего серьезного.
— Тогда пошли.
Свобода повернулся, намереваясь обойти Коффина.
— Эй! — рявкнул тот. — Куда это вы намылились?
— Назад, куда же еще? Вы же не думаете продолжать спуск, когда…
Коффин с такой силой сдавил запястья Свободы, что оставил на них отметины.
— Нет! — заявил он. Слово камнем покатилось вниз.
— Послушайте, во имя Анкера! Эти птицы — они же наверняка были здесь и вчера… Теперь мы знаем, что случилось с Дэнни!
— Нет, не знаем. Если даже они убили его, браслет должен был уцелеть.
— Но если он испугался, увидев их, если побежал по тропинке и сорвался… И если передатчик разбился о камни…
— Если, если, если! Мы идем вперед, я сказал!
Свобода уставился в горящие фанатизмом глаза. Коффин стоял, непрошибаемый как скала. Ян отвернулся.
— О'кей, — сказал он с ненавистью.
Глава 6
Спустившись к подножию утеса, они очутились под облаками, и Расщелина слилась с окружающим горным пейзажем. Горы спускались все ниже, к прибрежным равнинам, но череда вершин и впадин, горных кряжей и долин оставалась невидимой для путников, ибо в тумане появились корявые деревца, и вскоре лес поглотил людей. Насколько быстро понижалась местность, они могли судить теперь лишь по показаниям анероида или по тому, с какой скоростью деревья становились выше, воздух теплее, а голова тяжелее. Иногда в просветах между кронами проглядывали далекие горы, уходящие верхушками в облака. Слышно было, как стремительно бежали реки в своих глубоких руслах. Но все заслонял собою лес.
Если парнишка каким-то чудом добрался сюда, то здесь он сбился с пути в момент. Спасатели повесили на дерево еще один браслет-маяк, проверили компас и шагомер и продолжили спуск по спирали, насколько это позволяла пересеченная и поросшая деревьями местность.
В конце концов им пришлось остановиться, поужинать и лечь спать. К счастью, дождя не предвиделось, так что путники быстро подогрели немного еды и надули мешки. Укрепив на бревне сторожевые фотоэлементы, чтобы они прощупывали своими лучами окрестности, Свобода провалился в сон.
Его разбудило жужжание. Спросонья ему показалось, что жужжат дозорные устройства, но потом он понял, что это всего лишь сигнал наручных часов. Вставать не хотелось. Несмотря на усталость, спал он плохо. Все мышцы болели, голова раскалывалась, в мозгу туманными видениями всплывали ночные кошмары. Свобода разлепил веки. В запекшемся рту был противный привкус.
— Держите!
Коффин, уже одетый, протянул ему флягу. Свобода взглянул на спутника: весь помятый, подбородок зарос щетиной, плоть словно стаяла с костей. Но движения энергичны, почти лихорадочны, а голос звенит от возбуждения.
— Вставайте, да поскорее! Мне нужно кое-что вам показать.
Свобода жадно напился, плеснул водой в лицо и вылез из мешка. Легкие ходили ходуном. Судя по показаниям барометра, давление впятеро превышало земное. А поскольку углекислый газ тяжелее кислорода и азота, то его концентрация была еще выше. Свобода попытался умерить дыхание, но головная боль и туман в мозгу не давали сосредоточиться.
Он оделся и подошел к Коффину, сидевшему на земле рядом с переносным лабораторным столиком, на котором стояло несколько пробирок и миниатюрный электронный прибор с четырьмя циферблатами. Возле столика лежали овальный желтый плод, гроздь красных ягод, мягкий клубень, несколько разного вида орехов и какие-то ампулы. Свобода не мог понять выражения лица своего компаньона. Что это — надежда, страстное желание, благодарность, благоговение?
— Чем вы тут занимаетесь? — спросил Свобода.
— Тестирую пищу. Вы что, никогда не видали таких аппаратов?
— Таких — нет. Я бывал у Лея в лаборатории, когда он проверял образцы растений и мяса. Впрочем, к его приборам я особенно не приглядывался.
Коффин рассеянно кивнул, не отрывая глаз от аппарата. Потом заговорил торопливо и сбивчиво, явно не прислушиваясь к собственным словам, мешая в кучу общеизвестные и новые для Свободы факты:
— Да, конечно. Агротехнические данные по Императорской долине были получены еще первой экспедицией. Лей расширил сферу исследования, изучая образцы, доставленные из пустынь, с горных вершин и других континентов, а также немногочисленные виды фауны и флоры нижних земель, попадавшие к нему в лабораторию. Вместе с другими специалистами он сделал несколько основополагающих открытий. Странно, что вы не слышали о результатах его работ, хотя они и далеки от вашей профессиональной деятельности. Все здесь, на Рустаме, с головой ушли в собственные заботы, все стараются по мере сил приспособиться к чуждым условиям. Но если мы не в состоянии пока издавать научный журнал, может, следовало бы проводить периодические совещания, как вы считаете?
Правда, Лей сделал свои выводы совсем недавно. Со временем вы непременно услышали бы о них, поскольку они представляют интерес для всех без исключения поселенцев. Лей доказал то, о чем и раньше многие догадывались: что количество опасных для человека соединений на Рустаме небезгранично. То есть один и тот же химический ряд воспроизводится постоянно, так же как в земных растениях находят одни и те же крахмалы, сахара и кислоты. Теоретические исследования позволили Лею предсказать некоторые факты. Так, например, он обнаружил, что ни одно местное растение не может содержать никотина, поскольку тот вступал бы в реакцию с ферментом, существенным для рустамского фотосинтеза.
На основании своих фундаментальных открытий Лей разработал этот переносной аппарат для тестирования. Любой образец, будь то мясо или овощ, который благополучно прошел через серию испытаний — простых электронных и оптических тестов на изменение окраски и осадкообразование, — любой такой образец с высокой степенью вероятности может считаться съедобным. В местной пище наверняка будет недоставать витаминов и прочих необходимых для нас веществ, но для поддержания жизни на какое-то время они вполне пригодны. Лей раздал такие аппараты всем фермерам, выразившим желание попробовать окультурить местные растения. А в скором времени он планирует снарядить экспедицию в нижние земли, чтобы расширить программу тестирования. Мы с вами чисто случайно его опередили.
— Вы хотите сказать… — Заторможенное сознание Свободы не воспринимало значения услышанного. — Вы хотите сказать, что тестировали эту дрянь всю ночь?
— Я все равно не мог заснуть. И я специально взял с собой аппарат, так что… Лей хочет организовать экспедицию как можно скорее. Плоскогорья и нижние земли — совершенно разные экологические зоны. Проверив несколько образцов нижнеземельных растений, Лей высказал предположение, что здесь гораздо больше съедобных сортов, чем наверху. Похоже, он не ошибся. Я собрал эти плоды в радиусе ста метров от нашей стоянки. Все они съедобны. — Коротко остриженная голова склонилась к земле. — Отец небесный! — пробормотал Коффин. — Благодарю Тебя!
— Вы уверены? — Свобода разинул рот от изумления.
— Я сам их попробовал пару часов назад. Пока все в порядке. Между прочим, они довольно вкусные. — Коффин улыбнулся. Улыбка казалась вымученной, но все-таки это была улыбка. — Сейчас, осенью, в лесу полно таких плодов. Ядовитые тоже, конечно, есть, но они очень похожи на наши высокогорные растения. Даже листья не отличаются.
— Черт меня раздери! — У Свободы подкосились колени, и он осел на землю. — Вы попробовали их!..
Коффин ответил с какой-то странной беззаботностью:
— Тесты показали, что плоды неядовиты. Но чтобы удостовериться окончательно, надо было их съесть. Если будет на то Божья воля и мы найдем Дэнни живым, значит, они действительно безвредны.
— Но… Если вам вдруг станет плохо… Я не смогу вас отсюда вытащить! Вы умрете!
— Вы поняли, к чему я веду? — продолжал Коффин, не обращая внимания на его слова. — Добравшись сюда, Дэнни уже сильно проголодался. Он ведь еще ребенок, он наверняка забыл про запреты и сорвал что-нибудь с дерева. Но я думаю… Я надеюсь, что Господь укрепил его разум и мальчик не тронул плодов, ядовитых на вид. Надеюсь, он, как и я, нашел съедобные. И поскольку я не отравился, с ним тоже все должно быть в порядке. К тому же теперь нам с вами нечего беспокоиться о пропитании. Мы можем жить на подножном корму и искать еще несколько дней.
— Вы в своем уме? — возмутился Свобода.
Коффин принялся разбирать аппарат.
— Почему бы вам не приготовить завтрак, пока я упаковываюсь? — мягко спросил он.
— Послушайте… Минуточку! Нет, вы послушайте! Я буду продолжать поиски до заката, поскольку запасов нормальной еды у нас как раз на день. А потом мы устроимся на ночлег…
— Зачем? У нас есть фонари. Ночью тоже можно искать, пусть и медленнее.
— Затем, что сломать ногу в какой-нибудь звериной норе — это почти такая же верная смерть, как и вверять себя вашему первобытному Богу! — взорвался Свобода. — Завтра на заре я возвращаюсь.
Коффин побагровел, но сдержался.
— Давайте не будем спорить, — сказал он чуть погодя. — Может, мы найдем Дэнни еще до ночи. А теперь пора позавтракать.
Ели они молча. Чтобы отвлечься от боли в затылке и мускулах и снять внутреннее напряжение, Свобода переключился на окружающий пейзаж.
Каким бы тяжелым ни был воздух, Ян не мог не признать, что вид вокруг исполнен величия. Они сидели на лужайке; ветер гнал по ней голубовато-зеленые травяные волны. Густой кустарник пламенел гроздьями рубиновых ягод. Лужайку окружали высокие деревья с мощными кронами. Одни слегка напоминали виргинские дубы со стволами, поросшими чем-то вроде земного моха. Другие походили на можжевельник, только с корой темно-красного цвета. И были еще стройные и белые деревья, увенчанные замысловатым кружевом листвы. Между стволами рос подлесок — тонкие гибкие стебли, обрамленные бахромой. Когда ветер или нога задевали их, тихий шелест рябью катился вперед. Поднимаясь кверху, минуя высокие арки ветвей, взгляд утыкался во тьму листвы — но не кромешную, оживленную мерцанием пурпурных и золотистых фосфоресцирующих грибков.
Небо над головой было молочным. Оно рассеивало свет настолько, что невозможно было определить местоположение солнца. И ничто здесь не отбрасывало тени. Но света вполне хватало: глазу было даже приятно после многих лет ослепительного сияния, в котором купалась Верхняя Америка. Несколько обычных дождевых облаков бежали под постоянным слоем. (Впрочем, он не был таким уж постоянным; в нем то и дело появлялись восхитительно голубые просветы.) Ветер раскачивал деревья.
Если бы только не этот воздух/— подумал Свобода.
Если, как показали тесты Коффина, местные нижнеземельные растения для человека не только безвредны, но и полезны, людям на Рустаме предстоит испытать двойные танталовы муки. Поселись колонисты здесь, им бы все равно пришлось выращивать земные сорта, чтобы питание было полноценным, но в несравненно меньших количествах, чем на плато. Скажем, зерновые и картошку — они в здешних условиях плодоносили бы прекрасно. И люди свободно могли бы расселиться по всей планете… Да только проклятая атмосфера не позволит.
Свобода исподтишка взглянул на Коффина. Долговязое тело космолетчика утратило свою обычную напряженность; умиротворение разлилось по истощенному лицу. Он, конечно же, воспринял свое открытие как благую весть, как возможность искупить вину перед Дэнни, которому он позволил убежать. Сколько он будет блуждать тут, прежде чем поймет, что мальчик лежит мертвый у подножия утеса? Пока кто-нибудь из нас не погибнет тоже? Долго ждать не придется — здесь, в хаосе чуждой жизни, где каждый вдох отравляет наши тела…
Я не останусь тут с этим безумцем.
Свобода коснулся рукой пистолета и снова бросил взгляд в сторону Коффина. Но отпустит ли он меня?
Ян принял решение. Не стоит затевать ссору сейчас, ведь впереди еще двадцать с лишком светлых часов. Но завтра утром или сегодня вечером, если Коффин будет настаивать на продолжении поисков в темноте, его придется обезоружить и привести домой под дулом пистолета.
Интересно, поблагодарит ли меня Тереза? Или мне придется молить о прощении?
Свобода затушил окурок.
— Пошли! — сказал он.
Глава 7
Кризис наступил во второй половине дня, ближе к вечеру.
Они потеряли всякое ощущение времени. Разумеется, иногда они глядели на часы и отмечали, безразлично и отрешенно, что стрелки указывают то на одни, то на другие цифры. Все чаще они устраивали привалы, но, как правило, просто ложились на спину и смотрели вверх. Пару раз они машинально что-то пожевали, выпили чаю. Есть не хотелось, вялость сковала все тело.
Наркоз, подумал Коффин. Мозг его с трудом подтаскивал одно слово к другому. Переизбыток углекислого газа. А теперь начинается перенасыщение азотом. Кислород, хоть его тоже много, не помогает. Он просто застревает в легких.
Да будет воля Твоя. Но на помощь Божью надеяться больше не приходилось. Съедобные плоды не были благой вестью о милосердии. Это просто показалось — что Он, накормивший детей Израиля в пустыне, не позволит Дэнни умереть. Но, обнаружив за стеной виноградника колючий терновник, Коффин понял, что еда была всего лишь испытанием. Раз Господь дал им возможность обследовать этот адский котел во всех подробностях, значит, раб Божий Джошуа должен исполнить Его волю.
Нет, я, наверное, схожу с ума. Вообразить, что Всевышний переделает планету — или сотворит ее изначально пять миллиардов лет назад — лишь для того, чтобы меня покарать?!
Я просто пытаюсь выполнить свой долг.
О, Тереза, утешь меня в моих страданиях! Но ее глаза, и руки, и голос остались там, за облаками. А здесь только лес, одолевший его, Коффина, и дыхание, со стоном вырывающееся из горла. Только жара, й жажда, и боль, и тяжелые чужие запахи, и корневища, предательски попавшие ему под ноги, так что он налетел на дерево.
Где-то злорадно закаркало воронье.
Коффин потряс головой, чтобы прояснилось в мозгах. Это оказалось ошибкой. Череп словно разрезало болью пополам. Может, проглотить еще таблетку аспирина? Нет, надо поберечь запасы.
В голове промелькнуло: какая все-таки странная штука жизнь! Если бы не сообщение с Земли, посланное вдогонку флотилии, он и по сей день был бы космолетчиком. Стоял бы сейчас рядом с Нильсом Киви под новым солнцем на какой-то совсем другой планете. Хотя вряд ли. Скорее всего Земля прекратила посылать аргонавтов к звездам, и пустые корабли бесцельно крутятся вокруг планеты, на которой не осталось больше людей, жаждущих неизведанного. Но Коффину нравилось представлять, что его старые друзья по-прежнему заняты своим делом. Имеет же право человек помечтать, наглотавшись за день пыли на тракторе!
Но тогда я не женился бы на Терезе.
И вдруг простая истина, каждый день бывшая у него перед глазами с тех пор, как он заново обрел надежду, потрясла его. Прозрение вспыхнуло с такой силой, что он остановился, задыхаясь. Тереза не была утешительным призом! Если бы он мог повернуть время вспять и все изменить, он не сделал бы этого.
— Что с вами? — просипел Свобода.
Коффин оглянулся. Лицо его спутника под темной шевелюрой — лицо с крючковатым носом, изможденное, залитое потом и заросшее щетиной, — казалось, плавало в тумане зноя и безмолвия на фоне безбрежной зеленой листвы.
— Ничего, — ответил он.
— По-моему, нам пора сворачивать. — Свобода показал на компас, пристегнутый к поясу. — Если мы хотим идти по спирали.
— Не сейчас, — сказал Коффин.
— Почему это?
У Коффина не было сил для объяснений. Он отвернулся и шатаясь побрел вперед. Свершившийся в сознании переворот целиком захватил его, не оставив места для слов.
Но тело его слишком ослабело, чтобы удержать в себе ощущение чуда. Он решил сосредоточиться на первоочередной задаче: вернуть Терезе сына. Заплутавший и испуганный ребенок должен был машинально идти вперед и вниз, а не блуждать кругами. Поэтому прямая линия подходит для поиска больше, чем спираль. А так ли это? Оставалось только надеяться. Но Господь не осудит его за ошибку. В любом случае Он простит его — ради Терезы. Ибо нельзя ставить себе жизненной целью стремление Джонатана Эдвардса[8] избежать адского пламени: нужно просто быть справедливым и честным.
Достичь этой цели человеку не дано. И меньше всех — ему, Джошуа Коффину. Но он пытался… Иногда. И старался воспитывать своих детей в том же духе. Им это пригодится, и не только ради идеала как такового: стремление к цели придаст им сил, чтобы выжить на жестокой чужой планете. Ну вот, опять он несправедлив. Рустам не жесток, Рустам просто огромен. И, как часто внушала ему Тереза, одной честности недостаточно. И выживания ради выживания тоже недостаточно. Нужна еще и доброта. Христос свидетель, она была добра к нему, добрее, чем он заслуживал, и всего добрее в те ночи, когда его одолевали воспоминания о своей вине. Он был слишком требователен, потому что боялся. Грязные ручонки, цеплявшиеся за его рукава, вовсе не являлись гражданским долгом. То есть в каком-то смысле они были и долгом, но ведь долг и радость не обязательно взаимоисключающи. Он же всегда это понимал. Должность капитана корабля была для него одновременно и радостью. Но когда дело касалось людей, его понимание ограничивалось голым рассудком. А что такое рассудок? Сущая мелочь. Ему надо было спуститься в этот густой безмолвный лес, чтобы проникнуться пониманием до мозга костей. Буддисты учили, что жить нужно одним мгновением, не отягощенным ни прошлым, ни будущим. Он презрительно считал это самооправданием людей, привыкших потворствовать собственным желаниям. И лишь сейчас, здесь, Коффин впервые понял, как нелегок подобный путь. И так ли уж он отличается от христианского «родиться свыше»?[9]
Мысли в голове путались, и он потерял их нить. Остались одни только бесконечные лесные заросли.
Пока они не вышли к каньону.
Коффин так привык продираться сквозь подлесок и перелезать через бревна, что внезапное отсутствие препятствий сбило его с ног и он упал на одно колено. Боль вышибла слезы из глаз, но одновременно прояснила сознание. Рядом изумленно вздохнул Свобода. Короткий вздох его тут же подхватил ветер и с воем умчал в поднебесье.
Перед ними снова был обрыв, крутой и почти бездонный. Лес стеной доходил до края пропасти. На склоне же росла лишь трава да кое-где виднелись чахлые деревца. И камни — сплошь булыжники да острые скалы, тянущиеся изъеденными непогодой макушками к краю обрыва. Противоположный берег, значительно более низкий подернутый голубой дымкой, был километрах в двадцати отсюда. Каньон казался бесконечно длинным, словно горы раскололись наполовину, и расстояние размывало детали. Коффину почудилось, будто он видит на дне пропасти реку, но полной уверенности у него не было. Слишком много вершин и обрывов лежало между ним и дном.
Он знал, что должен бы глядеть на этот шедевр Творца с благоговейным восторгом, но в голове пульсировала боль, а глаза были готовы вытечь из глазниц. Он сел рядышком со Свободой. Каждое движение давалось с огромным трудом, руки и ноги будто налились свинцом.
Свобода закурил. Коффин подумал краем сознания: Зря он травит себя табаком. Славный он парень. Ветер шелестел волосами Свободы точно так же, как листвой деревьев за их спинами и травой под ногами.
— Еще одна Расщелина, — безучастно сказал шахтер. — Не хуже нашей.
— И мы увидели ее первыми из всех людей! — отозвался Коффин, слишком несчастный, чтобы почувствовать радость первооткрывателя.
Свобода равнодушно ответил:
— Да. Мы спустились ниже всех пеших экспедиций, аэрокары ведь летали в другой стороне. Но подобные впадины они видели, и не раз. Похоже на последствия тектонических процессов. Плотность у Рустама больше, чем у Земли, поэтому и геологическое строение другое. На Земле таких высоких гор нет, это точно.
— Но каньон не такой голый, как Расщелина, — услышал Коффин свой голос. — Смотрите: на склонах держится почва. Хотя он шире и длиннее, конечно.
— Оно и понятно, тут топография менее вертикальна. — Свобода затянулся, закашлялся и смял сигарету. — Черт! Не могу курить в этой атмосфере! О чем мы с вами говорили?
— Так, ни о чем. — Коффин прилег на рюкзак. Ветер так быстро высушил намокшую от пота одежду, что по телу пробежала дрожь. Лес сотрясался от ветра. Скорость его не была такой уж большой, но давление превращало любое дуновение в ураган.
Люди смогут использовать ветер как источник энергии, когда спустятся с плоскогорий. Когда это будет? Не раньше чем через несколько поколений. Жернова богов мелют медленно, но мелко. Впрочем, не так уж и медленно. Жернова перемен вертелись слишком быстро для динозавров и не позволили им приспособиться к новому климату, как не позволили науке и технике удержать в рамках цивилизации безудержно растущее население Земли. Весь Рустам — это жерновой камень, который крутится и крутится между звезд, размалывая в прах людское семя, словно упрекая тем самым Всевышнего за сотворение человека.
— Вряд ли Дэнни спустился в эту котловину, — сказал Свобода. — Нам нужно искать в другом направлении.
Голос Свободы пробудил Коффина от кошмара наяву, и он так обрадовался пробуждению, что смысл слов ускользнул от него.
— Что?
— Боже мой, ну и вид у вас — краше в гроб кладут! — нахмурился Свобода. — Не думаю, что вы протянете еще хотя бы день.
Коффин с трудом сел.
— Протяну, протяну, — сказал он, еле ворочая языком. — Что вы предлагаете? Насчет направления поисков, — уточнил он, чтобы Свобода понял его правильно. Общение требовало неимоверных усилий. У меня песок в извилинах. Я не способен больше думать. И он тоже. Но я могу идти вперед, даже когда мозги совсем откажут. А сможет ли он? И захочет ли?
— Я предлагаю идти вдоль каньона на юг, пока не стемнеет. А завтра утром отправиться назад к Расщелине. Так мы опишем большой треугольник.
— А что, если Дэнни пошел на север? Северную сторону тоже надо обследовать.
Свобода пожал плечами:
— Пойдем вместо юга на север, если хотите. Это все равно. Но не в оба направления сразу. Завтра пора выбираться наверх. Здесь оставаться опасно. Мы не имеем права так рисковать, нас обоих ждут дома семьи.
— Но Дэнни жив! — в отчаянии воскликнул Коффин. — Мы не можем бросить его тут!
— Послушайте! — Свобода сел по-турецки, провел пятерней по волосам и протянул к Коффину ладонь. Все его доводы продиктованы страхом, а не рассудком, подумал Коффин, и все они для меня пустой звук. — Допустим, что малыш не упал с того утеса у водопада.
Допустим, он добрался до леса, и не отравился, и не умер с голоду. Допустим, что он не утонул в озере, что его не покусали ядовитые пчелы, которых видели в нижних землях, и не сожрала местная разновидность кошака. Эти допущения слишком маловероятны, чтобы ставить на них наши жизни, но все же допустим. Я готов даже допустить, что мальчик заблудился в лесу, пытаясь найти обратную дорогу, а на самом деле спускаясь все ниже и ниже. Но вы представляете, как он ослабел в этом воздухе? Я уже сейчас еле двигаюсь. А подышав три-четыре дня здешней дрянью, я смогу только лечь и умереть. Дэнни ведь еще ребенок — вернее, был ребенок. У него обмен веществ быстрее нашего. И сравнительный объем легких больше. А мышечная выносливость, наоборот, меньше. Коффин, он мертв.
— Нет.
Свобода стукнул ладонью по земле, потом еще и еще, пока не вернул себе самообладание.
— Думайте как хотите. — Ветер подхватил его слова и унес. — Я обещал вам с Вулфом, что буду искать два дня. Завтра утром я возвращаюсь. Все, это решено. Какие будут соображения?
— Мы можем продолжить поиски ночью, — не сдавался Коффин. — Неужели вы способны тридцать часов просидеть у костра, сложа руки, в то время как Дэнни…
— Хватит! Заткнитесь, иначе я за себя не ручаюсь!
Взгляды скрестились. Челюсти у Свободы напряглись. Все рассуждения о справедливости как ветром выдуло у Коффина из головы. Осталось лишь сожаление о том, что он не в силах предотвратить неизбежное. На мгновение печаль почти затмила головную боль. Ветер бил в спину, сгибал ее, выл и толкал к югу вдоль каньона, эхом вторившего его завываниям. Свобода сидел на земле. Прости меня. Джудит всегда была добра к Терезе. Прости меня, Ян.
Коффин вытащил пистолет.
— О Боже, нет! Что вы делаете?! — Свобода, вскочив на колени, рывком бросился вперед. Оба они повалились в траву.
Ладонь Яна сомкнулась на правом запястье руки, державшей пистолет. Коффин левым кулаком ударил его по голове. Костяшки пальцев пронзила боль. Свобода растянулся поверх живота космолетчика и вдавил правое плечо ему в подбородок. Пригвоздив таким образом Коффина к земле, он обеими руками ухватился за пистолет, силясь вырвать его из судорожно сжатых пальцев.
Коффин молотил по ребрам и спине Яна полуонемевшим кулаком. Свобода, казалось, не замечал ударов. Перед глазами у Коффина поплыли черные круги. Старею я, старею. Рюкзак мешал ему обхватить Свободу за плечи и помочь своей правой руке удержать оружие. Ветер ли шумел у него в ушах, или этот шум — предвестник обморока?
Ослабевшая левая рука наткнулась на что-то твердое. Пальцы вцепились в рукоятку с насечкой. Сам того не осознавая, Коффин вытащил из кобуры пистолет Свободы и стукнул Яна стволом в висок. Выругавшись, Ян отпустил его правую руку и потянулся за своим оружием. Освободившейся рукой с пистолетом Коффин нанес противнику сокрушительный удар за ухом.
Свобода обмяк. Коффин, извиваясь всем телом, выполз из-под него. Они лежали рядом друг с другом, уткнувшись лицами в траву. Какая-то зверюга с кожистыми крыльями пролетела совсем низко, приглядываясь.
Пистолеты в обеих руках заставили Коффина очнуться первым. Он отполз в сторону, чтобы не подвергнуться внезапной атаке. Через несколько минут он сумел подняться. Свобода тем временем уже сел. Лицо у шахтера было белым, кровь склеила пряди волос и стекала вниз, на шею. Он рассматривал Коффина, не говоря ни слова, так долго, что тот забеспокоился, не поранил ли спутника всерьез.
— С вами все в порядке? — прошептал Коффин. Шепот не в состоянии был пробиться сквозь ветер, но Свобода, похоже, понял.
— Да. Думаю, да. Если не считать вас.
— Я не ранен. Ничего серьезного.
Стволы пистолетов опустились. Свобода начал подниматься на ноги. Коффин рывком нацелил на него оба ствола.
— Не двигайтесь!
— Вы что, совсем ополоумели?! — рявкнул Свобода.
— Нет. У меня не было другого выхода. Я даже не надеюсь, что вы когда-нибудь меня простите. Подавайте в суд, когда вернемся домой. Я заплачу любую компенсацию, какую смогу. Неужели вы не понимаете? Мы должны найти Дэнни! А вы собирались прекратить поиск. — Коффин, выдохнувшись, умолк.
— Мы никогда не вернемся домой, — сказал Свобода. — Вы сошли с ума. Признайте это и отдайте мне оружие.
— Нет. — Коффин не мог оторвать взгляда от кровавых потеков на голове Свободы. И от седых прядей. Мы с тобой одной крови, ты и я, хотелось сказать Коффину. Мне ведом твой страх, и одиночество, и усталость, твои воспоминания о молодости и удивление от того, что молодость стала воспоминанием, твоя тускнеющая надежда на еще одну надежду перед неизбежным концом. Все это мне знакомо. Зачем нам ненавидеть друг друга? Но вслух он не смог произнести ни слова.
— Чего вы хотите? — спросил Свобода. — Долго мы будем здесь шататься, прежде чем вы признаете, что мальчик умер?
— Всего несколько дней! — взмолился Коффин. Ему хотелось зарыдать, слезы жгли ему глаза, но он забыл, как это делается. — Я не могу сказать вам точно. Мы решим потом, позже.
Свобода не шевелясь глядел на него. Тварь с крыльями птеродактиля издала истошный вопль: дескать, подыхайте скорее, чего медлите! В конце концов Свобода открутил пробку с фляжки, ополоснул лицо и напился.
— Могу признаться, в свою очередь, что я собирался отобрать у вас оружие завтра, — сказал он. Кривая улыбка приподняла краешки губ.
— Мне связать вас перед сном? — простонал Коффин.
— А справитесь? Я сильнее вас. Положите-ка пистолеты, чтобы связать меня, и посмотрим, что будет.
Коффин помрачнел.
— Ничего, что-нибудь придумаем, — сказал он. — Вы под моим руководством завяжете скользящие узлы и сами замотаетесь в веревку. А теперь марш вперед!
Свобода пошел к югу. Коффин следовал за ним на безопасной дистанции. Южное направление имело одно, пусть даже эфемерное, преимущество перед северным. Дэнни, дойдя до каньона, предпочел бы, чтобы ветер дул ему в спину. Если только это крылатое чудовище не прилетело сюда с кровавой трапезы. Нет! Он не имеет права так думать!
Идти вдоль края каньона, постепенно спускаясь вниз, оказалось легче, чем по лесу. Коффин скоро попал в ритм. Сознание его абстрагировалось от боли, жажды, голода и издевательских пинков ветра. Сейчас ему нужны только ноги, пистолеты, один глаз для наблюдения за кромкой каньона и другой — за Свободой. Коффин смутно ощущал, что спотыкается чуть ли не на каждом шагу, видел, как сгущаются ползущие по небу сумерки, но все это не было реальным. Он и сам не был реальным, он не существовал ни теперь, ни прежде, — ничего не существовало, кроме поиска.
Пока радиолокаторная антенна не повернулась и не застыла в одном направлении.
Глава 8
Прошагав километров десять вдоль края каньона, они спустились больше чем на километр и оказались немногим выше уровня моря. Физическая боль почти не воспринималась меркнущим сознанием. Они спотыкались, оскальзывались, падали, катились, подымались на ноги и тупо разглядывали кровь, выступавшую на теле от порезов острыми камнями. Как-то Коффин спросил:
— Это похоже на опьянение?
— Есть немного, — ответил Свобода, силясь поставить горизонт на место. Но тот навис над головой, сияющий в центре и потемневший на флангах от приближения ночи. Идиотство какое-то — разве можно идти под горизонтом?
— Зачем люди напиваются? — Коффин обхватил голову руками, чтобы не дать ей улететь.
— Я не напиваюсь. — Свобода услышал, как его голос колокольным звоном бьется о стенки исполинского каньона. — Не часто… только для веселья…
Его скрутила тошнота. Он упал на колени. Коффин поддерживал его, пока его рвало.
Они опять пошли вперед и шли до тех пор, пока не набрели на скалу. Она торчала прямо из травы, открытая всем ветрам, похожая на тридцатиметровый языческий идол из серого камня. Высоко над ней, сверкая крыльями в закатном свете солнца, парила меч-птица. Когда они прошагали мимо скалы, локаторная антенна повернулась назад.
Коффин остановился.
— Вы можете… посмотреть… циферблат? — спросил он. — У меня в глазах… плывет.
Свобода сощурился. У него было такое впечатление, будто он смотрит на шкалу сквозь струю бегущей воды. Всякий раз как только он пытался определить, где находится стрелка, ее подергивало рябью. Циферблат то приближался до невозможности — белая планета с таинственными знаками на челе, — то уходил в бесконечную даль. Лихорадочное жужжание исходило от него, наполняя вселенную, и стены вселенной рушились, и галактики разбегались в пустоту.
Свобода не сдавался. Он затаился, подобно коту, подстерегающему мышь. Наконец, как он и надеялся, рябь на секунду прекратилась. Ян впился глазами в шкалу. Стрелка стояла на максимуме. Дэнни здесь!
Свобода с криками обежал вокруг скалы. Ее основание, около семидесяти метров в окружности, было усыпано обломками обвалившихся камней. Наткнувшись на Коффина, Свобода сел, тяжело дыша, и показал на вершину.
— Он там, наверху? — Коффин, как заведенный, повторял один и тот же вопрос. — Он там, наверху? Он там, наверху?
Свобода вытащил стимулирующие таблетки. Оба они уже так наглотались пилюль, что сердце колотилось, сотрясая ребра. Дополнительная доза чуть не взорвала их изнутри, но в голове немного просветлело. Язык перестал заплетаться, и они смогли поговорить и даже немного подумать. Они кричали, стреляли в воздух. Никто не отвечал, кроме ветра. Меч-птица кружила в небесах.
Коффин уставился в бинокль. Через минуту молча протянул его Свободе и застонал, сгорбившись. В бинокле ночного видения прекрасно просматривалась вершина скалы. Над ее краями беспорядочно торчали во все стороны ветки, пучки травы и засохшие цветы.
— Гнездо, — сказал Свобода, объятый внезапным ужасом.
— Его хозяйка, наверное, та самая птица вверху, — отозвался Коффин безжизненным тоном. — Мы, похоже, спугнули ее.
— Значит… — начал Свобода и умолк. И с удивлением услышал, как Коффин продолжил его мысль:
— Значит, птица схватила Дэнни или нашла его тело где-то поблизости. Его кости там, в гнезде.
Лицо Коффина казалось Свободе смутным пятном во мгле, но он увидел, как космолетчик протягивает ему руку.
— Ян, — сказал Коффин, и голос его дрогнул. — Мне жаль, что я угрожал вам пистолетом. Простите меня за все.
— Все нормально. — Свобода сжал его руку и долго не отпускал.
— Боюсь, — наконец проговорил Коффин, — больше мы ничего не можем сделать. Когда О'Малли вернется из Искандрии, я попрошу его слетать сюда на аэрокаре и поискать останки для похорон.
— Не думаю, что он найдет их, если здешние меч-птицы так же периодически чистят гнездо, как и их сородичи на плато.
— Вообще-то это неважно. Я хотел бы похоронить мальчика в основном ради Терезы. Но Господь все равно разбудит его в судный день. — Слова не приносили утешения. Коффин отвернулся. — Нужно подниматься к краю каньона, пока не стемнело. Мы не должны больше оставаться на этой глубине. Меня опять начинает тошнить.
Свобода посмотрел на его согбенную спину, и что-то — он так никогда и не понял что — вдруг заставило его сказать:
— Нет, погодите.
— Кхе? — прокряхтел Коффин, как древний старик.
— Раз уж мы добрались сюда, надо довести дело до конца. На эту скалу можно забраться.
Коффин покачал головой:
— Я не смогу. Нет сил. Я еле стою на ногах.
Свобода скинул на землю рюкзак и присел рядом с ним.
— Я пойду, — сказал он. — Я помоложе, у меня еще осталась капелька энергии. За полчаса я обернусь. И мы еще успеем подняться к краю каньона до темноты. Облака так сильно рассеивают свет, что сумерки здесь могут длиться часами.
— Нет, Ян, вы не должны. Джудит…
— Где эта проклятая веревка?
— Ян, подождите хотя бы до завтра. — Коффин схватил его за плечи. — Мы вернемся сюда поутру.
— Утром там, быть может, даже косточек не останется. И мы всю жизнь будем терзаться сомнениями. Пристегните-ка мне лучше к запястью фонарь. И давайте сюда шиповки.
Свобода вскарабкался уже на несколько метров и лишь тогда всерьез задумался: а зачем? Смысла-то нет никакого! В сгустившемся мраке он почти ничего не видел, кроме светлого пятнышка от фонаря. Спускаться, правда, будет легче: он вобьет в гору крюк со взрывчаткой, свесит веревку и соскользнет по ней. Он может даже попытаться спустить вниз то, что лежит в гнезде. Но подъем оказался опасным. С земли не было заметно, как сильно выщерблена скала. Неровная, она предлагала сколько угодно выступов для рук и ног, но камни постоянно крошились под пальцами. И все же эта сторона была единственной, пригодной для подъема. Со всех остальных сторон от скалы обвалились целые глыбы, оставив кучи острых обломков у подножия и такие скользкие стены, по которым даже муха не заберется. Если у него из-под ног, не выдержав тяжести, оборвется глыба весом в несколько тонн — конец Яну Свободе.
А ради чего? Чтобы найти несколько косточек? Он этим косточкам не нужен. Зато он нужен Джудит и детям. Своим собственным детям, а не чьему-то там приемышу.
Камень под рукой надломился. Свобода выпустил его и услышал, как тот со стуком падает вниз. Под ногами было черно. Пока он лез наверх, ночь поглотила подножие скалы, скрыв во тьме и Коффина, и травы, и валуны. Теперь она быстро подползала к Яну. А вершина — ее что, тоже накрыло мраком? Или это просто приступ головокружения? Ян посмотрел на камень в нескольких сантиметрах от носа. Камень колыхался мелкой рябью. В голове гудело. Свобода потащился дальше, потому что это было легче, чем думать.
Он карабкался, пока его не остановил совсем свежий разлом. Ближайшие три метра скалы над головой выглядели светлее и были совершенно отвесными. До вершины оставалось всего ничего, но с таким же успехом она могла находиться на Ракше. У Свободы было всего два крюка. С ними разлом не преодолеешь.
Ян привалился всем телом к скале. Ветер шумел у него в ушах и бил в спину. Успокоив немного нервы, он открыл глаза. Я сделал все, что мог. Мысль принесла такое облегчение, что он вдруг понял, почему Коффин вел его под дулом пистолета и почему он сам, Ян Свобода, поступил бы точно так же, если бы потерялся его собственный сын. Но теперь все было кончено. Он вытащил из-за пояса крюк, тщательно выбрал место — чтобы не вызвать нового камнепада — и нажал на кнопку.
В этом воздухе детонация от взрыва была громоподобной. Не будь на нем шиповок, Ян вряд ли удержался бы на ногах. Преодолевая слабость, он привязал конец веревки к железу. Сейчас он спустится на землю и чуток отдохнет, а потом — марш-бросок наверх, где давление будет достаточно низким, чтобы можно было заснуть без опаски.
Ох и спать же он будет, Боже мой! Часов тридцать подряд, не меньше.
— Папа!..
Свобода вздрогнул. Нет, пробормотал он себе под нос. До такого я не мог еще дойти. Не должен был. Мне это не послышалось. Мне просто почудилось, будто мне послышалось.
— Папа! Папа!
Дэнни глядел на него, свесившись из гнезда.
На фоне фиолетового неба, где не было ничего живого, кроме хищной птицы, лицо его казалось поразительно белым. В свете фонарика Свобода разглядел, как оно осунулось, это лицо, какое оно грязное и исцарапанное. Один глаз заплыл черным синяком, под носом размазана кровь, от рубашки остались одни ошметья. Но Дэнни Коффин, живой, глядел сверху и звал своего папу.
Свобода крикнул в ответ.
Дэнни заплакал. Засуетился, попробовал сползти вниз. Свобода руганью загнал его обратно.
— Идиот, придурок чертов! Не видишь, что ли, какой тут разлом? Хочешь свалиться и свернуть свою глупую шею? Как ты туда забрался?
Рыдания продолжались недолго; у Дэнни уже не осталось слез. Когда он заговорил, прекратились даже всхлипы и придыхания. К концу его рассказа ломкий от жажды голосок звучал даже отчетливее, чем голос Свободы, а ответы были осмысленнее вопросов, которые ему задавали.
Он спустился в Расщелину, как и предполагали взрослые, с мыслью о бегстве. Мысль испарилась, пока он шел сквозь облака. Когда он добрался до водопада, холод, сырость, голод и приближение ночи заставили его решить вернуться и принять заслуженное наказание. Но тут на него напали две меч-птицы. Он побежал вниз по уступу. Туман, ветер и быстро сгущавшаяся тьма удержали птиц от преследования добычи, увернувшейся от их первых неуклюжих атак. Но Дэнни не осмелился возвратиться. Они могли поджидать его у начала уступа — во всяком случае так он решил в приступе паники. Он продолжал спуск ползком, обдирая руки и колени, теряя сознание и вновь приходя в себя, пока не очутился в лесу. Утренняя заря застала его окончательно заблудившимся и голодным. Фрукты и ягоды, не похожие на плоды родного плато, привлекли его внимание. Обнаружив, что они не ядовиты, он решил питаться исключительно ими, пока приемный отец не придет за ним. Но в поисках безвредных плодов ему приходилось все время передвигаться. Он спал на деревьях или в кустарниках, пил из ручьев.
Постоянные поиски воды привели его к каньону, к реке. Большой зверь с бивнями заметил его и помчался вдогонку. Дэнни подбежал к скале и забрался на нее. Да, глыба обломилась у него из-под ног. Он успел вцепиться руками в трещину и спасся. Обвал спугнул зверя, но поймал Дэнни в ловушку. Измотанный, он заснул. И проспал все крики и стрельбу у подножия. Его разбудил раздавшийся вблизи взрыв заряда крюка.
— Нет, мистер Свобода, голова у меня не болит, только глаз болит, там, где я ударился. Пить? Ужасно хочу пить, но я не болен, все нормально. Пожалуйста, помогите мне спуститься к папе!
Как сквозь сон, Свобода вспомнил, что кто-то когда-то при нем обмолвился о необычайной выносливости Дэнни к углекислому газу. Да, все правильно. Иначе и быть не может, иначе он не прожил бы целую земную неделю в таких условиях. Допустив вначале вполне естественную ошибку, парнишка вел себя в лесу разумно, как взрослый. Разумнее, чем большинство взрослых. Гораздо разумнее, подумал Свобода сквозь наркотический дурман в мозгу. Голова у Дэнни осталась ясной.
Ну и везение сыграло свою роль, конечно. Меч-птицы не было здесь, когда мальчик забрался в гнездо и заснул. Она вернулась с охоты позже, чем подошли они с Коффином, и не решилась приземлиться, не обследовав этих странных невиданных животных. Если бы они ушли или она сочла их неопасными, птица спустилась бы в гнездо.
И убила бы мальчонку.
— Пожалуйста, мистер Свобода! Мой отец ждет, я знаю. Пожалуйста, мне очень хочется пить, не могли бы вы помочь мне?
Свобода стоял на крошечном выступе, вцепившись в свою веревку. Рука потянулась ко второму крюку. Если бы удалось забросить его наверх, чтобы он вместе с прицепленным канатом врезался в камень… Нет. Отсюда такой бросок исключается, здесь не размахнешься как следует. Еще меньше шансов забросить крюк, или лассо, или что-нибудь еще с земли. Лук или рогатка? А из чего их сделать? И главное — когда? Упругие жилы не растут на деревьях в лесу.
Меч-птица кружила все ниже.
Горечь поражения подступила к горлу Свободы, как тошнота. Он снова и снова повторял про себя литанию в адрес злобного Бога, который устроил все именно так, а не иначе. Конечно, я могу затаиться и дождаться, пока птица не подлетит на расстояние выстрела. А дальше что? До ребенка нам все равно не добраться. Даже если мы прямо сейчас отправимся домой, и прошагаем всю ночь без остановки (что физически невозможно), и прилетим сюда на аэрокаре, и ветры пощадят его и не разобьют о горы, — даже если все у нас получится, пройдет часов пятьдесят, не меньше. Организм мальчика уже обезвожен. Чего стоит один этот голосок, точно у мумии!
Что лучше — позволить меч-птице заклевать его или оставить парнишку умирать от жажды?
— Пожалуйста, ну пожалуйста! Я раскаиваюсь, что убежал. Я больше так не буду. Где мой папа? — хрипучим шепотом взмолился Дэнни, скорчившись на краю гнезда. Ветер ерошил ему волосы и развевал лохмотья рубашки, словно флаги.
Сквозь гул под черепом Свобода услыхал внизу какое-то царапанье. И голос Коффина, зовущий: «Дэнни, Дэнни!» — а ему чудилось другое имя: «Авессалом!»[10] Коффин не может сюда забраться, у него не хватит сил. Дэнни не может спуститься. Он, Свобода, не может карабкаться дальше. Только меч-птица не ограничена в движениях. Нетерпеливая, она приближалась к скале по плавной спирали: вот уже видны ее сизые перья и клюв, слышен свист рассекаемого крыльями воздуха. Даже завывание ветра не заглушало этот свист.
Ян понял, что надо делать. Возможно, существовал какой-то лучший выход, но затуманенный мозг не в силах был его придумать. Теперь, когда Свобода выключил фонарь, мальчик превратился в черный горбик на верхушке черной горы. Пальцы Свободы сомкнулись на оружии, возвращенном Коффином. Пистолет показался тяжелым, хотя он даже не вытащил его из кобуры. Один выстрел, милосердная пуля, посланная в этот горбик, — и все. Конец поискам. И можно будет спуститься вниз по веревке. Земля внизу совсем почернела.
— Дэнни! — снова позвал Коффин. Камни у подножия с треском осыпались у него под ногами. — Ян, что мы можем сделать?
Свобода снял пистолет с предохранителя, так и не вытащив пока оружие из кобуры. Запрокинул голову, подставил ее ветру в надежде, что тот выдует из головы дурман, но ветер лишь с издевкой запорошил ему пылью глаза. Меч-птица продолжала снижаться. Один раз она крикнула — трубный глас ее эхом отдался от гор, сокрытых ночною мглой. Огромные крылья все еще парили высоко над каньоном, на них по-прежнему сияли последние отблески заката.
Почему бы не отдать ей парнишку? Пусть сожрет нас всех троих. Здесь ее дом, она сильна и прекрасна, а мы чудовища из космоса, захватчики-инопланетяне. Спускайся, хищноклювое божество! Я принесу тебе жертву!
И вдруг Свободу осенило.
Он стоял, не шевелясь, на ветру и во мраке, обмозговывая идею. Мысль была тяжелой, как жернов. Ян ворочал ее и ворочал, пока грохот в голове не превратился в ветер и хлопанье крыльев, пока не потекли по глазам соленые струи со лба. Собственный голос показался ему чьим-то шепотом, исходящим извне, перекрывающим скрежет жерновов:
— Дэнни! Дэнни, ты меня слышишь? Ты не спишь? Я вытащу тебя отсюда.
Луч фонарика выхватил из темноты маленькое измученное лицо. Дэнни, преодолевая полуобморочную слабость и отчаяние, пролепетал:
— Конечно.
И потом более отчетливо:
— Вот здорово! Что я должен делать, сэр?
— Слушай. Вы оба слушайте. Дэнни, ты должен быть храбрым. До сих пор ты был очень храбрым. Поднатужься в последний разок, как в спорте, ладно? Притворись мертвым. Ты меня понял? Притворись мертвым, пусть меч-птица сядет рядом с тобой. И тогда хватай ее за лапы. Хватай изо всех сил и не выпускай. Ты понял меня, Дэнни? Сможешь ты это сделать?
Жернова со стоном раскололись на куски. Мальчик вроде что-то ответил, но Свобода не был в этом уверен. Он даже не был уверен, что Коффин понял его план. Он выключил фонарик, прижался к скале и замер.
Птица спустилась совсем низко, и закатные отсветы уже не сверкали на ее оперении. Теперь она была такой же черной на фоне фиолетового неба, как и вершина скалы. Свобода вытащил пистолет. Тени скрывали его от птичьих глаз. Ян и сам не мог разглядеть зажатое в руке оружие.
Птица издала боевой клич. Ответа не последовало. Свобода сообразил, что надо было подробнее объяснить свою идею. Но теперь уже поздно. Меч-птица села на край гнезда, сложив широкие крылья, и нависла над Дэнни, будто горбатый великан.
Мальчик прыгнул и схватил ее за лапы.
Птица вскрикнула и взлетела, и тут Свобода выстрелил почти наугад, не целясь. Она вскрикнула еще раз. Дэнни качался в небе, точно колокольный язык на ветру. Птичья кровь хлестала на него сверху.
Меч-птица сделала последнюю попытку подняться к небу. Ей удалось взлететь так высоко, что Свобода опять увидел сияние на ее крыльях. Но их взмахи становились все слабее и слабее. Птица медленно снижалась во тьму, готовясь вступить в схватку с неизвестными чудовищами.
Свобода соскользнул по веревке с такой скоростью, что ободрал себе ладони.
Прогремело два выстрела. Когда Свобода подбежал, меч-птица уже была мертва. Коффин отшвырнул пистолет и фонарик.
— Дэнни! — прорыдал он. — Дэнни, сынок!
И они упали друг другу в объятия.
Глава 9
Солнечный свет проник сквозь белоснежные шторы, отразился от кувшина с водой и волнами заиграл на противоположной стенке. Вслед за ним в спальню прорвался прохладный ветерок. Лужайка за окном была еще зеленой, но кустарник уже заалел, мерцая золотыми нитями, а Геркулесовы горы смутно голубели в тумане, почти как бабьим летом на Земле.
Джудит открыла дверь Терону Вулфу. Свобода положил книгу на одеяло.
— Ну, — сказал мэр, — как ты сегодня?
— Прекрасно, — проворчал Свобода. — Не понимаю, какого черта я должен здесь валяться! У меня дел по горло.
— Врач велел соблюдать постельный режим до завтра, — строго напомнила Джудит. — Истощение — это тебе не шуточки.
— Может, я хоть немного утешу тебя, если скажу, что Джошуа приказано лежать на целый день дольше и злится он еще сильнее? — промолвил Вулф, опуская свой широкий зад на стул и вытаскивая из кармана рубашки сигару.
— Как Дэнни? — спросил Свобода.
— Он совсем поправился и наслаждается жизнью, — ответила Джудит. — Тереза держит меня в курсе. Простите, мэр, но мне пора заняться делом. Мы твердо решили справить свадьбу послезавтра, как только Джош сможет прийти.
Дверь за Джудит закрылась. Вулф выудил из-под куртки плоскую бутылку.
— «Настойка лесная», — хриплым шепотом поведал он Свободе. — Лучший из моих сортов.
Ян принял подношение, не выказав особой благодарности.
— Надеюсь, ты пришел, чтобы дать мне кое-какие объяснения?
— Гм! Изволь, если желаешь. Хотя я не понимаю, что тут объяснять. Вы с Джошем спасли мальчика, вы оба герои. Пусть это и не мое дело, но мне кажется, что Джош решил для себя за время путешествия некоторые личные проблемы. Никогда прежде я не видал его таким откровенно счастливым. — Вулф подпалил кончик сигары и, картинно выпустив дым, добавил: — Тебя, наверное, интересует, что говорят врачи о Дэнни?
— Что? — Свобода сел, выпрямив спину. — Ты же сказал — с ним все в порядке.
— Да, да. Но его тщательно обследовали, и выяснилось, что у Дэнни фантастическая переносимость высокого атмосферного давления. Речь не идет о сверхчеловеческих мутациях и прочей ерунде. Просто его выносливость находится на грани человеческих возможностей. И он вполне мог бы жить на уровне моря, если бы захотел. Сдается мне, — задумчиво продолжал Вулф, — именно поэтому он так любил мечтать о подоблачных землях. Спуск никогда не ассоциировался у него с дискомфортом, даже с таким подсознательным ощущением, какое возникает у тебя или у меня, когда мы спускаемся с какого-нибудь пригорка прямо здесь, на плато. Дэнни, очевидно, замечал, что большинству ребят становится плохо, если они забредают слишком низко по северному склону плоскогорья. А поскольку они сделали из него изгоя, он уносился мыслями туда, где никто не мог его достать.
Свобода глотнул из бутылки и передал ее Вулфу.
— Хотелось бы как-то прекратить ребячьи издевки над Дэнни. Он мальчик умный и отважный, он такого не заслуживает.
— Это уже не проблема, — ответил Вулф. — Тереза говорит, после того как Дэнни сыграл роль Робинзона Крузо и выжил там, где выжить считалось невозможно, однокашники буквально смотрят ему в рот и ловят каждое слово. Больше того: я намерен довести до всеобщего сведения, насколько важен для нас Дэнни. Он ведь теперь на Рустаме самый ценный человек. Будем надеяться, слава не вскружит ему голову.
— То есть?
— Подумай сам, дружище. Дэнни — первый настоящий рустамец. Когда он подрастет, то сможет идти куда захочет и делать что пожелает на всей этой чертовой планете. Его потомки превзойдут числом всех прочих, ибо они будут гораздо лучше приспособлены к окружающей среде. Я надеюсь, что среди экзбгенов найдутся ему подобные, ведь доноров спермы и яйцеклеток подбирали с учетом местных условий. Но даже если второго такого не будет, Дэнни станет родоначальником. И задолго до того как Верхняя Америка начнет задыхаться от перенаселения, первопроходцы отправятся обживать нижние земли. Они сохранят дух свободы живым на благо всех поселенцев.
Свобода медленно кивнул:
— Мне самому следовало догадаться, просто было не до того.
Вулф похлопал его по руке:
— И ты, Ян, спас для нас сие бесценное сокровище. Ты не только спас человеческую жизнь, что само по себе достойно всяческих похвал, — ты оказал нашему будущему такую неоценимую услугу, которая сделает тебя предметом восхищения всей планеты.
Выбирай себе приз по вкусу, дружок! Хочешь быть следующим мэром? Хочешь, чтобы сотня опытных рабочих вырыла для тебя новую шахту? Тебе стоит только сказать. Ну, ты и теперь не рад, что я заставил тебя пойти на поиски?
Свобода отдернул руку. Ярость затуманила ему глаза.
— Лучше не вспоминай об этом, — сказал он.
— Почему, Ян? — Вулф удивленно приподнял брови. — Разве ты не рад?
— Я рад, что мальчика удалось спасти. Я даже рад, что сам пошел за ним: будет о чем вспомнить. Но мне не нужна твоя дурацкая популярность.
— Она твоя, Ян. Хочешь ты или не хочешь, но она твоя. — Вулф провел пальцем по носу. — Тут уж ничего не попишешь. Вся Верхняя Америка знает о твоем героизме. Джудит не рассказывала, как трезвонит у вас дома видеофон? Цветы и депутации хлынут потоком, стоит тебе только встать на ноги.
— Слушай! — завопил Свобода. — Я тебя знаю как облупленного, Терон! Ты чудесный, умный, отзывчивый, веселый и абсолютно свободный сукин сын. Ты понятия не имел о хромосомах Дэнни, когда шантажировал меня. Зато ты знал, что Джош и я — это две пары крайне ценных рук в наших стесненных экономических обстоятельствах. А Дэнни всего лишь маленький мальчик, и экзогенов у нас в запасе полно. Почему ты заставил меня идти за ним?
— Ну как тебе сказать? — Вулф погладил бородку. — Обыкновенный альтруизм. Человеческая порядочность. Я и сам пошел бы, не будь я таким старым и толстым.
Свобода нецензурно выругался.
— Черта с два ты пошел бы! У тебя на уме было что-то другое. О'кей, я готов признать, что лучше тебя никто не справился бы с управлением колонией. Нам не нужен симпатичный и гуманный лидер, нам нужен именно такой безжалостный сукин сын, как ты. Мы с Джошем были пешками в твоей игре. О'кей. Но я требую объяснить почему!
Вулф внимательно изучал пепел от своей сигары.
— Положим, ты имеешь на это право, — сказал он. — И я верю, что ты сохранишь мой секрет. Мне просто трудно сформулировать свои побуждения. Я их чувствую кожей, как острый и твердый клинок, но словами передать не могу.
Свобода откинулся на подушки.
— Я жду, — сказал он.
Вулф хихикнул, закинул ногу на ногу и выпустил целое облако дыма.
— Ну ладно. Как ты помнишь, соседи Джошуа помогали ему обыскивать плато, пока сами были в безопасности. Но спуститься в Расщелину отказались, хотя было ясно, что Дэнни направился именно туда. Отказались, ссылаясь на жатву. То есть их драгоценное зерно было для них важнее жизни мальчика.
— Но… — Свобода покраснел. — Но если бы ливни загубили урожай, колонии пришлось бы туго.
— Это дерьмовый аргумент, Ян. Подумаешь, туго! С голоду никто бы не помер. Просто затянули бы потуже пояса на один рустамский год, то бишь на восемь-девять земных месяцев. Неужели ты и впрямь согласился бы обречь мальчонку на смерть ради лишней тарелки на своем столе?
— Н-н-нет, конечно, если ты так ставишь вопрос. И никто бы не согласился. Я сам… Я хочу сказать, что надежда на успех была слишком мала по сравнению с опасностью.
— Ну и что же? Когда-то на Земле сотни человек считали за честь рискнуть своей шеей ради спасения одной жизни. За своим-то сыном ты пошел бы, верно? Небось не стал бы тогда подсчитывать и взвешивать шансы? А раз Дэнни не твоя плоть и кровь, так, значит, он не имеет права на помощь?
Зачем мы прилетели на Рустам? Чтобы прожить жизнь так, как хотим мы сами, чтобы власти не совали нос в наши дела. Прекрасно. Но мы зашли слишком далеко. Теперь, когда первоначальная борьба за выживание осталась в прошлом, каждая семья все больше погружается в собственные заботы, отгораживаясь от окружающих. Так дело не пойдет. Человек не может жить один. Мы должны помогать заблудшим, больным, слабым и бедным, иначе кто же поможет нам самим, когда удача отвернется от нас? Если мы не будем выручать друг друга добровольно, в конце концов неизбежно появится полиция и закон, которые заставят нас это делать. Общество не способно существовать без общественного служения.
Я хочу прервать эту опасную тенденцию на Рустаме. Чем больше поселенцев будут исполнять свой общественный долг по собственной воле, побуждаемые чувством ответственности, тем меньше нам понадобится правительственных институтов и обязательных к исполнению законов. И в то же время тогда мы не станем столь безразличны и ленивы, чтобы позволить кому-нибудь незаметно надеть нам на шею государственный хомут. Рустаму нужны традиции взаимовыручки. Нашими героями должны стать не те, кто больше всех приобрел, а те, кто больше отдал.
Вулф, разгоряченный и раскрасневшийся, умолк.
— Прости, — сказал он наконец. — Я не собирался читать тебе проповедь. Вот видишь, до чего нам необходима развитая психодинамическая семиотика! Слова слишком неточны. Начинаешь с социологических рассуждений, а заканчиваешь непременно проповедью.
Свобода усмехнулся:
— Да ты просто несостоявшийся филантроп, Терон. Продолжай.
— А продолжать-то особенно нечего. Я ждал, когда подвернется подходящий случай. И вот ты положил начало. К счастью, твоя попытка увенчалась наглядным успехом, что увеличивает ценность урока вдвойне. Теперь-то я приложу все силы, чтобы ткнуть в него носом каждого колониста. Пусть наше общество устыдится самое себя. А я использую это настроение, дабы закрепить традицию. И, быть может, через несколько лет посеянные нами семена начнут давать всходы.
Вулф встал со стула.
— Хотя мне искренне жаль, Ян, что именно тебе пришлось стать козлом отпущения.
— Но я себя таковым не чувствую. — Свобода переменился в лице: — Если только… Господи, помилуй! Ты же не хочешь, чтобы я разыгрывал из себя какого-то дурацкого блистательного рыцаря!
— Боюсь, что хочу. Именно в этом и будет заключаться твое истинное служение обществу, Ян. Тяжкое бремя, конечно. — Вулф хихикнул. — Но ты не бойся. Что бы ни думал о тебе весь мир, не забывай: в глубине души ты обыкновенный распутник!
Они посмеялись, а потом Вулф попрощался и ушел. Ян не сразу взялся за свою книгу. Он еще долго лежал, глядя в окошко на горизонт, где снежные Геркулесовы вершины подпирали небо.
МОЙ КРАЙ, МОЙ МИЛЫЙ КРАЙ
На рассвете мальчуган стоял на краю своего мира. По ущелью, врубившемуся в край плато, стекали пенящиеся потоки облаков. Вершины облачных груд горели в первых солнечных лучах. Пел ветер — прохладный и удивительно свежий.
Птица-меч вырвалась из туманных глубин ущелья, чтобы лечь на крыло в стремительном вираже — величественное чудо с крыльями цвета стали. На мгновение мальчуган застыл без движения. Ужас сковал его. Затем он пронзительно вскрикнул и побежал.
В поисках убежища он забился в самую чащу и сидел там, пока не успокоилась сотрясавшая его тело дрожь и не высохли слезы. Мальчишки никому, а особенно тем, кто их любит, не говорят, что они напуганы до полусмерти.
— Иду на посадку! — сказал Джек О'Малли в радиофон и принялся разрабатывать процедуру сложного спуска.
В северо-восточной части континента это огромное плато, получившее название Верхняя Америка, не спускалось постепенно холмами и долинами, чтобы наконец достичь уровня моря, которое лежало в восьми километрах внизу. Здесь плато обрывалось вниз утесами и крутыми откосами, пока брызги океана не скрывали его с глаз. Только в одном месте и можно было преодолеть этот страшный обрыв — там, где гигантский разлом врубался в плато, образуя Расщелину. И ветры, которые гуляли там, были в высшей степени опасны и непредсказуемы.
Когда аэрокар косо пошел к поверхности планеты, О'Малли ясно увидел и береговой обрыв плато, и колоссальный рубец, рассекающий его. К вечеру вечно клубящиеся здесь облака стали опускаться. Горный обрыв, темный и влажный, громоздился над океаном, протянувшимся до линии горизонта. Яркая белизна облаков разнообразилась золотисто-огненными цветами заката и длинными полосами теней. Солнце Эридана стояло низко на востоке, чуть не задевая за острые пики Кентавровых гор. Иллюзия его большой величины могла бы поразить человека, еще помнящего Терру, ибо на самом деле его диск в диаметре составлял лишь около половины диаметра Сола. 1Д красноватый оттенок его менее раскаленной поверхности — звезда относилась к типу 0–5 — сейчас можно было наблюдать гораздо лучше, чем в полдень.
А дальше взор О'Малли мог наслаждаться видом обширного пространства от Кентавровых гор до Расщелины и от Геркулесовых гор до озера Олимп, где зелень степей, лесов и фермерских полей, лежащих между этими ориентирами, орошалась реками и ручьями, берущими начало у далеких снежных пиков. Там, где реки Быстрая и Тихая сливались, образуя Императорскую реку, он мог бы отыскать и пятнышко Анкертауна, но лучи солнца, отражаясь от воды, слепили глаза.
Вместо этого О'Малли полюбовался бесконечным разнообразием красок, от изумрудно-зеленого цвета фермерских полей до более мягкого голубовато-зеленого тона туземной растительности. Весна приходила как взрыв — как это обычно и происходило на Рустаме.
Ракш — главная из лун — находилась в своей половинной фазе и стояла в небе, которое уже приобрело оттенок царственного пурпура. Примерно на половине пути между самой дальней и самой близкой точками ее эксцентрической орбиты она казалась сходной по размерам с земной луной; только цвет ее был скорее медным, чем серебряным. На это чудесное зрелище О'Малли только скривился. Ракш сближалась с Рустамом, а значит, планете грозило увеличение приливо-отливных течений в плотном воздухе низменных районов, а это приведет к возникновению еще более грозных бурь ко времени равноденствия.
Автопилот предупреждающе пискнул, и О'Малли принужден был переключить внимание на управление аэрокаром. В самом лучшем случае управление можно было назвать сложным: в этой неустойчивой атмосфере, при силе тяжести на четверть выше, чем на Терре, сконструированная и построенная по земным меркам машина была не особенно надежна. О'Малли подумал: а наступит ли когда-нибудь день, когда эта колония начнет строить собственные летающие машины, в которых будут учтены достижения собственного опыта? Три тысячи людей, ютящихся в мире, который природа явно для них не предназначала, вряд ли могли в короткий срок создать у себя промышленное производство.
Снижаясь, он увидел, как ферма Джошуа Коффина постепенно вырастает четким черным силуэтом на фоне неба и кучевых облаков. Здания фермы были низки, но выглядели массивными, какими и должны были быть, чтобы выдержать здешние ураганы. Ни гимовых деревьев, ни перистых дубов здесь не вырубили, во-первых, потому, что они давали густую тень, а во-вторых, выполняли роль ветрозащитной полосы. Они тоже смотрелись как силуэты, кроме одного, на котором фосфоресцировало гнездо феникса-шалашника.
О'Малли приземлился, поставил аэрокар на тормоза и выпрыгнул из машины — крупный веснушчатый мужчина атлетического сложения, несмотря на то что время уже успело посеребрить его рыжую шевелюру и добавить жирка на талии. Он носил весьма щеголеватый комбинезон, заметно отличающийся от суровой простоты одежды Коффина. Хозяин фермы был уже здесь и, согласно законам гостеприимства, помогал укрепить ремень безопасности аэрокара на швартовочной тумбе. Это был высокий костлявый человек с грубыми и суровыми чертами лица, выдубленной солнцем кожей и серо-стальной щетиной на голове.
— Привет тебе, — сказал он, и мужчины крепко пожали друг другу руки. — Что такое приключилось, чего нельзя было бы обсудить по телефону?
— Мне нужна помощь, — ответил О'Малли. — Дело может оказаться то ли конфиденциальным, то ли нет. — Он тяжело перевел дух. — Господи, да когда же мы обзаведемся настоящими лазерами, а не этими дурацкими уоки-токи, которые могут прослушиваться любым соседом-сплетником!
— Не верю я, что в нашем хозяйстве есть секреты, которые надо охранять, — сказал несколько резко Коффин. Хоть он за последние годы и помягчел, но О'Малли сразу вспомнил, что его хозяин был и остается убежденным пуританином. Обстоятельства заставили этого космического капитана поселиться на Рустаме, и среди них немалое значение имело желание избавиться от перенаселенности, коррупции, нищеты, загрязнения среды и тирании на Земле. Он никогда не принимал участия в движении конституционалистов. Больше того, их рационалистическая, свободолюбивая философия, близкая к гедонизму, до сих пор, без сомнения, раздражала его суровую религиозность.
— О, я вовсе не это имел в виду, — торопливо поправился О'Малли. — Дело в том… Скажите, а нельзя ли нам где-нибудь уединиться на несколько минут?
Коффин долго вглядывался в лицо гостя сквозь сгущающиеся сумерки, прежде чем кивнуть головой в знак согласия. От взлетной полосы они пошли по гравийной дорожке между декоративными кустами. Звездочник уже зацветал и теперь наполнял воздух ароматом корицы, смешанным с чем-то еще — возможно, с запахом свежего сена, скошенного в прохладный день. О'Малли заметил, что Тереза Коффин наконец добилась своего: ее розы тоже зацвели. Сколько ж пришлось ей потрудиться над этим, отрывая редкие свободные минуты от забот по дому, от воспитания детей и от главного: необходимости заложить фундамент будущей жизни — менее суровой, чем теперешнее существование на Рустаме. Помимо знаний и изобретательности, чтобы заставить земные растения расти здесь, требовались еще упорство и терпение. Жизнь в своей основе была тут сходной с терранской, но это вовсе не означало, что экология или почва, созданная этой экологией, были идентичны.
Мелкий гравий скрипел под ногами.
— Что-то новенькое — посыпанная гравием дорожка, — заметил О'Малли.
— Прошло уже два года, как мы ее сделали.
О'Малли стало неловко. Неужели прошло столько времени с его последней встречи с этими людьми? Хотя что у него общего с этими фермерами — такими, как этот, — у него, профессионального искателя приключений? Его удивило другое — в последний раз он ходил по гравийной дорожке в поместье на Терре, в Ирландии, на островке лужаек и цветников среди тяжелого сельского труда и нищеты наступающего мегалополиса. А скрип гравия там бьш потише, верно? Нет, конечно. Просто его ноги там ступали на гравий с тяжестью, равной четырем пятым здешней. И даже в Верхней Америке воздух куда плотнее, нежели на морских побережьях Земли, и он туг лучше передает звук, а также превращает такой простой обряд, как приготовление чая, в своеобразный вид искусства…
Диск Раюйа пересек летун — теплокровное создание, покрытое перьями, несущее яйца, но со столь странными особенностями физиологии, что его никак нельзя считать птицей — разве что по названию. Где-то издала трель поющая ящерица.
— Ну, — сказал наконец Коффин, — так что же у вас за дела?
О'Малли подумал, что невежливо заставлять Терезу так долго ждать гостя, да и молодежь тоже, пожалуй. Он поглубже вдохнул воздух и начал:
— Фил Херцкович и я проводили научные исследования на низких равнинах вокруг залива Ардашир. Помимо картографических работ, мы снимали старую стационарную аппаратуру, уже отработавшую свое, и устанавливали новую… Понимаете, рутинные процедуры. Циклонический шторм захватил нас на средних высотах, где такие вещи нередки. Наш кар потерял управление. Пилотом был я. Я попробовал посадить его на воду на поплавках, но это у меня не получилось. Самое лучшее, что я мог сделать, — совершить вынужденную посадку в береговых джунглях. Во всяком случае, верхушки деревьев смягчили удар. Но и тогда Фил обзавелся парой сломанных ребер — фюзеляж треснул прямо рядом с его креслом.
Лес мы не очень повредили. Кроны над обломками кара сомкнулись сразу же. Посадочных площадок поблизости нет. Мы послали сигнал бедствия, а потом пятьдесят километров перли пехом, пока не нашли лужайку, где спасатели смогли сесть.
Это случилось пять дней назад. Несмотря на то что я не был ранен, я до сих пор не оправился от шока и переутомления.
— Хм… — Коффин почесал подбородок и искоса глянул на гостя. — А почему об этом инциденте не передавали в новостях?
— По моей просьбе. Понимаете, я подумал… О том, о чем хочу просить вас…
— А именно?
— Я не думаю, чтобы можно было спасти обломки, черт бы их побрал, но все же хотел бы попытаться. Вы же знаете, как это много значит для колонии — вернуть хотя бы мотор или что другое. Спасатели не могут расчистить посадочную площадку; у них нет оборудования, чтобы убрать срубленные стволы, а именно они представляют наибольшие препятствия. Но можно построить фургон и прорубить тропу для него. Это позволит хотя бы вывезти оттуда инструменты и ленты с записями… во всяком случае быстрее, чем если ходить туда и обратно с рюкзаками…
— Инструменты и ленты с записями, — задумчиво произнес Коффин. — Вы считаете, что, независимо от того, можно ли будет извлечь обломки, инструменты и данные самописцев следует добыть обязательно?
— Господи, да конечно же! — ответил О'Малли. — Вы только подумайте, сколько квалифицированного труда затрачено на их производство, потом на установку приборов, демонтаж и так далее… и это в нашей бедной трудовыми ресурсами и техникой экономике. Не говоря уже о ценности самой информации. Данные о почвенных бактериях необходимы для земледелия. Метеорология, сейсмология… Не мне вам об этом говорить, Джош. Вы знаете, как мало нам известно и как много нам надо знать о Рустаме. Это же целый мир!
— Верно. Чем я могу помочь?
— Вы можете отпустить со мной своего приемного сына Дэнни.
Коффин остановился как вкопанный. О'Малли — тоже. Они долго смотрели друг на друга… Медленно сгущались сумерки.
— Почему именно его? — очень тихо спросил Коффин. — Он еще совсем мальчик. Мы отметили его девятнадцатилетие… всего дважды десять дней назад. Если бы это было на Земле, то ему еще не хватило бы двух месяцев до пятнадцати лет.
— Вы знаете почему, Джош. Он еще юноша, согласен, но он самый старший из всех экзогенов.
Коффин так и застыл.
— Мне это слово не нравится.
— Извините. Я не хотел…
— Только потому, что он выращен в искусственной среде, а не в матке, и из присланных с Терры клеток, а не от прибывших сюда родителей, Дэнни вовсе не стоит на низшей…
— Конечно! Бесспорно! Как могут три тысячи человек создать достаточно большой генетический фонд для будущего, особенно если они живут в условиях такой среды обитания, если они не привнесут…
— …еще и потенциал миллиона родителей. Когда вы женитесь, вас все равно обяжут взять в семью на воспитание одного из таких детей.
О'Малли поморщился. Его Нора умерла в год Эпидемии. Как-то получилось, что он с тех пор не имел ничего, кроме нескольких коротких связей. Возможно, это потому, что он сам никогда подолгу не задерживается на одном месте. Ведь здесь такое обширнейшее поле для открытий и так мало людей, способных эти открытия совершать. А это необходимо, если человек вообще хочет выжить на Рустаме.
И вот он — О'Малли — живет на Рустаме и в известном смысле перекладывает свои общественные обязанности на других — на женатиков. На Земле исчисляемый миллиардами человеческий род — просто ржа, просто чума для планеты, а на Рустаме человек — существо редкое и одинокое, он еле-еле ухитряется здесь выжить. Его численность должна расти, и расти с максимальной скоростью. И не только для того, чтобы обеспечить планету такими необходимыми рабочими руками или даже умами. Существуют гораздо более тонкие последствия недонаселенности, которые могут оказаться губительными для местного человечества. Если, например, родителей слишком мало, то значительная доля их биологической наследственности теряется, поскольку отнюдь не всегда она воплощается в детях, зачатых ими в течение жизни. Спустя несколько поколений люди делаются все более и более похожими друг на друга. А именно разнообразие есть ключ к способности адаптироваться, а адаптация в конечном счете — ключ к выживанию.
Частное, хотя и важное решение проблемы лежит в усыновлении. Космические корабли были переполнены поселенцами. Они, конечно, не могли везти много растений и животных. Но ведь можно везти семена — и тех и других. Замороженные сперма и яйцеклетки могут храниться очень долго — до тех пор, пока не настанет время соединить их и вырастить новый организм в пробирке. Все это полностью оправдалось в отношении собак и домашнего скота, а поэтому могло быть применено и к человеку. Вырастет в пробирке, женится и будет размножаться обычным путем, а следовательно, передаст своим уникальные хромосомы всей расе.
Однако это лишь частичное решение. Первопоселенцы и их потомки тоже должны выполнять свой долг.
Коффин увидел, как омрачилось лицо О'Малли, и заговорил уже мягче:
— Неважно. Я понял вас. Вы вспомнили, что Дэнни может хорошо выносить природные условия низменностей.
Второй мужчина тоже взял себя в руки.
— Да, — ответил он. — Я думаю, что в данном случае доноры были выбраны именно с учетом этого. И надо сказать, нам с ним здорово повезло — ведь это была одна из первых таких попыток. Слушайте… Это путешествие наверняка будет трудным. Так бывает всегда, когда вы отправляетесь туда, где все не похоже на Терру, да вдобавок и вообще никому ничего толком не известно. Вот почему я держал в тайне, что Дэнни будет для этой экспедиции наилучшим партнером из всех возможных. Не думаю, что риск будет слишком уж большим. Тем не менее множество любителей совать свои носы куда не следует поднимут крик, что мальчика нельзя подвергать таким опасностям, особенно если об этом станет известно заранее. Вот я и подумал… чем поднимать шум в общине… Я счел, что решение должны принять вы… И, конечно, Тереза.
— А почему бы не Дэнни?
— А? — О'Малли ужасно удивился. — Я… ну… я почему-то решил, что он наверняка захочет пойти. Приключения… и настоящие весенние каникулы… К тому же, когда он был еще малышом, он один-одинешенек отправился к Расщелине…
— И заблудился, — холодно закончил Коффин. — Его еле спасли — чуть ли не вырвали из когтей гигантской меч-птицы, которая уже нацелилась разобрать его на части.
— Да, но все-таки он спасся. И это доказывает, что он был, вернее сказать, есть первый коренной рустамец, то есть человек, который может на этой планете жить где угодно. Я не забыл, что этот случай сделал его настоящей знаменитостью.
— К счастью, мы вернулись обратно в честную неизвестность, и он, и все мы, — сказал Коффин. — Я не стал доводить до сведения общества тот факт, что с тех пор он никогда больше не хотел спускаться ниже слоя облаков. Он славный парень, не трус, не слабак, но, когда ему предлагали спуститься вниз, даже на небольшое расстояние, он всегда находил повод остаться дома. Мы с Терезой на него не давили. Для малыша это было жуткое потрясение. И хотя он стал на время знаменитостью, его больше года мучили кошмары. Не удивлюсь, если они и сейчас ему снятся время от времени.
— Понятно, — О'Малли закусил губу. Он стоял в свете Ракша, чей красноватый блеск становился все ярче по мере того, как небо темнело. Зажглась, подмигивая, вечерняя звезда. Ветер стал свежее, и листья зашелестели громче. Время спать еще не наступило: близилось равноденствие, и ночь в Верхней Америке сейчас длилась тридцать один час. Но мужчины чувствовали себя так, словно их хорошо натренированные мышцы, кровеносные сосуды, кости заново ощутили бремя гравитации и атмосферы планеты.
— Что ж, самое время ему повзрослеть и позабыть о своих страхах, — вырвалось у О'Малли. — Перед ним лежит карьера, сделанная в Низинах.
— А зачем? — ответил Коффин. — Нам потребуется немало поколений, чтобы полностью заселить только это плато. У Дэнни найдется работенка и здесь. Можно даже логически доказать, что он просто обязан хранить набор своих уникальных хромосом, живя спокойной жизнью в безопасном месте и создавая многодетную семью. А вот его потомки пусть спускаются в низины.
О'Малли только головой покачал:
— Вы же прекрасно знаете, что все это не так, Джош. Мы никогда не добьемся безопасности, сидя на этом жалком кусочке суши… Во всяком случае до тех пор, пока не будем знать несравненно больше и об этом континенте, и о всей планете, частью которой он является. Помните? Нам удалось бы подавить Эпидемию в самом зародыше, если б мы знали, что вызывающий ее вирус заносится одним видом планктона, который поднимается к нам с Низин вместе с туманом. Мы никогда не создадим надежных систем оповещения о штормах или землетрясениях, если не будем иметь полную информацию о нашей среде обитания в целом. А кто может предсказать, какие сюрпризы готовит нам еще Рустам?
— Да…
— Кроме того, Низины имеют большое общественное значение. Мы ведь прибыли сюда потому, что это была наша последняя надежда на создание свободного общества. За те несколько поколений, о которых вы только что упомянули, Верхняя Америка сможет стать столь же перенаселенной, как Терра сейчас. Свобода же немыслима без пространства, чтобы люди постоянно не толкались локтями. Мы обязаны начать освоение нашего Пограничья уже теперь.
— Ну, я не убежден, что политические теории стоят хоть одной погибшей жизни, — ответил Коффин, но тон его заметно смягчился. — Однако практическая необходимость, о которой вы говорили… тут вы правы. Так почему же вам нужен именно Дэнни?
— Неужели не ясно? Хотя, возможно, и не ясно, если вы никогда не бывали в тех краях. Можете мне поверить на слово, что люди, которым постоянно приходится таскать на себе редукционные шлемы, никогда ничего не добьются в этих дебрях. Я же рассказывал вам, что мы с Филом еле-еле доплелись до места рандеву со спасательной машиной, а ведь у нас была только одна задача — двигай копытами. Спасателям придется работать куда больше.
— А кто пойдет с ним?
— Я. У нас нет больше никого, кто мог бы пожертвовать временем; действовать нужно немедленно, пока погода не разрушила весь груз. Думаю, мой опыт и способности Дэнни дадут нам хороший шанс добиться успеха в этой работе.
Я договорился об оплате и о приличной премии за каждую ценную вещь, которую мы доставим с места крушения. Колледж будет в восторге и набьет ему карманы золотишком. То оборудование и та информация… в них овеществлено столько часов человеческого труда, да к тому же, весьма возможно, они спасут немало жизней в будущем. Так что списывать их просто так — рука не поднимается.
Коффин снова помолчал, потом сказал:
— Пошли в дом, — расправил плечи и зашагал к дому.
В доме их встретил теплый уют, книги, картины и простор, который на Земле был уделом лишь кучки самых знатных и богатых. Тереза подала чай и закуски. В этой семье не употребляли ни табака, ни алкоголя. Первый — не большая потеря, с усмешкой подумал О'Малли — на этой почве он вырастает таким, что жжет почище крапивы. Семеро хорошо воспитанных подростков поздоровались с гостем и устроились поудобнее, чтобы слушать разговор взрослых. (На Терре они наверняка стали бы членами уличных банд или были проданы в рабство… или сделались бы членами какой-нибудь узкой секты.) Шестеро — стройные, темноволосые и белокожие (в тех местах, что не обожжены солнцем).
Дэнни отличался от них далеко не одним старшинством. Он был коренаст, рост имел средний. Хотя его черты свидетельствовали о принадлежности к кавказской расе — прямой нос, большой узкий рот, глаза цвета ржавчины, — все же его высокие скулы, черные волосы с синеватым отливом и смуглая кожа ясно говорили о примеси восточной крови. О'Малли в голову пришел бессмысленный вопрос: кем были его генные родители, что заставило их отдать свои клетки для хранения в холодильнике космического корабля, на палубу которого они никогда не вступали, и встречались ли они когда-нибудь в жизни на Земле? Впрочем, сейчас они почти наверняка уже умерли.
Разговор перескакивал с одного на другое. Недостатка в темах не ощущалось. Три тысячи первопоселенцев не составляют поселения, где каждый знает каждого и все, что у него готовят на обед, особенно если эти три тысячи человек расселены на площади, равной Минданао[11]. Конечно, часть жила в Анкере, но в целом сельское хозяйство Верхней Америки пока еще не могло бы обеспечить нужды более плотного расселения.
Тем не менее определенная напряженность в разговоре ощущалась. О'Малли почувствовал облегчение, когда Тереза неожиданно спросила, зачем он прилетел. Он рассказал. Взгляды присутствующих блуждали по комнате, пока наконец не сконцентрировались на Дэнни.
Мальчик не дрогнул, но как бы окаменел, стал похожим на своего приемного отца. Его ответ был еле слышен:
— Я не хотел бы.
— Должен признаться, определенный риск, конечно, есть, — сказал О'Малли. — Однако… — Туг он широко улыбнулся, — скажите мне, а где его нет? Я, например, очень высоко ценю свою рваную шкуру, сынок, а я буду всегда рядом с тобой.
Тереза хрустнула пальцами.
Голос Дэнни сделался чуть громче. Он звучал как-то надтреснуто.
— Мне не понравилось там — внизу.
Коффин сжал губы.
— И это все? — жестко спросил он. — Ведь вопрос идет о долге, который надо выполнить.
Мальчик пристально посмотрел на него, отвел глаза и съежился на своем стуле. После долгого молчания он произнес:
— Как скажешь, отец.
Прошло много часов после того, как О'Малли покинул ферму, чтобы отправиться к себе и подготовиться к экспедиции. А пока на плато лежала долгая ночь. Ракш заметно вырос по величине и по фазе и стоял сейчас низко над морем облаков, а крошечная Сухраб быстро догоняла его. Обе луны пересекали небо навстречу движению солнца. Темноту неба прорезал свет звезд. Их созвездия не так уж отличались от видимых с Терры, если учесть разницу в расстоянии, измеряемую десятками световых лет. И хотя ось Рустама была наклонена немного сильнее земной, но в общем звездное небо выглядело знакомо. О'Малли нашел обе Медведицы, Дракона, а около Волопаса — крошечную тусклую пылинку: солнце Терры. Более сорока лет полета на космическом корабле, думал он, с человеческим грузом, погруженным в сон в холодильных камерах, вместе с семенами растений, зародышами домашних животных и будущих приемных детей поселенцев, и все это спит в течение четырех десятилетий, пока не придет время быть разбуженным. Но летают ли еще и сейчас эти космические коробки? Возможно, колонизация Рустама была последним усилием, ради которого собрали целый космический флот, доставивший первопоселенцев сюда, усилием, с помощью которого правительство (с их собственного согласия) отделалось от конституционалистов, от этих неслухов и бунтарей, которые все еще бормотали что-то о таких глупостях, как, например, свобода. Ушли ли когда-нибудь эти корабли снова в полет? Радиоволны еще не успели доставить ответы на вопросы, отправленные по лучу много лет назад. А люди, живущие на Рустаме, не имеют пока возможности построить свои корабли, которые могли бы улететь отсюда, да и вряд ли сумеют построить их в ближайшем будущем. А может, и никогда… О'Малли вздрогнул как от холода и прислонился к своему аэрокару.
Роксана — обширный континент, а лететь придется почти из самого его центра к южному побережью. Для Дэнни время тянулось мучительно медленно. Летели высоко — большей частью высоко: на высоте чуть ниже среднего уровня облачного слоя. Именно поэтому часто возникали турбулентные потоки, машина проваливалась в воздушные ямы, и они теряли из виду картину лежащей внизу суши. Но затем машина выходила из полосы дурной погоды, и снова перед ними возникали виды планеты — чистые и незамутненные. Такие можно было видеть только на Рустаме.
О'Малли сделал несколько попыток завязать со своим компаньоном обычный живой разговор. Дэнни пытался отвечать, но слова не шли с языка. Наконец беседа окончательно увяла. Кабину заполнял лишь рев ракетных двигателей, а иногда в нее врывался вой ветра или канонада грома, разносимые в плотной атмосфере планеты на огромные расстояния.
О'Малли попыхивал трубочкой, иногда насвистывал какой-то незатейливый мотивчик, но всегда оставался настороже, чтобы успеть перехватить в случае нужды управление у автопилота. Дэнни сжался на сиденье рядом с ним. Ну почему я не захватил с собой хотя бы какую-нибудь книжку! — повторял про себя мальчик одно и то же. Тогда бы мне не пришлось сидеть здесь и таращиться в иллюминатор на то, что лежит там — снаружи.
— Великолепно, как считаешь? — сказал О'Малли своему спутнику. А Дэнни еле удержался от того, чтобы не выкрикнуть ему прямо в лицо:
— Нет, это ужасно! Неужели вы не понимаете, как это отвратительно!
Небо над ними было перламутрово-серого цвета, и только на востоке пятнышко света говорило о том, что там скоро появится солнце. Внизу громоздились горы — необычайно высокие, особенно в непосредственной близости от мест, заселенных человеком. Их вершины терялись в небе. Потом горы резко снижались, превращаясь в дикий лабиринт утесов, ущелий, каньонов, огромных затопленных туманом долин, расселин, где сталью отсвечивали обнаженные лезвия рек, крутых обрывов, где черные горные породы прорезались белой проволокой водопадов. А впереди лежали предгорные холмы, за которыми еще западнее начинались прерии, тянущиеся до самого круглящегося горизонта. Там бушевали бури, крутилась белая кипень облаков, в которых полыхали и гасли молнии, там свирепствовали безжалостные ливни, гонимые сильными, но медленными штормами с низин. Краски отличались большим разнообразием — растительность покрывала все, кроме самых каменистых вершин. Но преобладали тона голубовато-зеленые, коричневатые, желтоватые, которые глазам Дэнни представлялись столь же мрачными, как и одноцветная пелена над их головами. Даже всплески крыльев миллионоголовых косяков птиц, трассы которых они пересекали, заставляли его думать только о том, как чужда ему вся эта жизнь, кипящая внизу.
Взгляд О'Малли снова остановился на мальчике.
— Жаль, что тебе все это не по душе, — пробормотал он. — Это ж твоя страна, верно? Ты приспособлен к ней так, как я никогда не смогу приспособиться.
— Не нравится, и все тут, — выдавил из себя Дэнни. — Не будем говорить об этом. Пожалуйста, сэр, не надо.
Если мы станем разговаривать, мне не удастся спрятать от него правду, я задрожу, начну заикаться, не смогу скрыть страх, который сейчас леденит мои ладони и подмышки, который течет у меня из носа; и все вырвется наружу, и он увидит, что я просто трус. О Господи, как я боюсь! Может, я даже расплачусь, и отец будет краснеть за меня. Отец, мой отец, который пошел за мной в тот низинный ужас и выхватил меня из рук смерти.
Этот страх беспочвен, уговаривал себя Дэнни. Он повторял себе это год за годом, когда сон, или телепередача, или чье-то нечаянное слово переносили его ночью в те же джунгли. Это было как клеймо, которое носишь всю жизнь. Нет, не жара, не влажность, не сумрак. И не голод и жажда (желудок все-таки заставил его есть какие-то фрукты, которые не походили на известные ему ядовитые). И не шорохи, не потрескивания, не стрекотание, не рев и завывания, даже не маниакальное хихиканье. Все это было спасением от оглушающей тишины. И не та зубастая тварь, которая гонялась за ним, и даже не… нет, даже не та гигантская хищная птица, чей разинутый клюв был нацелен на него. Страх заключался в самой бесконечности этих джунглей, через которые он плелся часами, складывавшимися в дни и ночи… особенно в ночи…
Иногда Дэнни казалось, что какая-то часть его так и не вернулась домой, что она навеки обречена скитаться где-то там, плача среди высоких древесных стволов.
Нет,Лты слишком впечатлителен, бранил его разум еще до того, как он нашел убежище в собственном доме, в своей родной Верхней Америке.
Когда наступал день, небо тут было необыкновенно синим и ясным, оно просто сверкало после ночной темноты с ее звездами и зорями; все было омыто чистыми дождями, а если и приходил оглушительный ливень, то и он был бодрящим. А зимой на землю ложилась белая незапятнанная пелена. Поля пшеницы отливали золотом, когда легкий ветер гладил их, цветочное многоцветье раскрывало чашечки под звонкие птичьи трели. И еще туг были никем не покоренные холмы для восхождения, леса, распахнутые навстречу солнцу. Были реки, чтобы плавать, испытывая тысячи прохладных ласковых прикосновений, или чтобы грести, а потом пустить лодку на волю течения куда глаза глядят, наслаждаясь сладостным покоем. И была ширь озера Олимп — всего в двух часах лета на аэробусе, что было вполне доступно в любое свободное от занятий или от работы в поле время. Дело стоило того — там был шлюп, который они построили вдвоем с Тоширо Хираямой. Были даже опасности, когда налетевший неожиданно шторм чуть не утопил их. Но даже это было прекрасно — и вызов, брошенный им, и доказательство, что они опытные мореходы и прочно встали на путь, который сделает их мужчинами… хотя, конечно, вряд ли следует рассказывать родителям о том, как близко к краю они подошли…
И всего этого я должен лишиться. Только потому, что у меня не хватило мужества признаться: меня до сих пор терзает страх. Неужели до сих пор? Ведь в последнее время кошмары, которые мне снятся уже много лет, стали не так страшны.
Да и задача, поставленная перед ним, вовсе не обязательно окажется невыполнимой, говорил он себе. Нет, «самом деле, вовсе не обязательно. На этот раз с ним будет рядом сильный и опытный спутник, у них есть радиосвязь с миром людей, будет хорошая еда, одежда и оборудование, а там и быстрое возвращение домой, как только работа будет закончена, обещанная высокая плата за нее и еще более щедрые премиальные. И все, что мне нужно сделать, — это прожить несколько тяжелых, полных неудобств дней. И ничего больше. Ничего. Господи, да, может быть, такая жизнь поможет мне стряхнуть с себя остатки детских страхов. Но сюда я больше все равно никогда не вернусь.
Он поудобнее устроился в своем кресле, подтянул ремни безопасности и постарался расслабиться.
Их машина — большой грузовой самолет — почти полностью загромоздила лужайку, на которую они сели. Высокие, с листьями, похожими на вайи папоротников, голубовато-зеленые стебли — растения из того многочисленного и плохо изученного семейства, которое невежественные колонисты нарекли просто „травой“, — почти полностью скрыли колеса и даже большую часть поплавков. Стеной стояли деревья, окружая лужайку со всех сторон. В большинстве это были так называемые „золотые деревья“ с рыже-красной корой, но кое-где виднелись тонкие, с перистой листвой мыльные деревья, мрачные псевдососны — приземистые колючие гномики. Меж древесными стволами переплетение кустов и лиан образовывало сплошную массу — оно было похоже на толпу, ожидающую немедленной атаки. Несколько метров вглубь, и в лесном сумраке многие миллиарды листьев сольются в сплошной зеленый фон, на котором не увидишь хоть сколько-нибудь различимые тени. Какие-то инсектоиды яркими вспышками пронзают вечный сумрак. Где-то вверху хлопают крылья — что-то огромное бьется в этой непереносимо давящей атмосфере. Жизнь здесь отличается от той, что существует в Верхней Америке, вернее, она не имеет с ней ничего общего. Там и тут среда обитания слишком различна.
В воздухе не ощущается никакого движения, он был жарок и тяжел. Полно запахов — отвратительных, сладких, резких, горьких, а главное — ничем не похожих на запахи дома. Звуки необычайно громки — щебет, шелест, жужжание, шорохи, журчание воды, шаги, — и на этом фоне первые неожиданные звуки человеческой речи.
Дэнни делает вдох, другой. Жилы на шее напрягаются, но он все же заставляет себя оглянуться. Каким бы страшным ни выглядел этот куст, но он не прыгнет на меня и не укусит. Надо почаще напоминать себе об этом. Немного помогало и то, что они постепенно повышали давление в кабине, прежде чем решились выйти наружу: у Дэнни была возможность дать своим легким и кровеносным сосудам привыкнуть к новым ощущениям.
Джеку О'Малли подобный переход ничего не давал. Такую концентрацию газов он мог выдерживать лишь короткое время, если это было жизненно необходимо, без особых последствий, если не считать жестоких головных болей. Но если он будет вдыхать этот воздух слишком долго, то отравится углекислым газом, азотный наркоз нарушит работу его мозга, а слишком высокое содержание кислорода начнет медленно сжигать его ткани. Поэтому его герметически закрытый комбинезон был снабжен гласситовым шлемом с редукционным насосом, с крайне неудобной трубкой для пбдачи воды и специальным клапаном для подачи пищи, а также с особым прибором для предотвращения образования внутри шлема тумана из пота, уже сейчас выступившего у него на лице.
И все же почти все его годы, проведенные на Рустаме, были отданы исследованию Низин, думал Дэнни. Что могло заставить этого человека так бессмысленно растрачивать свою жизнь?
— О'кей, давай-ка разгружать наше барахлишко, а потом и по коням! — Голос О'Малли гулко ухал из динамика, пробиваясь сквозь помехи. — Даже в самом лучшем случае мы не доберемся до Чгеста назначения до темноты.
— Не доберемся? — удивился Дэнни. — Но вы же сказали, что это всего около пятидесяти километров, да еще по хорошо утоптанной звериной тропе. И к тому же у нас остается еще почти двадцать часов дневного времени. Даже с остановками для сна никаких проблем не должно возникнуть.
На губах О'Малли промелькнула легкая усмешка.
— Для тебя, вероятно, дело обстоит именно так. Но я-то уже не молод. А еще хуже вон та штука, что у меня на голове и на плечах Этот насос приводится в действие расширением моей грудной клетки при дыхании, как тебе известно. Но ты не знаешь, сколько сил отнимает этот процесс, ты же у нас счастливчик, тебе не приходится таскать на себе такую штуковину.
Счастливчик!
— Однако, — продолжал О'Малли, — мы можем идти и после захода солнца, так что мне думается, мы доберемся до места, имея немалый запас времени, чтобы провести подготовительные работы, которые должны быть выполнены до наступления дня.
Дэнни кивнул. Иногда он удивлялся, почему это люди не попытаются адаптироваться к медленному вращению Рустама вокруг своей оси. Что бы там ни говорили медики, он был уверен, что можно приучить свой организм проводить сорок часов без сна, а затем спать двадцать подряд. Не являются ли мощные электрические фонари единственной причиной того, что подобная попытка никогда не была сделана?
— А когда придет восход, мы начнем строить фургон, с помощью которого доставим сюда то, что нам удастся спасти от крушения.
— Если это у нас получится, — пробурчал себе под нос Дэнни.
Он не хотел быть услышанным, но вышло иначе. Будь она неладна, эта плотная атмосфера! О'Малли насупился, сразу было видно, что недоволен.
Потом более пожилой путешественник пожал плечами.
— Вполне возможно, что нам придется отказаться от самых тяжелых вещей, например от мотора, — сдался он. — Может, даже просто от всех крупных — от объемистых приборов, например, если моя идея насчет фургона не сработает. Но как минимум мы обязательно должны вывезти отсюда ленты с записями приборов. Хм… Что такое?
Дэнни вдруг прижался к металлу поплавка.
— Н-н-ничего, — выдохнул он, стараясь подавить рвущийся из горла визг. Только вот дрожи, сотрясавшей его тело, он подавить не мог.
Над лужайкой кружилась птица-меч. Не тот горный хищник, а его колоссальный кузен — крылья восемь метров в размахе, обладающий силой, достаточной, чтобы поднять в воздух мальчугана, а потом и растерзать его.
Ветви нависали над тропой. Ничто не летало под этим высоким-высоким пологом — бронзовым, янтарным, бирюзовым, — если не считать множества мелких летунов, вспыхивающих, как живые радуги. А когда стайка тарзанов проскочила мимо, прыгая с ветки на ветку, болтая и корча смешные рожи, Дэнни вдруг обнаружил, что хохочет вместе с О'Малли. Удивительной казалась открытость леса. Джунгли — слово, мало подходящее для него. Роксана лежит не в тропической зоне, и сколько бы энергии ни получал Рустам от своего солнца, Ардаширский берег охлаждается морскими ветрами. Погода туг не жаркая, а скорее теплая, а еще лучше сказать — теплая и сухая. Кустарник густо разрастался лишь на открытых пространствах, получавших много света. А меж стволами деревьев попадались лишь отдельные небольшие кустики. Почву устилал мягкий гумус, обладавший резким специфическим запахом.
Нет, этот лес не был мрачным. Подобная характеристика могла появиться лишь по контрасту с открытым пространством. Зрачки человеческих глаз туг расширялись, и они улавливали что-то вроде мягкого сияния, которое позволяло различать множество тонов и оттенков листвы, хотя они тут же таяли в таинственном кафедральном сумраке.
Кафедральный? Дэнни видел рисунки и фотографии, он читал описания соборов на Земле. Он всегда думал об огромных соборах как о чем-то замкнутом, давящем. Если так оно и есть, то такое слово не слишком подходит к этим лесам, которые гудели, пели, журчали — то ли от ветра, то ли от топота лап, взмахов крыльев, бега быстрых ручьев, чьих-то призывов и песен. Так где же та мрачная жестокость, которая запомнилась ему?
Может быть, все дело в том, что теперь он не один, что он не потерялся? У него был и надежный друг, и пистолет на боку. А может, его страх не так уж и крепко укоренился в нем? Может быть, то, чего он так боялся, не было чем-то вещественным, а всего лишь воспоминаниями и снами, годами преследовавшими того ребенка, которого уже давно не существует?
Тропа была удобная, широкая, утоптанная почти до твердости мостовой. Дэнни не ощущал тяжести груза за спиной. Ноги шли сами собой, они едва касались поверхности тропы, пока наконец он не остановился, поджидая задыхающегося О'Малли, который все время отставал от него.
Более высокое содержание кислорода, ясное дело. И аппетит начинал разыгрываться — до чего же вкусным покажется обед! Что отличало его от шефа — помимо возраста — так это то, что дышать здешним воздухом не было для того совершенно естественной вещью. Дэнни, конечно, никакой не мутант — ничего подобного. Будь это так, он не смог бы вынести жизни на плоскогорье. Но благодаря своим генам он оказался на самом конце кривой распределения некоторых биохимических показателей.
Я не обязан любить эту страну, твердил Дэнни про себя. Просто, как любила говорить мама, всегда следует дать оппоненту возможность дважды повторить свои доводы.
Когда они остановились на ночлег, Дэнни даже не захотелось, как О'Малли, сразу же после еды уснуть глубоким сном. Он долго лежал в своем спальном мешке без сна, смотрел, принюхивался, прислушивался. Они остановились чуть в стороне от тропы, но так, чтобы не терять ее из виду. Это решение оказалось верным, ибо стадо тех, кто проложил тропу, прошло мимо них.
Дэнни схватился за ружье. Он хотел позаботиться о провизии — мясо диких животных годилось в пищу. Жизнь на Рустаме не имела ряда питательных веществ, нужных человеку, а питательные таблетки, дополняющие диету, весили гораздо меньше, чем сухие или мгновенно замороженные продукты.
Однако он тут же опустил оружие, так и не выстрелив. Если бы он убил одного из этих животных, то смог бы воспользоваться лишь ничтожной частью туши. А уничтожать зря эту гордую красоту с раскидистыми рогами было бы непростительным грехом.
А потом Дэнни заснул. И вновь оказался в могильном молчании бесконечных древесных стволов, где в непомерной высоте кружила птица-меч. Он проснулся и удержал рвущийся из горла вопль. И хотя ему удалось подавить страх, но до самого конца их путешествия к месту крушения его сопровождали жуткие воспоминания.
Последние несколько километров они шли очень медленно. И не только потому, что компас, детектор металла и светящиеся зарубки на стволах, сделанные О'Малли после крушения, увели их с проторенной тропы, но и потому, что отдельные участки леса были более разреженными и кустарник в них разрастался особенно пышно. Такие участки не были достаточно велики и удобны для безопасной посадки. О'Малли показал Дэнни, как надо работать мачете, которые они захватили с собой. И мальчик извлекал из этой работы какое-то жестокое наслаждение: Л ну-ка получай, черт бы тебя побрал! Когда наконец они достигли цели, Дэнни еле стоял на ногах; зато на этот раз ничто не нарушало его сон.
Позже они проанализировали ситуацию. Изящный каркас аэрокара лежал скрученный и раздавленный меж массивных древесных стволов. Лучи фонарей выхватили из темноты оторванное крыло, застрявшее среди сучьев высоко вверху. Они обратили внимание на мощную аритмичную пульсацию, которая прорывалась сюда сквозь дурманящую жару. Она шла с юга, где поверхность почвы постепенно понижалась на протяжении четырех-пяти километров, образуя как бы пандус, ведущий к берегу моря.
Дэнни изучил аэрофотоснимки, сделанные спасательной экспедицией. В своем взвинченном состоянии он раньше не уделял им особого внимания. Теперь же он спросил у О'Малли:
— Сэр… э-э… а почему вы пошли в глубь континента… вы и мистер Херцкович? Почему не к берегу, к пляжам, где вас могли бы подобрать спасатели?
— Здесь нет пляжей, — объяснил О'Малли. — Я знаю — ходил до самой границы огромного соленого болота, затопляемого во время самых высоких приливов. В остальное время это просто жидкая трясина. Колеса или понтоны наверняка, черт бы их побрал, завязнут в этом дерьме. А если ждать прилива, то оказывается, что в это время воды, особенно у рифов, закрывающих выход из залива, бурные и опасные, так что ни один пилот не захочет рисковать своей машиной, не говоря уж о собственной шкуре.
— Понятно, — сказал Дэнни, немного подумав. — А с раненым мистером Херцковичем вы, конечно, не могли бы доплыть туда, где бы вас можно было подобрать без риска. Но разве мы не могли бы доставить наш груз до спокойных открытых вод? Вы и я?
— Когда придет рассвет, можешь сходить туда сам. Потом расскажешь мне.
Дэнни пришлось вести себя к берегу чуть ли не за шиворот. Опять он один в дебрях! О'Малли все еще спал, а когда проснется, то тут же захочет начать работать. Сейчас у него единственный шанс разведать более легкий путь, чтобы покончить с этой проклятой работой. Он крепко сжал зубы и кулаки и зашагал вперед сквозь туманную предрассветную дымку.
На берегу он обнаружил, что все, о чем говорил ему О'Малли, вполне соответствует действительности. Из двух лун только Ракш создавал существенные приливо-отливные течения, но они могли иногда в несколько раз превышать по высоте волны, поднимающиеся на глубоководных пространствах океанов Терры. (Терры, такой знакомой по историческим книгам, картам и легендам, но которая выглядит крошечной звездочкой в небе, а иногда и вообще кажется несуществующей.) Притяжение солнца тут тоже незначительное.
С вершины дерева Дэнни обозрел сверкающий покров жидкой грязи. За ней отливали оружейной сталью волны океана, покрытые белыми гребнями пены и бешено крутящиеся. В водяной пыли и громовых раскатах вздымались черные скалы. Мутный рассвет все же позволял разобрать сложный рисунок течений и противотечений, стоячую зыбь и жуткие водовороты, в глубине которых прятались зубчатые скалы, сейчас уже наполовину скрытые начинающимся приливом. Дальше бухта расширялась, переходя в круговерть белых валов, а еще дальше лежала гряда шхер, вокруг которых волны прыгали в приступах вечной ярости. И только дальше сверкал куда более спокойный залив Ардашир.
Без сомнения, при отливе волнение в проходе будет менее сильным, чем сейчас, но гарантии безопасности — никакой. Конечно, двое мужчин не могут надежно управлять довольно большим и тяжело нагруженным плотом или паромом в этом водяном хаосе. А тратить топливо и жертвовать интересами грузоотправителей, чтобы привести сюда моторку или даже лодку с подвесным мотором, тоже вряд ли кто захочет. Потенциальная цена груза, который они надеются спасти, вряд ли достаточно велика, чтобы рисковать столь высоко ценимыми на Рустаме машинами.
Не было смысла и в проведении рекогносцировки в других местах побережья. Фотоснимки показывали, что и к востоку, и к западу отсюда километр за километром береговая линия становилась еще менее доступной — скалы, утесы, обрывы, мели, где дикие силы этой атмосферы разрушали берега, круша и выбывая горную породу.
И над всем этим нависало бесцветное небо, на котором смутным пятном светлело солнце планеты; лишь там, где верхний слой облаков ненадолго разошелся, проступала такая яркая голубизна, что тоска по дому взяла Дэнни за глотку.
Он вернулся в лагерь. После того как он отдохнул немного, эта страна уже не казалась ему каким-то обиталищем демонов. Но, Боже, как хотелось ему бежать отсюда!
О'Малли встал, подвесил над огнем котелок с чаем и отправился получше поглядеть на груду обломков аэрокара.
— Удовлетворен?в— спросил он. — О'кей, займись-ка теперь завтраком. Понравился видик?
— Жуть, — пробурчал Дэнни.
— Да ну? А я-то считал его весьма внушительным и даже по-своему прекрасным. Впрочем, должен признаться, на нервишки он действует так, что хочется почесать в затылке даже под шлемом. Боюсь, нам удастся сделать меньше, чем мы думали.
Сердце Дэнни затрепетало при мысли, что они просто могут сделать несколько ходок между местом крушения и аэробусом, захватывая каждый раз только ленты самописцев и не особенно тяжелые приборы. От этих радостных мыслей его оторвал голос О'Малли:
— В лучшем случае это будет медленная работа, особенно если учесть, что мои возможности очень ограничены. Нам вряд ли удастся быстро завершить постройку фургончика. Погляди только, какую строительную площадку нам придется подготовить, прежде чем мы начнем плотничать. — У них были с собой легкие колеса и тормоза, а также инструменты, чтобы соорудить корпус фургона из местных материалов и изуродованных металлических листов. — Потом начнется тоже очень тяжелая работа — прокладка просеки до звериной тропы, и эта просека будет длиннее, чем мне думалось после крушения. Да и подъем вверх по холму оказался круче. Нам придется затратить несколько дней только на то, чтобы втащить нашу добычу на этот холм.
— А как вы думаете, что можно будет сложить в наш фургон?
— Возможно, толвко научные материалы. Черт побери! Я ведь и в самом деле надеялся, что нам удастся вырезать реактивные сопла и турбину и с помощью лебедки втащить их в фургон. И то и другое в весьма приличном состоянии.
Дэнни удивился:
— А почему мы не взяли больше людей? Или хотя бы маленький трактор или даже упряжку мулов?
— Колледж не может оплатить такие расходы, особенно сейчас — во время посевной. Кроме того, аренда большого аэробуса стоила бы дороже, чем весь груз разбившегося кара. Знаешь, у нас ведь повсюду не хватает и того и этого, а спрос на то и это все время растет. То, что лежит здесь, — это безусловно ценность, это так, но не такая, чтобы оправдать подобные расходы. — О'Малли помолчал. — Во всяком случае, я сомневаюсь, что владелец большого аэробуса решился бы рискнуть им за подобную цену.
— А нами, значит, можно рискнуть, — пробурчал себе под нос Дэнни. Я не боюсь, внушал он себе. Совсем не боюсь. Однако… ведь вся выгода, которую они получат, не стоит ничего в сравнении с шансом погибнуть в этом аду.
О'Малли услышал его шепот и неожиданно расхохотался:
— Это уж точно! Ты да я — все, чем общество может рискнуть при таких ставках. Что ж, Бог никогда не гарантировал человеку выдачи бесплатных пирожных.
А отец всегда говорит, что труженик должен получать достойную плату, вспомнил Дэнни. Как он говорит, труженик должен существовать.
А дни шли. Работа была тяжелая — с мачете и с топором, рубка, сварка, возня со сверлом, молотком, клещами, пилой и множеством инструментов, которые мальчику были неизвестны. Тем не менее все это ему было интересно, и он увлекся. О'Малли был отличным учителем. Больше того, сам факт, что дело шло, что они приближались к победе, хотя бы даже и не совсем полной, над Низинами, вызывал подъем душевных сил, содействовал выздоров лению.
Дэнни не понравилось, когда ему пришлось заниматься расчисткой дороги, а О'Малли отправился добывать мясо. Он смолчал, но О'Малли прочел его мысли по недовольному выражению лица:
— Охота в здешних местах совсем не похожа на охоту в Верхней Америке. Виды животных тут совсем другие, да и вся экология тоже. А ведь мы не хотим торчать в лесах лишнее время, верно?
— Нет, — сказал Дэнни, хотя это потребовало от него кое-каких усилий.
Но босс, без сомнения, был прав. Разве нет? Чем более эффективно они организовывали работу, тем скорее должны были оказаться дома. Но дело в том… Словом, охота куда интереснее. Все что угодно интереснее этого тяжелого физического труда. Руби, обрубай ветви кустарника — вон он стоит на пути — и в дождь, и в туман, круши, пока не изойдешь потом, пока колени не подогнутся, пока каждая мышца не завоет от своей — особенной — боли. Трудно поверить, что все это требует куда меньше усилий, нежели просто расчистка посадочной полосы для грузового аэробуса. И все же это так. Площадку, на которую можно совершить посадку в таком густом лесу, можно построить только при наличии большого количества тяжелой Техники, ну хотя бы бульдозера. От дороги же требуется одно — она должна быть проходима. Пусть себе вьется между стволами деревьев, пней, валунов, пусть обходит серьезные препятствия. Только если это означало большой выигрыш в завтрашней работе, Дэнни разрешал себе удовольствие — подорвать препятствие с помощью заряда фульгурита.
Вернувшийся с охоты О'Малли был обрадован тем, как много Дэнни успел сделать.
— Я никогда не смог бы продвинуться за такое время так далеко! — воскликнул он. — Наверняка ты и сам не смог бы сделать столько в более разреженной атмосфере.
Он подсчитал, что еще через два дня и две ночи, или через два километра, дорога соединится со звериной тропой. А там уж останется только одно — медленно и с тяжкими усилиями толкать фургон через лес к аэробусу.
Во время полдника О'Малли вызвал свое начальство в Анкере. Компьютер далекого аэробуса был запрограммирован на то, чтобы усиливать и ретранслировать сигналы, полученные от маленького передатчика О'Малли. Атмосферные условия были очень плохие, использовать частотную модуляцию на таких расстояниях было трудно. Но те слова, которые прорвались через визг, жужжание и писк атмосферных разрядов, походили на прикосновение дружеской руки. Как бы тяжело ни было на Рустаме, подумал Дэнни, но он — Наш край. Его самого удивила, как он додумался до таких слов.
Коща Дэнни и его начальник проснулись от послеобеденного сна, пошел дождь, тот характерный для Низин дождь, который не давал иного выбора, как сидеть под тентом палатки, слушать ре» водяных потоков, грызть неразогретый рацион и разговаривать. О'Малли обладал бесконечным запасом всяческих побасенок о годах своих скитаний, которые не просто повествовали о делах и чудесных спасениях, но превращались в своеобразные пьесы, в странные и необычайные трагедии, бесконечно увлекательные или трогательные. В первый раз Дэнни понял, сколько он потерял, чуть ли не умышленно уклоняясь от того, чтобы получить знания о планете, которая была его планетой.
Ливень окончился только к вечеру, и они смогли выйти из своего убежища. Дэнни чуть не задохнулся от восхищения. Казалось, он дышит густым прохладно-упоительным ароматом цветов, расцветших в одно мгновение. Весь лес сверкал дождевой капелью, которая с шумом падала на мокрую траву и дробилась в последних лучах заходящего солнца в мелкую алмазную пыль. Небо прояснилось, оно было почти чистым, маняще высоким, если не считать нескольких облачных громад, похожих на снежные горы, отражающих золотистый закатный свет большого солнца. В этом освещении листва уже не казалась тусклой, она горела пламенем и светилась. На вершинах деревьев веселилась всякая животная мелочь.
О'Малли взглянул на лицо мальчика, хотел было что-то сказать, но передумал и деловито произнес:
— Пожалуй, схожу проверю приборы…
Приборы все еще оставались под грудой металлического лома и, хотя они были упакованы в ящики, могли сильно промокнуть из-за множества дыр в фюзеляже.
О'Малли взобрался на нечто похожее на стремянку, которую сам же соорудил из нескольких тонких стволов с обрубленными ветками, прислонив ее к двери фюзеляжа, зиявшей на уровне нижних ветвей деревьев. Во всем дальнейшем виновата была скользкая листва. Позже, правда, Дэнни решил, что ливень не только сделал все скользким, но давлением косо падавших струй сдвинул вещи с их привычных мест. Он услышал крик, увидел, как гнется и падает лестница и как О'Малли всем своим весом, на четверть большим по сравнению с земным, рушится вниз.
Ночь длилась. Верхний слой облаков еще не занял свое обычное место, звезды и маленькая Сухраб сверкали в вышине, хотя далеко не так ярко, как это бывало в Верхней Америке; зато тем более недоступными и непознаваемыми они казались. В палатке было жарко и душно, О'Малли тщетно мечтал о ветерке, который освежил бы его мокрую от пота грудь. Поэтому он устроился в своем спальнике снаружи, подложив под голову и спину рюкзак. Свет пары фонарей падал на его лицо, одновременно высвечивая листья, стволы, блеск металла; дальше лучи поглощались ненасытной глоткой глухо квакающей темноты.
— Ладно. — В его голосе все еще слышалась дрожь, хотя былая сила уже возвращалась к нему. — Дай мне отдохнуть до рассвета, и я смогу отправиться к аэробусу пешком. — Он опустил взгляд к левой руке, положенной в лубки, забинтованной и висящей на перевязи. Все-таки счастье не совсем покинуло его — перелом был чистый и оказался единственным серьезным результатом падения. Все остальное — синяки, ушибы, шок от удара о землю. Дэнни неплохо освоил приемы первой помощи, что являлось обязательной частью образовательного минимума на Рустаме. Хирургические инструменты и лекарства входили в обязательный набор вещей путешественников.
— Вы уверены? — Мальчуган даже испугался. — Если мы вызовем помощь… парочку санитаров с носилками…
— Ни в коем случае, говорю я тебе! Их помощь может потребоваться в других местах. Филу Херцковичу было куда хуже, чем мне, когда он шел с переломанными ребрами. — Гордость и не вполне спокойная совесть делали тон О'Малли особенно напряженным. — Хватит и того, что мы провалили свое задание.
— А разве мы его провалили? Я вернусь сюда с кем-нибудь другим и докончу начатое.
— Извини… — Мужчина сжал зубы, но далеко не только от боли. — Я не имел в виду тебя, сынок. Это я провалил дело. — Он отвернулся. — Помоги мне лечь, ладно? Попробую поспать немного.
— Конечно. — Дэнни подбежал, чтобы Тпомочь своему напарнику. — Хм-м… извините, сэр, а что мне делать пока? Я могу продолжать прокладывать дорогу?
— Если хочешь. Делай все что вздумается. — О'Малли закрыл глаза.
Дэнни встал. Он бросил долгий взгляд на заросшее щетиной бледное измученное лицо. Прежде О'Малли мог на короткое время снимать шлем, чтобы помыться, побриться и причесаться. Но сейчас Дэнни не считал возможным заставлять и без того больного человека делать такие усилия. Высохший уже пот серебристыми ручейками лежал в глубине морщин, проложенных болью. Было страшно смотреть на этого большого, сильного и доброго человека, потерпевшего сокрушительное поражение.
Спал ли он или просто скрывал свой позор под покровом сна?
А что, собственно, позорного в невезении?
Пробираясь по жидкой грязи, Дэнни размышлял, пытаясь понять, в чем тут, собственно, дело. Джек О'Малли — легендарный первопроходец — что-то неверно рассчитал и угробил аэрокар. Он мог бы поправить дело — ведь такое может с каждым случиться, не так ли? — организовав экспедицию, чтобы спасти большую часть особо ценного груза. Но оказалось, что, во-первых, мотор вызволить нельзя, а он, как известно, сердце машины. А затем, может быть, потому, что он стал слишком беззаботен, О'Малли упал и сломал себе… Ну хорошо. Его гордость, его тщеславие пострадали.
Но почему он переживает так сильно? Он же не мелочный. Что из того, что кто-то другой закончит его проект? Конечно, дело тут даже не в денежной премии, полагающейся за спасенный груз. О'Малли — достаточно состоятельный человек. Нет, тут должна быть какая-то другая, очень важная причина. Но в чем она?
Дэнни огляделся вокруг, посмотрел на звезды, злорадно подмигивающие ему — это поднимались пары с вод океана и влажной почвы, — а потом и на темноту, подстерегающую его. Деревья были еле различимы, они походили на затаившихся громадных троллей. Они бормотали угрозы, уносимые вдаль вместе с тихим, но отчетливым свистом ветра, и здоровенными лапищами-ветвями хватали воздух. Страх и одиночество снова навалились на него, невзирая на прошедшие с тех пор годы.
Но я могу побороть это! — бросил он почти что вслух. Именно это я делаю сейчас!
Застонал О'Малли. Затрепетали ресницы, а потом снова крепко сомкнулись. Он положил здоровую руку на шлем, будто старался отгородиться от ночи, отпихнуть ее.
Понимание пришло к Дэнни как удар в челюсть. Он тоже боится! Он боится этой чужестранности, таящей в себе вечную угрозу. Он боится еще сильнее, чем боялся я. Он одержал победу над собой, одержал очень давно. Но одна жалкая глупая неудача может развязать тот туго завязанный узел внутри О'Малли. Неужели Джек О'Малли так же одинок и беззащитен, как любой напуганный мальчуган?
Дэнни погрозил лесу кулаком. Ты не победишь его! Я не допущу этого!
Но уже минутой позже он понял, что ведет себя как герой мелодрамы. Его уши запылали. И все же, будь оно все проклято, должен же тут быть какой-то выход! Фургон построен. Несколько оставшихся километров кустарника могут быть расчищены за считанные часы. Но у О'Малли нет сил, он не сможет помочь ему толкать фургон вверх по склону.
Делай что хочешь, сказал ему этот раздавленный несчастьем человек, у которого гордость была уязвлена куда больше, чем кости.
Вверх по склону?
Дэнни заорал как полоумный.
О'Малли зашевелился, открыл глаза и потянулся за пистолетом:
— В чем дело?
— Пустяки, — заторопился Дэнни. — Ничего серьезного, сэр. Спите спокойно. Ничего? Или — все?
Строить дорогу между лагерем и морским побережьем было делом куда более простым, чем в глубь материка. Мало того, что земля тут была поката в нужном направлении, но еще и высокое содержание соли в почве делало ту менее плодородной. Кустарник обычно рос на болотистых участках, где колеса, не будь его тут, почти наверняка застревали бы. При ярком свете фонаря, укрепленного на плече, Дэнни закончил строительство тропы ко времени, когда пора было ложиться спать.
— Ты прямо какая-то пчелка-хлопотунья, а? — сказал ему О'Малли, когда Дэнни забежал на минутку в лагерь, чтобы поглядеть на него. — Чем это ты занят?
— Работаю, сэр, — ответил Дэнни правдиво с формальной точки зрения и весьма уклончиво по существу. О'Малли снова погрузился в дрему, частично естественную, частично вызванную лекарствами; она помогала телу О'Малли поскорее приступить к самоизлечению.
Позже Дэнни оттащил к берегу фургончик. Тот передвигался легко, хотя время от времени и приходилось приводить в действие тормоза. Освобожденный от груза фургон был достаточно легок, чтобы мальчик мог притащить его и обратно. Но теперь — Дэнни улыбнулся — ему потребуется большая грузоподъемность, особенно если груз будет тяжелее, чем они предполагали раньше. С помощью своих электрических инструментов Дэнни быстро нарастил шпангоуты, подстраховал их с помощью металлического листа, вырезанного ацетиленом из обломков аэрокара. Соорудить парусное вооружение будет потруднее, но… что ж, придется порезать мешки и палатку.
Работал Дэнни в дальнем конце лагеря, вдали от глаз больного. К утру О'Малли почувствовал себя гораздо лучше и потребовал отчета о том, что происходит. Когда Дэнни рассказал ему о своей идее, он воскликнул — Ни в коем случае! У тебя что — крыша поехала?
— Мы можем сделать попытку, сэр, — умолял мальчик. — Послушайте, я сделаю несколько пробных ездок порожняком, чтобы поглядеть, что получается, освоить дорогу, внести необходимые изменения в конструкцию; все это мы сделаем до того, как начнем погрузку. А вы, вы сможете и одной рукой управлять аэробусом, верно ведь? Так что нам терять?
— Твою жизнь, дурачок, а может, и больше…
— Сэр, я опытный мореход, и…
Без особого стыда Дэнни воспользовался своим цветущим здоровьем для того, чтобы одержать победу над ослабленным болью О'Малли.
Подготовка заняла еще двое суток. Часть этого времени ушла на охотничий поход Дэнни. Он нашел, что советы О'Малли касательно охоты полезны, дичи много и она совсем непугана. Хотя идея убивать животных не привлекала Дэнни, но она и не ложилась на его совесть тяжким бременем. А сами походы были отличным отдыхом; потом стали и развлечением.
Однажды гигацтская птица-меч пролетела на расстоянии выстрела из его ружья. Он поймал это животное в оптический прицел и следил за ним, пока оно не улетело. И только тогда понял, что не убил его потому, что в этом не было нужды. Какое величественное создание!
О'Малли хозяйничал в лагере, хотя и не очень ловко. Иногда необходимость заглушить боль в руке заставляла его прибегать к болеутоляющим лекарствам. С вернувшейся к нему лихостью он категорически отказался вернуться в Верхнюю Америку, чтобы получить нужное лечение, как отказался и от разговоров с доктором по радио.
— Я отлично поправляюсь. Ты меня первоклассно подлечил. Даже если окажется, что мое крылышко работает не так, как надо, они его быстро подправят в больнице. А пока, если я сейчас сообщу им об этом, какой-нибудь идиот-бюрократ наверняка навалится на нас. И если он не отправит нас в обязательном порядке домой, то бросит к нам на помощь все свои наличные резервы, а потом потребует доли в наших премиальных — в твоих деньгах!
— Но вы действительно способны выдержать все это, сэр?
— Да. Я, без сомнения, такой же псих, как и ты. Нет, куда более психованый, так как в мои годы мне полагалось бы быть умнее… Но мы с тобой схватим эту страну за рога… Слушай, меня же не даром зовут Джеком![12]
Нагруженный всем, включая мотор, фургон двигался куда медленнее, чем во время пробных ездок. Затем уклон местности увеличился, тормоза стали дымиться, и Дэнни даже испугался, что экипаж выйдет из-под контроля, покатится под откос и разобьется. И все же он довел фургон до черты наивысшего прилива. После этого Дэнни оставалось лишь ждать, пока О'Малли вернется к аэробусу, неся на себе ленты самописцев, которыми рисковать было нельзя. Дэнни прошел бы этот путь быстрее, но босс сказал, что лучше, если тот получше изучит местные воды и их характер.
Дэнни к тому же получил шанс изучить и местную растительность, и животных, и ароматы, и ветры, и родники этой волшебной лесной страны.
Гребни волн прилива проникали все дальше и дальше в глубь суши, достигая уже того места, куда докатились колеса фургона. Дэнни вдруг ощутил, как тот качнулся, и понял — фургон на воде. Он сказал в свой маленький переносной передатчик:
— Я на плаву!
— Тогда — вперед! — Голос О'Малли звучал как туго натянутая струна.
Вряд ли можно сказать, что у Дэнни в этот момент сердце не было готово выскочить из груди от возбуждения. Он вдруг вспомнил слова своего товарища: «Ты еще слишком молод, чтобы понимать: ты можешь потерпеть неудачу, ты можешь погибнуть», однако значение этих слов воспринималось им как абстракция, далекая от реальности. А реальность — вот она — в эту минуту поднимала парус, вкладывала в руки Дэнни румпель и шкот, помогала поймать бриз и направляла «судно» к проходу в залив.
Оказалось, что, несмотря на многочисленные усовершенствования, несмотря на репетиции, это плавсредство, переделанное из фургона, было весьма утлым и неуклюжим. Впрочем, иначе и быть не могло. Дэнни слишком хорошо разбирался в парусных судах, чтобы представить себе такую возможность — он спускает в воды озера Олимп нечто, сляпанное кое-как из совершенно неподходящих материалов. Парусное вооружение было сплошным издевательством над аэродинамикой, корпус — непрочный, плохо сбалансированный и перегруженный; вместо настоящего киля просто шверцы. Ко всему этому добавлялось еще сопротивление, которое оказывали торчащие колеса.
Но туг вам не Верхняя Америка. И человек, который автоматически решал, что здешние воды слишком опасны для аэрокара и моторки, не мог, разумеется, и предположить, что сундук под парусом, построенный без помощи техники, может обладать качествами, соответствующими местным условиям, отличным от условий на плоскогорьях.
Здесь воздушные массы перемещаются медленно, хотя и обладают большой силой инерции, так что им трудно прийти в быстрое движение, образуя шквалы или ветры, дующие порывами. Здесь прилив, достигнув наибольшей высоты, поднимает корпус плоскодонки и проносит ее над рифами и мелями, за исключением тех, что торчат над водой. А при нынешнем периоде обращения Ракша вокруг Рустама спад воды будет происходить медленно и постепенно. Устойчивость водных и воздушных течений как раз и была тем, что нужно.
Конечно, опасностей хватало! Хоть стихийные силы, контролирующие движение, и помогали Дэнни, было необходимо и умение, чтобы провести лодку мимо рифов, не дать ей попасть в мертвую зыбь, обойти те опасные участки, о которых его предупредит парящий в высоте напарник.
Небо было не свинцовое, оно светилось серебром. Маленькие случайные облака, поймав свет полускрытого солнца, вспыхивали блеском стали с фиолетовым отливом внизу. Суша, остававшаяся за кормой, поражала многоцветным праздником жизни. Над лесом кружилось невероятное множество птиц, звучали клики перелетных стай, вспугнутых барабанным грохотом прибоя на рифах. Дул ветер, насыщенный запахом соли и ощущением мощи. Он то посвистывал, то баюкал, то, как бы резвясь, целовал вашу кожу. И плавание превращалось в веселый танец со всем миром в качестве партнера.
А вот и рифовый барьер. Накаты волн ослепительно сверкали белой пеной. Рев прибоя сотрясал тело до мозга костей.
— Бери вправо! — вопил голос О'Малли из динамика. — Ты собьешься с фарватера, бери вправо!
Правый галс! Дэнни усмехнулся и положил руль к ветру. Он и сам отлично видел фарватер впереди — чистый и зовущий. Хорошо иметь в воздухе впередсмотрящего, но в этих местах в нем не было такой уж необходимости. И в этих местах хозяин он — Дэнни!
Он прошел полосу рифов и оказался в заливе Ардашир. Отсюда дорога вела в океан Урании, а далее — в открытый мир. Волнение было не очень сильным. Судно переваливалось с одной волны на другую. Его движения повторял и аэробус, который О'Малли посадил на воду на поплавках. Теперь им предстоял один из самых сложных этапов их операции — лечь в дрейф бок о бок и заняться перегрузкой. Дэнни подал условленный сигнал.
Когда оба «судна» были соединены, О'Малли высунулся из своего грузового отсека и восторженно прокричал:
— Мы добились своего! — И тут же с не меньшей радостью поправился: — Извини! Ты сделал это!
— Мы оба сделали это, Джек! — ответил Дэнни. — А теперь, давай, я сначала передам тебе приборы. Знаешь, нам чертовски трудно придется с мотором. Можем и потерять его.
— Ничего, перебьемся. Если цепи крепки, эта лебедка потянет и втрое большую тяжесть. Но, разумеется, сначала займемся наукой, она полегче.
Дэнни уперся ногами в ограждение и начал передавать ящики. О'Малли принимать их было жутко неудобно. Тем не менее перегрузку кончили благополучно. О'Малли крикнул, покрывая шум волн и ветра:
— Какая жалость, что нам приходится бросить туг это поразительное судно!
Дэнни оглядел дело рук своих, потом перевел взгляд на сушу и тихо ответил:
— Ничего! Мы еще вернемся за ним.
ТАКОВЫ ЖЕНЩИНЫ
После трех часов тревожного сна Дэн Коффин проснулся с той же неотвязной мыслью: Они так и не вышли в эфир!
Или вышли? — спрашивал его мозг и отвечал: Нет, не выходили. Я же строго-настрого распорядился, чтобы меня известили сразу, как только будет что-то новое. Каково бы оно ни было.
Итак, он не слышал голоса Мэри с самого наступления сумерек. Она заблудилась, она в опасности. Дэн заставил себя добавить: Л может быть, уже умерла.
Неужели же навсегда исчезла та радость, которую несло ему — именно ему — радио: «Помни же, Дэн, у нас с тобой свидание ровно через три десятка дней, начиная с сегодняшнего. А пока — до встречи. Я буду ждать!»
Разум тут бессилен, и, повторяя себе, что надо бы еще отдохнуть, Дэн все же вылез из койки. Коврик — шкура церотера — щекотал босые подошвы, а глиняный пол холодил. Воздух был полон тепла и звуков — трелей, кваканья, плеска волн. Донесся и грозный рев какого-то хищника. Но ничего этого Дэн не замечал. Из окна сочился белесый свет, но в самой хижине было темно. Он не стал зажигать свет, чтобы одеться. Когда проживешь в дебрях достаточно долго, обязательно научишься делать такие простые дела и без флюоропанели над головой.
Дэн ощущал накопившуюся в нем томительную усталость. Каждая его косточка чувствовала лишнюю четверть силы земного притяжения. Но это же пустяк, подумал он. Ведь он провел на Рустаме всю свою жизнь. Ни одна клетка его тела не знала Земли — за исключением той изначальной, с набором хромосом, конечно, с заключенной в них памятью о миллионах лет совсем другого эволюционного процесса. Просто я погибаю от тревоги.
Когда Дэн вышел наружу, ветерок взъерошил ему волосы так же нежно, как это делали пальцы Мэри, и ночная прохлада влила в него новые силы. А может, это сделали ароматы, принесенные бризом — запахи почвы, воды, буйно растущей зелени. Дэн наполнил ими свои легкие и прислонился спиной к надежной прочности бревенчатой стены, продолжая вдыхать спокойствие своей родной страны. Несколько тысяч человеческих существ, изолированных в мире, который не был родиной расы Дэна, должны всегда быть начеку. Но кое-кто сделал эту необходимость частью своей натуры, и теперь не было мира в их душах.
Среди двух дюжин строений, из которых состояла станция, были не только бревенчатые домишки, но и современные сборные здания из металла и пластика, казалось, ставшие частью этого ландшафта, но на самом деле просто терявшиеся в его беспредельности. За ними, вплоть до темной стены леса, простирались пастбища и поля. А рядом тихо ворковали воды озера Мунданс — озера Танцующей Луны. Они простирались до невидимого сейчас горизонта — границы мира, за которой вздымались высокие горы, уходя все выше и выше, пока их вершины не исчезали в плотной пелене облаков.
Прямо же над головой Дэна небо было чистым, как это нередко бывало в летние ночи. Оба спутника видны как на ладони — Ракш сейчас находился на максимальном удалении — маленький медный серпик, а Сухраб, как всегда, смотрелась крошечной искоркой. Поэтому свет давали в основном звезды. Они горели ярче и казались более многочисленными, чем обычно, когда смотришь сквозь плотный воздух Низин. Дэну даже удалось обнаружить среди них солнце Терры. Оба спутника все же давали достаточно света, чтобы вызвать игру бликов на озере; их отражения скользили по воде быстро, как летающие светляки.
Это даже напоминает Верхнюю Америку, думал Дэн. Воспоминание о прогулках под небесами плоскогорья рядом с Мэри Локабер ударило его как нож. Быстрыми шагами он направился к радиорубке. Обычно тут не было круглосуточных дежурств, но те, кто был в дозоре, охраняя поселок от псевдокошек — медтных хищников, муравьев-чингизов или чрезвычайных ситуаций, возникновение которых предсказать невозможно, забегали сюда: поглядеть, не поступили ли какие-нибудь новые сообщения. Дэн сразу бросился к регистратору передач.
Да! Есть! Он нажал клавишу обратной перемотки. «Говорит Центр погоды, — донесся голос из Ангера. — Вызываем озеро Танцующей Луны. Внимание! У нас есть основания считать, что штормовой фронт формируется вблизи побережья океана Урании, но нам нужны данные по более обширной территории. Не могли бы вы сообщить нам обстановку в вашем районе…» Что было дальше, Дэн не расслышал. К горлу подступила тошнота.
Чьи-то шаги вернули ему ощущение времени и места. Он не просто повернулся, он крутанулся как волчок. На пороге стояла испуганная Ева Спейн. Какое-то мгновение они со страхом и подозрением смотрели друг на друга в тусклом свете лампочек приборов.
— Ох! — Она попыталась выдавить улыбку. — Я же не медведище, что ищет себе ужин, клянусь тебе, Дэн. Честное слово, не медведище.
— А тогда какого черта тебе тут надо?! — рявкнул Дэн.
Ах, если б это была Мэри — высокая и тонкая, с волосами цвета солнца, если б это она стояла в проеме двери. Но это была всего лишь Ева. В таком же грубом комбинезоне, как и он сам, с теми же пистолетом и ножом — обязательным набором — на поясе, она, подобно Дэну, не нуждалась в редукционном шлеме; ее головка с заплетенными косами почти красных волос, курносым носом и веснушками была ничем не прикрыта. Подобно Дэну, девушка отличалась плотным сложением, но явно не имела тех восточных генов, которые делали его волосы черными, а кожу — смуглой. И лет ей было поменьше, чем ему, тогда как Мэри — его ровесница. Впрочем, все это мелочи. А вот что важно, так это то, что на пороге стояла не Мэри.
Так Ева же в этом не виновата, укорил себя Дэн. Она девочка что надо. Он говорил себе это уже множество раз, а если быть точным, то с самого первого дня, когда они познакомились, и все окружающие были уверены, что в самом недалеком будущем эти двое поженятся. С практической точки зрения Дэн вряд ли мог пожелать себе лучшую жену.
Будь она неладна, эта практическая точка зрения.
Глаза Евы — большие и зеленые — мигнули. Дэн заметил, как в навернувшихся на глаза слезах блеснул свет лампы. Однако ответила она сухо и сурово:
— Я могла бы задать тебе тот же вопрос. Только куда вежливей.
Дэн сглотнул слюну:
— Извини. Я вовсе не хотел грубить.
Она слегка оттаяла, подошла ближе и потрепала его по руке. Конечно, ее ладонь была не такой твердой, как у Дэна; она — биолог, а не исследователь-поисковик, который с недавних пор занимается еще и сельским хозяйством. Но он ощутил мозоли — следствие возни с оборудованием и упряжью животных, чем приходилось заниматься практически всем понизовщикам.
А вот у Мэри прикосновение нежнее пуха. И не потому, что она лодырь. Даже в Верхней Америке работать должны были все взрослые, и Мэри занималась весьма ответственным делом — вела всю больничную документацию. Но ей не приходилось ни рубить кустарник, ни принимать роды у коров, ни готовить еду на костре для целой бригады лесорубов, ни сдирать шкуру с животного, убитого ею же, ни выделывать эту шкуру. Зато все это входило в повседневные обязанности понизовщиков; попытка заставить Мэри выполнять подобные работы наверняка довела бы до смерти эту жительницу Верхней Америки, так же как сейчас ей грозит гибелью блуждание в дебрях где-то неподалеку от озера Танцующей Луны.
— Разумеется, — уже мягче ответила Ева. — Я понимаю. Просто у тебя разыгрались нервы.
— Так что же привело тебя сюда в такую рань?
— То же, что и тебя. — Ева нахмурилась. — Ты что же, думаешь, меня это не касается? Билл Свобода и Локаберы — и мои друзья, а не только твои.
Дэн несколько раз с силой ударил себя кулаком по ладони.
— Так что же можем мы сделать?
— Начать поиск.
— Ага! Имея всего один несчастный аэрокар, чтобы прочесать много тысяч квадратных километров! А для того чтобы собрать поисковую эскадрилью, потребуются дни. У них этих дней нет. Еще у Билла, может, и есть, а вот у Мэри и Ральфа… у них, похоже, нет.
— Почему нет? Если их шлемы в порядке…
— Ты не видела того, что доводилось видеть мне. Нужно быть очень сильным мужчиной, да еще прошедшим специальную тренировку, чтобы носить эти штуковины практически постоянно. Редукционный насос приводится в действие движениями грудной клетки при вдохе и выдохе, но нетренированный человек в этих условиях спать в шлеме не может. Бессонница и мускульная усталость делают человеческий организм подверженным интоксикации, вызываемой высоким атмосферным давлением, а отчаявшийся нередко доходит до того, что сбрасывает с себя шлем, чтобы хоть немного отдохнуть.
Дэн говорил все это быстрым, раздраженным тоном. Ева ответила более спокойно:
— Ну, они не так уж давно отсутствуют. Да и вообще они уже возвращались сюда.
— Но ты же знаешь, что они — эти Локаберы — хотели повидать как можно больше, и Билл пообещал им проложить для этого специальный маршрут. Они должны были лететь зигзагами, чтобы охватить территорию побольше. Они могли сесть где угодно, чтобы взглянуть на что-нибудь интересное, и там попали в аварию. Даже если мы пролетим совсем рядом с ними, то кроны деревьев, скалы или туман вполне могут скрыть машину от наших глаз.
— Я прекрасно осведомлена о том, что мы живем на обширной и почти не закартированной территории. — Ответ Евы был намеренно сух, но сухость туг же сменил гнев. — Но почему ты шляешься тут, опустив руки? А еще Дэн Коффин — знаменитый исследователь! Почему ты ничего не делаешь?
Дэн с трудом подавил собственный гнев.
— Я собираюсь вылететь на восходе солнца. Заверяю тебя, что летать ночью — бессмыслица, пустая трата горючего. Система ночного видения не способна определить мелкие детали среди этого необычайно разнообразного ландшафта, где самый маленький блик на экране может оказаться именно тем, что мы ищем. А шансы, что мы увидим костер, или с помощью металлоискателя, или… — Он запнулся. — О Боже, Ева, ну чего я валяю дурака! Ты же летала больше, куда больше меня! Это огромная территория, и тем все сказано. Если б только у меня был хоть какой-то след…
— Ты прав. — Тон Евы снова смягчился. Немного подумав, она произнесла: — А может, все-таки стоит поискать такой ключ? Например, указание на то, каким курсом они могли воспользоваться с наибольшей долей вероятности? Возможно, Мэри… может быть, она в разговоре с тобой случайно упомянула какое-нибудь место, которое ее особенно интересовало?
— Ну… гейзеры в Аримане, — ответил Дэн безнадежно. — Но в последнем сообщении, которое мы от них получили, говорилось, что они только что там побывали и теперь направляются дальше.
— Верно. Я сама прослушивала эту пленку несколько раз.
— А может, ты подала им какую-нибудь мысль, Ева? Ты ведь с ними много общалась, пока они были тут?
— Это верно. Но я много что рассказывала им о местных чудесах. Ральфа, например, особенно интересовали здешние крупные животные. — Она вздохнула. — Я даже предложила ему поискать стадо теразавров. Мы слетали в Айронвуд, откуда пришло сообщение, что они там появились, но к тому времени стадо ушло на север, и хотя следы были весьма отчетливы, впереди образовался грозовой фронт. Я с большим трудом уговорила Ральфа, что в таких условиях лететь в том направлении просто глупо. Только потому, что воздушные потоки в Низинах движутся медленно, эти верхнеамериканцы считают, что их сила невелика… Нет, Ральф, конечно, умен, он понимает, что правильно, а что нет, но и в нем есть эдакая беззаботная удаль. Но чего это я разворчалась? Мы… — Она внезапно оборвала фразу. — Что с тобой, Дэц? — спросила она почти шепотом.
— Возможно, это и есть тот ключ, который мы ищем! — Ветер почти заглушил его слова.
— О чем ты? — Ева крепко схватила его за руку. Только позже он обнаружил, что ее ногти слегка поцарапали ему кожу.
— Теразавры… Ты же знаешь, летом они откочевывают в более высокие места. Билл мог пообещать Локаберам отыскать стадо, может, даже то самое, которое вам найти не удалось. Сверху ведь следы стад видны великолепно. — Дэн прижал к себе девушку. — Ты замечательная девчонка, Ева! Может, это и ложный след, но сейчас это все, чем мы располагаем. И это не мало! С наступлением утра я вылетаю.
У Евы брызнули слезы, но голос даже не дрогнул.
— Я тоже лечу. Тебе понадобится помощь.
— Что? Конечно, я возьму напарника.
— Этим напарником буду я. Я отлично вожу машину и из пистолета стреляю и оказываю первую помощь не хуже любого другого. А потом, разве я не заработала свое право лететь?
За несколько лет работы исследователем Дэн Коффин не раз возвращался в Верхнюю Америку. И не только потому, что ученые и планировщики нуждались в его информации о планете, которую они надеялись заселить своими потомками; у него и самого нередко возникала необходимость обсудить задачи новых экспедиций и договориться об их снаряжении. Кроме того, там жила его семья и его друзья.
Да и вообще в тех краях он отдыхал и телом, и душой. Верхняя Америка лежала выше пелены облаков, окутывающей почти постоянно большую часть планеты. Небо Верхней Америки отличалось необычайной чистотой, ее зимы были снежными, а летом прохладные бризы умеряли жару. По сравнению с Низинами это была почти что Терра.
Вернее, так казалось Дэну, пока постепенно его не стали посещать сомнения в правомерности подобных сравнений. Он ведь получил образование, и ему были известны различия. Солнце Терры было меньше по размерам, хотя и более активное, его свет был скорее желтым, чем оранжевым. Терре требовалось 1,7 рустамских года, чтобы обойти вокруг солнца: но зато оборот вокруг своей оси она совершала за 24 часа. У нее была всего одна луна, огромная, но расположенная дальше, чем луны Рустама, и она казалась вдвое меньше, нежели Ракш, и ей требовалось 11 дней (или 30.земных суток), чтобы пройти все фазы. Если здесь Дэн весил сто килограммов, то на Терре его вес равнялся бы всего восьмидесяти. В своей основе жизнь на Земле и Рустаме была сходна, но далеко не идентична. Например, на Терре листва не имела того синеватого отлива, как здесь, и никогда не бывала желтой или коричневой, кроме как в период увядания.
Роясь в памяти и задавая точно сформулированные вопросы, Дэн вскоре понял, как плохо пожилые люди — даже те, которые достигли зрелости на Терре, даже когда они пользовались книгами или кинолентами, — умели передавать другим свои впечатления о том, какова же она была — эта Матушка-Земля. Может быть, реально существующие различия между обеими планетами усиливали чувство отчужденности, благодаря чему восстановить полностью память о прошлой жизни становилось практически невозможным. И если это так, то что же говорить о тех рустамцах, которые родились уже туг? А как будет с теми детишками, которые уже начали появляться у этой молодежи?
Так нужна ли в действительности Дэну Коффину эта самая Верхняя Америка?
Большинству людей на планете она была жизненно необходима. Давление воздуха в Низинах было для них слишком высоким, они быстро заболевали, если проводили в этих условиях хотя бы короткое время. Долгое же пребывание в Низинах вызывало неизбежную смерть. Но тело Дэна прекрасно переносило эти условия, оно великолепно в них функционировало. Фактически при каждом возвращении в Верхнюю Америку он ощущал, как ему не хватает того убыстренного обмена веществ, который обусловливал особую жизнестойкость его организма, не хватало чистоты звуков и богатства запахов. К тому же Верхняя Америка была чрезмерно населена. О, конечно, на тамошних фермах еще и сейчас было много необработанной земли, но будущее принадлежало тем, кто сможет селиться в Низинах. Уже сейчас этот дикий, дивный и бесконечно заманчивый мир принадлежал таким людям.
Дэн продолжал получать радость от своих приездов домой, ему нравилось менять темп жизни, встречаться с новыми людьми, наслаждаться удобствами цивилизации, нравилось даже бражничать в тех немногих заведениях, которые Анкер содержал специально с этой целью. Но возвращение в Мунданс было всегда счастьем. Особенно ясным это стало, когда сюда прибыла Ева Спейн.
Подобно Дэну, Ева была экзогенным ребенком; ее родители были подобраны специально с таким расчетом, чтобы их потомство могло переносить плотную атмосферу. Результат оказался в высшей степени удовлетворительным. Дэн и Ева могли спускаться к берегу океана и чувствовали себя там отлично. Это делало их естественными партнерами. Большинство из тех, кто начинал заселять Низины, даже не пытались спускаться так низко. Станция Мунданс находилась на высоте двух километров над уровнем океана. Когда-нибудь человечество будет жить на Рустаме повсюду, и эта эволюция не потребует особо долгого времени. Ибо те немногие, которые и сейчас уже не имеют никаких ограничений, наверняка будут передавать свои качества по наследству.
Дэн и Ева… Они прекрасно вместе работали, они нравились друг другу, у них не было страстного романа, но зато между ними существовало все возрастающее притяжение, и их брак со всех точек зрения был желателен и естествен. Но тут впервые после окончания школы Дэн встретил Мэри Локабер.
Летнее солнцестояние приближалось, и на этих высотах день продолжался сорок два часа. Поисковая партия намеревалась не потерять ни минуты этого времени. Их аэрокар поднялся в воздух еще до того, как первые лучи солнца слегка подсветили изнанку облаков на востоке.
Тучи опять покрывали небо. Дэн вспомнил, как Мэри удивлялась тому, что он легко переносит эти почти вечные сумерки.
— Да нет, тут совсем не темно, — ответил он. — Это еще одно обстоятельство, которое тебе необходимо испытать самой, чтобы понять.
И вот наконец-то она прилетела сюда и… — Его пальцы побелели, сжав рукоять управления.
Ева оторвала взгляд от леса. Под этим серебристым небом, в отсутствие четких теней, цвета древесных крон были чрезвычайно разнообразны и нежны. Их бесконечность нарушалась лишь то появлением высокого вулканического пика, то блеском водопада или широкой реки. К северу открывался великолепный вид на более высокие районы Низин. В нескольких километрах от них в воздухе крутился вихрь бесчисленных птичьих стай.
— Ты и в самом деле так сильно страдаешь, Дэн? — тихо сказала она.
Он услышал свой голос — хриплый и неустойчивый:
— Бывало, я приходил в восторг от невероятной громадности этой земли. Сейчас, когда мы должны найти в ней песчинку, затерянную в необъятности, меня это приводит в ужас.
— Не позволяй себе так думать, Дэн. Мы или приучимся жить рядом с мыслью о близости смерти, ийи никогда не обретем здесь счастья.
Он вспомнил ту безумную сумятицу волн, в которую попала их лодка, когда они собирали биологические образцы на берегу Гефеста. Наполовину оглушенный, он утонул бы, не приди к нему на помощь Ева. А вот Тоширо Хираяма, которого они с Евой любили как брата, погиб. Остальные члены экспедиции несколько часов продержались, ухватившись за киль перевернувшейся лодки, пока их не разыскал спасательный флайер. К Еве к первой вернулась обычная жизнерадостность так же быстро, как и к остальным, но именно она время от времени приносит венки из цветов к подножию крошечного надгробия Тоширо.
— Отличный ты человек, Ева, — сказал он.
— Спасибо, — тихо ответила она. — И тем не менее у тебя на уме другая девушка, не так ли?
— И Ральф, и Билл.
— Но главным образом — она. Так?
Воспитанный в традициях своего приемного отца, считавшего, что мужчина не должен обнажать свои истинные чувства перед посторонними, Дэн долго боролся с собой, прежде чем смог кивнуть и выдавить из себя:
— Да.
— Что ж, она очень красива. — В голосе Евы отсутствовали какие-либо эмоции. — И она очень милое и грациозное создание. Но годится ли она тебе в жены?
— Мы… еще не обсуждали этого… пока.
— Но ты много и серьезно думал об этом. И она тоже.
Его сердце, казалось, остановилось.
— Насчет ее я ничего не знаю.
— А я знаю. По тому, как она смотрит на тебя, по голосу, каким говорит, когда ты рядом. Это очевидно. — Ева прикусила губу. Но так ли все это серьезно с обеих сторон? Насколько истинны эти чувства?
Он припомнил долгие беседы, прогулки, поездки верхом по землям ее отца, танцы в Вулф-Холле, как он провожал ее домой под холодными звездами, быстрой Сухраб и бронзовым Ракшем над неумолчно звенящей рекой. Были поцелуи, не больше. Были слова вроде «А знаешь, ты мне нравишься», не больше. И тем не менее, когда он приходил к ним обедать, то ее родители и Ральф (ее брат, унаследовавший ту же светлую красоту и яркий темперамент) изучали его с явной, хотя и дружелюбной, настойчивостью.
А она?
— Не уверен, — вздохнул он. — У них там… в Верхней Америке… совсем другой образ жизни.
Ева кивнула.
— Может, на Земле он и за приличную деревню не сошел бы, — сказала она, — но здесь Анкер, в котором живет большая часть населения Рустама, где сосредоточены промышленность, богатство и культура, играет важнейшую роль. Окрестности Анкера хоть и редко населены, но, можно считать, уже приручены. У людей там есть время приобретать хорошие манеры. Возможно, для них эти манеры особенно важны: они как бы помогают отстраниться от былых тягот. А мы — просто грубые пионеры, осваивающие свое Пограничье.
— Ты имеешь в виду социальный разрыв? Нет, Локаберы не снобы. А мы — не хамье. Мы — ученые, ведущие исследования, которые не только интересны, но и необходимы.
— Согласна. Я преувеличила не умышленно. И все же мое знакомство с твоими друзьями — что-то вроде внезапной и короткой связи, которая в их безопасном мирке неизвестна, — вызвало у меня мысли о непреложном факте — о различии между нами и ими.
Дэн не мог целоваться с Мэри в Мундансе. На голове у нее был гласситовый шлем, необходимый для поддержания атмосферного давления, к которому она привыкла. Такое же давление поддерживалось и в маленькой гостинице, которая была на станции. Тому, чьи легкие были полны воздухом Низин, приходилось проходить долгую и нудную процедуру декомпрессии, прежде чем войти в эту комнату. Впрочем, это было неважно — все равно Мэри комнату делила со своим братом.
Впрочем, даже за эти неудобства Дэн получал достойную компенсацию. Наконец-то он мог показать Мэри хоть малую частичку своего мира, занимавшего подавляющую часть этой планеты, которую она знала лишь по книгам, картинам, нескольким туристическим поездкам да еще по его рассказам. В течение пяти волшебных дней она и Ральф могли бродить с ним и с Евой по чему-то, напоминающему гигантский собор, обширным, таинственным и великолепным лесам, отправляться верхом на безумно увлекательную охоту или наблюдать за тем, как биологическая инженерия плюс упорная работа и терпение заставляют местную почву одаривать человека своими плодами, или…
Свет Ракша скользил по кривизне ее шлема и по длинным белокурым локонам внутри этого пузыря. Тот же свет формировал зыбкий мост, соединявший оба берега реки, которая плескалась о борта лодки куда громче и веселее, чем волны рек плато. Улегся ветер, но прохлада все еще струилась в летнем воздухе, и даже парус и тот еще хранил очертания, приданные ему последним порывом ветра. Ни он, ни она не спешили црзвращаться на станцию.
Она спросила его:
— Откуда появилось название Мунданс?
— Ну, — ответил он, — озеро достаточно велико, чтобы на нем возникали приливы, когда Ракш подходит к Рустаму близко. Отражения луны вспыхивают на воде и бегут по ее поверхности так, как ты это видишь сейчас — отсюда и озеро Танцующей Луны.
Мэри дотронулась до его руки:
— Я подумала, что надо бы назвать его Мундэн. Твое озеро. Твоя луна. Я его всегда буду называть так. То, что ты здесь делаешь, воистину грандиозно.
— Ну уж ты скажешь… — Дэн даже стал заикаться. — Я же тут вроде обслуги. Я хочу сказать, что ученые дают мне приборы, которые надо поставить там-то и там-то, а затем забрать их обратно, потом приказывают организовать определенные экспедиции и наблюдения, а я эти распоряжения выполняю. Вот и все.
— И вовсе не все! И ты это отлично знаешь. Ты — тот, кто преодолевает трудности, кто импровизирует и изобретает перед лицом великого множества неожиданностей. Без таких, как ты, мы бы навсегда остались пленниками нескольких горных вершин. Как бы мне хотелось быть одной из вас!
— Мне бы тоже этого хотелось, — сказал он неуклюже.
Не показалось ли ему в ту минуту, что она тоже чего-то испугалась, как испугался и он своей смелости? Но она быстро оправилась и спросила:
— А куда отправились Ева и Ральф?
Он тоже поспешил спрятаться за обыденностью:
— Не знаю точно. Но думаю, что их флайер сейчас где-нибудь над долиной Сайруса. Она прямо влюбилась в вашу машину. Так и жаждет испытать ее в суровых условиях. Вертикальные воздушные потоки в тех местах…
В ее голосе прорезалось беспокойство.
— А это не опасно?
— Нет, конечно. Ева опытный пилот, имеющий лицензию на вождение любых летательных аппаратов в условиях атмосферы любой плотности. Эта модель в основном похожа ведь на Х-17, не так ли? По сути дела модификация ее. — А поскольку их сейчас окружало великолепие его страны, Дэн добавил: — Знаешь, Мэри, меня беспокоит не то, как хорошо работает эта машина, а то, каковы могут быть последствия работы ее мотора. Мне приходилось читать книги о том, какое губительное воздействие оказало ископаемое горючее на природу Терры, а вот теперь вы начинаете пользоваться двигателем внутреннего сгорания, работающим на нефти.
Ему показалось, что Мэри неприятно удивлена.
— Ты, значит, слышал? — Короткий смешок. — А я-то думала, что тебя занимали совсем другие мысли, когда ты гостил у нас. Нет, идея не в том, чтобы заменить водородный двигатель нефтяным навсегда, а в том, что нефтяные куда проще выпускать, они требуют меньших затрат труда, особенно из-за своих меньших баков, как ты понимаешь. Папа считает, что он сможет выпускать их и продавать до конца своей жизни. Но к этому времени Рустам уже будет обладать достаточно развитой промышленностью, так что можно будет вернуться к экономике, основанной на водородных двигателях. Несколько сот нефтяных двигателей внутреннего сгорания, которые проработают лет 30–40, не смогут принести сколько-нибудь заметный вред.
— Понятно. Что ж, ладно. Не могу сказать, что ты меня сильно удивила. Твой брат еще вчера рассказывал мне о той работе, которой он занят в свободное время, внушая детям, что старые ошибки повторять не следует… — Дэн снова почувствовал, что слишком близко подходит к теме, которая имеет для него огромное значение. — Хм… Между прочим, ты упомянула, что хотела бы получить побольше впечатлений и получше ознакомиться с Низинами на обратном пути домой, если найдешь пилота, который сможет без всякой опасности покатать вас над территорией еще не закартированной и лишенной радиомаяков. Ну, так я вам нашел такого.
Она придвинулась ближе. В ее глазах горел свет луны.
— Это ты, Дэн?
Он с сожалением покачал головой:
— Нет, мне бы очень хотелось, но за последние дни я сильно подзапустил работу. И Ева тоже. Но Билл Свобода должен вот-вот вернуться из отпуска и…
А теперь все эти трое растворились в безмолвии Низин.
Крик Евы рассек тишину кабины, как меч:
— Вон они!
Она так круто развернула машину, что та застонала, а затем передала управление автопилоту, приказав ему кружить на высоте около ста метров с определенным наклоном реактивных сопел. Дэн в это время безуспешно сражался с фонарем кабины. Он чуть не расплющил нос о стекло, так что слезы брызнули у него из глаз, мешая видеть, и он ощутил острую боль. Сердце билось как безумное.
— Они живы! — наконец выговорил он. — Кажется, даже не ранены. — Его напарница молча протянула ему бинокль. Усилием воли он заставил руки не дрожать и стал осматривать местность под каром.
Горы окружали кольцом светло-желтых и красновато-коричневых лесов и темных скалистых выступов долину, похожую на обширную плоскую чашу. Если не считать отдельных деревьев, ее покрывала бирюзовая трава, колеблющаяся и переливающаяся на ветру. В озерке, расположенном почти в центре, плыли отражения облаков. Должно быть, именно это в первую очередь и привлекло теразавров.
Они насчитали более тридцати взрослых животных — пять метров и даже больше темно-зеленой, покрытой прочной чешуей плоти от коротких тупых морд до кончиков мощных хвостов. Их бочкообразные тела были столь толсты, что производили несколько гротескное впечатление. Но это только до тех пор, пока они не пускались вскачь, а земля начинала дрожать у них под ногами.
Телята и однолетки тоже были тут. Эти страшилища были более развиты, нежели земные рептилии, а потому заботились о своем молодняке. Полоса начисто съеденной растительности тянулась за ними через весь лес с юга на север. Без сомнения, Билл Свобода обнаружил эту полосу и пошел над ней, точно так же, как это сейчас сделала Ева.
На лугу поднимался холм. На его поросших травой пологих склонах и приземлилась машина горожан, которым хотелось понаблюдать за стадом с почтительного расстояния. И не потому, что теразавры легковозбудимы и готовы напасть. За исключением самцов во время гона, им не свойственна агрессия. Но в то же время эти гиганты не имеют никаких резонов заботиться о благополучии каких-то пигмеев, ставших на их пути.
— Что с ними? — выдохнула Ева. — Они же никогда так себя не ведут, во всяком случае летом.
— И все-таки это так, — Дэн говорил так же нервно и отрывисто, как и она.
Аэрокар из Анкера еще был до некоторой степени узнаваем. Все машины, которые строились для Рустама, обязательно делались из самых прочных сплавов и синтетики. Но вся эта растоптанная, измятая, разбросанная груда лома не могла надеяться на то, что ее станут спасать. Топливо все еще сочилось из одного из баков, который только каким-то чудом не отвалился еще от корпуса аэрокара. Вытекающее горючее окрасило почву в еще более темный цвет там, где огромные ножищи размесили ее в жидкую грязь. То и дело кто-то из колоссальных зверюг оскользался на этой жиже, падал, поднимался весь измазанный в грязи и с еще более страшным ревом бросался обратно в тот дикий хаос, которым являлось сейчас стадо.
Вершина холма, вокруг которого ярились теразавры, представляла собой скалистый утес, поднимавшийся на несколько метров, похожий на серый петушиный гребень. Именно на него и вскарабкались трое людей в поисках спасения. Охваченные яростью животные не могли до них добраться, хотя время от времени какой-нибудь обезумевший самец и пытался с громовым рыком взобраться на эту неприступную крутизну, вытягивая мощную жилистую шею и щелкая челюстями с таким лязгом, что Дэн слышал этот звук, несмотря на расстояние и дикий шум других животных. Прочие теразавры беспорядочно метались по лугу, ревели, дрались друг с другом, пуская в ход зубы, передние лапы и мощные хвосты. Потом они расходились, полностью выдохшиеся и истекающие кровью, ожидая, когда к ним вернется сила и можно будет сцепиться с каким-то новым противником. Несколько самцов были мертвы или умирали — медленно и мучительно в лужах крови, над которыми вились облака хищных насекомых.
Самки выказывали меньшее безумство. Они держались в стороне от бушующих гигантов-самцов, но то и дело принимались описывать галопом круги. Испуганные и позабытые телята сбились в кучу у самого озерка.
А вверху просеянный сквозь облака свет неожиданно вспыхивал на крыльях птиц-мечей, которые ожидали своей очереди заняться ужином.
— Я думаю… да, вероятно, дело было вот как, — сказал Дэн. — Билл посадил машину там, где мы ее видим и сейчас. Стадо или отдельные животные подошли поближе. Эго было просто любопытство, никаких оснований нападать у них не было. Надо думать, в это время все трое людей находились далеко от машины, выбирая наилучшую позицию для съемки. А затем вдруг началась атака. Это была полная неожиданность, а ты знаешь, какую скорость могут развивать теразавры, если им заблагорассудится. У людей не было времени добраться до машины и подняться в воздух. Счастье еще, что они успели взобраться на скалу, где и сидят с тех пор.
— Как ты думаешь, в каком они состоянии? — спросила Ева.
— Во всяком случае, они живы. Но какой кошмар им пришлось пережить, карабкаясь в темноте на скалу, нащупывая крошечные выступы для рук, слушая рев и визг обезумевших животных, чувствуя, как камень дрожит у них под ногами… Да еще без шлемов. Не пойму, почему без шлемов?
— Могу предположить, что они решили, будто смогут обойтись и без шлемов в течение тех нескольких минут, которые понадобятся для съемки.
— Но ведь все равно им пришлось бы проходить довольно длительную процедуру адаптации к изменившемуся давлению. — Дэн говорил почти автоматически, все его внимание было отдано сценам, которые он видел в бинокль. Где-то на задворках сознания промелькнула мысль, что если все это продолжается уже несколько часов, как, ввдимо, оно и было на самом деле, то стадо должно было бы уже самоуничтожиться, если бы этому не мешала ночная темнота.
— Похоже, так оно и было, — сказала Ева. — Ральф много раз говорил мне, как ему хочется обзавестись опытом жителей Низин и хоть немного подышать здешним воздухом. — Ее кулак раз за разом наносил удары по панели управления. — О Господи, будь та проклята, эта проклятая бездна между нами.
— Точно. Почти то же говорила мне и Мэри… Правда, я всегда находил что-то такое, что могло отвлечь ее и дать почувствовать красоту этого…
Билл Свобода уже стоял на ногах и махал руками. Бинокль был сильный, и Дэн хорошо видел измученное, небритое и испуганное лицо этого человека. Мэри выглядела гораздо лучше. Впрочем, Мэри всегда выглядит лучше всех, подумал Дэн. На самом же деле ей плохо. Эта белокурая головка кружилась и готова была разорваться от боли, а в груди жгло, будто там рассыпали жаровню с углями. А еще голод, жажда, усталость и страх. Она крепко держалась за свой выступ скалы, но все же ей удалось приветственно пошевелить рукой. Ее брат все еще лежал без движения.
— Судя по всему, Ральфу хуже всех, — продолжал Дэн. — Должно быть, он тяжелее других переносит интоксикацию, связанную с повышением давления.
— Дай мне взглянуть! — Ева чуть не силой вырвала у него бинокль.
— Ох! — сказал он. — А нельзя ли мне получить обратно хоть часть моих пальцев?
— Сейчас не время для шуток, Дэн Коффин.
— Конечно, нет. Согласен. Хотя… — Он облегченно вздохнул. — Все живы. Похоже, что никто сильно не пострадал, это точно. — Радость нахлынула на него вместе с волной слабости, так что Дэн бессильно откинулся в пилотском кресле.
— Все это еще может случиться, если мы не вернем их в привычную им атмосферу… Как скоро? Через несколько часов? — Ева опустила бинокль. — Ну что ж, спасательная машина долетит сюда из Верхней Америки раньше этого срока, особенно если мы немедленно радируем туда, а начальство тут же начнет шевелиться.
Дэн посмотрел на нее. Щеки и лоб блестят от пота, дышит тяжело, а такое бледное лицо у нее он видит впервые. Но зубы крепко сжаты, а голос полон решимости.
— Ха! — сказал он. — И какова же должна быть эта спасательная машина, по-твоему?
— Что ж, пожалуй, придется уделить минуту-другую обсуждению этого вопроса. — Ева сложилась почти пополам и села в кресло рядом с ним. Улыбка была невеселая. — Поиронизируем, а? В этой колонии неизвестны проблемы войны и преступления. Но сейчас я дорого дала бы за хороший истребитель.
— Не понял… Нет, постой-ка! Ты что же — хочешь перебить теразавров?
— А как же иначе? Хорошая лазерная пушка, охота с воздуха… Ах, но к чему мечтать о вооружении, которого на Рустаме отродяоь не бывало. А что ты скажешь о нескольких фульгуритовых патронах? Папаша Билла вполне может отвалить нам из запасов на своей железорудной шахте. — Она скорчила гримасу и предупреждающе подняла руку. — Знаю. Это жестокий способ охоты. Большинство зверюг будет только изуродовано. Ладно, предположим, что сразу же после того, как наших друзей снимут с этой горки, пара здоровенных мужиков заявится сюда и избавит животных от страданий с помощью отбойного молотка и зарядов взрывчатки…
Дэн с отвращением спросил:
— Ты готова уничтожить все стадо?
— Боюсь, придется, — вздохнула она. — В конце-то концов все эти зверюги спятили.
— Но почему это произошло? Мы должны выяснить это, Ева. Иначе кто-нибудь опять попадет в такую историю, только на этот раз результат может быть и хуже.
Она кивнула.
— Сомневаюсь, что нам удастся узнать что-либо у груды мертвых тел, — сказал он ей.
— Мы можем провести эксперименты позже на других стадах, — возразила Ева.
— Но какой ценой? Погляди на то, что случилось здесь. Возможно, нам придется уничтожить все поголовье теразавров в этом регионе. А они ведь не так уж часто встречаются. Все крупные животные обычно малочисленны. Но, судя по всему, теразавры играют большую роль в местной экологии. Ты видела доклад Джо де Смета о том, как они контролируют рост огненного кустарника? А ведь это только одно дело. Было бы странно, если б не обнаружилось еще что-то, поскольку мы о них знаем так мало. — Дэн сглотнул слюну. — Кроме того, они… Ох, ну… они прекрасны. — Его слова были едва слышны сквозь шум внизу. — Я видел, как они идут в рассветном тумане — тише, чем само встающее солнце…
Ева смотрела на него, не веря собственным глазам. Наконец она спросила:
— Ты что — всерьез? Ты готов рискнуть жизнью Мэри Локабер и еще двух человек, чтобы спасти нескольких животных?
— О нет! Конечно же нет!
— Тогда что же ты предлагаешь?
— Разве это не очевидно? У нас с собой много всякого полевого снаряжения, в том числе лебедка и много веревок. Мы спустим веревку, укрепим ее как следует, а затем поднимем их всех на борт этого кара.
Минуту она сидела молча, обдумывая его предложение с той добросовестностью, которая была так хорошо знакома Дэну. Потом отрицательно качнула своей рыжей головкой.
— Нет, — сказала она, — мы не сможем опуститься ниже, так как выбросы из наших сопел могут создать воздушные вихри, которые сбросят их всех с той площадки, за которую они сейчас цепляются. День ветреный, сам холм содействует образованию вертикальных воздушных потоков. Не думаю, что конец веревки упадет прямо возле них, разве что мы привяжем к нему нечто тяжелое. Но тогда мы получим маятник, который ветер будет швырять туда и сюда и который вернее всего вышибет им мозги или сбросит с кручи. Люди и без того еле живы, цепляясь за покатый уступ, подумай, как они, должно быть, устали!
— Все верно, — ответил Дэн, — кроме одной вещи. Груз на конце веревки не будет неуправляемым куском металла. Им буду я.
Ева чуть не закричала. Ее ладонь метнулась к открытому рту.
— Дэн! Нет! Ну пожалуйста, не делай этого!
Воздух в Низинах таков, что ему не нужно двигаться быстро, чтобы создать сильный напор. А топография в этом месте, казалось, была специально создана для появления всякого рода местных завихрений, инверсий и перепадов, чего в обычных условиях не бывает. Еве пришлось передать управление автопилоту, что означало, что аэрокар будет бросать сильнее, чем если бы он повиновался ее искусным рукам. Дэн висел на веревке, его болтало и кружило вокруг собственной оси, его то тащило вверх, то еще более внезапно швыряло вниз, швыряло по каким-то фантастическим дугам, превращая в язык колокола, в который звонит оголтелый идиот.
Ветры грохотали и выли. В черепе Дэна звенела перебранка реактивных сопел, направленных к поверхности планеты с таким расчетом, чтобы их струи били мимо Дэна. А прямо под ним ревели теразавры и выбивали барабанную дробь из вздрагивающей под ними почвы. Обмотанная вокруг талии Дэна веревка с узлами, с одной стороны, не давала ему упасть, но с другой — при каждом движении болезненно врезалась в мышцы живота. Обеими руками он цеплялся за веревку над своей головой, стараясь хоть как-то контролировать ее движения, а она рвала ему кожу на ладонях и чуть не вывихивала руки. Жуткая вонь, исходившая от стада, заполнила его легкие. То ли от этого, то ли от верчения вокруг собственной оси Дэн был близок к потере сознания.
А вот и скала…
Примерно в двух метрах над ней Дэна пронесло по дуге, составлявшей примерно четверть окружности.
— Опускай! — крикнул он без надежды быть услышанным, но Ева поняла его и слегка стравила веревку. Он уже ждал, что сейчас его сапоги коснутся твердой поверхности скалы, но в это мгновение аэрокар нырнул в очередную воздушную яму. Дэн рухнул вниз, крепко держась за веревку, и увидел, как каменный склон летит прямо на него. Еще мгновение — и они столкнутся.
Дэн всей тяжестью повис на веревке так, чтобы принять горизонтальное положение. Кривая, по которой его несло, прошла всего лишь в нескольких сантиметрах от вершины, что и спасло его от смертельного удара. Он разглядел лицо Билла Свободы с дико вытаращенными глазами и успел поджать ноги, чтобы не врезаться прямо в Билла.
Утес скрылся за спиной, а Дэн по-прежнему крепко цеплялся за канат. На обратном отрезке дуги его подошвы наконец коснулись скалы. Он позволил им сыграть роль тормозов, и хотя от этого его зубы выбили дробь, как кастаньеты, зато движение от этого почти прекратилось. Следующее соприкосновение маятника, которым был он сам, со скалой произошло мягко и медленно. Теперь он твердо стоял на ногах рядом со своими друзьями.
Ева немедленно стравила канат, теперь тот висел свободно и уже не мог стащить Дэна со скалы, даже если бы аэрокар внезапно рванулся вверх. Дэн в изнеможении опустился на камень. Сейчас он мог утереть пот, избавиться от нервной дрожи и обрести нормальное дыхание.
Почти вплотную к нему сидел Билл Свобода.
— Ты в порядке? — невнятно спросил Билл. — Боже, ну и дела! Ты же мог отдать концы в любую минуту! И на черта тебе это понадобилось? Мы ведь вполне бы продержались до…
— А вы-то сами в порядке? — прохрипел Дэн.
— Д-да… Только Локаберы больны, но и их недолго вылечить.
Дэн на четвереньках подполз к Мэри.
— Я пришел за тобой, — шепнул он и крепко прижал к себе девушку. Почти уже без сознания, она пробормотала что-то невнятное. Дэн отпустил ее и начал совещаться с Биллом.
Ева стравила им еще больше каната, и они обвязали им людей под мышками с пятиметровыми интервалами. Билл в этой очереди был первым, так как его физическое состояние вполне позволяло ему помочь Еве, дальше шли Ральф и Мэри. Когда Дэн крепил на ней узлы, он чувствовал себя так, будто крепит какие-то особые интимные узы между ними. Последним на канате был сам Дэн, который лучше остальных мог выдержать сильные размахи маятника.
Дальше все было просто. Ева подняла аэрокар выше, ведя его на минимально возможной скорости, пока наконец все четверо спасшихся не повисли в воздухе. Она продолжала поднимать машину, пока та не вышла из зоны сильных горизонтальных воздушных течений. После этого Ева передала управление автопилоту, а сама с помощью лебедки втащила их одного за другим на борт.
Хотя редукционные шлемы и были под рукой, но Ева на пути к станции Мунданс предпочла снизить давление в самой кабине. Локаберы сидели в креслах то ли в полусне, то ли в полузабытьи. Ева немедленно вызвала по радио врача станции, и он распорядился, чтобы люди с плато оставались в гостинице до тех пор, пока не восстановят свои силы настолько, что смогут выдержать перелет домой. Основываясь на отчете Билла, врач полагал, что это не потребует долгого времени и что уход за больными не будет сложнее, чем постельный режим и хорошее питание.
Дэн помалкивал. Казалось, он погружен в какие-то глубокие размышления. Сразу же после посадки он стал готовиться к новому вылету.
Когда с помощью воздушного шлюза Дэн прошел цикл адаптации к разреженной атмосфере, первой, кого он увидел, была Ева. Помещение представляло собой общую спальню с небольшой кухонькой и еще более микроскопической ванной. Комната казалась голой и скучной, ее оживляли лишь окна, выходившие на лес и на озеро; однако отрывать их навстречу звонкому ветру за стеклом было нельзя. Ева поставила свой стул в узком проходе между рядами коек. Ральф лежал слева от нее, а Мэри — справа. Брат с сестрой были одеты в пижамы, под плечи им подложили мягкие подушки. Рядом с их койками стояла ваза с цветами трискиля, принесенными кем-то из посетителей. Золотое свечение цветов придавало комнате особую живописность и наполняло ее ароматом лета.
Дэн остановился как вкопанный. Ева плакала! Правда, потом она, видимо, сполоснула лицо, но, хотя он и редко видел ее плачущей, следы слез все-таки распознал.
— Привет, чужестранец, — приветствовал его шутливо Ральф. Однако в его голосе явно не хватало чувства, он был каким-то механическим. Локаберы явно шли на поправку, но вид их трудно было назвать счастливым. — Ну, как там экспедиционные делишки?
— Я бы сказал, весьма успешны. — Взгляд Дэна переместился на Мэри и явно не собирался покидать ее. Ее волосы на белой подушке казались расплавленным золотом, а глаза были синей неба Верхней Америки. Она улыбнулась ему, но улыбка была неуверенная, даже робкая.
— А у вас тут как? — спросил Дэн, обращаясь в основном к Мэри.
— Да вообще-то все идет отлично. — Она говорила так тихо, что ему пришлось напрягать слух, чтобы расслышать слова в этом разреженном воздухе. — И это благодаря тебе.
— Ну, это просто пустяки! — Странно, но он не покраснел. Скорее уж по его коже прошел неожиданный холодок.
— Ничего себе пустяки! — Слова Ральфа звучали твердо. Он ведь по натуре тоже был лидером. — Немногие мужчины сделали бы то, что сделал ты: рискнули бы своей головой в такой ситуации.
— Я пыталась отговорить его, — глухо отозвалась Ева.
— Геройский поступок, — продолжал Ральф. — Ты спас нас еще от долгих часов терзаний. И не думай, что мы не благодарны тебе. Но все же мы здорово удивились. Зачем?
— Ради спасения ваших жизней, — ответил Дэн. — А может, даже больше — ради спасения ваших мозгов.
Мэри качнула головой.
— Нет, это вряд ли стояло на кону, дорогой, раз вы нас уже обнаружили, — сказала она медленно. — Мы могли бы продержаться еще какое-то время.
— Я не был уверен в этом, — ответил Дэн, чувствуя, что начинает сердиться из-за того, что она так поглощена собой. — Мне не было известно, сколько времени прошло с момента гибели вашей машины, а кроме того, вы могли принадлежать к той группе людей, чья выносливость к резко повышенному давлению очень низка. Столь же низка, как моя — высока.
— Мы не такие, — сказал Ральф. — Но все равно это был подвиг, и мы приносим за него искреннюю благодарность. — Он сделал паузу. — А затем ты тут же улетел обратно, даже не передохнув хоть немного… — Он хмыкнул, хотя явно не испытывал желания веселиться. — Я преклоняюсь перед тобой, вернее преклонюсь, как только врач разрешит мне покинуть постель.
Дэн был рад перемене темы разговора.
— В конце концов, все это моя работа. — Он поставил стул так, чтобы видеть их и Еву. Сидеть было чертовски приятно. Час за часом он только и делал, что тратил энергию. Полет отсюда обратно к той долине, причем в условиях высокой турбулентности атмосферы; круговые полеты над все еще безумствующим стадом; бесстрастное холодное наблюдение за происходящим внизу, хотя агония животных причиняла ему почти такие же страдания, как и им. И то последнее, что он смог совершить. Но даже этот триумф не мог прогнать усталость, прочитавшую его до костей. Может, ему действительно следовало поспать хоть немного, прежде чем приходить сюда?
— Ты волновался из-за теразавров? — спросила его Мэри. — Ева говорила, что ты решил вернуться туда, но больше она ничего сама не знала.
Дэн кивнул:
— Угу. Они являются очень важной частью окружающей среды, и я не мог пропустить возможность узнать о них нечто новое и постараться спасти тех, что еще оставались в живых.
Ева приподнялась со стула. В ее глазах стало чуть меньше тоски и боли.
— И ты это сделал? — вскричала она.
— Думаю, да. — В нем тоже проснулось что-то вроде счастья. — Если быть откровенным, то этим я готов хвалиться больше, чем тем, что болтался на веревке вместо грузила.
— Что же произошло? Что ты сделал? — Ева вся потянулась к нему.
Дэн широко ухмыльнулся. Волна радости все еще омывала его.
— Ну, понимаешь ли, теразавры вообще балдеют во время гона. Причиной должны быть изменения их биохимии — гормональные или феромональные, кто их знает, однако известно, что ничтожно малые количества этих субстанций меняют характер поведения животных, включая сюда и человека. Но это стадо вело себя так не в брачный сезон и безумствовало больше, чем в период спаривания. Но какое-то сходство с этим в поведении стада было. И я задумался над тем, какой новый фактор мог вызвать подобную ярость вне брачного гона.
Дэн остановился, чтобы перевести дыхание.
— Продолжай же, — торопила его Ева.
Дэн поймал взгляд Ральфа.
— Нефть — очень сложное вещество, — сказал он. — Кроме того, что это сложнейшее углеводородное соединение, она содержит множество ароматических веществ, и только одни химики знают, чего еще. Кроме того, ваше реактивное топливо содержало еще полимеры или что-то в этом роде, оставшиеся после перегонки и очистки. Я понял, что среди этих молекул должна быть одна или целый набор, которые имеют случайное сходство с тем, что вызывает взрыв половой активности у теразавров. — У Мэри перехватило дыхание. — Это не ваша вина, — поспешил поправиться Дэн. — Кто мог предвидеть такое? Но данное событие показывает нам еще раз необходимость глубокого изучения процессов, происходящих на этой планете. Верно?
Молодой блондин нахмурился.
— Ты хочешь сказать… Постой-ка… — сказал он. — Несколько самцов действительно подошли к нашему кару, вероятно просто из любопытства. Они ощутили запах не полностью сгоревшего топлива, содержащегося в выхлопах: мы оставили мотор работающим в качестве предосторожности… тогда мы считали это разумным. Этого запаха было достаточно, чтобы самцы пошли в атаку, отрезав нас от кара. Затем, когда первый бак был пробит и несколько сот литров топлива вылились на землю, в бешенство пришло все стадо. Ты это имел в виду?
Дэн снова кивнул:
— Верно. Хотя, конечно, тут вся ситуация была неправильная, несбалансированная. Молекулы, которые сыграли роль пускового механизма, должно быть, были сходны с естественными половыми агентами, но все же не идентичны. Кроме того, время было совсем неподходящее и так далее. Неудивительно, что они впали в какое-то невиданное бешенство. Ты представь, что тебе вкатят мощную дозу какого-нибудь важного гормона…
— Любопытная мысль. Но ты уверен в ее правильности?
— Биохимикам придется отработать детали, но… да, я уверен, что в основе прав. Видишь ли, я слетал на то место, и животные все еще неистовствовали. Тогда я поджег разлитое горючее с помощью термитной бомбы. Оно тут же вспыхнуло и в этой атмосфере быстро сгорело. И почти сразу же животные стали успокаиваться. Ко времени моего отлета взрослые уже стали возвращаться к своим малышам.
— М-м-м…
— Мне понятно твое дурное настроение, Ральф. Твое семейное предприятие решило наладить массовое производство двигателей внутреннего сгорания, работающих на нефти. Теперь же вам придется предварительно провести огромную научно-исследовательскую работу. Дело-то коснется не только теразавров, как ты понимаешь. Тут речь пойдет обо всех родственных им видах, а может, и обо всей экологии Низин.
— Так вот почему ты так старался спасти это стадо, — как бы про себя произнесла Мэри. — Ева рассказывала нам, что ты был непреклонен.
— О, тогда у меня еще не было никаких твердых доказательств… так, одни общие соображения, — ответил Дэн. Его настроение ухудшалось. Стараясь поднять его, он сказал: — Это ведь вовсе не означает, что проект твоего отца будет прикрыт навсегда. Как только удастся установить, какие именно химические вещества оказывают воздействие на животных, я уверен, их можно будет извлечь из горючего.
— Вполне возможно, — выдавил Ральф улыбку. — Значит, ты оказал нам огромную услугу. Не только спас нас, но и предотвратил большие финансовые потери.
— Но ведь ты же не знал! — вырвалось у Мэри.
Дэн так и подскочил на своем стуле:
— О чем ты?
— Ты не знал… тогда… но если бы и знал, так ведь есть же и другие стада… — Мэри разрыдалась.
Встревоженный, он шагнул к ней, встал на колени возле кровати и взял за руку. Ее рука лежала в его ладонях, холодная и безжизненная.
— Мэри, что случилось?
— Этого я и боялась… того, о чем говорили Ральф и Ева… перед тем, как ты пришел сюда… неужели не понимаешь? Ты так любишь эту страну… что ради того, чтобы спасти какую-то частичку ее… ты рискуешь…
— Только не твоей жизнью! — воскликнул он.
— Нет… Я д-д-думаю, нет… Зато ты рискуешь своей!
— А почему бы и нет, если я считаю это нужным? — спросил он, все еще ничего не понимая.
Ее отчаянный взгляд ни на мгновение не отрывался от его лица.
— Я думала… я надеялась… Все эти годы, которые мы могли бы пробыть вместе… ты рискнул и ими!
— Но… Но, Мэри, ведь это же моя работа.
Часто и глубоко втягивая в легкие воздух, она овладела собой и смогла продолжать, даже с легкой тенью улыбки:
— «Я б не любил тебя так сильно, когда бы больше не любил я честь». Дэн, мне никогда не был по душе такой подход. Или, вернее, я думаю, что двое должны делить между собой все, в том числе и честь, что ли… Если они хотят разделять прежде всего друг друга. Мы принадлежим разным странам, ты и я. Можешь ты это понять?
Он покачал головой:
— Нет. Боюсь, не могу. — Дэн встал, собираясь уходить. — Ты все еще не пришла в себя от этих испытаний, Мэри. Я не держу на тебя зла. Давай поговорим об этом попозже, хорошо?
Он наклонился над ее кроватью, и губы их слегка коснулись друг друга. Будто они чужие.
Хотя воздух снаружи был влажен и жарок, поднявшийся ветер уже шумел в вершинах деревьев, а над озером вставала быстро бегущая синевато-черная стена ливня, который должен был все промыть, все освежить.
Не видно было ни души, когда Дэн и Ева вышли из гостиницы. Однако они не пошли по дороге между домами, а вышли на берег. Вода плескалась у самых ног. Вдалеке вспыхивали молнии, отражаясь в стальной поверхности воды. По небу прокатились громовые раскаты.
— Что ж, — бросил Дэн ветру. — Полагаю, все кончено.
— Ты переживешь это, — отозвалась Ева так же тихо и безжизненно, как говорил он. — Вы оба перенесете и встретитесь друзьями, когда настанет время.
— Но все-таки, почему она не видит…
— Видит, Дэн. В том-то вся и беда, а может, и спасение! Она видит слишком четко.
— Ты хочешь сказать: потому, что я люблю эту страну, она считает, будто я не смогу любить ее — Мэри? Нет, у нее не такая мелкая душа!
— А я и не утверждала этого, Дэн. Она настоящий человек, мудрый и добрый. Пойми, она может жить здесь, всегда оставаясь в своей клетке — хижине и шлеме. Но заставить тебя сидеть там же около нее всю твою жизнь или большую часть ее для Мэри равносильно тому, что она посадит в клетку тебя. Тебя, у которого сейчас есть весь мир. Так лучше порвать сразу, пока вы еще любите друг Друга.
И ты, Ева, унаследуешь меня, подумал он с горечью. Он взглянул на нее, но лицо Евы было обращено в другую сторону, и Дэн видел лишь мечущиеся на ветру красно-рыжие волосы.
Ветер взревывал, гром перекатывал тяжелые ядра. Дэн едва расслышал то, что было сказано минутой позже.
— Именно это мне пришлось сказать Ральфу перед тем, как ты вошел в комнату. Он просил меня выйти за него замуж.
Дэн не мог даже вздохнуть. Первые жгучие капли дождя ударили его по лицу.
А затем она повернулась к нему и взяла за обе руки. В ее глазах Дэн увидел не мольбу, не приглашение, а вызов — начать все сначала.
ДОБРАЯ СДЕЛКА
Рустам вообще не знал такого времени года, как земная осень. Но на плато Верхней Америки было что-то хоть немного напоминавшее о листопаде и о бабьем лете той страны, по имени которой эта получила свое название, и то только потому, что многие растения с планеты-матери были завезены сюда и тут прижились. Во всяком случае, так рассказывали самые старые из переселенцев. Теперь таких осталось уже совсем мало. Дэниел Коффин знал Землю только по книгам и картинам; и еще его приемный отец когда-то показал крохотную звездочку вблизи созвездия Волопаса и сказал, что это земное Солнце.
Красные листья клена, желтая листва берез, отливающие золотом пурпурные листья римовых деревьев облетали под ветром, а над ними колебались голубые плюмажи перистого дуба, который на зиму не сбрасывает свою листву. Основателями Анкера были предусмотрительные мужчины и женщины. Они проложили широкие улицы, обсадив их саженцами деревьев, хотя сами первопоселенцы еще долго продолжали ютиться в палатках и землянках. Летом деревья дарили городу тень, а сегодня они осыпали яркими листьями тротуары, стены из кирпича и цветного бетона, крыши старых сборных строений, которые еще сохранились, легковушки и грузовики и даже редкие фургоны с конской упряжкой. Эти сувениры первопоселенцев ветер разносил по всем улицам.
Ребятишки, бегущие в школу, шныряли меж взрослых пешеходов. Их веселые крики были слышны издалека. Коффин припомнил тяготы и нищету тех дней, когда ему приходилось так же трудно, как и всем остальным, и слегка улыбнулся. Да, прогресс неплохая штуковина, подумал он.
Ветерок обтекал Дэна, шепча ему что-то, холодил лицо и слегка обжигал ноздри. Небесный купол был чист, сиял нежной голубизной и был испещрен множеством птичьих стай, летевших на юг. На востоке восходило солнце — красно-оранжевое, не слепящее глаза.
Оно уже довольно высоко поднялось над снежными пиками Геркулесовых гор. Хотя окрестностями Анкера служила вся планета, но сам по себе он был невелик — около десяти тысяч постоянных жителей, из которых больше половины составляли дети. Можно считать, что тут жила почти четверть всего человечества Рустама.
Взглянув в противоположную сторону, Коффин увидел рваные клочья дыма, поднимавшиеся над невысокими крышами домов. Порыв ветра донес до него крепкий запах тухлых яиц. Он поморщился. Но иногда прогресс идет вкривь и вкось, подумал он. Хотя сам Дэн этого своими глазами не видел, но по книгам и фильмам, а также по рассказам свидетелей прекрасно запомнил, что сделали с Землей перенаселенность и развитие промышленности.
А что до детей… Тут радость, доставленная ему прекрасным деньком, покинула его. Больница. Его сердце колотилось, а по ступенькам он поднимался куда медленнее, чем хотел бы.
— Доброе утро, мистер Коффин! — Медицинская сестра, сидевшая за конторкой, была совсем еще юной. Она говорила с ним почтительно-восторженным тоном, который он до сих пор находил забавным. Это с ним-то — с простым парнем Дэном Коффином, фермером с Низин!
Что ж, надо признаться, он получил известность, еще когда был молод, потому что оказался одним из немногих, кто мог исследовать огромные пространства Низин и добывать знания о Рустаме, необходимые всему местному человечеству. Кроме того… да, он попадал в истории, о которых долго еще вспоминали. Но сам он всегда морщился, когда слушал рассказы о них, и вспоминал старое присловье, что приключения бывают только у тех, кто не отличается большой компетентностью. Правда, он тут же делал скидку на то, что когда весь мир никому не известен, то предусмотреть все фокусы, которые способен выкинуть закон Мерфи[13], просто невозможно.
Да и вообще все это было в далеком прошлом. Он поселился в Низинах вблизи озера Мунданс уже тридцать пять лет назад. (Это двадцать земных лет, отозвалось в нем эхо его детства, когда все старожилы старались поддерживать традиции вроде Рождества.) О да, у него там самая крупная в тех местах, да и во всех Низинах тоже, плантация. Его можно назвать зажиточным. Соседи в радиусе трех-четырех сотен километров смотрят на него как на своего лидера и сделали его своим представителем в Верхней Америке. Тем более…
— Доброе утро, мисс Херцкович, — сказал он и поклонился, согласно тому, как было принято в Анкере, где на манеры обращалось куда больше внимания, чем у парней из Пограничья. — Хм… я знаю, сейчас еще рано, но у меня вскоре деловое свидание, и я подумал…
В ее глазах появилось выражение жалости, которое наполнило его душу страхом.
— Да-да, разумеется, мистер Коффин. Ваша жена уже проснулась, вы можете пройти прямо к ней.
Этот взгляд сопровождал его все время, пока он шел по коридору — плотный, мускулистый человек в простой дорожной одежде, готовый к тому, чтобы пуститься в путь сегодня же вечером; черты лица грубоватые и обветренные, черные волосы припорошены сединой. Он ощущал этот взгляд не только спиной, но и сердцем.
Дверь в палату Евы была открыта. Дэн прикрыл ее за собой. На какое-то время ему показалось, что он онемел. На высоко взбитых подушках солнечные лучи, падавшие в окно, вернули гриве ее волос прежний ярко-рыжий тон, тот самый, который был у нее, когда они впервые познакомились. Она кормила грудью их ребенка. На столе стояла ваза с розами. Их принес ей не он; он даже не знал, что в городе есть оранжерея. Должно быть, цветы от медиков. Но это значит…
Ева подняла глаза и взглянула на него. Зелень ее глаз выцвела от усталости и (он тут же понял это) от недавно пролитых слез. По той же причине веснушки на ее курносом лице проступали особенно ярко. И все же она явно поправлялась — быстрее, чем могла бы и женщина куда моложе.
— Дэн… — Он уже давно имел затруднения со слухом. Воздух в Верхней Америке был почти так же разрежен, как воздух Земли. Теперь ему приходилось читать по губам. — Нам не отдают его!
Он сжал кулаки:
— Этого быть не может.
Сейчас она говорила громче, разделяя слова короткими паузами.
— Решение окончательное. Они проделали все анализы, какие только можно, и сомнения нет. Если мы возьмем Чарли в Низины, он умрет.
Дэн рухнул на стул, стоявший возле кровати, и потянулся за ее рукой. Она отстранилась. Крепко прижимая ребенка обеими руками, она тупо смотрела в стену прямо перед собой, а потом сказала без всякого выражения:
— Это произошло двенадцать или тринадцать часов назад. Пытались связаться с тобой, но не смогли.
— Да. Я… У меня были дела, неотложные дела.
— У тебя их всегда полно… даже пока я тут.
— О Боже, родная, разве я этого не знаю! — Он слегка коснулся ее плеча. Его рука дрожала. — Но ведь и ты это знаешь, — молил он. — Я же объяснял тебе…
— Да, конечно. — Она повернула к нему лицо с тем решительным видом, который он знал очень хорошо. Она даже попыталась улыбнуться, но из этого ничего не получилось. — Просто мне было очень одиноко. Мне так не хватало тебя… — Больше сдерживаться она не могла, опустила голову и разрыдалась.
Он вскочил, склонился над ней и неуклюже прижал к груди и ее, и того ребенка, который, по мнению докторов, будет у нее последним.
— Я знаю полдесятка прекрасных семей, где будут счастливы усыновить его, — сказал он. — Именно это одна из причин того, что я был так занят. Надо было подготовиться на всякий случай. Мы сможем навещать его, когда захотим. Это же совсем не то, что смерть, верно? И, конечно, мы усыновим экзогенного ребенка, как только будет такая возможность. Родная, мы же оба знали, что наша удача не будет длиться вечно. Трое собственных детей, знаешь ли, прекрасный дар судьбы. Мы должны радоваться этому. Правда должны, девочка.
— Д-д-да, это так… только… маленький Чарли, который сейчас сосет мою грудь… Может, мы сможем переселиться сюда, Дэн?
Он весь напрягся, прежде чем смог ответить серьезно и вдумчиво:
— Нет. Ничего это не даст. И ты это сама знаешь. Мы потеряем все… ради чего мы… и наши остальные дети… работали и надеялись. Мы будем тосковать по дому…
…По высоким горам, по рекам, стекающим, сверкая и звеня, с голых скал, по бескрайным лесам — бирюзовым, красно-коричневым и золотым, которые переходят в еще более бескрайние степи, где пасутся бесчисленные стада дивных животных; по морям, где вздымаются волны, вызванные деятельностью солнца и лун, бросающие вызов человеку, стремящемуся открыть дверь в мир на крошечных парусниках; по небесам, скрытым пологом серебристых облаков, где все внезапно меняется, где сверкают молнии, откуда внезапно обрушиваются чудовищные ливни, похожие на реки, бегущие через пороги; по воздуху — плотному и насыщенному запахами почвы, воды и жизни, благодаря чему и жизнь человечества становится богатой и исполненной сил; по дому, который выстроен их руками и из жалкой хижины превратился в изящный коттедж; по огородам, садам и огромным полям, вспаханным их руками, по озеру, что похоже на море и лежит среди полей, по диким зарослям вокруг него; по друзьям, с которыми они пер>еплелись своими корнями и которые тейерь для них больше чем друзья, а их дочка стала первой любовью мальчика по имени Джошуа Коффин…
— Ты прав, — сказала Ева. — Ничего из этого не получится. Я… я… справлюсь с этим… попозже… А пока поддержи меня, Дэн, дорогой. Будь со мной рядом.
Он отпустил ее и встал:
— Не могу, Ева. Сейчас никак не могу.
Она смотрела на него почти с ужасом.
— Как раз сейчас судьба всей нашей общины зависит от… ну… от меня, — еле выговорил он. — От перемен. Мы — ты и я — обговаривали это не раз.
— Но… — Она переложила гукающего ребенка, чтобы освободить правую руку, и умоляюще протянула к нему: — Но разве это не может подождать немного? Оно и так ждет уже давно…
— Вот это и есть ответ. Все, ради чего я трудился, решается именно сейчас. Я не имею права мешкать. Сейчас самое выигрышное для нас время. Я чувствую это всей кожей. Я не могу позволить… этому человеку остыть. Он тогда сможет увильнуть от соглашения, которое сейчас готов заключить. Я его изучил, поверь мне. В политике всегда так — ты или хватаешься за свой шанс, или…
Политика!
Все то недолгое время, которое у него еще оставалось, Дэн утешал Еву. В конце концов она приняла его прощальный поцелуй и обещание вернуться, как только он освободится от дел, принеся в качестве подарка свою победу и победу своих товарищей. Он не сказал ей, что победа отнюдь не гарантирована. Впрочем, это она знала и сама. Ее ум и воля давно уже стали частью его разума и воли. Сейчас она просто устала, она нуждается в нем, а он за всю жизнь не совершил такого трудного дела, как сейчас, когда покидал ее рыдающей, чтобы выполнить свой проклятый долг.
Или попробовать его выполнить. Что может быть надежного в мире, который никогда не предназначался для человека?
Взгляните на этот мир, такой странный и чуждый во всех отношениях, и прибавьте сюда тот факт, что никакой помощи ему с Земли быть не могло — с той самой Земли, которую крошечная кучка свободолюбивых людей когда-то оставила за своей спиной. И еще учтите, что сила тяжести тут на четверть выше, чем на Земле, где ваш вид и его предки вплоть до первой полуживой плесени эволюционировали и видоизменялись.
Вряд ли переселенцам было легко привыкать к этой силе тяжести. Их дети, родившиеся уже на Рустаме, приспосабливались к ней уже лучше. Но вынашивать и рожать этих детей было куда как нелегко. И для большинства женщин это будет трудно и в будущем, пока естественный отбор не создаст совершенно новую человеческую расу.
Хуже было то, что высокая сила тяготения удерживала на планете более мощную атмосферную оболочку, чем на Земле. Поскольку она была куда плотнее, люди могли свободно дышать лишь вблизи вершин самых высоких гор. Когда они спускались вниз, концентрация различных газов резко возрастала, пока не превышала определенного порога, за которым лежали тяжкие для человеческого организма последствия: двуокись углерода начинала душить, азот производил опьяняющее действие, кислород медленно сжигал ткани. У среднего человека это вызывало заболевания, а при более длительном пребывании в такой атмосфере — смерть. Еще быстрее умирали дети.
Надо сказать, что люди сильно отличаются друг от друга. То, что одному полезно, для другого — яд. Такое разнообразие типов требует для своего поддержания обширного генетического фонда. Первых колонистов на Рустаме было очень мало, они обладали слишком бедным набором хромосом, чтобы обеспечить надежное выживание расы в условиях глубоко чуждой человеку природной среды. Но они смогли привезти с собой запасы спермы и яйцеклеток доноров, как это обычно делалось с животными. Эти половые клетки можно было соединять и держать в специальных аппаратах, где и развивались экзогенные дети с различными сочетаниями хромосом. Таким образом, Рустам имел более миллиона потенциальных родителей.
Доноры на Земле отбирались с учетом их способности переносить высокое атмосферное давление.
Кое-кто из первых колонистов мог выдерживать давление на средних высотах; некоторые могли там даже жить. Но экзогены вроде Дэниела Коффина и Евы Спейн могли жить на любых уровнях: от океана до альпийских гор. Для них и для их потомков, а также для тех, кто родится с такими же качествами, вся планета была открыта.
Люди бесконечно разнообразны. Те, что находятся на одном конце шкалы адаптивности, вовсе не обязательно дают точно таких же потомков. Безусловно, среди них окажутся и такие, что легко выжили бы на Земле, но к новым условиям приспосабливаются с трудом. А кое-кто, возможно, окажется совершенно негодным для жизни в условиях Рустама и умрет еще в утробе матери.
Вследствие такой вероятности каждая женщина, которая могла себе это позволить, стремилась провести вторую часть беременности в Верхней Америке. В прежние годы Коффин нередко навещал там Еву. В этом же — последнем — случае, она видела его очень редко, несмотря на то что почти все время он проводил на плато.
Томас де Смет был довольно молодым человеком. Несчастный случай, повлекший смерть его отца, рано поставил его у руля Кузницы. Дело он вел хорошо, производя большую часть тяжелых, машин Рустама, и сейчас планировал дальнейшее расширение производства. До сих пор это было сравнительно небольшое семейное предприятие, с немногочисленным наемным персоналом. С тех пор как машины стали строить другие машины, объем производства стал весьма внушительным. Узким местом в этом мире всегда был недостаток рабочей силы, и поселенцы всячески изворачивались, чтобы справиться с этой проблемой.
Коффин был знаком с де Сметом еще со школьных лет, хотя и не очень близко. На Рустаме все семьи, игравшие заметную роль, так или иначе были знакомы друг с другом. Когда первые слухи о проекте де Смета дошли до слуха Коффина, он решил, что Том — тот человек, на которого можно сделать ставку. В этом году Дэн затратил уйму времени, чтобы наладить дружеские отношения с де Сметом.
Хуже всего то, думал Коффин, что мне этот парень нравится. Он мне очень нравится, и я чувствую себя просто скотиной из-за того, что собираюсь с ним сделать.
— Привет, Том, — сказал он. — Извини, опоздал.
— Пустяки, — ответил де Смет. — Все равно у меня сегодня выходной.
— Ну, это еще как сказать.
— Дэн, уж не думаешь ли ты снова вести пропаганду среди меня? Я-то полагал, что мы отправляемся на рыбалку.
— Сначала я хотел бы показать тебе кое-что. Оно тебя заинтересует.
Де Смет — долговязый блондин — внимательно поглядел на Дэна. Ничего в слегка кривоватой улыбке, ленивой позе и протяжном говорке не выдавало серьезных намерений. Однако именно такой вид Коффин имел во время игры в покер.
— Как скажешь. Полетим?
Они сели в аэрокар. Поскольку Коффин должен был играть роль проводника в первой части их путешествия, де Смет жестом предложил ему занять место пилота. Машина вздрогнула, загудела и взлетела с посадочной площадки, находившейся на задах Кузницы. Анкер превратился в скопление кукольных домиков при слиянии рек Быстрая и Тихая, дававших начало Императорской реке. Все три потока сверкали, как обнаженные мечи. Вокруг лежала сельская местность — коричневые вспаханные и сжатые поля, янтарные поля поздних сортов зерновых, тускло-зеленые луга земных трав и клевера, сине-зеленые луга их местных эквивалентов, многоцветие древесных куп и лесов — сложная и прекрасная шахматная доска. Между редкими фермами вились темные нитки проселочных дорог. Далеко на севере, где обрывалось плато Верхней Америки, белое море облаков вскипало над Низинами. На востоке вздымались белые пики Геркулесовых гор; на юге виднелся над горизонтом еще более высокий хребет Кентавровых гор. К западу обработанные поля уступали место лесным дебрям.
Коффин направил аэрокар на запад, передал управление автопилоту, откинулся на спинку кресла, вытащил из кармана трубку и кисет с табаком. Он не хотел вести машину на большой скорости. Равноденствие только что миновало, продолжительность дня все еще превышала тридцать часов.
— Как Ева? — спросил де Смет.
— Сама она уже почти здорова. — Коффин немного помолчал. — Как мы и опасались, нам не разрешают взять малыша домой.
Де Смет поморщился:
— Плохи дела. — Его пальцы коснулись руки Дэна. — Не могу выразить, как я огорчен.
Коффин старательно разминал табак в трубке.
— Нам уже приходилось видеть, как это было у наших соседей. Ева, конечно, переживает, но она — мужественный человек. Мы возьмем еще одного экзогенного ребенка, который сможет жить в наших условиях. — Они уже добавили к своим родным детям экзогенную девочку, как того требовал обычай от каждой семьи. — Я напомнил ей, что она, да и я любим Бетти не меньше, чем тех, которых смастерили сами. И это чистая правда.
— Естественно. Хм-м… а ты уже предпринял какие-нибудь шаги в отношении… своего?
— Пока нет. Мы ничего не могли делать, пока не было окончательного вердикта. — Коффин помолчал. — Не бойся ответить мне отказом, я понимаю, что это не мое дело, да и возможностей у нас много, но как вы с Джейн отнеслись бы к тому, чтобы взять в семью нашего Чарли?
— Что? Ну, м-м-м…
— Вы ведь еще не брали своего экзогена? А мы готовы взять второго. Правила разрешают семьям, как ты знаешь, проводить такого рода замену. Ева и я были бы счастливы, если бы именно вы воспитали Чарли. А уж потом вы сами сможете или заказать себе экзогена, или отказаться от этого — как захотите.
— Это несколько неожиданно, Дэн. — Де Смет погрузился в раздумье. — Мне придется обсудить все с Джейн, разумеется. Хотя, откровенно говоря, мне это представляется очень заманчивым предложением. Вместо того чтобы брать безусловно хорошего ребенка, но от неизвестных родителей, мы получим такого же, но из отличной семьи. — Подумав еще, он добавил: — И… хм… такое дело создало бы новые узы между двумя влиятельными семьями на плато и в Низинах.
Коффин хмыкнул.
— Фактически, — сказал он, — мы просто меняемся детьми. Ты бы усыновил сироту из пробирки, а теперь это должна будет сделать Ева. Так что ты обретаешь свободу выбора, а мы получаем отличную семью для Чарли. Обе семьи заключают что-то вроде, как ты сказал, союза. И дети тоже выигрывают. Но мне еще необходимо обговорить все с Евой. Впрочем, я чувствую, что она будет в восторге, если Джейн согласится.
Он занялся трубкой. Смет хотя и не курил, но против табачного дыма не возражал. Среди многих достижений своей плантации Коффин числил то, что вместе с агрономом вывел сорт табака, который мог расти на почве Рустама, не становясь при этом нестерпимо крепким.
Он еще некоторое время попыхивал трубкой, а затем добавил:
— Это как раз то, на чем ты настаивал во время наших споров: добрая сделка — не грабеж.
Де Смет привел эту старинную поговорку экономистов Коффину в тот вечер, когда они в первый раз заговорили с ним о делах. Это было несколько лунников спустя после того, как они достаточно хорошо познакомились друг с другом. Они даже развлекались, дотошно высчитывая, сколько именно лунников спустя. Что до самих лунников, то так называлось время, нужное для того, чтобы обе луны заняли на небе то же самое положение. Официально, но не слишком точно, лунник равнялся пяти местным дням.
Коффин тогда как раз вернулся из одной из своих частых экспедиций в лесные дебри плато, вернулся в Анкер, к Еве. Де Сметы пригласили его на обед. После обеда мужчины допоздна засиделись за беседой.
На Рустаме это означает нечто существенно меньшее, нежели на Терре. Люди здесь бодрствуют значительную часть очень длинной темной ночи. Но сейчас большая часть жителей Анкера действительно спала. Коффин спросил:
— Но почему ты не хочешь? Я говорю тебе, и готов к тому, чтобы твои эксперты все тщательно проверили; я уверяю, что все это окупится. Кузница получит прибыль.
Де Смет ответил не сразу. Они сидели бок о бок, рядом на столе стояла бутылка виски и стаканы, рука гостя сжимала трубку. Беседа шла на балконе. Было тепло, где-то громко стрекотал жук-скрипун, журчала и плескалась вода; окна Анкера уже погасли, на улице освещение отсутствовало, но город освещался бронзово-серебряным светом неба, полного звезд, в котором плыли луны — большой выпуклый Ракш и маленькая верткая Сухраб.
— Мне не хотелось бы показаться Скруджем[14], — сказал наконец де Смет, — но ты мне не даешь иного выбора. Очень уж мала прибыль.
— Вон оно как? Да при наших ресурсах…
Де Смет тяжело вздохнул:
— Разреши, я произнесу речь, Дэн. Я очень симпатизирую вам — понизовщикам — и особенно твоей общине, что возле Мунданса — самой большой из всех. Вы хотите к сельскому хозяйству, разработке леса и тому подобному добавить еще промышленность. Сейчас все машины, производящие машины, сосредоточены здесь, ибо колонизация началась тут — на плато — и еще потому, что Верхняя Америка — это то место, где живет подавляющая часть населения планеты. Ты хочешь, чтобы я перевел в Низины большую часть очень ценного оборудования и технического персонала и построил вам производственные предприятия, которые будут принадлежать вам, а не мне.
— Верно. Верно. Но мы не желаем никаких подарков. У нас есть деньги, заработанные продажей того, что мы производим…
Де Смет поднял руку:
— Подожди, я еще не кончил. Мне придется говорить о вещах абстрактных, с твоего позволения.
Деньги — всего лишь символ. Они дают тому, кто ими обладает, определенные права на труд и на собственность других людей. С деньгами можно играть в разнообразные игры, но в этом процессе можно и позабыть, что они такое, и остаться у разбитого корыта. К счастью, такая опасность на Рустаме пока отсутствует. Во-первых, потому, что нас слишком мало и грандиозные финансовые проекты тут не сработают. Во-вторых, у нас здесь свободная рыночная экономика и твердая, основанная на золотом стандарте, валюта.
А почему она у нас есть? Во-первых, потому, что основатели колонии хотели быть свободными, независимыми людьми. А право торговать, покупать и продавать как кому захочется — один из краеугольных камней этой свободы. Во-вторых, они были хорошо начитаны в истории. Они знали, куда ведут дешевые деньги, ведут с такой же неизбежностью, как ведет к ожогу огонь, в который ты сунешь руку. Поэтому наш Общественный Договор привязывает нашу валюту к золоту, количество которого растет медленно и не может обогнать рост реального богатства страны. И поэтому все наши сделки проводятся только с помощью наличных денег. Конечно, возможен кредит, заем, если найдется желающий их предоставить. Но в этом случае кредитору можно только посоветовать держать свой карман туго застегнутым.
И как результат, сейчас, когда первые тяжелые годы миновали, сейчас, когда продукция растет куда быстрее, нежели растет количество денег, цена почти на все товары падает.
— Это-то мне хорошо известно, — запротестовал Коффин. — То, что я получил за свою пшеницу в прошлом году, еле покрыло расходы по ее производству.
Де Смет кивнул:
— Так и должно быть. Плодородные почвы, новые сорта семян, приспособленные к здешним условиям — и мы с легкостью получаем избытки, которые гонят цены вниз. А между тем машины и рабочие руки пока в недостатке и спрос на них велик. Отсюда и следует рост цен на эти товары, или, вернее, цены на них не падают пропорционально падению цен на сырье.
— Тебе-то легко рассуждать!
— Но ведь ты не голодаешь? Одно из преимуществ отсутствия эмиссии денег заключается в том, что это ставит преграду спекуляции, причем в первую очередь отдельными гражданами. Человек не может потерять свою ферму из-за неуплаты по закладной, ибо, во-первых, он этой самой закладной нигде не получит, хотя его земля и представляет определенную ценность. — Тут он остановился и с тревогой сказал: — Я надеюсь, ты не думаешь, что я говорю с тобой, как с невеждой, Дэн. Это все та самая элементарная экономическая наука, которую мы проходили в школе. Я просто напоминаю ее тебе в самом сжатом виде. Хочу, чтобы ты понял — у меня есть более важные причины отказать тебе, нежели погоня за прибылью и жадность.
— Ладно, но взгляни, Том: я ведь зажиточнее большинства моих соседей в Низинах, но и я чувствую, когда меня щиплют.
— Ты хочешь сказать, что иногда у тебя появляется желание сделать нечто такое, чего ты не можешь добиться без помощи Верхней Америки? Ты, например, возможно, мечтаешь о технически совершенной современной мельнице, а не о водяной или ветряной, или о том, чтобы не продавать свое зерно здесь, после чего ты вынужден покупать часть его обратно в виде готового хлеба, но по гораздо более высокой цене. Да, естественно. Но дело-то просто в том — ия очень сожалею об этом, — что вам все равно придется делать это до тех пор, пока не будет достаточно машин, чтобы можно было брать их в аренду или покупать по низким ценам. А пока вы можете только одно — перейти на экономическую самодостаточность. И никто не приставит вам к виску пистолет, заставляя вас производить больше, чем вы можете потребить сами.
Де Смет набрал побольше воздуха, чтобы продолжать.
— Видишь ли, если мы дадим вам субсидии, нам придется самим оплачивать их, либо с помощью налогообложения, либо инфляции. Неважно как, результат будет один: надо будет отнять доходы у жителей Верхней Америки, чтобы обогатить понизовщиков, которые нам ничего взамен не дадут. Фактически любой вид официального вмешательства в процесс ценообразования вносит в экономику хаос. Вместо того чтобы встретить трудности лицом к лицу и решить проблему раз и навсегда, мы спрячем ее за фиговым листком бумажки. Так она станет еще более нерешаемой и родит новые завихрения, и так далее и так далее.
Машины и труд дороги потому, что на них есть спрос и они ценны в полном смысле этого слова. На свободном рынке цена товара есть не что иное, как показатель того, сколько люди готовы дать в обмен на него.
— А вы — горцы из Верхней Америки, — Коффин рубанул воздух ладонью, — имеете куда больше машин, чем вам положено, даже если пересчитать на душу населения. Это означает, что именно в ваши карманы текут денежки, как бы мы — понизовщики — ни старались изменить положение. А это уже несправедливо.
Де Смет отпил виски, а потом покачал головой и вздохнул:
— Дэн, Дэн, в тебе говорит человек из Пограничья. Ведь ты по опыту, добытому собственной шкурой, лучше меня знаешь, что одному человеку везет во всем, а другому — нет.
Но ведь твои люди не страдают, страдают разве что только их чувства. Самые бедные из них хорошо питаются, достаточно прилично одеты и имеют крышу над головой. Ты сам, если судить по твоим же фотографиям, которые ты мне показывал, живешь в доме больше и лучше моего, живешь как какой-нибудь средневековый барон. Вы, понизовщики, имеете много вещей, которых нет у нас, например, обширные никем не заселенные территории, где можно разгуляться, и… тот, кому это не по душе, всегда может вернуться и найти свое место у нас. Мы ведь постоянно нуждаемся в рабочих руках, и такой человек всегда найдет здесь прекрасную плату за труд.
— Но мы хотим быть сами себе хозяевами! — рыкнул Коффин, хотя и без всякой враждебности.
— Ия восхищаюсь вами по этой причине, — сказал мягко де Смет. — И все же давай вспомним ваше происхождение. Люди, которые могли жить в Низинах, сначала отправились туда, чтобы изучать эти Низины, и Верхняя Америка платила за это, так как добытые ими знания могли оказаться очень важными. Потом эти люди полюбили тамошние земли и поселились на них. И это было хорошо, это было правильно. Человечество должно заселить всю эту планету.
Но процесс заселения шел медленно. И пока большинство из нас все еще привязано к высокогорному плато. И у нас есть такое же право, как и у вас — повышать свой уровень жизни, не так ли? И раз вы — понизовщики — можете присоединиться к нам, но не хотите этою сделать, то почему мы должны приносить жертвы и поддерживать вас в этом свободно сделанном выборе, гораздо более свободном, чем тот, которым обладаем мы?
Это именно тот случай, когда закон спроса и предложения отражается в социальной жизни общества. Верхняя Америка тоже еще молода, тут дел непочатый край. И мы должны сделать очень многое, ибо мы подойдем к перенаселенности куда раньше, чем понизовщик со своего крыльца увидит дымок из трубы дома своего соседа. Быстрый оборот капитала, высокая прибыль, полученная здесь же, все это отражает необходимость, как и тот факт, что здесь гораздо больше людей, нуждающихся в поддержке.
Пожалуйста, пойми меня правильно, но если по-честному, то мне кажется, что именно ваша община хочет отхватить кусок непропорционально большой, а не наша.
— Я уже сказал тебе, что нам не нужна милостыня, — ответил Коффин, и его тон свидетельствовал, что терпение понизовщика уже на исходе. — Я могу доказать тебе, что прибыль от любых инвестиций, которые вы сделаете в Низины, будет хорошая. Может, и не столь высокая, как у инвестиций, сделанных в экономику Верхней Америки, но все равно вы выгадаете, и немало.
— Мы уже сделали значительные вложения в Низины, — указал де Смет.
Коффин яростно закивал головой:
— Да! Шахты, электростанции, транспортные пути — все это принадлежит вам — горцам. И вы нанимаете понизовщиков, чтобы они работали на вас, ибо это ваша собственность, и вся прибыль тоже идет вам.
Он резко наклонился вперед. Мундштук его трубки, которым он сделал выпад, остановился всего лишь в сантиметре от груди хозяина дома.
— А теперь разреши мне отвесить тебе порцию истины, — сказал Дэн. — Можешь верить, можешь не верить, но я знаю вашу экономику. И знаю, чего я прошу от имени моей общины. Я прошу тебя использовать часть оборудования и персонала, которыми ты распоряжаешься, направить их к нам, чтобы построить для нас… О, ту самую современную мельницу, завод по производству инструментов или еще что-то. Прийти и построить их для нас, вместо того чтобы строить все это для Верхней Америки.
— Это я понимаю, — ответил, как бы извиняясь, де Смет. — Я у вас там был, разумеется, благодаря шлему для дыхания. И ты не первый понизовщик, с которым я разговариваю последние годы. Да, вы уже начали думать о себе как об особой расе, грубоватой, крутой, которой противостоят изнеженные и скупые горцы. Эти взгляды еще не полностью сформировались, но…
— Они обязательно сформируются. Если вы не придете нам на помощь. А если придете, то, может, эта планета еще останется единой. Или вас не волнует судьба ваших внуков? — Коффин помолчал, прежде чем добавил: — Не считай это угрозой. Но, пожалуйста, Том, запомни, что через несколько поколений горцы будут жить в своего рода анклаве. А почти все население сосредоточится в Низинах. А значит, и почти все могущество. Дружище, вам надо заслужить расположение этих людей, пока еще не поздно.
— Я думал об этом. Да, много думал. Я считаю, что эта проблема не принадлежит к числу тех, которые имеют решения по типу или — или. Если определенные соглашения будут достигнуты… экономически разумные соглашения, разумеется, то ситуация может улучшиться. Но почему понизовщики требуют обязательно индустриализации? Через какое-то время, и не столь уж отдаленное, цены на продовольствие и древесину сильно поднимутся в связи с ростом их потребления в Верхней Америке. Разве не лучше подождать наступления этих дней? А пока вы сохраните в неприкосновенности вашу чудесную среду обитания.
— Не такая уж она прекрасная, если вам приходится наваливать на ваших детей неподъемный труд только потому, что не хватает оборудования, хотя нам известно, что его можно изготовить. А кроме того, никто и не желает оказаться в промышленных трущобах. Нет, конечно. Мы просто нуждаемся в некотором количестве специализированных предприятий. И у нас есть места, где такие фабрики можно построить без ущерба для природы. Есть и обширные территории для захоронения отходов производства, чтобы не отравить почву.
— А у нас этого нет. Во всяком случае, скоро не будет, если мы будем развиваться прежними темпами. — Де Смет твердо глянул в глаза гостю и сказал с каким-то новым для этого разговора чувством: — И это главная причина, которая заставляет меня желать скорейшего обогащения. Я хочу купить как можно больше девственных земель и основать там заказник.
Коффин улыбнулся горячности этого человека. Именно любовь де Смета к вылазкам на природу была тем, что свело их вместе. Трудно не привязаться к человеку, с которым ты ходишь по лесным тропкам, плаваешь в лодке, ставишь палатку для ночлега.
— Может, мы сумеем что-то придумать, — закончил де Смет. — Однако это должно учитывать quid pro quo[15], иначе смысла нет. Как говорится, добрая сделка — не грабеж.
Озеро Роял, где они собирались рыбачить, посверкивало где-то справа от них, но кар быстро летел вперед. Вскоре в лесу обозначилась проплешина — безобразный шрам на том месте, где почвенный покров был содран на пространстве нескольких квадратных километров, безжизненный, если не считать нескольких видов сорняков, которые появились тут, чтобы залечить чудовищную рану.
Коффин ткнул в него черенком трубки:
— Сколько лет этой штуковине, а?
Де Смет взглянул сквозь фонарь кабины.
— А, открытые разработки! — Он болезненно сморщился. — Семьдесят — восемьдесят лет, полагаю. Память о былом.
— Индустриализация, — крякнув, протянул Коффин.
Де Смет подозрительно взглянул на него:
— О чем ты говоришь? То была необходимость. Топливо было необходимо позарез. Атомный реактор сломался, на ремонт требовалось много времени, а зима была на носу. И вот у самой поверхности обнаруживается мощный пласт угля, который легко добывать и по воздуху доставлять в Анкер…
— Какая разница — все равно промышленность. Сегодня утром я глотнул столько вони от нефтеперегонного завода — только держись.
— Все это предстоит выправлять. Я нажму на владельца завода. Другие тоже. Ты, Дэн, понимаешь не хуже меня, что нам все время приходится идти на временные нарушения правил, но главное-то в том, что мы уже на пороге возвращения к чистой водородной экономике.
— А тогда чего же ты боишься индустриализации? Почему мечтаешь сохранить нетронутой часть дикой природы плато?
Казалось, де Смет недоумевает:
— Разве это не очевидно? Потому, что… я… и другие горожане, придерживающиеся тех же взглядов, мы никогда не сможем привыкнуть к дикой природе ваших Низин. Так почему бы и нам не иметь таких мест, где мы… ну, где наши души могли бы говорить с Богом. — Он нервно усмехнулся: — Извини. Не хотел, чтобы это прозвучало так напыщенно.
— Ничего. — Коффин выпустил колечко дыма. — Но разве по мере роста численности населения не будет расти и давление, которое превратит все плато в один расползшийся огромный город? Неужели ты действительно думаешь, что земля ваших заказников дикой природы не может быть выкуплена у вас или просто отнята?
Разве что часть промышленной продукции станет поступать сюда из Низин. Тогда жители Верхней Америки смогут позволить себе роскошь и оставят часть земли на плато неосвоенной. Что ж, правда, такое без торговли невозможно, а она разовьется, только если у понизовщиков окажется не только сырье, но и промышленные товары, которыми можно торговать.
Де Смет Ъткинулся на спинку кресла, оценивающе взглянул на Коффина и произнес:
— Ты мне обещал, что в выходной мы с тобой не станем открывать дискуссию на эту тему.
— А я и не нарушаю обещания, Том. Я просто напомнил тебе о том, что говорил раньше, для того, чтобы ты лучше оценил ту очень любопытную штуку, которую я тоже обещался тебе показать сегодня.
Автопилот пискнул. Коффин выключил его, взял управление на себя, сверился с какими-то ориентирами на местности и повел аэрокар вниз. Внизу тянулись гряды диких и необычайно красивых холмов. Среди них сверкало подобно звезде озеро, а над ним кружилось несчетное множество водоплавающей птицы. Солнце зажигало на крыльях летунов маленькие радуги.
— Ты помнишь, что несколько моих близких друзей и я частенько наведывались сюда, — сказал Коффин. — Мы говорили, что ведем ботанические исследования, которые нужны нам для решения проблемы, связанной с нашей собственной экологией. Это не совсем ложь — мы действительно собрали нужную нам информацию; впрочем, и без этого на нас никто внимания не обращал.
Де Смет настороженно ждал продолжения.
— А дополнительно мы тут вели геологоразведочные работы, — говорил Коффин.
Ветер свистел в холмах. Земля, вызывая головокружение, внезапно прыгнула вверх.
— Понимаешь, — продолжал Коффин, — раз уж мы — понизовщики — зациклились на мысли развивать свою страну в том направлении, которое считаем нужным, а никто нам помочь не хочет, то, значит, нам придется самим себе помогать. Вот если бы мы сделали заявку на покупку земли в вашей стране, тогда доставка грузов в Анкер стала бы дешевой и быстрой, что создало бы для нас преимущества в конкурентной борьбе. Или, например, мы сумели бы продать ее с выгодой какому-нибудь вашему синдикату, или получить денежные отчисления за аренду. В любом случае мы заработали бы деньги, которые нужны нам на покупку оборудования и наем персонала.
— Никто тут не проводил разведочных работ, о которых стоило бы говорить, — задумчиво произнес де Смет.
— Вот потому-то мы их и решили провести. Вы считаете эти места слишком удаленными от Анкера, а для нас это место не дальше, чем Анкер.
Кар остановился, а потом сел прямо на лужайку. Коффин открыл дверь кабины со своей стороны. И тут же в нее хлынула тысяча птичьих голосов и шорохов, волна осенней свежести и ароматов леса, окружавшего их — зрелого и пышного. Колыхались травы, деревья играли мириадами оттенков, совсем рядом мерцало озеро.
— Дивное место, — сказал Коффин. — Счастливчик, такое местечко купил.
— Я не счастливчик, я умница, — ответил де Смет, улыбаясь, несмотря на испытываемую тревогу. — Я решил, что это своего рода сердцевина моего будущего заказника, и сделал заявку на максимальную площадь, разрешаемую законом о гомстедах[16].
— Ты не сердишься, что я со своими ребятами располагался тут на стоянку?
— Нет, конечно, нет. Вы же не станете портить такое место.
— Понимаешь, отыскивая признаки наличия залежей различных минералов на ничейных землях, нам было очень важно представить себе геологию района в целом. Поэтому тут мы тоже немножко пошарили и сделали важное открытие. Поздравляю, Том.
Теперь де Смет прислушивался не только внимательно, но даже с некоторым страхом.
— Что же вы нашли? — гаркнул он.
— Золото. Уйму золота.
— Ух ты!
— Это в высшей степени полезный металл, широко применяемый в производстве проводников и в электрохимии, для изготовления анитикоррозийных покрытий. Тот, кто сумеет наладить снабжение им промышленности, окажет обществу огромную услугу. — Коффин пальцем указал вправо. — Ты наверняка сам захочешь поглядеть, что тут и как. Я захватил с собой кое-что из оборудования. Мне известно, что ты с ним умеешь обращаться, иначе я захватил бы и техника, имя которого ты мне назвал бы сам. Давай начинай. Проверь кварцевые жилы в валунах, пробы пропусти через дробилку и сделай количественный анализ. Промой золотишко в этом ручейке и на песчаном берегу озера. Дружище, ты тут везде обнаружишь признаки того, что у тебя под ногами огромное коренное месторождение золота!
Де Смет помотал головой, как человек, которого чем-то только что огрели по лбу.
— Промышленности столько золота не надо. Во всяком случае в ближайшие десятилетия. Но валюта…
— Ага! Будет дьявольски любопытно поглядеть, что случится с твердой валютой, которой вы так гордитесь. Не говоря уж о том, что произойдет с дикой природой, большая часть которой тебе еще не принадлежит, когда начнется золотая лихорадка. И будет очень трудно с рабочими руками, необходимыми для производства товаров, особенно тех, которые мы едим или носим на себе. Хотя, Том, лично ты станешь самым богатым человеком на Рустаме.
Начинай проверять, — продолжал он, — а я разобью лагерь. Я захватил с собой складное каноэ, а рыбалка тут не хуже, чем на Роял.
Глаза де Смета обшаривали его с макушки до пяток.
— Ты сам… думаешь… примкнуть… к искателям золота?
Коффин пожал плечами:
— В нынешних обстоятельствах у нас — понизовщиков — пожалуй, нет лучшего шанса, верно?
— Я… Послушай, Дэн…
— Берись за дело, Том. Ты тут все обнюхай, а заодно и мыслишки прополосни. К тому времени когда кончишь, у меня уже и завтрак поспеет. Потом мы с тобой сходим к озеру и, может, во время рыбалки найдем времечко, чтоб поторговаться насчет всяких деталей.
Шагая твердо и широко, Дэн вошел в палату, схватил и крепко прижал к себе Еву, лежавшую в постели, и влепил ей сочный поцелуй.
— Дэн! — вскрикнула она. — Я не ждала…
— И я тоже, — ответил он и расхохотался. — Я даже надеяться не мог, что дела пойдут так быстро и так хорошо. — В палату заглянуло полуденное солнце. — Но они пошли, и все кончено, и с этой минуты, родная, я полностью и навеки твой.
— Что… что… Дэн, отпусти меня! Я тоже люблю тебя, но ты меня задушишь.
— Прости. — Он выпустил ее, осторожно уложил на постель и снова поцеловал с бесконечной нежностью. Потом уселся на стул и взял ее руку.
— Что случилось? — требовала Ева. — Говорите, Дэниел Коффин, или, клянусь небом, я собственными руками вытрясу из вас правду. — Ева одновременно плакала и смеялась.
Дэн поглядел на дверь, убедился, что плотно закрыл ее, входя, и понизил голос:
— Мы подписали контракт, Ева. Том де Смет вызвал своего адвоката, как только мы вернулись пару часов назад, и мы подписали контракт: Кузница берется выполнить работу для общины Мунданс. А ты знаешь, Том своего слова никогда не нарушает. Это одна из причин, по которым я охотился именно за ним.
— Значит, тебе все-таки удалось убедить его? — поразилась Ева.
— Думаю, ты можешь назвать это убеждением. Я… Ладно, помнишь, я тебе когда-то сообщил по секрету, что я и мои ребята занялись исследованиями в глухих местах Верхней Америки и что мы там кой-какую геологическую разведку ведем?
— Да. И я еще никак не могла понять, к чему такая спешка. — Ева не обвиняла его, но и не извиняла. Было видно, что сейчас она просто спрашивает его о причинах непонятных ей действий, а прощать ей нечего. — Я все время говорила тебе, что минералы подождут, да и неприятности с экологией не требуют неотложных мер.
— А вот получение контракта их требовало. — Дэн опустил глаза, и его свободная рука сжалась в кулак. — И мне приходилось бросать тебя тут одну, зная, как тебе это тяжело, но не осмеливаясь сказать правду даже тебе.
Ева потянулась к нему, чтобы снова коснуться его губ. Когда же он смог продолжать, то сказал:
— Понимаешь, машин и инженеров тут не хватает. Кузница сама располагает не таким уж большим количеством и того и другого. В любое время мог появиться кто-то со своим проектом, который сделал бы эти ресурсы недоступными для нас на многие годы. А если бы хоть одно слово о том, что мы — понизовщики — думаем о таком деле, просочилось наружу, то наверняка сейчас же нашелся бы кто-то, кто сначала связал бы Кузницу контрактом, а уж потом стал бы размышлять о деталях проекта. И не потому, что хотел бы нас раздавить или еще что, но потому, что прибыль получить здесь можно куда большую, нежели у нас.
Разумеется, большой беды не было бы, если б ты, скажем, под наркозом сболтнула, что мы ведем понемножку геологическую разведку. Конечно, в Анкере забеспокоились бы. Но вообще-то, какого черта, мало ли народа роется в земле, только не в таких отдаленных местах? Но совсем другое дело — наша истинная цель.
— Понятно, понятно! И ты добился успеха! Ты просто чудо, Дэн!
— Если верить Тому де Смету, то я — подонок. — Он широко ухмыльнулся: — Потом, когда мы все обговорили, он сказал, что я чертовски славный подонок и что он гордится правом считать меня своим другом. И мы сегодня же вечерком должны смотаться куда-нибудь и напиться до чертиков.
Глаза Евы потемнели от удивления.
— Что ты хочешь этим сказать, Дэн? Сначала ты говоришь о геологической разведке, но, по-видимому, своей жилы ты так и не нашел. Потом ты говоришь о заключенном контракте, за которым ты так долго охотился. Разве ты не убедил Тома подписать его?
Дэн покачал головой:
— Нет. Я пытался много раз, говорил целыми лунниками, но он не соглашался ни в какую. Правда, мне стало казаться, что внутренне он был бы рад помочь нам, но его глупая социальноэкономическая совесть требовала, чтобы он придерживался диктата определенной экономической тебрии. В конце концов я сказал ему, что сам, похоже, зациклился на одной мысли, стал занудой и готов заткнуть свой фонтан и отправиться с ним на рыбалку.
— И? — Этот союз в ее устах звучал как признание в любви.
— Это секрет, который ты и я унесем с собой в могилу. Обещаешь? Ладно, твой кивок значит больше, чем клятва большинства людей.
Я привел Тома к коренному месторождению золота, которое я нашел на его собственной земле. Я объяснил, что мне, как и ему, отвратительна даже сама мысль о том, что произойдет с этой дивной природой, когда начнется золотая лихорадка. Не говоря уж о том, что случится с их денежной системой или с рабочими руками, которые будут отвлечены от производства всяких полезных вещей. Но у меня есть долг перед своей общиной, сказал я, и перед друзьями, которые просили меня быть их представителем. Я предложил ему свое молчание, а также молчание моих геологов — а я их отбирал очень тщательно — в обмен на контракт с нами. Мы можем включить в него пункт, что если мы проболтаемся, то он вправе расторгнуть этот контракт. Соглашайся или нет, дело твое, сказал я. Добрая сделка — не грабеж.
— Дэн, Дэн, дорогой! Обними меня!
Он встал на колени возле кровати, и они долго держали друг друга в объятиях.
Потом, успокоившись, он снова сел на стул, а она откинулась на свои подушки. Оба ни на мгновение не отрывали др#г от друга взгляда.
Спустя несколько секунд один глаз Евы медленно прищурился.
— Вы меня не обманете, Дэн Коффин, — сказала она.
— Ты это о чем?
— Ао твоем представлении! Ах ты, простой, добродушный сельский сквайр! Вряд ли кому-нибудь удалось бы вести за собой кучу народа, не будь он дьявольским хитрюгой.
— Что ж… — Казалось, он несколько смутился.
— Любимый, — выговорила она еле слышно, — вероятно, впервые в истории случилось, что кто-то подложил наживку в рудник, который и без того принадлежал жертве розыгрыша.
— У меня есть контракт, который Том де Смет будет выполнять согласно его духу и букве. А больше я ничего не знаю. Ни единого словечка не знаю.
Ева задорно вздернула голову:
— А не приходила ли тебе в голову, Дэн, такая возможность, что Том своим умом дошел до всего, и что именно поэтому он не стал глубоко копаться в фактах и проверять их?
— Э-э? — Редко когда Еве приходилось наслаждаться зрелищем столь ошеломленного супруга.
Но когда Дэн ушел от нее — ненадолго, всего на несколько часов, — он шел гордой поступью молодого буканьера. Ветер крепчал, он пел, как поднебесная труба, а каждый осенний листок трепетал на ветру, как флаг, с вызовом поднятый на мачту пиратского корабля.
ВО ИМЯ ОБЩЕГО БЛАГА
Конституционный Конвент разошелся на зимние каникулы, и Дэниел Коффин вернулся в свой дом у озера Мунданс. В этой части Низин зимний сезон приносил с собой ревущие холодные ливни, ветры, которые дули с гор, заставляя леса сгибаться и стонать, а яркий свет и мрачные сумерки бешеной чередой сменяли друг друга, когда облачная пелена вдруг разрывалась, снова сходилась и снова рвалась в клочья, открывая глазам солнце, луны и звезды. Полеты на аэрокарах в это время становились небезопасными, а поэтому по обычаю люди сидели по домам, посещая лишь ближайших соседей; веселые пирушки укрепляли дружеские узы.
В прошлом году Дэн поступил иначе — он был гостем Тома и Джейн де Сметов в Анкере. Его собственный дом казался ему слишком большим и слишком пустым и в то же время полным призраков. Однако недавно его старшая внучка Тереза вместе с мужем Лео Свободой предложили съехаться с ним. Отчасти это было выражением доброты к старому человеку, которого они все любили; конечно, их собственный дом не был таким прекрасным особняком, как этот, но он был удобен, а дела их процветали. Но переезд давал им всем определенные преимущества — вроде централизованного контроля над огромными земельными владениями, принадлежавшими семье, особенно важного теперь, когда транспортные связи значительно улучшились. Так что никто старика милостыней не оскорблял. Дэн с радостью принял их предложение.
Пионеры женятся рано. Как бы ни был освоен их район, Пограничье лежало неподалеку, им была практически вся планета, манившая каждого жителя Низин на Рустаме. У Лео и Терезы было уже двое ребятишек, а третий существовал в проекте. И снова в доме зазвучали веселые детские голоса, опять лужайки увидели на себе его собственных отпрысков, и Дэниел Коффин снова узнал счастье, которое именуется покоем.
Сегодня все домашние Дэна занимались украшением «елки». После этого он почувствовал, что устал. Он еще не совсем состарился, Дэн знал это точно. Пусть волосы его поредели и побелели, пусть широкое лицо покрылось морщинами, но глаза еще не нуждались в очках, мощный стан был прям, как всегда, а в ходьбе он мог загнать немало людей вдвое моложе его. И все-таки он немного переборщил, возясь с детишками. Пара спокойных часов перед обедом приведет его в порядок и позволит принять участие в ожидаемой церемонии и общем веселье.
Медленно прошелся он по комнатам и холлам. Многое в их простых и ясных пропорциях, в голубовато-серой отделке стен, в блестящих натертых деревянных полах, в мебели и каминах было обязано своим появлением на свет ему самому. А почти все портьеры и занавеси — работа Евы. Позже, когда на плантации прибавилось людей и она потребовала всего их времени, они с Евой наняли профессионалов, которые расширили их дом. Но сердцем этого дома, думал Дэн, всегда будет его центральная часть, куда он и Ева вложили свои сердца.
Наверху находились их собственные покои — спальня, ванная комната и по рабочему кабинету для каждого. Сначала, когда Ева только что умерла, он хотел закрыть ее кабинет или сделать из него что-то вроде святыни. Но потом он понял, как бы она была возмущена таким поступком, она, которая всегда смотрела вперед, которая всегда жила в переполненном событиями завтра. Он отдал эту комнату Терезе для работы, и она могла вносить туда любые изменения, которые ей захочется.
Его личная комната осталась в том же виде, в каком была раньше — большой письменный стол, удобное кожаное кресло, стены, уставленные стеллажами с книгами и микропленками. Книгоиздательство для любителей роскоши стало процветающей отраслью так быстро, как никто и ожидать не мог в этом обособленном колониальном мирке. Высокие стеклянные двери выходили на балкон. Оконные стекла звенели под струями дождя, выл ветер, сверкали молнии, раскаты грома были столь мощны, что заставляли стены дома вздрагивать. Отсюда едва можно было различить поросшие травой лужайки, деревья, дорожки, окаймленные цветниками, ведущие к большому озеру. Волны метались по его отливающей сталью поверхности. Ракш приближался к планете и поднимал приливы, усиливая те, что создавало солнце.
Кабинет гляделся мрачноватым, в нем было даже немного холодно. Дэн включил обогреватель и единственную флюоропанель, поставил на плейер Пятую («Бранденбургскую») симфонию Баха, налил себе немного виски в стакан и уселся в кресло со своей трубкой и «Письмами федералиста»[17].
Мой долг прочесть эту книгу, если мы хотим создать правительство, которое будет охранять свободу граждан теперь, когда численность населения достигла такого уровня, при котором Рустаму нужно нечто большее, нежели мэр и Совет в Анкере, подумал он. Потом хмыкнул. Какого там черта — долг! Мне просто нравится стиль «Писем». Умели писать в те времена! Что бы сказали вы, Вашингтон, Джефферсон, Гамильтон, Мэдисон, если бы узнали, что когда-нибудь горстка людей пролетит двадцать световых лет, оторвется навсегда от планеты, где зародилось человечество, и все ради того, чтобы были живы идеи, которыми жили вы? Полагаю, вы сказали бы вот что: «Не подражайте нам, учитесь у нас, учитесь на наших ошибках, на том, что мы просмотрели, но также и на том, что мы сделали верно. Мы были первопроходцами».
«Становление нового правительства, с каким бы трудолюбием и мудростью оно ни создавалось, всегда породит проблемы борьбы путаницы и точности».
Тук-тук — раздалось у двери. Дэну был хорошо знаком этот застенчивый стук.
— Входи, — позвал он.
Вошла его правнучка.
— Привет, — сказала она.
— А я-то считал, что ты играешь с другими ребятишками, Элис, — ответил он, имея в виду скорее детей служащих поместья, чем ее младшего братишку.
— Я тоже устала! — Крошечная фигурка в накрахмаленном белом платье прижалась к его ноге. — Расскажешь что-нибудь?
— Ах ты, хитрюшка! Ну ладно, залезай ко мне. — Коффин помог девчушке взобраться к себе на колени. Глаза у нее были синие и огромные, ее локоны, цвет кожи и какой-то солнечный запах, если память ему не изменяла, были точно такие же, как у Мэри Локабер в молодости. Впрочем, это не удивительно, ведь Мэри — одна из ее прародительниц.
От счастья она даже вздохнула.
— Так о чем же ты хотела бы услышать?
— О тебе и о бабуле Еве.
Воспоминание о смерти Евы, умершей всего лишь три года назад, пронзило его, и темнота навалилась на Дэна, подобно волне прибоя. Потом она схлынула. Он взглянул на портрет Евы, стоявший на столе, и подумал: как прекрасно, что он может передать этому комочку плоти от плоти Евы память о том, какой она была, и о ее делах. Потому что когда уйдет и он, и дети, которых они зачали, тоже уйдут в небытие, память о Еве будет жить еще долго.
Теперь ему уже не было больно, он испытывал даже радость, глядя в прошлое.
— Хм-м-м… дай-ка подумать, — тихо сказал он. Потом выпустил несколько колец дыма, что привело Элис в восторг: девочка успела проткнуть каждое из них пальчиком, пока они проплывали мимо нее. Перед Дэном проходили образы прошлого, они были куда ярче и четче всего того, что окружало его в этой комнате, исключая эту девчушку и исходящее от нее тепло. Это казалось странным. Ведь те дни давно унесло ветром…
— Ага, конечно… — выбрал он. — Ты помнишь, я рассказывал тебе о том, что мы были изыскателями, пока не осели вот тут — я и твоя бабуля Ева?
— Да. И ты говорил мне о том, как т-т-теразавры, — выговорила она с триумфом, — как они бегали и бегали кругом большого камня, пока ты не заставил их остановиться.
— Я бы не сумел этого сделать, Элис, если бы не то, что сделала твоя бабуля Ева перед этим. О'кей, так вот вскоре после этого ей пришла в голову мысль отправиться на лодке к островам, куда еще не ступала нога человека. Над ними только летали, и сверху они выглядели ужасно красивыми. — (Фантастические коралловые образования могли дать ключ к пониманию морской экологии, а это в свою очередь пригодилось бы рыболовству, если бы оно там стало развиваться. Но нет необходимости обрушивать эти технические подробности на малышку, да вряд ли нужны и другие детали, которых она просто не поймет, исходя из уровня своих йредставлений о мире. Ибо и Ева, и он хотели познакомиться с этим чудом, так сказать, ради него самого. Еву всегда манило новое, неизученное. Когда она стала матерью и хозяйкой плантации, юные исследовательские порывы остались при ней. У нее рождалось множество идей, соображений, предложений — куда больше, чем у Дэна, и большая часть новшеств на плантации была обязана своим появлением озарениям Евы.) — В те времена моторов было мала, как и других средств передвижения. Мало, очень мало. Все моторные лодки были заняты в других местах, но у нас была парусная лодка, способная плавать по морю. Такая же есть у меня и на озере, но та была куда больше, и если тебе это неизвестно, она называлась шлюпом.
— Это потому, что она делает шлюп-шлюп-шлюп, когда плывет по воде, да?
Коффин расхохотался:
— Никогда не думал об этом. Во всяком случае…
Зазвонил телефон. Звонок был так называемый «тревожный».
— Извини меня, милочка, — сказал Коффин и протянул руку к кнопке приема.
На экране появилось лицо Доркас Хираямы — мэра Анкера и по совместительству президента Конституционного Конвента. Лицо было сдержанным и спокойным.
— А, привет! — приветствовал ее Коффин. — Счастливых праздников тебе.
— Счастливых праздников, Элис, — сказала она. А потом, обратившись уже к Дэну, добавила: — Боюсь, тебе придется отпустить ее на некоторое время.
Коффин не стал спрашивать о причинах. Он только поинтересовался: надолго ли?
— Рассказ займет не больше пяти минут. Но потом, я полагаю, ты захочешь обдумать услышанное.
— Подожди минуту. — Коффин спустил Элис на пол и взял ее за ручку. — Не возражаешь, маленькая? — Он не представлял себе, что могут быть такие общественные дела, которые заставили бы его забыть о чувстве достоинства у ребенка. — У миледи Хираямы есть секрет. Может, ты возьмешь эту книгу… — Она заворковала от восторга, получив фотоальбом со снимками эпохи приключенческой юности прадеда, — и посмотришь его в моей спальне? Я позову тебя сразу же, как только кончу.
Когда дверь в смежную спальню закрылась, Коффин вернулся к мэру:
— Извини, Доркас.
— Это я должна извиниться, что помешала тебе, Дэн. Но дело неотложное… хотя имеет чуть ли не тридцатипятилетнюю давность.
В течение нескольких секунд он стоял недвижимо. Холодок пробежал по спине и распространился по всему телу. За окном сверкнула молния, грянул гром, ливень с новой силой обрушился на окно.
Тридцать пять лет. Рустамских лет. Около двадцати по земному счету. Время, которое нужно свету, чтоб пробежать расстояние между Эриданом и Солом.
Он сел в кресло, заложил ногу на ногу и прижал пальцем уголек в трубке.
— Значит, это все же произошло? — спросил он ровным голосом.
— Да, это случилось. Нас извещают, что в течение ближайших пяти лет намерены направить к нам флот с переселенцами. Если ничего не произошло, а это кажется маловероятным, то корабли к настоящему времени уже прошли одну треть, а может, и половину пути. Как видно, до их прибытия остается еще лет пятьдесят, не больше, а возможно, и меньше.
— И сколько же их на борту?
— Это более крупный флот, чем доставивший сюда наших Основателей. В извещении говорится примерно о пяти тысячах взрослых переселенцев.
Малая смерть замедленно функционирующего организма, в которую они вступили, мечтая о славном воскрешении на Рустаме.
— И что же об этом говорит народ?
— У человека, который прочел послание, хватило ума прийти прямо ко мне, благодарение Господу. А я взяла с него клятву молчать. Ты первый, с кем я говорю об этом.
— Почему я?
Хираяма опять улыбнулась, на этот раз с хитринкой:
— Ложная скромность тебе никогда не была к лицу, Дэниел. Ты знаешь, как я высоко ценю твой ум и опыт, но вряд ли я одинока в этом. Кроме того, ты делегат Конвента от Мунданса, лидер в своей округе и ее представитель в Анкере, а эта округа — самая богатая и самая населенная в Низинах. Все это делает тебя самой крупной фигурой вне Верхней Америки, вполне сопоставимой по значению с любым деятелем в ней самой. Кроме того, ты знаешь своих людей лучше любого горца, которые, как и я, разгуливают среди них только в шлемах. Надо ли мне продолжать говорить прописные истины?
— Не надо. Я уж и без того сгорел от стыда. О'кей, Доркас, чем я могу быть тебе полезен?
— Во-первых, мне нужно твое мнение. Мы не сможем скрыть эту новость больше чем на несколько дней и за это время должны разработать свои планы и оценить свои силы. Но скажи мне без подготовки, какова будет реакция Низин?
Коффин пожал плечами:
— Умеренно благожелательная, особенно учитывая шумиху, возбуждение и все такое прочее. Не больше. Мы слишком заняты обживанием планеты. И пять тысяч новых иммигрантов для нас ничего не значат — ни в связи с проблемой перенаселенности, ни в связи с конкуренцией, поскольку нас самих-то не намного больше.
— Значит, ты подтверждаешь мои предположения.
— Кроме того, — продолжал Коффин без всякой радости, — должно быть, очень немногие из новоприбывших будут способны жить в наших условиях.
— Это бесспорно так. А вот в Верхней Америке известие о прибытии кораблей способно спустить дьявола с цепи. Ты, надо полагать, это понимаешь?
— Конечно, понимаю.
— Твои соображения?
Коффин помолчал, прежде чем ответить.
— Дай мне время спокойно подумать, как ты и предложила с самого начала. Я позвоню тебе после того, как все уснут. Идет?.
— А куда деваться? Что ж, счастливых праздников.
— И тебе того же. Не позволяй этой новости испортить тебе удовольствие, Доркас. Ни тебе, ни мне с новоприбывшими дела иметь не придется.
— Нет. Но вот твоей девчурке — придется.
— Это верно. Нам приходится принимать решение за нее. И надеюсь, мы это сделаем как надо. Пока.
Коффин дал отбой, пересек комнату и постучал в дверь спальни.
— Я кончил, Элис, — сказал он. — Хочешь слушать дальше?
Затишье, которое наконец предсказало метео, позволило Коффину вылететь на аэрокаре, чтобы посетить некоторые усадьбы на огромной и не слишком четко ограниченной территории, которая поручила ему руководство ее общественными делами. Конечно, он мог бы всех обзвонить по телефону, но техника лишает возможности уловить важные нюансы разговора. Впрочем, никто не возражал против нарушения Дэном сложившихся обычаев этого сезона. Все были рады отплатить ему за гостеприимство, которое они с Евой оказывали когда-то им самим.
По этой причине он отправился на прогулку верхом с Джорджем Стейном, который обрабатывал часть земли, принадлежавшей ему, но, главное, был владельцем единственного в Низинах металлургического завода, почему и пользовался здесь большим влиянием. Стейн знал, что главная причина желания Коффина прокатиться — возможность поговорить наедине. Впрочем, выезд на природу был и сам по себе приятным развлечением.
Долина Сайруса лежала ниже и была теплее, чем окрестности озера Мунданс. Здесь многие деревья и кустарники — золотое дерево, высоковершинник, псевдососна и гном — не сбрасывали листву весь год, а сине-зеленые «травы» лета уступали место краснокоричневому мху, чья пышность заглушала стук лошадиных копыт. Это была открытая лесная страна, где отдельные купы деревьев росли друг от друга на некотором расстоянии. В просветы между ними можно было видеть горный массив, чьи вершины терялись в перламутрово-серых облаках. Воздух был теплым и влажным, почти неподвижным и насыщенным запахами гумуса. Где-то вдалеке посвистывала птица-флейта.
Когда Коффин закончил свой рассказ, Стейн некоторое время молчал. Тихо поскрипывали кожаные седла, играли мышцы лошадей. Какая дивная страна! — подумал Коффин уже не в первый, да и не в сотый раз. И как я рад тому, что, заселив ее, мы установили с природой мирные отношения. Как бы хотелось, чтобы на Рустаме всегда царили разум и спокойная мудрость!
— Что ж, не так уж это и неожиданно, а? — сказал Стейн. — Я хочу сказать, что с тех пор, как был установлен радиоконтакт, становилось все яснее и яснее, что эта колония — отнюдь не последний вздох умирающего. Терра снова пересмотрела свое отношение к космическим делам. Возможно, что сейчас уже несколько экспедиций ищут планеты земного типа, пригодные для обитания, как там принято говорить. Но наверняка они знают только одно — наша годится.
— Только на плато, — ответил Коффин с некоторой горячностью. — Сомневаюсь, что среди тех, кого они послали к нам, процент таких, кто может выдержать давление воздуха в Низинах, был бы выше, чем среди первопоселенцев. И… высокогорье заселено уже почти под завязку.
— Что? Дэн, ты шутишь!
— Никогда еще не был серьезнее, дружище. Там — в горах — уже почти не осталось пригодных для заселения земель. Почти все ценные для сельского хозяйства земли сосредоточены в Верхней Америке. Большая часть их уже находится в личной собственности в соответствии с законом о гомстедах, и ты можешь спорить на свой нос, что и остальная земля разойдется немедленно, когда эта новость станет известна.
— Ну и что? Почему надо бояться перенаселенности, если каждый понизовщик может прокормить сотню горцев, если мы расширим наши посевные площади? Пусть они занимаются промышленностью, если им нравится. — Стейн предостерегающе поднял руку. — О да, я помню прежнюю вражду. Но все это было до того, как ты заставил часть промышленности переместиться сюда. Теперь нам нечего бояться экономического господства. В любой момент, когда они захотят содрать с нас шкуру, повышая цены, мы можем построить новые мощности и продавать товары им же, но по куда более низким ценам. Так что наладить специализацию по географическим зонам мне представляется вполне разумным делом.
— Трудность в том, — возразил Коффин, — что подобная перспектива особенно беспокоит наиболее думающих горцев из Верхней Америки. И беспокоит уже давно. Они ведь выросли в тех же традициях не толкаться локтями с соседями, иметь обширные территории нетронутой природы, Что и мы, Джордж. И они хотят сохранить эти преимущества своего мира для потомков. Территория же, которую эти потомки получат, будет весьма ограниченной и останется таковой долго — в историческом масштабе, — пока гены, дающие возможность переносить высокое давление атмосферы, не вытеснят старые гены у человечества Рустама.
Ты возьми, например, моего бывшего партнера Тома де Смета. Он в течение большого времени скупал земельные участки в лесных дебрях с тех самых пор, как у него появились для этого свободные деньги. Он создал огромный заказник. Сейчас он готов передать его народу, если мы внесем в Конституцию статью, которая гарантировала бы вечное существование этого заказника плюс еще несколько природоохранных мер, которые он считает необходимыми. Если этого не произойдет, его семья намерена держать эту землю в личной собственности. В меньших масштабах такие дела уже имеют место — подобные баронские поместья появились во многих местах Верхней Америки. Люди не забыли, что принесла перенаселенность Терре, и они не хотят, чтобы по крайней мере их собственные потомки попали в такой же переплет.
— Но… О Боже! — воскликнул Стейн. — Сколько иммигрантов, ты сказал? Пять тысяч? Что ж, я согласен, что через сорок лет, то есть к тому сроку, когда они сюда прибудут, это будет все еще существенное добавление к численности населения. Однако они все равно будут меньшинством. И как бы они ни плодились, они не смогут поднять свой уровень рождаемости до такой степени, чтобы перестать быть меньшинством.
— Смогут, — ответил Коффин. — Без земли — по причинам, о которых я тебе говорил, — они станут ядром, вокруг которого быстро возникнет новый класс людей, который у нас только что стал зарождаться.
— Какой класс?
— Пролетариат.
— Это еще что за штука?
— Не всем в Верхней Америке удалось стать независимыми фермерами, техническими экспертами или предпринимателями. Есть и такие, вполне достойные люди, которые не имели каких-либо талантов и стали поденщиками, клерками, слугами, обслугой всякого рода и так далее. Это те, которым удалось получить работу, но перспектив на карьеру у них никаких. Это те, чьи рабочие места съела автоматизация, когда наниматели стали пользоваться машинами, а рабочим пришлось либо соглашаться на еще более низкую плату, либо опускаться на дно социальной пирамиды.
— Ну так что же с ними такое? — спросил Стейн.
— Я вижу, ты не следил за событиями в Верхней Америке в последние годы. А я следил. Заметь, я не смотрю свысока на людей, о которых говорю. В своем большинстве это достойные, совестливые человеческие существа. И в ранние дни колонии они сыграли очень важную роль.
Но дело в том, что былые времена давно прошли. Пограничье в Верхней Америке исчезло. У нас-то вся планета — наше Пограничье, но свободные земли находятся в Низинах, и никакой пользы от них мужчины и женщины, которые не могут дышать здесь без того, чтобы заболеть, ожидать не могут.
Анкер пока еще не имеет настоящего городского пролетариата, да и его сельское окружение тоже не обзавелось настоящим сельским. Однако тенденция уже существует. И она становится все заметней по мере роста числа машин и исчезновения хронической нехватки рабочих рук, которая у нас раньше всегда была..
Если ничего не будет сделано, Рустам повторит печальную историю Терры. Обнищавшие народные массы. Концентрация власти и богатства. Рост идей коллективизма. Еще позже — демагоги, проповедующие революцию, и аплодисменты многих зажиточных людей, тоже потерявших свои корни в этом распадающемся обществе. Восстания, которые неизбежно ведут к тирании. То есть то, от чего надеялись избавиться переселенцы на Рустам.
Стейн нахмурился:
— Не преувеличиваешь ли ты?
— Для Низин это, конечно, преувеличение, — согласился Коффин.
— Такую огромную территорию быстро не придушишь. А вот с Верхней Америкой дела обстоят совсем иначе.
— И что же они хотят сделать, чтобы помочь этим… этому пролетариату?
Коффин улыбнулся, но улыбку его трудно было назвать веселой.
— Хороший вопрос. Особенно учитывая, что вся идея Конституционного Конвента заключается в том, чтобы охранить личные права граждан и закрыть все дырки, через которые лезли те, которые на них посягали. Ограничить деятельность правительства только поддержанием порядка и охраной среды обитания, ибо, благодарение Богу, нам еще нет надобности беспокоиться о врагах внешних. — Потом сурово добавил: — Впрочем, мы еще можем породить внутренних. Поляризация — процесс, присущий обществу. А случаи возникновения гражданских войн в истории — не новость.
— С одной стороны, ты, значит, не хочешь, чтобы правительство командовало у нас всем. С другой — не осмеливаешься пустить все на самотек, — констатировал Стейн. — Что же ты тогда предлагаешь?
— Полного решения этой проблемы никто предложить не может, — ответил Коффин. — Кроме того, нам хочется избежать ориентации на какую-либо идеологию, не считая одной — сохранения свободы. Однако… возможна официальная политика, которая будет поощрять органичное развитие. Например, ради общего блага правительство может принимать меры, обязывающие нанимателей обращаться со своими служащими как с человеческими существами — с индивидуальностями, — а не просто как с легко заменяемыми машинами или с организованными безликими массами. Могут быть созданы условия, поддерживающие развитие мелких, а не крупных предприятий. Кстати, здесь может оказаться полезным курс на твердую валюту, если при этом будет учитываться необходимость оказания помощи тем, кому не повезло. С другой стороны, в рамках задачи охраны среды обитания могут быть выработаны соглашения, которые помогут так размещать экономическую деятельность, чтобы у всех граждан был шанс преуспеть, вне зависимости от того, где они проживают. Конечно, это будут добровольные соглашения, но за ними должна стоять идея выгоды. Правда, такая политика должна вырабатываться с учетом советов ученых, которые видят дальше и больше, нежели одну чистую прибыль.
Коффин вздохнул.
— Все это примеры, так сказать, сиюминутных решений, — сказал он. — Мы не можем предписывать поведение будущим поколениям. Все, что мы можем, — это обрисовать определенные дилеммы — нынешние и будущие, — выдвинуть некие идеи и внушить тем, кто придет нам на смену, с чем им придется встретиться в будущем и что будет лучше, если они к их решению начнут готовиться загодя.
Стейн ехал в глубокой задумчивости. Пел ветер, шептались листья. Из лесу выбежало стадо серозеров и помчалось через поляну грациозными прыжками. Наконец он сказал:
— Думаю, я понимаю, к чему ты клонишь, Дэниел. Через сорок или пятьдесят лет проблема пролетариата, таким образом, все еще будет в зародыше. Только немногие люди, в худшем случае, будут находиться в положении тех, кто лишился своих корней. Экономика будет развиваться, рабочих мест окажется много, образуется избыток средств, который можно будет использовать для помощи тем, кто живет вдали от города, чтобы помочь им встать на ноги. Ничего такого, с чем нельзя справиться, если есть разум и добрая воля.
За исключением того, что произойдет, когда Терра швырнет в нас своими пятью тысячами поселенцев.
Коффин кивнул:
— Да.
— У которых не будет возможности стать независимыми фермерами, которым придется адаптироваться к более высокой силе тяжести, к более длинному дню и более короткому году и к массе других особенностей, прежде чем они смогут работать. Да и тогда, видимо, они не будут обладать теми навыками, на которые есть спрос, учитывая, что даже самые простые вещи здесь делаются иначе, чем на Терре. Вместо редких индивидуумов, которым надо время от времени чем-то помочь, Верхняя Америка получит мгновенно возникший пролетариат.
— К чему она будет совершенно не подготовлена, Джордж, ибо не имеет опыта в обращении с этим явлением. Черт, я тоже не представляю, как с ним надо обращаться, и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь в этом многоопытном Анкере знал об этом больше меня.
— Все это вряд ли коснется Низин.
— Еще как коснется-то, если мы хотим удержать планету единой. — Коффин помолчал. — Или свободной. Принцип нетолкания локтями еще не гарантирует свободу. Кое-какие самые жестокие империи в истории Земли имели огромные пустынные пространства в своем распоряжении.
Он выпрямился в седле, хотя и начал уже уставать от верховой езды. Раньше он не счел бы такую поездку долгой.
— Вот почему я и объезжаю округу, разговариваю с влиятельными и почтенными людьми вроде тебя, — сказал он. — Мне нужна поддержка этой общины, потому что я собираюсь внести самое, черт бы его побрал, радикальное предложение, когда Конвент соберется снова.
Прежде чем ответить, Стейн некоторое время молча всматривался в лицо своего друга.
— Я могу соглашаться с тобой или не соглашаться, Дэниел. Откровенно говоря, моя страна, страна, которую я люблю, она здесь, а вовсе не в Верхней Америке. Но я, разумеется, выслушаю тебя.
А если понадобится, подумал Коффин, то у меня найдутся и кое-какие резервы, чтобы надавить на тебя. И он начал говорить.
Дом де Смета, где Коффин останавливался, когда гостил в Анкере, был расположен довольно далеко от центра, в районе, где большинство домов обладали большими участками и стояли в рощах или садах. Уличные фонари были редки, деревья тонули в легкой дымке. Так что тут почти ничто не мешало видеть небо, когда лидер Мунданса отправился на прогулку.
Зима на плато выдалась тихая и холодная. Мороз пощипывал лицо, тело с удовольствием ощущало приятное тепло от зимней одежды, при дыхании в носу тотчас образовывалась влага, а изо рта вырывались облачка пара. Там, где тротуары не были замощены, земля под ногами звенела. Повсюду лежал снег, поблескивал иней там, куда достигал взгляд, а дальше лежали тени и ночная тьма. Иногда из окон падал желтый свет ламп, который казался одновременно и мягким, и каким-то бесконечно слабым. Далеко на востоке пики Геркулесовых гор сияли своими глетчерами.
А над всем этим простиралось небо. В Низинах мало кто наблюдал подобное чудо, хотя всяких других чудес взамен этого там хватало. Звезды теснили темноту неба — искры морозного огня, далее расплавлявшиеся в Млечный Путь. Сегодня этот колоссальный поток сверкал, как сверкает море в часы свечения. Три планеты — сестры Рустама — горели бронзой, серебром и янтарем. Среди них быстро бежала пигмей Сухраб, тогда как Ракш, достигший половинной фазы, висел так низко на западе, что казался огромным. Он отбрасывал тени от деревьев, медленно проплывая над поверхностью Рустама.
Ева очень любила это зрелище.
Тропа вывела Дэна к Императорской реке и потянулась дальше вдоль берега. Реку накрепко сковывал ледяной покров. На противоположном берегу лежали под снегом поля и пастбища; они постепенно поднимались к холмам и лесным зарослям. Там в темноте дрожали редкие огоньки — это была одна из деревень, которые сейчас быстро возникали по всему плато.
Городские звуки казались Коффину совсем глухими в этом сильно разреженном воздухе, да и вообще он стал слышать хуже в последние годы. Поэтому для него встреча с конькобежцами была полной неожиданностью, пока он не обогнул изгиб реки, скрытый рощицей перистых дубов. Здесь дорога выходила на мост. Вокруг устоев моста и по всей ширине реки плавно скользили десятка два мальчишек и девчонок. Они свистели, сталкивались, обхватив друг друга за талии, катались цугом. Их крики и смех далеко разносились в морозном воздухе.
Коффин вышел на мост, чтобы полюбоваться катающимися. И обнаружил, что он не один. Юноша был высок и не только одет во все черное, но еще и его лицо выдавало африканское происхождение, благодаря чему он был почти невидим даже на небольшом расстоянии. Коньки, которые он снял, лежали на земле, отражая свет луны.
— Ох… привет, — сказал Коффин, приглядываясь к нему.
— Ой! — юноша круто повернулся к нему. — Мистер Коффин! Как вы поживаете, сэр?
Коффин узнал его. Алекс Бернс — сын соседа де Смета — умненький и хорошо воспитанный мальчик.
— Отдыхаешь?
— Не совсем так, сэр. — Алекс крепко сжал металлическое ограждение и отвернулся. — Просто захотелось подумать.
— В такую-то ночь? Боюсь, ты лишаешь себя большого удовольствия. Мне и самому захотелось прокатиться на коньках.
— Правда? Пожалуйста, сэр, возьмите мои!
— Спасибо, но в мои годы падение при рустамской силе тяжести может оказаться делом серьезным. А у меня еще впереди дел много.
— Да, сэр. Об этом все говорят. — Юноша снова повернулся к нему и вдруг спросил с каким-то отчаянием в голосе: — Мистер Коффин, можно мне поговорить с вами?
— Конечно. Хотя я и не уверен, что от такого старца, как я, ты услышишь что-то дельное. И все же я помню своих сыновей такими же, как ты — и как недавно еще это было… подумал Коффин.
— Эта новость… о космических кораблях, идущих от Сола… это правда? — Почему-то чисто детская интонация вопроса не казалась странной.
— Насколько нам известно. Двадцать световых лет расстояния делают наши коммуникации весьма ненадежными. За это время правительство Терры могло изменить свои планы. Они ведь резко свернули свои космические исследования после того, как наши предки улетели с Терры. Слишком дорого, если учесть непрерывно возрастающее давление на ресурсы со стороны увеличивающегося населения. Культура все дальше уходит от науки и техники в сторону мистицизма и всяких там пышных обрядов.
— Это нам и учителя говорят. Вот почему я и боюсь, что все это окажется просто ложной тревогой.
— Нет, я так не думаю. Видишь ли, организация отъезда конституционалистов на Рустам была уловкой, рассчитанной на то, чтобы от них избавиться. Но те, кто попал на корабли, вовсе не исчерпывали всех конституционалистов на Терре, не говоря уж о множестве других диссидентов. Как только мы стали посылать туда свои сообщения, наш пример, вероятно, послужил определенным психологическим толчком и породил у многих стремление последовать нашему примеру. Я подозреваю, что у правительства не было другого выбора, кроме решения снова запустить космические программы, во всяком случае хотя бы на несколько десятилетий, пока политический климат снова не стабилизируется. Они говорят, что ищут и другие пригодные для обитания планеты… Нет, я думаю, что этот флот с переселенцами действительно на подходе.
— Но почему наш народ против них?!
Боль, прозвучавшая в этом вопросе, удивила Коффина.
— Ну… хм… ну… кое-кто боится отрицательных последствий для нашего общества. Но далеко не все, Алекс. Уверяю тебя, средний понизовщик не имеет ничего против прибытия нескольких тысяч новых колонистов.
— Но зато средний горец…
— Никто ведь еще не проводил голосования. Я сам еще не уверен в том, какой может быть расклад голосов при голосовании по этому вопросу.
Алекс поднял руку и указал на небо. Созвездия, видимые с Рустама, не так уж сильно отличались от видимых с Терры. Во Вселенной двадцать световых лет — всего лишь один шаг спотыкающегося ребенка. Над Волопасом мигала крошечная светлая точка — Сол.
— Они могут долететь до нас, — сказал мальчик задумчиво. — Так почему же мы не можем долететь до них?
— У нас нет промышленности, способной строить космические корабли. И не будет еще несколько поколений или даже столетий.
— А пока мы будем обречены жить здесь! Всю жизнь! — Не слезы ли блеснули в свете луны на лице Алекса?
Теперь Коффин понял.
— А какой у тебя индекс выносливости на давление атмосферы? — спросил он мягко.
— Могу жить на высоте двух километров.
— Неплохо! На этом уровне лежат обширные территории. Ты можешь вести там жизнь, полную приключений.
— Да, сэр. Я тоже так считаю.
— Насколько я помню, ты хочешь стать ученым. Что ж, у нас там непочатый край работы для исследователя. А если захочешь, можешь спуститься и ниже, теперь у нас есть новые модели шлемов, они очень хороши.
— Это все не то. — Алекс проглотил какой-то комок и сжал кулаки, а потом быстро и нервно сказал: — Пожалуйста, сэр, не думайте, что я хнычу. Или что я… хм… задираю нос перед кем-нибудь. Но большинство понизовщиков, с которыми я встречался… нет, нет, вы — другой… большинство их мне… нет, мы не дрались, ничего такого не было, но у нас мало общих тем для разговора…
Коффин кивнул:
— Пограничье не рождает интеллектуалов, не так ли? Но ты должен знать, сынок, что все эти поисковики, лесорубы, фермеры, рыбаки, все они отнюдь не болваны. У них просто другие интересы в сравнении с хорошо обжитой Верхней Америкой. Кроме того, в хорошо организованных общинах, как, например, в Мундансе, и образ мышления, и внешний вид у понизовщиков уже не те.
Нет, они теперь стали всего лишь сквайрами, осознавшими пользу богатства, йоменами, все еще придерживающимися простонародных вкусов, не неженками, не закостенелыми ретроградами… И все же мы набрались самодовольства, стали приземленными… На моей плантации так не было, Ева такого не допустила бы. Она заставляла и меня, и детей отрываться от повседневности. В других местах, однако… Нет, думаю, Алекс нашел бы в округе Мунданса не много людей своего склада…
— Для тебя компромиссом могло бы быть вот что, — сказал он. — Ты мог бы проводить полевые исследования вместе с какими-нибудь грубоватыми местными проводниками, которые могут быть отличными спутниками — они и есть отличные ребята, если ты найдешь к ним правильный подход. А потом ты возвращался бы сюда обрабатывать свои материалы, сюда, где люди более культурны.
— Культура! — взвился Алекс. — Они думают, что культура заключается в том, чтобы слушать те же симфонии и читать те же книги, которые слушали и читали их прадеды!
— Это не совсем верно. У нас есть художники, писатели, композиторы, не говоря уж об ученых, чьи работы вполне оригинальны.
— А насколько они оригинальны? Наука у нас пользуется надежными и испытанными методиками, но она почти совсем не занимается фундаментальными исследованиями. Она дает копии старых моделей, повторяя их снова и снова.
А ведь он говорит правду, подумал Коффин.
Палец Алекса опять устремился к звездам.
— Если они были бы оригинальны, сэр, — кипел он, — то они не стремились бы оградить нас от всего этого. Нет, не хотели бы!
Коффин постарался насколько мог успокоить его.
Сомнительно, чтобы человечество когда-либо смогло отказаться от наследства той планеты, где оно зародилось. Человек может натренировать себя и привыкнуть к изменениям древнего ритма, порожденного вращением Терры, но не настолько, чтобы стать чисто дневным существом на Рустаме. В средних широтах, где лежит Анкер, в середине зимы ночь продолжается сорок два часа. По необходимости между двумя отрезками ночи по четырнадцать часов каждый внутреннее и внешнее освещение превращает город в скопление маленьких солнц, горящих в темноте.
Под этой отгораживающей небо крышей из городского света делегаты второй сессии Конституционного Конвента поднимались по лестнице Вулф-Холла. Их насчитывалось около пятидесяти — мужчин и женщин. Хотя все были одеты соответственно с важностью предстоящего события, но сами костюмы различались столь же сильно, как и возраст делегатов. (Дэниел Коффин был самым старым, а самым юным был молодой человек, который и брился-то не чаще раза в сутки. Был тут профессор — важный и тощий, одетый в форменный мундир и брюки, серые как его голова, но с великолепной академической мантией на плечах; был инженер, вернувшийся к древней моде и напяливший на себя длинную юбку; а там морской капитан в форменной фуражке и медных блестящих пуговицах, загорелый и косоглазый, важно стоял рядом с летчиком в голубом мундире. Владелец ранчо в Низинах — Норт Перенс — в других отношениях вполне нормальный человек, нарядился в костюм из кожи и в ожерелье из зубов каких-то хищников. Женщина-врач подчеркивала свой социальный статус безукоризненным покроем жакета… Среди них Коффин чувствовал себя золушкой.
И все же, думал он, они чуть-чуть переигрывают, уж слишком умышленно живописны.
Простые граждане толпились на улице у входа, разглядывая делегатов в настороженном молчании. Анкер уже привык к разного рода ассамблеям, но на этот раз все было иначе. На этот раз решалась проблема, которая отстояла от них на двадцать световых лет, но в то же время уже сейчас задевала каждого. Скоро они пойдут домой, чтобы следить за происходящим по телевизорам, а потом начнут спорить в домах, на полях, в магазинах, лабораториях, школах, лагерях, тавернах, и кто знает, какие страсти там могут разгореться.
Коффин задержался в вестибюле, чтобы сдать в гардероб пальто. Большинство же остальных пришли без верхней одежды, считая процесс раздевания и одевания нарушением торжественности собрания; они пришли сюда прямо из дома, храня чуть подмороженное достоинство. Кругом шли оживленные, но слегка приглушенные разговоры. В суставах левой руки Коффин вдруг ощутил легкую боль — следует подлечить свой артрит. Он постарался отвлечься от окружающей сутолоки, чтобы еще раз проверить план своих действий. Он должен получить свою взбучку пораньше, вряд ли у него теперь хватит сил, чтобы выдержать 10–12 часов непрерывных дебатов. Ладно, он и Доркас Хираяма уже заранее обсудили этот вопрос в частном порядке.
Само здание Холла неоднократно перестраивалось за эти годы, но зал заседаний остался таким же, каким был построен вначале. Его березовая стенная отделка и грубые балки тщательно охранялись как местная достопримечательность. На полу стояли кресла с откидными сиденьями. В дальнем конце зала находилась эстрада с красно-бело-синей обивкой. На задней стене было укреплено Знамя Свободы. Сама эстрада в течение жизни трех поколений слышала уйму речей ораторов, актерских представлений, выступлений оркестров и командирских голосов лихих распорядителей танцев.
На мгновение Коффину показалось, что никакой ассамблеи вообще нет. А есть что-то совсем другое, и он вместе с Мэри Локабер бегут, взявшись за руки, подобно конькобежцам, чтобы присоединиться к другим. А потом ему еще предстояло провожать ее домой под звездами и лунами…
Нет, это было раньше. А потом Мэри вышла замуж за Билла Сэндберга, а я женился на Еве Спейн. И это было счастьем для нас обоих, и мы соединились с Мэри в Элис и Дэвиде. Извини меня, Ева.
И ему показалось, что он услышал ее смешок и почувствовал, как она ерошит ему волосы.
А пока делегаты занимали свои места, и то там, то здесь возникали шорохи и приглушенные разговоры. Здесь скверно топят. Или просто моя старая кровь остывает. Но они еще увидят, что она может и закипеть, если потребуется.
Ударил молоток председателя. Интересно, из какой мглы веков пришел этот обычай? Может, от того пещерного патриарха, который грохнул своим каменным молотом по бревну? От этой мысли была какая-то сила, чувство, что ты еще не унесен потокбм времени, что ты не одинок. Неудивительно, что колонисты так тщательно соблюдают обычаи Терры, что они даже оживили кое-что из тех, которые там уже давно забыты. Вроде свободы, которую они привезли сюда с собой, чтобы спасти. А когда из этих обычаев ничего не получается в мире, совсем не приспособленном для землян, они изобретают свои собственные табу.
— От имени народа Рустама, ради которого мы собрались здесь, объявляю заседание открытым, — сказал ясный женский голос. Он звучал все время, пока шли всякие парламентские формальности, к которым никто особенно не прислушивался, даже те, к кому они непосредственно относились.
Наконец прозвучало:
— Как вам безусловно известно, нам прямо на колени обронили подарочек. — Коффин почувствовал, что уголок его рта дернулся в усмешке. Теперь Доркас начинает действовать в своем излюбленном стиле. Она наклонилась вперед, руки на пюпитре, рост маленький, а личного обаяния — вагон. — Впрочем, может, это и к лучшему, что все произошло сейчас, когда мы пишем Основной Закон планеты: нам напомнили, что мы во Вселенной не одни.
Во всяком случае, многие люди, включая и членов этого собрания, считают, что нам следует решить эту проблему, прежде чем мы приступим к нашей основной повестке дня. В силу прав, которыми я наделена, я образовала два комитета, чтобы изучить возможные последствия прибытия флота с переселенцами и дать надлежащие рекомендации. Это сэкономит нам время, леди и джентльмены. Общей дискуссии не будет. Идея в том, чтобы, получив изложенные с предельной ясностью различные точки зрения, затем разойтись, дабы продумать их хорошенько, а уж потом собраться вновь и обменяться мнением о различных деталях.
Не желает ли комитет О'Малли выступить первым?
Только один председатель комитета встал и присоединился к Доркас. Он, надо думать, подавил всех других членов, поскольку унаследовал все гены своего деда. Только Джек О'Малли управлял всеми с помощью юмора, вспомнил Коффин свои детские годы. И еще… я не скажу, что Моррис О'Малли сильно уступает ему, но заведующий лабораторией совсем не то, что изыскатель, который способен на пирушке отправить под стол всю свою банду, разбудить их в шесть часов и бодрый, как гончая, вести их на поиски новш чудес.
Докладчик шелестел страницами.:
— Миледи председатель, коллеги, может быть, будет лучше, если я кратко суммирую вам взгляды моего комитета на данную ситуацию, — сказал О'Малли и затем говорил так долго, что Хираяма уже начала барабанить ногтями по подлокотнику своего кресла.
— Итак, — голос О'Малли звучал победоносно, — вопрос, стоящий перед нами, имеет две части. Первая — разрешить ли пришельцам поселиться среди нас, и вторая: если нет, можно ли предотвратить их высадку?
Второй вопрос решается просто. Мы можем это сделать. Примем постулат, что флот уже летит к нам. Терон Свобода — глава отдела межзвездной связи — считает, что у нас есть неплохой шанс перехватить их мазерным лучом и вручить послание. Тогда они могут либо изменить курс, направившись к какой-нибудь другой звезде, либо, что более вероятно, вернуться в Солнечную систему.
Если всего этого не произойдет и корабли прибудут к Рустаму, мы — вернее, наши потомки — будем полностью контролировать ситуацию. Меньшинство нашего комитета предложило начать строительство ракет с атомными боеголовками, чтобы эта уверенность была подкреплена. Большинство же полагают эту меру излишней тратой сил. Учитывая потребности кораблей в топливе, можно с уверенностью предположить, что они прибудут сюда невооруженными. Они будут полностью зависеть от нас по части получения реактивной массы для того, чтобы добраться обратно до Терры. Ни в коем случае горстка обескураженных пришельцев не сможет навязать свою волю целой планете.
Он сделал паузу, чтобы выпить глоток воды.
— Хорошо. Тогда вернемся к проблеме, следует ли нам принять этих свалившихся к нам на голову непрошеных чужаков?
Они не являются для нас благом. Нам придется нянчиться с ними всю дорогу, пока они не адаптируются к Рустаму, поскольку мы, естественно, не можем позволить им страдать и умирать страшной смертью, какой умирали наши прадеды, которым не помогал никто. Далее, нам предстоит тратить на них дорогое для нас время, чтобы обучить их обычаям, техническим находкам и уловкам, которые были выработаны обитателями Рустама. И какую же награду мы получим в конце концов? Как рабочие они оставляют желать лучшего, поскольку будут весьма ограничены в своих возможностях. Может быть, это будут даже не рабочие, а просто паразиты. К этому вопросу я еще вернусь позднее.
Никаких моральных обязательств, которые требовали бы, чтоб мы их сюда допустили, у нас нет. Наш комитет сегодня тщательно проверил все записи переговоров между Рустамом и Террой. Некоторые наши послания, возможно, и подогрели энтузиазм землян. Но никогда ни одно наше правительство не посылало никаких приглашений и не давало никаких обещаний, возможно, потому, что мы не имели формально организованного правительства.
Если их завернут обратно, то никто, кроме вахтенных офицеров, даже не увидит Земли Обетованной. Человеческий груз будет находиться в состоянии замедленной жизнедеятельности до тех пор, пока их не разбудят на земной орбите, или, как можно предполагать, на орбите одной из новых планет. Если они будут разочарованы, что ж, каждому человеку в этой жизни приходится переносить разочарования.
У нас есть сила, чтобы изгнать их, и у нас есть право сделать это. Наш комитет считает, что это не просто право, это наш долг — изгнать их.
Коффин выслушал аргументацию против внезапного возникновения пролетариата. Он нисколько не удивился, что она почти идентична позиции, которую он обрисовал Джорджу Стейну и другим. О'Малли был по-своему образованный человек и хорошо знал историю. Коффин снова почувствовал на своем лице кривоватую улыбку. Имеешь право задрать нос, Дэниел, мой мальчик, а?
Зато он весь напрягся, когда О'Малли стал продолжать, так как теперь тот говорил не о социальных абстракциях, а о том, что касалось слушателей непосредственно и не могло оставить их равнодушными.
— Но еще более важно, леди и джентльмены и народ Рустама, несравненно более важно, то, о чем я буду говорить сейчас. Смеем ли мы вообще открывать двери банде иностранцев?
О'Малли сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность сказанного, а затем продолжил:
— Наш комитет вовсе не намерен чернить чье-либо человеческое достоинство, — говорил он. И Коффин подумал, что эти тщательно продуманные словосочетания, эти обертоны сочувствия и жалости принадлежат самому лучшему оратору из всех слышанных им. — Уверяю вас, мы вовсе не являемся сторонниками какой-либо жестокой и несправедливой доктрины расового неравенства. — Тут он сделал небольшой поклон в сторону Хираямы, потом такой же наклон головы в сторону Габриеля Бернса и наконец — всему залу и всей планете.
— Если мы и принадлежим в основном к кавказской расе и к ее североамериканскому типу, мы не только эта раса, и мы гордимся, что в нас течет кровь всего человечества.
Но… — Он поднял палец. — Было бы столь же абсурдно, а в дальнейшем и так же жестоко, притворяться, что культуры не различны в своей основе. И пусть нас не смутит жалкое блеяние, что, дескать, у них нет коренных различий в моральных ценностях. Свобода, которой мы пользуемся, выше, нежели деспотизм, царящий на Терре, а рационалистическое мышление, которое мы культивируем, куда человечнее, нежели тупое повиновение и слепая вера, которые победили там.
Народ Рустама, ты легко можешь представить себе, что те тысячи людей, которые сейчас направляются сюда, такие же, как и наши прадеды — может, другие по цвету кожи или по форме глазных век, но такие же во внутреннем смысле. Если бы это было так, мы могли бы надеяться, что не дадим им превратиться в пролей, как бы это ни было трудно.
Но подумайте! Терра не оставалась неизменной с тех пор, как наши Отцы-основатели предприняли свой тягостный исход сюда. Изучи известия, направленные нам оттуда, народ Рустама. Вы увидите, как социальная эволюция, по-видимому, стирает последние клочки американской… нет, западной цивилизации. Те ее клочки, которые мы поклялись сохранить и сделать основой нового и более прочного Дома Свободы!
Но теперешние эмигранты вовсе не ищут свободы. Эта концепция на Терре практически исчезла. По-видимому, они тоже диссиденты, но их идеалы вовсе не похожи на идеалы человека, требующего безусловного выполнения законов о правах личности. Чего они ищут, что толкнуло их на конфликт с правительством, нам неизвестно. Вполне возможно, что это какое-то ответвление неоконфуцианства, но с парадоксальным экстатическим элементом. Кто может предсказать? В условиях, когда между заданным вопросом и полученным ответом проходит более семидесяти лет, никакого взаимопонимания быть не может.
Одно ясно — они чужаки, иностранцы.
Так станем ли мы, мы, которые сами все еще живем в мире, полном смертельных неожиданностей, станем ли мы взваливать на свои плечи неподъемный груз не поддающихся ассимиляции чужаков?
О'Малли понизил голос, опустив его почти до шепота.
— И будет ли это добрым делом по отношению к ним самим? Я уже показал, что потенциально это класс неимущих. Теперь я скажу, что, поскольку они чужаки, поскольку у нас тут неизбежно возникнут преступления и столкновения, они станут жертвами ненависти и даже внесудебных расправ. Мы тут на Рустаме — тоже, знаете ли, не святые. У нас нет иммунитета к древним болезням ксенофобии, бессердечности, легализованным грабежам и жестокости толпы. Не будем же навлекать на наш дом те же самые незаживающие раны, от которых страдала матушка-Земля.
Не введи нас во искушение.
О'Малли сошел вниз в буре аплодисментов. Особенно бушевали городские члены Конвента, так что в их шуме потонули слова Хираямы, объявившей о получасовом перерыве.
Коффин со своей трубкой (хотя вкус табака имел какой-то странный привкус в морозном воздухе) стоял на балконе. Анкер светился и шумел внизу, занятый своими делами и своими надеждами. Его освещение мешало разглядеть и лед на реке, и далекие поля под снегом, и вершины гор, и звезды. Но стоит пройти лишь несколько километров, думал Коффин, и сразу окажешься наедине с тем, что лежит вне человека и вечно.
Конечно, я стою к этому ближе по времени, добавил его разум. И скоро я и вообще сольюсь с ним. Странное это было ощущение!
Чей-то голос вернул его к действительности.
— А, приветствую вас, Дэниел. Сбежали от толкучки?
Дэн увидел аскетичное лицо Морриса О'Малли, хорошо освещенное уличными фонарями и луной.
— Да, — ответил он, и ветер унес в ночь вылетевший у него изо рта пар дыхания. — Знаете, вы произнесли великолепную речь. Если сказать правду, она гораздо лучше, чем я мог предположить.
Его собеседник улыбнулся:
— Спасибо. Я ведь не Демосфен. Но когда излагаешь то, в чем убежден, это здорово помогает.
— Вы действительно во все это верите?
— Конечно. Я же ни за какой личной выгодой не гонюсь. Может, я и доживу до прибытия флота, но еще до того, как дела обострятся, я уже уютно устроюсь в своей могиле. Я беспокоюсь о своих внуках.
— И вы действительно верите, что на них обрушится столько горя из-за кучки добродушных азиатов, африканцев или еще кого-то? Это ведь большая планета, Моррис.
Тон О'Малли стал заметно холоднее:
— Она велика только для таких, как вы.
— Но так считал и ваш дед, несмотря на то что ему приходилось носить редукционный шлем — один из тех примитивных, что приводились в действие мышцами человека — каждый раз, как он спускался ниже трех километров.
— Он только помогал картировать Низины. Сам он там не жил.
Мы же прикованы к Верхней Америке… — Произнесенная им речь сделала менее удивительным жест этого сухаря, Когда он положил руку на плечо Коффина. — Дэниел, я знаю, что излишне упростил многое. Я знаю, что проблема куда тоньше и сложнее, что она содержит в себе много возможностей и ответвлений. Это и страшит меня больше всего.
— Ваш дед никогда бы не позволил чему-либо напугать себя, во всяком случае надолго, насколько мне известно.
— Тогда была другая жизнь. Простая проблема выживания.
— Мне кажется, что в своей основе все проблемы имеют много общего. Все держится на одних и тех же принципах. И для вашего сведения скажу, что выживание далеко не всегда просто и сводится к вопросу: или — или.
О'Малли некоторое время молчал, а затем тихо произнес:
— Мне сказали, что после перерыва будете говорить вы.
Коффин наклонил голову:
— Моя речь будет куда менее красноречивой и гораздо более короткой, чем ваша, Моррис.
Как много знакомых лиц! Вон сидит мать Лео Свободы, вот сын Мэри Сэндберг, вот частый компаньон Дэна по покеру Рэй Гонзалес, вот молодой Трегеннис, который работал с ним до того, как отправился искать счастья на Западных островах, вот сидит его собственный сын и сын Евы Чарли, которого воспитали Том и Джейн де Смет, потому что тот не мог жить в Низинах. У него уже много седины в волосах.
…Рустам все еще тайна и необъятность до сего дня, а человечество Рустама еще немногочисленно, но связано прочными узами и в том числе — любовью.
— Это не совсем доклад, знаете ли, — начал Коффин. — Я представляю район озера Танцующей Луны, и так как мы достигли чего-то вроде единства мнений, то я попросил председателя разрешить мне изложить наш взгляд на проблему.
В горле першило. Подобно своему оппоненту, он выпил воды. Он хорошо знал эту воду, ее слабый железистый привкус вернул его память к тому ручью вблизи фермы у Расщелины, когда он был ребенком. Как много того, что он знал давным-давно, все еще удерживается его памятью…
— Я постараюсь быть кратким, — продолжал он, — поскольку мой уважаемый коллега доктор О'Малли тщательно проанализировал основные аспекты проблемы, оставив мне лишь отдельные частности. Замечу, что философия и теория — вещи чрезвычайно важные. Без них мы в лучшем случае блуждаем вслепую, а в худшем — превращаемся в скотов. Но они не должны замыкаться сами на себя, иначе рискуют превратиться в разновидность салонных игр. Они обязаны вести нас к действию. Жизнь зависит от того, что мы делаем или не делаем.
Примем мы или не примем изгоев с Земли в наши рады? Я считаю, что на этот вопрос мы должны дать быстрый ответ, исходящий из практических соображений, а затем поскорее вернуться к нашим текущим делам.
Он видел, что завоевал их внимание. Он уже не был просто старикашкой, которого пустили побалабонить из уважения к тому, каким он был раньше. Внезапно он ухватил за хвост реальность, и сделал это на глазах у всех.
— Что касается проблем, которые возникнут для Верхней Америки, если мы допустим туда чужестранцев, — продолжал он, пользуясь преимуществом, которое давало ему отсутствие показного красноречия, благодаря чему он мог воздействовать на их чувства тоном беспристрастной доверительности, — то многие из вас, видимо, приняли на веру постулат, что Верхней Америке придется решать их в одиночестве. Какое нам — по-низовщикам — дело до всего этого! Если это так, то я сочувствую горцам, которые хотят использовать свое превосходство в численности, — а оно, вероятно, сохранится и к моменту прибытия кораблей, — чтобы запретить высадку пассажиров на планету.
Ну что ж, я пришел сюда, чтобы сказать вам, что община Мунданс и ее окрестности, вплоть до долины Сайруса, озабочена сложившейся ситуацией и собирается оказать вам помощь. — Он услышал, как пятьдесят пар легких одновременно испустили вздох облегчения. Несомненно, то же самое произошло сейчас на всей планете. Коффин усмехнулся про себя. Половина его усилий ушла на то, чтобы удержать шило в мешке и не выдать свой секрет, дабы иметь возможность сегодня произвести наибольший эффект.
А вторая половина ушла на споры, умасливание, всяческие махинации и даже на замаскированные взятки для того, чтобы получить их поддержку, которая ему так нужна.
— Я уверен, что родственные нам общины понизовщйков последуют нашему примеру, — продолжал он, делая реверанс ради достижения общего согласия. — Народ Пограничья всегда отличался прагматизмом. У нас есть идеалы, но первая мысль всегда обращена к вопросу — какие ресурсы необходимо задействовать, чтобы заставить эти идеалы работать.
В данном случае практическая сторона проблемы состоит в том, что Верхняя Америка считает трудным, а может, даже невозможным с экономической и социальной точек зрения: принять пять тысяч человек экзотического происхождения, которые не могут расселиться по всей планете и абсорбироваться, а должны остаться там, где они способны дышать.
Коффин достал трубку и кисет с табаком. На самом деле ему не хотелось курить, да еще так скоро после последней выкуренной трубки, но такой домашний жест, как набивание трубки, должен был сделать решение проблемы более простым, свести ее в плоскость более спокойную и менее взвинченную.
— Ну, стало быть, всему этому надо найти решение, — в растяжечку продолжал он. — Что касается цены, то Мунданс готов солидную часть затрат покрыть своими деньгами, материалами, трудом и всем, что понадобится. Я повторяю, что уверен — другие общины понизовщиков присоединятся к нам. При таком раскладе издержки лягут на всю планету и не будут обременительными для кого-либо.
И знаете, это было бы неплохим прецедентом, символом и функцией нашего единства. Доктор О'Малли великолепный оппонент, но дело в том, что среди нашего народа есть фундаментальные различия не только социального плана, а генетические, фактически расовые. Некоторые из нас могут жить внизу, а другие — нет. И нам необходимо найти как можно больше простых человеческих связей, чтобы преодолеть это обстоятельство. Вы согласны со мной?
Немного помолчав, он продолжал:
— Поглядите — шлемы для дыхания безмерно улучшились с тех пор, когда я был еще юнцом. Да что там, когда я был ребенком, их не было вовсе. А кто сказал, что мы должны на этом остановиться? Кто сказал, что мы не сумеем изобрести нечто лучшее, что-нибудь вроде биохимических препаратов, которые позволят любому мужчине, женщине и ребенку жить на Рустаме там, где они захотят?.
Среди делегатов ассамблеи послышался шум, возгласы, но Коффин продолжал, не обращая внимания на голоса:
— Мунданс предлагает совместный исследовательский проект, который и сам по себе уже будет фактором укрепления единства. Проект по изысканию средств преодоления Того недостатка, от которого страдают наши дети. Я знаю, об этом мечтают давно. Частично причиной, по которым эти мечты не осуществились, является то, что тут необходима координация усилий обеих групп нашего народа, а мы — понизовщики — не имели серьезных мотиваций для такого рода работ, особенно учитывая, как много нам еще остается сделать. Сегодня мы принуждены от мечтаний перейти к реальным делам.
Если мы сумеем успешно решить это, проблемы, связанные с приездом иммигрантов, станут просто тривиальными. Далее, если мы примем политику открытых дверей, тогда знание, что флот приближается к нашей планете, станет важнейшим стимулом для решения чисто научной проблемы первостепенной важности!
Он выпил еще стакан воды и очень тихо и мягко произнес:
— Конечно, без политики открытых дверей у понизовщиков не будет оснований помогать в этом проекте или нести расходы, если проект окончится неудачей. Если вы решите забить двери наглухо, тогда можете проваливать ко всем чертям. Оставайтесь в изоляции, которая вам по душе.
Возмущенные крики. Доркас Хираяма стучит молотком. Чей-то голос из зала вопит:
— Да зачем тебе нужна эта банда вшивых долбаных иностранцев?
Коффин закурил трубку.
— Я как раз собираюсь перейти к этому вопросу, — сказал он, — как бы грубо он ни был сформулирован.
Сумеем мы или не сумеем решить проблему атмосферного барьера, мы не можем ожидать, что процесс ассимиляции пройдет быстро и легко. В некотором смысле, вполне возможно, полной ассимиляции вообще не будет. Вряд ли они или их дети будут идентичны нам. Кроме препятствий, вытекающих из того, что они не знакомы с Рустамом, они ведь летят сюда для того, чтобы сохранить свой образ жизни, а не расплавить его в общем плавильном котле.
Как я уже говорил, мне представляется, что жертвы со стороны горцев и понизовщиков, как бы там ни было, не способны полностью предотвратить появление пролетариата. Что ж, мы как-нибудь перетерпим это и постараемся провести определенные социальные и экономические меры, чтобы обеспечить людей работой. Но что касается второго аспекта, о котором говорил доктор О'Малли, — вопроса об интродукции чуждой нам философии и характера мышления, которые так несходны с нашими…
Он отложил трубку, набрал в легкие побольше воздуха и заорал на весь зал, так что эхо, отброшенное стенами, дошло даже до его глохнущих ушей.
— Черт вас всех побери, так это же именно то, в чем мы нуждаемся!
А потом сказал мягко и доверительно еще не опомнившемуся от шока залу:
— Несколько часов назад я стоял на Северном мосту и разговаривал с одним из недоумевающих и даже рассерженных ребят. Он никак не мог понять, почему старшее поколение хочет отрезать его от звезд. И мы с ним закончили разговор тем, что обсудили пути и средства, с помощью которых Рустам мог бы получить такой корабль, когда они сюда прилетят.
Из этого вряд ли что-то выйдет, конечно. Но важно то, что новость о прилете кораблей заставила его понять, как он задыха-' ется в том болоте, в которое мы постепенно превращаемся. О да, у нас еще много больших дел. Но кто будет их осуществлять? Люди, такие же, как и мы! Если так, что же останется грядущим поколениям? Сидеть на заднице и восхищаться достижениями предков?
Я скажу вам, что случится тогда. Нам придется дорого платить за собственную глупость.
Я слышал, как многие бьют тревогу по поводу внезапного появления пролетариата — безродного, обнищавшего пролетариата, у которого нет никаких целей, который не заинтересован в поддержке существования того общества, которое его породило. Леди и джентльмены, а рассматривали ли вы опасность появления пролетариата души?
Так пусть приходят иностранцы! Давайте с радостью приветствовать неожиданные прозрения, странные обычаи, удивительные мысли и чувства. Они не всегда будут нам приятны… чаще всего мы захотим их отвергнуть. Что ж, испытаем их на прочность. Это заставит нас пристальней приглядеться к фундаменту наших собственных верований. И если есть хоть что-то в идее Свободы и ценностей индивидуализма, которые, как считается, мы защищаем, то от вызова, брошенного нам, мы только обогатимся. Но вы же знаете — подобные вещи работают с отдачей. Они ведь тоже будут учиться у нас. Рука об руку прежние и новые обитатели Рустама будут работать и думать, как достичь того, чего по отдельности им и не мечталось достигнуть.
Коффин перевел дыхание. У него слегка кружилась голова от такой длинной речи. На коже проступил пот, а колени дрожали. Хриплым голосом он закончил:
— Как многим из вас известно, поскольку я люблю прихвастнуть, у меня есть парочка правнуков. Я не хочу отрывать их от космоса, так же как тот мальчуган, о котором я говорил, не хочет, чтобы его отгородили.
Нет, они заслуживают лучшей судьбы!
Прошли лунники, дебаты завершились, трудная торговля между представителями разных взглядов кончилась, резолюции внесены и приняты, заявление, что Рустам примет и поможет сынам Земли, принято…
Дэниел Коффин сидел один в своей комнате в доме де Смета. Флюор он выключил. Лунный свет струился в открытое окно, прохладный, как и сам воздух. Снаружи в комнату вливалась упругая тишина зимней ночи, которую не мог нарушить даже рев реки, хотя на льду уже появились трещины, вызванные первым дыханием приближающейся весны.
Прохлада дохнула на портрет Евы, стоявший на столе. Коффин взял его в руки. Руки дрожали. Дэн очень устал. Хорошо бы лечь и отдохнуть хорошенько.
— Любимая, — шепнул он. — Как бы я хотел, чтобы ты это видела. — Он покачал головой и всей пятерней расчесал волосы. — А может, это сделала ты? Не знаю.
— Видишь, — сказал он, обращаясь к ее памяти. — Я сделал то, что сделал, только потому, что ты тоже захотела бы этого. Только поэтому.
Примечания
1
Здесь и далее стихи в переводе А. Глебовской.
(обратно)2
Л. Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье». Пер. Н. Демуровой. (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)3
Что и требовалось доказать (лат.).
(обратно)4
В. Шекспир. «Гамлет», пер. Б. Пастернака.
(обратно)5
Последний, решительный аргумент (лат.).
(обратно)6
Исход, 3, 14.
(обратно)7
Послание апостола Павла к Евреям, 2, 6.
(обратно)8
Джонатан Эдвардс (1703–1758) — американский священник, теолог и философ.
(обратно)9
«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Евангелие от Иоанна, 3, 5–7).
(обратно)10
«Сын мой, сын мой, Авессалом! о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (Вторая книга Царств, 18, 33). Так оплакивал непокорного, но любимого сына библейский царь Давид.
(обратно)11
Остров в составе Филиппинского архипелага, площадь 94,6 тыс. км2(Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)12
Имя Джек в английском языке имеет еще значение «ловкач».
(обратно)13
Закон Мерфи гласит: все, что может испортиться, испортится. (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)14
Скрудж — скряга, герой повести Диккенса «Рождественская песнь в прозе».
(обратно)15
Одно за другое (лат.).
(обратно)16
Гомстеды — участки определенного размера, — раздававшиеся в США почти бесплатно каждому желающему и, при условии соблюдения им некоторых правил, переходившие в его собственность. Закон о гомстедах был принят в 1862 году.
(обратно)17
«Письма федералиста» — сборник из 85 эссе, написанных в защиту американской Конституции 1787 года. Авторами статей были А. Гамильтон, Дж. Мэдисон и Д. Джей. Считается классикой политической философии.
(обратно)
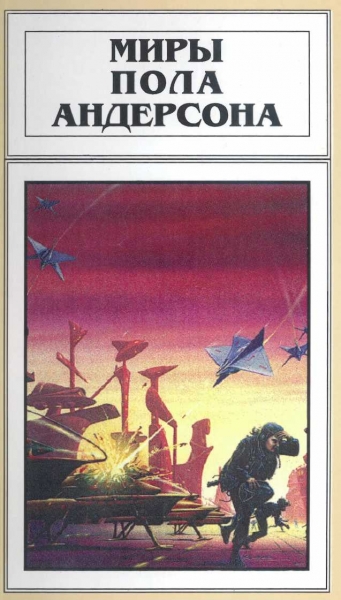



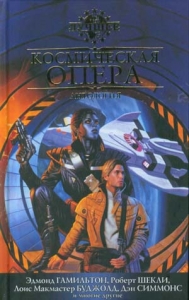

Комментарии к книге «Миры Пола Андерсона. Том 19», Пол Андерсон
Всего 0 комментариев