Черные вороны-воры играли над нами.
Каркали. День погасал.
Темными снами
Призрак наполнил мне бледный бокал.
И, обратившись лицом к погасающим зорям,
Пил я, закрывши глаза,
Видя сквозь бледные веки — дороги
С идущим и едущим сгорбленным горем.
Вороны вдруг прошумели как туча, -
И вмиг разразилась гроза.
Словно внезапно раскрылись обрывы.
Выстрели, крики, и вопли, и взрывы.
Где вы, друзья?
Странный бокал от себя оторвать не могу я,
И сказка моя
Держит меня, побледневшего, здесь —
Заалевшими снами-цепями.
Мысли болят. Я, как призрак, застыл.
Двинуться, крикнуть — нет воли, нет сил.
Каркают вороны, каркают черные, каркают
Злые над нами.
К. Бальмонт
Ассоциация управления и развития,
Земля, Антарктический регион,
А 18/ 03 62
Индекс О/Т: КЦ 946239
Связь: СКЦ — 76
Координатору второй категории
Кристине Михайловой.
Вам надлежит немедленно прибыть на планету Алатороа, восьмой галактический сектор, Љ 62, земная колония Старого Времени. Ситуация А15, неподтвержденная агрессия со стороны местного населения. (см. рапорт-доклад Љ 011/99)
Ассоциация управления и развития
Рапорт-доклад Љ 011/99
Дата:
Автор: Т. Кун, капитан звездолета «Весна»
Тема 099: колония на Алатороа
Содержание: неподтвержденная агрессия
со стороны местного населения
Два дня назад датчики звездолета «Весна» зафиксировали всплеск агрессивности в квадратах Љ 66 ("Серые горы") и Љ 602 ("Альверден"). Величина агрессивности нарастала в течение двух суток. Утром этого дня экипаж звездолета «Снег», находившегося в городе Альвердене, испытал внешнее психическое воздействие, вызвавшее гибель трех членов экипажа. Через два часа звездолет «Снег» послал сигнал бедствия, после чего на связь не выходил. Величина агрессивности в кв. Љ 66 и 602 продолжала нарастать, в силу чего было принято решение нанести удар из ПСМ по указанным районам.
Ассоциация управления и развития
Дата:
Автор: К. Михайлова,
координатор второй категории
Звездолет «Эстерия», 345,
56 часов стандартного времени
Докладная записка Љ 48
В дополнение к докладным запискам Љ 45, 46, 47 повторяю, что считаю нецелесообразным мое назначение на планету Алатороа. Я считаю, что в данном случае может быть применен закон Љ АО56789359/ТО (запрет работать на родной планете). Хотя Алатороа не является действительно моей родной планетой, это была первая увиденная мной планета вообще. Я провела на ней чуть больше стандартного года и очень привязана к своим воспоминаниям об этой планете. Я считаю, что моя эмоциональная связь с этой планетой не позволит мне работать достаточно эффективно и, возможно, послужит причиной ошибочных действий и решений. Я считаю, что моя деятельность на Алатороа может в дальнейшем быть расценена как непрофессиональная, потому довожу свой протест до сведения экспертов, которые будут оценивать мой дневник-отчет.
1. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день первый.
…я здесь уже два часа. Не знаю, смогу ли я описать свои чувства, потому что чувствую я себя странно. Мне здесь, вот именно, — странно. Словно в доме с привидениями. Странно и страшно мне. Я всегда мечтала вернуться на Алатороа, это правда, но когда передо мной встала эта задача: вернуться, действительно вернуться сюда, да еще и улаживать какой-то конфликт, — я почувствовала настоящий ужас. Жизнь человеческая не должна ходить по кругу. Да и потом, я прожила, конечно, на Алатороа совсем недолго и была слишком мала для того, чтобы сохранить об этой планете ясные и отчетливые воспоминания, но эта планета всегда была для меня образцом чудесного, сказкой в реальности. И теперь я боюсь, что эта планета окажется совсем не такой, какой она сохранилась в моей памяти. Я боюсь, что теперь, когда я увижу ее глазами взрослой женщины, самая чудесная, самая дивная сказка моего детства превратиться в постылую действительность. Я боюсь увидеть, что эта земля лишена того волшебства, которым ее наделила моя память.
Я действительно испытываю самый настоящий страх. Не знаю, было ли что-то за последние годы, чего я боялась бы так же сильно. И, в сущности, страх этот так беспредметен. Я не знаю, чего я боюсь, знаю только, что боюсь. Меня доставили на поверхность планеты десантным катером, и когда я стояла перед люком, ожидая, когда он откроется, во мне по-настоящему рос страх. В переходнике было темно, и сердце у меня немного болело. Это был не тот страх, который испытываешь, когда неуверен в себе, в своих силах; такое бывает иногда, хоть я уже далеко не начинающий координатор. Так боятся за больного родственника: с тревогой вглядываешься в него, нет ли изменений к худшему, — так можно боятся за дом, в котором родился и вырос: старый дом, кровлю надо менять, и жучок завелся, а ведь эти стены тебе дороже всего на свете, кажется, мир рухнет, если что-то измениться в этих стенах. Я не знала, что увижу, когда люк откроется. Как это ни смешно, я просто не знала, что я увижу: Алатороа или незнакомую планету, в которой я тщетно буду искать знакомые черты и обманываться, увидев мнимое сходство. Я просто стояла и смотрела на рифленую поверхность люка, еле различимую в темноте; впервые я заметила, что поверхность эта не гладкая, а похожая на плитку шоколада: ровные прямоугольнички с косыми срезами. Я стояла, а сердце мое ныло, и ладони были мокрыми и холодными как лед.
Люк открылся, и в глаза мне ударил солнечный свет. Ветер нес запахи травы и пыли. После космических перелетов многообразие запахов всегда потрясает, в первое мгновение кажется, что различаешь, как пахнет все вокруг, каждая травинка, каждое облако, каждое дуновение ветра. А потом это ощущение куда-то уходит — когда притерпишься.
На многие километры вокруг была степь, безбрежное море трав и ветра. Я вышла на трап и на миг остановилась, оглядываясь вокруг и придерживая волосы рукой, а другой заслоняя глаза от солнца. Сумка стояла у моих ног, словно раскормленный пес. День был не слишком солнечный, но мне и этого хватало; все-таки естественный свет совсем не то же, что искусственный. Немного смешной восторг испытала я, выйдя на это огромное пространство. После нескольких недель в замкнутом помещении космического корабля всегда испытываешь чувство освобождения, выходя под небо, а здесь окружающий меня мир был так беспределен, на многие и многие километры были лишь травы и небо, и это огромное пустое пространство манило так, что хотелось раскинуть руки и полететь, так было хорошо.
Все это нахлынуло разом и отпустило. Весь здешний космодром представлял из себя огромное бетонное поле. Он казался слишком большим для четырех звездолетов, одиноко возвышавшихся посредине. Это были исследовательские звездолеты класса «стрела», три эмалево-белые, совершенно не отражающие солнечные лучи, эти были явно с матушки-Земли, а четвертый — тонкий, синевато-серый, вызвавший у меня приступ легкой ностальгии, был с Веги. Не думаю, что здесь когда-нибудь присутствует большее число звездолетов, и четыре для этой планеты слишком много. Слева от меня было невысокое двухэтажное здание космопорта с зеркальными окнами во весь второй этаж. Здание опоясывал узкий черный балкон. В синеватых зеркальных окнах отражалось небо с перистыми облаками и тонкие стрелы звездолетов. В этом здании, как я поняла, располагалась миссия землян на Алатороа, здание было типичное, но не новое, такие строили довольно давно, когда я еще училась в школе. Звездолеты здесь стояли новые, никакого старья класса «болид», какие обычно можно встретить на планетах вроде Алатороа, расположенных далеко от обычных трасс, но здание космопорта явно строилось сразу после отлета экспедиции моего отца, ну, может, через год, через два, но не позже.
Торже начинался сразу за космопортом. Обычно космодромы располагают далеко от местных поселений, но здесь почему-то пренебрегли традицией. Впрочем, вряд ли здесь такое уж оживленное расписание прилетов и отлетов. Торже — это обычный степной городок из невысоких домов с палисадниками. Крыши были зеленые, изредка виднелись голубые и рыже-кирпичные; на другом конце города возвышалась башня ратуши, сложенная из темного камня, непонятно откуда взявшегося в степи. Из зелени преобладали крыши, палисадники были не слишком пышные; кое-где встречались невысокие кривые деревья с пыльными кронами. Город растекался по сухой земле — вправо, влево, вдаль; поверхность здесь была плоская, как стол. Вокруг космодрома до самого горизонта была степь — масса неярких, словно подсушенных трав. У самой кромки ничем не огороженного бетонного поля колыхались метелки ковылей. Стояла тишина, слышен был только шелест трав под ветром. Я была странно потрясена этим видом, хотя я не могла бы объяснить, чем вызвано было мое потрясение. Обычный летний день, не слишком солнечный. Над степью нависало белесое небо, и ветер метался между небом и землей, и степь переливалась под его порывами — как море, и откуда-то сбоку светило неяркое солнце. На миг мне сделалось почти плохо, но потрясение это было скорее радостное, чем горестное.
Я давно заметила, что знакомые места воспринимаются совсем иначе, чем совершенно незнакомые. На И-16 я работала три раза, и именно там это мне и пришло в голову. На незнакомый пейзаж можно смотреть совершенно равнодушно, даже так называемые красоты природы не воспринимаются по-настоящему, когда ты видишь этот пейзаж впервые. Но если ты уже бывал в этих местах, ходил по этой земле, знаешь что-то о ней, это совсем другое. Вот это я испытала, выйдя на трап. Я не видела этого космодрома, и Торже я почти не помню, но именно это чувство владело мной — то, что ты испытываешь, когда смотришь на места, до боли знакомые и до боли любимые. Это был странный довольно момент. Было слышно только, как ветер путается в траве. Все мои мысли, чувства, все во мне притихло. Я ничего не чувствовала, только что-то замирало у меня в груди. В детстве я испытывала нечто подобное, но это очень трудно описать словами…. Словно даль впереди светла, и впереди тебя ждут приключения. Это затаенное, тихое волнение рвала мне сердце, как в детстве, как тогда. Бесцельное, совершенно бессмысленное чувство, я никогда его не любила, но оно всегда преследовало меня — весь тот год, что я провела здесь, оно преследовало меня. Может быть, именно это было причиной моего потрясения. Я ожидала, я страшилась того, что найду иную планету, не такую, какой ее сохранила моя память, а оказалось, что ничего не изменилось. Я успела увидеть лишь степь и бетонное поле, но все это полно тайным смыслом. Ветер, травы, небо, этот городок за космодромом. Я почти подготовилась к разочарованию, но к этому я не была готова. Ничего не изменилось, и я не была к этому готова. Я забыла, что главное чудо было не в магии, не в событиях, а просто везде. Трава, ветер, небо. Чудо было все еще здесь.
Чудо все еще здесь. Моя сказка вернулась ко мне, и деться мне некуда.
Встречающие меня немного опоздали. Я спустилась по металлическим ребристым ступеням, держась одной рукой за поручень, в другой я несла свою сумку, и ступила на бетонное поле космодрома. Когда я отошла на несколько шагов, катер мягко взлетел; я даже не обернулась на этот характерный звук, похожий одновременно на шипение сотен кошек и на шум морского прибоя. Вообще-то, мне нравится, как взлетают и садятся десантные катера: что-то есть в их манере кошечье, мягкое и хищное. Словно это не летательный аппарат, а летающий зверь. Глайдеры, например, вовсе не такие обаятельные, может быть, поэтому я так толком и не научилась на них летать. То есть, управлять-то я ими могу, нас ведь, бедненьких, всему учат, но ни вкуса, ни изящества в этом нет.
Только когда катер взлетел, двери космопорта открылись, выпуская двоих мужчин. Они почти бегом направились ко мне. Один был заметно выше другого, светловолосый и крупный, он бежал немного неловко, согнув руки в локтях и прижимая их к туловищу. Крупные люди часто так бегают, особенно непривычные к бегу. Пробежав немного, они перешли на шаг. Я ждала их, стоя на месте, и ветер метался вокруг меня, словно надоедливый щенок, лохматил волосы, швырял в глаза мелкой степной пылью. Повесив сумку на плечо, я придержала волосы обеими руками, чтобы в глаза не лезли
Меня встречали Стэнли Барнс, руководитель миссии землян на Алатороа, и Торнберг Кун, капитан звездолета «Весна». Оба были подчеркнуто официальны, я сразу поняла, что меня прислали сюда вопреки не только моей, но и их воле. Торнберг Кун довольно невысокий сухощавый мужчина, смуглый и черноволосый. Одет он был в форменную рубашку с коротким рукавом и серые брюки. Я обычно легко схожусь с представителями исследователей, я ведь сама вышла из этой среды, но к этому человеку я сразу почувствовала неприязнь. Меня не оставляет мысль о том, что именно он отдал приказ стрелять из ПСМ. Нет, я не виню — его. С какой стати мне его винить в чем-то, у него, может быть, не было другого выхода, наверняка, не было. Но каждый раз, когда мой взгляд падает на этого, в общем-то, совершенно обычного и даже приятного человека, я осознаю заново, что Альвердена с его университетами, особняками из красного кирпича, ярмарками, библиотеками уже нет. И поселений в Серых горах тоже нет. А этот человек ходит рядом со мной, говорит со мной, и у него узкое темное лицо, и хрящеватый нос, небольшие глаза и густые брови, и в жестких, слегка кудрявящихся волосах уже проглядывает седина. От сознания этого можно сойти с ума.
Это, наверное, странно, но до знакомства с этими людьми я думала только о себе и Алатороа, только о себе и этой планете. Я совершенно не думала о том, что послужило причиной моего возвращения, почему-то не думала. И только когда я увидела этого человека, услышала его голос, пожала его руку, я осознала по-настоящему, что Альвердена больше нет, что Серых гор больше нет. И это осознание обрушилось на меня подобно груде кирпичей — реально, грубо и со страшной силой. Только теперь я поняла это — на самом деле, и это, именно это, убедило меня, как ни смешно это прозвучит, в реальности моего возвращения сюда. Я все как-то не могла сконцентрироваться на осознании этого простенького факта, мои мысли разбредались….
Руководитель миссии был гораздо больше похож на скандинава, чем капитан «Весны». Торнберг. С таким именем быть смуглым и черноволосым — это странно. Впрочем, он, наверное, веганец, лицо у него какое-то такое. Словно из моего школьного детства. Стэнли Барнс, напротив, очень высок, широкоплеч и страшно похож на викинга времен завоевания Англии, хоть и не столь дикого, такого осовремененного. Но я легко могла бы вообразить его на носу драккара с медвежьей шкурой на плечах. Сейчас он был в белой рубашке с коротким рукавом, на правом рукаве была вышитая золотом эмблема дипломатического отдела, и в черных брюках. Волосы у него были очень светлые, светлее кожи, и коротко стриженные. У него широкое, немного плоское лицо, почти незагорелое, с широко расставленными светлыми глазами и аккуратным носом. На вид ему лет тридцать, может, чуть больше, но не намного, я думаю. Почти ровесник, в общем. Он сразу мне понравился, в отличие от Куна, по контрасту, наверное, хотя и он, наверняка, приложил руку к тому, что здесь происходит. Рост агрессивности на пустом месте не возникает, и уж руководитель миссии должен был оказать влияние на происходящее.
После знакомства, пожатия рук и обмена ничего не значащими фразами мы пошли к зданию. Я шла как будто на автопилоте, почти не воспринимала окружающую меня действительность. Единственное — у меня мелькнула мысль, что никто из них не предложил мне помочь с сумкой, а сумка у меня все-таки не маленькая. Странно, обычно поначалу со мной бывают очень вежливы: молодая женщина все же. Потом-то они все смелеют и видят уже не меня, а только эмблему на моем рукаве.
До здания было не близко. Бетон почти не звучал под моими мягкими ботинками, шаги мужчин были слышны, а мои почти нет. Словно меня здесь и не было. Ветер метался вокруг, налетал то с одной, то с другой стороны, теплый пыльный ветер. Мне казалось, что я смотрю на все сквозь толщу воды: все вижу и слышу, но словно все это находится в другом мире. Именно так, наверное, чувствуют себя призраки. Небо было так низко, как бывает только на равнине. Иногда на равнине кажется, что от земли до неба можно буквально дотянуться рукой. Это ведь просто литературный штамп, что в горах небо близко, небо близко только на равнине, когда встречаются две бесконечности. В горах же всегда видно, как оно высоко; я целый год просидела в горах Вельда на И-16, изображала святую отшельницу, в отношениях гор и неба нет специалиста лучшего, чем я. Вообще, дурацкое это занятие: работа под прикрытием.
Ей-богу, я никак не могла собрать себя воедино. Мысли мои бродили в четыре этажа, а все мои ощущения в тот момент были: ветер, метавшийся вокруг, и бетонная поверхность под моими ногами.
— Вас по отчеству как, Тимофеевна? — спросил вдруг Барнс. Это вывело меня из состояния транса. Я перевела взгляд с моих ботинок на руководителя миссии, вяло удивляясь: что ему мое отчество, он ведь явно из англоязычной семьи, да и на галактисе тоже не принято…. Барнс верно истолковал мое удивление.
— У нас здесь много славян, я привык.
— Да, — сказала я, — Тимофеевна. Но это не обязательно, Кристины вполне достаточно. Я, в отличие от вас, — я слабо усмехнулась, — не привыкла. Я выросла на Веге, я и по-русски-то не говорю.
— А родились где, не на Земле?.. — Барнс, видно, решил, что нужно как-то загладить холодность приема и разговорился. Поглядывал он на меня довольно доброжелательно, с интересом, с таким, мужским интересом, но сумку все равно не предложил понести, — Я почему спрашиваю, — продолжал он, — Я подумал просто сначала, что вы с Земли, вы похожи на землянку. Но вы и не на Веге родились.
— А родилась я, — проговорила я, на миг вдруг взяв тот легкий тон, который обычно и является визитной карточкой координаторов, — А родилась я где-то здесь, так что я почти местная. Не на Алатороа, а в Восьмом секторе. А где точно, не скажу, — я развела руками, — поскольку, извините, корабль шел тогда на гиперскорости…. В космосе я родилась, в космосе, — прибавила я, увидев, какое лицо стало у Куна.
Он, и правда, неожиданно помрачнел, и взгляд его выразил еще большую неприязнь, чем до этого. У меня мелькнула мысль, что, по-видимому, этот человек не любит, когда кто-то начинает паясничать, а координаторам, это, в общем-то, свойственно, сама не знаю, почему. Хрящеватый нос Куна как-то странно подергался, словно он принюхивался к моим словам.
— Мои родители были исследователями, — сказала я примирительно, — Они умерли, хотя, может, еще и не умерли. Знаете, был такой проект, «Зеркало» назывался.
— А, — сказал Кун, поглядывая на меня более доброжелательно, — конечно, конечно. Про «Зеркало» я знаю, «Весна» тоже хотела участвовать, но увы….
Он так и сказал: не "я хотел", а «Весна» хотела". А я в тот момент со странной отчетливостью представила себя пульт управления и темный палец Куна, нажимающий кнопку подтверждения. На миг я закрыла глаза; видение это было так отчетливо, что я все равно не видела ничего перед собой, только сероватую поверхность генерального пульта и руку Куна, тянущуюся к кнопке. В этот миг мне просто захотелось убить его; может быть, я просто не пришла еще в себя после ослепительного безумства в горах Вельда, которое действительно закончилось убийством. На миг это состояние священной ярости действительно вернулось ко мне, то состояние, в котором я прожила почти год на И-16, планете, которую местные жители называют словом «спекв», а потом я очнулась и осознала заново, что я на Алатороа, на моей Алатороа, и что мне, как это ни странно, нужно работать. И, наверное, чтобы отвлечься от состояния священной ярости отшельников Вельда, которая почти овладела мной, я и задала этот дурацкий вопрос.
— После вашей… мм… акции волнения были? — спросила я у них обоих, запнувшись об слово «акция», я не сразу сообразила, как это можно назвать — уничтожение Альвердена и Серых гор.
— Нет, — спокойно отозвался Барнс.
Я кивнула и ничего не сказала. В те первые минуты моего прилета мое настроение менялось едва ли не каждую минуту, меня буквально бросало из одного состояния в другое. Когда Барнс сказал это свое «нет», на меня вдруг после беспричинной ярости напала грусть. Мне действительно казалось, что настроения на планете довольно мирные, а почему — я даже не знаю. Если рассуждать здраво, все должно бы быть наоборот. Да, вороны мертвы, да, маги Альвердена мертвы, мертвы все правители северного континента, но неужели все приняли это так просто? Ведь они мертвы, неужели никто из правителей не загорелся жаждой мести? У людей нет на этой планете правителя, у файнов тоже, но тороны, например? Неужели они все так же мирно живут в степи? Кто сейчас князь торонов? Если еще Тэй, неужели он так просто забыл бы смерть Царя-Ворона, неужели не стал бы мстить за побратима? Странно все это. И чувствовала я себя все еще странно. Словно это вовсе и не я, словно меня и вовсе здесь нет. Очень тихо было здесь, пахло травой и пылью, очень тихо здесь было.
— И что, все спокойно? — сказала я, — Все действительно спокойно?
— Да, — сказал Барнс, приостанавливаясь и поглядывая на меня, — Да, вы правы. Спокойно. И не спокойно. Ничего не заметно, но я уверен, что нам этого не простят. Хотя никто не показывает вида. Знаете, будто ничего и не произошло. Это меня и настораживает.
— Не знаю, — сказала я в ответ задумчиво, поправляя ремень сумки, — Вы ведь общаетесь только с людьми?
— Да.
— Людям, может, и все равно. Особенно здесь, в степных районах. Что им Альверден, здешние жители и не бывали там никогда. Слишком далеко. Новости из дальних краев обычно мало кого интересуют, свою бы голову уберечь. Альверден далеко, а вы близко, Стэнли, понимаете?
— Знаете, что странно? — сказал вдруг Кун, — Тот город…
— Да? — я вдруг без причины насторожилась. Это было такое странное чувство, нежность и настороженность вперемешку, ведь речь зашла об Альвердене, и я не помнила уже, что он уничтожен, я только помнила город, красные особняки и алые розы во дворах. Моя нежность…. Ведь это был, наверное, единственный город, который я любила, вообще-то я девочка наполовину космическая, наполовину деревенская; всю мою профессиональную жизнь я работала, в основном, в сельской местности, в городах никогда не работала и потому к ним не привыкла.
— Там…. Как бы вам это объяснить… — неуверенно говорил Кун.
— Как есть, — сказала я быстро, — Что с городом? Вы про Альверден говорите?
— Да. Про него. Город, знаете ли, стоит. Жители мертвы, а город стоит. Даже пожаров не было.
— Что?! — сказала я резко, останавливаясь у самых дверей. Двери были зеркальные, и в каком-то странном искажении там отразились мы трое: высокий светловолосый Барнс, невысокий худой смуглый Кун, маленькая я в серо-серебристой форме, и над нами облака, вытянутые через все небо. Я повернулась к Куну и требовательно смотрела на него.
— Вот так, — сказал он, — Горный массив полностью разрушен, а город стоит. Будто ничего и не было.
— Вы уверены? — сказала я одними губами. Я растерялась. И немного испугалась. Он кивнул, но я и так уже поверила. Странно, что случилось так, а не наоборот. Я поняла тогда, именно тогда, что уничтожением Альвердена и Серых гор дело не ограничивается, что было еще что-то, что-то очень плохое, хотя почему именно так я подумала, именно «плохое», я так и не понимаю. Но именно я так подумала и думаю до сих пор: разрушение Альвердена и Серых гор — это не самое худшее, что случилось здесь. И это что-то нам еще совершенно не известно, что-то твориться тут — помимо нас. Может быть, поэтому местное население так и равнодушно.
Уже открывая дверь, Барнс сказал весело:
— Говорят, вы уже бывали здесь?
— Кто говорит? — сказала я быстро и настороженно.
Он развел руками:
— Прошел такой слух…. Говорят, эту планету открыла экспедиция вашего отца.
Кун, уже зашедший в темный холл, оглянулся на нас. Барнс с улыбкой поглядывал на меня; я заметила, что глаза у него голубые, но не яркие, а ближе к серому, цвета зимнего неба.
— Мне было пять лет, — сказала я беспомощно, словно защищаясь этой бессмысленной фразой, мне неприятно было, что он заговорил об этом, — Всего пять лет.
— Я читал отчеты той экспедиции, — сказал Кун из холла, слегка улыбнувшись, — но не думал, что это вы… та девочка, которая потерялась и нашлась только через год.
Я улыбнулась беспомощно и виновато, как улыбаются обычно люди, когда им рассказывают о том, какими они были в детстве, какие глупости говорили и делали. Расспросы о моем "чудесном путешествии" всегда вызывают у меня чувства, аналогичные тем, которые я испытываю, когда у меня спрашивают о том, как я в три года залезла под генеральный пульт управления и потом не смогла вылезти. Это всегда так неприятно.
В холле космопорта было темно и довольно прохладно. Мы вошли и остановились посредине этого пустого помещения с серыми панельными стенами. Два темных коридора отходили в разные стороны, там по обеим стенам тянулись белые двери; прямо перед нами начиналась лестница на второй этаж, широкая и пологая, с белыми широкими перилами. Откуда-то с лестницы струился сероватый рассеянный свет. В здании было страшно тихо, так иногда бывает в учебных заведениях, когда все студенты на лекциях, но не во всех, а только в некоторых. Там, где я училась, так бывало в корпусе химического факультета. Каждый раз, когда заходишь туда, там было темно и тихо, на всех четырех этажах тихо, все сидели по лабораториям.
Кун, извинившись, тотчас же ушел в боковой коридор. Барнс слегка улыбнулся, проводив его взглядом, и повернулся ко мне.
— Ну, что же, — сказал он, словно рад был освободиться и от меня, и от Куна, — Я думаю, показывать вам ничего не нужно, здание типовое. Нет?
— Нет, — сказала я, — не нужно.
— Вы извините, мне бежать надо. Найдете нежилую комнату, смело селитесь. Народу у нас сейчас мало.
— А на звездолетах? — сказала я, — В смысле, там я могу пожить?
— Это вы с капитанами. Извините, — сказал он, прижимая руки к груди. При его комплекции это выглядело комично, — Я уж побегу.
Он, и правда, побежал. Я посмотрела ему вслед, слабо усмехаясь: что же он, ни одного живого координатора не видел? Меня это каждый раз так неприятно поражает, а потом забывается: и ими забывается, и мной. Как-то когда разработаешься, все эти условности забываются: кто координатор, а кто не координатор.
И все же мне страшно, и когда я стояла там, в темном и пустом холле с серыми стенами, ноги у меня подгибались от неожиданной слабости. Я здесь, думала я. Я на Алатороа. Сколько лет прошло, а я снова здесь. Как это странно. Как это могло случиться в моей жизни, в моей упорядоченной жизни как это могло случиться? Словно не просто я вернулась, а чудо вернулось в мою жизнь и принялось куролесить, как тогда. В какой-то книжке еще на Веге я прочла одну строчку, которая запомнилась мне. "Сонм безнадежный чудес". Был это какой-то поэтический сборник, но я не запомнила ни имени поэта, ни даже о чем было стихотворение. Только это. И я помню, когда мой взгляд упал на эти слова, мне с ужасающей ясностью привиделась Алатороа. Не что-то конкретное, а просто она — со всем, что было на ней; мне вспомнилось ощущение. Ощущение Алатороа. То самое, тревожащее сердце. Словно даль перед тобой светла. Не знаю даже, как объяснить это ощущение. Я помню, когда я была маленькой, я написала такой стишок:
По ночам зовет дорога.
Плачет посох одиноко.
Плачет посох одиноко
За сервантом в уголке.
Вот это оно самое. По ночам зовет дорога. Простое чувство и ужасное в то же время. И не хочешь, а все равно зовет. Не хочешь, а чудеса подхватывают тебя и кружат, не давая спуститься на землю. Пятилетний ребенок год блуждал по чужой планете — бывает ли так, было ли так хоть с кем-то еще. И ведь я хотела обратно, к маме, но чудеса уводили меня — все дальше. Это только в сказках чудо бывает к месту, в жизни оно обычное мешает, раздражает, уводит куда-то в сторону. Но из этой сети когда-то я не могла выпутаться, и мне кажется, что не сумею и сейчас, если те же охотники набросятся на меня, путая мою жизнь. Вот что пугает меня. Это чувство, дрязняще-знакомое, эта дрожь души, вспоминающей свои детские метания. Даль светла. И она уведет меня, заведет меня, запутает. Боже мой, ведь я вернулась сюда. Боже мой, ведь я сюда вернулась.
Долго я простояла так, опустив сумку на пол и слушая тишину миссии. Что же, здесь совсем никого нет? Я тряхнула головой, нетерпеливо поправила волосы, свесившиеся на глаза, и пошла в тот коридор, в который ушел Кун. В коридоре было темно и тихо. Шаги мои и здесь не были слышны, я уже действительно начинала чувствовать себя чертовым призраком. Куна я нашла в третьей комнате, в которую я заглянула, здесь было нечто вроде рабочего кабинета. Комната была небольшая и светлая, на окнах висели желтые занавески, и желтый солнечный свет заливал комнату, словно растительное масло. В комнате был стол с раскиданными бумагами, стулья и невысокий шкаф в углу, на стенах висели фрагменты фотографических карт, на одной было, по-моему, Поозерье, столько озер могло быть только там, что было на других, я не знаю. Трое мужчин стояли у стола, склонившись над ним. Все трое были исследователями, в серых форменных рубашках. Все оглянулись на меня. Я слабо улыбнулась и вошла в комнату.
После сбивчивых приветствий и представлений мне предложили стул. Я села и поставила сумку на пол возле ног. Кун внимательно выслушал мою сбивчивую просьбу.
— Я не претендую именно на «Весну», — закончила я неловко, — Просто я, кроме вас, пока никого не знаю.
— Нет, отчего же, я буду только рад, — спокойно сказал Кун, — У меня есть свободные каюты, подождите немного, я вас провожу.
Я покорно подождала. Ждать пришлось недолго, минут пять, потом мы распрощались с оставшимися в комнате и снова пошли на улицу. Кун не самый разговорчивый человек, всю дорогу он молчал. «Весна» оказалась веганским звездолетом, и вообще-то, мне здесь понравилось. На исследовательских звездолетах мне всегда нравится, наверное, потому что я сама на таком родилась. Ну, не совсем на таком, но помещения и на старых и на новых звездолетах одинаковые.
Каюта у меня совершенно обычная, большая, но однокомнатная, если ванную не считать за комнату. Стены здесь серые, слегка серебрящиеся, очень успокаивающий цвет. В каюте стоит широкая кровать без спинок, почти квадратная, застеленная серым покрывалом, небольшой письменный стол со всеми обычными принадлежностями: настольным компьютером, печатающим устройством, зерконием, — больше в каюте не было ничего, только встроенные шкафы. Сразу же как я пришла, я связалась с местным информаторием, заказала карты энергетических съемок из космоса и включила печатающее устройство. Пока я обживалась, распечатки уже были готовы. Я села на кровать, разложила вокруг себя карты и стала рассматривать их. Все отчеты я изучила еще в космосе, а до этого у меня еще руки не доходили.
Больше всего меня заинтересовала схема распределения альфа-ритмов в недели, предшествующие росту агрессивности. Вообще-то, альфа-ритмы обычно отображают сейсмическую активность, но на Алатороа еще во время пребывания здесь экспедиции моего отца заметили, что они соответствуют магической активности населения. При этом в магию как таковую никто из исследователей и тогда не очень-то верил, но очевидные факты исследователи отрицать не приучены.
Частота и повторяемость альфа-ритмов нарастали по всей планете в последние три дня перед атакой, а в Альвердене и Серых горах эта активность держалась в течение дух с половиной недель. В последний день в Серых горах была такая вспышка, словно была задействована вся мощь Жезла Тысячелетий. Ей-богу, сначала я подумала, что у меня что-то с распечаткой, потом посмотрела на экране, действительно, вспышка была, да еще какая, но активность отмечалась не одновременно с ростом агрессивности, а часа за три до этого. С чем это может быть связано, ума не приложу, но предчувствия у меня почему-то очень дурные. Точнее, уже не предчувствия….
Страшно вообще так возвращаться. Странно, ведь тех, кто умер, я и знала-то совсем недолго, даже Элизу, но мне все равно грустно. И Кэррон. Странно, мне ведь только сейчас пришло это в голову, до сих пор я об этом не думала, но ведь теперь я даже не увижу их. Я возвращалась не к друзьям, которые все же у меня здесь были, а к Алатороа, к планете; мне и в голову не приходило, что здесь есть те, кого я могу захотеть увидеть… и кого уже не смогу увидеть при всем желании. Я не питала к воронам особой любви, все-таки я была тогда не в том возрасте, чтобы полюбить высокомерный и загадочный народ, вот тороны — совсем другое дело. Сейчас я вот сижу и думаю, что даже если бы все было в порядке с Серыми горами, я вряд ли захотела бы увидеть Элизу, все равно это была бы уже не она, ведь столько лет прошло, а люди стареют. А вот Кэррона…. Откуда эта вспышка активности? Что-то он делал, мне как-то и голову не приходит, что это мог быть кто-то другой. Хотя с другой стороны…. Не знаю, не знаю, не знаю. Вообще, дурацкое это дело, эти дневники-отчеты, что мы в них плетем иногда, это ж даже подумать страшно. Потоки сознания. Смешно, ей-богу. Или на меня Алатороа так действует? Что-то я сама не своя.
Ассоциация управления и развития
Подразделение исследователей
Земля, Антарктический регион,
Архив внеземных культур
Подготовлено старшим
научным сотрудником И.А. Коркиной.
Справка по планете Алатороа
Восьмой галактический сектор, Љ 62
Алатороа: происхождение названия неизвестно. Земное название Старого времени «Эстериа», инв. номер 45678932КВТ56899. Планета типа «Земля-2», форма сходна с эллипсоидом Ф.Н. Красовского, размеры: экваториальный радиус 6456,2 станд. км, полярный радиус 6434,8 км, полярное сжатие 1/298, длина меридиана 40008,5 км, длина экватора 40075,7 км, площадь поверхности 510 млн. км2. Длительность оборота вокруг своей оси — 25, 45768 станд. часов. Длительность витка по орбите — 370 суток.
Колонизирована в конце эпохи космической экспансии. Местное население чрезвычайно разнообразно, есть негуманоиды. Подробности колонизации неизвестны. Человеческое население планеты составляет около 50 млн. чел.
Второе открытие планеты произведено экспедицией Т. Михайлова во время стандартного полета исследовательского типа.
Два континента, большие острова отсутствуют. Полная картографическая съемка не производилась, данные подготовлены по устным описаниям местных жителей, данным облета планеты экспедицией Т. Михайлова и наземным рекогносцировкам, произведенным сотрудниками постоянной миссии на Алатороа. Северный континент населен. Площадь заселения около 40 млн. км2, огромное количество незаселенных территорий. Природные зоны от степной до ледяной пустынной на равнинах, от степной до каменной гольцовой в горах. Основное население сосредоточено в степной и лесной зонах. Среди растительного и животного мира множество представителей, завезенных с Земли. Южный континент больше северного в полтора раза (по снимкам из космоса). Население располагается узкой полосой вдоль северного морского побережья. Континент покрыт тропическими лесами. На южном побережье встречаются участки песчаных пустынь.
Население: сконцентрировано на северном материке. На южном материке расположены несколько человеческих поселений с количеством жителей не более двух тысяч человек, поселения торонов на возвышенности Крам. Вероятны неучтенные поселения других местных народностей. На северном материке расположены двенадцать городов, все заселены людьми. Местное население не склонно к урбанизации. Крупнейшие города: Альверден (1 млн. 200 тыс. чел), Торже (2340 чел), Морая (ок. 1 тыс. чел), Истрик (ок. 1 тыс. чел), Сулавести (ок. 500 чел). Столица — Альверден.
Имеются два университета классического типа (Альверден), кроме того, несколько заведений, заслуживающих названия высшей школы: Сул-мот (военное училище, готовящее офицеров, Сулавести), Иродо-торо (картография и мореплавание, побережье Южного моря), Школа мага Ловата (Морая), Школа мага Тро-иродавана (Морая), Школа колдуньи Иды. Во всех учебных заведениях обучение идет по типу, предложенному университетами Альвердена: история, немного география, искусство, врачевание, языки (на Алатороа среди человеческого населения преобладает один язык, сорти, по самоназванию людей — сорты, хотя есть диалекты; изучаются языки местного населения). Так называемые Школы магов являются по своей сути уменьшенными копиями Альверденских университетов и заслуживают название колледжей. Руководителями Школ магов являются выпускники Альвердена. Школы организованы в отделенных районах, жители которых не могут продолжить свое образование в Альвердене.
Промышленность не развита. Производство тканей, посуды и пр. предметов потребления рассредоточено по мелким хозяйствам.
Местное население: сотрудниками экспедиции Т. Михайлова зарегистрировано около 30 народностей различного типа, среди которых самый крупный — тороны, относиться к негуманоидам. По последним сведениям почти половина из зарегистрированных народов (т. н. список Уиткерса, по имени этнографа Дж. Уиткерса) относиться к вымышленным.
Ассоциация управления и развития
Подразделение исследователей
Экспедиция Т. Михайлова, «Спутник»,
Регистрац. номер 3452КНО
Подготовлено Дж. Уиткерсом
ДОКЛАД
…крайне разнообразные формы. Колонизация, по-видимому, прошла без эксцессов, однако настораживает крайне малая численность местных народностей при их большом разнообразии. Была высказана идея о неоднократной колонизации планеты представителями различных галактических цивилизаций, что частично подтверждается "Песнью о странствии" и некоторыми другими местными легендами….
Приложение 1 к докладу Дж. Уиткерса.
1) Сорты (ед. ч. — сорт). Самоназвание людей. Численность около 50 млн. язык единый (сорти), существуют несколько диалектов, но отличие незначительно. Какие-либо национальности не выражены. В прошлом господствующей религией являлся культ Света при широком распространении местных верований. В настоящее время культ Света сохраняется на южном континенте. Среди местных культов выявлено обычное поклонение хранителям домашнего очага, рода, богиням плодородия (в сельскохозяйственных районах) и деторождения. Основное занятие — земледелие, скотоводство (кр. рог. скот), кузнечное, ткацкое, кожевенные ремесла, рыболовство. Города и крупные деревни, кроме того, чрезвычайно распространены мелкие поселения хуторного типа. Пища в осн. растительная, реже мясная. Основу социальной организации составляют большие семьи.
2) Файны (ед. ч. — файн), иногда называются духами лесов. Гуманоиды, интеллект высоко развит. Численность не установлена. Говорят на сорти, самостоятельный язык, вероятно, утрачен в результате общения с людьми (Примечание: сорти является основным языком на планете, служащим для общения представителей разных групп населения). Проживают в лесах небольшими группами, поселений не выявлено. Единственный объект религиозного поклонения — так называемые Семь Светлых Источников, фонтанирующий источник в долине реки Флосса. Земледелие и скотоводство не развито, так же, как и занятие ремеслами. Вероятно натуральное хозяйство. Выявлен так называемый синдром единения с природой.
3) Тороны (ед. ч. — торон). Крылатые негуманоиды. Интеллект высоко развит. Общая численность около 30 тыс. Вероятна способность к телепатическому общению. Язык не установлен. Способности к телекинезу, гипнозу, способны оказывать воздействие на центральную нервную систему. По предположению, один из народов Хаоса (эксперименты по выведению новых форм жизни, проводились Институтом Роберта Мейкера совместно с Остином Грином; следы народов Хаоса и их колонии были найдены на планетах системы Ракбета и Майори). Проживают в степной зоне, поселения расположены преимущественно на болотах и озерах. Хижины стоятся на сваях на воде. Основное занятие — охота, не гнушаются скотокрадством. Крайне агрессивны. Религиозные настроения не выявлены.
4) Аульвы (ед. ч. — аульв), иногда альвы, эльвы, на юге — эфы, эфки. Негуманоиды, ящерообразные, рост около метра. Интеллект высоко развит. Общая численность не установлена. Ведут ночной образ жизни. Живут в пещерах и норах. Основное занятие — кузнечное и ювелирное ремесла, иногда работа по дереву. В некоторых районах объект охоты.
5) Лииены (ед. ч. — лииен), разумные древообразные. Контакт установлен с тремя особями в районе Семи Светлых Источников и с одним на горе Аль.
6) Вороны, самоназвание неизвестно. Гуманоиды. Общая численность 2–3 тыс. Место проживания — Серые горы. Оказывают огромное влияние на жизнь планеты, пользуются статусом богов. Являясь объектом религиозного поклонения, сами религии не имеют. Способны иметь общее потомство с людьми. Происхождение не установлено. Вероятна принадлежность к народам Хаоса (т. к. отмечены сильнейшие способности к телекинезу, гипнозу и пр.). Крайне большая продолжительность жизни (до 1000–1200 лет).
7) …..
2. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день первый.
Я, наверное, страшно перенервничала в процессе своего воссоединения с Алатороа, потому что часа через два после работы с отчетом я уснула. Причем так живописно, среди сиреневых распечаток, раскиданных на моей кровати, Кун, который меня разбудил, решил, наверное, что координаторы буквально сгорают на своей работе. Все это было бы довольно забавно, но мне приснился сон и очень плохой. Вообще-то я привыкла серьезно относиться к тому, что мне сниться, несколько раз мне снились грядущие события, да и вообще во сне у меня бывает довольно много предчувствий. Со мной и раньше такое случалось, но после моей первой работы под прикрытием в горах Вельда, когда мне ежедневно приходилось жевать наркотические средства, мне действительно, бывает, сняться вещие сны. Этот сон был не вещий, слава богу, но он мне ужасно не понравился.
Мне приснилось какое-то совершенно бесконечное болото под низким темным небом. Там не было ни травы, ни какой-нибудь другой растительности, просто огромное пространство черной-черной глянцеватой грязи, и по этой грязи медленно тащился какой-то человек. Мне ужасно не понравился этот сон именно потому, что он не похож был на сон, а скорее и впрямь на какое-то пророчество. Обычно я забываю какую-то часть своих снов, то есть я помню примерную последовательность событий и о чем шла речь, но отчетливо могу воссоздать в памяти лишь какой-то отрывок. Но этот сон я помню очень отчетливо. Хотя он не отличался сложным сюжетом. Человек просто шел и шел, падал, поднимался и снова брел едва ли не по пояс в этой черной жиже. Дул ветер, по небу ползли темные рваные тучи; там было холодно, и казалось, что это болото бесконечно. Это было не болото, а что-то гораздо худшее. Не знаю…. Сейчас мне, ей-богу, хочет плакать. Хотя с тех пор, как он мне приснился, этот сон, прошло уже часов пять.
Мне действительно давно не снилось хоть что-то наполовину такое же плохое. Тогда, во сне, я подумала о том, что это, наверное, и есть смерть. До самого горизонта тянулось это бесконечное черное болото. Человек шел и шел, мне казалось, совершенно бесцельно. Как часто бывает во снах, мне снилось, что я — это он, хотя это был мужчина. Было очень холодно, это запомнилось мне больше всего; обычно мне не сняться ощущения, я могу припомнить только два таких случая. Один раз, когда я заканчивала школу, мне приснился, как это ни странно, отчетливый запах лука. Просто запах и ничего больше. Кто-то из подружек сказал мне, что это к беде, а потом, через месяц пришло сообщение о том, что проект «Зеркало» провалился и все его участники, по всей видимости, мертвы. Нельзя сказать, чтобы я действительно горевала, я не видела своих родителей с тех пор, как меня отдали в школу-интернат, но все же это были мои единственные родственники. А второй раз это было на И-16, но не в горах Вельда, а когда я была там в первый раз, в качестве нормального легального координатора. Собственно говоря, после того раза И-16 и перевели на консервацию, поскольку налицо было явное неприятие земной цивилизации. Мне приснилось в том раз, что я умираю, что мне очень больно, а вокруг разговаривают какие-то люди, они пытаются мне помочь, но я уже умираю, и спасти меня невозможно. Ужасный сон, кстати сказать. А потом мы действительно все едва не погибли.
А это человек из моего сна…. Во сне я думала, что было бы лучше, если бы он умер. Для него это болото было не местом, а скорее ощущением; оно, и правда, было какое-то апокалипсическое. Этому человеку было бесконечно холодно — и все. Даже боли, не физической, ни душевной, он не чувствовал, только холод. Одежда его вся была мокрой и мешала идти, лицо было залеплено грязью. Однажды он провалился по пояс, но выполз, пытался встать и не мог. Я думала, почему он не ляжет, если бы это была я, действительно я, я бы и не пыталась встать. Но он встал и побрел дальше. Кончилось все тем, что он упал, и его захлестнул страшный холод. Холод редко причиняет боль, но иногда это все же бывает, а в этот раз боль бывала такая невероятная, что еще немного, и я умерла бы во сне. Я проснулась резко, словно меня кто-то растолкал, на самом деле просто зашел Кун. Он и не трогал меня, просто я всегда просыпаюсь от малейших звуков движения рядом с собой. Меня хорошо выставлять в ночной караул, когда кто-то начинает двигаться рядом со мной сколь угодно тихо, я все равно просыпаюсь.
Я проснулась с мыслью, что это человек умер. Хорошо, хоть я не плакала, терпеть не могу, когда меня застают плачущей, пусть даже во сне. У меня колотилось сердце, и в первые мгновения я не могла даже понять, кто я и где нахожусь. Сейчас, когда прошло несколько часов, я могу думать об этом сне более спокойно, а тогда я просто чувствовала, что он умер и все, хотя кто был этот он — я не знала. А сейчас мне почему-то кажется, что мне снился Кэррон. Не знаю почему, но мне так кажется. Впрочем, в свете того, что я узнала потом, это предположение вовсе не кажется невероятным. И… я не знаю, из-за кого еще я стала бы так переживать. Я, в общем-то, почти и не знала его, но….
Теперь я уверена, что мне снился именно он. Такое бесконечное одиночество мне приснилось. И… не знаю, почему-то мне кажется, что это был он, и точка. Теперь я думаю, что перед смертью ему пришлось страшно страдать. Смешно, я ведь даже не помню его лица, но мое сердце так… болит за него. Вообще-то, он мне всегда ужасно нравился.
Я вырвалась из этого сна, как из ада, ей-богу. Ярко освещенная каюта, серые стерильные стены, да еще в этом ярко-белом свете, после этого безумного болота вся эта с детства привычная мне обстановка показалась какой-то не совсем нормальной. Меня ужаснуло то, до чего она неживая, правда, этот ужас довольно скоро прошел. Все же я родилась в таком месте, да и Вега действительно урбанизированная планета, там и деревья-то растут в кадках. Но в первый миг после пробуждения каюта показалась мне неестественно мертвой. Я проснулась в совершенно ошеломленном состоянии. Неловко пробормотала что-то Куну и пошла в ванную.
В ванной я включила холодную воду и сунула голову под кран. Меня била нервная дрожь. Я совершенно не понимала, что я делаю, понимала только, что мне нужно как-то отойти от своего страшного сна. Мной все еще владело то беспросветное отчаяние, которое приснилось мне. Ледяная вода затекала мне за шиворот, скоро мне стало холодно, но это был нормальный, естественный холод. Я выключила воду и долго растирала полотенцем мокрые волосы. "А ведь это был Кэр, — подумала я вдруг, — Ведь это был Кэр…". Вообще-то я давно уже не думала о нем — так. Во всяком случае, с тех пор, как передо мной встала необходимость возвращения на Алатороа, я думала о нем только как о Царе-вороне, какие уж тут уменьшительные имена. Но, с другой стороны, трудно видеть официальное лицо в…. Я с ожесточением терла свои волосы, и мне было страшно. Ладно бы он просто умер, я, и правда, плохо его знала, но он не просто умер. С ним что-то случилось, что-то ужасное, что-то такое… запредельное, что ли. Жалко, что я не помню его лица. Голос помню, смех его помню, странная у него была манера смеяться, какая-то отрывистая, а вот лицо — нет.
Я зачесала мокрые волосы назад, мельком подумав, что у приснившегося мне человека волосы были еще короче, чем у меня, а у Кэррона, такого, каким я его запомнила, волосы были до плеч. Но во сне и не должно быть все как в жизни, да и потом, с тех пор прошло больше двадцати лет. Уверенность в том, что я видела именно Царя-ворона, росла с каждой минутой, и я не знала, что мне с этим делать. Я думала об альфа-активности в Серых горах и об этом бескрайнем болоте. Что с ним случилось в последние часы его жизни? Признаться, именно об этом я думала почти весь день. Он уже умер, а мне не дает покоя этот вопрос: что с ним было, за что? Почему он не мог просто умереть? Вообще-то, он был, наверное, одним из лучших их царей, и он действительно был очень… хорошим, что ли. Я, может, и была маленькой, но я помню, как на него смотрели люди.
Когда я вышла к Куну, я была уже почти в норме, но эти страх и боль так и притаились где-то во мне, дожидаясь, пока я останусь одна.
— Извините, — сказал Кун смущенно. То еще было зрелище, кстати сказать, такие темнолицые мужчины с хрящеватыми носами как-то не созданы для смущения, — Я не думал, что вы спите….
— Так вдруг сморило, — сказала я неловко. Впрочем, мне было все равно.
— Я, собственно…. Я хотел предложить вам пройтись по городу. Вы бывали в Торже в детстве?
— Честно говоря, я не помню. Может быть, — сказала я с сомнением, — Название знакомое, но я не помню, была ли я здесь. Наверное, все-таки была….
— Так вы пойдете?
— Да, — сказала я, — Пойду. Конечно. Сейчас, вы подождите.
Кун кивнул и, отойдя, присел на край письменного стола, сложив руки на коленях. Чего его так потянуло со мной гулять, я так и не поняла, но мне, в общем-то, было совершенно все равно, что делать и в чьем обществе это делать. Странно даже, я ведь так поспешила спрятаться в привычную обстановку исследовательского звездолета, но почему-то теперь мне было все равно, где находиться, в звездолете или под небом Алатороа. Пока мы шли по коридорам к выходу, сердце у меня разболелось всерьез. Украдкой глянув на Куна, я осторожно помассировала под курткой левый бок. Кун, кажется, ничего не заметил; по крайней мере, я на это понадеялась: хорошо же он обо мне подумает, если, и правда, увидит. Подумает, небось, что тридцати еще нет, а уже совсем развалина. Исследователи так страшно гордятся своим несокрушимым здоровьем, что показывать перед ними свою слабость — это означает впоследствии нарваться на откровенное неуважение. Хотя чего им меня уважать, координатор — он и есть координатор.
На трапе я споткнулась. Я даже сама удивилась, до чего я все-таки расклеилась. Промахнулась, видите ли, ногой мимо ступени, чуть не свалилась с десятиметровой высоты. Кун удивленно оглянулся на меня, ему, наверное, и в голову не приходило, что на обычном трапе можно спотыкаться. Мне было страшно неловко, все же глупо как-то вышло, но испугалась я сильно. Действительно испугалась — таким мгновенным испугом. В спокойном состоянии я могла бы, может быть, спрыгнуть с такой высоты, но споткнувшись на трапе, да еще с колющей болью в сердце, я бы точно башку себе разбила. Я оступилась, сильно ударилась ногой об ступеньку, ладно, успела схватиться за поручень. Он был перевитой, старый, я руку об него ободрала, но все же удержалась. Бетонная поверхность летного поля качнулась мне навстречу и тут же выправилась, но как же я испугалась, Господи. Достойный был бы конец, что и говорить. С грехом пополам я спустилась, и мы пошли наискосок через поле, мимо здания космопорта. После атаки на Альверден Торже, насколько я понимаю, самый крупный человеческий город на планете. Не так уж он и велик, кстати говоря, всего-то две или три тысячи жителей, никакого сравнения с миллионным Альверденом. Альверден действительно был большим городом. И красивым, как только может быть красив старинный город, со спокойной изящной застройкой, с мощными деревьями, не один век растущими на улицах, со старинными садами…. Ах, Альверден, все эти особняки из красного кирпича с белоснежными колоннами, с лепниной по карнизам, с башенками на крышах, все эти сады, потрясающие воображение. Альверден, которого нет.
Торже начинался сразу за зданием космопорта. Кун шел быстро, слегка размахивая руками. Я смотрела на его седоватый затылок. Едва перевалило за полдень, и жара только начиналась. Мы не успели дойти и до края поля, когда я сняла куртку и обвязала ее вокруг талии.
— Жарко? — спросил Кун, не оборачиваясь.
— Да-а, — вяло согласилась я, — Лето. Какой здесь хоть месяц?
— Лиэ. Самое начало.
Самое начало лета. И ветер. Люблю ветер, честно говоря. Это Тэй приучил меня, и с тех пор я забыла многое, но так и не забыла какая медленная дрожь идет по телу, когда, запрокидывая голову, ты ловишь в объятия ветер. А здесь, на поле космодрома, места для того, чтобы ветру разыграться, было предостаточно. Он метался вокруг нас, лохматил мои волосы, налетал то с одной, то с другой стороны. Тэй, я помню, считал его живым, и сейчас, в самые первые часы своего возвращения, я подумала, что да, что Тэй был прав. Странно, что я никогда не замечала этого раньше, на других планетах. Да и здесь поняла — только сейчас.
Мы обогнули здание миссии и прошли по траве. Метелки ковылей колыхались у моих колен. Я читала или слышала, не помню, что здесь почти все растения завезены с Земли, а местных видов почти и не осталось. Пахло травой просто невыносимо. Странно, что запахи так обостряются и в жару и в дождь; экстремальные точки погоды…. Вдыхая этот запах, я подумала мельком о том, что, может, именно так Земля и выглядит, такие же ковыли в степи, такие же жаркое белесоватое небо, такой же ветер мечется в траве, словно охотник, загоняющий дичь. До безумия пахло полынью. День был так безоблачно ясен и жарок, что казался почти нереальным.
А потом неожиданно, прямо из степной травы начался Торже, и я перестала думать о Земле. Узкая улочка была похожа на деревенскую: низкие выбеленные дома с палисадниками, заборы. По пыльной дороге важно расхаживали местные утки, оранжевые утята купались в пыли. Заборы были старые, кое-где совсем потемневшие, встречались, правда, и новые, свежевыкрашенные. У калиток стояли некрашеные скамейки; у одного дома лежал плуг. По обочинам вдоль заборов росла не вытоптанная трава, чем-то похожая на ту, что на Веге (и на Земле, кажется) иногда зовут гусиными лапками, но эта была сиреневатого оттенка — какая-то местная разновидность. Названия здешних растений я не знаю, разве что только съедобных. В траве играли дети, совсем маленькие, едва ли старше двух-трех лет; они ползали на коленках за одним крайне замученным утенком и хватали его в руки, заставляя идти к забору. Утенок вырывался, но молча, наверное, голос потерял от страха. Кун усмехнулся, глядя на них, и я решила, что он не любит детей. На перекрестке мы свернули.
Кун ничего не говорил, я тоже молчала, но ничего напряженного в нашем молчании не было. Шли мы, не торопясь. Степные запахи остались позади, ветер тоже отстал. Я шла, гадая, за каким чертом Кун вытащил меня на эту прогулку. Свидание с Торже у меня тоже все как-то не складывалось, я и была-то здесь один раз, и если Альверден мне запомнился, то этот невыразительный степной городок совершенно не сохранился в моей памяти.
Мы еще раз свернули. На улицах почти никого не было: самый разгар дня. Единственное, что я подметила интересного, это то, что здание ратуши было видно отовсюду. Оно нависало над городом и порождало не самые приятные ощущения. Я подумала даже, нет ли там привидений или еще какой-нибудь нечисти. Но это было так, просто глупость. По-моему, здесь вообще нет нечисти в обычном смысле этого слова. Даже сказок об этом не рассказывают, а уж здешних сказок я наслушалась предостаточно. Все они основаны на реальности. Впрочем, это везде так, не все просто осознают это. Даже все эти змеи-горынычи и им подобные, все они появляются из мифов, а мифы — это, в общем-то, реальность. Во всяком случае, это не продукт фантазии, просто способ восприятия реальности. Но о привидениях здесь никто не рассказывает. Ни о привидениях, ни об оживших мертвецах. Странно, я сейчас только об этом подумала и не слышала, чтобы об этом задумывались наши этнографы: похоже, проблема послесмертия здесь никого не волнуют. Иначе бы хоть какие-нибудь привидения здесь бы были. А ведь даже вороны смертны.
— Хороший городок, — сказал вдруг Кун.
— Да-а.
Он еще больше замедлил шаг и пошел рядом со мной.
— Я ведь вырос в таком городке. Вот хожу здесь и как будто домой вернулся.
Голос у него был мечтательный. Я удивилась.
— Я думала, вы веганец.
Он усмехнулся.
— Нет, я с Рио-то.
— А-а….
— Н-да. Знаете, о чем я думаю, когда вот так хожу? Зачем они улетали? Все эти старые колонии…. Представляете, их ведь всего-то пятьдесят миллионов или около того. Население одного веганского среднего города. Где-то на краю вселенной. Ведь дошло до того, что мы их второй раз открыли. Превратились в какой-то отсталый народец на отсталой планетке, которую даже колонизировать второй раз не будут. И не законсервируют, кстати сказать. Мы же уже работаем здесь в открытую. Значит, историкам на нее плевать.
— Может быть, — сказала я сухо. Мне консервация Алатороа даже в страшном сне не могла присниться. Спасибо, я уже поработала тайно на И-16, мне на всю жизнь хватило. Из-за таких вот операций нас и не любят, я думаю. Трудно нормально относиться к человеку, которому приходилось выдавать себя черт знает за кого, который умеет лгать всем без исключения.
Мы приближались, похоже, к центру города. Дома стали побольше, кое-где возле домов цвела сирень, точно такая же, какая растет на Веге.
Женщина в синем платье развешивала белье у себя во дворе. Она была средних лет, полная, голова ее была повязана пестрым платком. Оторвав взгляд от белья, она поздоровалась с Куном, называя его по имени. Кун подошел к забору и, взявшись за него обеими руками, спросил, началась ли уже ярмарка, а женщина ответила, что нет, но начнется на будущей неделе, а потом, глядя на меня поверх плеча Куна круглыми серыми глазами, сказала:
— Это вы и есть Посланница? Знаете, князь-северянин приехал на ярмарку. Наш градоправитель заключил с ними союз пять лет назад, а то уж больно степные охотники нам докучали, княжна Севера. Но теперь у нас с ними мир….
Я подошла ближе.
— Так Тэй приехал в Торже? — спросила я.
— Да, и не один. Я их видела вчера на базарной площади, да и сейчас они, наверное, там, они закупают лошадей, а коневоды приезжают как раз в полдень.
— Как пройти на базарную площадь? — спросила я быстро.
— Прямо идите, там увидите.
— Спасибо, — крикнула я, потащив Куна за руку от забора.
Он послушно шел за мной.
— Как она вас назвала? — спросил он, когда мы немного отошли.
— А, это…. Князь северных торонов сделал меня своей названной сестрой. Они вообще любят заключать братские союзы, и между собой, и с представителями других народов. Такое родство у них почитается больше, чем кровное.
— Странно, что она вас узнала.
— Так Барнс, наверное, растрепал уже всем, что я и есть та самая девочка, которая здесь терялась. Вот до местных тоже докатилось.
— А они вас здесь помнят….
— Здесь-то, — сказала я, — Здесь помнят названную сестру князя торонов. Это естественно, в горных районах, например, никто меня не вспомнит. Хотя там я провела гораздо больше времени. В Поозерье вообще полгода прожила. Вот интересно, узнает ли меня Тэй?
Но он меня узнал.
Базарная площадь была довольно велика, по периметру ее располагались высокие двух-трехэтажные темные бревенчатые дома, в них были гостиницы, таверны, самые богатые в городе магазины. На другом конце площади высилось здание ратуши, каменное, старинного вида; площадь перед ним была пуста и свободна от торговых палаток и прилавков, остальная же площадь была переполнена людьми. Хотя солнце палило нещадно, торговля была в самом разгаре. Торговали с дощатых, наспех, казалось, сколоченных прилавков, над которыми набиты были хлипкие дощатые или тряпичные навесы — от солнца. На потемневших от времени и от воды, которой периодически обмывали прилавки, досках был разложен разнообразный многоцветный товар; перед прилавками толпились покупатели. Пестрые платки, ткани и предметы одежды были развешаны по краям навесов, и перед ними прохаживались продавцы, следя, чтобы случайный покупатель, потянувшись пощупать ткань, не уволок чего-нибудь ненароком. Здесь были отбеленные полотна грубой деревенской выделки, были вязанные полотнища кремового и грязно-серого цвета, были тонкие пестрые южные ткани; висели косо, с расправленным подолом, повешенные юбки, вывешены были верхние яркие кофты и нижние рубашки из тонкого полотна, висели платки разнообразных расцветок.
Посудой торговали прямо на земле, сидя на корточках возле хрупкого и дорогого товара. Прилавки стояли рядами, на пустом пространстве торговали с ящиков или коробок, здесь сидели торговцы попроще, а то и просто нищие, кто раскладывал на старых ящиках коробочки с дешевыми специями, кто мыло, старуха, сидевшая на углу, гадала на косточках сесты. Другая, такая же неопрятная, бродячего вида старуха развешивала на колышках пестрые дешевые бусы из мыла и сушенных ягод кострама, которые, высохнув, становятся твердыми, как камень. Дальше стояли пестрые, обвешанные лентами, палатки поморчан; эти палатки до смешного напоминали мне кривые и чахлые деревья аз-кабу, растущие в горах Вельда, паломники вешают на них тряпочки и ленты в знак своего почтения к богам алых гор. В палатках торговали, в основном, рыбой, сушенной и вяленной, и прочими морепродуктами; вокруг палаток с жужжанием вились стаи мух.
Во множестве торговали съестным. За грудами прошлогоднего, уже проросшего картофеля, стояли светлоголовые северные крестьяне. Они же торговали вразнос с лотков сушенными коричневыми плодами марахонии. Временами можно было встретить возле прилавков и мешки с прошлогодним зерном. Множество было южан, выставивших на прилавки урожай уже этого года. Я видела даже желтые плоды сесты, которые растут только на южном континенте; сюда ее не часто завозят.
В толпе было жарко и пыльно. К потным телам липли надоедливые мухи; над разгоряченной толпой стоял неизъяснимый запах смешанного пота. То и дело над толпой взлетала ругань; кто-то кричал визгливо, кто-то ругался солидным басом, не оставляющим сомнений в правоте его владельца. Мы протискивались меж покупателями, движущимися вдоль прилавков в несколько рядов.
— Подходи! — кричал один, смуглый, худой, очень похожий на Куна, парень в порванной рубашке и с серьгой в ухе, — Подходи, люди, отдаю недорого!
— Рыба! Свежая рыба!
— Сеста! — тонко кричала девочка в коротком розовом платье, — Сеста! Сеста! Вы такой еще не пробовали! Госпожа, берите-берите, такую сесту поискать! Чего лежалая? Кто лежалая? Где ты другую найдешь, корова ощипанная? Иди-иди! А ну, проходи, давай! Денег нет, так нечего останавливаться!
Кун подошел к ней, потрогал один яркий желтый шарик, потом другой, вытащив из заднего кармана деньги, расплатился. Я терпеливо ждала его на отдалении: по мне эта сеста чистая отрава или, например, неплохое рвотное, я даже запаха ее не переношу, но у каждого свои вкусы. Кун вернулся ко мне, кусая от желтого шарика, и ядовито-желтый сок тек у него по пальцам.
— Хотите? — пробормотал он с набитым ртом.
— Нет, спасибо, — быстро откликнулась я, представляя, какой у нее вкус. Вообще, странный этот Кун, насколько я помню, никто из землян сесту не любил, она, и правда, очень неприятная. Или он мазохист? Эта несколько вольная мысль заставила меня улыбнуться. Я очень живо представила себе, как Кун, запершись в своей капитанской каюте во время гиперскачка, истязает себя на манер средневековых монахов.
На углу бородатый старик торговал кувшинами из необычного оттенка зеленоватой глины. Я подошла и присела рядом, разглядывая расставленные на пыльной желтоватой земле кувшины, взяла один в руки. Кун остался ждать меня возле прилавка, а я, словно завороженная, разглядывала посуду таких знакомых оттенков. Кувшин переливался на солнце, играя оттенками, когда я поворачивала его в руках, а ведь видно было, что некрашеный. Я смотрела на кувшин, а он играл под лучами яркого солнца, словно драгоценный камень. Старик же в это время, странно щуря левый глаз, рассматривал меня саму. Старик этот, со своей темной с проседью бородой и лохматым ежиком волос, в темных изношенных штанах и выцветшем кожухе был и похож на крестьянина и не похож. Лицо у него было темное, словно печеное яблоко, морщинистое, но с виду, в общем-то, и не старое; а глаза светло-светло голубые. Я неожиданно подумала, что в молодости он сильно привлекал женщин: такие светлые глаза при темных волосах, высокий, и такая кривоватая улыбочка. Странный был старик. В кармане кожуха торчала у него пестрая грязноватая тряпочка, то ли носовой платок, то ли товар он ею полировал и протирал.
— Это ведь поозерская глина, — сказала я вдруг, — Что, прошлогодних запасов?
— Да, госпожа. Глаз у вас наметанный. Этот — прошлого года, а вон те, — старик указал на низенькие чаши с золотистым отливом кривым мозолистым пальцем, — уже нынешнего. Глина-то меняет оттенки.
Голос у него был низкий, словно колокол загудел. Старик поправлял манжету кожуха, с хитрецой поглядывая на меня. Руки у него были худые и узловатые, рукава кожуха едва прикрывали локти, и в груди кожух был ему тесноват, верхние пуговицы не застегивались, открывая поседевшую волосатую грудь.
— А что, в Поозерье еще добывают глину?
— А как же? Но меньше, чем раньше, конечно. Спрос теперь невелик. Альверденская знать была охоча до нашей посуды, а здесь не очень-то берут.
— Возить, наверное, далеко? — продолжала спрашивать я, поставив кувшин на землю.
— Да, это точно, — говорил старик уже не так напряженно. Он явно понял, что я не собираюсь ничего покупать, но не прочь был поболтать с понимающим человеком, — Половину посуды побьешь по дороге, да и знать здесь — тьфу! Живут, как крестьяне, и едят на обычной глине….
— А вы не скажете, где коневоды торгуют?
— А это вон туда, а потом направо. А вы князя торонского ищите? Он пошел туда только что. Говорят, вас сюда Посланницей прислали?
— Не совсем, — сказала я, — Меня прислали мирить вас с землянами.
— Да мы вроде и не ссорились, — сказал старик и засмеялся нам вслед.
Торонов мы увидели издалека, они выделялась даже в пестрой базарной толпе. Кстати говоря, кроме них, никого из нелюдей больше на базаре не было, и это было странно, очень странно. Но того, чего я опасалась, негативного отношения к нелюдям, я не заметила. О торонах говорили неплохо, без неприязни, а ведь они были наиболее агрессивным из нечеловеческих народов на Алатороа.
Я торопилась увидеть Тэя не только потому, что боялась, что он уйдет. На самом деле я просто хотела его увидеть. Это трудно объяснить, но я очень люблю Тэя.
Когда я увидела их, на душе у меня словно посветлело. Возможно, мою реакцию трудно объяснить, учитывая внешний вид торонов, но они всегда удовлетворяли мое эстетическое чувство, хотя кому-то может показаться это неким извращением. Тороны всегда очень нравились мне, они казались мне очень… красивыми, что ли. Представьте себе прямоходящего зеленого птеродактиля с небольшой, в буграх, угловатой головой. Орлиный клюв, длинные и узкие, вытянутые от клюва едва ли не до затылка золотистые переливчатые глаза. И три искривленных рога на голове, напоминающие царственный венец. Они страшны, опасны, ядовиты, вспыльчивы. И все-таки они мне очень нравятся. Красота — понятие условное. Те, кто увидит их фотографии, может ужаснуться, но если бы вы увидели, как они кружат над степью, выслеживая добычу, с копьями в когтистых лапах. Крылья у торонов не так велики, и они не могут подниматься на большую высоту, но тем своеобразнее их полет.
Их было трое. Двое, присев на корточки и распластав кожистые крылья в пыли, разглядывали лошадей. Третий разговаривал с торговцем. Он стоял боком к нам и первым заметил наше приближение. Когда он повернулся к нам, взметнув крыльями целую пыльную бурю, те двое вскочили тоже.
— Ну, и чудовища, — пробормотал Кун, — Как в кошмарном сне.
— Тэй! — крикнула я с облегчением оттого, что, по крайней мере, я его узнала. Память так избирательна, и потом, ведь я не видела его двадцать лет.
Он сложил крылья и пошел ко мне, поднимая когтистую лапу в ритуальном жесте. Когти были в зелено-желтой жидкости, которая стекала и капала на пыльную землю. Улыбаясь, я пошла к нему, тоже поднимая руку.
Мы сошлись, и наши руки соединились — ладонь к ладони. Жидкость, стекавшая с его когтей, была ядовита, но тороны могут регулировать ее ядовитость. Друг не умрет, враг — да. Тэй был немного ниже меня, но благодаря рогам казался выше.
— Тэй, — сказала я, — Ты узнал меня, да?
— П-о-ч-е-м-у-н-е-т-Р-а, — ответил мне странный немодулированный голос. Клюв тороны при этом не шевельнулся. Еще одна их загадка. Но на Алатороа так много загадок, что до странностей небольшого народа, живущего в степях, ни у кого не доходят руки. Их клювы не способны воспроизводить человеческую речь, поэтому они обычно заставляют звучать какие-нибудь предметы: стекло, лист железа. Как они это делают? Так же, как регулируют яд в своих выделениях. Так же, как убивают противника взглядом. Направленное психическое воздействие — прекрасные слова для объяснения непонятного. Но это не магия. Для нас, представителей техногенной цивилизации, нет разницы между способностями торонов и тем, чем занимались маги на горе Аль, но эта разница есть. Тороны при всех своих странностях являются абсолютно антимагичным народом.
— Меня давно так никто не зовет, Тэй, — сказала я, глядя в золотистые глаза.
— Т-ы-и-з-м-е-н-и-л-а-с-ь.
— Да, я повзрослела. А как дела у твоего народа?
— Т-ы-з-н-а-е-ш-ь-ч-т-о-п-о-г-и-б-К-э-р-р-о-н.
— Я знаю, Тэй. Они все погибли.
— Э-т-о-к-а-р-а-з-а-и-з-г-н-а-н-и-е-К-э-р-р-о-н-а.
— О чем ты?..
— О-н-и-и-з-г-н-а-л-и-е-г-о-о-н-н-е-х-о-т-е-л-в-о-й-н-ы.
— Вороны хотели начать войну?
— Д-а-в-о-р-о-н-ы-и-а-л-ь.
— А вы? — спросила я.
— Я-б-ы-л-с-К-э-р-р-о-н-о-м-о-н-в-л-а-с-т-и-т-е-л-ь-ж-е-з-л-а-о-н-м-о-й-б-р-а-т.
— И его изгнали?
— Д-а-Б-о-л-ь-ш-и-м-з-а-к-л-я-т-ь-е-м-т-е-н-ь-д-а-н-е-п-а-д-е-т-т-р-а-в-а-о-т-с-т-у-п-и-т.
— Значит, он тоже мертв?
— Н-е-з-н-а-ю.
Мы оба замолчали.
— М-н-е-п-о-р-а, — сказал, наконец, Тэй, — е-с-л-и-з-а-х-о-ч-е-ш-ь-у-в-и-д-е-т-ь-м-е-н-я-п-р-и-х-о-д-и-с-а-м-а-я-б-у-д-у-ж-д-а-т-ь.
Это был короткий разговор, очень короткий, но не хочет Тэй говорить со мной или действительно занят, я не смогла понять. Вороны и аль (так называют магов Альвердена) готовили войну. Вот он — рост агрессивности. Странно, но я не ожидала этого. Мне все казалось, что произошедшее — это нелепая случайность. Я не могла поверить, что на Алатороа, на моей Алатороа может случиться нечто подобное, может начаться война с нами.
И Кэррон…. Вороны изгнали Царя-Ворона Большим заклятьем изгнания. Для нас это не имеет особого значения, ведь вороны мертвы, и Кэррон тоже мертв, но меня потрясло это. Они изгоняют… изгоняли преступников, сумасшедших, но Большим заклятьем — очень редко. Не важно, имеет ли оно подлинно волшебную власть или нет. Но сам факт, что они пошли на это…. И еще я думаю о том, что так уже было. И меня это по-настоящему пугает — эта параллель. Две тысячи лет назад, легендарное время для людей и вчерашний день для воронов, которые живут по тысяче лет, вороны уже изгнали Царя-Ворона. За то же. Он не хотел войны с людьми, вороны изгнали его, и война разразилась. И вот я думаю теперь: что же будет теперь? Война? Та, предыдущая война охватила всю планету. Нелюди против людей. Целая планета. И отголоски той вражды все еще живы.
И еще мне просто жаль Кэррона. Большое заклятье изгнания — это страшно. И теперь я, в общем-то, понимаю, почему тороны так равнодушны к уничтожению Серых гор. Вороны как таковые им безразличны. Если Тэй захотел бы отомстить, то только за Кэррона. Но он не станет мстить за изгнанника. Хоть Тэй и назвал в разговоре со мной Кэррона своим братом, но, во-первых, мы говорили о прошлом, а во-вторых, я уверена, что если бы Кэррон был жив, Тэй говорил бы о нем совсем иначе.
Я не знаю…. Я так запуталась. Просто запуталась. И Кэррон…. Все это слишком много для меня. Одно мое возвращение сюда слишком много для моего рассудка. Но почему-то мне казалось, что здесь-то ничего по-настоящему серьезного не происходит. Но теперь я вижу, здесь твориться нечто такое…. И до нас долетели только отголоски, "дальнее эхо", как любил говорить один литературный персонаж.
А ведь я почти и не помню его. То есть я довольно хорошо помню те два или три дня, что я провела в обществе воронов, но его лица я не помню. Помню только короткий шрам возле уха. Кто бы мог подумать, что ТАКОЕ падет на него, что ТАКАЯ у него судьба. Ах, ты, боже мой! Ведь страшнее такого ничего, наверное, нет. Приятно сидеть в доме сказаний и слушать очередную вариацию легенды о Марии из Серых гор, но представить, что такое случилось с Кэрроном…. Хотя чего уж тут, если он все равно мертв. Надо благодарить судьбу и капитана «Весны», что Кэррону не пришлось долго жить с этой тяжестью, что смерть его была такой быстрой.
Вот чем заканчивается мой первый день на Алатороа. Но как они смели изгнать его!.. А Тэй, наверное, уже вернулся домой. Как мне хочется в Торовы Топи, просто до ужаса.
3. Ра. Начало приключений.
Воздух в палатке был душным и оранжевым. Анна Михайлова лежала поверх спального мешка, закинув руки за голову. На ней был рабочий красный комбинезон и клетчатая рубашка, немного мятая. Лет ей было около тридцати, у нее были темные глаза и капризное детское лицо. Намокшие от пота пряди темных волос прилипли ко лбу, над верхней губой выступили бисерные капельки пота.
Перед Анной на маленьком складном стуле сидела женщина лет сорока, полная и веселая. Выражение лица у нее было серьезное, и говорила она серьезные вещи, но веселье все равно угадывалась в ней, словно солнечным светом укрывая ее черты. В круглом лице со слегка вздернутым носом и полными губами небольшого рта, в серых больших глазах, в небрежном узле растрепанных светлых волос — всюду веселье сквозило, как солнечный луч тянется сквозь пыльный воздух. Она чуть-чуть раскачивалась на стуле, держась обеими руками за спинку, и одновременно говорила:
— Все-таки быть "космическим ребенком" очень трудно и для самого ребенка, ты должна понимать это, Анечка…
— Я не хочу отдавать Кристину в интернат, — сказала Анна упрямо. Видно было, что это не первый разговор на эту тему — и не последний. Анна поджимала губы и хмурилась, представляя, как расстанется со своей девочкой.
— Ей пять лет, — сказала она, — ей же всего пять лет.
— Я понимаю, — сказала полная женщина, перестав качаться, — Но ты видела ее реакцию, когда мы приземлились тут? Очень плохо, когда ребенок в пять лет впервые начинает понимать, что такое планета. Но будет еще хуже, если она вырастет, так и не прожив ни на одной планете достаточно долго.
Анна вздохнула. Ее пятилетняя дочь была предметом постоянного беспокойства для Анны. Девочка родилась в космическом перелете, до сих пор она росла на исследовательском корабле и лишь две недели назад увидела первую в своей жизни планету. Такое было не редкостью в среде исследователей, которые большую часть жизни проводили в космосе. «Спутник» стартовал с Земли десять стандартных лет назад, и с тех пор Анна и сама не была ни на одной планете. Алатороа была первой планетой, которая была открыта экспедицией Михайлова. Анна и замуж вышла в космосе и родила дочь. Но считалось, что космические дети имеют мало шансов вырасти нормальными людьми, и прочитав огромное множество литературы по этому поводу, Анна растерялась совершенно. На «Спутнике» не было возможности создать условия для нормального развития ребенка. Детей, кроме Кристины, здесь не было, и девочка совершенно не умела играть, предпочитая общаться с обучающими программами. Ей предстояло вырасти в очень сухого, рационального, несколько роботообразного человека; таких немало было на дальних станциях — людей, которые родились и выросли в космосе, в замкнутом мирке космического корабля, и не желали жить иначе и общаться с людьми больше, чем это необходимо.
Прошел час. Большая черная птица опустилась на ветку, и ветка закачалась под ее весом. Птица потопталась, устраиваясь, и уставилась блестящими круглыми глазами на открывшуюся перед ней картину. На поляне, среди кустарника и высоких, никем не кошеных трав стояли большие оранжевые и красные палатки, лежали тюки со снаряжением и наполовину разобранный глайдер. А за палатками, за кустами и травами, за тоненькими деревцами осин с красноватыми монетками-листьями возвышался, словно кит, вытащенный на землю, словно туша небесного зверя-тучевода, — исполинский болид серо-стального цвета. Солнечные лучи дробились на его поверхности. Птица рассматривала все это — и палатки, слишком яркие, словно ягоды поздней осенью, и мертвые внутренности разобранного глайдера, и тушу исполинского кита. В лагере было тихо: недавно ушли две исследовательские партии. Охрана не была выставлена: люди ничего не опасались на этой гостеприимной планете. Совсем ничего.
Из яркой оранжевой палатки выскочила молодая женщина в рабочем комбинезоне.
— Кристина! — закричала она, оглядываясь вокруг, — Кристина, хватит прятаться!
— Кристина!
Никто не отзывался. Она начинала уже тревожиться всерьез: обойдя весь лагерь, она так и не нашла свою маленькую дочку.
— Кристина!
Она металась по лагерю, потом разбудила дежурных. Но суета и крики не долетали до лесного ручья, где все и происходило в ту минуту. Деревья высились над бурной водой, деревья-великаны высились над пятилетним ребенком, и кроны их сплетались, закрывая небо. По камням неслась, журчала, вспенивалась вода, неглубокая, легкая — ручей, а сбоку еще один втекал в него. Галька и огромные мокрые валуны раскрывали миру свои цвета, ибо камень, как цветок, краше становиться от воды. А вода такая чистая-чистая, так и тянет напиться, подставить разгоряченные солнцем ладони. И прохлада, прохлада, которой так не хватало лагерю исследователей в этот жаркий день последнего месяца лета.
На камне посреди ручья стояло пятилетнее дитя в сером комбинезоне, и вокруг человеческого ребенка толпились — такие же маленькие — белые пушистые существа. Их огромные глаза сияли в полутьме, лапки любопытно дотрагивались до темных волос, до серой ткани комбинезона.
Они чирикали о чем-то, мягкими лапками хватали и настойчиво тянули за собой. И темноволосый ребенок слез с камня и пошел, увлекаемый своими новыми знакомыми туда, где сказки становятся явью. Совершая первый шаг на пути от рационального к чудесному…
4. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день второй.
У меня в каюте на полке стоит глиняная миска с ранними, еще зелеными яблоками. Я купила их вчера и миску из поозерской глины тоже вчера купила. Такой сувенир из Поозерья. Смех смехом, но я захотела купить что-нибудь сразу, как только увидела знакомые переливы чудной этой глины; что-то, что напоминало бы мне о Поозерье, стране тысячи озер, страны сказочной даже для сказочной этой планеты.
Яблоки эти мелкие, с плодоножками, зеленые с легким оттенком в желтизну. От них исходит слабый, в общем-то, слегка сладковатый, медовый запах, который, тем не менее, пропитал всю каюту. Этого не замечаешь, пока сидишь здесь, но стоит прийти откуда-то, и сразу чувствуешь этот тихий ненавязчивый запах и хочется плакать.
Временами на меня накатывает странное ощущение. Мне хочется думать, что я живу здесь, и я играю в это, покупаю еще незрелые яблоки и миски из дорогой поозерской глины; брожу по Торже в глупой надежде найти что-то, что ускользает от меня. В такие минуты я забываю напрочь, кто я, просто утрачиваю это ощущение. Я просто хожу, не отвечая на приветствия прохожих, медленно, нога за ногу; смотрю на давно некрашеные заборы, на траву, на выбеленные стены домов. Я не помню в такие минуты ни Вегу, ни Ламмант, ни И-16 и красные горы Вельда. Не вспоминаю о том, кто я и кем была.
Это пугающее ощущение. Вообще-то, называется оно совершенно определенно и приводит в заведения тоже определенные. Правда, сейчас не думаю, что все так серьезно. А на И-16 я, помню, пугалась всерьез. Это у меня тогда началось и казалось очень серьезным; дело-то, наверное, было в галлюциногенах. Здесь совсем иное. И все же пугает. Странно все это.
…Вчера я расспросила сотрудников миссии и тех специалистов, которые в последнее время работали "в поле", — этнографов, собирателей фольклора, социологов. Кажется, что наша атака прошла совершенно незамеченной, но есть кое-что другое. Эмилия Лан первая сказала мне об этом. В своих записях, и потом в разговоре со мной она обратила внимания на то, что люди здесь уничижительно отзываются об остальных народах. Она спросила меня, всегда ли было так, поскольку в отчетах экспедиции Михайлова этот факт не отражен. Я была удивлена, я никогда не замечала ничего подобного. Эмилия любезно показала мне записи, сделанные ею во время разговоров в деревнях. О торонах не говорят ничего плохого, жалуются только на их прошлые набеги и опасаются, как бы это не началось вновь. О файнах говорят здесь как о лесных демонах, чудовищно безобразных (это очень меня позабавило) и очень опасных. Правда, эту чушь можно отнести за счет того, что Эмилия проводила свои исследования преимущественно в окрестностях Торже, не думаю, что здесь вообще видели хоть одного файна. Угрюмчиков тоже записали в демоны, как и аульвов. Но все это — народы лесной зоны, здесь их представители не бывают, и возможно, такое отношение было всегда. О торонах же не говорят как о демонах. Кроме того, здесь очень ругают магов, а больше всего воронов. Говорят, будто вороны, особенно Царь-Ворон, развратили жителей Альвердена, и те за способности к колдовству продали души темным силам. Эмилия говорит, что такие вещи всегда рассказывают шепотом и без свидетелей, но почти все опрошенные ею жители согласны с этим. Царя-Ворона считают чуть ли не главой темных сил. "Этакий Сатана", — сказала Эмилия, усмехаясь. Меня странно задела ее усмешка. И еще я не могу понять, откуда это взялось. Такое чувство, будто кто-то распускает эти слухи, настраивая народ против тех, кто уже мертв. Можно считать файнов безобразными чудовищами, если ты их никогда не видел, но ругать аль — это странно. Испокон веков они почитались по всей планете, это здешняя интеллектуальная элита, без них здесь был бы каменный век. А уж тем более воронов…. Вороны совратили Альверден. Прекрасно, просто прекрасно. А Кэррон — глава темных сил. Вообще-то, он….
Вообще-то со вчерашнего дня я больше ни о чем и не думаю, только о нем. Я пытаюсь вспомнить его по-настоящему. И чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь в том, что он центральная фигура в происходящем. Даже если он уже мертв, все будет завязано на нем. Царь-Ворон на Алатороа фигура почти божественная. И теперь главным мне представляется одно: как широко разошлась весть об его изгнании. Не думаю, чтобы вороны стали ждать долго после обряда изгнания, с другой стороны само изгнание могло последовать только после серьезного выступления Кэррона, а он не был сторонником конфронтации. Его авторитет был так высок, что обычно вороны оставляли за ним право решения любых вопросов. У них это не часто бывает, они вообще-то сторонники демократии (я бы сказала — времен Речи Посполитой, царь — ничто, Совет старейшин — все), и Царь у них, в общем-то, избирается. Мои сведения о единовластии Кэррона точны, я много слышала, как вороны, обычно пожилые, злятся на это. Но его авторитет был нерушим, в конце концов, он был величайшим магом на планете, он был властителем жезла. Итак, меня интересует, знают ли об его изгнании те, кто живет достаточно далеко от Поозерья, если же нет, то мы в глазах местного населения окажемся убийцами не просто божественного народа и уважаемых всеми магов, но Царя-Ворона. За него будут мстить. Может быть, не сейчас, но само негативное отношение к нам появиться. Мы будем убийцами Царя-Ворона.
Возможно, это мое слабое место, но я, напротив, считаю, что именно это мое достоинство в сложившейся ситуации. Я способна серьезно относиться к происходящему. Я хочу сказать, что верю в магию. В ту магию, которая здесь повсюду. Я верю в нее. Другой человек мог бы отнестись к этому как к местному суеверию. Я верю, потому что я видела здесь многое, хотя на других планетах мне с магией сталкиваться не приходилось. Но моя вера или неверие не могут служить какими-то критериями для оценки ситуации. Я считаю, что следует принять как одно из условий этого уравнения магию, пусть даже она и является лишь местным суеверием. Даже если это суеверие для нас, для местных жителей это реальность.
И вот я думаю: если бы он был в Серых горах в момент нашей атаки, там не было бы сейчас радиоактивной пустыни. Ему достаточно было немного поговорить, присев на обочине дороги и поглаживая землю, и землетрясения не случилось. Что ему какой-то удар из ПСМ. Но остальные вороны защитить себя в такой ситуации не смогли бы. В сущности, их магия не простирается слишком далеко, они могут наводить иллюзии, иногда заглядывать в будущее, не больше. Говоря о них как о магическом народе, я имею в виду две ипостасии их существования. Кстати, Барнс в это не верит. Он заходил вчера вечером, и мы говорили об этом. Не о воронах, а вообще о сложившейся ситуации. Но стоило мне заикнуться о том, что окажись Кэррон в Серых горах в то время, нам не удалось бы их уничтожить, Барнс только рассмеялся.
— О чем вы говорите, о сказках про воронью магию? Я видел их, они обычные люди. Строение глаз другое, но ведь этой колонии миллионы лет, черт знает какие тут могли быть мутации.
Для меня этот вопрос не принципиален, я думала только о том, что Кэррон, возможно, жив, а это для нас действительно серьезная угроза. Но меня разозлило неверие Барнса, а больше всего его замечание о том, что вороны — обычные люди.
— А вы уверены, что вы вообще их видели? — сказала я, — Вы уверены, Стэнли, что вы видели именно воронов?
— Высокие, в черных одеждах, белков глаз не видно.
— Да, — сказала я, — А в облике птиц вы их не видели? Они никогда не превращались у вас на глазах?
— Кристина, — сказал он, наклоняясь ко мне, — Ну, что вы, не может быть, чтобы вы в это верили.
— Я видела, — сказала я, — Я это видела. А вы не видели, похоже, даже документов экспедиции моего отца. Не удосужились посмотреть. А там, между прочим, есть результаты их физиологического обследования. Они не люди, Стэнли, они вообще черт знает что такое. А вы совсем не верти в магию, Стэнли?
Он только рассмеялся. Я прекрасно знаю, что координаторов считают странными людьми, и я, похоже, своим поведением только убеждала его в этом. Я думала, как странно, что человек, который прожил здесь почти пять лет, до сих пор не верит. Что же, он считает это суеверием? Или просто фокусами, если он видел здесь хоть что-то?
— Так, значит, не верите? А вы думали, Стэнли, почему Альверден остался цел? Там были люди, Стэнли, такие же, как мы, выходцы с Земли. А город уцелел. А вы не верите в магию. И как вы думаете, кого готовили университеты Альвердена? На этой планете нет инженеров, врачей, астрономов. Для кого писались книги знаменитых альверденских библиотек? Целая планета, по-вашему, может всерьез заниматься этим, а это всего лишь суеверие. Неужели вы действительно так думаете?
— Кристина!
— Ну, что, Кристина? Если бы вы не засекли вовремя рост агрессивности, вы бы уже верили в магию. И если Царь-Ворон остался в живых, вам еще представиться этот шанс. Поверьте мне.
— Вы думаете, что он жив? — спросил вдруг Стэнли.
— Не знаю, — сказала я, а надо было, наверное, сказать: надеюсь. Я боялась этого и надеялась. Второй день я вспоминаю Кэррона, и мне больно думать, что он умер. Таких, как он, немного на любой из планет.
Стэнли встал и прошелся по каюте. Склонившись над столом, он посмотрел на расстеленные карты.
— Вы бывали на И-16? — спросил он, не оборачиваясь ко мне.
— Бывала. А откуда вы знаете?
— Я работал там после вас, вместе с Корниловым. И знаете, о чем я постоянно думаю здесь? Помните остров Хонси и снежных дьяволов?
— Я работала только на юге, — сказала я.
— На их языке алатороа значит — мечта. И я постоянно об этом думаю. Мечта. Эта планета похожа на мечту, не правда ли, Кристина? А мы принесли сюда войну….
Я грустно усмехнулась.
— Вы…. Стэнли, война готовилась здесь, или, по-вашему, рост агрессивности возник на пустом месте?
— Нет, но почему готовилась? Вам не кажется, что это уже притянуто за уши? Нам не впервые приходиться сталкиваться с агрессивностью на планетах, даже с колониями Старого времени.
— Мне так сказал Тэй.
— А я думаю, — сказал Стэнли, — что так война началась бы гораздо раньше. Не сейчас, когда все уже поняли, что мы — не завоеватели, что мы не собираемся навязывать свой образ жизни, а гораздо раньше, когда земляне только появились здесь….
— Может, вы выслушаете меня, Стэнли? Не собираемся навязывать свой образ жизни, сказали вы, но, я думаю, именно с этого все и началось. На Алатороа очень мало людей, так мало, но все равно здесь была однажды война между людьми и всеми остальными. И вы не думаете, что они могли увидеть в нас — угрозу? Ведь за нами тысячи и тысячи планет, населенных только людьми, Стэнли!
— А в Альвердене жили люди.
— В Альвердене…. В Альвердене жили маги, Стэнли. Вы в их силу не верите, но факт остается фактом. Они называли и считали себя магами. Эта планета держится на магии. А за нами техногенная цивилизация. Не думаю, что мы нужны были им здесь, Стэнли. А вот что до того, что война могла начаться гораздо раньше…. Знаете, теперь я думаю, может быть, подготовка началась уже тогда? Если инициаторами выступали вороны, такое более чем вероятно. У них средний возраст тысячу лет, прошедшие годы — как раз срок для подготовки войны с нами, серьезной подготовки. Мне эта мысль, знаете ли, самой не нравиться. Я была тогда ребенком, они брали меня на руки и в это же время планировали, как убрать землян с этой планеты! Вот ваша мечта, Стэнли!
Но на самом деле его слова о том, что Алатороа на языке снежных дьяволов с И-16 означает мечта, странно задели меня, затронули мою душу. Мечта! В интернате, в Институте по контактам, на всех планетах, где я работала, я думала о ней, об этой мечте, она снилась мне, я вспоминала ее. Некоторые так мечтают о Земле, на которой я так никогда и не бывала. Побывала на десятках планет (особенно, если считать с теми, где я была проездом), а вот на Земле не была. Но я мечтала не о Земле. Я мечтала о своей планете. О торонах, низко-низко летящих над травой. О шумных улицах Альвердена. О прозрачной, тихой красоте Поозерья. О тайных чащобах Лориндола. Вот о чем я думала — долгие-долгие годы, туманные воспоминания, не яснее, чем излюбленные файнами туманы в пойме Флоссы. Это была моя планета, моя мечта. И сейчас я все не могу отделаться от собственнических чувств, вот в чем дело. Это все еще моя планета, и я не могу думать о ней и о ее проблемах — как о работе. Не могу быть беспристрастной, потому что от каждой травинки до каждого облака это — моя планета. Все это мое. Родное мне. Люди помнят места, где родились и выросли. Я родилась где-то в Восьмом галактическом секторе, а где — я точно не знаю, потому что во время родов «Спутник» шел на гиперскорости. А росла я на Веге. Но вот моя планета, моя по праву собственности детства. Мы владеем своими сказками, своими мечтами — безраздельно. А моя мечта — вот она, и беспристрастной я быть не могу. Все, что происходит здесь, не просто касается меня, все это бьет по моему сердцу, бьет наотмашь….
Все это было вчера. Сегодня отправляется этнографическая экспедиция, они идут в нужные мне районы, и я тоже иду с ними. Это Стэнли мне сказал, что экспедиция этнографическая, но идут еще естественники, они будут проводить метеонаблюдения, замерять уровень и скорости воды в реках и изучать растительность. Сегодня с утра во дворе миссии, под раскидистым дубом (кстати, единственное дерево чуть ли не на всю округу) собирают снаряжение для экспедиции, укладывают палатки, запаковывают приборы. Выйти должны ближе к полудню.
День сегодня очень солнечный. В степи солнце всегда особенное, не такое, как в лесу. В лесу солнце видно, желтый свет сквозит в просветы между листьями, отражается от глянцевой листвы, теряется в наземном покрове. А в степи все не так, в степи просто ясно-ясно становиться, и откуда-то изливается жар, словно находишься рядом с раскаленной печью.
На рыжеватой глинистой, хорошо утоптанной земле разбросаны были яркие красные и оранжевые тюки со снаряжением: часть в тени, под корявыми ветками старого дуба, часть на солнцепеке. Листья у дуба были серо-зеленые, изнанка отливала серебром, когда листья полоскались на ветру. На желтоватую землю ложились неровные размытые тени раскидистых ветвей. Было так жарко, что и ветер был теплый, неприятный. Было еще совсем рано, но утренней прохлады не было и в помине; трудно было себе представить, что же будет в самый разгар дня. Небо приобрело легкий сероватый оттенок, яркой голубизны, обычной для жаркого дня, не было; я подумала, что день может кончиться бурей.
Во дворе миссии был смех и шум, и казалось, что здесь собралось необыкновенно много народа, так часто люди переменяли свое место, ходили или бегали кто куда и громко разговаривали. В сущности, нет ведь ничего особенного в том, чтобы собрать рюкзаки, распределить снаряжение и отправиться в путь, но в таких ситуациях взрослые, с научными степенями, мужчины делаются просто как дети; сколько раз я уж видела это! Конвей Часвет, естественник, был хуже всех. Я познакомилась с ним только сегодня, он и вообще забавный человек, только когда смотришь на него и смеешься его выходкам, смех этот граничит с презрением. Что-то есть в нем, что вызывает презрительное отношение, и это неприятно и нехорошо. Я не люблю общаться с такими людьми, они опошляют мое отношение к жизни, делают его приземленно-потребительским, а я не люблю этого. Это человек невысокий, круглоголовый, с рыженькими волосиками, аккуратно зачесанными на косой пробор. Одет он сегодня по-походному, в мягкие темные брюки, легкую серую форменную рубашку и мягкие ботинки, которые некогда были частью экипировки космического десанта, а сейчас их носят все, кому не лень. Рубашка на нем расстегнута, под ней надета черная майка с аляповатым рисунком. Лицо у Часвета простоватое, круглое, нос картошкой, глаза небольшие, светло-рыжеватые, почти бесцветные, в описании выходит просто какой-то комический персонаж, но когда смотришь на него — обычный человек, не слишком, правда, приятно внешности, но это бывает. Ко всему прочему у него есть странная манера постоянно потирать руки. Человек он совсем не полный, скорее даже худой, но все равно от него остается впечатление чего-то круглого. И улыбочка у него такая — гаденькая. Как будто он намазал стул клеем или кнопку подложил и все ждет, когда же ты на него сядешь. Этот во всех отношениях замечательный человек носит звание доктора географических наук и командует в экспедиции шестеркой студентов, они будут изучать климат, реки, почвы и растительность, делать самые общие, первые описания еще не исследованной землянами местности.
Кроме этой великолепной семерки есть еще Софья Дивинова, она врач и ботаник. Это высокая крупная девушка, по-моему, она меня младше. Весь выводок Часвета дружно увивается вокруг нее. С ней я тоже только сегодня познакомилась. У нее длинные русые волосы, уложенные узлом на затылке, одета она в бледно-голубые шорты, которые открывают на всеобщее обозрение ее красивые полные, еще совершенно не тронутые загаром белые ноги, и белую рубашку, завязанную узлом под грудью. Синюю старенькую кепку она то надевает на голову, то снова снимает и поправляет волосы красивой полной рукой. Девушка она действительно привлекательная, и сама явно знает это; одевается она, во всяком случае, многообещающе.
Всего в экспедиции участвуют четырнадцать человек, это если еще считать меня и проводника, который должен вести экспедицию. Если без него и без меня, то двенадцать. Все остальные — этнографы, лингвисты, фольклористы и прочия и прочия. Это Стэнли, кстати, доктор археологии (кто бы мог подумать). Дальше Михаил Александрович Каверин. Стэнли говорил мне, что это знаменитейший на весь обитаемый космос собиратель фольклора; да и я слышала его фамилию. Нас познакомили еще вчера, и с этим человеком, как мне кажется, приятно иметь дело; повадками он напоминает мне университетского профессора, они одновременно и демократичны в общении, и вместе с тем преисполнены собственной важности. Кроме него здесь есть еще одна знаменитость — Эмма Яновна Саровская, худенькая невысокая дама, остриженная под мальчика. На вид ей лет пятьдесят, но она совершенно седая. И еще с нами идет Роджер Харрис, он лингвист, пишет диссертацию по видоизменению галактиса в различных колониях, сорти для него просто клад. С этим человеком я и двух слов еще не сказала; Стэнли окликнул его, когда тот проходил мимо, представил меня, Харрис только кивнул и пошел дальше. Он высок, на вид ему лет сорок. Одет он в длинные темно-серые шорты, полосатую майку на тонких лямках, вокруг пояса обвязана легкая куртка. Лицо у него темное, вытянутое, с длинным носом и узким ртом, волосы короткие и какие-то пегие — соль с перцем. На шее кожа обвисает множеством морщин.
Большая часть Алатороа еще не закартирована, поэтому в таких случаях обычно ищут проводников. Почему, кстати, не закартирована, я не понимаю, что может быть проще площадной съемки из космоса…. Когда я спросила Стэнли, нашел ли он проводника, он кивнул и, отойдя на минуту, подвел ко мне какого-то оборванца.
— Он говорит, что его зовут Идрай. Вроде бы он сможет довести нас даже до долины Флоссы.
— Идрай? — переспросила я недоверчиво, — Тот, кто ведет?
Оборванец кивнул. Он как-то неприятно горбился, хотя человек явно был высокий, пожалуй, даже выше Стэнли. Одет он был в грязные штаны, обрезанные немного ниже колен, и нечто вроде мешка с дырами для рук и головы. Черные грязные волосы были не такими уж длинными, примерно до середины уха, но, свешиваясь на лицо, закрывали его почти полностью. Голову он втягивал в плечи. Вид у него был настолько жалкий и неприятный, что в другое время я постаралась бы уйти от него поскорее, но сейчас я была заинтригована. Идрай! Не может быть, чтобы это был идрай. Хотя, вообще-то, я никогда не видела идраев. Да и не думала, что они бывают, честно говоря.
Когда оборванец отошел, я проводила его взглядом, а потом сказала Стэнли:
— Он лжет. Никакой он не идрай.
— Что?
— Идрай — это не имя, это клан проводников. Переводиться "тот, кто ведет".
— Точнее "тот, кого ведут", — сказал Михаил Александрович, неслышно подошедший к нам, — Но почему вы думаете, что он не идрай?
Я оглянулась. Михаил Александрович сиял. Он был в легких летних брюках бежевого цвета и в рубашке с коротким рукавом, седенькие волосы были причесаны волосок к волоску. Каверин неожиданно напомнил мне одного из моих преподавателей, не школьных, а по курсам координаторов, странный был человек, с причудами.
— Подождите, — сказал Стэнли, — Так что с этим переводом? Кто кого ведет?
Я прыснула. Михаил Александрович улыбнулся, словно лектор, услышавший, наконец, вопрос студентов.
— Это легенда, — неторопливо сказал Каверин, — Существуют люди, которые чувствуют невидимые пути, проложенные под землей. Эти люди — идраи, те, кого ведут, они прирожденные проводники, привилегированный клан…. - тон профессионального сказочника неожиданно был оставлен, и Каверин живо спросил, — Так почему выдумаете, что он не идрай?
— Идрай не опуститься до такого, — сказала я тихо.
— Всякое бывает в жизни, — отозвался Каверин.
— И он ходит не так….
— Я никогда не видел идраев, так что здесь я вам поверю.
Я улыбнулась, наклоняя голову.
— Я тоже не видела, — сказала я, — но он ходит, как…. - и я замолчала, потом пробормотала, — Нет, этого не может быть.
— Чего не может быть? — спросил Стэнли.
Он стоял, уперев руки в бедра, и слушал наш с Кавериным разговор. Выражение лица у него было немного недовольное. Я покачала головой. Перед глазами моими все стояла эта картина: жалкий оборванец, сгорбившись, идет по залитому солнцем двору миссии, и грязные его босые ноги легко ступают по утоптанной желтоватой земле, по сорной траве, и трава словно расступается под его ногами. Но я готова была скорее признать, что мне померещилось. Это не может быть файн, нет!
Вышли мы уже после полудня. В начале пути всем было весело, только Эмма Яновна косилась на разошедшихся мужчин с великосветским недоумением. Эта женщина просто неподражаема, ей-богу! Надо же иметь такие манеры….
Боюсь, что мне будет нелегко; я не слишком люблю людей, да и год среди красных камней Вельда превратили меня в совершенного мизантропа. В мизантропку. Или в мизантропиню. Но я здесь не одна такая, я скоро заметила, то наш проводник тоже шарахается от людей. Я сразу прониклась к нему симпатией. Нет ничего, кажется, тяжелее, чем необщительному человеку находиться в шумной и веселой компании.
…Сегодня мы прошли тридцать километров. Весь день стояла ужасная жара, вечером не стали даже ставить палатки. Остановились мы в степи, возле небольшого ручья. Здесь местность совсем сухая, и травы невысокие: типчак, мари-собачье ухо и светальник.
Ручей отчего-то напоминает мне Дэ. Он течет по дну небольшого провала с глинистыми обрывистыми берегами — сантиметров двадцать в высоту. Вода в ручье темная, а течение медленное, почти незаметное, но в самых мелких местах он журчит, будто течет в горах. Признаться, я не слишком люблю горы, а больше люблю равнинные леса.
Вечер сегодня тихий и жаркий. Солнце уже скрылось, туч нет, но небо серо. Дождя, пожалуй, все же не будет. Далеко на западе мелькают в небе тонкие полосы алого цвета. Заката совсем и не было: нет ни облаков, ни пыли или водяного пара в атмосфере, воздух невероятно чист. Как бы ночью погода не переменилась, и не ударил мороз.
Наш проводник ушел на другой берег ручья и устроился подальше от нас. Его звали ужинать, но он даже не откликнулся. За все это время я ни разу не слышала еще его голоса. Он сидит, обхватив колени руками; его темный силуэт так четко вырисовывается на фоне серо-синего неба, словно начерчен пером. Картина странная, но вполне достойна кисти какого-нибудь художника, они часто рисуют довольно странные вещи.
5. Из сборника "Космофольклор для специалистов. Восьмой галактический сектор" под редакцией Э. Рамиреса. Рассказы о "путях духов".
Примечание: именно эти пути имеются в виду, когда идет речь о способностях идраев.
Мама рассказывала, что брату дом поставили — и каждую ночь труба сверху сбрасывалась. Поставят — ночью опять падает. Обратились даже к священнику, он пришел, но помочь ничем не помог. Дал только священный огонек, сказал, садись на чердак и смотри, что будет.
Ну, дядька и пошел на чердак. Ночью сидит, вдруг шум, гам, топот. Огонек священный вмиг погас. А дядька не растерялся и говорит:
— Чего надо?
Ему возьми и ответь неведомый голос.
— Отодвиньте дом, — говорит, — хоть шага на три. На тропку нашу встали.
Что ж тут делать. Передвинули дом, и не стало больше по ночам трубу сбрасывать.
Ездил мужик один с товаром, да заночевал посреди дороги. Лошадь выпряг, сам лег под телегу. Только уснул, кто-то будит его, да говорит:
— Уйди с дороги.
Мужик туда, сюда, никого нет. Ну и лег обратно. Только уснул, опять. Мужик озлился, давай ругаться, да голос-то ему и говорит:
— Уйди ты, добром прошу, хоть метров двадцать с тропки отойди.
Тут уж мужик испужался, лошадь впряг да скорей отудова.
Примечание: нет никаких рассказов о том, какие именно духи пользуются этими дорогами. Все иные рассказы сосредоточены на способности идраев следовать этими энергетическими путями. (см. пункт 4.3.)
6. Ра. Ветер в степи.
Он любил ветер.
В открытой степи, где нет холмов и взгорий, где нет ни деревца, ни кустарника, способного задержать стихию, ветер в своей власти, и волею его колыхаются травы на земле и несутся облака в небе, его волею приходит и уходит погода; дождь и снег, жару и холод — все несет он на своих крылах, свободный вихрь.
В открытой степи, где нет холмов и взгорий, где нет ни деревца, ни кустарника, нечего любить, кроме травы, неба и — ветра.
И он любил ветер.
Ветер был ему братом. Братом по духу. И должен был стать ему братом по крови, как тот, кого ветер носил на своих крылах. Как та, чья улыбка была легче ветра и прозрачнее дождя, та, что пришла из космических далей.
Братание со стихией происходит не сразу, ведь у нее не спросишь согласия, не отворишь для крови рану, да и есть ли у стихии душа, тоже вопрос не из последних. Файны мешают свою кровь с древесным соком, и часто бывает, что, не найдя себе подруг среди дочерей сортов или своих соплеменниц, они женятся на деревьях. Все бывает. Но то, что задумал князь торонов….
Он вышел в степь и, отворив себе кровь, расправил крылья, и тугой ветер ударил в них. В отдалении стояло его племя, любившее ветер, почитавшее ветер, траву, пыль, воду маленьких озер, и ожидало того, что случиться. Князь стоял один. Ветер метался над его головой, ветер метался и вверху, и понизу, и Тэй стоял, напряженный, как струна, готовая оборваться, и зеленоватая светящаяся кровь струилась по коже и падала в траву крупными каплями. Тэй стоял, и в сознании его мешались две церемонии — сейчас и тогда, десять лет назад, когда он мешал свою кровь с алой кровью Царя-ворона.
Зеленое с алым.
Крылатый с крылатым.
Глаза в глаза: черные и золотые.
Как тогда. Сознание его плыло, разваливаясь на части. Какая тишина в степи, как пахнут пыльные травы. Ни с чем не сравнить этот запах, пряно-горький, ласковый. Как сказала маленькая сестренка? Пушистый. "Как пушисто они пахнут". И голосок такой тихий, словно затаенный….
Как тогда. Ту церемонию тоже проводили — в степи. Может, на этом самом месте и проводили — разве упомнишь за давностью лет. Десятилетие — срок немалый, но Тэй и сейчас до мельчайших подробностей помнил — глаза побратима, лукавые, но легкая усталость сквозила в них, как облачка, бросающее тень на ясный солнечный день; прикосновение худых пальцев ворона, и какой ток прошел по его жилам, стоило ранам их соприкоснуться, ведь контакт с носителями вороньей магии не проходит бесследно. Тэй и сам не знал, как решился тогда, ведь от крови побратима он мог и умереть, а мог и просто — исчезнуть, как туман под лучами солнца, растаять в степном пыльном воздухе. Но решился и ни разу не пожалел, даже в тот миг, когда алая иллюзорная кровь коснулась его кожи, вошла в его жилы — огненным смерчем. Тэй часто думал потом, действительно ли у Них алая кровь, или это такая же иллюзия, как и их облик, столь схожий с обликом сортов? Так ведь и не узнаешь никогда, хоть и побратался с одним из них. Кровь и глаза. Черные глаза. У девочки глаза тоже черные. Как спелая черемуха у Торовых топей.
Он стоял, а ветер метался вокруг, подхватывая зеленые капли. Кровь исчезала без следа, словно растворялась в мятущемся воздухе. И тогда народ счел, что братание состоялось. И все оставили побратимов одних — крылатого с крылатым. И травы метались на ветру вокруг потерявшего сознание торона.
А потом, на закате, маленькая сестренка пришла и села рядом с братцем. Ветер путался в темных прядях. Она сидела и смотрела, как садиться алый солнечный диск — в темную траву, и кажется, даже ждала, что трава не выдержит такого обращения и вспыхнет. Девочка немного боялась. Но солнце гасло, словно садилось не в траву, а в море. Торон пошевелился. Когтистая лапа взялась за тоненькую ручку ребенка; зеленая кровь пачкала нежную кожу, но ни он, ни она не обратили на это внимания.
Темнело. Кровь торона светилась в темноте — на коже ребенка, на земле и траве. Алый, на полнеба закат угасал, словно угли костра, изредка вспыхивая огненными искрами. И уже в полной темноте торон поднялся, и рука в руке пошли они с маленькой сестренкой по холодной и мокрой от вечерней росы траве. Ветер все не успокаивался, он метался вокруг, и шелест травы сливался в один странный и тоскливый звук ночи. А потом, подхватив ребенка под мышки, торон взлетел.
Девочка пискнула и затихла. В прозрачной чистейшей тьме летели они, и травы шелестели под ними, переливаясь на ветру, а вверху, в бесконечном небе, зажигались бледные звезды. Сердечко девочки стучало как безумное; ветер бил ей в лицо, отбрасывая волосы со лба. Ей хотелось закричать, завизжать во весь голос, чтобы хоть как-то выразить свой восторг, но она не смела. Свернувшись, словно котенок, в когтистых лапах торона, она летела над бушующей степью, и глаза ее блестели в свете звезд.
7. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Рамены, день третий.
…Мы остановились в деревне под названием Рамены. Деревня довольно большая, не меньше полутысячи дворов. Дома здесь большие, бревенчатые, многие поверх сруба обшиты досками, заборы высокие, центральная улица замощена булыжником, словно в городе. В округе лесов нет, но это уже лесная зона. На горизонте виднеются уже горы Лоравэя (что бы там ни говорил Михаил Александрович, но такое произношение мне нравиться больше, чем более правильное, по его мнению, Лоравэй). Узкая такая, синеватая полоса; по-моему, там растут леса, но я не уверена, этих гор я никогда не видела, только вот так, издалека. Занимаются в деревне только земледелием и скотоводством, вокруг — сплошные поля, засеянные какими-то злаками; ровная темно-зеленая зелень. В деревне есть Дом Сказаний, и Стэнли и Михаил Александрович в восторге….
Мы поселились в нескольких домах на одной улице. Дома здесь большие, в доме, где поселили меня, Стэнли, Михаила Александровича и Эмму Яновну (они с Михаилом Александровичем давние друзья и разлучаться не желают, чуть ли не под ручку всюду ходят), семь комнат, сени, кухня и еще на чердаке кто-то живет. Здесь живут так называемыми большими семьями, несколько поколений вместе. Внутри дом темный, неуютный, хоть и висят всюду расшитые полотенца, на чисто выскобленном дощатом полу лежат косо брошенные пестрые половики. В горнице стоит большой и длинный стол, две некрашеные скамьи, табуреты, большая печь в изразцах и два огромных, потрясающих воображение своими размерами, старых темных сундука, покрытых темной непонятной резьбой. Подворье громадное, сплошь сараи, коровники, амбары, черт знает что еще. Временами мне здесь грустно и скучно; крестьянский быт вовсе не то, что может принести мне вдохновение. Иногда мне это кажется совсем странным — жить так, как живут эти люди. На одном месте. В большой семье. Со своим хозяйством. Конечно, умом я понимаю, что большинство людей живут такой, более или менее сходной с этой, жизнью, но… сама я не живу так и никогда не жила. И всякий раз, близко соприкасаясь с такой жизнью, я испытываю почти недоумение. В общем, мне здесь не нравиться.
Старший в этой семье высокий и крепкий старик, почти совсем лысый, светлоглазый. Лицо его, гладкое, темное, чисто выбритое, кажется лицом мужчины лет сорока, ну, пятидесяти, на самом же деле говорят, что ему исполнилось уж девяносто два. Жена у него маленькая и сухонькая, седая-седая, но вчера я слышала, как она отчитывала невестку в огороде: голос у нее резкий и пронзительный, а уж как она тычками в спину погнала перепуганную невестку, здоровую румяную девушку, в дом…. Вечером вся семья собралась ужинать в горнице, за большим столом. Мужчин было человек десять, все молодые крупные мужики, русоволосые, бородатые, в домотканых белых рубахах. Женщины сидели между мужчинами, в платках и пестрых кофтах, две перепуганные девочки, босоногие, в синих простеньких платьях, подавали на стол. За столом было весело и шумно, лишь старик сидел молча и хмурил брови, когда раздавались взрывы здорового хохота. На душе у меня от этой картины тало совсем невесело, я поторопилась уйти….
…Наш проводник сидит во дворе, подальше от нас. Ему явно неуютно в любых зданиях, даже в бревенчатых домах. Он сидит сейчас на скамье возле забора, на ней по вечерам выходят посидеть хозяева. Я видела их вчера, хозяин, худенький мужичок с темным морщинистым лицом, сидел, степенно сложив руки на коленях, его жена и две дочери, все полные и румяные, сначала грызли семечки тыквы (здесь тыквы растут красные, их явно завезли с Рио-то; хороший повод для Куна почувствовать легкую дозу ностальгии, жаль, что он с нами не поехал). А потом женщины пели. Михаил Александрович все бродил поблизости с диктофоном в руках, пытаясь выбрать место для записи.
Проводник наш меня очень интересует. Он, и правда, очень странный. Он сидит, опустив по обыкновению голову, а вокруг бродят куры, не обращая на него ни малейшего внимания. Никто до сих пор не знает ни что он ест, ни где он спит. Он исчезает куда-то ночью и возвращается с рассветом. И сторониться нас.
Я не удержалась-таки, вышла из дома и присела на скамью рядом с ним. Одна штанина у него была разорвана до колена, на ноге красовался большой кровоподтек. Я хотела спросить его, что случилось, но не решилась. Он и так ведет себя словно дикий кот. Погода сегодня неустойчивая, то дождь, то неожиданно жаркое солнце, и все испаряется, духота стоит невыносимая. Я сидела рядом с ним, а тучи постепенно скрывали солнце и, наконец, скрыли совсем. Стало прохладно. Ветер налетал порывами, то вдруг ударит, то стихнет вдруг.
— Начинается дождь, — сказала я, когда первые капли упали на утоптанную землю двора, — Пойдем в дом, не будешь же ты сидеть здесь под дождем.
Он вдруг вскочил, словно безумный, его черные глаза сверкнули сквозь свисающие на лицо волосы, и он бросился в дом.
Когда я вошла, он сидел возле печи, в самом углу, откинув голову. Лицо его было почти не скрыто волосами, но оно оказалось настолько грязно, что черт было не разобрать. Глаза его были закрыты.
Я принесла ему тарелку с горячей кашей, просила его поесть, но он лишь покачал головой. Сидел он, весь как-то сжавшись, словно дикий зверь, попавший в клетку.
После обеда мои, так сказать, сожители собрались в Дом Сказаний, и я потащилась за ними, сама не знаю зачем. Такие уж они люди…. Стэнли пытался шутить, смешить меня, только мне было не очень весело. Эмма Яновна, в черных брючках и свободном легком свитере длиной до колен, шествовала под руку с Михаилом Александровичем. Они болтали о чем-то о своем. Эмма Яновна все-таки поразительная женщина. По грязной деревенской улице, в обычной походной одежде, она умудряется идти с таким видом, словно по роскошной зале в бальном платье, в жемчугах; и главное — все окружающие тоже почти видят эту залу, платье, расшитое золоченым кружевом, жемчуга, обвивающие ее шею. Так-то. Этому не научиться нигде, с таким талантом нужно родиться.
Дом Сказаний стоял на соседней улице. Это был большой бревенчатый дом за высоким зеленым забором, с крышей, выкрашенной охряной краской. Михаил Александрович отворил невысокую калитку в воротах и прошел во двор. Мы вошли за ним. Хранитель Дома Сказаний стоял в дверях, боком к нам, уперев локоть в дверной косяк. Это был невысокий седенький человек в темной куртке с неподходящими по цвету заплатами на локтях. Услышав шум, он оглянулся на нас и сбежал с крыльца. У него было худое, темное, сильно морщинистое лицо, светло-светло-голубые, словно выцветшие глаза и широкий рот, придававший внешности этого человека что-то странное. Поговорив с Михаилом Александровичем, хранитель пригласил нас внутрь.
В Доме Сказаний сейчас днем было темно и пусто. Эмма Яновна, Стэнли и Михаил Александрович остановились с хранителем возле небольшой двери, отделявшей общественное помещение Дома от комнат, где и жил хранитель. Дверь было приоткрыта, и оттуда сочился слабый свет.
Я ходила по темному помещению, разглядывала бревенчатые стены, сооруженную из досок сцену и длинные, из половых досок сколоченные скамьи для зрителей. Обстановка была грубая, словно бы временная, однако ж стена за сценой обшита была деревянными панелями с потемневшей, старой, но все же изумительной по красоте резьбой. Нагулявшись по этому не слишком привлекательному помещению, я подошла ближе к говорившим.
— И что у вас в репертуаре? — спрашивал Стэнли.
— Есть прекрасные варианты "Песни о странствии", — начал было хранитель с оживившимся выражением худого морщинистого лица, — сейчас у нас есть один молодой человек с прекрасным голосом…. Ну, да ладно, — неожиданно оборвал он сам себя, видно, вспомнив о судьбе воронов, — Есть еще новые сказания, — продолжал он уж без того оживления, — мой помощник привез их с южного материка в том году. Очень своеобразные. И по содержанию, и по поэтике….
— Простите, где вы учились? — влез вдруг Михаил Александрович, видимо, чувствуя себя забытым в этом разговоре и для того задавая ненужный и неуместный вопрос, чтобы показать только, что и он участвует в обсуждении. Каверину явно скучно было это обсуждение, но и просто молча стоять рядом ему показалось неуместно.
— У Ловата, — коротко бросил хранитель и продолжал говорить о сказаниях, — На юге весьма оригинальные сюжеты, да и жизнь там совсем иная. Вам, я думаю, интересно было бы послушать. Или вот, например, сказание о проклятой семье. Вы еще не слышали? Это написал один из студентов Альверденского искусственного (он имел в виду Альверденский университет искусств). Говорят, это история его семьи. Есть уже и прозаический, и поэтический варианты. Очень талантливо, талантливая нынче пошла молодежь… — он снова осекся. Всюду были запретные темы, о чем ни заговори.
Прикусив губу, я подумала вдруг, что, пожалуй, этот человек должен ненавидеть нас. Не зря так он прерывает свою речь, словно не дает прорваться настроению. Как же все нас должны ненавидеть здесь! Не крестьяне, не горожане, нет, не те — обыватели, но те, кого в иных местах зовут интеллигенцией, элита, объединенная магическими искусствами. И этот человек в заплатанной куртке, он ведь тоже маг, не зря учился он в одной из самых престижных магических школ. Хранители Домов Сказаний такие же полноправные маги, как и те, кто читает заклинания и занимается прочими вещами. Сказание — это ведь тоже магия, и некогда на Земле об этом знали. Скандинавы, по крайней мере, знали. Был у них такой бог по имени Один, который добыл мед поэзии…. Сила слова велика, в этом сходятся представители магических сословий всех планет, будь магия, которой они занимаются, подлинной или мнимой.
Впрочем, теперь я думаю — есть ли мнимая магия, кто рассудил, мнимая ли она? Откуда во мне некогда бралось это высокомерие? Казалось бы, мне, координатору, не пристало огульно так судить; ведь кому-кому, а нам известно, что все во Вселенной вовсе не так однозначно, как кажется иной раз людям, не выходящим за рамки своей устоявшейся жизни. Теперь я думаю: магия всегда есть магия, но, как и всякое природное, она тиха и незаметна. Так действие лекарств наглядней и быстрее, чем действие травяных отваров, однако ж и они тоже действуют, и действие их мягче и меньше вредит организму. Так же и магия. Быть может, все эти наговоры, нашептания, заклятия имеют силу, но действуют они исподволь, незаметно….
Смешно, как человек замыкается в своем мироощущении, даже не в том, чего он сам достиг, своим умом и сердцем, а в том, что ему внушили с детства. Целый год я прожила среди шаманов, сама черт знает чем занималась, да только…. Разум мой закостенел в обывательских представлениях о жизни, даже странно чувствуешь себя, узнав о себе такое. Впрочем, шаманизм — это не магия, они отличаются примерно так же как детские рисунки и картины гениальных художников. Обращаются они к одним и тем же силам, но между художником и красками стоят техника, талант, многолетний опыт — словно защита от красок и кистей. Так и магия. А шаман, он один на один с природными силами, ничем не защищенный от них, и они хватают его, бросают его, носят в своей бесконечной мощи. Маг обращает силы эти себе на службу, шаман же отдается им сам. Страшная это, в общем-то, штука. Даже в воспоминаниях страшная. Сколько раз я сама танцевала в священной ярости, с копьем или боевым шестом в руках, отдаваясь на волю этих сил. И в те минуты — вот что самое страшное! — я теряла себя; в те минуты, когда я танцевала на алых, нереальных камнях, нагретых беспощадным солнцем, не было уже ни координатора второй степени, ни той девочки, что ходила некогда по прозрачным улицам веганских городов, ни маленькой Ра, что обнимала когда-то за шею Царя-ворона. Была только На-гои-тана, отшельница священной ярости, босоногая маленькая женщина с короткими волосами, к жилищу которой не смели приближаться ни люди, ни звери….
Михаил Александрович, наконец, совсем заскучав, вышел на улицу, оставив Стэнли и Эмму Яновну договариваться с хранителем. Помедлив немного, я вышла вслед за ним.
После темного помещения выйдя на яркое солнце, я почувствовала себя так, словно вышла из небытия в жизнь. Облака, стоящие на ярком, голубом, низком небе, не закрывали солнца, и свет его заливал все вокруг с беспощадной силой. Двор, на который я вышла, был пуст и вытоптан, без единой травинки, как и всюду в деревне. Желтоватая сухая земля была утоптана до каменной твердости, лишь за вытащенными и сваленными вдоль забора старыми, уже трухлявыми скамьями росли робкие лопухи, покрытые желтой летней пылью. Михаил Александрович, в зеленой куртке и светлых мятых брюках, с растрепанными седыми волосами, на вид мягкостью напоминавшими встрепанные волосенки двух-трехлетнего ребенка, стоял подле невысокого, в три ступени крыльца и ковырял носком ботинка твердокаменную землю. Я присела на темную от времени ступеньку и, подперев щеку кулаком, посмотрела на Каверина из-под челки. Ему это явно понравилось.
— Ну, что, Кристина? — сказал Михаил Александрович тем особенным, ласково-поощрительным тоном, которым обычно говорил со мной; таким тоном часто говорят пожилые профессора со способными и привлекательными студентками, и те, чувствуя, так и льнут к своим профессорам. И я, чувствуя, что нравлюсь Каверину, слегка кокетничала с ним, как студенточка с пожилым профессором. В сущности, такие отношения, никого не задевая всерьез, являются одним из очарований классического образования. И это не цинизм, я, правда, так думаю, и любая женщина, припомнив свои студенческие года, согласится со мной. Есть что-то совершенно особенно в том внимании, которое оказывает тебе пожилой и умный, с научными степенями человек, от которого, ты, к тому же зависишь, и который тебя обучает, с которым ты, быть может, разрабатываешь какую-то научную проблему….
— А вы?.. что думаете? — откликнулась я живо.
— Интересный человек этот хранитель, — сказал Михаил Александрович, — Энтузиаст.
— Они все такие.
— Н-да…. А вы хотите послушать новое сказание, Кристина? Хоть вы им скажите, а то меня ведь Эмма не слушает. Она уговорит-таки Стэнли на «Марию». Она, знаете ли, ее собирает, разные варианты, а вариантов этих немереное количество. В каждой деревне свое исполнение.
— "Марию из Серых гор"?
— Да. Печальная история, правда? В сущности, мне всегда было интересно, почему они похищают девушек. Я слышал даже, что среди воронов совсем нет женщин.
— Да, так говорят, — сказала я тупо. Обсуждать воронов, даже с Кавериным, в первый момент мне показалось невозможным. Иногда даже думать странно о том, как в жизни все просто: они были, и их — нет.
— …и интересно еще, почему таких молоденьких или совсем даже детей. Зачем ворону дите пяти лет?
— Ну, это я вам скажу, — усмехнулась я вдруг, — это я вам объясню, — говорила я, с неожиданной ясностью вспомнив мою Элизу, ее печальные глаза и полный тоски голос, когда она говорила про Альверден, про свой Альверден. Почти все, что я знаю о воронах, рассказала мне она — вечерами, укладывая меня спать, и я слушала, как сказки, эти безумные, странные, пронизанные нечеловеческим колдовством истории.
— Это я вам объясню, — сказала я, — Это просто. Что будет, если украсть взрослую девушку? Она уже привыкла к определенной жизни и мышление ее уже устоялось, все понятия о жизни. И тосковать она будет. А ребенка можно переучить. А ребенок будет считать своим домом Серые горы. Да и воспитать себе жену — в этом есть своя мудрость. В мудрости воронам не откажешь, их представления о жизни на наш, человеческий взгляд, странные, но на проверку, пожалуй, более мудрые и верные…. Хотя и взрослых похищают конечно. Похищали, — прибавила я, вспомнив, о ком говорю.
— Жалко их, конечно. И Альверден…. Ах, какой красивый был город! Опять же, университеты. Но, знаете, Кристина, я, например, не замечал никакой неприязни. Ведь это уже не первая колонизация планеты, да и колонизацией-то это не назовешь, нас здесь так мало и больше, пожалуй, не будет. Ведь это же настоящее космическое захолустье.
Тихо я пересказала ему свою версию случившегося. Михаил Александрович покрутил головой.
— Что ж, это не так уж и глупо. И вороны! Очень может быть, что вы правы, Кристина. Каких только версий мы не строили! Но этот тонкий момент о продолжительности жизни воронов…. Никому и в голову не пришло, что они могли задумать это еще тогда, никто и не подумал, что у них совсем иная психология, ведь для них прошедшие годы — это так…. Конечно же. Но какая интрига! Как они терпели нас все эти годы, делали приветливое лицо! Кстати, я могу сказать вам кое-что, что подкрепит вашу версию. До последнего времени здесь было не меньше десяти звездолетов, ну, и персонала соответственно. А сейчас такой момент.
— Да, — сказала я, — да.
— Что-то вы погрустнели, Кристина. Я вот иногда думаю, каким же могуществом должна обладать раса, способная к космическим перелетам, так сказать, вживую.
— А вы в это верите? — живо спросила я.
— Верю — не верю. Я, Кристина, фольклорист, так что я уж и сам не могу сказать, во что я верю, а во что нет. Мышление у меня такое, испорченное мифологией. Я, может, и не верю, да только принужден брать в расчет, и потому часто не могу отличить, что действительно реально, в реальности чего я убежден, а что нереально. Понимаете?
— Н-не совсем, — сказала я, несколько ошарашенная.
— Так я объясню. Видите ли, кроме того, что я собираю фольклор, я ведь анализирую, выявляю, так сказать, систему, ищу связи, сопоставляю с мифологическими системами других планет. Понимаете? Я привык оперировать мифологическими понятиями не со ссылкой на их недостоверность, а с полным признанием их реальности. Я так привык, у меня такая работа, а ведь вера или неверие суть принятие и непринятие.
Я улыбнулась. Небо сплошь уже было белесым, в серину, хотя десять минут назад ярко светило солнце. Только слева открывалось размытое окно голубоватого бледного оттенка, и по нему веером расходились полосы перистых облаков. Воздух был теплым, но ветерок поостыл и задувал по-осеннему, холодными порывами.
— А странно, вам не кажется, Кристина, что здесь нет художественной литературы?
— Отчего же? — вяло сказала я, — Так бывает.
— И вовсе нет. Вы подумайте, прекрасные университеты, масса образованных людей, Дома Сказаний в каждой деревне. Но никому даже в Альвердене не пришло в голову собрать хотя бы эти сказания воедино, записать их на бумаге. И это при том, что иная, научная литература процветает во множестве. А художественная — только устная.
— Ну, вам виднее, — сказала я, — здесь мне с вами спорить трудно.
— А со мной, Кристина, спорить не надо, меня надо слушаться. А впрочем, кому же спорить, как не вам, хоть я и сижу здесь десять лет. Вы ж у нас княжна Севера!
— Михаил Александрович! — воскликнула я, задетая его насмешливым тоном.
— А что? — невозмутимо отозвался Каверин, — Все так и есть, разве нет? Кстати, а у торонов есть сказки?
— Да как вам сказать…
— Как есть.
— Они ведь не говорят так, как мы. Но, пожалуй, есть. Но не сказки, а легенды…. Это у всех, наверное, есть, — продолжала я задумчиво, — легенды о прошлом, о том, откуда они появились, о богах и героях.
— А у них есть боги? — спросил Михаил Александрович тоже тихо, невольно, видно, подстраиваясь под мой тон.
Я мотнула головой так, что челка упала мне на глаза. Поправляя ее рукой, я сказала:
— Нет, богов у них нет. В обычном смысле. Но они все одушевляют — воду, траву, ветер, дождь. Они живут в мире, где обитают мириады существ, существование которых мы не признаем. Тороны считают, что могут говорить и с деревом, и с ветром, и с мельчайшими песчинками бытия. Считают, что они способны понимать все, что не может изъясниться звуком. Может, так и есть, я не знаю.
Тут вышли Стэнли и Эмма Яновна. Мне пришлось встать со ступеньки и посторониться. О торонах Михаил Александрович больше не вспоминал.
…Вечером мы собрались в Доме Сказаний. Читали "Историю о Марии из Серых гор". На сцене сидели две женщины и говорили по очереди, тихо и нараспев. Этот вариант я уже слышала, как мне кажется, только тогда его пели. У легенды о Марии столько разных вариантов, и песенных, и прозаических, что просто диву даешься. Кажется порой, что все художественные таланты Алатороа заняты лишь обработкой этой легенды; во всяком случае, это исполнение было великолепно, его хорошо было бы запустить в центральный информаторий. Зрителей было очень много, не только сидели, но и стояли вдоль стен. Посреди исполнения вдруг распахнулась дверь, и на пороге появился наш проводник.
В полутемное помещение хлынул сноп солнечного света. Тонкая высокая фигура стояла в этих лучах, темная, лица не рассмотреть. Он стоял неподвижно, выпрямившись, натянутый, как струна. И в этот миг я действительно поверила в то, что он и впрямь из дивного народа. Словно сиянием его окружал солнечный свет, и тонкая напряженная фигура и впрямь казалась фигурой файна.
8. История Марии из Серых гор. Фрагмент диктофонной записи.
Она была лишь нелюбимое десятое дитя.
Ее ждала нужда. Ей предрешен был тяжкий труд.
И всем казалось, ей дано судьбой
Лишь стать крестьянкой, сгорбленной трудами.
Но в этом всем судьба дала урок:
Не предрекай, не зная.
Она была совсем дитя,
Носила жалкие обноски
И коз пасла на берегу реки.
На этого несчастного ребенка
Никто не посмотрел бы с умиленьем —
Уж больно был ребенок неказист
И жалок, с растрепанными космами волос.
Родная мать, и та не привечала
Десятую, ненужную ей дочь.
И в жаркий полдень бедная малышка
Заснула вдруг среди цветущих трав.
Все коза разбежались кто куда….
Она спала, и верят все, что это был не сон,
Не просто сон усталого ребенка,
Но посланный судьбою….
И некто проходил по той поляне.
Он встал над человеческим ребенком
И усмехнулся. И готовился уйти.
Но взгляд его остановился вдруг,
Прикованный неодолимой силой:
Из-под запачканной косынки выбивались
На шейку пряди золотых волос.
То был не просто путник, то был Ворон,
По волшебству принявший этот облик.
Все издавна познали — девочку,
Родившуюся златовласой, надо прятать,
Не оставлять ее одну в лесу и поле,
А лучше вовсе и не выпускать из дома,
Иначе Воронам достанется она.
Лишь золотые косы смертных дев
Имеют власть над ними, и они
Всегда берут светловолосых в жены.
Малютку в пол не нашли
(Как не нашли и коз),
Но вот о козах горевали больше.
И скоро даже мать забыла свою меньшую дочь,
И имя, что дала ей.
А впрочем, проживи она среди людей
Всю жизнь и нарожай детей,
Ее забыли бы едва ли не скорее.
Но судьба
Ей уготовила иное.
И Марию,
И жизнь ее,
Наполненную мукой
И величьем той,
Что жизнь свою с Великими связала,
Мы помним до сих пор
И будем вспоминать,
Покуда снова в звездные глубины
Не унесется это племя,
С которым
Ее судьба объединила.
Она проснулась в комнате,
Открытой всем ветрам,
В вершинах высочайших гор.
И тот, кто стал ей мужем,
Смотрел, как пробуждается она.
Она была еще ребенком — острый меч
Их разделял во время сна.
Но в остальном она была женой.
Так с детства приучалася она
Жить, любить и соблюдать обычаи этого народа,
Что отныне был ей родным.
Но много времени прошло, пока
Ей не открылось, что она
Жена не просто воина и мага,
Но Короля….
Она росла.
И полюбила мужа своей душой.
Она ждала лишь дня,
Когда он, наконец, коснется ее тела.
Она была так счастлива любовью —
Прекрасное невинное дитя. Пятнадцать лет.
Беда пришла нежданно.
Война, где нелюдь шел на человека,
А человек на нелюдя…
И Вороны должны были решать,
Им, существующим как птицы и как люди,
Была дана от мира эта власть.
Но и они не избежали тех ошибок,
Что каждый должен совершить.
Людей им было не за что любить, и Вороны желали
Встать на иную сторону, и лишь Король противился.
Был среди Воронов старик, что ненавидел Короля,
Он выступил вперед и объявил,
Что обвиняет Короля,
И произнес такое заклинанье:
Ничья тень да не падет на тебя,
Травы выдернут корни свои и отступят пред тобой,
Воды текучие побегут от тебя,
Воды стоячие в землю впитаются, чтобы не питать тебя,
Капли дождя обойдут тебя стороной,
Все живое отвратиться от тебя,
Все мертвое рассыплется в прах перед тобой,
Ибо ты отныне изгой и во веки веков изгой.
Прочь от мира пусть уведет тебя тропа.
То было заклинание изгнания.
Такая власть над миром Воронам дана,
Что мир их слушается, и отныне
Изгнаннику лишь смерть была уделом…
9. Из сборника космофольклора под редакцией М. Каверина. Литературная обработка Э. Саровской. История Марии из Серых гор.
Когда эта девчонка, Мария, родилась, никто этому, понятно, не обрадовался. В семье было уже девять детей, да семеро — девки, куда еще одну-то? В год ее рождения у них и вовсе пожар случился, да так, что не только добра не вытащили, но и двоих детишек не уберегли. Отец ее продал землю и купил развалюху на краю деревни. Там-то Мария и росла, пока жила со своими. Да только жила она там недолго, всего-то шесть годков.
Когда девочка пропала, никто особо не опечалился. Мария была светленькая, и хоть ребенком она была нескладным, худеньким и некрасивым, все сочли, что ее похитили вороны — демоны, поселившиеся в Серых горах с незапамятных времен. Они только тем и занимались, что похищали девочек и молоденьких девушек, и преимущественно светленьких. Если б семья жила хорошо, родители пожалели бы о своей младшенькой, а нынче только рады были, что одним ртом стало меньше. Отец даже сходил в Храм Света в благодарность за то, что эта участь постигла младшую — самую некрасивую, а не вторую дочь Веру, которую можно было при удаче выгодно выдать замуж (она и вправду стала женой бургомистра Альвердена и важной дамой).
Мария же, уснувшая на опушке леса в жаркий и душный полдень, проснулась в просторной комнате с каменными стенами, на широкой кровати под серым балдахином. Во все глаза смотрела девочка вокруг, и не сразу она поняла, что на кровати с краю сидит кто-то и смотрит на нее. Этот кто-то сидел так неподвижно, что девочка не замечала его, прежде чем не наткнулась несколько раз на него взглядом. Но так же, как прежде она не замечала его, довольно долго она не видела, какие у него глаза. Прежде Мария увидела всю его внешность целиком: худое сухое лицо с определенными красивыми чертами, короткие черные волосы, черные свободные одежды, странная металлическая узорчатая палка на поясе. И только потом она увидела его глаза.
Разрез глаз у того, кто сидел перед ней, был человеческий, но под веками таилась абсолютная тьма. Эта была чернота ночного неба или вод глубокого колодца. В сущности, это были глаза птицы или собаки, в общем, того существа, у которого радужка настолько велика, что белка не видно. Но из-за того, что глаз эти были не просто темные, а именно черные, нельзя было понять их выражения, и они производили странное и страшное впечатление. Мария и впрямь испугалась, но после того первого мгновенного страха она больше никогда не боялась его.
Тот, кто показался девочке человеком, пусть и со странными глазами, был Царь-ворон и один из величайших магов, что когда-либо рождались среди этого народа. До него никто не сумел овладеть Жезлом Тысячелетий, который всегда был знаком Царя и в котором была сосредоточена вся магия воронов, этого чудесного народа, пришедшего из космических далей. Жезл этот в незапамятные времена был сотворен Кордом-магом, и до недавнего времени его сила была неподвластна никому. И теперь Мария должна была стать его женой. Она, конечно, была слишком мала еще, потому, пока ей не исполниться восемнадцати лет, они должны были спать, разделенные мечом.
Девочка выросла под присмотром Эльмы, жены старика Тэра. Именно от Эльмы Мария, с раннего детства страстно полюбившая мужа, узнала достоверно, что он за создание. О том, что он существует в двух ипостасях, она знала давно, и это не смущала ее так, как то, что ему уже было больше шестисот лет и что он еще много проживет после того, как она состариться и умрет. Марию это открытие страшно разозлило, она ревновала его к тем женщинам, которое — шесть веков! — были у него до нее и которые будут после. Два дня она ходила красная и злая и ссорилась с мужем, пока Эльма не допыталась, в чем дело, и не объяснила ей, что вороны женятся лишь однажды и что ни одной женщины, кроме нее, в его жизни не было и не будет. Другой мукой было для Марии то, что он женился на человеке, и оттого все будут плохо о нем думать. Но она выяснила — к немалому своему удивлению, — что среди воронов есть только мужчины, и они испокон века женились на человеческих дочерях, у которых при этом рождались только мальчики и только вороны.
Никто не знает, отчего разгорелась война людей с остальными народами. Как и у всякой войны, у нее не было очевидных причин. Вороны встали, конечно, на сторону нечеловеческих народов. Один лишь Царь-ворон не хотел войны. И власть его была так велика, что он мог бы и остановить конфликт, но Совет старейшин, куда входили все уважаемые и старые вороны, хотел войны и считал, что Царь предает интересы своего народа.
И вот однажды старая Эльма, вбежав к комнату к заболевшей Марии, закричала, что Тэр сошел с ума и что Совет хочет изгнать Царя. Наспех одевшись, Мария побежала на площадку Совета, но она опоздала. Над ее мужем уже произнесено было Большое заклятье изгнания. И хуже того: изгнанника, закованного в цепи, похоронили заживо в расщелине между скал. Бог знает, сколько он умирал бы там, ибо вороны обладают очень большой жизненной силой. Там, в своей могиле он вряд ли умер бы скорее, чем умирает просто обреченный на изгнание. Этой не имеющей смысла жестокостью Совет как бы признавал свою вину в изгнании Царя.
Марию никто не тронул. Она должна была остаться среди вороньего народа и жить по-прежнему. А Царем стал Тэр.
Мария не была настоящей женой изгнаннику, и когда через два месяца Роден Свистопляс захотел на ней жениться, никто этому не воспрепятствовал. Это произошло на площадке Совета. При свидетелях Роден хотел надеть на девушку золотую цепочку, хоть у нее на шее уже была одна такая: ту никто не посмел снять с нее. Мария отступала, пригибая голову, но ни слезинки не появилось в ее глазах. Вдруг сильнейший магический удар разметал тех, кто выламывал девушке руки. Узник, которого считали надежно погребенным, стоял перед воронами. Он исхудал, и одежда его превратилась в лохмотья, но тем явственней ощущалась в нем безудержная колдовская мощь. Мария кинулась к мужу. Вместе они покинули Серые горы.
Мария думала, что худшее уже позади, но худшее только начиналось. Лишь сейчас она осознала, что слова Большого заклятья были не только словами:
Ничья тень да не падет на тебя,
Травы выдернут корни свои и отступят пред тобой,
Воды текучие побегут от тебя,
Воды стоячие в землю впитаются, чтобы не питать тебя,
Капли дождя обойдут тебя стороной,
Все живое отвратиться от тебя,
Все мертвое рассыплется в прах перед тобой…
Мария думала, что это слова. Но так было на самом деле. Трава вяла под его ногами, листва деревьев отворачивалась, чтобы не бросать на него своей тени. Не еды, ни питья не было ему больше в мире. Он жил лишь своей — немалой — жизненной силой, но обречен был умереть так же верно, как и погребенный в той могиле, из которой сумел выбраться. Он мог прожить еще год или два, но он уже сейчас умирал — у нее на глазах.
Так прошел год. Война все длилась, и в этой войне вороны терпели поражение. И настал день, когда Мария, отошедшая от песчаной отмели, где уснул ее муж, вернулась и увидела ужасную сцену. На мокром пляже под ненастным небом, по которому ветер гнал лохматые тучи, друг против друга стояли ее муж и старик Тэр.
— Ты виноват в том, что происходит, только ты! — кричал Тэр, и вид его при этом был столь странен, что Мария подумала: уж не безумен ли он?
Магический поединок, произошедший между ними, Мария не воспринимала никак. Она чувствовала лишь дуновение сил и понимала, что происходит между ними, но не понимала, как складывается этот поединок и на чьей стороне перевес. Кончилось же все тем, что Тэр сам кинулся на противника. Они катались по мокрому песку, но скоро изгнанник, хоть он и был истощен до крайности, начал брать верх. Он душил старика, уже не руководствуясь разумом, но лишь гневом и болью — ведь это был тот, кто читал над ним заклятье изгнания! Мария, вскрикнув, бросилась к мужу и стала разжимать его пальцы.
Изгнанник зло глянул на нее. В ее растерянных серых глазах он увидел все: он увидел, что она молода, что она устала от его боли и не хочет больше так жить. Ее юная любовь не выдержала испытание болью и отчужденностью, ибо ее муж весь этот год был холоден и безразличен с ней, она, слишком юная и слабая духом, не могла ничем поддержать его. Изгнанник протянул руку и оборвал тоненькую золотую цепочку, которую Мария носила с пятилетнего возраста. Он исчез, черная птица взмыла в небо и полетела, и Мария следила за его полетом и плакала, сама не замечая этого.
Она догнала его на перевале Трети. Была страшная вьюжная ночь. Измученная, девушка уже не шла, а брела между скал, когда увидала вдруг мужа. Она села рядом с ним и, взяв его иззябшие руки, стала целовать их.
— Тебе не нужно было приходить, — холодно и устало сказал он, но девушка лишь рассмеялась.
В ту ночь она стала его женой.
Утром, проснувшись, Мария увидела, что ее муж сидит и смотрит на нее. Такого усталого, странного и обреченного взгляда ей еще не доводилось видеть у него.
— Я умираю, — сказал он, и холод прозвучал в его голосе.
— Нет… — пробормотала она, глядя в его глаза — уже мертвые.
— Помолчи и послушай меня, — откликнулся он нетерпеливо, — иначе я не успею тебе всего сказать. В тебе — мое семя. У тебя будет два сына…
— Ты не можешь этого знать, — машинально сказала Мария, вглядываясь в его лицо и все больше убеждаясь в том, что он действительно умирает. Ужас перед его смертью вдруг нашел на нее, не раз желавшую этой смерти, желавшую освобождения. И вот ее освобождение было близко.
— Я — знаю, — сказал он, — Один из них будет великим магом, но он умрет очень рано, не успев проявить себя. Другой не будет представлять из себя ничего особенного. Но пока ты носишь этого ребенка, наделенного магической силой, часть этой силы принадлежит тебе. И этой части хватит на то, чтобы ты могла воспользоваться жезлом. Ты понимаешь?
Мария смотрела на мужа. О да, она вполне понимала, что он хотел сказать: спасение Серых гор теперь зависит от нее.
— Ты простил им? — спросила она.
Ворон зло рассмеялся. Мария часто потом вспоминала этот смех, и то, как он взглянул на нее. Они не смогли бы понять друг друга, слишком много столетий стояла между ними.
Он умер в тот же день. Мария вернулась в Серые горы, где нашла лишь руины. К тому времени из полумиллионного народа в живых оставалась лишь сотня воронов. Но Мария переломила ход войны. Все силы творения Корда были обрушены на людей, и вороны победили. Через девять месяцев после смерти мужа Мария родила близнецов, один из которых умер спустя две недели, другой же дожил до глубокой старости. Мария тоже прожила долгую жизнь — по человеческим меркам, конечно. Она умерла, оставив своего сына семидесятилетним мальчишкой, совсем еще юным и неопытным.
10. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Иллирийские леса, день пятый.
Лагерь наш расположен на берегу Белой. Здесь она совсем неширока, всего метров пять в самом широком месте, в иных — два, три. Белая делает в этом месте плавный поворот, и на повороте в нее впадает маленький, но довольно энергичный ручей. Между Белой и этим ручьем образовался неровный широкий клин, в остром углу которого растут деревья, а на удалении от него расположен наш лагерь.
Вокруг леса, но здесь, на этом пространстве, где расположен наш лагерь, леса нет, а есть отдельно стоящие сосны, и их скопление похоже немного на редкую рощу, если б пространство это, поросшее соснами, было бы больше, то его точно называли бы рощей, хотя, кажется, так только лиственный лес называют. Не знаю. Земля здесь усыпана пожелтевшей хвоей и шишками, сплошь, ковер шишек под ногами; когда ходишь, на каждом шаге раздается хруст — это шишки. Я люблю сосны, отчего-то ужасно люблю, но когда я села здесь на бревно, то испачкалась в смоле, и шишки эти тоже меня достали. Шишки я тоже люблю, но не в таком количестве.
За соснами начинается галечный пляж, ниже по течению он шире, там река заворачивает и на повороте намыло много песка и гальки. Другой берег обрывистый, но невысокий, там лес, а на самой кромке берега кусты. Здесь близко горы, дно у реки каменистое, пестрое, красивое.
Красные и оранжевые палатки расположились меж сосен очень художественно. Студенты настроили что-то, то ли радиофон приспособили, я не поняла, в общем, у нас теперь музыка. Воду мы берем в ручье, вода там неожиданно чистая и прозрачная, но когда наберешь в ведро, видно, что она слегка белесоватая, это от известняка. Ручей небольшой, но течет в глубоком рву; через него перекинут добротный деревянный мост, хотя поблизости жилья нет. Может, сюда ездят на покосы, не знаю. Вода в ручье такая чистая, что ясно видны крупные белесые булыжники на дне. За ручьем начинается лес, и склон идет немного вверх. Леса здесь вовсе не сосновые, а обычные, широколиственные из дуба, липы с черемухой и березой в подлеске. Перед береговым пляжем растет полоса невысокого кустарника. Местность неровная, понижения, повышения. Белая петляет здесь как обычная равнинная речка, на поворотах ее нередко почти пересекают песчаные отмели, она то разливается, то сужается так, что скорее напоминает широкий ручей.
Студенты лазают в темной воде реки, замеряют глубины и скорости течения. Хоть у них и есть у каждого какая-то специализация, они обычно всем занимаются вместе. День сегодня ясный и жаркий, приятно, наверное, поплескаться в холодной воде. Впрочем, в открытых водоемах я купаться не привыкла. С реки долетают смех и крики; студенты зовут Сонечку купаться, она отказывается, откликаясь низким и веселым голосом. Честно говоря, вся эта суета уже достала меня; мне скучно с этими людьми. Координаторы, вообще, наверное, народ необщительный, ибо часто или нельзя говорить или не с кем. Мы, конечно, мастера игры, но когда играть не нужно, то вовсе и не хочется изображать из себя общительного и веселого человека. А исследователи все наслаждаются. Они-то в большинстве своем люди компанейские, работа, видно, способствует. Только Харрис сидит в стороне и, когда кто-то подходит к нему и заговаривает, поддерживает разговор, но улыбается немного беззащитной улыбкой. А эти все собрались у костра и смеются и болтают. Михаил Александрович все хочет приобнять Эмму Яновну, она отмахивается и продолжает говорить с Часветом. А за ними, возле понижения к ручью, сидит наш проводник и смотрит — поверх костра и голов смеющихся людей — на меня.
…Мне кажется, что мы находимся недалеко от того места, где был лагерь экспедиции моего отца. Я сказала об этом Стэнли, он подумал, потом достал карту. Мы сидели рядом на бревне и рассматривали карту. Стэнли водил по ней пальцем:
— Смотрите, вот мы, а вот здесь был ваш лагерь. По прямой всего двадцать километров. Как это вы почувствовали?
Я смущенно улыбнулась. На самом деле я не почувствовала, а увидела — в кустах на том берегу реки, когда ходила умываться. Белый проблеск в зарослях — угрюмчики очень осторожны, и их почти невозможно увидеть, но я все же разглядела сливово-синие круглые глаза и белоснежные уши. И узнала сразу — как же, я не могла забыть своим белых дружков, первых моих знакомых на этой планете. Значит, совсем недалеко отсюда течет темноводная Дэ, и Серебряная Ива шумит под порывами ветра, отражается в ручье Духов…. Ах, боже мой!
— У вас такой мечтательный вид, — сказал Стэнли.
— Я кое-что вспомнила. Одну детскую сказку про маленьких пушистых существ, живущих на деревьях и в подземелье под большой ивой….
Я увидела, как при этих словах наш проводник, сидевший неподалеку, поднял голову. Слух у него неплохой, и он знал, о ком я говорю.
При взгляде на него мое солнце словно померкло. Я так и не верю. Неужели файн, золотоносный файн мог дойти до такого?
Какой он все-таки странный.
Я подумываю о том, чтобы сходить к Серебряной Иве. Угрюмчики, конечно, не слишком разумный народец, но все же первый из нечеловеческих народов, попавшихся нам на пути. И мне просто хочется повидать их. Я сказала об этом Стэнли, он снова достал карту и расстелил на коленях:
— Я не слышал о такой реке. Как вы сказали — Дэ?
Я взяла у него карту и аккуратно сложила ее.
— Мы все равно задержимся здесь на несколько дней, — сказала я, — Часвет ведь настаивал. А мне здесь делать совершенно нечего. И я не думаю, что заблужусь, Стэнли, — сказала я, накрывая его руку своей рукой.
Он улыбнулся и забрал у меня карту.
— Ну, одну-то я вас все равно не отпущу, — сказал он.
— Наш проводник, — сказала я тихо, — Ему тоже нечего здесь делать, Стэнли.
— Я ему не очень-то и верю, — так же тихо отозвался Стэнли.
Я заметила, как блеснули глаза проводника сквозь завесу из грязных волос. Слух у него хороший, что и говорить. Я и сама не очень-то ему верила, но сама я Серебряную Иву ни за что не найду, да и потом мне интересно побыть с ним наедине. Я никак не могу понять, кто он такой.
— Вы пойдете со мной? — обратилась я прямо к проводнику.
Он молчал.
— Пойдете?
— Сейчас период варки, — наконец, сказал он, — Вы их спугнете.
По-моему, я впервые услышала его голос. Низкий голос, довольно приятный, но на сорти — с удивлением я заметила — он говорил с каким-то акцентом, мне отчего-то знакомым. Правда, вспомнить, кто так говорит, я так и не смогла.
— Во время варки они собираются у Дерева, а я сегодня видела одного.
— Может быть, они еще не поймали аульва.
Он слегка проглатывал «у», «аульва» сказал почти как «альва».
— Вы меня проводите?
— Хорошо, — сказал он с явной неохотой.
Поднявшись гибким движением, он ушел в сторону леса. Я проводила его взглядом.
— Не думаю, что вам стоит с ним идти одной, Кристина, — сказал Стэнли.
— Зачем же вы его взяли в проводники? — сказала я со смехом, — Стэнли, будет вам, не думаете же вы, что он меня убьет и расчленит труп? Я вовсе не маленькая девочка, Стэнли, хоть, может быть, мне и хотелось бы ею быть.
Стэнли тоже посмеялся.
— Но он все-таки странный, Кристина, — сказал Стэнли, отсмеявшись.
— Да, — сказала я, — Вот мне и любопытно.
— Не боитесь?
— Не-ет, — сказала я невесело, — чего уж мне бояться. Знаете, кем я была на И-16?
— Корнилов рассказывал что-то, да я не помню. Отшельницей вроде какой-то. В горах Вельда?..
— Отшельницей священной ярости, — сказала я.
— О-о!
— Ко мне не то что люди, ко мне звери подходить боялись, а вы меня боитесь с каким-то бродягой отпустить. Вам самому не смешно, Стэнли?
— Смешно, — пробормотал он, — А вы что-то можете?.. Ну, я, в смысле….
— Да, — просто сказала я, — Чего бы и не мочь, могу. Если меня напугать, я такого наворочу, мало не покажется.
Стэнли расхохотался.
— Да это все, наверно, так.
— Все-то все, — возразила я, улыбаясь, — Разница вся в масштабах. Координаторов, например, лучше вообще не пугать. И не тревожить. Знаете, анекдот есть такой: что общего между координатором и сумасшедшим? С ними нужно разговаривать тихо и поддакивать, — Стэнли вежливо улыбнулся, — А то нас злить — себе дороже выйдет.
Стэнли кивнул.
— Но я не о том спрашивал.
— О священной ярости? Да, — сказала я со смехом, который мне самой не понравился, — где мое копье? Я могу даже показать, только ведь всех перепугаю. Ведь боятся, хотя я не знаю, чего боятся.
— Что ж, — сказал Стэнли, — Я видел как-то, и это действительно страшно. Я не удивляюсь, что от вас и звери шарахались. От человека в трансе священной ярости просто волна какая-то идет, не хуже гамма-излучения, отпугивает всех на расстоянии километра. Но я что хотел сказать, разве без галлюциногенов вы можете войти в транс?
— Могу, — сказала я, опуская взгляд на свои руки, сложенные на коленях. Пальцами правой руки я теребила штанину, — Галлюциногены мне уж и не нужны, я ведь не начинающая, я год там плясала. Так-то. Пойду-ка я с проводником поболтаю, — сказала я с кривой улыбкой, — А то энтузиазма у него что-то не наблюдается. Наемные работники так себя не ведут! — провозгласила я, поднимая палец, и поспешно ретировалась. Слишком напряженно и странно начал смотреть на меня Стэнли; я была уверена, что, когда я вернусь, он уже обо всем забудет.
Я перешла по мосту через ручей и вошла в лес. Он был не густой, но с буреломом, с сухим кустарником, так что идти здесь было нелегко. Далеко наш проводник не ушел. Метров через десять я увидала его: он сидел подле сухостойного дерева, прислонившись спиной к сероватому отбеленному стволу, обняв колени руками и опустив по обыкновению голову со свисающими на лицо космами нечесаных черных волос. Я подошла, осторожно переступая через наваленные на земле сухие ветки, и остановилась рядом.
— Вы не хотите идти? — сказала я, глядя на него сверху. Сначала я шла выяснять с ним отношения, но теперь, когда я увидела его жалкую, сжавшуюся фигуру, настроение мое изменилось. Кем бы он ни был, я видела, что что-то с ним случилось, что-то он пережил нелегкое, страшное, и это превратило его в то, чем он являлся теперь. И ругаться с ним сейчас было нелепо и, наверное, жестоко.
— Вы не хотите идти?..
Он молчал.
— Если не хотите, — сказала я тихо, — я дойду и сама, наверное. Это ничего…. Но вы мне объясните, где это, я ведь точно и не знаю.
Ни звука я не услышала в ответ. Мне показалось, что он дрожит, хоть день был жаркий.
— Вы не больны? — сказала я быстро и тихо, — Боитесь, вас рассчитают из-за того, что вам нездоровиться? Так не будет, поверьте мне. Но лучше скажите, если вы больны, возможно, мы сможем помочь….
— Я пойду, — еле слышно сказал он.
— Вы не больны?
— Нет. Когда мы идем, сейчас?
— Да, я думаю, лучше сейчас, — сказала я, — Долго мы не задержимся, так?
— Да, здесь недалеко, — тихо и равнодушно сказал он.
Я быстро собрала свою сумку, покидала туда разбросанные вещи и, вылезя задом из низкой палатки, огляделась. Проводник ждал меня возле кустов у руки. Торопливо я пошла к нему. Стэнли, стоявший возле уже потухающего, с тоненьким вьющимся дымком костерка, помахал мне рукой, я махнула тоже и повесила сумку на плечо.
Я шла следом за проводником через лагерь к реке и все поражалась на то, как он двигается. Ни у кого никогда я не видела такой грации движений, лишь в долине Флоссы в туманную ночь…. Только однажды была я там и видела, как они танцуют в тумане, но сейчас, глядя на то, как легко и плавно ступает этот оборванец по песчаной приречной земле, я не могла отделаться от мысли, что никто, никто не двигается так, кроме… кроме файнов; лишь дивному народу присуща это бесконечная легкость и красота. Я думала так, но и сама не могла поверить в то, что это файн. К тому же темноволосый?
Белая здесь совсем неширока. В метрах двадцати ниже лагеря был брод. Река делала здесь плавный заворот, мы поднялись на песчаный взгорок и спустились с него, подошли к самой воде. Перед тем, как войти в реку, проводник задержался, постоял на берегу, у самой кромки воды, опустив голову. Я стояла позади и смотрела на его худую спину в мешковатой рваной рубахе. Он пробормотал что-то хриплым шепотом и шагнул.
Я вошла в реку следом за ним. Каменистое дно реки было скользким. Самое глубокое место было мне немного выше колена. Сквозь слой темноватой воды было видно пестрое дно и мелкие юркие мальки, серебристо снующие меж камней. Другой берег был не слишком высок, но крупой, с осыпающейся глиной. Несколько деревьев, сползших с откоса вместе с оседавшей землей, стояли прямо в воде, одно невысокое и корявое дерево цеплялось за склон, образуя корнями и стволом нечто роде ступени или площадки, через которую можно было взобраться наверх. Проводник легко поднялся до этого дерева и, упершись босой грязной ногой в ствол дерева, наклонился вперед и подал мне руку. Невольно я так четко и ясно разглядела его худую и мускулистую смуглую руку со шрамом на предплечье, развитое запястье и кисть с худыми и длинными пальцами. Кисть эта была так красива и изящна, как редко бывает у мужчин, к тому же вынужденных заниматься каким-то физическим трудом, однако же чрезмерно развитое запястье указывала на постоянную его тренировку, мне с моим опытом работы преимущественно на планетах, пребывающих в средневековье, сразу подумалось о мече или боевом шесте. "Файн!" — отчетливо подумала я, быстро переводя взгляд на его лицо, скрытое волосами. Он легко и сильно схватил меня за руку чуть пониже локтя и рывком втащил меня на откос; наступив одной ногой на корни дерева, я поднялась одним движением наверх, на сам берег. За мной следом поднялся и он.
Местность здесь была равнинная. Негустой прибрежный лес внутри весь состоял из небольших полян такого размера, что кроны деревьев мало пропускали света, и вроде бы и полянами их нельзя было назвать, однако это был и не совсем лес. Под ногами росла невысокая густая трава с ромашками и сладко пахнущим подмаренником. Кое-где встречались маленькие нежные кустики лесной фиалки с неяркими фиолетовыми цветами, изредка над общей массой травы поднимались колосья тимофеевки и прочих злаков. Мы пошли вперед и скоро свернули налево, почти по опушке леса; сбоку открывалось неровное поле со множеством полос и скоплений кустарника, дальше, за небольшим подъемом виднелся снова лес. Мелькнула меж кустарника снова неширокая сине-темная лента реки, она так петляла, что, пройдя в любую сторону, можно было снова наткнуться на ее изгибы и завороты.
Впереди начинался березовый лес, явно кем-то насажанный. Ровные ряды высоких и толстых берез стояли в высокой траве; наверняка, здесь были грибы. Стволы были не меньше пятидесяти-шестидесяти сантиметров в обхвате, лес был не молодой. Меж негусто стоящих берез хорошо было видно поле с кустарником, склон холма и перед ним реку с отмелью, на которой лежали кучи топляка. Из березового леса мы снова свернули в обычный, широколиственный, темный. Местность пошла вверх, лиственные деревья сменились высокими редкими соснами, на склоне, среди редкой травы и бурелома то там, то здесь виднелись кустики костяники и кроваво-красные мелкие ягоды, состоящие из крупинок. Лес стал реже, хоть и не стал от этого светлее. Я то и дело наклонялась за костяникой, срывала и клала в рот кислые кровяные ягоды.
До смешного это доходит. Вот поставь передо мной тарелку с этими ягодами в обычной где-нибудь обстановке, я их есть не стану. Но в лесу, да еще и растут прямо под ногами — как тут удержаться? Как ребенок, который так и тянет себе в рот все, что подберет с полу! От кислых ягод щипало язык и губы. Изредка, приостанавливаясь и закрывая глаза, я чувствовала тихий, едва заметный лесной запах земли и прели.
Скоро я начала замечать, что с проводником что-то неладно. Шаг его был легок и бесшумен, но после того, как приходилось подниматься на крутые склоны, он вдруг приостанавливался и начинал потихоньку от меня массировать область сердца. Я пыталась заговорить с ним, спрашивала, что у него болит, но он не отвечал ни слова. Но чем больше я смотрела на него, тем больше убеждалась в том, что он все-таки файн. В сущности, я не так уж и хорошо знала файнов, но не было больше на Алатороа народа, находящегося в таких отношениях с лесами. Идя же вслед за проводником, кроме этой неправдоподобной легкости движений я видела еще, как отклоняются от его босых грязных ног стебли травы, отстраняются ветви деревьев — мягко, почти незаметно это было, но все же несомненно. "Файн! — думала я, — Боже мой! Файн!". Я твердила это снова и снова, не в силах смириться со своим открытием. Мне, я думаю, легче было бы, если б он оказался вороном, хотя я искренне и всем сердцем любила этот народ. Так же, казалось бы, немыслимо было представить нашего проводника вороном, как и файном; файны дивный и прекрасный народ, но и вороны так… они нечто высшее по сравнению с нами, и они горды, высокомерны, невероятно величественны. Смешно было подумать, что ворон может опуститься до этих лохмотьев и грязи, но почему-то мне это легче было, чем поверить в то, что это мог быть файн. Почему я подумала именно о воронах, я даже не знаю. В общем-то, на Алатороа мало народов, так сказать, человеческого облика; и он высок, и волосы у него черные. Файны все обычно светловолосые.
Мы шли почти весь день, но медленно; как ни легконог был мой проводник, что-то было с ним неладно. Он то ли болен, то ли сильно измучен. Странный он какой-то, ох, какой странный. Мне уж и не столько была нужна Серебряная Ива, сколько хотелось разговорить нашего проводника или хотя бы понаблюдать за ним, разгадать его. Целый день я не спускала с него глаз, ловила малейшее его движение; в глубине души я начинала чувствовать нежность к нему. И жалость. Кем бы он ни был, я ясно видела, что он пережил какую-то катастрофу, искалечившую его жизнь. И кем бы он ни был, он был не идрай, это одно было для меня несомненно. Я перебирала в памяти все истории про идраев, которые некогда слышала, и, наблюдая за своим провожатым, видела, что он ничуть и не чувствует токи дорог под своими ногами. Он шел, как ходят все, ничто его не тянуло, никакой одержимости в нем не было….
Были уже сумерки, когда из леса мы неожиданно вышли на песчаный пляж, и я увидела — Дэ. Потом, немного собравшись с мыслями, я поняла, что мы давно уже шли по знакомым мне местам и даже подошли однажды близко к ручью Духов, и это звук его течения я слышала недалеко от тропы. Но в тот момент, когда мы вышли из леса, сознание того, что это Дэ — передо мной, неожиданно обрушилось на меня, и ни единой мысли больше не осталось в моей голове, только одна и была: это Дэ, моя Дэ! Вот она, неширокая, метров десяти, а в иных местах и меньше, быстрая и холодная — Дэ, благословенная Дэ.
Лишь Поозерье, может быть, превосходит поэтической славой Дэ и Иллирийские леса, на всей планете лишь Поозерье славят больше, чем эту неширокую мутную реку и окружающий ее невысокий лиственный лес с черемухой и дубами. В сущности, если Поозерье действительно красиво своей тысячью озер, то эти места совершенно обычны для средних широт Алатороа. Кажется, здесь полно и точно таких же рек, и точно таких же лесов. А все же Иллирийские леса — это то, о чем слагают песни на протяжении тысячелетий, это место, куда удаляются философы в поисках истины, это леса, где скрывается странное, страшное Перепутье. О Дэ вообще не пишут ни стихов, ни песен. Считается, что словами нельзя описать эту реку, и любого, кто отважиться на это, считают самонадеянным глупцом. Говорят только — темноводная Дэ, благословенная Дэ, милая Дэ.
Господи, как же я люблю ее! Это и впрямь не описать словами. Я ведь и забыла о ней, не думала даже о том, что я увижу ее снова, но стоило мне выйти на мелкий песок пляжа и увидеть перед собой эту реку, коричневатые воды которой в сумерках казались свинцовыми, и сердце мое забилось в смятении и радости. На какой-то миг я выпала из реальности. Я стояла и смотрела, а река текла передо мной, первая моя река, самая первая в моей жизни, и как тогда, в детстве, я снова испытала потрясение, увидев ее. Я и не знаю, в чем тут дело, знаю только, что я люблю ее бесконечно, и даже когда буду умирать, последнее, что я увижу мысленным взором, будет не Вега, не горы Вельда, даже не Поозерье, а темноводная Дэ и лес на ее берегу. Я могу не помнить, не думать о ней, но в последний миг она все же привидится мне, и это вовсе не романтические бредни. Мне кажется отчего-то, что из всей Вселенной это мой единственный — дом. Где-то здесь моя душа родилась, наверное.
Иной раз, как подумаю, верования отшельников Вельда мне кажутся неожиданно правильными. Взять хотя бы это — о душе. В наш космический век мы мало задумываемся на эту тему, а иной раз, напротив, слишком много, но никому не приходит в голову утверждать, что человек рождается и живет какое-то время, а душу получает потом. Между тем, многие народы, стоящие на более низких ступенях развития, верят в это, и отсюда эти обряды нарекания подлинным именем детей уже подросткового возраста; считается, что в детстве люди не имеют еще души. Иной раз мне кажется, что так оно и есть. Мне кажется, что я такая, какая есть, родилась уже на Алатороа; мой мир, моя душа, вся моя личность до этого не существовала, а было что-то совсем иное. Впрочем, я не знаю. Это не мое — рассуждать на такие темы.
Это место было в двух или трех километрах от Серебряной Ивы. Смеркалось. Заходящее солнце за нашими спинами сияло в разрывах между туч и бросало отсвет на все, что было на западе, на деревья, на другой берег реки и черемуху, росшую там. Река не попадала под эти лучи. В солнечные дни ее воды отливают желтизной, сейчас они были необычно свинцовы. Я стояла, оглядываясь вокруг с чувством Одиссея, наконец-то ступившего на берег Итаки, казалось, я так долго впустую теряла время вдали от этих мест. Я удивлялась тому, что долго не могла узнать тропы, по которым мы шли: теперь я видела и понимала с удивлением, что ничего здесь не изменилось, все было то же, как и тогда, когда я была маленькой девочкой.
Этот берег был пологим, долгим, однако ж и на нем можно было проследить все классические детали речного берега: низкую пойму, высокую пойму, все их отделения, взгорки и понижения, коренной берег со склоном и бровкой. А дальше по течению этот берег становился таким же обрывистым, как и противоположный, и лес подступал вплотную к обрыву сплошной стеной.
Здесь же узкая тропинка спускалась по ивовому лесу с высокими деревьями, заслонявшими солнце. Земля здесь песчаная, рыхлая, ничего, кроме крапивы и ежевики, не растет на ней; утоптанная тропа имеет сероватый оттенок. С ветвей здесь иногда падает белесая влага и расплывается на утоптанной земле. Угрюмчики об этом говорят: "Деревья плюются". Перед самым выходом на открытый пляж тропа ныряет в небольшое понижение, а после поднимается на песчаный вал. Здесь заканчивается лес, кусты ивняка обрамляют его, и начинается широкий пляж с мелким, приятным желтоватым песком. Он тянется метров на двадцать, в одной части, там, где на него выходит тропа, он широк, метров пять-шесть, в других местах, выше по течению, он всего метра два шириной, и дно реки там круто уходит вниз.
К вечеру похолодало. Порывистый ветер трепал листву кустарника. Над противоположным, не лесистым берегом, где стояли только отдельные невысокие и раскидистые деревья черемухи и дуба, низко висели темные тучи со светлой кромкой по краям. Низко над водой летали стрижи, гнездящиеся в глинистом откосе берега. Далеко за рекой видны были совершенно безлесные желтоватые холмы и совсем уж далеко маленькие белые домики на одном из склонов, растекающиеся неровной фигурой по уже совсем степного вида склону. Резкие стрижиные крики одни разгоняли сумеречную тишину.
Проводник прошел немного вперед (я стояла у самого леса и зарослей крапивы, обожающей сырые места) и сел у самой воды на песок, обняв колени руками. Ветер трепал его волосы. Только когда он пошел и сел, когда начал двигаться, я вспомнила о его присутствии и сказала неловко:
— Серебряная Ива совсем близко, — сказала я ему, — Мы может там заночевать. Ты не идрай, — прибавила я, — если не сумел выйти прямо туда. Ты, похоже, и сам не знал точно, куда идти, да?
Он молчал, но я уже начинала привыкать к его манере общения. Я скинула сумку с плеча и села на траву, сорвав, понюхала белый цветок лабазника на длинном и крепком стебле. Лабазник пах медом. Я ужасно люблю этот цветок, он такой лохматый и так пахнет, да только в букете от него нет никакого толка, он вянет на другой же час.
— Ну, и что мы будем делать? — сказала я почти весело.
Проводник не ответил, лишь ниже опустил голову. Улыбнувшись, я бросила цветок в сторону. Мне, в общем-то, было все равно, я могла здесь и всю ночь просидеть. Увижу рассвет над Дэ! Только однажды я была здесь утром, но уже не на рассвете, а ближе к полудню. Как сейчас я помню тот холодный день, сырой песок под моими ногами, туман над рекой и лодку, которая выплыла из тумана и снова скрылась в нем. Кто был в той лодке, я так и не знаю.
Так долго мы сидели, а потом из кустов за моей спиной вылез кто-то и уселся у меня под боком. Этот кто-то был маленький и пушистый, и от него исходил слабый шерстяной запах. Он извиняющеся чирикнул, когда толкнул меня, устраиваясь поудобнее.
— Как варка? — спросила я шепотом, уповая на то, что обычно они понимают сорти. Чирикать на их дурацком языке я так и не научилась, хотя понять его было несложно.
Он прочирикал что-то вроде: "очень спасибо хорошо". Еще один угрюмчик вылез из приречных кустов и сел по другую сторону от меня. Они оба таращились сливовыми глазами на моего приятеля. Потом тот, что пришел первым, подергал меня за рукав.
— Что? — спросила я шепотом.
— Пойдем поспим, — чирикнул он, — Ему нужно поспать.
И указал лапой на реку и проводника, словно не понятно было, о ком он говорит.
— Куда пойдем? — так же шепотом спросила я.
— Туда, — махнул угрюмчик пушистой лапкой, — Пойдем. Он болеет, ему нужно спать.
— Не знаю, согласиться ли он, — сказала я, — Он какой-то странный.
Второй угрюмчик чирикнул что-то, чего я не поняла, и, вскочив как мячик, побежал к проводнику. Положив лапки на плечи сидящего мужчины, угрюмчик расчирикался; я заметила, как беленькая лапка поглаживает плечо проводника.
— Как ты думаешь, что у него болит? — спросила я у того угрюмчика, что остался рядом со мной, думая, может, этот пушистик поможет мне разгадать эту загадку.
Глаза у угрюмчика стали еще больше, хотя, казалась, больше просто невозможно. И так это были не глаза, а плошки. Угрюмчик пискнул, задумавшись.
— У него болит… дух. У него умерли родственники. Ему больно.
Я кивнула задумчиво. «Дух». Что ж, может быть. Его явно что-то мучило и, возможно, вовсе не физическая боль. Я поднялась на ноги, угрюмчик, сидевший у меня под боком, тоже вскочил, выжидающе глядя на меня огромными глазами. Я кивнула ему, и рядышком мы пошли к проводнику. Он не шевелился и не поднимал головы, хотя тот, другой угрюмчик вовсю суетился вокруг него, чирикал, гладил беленькими лапками его растрепанные черные волосы, плечи, спину. Я присела рядом с проводником и положила руку ему на плечо; оба угрюмчика вытаращились на меня, ожидая результатов моих действий. Проводник дернулся, сбрасывая мою руку.
— Пойдем, — сказала я, — Пойдем с ними. Слышишь меня?
Он задрожал.
— Пойдем, — сказала я тихо, — Пойдем. Мы не можем ночевать здесь. Здесь холодно и сыро. Пойдем.
Он все же встал. Один угрюмчик, тот, что уговаривал его пойти, взял его за руку. Другой взял за руку меня, защекотал мне ладонь своим пушистым прикосновением, и так нас повели.
Мы шли по пляжу в сторону, где Дэ поворачивала к востоку. С тех пор, как я была здесь, этот край пляжа, некогда покрытый мать-и-мачехой, зарос ивняком. Кусты были выше моего роста. Подойдя к самому повороту, мы поднялись на откос. И снова я услышала этот звук бегущей и струящейся воды, и вдруг поняла, а потом увидела его — ручей Духов! Здесь, на самом повороте он впадал в Дэ. Именно этот звук я слышала не так давно, когда мы проходили по тропе к пляжу; тропа эта метрах в пяти отсюда проходила по лесу и заворачивала туда, откуда мы пришли.
Метра на два внизу вода шумела по камням, стекая вниз, и вдруг узкий и бурный ручей расширялся, словно настоящая река в устье и на самом повороте вливался в быструю Дэ. Далеко, почти до середины реки видно было течение ручья, перерезающее течение реки и сбивающее его к противоположному берегу, куда и так на повороте била течение. Там, на крутом повороте противоположного берега образовался маленький полумесяц песчаного пляжа.
Мы поднялись наверх, где над ручьем, на самой бровке коренного берега стояли две мощных раскидистых ивы. Еще одно дерево лежало поперек дороги, свалившись, видимо, от старости. Ствол его, лежащий на земле, доставал мне едва ли не до пояса; еще стоявшие деревья тоже потрясали воображение своими размерами. Трудно было представить себе, что между той ивовой порослью на пляже с ее узкими и длинными серо-зелеными листьями, с ее гибкими, словно хлыст, стволами, и этими древесными великанами может быть какое-то родство.
Белый пушистый дождь высыпался нам навстречу с ветвей. Их было шестеро, но сосчитать я смогла их лишь тогда, когда мы взобрались на дерево. В первый момент перед глазами было лишь какое-то белое мельтешение, и оглушительное чириканье стояло в ушах. Ночевали мы на дереве; моего приятеля потащили на верхнюю площадку, всего их было здесь две. Гибкий, сплетенный из веток пол пружинил под ногами, я боялась, выдержит ли он нас; последний раз я лазила на угрюмчиковы площадки, когда была пятилетним ребенком. Но пол выдержал. Проводник наш лег на полу, один из угрюмчиков, пища и чирикая, притащил ему травяной одеяло, но я сказала ему, что не надо, и из сумки достала свое. Это одеяло, серебристое, из веганской спальной ткани, я всегда таскаю с собой, это мой, так сказать, талисман — от кошмаров. У меня действительно бывают кошмары, и ничего мне никогда не помогало, кроме веганской спальной ткани. Что ни говори, а сервис у нас не просто хороший, а великий. Господи, у нас! Хотя, почему бы мне и не говорить так, ведь я там выросла.
Угрюмчики возбужденно зачирикали, увидев мое одеяло. Я укрыла проводника, он лежал, словно мертвый, и тут же подскочил один угрюмчик и потрогал одеяло. Я шикнула на угрюмчика. Он отскочил от меня на полметра — словно мяч — и закрыл себе рот лапами.
11. Из сборника космофольклора под редакцией М. Каверина. Литературная обработка Э. Саровской. Сказка о непослушном аульве.
Когда варишь буль-буль — чародейский бульон угрюмчиков — нужно быть до того внимательным и точным, что уши у некоторых варильщиков от усердия сворачиваются в трубочки. Так и зовут их — ууши, что значит угрюмчик с ушами в трубочку. Ууши — угрюмчики особые, шерстка у них голубоватая, а глаза — темные как патока, они отличаются особенно свирепым нравом и могут даже укусить при случае. Аульвы никого не опасаются так, как уушей, они бояться их даже больше, чем недовольных клиентов, а нет ничего на свете страшнее, чем клиент, недовольный купленной вещью.
Как известно, аульвы роют норы и целые подземные города. Они ведь маленькие, эти аульвы, совсем как ты. Под землей у них есть все, и домики с кроватками, и мастерские, а мастера аульвы знаменитые, они делают все, и диадемы для важных альверденских дам, и железные изгороди, могут сделать даже меч, если ты сможешь объяснить им, что это такое. Видом аульвы как ящерки, только ходят на двух лапах и умеют говорить. Больше всего на свете они любят драгоценные камни и плату берут только изумрудами и алмазами.
Каждое лето, в дни под названием Аум Бу-Бу, угрюмчики, существа свирепые и дикие, охотятся на аульвов и вот зачем. Как ты уже знаешь, угрюмчики варят буль-буль. Зачем они варят его, никому не известно, поговаривают, что этот бульон обладает некими чародейскими свойствами, а какими — угрюмчики не говорят, они хранят эту тайну, как корни Серебряной Ивы. Если поймать угрюмчика, то никогда не ответит на этот вопрос, даже если ты будешь его щекотать или щипать и дергать за уши. Но буль-буль им все зачем-то нужен; когда ты в следующий раз встретишь в лесу угрюмчика, не зевай и смотри внимательно, тогда и заметишь, что на длинном ремешке он носит маленькую зеленую бутылочку, в ней и налит буль-буль. Варка буль-буля, как уже говорилось, дело сложное и требующее предельной сосредоточенности. Со всей Иллирии собирают угрюмчики травы и ягоды, веточки и корешки, каждая поляна в Иллирийских лесах дает буль-булю что-то очень важное, так считают угрюмчики. Наконец, возле Серебряной Ивы, главного жилого дерева угрюмчиков (а ты знаешь, конечно, что живут угрюмчики на деревьях), разводят преогромный костер, и сотня угрюмчиков, кряхтя от натуги, водружают на него котел. Сверху, с дерева, в котел льют воду из ручья Духов, а вода эта волшебная, и если человек попьет из ручья Духов, то может превратиться в угрюмчика, а то и во что похуже. В общем, домой он уже не вернется. Потом в котел в полном соответствии с установленным порядком кидают веточки, травки, ягоды и корешки. Этот порядок настолько сложен, что у варильщиков уши от усердия сворачиваются в трубочки, ну, да ты это уже слышал. Двадцать угрюмчиков-мешальщиков требуется для того, чтобы помешивать варево. Они стоят на ветках, один над другим, и все вместе держаться за огромный-преогромный половник. «Раз-два», — командует угрюмчик-счетовод, и мешальщики поворачивают половник. Это ужасно трудная работа, и на нее берут только самых сильных угрюмчиков. Три дня и три ночи продолжается варка, и это самые трудные дни в году для угрюмчиков. На варку буль-буля собираются угрюмчики со всей округи, их сотни и сотни, все стоят и смотрят, как вариться буль-буль.
Но главное — для того, чтобы буль-буль обрел свою неведомую чародейскую силу, нужен, как ни странно, аульв. Да-да, тот самый аульв, который, скорее всего сидит себе где-то в норе и возиться с щипцами и молоточками, делая брошку или кувшинчик на заказ. И вот десять дней перед варкой все свирепое, хоть и маленькое племя угрюмчиков с чириканьем и писком носиться по лесам, охотясь на аульвов. Случается, что со всех краев Иллирийского леса притаскивают трех, четырех, а то и десять аульвов, и приходиться придирчиво отбирать лучшего. Все аульвы знают, что в это время лучше не появляться на улице, а надо затаиться в своих норах, а норы лучше замаскировать. А то однажды папашу Рраздри вытащили прямо из мастерской, вместе с молоточком и заготовкой для кастрюльки, так он и провисел над буль-булем в рабочем фартуке и с инструментом в лапах.
Не так давно жил один молодой аульв, племянник того самого несчастного папаши Рраздри, которому угрюмчики сорвали выполнение заказа, а это не шутка, ведь пришлось платить неустойку. Так вот, племянник этого самого папаши был большой лоботряс и лентяй, делать ничего не желал, в семейной кузне не работал, а знай себе прохлаждался и воровал коврижки с кухни. В самом начале лета, в канун дней Аум Бу-Бу папаша Рраздри говорят:
— Пойди помоги мне.
А молодой аульв в ответ:
— Вот еще, не хочу я. Устал.
Папаша Рраздри страшно разозлился.
— Ах, так, — говорит, — Ты, такой-сякой, никому не помогаешь, только и знаешь, что прохлаждаться. Нам, — говорит папаша Рраздри, — такой аульв не нужен. Уходи, — говорит, — отсюда.
Молодой аульв тоже озлился и выскочил из норы, как был, в одних только тапочках, даже без фартука, да и то сказать, фартук он сроду не носил, ведь работать-то он отказывался, а так зачем ему фартук, отдыхать ведь в фартуке не принято.
— Ну, и провалитесь, — говорит аульв, — И без вас проживу.
И пошел по лесу. В лесу хорошо, птички поют, солнышко светит. Идет аульв и не думает о том, что скоро дни Аум Бу-Бу. И тут со всех сторон — щебет, топот, писк! Аульв туда-сюда, так пустился вскачь, что даже тапочки потерял, но куда там! Угрюмчики по деревьям его догнали, накинули на него сверху сеть, запутали, обмотали и еще сверху сели, чтобы уж наверняка. Лежит несчастный аульв и от страху трясется: такие ужасы рассказывал папаша Рраздри про свое пленение и висение над буль-булем. А угрюмчики расчирикались, гордые своей удачей, ведь не так-то легко поймать аульва. Так громко они чирикали, что несчастный аульв от страха потерял сознание.
Пришел он в себя и видит: лежит он в подземелье, и подземелье это больше самой большой аульвской норы. В подземелье было темно и холодно, но аульвы не зря живут под землей, к темноте и холоду они привычные. Лапы у аульвы были связаны, и передние, и задние. Вначале он ужасно испугался, зубы у него застучали, хвост затрясся, но вот время идет и идет, а ничего не случается. Аульв осмелел и стал грызть веревки.
А надо сказать, что буль-буль еще не варили, потому что поймали аульва слишком рано. Вот он грыз и грыз, а веревка была жутко невкусной, просто отвратительной. И слышит он за стеной ужасающий шум и стук, а это волокли котел для варки. Испугавшись, стал он грызть быстрее.
Наконец, веревки порвались. Молодой аульв, даже без тапочек, с веревкой во рту заметался по подземелью, а оно было такое большое и темное, что даже аульву, привычному к подземельями и норами, ничегошеньки не было видно. Пригорюнившись сел он на пол и заплакал горючими слезами, припомнил он папашу Рраздри и его наставления и поклялся щипцами и молоточками, что никогда он больше не уйдет из дома и не станет уж лентяйничать, только бы выбраться ему отсюда!
Долго так аульв причитал и плакал, сжимая лапы и взывая к наковальням и кузнице, к молоткам и металлам, да только аульвские боги ничем не могли помочь несчастному. Видно, суждено ему было испить эту горькую чашу!
Никто не приходил в подземелье, никто не принес бедняге поесть. Миновало время обеда, а за ним прошел и ужин. Несчастный аульв не находил себе места, он метался по своей темнице, но скоро силы оставили его, и он упал на земляной пол, горюя о том, что ему суждено умереть на голодный желудок.
Наконец, буль-буль был сварен, и свирепые угрюмчики, покрытые белой шерстью, пришли за пленником. Почти бездыханного притащили его на поляну, где вокруг чудовищного котла, места пыток аульвов, собрались кучи и кучи ужасающих белых угрюмчиков. Они чирикали хором, и это чириканье так напугало аульва, что он немедленно упал в обморок и не чувствовал уже, как накрепко его привязали за хвост и подвесили на дереве над котлом с зелено-бурой жидкостью, от которой поднимался горький жуткий запах. Стоило аульву прийти в себя, как, почувствовав этот мерзкий запах, он снова потерял сознание.
Под утро несчастного аульва отвязали и выбросили в лес. Там, промокший от утренней росы, он пришел в себя и, весь дрожа, без тапочек, отправился домой. Папаша Рраздри отхлестал его кожаным фартуком за утерю тапочек и после целый год держал на подсобных работах, заставлял мести мастерскую, так что у несчастного аульва нос был забит пылью. Однако ж наука не прошла для него даром, никогда он больше не смел лениться, помня, какое постигло его наказание, и позже стал великим мастером Трразди, который и выстроил знаменитый мост через Анд. А буль-буль, которому несчастье Трразди дало никому непонятную силу, разлили по бутылочкам, и каждый из угрюмчиков получил свою и с благоговением подвесил на ремешке через плечо.
12. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Иллирийские леса, день шестой.
Всю ночь я проболтала с угрюмчиками на нижней площадке. Я не ложилась, но мне и не хотелось спать. Варка, действительно, уже началась, но аульва еще не поймали. Здесь угрюмчики караулили как раз аульвов. Они рассказывали мне всякие новости о своей маленькой жизни, изображали, махая лапами и подпрыгивая, какой пожар случился в прошлом году в деревне на том берегу Дэ. Они так расшумелись, что мне пришлось их успокаивать. С трудом я перевела разговор на случившееся с воронами (то, что случилось с Альверденом, угрюмчики наверняка вообще не заметили; люди бесконечно далеки от них).
— Черные большие умерли, да, жуть, — говорили угрюмчики, — Раз, и все как умерли! Мы испугались, ух, как испугались!.. да, они хотели воевать. Им не нравилось, что еще кто-то прилетел с неба. Разве ты не знаешь, Ра, что они прилетели с неба? Давным-давно. Мы думали, что вы прилетели из одного места. Что вы еще там поссорились. Вы с ними не ссорились? Нам их очень жалко.
— Мне тоже, — сказала я в темноту, прижимая руки к груди, — Мне тоже.
— Они были хорошие, хоть и страшные, — говорили угрюмчики, — правда, Ра? И ОН был хорошим….
— Кто? — спросила я тихо.
— ОН, — объяснили мне, — ОН.
— Кэррон? — сказала я.
— Да, ОН, — и они стали изображать карканье ворон, но получалось у них плохо.
"ОН, — думала я, — ОН… — и еще, — Им не понравилось, что кто-то еще прилетел с неба. Ах, Кэррон!". Слухи об инопланетном происхождении воронов держаться довольно упорно, однако я уверена, что они никогда не знали технологий, подобных нашим или даже технологиям Старого времени. А уж причислять воронов к народам Хаоса — какая чушь! Я скорее поверю в то, что они действительно способны путешествовать в космосе так же, как и в атмосфере. Вороны не имеют ничего общего с народами Хаоса, это лишь дурная привычка наших ученых причислять все, что они не могут объяснить, к созданиям сумасшедшего Мейкера. Я уверена, что вороны не могут быть народом Хаоса. Ни один народ Хаоса не существует в двух взаимоисключающих друг друга ипостасях, ни один народ Хаоса не проявлял магических способностей, а я видела, как Кэррон остановил землетрясение, это не объяснишь гипнозом и прочими глупостями. Ведь я действительно видела.
Стоило мне подумать о нем, как я совсем расстроилась. В темноте, под несмолкающее чириканье угрюмчиков, я думала о том, что было бы с ним, если бы он не погиб вместе с остальными воронами. И боялась, думая, погиб ли он? если он еще жив! Что с ним теперь, если он еще жив?…
Перед рассветом угрюмчики угомонились и задремали, я тоже не заметила, как заснула. Спала я недолго, но мне что-то снилось, что-то тягостное и неприятное. Проснулась я от холода… Приглаживая волосы и зевая, я выглянула с дерева и замерла. Было уже совсем светло, но отчетливая белая сияющая половинка луны еще висела в небе. Светало. На востоке через небо протянулись полосы сияющих желтоватых облаков, они упирались в перистые барашки, неширокой полосой отделяющие их от остального сине-голубого неба. Под этими полосами, за деревьями чувствовался рассвет; еле заметное оранжево-золотое сияние доносилось оттуда. Ближе к югу над лесом висели два розоватых облака.
Вся трава была сероватой от росы, с ветвей деревьев то и дело срывались крупные капли. Было так тихо. А потом стали слышны птичьи голоса, негромко чирикающие на разные лады в кустах и в листве деревьев. Две большие птицы, одна за другой, пролетели в холодном рассветном небе.
Наконец, солнце показалось над деревьями. Облака почти рассеялись, не было в небе ни желтого, ни алого отблеска. Небольшое круглое солнце холодно сияло, окруженное слепящим ореолом. В кустах через равные промежутки времени пищала какая-то птица: чвик-чвик-чвик. Иногда ее перебивало чье-то еще чириканье; в лесу слышны были — почти эхом — отдаленные птичьи голоса. Солнце золотило обращенные на восток ветви деревьев, но трава была еще темной и серой, вниз солнечные лучи не проникали, и лес стоял темной массой лишь с отдельными позолоченными верхушками, на которых ясно и четко был различим каждый лист и каждая веточка. Птица в кустах расчирикалась громче и звонче.
Солнце всходило все выше. Небо посинело, приобрело более темный и глубокий оттенок, лишь на востоке за деревьями проглядывала размытая голубизна с отливом в серь. В зените таяла еще ясно видная половинка луны. Ах, как было тихо! Отдельные птичьи голоса, даже громкое сорочье стрекотание, пронесшееся над лесом, не нарушали этой тишины. Ветра не было ни дуновения.
Река, изгиб которой был прямо передо мной, оставалась темной, свинцовой, но вдруг солнечный луч заскользил по воде, золотя ее. И вся Дэ вспыхнула желтоватым оттенком быстрой бегущей воды. Этот желтовато-коричневатый цвет присущ ей в солнечные дни. Осветился другой берег с осыпающейся глиной, вспыхнула позолотой черемуха и пожухлая вытоптанная трава вокруг нее. Прислонившись к мокрой от росы, толстой ветке, я сидела и смотрела на все это, не в силах насмотреться. Моя Дэ…. Моя Дэ.
Раздался шорох. Я подняла голову. Проводник, держась рукой за край верхней площадки, спустился вниз и остановился, завернувшись в одеяло. Он тоже смотрел на реку.
— Дэ Благословенная, — сказала я, словно про человека.
— Да, — хрипло отозвался он.
— Ты бывал здесь раньше?
Он посмотрел на меня сквозь свисающие волосы и кивнул: да. Медленно он сел и обхватил колени руками. Я все смотрела на него. Я подумала тогда, что нам, пожалуй, не стоит идти к Серебряной Иве: мой приятель явно чувствовал себя не лучшим образом, а задерживаться надолго я не хотела. Опустив на колени черноволосую нечесаную голову, он сидел, и тело его сотрясала дрожь.
— Тебе нехорошо? — сказала я негромко, — Малыши сказали, что у тебя кто-то умер…. Нам, наверное, лучше пойти обратно. Или ты хочешь отдохнуть?
— Я не болен, — отозвался он хриплым голосом.
— Тебя всего колотит.
Он поднял голову. Сквозь волосы я увидела черный глаз и линию бледных тонких губ. Губы эти дрогнули и вдруг странным, неприятным образом улыбнулись. Улыбка эта была такова, что я вздрогнула. Нехорошая эта была улыбка.
— Я не болен, — сказал он, — Я отведу вас, куда вы хотите. Я нанялся на эту работу.
Я кивнула, но промолчала. Мне до сих пор было холодно и страшно от этой улыбки. Впрочем, файны — страшные и злобные существа. Они мстительны. Они коварны. Они изощрены в искусстве убивать неугодных им. Немало людей поплатились жизнями за то, что зашли на метр на территории, которые файны считают своими, за то, что взглянули не так на кого-нибудь из дивного народа, сказали оскорбительное слово. Они прекрасны, файны, нет никого прекраснее их, они — чудо во плоти, песня земли, трав и лесов, но они — живое чудо, не нарисованная картинка, не сочиненная сказка, они живут, ходят по земле, дышат воздухом — и ненавидят, убивают, мстят за любое оскорбление. Они таковы, какие есть. Они как молния — непостижимы, прекрасны — и убивают.
…Как только совсем рассвело и воздух потеплел, мы двинулись в обратный путь, я решила, что так будет лучше. Мой проводник молчал. Он шел медленно и часто останавливался, от легкости его походки не осталось и следа. Мне часто приходилось ждать его. Что с ним случилось, я не понимала. Он не говорил мне не слова, не отвечал на расспросы. Кончилось тем, что он упал на склоне в сосновом лесу и остался лежать так, лицом вниз. Я подошла и села рядом, дотронулась до его плеча. Он нетерпеливо дернул плечом. Я убрала руку. Мы долго оставались там, в этом лесу, среди стройных сосен. Что-то успокаивающее было в них, в их красноватых стволах, в сухих папоротниках и костянике. Я сидела с грустинкой на душе и выдыхала тихий прозрачный запах соснового леса. Проводник, наконец, зашевелился и сел на колени. Дрожащей рукой он провел по спутанным волосам, натянул на плечи одеяло, закутался в него и замер.
— Сейчас, — сказал он хрипло, — сейчас…
— Ничего, — сказала я, — Отдохни.
Он кивнул и снова замер. Я смотрела на него и вдруг подумала, что он удивительно похож на индейца со старых картин, изображающих времена покорения Америки. В одеяле на плечах, с такими черными волосами, в лесу.
В лагерь мы пришли к вечеру. Проводник вернул мне одеяло и молча прошел мимо меня, направляясь в лес.
— Спасибо, что проводил меня, — крикнула я ему вслед. Он даже не обернулся. В лагере все по-прежнему.
…небо молочное, ближе к горизонту сине-сероватое, кое-где присутствует размытый розовый цвет, а с запада на этом молочном фоне неподвижно висят синеватые размытые клочья облаков — необычное зрелище. Дым от костра поднимается метра на два и уходит в сторону, стелется по кустам и верхушкам деревьев и сливается, в конце концов, с молочным небом. Небо это так нежно и розовато-серо, что вместо глади и глубины кажется объемным, выпуклым; а в самом зените стоит еще синь и голубизна. Воздух холодеет, но он все еще влажен и душен. В нем чувствуется сырость, словно после дождя, но дождя не было и нет. Трава почти и не пахнет, или это я так притерпелась? Здесь водятся какие-то мелкие надоедливые комары, после укусов которых укушенное место припухает и краснеет. От комаров этих нет спасения. Часвет, отмахиваясь, заговорил было о гамма-излучателях, но скоро замолк. То ли вспомнил, что они здесь запрещены, то ли то, что они на комаров не действуют.
Право, порой я жалею, что не умею рисовать. Не то чтобы меня тянуло таким образом выразить свою любовь к этим местам, нет, просто иные пейзажи так и просятся на холст. Это небо, например, все эти неяркие, размытые, акварельные полутона.
Ветер, видно, был, а теперь затих совсем. Дым лишь поднимается над костром и расплывается в воздухе. Как душен и неподвижен воздух. А все же немного похолодало, хотя все еще тепло.
Где-то стрекочет сорока, да не одна! Растрещались на весь лес. А вот и они. Нет, не они, стрекочут в другом месте. Пролетели две большие птицы, неторопливые и черные в молочном небе. Я уж думала, это они трещали, а тут застрекотали внизу, в лесу.
Так влажно, что словно сгущается туман. У метеорологов есть такое, это Часвет мне сказал, у них есть деление по видимости: дымка, мгла, туман. Это зависит от количества примесей в воздухе, и от водяного пара тоже. То, что сейчас, я назвала бы дымкой. Здесь, в лесу, не понять, но на открытых пространствах она, наверняка, затрудняет видимость.
…Михаил Александрович подошел ко мне и стал расспрашивать об угрюмчиках. Я очень смеялась, рассказывая ему об этом народце. Потом я спросила у Каверина о тех слухах, которые ходят про Кэррона. Михаил Александрович помрачнел и начал рассказывать. Слухи действительно ходят, да еще какие. По мнению Каверина, здесь зарождается некая новая религия, очень похожая на религию Света. Насколько я помню, религия Света некогда была очень популярна, но во время войны людей и нелюдей служителей Света активно истребляли и та, и другая сторона. Теперь эта религия сохранилась на южном континенте и в отдельных областях на юге этого континента, но в Поозерье, некогда бывшего центром религии Света, ее уже и следа не осталось.
— Так вот, Кристина, — говорил Михаил Александрович, — представьте себе религию Света, но только предусматривающую и другую сторону. Не только добро, но и зло. Не только свет, но и тьма. Догмы все старые, вы знаете, на южном материке есть еще Храмы Света, но теперь здесь ходят люди, которые проповедуют не только любовь к Свету, но и борьбу с Тьмой.
— А Тьма — это нелюди?
— Нет, в основном, только вороны…. Их происхождение и все прочее. Вы так и не сказали мне, кстати говоря, вы сами-то верите в это?
— В их инопланетное происхождение? Знаете, когда речь идет о воронах, я готова во все поверить.
— Даже в то, что Царь-ворон — это некий князь Зла?
— Значит, так теперь говорят?
— Вы знали его? — спросил Каверин вместо ответа.
— Да, — сказала я, — Довольно недолго, но я его знала. Я горюю о его гибели.
Михаил Александрович кивнул.
— Я видел его только однажды, — сказал он, — По-моему, я единственный, кто вообще его видел из сотрудников миссии….
— Странно, — сказала я, перебивая его, — Не может быть. Разве Кэррон не появлялся в миссии?
— Нет. Вороны бывали. Дрого, Торион, Родр, еще многие. Царь-ворон вообще не появлялся на людях все эти десять лет, пока я здесь. Я слышал, раньше он часто бывал в Альвердене. Среди сотрудников университета ходили слухи о том, что он очень болен, оттого и не показывается на людях.
Во все глаза я смотрела на Каверина.
— Господи, — только и сказала я, — Чем он был болен?
— Возможно, и не был. Это только слухи. И когда я его видел, он не показался мне больным, хотя он был довольно худощав.
— Он всегда был худым, — тихо сказала я.
— Так и мне сказали. Не думаю, что он действительно был болен. Но, так или иначе, а я единственный, кто, кроме вас, может похвастаться этим знакомством.
— И как он вам? — негромко сказала я.
— Приятный, — сказал Михаил Александрович, — Очень спокойный. Обычно вороны так высокомерны, но он совсем другой.
— Был, — сказала я.
— Да, — сказал Михаил Александрович, — Конечно. Вас очень трогает его гибель, да, Кристина?
Наклонив голову, я прислушалась к взрыву хохота, долетевшему от костра. Уже совсем стемнело. Болен! Неужели действительно он был болен чем-то — десять лет? Господи, да что у него за судьба! И почему-то в тот момент я вспомнила Сашу Карпенко, зеленоглазого сумрачного парня, который кончил так, что координаторы вообще молчанием предпочитают обходить это имя. Как много горестей в жизни. Каждый, в кого ни ткни, — сколько боли, горя, страданий выпало на его долю! Описать словами, так не поверят, скажут: надумано, слишком преувеличено. А ведь каждый, каждый, даже люди, которые тихо и мирно живут дома, сколько тайн и боли у них за душой. И еще я думала, что я никак не могу увидеть его лица. Помню только шрам возле уха, помню, что внешне он был типичный ворон, высокий, сухощавый, с тонким смуглым лицом, помню его волосы, чуть не достающие до плеч, черные и мягкие, и пахли они отчего-то сухими листьями, а вот черты его лица куда-то делись из моей памяти. Странно, а Элизу я вижу как наяву. И Ториона. А Кэр….
— Его гибель…. Я думаю не о воронах, я думаю только о нем, — сказала я, неловко пожимая плечами, — Он был…. Он мне нравился, но дело даже не в этом, у меня были друзья в Серых горах и кроме него, но он…. Таких очень мало, Михаил Александрович, — тихо продолжала я, — Кэррон был личностью выдающейся, редкой, его смерть — потеря не только для Алатороа. И он был… очень молод, так молод!
— Для ворона.
— Да. Но ему не исполнилось еще и пятьсот лет. Это же юность для них. У воронов никогда не было такого Царя, они сами так говорили, а при его магическом даровании он оказал бы влияние не только на эту планету….
— А вы верите в магию, Кристина?
— Да, — сказала я, — Даже если вы решите, что я с приветом. Я верю в магию вообще и в воронью магию в частности. Я видела, как Кэррон остановил землетрясение.
— И все?
— Что «все»?
— Больше вы ничего не видели?
— Сгоревшее дерево, которое вновь зазеленело у меня на глазах. Туман, расцвеченный всеми цветами радуги. Но это вы вряд ли сочтете за деяния великого мага.
— Зачем ему понадобился цветной туман?
— Туман понадобился мне, — сказала я, — Мне было пять лет, Михаил Александрович.
— А Царь-ворон был так добр, что развлекал вас?
— Мне показалось, что он любит детей, — сказала я тихо, — Во всяком случае, мне было с ним очень весело.
Каверин засмеялся и ушел к костру.
Я осталась сидеть в темноте. Я думала о долине Флоссы. Вспоминала возмущенные голоса файнов, когда туман, окутывавший все вокруг, засиял разноцветными огнями. Вспоминала смех Кэррон, негромкий, резковатый. Я сидела и думала, все думала о том, где он теперь, что с ним теперь. Если он жив… то где он? почему мы до сих пор не пали жертвами его гнева, его мести? Или он не желает мстить за народ, изгнавший его?
Изгнанник. Я пыталась представить себе, как теперь живет тот, кто катался со мной на карусели, кто раскрасил для меня туман, но получалось у меня плохо. Сколько прожил муж Марии? Около года. С изгнания Кэррона прошло три месяца. И почему-то с каждым днем я все больше верю в то, что он жив, еще жив…. Еще жив. Я благодарила Бога за то, что темно и никто не видит, как я плачу по нему. А потом я подняла голову и увидела, что наш проводник смотрит на меня из темноты. Встретившись со мной взглядом, он повернулся и исчез.
13. Фрагменты из "Песни о странствии". Диктофонная запись.
Женский хор:
Что тебя гонит в ночь?
Не уходи!
Чем я могу помочь?
Родной, прости!
Что там? — Лишь холод и тьма!
Нет, не удержат слова,
Руки и ласки мои.
Что же, уйдешь? — Уходи!
Мужской голос:
Птицей рожден я во славу ночей.
Ночи дороже любви мне твоей.
Женский голос:
Крылья твои — для земных ветров.
Силы твои — для земных врагов.
Птицей рожден ты для этой земли.
Гордость смири и удел свой храни!
……………………………….
Женский голос:
Прощай!
Ты цвет народа уводишь за собой.
Прощай!
Сражен ты будешь своей любимой тьмой.
Прощай!
Мои моленья дойдут ли до тебя.
Прощай!
А все же помни, что я…
Другой женский голос (вступает, перебивая первый):
Если ты сможешь вернуться однажды в наш дом.
Если ты сможешь вернуться, вернись, я тебя умоляю.
И хоть я тобою любимую тьму проклинаю,
Пойми — от любви, от одной лишь любви!
Я ревную, но ревность не может быть злом.
Без тебя пуст и холоден старый наш дом.
Возвращайся, молю, возвращайся ко мне.
Да, я знаю, ты пленник на этой земле.
Ненадолго, как в гости, но все же вернись.
Без тебя свет не свет, без тебя жизнь не жизнь….
14. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Иллирийские леса, день седьмой.
Сегодня мы свернули от Белой к Анду. В прибрежных лесах земля черная, мягкая, растут крапива и ежевика. Весь день я не сводила с проводника глаз. Как он идет, легко ступая босыми ногами по сырой земле. Он казался так на месте там — в тихом сумрачном лесу; словно дерево, вдруг решившее прогуляться, словно росток крапивы, пустившийся в пляс. Я уверена, что он все же файн, а мы идем к долине Флоссы, мы все ближе и ближе. Скоро я снова увижу Семь Светлых Источников!
Какой сегодня пасмурный, душный, тихий день! Солнце, неясное, неяркое, сквозит в разрыве между туч; чем-то свет его напоминает зимнее холодное сияние с пасмурных небес. Небо сегодня не серо, а скорее сине, пеленой синеватых облаков заволокло его. Размытыми окнами среди синего мелькает белое. Воздух прохладен и душен — странный день! С самого утра у меня болит голова, так, слегка, но боль не проходит. Очень тихо вокруг, только кузнечики в траве, да мухи — над травой.
Именно таким я почему-то представляю себе Перепутье, Проклятые земли — небольшие дома среди невысоких лиственных лесов под сумрачным, синеватым, низким небом. Это ведь совсем близко отсюда.
Быстро-быстро махая крыльями, пролетела птица. Небо словно нарисовано акварелью, так размыты и нежны краски. Разводы синеватого, того самого цвета, который выходит, если акварельный синий разбавить большим количеством воды. Каркают где-то. Я вздрогнула сначала, растревожилась, а потом заслушалась. Люблю я ворон, даже смешно. Это Харрис недавно рассказывал, что в средневековой Японии почитали кукушку, ездили слушать, как она кукует. А ведь не так уж и красиво она поет. Так и я с воронами. Я люблю их слушать, карканье для меня — светлый знак. На Веге много земных птиц; когда у меня были неприятности или же мне предстояло какое-то испытание, стоило мне услышать карканье вороны, как у меня становилось легко на душе, я всегда уверена была, что для меня это доброе предзнаменование. И сорок я люблю — за то, что они на ворон похожи.
Господи, как тихо! Воздух не шелохнется. Небо словно давит на землю. И кажется, поистине проклятье тяготеет над этими лесами под низким пасмурным небом.
Мы остановились ненадолго, насколько я понимаю. Впереди должен быть какой-то хутор. Студенты разводят костер, суетятся, сырые ветви не хотят гореть, едкий желтоватый дым поднимается под сгрудившимися студентами и растворяется в душном воздухе. Я сижу и смотрю на их потуги. День сегодня тягостный, все притихли. Странно, весь день я сегодня думаю о Проклятых землях, о Перепутье. Весь день, с самого утра…. Здесь ведь недалеко, а от Серебряной Ивы еще ближе. Ах, ты, боже мой!
Я никогда не бывала в Проклятых поселениях. Иногда я жалею об этом. Говорят, эти места, Росстани или Перепутье, это почти то же самое, что и Поля Времени. Я имею в виду то, что внутри они гораздо больше, чем кажутся снаружи. Так, Поля Времени можно найти, если только идти со стороны Поозерья. С севера же ты просто попадаешь в Поозерье, не найдя ни Стен Тумана, ни даже Блуждающего леса. Так, говорят, и Перепутье: для истинных своих уроженцев оно открывает гораздо больше, чем для всех прочих. Жаль, что я никогда не была там, я только видела фотографии. На них были небольшие дома с высоким, метра по два, фундаментами, среди зеленеющих садиков-огородиков. Дома стояли на расстоянии пяти-шести метров друг от друга, словно в городе, лишь огороды отделяли их; в деревнях обычно не так. Не было там ни сараев, ни коровников, ничего, просто дома и небольшие огороды, а вокруг был невысокий кудрявый черемуховый лес. Говорят, Дэ топит эти места каждую весну, оттого там и фундаменты у домов так высоки.
Рассказывают про эти места, что все жители там — колдуны. А меня все не оставляет глупая мысль: как странно, наверное, просыпаться поутру в доме с высоким фундаментом, в поселении, которое зовут Проклятым. И знать, что твоя земля гораздо больше, чем кажется пришлым. Ощущаться себя властителем этой земли. Как хорошо жить там, где вокруг леса, невысокие, равнинные, болотистые, с маленькими лесными озерами, вода в которых темна и холодна, словно в моей милой Дэ.
…Мне сняться сны, сняться постоянно. Раньше мои сны никогда не повторялись, я такого не помню, теперь из ночи в ночь мне сняться одни и те же сны. Нет, я помню, на Веге, в школе, мне снилось несколько раз ровное поле до самого горизонта под сумрачным, то ли ненастным, то ли просто вечернем небом, и один стебелек, который колышется на переднем плане. Такой очень несодержательный сон, обычно мне сняться совсем другие, с сюжетом, многосложные. А теперь мне каждую ночь сняться сны про Алатороа, причем такие странные, что впору заподозрить, что это и не сны вовсе, а наваждения.
Самым первым мне приснился ручей Духов. Причем вовсе не тот ручей Духов, который есть в реальности, который берет исток у Серебряной Ивы. Мне приснился зимний лес, бурелом, сугробы, и я знала, что это лес за южной окраиной Проклятых поселений, хотя леса там должны быть вовсе не такие. На самом деле там низина, болота — давний призрак настоящих Торовых Топей, и леса там черемуховые, путанные, уремные. А мне снился горный лес, редкий, с высокими деревьями. Гор как таковых не было, но лес был горный, это я знаю — не знанием сна, а знанием человека, повидавшего немало лесов, и горных, и равнинных. Мне снилось, что я снова ребенок, лет восьми, может быть. Я иду по этому лесу в смешной лохматой шубке и валенках, но я не одна. Со мной мой брат, такой же маленький, как и я. А у меня никогда не было братьев! Впереди, в понижение, журчит по камням не замерзший ручей. Берега его — из валунов, и на каждом камне лежит снежная шапка. Ручей неширокий, едва ли два метра; такой горный ручей, и камни на его дне умыты водою. В лесу полно было поваленных деревьев, мы отрываем от одного длинный вогнутый кусок коры, и садимся на него, как на санки, и несемся по ручью, словно по ледяной горке. И вот — ручей впадает в Дэ, она покрыта льдом, и мы вылетаем на лед — едва ли не на середину реки. На самом деле ручей Духов впадает в Дэ на самом повороте, а во сне устье ручья было там, где пляж, метров на десять западнее поворота, и сама река была какая-то не такая, но я так и не поняла, в чем дело.
Этот сон мне снился два раза. Вообще, в нем есть что-то волшебное, совсем немного, но есть: этот ручей, и стылая вода меж заснеженных берегов, темные стволы деревьев.
И еще мне снился совершенно невообразимый сон, и тоже про Проклятые земли. Мне снилось, что я иду по лесу, обычному летнему лесу, по дороге от Проклятых поселков к Западному Тракту. Я там ни разу не была наяву, но потом, проснувшись, связалась с помощью компьютера со здешним архивом и отыскала фотографии: да, это та самая дорога, у поселков она широкая, спокойно проезжает телега, и в лес уходит такая, но после поляны к Западному тракту идет лишь тропа, уложенная каменными плитами; плиты эти древние, растресканные и крошатся. Дорога эта идет не напрямую к Западному тракту, а почти параллельно ему и соединяется с ним под очень пологим углом; и все равно там недалеко, едва ли больше километра. Мне снилось, что иду по этой дороге — от поселков к тракту, но на поляне, вместо того, чтобы идти прямо, сворачиваю направо, на восток. Там есть и наяву нечто вроде дороги, местные жители ездят туда то ли за сеном, то ли за дровами, то ли еще за каким-нибудь чертом — ведь жители не чего-нибудь, а Проклятых земель, небось все колдуны как один. И вот я иду и иду, немного я эти леса знаю, это, в общем-то, Иллирийские леса и есть, только их северная окраина. Но там, где я должна выйти к полянам, за которыми прибрежный лес и Дэ (петляет эта река как ненормальная), предо мной открывается вдруг бескрайная равнина. Вроде бы где-то сбоку были холмы, но я за это не поручусь. Равнина эта была ужасно странная, ничего похожего наяву я не видела. И вообще, из всего, что я когда-либо видела, больше всего она похожа на фотографии полярной ямальской тундры. Невысокая рыжеватая трава и вода, разлитая причудливыми узорами по этой плоскости, где-то чуть ли не озера, где-то просто лужи. И я знала отчего-то, что если пройти эту равнину из конца в конец, то там, за ней, есть что-то… не знаю, чудесное, что ли. И я знаю, что хотя равнина эта и в самом деле бесконечна, пройти ее можно. И кажется, что нет ничего более на свете чудесного, чем идти по этой равнине, стремясь к ее краю. Когда я проснулась, я ужасно жалела, что не могу попасть туда наяву.
И еще мне снилось вот что: будто я иду по берегу Дэ, не по тому берегу, где Иллирийские леса, а по степному, но в моем сне там тоже был лес. Я иду. Кажется, я даже была не одна, но я не помню точно. Я иду вверх по течению, удаляясь от Серебряной Ивы, и чем дальше, тем более причудливым делается лес по обоим берегам, и я знаю, что я возвращаюсь в прошлое Алатороа, и что миллионы лет назад здесь росли такие леса и скоро я увижу динозавров. Смех и грех, не думаю, что здесь действительно были динозавры. Хотя археологических изысканий здесь почти и не проводили.
А еще мне сняться снова эти места, где эта странная, не похожая на настоящую Дэ. Только я иду по тому берегу, где ручей Духов и Иллирийские леса. Иду в другую сторону, в сторону Серебряной Ивы. Там откуда-то взялся холм, хотя наяву этот берег Дэ — равнинный. Этот холм порос редким кленовым лесом, и когда я поднимаюсь на вершину, то вижу сквозь деревья веганские белые небоскребы.
И еще мне снилось, что я иду вдоль Проклятых поселков. Небольшие дома за сетчатыми заборами, а по другую сторону дороги канава с неподвижной темной зеркальной водой, и в ней отражаются прибрежные кусты и белые облака. На перекрестке ("Перепутье, — думаю я, — Росстань, перекресток".) я сворачиваю налево, а прямо дорога идет будто бы к Дэ, к тому месту, где впадает в нее ручей Духов. Я иду и попадаю в город из предыдущего сна, а впереди меня летит попугайчик, который был у меня на Веге, а потом умер. И я иду за ним, беспокоясь, что надо поймать его, а то потеряется. А город этот очень странный, впритык, впритык стоят в нем белые высотные дома, улиц нет, меня какие-то проходы между домами, железные лестницы.
Мне сняться сны…. Иногда я страшусь этого. Что-то властно забирает меня в свои руки, и бежать мне некуда.
….Мы остановились в деревне. Она называется Этре, и состоит из пяти домов. В двух домах никто не живет, в остальных живут три старухи и старик, который, как оказалось, имеет диплом Альверденского магического. Университета, я имею в виду. Его зовут Рездиг Этре, и эта деревня — хутор его семьи, а эти старухи — его сестры. Мы остановились в пустующих домах.
Заходящее солнце бросает золотой отсвет на деревья, на кусты и травы. Прямо в зените висит размытое белесоватое облако, наводящее почему-то на мысли о Млечном пути. К востоку над верхушками деревьев висят маленькие бело-серые облака, похожие на прерывистые кляксы. Сбоку есть облака более приличные, растрепанные и причудливых очертаний, а все же больше похожие на облака.
Листва так откровенно золотиться, словно уже пришла осень. И чем ниже к горизонту солнце, тем этот золотой свет все ярче. Две птицы, черные, с белыми краями крыльев, пролетели одна за другой прямо над моей головой. Облака, кажется, не движутся, а очертания их уже изменились. Становиться прохладнее, хотя настоящей прохлады еще не чувствуется. Я думаю…. Я думаю о воронах. Нет, не то. Я думаю о Кэрроне. "Тень ничья да не падет на тебя", — вот о чем я думаю. Если он жив…. Господи, не допусти этого, господи, пусть он будет мертв! Три месяца прошло со дня его изгнания, страшно представить себя, что ему пришлось пережить, если он остался жив….
И жаль, что я не увижу его. Жаль, что я никогда уже не увижу его!
Наш проводник исчез куда-то, как только мы пришли сюда. Стэнли хотел поговорить с ним, а его и след простыл.
15. Из сборника космофольклора под редакцией М.А. Каверина. Литературная обработка М.А. Каверина. Сказание о Перепутье.
В междуречье Белой реки и темноводной Дэ, отделенный Западным трактом от зажиточного Ополья, расположен невзрачный и тихий край, который теперь зовут Перепутьем, а когда-то звали Росстанью. Это болотистая равнина, где много лесов из дуба, черемухи, ольхи и берез, а в подлеске густо разрослась калина. Здесь много больших полян, где встречаются заросли ив, много маленьких заболоченных озер.
Люди там живут странные. Испокон веков им и в голову не приходило заняться сельским хозяйством. У каждого дома был лишь маленький огородик, на котором они выращивали кое-какие овощи. Никто в здешних местах не держал скот, не занимался охотой или рыболовством, не плел корзины на продажу. Трудно сказать, чем они жили. Муку и крупы они покупали в Ополье. Ходили слухи, что существует некая тайная гильдия купцов, скупающих у жителей Перепутья золотые украшения несказанной красоты, доставшиеся им от предков. Но никто не верил в тайные клады Перепутья, никто не соблазнялся их существованием: слишком угрюмым и диким был этот край, и пуще жажды наживы были страхи, вызванные россказнями об этих местах.
Про здешние места всегда ходили какие-то темные слухи. Часто почему-то рассказывали, что здешние люди обладают какой-то колдовской силой. И хотя жили здесь люди лишь вдоль Западного тракта, они часто уходили вглубь своего края, и чем они занимались там, никто не знал. Но о здешних колдунах не известно ничего, кроме этой истории о троих великих чародеях. Разное рассказывают о них, и в россказнях этих не все правда. К примеру рассказывают, что все трое были единокровными братьями, да кто же к северу от Мораи может поверить в такую чушь. Правдивую же историю послушать стоит.
Это были брат и две сестры, и родом они были из Нагорной крепости, иначе называемой Шарнийской крепостью. У крепостного вала жила там Асгар, ткачиха, у которой были две дочери: Ли и Нея. А через два дома жил брат Асгар, Рэм, и у него был сын Ринальдо. Асгар и Рэм родились в Перепутье, однако давно уже покинули родные края. Речь же пойдет об их детях.
Как вы уже поняли, они были вовсе не родными, а двоюродными, но корни их все же уходили в Перепутье — проклятый край, получивший свое название от тайных купцов: здесь скрещивались пути их караванов.
Ли была старшей. Через два года после ее рождения у Рэма, ее дяди, родился сын, которого назвали Ринальдо. Еще через два года Асгар родила Нею. Несчастливый знак для жителей Перепутья. Если бы трое детей родились с перерывом в два года у одних родителей, но одного из них следовало бы умертвить, но сейчас никто не обеспокоился. А все же родились они в одной семье, хоть и были двоюродными. И лишь дед, живший в Перепутье, узнав о рождении младшей внучки, долго сыпал проклятьями, а после посоветовал, разделить детей и проследить, чтобы они никогда не встречались, но никто этому совету не последовал. Дети выросли вместе.
Шли годы, Ли исполнилось десять лет, Ринальдо восемь, младшей же, Нее — шесть, когда разразилась война, и в Нагорной крепости стало небезопасно. Тогда оправили детей к родне в Перепутье, справедливо полагая, что враг туда не доберется, ибо там нечего было завоевывать. Так дети впервые увидели Перепутье и познакомились со своими дедом и бабкой. В Перепутье детям понравилось. В деревне им пришлось бы помогать по хозяйству, пасти скот, здесь же летом иногда их заставляли прополоть грядки, а большую часть времени они были предоставлены сами себе. Жилось им весело, они бегали по окрестным лесам, купались в темноводной Дэ, играли.
После дед, оттаяв и полюбив внуков, стал помогать им в ихних забавах. То сделает им луки из гибкой черемухи, то научит лепить из глины или делать человечков из желудей. После этого дети ободрали все дубы в округе и день-деньской сидели на полу, играя с желудевыми человечками, осликами и верблюдами. Из желудевых шляпок они делали бурдюки для воды и плошки с благовониями, все это возили желудевые купцы на желудевых верблюдах. Глину дети добывали на обрывистом берегу дренажной канавы, и дедушка обещал им сделать гончарный круг, да так и не сделал.
Скоро дети стали замечать странные вещи. Жили они на чердаке, который был вовсе не чердак, а что-то вроде мансарды, и ночью, собравшись возле люка, ведущего вниз, они видели, что к дедушке приходят странные люди, не похожие на людей. Приходили иногда и звери. С гостями дедушка запирался в комнате и гнал бабушку; там, за закрытыми дверями, гости вместе с дедушкой пили яблочное вино и говорили на непонятном детям языке (а дети пытались и подслушивать). Однажды, не выдержав, пришли к деду Ли и Ринальдо и спросили:
— С кем ты встречаешься по ночам, корт?
«Корт» — это было уважительное обращение к дедушке в Перепутье, так его дети и звали, бабушку же звали нэнэ. Нея, самая младшая, побоялась пойти к деду, и потому старшие пошли одни.
— Почему Нея не пришла с вами? — спросил дед.
— Она маленькая и боится, что ты станешь нас ругать.
— Не любит она Перепутье так, как любите его вы, — ответил на это дед, — потому и не пошла с вами. Но и в ней тоже заключена великая сила и потому ей придется быть с вами, хоть она и не любит Перепутье.
И поведал дед своим внукам, что они рождены властвовать над этой землей, что некогда звалась Росстани, и что земля эта гораздо больше, чем кажется чужакам, и великие тайны скрыты в этой земле. Но какие тайны, не сказал. Этим им пришлось и удовольствоваться. Еще узнали они, что нынче их дед является правителем Перепутья, и оттого-то и приходят к нему по ночам — кто за советом, кто за повелением.
Война кончилась, и детям пришлось возвратиться домой — вопреки желанию их деда. Дети были еще малы и должны были слушаться родителей. Но Ли и Ринальдо полюбили Перепутье всей душой и вечно стремились туда, Нея же не полюбила, но любила она брата и сестру и не желала разлучаться с ними.
Много минуло лет, дети выросли и разлучились. Жили они в разных местах, и Ли и Нея давно потеряли брата своего Ринальдо из виду. Все трое поистине были одарены магическими силами и учились у лучших колдунов того времени. Немало великих подвигов они совершили вместе и поодиночке, немало сделали для развития магических искусств, основали магические школы. Все эти годы любовь к Перепутью не оставляла Ли и Ринальдо, Нея же не уставала повторять, что ей там никогда не нравилось, и пеняла сестре за то, что старшие заставляли ее в детстве бродить по лесам. В Перепутье они никогда больше не были, хоть и рождены были править той землей.
Слава их гремела от моря и до моря, но однажды Ли почувствовала усталость от магических трудов. Захотелось ей вернуться в Перепутье, увидеть вновь леса и поля, увидеть благословенную Дэ, петляющую в глинистых берегах. Захотелось ей снова бродить по лесам, слушать пение птиц, разыскивать незнакомые места. Всю жизнь она мечтала об этом, но ей казалось, что детство невозможно вернуть. Сейчас же затосковала она по Перепутью так, что, оставив все книги и труды свои, оделась в дорожный плащ, взяла посох и, выйдя с заднего крыльца, навеки ушла, никого о своем уходе не предупредив.
Весть об исчезновении знаменитой колдуньи скоро дошла до сестры ее Неи, и та заподозрила истину. Но Нея не любила Перепутье и не хотела бросать свою школу, своих учеников ради каких-то лесов и полей. Нея любила людей, а не леса, и во многом нынешняя магия, которой так гордиться Альверден, пошла от Неи Росстанийской. Нея была знаменита гораздо больше, чем ее брат и сестра.
Докатилась весть об исчезновении Ли и до Ринальдо, брата ее. Ринальдо понял, куда она ушла, и затосковал по Перепутью и по прежним временам. И скоро Нея услышала, что брат ее тоже исчез неведомо куда. Шли годы. Школа Неи Росстанийской стала знаменитейшей на всей Алатороа, но с некоторых пор странная тоска стала мучить известную волшебницу. Она скучала по брату и сестре, ведь больше родни у нее не было. Вспоминались ей те годы, что провели они вместе, и однажды, придя поутру к ней в спальню, служанка нашла лишь нетронутую постель. С тех пор никто больше не слышал о Нее. Но легенды говорят, что все они встретились в Перепутье и жили там, властвуя над лесами, полями и реками, и были счастливы.
16. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Иллирийские леса, хутор Этре, день восьмой.
Раннее утро. Солнце, еще низко стоящее над горизонтом, невыносимо ярко. Воздух еще прохладен, но под солнечными лучами уже кажется жарко, только в тени стоит еще утренний холод. Держится еще роса. Свет и тени так ярко перечертили мир, что ничто не выглядит так, как всегда: слишком ярко блестит трава под солнцем, словно ненастоящая, слишком черны и густы изломанные тени от домов и кустов калины. Небо ярко-голубое, чистое, ясное, и только на востоке, еще ниже низко стоящего солнца тянутся размытой белой полосой облака.
Легкий ветер шевелит траву и листья. Ветер еще прохладный, утренний. Далеко где-то сорока трещит одиноким треском: трак, трак, трак, — не переставая. Солнце слепит глаза, но отвернешься от него — и блестящая трава и черные тени тоже слепят глаза своей невыносимостью. День будет жаркий, очень жаркий.
Боже! Ни звука в округе, лишь эта сорока, и стрекочет она все ближе. А когда ее не слышно, какая наступает тишина. Нет еще не мух, ни кузнечиков, только ветер иногда почти беззвучно всколыхнет траву. Все кажется ненастоящим вокруг. Не то чтобы искусственным, но — нереальным. И небо это слишком ярко. Но какое солнце! Жара сегодня будет невыносимой.
…с Рездигом Этре мы разговорились перед завтраком. Он показал мне свой диплом, висящий на стене, где золотыми чернилами было написано его имя. Мы говорили об Альвердене, и вдруг посреди разговора он расплакался и стал вытирать слезы. Погибший Альверден, мертвый Альверден.
— В это невозможно поверить, — говорил мне старик в выцветшей рубашке и рабочих заплатанных брюках, — В это невозможно поверить. Зачем вы только пришли сюда? — вдруг крикнул он, — Разве мало в космосе других планет? Неужели в космосе мало других планет?
Я молчала.
— А странный человек вас привел, — сказал мне Рездиг немного погодя.
Я немного помялась, потом все-таки рассказала ему о своих подозрениях. Рездиг Этре был все-таки дипломированным колдуном, и он мог что-то посоветовать мне. Он выслушал меня, помолчал, пожал плечами.
— Не знаю, не знаю, — сказал он, — Возможно. Что-то идет от него, какая-то волна. Но последний раз я видел файнов давным-давно, да и этого вашего парня я только минуту и видел. Неразговорчивый парень.
— Да, — сказала я, — Неразговорчивый.
— Может, он и файн, хоть я и не слышал никогда о темноволосых файнах. Что-то в нем такое есть. Волна от него идет. Знаете, колдуны так своих распознают, по волне. Но он не обученный маг, нет, а кто-то из этих. Может, файн, а может, еще кто. Но, знаете, что? Будьте поосторожнее с ним. Может, это мои стариковские глупости, но больше всего он похож на призрака.
— На призрака?
— Вы бывали в Полях Времени, простите за нескромный вопрос?
— Да, — сказала я медленно, и дрожь прошла по моему телу, — Один раз была.
— И видели там кого-нибудь?
Я молчала. Старик внимательно посмотрел на меня.
— Да, — сказала я, — Своих родителей.
— Там повсюду магия, — сказал Рездиг невпопад, — она разлита там, как туман в долине Флоссы, зажатой горами. Но и в этой разлитой повсюду магической ауре, когда появляются видения, чувствуешь, как от них идет что-то. Волна, как от живых существ. Но не совсем. Больше магии, понимаете? Больше магии, но не так, как от магов. Не концентрированный поток.
— Словно он сам — создание магии? В Поля Времени ведь так?
— Да, в Полях Времени-то так, но там дело особое. А ощущение похожее, это точно. Но создание псевдожизни всегда было под запретом в Альвердене.
— Я и не думаю, что он псевдочеловек, — сказала я, — Он вполне живой. Я думаю, что он файн. Может быть, файн, изгнанный за какое-то преступление, и это стало потрясением для него. В нем есть что-то ущербное.
— Может быть. Может быть, — сказал Рездиг, — Если он файн, то он мог быть священником или предсказателем. Я думаю, ваш паренек способен к направленным магическим действиям. Может читать заклинания, если проще. Большинство представителей магических народов не могут. Магия — это их сущность, а не средство для действий.
Рездиг Этре оказался большим знатоком сказаний, и в течение двух следующих часов Михаил Александрович не отпускал его от себя. Я бродила по дому старика, в жилой комнате долго разглядывала книжный шкаф, где полки ломились от больших коричневых томов с розами, вытесненными на корешках. Роза была символом Альвердена, насколько я знаю. Алая роза, как и камни, из которых город был построен. Красный был цветом Альвердена испокон веков, я слышала даже, что там запрещено было строить что-то из материала других цветов. Долго я смотрела и на диплом Рездига. Он висел под стеклом, в деревянной резной рамке, и что-то в этом было несколько наивное. Но ничего наивного не было в самом дипломе с алой переливающейся розой и веткой тополя, в надписи золотыми чернилами, которая гласила, что Рездиг Этре, потомственный властитель земель Этре, является дипломированным магом, с отличием окончившим Альверденский университет магии, и имеет право преподавать магические искусства в любом учебном заведении Алатороа, а также в частном порядке.
Побродив по первому этажу, я поднялась наверх вместе с сестрой Рездига, которая жила с ним в доме. На просторном чистеньком чердаке с дощатыми стенами, обклеенными выцветшими обоями в цветочек, на расстеленных полотенцах толстым слоем была размазана буроватая плотная масса. Я остановилась перед ней в недоумении.
— Пастила, — сказала старушка, влезшая со мной на чердак, — Яблоки не созрели еще, да падают. Варение варить — еще кислые, сахару много нужно, а так вот перерабатываю и еще сушу, зимой на пироги хорошо. Когда сушишь, кислота из них уходит.
— Ну, вода испаряется, поэтому, — сказала я.
Старушка была сухонькая, маленькая, сгорбленная, в поношенном цветастом платье и платке на седых волосах. Она закивала на мои слова и пошла куда-то вбок, за встроенный шкаф с открытыми полками, на которых лежали вещи, сложенные аккуратными стопками. Чем-то старушка зашуршала за шкафом. Я стала оглядываться вокруг.
Вдоль сужающихся кверху стен стояли четыре кровати под марлевыми пологами, за второй парой кроватей был еще простенок с проемом, за которым виднелись два улья, обращенные летками в стену, а над ульями было окно с тонкой белой рамой.
Соскучившись, я спустилась вниз по рассохшейся скрипящей лестнице, крашенной красно-коричневой насыщенной краской. Внизу, на небольшом возвышении перед лестницей было тесно от фляг и бидонов с питьевой водой, которую возили за пять километров. В своем колодце у Этре вода была красноватая, с явным железным привкусом. Чуть пониже, под лестницей, стояли кастрюли, а прямо под лестницей была дверь в баню, которая здесь была прямо в доме. С этой же площадки спускалась лестница вниз, в мастерскую и на улицу. Была здесь еще добротная, обитая черной кожей дверь, ведущая в жилую часть дома. На чердаке было жарко, не смотря на раскрытые окна, а здесь стояла прохлада, и ясный свет летнего дня лился через панорамное, из небольших квадратов состоящее окно. Свет этот не разгонял царившего здесь сумрака, а существовал как-то отдельно.
Я сняла ковш, висевший на гвозде, вбитом в боковую доску лестницы, и зачерпнула воды из открытого бидона, отпила немного и выплеснула остальное обратно. Вода была тепловатая, с привкусом от ковша. Старушка, топая, спустилась сверху и ушла на улицу. Я не знала, куда мне податься. Присев на перила над нижней лестницей, я смотрела в окно, на лес, позолоченный полуденным солнцем, на плети винограда, ползущие по фасаду. Солнце играло в блестящей листве, переворачиваемой ветром. Я смотрела, прислонившись к раме, на пестрый, яркий, переливающийся под солнцем лес. Это окно не открывалось, а мне хотелось на свежий воздух, и я, соскочив с перил, спустилась по лестнице и, пригнувшись, вышла в низкую скрипучую дверь на улицу.
Рездиг и Михаил Александрович сидели в беседке. Когда я вышла, они оба подняли головы, и вдруг выражение лица Рездига изменилось, глазами он указал мне в сторону. Я повернулась. Из леса в тот самый момент вышел наш проводник, и снова я поразилась бесконечной грации его движений. Сам он был сгорблен и жалок, но как легка, ласкова, тиха была его походка! А ведь дня через два, самое позднее через три мы будем в долине Флоссы, и как же он собирается скрыть, кто он такой, когда мы увидим Семь Светлых Источников? Я заметила, что Рездиг внимательно следил за нашим проводником. Скоро, закончив разговор с Кавериным, старик подошел ко мне.
— А паренек-то в лесу занимался магией, — сказал он тихо, почти не глядя на меня.
— Вы уверены?
— Он не читал заклинаний, — сказал Рездиг, — Но определенные силы он задействовал. Будьте осторожны с ним. Он очень сильный маг. И, знаете, наверное, каковы файны, а уж их маги. К тому же вы, пожалуй, правы. Он, скорее всего, изгнан из Лориндола, их маги живут именно там, а если уж изгнан, то за какое-то преступление. Файны преступлением считают разве что убийство кого-то из своих не в поединке, а…. Ну, вы понимаете. Так что паренек-то ваш, скорей всего, убийца.
Мои глаза встретились с темными глазами старика. Убийца! Не знаю, КАК нужно убить файну, чтобы его сочли убийцей. Мучить, что ли, жертву?
— Поговорю-ка я с ним, — вдруг сказал старик, — Не нравиться мне, чем он в лесу занимался.
И неторопливо пошел к проводнику. Тот уже успел пристроиться рядом с дровяником в своей обычной позе. Рездиг подошел к нему и, наклонясь, сказал что-то. Проводник поднял голову и, видно, машинально, провел рукой по волосам, убирая их с лица. Он тут же опомнился и встряхнул головой, пряча лицо, но дело было сделано, Рездиг видел и — отшатнулся.
Я вздрогнула. Я видела, как резко отшатнулся старик, но я была слишком далеко, чтобы понять, что его так испугало. Вряд ли лицо нашего проводника, издалека я увидела только, что оно смуглое и очень грязное, но вряд ли в нем было что-то, что могло напугать Рездига. Наверное, проводник что-то сказал старику. Они говорили о чем-то. Торопливо я пошла к ним и, когда подходила, услышала только, как Рездиг сказал:
— Видно, совсем я стал стар, коль опустился до стариковского бессмысленного любопытства.
Слегка поклонившись, старик повернулся и наткнулся на меня. Поверх его плеча я бросила взгляд на проводника: он сидел, сжавшись, обхватив колени руками и опустив голову. Разговаривать сейчас со мной он, наверняка, бы не стал, у него есть удивительная способность не издавать ни звука, когда кто-то пытается его разговорить. Поэтому я пошла с Рездигом. Отойдя к дому, мы остановились. Старик казался взволнованным.
— Что он вам сказал?
Рездиг усмехнулся.
— Он просил вам об этом не говорить.
— Нам? Землянам? — быстро сказала я.
— Лично вам.
— Мне?
— Да, вам. Он не хочет, чтобы вы знали, кто он. Мне показалось, что он стыдиться. Не своего положения, а того, что вы поймете, кто он. Вас — стыдиться.
— Но ведь я его не знаю… — растерянно сказала я.
— Зато он вас знает. Я, к примеру, так до сих пор и не догадался, что вы и есть княжна Севера.
— Господи! — сказала я, — Я думала, это только в степных районах имеет какое-то значение. Что вам тороны, Рездиг, вы же их, наверняка, даже не видели.
Старик невесело усмехнулся.
— Я не видел, это правда, да и к чему мне их видеть. А вот кто побратим князя Севера, я знаю, а как же, так что и вы здесь известны.
Я прикусила губу, а старик внимательным долгим взглядом посмотрел мне в лицо.
— Вам-то не по нраву то, что случилось, да? Но вам не Альверден, вам Серые горы жаль.
— И Альверден, — сказала я.
— Да Серые горы-то жальче. Да и мне, знаете, очень их жаль. Нас-то много, все летят и летят из космоса, а таких, как они, больше нигде нет.
И тут я не выдержала. Торопливо извинившись, я пошла прочь, жмурясь на ярком солнце. И как я ни старалась сдержаться, слезы таки покатились по моим щекам, я шла все дальше и дальше, и только зайдя за кусты, разрыдалась. Я села в траву и плакала навзрыд — о чем? О себе, маленькой Ра, об Элизе, о Кэрроне, об Альвердене с его красными особняками и кустами алых роз. О том, что никогда, никогда я не буду уже такой, как раньше, о том, что стала я — координатором.
…Сегодня мы дошли да Анда, он шумит внизу, под обрывом. Мост всего в двух или трех километрах отсюда, но Стэнли решил, что заночуем мы здесь. За деревьями разливается оранжевое сияние — закат. Над ним в чистом бледно-голубом небе висят несколько облачков, темных сверху и светлых, сияющих — по нижнему краю. Уже пала роса; трава холодная и мокрая. На юго-западе, над краем невысокого леса висит бледная и большая луна, почти полная, и очень ясно видны на ней темноватые разводы. Еще совсем светло, и луна еще призрачно-бледная и гораздо больше, чем бывает ночью. А я помню, раз я видела здесь такую луну, что напугалась до смерти — огромную, с дом, и кроваво-красную. Потом уж я узнала, что так бывает иногда, и чаще в сельской местности.
Посвежело. Лес стоит неподвижен и тих. Разные бывают леса, иные, сосновые, стоят стройно и строго, деревья на удалении друг от друга, и солнечные лучи косо сквозят в них, крася стволы красноватым оттенком. Этот же совсем другой. Если лететь над ним, не высоко, а на два-три метра выше деревьев, то весь он видится всхолмьями и опадениями; круглые, кудреватые кроны деревьев и кустов создают непередаваемое, слегка забавное зрелище. Вот они — Иллирийские леса. Дубы, липы, ива, черемуха да калина, и кругленькие, словно подстриженные кусты ивняка вокруг маленьких озер.
Луна все четче на небосклоне и продвинулась к югу. Интересно смотреть на небо: в зените оно еще синеватое, а по краям розово-серое, на западе же — оранжевый ясный сияющий свет уходит все ниже и ниже за горизонт. Какая ясная луна! Десять минут назад она была призрачной, сейчас же налилась уже бледно-желтым светом.
Такие долгие летом вечера. Так бесконечно долго сгущается сумрак, прозрачный, незаметный, так тихо спускается ночная прохлада. Ниже розоватой полосы на небе проступает уже ночная синь. Деревья стоят, не шелохнуться. Кричат где-то тонкими голосами птицы. Нет ни комаров, ни мух. Роса холодная, словно осенью, от такой гибнут обычно посевы. Маленькие птицы стайкой летают и пищат в вечереющем небе. Боже, да чего же я хочу на самом деле? Чего я хочу? — Остаться. Остаться? Луна от меня скрылась за деревьями. Чего же я хочу? Что я, как я буду жить дальше? Остаться? Ворона где-то каркнула — тихо-тихо, а за ней сороки расстрекотались. Как я могу — остаться? Ведь я не просто человек, не человек вообще — координатор. От пустынь Ламманта до красных гор Вельда я — координатор, мастер обмана, человек, живущий сотню жизней. Словно кошка: не одна у меня жизнь, не одна. В том-то и беда, была бы одна, разве бы я тратила ее вдали от Алатороа. Только я, как индийские боги, многолика и многорука. Ра…. Той Ра больше нет. Есть добрый десяток личностей, а Ра — уже нет. Я привыкла жить вот так, примерять лица и жизни, ситуации и миры. На моем счету восемь планет, тринадцать воплощенных личностей, правда, На-гои-тана была самым долгим и сильным воплощением. Ах, На-гои-тана! Иной раз я думаю, насколько проще жить так — в одном мире, одной судьбой, танцевать в священной ярости с копьем в руках или же рожать детей и ждать мужа с работы — все равно. А иной раз я думаю, что такая жизнь бедна и скучна. Не зря нас не любят, считают шальными, шальные мы и есть. Ох-хо-хо….
Что мне делать с собой? Если б я могла только, разорвалась бы надвое. Разлад во мне, такой разлад. Сама себя успокоить не могу, до чего дошло. Я так запуталась, ах, ты, Господи!
Я заканчиваю, потому что мой компьютер мешает Эмме Яновне, мы с ней в одной палатке. Это еще хорошо, что компьютер, на И-16 он у меня разбился, и я писала карандашом в блокноте.
17. Ра. Праздник в Альвердене.
На нее всегда оглядывались мужчины. Оглядывались и сейчас, да только взгляды их были иные, и Элиза с горьким чувством отмечала это, проходя сквозь расступающуюся перед ней толпу. Взгляды эти напоминали ей, что дни ее беззаботной юности миновали — безвозвратно. И хоть и сейчас она была молода и прекрасна, цвета ее черного, словно у бабочки-траурницы, одеяния навсегда отрезали ее от кокетливой юности и восхищения мужчин.
Ах, как шумен и весел Альверден! Элиза проходила по знакомым до боли улицам, и во взгляде ее серых глаз стыла тоска. Четыре года. Четыре года, и вороны так часто бывают в Альвердене, слишком часто! Ах, если бы уехать подальше и никогда больше не видеть этих улиц из красного кирпича, не слышать восхитительной разноголосицы городской толпы. Так хочется броситься на родной тротуар ничком, зажать уши, зажмурить глаза — лишь бы только не видеть, не слышать, ничего не вспоминать. Ах, Альверден!
Четыре года…. Ее портрет, портрет юной девушки в темно-зеленом бархатном костюме и черной шляпе с зеленым пером, с медовыми локонами, живописно разметанными по плечам, до сих пор висел в альверденском собрании любителей искусств. Всего четыре года назад ее знал весь Альверден — дочь престарелого адвоката, последнего представителя знаменитой семьи альверденских адвокатов, прелестную Элизу Идрад. И вот она идет по улицам родного города, и во взглядах людей восхищение мешается с опаской — никому не позволено безнаказанно восхищаться женой ворона. Ибо Элиза Идрад мертва, мертва так же, как и ее отец, умерший от горя, и на кладбище, в фамильной усыпальнице Идрадов есть даже надпись об ушедшей до срока прекрасной семнадцатилетней Элизе Идрад, о скорби семьи и всего города, лишившихся так нежданно прекрасной жемчужины, равной которой еще не рождалось в этом лучшем из городов мира.
Проходя бульваром Изати к нижнему городу, Элиза и впрямь чувствовала себя мертвой. Солнечный день и веселый шум толпы словно не касались ее, ей было зябко, то и дело передергивала ее нервная дрожь. Ей казалось, что она привыкла, но, видно, к этому невозможно было привыкнуть. Невозможно было привыкнуть возвращаться в родной город, который больше никогда не будет тебе родным. Прошедшие четыре года не изменили улиц и площадей, не изменился и бульвар Изати, лишь рамария перед домом магистра Краберата разрослась гуще. В этом доме с лепными колоннами и статуями в нишах за два дня до безвременной кончины Элизы Идрад был бал, и всю предыдущую неделю она торопливо перешивала бальное платье, ибо семья была не богата, много денег уходило на обучение младших сестер Элизы, а отец их был уже слишком стар и дела в конторе шли неважно. Элиза и сама работала в конторе, каждый день по пять часов разбирала она бумаги и принимала посетителей, но Альверден дорогой город, и она экономила на чем могла. Например, на бальных платьях. Несомненно, семнадцатилетняя Элиза Идрад была самой светской девушкой своего поколения. Престиж семьи необходимо поддерживать не только в адвокатской конторе; балы, приемы, благотворительные базары, общественные лекции не обходились без Элизы Идрад. С тринадцати лет она привычно тянула лямку светской жизни, сестры ее были слишком малы, а отец слишком стар, и все ложилась на ее плечи, хрупкие, но ничуть не костлявые. Эти плечи, выступая из пены кружев бального платья, притягивали взгляды всех мужчин без исключения, даже дряхлых стариков; и каждый думал, наверное, о том, как сладко целовать эти плечи, и завидовал счастливцу, которому выпадет эта привилегия. Если б знали они, кому достанется городская красавица Элиза Идрад!
Что и говорить, не тяжкой обязанностью было для нее все это, а радостью и смыслом жизни. Она полна была энергии. С утра и до позднего вечера занятая, она была счастлива этим. Боже, как она была счастлива!
Элиза Идрад считалась непререкаемым авторитетом по части нарядов. Искусная портниха, она умудрялась так перешивать свои платья и костюмы, что никто не узнал бы в них ношеных вещей; семейство Идрад одевалось элегантнее всех в городе. И до сих пор помнили, что на последнем в своей жизни балу Элиза Идрад была в розовом платье с пышной юбкой из тяжелого атласа и открытым лифом. На юбке во множестве нашиты были мелкие розочки из белого и розового кружева. И в высоко поднятых медового цвета кудрях ее были два розы — белая и розовая; на руках были нитяные перчатки, на шее — фамильное ожерелье Идрадов из сордосского серебра с розовым кварцем. В тот день Элиза Идрад была весела и пила больше обычного. И попирая все обычаи, танцевала только с одним кавалером. В тот день, неожиданно для себя самой, юная кокетка, разбившая уже не один десяток сердец, влюбилась — в молодого красавца из магической аристократии Альвердена, Кима Строс. Наутро, с трудом продирая заспанные глаза, она чувствовала себя невероятно. "Я счастлива, счастлива, счастлива!" — вот о чем думала юная Элиза Идрад, одеваясь для нового, полного забот дня. Она не подозревала, не могла даже представить, что тучи над ее головой уже сгустились.
Ким готов был просить ее руки, но Элиза уговорила его подождать. "Зачем?" — спрашивала она себя после. Она на следующий же день могла быть замужем, но она просила его подождать — ради своей семьи, ради отца и сестер. Где они теперь, ее отец, ее сестры? Отец — в фамильной усыпальнице, а сестры — у чужих людей, и она не может даже повидать их, ибо ее нет, она мертва, никто и вида не покажет, что узнал ее. Нет больше Элизы Идрад, есть Элиза, жена Ториона, приближенного Царя-ворона. Она сама, своими руками оттолкнула от себя счастье.
Где, когда он увидел ее — Элиза не знала. Но вороны часто бывали в Альвердене, так часто, и он мог увидеть ее где угодно, на праздниках и народных гуляниях, в стенах университета, где она бывала тоже часто, договариваясь об организации общественных лекций. Он увидел ее, захотел сделать ее своей женой — и сделал. Не для него было делать предложение и выслушивать отказ, ведь он был вороном, он захотел — и получил ее. В тот день, в день своей смерти Элиза Идрад присутствовала на лекции о строении Вселенной, и профессор Китц долго вспоминал потом, как она сидела — на обычном своем месте в задних рядах, сложив руки в черных перчатках на коленях. Медового оттенка кудри были спрятаны под синюю шляпку с серыми лентами. На девушке был синий бархатный жакет с черным меховым воротником (утро было прохладным), серая шелковая юбка, не слишком длинная, и когда девушка уходила, профессор заметил черные чулки и черные башками с серебряными пряжками. Он подумал, что надо будет дочери подарить такие же, она будет очень рада. У профессора Китца была дочь двенадцати лет, ужасная кокетка и модница, и он ее очень баловал. С лекции Элиза Идрад отправилась в контору отца, которая находилась на улице Каритонии. Здесь, не сняв ни шляпки, ни жакета, она пробыла два часа, пообедала в городе вместе с председательницей благотворительного общества «Голубка» и снова вернулась в контору. После обеда выглянуло солнце. Элиза сняла жакет и шляпку, поправила несколько смятую блузку из голубого шелка, расчесала волосы и заколола их наверх. До позднего вечера она пробыла в конторе, посетители после вспоминали, какой она была, вспоминали серебряную брошку на груди, небрежно подколотые волосы и несколько утомленные глаза, легкий румянец на щеках. Из конторы она ушла последней, мечтательно побродила по притихшему городу, думая о назначенном на завтра свидании с Кимом. Когда она вернулась, в доме уже все спали; тихонько пробралась Элиза Идрад в свою спальню, умылась холодной водой и торопливо переоделась в ночную рубашку. В семействе Идрадов царили строгие нравы, и девушка, блиставшая на балах в платьях с низким декольте и обнаженными руками, спала в длинной рубашке из плотного серого полотна с длинными рукавами и узкой горловиной, а под нее надевала еще панталоны длинной до колен с отделкой из жесткого накрахмаленного кружева. Волосы же на ночь заплетались в недлинную косу и прятались под чепчик, закрывавший уши и лоб. Переодевшись, Элиза Идрад легла, погасила ночник и, засыпая, все видела перед собой лицо Кима. Так больше она и не увидела его наяву.
Она проснулась в комнате из серого камня. В этой комнате она провела долгих два года, прежде чем сумела смириться со своей судьбой. Только тогда она получила право выходить на улицу и сопровождать мужа в его поездках, когда он сам хотел этого, разумеется. Но все это пришло не сразу, ибо два года, два долгих года она не могла смириться с тем, что, перестав быть Элизой Идрад, она не станет Элизой Строс. Два года она была заперта в каменной комнате, размерами даже меньшей, чем ее спальня, из которой ее похитили. В комнате, из которой Торион, усмиряя непокорную альверденскую красавицу, вынес все, содрал с каменной кровати и перины и одеяла, выгреб все из каменных шкафчиков, оставил голый камень. Вода — только для питья, хлеб и сушеные фрукты — только чтобы не умерла с голода. Первые дни она еще не понимала, умоляла отпустить ее, не верила его угрозам. Конечно, ему ничего не стоило силой взять семнадцатилетнюю девушку, но он хотел не этого, так у воронов не принято, он хотел, чтобы она сама — сама согласилась, признала себя — его женой. И долгий процесс усмирения Элизы Идрад начался.
Через два года она сдалась. И вот она снова на улицах Альвердена, прелестная женщина двадцати лет с небольшим. Взгляд в зеркало может сказать ей, что она ни на йоту не утратила своей красоты, напротив, эта женщина в зеркале была гораздо красивее безвременно почившей Элизы Идрад. Это тонкое бледное лицо с большими серыми глазами и прелестным ртом не шло ни в какое сравнение с прежним живым румяным личиком семнадцатилетней кокетки. Глаза стали темнее и глубже, медовые волосы, напротив, посветлели и стали почти золотыми. Она стала выше и тоньше, прежней девочки с полными бедрами и не оформившейся грудью уже не было, была женщина — с прекрасной фигурой. Которой все равно не видел никто, кроме ее мужа, ибо носила она теперь длинные черные одеяния со множеством складок. Впрочем, со вкусом прежней кокетки она не могла не оценить того, как эти одежды подчеркивают ее легкую плавную походку, как струиться тонкая ткань на ветру — словно крылья птицы, рвущейся в небо. Не зря, ох, не зря именно так одеваются вороны, эти одеяния прекрасно подчеркивают их вторую природу, что и говорить.
На нее оглядывались мужчины: альверденцы всегда были тонкими ценителями женской красоты. Часто чуткий слух Элизы улавливал, как говорили в толпе о том, что такая красавица подошла бы больше Царю-ворону, чем его ближайшему другу. Иногда она и сама думала об этом, Кэррон нравился ей, и она знала, что тоже ему нравиться. Она свыклась со своей судьбой, она поддерживала мужа во всем, но так и не смогла полюбить его, суховатого, гордого, высокомерного. Иногда она думала о том, что если бы Кэррон, а не его лучший друг, позарился бы на ее необычную красоту, она не была бы так холодна сейчас. Иногда ей казалось, что у Ториона нет сердца; у Царя-ворона сердце было — несомненно. Иногда… но о чем только не подумает молодая красивая женщина, лишенная любви. А Ким, ее Ким умер, утонул в неверной, кишащей воронками Дэ. Его назначили помощником ректора в школу мага Ловата в Морае, но он не успел даже доехать туда; после утомительной дороги на привале решил искупаться и утонул. Утонул. Утонул. Утонул.
И вот, в который раз, она идет улицами родного города, ставшего ей чужим, а маленькая девочка бежит впереди и оглядывается на нее, Элизу. И смеется. Элиза, обреченная всю жизнь рожать мальчиков, воронят, неожиданно для себя страстно привязалась к этой крошке. Кто будут ее дети? — лишь вороны, холодные, гордые, непонятные, не будет ни детских глупостей, ни капризов, ни ночных страхов. Отчего-то Элизе казалось, что так и будет, что ее сыновья обязательно будут такими — с пеленок. Она не любила воронов. Вот если бы…. Но она была уже слишком взрослой, если бы, как обычно и случается, ее украли, когда она была маленькой девочкой, такой, как та, что бежит сейчас впереди нее, смешно подпрыгивая, все было, может быть, иначе. Ах, как Элиза привязалась к этому ребенку! Втайне она надеялась, что родители маленькой Ра никогда не найдутся. Это были дурные мысли, и она гнали их от себя, но они возвращались снова. Если бы родители девочки не нашлись! С самого первого момента, в густом темном лесу, где малышка бесстрашно замахнулась палкой на змею, отгоняя гадину от оцепеневшей Элизы, с того самого момента Элиза почувствовала, что в ней что-то оттаяло, что сердце ее раскрылось навстречу этой крохе….
Темные короткие волосы девочки трепал ветер. Она никогда еще в своей недлинной жизни не видела таких городов. Ра бежала по мостовой мимо особняков из красного кирпича с белыми колоннами, мимо садиков с рамарией и ярко-алыми розами — особый шик Альвердена. В окнах колыхались розовые и желтые, волнами подобранные занавески, на подоконниках стояли горшки с темно-зелеными глянцевыми растениями. Небо было высоко и ясно, словно осенью, и по нему плыли неспешные облака, а здесь, внизу, бушевал ветер. Ра раскидывала руки в стороны и бежала со всех ног навстречу ветру — вниз по улице. Элиза шла медленно, стараясь только не терять девочку из виду, но при приближении к рыночной площади догнала Ра и крепко взяла ее за руку.
Рыночная площадь оглушила их шумом и разноцветием красок. Ра притихла, только вертела головой. Глаза ее блестели. Она ничего не спрашивала у Элизы, только один раз тоненько охнула, когда увидела прилавок, заваленный моравскими переливчатыми тканями. Элиза не отпускала девочку от себя, опасаясь, что она потеряется в толпе, но Ра и сама не стремилась отойти от Элизы: она была слегка напугана, хоть и разучилась пугаться незнакомого за время своих сказочных странствий.
Люди расступались перед Элизой даже в тесной базарной толпе. Мужа она увидела издалека. Двое высоких тонких воронов в черных свободных плащах шли сквозь толпу — словно горячий нож сквозь масло. Элиза увидела, как мечется на ветру плащ Царя-ворона, как он придерживает руками волосы, чтобы те не лезли в лицо. Торион, который стригся коротко, выглядел более величественно в ту минуту, и Элизе неприятно было это. Ра тоже увидела их. В толпе, среди затейливо одетых альверденских дам (мужчины не удостаивали обычно рынок своим вниманием) и пестрых продавцов, вороны в своих черных одеяниях бросались в глаза, как провал пещеры на цветущем склоне. Элиза, нагнувшись, подхватила Ра под мышки: девочке хоть и исполнилось уже пять лет, но она была худенькой, и ненадолго Элиза брала ее на руки. Обеим это доставляло удовольствие.
— Кто это, Элли? — спросил Кэррон, подходя к ним, — Это и есть тот потерявшийся ребенок?
Торион молча взглянул на жену. Лицо ее, просиявшее на миг улыбкой, окаменело: она ненавидела, когда он так смотрел на нее. В глубине души она понимала, что Торион не хуже и не лучше других, что Царь-ворон (и ей предстояло еще в этом убедиться) может быть так же бездушен и жесток, как и ее муж, что они просто вороны и все. За годы брака она поняла это, но поняла лишь умом — не сердцем.
— Ну, что? — сказала она.
— Мне нужно поговорить с тобой, — отрывисто бросил Торион, поворачиваясь, — Идем.
— Дай, мне девочку, Элли, — спокойно проговорил Кэррон, — Иди ко мне, детка, Элиза уж устала тебя держать.
Элиза отдала ему девочку — словно собачку. Ра доверчиво обвила руками шею самого могущественного на планете монарха: ей понравились его длинные волосы, взлетавшие под порывами ветра. Правда, дернуть его за волосы она так и не решилась: у него такое жесткое худое лицо, кто его знает, он может и разозлиться. Элиза пошла за Торионом, и Ра осталась наедине со своим новым приятелем.
Что ж, он-то мог держать ее, не уставая, — долго-долго. Отсюда ей было видно очень далеко — поверх всех голов Ра видела золотистую голову Элизы, удаляющуюся от нее, а еще дальше — карусель. Теперь-то она уже знала, что это такое, эти вертящиеся на веревках кресла, которые летают по воздуху с визжащими детьми и взрослыми: вчера они катались уже с Элизой на карусели, правда, Элиза не визжала и даже не улыбалась. Ра не знала об этом, но ее златоволосая подружка, взлетая на креслице над деревьями и людьми, думала с затаенной завистью о муже, которому, чтобы испытать этот восторг, не нужны никакие креслица с веревками, никакие моторы и билет за две монеты.
Ра наклонилась к самому уху ворона и зашептала, щекоча ему ухо своим теплым дыханием:
— Пойдем покатаемся, а?
Ветер трепал их волосы, путая каштановые и черные пряди. Ра с нахальством ребенка, который почувствовал, что ему сейчас все простят, потрогала пальцем короткий толстый шрам возле его уха:
— Что это?
Ворон поймал ее маленькую ручку и отвел в сторону.
— Не надо, еще не совсем зажило, деточка. Это я упал с карусели.
— Правда?
— Да, милая, слишком высовывался с кресла. Но ведь ты будешь осторожнее, правда?
— Угу, — с сомнением сказала Ра.
Он повернул голову и взглянул на нее смеющимся глазом. Темное худое лицо не казалось слишком добродушным, но Ра ужасно понравился его нос с горбинкой: таких она еще не видела. Люди оглядывались на Царя-ворона, державшего на руках маленькую девочку. Жена бургомистра, госпожа Орика, покупавшая лук и сесту, издалека загляделась на эту сцену, удивляясь тому, как уверенно обращается Кэррон с ребенком: ведь у него еще нет своих детей. Вырастившая троих дочерей, госпожа Орика, забыв о сесте, стояла, склонив набок голову, и смотрела, как ворон побежал к карусели. Девочка смеялась. Госпожа Орика подумала тогда со вздохом, что нынешний Царь-ворон все-таки ни на кого не похож. Хоть он и стал Царем еще задолго до ее рождения, госпожа Орика все же считала, что царствует он еще недолго: и ста лет еще не прошло. "А все же какой он странный", — думала она. Госпожа Орика довольно хорошо знала Царя-ворона, ведь не зря же она была замужем за бургомистром Альвердена, Царь бывал в ее доме, но никогда она еще не видела его смеющимся и привыкла считать его очень угрюмым. Но вот же — смеется, да еще и бегает с ребенком на руках — на глазах у всего Альвердена….
Ра на карусели смеялась так, что и правда едва не свалилась. Она хотела покататься еще, но ворон больше не решался пускать ее туда: уж очень она была возбуждена. Вместо карусели он увел ее туда, где катались на тангийских крылатых повозках, скользящих над землей на высоте человеческого роста. Их пустили без очереди, но Ра такая маленькая высота не заинтересовала: во время полета она разглядывала Жезл Тысячелетий. Что чувствовал Царь-ворон, обнимая маленькое теплое тело и отвечая на вопросы возбужденной девочки, никто еще не знал, но о чем-то он думал, а ветер трепал их волосы, и Ра смеялась, поднимая голову и взглядывая на своего нового друга.
18. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Иллирийские леса, день девятый.
На голубом небе, во множестве раскиданные тут и там, висели небольшие кучевые облака и меж ними иногда встречались размытые облачные пятна, словно дымка. В части, обращенной к земле, облака были серые, в остальной — белые и синие, и эта игра теней в кудрявых пышных облаках делала их очертания более определенными. Облака, стоявшие в зените, были темно-серые, и только по краям их виднелось белое сияние. Было жарко. Листья и трава нестерпимо блестели на солнце, но ветер был прохладный.
Облака плыли медленно-медленно, но их расположение на небе и вид менялись беспрестанно. Облака эти висели так низко над землей. Иные из них выглядели почти как тучи. Но хоть говорят, что дождь идет из кучевых облаков, видно было, что из этих дождь не пойдет. Эти были из тех кучевых облаков, из которых никогда не бывает дождя.
Было так ясно и ярко все вокруг, что стоило отвести взгляд в тень, как в глазах все темнело и приходилось привыкать, чтобы что-нибудь увидеть. В траве на одной ноте, не умолкая, трещал кузнечик, а поодаль — еще и еще. Солнце иногда скрывалось за облаками, и это казалось немалым облегчением. Ветер шумел и колыхал верхушки деревьев, но внизу почти не ощущался. Облаков становилось все больше, маленькие, большие, всякие — они застилали голубое яркое небо и медленно, почти незаметно для глаза плыли куда-то.
Мы шли около часа вдоль Анда, когда показались мостовые столбы на берегу. Но я отчего-то не видела самого моста. И не сразу я поняла, что моста нет. Нет, и все.
Наш проводник шел впереди, в отдалении, а за ним шагали мы с Михаилом Александровичем. И в тот момент, когда я поняла, что моста через Анд больше нет, проводник наш сорвался на бег, пробежал те несколько метров, которые отделяли его от столбов, и резко остановился на краю берега. Я подошла и остановилась рядом с ним, и он не отстранился. В сущности, он меня даже не заметил, он смотрел на то, что осталось от моста, и я тоже смотрела туда. Столбы сохранились и на том берегу, к ним некогда крепились цепи перил, а внизу, в бурной воде, торчали лишь обгоревшие опоры. И вода неслась, закручиваясь возле них в белопенные водовороты, а моста не было. Не было самого прелестного моста на всем северном континенте….
Ах, какой это был мост! Я видела фотографии, да и сама здесь была когда-то. Этот мост единственный в своем роде, аульвы работают обычно с металлами, но этот мост был деревянным и вместе с этим он был так изящен и невесом, как и их изделия из металла. Что произошло здесь? Случайный пожар или что-то еще, но я не представляла, как мы будем переправляться: Анд очень бурная река, хоть и неглубокая.
Проводник стоял рядом со мной. Я услышала его тихий и долгий вздох. Он провел руками по волосам, зачесывая их назад, — характерный жест, что-то напомнивший мне. Невероятно мучительное и дразнящее чувство вызвал у меня этот жест, я ведь видела что-то подобное, видела, видела! А он встряхнул головой, пряча лицо в растрепанных волосах.
— Ты не знал? — сказала я тихо, искоса поглядывая на него.
Он покачал головой.
— Красивый был мост, — сказала я.
Стэнли подошел к нам и остановился рядом.
— Можно еще где-нибудь переправиться? — спросил он неизвестно у кого.
— Нет, — сказала я, — Вообще-то, это единственный мост через Анд. Был.
Стэнли подошел к обрыву и, держась одной рукой за полусгоревший столб, посмотрел вниз.
— Здесь, похоже, неглубоко.
— Да, — сказала я, — Если натянуть веревки, можно перейти вброд. Здесь неглубоко, только течение очень сильное.
Стэнли хлопнул в ладоши и пошел к остальным. Они зашумели, заговорили о чем-то, только я и проводник стояли неподвижно и смотрели на резные столбы, чуть опаленные, резьба их почти не пострадала, и обгоревшие обломки опор, торчавшие среди пенной бурлящей воды. Мне было грустно. Реальность. Реальность вторгалась на Алатороа, на мою Алатороа, на вымечтанную, пригрезившуюся мне планету. Случайный пожар, и нет моста через Анд. Попытка избавиться от землян, и нет Альвердена и Серых гор. Повзрослевшая я, изменившаяся планета. О, какой светлой мечтой была она для меня, но здесь повсюду — та же реальность. Пожары, боль, война, ненависть, равнодушие. Все то же, что и на других планетах, где я работала. Той Алатороа, которую я помнила, никогда и не было. Был ребенок, впервые увидевший землю, цветы, деревья, реки, а сказки не было.
И все же она была. Мне казалось, что я поняла, наконец, и готова принять действительность, но…. Угрюмчики, размахивающие лапами и чирикающие, их глаза, каждый размером с мою ладонь, варка у Серебряной Ивы. "Недоразвитые существа", — говорят земляне, и сорты вслед за ними это повторяют. Да, они, конечно, не на той ступени развития, что люди. Но я думаю не об этом, я думаю, что сейчас аульв, наверное, уже болтается на собственном хвосте над котлом с буль-булем. Тэй на рынке, его глаза, капли желтоватого яда, расплывающиеся в пыли, — ах, Тэй! Старый Рездиг с морщинистым лицом. И действительность здесь не похожа на все остальное. Сказка моя!
Что это — выдумка, бред, заблуждение? Сколько лет «Алатороа» означало для меня — «волшебство». Не то волшебство, что вызывают, читая заклинания, а волшебство, разлитое в воздухе. Но оно-то все еще здесь! И потом, есть еще Поля Времени. Надо будет свозить туда Стэнли, пусть скажет потом, что не верит в магию, пусть попробует.
Переправу подготовили довольно быстро, но я сомневалась, что смогу перейти Анд таким образом. Если долго стоять на обрыве и смотреть на бурлящую воду, то может закружиться голова.
Наш проводник стоял, не шевелясь. Когда натянули трос, он шагнул к обрыву и посмотрел вниз.
— Что? — сказала я, — Ненадежно?
— Переходить Анд вброд? — пробормотал он, — Да, ненадежно.
— Ты умеешь плавать?
— Здесь никакое умение не спасет.
— А я не умею, — сказала я, — Так и не научилась. Я уже два раза чуть не утонула.
Он глянул на меня сквозь свисающие на лицо волосы. Я улыбнулась — несколько беспомощной улыбкой. Меня все не оставляла мысль о том, что бог любит троицу.
— Боишься? — слегка насмешливый голос, — Ты боишься?
Я кивнула: да, еще бы. Но я не могла не заметить, что он сам заговорил со мной, и так легко и свободно, словно это не он шарахался от нас всех так долго. И, Господи, что-то страшно знакомое было в этом его жесте, которым он убирал волосы назад, что-то такое знакомое….
Первым переправу испробовал крупный светловолосый парень, зовут его, кажется, Антон. Начали переходить и остальные. Скоро на этом берегу остались только мы с проводником.
— Кристина! — крикнул Стэнли с того берега, — Ну, что же вы?
— Сейчас, — пробормотала я, приглаживая волосы нервным жестом. И тут же подумала, что такой же жест я подметила у проводника. Этот жест так дразнил меня — словно я видела много-много раз, как чьи-то руки отбрасывают назад темные волосы, пропуская пряди между худых смуглых пальцев.
— Давай, я помогу, — сказал вдруг проводник.
Ухватив меня за руку, он помог мне спуститься с обрывистого берега вниз. Подняв голову, я взглянула в его лицо, почти не скрытое волосами. Лицо было худое, со слегка выступающими скулами и очень грязное, словно специально измазанное. На худой шее грязи почти не было. Над правой бровью была свежая, сочащаяся кровью царапина. Что-то странное было в его глазах, но тогда я еще не поняла — что.
Я остановилась по колено в воде и вцепилась руками в натянутый трос. Я все еще смотрела вверх.
— А ты? — спросила я.
— Сейчас. Что, действительно, боишься?
Что-то страшно знакомое послышалось мне в этом голосе, в интонациях, мягких и ироничных. Мне показалось, я схожу с ума. Он начал говорить со мной более раскованно, и, видно, прорвалось что-то подлинно его; до того он был так скован и так шарахался от нас…. А теперь…. Господи, я сходила с ума от невозможности вспомнить, что это напоминает мне, что его голос, его акцент, его интонации напоминают мне. Не просто акцент, а именно голос — этот голос!
— Я не умею плавать, — повторила я, глядя в его лицо.
Мягкий ироничный голос ответил мне:
— Я тоже, если тебя это успокоит.
Такой знакомый голос.
Я засмеялась в ответ и пошла. Небо был так низко над деревьями, казалось, что они едва-едва не задевают его. Как низко все же небо на равнине. Я цеплялась за трос обеими руками. Белая вода бушевала вокруг моих ног, а камни на дне были такие скользкие. Вода бурлила и закручивалась в водовороты, белая вода, пенная вода.
Я кусала губы. Я боюсь воды, может быть, оттого, что родилась в космосе. Я оторвала взгляд от воды и посмотрела вперед. Берег был всего в пяти-шести метрах от меня, а казалось, что до него больше парсека. Я поскользнулась, с трудом восстановила равновесие, а через шаг поскользнулась снова.
У меня все обмерло внутри. Я так ужасно испугалась. Вода доходила мне до бедер, и течение было такое, что я едва удерживалась на ногах. Я шагнула, и течение снесло мои ноги с камня. Вода захлестнула меня с головой, миг я еще держалась за канат, а потом мои руки разжались. Как ни странно, в этот раз я не испугалась, я успела подумать только, что бог все-таки любит троицу.
Я пришла в себя на берегу. Мне было ужасно холодно. По небу плыли рваные клочья облаков. Ветер налетал порывами. Вразнобой говорили люди, встревоженное лицо Стэнли маячило прямо передо мной. Я оттолкнула чьи-то руки и села.
— Бог любит троицу, — объяснила я. Стэнли и Михаил Александрович встревожено переглянулись, — Я уже тонула два раза, — прибавила я со смешком, — И кто меня вытащил?
— Он, — сказал Стэнли и показал куда-то.
Я оглянулась.
Наш проводник лежал на песке, до кошмара похожий на мертвеца, осталось только руки на груди скрестить. Мокрые волосы откинуты были с лица, почти чистого. Худое это было, смуглое, бледное лицо. Нос с горбинкой, широкий тонкогубый рот. Возле уха я увидела короткий грубый шрам.
Я встала, снова оттолкнув руки Стэнли: помощь мне не нужна, спасибо. Этот лицо, бледное до синевы, этот шрам. Все это дразнило мою память. Казалось, имя вертится у меня на языке, но я не могла поймать его. Зачарованная этим ощущением, я сделала шаг, другой.
Он застонал, перевернулся на живот, выкашливая воду. Посмотрел на меня мельком — и я увидела его глаза. Его глаза. Меж рядов мокрых, слипшихся ресниц была угольная тьма, и тьма эта глянула на меня, и на миг скрылась за ресницами, когда он зажмурился. Ничего странного, такие глаза бывают у животных, просто белков не видно…. Но в этих глазах не видно было ничего, ни зрачка, ни радужки, просто темнота, без единого блеска. И я остановилась, сбилась с шага. Ветер налетел на меня сзади. Стало вдруг пасмурно и холодно. А я смотрела, не в силах сдвинуться с места. Ворон. Ворон. Ах, ты, боже мой! Ворон.
Я дрожала, но понимание все еще не пришло ко мне. Я дрожала и смотрела на него. Он сел и посмотрел на меня — последний ворон на Алатороа.
Люди вокруг шумели и разбирали рюкзаки. Стэнли раздраженно велел мне переодеться, и я ответила, что обойдусь. Ворон поднялся на ноги. На меня он не смотрел, а я не сводила с него глаз. Вот он пригладил волосы — характерным жестом, который так дразнил меня….
Меня словно ударило. В Альвердене, на рыночной площади, кажется, сто лет назад…. Это лицо, похудевшее, бледное, усталое, горделивое. Это профиль — из тех, что чеканят на монетах. Некрасивый, слишком широкий, с тонкими губами рот. Этот шрам. Кажется, сто лет назад я впервые увидела это лицо. Кажется, сто лет назад я впервые…. Господи, господи. Сгорбившись, ворон отошел в сторону. Но теперь я не решалась подойти, заговорить. Теперь — нет. Когда-то — даже странно подумать — мне было легко и весело с ним, когда-то — сто лет назад. И этот жест! Да, я помню, волосы вечно лезли ему в глаза. Это я помню. Это я помню.
Я испытывала непонятное смущение. Обычно мне не свойственно преклонение перед любыми авторитетами, и потом, ведь это был Кэррон. Ведь это Кэррон! — а я не смею подойти к нему. Но я действительно — не смела. Его нынешнее положение, его потери, его прошлое величие — все это удерживало меня. Да, было время, когда мне плевать было на его «величие», да только время то прошло. Мне было уже не пять лет, и я не смела….
Конечно, я прекрасно осознавала, что значит его присутствие здесь в качестве проводника. Что-то он затевал, готовил — исподволь, осторожно. Но разве об этом я думала тогда, разве об этом….
Весь день я была как в тумане. Мы остановились недалеко от реки, разбили лагерь на большой поляне. Я сидела в своей палатке и просто смотрела в одну точку. Стэнли несколько раз приходил и спрашивал, не заболела ли я, пока я раздраженно не попросила оставить меня в покое. Мне казалось, что мне нужно серьезно о чем-то подумать, но, оставаясь одна, я ни о чем не думала, я просто сидела, обхватив колени, и пыталась не плакать.
Сколько дней я здесь? И все это время я думала о нем, горевала о нем, и вот он здесь, совсем рядом — пойди же, поговори с ним! Но я не могла…. Ведь я даже не знаю его! Ну, что значат те несколько дней, которые мы были знакомы. Я ведь совсем не знаю его. И я не знаю, как говорить — с изгнанником.
Я не плакала, но мне было как-то тошно и плохо. А ведь он знает, кто я. Ведь он знает. Понимает, что я могу узнать его — в любой момент. Детские воспоминания, конечно, могут быть весьма туманными, но я могла узнать его и раньше, ведь могла. А Михаил Александрович, который видел его вовсе не так давно? Ведь он не так уж и изменился. Похудел, да, но он и всегда был худым. Господи…. А странно, если бы я могла представить, что, встретив Кэррон, я не посмею подойти к нему….
Три месяца. Три месяца изгнания. Разумом я понимала, что лучше мне пойти к нему, поговорить с ним хоть немного. Но утешать ворона? Утешать Царя-ворона?! Подумать только, а ведь было время, когда это не имело для меня значения. Он был такой — легкий, веселый, он умел так улыбаться. Улыбка совершенно преображала его лицо. Рот у него широкий, и стоило ему улыбнуться — чуть-чуть, как лицо его совершенно менялось, что-то лукавое и довольное появлялось в нем. У него становился такой вид, словно он спрятал что-то от тебя и ждет, когда ты обнаружишь пропажу. Озорной какой-то вид. Господи, как это было давно!
Под вечер я вылезла из палатки. Через все небо был розовый отсвет. Совсем слабый, словно мокрой акварелью разбавили небо и облака. Закат. Солнце еще сияло, такое же, какое оно бывает днем — небольшой сияющий шар, только с розовым отблеском — среди розоватых вытянутых облаков. Кэррон не видел меня, зато я увидела, как он ушел из лагеря, и пошла за ним. Но… чувствовала я себя ужасно. Мне казалось, что делаю я что-то совсем уж плохое, хотя плохих поступков на моем счету было предостаточно, и они не слишком смущали мою совесть.
Далеко Кэррон не ушел. Неожиданно я наткнулась на него, сидящего на земле. Я вздрогнула и остановилась.
Кэррон поднял голову и взглянул на меня. Спокойное, усталое, бледное лицо. Спокойный, доброжелательный взгляд — так он смотрел на меня и тогда, в Альвердене, в самый первый момент нашей встречи. Мне отчего-то показалось, что именно так, хотя вряд ли я действительно это помню. Я совсем смутилась под его взглядом. Я села на землю напротив ворона. Кэррон смотрел на меня, а я смотрела на него. Я чувствовала, что должна что-то сказать: молчание слишком уж затягивалось, — но что сказать, я не знала. Сколько ему лет? Четыреста шестьдесят, четыреста семьдесят. По меркам воронов он совсем еще молод. А как страшно молод он был, когда его избирали Царем!
— Я так и не поблагодарила вас, — наконец, сказала я неловко, — Если бы не вы, я бы утонула.
— Ты ведь начала уже звать меня на «ты», — откликнулся он мягко, — Почему снова на «вы»?
Я не знала, что сказать, лишь улыбнулась смущенной улыбкой.
— Я и не думал, что увижу тебя когда-нибудь, Ра…. Ты выросла….
Почти шепот. Задумчивый, мягкий, тихий голос. О чем он думал, о той девочке, которую когда-то носил на руках? Я вспыхнула и опустила голову, услышав это нежное и мягкое: "ты выросла".
— Да, — сказала я.
И мы замолчали. Я была ошеломлена той нежностью, которая звучала в его голосе — как раньше. Как раньше. Да, когда-то он был так нежен и ласков со мной. В сущности, он был единственным в моей детской жизни, кому достаточно было сказать слово, прикоснуться, чтобы я тотчас успокоилась и утешилась. Родители бывают обычно требовательны с детьми, чужие же люди не так искренни в своей любви к ребенку, ведь они ни на миг не забывают о том, что это чужой ребенок. Кэррон был совсем другой….
Сумерки сгущались, меж деревьями рождалась ночь. В лагере слышны были голоса, и сквозь листву мелькало пламя костра. До нас донесся дружный смех и восклицания. Мы сидели и смотрели друг на друга. Меж нами было два метра невысоких папоротников и ломких сухих стеблей на земле, которые называют воздушной подстилкой. Было не так уж и темно, небо было темно-синее, и лишь понизу стелился сумрак. Краски постепенно меркли, серели. На западе сквозил еще меж деревьев бледный призрак рыжего заката, и небо там было светлее. Но все же это была уже ночь, и она была так тиха.
— Странно, что тебя прислали сюда, Ра, — сказал Кэррон негромко, — Я думал, вас никогда не посылают на те планеты, на которых вы уже бывали.
Пункт «а» закона 352.
— Вы многое о нас знаете, — настороженно сказала я.
И услышала в ответ сказанное мягким голосом:
— Я всегда считал, что, прежде чем начинать войну, нужно хорошо изучить противника.
Снова наступило молчание. Потом я сказала несмело:
— Тэй говорил мне, что вы не хотели войны…
— Я ошибался, — сказал он отрывисто.
Мы снова замолчали. Но сердце мое уже оттаяло, я уже не боялась его. Просто я не знала, что сказать теперь, как его отвлечь. Нашла о чем заговорить, дура! Неужели не могла сказать что-то другое? Мысли мои путались. Кэррон заговорил сам.
— Тебе нелегко будет здесь, Ра, — сказал он, — Тебе здесь будет очень нелегко…
Так тихо и задумчиво сказал, словно только что эта мысль пришла ему в голову.
— Да, — тихо отозвалась я.
— Улетай отсюда, деточка, — сказал он, — Улетай, слышишь?
Я молчала.
— Ладно, — сказал он мягко, — Не принимай это всерьез, детка. Иди спать.
Я не шевелилась.
— Или, деточка, — повторил он, — Иди спать. Мне надо побыть одному.
— Простите, — пробормотала я, вскакивая на ноги. Я чувствовала, что краска бросилась мне в лицо, хорошо еще, что успело стемнеть. Я не слышала, как он встал, но вдруг он схватил меня за руку. И тут же выпустил.
— Что ты, деточка, — быстро и мягко сказал он, — Ты обиделась? Нет?
— Нет, — сказала я.
Я растерялась.
— Я не хотел тебя обидеть.
— Я не обиделась.
В темноте я нашла его руку и сжала ее. Пальцы его были холодные, как лед. Он дернулся и высвободил свою руку.
— Не надо. Не стоит до меня дотрагиваться. Ты не сердись на меня…. Ты ведь… тебе самой не весело со мной разговаривать.
Я вздрогнула.
— Не сердись, деточка.
Господи, как давно никто не звал меня «деточкой». И кажется, никто и никогда не говорил мне — "не сердись".
— Я так рад был увидеть тебя… еще в Торже…. Ты не представляешь…. - он замолчал, а его тихий, прерывистый шепот все еще звучал у меня в ушах, — Ты иди спать, — сказал Кэррон снова почти нормальным голосом, — Никуда я не денусь за ночь. Утром поговорим, ладно?
— Спокойной ночи, — сказала я.
Он рассмеялся в ответ, но смех почти сразу и оборвался.
— Спи спокойно, детка, — сказал он.
Когда вернулась в лагерь, уже почти все спали. Стэнли с Эммой Яновной сидели возле костра и тихо спорили о чем-то. Михаил Александрович сидел в палатке с откинутым пологом и читал при свете большого переносного фонаря. Он доброжелательно кивнул мне и снова опустил взгляд в книгу. Я замедлила шаг, немного подумала, потом все же подошла к нему.
— Михаил Александрович, — сказала я.
Он поднял голову.
— Что такое, Кристина?
— Я хотела поговорить с вами…
— О чем, о Царе-вороне?
— Да. Вы сказали уже кому-нибудь?
— Нет, — спокойно ответил Каверин, — И не собираюсь. Я, видите ли, уже старый человек, Кристина, и давно работаю. И за эти годы я понял одну простую истину: у каждого своя работа. Я фольклорист, мое дело — это ходить и записывать сказки по деревням, а вовсе не вмешиваться в дела координаторов. И рисковать я тоже не хочу. Вы понимаете?
— Да. Вы правы, это моя работа, не ваша. Это моя работа — улаживать. Не нужно пока его выдавать.
— Да, конечно. Только мне почему-то кажется, что думаете вы вовсе не о работе, Кристина.
— Я не готова, — сказала я тихо, — я еще не готова вести игру против него. Это вам он так, Царь-ворон, а меня он на руках носил и на карусели со мной катался. Спокойной ночи, Михаил Александрович, — прибавила я, а сама вспомнила "Спи спокойно".
— Спокойной ночи, Кристина.
"Спи спокойно, детка".
"Спи спокойно".
19. Из сборника космофольклора под редакцией М. Каверина. Литературная обработка Э. Саровской. Проклятая семья.
В деревнях рассказывают, что в лесах, особенно в густых и темных, обитают лесные духи, которые зовутся файнами. В туманные ночи они выходят из своих лесов, чтобы петь и танцевать рядом с людьми, и если тебя приглашают в хоровод, то можно идти без боязни, и до конца своей жизни ты будешь рассказывать потом о вихре танца, о прекрасных песнях и о чувстве, которое охватывает тебя, когда ты летишь, не чуя ног под собой. Многие люди приходят танцевать в долину Флоссы в туманные ночи. Но бойся встретить файна одного в лесу или поле. Если же встретишь его, беги, не оглядываясь, не заговаривай с ним, а пуще всего бойся принять его приглашение на танец, ибо он затанцует тебя до смерти или же лишит разума.
В одной деревне жила молодая вдова, и было у нее три дочери. Однажды старшая девочка пошла собирать хворост на продажу, ведь надо было им чем-то кормиться, да день был жаркий, и заснула девочка на опушке леса. Проснулась поздно, смотрит, солнце уже к западу клониться, а хворост не набран, вот и пошла в чащу, чтоб побыстрее набрать. Вот идет она и слышит вдалеке тихую музыку. Шаг за шагом приближалась девочка, музыка становилась все громче, и хотя мать предупреждала ее, что нельзя заходить далеко в лес, девочка шла и шла, такой красивой показалась ей музыка.
Наконец, вышла девочка на поляну. Поляна была огромной и очень красивой, и там, среди ромашек и мазалий, стоял самый прекрасный на свете человек. У него были золотые волосы и удивительные желтые глаза, и одежды его были словно радуга. Протягивая руки, он сказал:
— Здравствуй, девочка, я давно жду тебя здесь. Помнишь, как ты хотела танцевать на прошлой ярмарке, но мама не пустила тебя, потому что ты была еще слишком мала? Теперь ты подросла, и тебе уже можно танцевать. Пойдем.
А музыка звучала все громче, и девочка взяла кавалера за руку, и они понеслись в стремительном танце. Ромашки и мазалии слились у девочки перед глазами. Это был прекрасный танец, небо и земля замерли, птицы перестали петь, все живое смотрело на них и восхищалось. Когда же танец окончился, и танцующие остановились, девочка упала замертво.
Долго искала ее мать и все жители деревни, наконец, они нашли девочку в густом лесу. В волосах ее была вплетена мазалия, и девочка была прекрасней, чем была при жизни. Так люди поняли, что ее погубил файн.
С тех пор этот лес прослыл дурным местом. В семье молодой вдовы жизнь стала еще тяжелее, две оставшиеся дочери были еще малы, и помощь от них была невелика. Вдова старалась изо всех сил. Она нанималась теперь на уборку урожая в дальние селения, и надолго оставляла детей одних. Всю осень прожили девочки одни в маленьком доме на краю деревни, пока их мать работала в горах, собирая чужой урожай. Но вот пришла пора ей возвращаться домой.
Путь был неблизкий. Пока вдова шла, выпал снег и стало холодно. Чтобы побыстрее добраться домой, пошла она через тот самый лес, где некогда нашли ее дочь мертвой. Вдова спешила домой, ведь она была очень бедна, и одежда ее не согревала в такую погоду. И вдруг ей послышалась музыка. Конечно, никакой музыки и в помине не было, ведь была зима, а лесные духи не танцуют зимой, когда леса умирают до весны. Вдова остановилась, и тут же музыка замолкла. В лесу было темно и тихо, падал редкий снег. Было так холодно, что вдове пришлось приплясывать, иначе ноги у нее примерзли бы к тропинке. И вдруг музыка зазвучала — все громче и громче. Прекраснее этой музыки вдова еще не слышала. И ей показалось, что она видит в просветы между деревьями, как ее умершая доченька танцует в заснеженном лесу, и вдова с криком побежала туда. А музыка все отдалялась, отдалялась и танцующая девушка.
Вдова бежала что было сил. Ветви хлестали ее по лицу, корни хватали за ноги, но она все бежала, протягивая руки и крича имя своей дочери. Но музыка все удалялась, и, конечно, вдов никогда не смогла бы догнать ее.
Долго ждали девочки свою мать, но она так и не вернулась с заработков. Зима в том году была суровая, чтобы не умереть с голоду, девочкам пришлось пойти в батрачки. Избушка их на краю деревни совсем разрушилась, ведь теперь никто не жил в ней.
Девочки были еще малы. Они работали изо всех сил, но хозяева все равно были недовольны. Зиму они держали девочек у себя, потому что даже самый жестокий человек не выгонит детей в такую лютую зиму, но весной их рассчитали. Вот идут девочки по дороге и плачут…
Так шли они долго. Когда им хотелось есть, они просили милостыню или воровали яблоки и репу, но однажды хозяин сада погнался за ними. Младшая успела убежать, а у старшей подвернулась нога, и она упала.
— Воровка! — закричал хозяин сада.
На его крик прибежали работники, они связали девочку и посадили в погреб. Всю ночь просидела девочка в холодном и сыром погребе, плача и сетуя на свою судьбу. На утро ее посадили на телегу и отвезли в город, где привели к судье.
Судья был очень важный и толстый. За утро он уже приговорил к повешению трех разбойников и одного портного, который убил жену портновскими ножницами, и слегка утомился. Сейчас он как раз собирался обедать. С презрением он взглянул на грязную оборванную девочку и велел выпороть ее кнутом на площади, а после посадить в тюрьму.
Стражники отвели девочку на площадь, привязали к столбу и стали пороть. Она молила не трогать ее, потом молила, чтобы ее убили и не мучили, потом, видя, что они глухи к ее мольбам, закричала:
— Вы забрали мою сестру, заберите же и меня!
А если кто-то добровольно хочет уйти с лесными духами в их заколдованную страну, они всегда забирают его. Вжих — и девочка исчезла на глазах у изумленных стражников.
Она проснулась в чудесном месте, называемом Лориндол, Бесконечная роща. Деревья, ах, какие там были деревья — словно живые. Цветы, ах, какие там были цветы — словно драгоценные камни. Девочка проснулась на ложе из мха, мягче этого мха не было у нее в жизни постели. Все вокруг было наполнено музыкой и прекрасным ароматом. На девочке было прекраснейшее платье, похожее на кисею дождя с проблесками солнца. В волосы ее, расчесанные и красиво уложенные, была вплетена мазалия. Она была так красива, что один из файнов взял ее в жены, и с тех пор девочка больше никогда не вспомнила ни о своих сестрах, ни о своей матери.
Между тем мать ее не умерла. Долго бежала она по лесу. Она изорвала свои старые башмаки, карабкаясь по кручам. Одежда ее порвалась, волосы растрепались, и тело все было в синяках и царапинах, но она все бежала. В темноте она сорвалась с обрыва и потеряла сознание.
Долго пролежала там вдова и очнулась от жестокого холода. Ни музыки, ни танцующей девушки уже не было. Вдова вспомнила о своих дочерях и заторопилась домой, но, вот беда, где ее дом, она не знала. Так долго бежала она по лесу, что забрела в совершенно незнакомые места.
Но делать было нечего, и она пошла, куда глаза глядят. Она все шла и шла, пила воду из не замерших источников, ела сохранившиеся кое-где ягоды. Башками ее развалились, одежда превратилась в лохмотья. Долго ли, коротко ли, но вот вышла она к человеческому жилью, но крестьяне испугались, когда увидели безумную женщину в разорванной одежде, и прогнали ее. Плача, пошла вдова по дороге. Навстречу ей попались бродячие торговцы, но они тоже испугались и избили ее и оставили умирать в канаве, сорвав с нее одежду. После побоев повредилась вдова в уме. Нагая, бродила она по дорогам, и иногда люди кидали ей корку хлеба, но случалось и гнали ее от себя или били. Кто она и откуда идет, она уж и не помнила, только иногда бормотала что-то о своих дочерях, да только никто ее не слушал.
Так прошла много времени. Вдова поседела и стала худой как смерть. Дети боялись ее, крестьяне гнали и травили собаками. Однажды она упала на дороге, и у нее уже не было сил подняться. Так она и лежала, призывая к себе смерть.
Мимо ехал один богач, недавно потерявший жену. Едет он и видит, что на дороге лежит женщина, и, видно, так дорога была ему жена, что с горя почудилось ему, что это она лежит, умирающая, здесь, на дороге. Вдову подняли и отвезли в замок. Там ее умыли, накормили и одели, и богач увидел, что она совсем не так страшна, разве что седая, и вовсе еще не стара. И почудилось ему, что в этой женщине воплотилась душа его жены, и он женился на вдове, а так как имени своего она не помнила, стал звать ее именем своей умершей жены. Так они и жили, и родились у них двое прекрасных сыновей, и не было семьи счастливее, чем эта.
Однажды, решив повеселить свою жену, богач повез ее в долину Флоссы, где в туманные ночи лесные духи приглашают всех в свой хоровод. Стоял период туманов. Веселье в долине Флоссы было в самом разгаре. Жена богача танцевала и смеялась, и он был доволен, и тоже смеялся, держа ее за руку. Но вдруг уже немолодой файн подошел к ней и протянул руку, приглашаю на танец. Волосы его уже поседели и были не золотыми, а серебряными, но глаза сияли прекрасным золотистым светом. Словно завороженная, выпустила она руку мужа и коснулась руки файна, забыв о том, что идет на верную смерть. Муж вскрикнул, но было уже поздно, они уже унеслись в танце.
Она танцевала, как никогда в жизни. Казалось, все вокруг, цветы и травы, небо и земля, все танцует вместе с ней. И вдруг она вспомнила все, что было с ней в жизни, вспомнила свою погибшую дочь и двух своих девочек, которые остались без нее, вспомнила своего умершего мужа и его могилу. А танец все длился, и файн сжимал ее в объятиях.
— Отпусти меня! — взмолилась она, — Я потеряла своих дочерей, но у меня снова есть муж и дети, не отбирай меня у них!
Но файн не ответил ей. Она танцевала и словно грезила наяву. Ей виделись чудесные деревья, и тропинки, залитые солнечным сетом, ей грезился шепот листвы и пение птиц. Словно кто-то говорил ей: зачем тебе эта земная жизнь, пойдем со мной, и ты снова будешь молода и прекрасна, и ничто, никакое горе больше не будет мучить тебя. И ее воскресшая память стала затухать, гаснуть, и она снова все забыла, и наутро проснулась среди файнов и стала считать себя одной из них.
Младшая же дочь вдовы, оставшись совершенно одна, шла по дороге и горько плакала. На дороге ей повстречались разбойники, а девочка она была хорошенькая, и они взяли ее с собой. Разбойники научили ее воровать в толпе кошельки, залезать в чужые дома, и она стала одной из их банды. Шла время, девочка росла и превратилась в настоящую красавицу. Атаман банды полюбил ее, и они вместе планировали налеты и грабежи. Раз, ограбив почтовый фургон, разбойники, убегая от погони, заехали далеко в лес.
Лес был густым и темным. Разбойники ехали, и постепенно страх овладевал их сердцами. Становилось все темнее и темнее, хотя лишь недавно миновал полдень. И вдруг музыка, страшная музыка окружила их. Музыка эта была прекрасна, но навевала ужас, разбойники еле сдерживались, чтобы не броситься кто куда.
— Лесные духи, лесные духи!.. — бормотали они.
И лесные духи напали на них. Они были прекрасны и убивали без жалости, ибо разбойники непрошеными гостями забрели в заповедный лес. Мало кто из разбойников смел сопротивляться, красота файнов поразила их; некоторые разбойники пытались убежать, но никто не поднял руку на файна, только атаман и его подруга. Атаман разбойников не боялся ничего и никого, даже гибельная красота файнов не могла испугать его; его подруга же помнила свою старшую сестру, убитую файном, и жаждала расплатиться за ее смерть. Они сражались и убивали, и деревья стонали вокруг, провожая в царство смерти своих властителей, но тут перед ними явилась прекраснейшая девушка в серо-золотом наряде. И застыла подруга атамана, ибо узнала она свою потерянную некогда сестру, пойманную в саду за воровство.
— Майра! — вскрикнула разбойница, потягивая к ней руки, но острый кинжал вонзился в ее грудь, ибо Майра не помнила ни младшую сестру свою, ни свое прежнее имя.
Разъярился атаман, увидев смерть своей подруги. Он закричал и бросился на девушку-файна. В мгновение ока он убил ее, но и сам не ушел от ответа. Лесные духи, обозленные смертями своих сородичей, не убили его сразу, но отдали на растерзание деревьям, и говорят, что смерть атамана разбойников была долгой и мучительной.
20. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, долина р. Флосса, день десятый.
Нельзя сказать, что я действительно спокойно спала. Я вообще не спала, я думала. Лежала и смотрела в темноту над своей головой. В палатке было душно. Посреди ночи пошел дождь. Он шуршал по тенту, а внутри было так душно и так темно, что у меня разыгралась клаустрофобия. Я расстегнула полог и вышла на улицу. Было самое темное время летней ночи. В лагере все спали. Обняв себя руками, я ходила перед палаткой взад и вперед, осторожно ступая по мокрой траве. Дождь был тихий, почти незаметный. Потом дождь кончился.
Небо на востоке посветлело. Верхушки деревьев вырисовывались на сером фоне. Я вернулась в палатку и легла поверх спального мешка, укрывшись курткой. Пахло так — водой, влагой, висевшей в воздухе, и мокрой землей, и мокрой зеленью. Неуловимые, чудные, тихие запахи. Я думала о том, что со мной твориться. Почему я чувствую, что мы здесь и впрямь — захватчики? Всем сердцем я с Кэрроном — не потому, что я люблю его, а потому, что я… я хочу, что бы Алатороа была такой, какая она есть, что бы она не стала очередной колонией землян. Да, я хочу — этого. Я хочу, чтобы нас здесь не было.
Светало. Лагерь начал постепенно просыпаться. Я лежала с откинутым пологом и смотрела. Первым из своей палатки вылез Стэнли и с полотенцем на шее отправился к реке умываться. Он помахал мне рукой, и я помахала в ответ.
Кэррон появился часа через два, когда мы уже сворачивали лагерь. Я собирала палатку, он присел рядом и стал наблюдать за моими действиями черными глазами, в которых не отражался солнечный свет. Становилось жарко, парило.
— Ты видела Тэя? — наконец, сказал Кэррон.
— Да, в Торже.
— О чем вы говорили?
Я взглянула на него. Кэррон подобрал камешек и перекатывал его в ладони.
— О тебе, — сказала я. Я и не заметила, как снова перешла на «ты». Но теперь мне и в голову не пришло бы говорить ему «вы»: передо мной был Кэррон, прежний Кэррон, усталый, похудевший, невеселый, но все же это был он.
— И что он рассказал тебе, Ра?
— Что готовилась война, — сказала я тихо, — Что ты был против. И что тебя изгнали из-за этого.
Я виновато глянула на него.
— Так он знает, — сказал Кэррон.
Я бросила штыри на землю и повернулась к нему совсем.
— Он знает, — повторил он невесело, — Значит, он знает.
— Кэр, — сказала я растеряно.
— Нет, ничего, детка.
Я не сводила глаз с его лица.
— И я не думал, что ты — знаешь, — прибавил он.
— Знаю, — сказала я.
Кэррон медленно кивнул. Лицо у него было угрюмое и странно тоскливое. Я едва не плакала, смотреть на него было невыносимо.
— Кэр… — сказала я, — Кэр…
Он отвел взгляд. Я сердито вытерла глаза и тронула его за руку.
— Я могу чем-нибудь помочь тебе? — сказала я тихо. Глупо, конечно, но я не успела прикусить язык. На лице Кэррона мелькнула улыбка и погасла. Он бросил камушек и потер этой рукой лицо.
— Улетай, — сказал он, — Когда эта экспедиция вернется в Торже?
— Через неделю.
— Улетай, Ра. Я подожду месяц, даже два. Улетай, детка, прошу тебя.
— Но я не хочу.
— А чего ты хочешь? — тихо и зло сказал он, — Усмирять Алатороа? Или меня усмирять? Не сложно ли будет? Может, я и изгнанник, но сила моя при мне…. Прости, детка…. Ра, не плачь!.. Ра!..
— Я не плачу.
— Ра…
— Я не улечу, — сказала я, — Я хотела, но — нет. Лучше я, чем кто-то другой. Понимаешь, Кэр, лучше — я, чем кто-то другой. Я сумею остановиться. Я смогу… проиграть. Другой не сможет, а я, может быть, смогу. И я, по крайней мере, не наврежу планете. Понимаешь?
Он посмотрел на меня и улыбнулся.
— Ну, что же, — сказал он, — Пусть будет так, как есть.
Угольно-черные глаза смотрели на меня с легкой грустью. Он протянул руку. Я коснулась на миг его пальцев, он сжал мою руку и тут же выпустил ее. Казалось, мы заключили какое-то соглашение — так это выглядело.
— Ты права, — сказал Кэррон тихо, — Конечно. Ты знаешь Алатороа. Ты пожалеешь ее…. А мне… хуже уже не будет.
— Кэр!.. — сказала я, едва не плача.
Он только покачал головой. Мельком улыбнувшись мне, он поднялся и отошел к другому краю поляны. А я осталась со своей палаткой. Кроме всего прочего, что между нами произошло, меня озадачил один довольно странный факт. Каждый раз, когда Кэррон до меня дотрагивался, у меня возникало странное ощущение, похожее на очень слабый электрический разряд. Нет, даже… не знаю, как его описать. Ничего подобного из детства я не помню.
Больше мы с ним не говорили. Через два часа пути мы вышли к Флоссе. Это неширокая, правда, больше, чем моя Дэ, тихая река с белесоватой известковой водой. В заводях ее растут кувшинки, кое-где в воде стоят камыши и рогоз. Долина ее очень широка, не менее пяти километров, и почти во всю ее ширь Флосса разливается в начале лета, когда ледники тают на вершинах гор Лоравэя. Сейчас, наверное, максимум половодья. Травы цветут в прозрачной воде. Вода теплая, не смотря на ночной дождь, и в самых глубоких местах едва доходит мне до колена. На другом берегу, вдалеке виднелся темный лес — Лориндол, Бесконечная роща. И за ним далеко-далеко, за высокими зеленеющими холмами Иставэда вставали голубые вершины Лоравэй. Все это — до самого Поозерья — земли файнов.
И вдруг Кэррон крикнул что-то гортанным голосом, останавливаясь. Я кинула на него быстрый испуганный взгляд: по голосу чувствовалось, что он не просто зол, он взбешен.
И в тот же миг я поняла, почему. Одного не хватало в этом пейзаже — Семи Светлых Источников. Вода источника бьет обычно на высоту пятнадцати метров, их видно отовсюду в этой долине. Но их не было.
Я побежала со всех ног туда, где были некогда Семь Светлых Источников. Я буквально не соображала, что делаю. Я бежала по воде, и сверкающие на солнце брызги заслонили от меня весь мир. Сзади вдруг раздался дружный вопль, и хлопанье крыльев пронеслось надо мной. Не я одна потеряла над собой контроль.
Я неслась изо всех сил, задыхаясь, но добежала туда, наверное, минут на десять позже Кэррона. Все же ноги мои с его крыльями не сравнить, да я и никогда не претендовала на роль хорошей бегуньи. Когда я добежала, Кэррон стоял на коленях над карстовым провалом, из которого, видимо, некогда и била вода. Голова Кэррон была опущена, и он не пошевелился, когда я подбежала.
— Что… что здесь случилось? — выговорила я, с трудом переводя дыхание.
Он не ответил. Осторожно, казалось, ласково он дотронулся до земли, погладил ее открытой ладонью. Видно было, что Кэррон не слышит и не замечает меня. Да я и сама была ошеломлена и испугана. Как зачарованная, смотрела я, как тихо Кэррон гладит землю, словно успокаивая ее. А потом я услышала, как идут все остальные.
Я обернулась. Сейчас я думаю, что всех занимало перевоплощение Кэррона, это, и правда, зрелище незабываемое, когда видишь его впервые, и если ты, к тому же, скептик, не верящий ни в какую магию, ни в воронью, ни в человеческую. Я-то была все же в лучшем положении, мне-то пришлось с самого начала принять это как должное, как данность бытия. И меня занимало совсем иное. Я была страшно зла, ибо начинала уже понимать, что произошло со святыней файнов.
— Что случилось здесь? — крикнула я, наступая на людей, словно вот эти самые люди и были повинны в случившемся, — Что здесь случилось?
— Напорный слой осушили, — сказал Стэнли с легким удивлением, — Слой подземных вод. Вода была сильно радиоактивна.
Я смотрела на Стэнли широко раскрытыми глазами. Казалось, я не поняла, что он сказал. Я вдруг почувствовала, как в воздухе сгущается странное напряжение, словно я внезапно оказалась способной ощущать электрическое поле. Я оглянулась, я знала — кто причина этому. Кэррон все еще стоял на коленях, склонив голову. Ни звука не сорвалось с его губ, но вдруг струи прозрачной воды взметнулись над нами — выше и выше, рассыпаясь в вышине брызгами и каплями и падая на землю. И на меня.
Кто-то охнул. Люди шарахнулись от воды, а я стояла, только подняла голову и посмотрела вверх. Солнце блистало в каплях. Вода, холодная и сверкающая, падала на мое лицо, и я вовсе не думала о том, что вода эта радиоактивна.
— Кристина! — крикнул Стэнли, — Кристина, да не стойте же там!
Кэррон поднялся гибким движением и повернулся, и только тогда я увидела, что на него не упало ни капли. Вода разбивалась над его головой и огибала его, словно его защищало силовое поле. Сердце мое сжалось.
— Да, — сказал Кэррон тихо и просто, — эту воду лучше было не пить. И не касаться ее. И трава, что растет здесь, не годиться в пищу. Но так же, как живете вы и дорожите своим правом на жизнь, эта вода имеет право течь в земных глубинах и бить в небо. Вам этого не понять. За те годы, что вы здесь, я это понял. Но вы отсюда уйдете.
Он взглянул на меня. Какое-то мгновение мы смотрели друг другу в глаза, а потом — он исчез, и птица, взмывшая на том месте, где только что он стоял, уже не смотрела на меня.
Я села на мокрую траву.
— Кристина! Да уйдите же оттуда!
А меня и не волновало, что эта вода радиоактивна. Я думала совсем о другом. "Хэй-хо, лоравэй-лориндол!" — вот о чем я думала. И о кострах в тумане, о нестройных выкриках танцующих, о песнях, которые завораживают людей, и о лесе, даже на опушку которого не ступала нога человека. О, лоравэй-лориндол!
Стэнли, зачем-то пригибаясь, подбежал ко мне и, схватив за плечи, заставил встать и поволок к остальным.
— Вы с ума сошли, Кристина, ей-богу! — сердито сказал он, — Ведь это радиация!
Но я только рассмеялась. Что мне теперь радиация, когда против меня — Царь-ворон, властитель Жезла. Что мне теперь все на свете… если я не знаю, смогу ли совладать с собой. Мне страшно жаль его. Мне безумно его жаль.
Улетай, говорил он, улетай. Видит бог, я улетела бы, если бы могла, лишь бы не делать его ношу еще тяжелее. Я улетела бы, но я не могу. Эти леса, реки, горы. Я не могу смириться с мыслью, что я никогда больше не увижу их, не могу по своей воле с ними расстаться.
И я не знаю, смогу ли я, хватит ли мне духа причинить ему боль. Я знаю, что мне делать, как лишить его сторонников, но я… наверное, не смогу.
21. Из сборника космофольклора под редакцией М. Каверина. Плясовая песня.
Пой, пляши, веселись.
Лоравэй-лориндол.
Нет земли прекрасней этой.
Лоравэй-лориндол.
Нет земли прекрасней этой.
Лоравэй-лориндол.
Нет земли прекрасней этой.
Лоравэй-лориндол.
Что ты так печальна, дева?
Лоравэй-лориндол.
Что ты хмуришь свои брови?
Лоравэй-лориндол.
Потанцуй сегодня с нами.
Лоравэй-лориндол.
Потанцуй сегодня с нами.
Лоравэй-лориндол.
Потанцуй сегодня с нами.
Лоравэй-лориндол.
Ты забудешь все печали.
Лоравэй-лориндол.
Ты свою семью забудешь.
Лоравэй-лориндол.
Ты свое забудешь имя.
Лоравэй-лориндол.
Будешь как цветок беспечна.
Лоравэй-лориндол.
И останешься навеки.
Лоравэй-лориндол.
В наших землях беспечальных.
Лоравэй-лориндол.
Пой, пляши, веселись.
Лоравэй-лориндол.
Нет земли прекрасней этой.
Лоравэй-лориндол.
Нет земли прекрасней этой.
Лоравэй-лориндол.
Нет земли прекрасней этой.
Лоравэй-лориндол.
Ассоциация управления и развития
Миссия на Алатороа,
Восьмой галактический сектор, Љ 62.
Подготовил К. Часвет
ОТЧЕТ НАЗЕМНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В РАЙОН К-678/9
………4) Особенности климата территории.
Особенности климата территории связаны с расположением ее в умеренных широтах, в глубине материка, в пределах гор Лоравэйа. Климат континентальный, для него характерны долгая суровая зима, короткое умеренно теплое или жаркое лето, резкие температурные колебания по сезонам года и в течение суток. На изучаемую территорию значительное воздействие оказывают западные ветры с осадками, которые теряют часть влаги над горными вершинами. В общих чертах географическая дифференциация климата выражается в последовательном переходе от лесостепного типа климата к таежно-лесному и затем субарктическому горному в направлении от долины рек к господствующим вершинам.
Среднемноголетние наименьшие значения температуры воздуха характерны для наиболее высоких вершин Лоравэйа (+ 0,3?С), от которых она неравномерно повышается на запад и юго-восток (до + 0,8?С).
Наиболее холодным месяцем является синтро, а самым теплым — о-си, изотермы которых достигают соответственно — 17,5?С и + 17,0?С. Период со среднесуточной температурой воздуха выше 0?С продолжается 188–193 дня. Устойчивый переход температуры воздуха через 0?С происходит 10–11 лини-о и 17–21 окрия. Первые заморозки случаются в первой половине о-си, а средняя дата последнего заморозка — 25–30 лиэ.
Среднегодовое количество осадков достигает 640–700 мм, из них 60–70 % выпадает в теплое время года. Устойчивый снежный покров держится с 5-10 но-ни до конца второй декады лини-о.
5) Особенности почвенно-растительного покрова территории.
Изучаемая территория относится к горной почвенной провинции. В распространении горных почв прослеживается вертикальная поясность. В наиболее приподнятой (северной) части распространены горно-тундровые субальпийские почвы. Ниже они сменяются горно-лесными бурыми, далее горно-лесными серыми почвами. На наиболее пониженных элементах рельефа и остепненных участках распространены горные черноземы. В пределах почвенных зон с учетом геоморфологического строения, характера рельефа и почвообразующих пород выделяются почвенные округа и районы. Выделение их определяется характером перехода горно-лесных почв в тот или иной почвенный тип равнин или межгорных понижений внутри горно-лесной зоны: дерново-подзолистые, серые лесные, чернозема, лугово-черноземные, пойменные.
Растительность, подчинясь закону вертикальной поясности, меняется от тундровой, субальпийской через светлохвойные, темнохвойные, лиственные породы до настоящих степей. На распространение растительного покрова существенное влияние оказывают климатические условия и состав почвообразующих пород.
В наиболее приподнятой части изучаемой территории, на высотах более 1200 м появляется пятнисто-осоковая и моховая горная тундра, а ниже идет пояс субальпийских лугов. В поясе от 700 м до 1100 м распространены темнохвойные леса, где ельники с примесью пихты покрывают склоны и подошвы горных хребтов. Здесь после сплошных рубок, а также после лесных пожаров появляются осинники и березняки.
Южнее елово-пихтовых лесов распространены светлохвойные леса, где преобладает сосна. Она образует чистые, смешанные сосново-березовые и реже сосново-лиственничные насаждения. Наиболее распространенными типами сосняков являются разнотравные, вейниковые, кустарничковые (брусничники, черничники), орляковые. Елово-пихтовые леса представлены зеленомошными и разнотравными типами. Среди широколиственных лесов, распространенных в западных предгорьях Лоравэйа, выделяются: среди липняков — снытьевый, широкотравный, злаковый и костяничниковый типы, среди дубняков — лабазниковый, снытьевый, папоротниковый, злаковый типы.
22. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торовы Топи, день восемнадцатый.
Я давно не управляла глайдером, и со стороны смешно, наверное, было наблюдать за моим полетом. Я и вообще-то никогда не была сильно в управлении атмосферным транспортом.
Я сделала несколько кругов над этой тихой болотистой местностью, где по краю огромного лесного массива протянулись десятки маленьких озер, по берегам заросшие ивняком. За озерами простирались луга, прерываемые перелесками и заболоченными понижениями. Здесь все казалось каким-то игрушечным, сказочным: словно бы подстриженные ивовые кусты, дубы с округлыми кронами, небольшие ложбинки, в которых трава была другая, болотная, темно-зеленого насыщенного цвета — из-за близости грунтовых вод. Кое-где над водой стояли травяные хижины на сваях — игрушечные домики.
Я приземлилась возле озера, где хижина была одно-единственная — ровно посредине. С воздуха хорошо было видно, какое это озеро ровное, круглое, с камышом и рогозом вдоль берегов, но стоило снизиться, и все скрыли заросли ивняка. Гул двигателей стих, и, откинув прозрачную дверь, я окунулась в эту тишину.
День сиял. Жаркий, ясный, яркий день! Солнце еще приближалось только к середине небосклона, был далеко еще не полдень, но смотреть на солнце не было сил, в глазах расплывалась нестерпимо сияющая точка с во все стороны сияющим ореолом. Ниже солнца, словно расплывшееся и размытое белое пятно, висели перистые облака, кроме них небо было все ясное, голубое, глубокое, с отливом даже в синеву.
Трава была вся полна звуком жужжания и стрекотания. Все было нестерпимо ярко вокруг, трава вся блистала, а пуще — листва деревьев. Травы пахли так, что останавливалось сердце. Никого не было видно. Я вылезла из глайдера, впитывая в себя эту тишь и сияние, растворяясь в ней. Потянулась. Легкий ветер прошелся по траве, по моим волосам, и на какой-то миг я забылась, потерялась, подумала, что я на И-16. Рассмеялась беспечным смехом; мелькнула мысль о том, как хорошо начинается день, в горах Вельда редко бывает такая свежесть при такой жаре, ветра там не дождешься, и некому там было трепать мои пушистые волосы, некому было приласкать их нечаянным порывом. И легкие ноги воспротивились обуви, запросились в ритуальный танец. И тут я очнулась и вспомнила, кто я. Впрочем, я мало испугалась произошедшему: все-таки целый год я плясала в горах Вельда, как телу не вспомнить? Я не испугалась, я удивилась. На-гои-тана была одним из опаснейших существ на свете, никто в здравом уме не осмелился бы даже приблизиться к ней, и ей — и мне! — это нравилось, чего уж тут скрывать. Священная ярость — это такая штука, она пьянит голову как выдержанное вино. Но теперь, бог знает сколько времени спустя, уже похоронив отшельницу и справив по ней поминки, я вдруг обнаружила, что она — или я? — была легким и веселым существом. Странно, до сих пор ни за ней, ни за мной этого не замечалось. Особенно за мной. Я и в детстве была задумчивым ребенком, довольно деятельным, но уж никак не озорным. А тут меня так и потянуло побежать по траве, да лучше босиком, а уж было бы копье, как бы мы сплясали здесь с ним! Ритуальные танцы нужно было танцевать на камнях, не всегда гладких и ровных, и ранили они босые ноги почище иного ножа, впрочем, священную ярость запах крови лишь подстегивал. А уж боль и подавно. А теперь мне подумалось, что такой танец, сплясанный в высокой цветущей траве, был бы совсем особенным, — на таком-то полу меня бы, пожалуй, потянуло бы полетать, и черт знает, чем бы это закончилось. Потому что иной раз отшельник может забыть настолько в ритуальном танце, что может и полететь. Тут магия и не нужна, были же в древности люди, умевшие останавливать свое сердце и взлетать над землей, для этого нужно подчас лишь забыть себя напрочь.
Я и не думала о Кэрроне и о том, зачем сюда прилетела, я просто стояла под летним ветерком, побратимом моего побратима, подставляя ему голову, как котенок. Теперь, когда через два с лишним десятилетия, я вернулась в Торовы Топи, я вспомнила о том, как Тэй братался с ним, и меня так и тянуло сказать: что же ты, погладить мои волосы, ведь ты брат Тэю, значит, и мне тоже. Сама не своя от блаженной легкости, охватившей тело, я сползла по горячему боку глайдера и уселась в траву, согнув ноги в коленях. Над коленкой моей с басовитым гудением вился шмель, потом понял свою ошибку и полетел к ромашке, стебелек ее согнулся под тяжестью мохнатого тела, шмель обиженно загудел и улетел совсем. Летний день был вокруг меня и во мне, летний, безумный, ясный день! Тянуло закрыть глаза, забыть обо всем и сидеть так вечность — в бездумной ясности летнего дня.
"Ра, — всплыло в моем сознании, — Ра…. Я — Ра. Странное имя, смешное, пожалуй. Кто первый назвал меня так? Угрюмчики? Вообще-то всегда меня звали Кристи, я уж и забывала временами про Кристину. «Кристина» в моем сознании ассоциировалось с родителями, они звали меня именно так, никаких там уменьшительных. И это имя у меня ассоциируется с родителями. И еще — с тайным неодобрением. Когда меня так называют, мне вечно кажется, что меня сейчас начнут ругать. А так — я всегда была Кристи. Кристи. Тот мальчик (хоть не такой уж и мальчик), которого я вытащила с И-16, помню, сказал, что это имя очень подходит мне, только произносить его надо Крис-ти. Намекал на На-гои-тану. Он сказал, что Кристина — это нечто нежное и утонченное, чрезмерно утонченное, а вот Кристи — это именно то, что нужно, это имя идет к моим волосам, к моей фигуре, к моей профессии…. А вот Ра. Но как я легко приняла это! Мой слух не режет это имя, которым меня не называли двадцать с лишним лет. Я так приняла это, словно это и есть мое настоящее имя, а все остальное — это было так, ерунда. Ра… деточка…". И я вздрогнула.
Деточка…. Да, может быть, я до сих пор для него — деточка. И, может быть, я до сих пор что-то значу для него, когда-то нам было так весело вдвоем. Я очень любила многих на этой планете, но только с Кэрроном я чувствовала себя так легко. При нем можно было все, при нем я чувствовала себя защищенной от любой напасти. Только это время прошло.
А ведь я его даже не знаю. Он умел быть нежным с детьми — вот что я знаю о нем. И еще то, что он действительно маг и, наверное, один из самых сильных на этой планете…. Как прерывался его голос! Как он дотрагивался до моей руки, тихо и быстро говорил… одиночество безумное, какое страшное одиночество сквозило во всем этом. Сколько дней я ничего не слышала о нем, но где-то он ведь был и что-то делал. Где-то и что-то…. И я прилетела сюда, чтобы…. Кэррон! Что я могла сделать? Единственный абсолютно невозможный выход из того положения был — схватить его в охапку и утащить в Торже, заставить вымыться, накормить, уложить спать — и заставить его улететь с Алатороа. Здесь он мог только умереть, рано или поздно, смог бы жить только в миссии, ведь у нас там все свое, и вода, и продукты, или где-то за пределами Алатороа. Но выход этот был совершенно невозможен. Я не побоялась бы оскорбить его, но мне с ним было просто не совладать. И, смешно, меня мучила не война, которая нам предстояла, а то, что он… даже не то, что он умирает, а то, что вела к его смерти: его голод, усталость, одиночество. И то, что я ничего не могла с этим поделать. И мне страшно жаль, что я так и не обняла его, ему было бы, может, полегче. И мне тоже…
Смешно, а ведь мы были совершенно чужие. Почему же мне казалось, что…. Впрочем, и ему ведь казалось. Он ждал мой ласки, моего участия, ждал, хоть, может, и сам не вполне понимал, чего ждет. Но я, дура, не поняла этого тогда, только сейчас поняла. Ах, Кэр! Я ведь по себе знаю, знаю прекрасно, что в самые тяжелые моменты непременно нужен кто-то, кто посочувствовал бы тебе. И пусть этого человека рядом нет, но лишь бы он был хоть где-то! У меня ведь никого не было и нет, разве что коллеги, с которыми мы, впрочем, встречаемся не так часто. Координатор — это профессия одиночества. У меня нет даже родителей и давно уже нет, даже когда они были, их вроде бы и не было…. И он, оставшийся совершенно, немыслимо — один… он увидел только девочку, которую когда-то носил на руках, он еще не верил, не видел во мне — профессионала, противника, врага. А я уже знала, что моя любовь к Алатороа, моя любовь к нему самому не остановят меня, что придет время, и я стану работать, как раньше, как на Ламманте. Даже здесь — сумею, как на Ламманте. Потому что как бы я ни любила, профессионализм во мне сильнее. Это все равно, как в бою, если на воина нападет вдруг любимое им существо и будет стараться убить: ты будешь защищаться и в угаре боя убьешь, ведь убьешь, не удержишь копья! Копейный бой беспощаден. Как и всякий, впрочем, а ведь здесь тоже бой, и я не замечу, как ударю, и, быть может, нанесу роковой удар. Красивые слова, ах, какие красивые!
Как же мы все-таки расходуем себя! Кажется, всюду, на каждой планете, мы оставляем часть себя. Так происходит, наверное, только у писателей, они так же пропускают через себя миры и людей, только к нам эти миры и люди приходят извне, а откуда они приходят к писателям — они и сами, пожалуй, не знают. И это так растрачивает душу. Не знаю, как у других, а я буквально чувствую, что всюду, где я работала, осталась часть меня. И меня самой вроде бы стало меньше. Даже на Ламманте осталась часть моей души, даже там, и что-то, может быть, приобретя, я что-то несомненно утратила — навсегда. Часть своей души. Миры. Мы тратим себя — на них. Зачем, по какой дурацкой причине я вообразила, что именно так хочу прожить жить? И сотни людей то же самое вообразили о себе? Но теперь уже поздно. Отсюда обратного пути нет, ибо я уже стала координатором. И в сущности, в этом нет ничего плохого. Люди нас не любят, но почему я сама должна не любить себя, свою жизнь, свой образ жизни? Я ужасаюсь на писателей: как они живут — с сотнями людей в душе, проживая за каждого из них, видя их быт, чувствуя их чувства? Но писатели, спорю на что угодно, точно так же ужасаются на меня: как я живу — с сотнями лиц, способная изобразить что угодно и кого угодно, способная убивать и лгать, способная жить абсолютно чуждыми мне жизнями? А ведь это то же самое. И писатель, наверное, не выбирает миров. Он, может, только думает, что сам выбирает. Воображение не подчиняется даже воле хозяин…. Как же мы растрачиваем себя! Мне кажется, я однажды закончусь, меня просто не хватит. Но где-то в глубине души все же тлеет уверенность, что нет, не кончусь, что это бесконечный процесс. И, в общем-то, этот процесс дарит мне своеобразную радость. Ведь, не будь этой радости, я не была бы координатором, так же, как писатель не был бы писателем, если бы ему не нравилось носить в себе десятки личностей со всеми обстоятельствами их жизни.
Пригнувшись, я прошла по еле заметной тропинке в ивовых кустах и остановилась на берегу озера. Берег был глинистый. У другого берега росли камыши. Вода была темная, зеленоватая, неподвижная. Плетенный травяной мост висел низко-низко над водой. Сваи возвышались на метр над гладью озера, и плетенная из свежего тростника хижина стояла на них: тороны каждый год обновляют свои жилища. Уже увядшие цветы марахонии были вплетены в стены, образуя причудливый узор. Пахло болотной, застоявшейся водой и зеленью.
Я шагнула на мост, и он качнулся под моим весом. Мост был узкий, просто плетенная из травы лента шириной в полметра, и видны были места, где в прохудившуюся ткань вплетали свежие стебли. В середине мост зачерпнул воды. Я дошла до хижины и остановилась понюхать марахонию. Цветы увяли, но запах был еще сильным. Откинув травяной полог, я вошла в хижину.
Внутри никого не было. Я присела на плетеную кровать, потом легла и закрыла глаза. Снаружи было жарко, а здесь, напротив, прохладно, и казалось, будто этот холод идет от воды, которая тяжело плескалась под полом. Внутри тоже полно было марахонии, и одуряющий запах наполнял хижину. Я не заметила даже, как уснула.
Проснулась я от легкого шума. Приоткрыв глаза, я увидела Тэя, расхаживающего по хижине. Он кивал рогатой головой и изредка дотрагивался когтистой лапой до цветов, торчащих из стен. Звучать здесь было нечему, и потому вместо звуков ко мне пришли ощущения. Дружелюбие. Радость встречи.
Я села на кровати. Вопросительное ожидание.
— Да. Я не просто так пришла, Тэй. Я видела Кэррона.
Недоумение. Отчуждение. Боль. Отторжение. Вопрос.
— Ему плохо, — сказала я, глядя на торона.
Глаза Тэя засветились и угасли, стали, как остывшее золото. Безразличие.
— Тебе все равно? Ведь он твой брат, Тэй!
Гнев. И безразличие. Изгнанник. Он — изгнанник. Вопрос.
— Да, — сказала я медленно, сцепляя пальцы рук, — Я пришла не поэтому. Кэррон хочет войны. Так вот, я пришла спросить, тороны поддержат его? Ты поддержишь своего побратима?
Он изгнанник. Он проклят.
Я провела руками по волосам, зачесывая их назад, — жест Кэррона. Я давно уж заметила за собой, что всегда перенимаю манеру говорить и жесты людей, с которыми много общаюсь или о которых много думаю.
— Я, собственно…. Тэй, кто знает об этом? О его изгнании? Твой народ знает?
Рогатая голова наклонилась. Да.
— Кто еще?
Тэй прошелся по хижине, раздумывая. Мало кто. Мало. Тэй знал, потому что был побратимом Кэррона. Знали, наверное, в Альвердене. А больше — вряд ли.
— Значит, сторонников он найдет, — сказала я.
Наши глаза встретились. Тэй, очевидно, задумался, и глаза его вдруг полыхнули так хищно — расплавленным переливчатым золотом, что я едва не отшатнулась. Нет. Не найдет. Если будет искать наш долг предупредить. Никто не должен марать себя, общаясь с изгнанником.
— Не сейчас, Тэй, — сказала я, — Подождем.
И он согласно покивал рогатой головой.
Я останусь здесь на ночь. Возможно, проведу здесь еще день или два. Я соскучилась по Торовым Топям. Странно, я и не замечала этого. Но я приехала, и уехать сейчас — выше моих сил. Не сейчас, говорю я себя. Не сейчас, пожалуйста.
Какой вечер. Как тихо, только кузнечики. Небо серовато-синее, лишь на западе слегка розоватое. Не видно ни солнца, ни луны. Жаркий сегодня день; уже поздно, а жара не спадает, держится в воздухе, и только от росистой травы идет прохлада. Роса уже пала. На небе, перечеркнутое синим сквозистым вытянутым облаком, висит размытое и прозрачное розовое облачко, а больше нет ничего, все размыто, только какие-то синеватые и розоватые клочья. И с другого края неба ниже перистых белых облаков веером расходятся перистые же, но синеватые. Тишь невероятная, у торонов всегда тихо, ни единого звука, только где-нибудь послышится хлопанье крыльев, и снова спускается тишина. Запах марахонии витает в воздухе, словно след привидения. Ах, память моя, память детства!
Боже мой, как здесь тихо! От воды идет гниловатый болотный запах, в сущности, он очень приятный, этот запах, особенно в жаркий день, от него веет какой-то прохладой.
23. Проповедь бродячего сказителя в деревне Андом. Диктофонная запись. Фрагмент.
Тьма грядет. Грядет Великая Тьма, и не пожалеет она ни тебя, ни тебя, ни детей ваших, ни жен ваших, ни родителей. Грядет Великая Тьма, и она будет беспощадна, ибо она не ведает сострадания….
Из глубин того, что окружает нашу землю, из глубин невероятного космоса пришла эта Тьма и поселилась на наших землях, так же, как некогда пришли оттуда наши отцы и деды. В прекрасном обличье пришла Тьма, и все полюбили Тьму, и стали поклоняться Тьме, но говорю вам, грядет время, когда она покажет истинное свое лицо. Говорю вам, грядет время, и все мы будем умирать за то, что мы приветили Тьму и поклонялись Тьме.
Вы спросите меня, где же Тьма, отчего мы не видит ее? Так я отвечу вам, разве вы говорите Тьме "изыди!", когда она идет по улицам Альвердена? — нет, смехом и восторженными криками вы встречаете ее. И я говорю вам: опомнитесь, люди, ибо потом будет поздно. Поздно будет, когда Тьма явит вам истинный свой лик, поздно будет, ибо будете вы гореть в огне и тонуть во льдах, ибо собаки будут рвать ваши мертвые тела, ибо тогда вы не сможете уже изгнать Тьму. Говорю вам, люди: опомнитесь и изгоните Тьму, пока не стало поздно.
Где же Тьма, спрашиваете вы меня, а сами не видите. Разве вы не видите Тьму, когда ваши дочери теряются в поле или в лесу? Разве вы не знаете, куда уносит их Тьма? Где Тьма, спрашиваете вы. Разве вы не видите, что только Тьма способна успокоить землетрясение? Даже служители Света не были на это способны, даже великие аль. Кто же способен на это? — только Тьма. Вы же смехом и восторженными криками приветствуете Тьму.
Вглядитесь в глаза Тьме. Вспомните ее поступь. Говорю вам, люди: изгоните от себя Тьму, иначе будет поздно.
Разве не Свет, извечный Свет встал на вашу защиту, разрушив дьявольское гнездо Тьмы? Разве не видели вы вспышку извечного Света? Но помните, люди, не вы изгнали Тьму, вы не отказали Тьме, и она может вернуться. Прокляните же Тьму во веки вечные. Отриньте от себя всякую жалость, ибо жалеете вы Тьму. Если сгинула Тьма, значит, туда ей и дорога.
Вспомните, люди, как привечали вы Тьму. Как восторженными криками вы приветствовали правителя Тьмы. Вспомните лицо его и помните всегда: вот лицо Тьмы. Это лицо виделось бы вам днем и ночью, в час вашей нескончаемой смерти, но вмешался Свет, и Тьма отступила. Но говорю вам, люди: Тьма никогда не уходит навсегда. Говорю вам, люди: Тьма еще вернется. И когда вернется Тьма, взгляните ей в лицо, и вы узнаете это лицо, узнаете лицо Тьмы, ибо вы видели уже ее добрый лик, и казалось вам, что это ее истинное лицо. Но увидев ее добрый лик, вы узнаете Тьму и в истинном обличье, а пуще того, узнаете, если снова явит она вам доброе лицо. Вспомните это лицо. Сколько раз вы подавали воду ему, правителю Тьмы, сколько раз говорили с ним и он казался вам ласковым и добрым, сколько раз вы благословляли его. Но разве забыли вы дочерей своих, похищенных прислужниками Тьмы? Без благословения Света становились они женами темных существ, и внуки ваши теперь служат Тьме. Вспомните, люди, вспомните и прокляните Тьму.
24. Из храмовых наставлений для служителей Света.
Таиться ночь в пресветлом свете дня,
Таиться тьма в сверкающем светиле,
Таиться в счастье — боль
И в радости таиться горе,
И человек, грядущего не зная,
Страшиться жить и в горести стенает.
Утун теряет первым желтый лист,
Желтеют клены, дожидаясь снега,
Молить о Свете — значит, в свой черед,
И Тьму снискать, так мир устроен этот,
И человек страшиться Тьмы
И не взывает к Свету.
Но Свет приход к всем, зовешь иль нет,
И Тьма приходит, не спросив совета,
Так смерть приходит к каждому, и жизнь
Приходит тоже — так устроен мир,
И жизнь и смерть приходят в свой черед,
Вращаясь в этом круге.
Молиться Свету должно, Свет — не Тьма,
Как жизнь — не смерть, но связаны они
Нерасторжимо, ходят вечно вместе.
Зажженный свет не может не погаснуть,
Рожденный жить не может вечно жить,
Страшиться Тьмы — не понимать себя.
25. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день двадцатый.
Лето. Дни такие долгие, и сумерки все длятся и длятся — в бесконечность.
Сегодня прервалась связь с двумя экспедициями, одна работала в лесах Эрама, другая в низовьях Анда. Я не могу понять, что это, начало войны или просто обычные проблемы. Вообще-то, леса Эрама — это территория файнов, да и по берегам Анда их немало. Как бы не было беды. Так думает всякий, кто имеет дело с дивным народом. Всякий… уроженец Алатороа. Наши, по-моему, не верят в мрачные сказки, считают их именно сказками.
В Торже началась ярмарка, но, кроме торонов, никого из нелюдей нет. Тэй только не появлялся, а я уж снова соскучилась по нему. Княжна Севера! Как, помню, мне страшно было, когда он вложил мне в руку кинжал, и я почувствовала: режь! И как странно я чувствовала себя, когда наша кровь текла, смешиваясь. Кровь у торонов зеленая и светиться в темноте. Господи, как же я люблю его! Господи, господи….
Михаил Александрович заходил вчера и у нас был весьма интересный разговор о прозаических переложениях "Истории Марии из Серых гор". У меня от этой истории, честно говоря, всегда мурашки по телу шли, а сейчас… сейчас где-то там Кэр, и изгнание его длиться уже почти четыре месяца. И вообще, мне эта история кажется бесконечно жестокой. Я сказала об этом, а Михаил Александрович откликнулся:
— А знаете, Кристина, ведь он не любил ее.
— Что?.. Почему?
— Есть и такие варианты, где об этом прямо сказано. Я впервые услышал лет пять назад, где-то в Поозерье. Там было что-то вроде:
И пылкая любовь ребенка осталась безответной,
И постепенно пламя в ней угасло.
Лишь чувства долга удержало рядом,
Когда удел злой ворона настиг.
— Очень может быть, — сказала я, не поднимая головы.
— Ну, так вот. Я, понимаете, сначала удивился, а потом Эмма мне и говорит: а ведь это есть в любом тексте — его нелюбовь и ее разочарование, только вслушайся. И я вслушался. И знаете, ведь правда. Много говориться о том, как она была влюблена в него в детстве. И говориться еще о том, как она устала быть рядом с ним после, когда они уже покинули Серые горы.
— Не мудрено устать рядом с изгнанником, — тихо сказала я, — Ему вряд ли было дело до ее переживаний, а она была так молода. Больше, наверное, думала о себе, чем о нем.
— Вот вы как думаете о героине Поозерья.
— Не только Поозерья, — сказала я, — Но я так думаю. Это, наверное, страшно тяжело.
— Я слышал о том, что Царь-ворон… как бы это сказать. Его, кажется, тоже хотели, и я видел тогда, в долине Флоссы, как вода… — он снова запнулся.
— Да, — сказала я.
— И давно вы знаете, Кристина?
— С первого дня. Мне Тэй рассказал. Но он не знал, что Кэррон остался жив.
— Вам жаль его?
— Безумно.
— И что же вы собираетесь делать?
— А что я могу… — сказала я тихо, — Ждать. Я ничего не могу поделать. Большое заклятье изгнания, — я покачала головой.
— Вы верите в это?
— Вы же видели, — сказала я, — Тут вопрос не веры и неверия, тут вопрос его смерти. Ведь он умирает. Достаточно просто взглянуть на него, а ведь еще и полгода не прошло.
— Извините, что я об этом заговорил, Кристина.
— Да, нет, — сказала я вяло, — Я ведь Кэру не жена и даже, наверное, не друг. Я всего лишь координатор.
— А знаете, Кристина, как говорят: исследователи рождаются на земле, пилоты рождаются в космосе, а координаторы не рождаются вовсе.
— Да, нас завозят оптом из других измерений. Это я не сама придумала, честное слово, это я услышала в одном ресторане на Веге. А у нас в школе говорили, что координаторов собирают из останков их погибших коллег, с другой стороны, возникает вопрос, откуда взялись первые координаторы?
— Господи, Кристина! — простонал Каверин сквозь смех, — Как вы можете…
— Я все могу. Вы думаете, это не смешно, смотреть, как от тебя люди шарахаются. Я родилась в космосе, кстати говоря.
— А почему стали координатором?
— А не пилотом? — сказала я, — С пилотированием у меня туговато. А почему я стала координатором, я не знаю. Бес, видно, попутал.
— А вы верите?
— Во что?
— В бога.
— Да, помаленьку. Скорее тем, что поминаю слово его всуе. В Веге много верующих, там и в школах преподают. Я и привыкла. Но я не то, чтобы уж верю. Я не молюсь и все такое. Просто поминаю его по привычке. А вы?
— А я чистокровный землянин, Кристина. И как ни странно, католик. И Эмма католичка.
— Я видела у нее крестик.
— А у вас на Веге христиан, наверное, не много, там все Единый, да?
— Да, — сказала я, — Только мне всегда казалось, что это почти христианство.
— Знаете, — вдруг засмеялся Каверин, — подлинно неверующим всегда так кажется. Что есть католичество и протестантизм? Суть — христианство, и все. Ан нет, и любой верующий оскорбиться. И я тоже, можете, считать, оскорбился. Единый и христианство! Как вам не стыдно, Кристина!
— Не стыдно, — сказала я, улыбаясь.
— Да, кстати, зачем я пришел. Я тут нашел одну изумительнейшую вещь. Вы взгляните…. Помните, мы говорили о том, что на Алатороа нет художественной литературы? Так вот, это сборник стихов и заметок одного мага. Просто прелесть, почитайте, Кристина.
Я взяла в руки небольшой томик в переплете из старой потресканной кожи.
— Прошлый век, — сказал Михаил Александрович, — Лоран Синий, один из магов Альвердена, был профессором университета искусств. Уехал из Альвердена, поселился в Иллирийских лесах, хотел постигнуть строение мира. Эти заметки писал около двух лет. Копии с этой книжки очень широко ходят среди образованных людей. Странно, что это до сих пор не попало ко мне в руки и никому из наших. Так что я ошибся. Почитайте.
Я сидела молча и только машинально поглаживала книжку большим пальцем.
— Ну, что ж, я пойду, Кристина. Почитайте, интересно. И ведь вы любите Иллирийские леса?
— Да, — сказала я неожиданно печально, — Я люблю Иллирийские леса.
— Почитайте.
Я кивнула. Кожа переплета нагрелась от моей руки, я положила книжку на стол и проводила Каверина до двери. Вежливо улыбаясь, я кивала на его слова, потом закрыла за ним дверь, взяла со стола книжку и улеглась на кровать.
26. Из записок Лорана Синего.
Моя печаль безоблачно светла.
Моя печаль — закаты и рассветы.
Моя печаль — багряным сном одеты
Под вечер Иллирийские леса….
Проходит осень — гостья у порога.
Проходит жизнь — тиха и тороплива.
И сердце вдруг колотиться ревниво,
Когда под вечер года, не таясь,
Целует осень Иллирийские леса.
Росстани
Росстани — это небольшой и неизвестный край, в основном равнинный. На северо-востоке находятся заболоченные поля, остальная часть покрыта лесами, полями и небольшими, большей счастью заболоченными озерами. Единственная река протекает по его территории, с темной водой и быстрым течением. Так начал бы описание этих мест беспристрастный ученый. Иногда я жалею о том, что не могу быть беспристрастным.
Раньше я никогда не думал о том, что можно любить с такой беспощадной страстностью, не думал, что любовь, теплое, ласковое чувство, может быть настолько беспощадно, настолько безжалостно, словно убийца, в ночи точащий нож. Так можно любить женщину, но можно ли так любить землю, тем более ту, на которой ты не рожден. Я не знаю ответа. Знаю лишь, что люблю, люблю так, как не любил никогда. Росстани! Иллирия моя!
Каждое утро я просыпаюсь с сознанием тихого счастья. Я подолгу лежу в кровати и не думаю ни о чем. Каждый день, каждая ночь здесь — это счастье, которому нет имени, которому нет названия. Это счастье на грани с болью. Любовная тоска режет мое сердце.
Иллирия, любовь моя!
Моя душа и тело
Тобою в муках рождены
Навек любить — тебя.
Иллирия, земля моя!
Тебе шепчу несмело,
Что нет на свете мне жены,
Кроме одной — тебя.
Иллирия, жена моя!
Твоих лесов объятья!
Мне в них дано лишь
Разум потерять.
Иллирия, любовь моя!
Мне не сыскать проклятья,
За то, что я люблю тебя,
Люблю одну — тебя.
Серебряная Ива.
Я был там лишь однажды и довольно давно. Постараюсь же по мере сил своих описать свои впечатления от этого места.
Это было тишайшее место, только заунывный звук ветра в листьях или густой болотной траве иногда слышался здесь. Это был край большой поляны, хотя поляна эта была всего лишь частью огромного заболоченного пространства, отделенный перелесками от целого. Поляна эта была не строго правильной формы, и это место оказывалось как бы в закутке. На всю поляну отсюда не открывался вид, а только на небольшую ее часть, да и это небольшая часть была не так уж и мала.
Тоскливое и угрюмое это было место. Никак не могу представить себе его солнечным и веселым. Такое впечатление производили огромные и старые, частью засохшие деревья и маленькие заболоченные понижения, хоть они и приятны были своей тоскливостью. Такое впечатление, я заметил, всегда производят болотистые места. По эти озерчикам, которые располагались в некотором понижении, тек ручей. С другой стороны, я считаю, что в этой местности он не заслуживает названия ручья, движения воды здесь почти нет, просто озерца эти соединены протоками. Впрочем, и эти озера, и эти протоки вряд ли заслуживают сих громких названий: больше они похожи на лужи!
Главной примечательность этого места было старое, мощное, раскидистое дерево. Трудно было поверить даже, что это такая же ива, как те, которые составляют молоденькую поросль по берегам рек и озер. Это вовсе не самая большая ива в здешних краях, но все же впечатление это дерево оставляет немалое. Примечательно оно еще и потому, что занимает отдельное место, стоя на отдалении от других деревьев.
Таково было это место, которое в сказках и легендах превратилось в лощину у ручья Духов, где растет Серебряная Ива — главная святыня угрюмчиков.
Ассоциация управления и развития
Миссия на Алатороа,
Восьмой галактический сектор, Љ 62.
Подготовил С. Барнс.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Љ 4678/79
……………….из пропавших сотрудников миссии. Из десяти человек сведения имеются только о троих. Их тела были обнаружены сегодня на территории миссии. Очевидно, это является объявлением войны землянам. В данной ситуации я счел необходимым отозвать остальных работников, работавших за пределами миссии, в частности в районе Великих озер. Приношу свои искренние соболезнования родственниками погибших и пропавших без вести.
Ситуация на планете не очевидна. Рост агрессивности не отмечался, однако наши люди все-таки погибли. Несомненно, что Царь-Ворон имеет к этому непосредственное отношение, однако К. Михайлова отказывается использовать свое влияние на местное население с целью установления его местонахождения. Среди человеческого населения отмечается некоторая напряженность, в частности, в городе начали запирать двери на ночь, чего раньше не было. Торговый караван, направлявшийся в Эстрам, отправился под усиленной охраной….
…………………………………………………………………………………………………………………Торнтон. 45 лет, уроженец Земли-2. Этнограф, фольклорист, археолог. Тело найдено у дверей миссии с признаками насильственной смерти. Вскрытие показало, что, не смотря на многочисленные внешние повреждения, причиной смерти является наличие воды в легких. Все раны были нанесены еще при жизни, что дает возможность утверждать, что пострадавшего утопили намерено.
3) Елена Огарева. 34 года, уроженка Марса. Врач, этнограф, биолог. Тело найдено у восточной стены миссии. Тело сильно обгорело. Вскрытие показало, что причиной смерти также является утопление.
4) Сара Бэнтон. 56 лет, уроженка Венеры, член межведомственной комиссии по народом Хаоса. Тело не обнаружено.
5) Роберт Хэнкс. 30 лет, уроженец Земли, водитель, механик. Тело не обнаружено.
6) Мелисса Кавальковски. 23 года, уроженка Земли-2. Социолог, пилот глайдера. Тело обнаружено у дверей миссии. Вскрытие показало, что причиной смерти послужило утопление………………………………………………
Ассоциация управления и развития
Миссия на Алатороа,
Восьмой галактический сектор, Љ 62.
Подготовил С. Барнс.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Љ 56778/89
……….сведения о похищении людей. Человеческое население начинает уезжать из Поозерья и предгорий Лоравэйа. В Торже за последние дни были похищены трое, из них один ребенок семи лет. Ни одного не нашли, однако нет никакой надежды обнаружить их живыми. Террор в отношении человеческого населения растет, но никаких серьезных выступлений мы пока не предвидим. Рост агрессивности не наблюдается…….
Ассоциация управления и развития
Миссия на Алатороа,
Восьмой галактический сектор, Љ 62.
Подготовил С. Барнс.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Љ 56778/90
Зафиксирован рост агрессивности в районе Угорских холмов (квадрат Љ 567). Рост незначителен, однако альфа-ритм чрезвычайно учащен. Мы дожидаемся подтверждения от полевых служб. По мнению К. Михайловой, у Царя-Ворона не много сторонников, активных сторонников, и все они сосредоточены в одном месте. Возможно, их лагерь находится у северной оконечности Угорских холмов. В сложившейся ситуации считаю необходимым подавление всякой агрессии как по отношению к работникам миссии, так и по отношению к представителям местного населения. Несомненно, что Комиссия по конфликтам в данном случае поддержит позиции человеческого населения планеты.
Ассоциация управления и развития
Миссия на Алатороа,
Восьмой галактический сектор, Љ 62.
Подготовил Т. Кун.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Љ 578/9985
Руководителю миссии. Предлагаю нанести удар из ПСМ по району роста агрессивности незамедлительно, т. к. в данном районе начинается скопление представителей человеческого населения. Они собираются провести облаву, причем бургомистр Торже уже обращался ко мне с просьбой о предоставлении им так называемых излучателей, как для атаки, так и для обороны населенных пунктов. Речь в данном случае идет об излучателях гамма-волн, установленных на десантных транспортных средствах. Насколько мне известно, на Алатороа они не применяются, но на складе они должны быть, т. к. входят в стандартный комплект десантирования. Не знаю, известно ли вам об этом, поэтому напоминаю, что излучатели гамма-волн используются для отпугивания диких животных. Бургомистр уверял меня, что эти излучатели исключительно эффективно действуют на представителей всех нечеловеческих народов, аргументируя это тем, что они близки к животным. Я не слишком поверил ему, но проверил в архиве: этот факт был установлен, как оказалось, экспедицией Т. Михайлова, после чего и был введен запрет на использование на Алатороа гамма-излучателей.
Резолюция С. Барнса: возможно, использование в данной ситуации гамма-излучателей более приемлемо, чем ПСМ. Найдите гамма-излучатели и проверьте их рабочее состояние.
Ассоциация управления и развития
Подразделение исследователей
Экспедиция Т. Михайлова, «Спутник»,
Регистрац. номер 3452КНО
Подготовлено Т. Михайловым
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Љ 78990/КРО
Практика показала недопустимость использования на Алатороа передвижных гамма-излучателей. В процессе использования их в рекогносцировочных рейдах по поверхности планеты была выявлена особенность большей части местного населения, заключающаяся в негативной реакции на гамма-излучение, вплоть до полной потери сознания и даже смертельных случаев. Как руководитель экспедиции, открывшей планету, я полностью запрещаю использование на Алатороа гамма-излучателей до дальнейших исследований, которые, несомненно, будут проведены вышестоящими органами.
Ассоциация управления и развития
Миссия на Алатороа,
Восьмой галактический сектор, Љ 62.
Подготовил С. Барнс.
Докладная записка Љ 56
…Я считаю, что присутствие К. Михайловой на планете затрудняет работу местных служб. К. Михайлова эмоционально нестабильна и мешает работниками миссии проводить определенную политику в отношении зарождающегося конфликта, причем мешает сознательно. Ее вживание в местные интересы перешло все границы. Несомненно, К. Михайлова ценный и опытный работник, однако в данной ситуации она не способна себя контролировать. Ее приезд на Алатороа только усложнил ситуацию. Я считаю, что именно присутствие К. Михайловой и некоторые ее действия привели к усугублению конфликта и началу партизанской войны. Рекомендую заменить К. Михайлову другим координатором. В настоящей ситуации присутствие К. Михайловой на Алатороа может привести к самым тяжелым последствиям.
Руководитель дипломатической миссии
на Алатороа Стэнли Барнс
27. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Угорские холмы, день двадцать седьмой.
Стэнли не хотел, чтобы я ехала тоже. Он считает, что сорты мне не доверят. Из-за того, что я названная сестра Тэя, а там и до Кэррона не далеко. Но я все равно приехала.
Они решили поиграть в солдатики — Стэнли и Кун. Рост агрессивности в Угорских холмах практически не наблюдается, растет только частота альфа-ритма. Я уверена, что, по крайней мере, Кэррон здесь, вряд ли на Алатороа сейчас есть еще хоть один маг, чья деятельность может создавать альфа-ритм подобной напряженности. Честно говоря, меня очень беспокоит это: откуда он черпает силы, ведь у него нет больше Жезла Тысячелетий. Я боюсь не столько его, сколько за него. Не знаю, что он собирается делать, но я боюсь, что любые его действия принесут прежде всего вред ему самому, потому что он-то не станет себя щадить. Он считает себя уже мертвецом, да так оно, наверное, и есть, только я все равно боюсь за него.
Все смерти, которые были, не имеют к нему никакого отношения, я уверена. В своем неприятии войны он довел ситуацию до собственного изгнания. Да и вообще, это не в его характере, я представить себе не могу, чтобы Кэррон отдал приказ убить кого-нибудь, он всегда уважал жизнь…. То, что произошло, скорее похоже на файнов, именно они убивают так — топят свои жертвы, потом подбрасывают тела на окраины деревень. Словно предупреждение.
…Здесь собрались жители степных районов, в основном, это затея бургомистра Торже. До сих пор я его не встречала. Это высокий мужчина лет сорока, чем-то похожий на Стэнли, только волосы у него темнее. На меня он смотрит довольно интересно — как на некую шпионку. Я впервые в такой ситуации и не совсем понимаю, как вести себя, если одна сторона конфликта считает, что я их враг и сторонник их противников. Прекрасное положение, лучше не придумаешь. А ведь, в сущности, правда. Там Кэр. Там… не знаю, кто, но все равно я больше за них. Там, может быть, файны. Там, может быть…
Из землян здесь, в основном, исследователи, командует всеми Кун. Стэнли приезжал и уехал, неодобрительно глянув на меня. Всего исследователей пятеро, все пилоты, и никого я не знаю. Они будут управлять излучателями. Кун тоже недоволен моим присутствием, но он все-таки показал мне по карте план облавы. Задумана она бургомистром, и из нее ничего бы не вышло, если бы не излучатели. Эти гамма-излучатели — жуткая вещь, кстати сказать. Животные от них просто убегают, а когда-то, я помню, слышала, что файны, например, от них умирают. Отчего-то на нелюдей гамма-волны оказывают такое вот воздействие, правда, не на всех. Тороны, например, ничего не чувствуют, и потом — они сами способны устроить нечто похожее.
Здесь собралось человек пятьдесят. Расположились на вершине безлесного холма. Дальше к северу все холмы покрыты лесом. Лес и безлесье разделяет долина Сунжи, главного притока Торжи; долина эта вся сплошь заросла вишневым кустарником. Сама Сунжа здесь мелкая и узкая, не шире ручья Духов, и жарким летом, бывает, пересыхает. Лето в этом году выдалось жаркое, но сегодня был на редкость прохладный день. Набегали тучи и уносились с ветром дальше, солнце выглядывало и светило ярко, но ветер был холодный. По всему видно было, что облава начнется не скоро, и я решила спуститься к Сунже. Я подумала, что в случае чего меня просто догонят: излучатели ведь на меня не действуют.
Склон холма был каменистый. Росли степные невысокие травы, кое-где цвела марахония, торчали метелки ковылей. Разговоры остались позади меня, и стало тихо. Я застегнула куртку: ветер действительно был холодный. У подножья холма начинались вишневые заросли, тонкие деревца были чуть выше меня — ровная, словно чьими-то руками насажанная поросль. Я шла, раздвигая ветви, словно в глухом лесу, а над головой моей сверкало солнце, и ветер метался туда и сюда. Скоро я вышла к Сунже — мелкому ручью, петлящему по песчаным наносам. Берега речки поросли мать-и-мачехой с тусклыми зеленоватыми листьями. Мелкий-мелкий ручеек, я в задумчивости перешла и пошла дальше. И до последней минуты я даже не думала о том, куда меня несет, я вообще ни о чем не думала. Я шла, очарованная переменчивой погодой, тучами, которые временами совсем скрывали солнце, темной зеленью, сырой песчаной почвой под моими ногами. Эти места были мне незнакомы, и я шла в совершенном успокоении всех чувств, оглядываясь по сторонам, и когда он появился передо мной, первым моим чувством было недовольство тем, что кто-то нарушает мое уединение. И лишь потом я поняла, кто это.
В этот раз я еще не видела их, но раньше, в детстве, видела, да и в любом случае, ошибиться было невозможно. Он был высокий, тонкий, в серо-голубых одеждах. Золото спутанных ветром волос струилось по плечам. Лицо было тонкое, с нервными неправильными чертами, золотистые, почти как у торонов, глаза казались слегка раскосыми. И словно сияние окружало его. Файн. Лицо, волосы, вся фигура была объята светом, не смотря на то, что солнце совсем скрылось за тучами. Они таковы, файны. А этот держал в руках заряженный арбалет, и направлен арбалет был на меня. Файн не сказал ни слова. Я, честно говоря, думала, что тут мне и пришел конец. Я не испугалась, просто подумала в каком-то оцепенении, что сейчас умру. От руки файна — не худшая смерть, в сущности. Но он лишь показал арбалетом, куда мне следует идти, и я безропотно пошла.
Вишневник скоро кончился, и пошел обычный широколиственный лес из дубов и кленов с рамарией и калиной в подлеске. У калины были уже зеленые ягоды, рамария отцветала, и вся земля и заросли ежевики усыпаны были мелкими желтыми лепестками. Если я замедляла шаг, острие стрелы (или что там у арбалета? болт?) утыкалось мне в спину. Пару раз я попыталась завязать разговор, но все было тщетно, он молчал, как убитый.
Я шла, путаясь ногами в плетях ежевики, все выше и выше по склону холма. Шагов моего конвоира не было слышно, зато впереди вдруг раздался шум, и навстречу нам из-за кустов рамарии появился кентавр.
Мы остановились. Кентавр был высок, гораздо выше меня, и ему неудобно было стоять на крутом склоне. Грудь у него была волосатая, и руки тоже. Рыжая, морковного цвета, кудрявая борода спускалась на грудь. Нестриженые рыжие кудри укрывали мощные плечи.
— Гленсторм? — сказала я неуверенно, глядя на пиратскую рыжую бороду и яркие голубые глаза.
Кентавр подбоченился.
— Кого это ты привел, а? — сказал он хриплым басом.
Я оглянулась. Слегка откинув златовласую голову, файн презрительно смотрел на кентавра, не собираясь удостаивать его ответом. Я снова повернулась к кентавру. В мочку уха у него была вдета веточка рамарии с наполовину опавшими цветами.
— Глен, — сказала я, — ведь это ты, да?
— Так это и есть Посланница? — пророкотал кентавр, — Отпусти ее, Фьол, ты, что, не видишь, что это княжна Севера? Дурак ты, дурак, Фьол, ведь она Царю тоже сестра, они ж с князем торонов побратимы. Да опусти ты свой чертов арбалет, я ее сам в лагерь отведу.
— Она шпионит за нами, — раздался за моей спиной переливчатый голос файна.
— Да-а, за тобой шпионить, много ума не надо, Фьол. Я возил ее на спине, когда она была маленькой, так что не лезь к ней. Она к Кэррону, наверное, пришла. Да, Ра?
— Он здесь? — спросила я.
— Да, а как же. Пойдем, девочка.
Он с трудом развернулся и взялся одной рукой за мое плечо — как клещами. Пальцы у него были толстые и горячие, даже сквозь куртку я чувствовала их жар. От него пахло потом и рамарией.
Он повел меня куда-то вбок, сжимая мое плечо. Куда делся файн, я не заметила.
— Глен, — сказала я, — Постой. Глен, да постой же!
Он остановился.
— Кэррон здесь, да? Глен, наши датчики зафиксировали здесь… в общем, активную магическую деятельность. Глен, что он задумал? Что он вытворяет? Ведь у него же нет Жезла, Глен!
— А не шпионишь ли ты и в самом деле, девочка?
— Не дури, Глен, я о нем думаю. А он о себе не думает. Откуда он берет энергию, Глен? Или у него Жезл?
— Нет, — сказал Гленсторм, — Жезла у него нет. Но ведь Царю нет и пяти сотен лет, девочка….
— При чем здесь это?
— Ведь он прожил едва половину того, что ему отпущено. Его жизненные силы велики.
— Идиот! — крикнула я, — Я так и знала, так и знала! Что же он делает, ненормальный!
— Может быть, ты и права, девочка, — отозвался Глен печально, — Второй день он не может даже подняться. Но мне казалось, он просто болен. С тех пор, как они умерли… как его народ погиб… с тех пор он гаснет не по дням, а по часам.
Я закрыла глаза. Вообще-то, у воронов есть какая-то ментальная связь, и, наверное, гибель всего народа тоже тяжело отозвалась на Кэрроне. Два дня не может встать, Господи!
— Отведи меня к нему, ладно?
Гленсторм покачал головой, внезапно задумавшись.
— Может, и не стоит, — сказал он, — Царь не обрадуется, если ты увидишь его таким.
— Мне плевать, что он не обрадуется! Господи, Глен, у него мозги отшибло, но не у тебя же! И еще, — я схватила его за руку, — послушай меня внимательно. От Кэррона толку, видно, не будет. На вас готовиться облава, и у них излучатели, Глен. Помнишь излучатели? Так вот, собирай всех и уводи отсюда. Уводи подальше.
— Куда мне их вести?
— Может, на поляну Лэмптон? — сказала я, — Отведи меня к Кэррону и уводи их. Идем же, Глен, идем же…
И я потянула его за руку.
Никого, кроме Глена и того файна, я не увидела. Гленсторм привел меня на маленькую поляну, где росла тимофеевка и колокольчики. Огромный дуб стоял на краю поляны, такой, что внутри можно было устроить целую комнату, а потом я увидела, что комната там и была. С другой стороны ствола была широкая трещина, в которую вряд ли пролез бы кентавр, но я прошла бы спокойно.
— Он там, — сказала Глен тихо.
— Там?
— Да. Я уведи всех и вернусь за ним. Идти он не сможет, и ты, девочка, его тоже не утащишь. Хоть Царь и исхудал так, что смотреть страшно. Ты-то что-то не выросла, девочка, кажется, и тогда такая была.
— Ну, уж, — сказала я, обидевшись, — Ладно, иди.
Нервно я пригладила волосы. Кентавр как ни в чем не бывало оправился куда-то в лес, оставив меня одну. Я зашла внутрь.
Пространство здесь было узкое, темное, наполненное древесным, почти невыносимым запахом. С краю набросана была трава и ветки, земляной пол замусорен. Возле самого входа на земле валялась мокрая тряпка. Кэррон лежал у стены, на ветках и траве, сам по виду мало отличаясь от этой кучи. Колени подогнуты, он со своим немалым ростом просто не вмещался здесь. Одна штанина была порвана, и из прорехи торчало голое грязное колено. Рубаха вся перекрутилась. Голова его лежала ниже плеч, на скуле было пятно засохшей грязи. Глаза были закрыты.
Я села рядом на землю, уткнувшись подбородком в колени, и стала смотреть на него. Что мне делать, я не знала. Совсем бескровное, восковое лицо. Синеватые веки. В спутанных волосах полно мусора. Долго я сидела так и просто смотрела на него. Все это было так — страшно и бессмысленно. Снаружи был летний день, и облака плыли по небу, и птицы чирикали в траве, а здесь — здесь казалось, будто ты на свалке. Этот мусор на полу. Не знаю, не знаю! Вот, казалось, кто-то говорил мне, вот как умирают изгнанники. Не умирают даже — подыхают. Так подыхают дворовые собаки из тех, что роются на помойках и от всех получают только пинки. Вот так ложиться грязный облезлый пес и подыхает, корчась в муках, с ощущением полнейшей своей ненужности. Боже, о чем я?! Что я несу, Господи? Что же я несу?
Долго я там сидела, очень долго. Потом он шевельнулся, застонал тихонечко, повернул голову набок и снова затих. Жалкий он был — как не знаю что. Впрочем, любой человек в минуты физической слабости производит жалкое впечатление. Все мы, в общем-то, жалкие твари, тихие, усталые, терпящие боль. Физическая сторона нашего существования вообще вещь жалкая и грубая одновременно. Такая вот — жалкая и грубая. А мы все-таки существа физического порядка больше, чем духовного. У физической стороны тоже бывают свои взлеты, но редко. Отшельники Вельда очень хорошо разбирались в этом. У древних земных цивилизаций, по-моему, не было такого, чтобы транс связан был именно с телом, чтобы не отрешением от телесного достигалось состоянием транса, а наоборот. Только шаманы на Земле входили в транс в танце. А попробуйте-ка в транс войти, стоя на раскаленных камнях с рассвета до заката под палящим солнцем Вельда. И главное, что не через боль идет вхождение, а через неожиданное освобождение тела. Когда тебе легко становиться ворочать полутонные глыбы или плясать на острых, как бритва, камнях.
Вот так я сидела перед Кэрроном и ни о чем не думала. Казалось, он начал просыпаться. Я протянула руку и коснулась его лба. Кожа была холодной и неприятной на ощупь. Кэррон открыл глаза и посмотрел на меня мутным взглядом.
— Давно ты здесь, деточка?
— Нет, — сказала я тихо, — Что с тобой, Кэр?
Он сел с трудом, опираясь рукой, сжался весь, обнял колени руками. Темные глаза смотрели на меня исподлобья.
— Зачем ты пришла? — тихий, хриплый, усталый голос.
Я торопливо рассказала ему. Он слушал, не глядя на меня. Мне показалось, что сначала он почти обрадовался мне, а сейчас начинал злиться. Хотя до сих пор я не видела, как Кэррон злиться, когда-то мне казалось, что он просто не умеет. Но тогда я не думала, что когда-нибудь увижу Кэррона в таком состоянии. Я так была напугана. Я была словно ребенок, я не могла понять, что мне сделать. Если б это было двадцать лет назад, я бы просто бросилась ему на шею и не отпускала бы его. Но сейчас — я чувствовала, что он действительно злиться. Стоило мне замолчать, как он сказал со слабой, но явственной насмешкой:
— Никак не можешь решить, с кем ты, Ра?
Я вздрогнула и почти испуганно посмотрела на него. Но он не смотрел на меня.
— Скоро они будут здесь?
— Часа через два, может быть.
Он поднял голову, но ничего не сказал. Я смотрела на него, и страх мой все возрастал, невыразимый, тихий, затаенный страх. Черные-черные глаза, а лицо белое-белое, подрагивают губы широкого рта. Господи, если б я была ребенком, я обняла бы его и не отпускала. Если б я была ребенком!
— Кэр, — только и сказала я.
Он улыбнулся бескровными губами.
— Ты не боишься, — сказал он, — что я убью сейчас кого-нибудь из твоих соплеменников? Не боишься, да? — что-то пьяное было в его интонациях, — Не думаешь, что я способен на убийство? Так, Ра?
Я молчала, не сводя с него глаз. Кэррон на миг закрыл глаза, снова посмотрел на меня, дрожащей рукой потянулся ко мне, но не дотронулся. Рука его повисла в воздухе и упала.
— Я не… ничего не сделаю… никому… ты же знаешь, Ра.
— Да, — сказала я, — я знаю.
— Прости, что я так… я… — Кэррон облизал сухие губы, — Побудь здесь, деточка. Не ходи некуда. И помоги мне встать, ладно?
Холодная рука ухватила меня за шею. Цепляясь за меня, Кэррон поднялся на ноги, зашептал в ухо:
— Не ходи никуда. Побудь здесь. Я… я не причиню никому… вреда. Ты не бойся. Я просто… напугаю…. Только не ходи за мой, Ра. Побудь здесь.
Он оттолкнул меня и, шатаясь, вышел. Я вышла вслед за ним. Он шел, шатаясь из стороны в сторону, как пьяный. Я подождала, пока он не скроется в зарослях, и пошла за ним. Я боялась не того, что он может сделать, я боялась, что он потеряет где-нибудь сознание или просто упадет, и некому будет даже помочь ему подняться. Он не оглядывался, но я не сомневалась, что он знает о моем присутствии.
Он шел, хватаясь руками за тонкие стволы кленов. Деревья шарахались от него, и скоро пьяным стал казаться не только ворон, но и лес вокруг него. Наконец, Кэррон вышел на открытое место. Отсюда и до самого подножья холма тянулась широкая просека, давно уже заросшая сорной травой и ежевикой. Отсюда хорошо была видна и долина Сунжи, и тот холм, на котором собирались участники облавы. Различимы были даже черные силуэты излучателей. Посреди просеки, почему-то нетронутый, рос невысокий раскидистый дуб.
Солнце выглянуло вдруг из-за туч и озарило все вокруг. Кэррон остановился возле дуба и вцепился обеими руками в корявый сук. Бедному дереву некуда было деваться.
— Деточка… — сказал Кэррон тихо и хрипло. Я не шевельнулась, не издала ни звука.
— Ра… — уже громче.
— Что?
— Ты… не подходи ближе…. Слышишь меня?
Голос слабый, словно шелест ветра в траве.
— Да, я слышу, — сказала я.
Он кивнул и прижался лбом к ветке, за которую держался руками. Мне показалось, что по дубу прошла дрожь. Я не сводила глаз с Кэррона и не сразу поняла, что смотреть надо не на него, а вниз, на долину Сунжи. Ибо долины этой больше не было.
Земля плясала и изгибалась. Это не было землетрясение, я не ощущала никаких толчков. Что он делал, я не понимала, но тогда, когда я смотрела на эту безумную пляску, на эти вздымающиеся складки и опадающие расщелины, у меня мелькнула безумная совершенно, но, наверное, закономерная мысль. Я вспомнила, как он остановил когда-то землетрясение, как он поглаживал, присев, рукой рассерженную землю и успокоил-таки ее. А сейчас — не больно ли ей? Не причиняет ли он ей боль этим безумством?
Не было больше вишневых зарослей и неспешного ручья в песчаных берегах. Здесь не только не прошли бы излучатели, теперь Кэррона очень долгое время не решиться преследовать никто, ни сорты, не земляне.
Сейчас, когда я пишу эти строки, я думаю: сколько я знала Кэррона тогда, в моем невообразимо далеком детстве? Дня три, может, четыре. Но почему-то я так уверено смею судить о нем? Я была уверена, что никто не пострадал. На моих глазах земля сминалась в складки, словно геологический процесс кто-то пришпорил, как нерадивую лошадь, а я была уверена, что никто не пострадал. Отчего-то я всегда знала, что Кэррон не из тех, кто способен губить чью-то жизнь. Что даже сейчас он не станет убивать.
Иногда это считается слабостью. Есть такие люди — среди исследователей, среди координаторов, есть люди, которые считают это слабостью. Неумение убивать. Неспособность переступить через эту черту. Часто, проходя через боль и смерти, через подлинное горе, люди теряют наносное, усвоенное ими когда-то, как непреложные истины, и начинают понимать, что нет черного и белого, позволенного и непозволенного. И тогда они становятся способными на многое, а пуще всего им кажется слабостью уважение к жизни другого, неспособность убить. А бывают и такие, кто убивать не способен совсем. Для кого-то, как для меня, например, после определенных моральных терзаний эта черта все же остается перейденной, а кто-то просто не способен на это. Для кого-то это не черта, а стена; словно небесная твердь, и в душу не может закрасться подозрение, что ее можно или нужно преодолеть ее. Я встречала таких людей, редко, правда, но встречала. И отчего-то я всегда знала, что Кэррон именно такой. Что он никогда не сможет убить. Что он никогда не опуститься до злобы и ненависти. Жестокость ему не дана. И еще мне казалось, что земле больно, а он, умевший успокоить ее, не понимает этого.
Меня окружали запахи леса, спокойные, мягкие. И тишина. Все совершалось в тишине. И длилось всего лишь мгновение.
Я перевела дыхание. И снова увидела Кэррона. Он стоял, цепляясь обеими рукам за ветку, обвисая на руках. А дерево было черным-черно, словно обгоревшее, и листья осыпались и превратились в пепел. Трава словно выгорела вокруг. Кэррон все больше клонился книзу, оседая, он прижимался к дереву и все сползал вниз.
Выглянувшее солнце озарило все вокруг, засияло, заскользило в темной глянцевой листве. Почерневшее, невесть чем сожженное пространство было совсем невелико — и особенно страшно. Кэррон, наконец, упал, я побежала к нему.
Он полулежал, голова его и плечи опирались на ствол дерева. Глаза были закрыты. Смуглое лицо было не то что бы бело, оно было уже серое и совсем безжизненно. Лоб был в испарине. Я опустилась на колени рядом с вороном и, обняв за плечи, приподняла безвольное тело. Голова его запрокинулась назад. Он еще дышал — так тихо. У меня кружилась голова. Мир мерк перед моими глазами, свет серел и расплывался.
Кэррон открыл глаза. И отстранился от меня, прислонился к дереву. Мне стало легче.
— Не надо… не надо дотрагиваться до меня… деточка.
Только теперь я начала смутно понимать — почему. Причина была та же, что сгубила это дерево и траву вокруг. Голос у него был хриплый, слабый, тихий. Вокруг глаз были темные круги, похожие на синяки. Волосы намокли от пота и висели жалкими сосульками. Я смотрела на него, словно пыталась загипнотизировать взглядом.
Черные глаза закрылись. Он облизал сухие губы — похоже, неосознанно. И совершенно ничего не соображая, я сняла с пояса флягу, свинтила крышку и поднесла флягу к его губам. Вода полилась, Кэррон невольно сделал глоток — и потянулся трясущимися руками к фляге.
Он пил, пил, пил, потом выронил пустую флягу. По серому лицу текли слезы. Кэррон весь дрожал. Мне кажется, он даже не понимал, что плачет. Он смотрел на меня пустыми измученными глазами, а по щекам его текли слезы, оставляя светлые дорожки. Я не смела прикоснуться к нему. Видит бог, я просто струсила. Не зря он постоянно отстранялся от меня, не зря, и теперь я побоялась.
Впрочем, скоро он успокоился. Вытер лицо. Сказал тихо и почти безразлично.
— Это не настоящая вода.
— Н-наверное. Фляга ее синтезирует из воздуха. Так что, наверное, не настоящая.
Кэррон кивнул. До лампочки ему были мои объяснения. Но он постепенно приходил в себя. Черные глаза очень пристально смотрели на меня, так что мне неуютно было под этим взглядом.
— Ты, деточка… Ра… не говори никому, что ты здесь видела…
Я не поняла, что он имеет в виду: то, что он устроил здесь, или его слезы.
Мы просидели так еще минут десять. Потом Кэррон, шатаясь, поднялся на ноги, оттолкнул мою руку и побрел вверх по склону. И я пошла за ним.
До поляны Лэмптон было километров пять, не меньше. Я не представляла, как он пройдет такое расстояние, но он дошел почти до ручья Авид, прежде чем упал. Он повалился в заросли ежевики, и я вспомнила, как мы ходили с ним к Серебряной Иве, и как он падал тогда, словно мешок с тряпьем.
Я подбежала к нему. Глаза его были открыты. Он как-то зашевелился, словно пытаясь отползти.
— Не трогай… не трогай меня…
— Ничего, ничего. Не волнуйся.
Я только сняла с себя куртку и укрыла его. Кэррон натянул куртку до подбородка и закрыл глаза. Я сидела рядом, обхватив колени руками. Лес был редкий, и хорошо видно было небо с белыми облаками. Тучи куда-то ушли. Выше по склону журчал ручей. Я смотрела иногда на ворона, и каждый раз видела это безжизненное жалкое лицо с заострившимися чертами, цветом не ярче, чем моя старая серо-серебристая куртка. Мне хотелось плакать. Или ударить его, накричать на него. Что же ты вытворяешь, что ты делаешь с собой, Кэр! Но толку бы не было, вот я и не кричала. Я все же не удержалась, нащупала его вялую холодную руку и сжала ее. Голова сразу поплыла куда-то. Знаете, анекдот есть такой: просыпается человек, а на столе записка "Я поехала. Твоя крыша". Кэррон шевельнулся и дернул руку, но слабо.
— Ничего, ничего, — сказала я, поглаживая его пальцы. Голова у меня кружилась, но не сильно, не так сильно, чтобы волноваться из-за этого. Сознание из-за этого я терять не собиралась.
В тупом оцепенении я сидела и смотрела на его лицо. Спустя какое-то время Кэррон выдернул свою руку из моих пальцев и сел. Куртка свалилась с него. Глаза у него были какие-то сонные.
— Ты, деточка…. Спасибо, но не надо так делать…. Это может убить тебя.
— Почему? — сказала я.
— У меня линия жизни длиннее твоей, — буркнул он, — Раз в десять. Ясно, Ра?
— Нет.
Нет, ясно мне не было. Но я видела, что ему лучше, он уже не задыхался, когда говорил. И губы у него слегка порозовели.
— Ну… я не знаю, как объяснить. То, что вся твоя жизнь, я могу выплеснуть за один раз… понимаешь, я…
— Поняла я, поняла.
Кэррон жалко улыбнулся. Вообще-то, мне всегда нравилось, как он улыбается. Улыбка у него прелестная. Вообще, такой широкий рот просто предназначен для улыбки. Только в это раз улыбка у него не удалась…
Каждый раз, когда я пишу о нем, можно показаться, что я слишком уверенно говорю о нем. Я мало знала его, это правда, но я знала много о нем. О нем все всё знали. О нем говорили, его поведение обсуждали, каждый его поступок. Ведь он был здесь главным политическим событием, и весь тот год, что я пробыла здесь, я слышала столько всего: о его молодости, не было еще у воронов Царей моложе пятисот лет, о том, что он узурпировал власть Совета, о том, что он всегда спокоен и доброжелателен, что его невероятная магическая сила дает ему эту возможность — никогда не угрожать, не принуждать, что всегда будет достаточно одного его слова и все сделается по его воле, ибо все знают, в случае сопротивления он все равно настоит на своем — но вот чем это обернется для противящегося, никто не знает. Говорили и о том, что, хоть он и умеет быть жестким и высокомерным, сердце у него мягкое, и что любая душевная рана заставит его страшно страдать. Если так говорят о величайшем маге и самом самостоятельном из вороньих Царей, то это, пожалуй, так и есть. И я знаю это, всегда знала, поняла в тот самый момент, когда он поднял меня на руки, когда я впервые увидела его, ощутила его прикосновение. Дети всегда знают такие вещи, и я знала — сердце у него мягкое. И как же страшно он страдает теперь. Они изгнали его, и, быть может, со временем он возненавидел бы их. День за днем, месяц за месяцем переживая ужас изгнания, он, возможно, возненавидел бы их, но они погибли — так неожиданно, и на Кэррона обрушился еще и этот ужас. Ведь у них действительно была какая-то связь. А еще сознание своей ошибки, страшной, непоправимой ошибки: ведь если бы он согласен был со своим народом, если бы он был в Серых горах — какая уж тут атака из ПСМ, это Торже пришлось бы собирать по осколкам, не Серые горы, не Альверден. Прав он был в своих убеждениях или нет, но эти убеждения стоили жизни его народу и крупнейшему городу на планете в придачу.
— А знаешь, что ты мне названный брат? — сказала я вдруг, — По Тэю.
— Я знаю… — он снова улыбнулся слабой полуулыбкой, — Пойдем, деточка, Глен там с ума сойдет…
И мы пошли.
…Их было очень немного, в сущности. Я даже поразилась, когда увидела их на поляне Лэмптон, я как-то совсем иначе представляла себе это. В основном, файны, и это понятно, они никогда не любили сортов. Несколько кентавров, они тоже сортов не любят, это извечная вражда, вовсе не новая. Было еще несколько лесных духов, которых в расчет можно было не принимать. Файнов иногда называют лесными духами, но лесные духи, настоящие лесные духи, не имеют с ними ничего общего. И с войной они тоже не имеют ничего общего. Вот значит, как обстоят дела: Кэррон и файны против нас и сортов. Если бы Кэррон был готов к настоящей войне, хватило бы и его одного, но он не готов, я же вижу. Файны готовы, но они способны лишь к войне партизанской, их ведь, в сущности, очень мало.
А Кэр не готов, нет. Странно, ведь он потерял все и, казалось, должен бы озлобиться. Но убивать он еще не готов. Чего он хочет и на что надеется, я понять не могу, временами мне даже кажется, что его поведение совсем не обдуманно, что он не в себе, что ли. Что он не в себе…. Не в себе, Господи!
Поляна Лэмптон велика и заслуживает собственного имени. Встретили нас настороженным молчанием, точнее, меня встретили. Один из файнов легко поднялся и, приблизившись к нам, накинул на плечи Кэррону золотой переливчатый плащ. Кэр закутался в плащ и неуверенным шагом направился куда-то к краю поляны. Я, как привязанная, пошла за ним; когда он споткнулся, я поддержала его. Кэррон бросил на меня искоса быстрый взгляд, но ничего не сказал. Мы сели возле какого-то дерева, Кэррон закрыл глаза и, казалось, задремал.
Лагерь стал оживать. Кто-то разговаривал, кто-то ходил по поляне, лесные духи завели заунывное подвывание, напоминающее свист ветра в камышах. Я потянулась и взяла Кэррона за руку. Он дернулся, открыл глаза и сказал негромко:
— Не надо…
Я сжала его руку обеими руками. Пальцы у него были холодные, словно бы и не живые. Кэррон снова закрыл глаза. В этот раз я почти ничего не чувствовала, только немного болела голова, но она могла болеть и сама по себе. Долго мы сидели так, а потом Кэррон сказал, не открывая глаз:
— А ты никак не можешь решить, с кем ты, да, Ра?
Я вздрогнула. Он открыл глаза и искоса взглянул на меня; впервые я увидела у него этот взгляд, который про себя называла царским.
— Да, Ра?
— Не могу, — сказала я, выпуская его руку, — И что же?
— Решай, Ра. Решай.
— Да ведь и ты… — сказала я тихо.
— Что?
— Не можешь решить… решиться… да? Если бы решился, не о чем было бы и говорить. Для тебя ведь и отсутствие жезла не помеха, как я вижу.
Кэррон посмотрел на меня. Угол его рта дернулся.
— Извини, — сказала я тихо.
— Да нет, деточка. Все так. Все так.
Мы снова замолчали. А потом он спросил, не глядя на меня:
— Ты убивала когда-нибудь?
— Да, — обронила я, — Один раз.
— А я — нет…
Голос его был странно задумчив. Я посмотрела на него, на тонкий профиль, на пряди волос, заправленные за ухо. За четыреста с лишним лет, почти за пятьсот…
— В молодости… — сказал Кэррон, — у меня была ссора. Серьезная ссора. Решать ее пришлось на площадке Совета, в поединке. И… убить я не смог. Почти победил, но последний удар нанести не смог.
И замолк.
— Решай, Ра, — повторил он немного погодя, — Ведь ты знаешь, что делать…
— Знаю, — сказала я тупо.
— Вот и делай.
— А что будет с тобой?
— А с ними? — сказал Кэррон.
— С тобой. И с ними. Я люблю Алатороа.
— Я знаю, — отозвался он мягко, — Но что бы ты ни сделала, Алатороа не перестанет любить тебя.
Он так и сказал, и что самое странное, я не удивилась. Я и сама иногда думала о ней так — как о живой.
— А ты? Хотя я ведь тебе никто…
— Названная сестра, — сказал он, — Через Тэя.
— А Тэю плевать…
— Ему не плевать, деточка, — сказал Кэррон тихо, — И Ториону тоже было не плевать… когда он читал надо мной заклятье изгнания…. Каждый делает то, что считает правильным, детка…. Ведь я изгнанник. Сейчас для Тэя есть только это.
"Но не кровь, которую вы мешали когда-то!" — хотела сказать я, но не сказала. Просто взяла его за руку. Кэр слегка сжал мои пальцы. Так мы и сидели.
— Что бы ты ни сделала… — сказал он негромко, — ничего ведь личного…
— О чем ты?
— Если ты не можешь решиться… из-за меня… — и тут же усмехнулся, — Слишком самонадеянно, да?
— Нет, — сказала я, — не самонадеянно…
— Я не имею никакого отношения к Алатороа. Я ведь…
— Если ты еще раз скажешь «изгнанник», я закричу, — сказала я с нервным смехом.
Кэррон посмотрел на меня, и я смутилась. Иногда я забывала о том, что я выросла и все изменилось, но иногда — не могла забыть. Все же между нами есть какая-то стена, и она не исчезает из-за того, что я зову его на «ты», а он зовет меня «деточкой». Отношения между людьми, наверное, невозможно объяснить. И не только между людьми. Ведь если бы меня спросили о моем отношении к Кэррону, я могла бы сказать только: я очень люблю его. Мне и сейчас хотелось сказать ему: я очень люблю тебя. Но я не решалась. Но это не та любовь, которая бывает между мужчиной и женщиной. Нет, пожалуй, не та, и, может, вообще не любовь, но я не знаю, как еще назвать это чувство. Странное какое-то чувство, интимно-отчужденное, будто к родственнику. Он, и правда, мне в какой-то степени родственник — по здешним законам. Названный брат. Через Тэя. Двоюродный названный брат. Кузен, так сказать.
А ведь он в открытую предлагает мне — сдать его. Алатороа не перестанет любить тебя, Ра. И я тоже не перестану любить тебя…. О, боже ты мой! Вот я сидела и держала его холодные вялые пальцы, и уже тогда я знала, что сделаю это. И думала: может, он пытается не меня — себя подтолкнуть к этому решению? Пытается заставить себя озлобиться и решиться на убийство, может быть, множества людей? Рубит последнюю привязанность свою?
— Что бы ты ни сделала, — сказал он ласково, — мне уже хуже не будет…
Я посмотрела на него.
— А Торион захотел стать Царем? — отозвалась я невпопад.
Кэррон вздрогнул всем телом.
— Дело не в этом, — сказал он хриплым шепотом.
— Извини, — сказала я тоже шепотом.
На этот раз мы замолчали надолго. Кэррон, похоже, действительно задремал. Потом вдруг вздрогнул, открыл глаза, сказал тихо:
— Ра…
— Да?
— Тебе лучше вернуться, наверное.
— Да, — сказала я тихо, — Я пойду.
— Я люблю тебя, деточка.
— Я тоже люблю тебя, Кэр.
— Ты не обижайся на меня. Просто я так устал.
— Что ты, — сказала я, — Я, правда, люблю тебя.
Мы попрощались, и я ушла.
…Облава отложена и вряд ли теперь состоится. Сорты напуганы по-настоящему. «Царь-ворон», — говорят они, и сами эти слова, похоже, внушают им ужас. Царь-ворон. Глава темных сил. Исследователи тоже, похоже, напуганы; я бы испугалась тоже, если бы не обладала привилегией держать источник этой мощи за руку. Кузен все-таки.
Я так боюсь за него, ведь я уже решилась.
Ведь он был прав, именно его слов, почти разрешения — расправиться с ним же, именно этого мне и не хватало для решимости.
Но теперь я решилась.
Не дай Бог, чтобы решился он.
28. Из сборника "Космофольклор для специалистов. Восьмой галактический сектор" под редакцией Э. Рамиреса. Легенды о названиях.
Семь Светлых Источников.
В давние времена в лесу жили лесной дух и его жена, а была она из людей. Она была дочерью Лоюта Бездоло, который был сыном Мамута, и женщины по имени Торина, и лесные духи украли ее, когда она была еще ребенком. В ту пору она была тяжела, но когда пришел срок, никак не могла разродиться от бремени. Лесной дух, бывший ее мужем, призвал к ней жрецов, и жрецы напророчили, что в отсутствие мужа в его обличие приходили к женщине одна за другой семь звезд и оттого она не может разрешиться от бремени, что в чреве ее семь звездных детей. Лесной дух разгневался и убил жену. Жрецы же, напуганные столь великой яростью, разгневались и изгнали его, тело же его жены погребли на равнине, по которой текла светлая река. Но не рожденные дети звезд рвались из гнета земли к небу. Тогда обратились они в семь пречистых струй воды и взлетели из земли, оттого и зовутся Семь Светлых Источников, и вода их священна.
Кротта Клиах.
В давние времена жил Клиах из рода Байне, и был он арфистом Смирдуба, сына Смала, правителя трех Росс. Однажды пошел он повидать дочь Буйдб из Фер Фемен.
Целый год он провел на холме, играя на арфе, но таковы были чары Фер Фемен, что он не мог подойти ближе к нему и заговорить с девушками. Не выпускал он из рук арфы, пока не разверзлась под ним земля и не появился оттуда дракон. Оттого и называется Кротта Клиах.
Гора Аль.
Был в темные времена, до пришествия сортов и воронов, некто по имени Аль. Был он выше неба и доставал руками звезды. Говорят, что он него пошли некие народы, сгинувшие после в космических далях.
Был этот Аль столь велик, что не было ему приюта на этой земле, но он ни за что не желал покидать ее. Тогда боги сжалились над ним и соединили его в одно целое с этой землей, а там, где был его мизинец, выситься теперь гора. Оттого и зовется эта гора Аль.
Торовы Топи.
Отчего зовутся так Торовы Топи? Некогда в этих местах были непроходимые болота, они тянулись от ручья Духов, который брал там свой исток, до самого Западного тракта. В ту пору по Западному тракту ходили караваны проклятых купцов, на которых тогда еще не пало их проклятье. И один маг из проклятых решил осушить все болота, потому что там, за болотами, крылись, по легендам, несметные богатства. В Альвердене не учили тогда еще магов, а учились они кто как, и маг этот был самоучка, сильный, но не слишком умелый. У него была книга заклинаний, спасенная из пожара, но не все заклинания сохранились там целиком, часть сгорела. Попытка эта стоила магу жизни, и говорят, еще можно увидеть камень, отмечающий место его гибели. Камень стоит где-то в проклятых селениях. Оттого и зовется это место — Крайдене Камран.
Места же между ручьем Духов и Западным трактом зовутся все еще топями, хоть давно уже там нет болот, лишь встречаются заболоченные озера, а озер там много. Скоро там, на озерах, поселились тороны, и оттого зовутся — Торовы Топи.
Морая.
Отчего так зовется Морая? Морая зовется так оттого, что жила некогда Морри Каваро, юная колдунья. И была она столь прекрасна, что каждый желал сделать ее своей женой, она же не любила никого, а любила лишь свое искусство. И тогда отвергнутые женихи убили юную красавицу, а тело ее погребли на вершине холма. На том холме выстроили они город. Оттого и зовется — Морая, в память о Морри Каваро.
29. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торовы Топи, день двадцать восьмой.
Я решила действовать, пока решимость моя не ослабла.
Я рассказала Тэю о нашей встрече с Кэрроном. Рассказала все, а Тэй смотрел на меня золотыми переливчатыми глазами. В хижине на полу и на кровати лежали охапки марахонии: цветы, вплетенные в стены, уже осыпались, и Тэй, похоже, собирался их заменить. Всю хижину наполнял одуряющий запах цветов. Чтобы сесть, мне пришлось сдвинуть их в сторону.
Я замолчала, а Тэй смотрел на меня, и глаза его светились.
Пора действовать?
— Да, — сказала я.
Тэй покивал рогатой головой.
— Тебе не жалко его, Тэй? — сказала я.
Он проклят.
— А мне его жалко, — говорила я тихо, — Ведь он остался совсем один, Тэй. Ну, да, ты не должен общаться с ним, но неужели тебе не жаль его, Тэй?
Тэй только прищелкнул клювом и, отвернувшись, стал перебирать цветы марахонии. Мне показалось, я обидела его, ведь он ясно дал мне понять, что Кэррон теперь для него лишь изгнанник. Не так просто было забыть все то, что связывало их, что толкнуло их на братание — представителей разных народов, но Большое заклятье изгнания было прочитано, и девать уж было некуда. Кэррон был все равно что мертв. И нелегко было с этим смириться, а тут еще я вечно лезла, бередила рану.
— Но Торион… — сказала я с неожиданной злобой, — Ему-то что понадобилось? Зачем он…. власти ему захотелось, что ли?
Кэррона изгнал Совет старейшин.
— Но это Торион читал над ним заклятье. Над своим другом…. Они, что, не ладили, Тэй?
Тэй этого не знал.
Я останусь здесь до утра. Вчера, кстати сказать, после возвращения в Торже, я сидела в архиве и нашла запись разговора дяди Иозефа с лииеном с горы Аль. Я помню, как мы ходили туда: я, Элиза, и Иозеф Тон, но разговор точно не могла вспомнить. Об этом разговоре я вспомнила, когда мы летели в Торже. Я только тогда, в глайдере, вдруг вспомнила, что лииен, предсказавший когда-то землетрясение, говорил что-то об изгнании вороньих Царей. Ведь говорил! И по прилету я сразу бросилась в архив, я была уверена, что разговор, наверняка, записывался, наши этнографы без диктофонов вообще не существуют, мне кажется, это их новый орган, этнографов, — диктофон. Там просидела там полночи, но запись нашла. Не знаю, правда, зачем я ее искала.
Хорошо бы было поговорить с ним сейчас, но разве кто пустит меня сейчас на гору Аль? Там ведь, наверное, зона радиоактивной опасности. А хорошо бы поговорить с ним, с этим деревом, ведь оно знает, что будет.
Здесь так хорошо. Тихо так, спокойно. Мне и не кажется уже, что я предаю Алатороа, лучше будет, если этот конфликт не разгорится по-настоящему, для планеты будет лучше. Но Кэррон…. Кэррон. Ведь от него все отвернутся, ведь теперь… все будет так, как планировали Торион и К?. Все-таки сволочью он был, муж моей Элизы.
Нет, это неправда. Насчет предательства. То есть я не чувствую, что предаю, но я ненавижу себя. За слабость свою ненавижу. Да, для Алатороа, может, и лучше будет, если война не начнется по-настоящему, ведь подумать страшно: магия воронов против земной техники, — ведь мы планету по камню разнесем. Но я себя ненавижу, себя и свою работу, я ненавижу в себе — координатора. Теперь я по-настоящему понимаю, за что нас ненавидят, за что боятся. И я, Господи Боже, такова, как и все координаторы. Я так же безумна, как и все мы.
Я вспоминаю всех координаторов, с которыми я встречалась в жизни, и понимаю, что во всех них, во всех нас есть что-то общее, что-то нас объединяющее. Это способность действовать не смотря ни на что, не оглядываясь на людей, на их чувства к тебе. А больше всего я вспоминаю Карпенко — не падайте в обморок, эксперты, те, кто будет читать мой дневник. Теперь я могу понять, почему он поступил так, а не иначе, что привело его к кардинальскому титулу и закулисной власти над Эсторской империей, что толкнуло его на предательство, так сказать, почему он забыл о своем координаторстве и решился остаться на планете и действовать, как ее полноправный житель. Теперь я понимаю…. Странно, как ясно я могу увидеть его, хоть я совсем мало его знала. Звали его, кажется, Александром Васильевичем. Сашей. Саней — чаще всего, насколько я помню. Я вижу его, как живого. Господи, тьфу-тьфу, он вроде еще жив, только я не поручусь…. Высокий широкоплечий парень, черные волосы, кошачьи зеленые глаза на смуглом лице. Он был профессионал экстракласса, даже не первая степень, нулевая — бог и ас. Но и его постигла эта судьба. И только теперь я понимаю, что толкнуло его, профессионала, опытнейшего работника, который, казалось бы, уж мог держать в узде свои чувства, на такое…. И я уже готова совершать подобные поступки. Я уже почти готова, боже! Я так хорошо помню его, он просто стоит у меня перед глазами — зеленоглазый смуглый парень, а за его плечами стоят безумие и боль, словно призрак моей будущей судьбы. Я все еще координатор, но, кажется, я скоро забуду об этом. Если бы я только могла забыть…. Если бы я только могла переступить через свою координаторскую сущность, ведь я же человек, в конце концов, я была ведь человеком со своей душой, со своими привязанностями, меня звали когда-то Ра. Если бы я могла. Впрочем, за это есть наказание, и зеленоглазый парень мерещиться мне неспроста. Слепой, изуродованный, в психиатрической лечебнице. Вот как кончил один из лучших координаторов современности. И это не самая большая цена, я не боюсь ни смерти, ни боли, ни безумия — за счастье считать Алатороа своей планетой и драться за нее, как за свою. Да только я не способна на это. Я так люблю ее, но я улажу этот конфликт — в пользу землян. А через сто лет сорты будут править моей сказкой. Я так люблю Кэра. Я все на свете бы отдала, лишь бы избавить его от боли, но я сама, своими руками….
И ведь он, Господи, разрешил мне. Разрешил ударить его. И я сделаю это. Уже сделала.
Я чувствую себя убийцей, когда думаю об этом. Тогда, после И-16, я себя так не чувствовала. Никогда у меня не было еще так паршиво на душе.
"Я люблю тебя, деточка".
"Я тоже люблю тебя, Кэр".
И ведь Торион тоже любил тебя, Кэр. Я же помню, как этот холоднокровный ублюдок говорил с тобой, смотрел на тебя. Как на безумно любимого младшего брата. Но он, самый близкий твой друг, единственный твой друг, он читал над твоей головой Большое заклятье изгнания. Над твоей склоненной головой. И кто-то, наверное, держал тебя за руки, принуждая стоять на коленях.
Что же ты натворил, Торион, ублюдок, что же ты натворил! Из-за власти, Господи…. Ведь я готова поклясться, что жезл достался бы тебе. Такой славный род. Ведь ты, наверняка, считал, что Кэррон обошел тебя в этом. Ведь он был слишком молод для Царя, он и сейчас слишком молод. А ведь ты, наверное, завидовал ему, Торион, ублюдок. Впрочем, и я не лучше. Что я делаю? Кэр, как же я боюсь — за тебя. И все равно бью — своими руками. И Тэй тоже приложил руку. Побратим, лучший друг, названная сестра, посестра, как говорили славяне давным-давно. Что же мы все делаем….
30. Из архива И. Тона, этнографа. Диктофонная запись беседы с лииеном с горы Аль. Фрагмент.
Вороны сегодня чествуют своего Царя, но они его изгонят. Поля времени, как в зеркале, преломят старую историю, и хоть все будут говорить, что она повторяется, это будет неправдой. Та история умерла, эта будет — на свой лад…. Но воронам не годиться изгонять Царей, каждый раз они сами оказываются на краю гибели…. Вороны вообще глупы…. Да. Да. Они ужасно глупы. Тот, что царствует сейчас, неплох, но ему далеко до того, кого изгнали первым…. Я его помню. Да, как же я стар! Эта девчонка догнала его, и ему пришлось прожить еще один день. Эти девчонки ничего не понимают!.. Я-то понимаю. Да…. Да…. В его глазах была боль, а в сердце был только лед. Мало кто умеет смотреть в сердце, все больше норовят в глаза. А у него было пустое и ледяное сердце, ничего в нем не было: ни боли, ни ненависти, ни любви, что бы уж там не думала эта его жена. Он был великим магом. Он, да Корд, да нынешний — вот и все, кто был стоящим среди воронов. Да нынешний-то тем двоим в подметки не годиться. У него в глазах будет лед, и никто не заметит, что сердце его будет полно болью. Сердце его будет исходить болью, как раненые исходят кровью…. Да…. Вот я и говорю: разве может та история повториться? Тот сам выбрал день своей смерти, сам загнал себя в это ущелье, а мог бы еще жить. А этот будет жить и своей жизнью спасать, не подумает о том, чтобы успокоить навсегда свою боль. Его низложат и изгонят, а он будет нести ношу Царя…. Дурак…. Ах, дурак!
31. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день тридцатый.
Сегодня у нас был очень душевный разговор с Куном. Он зашел что-то спросить, и кончилось тем, что он сел на кровать, и мы проболтали, наверное, не меньше часа. Почему-то он мне все в душу лезет, этот Кун, и не безуспешно, надо сказать. Говорили мы о проекте «Зеркало».
— А вы знаете, что это за проект был — "Зеркало"? — спросил он.
— Мне сказали, что это секретная информация. Я пыталась узнать, конечно, — сказала я, — да только куда там, — я ударила рукой по колену и улыбнулась мельком, — Даже нам не говорят, а я-то думала, что для координаторов закрытой информации нет.
— А для вас действительно нет закрытой информации?
— Есть, как видите.
— А вообще?
— Обычно нет, — сказала я, — Обычно, понимаете, наша деятельность и есть самая секретная, а уж наши архивы нам доступны. Да и остальные…. А тут — нет. Тут мне отказали и, по-моему, начали присматриваться ко мне — что это она разузнает, почему? какова причина такого любопытства? Родители, или нечто иное? Понимаете, Торнберг?
— Вполне, — отозвался он с легкой усмешечкой, — Я с этим столкнулся. Но что такое проект «Зеркало», я знаю и довольно хорошо. Могу рассказать…. Если у меня не будет после неприятностей, — прибавил он с почти вопросительной интонацией и с тенью усмешки в углах губ. Я думала оскорбиться, но почему-то не сказала ни слова.
— Ладно, — сказал он, запуская руку в короткие жесткие волосы, — Ладно, слушайте. Вы интересуетесь хоть немного строением Вселенной?
Я улыбнулась. Покачала головой. Честно говоря, мне было немного неловко.
— Мне достаточно и того, что в ней для меня есть работа, — сказала я.
Кун кивнул.
— Есть теория, — сказал он отрывисто, — немного странная, пожалуй, но кое-кто затратил огромные средства на то, чтобы проверить ее. Огромные средства и жизни тысячи с лишним человек. Нет, я не осуждаю. В свое время я поседел, пытаясь пробиться в участники этого забега. Ну, так вот. Есть такая теория, которая гласит, что реальность нашей Вселенной многовариантна, и что все эти варианты так или иначе связаны друг с другом. Ну, знаете, было раньше такое девичье гадание, ставили одно зеркало против другого. И там, в зеркалах образовывался словно коридор из отражений…. Я это так себе представляю, хотя в теории это выглядит несколько иначе.
— И что же проект?..
— Проект…. Ну, технические подробности я вам объяснять не буду. Но считается, что при определенных условиях можно перейти из одного варианта реальности в другой. Условия эти должны быть… ну, как бы это сказать, должны достигать экстремума. Достижимо это при определенном режиме движения космического корабля. Был разработан такой двигатель — импульсный. А что было, вы и сами знаете. Пять звездолетов, из них три — класса "гросс"…. И все исчезли. В сущности, проект, наверное, считается удавшимся. Ведь куда-то звездолеты ушли.
— Да, — сказала я.
— Но они так и не вернулись…. Впрочем, может там время течет иначе. Там все может быть иначе.
— Вы с такой тоской об этом говорите, — сказала я, скрывая за легкой иронией свои подлинные чувства. А чувства эти были — страх. Я вдруг представила себе эти реальности, бесконечно отражающие друг друга, и пять звездолетов, затерявшихся в этой бесконечности….
— Ну, — сказал Кун, — это ведь была моя мечта. Что вы, Кристина, это для исследователя — это ведь такое!..
Я улыбнулась в ответ, потом посерзьенела.
— А вы что думаете — куда они попали?
Кун подпер кулаком щеку.
— Что же… — сказал он, — Я вообще-то так и думаю. Я верю в эту теорию, знаете ли. Но она, конечно, довольно странная. Если это представить — что где-то твоя жизнь повторяется кем-то еще, пусть даже и искаженная. И так — множество и множество жизней, и чем дальше, тем больше искажений. Довольно странно.
— А почему вы в это верите?
— Ну… это сложно. Я, видите ли, сыграл не последнюю роль в формировании этой теории. На первичном, так сказать, уровне. Мы на «Весне» зарегистрировали первыми те явления, которые эта теория объясняет. Я много видел странного, Кристина.
"Я тоже", — хотела сказать я, но не сказала. Водя пальцем по столу, я сказала:
— Вот вы верите во множественность реальности, а я верю в магию. Раньше я верила только в здешнюю, а теперь думаю, что верю, пожалуй, во всякую…. Это ведь соотноситься с вашей теорией. Кто знает, может, там реальность магическая, и до нас долетают отголоски.
— Да, — сказал Кун, — и это тоже.
— Да, — повторила я за ним, как эхо.
— У координаторов, наверное, странная работа. Вы живете когда-нибудь своей жизнью?
— Сейчас — живу.
— Нет, я хотел сказать…
— Я поняла, — сказала я быстро, — Просто я…. Для меня это не очередная планета, понимаете, для меня это почти родина.
— А обычно вы равнодушны?
— Вовсе нет. Нас учат равнодушию, но… все равно всюду обитает часть тебя. У координаторов есть такая болезнь, кто называет — сопереживание, кто называет — вживание. В сущности, это две разные стадии одной болезни. Знаете, был не так давно случай. Координатор, старше меня, гораздо старше, с десяток лет жил на планете, узурпировал власть в государстве, поднял его на недосягаемую высоту. На него были и покушения, но никто не мог добраться до него, и наши не могли тоже. Его хотели вывезти с планеты.
— Не удавалось? — спросил Кун, слушавший с немалым интересом.
— Не удавалось. Я, в общем, только понаслышке эту историю знаю, через третьи-четвертые руки. Вроде бы его обвинили в колдовстве, пытали, собирались казнить. Его вывезли с планеты, но получилось, что не планету от него спасали, а его самого. Говорят, он остался калекой, вроде бы ослеп.
— Жестокая история, — сказал Кун, — Что же, он так вжился в этот мир?
— Да, — сказала я, — Так бывает. Действительно бывает.
— Н-да. Я и не думал об этом. Мне и в голову не приходило.
Я кивнула.
— А что с ним потом было, с этим координатором? Как его звали, кстати говоря?
— Саша Карпенко. Александр Васильевич Карпенко. Я когда еще училась, видела его, действующих координаторов иногда приглашали читать лекции. Он очень был красив. Лицо у него было такое, мужественное. Я, вообще-то, таких мужчин не люблю, — прибавила я. Кун улыбнулся, — Но в нем было что-то, что прямо за душу брало. Глазищи такие, как у кошки, зеленые-зеленые, я в жизни таких глаз больше не видела…. Говорят, ему выжгли глаза.
— Господи!
— Что с ним теперь, я не знаю, — продолжала я, — Вроде бы он был в психиатрической лечебнице, а потом — не знаю.
— Бедняга, — сказал Кун.
— Бывает так, — сказала я, — А бывает и менее трагично. Бывает, что человек просто привыкает и тоскует потом. Это тяжело. Это тяжело, Торнберг.
— Да, я понимаю.
Я засмеялась.
— Ничего вы не понимаете, Торнберг. И я вас тоже не понимаю, хоть я и родилась в семье исследователей. Люди вообще друг друга не понимают.
— Это верно, — рассмеялся и он, — Это верно.
Кун давно уже ушел, а все сидела и думала. А думала я — о Полях Времени и о том, что я видела там. Сидела и думала. За прошедшие годы я много думала об этом, гораздо больше, чем обо всем, случившемся со мной на Алатороа.
Это было очень давно. И иногда я чувствую, что это было как бы не со мной. В Поля Времени меня привел, как ни странно, Кэррон — с любым другим я, пожалуй, испугалась бы, но с ним я не боялась ничего. Смешно, как когда-то я верила в его бесконечное могущество, а сейчас я с ума схожу от страха — за него. Когда-то я была уверена, что уж ему-то ничего не страшно, и мне не было страшно рядом с ним. А теперь я боюсь — за него.
Ну, ладно, я ведь о Полях Времени. Кэр отвел меня туда. Зачем, я не знаю, но здесь многие, и особенно маги, часто бывают там, правда, детей туда обычно не водят. Человек сам должен решать, хочет ли он задать вопрос Полям Времени. Но, так или иначе, я оказалась там. Вспоминать я об этом не люблю, но вовсе не потому, что что-то напугало меня там. Просто… это было так ужасно и прекрасно, это было истинное чудо, а оно не может не ужасать. Но речь, в общем-то, не об этом.
Сейчас, когда Кун рассказал мне об этом чертовом проекте, я, кажется, впервые начинаю понимать, что я на самом деле видела в Полях Времени. Только сейчас. Мне сейчас не до этих загадок, но все же это пугает. Я видела тогда своих родителей, а за ними — череду их отражений. Я, вообще-то, всегда думала, что это из-за тумана, какой-то оптический эффект или просто Поля Времени так подшутили надо мной.
Мои родители выглядели старше, чем были тогда. Может, именно так они выглядели, когда стали участниками этого проекта. Я ведь не видела их тогда, я вообще последний раз их видела, когда мне было лет семь, не больше. Они были в форме и стояли, полуобнявшись. А за ними, в тумане, еще и еще — пары в сером, и чем дальше, тем больше они становились непохожими на моих родителей, замелькали цветные одежды. Отчетливее всего мне запомнилась женщина в белой сорочке, пестрой какой-то юбке и голубой шали, а ее обнимал мужчина в ярко-алом камзоле. И потом я увидела, как мои родители, Анна и Тимофей, повернулись и пошли туда, в свои отражения, и кого они проходили, те гасли. А сейчас мне вдруг пришла в голову страшненькая мысль: а если они убили тех, через кого прошли? Ведь эти звездолеты полетели в какие-то миры, и в этих мирах были те, кто являлись отражениями участников проекта…. Да, видно, мне своих проблем не хватает.
32. Ра. Несбывшееся.
Бургомистр Альвердена был высок и представителен. Красивый был мужчина, половина горожанок среднего возраста были тайно влюблены в своего бургомистра, так хорош он был собой, широкоплечий, полный, с твердыми правильными чертами обветренного красного лица. Роскошная грива седых волос обрамляла это лицо. Глаза были большие и карие, они всегда пленяли женщин, еще в те времена, когда господин Ориен был еще худеньким слушателем Альверденского университета искусств. Высокий, в красном камзоле и черных кожаных брюках, обтягивающих сильные полные ноги, в красных сапогах для верховой езды, стоял господин Ориен на верхних ступенях лестницы, ведущей на второй этаж университета магии, на знаменитую галерею, и с неудовольствием смотрел на того, кто стоял на одну ступеньку ниже.
Не то, чтобы господину Ориену неприятен был сам собеседник, который, кстати сказать, тоже был роста немалого, правда, сходство их на этом и заканчивалось. Собеседник господина Ориена был худощав и подвижен, черные его волосы были зачесаны назад. Одет он был в черное, и черный же плащ свисал с его плеч до самых ступеней лестницы. Тонкое смуглое его лицо было бесстрастно, и господин Ориен подумал с неудовольствием: "Жаба!". Не то, чтобы собеседник был ему неприятен, случалось им и за одним столом сидеть, в доме бургомистра, кстати говоря, в Серые горы господина Ориена не приглашали. Поговаривали, что проще зайти за перевал Гро, чем выйти обратно, что непрошеных гостей в Серых горах не жалуют, а в гости вороны никого не зовут. Но в Альвердене к воронам давно привыкли, а Царь-ворон нынешний и вовсе был любимцем университетского Альвердена: такой маг, да к тому же вовсе не гордый, ну, конечно, в приделах вороньего привычного высокомерия. И господин Ориен Царя-ворона любил, но сейчас он был недоволен, ох, как недоволен.
Мимо ходили студенты. Сине-серые мантии, руки спрятаны в рукавах, на гладко причесанных головах треугольные шапочки — паиньки-паиньками. Глухо звучат шаги, когда идешь в студенческих войлочных башмаках. Немало и девушек, и все такие же: причесанные, в шапочках, в мантиях, в войлочных башмаках, даже не разберешь, хорошенькие или нет. Проходя мимо, студенты низко кланялись, ниже, пожалуй, чем кланялись бы самому ректору: как же, сильнейшие маги на планете остановились поговорить на лестнице, ведущей на знаменитую галерею. Бургомистр заметил, как рыженькая девушка со съехавшей на бок шапочкой, прошла, прижимая к груди книги, поклонилась и заглянула в худое смуглое лицо ворона. И тут же смутилась, залилась краской, но не удержалась, через плечо оглянулась и посмотрела еще. Девушка была очень милая, с голубыми наивными глазами и широким веселым ртом, этакий бесенок, господин Ориен всегда охоч до таких, но сейчас не о том были его мысли. Совсем не о том. "На кого засматриваешься, дурочка, — только и подумал он, — Вороны не люди, и сердца у них от рождения, видно, нет". Не зло подумал, так, буднично.
— Их лагерь расположен в Иллирийских лесах, — говорил господин Ориен, бургомистр альверденский, — Ребенка они уже не ищут, все-таки времени прошло немало. Но лучше бы девочку вернуть, Кэррон.
— Вот как? — отрывисто сказал Царь-ворон.
Смуглое и бледное лицо его странно скривилось.
— Зачем она тебе, Кэррон? Ведь она черненькая.
Ворон промолчал.
Отсюда, с лестницы, видно было голубое небо над маленьким внутренним двориком. По небо плыли кучевые облака — громады небесной белейшей пены. Ветер путался в блестящей светлой листве тополей, гербовых деревьев университета; ими засажен был внутренний двор и террасы.
— Девочку нужно вернуть, — повторил бургомистр.
Черные глаза ворона с неожиданной злобой глянули на него. Господин Ориен вздрогнул. На какой-то миг он подумал, что ему померещилась эта злоба, сверкнувшая в глазах собеседника, да и потом думал: и в самом деле, не померещилось ли? Ведь умел держать себя в руках Царь-ворон, никто бы, пожалуй, и представить бы себе не сумел его во гневе. Да и страшно представить себе такое: нынешний Царь-ворон был из тех, кто, разгневавшись, мог уничтожать целые города, сметать их с лица земли, как другие со злости сметают тарелки со стола.
— А ты мне не указывай, Ориен, — сказал мягкий голос без тени гневливых ноток, — Не стоит. Они ведь собираются улетать, не так ли?
— Они-то улетят, — сказал бургомистр резко, — Но прилетят другие. И если станет известно, что мы скрыли от них ребенка…. Ведь решат, что ты похитил девчонку еще в самом начале. Неужели вам мало того, что вы похищаете дочерей знатнейших семейств? Мы ведь не забыли еще о дочери адвоката Идрада! Это слишком было, а уж то, что ты задумал, вообще ни в какие ворота! Ведь ты не дурак, Кэррон, подумай!
И глядя на это бледное, смуглое, тонкое лицо, Ориен неожиданно почувствовал страх. Давно, ох, как давно не боялся господин бургомистр никого и ничего, но в тот момент, тягуче-невыносимый, он испугался — этого тонкого, высокого, совсем молодого ворона, и этот страх был так реален и груб, словно камни, царапающие сердце острыми углами. Ибо в лице Царя-ворона увидел бургомистр — ярость. Странно это было, лицо его было так спокойно, и черные глаза смотрели — почти доброжелательно, но Ориен чувствовал, чувствовал, что висит на волоске. Кэррон едва сдерживался, и старый маг чувствовал это прекрасно. И, ужаснувшись, внутренне замер.
Ворон поднялся на одну ступеньку и сильно сжал холеную руку бургомистра смуглыми худыми пальцами.
— А как насчет твоих дочерей, Ориен? — сказал он мягким своим голосом, — Ведь они у тебя светленькие. Особенно Ильрика, младшая, правда? Что, если тебе придется выбирать, Ориен, твоя Ильрика или эта девочка?
Бургомистр онемел. Ильрике, его Ильрике было двенадцать лет, она была совсем ребенок, тоненькая, с русыми косичками. Она бегала еще в коротеньких платьицах, вовсю лазила по деревьям, вечно были исцарапаны ее загорелые коленки. Любимой ее забавой было подстеречь отца, возвращающегося домой, и свалиться на него с дерева, росшего у порога. Отец таял, когда ловил свое исцарапанное растрепанное сокровище. И ее, Ильрику, этого неукротимого ребенка грозил украсть — Царь-ворон. Таким образом породниться с воронами Ориен не желал, только не это.
— Никогда не указывай мне, Ориен, — сказал ворон все так же мягко, — Я еще ничего не решил, но не смей указывать мне.
Элиза поцеловала сонную девочку и задула свечу. Ра боялась спать в темноте, но безропотно ложилась и позволяла гасить свет; она не была капризным ребенком. Элиза сказала бы, что этот ребенок и не подозревает о существовании капризов; наверное, воронята бывают такими — без малейшего сознания своей детской безнаказанности. В темноте она еще раз поправила одеяло и, бесшумно ступая, вышла из комнаты.
В соседней комнате тоже было темно. Вороны снимали лучшие комнаты в гостинице, но света не было ни здесь, ни в гостиной, куда была открыта дверь. Элиза остановилась, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте; ей показалось, что комната была пуста, что ни один из воронов еще не вернулся. И почти сразу она увидела — тонкий темный силуэт на фоне светлеющего окна. Кэррон. Его величество. Торион был выше и крупнее. И даже если бы они были близнецами, Элиза все равно отличила бы их хоть в полной темноте: никогда в присутствии Ториона ее не настигало чувство такого успокоения. Словно сидишь на пригорке, на мягкой травке, и солнышко светит, но не жарко, а как бывает осенью — мягкое, подсвеченной золотом тепло.
Царь-ворон молчал. Хоть и не мог не слышать ее шагов; кто угодно, но не он, слух у него довольно тонкий. "Летучую мышь переслушает", — говорил Дрого. Элиза тоже молчала. Смешно, но она боялась заговорить — первой. Он нравился ей, временами почти непреодолимо, но и его она понимала не всегда. И боялась, когда не понимала….
— Ты выяснил, где ее родители? — наконец, раздался ее несмелый голос.
— Да.
Угрюмое «да». Отрывистое «да». Что же такое?
Элиза напряженно всматривалась в темноту. Вот он стоит — в десяти шагах, но не подойти, не спросить. Только и остается, что ловить малейшее изменение интонаций, малейшее движение в темноте. Как странно, почему, когда смотришь из темной комнаты, всегда кажется, что на улице светлее. И не только здесь, в благословенном Альвердене, где ночь напролет горят фонари — дабы случайный прохожий не блуждал в потемках, да и поздно ложатся здесь, в лучшем из городов мира. Но и в Серых горах случается — встанешь среди ночи, а окна светлеют, словно серь камней и в ночи сохраняет свою серину, словно камни светятся во тьме.
Царь-ворон не шевелился. Он замер там, у окна. "На что он смотрит?" — мелькнула у нее мысль. На что можно смотреть там, на веселые улицы Альвердена? На ее родные улицы…. Элиза тряхнула головой, отгоняя наваждение.
— Кэррон… — тихо сказала она.
Он нетерпеливо шевельнулся и снова застыл. Разговаривать он не хотел — почему? при чем здесь родители малышки Ра? И вдруг Элиза поняла. И воспротивилась всем сердцем. Воспротивилась с неожиданной страстностью, как некогда противилась своей судьбе.
— Нет! — сказала она, — Кэррон, нет!
И так упорно и злобно было ее «нет», что он вздрогнул у окна.
— Я еще не решил, — отозвался он.
Словно успокаивал ребенка: видишь, буки нет, смотри, ведь нет. Как будто и самому тупому из детей не ясно, что буки нет, когда родитель стоит со свечой, но стоит ему уйти, как бука вылезет — о, да!
Элиза на миг закрыла глаза. Ах, как тяжело ей было! Ведь не объяснить ему, не доказать ничего. Испокон венков похищали они детей и молоденьких девушек, и даже он, всегда такой деликатный, вряд ли способен понять….
— Кэррон, — сказала она с отчаянием, — ведь Ра еще слишком мала.
— Отчего же? В самый раз.
Элиза вздрогнула. На миг она представила, ощутила, что было бы, если ее украли в этом возрасте. И вместе с этим в ее душу пришла безысходность. Он не поймет. Не поймет, а мало было на свете вещей, которые он не понял бы. Разум говорил ей: будь справедлива к нему, не мешай, ведь это его жизнь. Разум говорил ей: он будет любить девочку, он будет ласков с ней…. Многое говорил ей разум, а сердце просто болело — словно ему тесно было в груди.
— Послушай меня, Кэррон. Послушай меня, — сказала она, и голос ее был холоден и тверд, — Каждую ночь она плачет во сне и зовет маму…. И когда они улетят, ничего не измениться. И когда она будет в твоей спальне, она так же будет плакать по ночам. Ты — ты — понимаешь это?
Он молчал, и, почти сдавшись, Элиза выговорила беспомощно:
— Ведь ты всегда был добрым…
— Я подумаю, — сказал он отрывисто, — Ступай спать, Элли.
Он подумал. И через три дня Ра вернулась к родителям, давно уже похоронившим свою дочь.
33. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день тридцать второй.
Что же, сегодня я видела его. Лииена с горы Аль. И не могу сказать, что этот визит легко мне дался или принес хоть какую-то радость.
Гора Аль довольно странно выглядит сверху: город расположен лишь на одном склоне, другой же склон весь зарос лесом. Я постаралась над Альверденом не пролетать, я как-то не готова еще видеть этот город пустым и мертвым. Я приземлилась на поляне, откуда видна была университетская стена из красного кирпича, она возвышалась над деревьями, темно-красная граница — университета искусств, старейшего из альверденских университетов, и всего города. Лииен, насколько я помню, рос где-то неподалеку от города, но я немало поплутала, прежде чем отыскала его, причем два раза я прошла от него в метре, наверное. Он выглядел совсем как дерево. Стоял, раскинув свои корявые ветви, большие темные листья шевелило ветром, мимо проплывали клочья тумана, а он молчал и прикидывался деревом, не раскрывая ни глаз, ни рта и стараясь дышать потише. Наконец, до меня дошло, кто из этих деревьев лииен, и я остановилась перед ним — руки в боки, как любила стоять в детстве.
— Ты меня, наверное, не помнишь, — сказала я громко, чувствуя себя несколько глупо: ведь с деревом говорю, хоть бы глаз приоткрыл, а то я чувствую себя совсем уж идиоткой.
— Ты меня не помнишь, но я однажды была здесь с Элизой, женой Ториона. Это друг Царя-ворона, помнишь? Я тогда была маленькой….
И тут посреди ствола распахнулись два огромных глаза. Я сразу замолкла. Глаза у лииена были овальные, темно-синие, совершенно такие же, как у угрюмчиков, но размером каждый с мою голову.
— Маленькая девочка, которая стала большой девочкой? — скрипуче сказал лииен, — Я помню Элизу Идрад, а как же. Помню еще те времена, когда она носила шляпы и костюмы из зеленого бархата. Ей шли шляпы. Но тебя я не помню, нет.
— Меня зовут Ра, — сказала я неуверенно, — Я названная сестра Тэя, князя северных торонов.
— Ах, мифическая княжна Севера?… Нет, кхе, нет. Не помню.
— Склероз? — ляпнула я.
Дерево удивленно посмотрело на меня и зашумело листвой.
— Я вовсе и не стар, — заявил лииен скрипуче, — Ты такая невежливая, девочка, прямо как нынешний Царь-ворон. Он тоже думал, что если я помню еще первого Царя-изгнанника, то я старик. И вовсе не старик!
— Разве деревья живут так долго?
— Я не дерево, — пуще прежнего обиделся лииен.
Я прыснула. Дерево поскрипело и посмеялось вместе со мной.
— Значит, Ра? — отсмеявшись, сказал лииен, — Ра…. А она ведь тоже была Ра.
— Кто?
— Мария.
Я растерялась.
— Мне нравиться проводить параллели, — продолжал лииен задумчиво, даже без скрипа, — Цари-изгнанники и их жены.
— Я ему не жена, — сказала я тихо.
— А история не зеркало, девочка, — я вздрогнула при этих словах: похоже, долго еще у меня будет такая реакция на слово «зеркало», точно так же я вздрагивала, когда они только-только улетели. А лииен продолжал, — Нет, кхе, нет, совсем не зеркало. Но ведь ты не знаешь… что ты могла бы быть… не знаешь, что он хотел сделать… такой добрый…. Так она и сказала ему, дочь старого Идрада, ты ведь добрый, сказала она… и он отказался, но потом все же передумал…. Это она помешала, Идрады все были отчаянные, вот ее дед…. А ты ничего не знаешь, ничего….
Я молчала.
То, на что он намекал, было… невероятно. Невозможно. Невозможно.
— Этого не может быть, — быстро заговорила я, — Кэррон никогда не…
— Не любил тебя? Им любовь для этого не нужна. Просто нашел подходящего ребенка….
— Не может быть, — повторила я онемевшими губами.
— Разве Торион, потомок великого Корда, любил Элизу Идрад? Разве изгнанник любил Марию?
А перед моими глазами встало лицо Кэррона, худое, смуглое, усталое…. И он хотел…. Господи, господи, ведь он знал, как я тосковала по родителям, утешал меня, вытирал мои слезы, а сам хотел лишить меня семьи — навсегда? Да быть этого не может. Кэррон не способен на это, нет.
— Что же ты пришла сюда, Ра? Ты и сейчас можешь стать его женой, ведь тебя не оттолкнет то, что он изгнан, ведь тебе жаль его…
Я покачала головой. Воображение у меня не настолько богатое, чтобы хотя бы представить это.
— Зачем ты пришла, Ра? Хочешь знать, что с ним теперь?… Скоро, скоро ты его увидишь…. Ах, какой он дурак, твой не-муж, Ра, какой дурак! У нынешнего Царя воли-то побольше, чем у Кэррона, хоть я и предпочитал всегда его…
Мне страшно стало, пока я слушала этот скрип. Мне так стало страшно; незаметная тоска закралась в мое сердце и поселилась там, и тоска эта была пуще острого кинжала. И страх этот был пуще острого кинжала. Чего я боялась? — своего понимания, своих подозрений.
— У какого Царя?.. — сказала я хрипло, — Ведь они мертвы…. Ведь они же все мертвы!
— Здесь мертвы. Здесь, девочка. Но некоторых все еще манит та бездна, из которой они пришли сюда.
— Они мертвы!
— Ну, может, и мертвы, — неожиданно согласился лииен.
Может, и мертвы. А может…. Это предположение, само предположение…. Кто-то мог выжить, но даже это дерево не уверено…. Но они могли. Нет, я не верю, что кто-то из них мог бы спокойно наблюдать за происходящим, за полубезумными попытками своего бывшего Царя развязать войну, ту войну, которой они хотели.
Да-а, я и подумать не могла, что Кэррон собирался сделать меня…. Но вороны. Вороны, испокон веков похищавшие девочек…. И все-таки я выросла на Веге, а не в пустой каменной комнате в Серых горах. Все-таки он этого не сделал….
Подумать только, ведь я могла оказаться сейчас в роли Марии — жена Царя, изгнанного по той же причине. Ра из Серых гор — дубль два.
У меня тошно на душе. Я летела обратно и, кажется, плакала, я не помню точно. И почему, я тоже не знаю. Я чувствовала смутное разочарование…. Кэррон. Да, Кэррон. Мне отчего-то думалось, что он добрее и милосерднее, чем оказался на самом деле.
Я бы скорее стала женой Тэя. Если бы я могла выйти замуж за торона…. Ах, Кэр. А ведь ему нелегко, наверное, смотреть мне в глаза. Ведь у него совесть. Воронья совесть, конечно, не человеческая, но вообще-то он совестливый, я знаю. Ах, Кэр. Стоит ли обижаться — через столько лет — на несделанный поступок. Ах, Кэр!
34. Ра. Последний шанс.
Серы, как туман над Флоссой, камни этих стен. Серы, как туман и, может, оттого и кажутся призрачными в предрассветные глухие часы. Когда-то Элиза ненавидела эти стены, призрачные, как туман, холодные, как остывший труп, нерушимые, несокрушимые, ибо кто же будет крушить камень Серых гор — лишь время, ветер и дожди. Когда-то так было, но все чаще ловила она себя на мысли, что почти любуется их призрачной холодной красотой, что иногда и вся пестрая красота Альвердена кажется ей варварски кричащей. А здесь — холод и ветер в коридорах и комнатах, серый камень стен, ни гобеленов, ни драпировок, почти полное отсутствие мебели. Когда-то ей казалось: нет ничего тоскливее этой тюрьмы. Теперь она все чаще ловила себя на мысли, что считает эти стены — домом. И любуется.
Вороны любили свой дом. Вороны любили его таким, какой он был: серый камень, ветер и холод. И Элиза тоже почти уже любила — свой дом, свою тюрьму — Серые горы. Это чувство было незаметно — и непобедимо; когда, как оно зародилось? Только просыпаясь лунными ночами, любуешься на свет и тени, ложащиеся на камень стен, и не помнишь о красных особняках с белыми колоннами. Только выйдешь иногда на площадку Совета, а далеко внизу — уступы и пики, и редкие кустики с красноватой листвой, и ветер бушует и бьется меж древних скал. И кажется, нет ничего чище и совершеннее этой серой пустоты меж небом и зеленеющими предгорьями, что зелень и пестрота оскорбили бы глаз в этой каменной чистоте. Вот так-то, Элиза Идрад. Вот так-то.
Она еще не совсем любила их — эти горы. Но, возвращаясь сюда из поездок, неожиданно чувствовала, что глаза и сердце ее отдыхают, когда остаются позади пресловутые предгорья и чистота и древность первозданного камня берут свое. И когда заново открывала дверь в полупустую комнату, где жила — жила! — она с мужем своим, Элиза все чаще испытывала незаметное чувство облегчения. Дом. Дома. Она — дома. Как грызла ее тоска, стоило ей ступить на улицы Альвердена, но возвращалась она все равно — в Серые горы, и дело было не в Торионе, не совсем в Торионе. Просто жизнь ее была уже здесь, не там. Уже не там. Элиза Идрад умерла, хоть и долго пыталась встать из могилы — несчастная девочка. Элиза Идрад умерла.
Но сердце альверденской кокетки, озлобленной своей безвременной кончиной, еще билось. И не собиралась прощать. Никому.
Они так и не говорили после того, как девочка вернулась в Иллирийские леса. Кэррон почти не обращал на нее внимания. Впрочем, он ни на что не обращал внимания. Он стал мрачным и молчаливым, бывало, за весь день так и не произнесет ни слова. Элиза думала порой, что он становится совершенно неожиданно похожим на Ториона — в этой паре мрачность и молчаливость были именно по части ее мужа, у Царя-ворона нрав был легкий. Именно — был. Кэррон становился раздражительным, чего никто и представить раньше не мог — это было равносильно светопреставлению. Теперь же он огрызался по пустякам, так, что вороны стороной обходили своего повелителя. Элиза не понимала, что с ним, только на сердце ее было пусто и холодно, словно посреди жаркого лета ударили морозы. Ударили морозы, все робкие цветы ее сердца завяли, побитые холодом. И остается лишь обижено спрашивать: за что, что мы сделали, хрупкие ростки хрупкой привязанности, единственные цветочки тепла и ласки? Что мы сделали тебе, Царь-ворон, повелитель всего и даже цветов в сердце одинокой женщины? Но разве спросишь, разве наяву спросишь.
…Через десять дней это и случилось. Утро было раннее, и легкие полосы тумана стелились по воздуху, чуть подсвеченные восходящим солнцем. Торион собирался покинуть свою верную жену, она же сидела, сложив руки на коленях, и смиренно ждала этой минуты, слегка наклонив растрепанную со сна голову. Залетел в комнату ветер, прошелся по золотистым кудрям, завернул край шелковой простыни и удалился до лучших времен. Элиза поправила простыню, и в ту же минуту вошел тот, кто повелевал всем в этих горах — от мелких камешков до ветров и дождей. И само собой — всеми обитателями этих мест, не считая еще обитателей всей этой грешной планетки.
По всему видно было, что он недавно встал. Элиза поднялась, ощущая смутное беспокойство, ее мужа посетили совсем другие чувства. Царь-ворон был ему вместо младшего брата, а что будешь чувствовать, когда видишь младшего брата растрепанным и с заспанными глазами. Торион улыбнулся, отступая на шаг назад. Кэррон остановился между мужем и женой, тонкий, в черной рубашке с открытым воротом и черных штанах, заправленных в сапоги. Он был без плаща и без свободной верхней рубахи длинной до колен. В таком виде вороны разгуливали разве что по собственным покоям, редко кто выходил даже в коридор, не то что к соседям в гости. Лицо повелителя Алатороа было хмурым и усталым. "Лег под утро", — подумала Элиза, содрогаясь под его мрачным взглядом. Никогда она еще не видела его в таком настроении.
— Что-то ты непроспавшийся какой-то, — сказал Торион, указывая на кровать. Сесть в комнате все равно больше было некуда.
Кровать было широкая, под серым балдахином. Кэррон сел, подвернув под себя одну ногу, уперся рукой в колено. Спутанные волосы свесились на лицо.
— Что случилось? — робко спросила Элиза.
Кэррон поднял голову. Взгляд его, как ни странно, потеплел.
— Завтра я приведу Ра, — сказал он вдруг, — Подготовь все в моей комнате, Элли, будь добра.
А туман все плыл по комнате, за окном он был почти золотистым, цвета волос — не Элизы, нет, той, первой, давно умершей Ра. Словно призраком тянулась она к жене Ториона — тоненькая девочка с рассветно золотистыми волосами; она говорила: "Они не умеют любить, не могут любить, у них нет сердца, они всего лишь — вороны". Всего лишь вороны. Смертельно бледная, стояла Элиза, не слыша, о чем говорили вороны дальше. Опустив глаза, стояла она, и призрак той, о которой она даже не думала, все тянулся к ее сердцу — из глуби веков. "Они не умеют любить". Влюбленная девочка, она поняла это слишком поздно. Не умеют. "Не умеют, — как эхо металось в сердце Элизы, — Ведь он убьет ребенка, как он не понимает. Как все они не понимают". Если бы они еще относились к женщинам, как к вещи; бывает и такое на дальнем юге, среди безграмотных крестьян. Но ведь вороны были не таковы. И лишь изначально выбирать судьбу своим женщинам они — не позволяли.
И только когда Кэррон собрался уходить, она очнулась — на звук открываемой двери. Бросилось за ним. Но Торион поймал ее за руку, развернул к себе, пригибая ее кисть.
— Куда?! — почти прошипел он, — Ты слышала, что он сказал? Так делай это!
Слезы брызнули у нее из глаз. Кэррон ушел, шаги его затихли в коридоре. Торион усмехнулся и выпустил ее руку. Но сердце, сердце покойной Элизы Идрад билось и требовало — мести. К стыду своему потом Элиза поняла, что не о девочке она думала в тот момент — о себе, о жизни Элизы Идрад, так грубо оборванной, словно нить паутинки в лесу. И из глуби веков тянулась, тянулась к ней девочка с рассветно золотыми волосами, девочка, прожившая долгую жизнь и ставшая дряхлой старухой, напрочь утратившей память о голодном детстве в хижине на краю деревни. Девочка, попавшая в легенды, девочка, бывшая женой Царя; только не лучше бы было ей стать крестьянкой и выйти замуж не по любви, так хоть по приязни. Девочка, чьи мечты, чья любовь разбились — о каменное сердце ворона. Она тянулась, тянулась — через века, тянулась — и, видно, дотянулась-таки. Полосы тумана растаяли в холодном воздухе горного утра, и Элиза приняла решение — решение злобы и боли….
Эта женщина, молодая, тонкая, невероятно красивая и столь же печальная, произвела странное впечатление на Тимофея Александровича. Он видел ее раньше, но не разу не говорил с ней. Теперь же он думал — уж не безумна ли она, эта тоненькая женщина с серыми глазами? Вашу дочь хотят похитить, сказала она. Вам нужно улететь до ночи, иначе вашу дочь не спасет ничто, ни датчики, ни живая охрана. Только за пределами планеты он не сможет ее найти. Но она не сказала — кто.
Михайлов не обратил бы не это внимания. Но Анна была страшно встревожена, и к старту все было уже готово. Члены экипажа с пониманием отнеслись к страхам матери, и «Спутник» стартовал на сутки раньше.
Кэррон так и не простил этого Элизе. Ни разу больше она не чувствовала на себе его взгляд, лукавый и ласковый; больше ни разу он не назвал ее — Элли. Он говорил с ней иногда — холодно и ровно, так, что порой ей хотелось кричать. Так до самой смерти она не могла себе простить — того, что не смогла совладать с собой тогда; она любила девочку, но… жить без этой капли тепла было невыносимо. А он не простил.
35. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день тридцать четвертый.
Все это случилось два дня назад, но я плохо себя чувствовала и не могла писать.
Все началось вечером, в тот день, когда я летала на гору Аль. Накликала беду, думаю я теперь. Глупая мысль, но от нее не деться. Не мне ли, маленькой девочке, рассказывали когда-то долгими зимними вечерами у очага, что знакомство с лииенами не приносить счастья. Только в просвещенном Альвердене могли водить дружбу с говорящим деревом. А теперь я думаю: правда, сама и накликала беду. Все началось вечером, я сидела и писала, когда в коридоре промчались шаги и голос Стэнли закричал:
— Кристина!
Я оттолкнула от себя компьютер и бросилась из комнаты. Мы столкнулись на пороге. Я еще успела подумать, что вовсе не ожидала увидеть когда-нибудь Стэнли — бегущим. У него комплекция не та.
— Что? Стэнли, что?
— Пойдемте-ка со мной. Мне это все не нравиться. По чести, я не знаю, что с этим делать. Это ведь и ваша работа, так что пойдемте, вот и посмотрите….
— Да что случилось?
— Увидите, — пробормотал Стэнли. И потянул меня за собой. Он уже не бежал, но шел так стремительно, что я почти бежала, едва поспевая за ним. Мы вышли на трап, и я увидела множество людей, собравшихся у дверей миссии.
— Господи, Стэнли, что происходит?
— Там ваш приятель…. Его привели….
— Что? Кого?
— Ворона.
— Что? — крикнула я.
Я слетела с трапа, не чуя под собой ног. Я обогнала Стэнли и бежала так, так не бегала уже много-много месяцев. Последний раз мне пришлось бежать так на Коркусанте — наперегонки со снежной лавиной. Вот то был бег: и чувствуешь, что все, сил нет, что не сделаешь больше ни шага, а ноги сами несут тебя — все быстрее и быстрее. Я помню, я тогда, как добежала до безопасного места, так упала и потом долго не могла подняться, ноги подламывались, Костя Михайлов на руки взял и отнес, сама я бы так и не встала. Но то было хоть под горочку, а тут по ровному полю. Я сейчас чувствую — потянула-таки себе мышцы, хромать буду, не иначе. А тогда в меня словно бес вселился. Я так неслась, что не успела даже испугаться, не успела осознать свой испуг. Не успела подумать о том, что происходит и кто привел его. Кто — привел — Кэррона….
Я врезалась в толпу. Люди, стоявшие здесь, были обычные люди, жители Торже, и в середине, окруженный пустотой, словно они не смели приблизиться к нему, стоял Кэррон — на коленях, со связанными спереди руками и петлей на шее. Видно было, что его не привели, а приволокли сюда — весь он был в пыли и крови. Волосы его свисали на лицо слипшимися, серыми от пыли сосульками, а мне на миг показалось, что он поседел. Голова висела ниже плеч. И тут добежал Стэнли и схватил меня за плечи, а я и без того окаменела, не в силах сдвинуться с места. Но Стэнли был прав, конечно. Если бы я так не растерялась, я натворила бы дел, и священная ярость бы не понадобилась. Но Стэнли был прав, что остановил меня, хоть он и не о том думал; ведь виновата-то я сама, я сама — и Тэй. Это мы натравили на Кэра — кого бы мы там на него не натравили. Не зря люди не смели подойти к нему, не зря его волоком волочили сюда на веревке, руками боялись притронуться…. Но тогда я об этом не думала, я просто рассудок потеряла.
А он стол на коленях, опустив голову, тихий-тихий. Не шевелился. Рубаха его была без одного рукава и на спине разорвана, и хорошо видны были кровоподтеки, и свежие, и уже отливающие желтизной — сегодня его били не впервые. Штанины висели лохмотьями, и ноги были все черными от запекшейся крови. А я все не могла поверить в реальность — этого. Я видела такое — на Коркусанте, на Ламманте, на И-16, сама однажды избила человека до полусмерти, человека, не сделавшего мне ничего плохого — боевым шестом, с изворотами, с резкими выкриками. Единственный раз, когда я на ярмарочной площади показала свое умение. И меня даже не мучил стыд. Ведь не убила. А до того, на Коркусанте, сколько раз сама валялась в пыли, когда меня, неразумную девчонку, старик Ард брался учить бою на палках. На этой науке после и выехала на И-16, знала потому что, как повернуть запястье, чтобы ударить палкой в подбородок, привычно поворачивала в руках боевой шест. Потому и стала отшельницей священной ярости, а не девчонкой-поденщицей где-нибудь в столице края. Но никогда я не думала, что увижу Кэррона — вот так. Не на коленях, чего уж там, а в кровавых синяках, в лохмотьях, не прикрывающих избитое тело. Ведь почти раздет был, того, что осталось, не хватало, чтобы назвать его одетым.
Бургомистр Торже стоял у него за спиной.
— Его притащили лесные духи, — отрывисто сказал бургомистр в ответ на мой потерянный взгляд, — Бросили на рыночной площади. Он хотел идти на вас, так и решайте, что с ним делать. Мы отвезли бы его подальше от города, но, возможно, вы решите иначе. Не стоит мараться об изгнанника.
Люди стали расходиться. Кэррон не шевелился. Налетевший ветер тронул его волосы, на миг открыл грязное опухшее лицо. Глаза были закрыты. Я все стояла, скованная невесть чем. Никогда в жизни я не была еще настолько растерянна. Скоро площадь опустела, осталась только я, Стэнли за моей спиной, и Кун, стоявший в дверях миссии. Наконец, я сделала шаг, другой, упала на колени, дрожащими руками стала распутывать веревку, стягивающую его ободранные руки. Кэррон медленно, словно пьяный, приподнял голову, пряди грязных волос свесились на бок. Правая скула у него заплыла багровым, разбитые губы запеклись грязью. Он разлепил ресницы и посмотрел на меня пустым взглядом. Вот тогда я испугалась. Казалась бы, сколько раз сама получала по башке, могла бы уж понять, что к чему, но я перепугалась насмерть. Мне показалось — он сошел с ума. Впрочем, на его месте я сама давно бы свихнулась. Или, по крайней мере, пожелала бы себе этого.
— Да-а, — пробормотал Кун, — Я позову кого-нибудь из медиков.
— Не стоит, — сказала я.
Кун удивленно глянул на меня. И озлившись под этим взглядом, я сказала резко:
— Это же ворон! Чем наши медики ему помогут! Кое-кто считает, что они вообще всегда птицы, что это одна иллюзия!
— Довольно избитая иллюзия, — сказал Стэнли негромко, — Давайте его хоть внутрь отведем, а то не жарко.
Было, и правда, не жарко, ветерок прихватывал холодом. Нам-то что, а Кэррон был совсем раздет. Стэнли нагнулся к Кэррону. Тот плохо понимал, что он него хотели, а скорее — не понимал совсем. Стэнли едва удалось поставить Кэррона на ноги, он валился, словно тряпичный. Кун взялся помогать, так они вдвоем ворона и потащили, Кэррон висел на их плечах, и ноги его волочились по земле. Я, злая, пошла следом. Мне казалось, у меня получилось бы лучше, чем у этих двоих помогальщиков, хотя осуждать их сложно: Кэр ведь тоже не маленький, он ростом едва ли не выше Стэнли, хоть и не таких, конечно, объемов. Просто мой испуг сменился злостью, и эта злость была бесконечна, как космос. Это на Веге так говорят — про конфеты. Бесконечны как космос. Попадись мне сейчас файн на дороге, я убила бы, не помогли бы ему магия лесов и невероятное воинское мастерство, ничего бы не помогло. А кроме файнов, убивать было некого, разве что саму себя. В сущности, случилось и не самое страшное, подумаешь, бока намяли, заживет. Сам небось учился летать, не раз и не два расшибался об камни Серых гор едва не насмерть, а вот же, дожил до четырехсот с лишним лет. Лучше б не дожил! Но ведь, наверняка, расшибался, я ведь понимаю, он одаренный, но не с колыбели же он все умел. Откуда была это злоба, я не знаю. Не самое страшное…. Все-таки не самое. Могли и убить. Могли избить и бросить умирать где-нибудь в болоте, с них бы сталось. Да и в таком случае дополз бы — если бы только захотел доползти. Ворона убить не так легко, тот, первый изгнанник несколько месяцев прожил, погребенный в могиле, а потом еще год протянул — без еды, без воды. Ворона убить можно, только ткнув мечом ему в сердце, и то — попадешь ли, кто их знает, где у них сердце. Но мне все равно хотелось кого-нибудь убить: так просто и страшно. Не думала я, что когда-нибудь мне этого захочется — после И-16, после красных камней, на которых затухали ошметки тел. Тогда я — не своими руками, взрыв устроила, да и утомилась бы своими руками, слишком много их было. А здесь мне так хотелось в клочья кого-нибудь разорвать — руками. Или это совесть во мне заговорила? Ведь моя, моя была вина! Если бы Тэй видел Кэррона, кровь, взгляд этот пустой…. Впрочем, нет, об этом не надо. Я-то еще ему никто, так, а вот Кэррон, за Кэррона он бы — да зная, что сам всему виной…. До того ведь не было, чтобы тороны братались с кем-то из других народов, такова была их дружба, что не побоялись и этого. Тэй не побоялся, Кэр-то не боялся никого и ничего. И если б он увидел, что сделали с побратимом…. Ведь он отрекался от Кэррона не в глаза, если бы Кэр пришел к нему, Тэй не смог бы отвернуться, я точно знаю. И если б он теперь увидел… что натворил.
Кэррона дотащили до комнаты отдыха на первом этаже, усадили там на диван. Я только подошла к двери, когда Стэнли и Кун выходили. Стэнли придержал меня за руку и кивнул Куну. Тот пошел прочь.
— Что? — сказала я.
— Что вы собираетесь с ним делать, Кристина?
— Накормить его. Вымыть. Дать ему выспаться. Дальше рассказывать?
— Он развязал войну, Кристина.
— Война отменяется, — сказала я вяло, — Вы, что, не заметили, Стэнли?
— Три человека погибли. Но вам это, похоже, безразлично.
— Заткнитесь, Стэнли, — сказала я, — Будете меня оскорблять, напишу на вас рапорт. Если вы еще не поняли, что произошло, объясняю специально для вас. Тот, кто играл против нас, изгнанник. Об этом мало кто знал, теперь об этом знают все, и никто на этой планете больше не поддержит его…. А ваши люди умерли не по его вине, поверьте мне, Стэнли. Это файны, это их манера. И дело может быть даже не в нас. Просто зашли не туда, и все. Сами знаете…. И вообще, чего вы хотите? Заточить его в темницу?
Стэнли усмехнулся.
— Что за изгнание? — спросил он, помолчав, — Большое заклятье изгнания?
— Да, — сказала я.
— Не повезло.
— Он не хотел войны, — сказала я со слабым смехом, — Теперь, как видите, захотел. А я вот сделала такой ход… и его доставили… как посылочку… даже ленточкой перевязали. Но, знаете, Стэнли, если бы он на самом деле… захотел войны, все мы были бы уже мертвы. Раз, и все. Ладно, пойду я к ним.
— Он вам нравиться, да, Кристина? — сказал Стэнли мне в спину. Я снова повернулась к нему и прислонилась спиной к стене.
— Да, — сказала я, — он мне нравиться. Всегда нравился. А недавно я узнала, что он чуть-чуть не сделал меня своей женой.
Стэнли улыбнулся.
— Шутите?
— Нет, как ни странно. Я едва не обиделась, когда узнала. Так что терпите, Стэнли, раз уж я его терплю. По его милости я едва не выросла в Серых горах. Представляете в сравнении с Вегой?
— Да уж…. Вы уверены — насчет изгнания?
— Да. Я с самого первого дня знаю.
— Вы думаете, от наших медиков толка не будет?
— Не будет. Это ворон, Стэнли.
— Вы еще скажите, что этот парень иллюзия. Синяки у него вполне реальные. У него ведь, наверное, и переломы есть.
— Угу. Я слышала, кто-то из наших врачей пытался смотреть воронов на рентгене….
— И что?
— В архиве посмотрите, — сказала я, улыбаясь.
Когда я вошла, взгляд у Кэррона был уже более осмысленным. Я закрыла дверь и остановилась подле нее.
— Кэр…
Он не отреагировал. Я до боли сжала кулаки. Маленькие кулаки, острые, но тем вернее я могла засадить костяшками пальцев в глаз. Себе, что ли, попробовать?
— Кэр, ведь ты даже не сопротивлялся. Они били тебя, и ты даже не сопротивлялся. Не хотел бежать от них, так хоть бы не дал себя избить…. Кэррон!
Он посмотрел на меня — таким затравленным взглядом, что я задрожала.
— Я так устал, — сказал он хрипло.
Сердце мое сжалось. Он смотрел на меня, тихий, измученный, черными-черными глазами. Я любого бы убила из тех, кто хоть пальцем прикоснулся к нему. Я убила бы любого, кто хоть немного причастен был к этой истории, даже Тэя, попадись он мне тогда. Я готова была и с собой что-нибудь сделать, когда Кэр так смотрел на меня. "Я так устал". В глазах моих вскипали слезы, но они так и не пролились.
— Кэр, — только и смогла выговорить я.
А подойти не посмела. Хотя сейчас я думаю, надо было подойти. Обнять, посидеть рядом с ним, погладить волосы. Этого ему надо было, а не моих испуганных глаз. Если б я смогла хоть немного его приласкать, может, он бы…. А так он только смотрел на меня и хрипло говорил, словно бредил:
— Знаешь, — сказал он, и мне и сейчас кажется, что он не понимал, что говорит, не понимал даже, что хочет этого, — знаешь, деточка, иногда я ненавижу ее…. Эту планету… ненавижу… иногда я хочу, чтобы она исчезла… чтобы взорвалась и чтобы летели в космосе обломки…. Иногда я думаю, за что… мне… за что мне это… и не могу понять….Иногда мне хочется раскрутить ее в обратную сторону… как детский волчок…
— Кэр!
Взгляд его вдруг образумел, стал осмысленным.
— Прости, я что-то говорю не то, — сказал он быстрым шепотом, — Я не то… я устал, деточка, так устал, — он даже смог улыбнуться, и я едва не закричала от этой улыбки, — Я, как бы это сказать, пленник?
— Наверное, — сказала я, — Извини.
Он невесело усмехнулся.
— Мне все равно идти некуда. И извиняться тебе не за что.
— Есть за что, — сказала я с упрямством отчаяния.
— Нет. Ты думаешь, я не знаю? — и он так просто посмотрел мне в глаза, — Думаешь, я не знаю, что это Тэй… и ты? — я похолодела, — Что ты, деточка! Это ведь случайность, что никто не знал. Рано или поздно это бы выплыло. Не так уж трудно угадать изгнанника.
— Кэр…. Кто тебя бил, файны?
Кэррон облизал разбитые губы и покачал головой.
— Не лги, — зло сказала я, — Больше некому.
— Ты стала другой, деточка, — тихо отозвался он, — Ты стала… — и тут его голос вдруг так странно изменился, я даже не поняла, в чем была эта перемена, — Милая, — сказал он хрипло, так странно растянув это слово, — милая, что-то происходит.
— Что?
— Что-то происходит, Ра!
Я испуганно смотрела на него. Кэррон вскочил — так неожиданно легко, словно не его тащили сюда на своих плечах Стэнли и Кун.
— …Деточка, пусть только никто не подходит ко мне! Только пусть не подходят! Если жизнь дорога…
И только тогда я услышала крики на улице, и ощущение беды захлестнуло меня. Как кролики чувствуют землетрясение, так я почувствовала «Маракуйю».
Потом я узнала, что все это происходило в одно и то же время. В то самое время, когда мы перед дверьми миссии говорили с бургомистром, а потом вели Кэррона в здание, в это же время на звездолете «Маракуйя» (глупое название для звездолета, кстати сказать) произошло одновременно несколько поломок, которые привели к взрыву в центральном топливном отсеке. По данным бортовых компьютеров, единственному свидетельству трагедии, которое нам доступно, трое из пятнадцати членов экипажа погибли мгновенно. Остальным тоже досталось. Звездолет начал падать. Падал он, между прочим, на космодром, и неизбежный взрыв должен был уничтожить все вокруг. И Торже тоже.
Кэррон не побежал, конечно, вряд ли он был в состоянии бегать, но добрался он до выхода довольно быстро и почти без моей помощи. На улице были уже все работники миссии. «Маракуйю» было уже видно, она падала, объятая пламенем. Прекрасное зрелище, очень драматичное. Стояла полнейшая тишина, все, как завороженные, глядели в небо, задрав головы. Кэр пошел в сторону, отогнав меня. Остановился, и видно стало, что ему рано еще было вставать на ноги. Он качался, едва удерживаясь на ногах. «Маракуйя» была уже настолько низко, что виден был ее искореженный силуэт. Падала она боком — тонкая стрела, странно вмятая посредине.
А потом — так медленно и тихо, словно в кино — падение ее приостановилось. Звездолет выпрямился и так плавно опустился на поле космодрома — собственный пилот не смог бы посадить «Маракуйю» аккуратнее.
"Мне иногда хочется раскрутить ее в обратную сторону…".
Это был бы акт бессмысленной злобы, все равно, как если бы ребенок растоптал и разорвал книжку с картинками, потому что обиделся на мать. Раскрутить планету в обратную сторону…. Но вместо этого он спас Торже, землян и «Маракуйю».
Я стояла, вся дрожа, и думала: чувствуют ли все остальные? Чувствуют ли, как наэлектризован воздух? Чувствуют или нет? Я оглянулась.
Кэррон стоял, полураздетый, избитый, весь в крови и грязи, жалкий и страшный, и кровь лилась у него из носа — буквально хлестала. Он еще стоял, качался, но стоял. А потом голова его запрокинулась, подогнулись колени, и он мягко повалился на бетонную поверхность. Я, честно говоря, подумала: он умер. И бросилась к нему, совершенно не соображая, что делаю. Но я не добежала. Метрах в пяти от него я упала в обморок.
Я пролежала без сознания двенадцать часов. Подозреваю, что я еще легко отделалась. Если бы я была рядом с ним, то, наверное, умерла бы. Не раз и не два вспомнила я о почерневшем дереве в Угорских холмах, о круге, словно выжженном вокруг Кэррона. Вот что была бы со мной, если бы я стояла рядом. И мне, к стыду моему, страшно; я радуюсь, что не подошла к нему. И почти не радуюсь тому, что попыталась подойти, хотя, наверное, именно это спасло ему жизнь. Все-таки какую-то часть энергии он от меня взял, не зря же я свалилась так. Без этого Кэр, наверное, умер бы. Только я думаю, не лучше бы было, если бы он умер. Хотя меня так страшит его смерть, но ему самому было бы лучше. Господи, о чем я думаю!
Я очнулась в одной из комнат на втором этаже миссии. Лежала, укрытая одеялом. Солнечные зайчики были на стене, на обоях в желтенький цветочек. Одежда моя висела аккуратно на стуле возле кровати. Я повернулась на бок, оглядывая комнату: она была маленькая и узкая, как пенал. Что-то мешало мне, что-то постороннее, я высвободила из-под одеяла руку, посмотрела: на запястье была укреплена маленькая коробочка капельницы. Терпеть эту ерунду не могу! Я ее сняла и положила на стул.
Я лежала, а в голове моей было пусто-пусто, я почти слышала, как там гуляет ветер. Примерно через полчаса ко мне пришел Стэнли.
— Где Кэррон? — спросила я, как только он открыл дверь.
— В медицинском отсеке. Он еще не приходил в себя.
Я села на кровати.
— Лежите, Кристина, — сказал Стэнли, — Он никуда не денется.
— Но он жив?
— Жив, — сказал Стэнли, — Дышит.
Я вздохнула, провела рукой по спутанным волосам.
— А что звездолет?
Стэнли рассказал мне. Про то, как произошла авария, про то, что зафиксировали бортовые компьютеры, про личные ощущения экипажа. И про то, что сейчас нет ни малейшего следа разыгравшейся трагедии. Все живы и здоровы. Внутри звездолета нет и царапины. И топливные баки абсолютно пусты.
И слушая все это, я подумала: как бы Кэр и в самом деле не раскрутил Алатороа в обратную сторону. В здравом уме он не сделает этого, но в здравом уме он бы этого и не сказал. Если он помешается…. Сил у него не так много, но…. Сумасшедший маг? Упаси нас боже от этого. Сил у него не так много, но что-нибудь подлинно глобальное он еще может устроить нам — на прощание.
К Кэррону я смогла зайти только сегодня. До того ноги меня не держали. Только тогда, когда я первый раз попыталась встать и молча повалилась на кровать лицом вниз, я поняла, сколько же он из меня вычерпал. И в первый раз испугалась, поняла, что не умерла, может быть, чудом. Сегодня я уже смогла сама дойти до медицинского отсека.
Он лежал, как мертвый, — на кровати, до подбородка накрытый белой простыней. Кровать была медицинская, высокая. Я пододвинула табурет, села и, подперев кулаком щеку, стала смотреть на него. Лицо его заострилось, щеки запали. Я подумала еще, что от него остался один профиль. Чисто вымытые волосы лежали на подушке. На умытом лице слишком отчетливо видны были сине-желтые синяки. Губы у него были такие белые, что широкий рот был похож на шрам.
Я просто сидела и смотрела на него. Я уже ничего не чувствовала. Я просто думала: выживет ли он? и не сойдет ли в самом деле с ума? Я нашла под простыней его холодную руку и сжала ее — и ничего не почувствовала. Он выложился до конца, выложился без остатка, и, может быть, лишь мое вмешательство спасло его. Мое дурацкое вмешательство. Ведь говорили тебе, идиотка: не подходи близко.
— Кэр, — сказала я еле слышно, — Кэр, милый. Пожалуйста, просыпайся.
Но он, конечно, не проснулся.
— Не умирай, — сказала я тихонько, — Не умирай, милый. Тошно мне что-то, Кэр. Как-то мне так тошно…. Кэр, милый, проснись…. Мне не надо было прилетать сюда. Я ведь не хотела сюда возвращаться, не хотела. Знала, что будет. А теперь я не смогу улететь. Она держит меня, Кэр, мое сердце в ее руках. А я-то думала, что я умею себя контролировать… вторая категория, как никак.
Потом я немного поплакала, совсем немного. К тому времени, как Кэррон пришел в себя, я уже успела успокоиться. Он открыл глаза, посмотрел на меня и снова закрыл. Я вытерла еще не высохшие слезы свободной рукой.
— Много времени… прошло? — спросил он хрипло.
— Два дня.
Белые губы слегка улыбнулись.
— Кэр, — сказала я тихо, — Кэр.
— Ты плакала, что ли?
— Угу.
— Из-за меня?..
— Да…
Он улыбнулся — с закрытыми глазами. Я едва снова не расплакалась.
— Деточка….
— Я здесь, здесь.
— А ведь ты меня спасла.
— А ты, похоже, не рад.
— Не знаю, — пробормотал он.
Я погладила его холодные пальцы.
— Тебе… сильно досталось, детка?.. Ты такая бледная….
— На себя бы посмотрел, — сказала я. Я все-таки не выдержала и заплакала. Кэррон открыл глаза. Ничего не сказал, просто лежал и смотрел, как я плачу. Иногда в нем прорывается что-то такое странное, что я даже не знаю, как к этому относиться. Это взгляд, например, которым он смотрел на меня тогда. Казалось, он доволен, что я плачу. Или мне это просто показалось, я не знаю. Белые его губы шевельнулись, он хотел что-то сказать мне, но не успел. Дверь открылась, и вошел Стэнли. Если Кэррон и собирался что-то говорить, то передумал.
Стэнли заулыбался, когда увидел Кэррона. Улыбка была почти искренней, но на мой вкус все же не совсем.
— Пришел в себя? — сказала Стэнли, склоняясь надо мной, — Это хорошо. Возможно, тебе интересно, что с экипажем того звездолета все в порядке.
— Я знаю, — сказал Кэррон хрипло.
Стэнли отошел к кону и отдернул белые шторы, впуская в комнату солнечных зайчиков.
— Наши врачи ничем не смогли тебе помочь, к сожалению. Но я рад, что ты все же пришел в себя. Ты ведь нас спас, хотя я не знаю, хотел ли….
Кэррон снова улыбнулся. Стэнли, слава богу, не видел этой улыбки, он как раз открыл окно и выглянул наружу. Иначе бы он задумался, стоит ли хоть немного проявлять свою доброжелательность, и хотел ли спаси нас Кэррон. Я думаю, что все же не хотел, просто не успел еще научиться равнодушно смотреть на чужую беду, слишком привык всего себя отдавать, лишь бы только не случилось чего. Прав был лииен с горы Аль, ох, как прав. Кэру все казалось, что он несет ответственность за эту землю. Эта земля отреклась от него, а он все старался оградить ее от бед.
— Я думаю, немного свежего воздуха вам не повредит, — сказал Стэнли, отходя от окна, — Ночью был дождь.
Я поразилась. Мы были на втором этаже: не так уж и высоко, чтобы спрыгнуть отчаянному человеку. Если Стэнли и не привык еще к двойственной природе воронов (а ведь открыть дверцу в клетке — все равно, что своими руками выпустить птицу на волю), то мог бы хоть подумать о том, что здесь совсем не высоко. Умеючи даже ног не подвернешь, спрыгнешь и дальше побежишь. Ах, доктор археологии!
Кэррон сжал мою руку. Пожатие было довольно слабым, я подумала: а сможет ли он — лететь? Ведь сил у него, похоже, совсем нет.
— Я всегда буду на твоей стороне, — сказала я тихо.
— Не думаю… — откликнулся он, — Но не вини меня ни в чем, деточка. Я прошу, не вини.
Я, в общем-то, не успела даже его увидеть. Ветер ударил мне в лицо, хлопанье крыльев пронеслось над моей головой. И все.
Стэнли издал какой-то звук. Тут я не выдержала и расхохоталась, закрыв лицо руками.
— Кристина! Вы что, да у вас истерика! Кристина!
Стэнли встряхнул меня за плечи. Вытирая тыльной стороной ладони выступившие слезы, я простонала сквозь смех:
— Вы сами…. Стэнли, вы же сами его выпустили!
— Я не подумал, — сказал Стэнли смущенно.
— Ну, и слава богу.
— Слава богу?
— Стэнли, — сказала я, — он спас вам жизнь. А вы, что, хотели сделать из него пленника? Вам не стыдно?
— Могу я задать вам вопрос? — сказал он серьезно, — Вы не боитесь, Кристина, что он с тем же успехом решит обрушить нам на головы один из стоящих здесь звездолетов? Что вы тогда будете делать, Кристина? Ведь ему это так же просто, как махнуть рукой.
— Не так, — сказала я неохотно, — он двое суток пролежал без сознания, вы, что, не заметили? Но если он захочет что-то сделать, остановить его не сможет никто. У вас ведь не поднимется рука на убийство? Или как?
— Я не хочу, чтобы гибли мои люди.
— Ублюдок, — сказала я ровным голосом.
— Кристина!
— И я, — сказала я все так же ровно, — Я тоже, но у этого слова нет женского рода. Если он проявит агрессивность, я пойду против него. Смогу я опередит его или нет, это уже детали. Оставьте эту проблему мне, Стэнли, — говорила я, — Это моя проблема.
И пока я говорила это, я и впрямь почувствовала себя ублюдком женского рода.
Не вини меня ни в чем, сказал Кэррон. Не вини. Значит, будет, в чем? Или он думает, что уже есть? Все это так ужасно. Ведь я люблю его. И все равно я буду делать свою работу.
Я запуталась. Я знаю, что у меня не хватит сил улететь отсюда. Я не смогу расстаться с этим воздухом, с этим светом, с этими деревьями и травами. С Кэрроном. Я люблю эту планету всем сердцем.
Сюда я хотела бы возвращаться хоть иногда. Хоть иногда.
36. Ра. Воспоминание.
Тьма. Бесконечная тьма была в его душе — очень долгое время. Он не помнил тех дней, что были после изгнания, не помнил очень многого и не думал, что память о тех днях когда-нибудь вернется к нему.
Он начал приходить в себя в Иллирийских лесах. Каким путаным зигзагом пролегал его путь сюда от Серых гор — вне рассудка, вне сознания? Забился в старую нору, словно раненное животное, ничего не помня, ничего не понимая. И очень долго он лежал там, много дней и ночей — той холодной весной. Он не мог думать, его мысли болели так, словно по обожженной коже проводят небрежной рукой. Его измученное сознание опустело, и казалось, опустело навсегда.
В норе было сухо и душно. Воздух был пропитан землей. Все было пропитано землей, сухой, колючей, жесткой землей.
Если бы он смог заснуть! — но сон не шел к нему.
Ему было холодно. Теперь ему всегда было холодно, так холодно.
Почему этот образ вернулся к нему, почему именно о ней он думал, об этой девочке, которую он хотел когда-то сделать своей женой? Это и по вороньим меркам было не вчера, и он давно уже не вспоминал ее, но сейчас он цеплялся за этот образ, не желая окончательно сойти с ума, словно безумие не было для него наилучшим выходом.
Он лежал, скорчившись, на сухой земле и думал — о ней. Он не помнил ее лица — как странно. Впрочем, сейчас он не мог вспомнить и лица тех, с кем прожил рядом не одну сотню лет. Он помнил только глаза ее, темные, блестящие, круглые. Смутно помнил, как она смеялась, как легки были ее прикосновения. Он вспоминал и не мог вспомнить, пытался воскресить ее в своей памяти — час за часом, день за днем.
Местами еще не сошел снег, когда изгнанник впервые смог выползти из норы. Он дополз только до такого снежника и уткнулся в него разбитым лицом. Лицо его все запеклось кровью, и она испачкала снег — не красными, а отчего-то темными пятнами. Холод измучил его, но это ледяное прикосновение было приятно. И он лежал, прижимаясь к снегу лицом, и думал о Ра. О том, что она уже выросла и давно забыла обо всем. О том, как едва не сломал ей жизнь. А за всеми этими путанными бредовыми мыслями вставал тот ребенок, невинный и веселый, темноволосый, темноглазый, ласковый ребенок, и он смотрел на изгнанника, смотрел, смотрел.
Тихо было в лесу той весной. Не пели птицы. Звери испуганно пробегали мимо, не смея подойти, принюхаться. Из талой земли не желали всходить ростки ранних трав. Казалось, изгнанник все затягивал с собой — в тот омут, в который медленно проваливался. Только один полуседой лис остановился, замер и подошел, робея, готовый отпрыгнуть и убежать. Изгнанник лежал, не шевелясь. От него веяло чернотой, которая была даже страшнее заклятья, отгонявшего живое. Лис понюхал спутанные волосы лежавшего — не человек, странно. Лис был стар и сед, но никогда еще не встречал воронов. Осмелев, он понюхал еще.
— Ра….
Хриплый, скрипучий голос, словно его обладатель не говорил миллионы лет. Лежавший приподнял голову. Лис прыгнул в сторону, но не убежал. Склонив голову, посмотрел на лежавшего. Глаза у того были черные, безумные, измученные. Пустые — он не видел ни палых листьев, ни мокрой земли, ни голых ветвей. Не видел испуганного зверя, стоявшего перед ним. Если он и видел что-то, то лишь доступное ему одному.
— Ра…. - позвал он снова.
Никто ему не ответил. Лис посмотрел на него, посмотрел и побежал свой дорогой. Изгнанник опустил голову. Дыхание его было неровным, и сердце то билось, то замирало. Голос его затих, словно дальнее эхо в горах.
— Ра…
37. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день тридцать шестой.
Мне, вероятно, придется задержаться здесь на какое-то время. Неизвестно, что теперь предпримет Кэррон. Конфликт еще не исчерпан, хотя здесь остался всего один агрессор. Старейшины Лориндола заверили Стэнли в полной мирности намерений файнов. Пока сорты (к ним причисляются и земляне) не пересекают границ тайных владений файнов, никто не пострадает. Что ж, лориндольцы поступили разумно. Никто не хочет, чтобы горы Лоравэйа постигла та же участь, что и Серые горы, никто не хочет, чтобы сожжена была Бесконечная роща.
Между тем «Весна» улетает отсюда через два дня, и мне нужно переселяться куда-то. Стэнли предложил мне дом на окраине Торже. В этом доме жили до сих пор Робертсоны, муж и жена, они улетают на «Весне». Маленький такой одноэтажный домик с небольшим двором и кустами рамарии под окнами. Таких домов несколько в Торже, они построены специально для работников миссии, и внутри они достаточно современны, с системой водоснабжения, с информаторием и всем прочим. Домик совсем маленький, там есть кухня, комната и ванная. И все. Но, наверное, я соглашусь. Приятно будет пожить в собственном домике.
О Кэрроне нет никаких вестей. Где он и что с ним, я не знаю. Я беспокоюсь о нем. Мне жаль, что он сбежал, он мог бы хоть немного отдохнуть здесь.
Делать мне пока нечего. Конфликт погас, не успев даже по-настоящему разгореться, но это не моя заслуга. Просто обстоятельства так сложились. Но делать мне сейчас действительно нечего, для координатора работы здесь уже нет. Я написала и отправила рапорт, но ответа пока не получила. Возможно, скоро мне придется улететь отсюда, но пока об этом думать я не хочу. Не могу.
38. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день тридцать восьмой.
Мне кажется, что ничто и никогда я не любила так, как эту планету. Мне так спокойно здесь! Долгими летними вечерами, когда нет еще сумерек, но уже прохладно, я выхожу на крыльцо, сажусь и смотрю. Сегодня на улице тихо, только дома за два от меня кто-то поет. А так — обычные звуки. Изредка слышны разговоры и совершенно особый звук, когда вода из лейки льется на широкие листья огурцов, за много метров его ни с чем не спутаешь; звяканье ведра доноситься иногда. Сегодня тихо, а обычно по вечерам с визгом бегают дети. В конце улицы живет семья, в которой много детей разного возраста. Только сегодня все они куда-то делись.
Здесь самая окраина города, через пять домов улица обрывается в небольшой лесок. На самом деле это не лес, а так, урема вокруг маленького озерца. Раньше, говорят, туда ходили полоскать белье, но теперь озеро мелеет и превращается в болото. Хотя из крайних домов и сейчас туда ходят.
А у меня здесь тупик. За моим домом прорыта канава, по которой течет вода из довольно широкой в здешних местах Торжи; километрах в пяти выше по течению в нее впадает Сунжа. Так что наша улица — это пять домов по одну сторону и пять по другую, всего десять. Правда, тот дом, что напротив меня через улицу, это даже не дом, а сущая развалюха, даже без окон. Забора там нет; маленький огородик, совсем запущенный, а у самой дороги стоит клок высоких степных трав. Когда дует ветер, они очень романтично шелестят! Я подозреваю, что хозяева этих хором живут где-то в другом месте, они появляются иногда, делают то-то на огороде, но никогда в этой хижине даже не ночуют. Нашу улицу за дом от меня пересекает другая улица, так и выходит, что у нашей улицы две части: та, что из шести домов, довольно хорошо обжита, а мой край — напротив. Здесь и дороги-то никакой нет, все заросло травой — спорышем и костром, лишь до колодца (у моих соседей наискосок) протоптана тропинка, сюда вся улица ходит за водой.
На нашей части улицы живу только я одна, хотя два дома здесь стоят очень неплохие.
Боже мой, какие долгие здесь вечера! Уже холодает. Ночи все холодные, время уж идет к осени. Наступил уже о-си — последний месяц лета.
Когда я садилась писать, прямо напротив меня висел бледный месяц, или скорее половинка луны. Теперь он скрылся от меня за углом дома. Уже совсем свежо. Сейчас даже не сумерки, а словно легкая, совершенно незаметная дымка. Так бывает холодным осенним утром, это конденсат висит в воздухе. Такой туман-подросток.
Господи, как безумно пахнет трава у моего дома. За дом от меня, наискосок, на углу стоит сухое дерево. Только что на него села сорока. Здесь, кажется, почти нет земных птиц, только воробьи, голуби, соловьи и сороки. И вороны. В смысле, те, что женского рода, не черные, а серые с черными крыльями.
Красивая птица сорока. Вообще, я люблю больших птиц — я только сейчас это заметила. У сороки расцветка красивая. Жалко, она не трещала, эта сорока. Когда сорока трещит, она всегда расправляет крылья и хвост — черно-белые веера, — будто у нее трещание спрятано в них. Чем-то она становиться похожа на этих игрушечных птичек, которых делают из сложенной гармошкой бумаги. Но сорока только посидела тихонько и улетела.
На востоке небо отчего-то светлее, чем над домом. Здесь оно глубоко-синее, именно не голубое, как днем, а синего, ближе даже к фиолетовому, прозрачного и глубокого оттенка. А у восточного края оно белесо-серо-синеватое, такого цвета оно бывает и перед рассветом, когда уже довольно светло, но красного на небе еще нет. На западе сейчас, наверное, закат, но я его не вижу, мне дом загораживает. Мой дом, кстати сказать. Так даже лучше, не очень-то я люблю закаты. Хотя мне вспоминается один случай.
Странно, ведь я только сейчас это вспомнила, а это было здесь, в Торже. Не знаю, почему, но тороны ночевали в городе, в гостинице, в какой-то из тех, что стоят на базарной площади. Вечером мы почему-то стояли на улице и смотрели на закат. Был Тэй, я и Гарди, это побратим Тэя среди торонов. Был такой алый закат, по небу плыли плотные белые облака, похожие на клочья ваты или скорее на взбитые сливки. Именно на такие облака смотрят, когда пытаются вообразить себе на небе зайцев или бегемотов. И мы тоже занимались почти этим, только мы не искали сходства, а просто дурачились, называя облака именами своих знакомых и придумывая про эти облака глупые истории.
А ведь и впрямь туман! Я вижу его, хоть он почти и не заметен, только крыши дальних домов купаются в нем. В небе примешался сероватый оттенок, совсем уже холодно, я пойду в дом. Да и сумерки, темно уже писать.
Интересно, летом сумерки как-то не заметны. В воздухе только что-то сгущается, а, кажется, он прозрачен, как днем.
Совсем стало тихо, только все так же поют, как пели, там, наверное, что-то празднуют.
Наверное, уже пала роса. Господи, как же я улечу отсюда? С писком летают какие-то птицы. И запаха травы уже почти не чувствуется, замерз запах. В холод запахи всегда меньше ощущаются. И нос у меня замерз. И ноги. В траве стрекочет кузнечик. И еще один — за домом, заливается. Вообще-то, это уж, наверное, ночь, хотя еще светло. Писать темно, а так — все видно. Далеко кто-то жжет костер, и дым поднимается прямо вверх и рассеивается маленькой тучей. Завтра будет холодно. А, может, и не будет. Надо идти спать, а я не могу уйти с крыльца. Ведь скоро этого ничего не будет! Как-то глупо тратить время на сон, когда этого времени остается все меньше.
39. Ра. Ворон во тьме.
Он не помнил того, что случилось. Мелькали какие-то обрывки, искаженное страданием лицо Ториона, его голос, произносивший какие-то слова. И еще боль. Это он помнил. Боль. И холод. И вкус крови. Это он помнил хорошо, слишком хорошо. Помнил, как били по лицу; кто, зачем — этого память не сохранила, но каждый удар он помнил. Потом опрокинули навзничь. Его били цепью — потом он удивлялся, почему не осталось шрамов, а их действительно почти не осталось, только на спине и на левом бедре. Иногда он жалел, что не помнит, а иногда ему делалось страшно, если в памяти всплывало хоть что-то. Страшно это было, очень страшно.
В сущности, он был не более мягкосердечен, чем другие. Элли всегда отличалась склонностью к преувеличениям, а никто, кроме нее, не называл его — добрым. Вороны всегда питали почтение к жизни, ведь их всегда было так мало. А сколько нужно было лет, чтобы взрастить ворона! Оттого-то и появились Большое и малое заклятья изгнания. Соплеменников вороны не убивали никогда, даже в ту пору своего существования, когда еще не осели на Алатороа. Представителей других народов — тоже не убивали. Мня себя превосходящими всех прочих, не видели особой доблести в убийстве меньших. И он был вовсе не мягкосердечнее остальных. И память ему застилал не страх, а боль. И даже не физическая, хотя после именно это и было тяжелее всего. Большое заклятье изгнания наполовину умертвило его душу, и умирание это было так страшно, что память не сохранила его.
А он был вовсе не мягкосердечнее остальных. И он удивился бы, если бы узнал, что Торион плакал над его избитым телом и просил, хотя бы пока не поправиться, не гнать его из Серых гор. Ториону его изгнание далось тяжелее, чем ему самому. Торион не смог бы жить этой тяжестью на душе, ведь он-то помнил все, и каждый удар — был удар по его сердцу.
Шел третий час после изгнания, когда оглушенный Торион пришел снова на площадку Совета. На камнях еще видна была кровь, Торион вздрогнул, отходя в сторону. Присев на валун над самым обрывом, Торион закрыл глаза. Эти два часа с небольшим он не жил — переживал произошедшее, минута за минутой, и никак не мог вырваться из этого заколдованного круга. Вот Кэррон поднимается на площадку Совета. Вот двое сбивают его с ног, хватают за руки, Кэррон не понимает еще, рука его не потянулась к Жезлу, а потом было уже поздно. Вороны никогда не интересовались воинским искусством, никто даже не носил оружия. Кэррон мог бы отбиться от одного, двоих, может быть, троих — не от той толпы, что навалилась на него. Его били молча, били по голове, чтобы лишить сознания, ибо так проще было бы читать заклятье: все помнили, на кого покушаются. Потом отошли от бесчувственного тела. На камнях расплывалась кровь. И вдруг Кэррон шевельнулся, приподнял растрепанную голову — и засвистела цепь, в обычное время огораживающая площадку со стороны детских пещер. А потом его поставили на колени и держали с двух сторон, чтобы не падал. С черных лохмотьев щедро капала кровь. Глаза Кэррона были закрыты, голова запрокидывалась назад, но сознания он больше не терял. Все знали, что он слышит каждое слово. Не знали только, понимает ли. Понял ли он вообще, что произошло?.. Торион читал заклятье и не верил в то, что читает его — над Кэро. Впрочем, трудно было поверить и в то, что это Кэро стоял перед ним на коленях. И сколько крови! Торион застонал, вспоминая. Сколько крови! А потом изгнанника вывели в предгорья и бросили там. И вот уже третий час его палач бродил, не в силах оставаться на месте, и вспоминал, вспоминал. Какое страшное, распухшее, неузнаваемое было лицо у Кэррона. Как содранная кожа висела — словно ткань изорванной рубахи. Как белела среди красных и черных лохмотьев торчащая наружу кость перебитой ноги. И сколько крови! Торион молил судьбу, чтобы изгнанник изошел кровью и умер. Умер раньше, чем его палач. Ибо Торион не желал больше жить.
Он сидел над обрывом и смотрел вниз. Не легко утопиться умеющему плавать. Не легко птице разбиться о скалы. Не легко смириться с собственной подлостью. Он облизал пересохшие губы, подумал о жене — и не смог вспомнить ее лица. Перед глазами все стояло распухшее, неузнаваемое лицо Кэррона. И тогда он шагнул вниз, и в этот же миг на Серые горы обрушился ад. Ториону не суждено было узнать, сумел бы он удержать привычные к полету крылья, не перевоплотиться, смог бы он пасть на камни в человеческом обличье. Единственному из всех, гибель Серых гор принесла ему почти счастье.
Почти. Ибо ворона нелегко было убить, даже если этот ворон сам звал к себе смерть. После гибели Серых гор одновременно пришли они в себя — изгнанник и его некогда лучший друг. И долго еще не могли осознать случившееся, но Ториону было горше, ибо разум изгнанника плыл, разваливаясь на части, и не скоро еще Кэррон по-настоящему понял, что же произошло.
40. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день тридцать девятый.
Моя дурацкая сентиментальность дошла до того, что я решилась слетать в Альверден. Если мне придется в скором времени улететь отсюда, то я хочу, по крайней мере, увидеть Альверден. Хоть он и превратился теперь в город с привидениями, я все равно хотела увидеться с ним.
Раньше я не видела Альверден с высоты и сейчас описывала на глайдере круг за кругом, разглядывая город. Это город явно планировался, а не случился внезапно. На самой вершине горы расположен университет искусств с башенками и кружевными железными мостами. Город спускался по склону вниз — извилистые улицы с красными особняками, мелькнула круглая крыша театра, за ним начиналась территория университета магии. Шли дома, все больше пяти-шестиэтажные, с затейливыми башенками и флюгерами, лектории и театры с круглыми крышами, общественные школы с поникшими гербовыми флагами. Я смотрела на этот город и все вспоминала Элизу, мою Элизу, черные одежды, золотистые волосы, нежное лицо. Она таскала меня по всему городу и говорила, говорила, забывая, что я и половины не могу понять. И я ничего не запомнила из ее рассказов, запомнилось мне только ее оживленное лицо и тоска, застывшая в серых глазах. Элиза улыбалась, а в глазах ее стыла тоска. Вот это я запомнила хорошо.
Я приземлилась в университетском саду. На ветках висели капли оседающего тумана. Я брела по спиралью завивающейся дорожке из красного камня, потом сошла с нее и пошла прямо по земле. Среди кустов садовой рамарии и земных кленов я набрела неожиданно на поляну, заросшую веганскими розами. Мелкие сиреневые цветы еще не раскрылись. И странно, я вдруг ощутила тоску по Веге. Никогда я не скучала по этой планете. Я ведь ни разу не была там со дня окончания школы и как-то даже не испытывала этого желания. Мне нравиться Вега, всегда нравилась, но вернуться туда я не хотела. Никогда не скучала по Веге, ей-богу, а сейчас, глядя на маленькие бутончики сиреневых веганских роз, я ощутила буквально кожей, как же я давно не была там. Веганские розочки. Да-а….
Я не хотела заходить в здания, боялась наткнуться на мертвые тела. Таких воспоминаний об Альвердене мне не нужно было, спасибо. Но, наткнувшись на круглое здание книгохранилища, я все-таки зашла. Мертвое тело там все-таки было. Одно, у самого входа. Я обошла его стороной, стараясь не смотреть. Координаторов иногда считают чуть ли не профессиональными убийцами, но я не люблю смотреть на мертвых.
Хранилище было большое, а я поторопилась уйти подальше, и запах разложения остался позади. Вокруг был только запах книжной пыли. Я бродила среди стеллажей. Совершенно бездумно вытаскивала то одну книгу, то другую. Рукописные страницы пахли чернилами и пылью. Свет моего фонаря, укрепленного на поясе, рассеивался в глубине помещения — словно глубоко под водой.
Это чудо, что я наткнулась на эту рукопись, потому что я ничего не искала, просто разглядывала инкрустированные серебром переплеты и миниатюры среди текста. Я сняла этот томик с полки, рассеяно полистала: то ли дневниковые записи, то ли хозяйственные, все вперемешку, списки больных, тексты молитв и рядом описания погоды. Я захлопнула было книгу, но взгляд мой зацепился за слова «Царь-изгнанник», и сердце оборвалось. Я раскрыла книгу снова, дрожащими руками перелистала страницы. Когда я нашла и прочитала, то…. Не знаю. Не знаю.
Я забрала рукопись с собой. Ведь это первое упоминание о нем, историческое упоминание, до сих пор он был известен только по легенде о Марии. Лишь вороны знали точно, существовал ли он на самом деле, только для них два тысячелетия не срок. Но они предпочли забыть о нем. Наверняка, именно они позаботились о том, что всякое упоминание о нем исчезло из официальных хроник. А ведь он был некогда Царем-вороном, одни государственные визиты должны были оставить немалый след в летописях. Но не было ничего, не мы, сами жители Алатороа тоже ничего не знали о нем, не знали даже, был ли он когда-нибудь на самом деле, или история его жены была лишь выдумкой, сказкой. Но уничтожали записи не сразу, ведь была война; уничтожали, наверное, лет через десять, тогда эта рукопись еще спокойненько лежала в Дарсинге, в архивах Храма. Сюда же она попала, наверное, лишь спустя век или два. И вот его имя, которое должно было быть забыто…. Вот его имя. Имя его жены вошло в легенды, его же — было похоронено. Казалось, навечно. Но вот — оно.
Когда я читала, я плакала. Я думала о втором Царе-изгнаннике. Кэру надо это увидеть, правда, я боюсь, он…. не знаю, не будет ли ему….
Гулять по Альвердену мне расхотелось. Я вернулась и все перечитываю, пытаясь понять, отчего мне так не нравиться он. Дорн. Почему-то я всегда ассоциировала их в одно лицо, а здесь… ничего общего, похоже, нет. Я не смогла бы поверить, что это может быть написано про Кэррона. Ничего общего. И — красив. "Некогда он был очень красив". Почему-то я зацепилась именно за эту фразу. Кэррона никто не назвал бы красивым и в более счастливые периоды его жизни. Не знаю, что будет с ним, когда он увидит это.
41. Из записей Ары Синг, служительницы Света в деревне Дарсинг, округ Альвердена.
…Это странный случай. Я хотела умолчать о нем, но нынче передумала. Молчать я не могу, хоть это и всего лишь случайность, то, что царственная чета посетила нашу деревню по пути в никуда. Конечно, обнародовать это сейчас неразумно, война все продолжается, и не видно ей конца, но в архивы Храма не заглянет никто, кроме меня, или ж других служителей Света, буде они здесь случаться.
Произошли описываемые мной события на другой день после праздника Весны. Праздник был не столь пышен, сколь в мирные годы, торговля с Поозерьем давно прекратилась, и зима нынешняя была на редкость голодной. Много в деревне беженцев, и они все пребывают. Я лечу их, и на этом потребность во мне кончается. Если в первые дни войны люди просили молиться о скором мире, то сейчас они скорее склонны слать проклятия. Все озлоблены. Доходят до Дарсинга и слухи о том, что в Поозерье убивают служителей Света.
Женщину эту я встретила ранним утром. Я развешивала белье во дворе, за Храмом, когда увидела ее. Это была невысокая тоненькая женщина в черном оборванном платье. Она шла, оскальзываясь, по глинистой деревенской улице, приближаясь ко мне. Босые ее ноги были в грязи. Она была светловолоса, крайне молода и похожа на беженку. И не похожа, в то же время.
Меня привлекло ее лицо, болезненно худое, бледное, но очень милое. У нее был немного вздернутый нос, высокий лоб, тонкая линия бровей над большими серыми глазами, широкий улыбчивый рот. Это было лицо ребенка, но взгляд этой удивительной женщины был полон такого достоинства и такой безмятежности, будто не по грязной улице шла она в жалких лохмотьях, а по собственному королевству.
Я подошла к забору и окликнула ее, не в силах справиться с собственным любопытством. Она остановилась рядом с забором.
— Вы издалека? — спросила я. Вблизи она выглядела очаровательно — как дитя; я разглядела несколько бледных веснушек на ее вздернутом носу.
— Из Поозерья, — отвечала она, — Все бегут от войны.
— Давно вы пришли в Дарсинг?
— Вчера.
— Ведь вы еще не заходили в Храм? Мне кажется, я вас не видела.
— Я… — она неуверенно окинула взглядом здание Храма за моей спиной, — Нет, еще нет.
— Как вас зовут?
— Мария.
— Тоже Ра…. Может быть, вы зайдете в Храм сейчас? Меня зовут Ара, я здешняя служительница.
Она осторожно пожала мою протянутую руку, но покачала головой.
— Возле реки меня ждет муж.
— Почему бы вам ни привести его тоже?
— Я не могу…. Да он и не согласиться. Я действительно не могу, простите.
— Почему?
— Мой муж… он… он не человек.
— Да, я понимаю, — сказала я как можно мягче, — Но Храм Света рад каждому, и я тоже. Пойдемте, сходим за ним вместе, я поговорю с ним.
Мне показалось, что она обрадовалась. К реке мы шли в молчании, поглядывая друг на друга. Что-то удивительно чистое, светлое было в ее облике; про таких говорят — "лучик Света".
Мы вышли на берег, и с мокрого песка навстречу нам поднялся высокий худой мужчина в грязных лохмотьях. Черные волосы его были неровно острижены, глаза тоже были черные. Что-то неправильное было в его глазах, но, только подойдя ближе, я поняла, что это ворон. Невольно я оглянулась на его жену: бедное дитя!
Он окинул он нас угрюмым взглядом. Его жена сникла, как только мы вышли на берег, она похожа стала на потерявшегося ребенка.
— Дорн, — позвала она тихо.
При звуках ее голоса его лицо неуловимо изменилось, выразило вдруг злобу. Он опустил свои нереальные глаза и подошел к жене. Сейчас, закрывая глаза, я снова вижу их рядом на песчаном пляже, на фоне розовеющего неба, и картина сия странно тревожит мое сердце. Сейчас, когда я знаю, кто они, мне печально думать о них, ибо сия супружеская пара достойна сожаления едва ли не большего, чем все жертвы нынешней войны. Судьба этой пары поистине печальна.
Я так и вижу их, и сейчас понимаю, что мало счастия выпало им: в эту годину испытаний любовь не поддерживала их. Немало я видела семей, где любовь дарила силы, эти же были каждый сам по себе. Может быть, думать так вдвойне кощунственно. Боясь, что так и есть, но, прикоснувшись к этой тайне высших мира сего, я не желаю отказываться от нее. Мне жаль их обоих, каждому из них по своему нелегко, и если молитвы мои могут помочь, я буду молиться за них.
Мария осторожно взяла мужа за руку. Казалось, она страшилась его недовольства, но он лишь взглянул на нее и перевел взгляд на меня. И так тяжел и злобен был его взгляд, что, давно уж ничего не боявшаяся, я смутилась и испугалась.
— Я служительница Света, — сказала я, пытаясь улыбнуться, — Я хотела пригласить вас в Храм, вы могли бы отдохнуть там немного. Там вы будете в безопасности, — прибавила я неуверенно.
— Должно быть, вы сошли с ума, — отрывисто сказал ворон, — Или вы не знаете, кто мы? — и, повернувшись к жене, он бросил зло, — Так скажи ей.
Мария умоляюще глянула на меня.
— Храм Света открыт для всех, — сказала я.
И только сказав эти слова, я неожиданно вспомнила их. Я ведь видела их обоих лет пять назад в Альвердене и тоже во время праздника Весны. Не вызывает удивления тот факт, что я не узнала их сразу, год изгнания страшным образом отразился на внешности Царя. Некогда, я помню, он был невероятно красив, нынче же от красоты этой не осталось и следа. Жена же его тогда, пять лет назад, была еще ребенком. Я поистине была смущена и огорчена этим открытием, дать им приют было столь же опасно, как и приютить на груди скорпиона, но я уже пригласила их. Да и не могла я отступить лишь потому, что мои гости так ненавидимы в народе, им и так нелегко, так кому же помочь им, как ни служителю Света. И все же, не стану скрывать сей прискорбный факт, мне было страшно. Приютить изгнанника….
— Дорн, прошу тебя, — очень тихо сказала Мария.
Он взглянул на нее.
— Иди одна.
— Дорн, прошу, тебе нужно отдохнуть…. Дорн….
Во взгляде его мелькнуло пламя злобы, однако ж он больше не сказал не слова. Безропотно он пошел за нами, и скоро я убедилось в том, что сил у него почти нет. Шел он с трудом, бедная девочка поддерживала его, как могла, я же не решилась предложить им свою помощь. Как ни прискорбно это, но я боялась даже дотронуться до него — из странного, суеверного чувства: мне чудилось, что он может заразить меня своей бедою.
В Храме же появления изгнанника сопроводилось событием поистине ужасающим. Мы вошли в Храм с южного входа, через небольшую дверь недалеко от алтаря. И в миг в полутемном помещении Храма стало совсем темно. Погас Огонь Света. Он погас на моих глазах: оранжево-красный священный огонек неожиданно окрасился голубым, стал уменьшаться и, наконец, превратился в струйку дыма. Кажется, я закричала, но события последующих минут не сохранились в моей памяти, как ни стараюсь я вспомнить, усилия мои не награждаются успехом. Следующее, что вплывает в моей памяти: изгнанник, лежащий на полу. Голова его покоилась на коленах жены, беспомощно смотрело на меня это дитя.
— Ах, — сказала она, — Это наша вина, но не пугайтесь. В его присутствии гаснет любой огонь, — она усмехнулась столь горько, что сердце мое защемило, — трава вянет, руки выходят из берегов. Он — изгнанник.
Дальнейшее не заслуживает внимательного описания. Могу сказать лишь только, что изгнанник очень истощен, и вряд ли ему осталось много, к зиме, боюсь, он умрет. Они провели здесь ночь и ушли на рассвете. Никакие травы и отвары не помогли бы ему, хотя я, с привычкой врачевателя, все же осмотрела Дорна. Жалость моя была столь велика, что я предложила им остаться здесь. Увы, он был непреклонен. Я не решилась высказать свой главный аргумент, мне хотелось, чтобы хоть последние месяцы своей жизни он повел не в бессмысленных скитаниях и мог бы умереть не в придорожной канаве, а в чистой постели. Ведь он и мой Царь тоже………………………………
42. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день сороковой.
За все лето не было ни одного дождя. Там, где земля свободна от травяного покрова, она растрескалась глубокими неровными трещинами. Я такого никогда не видела, только в пустынях на Ламманте. Бывают такие места, где весной разливаются озера, а летом высохшее глинистое дно растрескивается неровными многоугольниками, там их зовут тенгерами. Вчера я слышала, как переговаривались две женщины на краю нашей улицы. Они говорили через забор, весь заросший плетями фасоли и дикого винограда; та, что стояла внутри ограды, была седая, коротко стриженная, в выцветшем платье с голубыми цветочками. Другая остановилась на дороге с большой корзиной в руках, она была не старая еще, толстая, со светлыми кудрями. У нее был необычайно громогласный голос, будто ей много и часто приходиться говорить на публику; впрочем, встречаются такие горластые бабы, у которых это не иначе как с самого рождения. Сначала я не слышала, о чем они говорили, а потом эта громогласная разошлась.
— Поливали вчера. Лью воду, лью! Она же как в прорву! А земля все равно сухая, лей, не лей.
— Дождей-то нет, вот и сухая.
— И ведь сохнет все! — продолжала громогласная, — Смородина у меня вся желтая стоит, картошка у всех, говорят, повысохла.
Временами я чувствую такое одиночество. Я выхожу на крыльцо и смотрю на тихую улицу, на невысокие кривые яблони и заросшие травою огороды, и чувствую себя так, как будто меня уже чего-то лишили, будто я уже отсюда уехала.
Как быстро все заволокло облаками! Минут десять назад небо было почти ясно, лишь солнце скрывалось за сквозистым туманным облаком, а теперь видны лишь голубые просветы меж белых и синеватых размытых облаков. Душно и тепло. Надеюсь, будет дождь, да только непохоже. Я уже столько раз обманывалась: кажется, вот он пойдет, и ветер задул словно к дождю, и вроде тучи набежали, а потом смотришь — снова солнце и ни единой тучки.
У соседей, у тех, что развалюха, на пустой незасеянной грядке воробьи затеяли возню, а потом вдруг с писком взлетели все вместе, и оказалось, что там их целая стая. Потом пролетела сорока, тяжело села на крышу этой развалюхи, крытую дранкой, походила и принялась чесать за ухом — ну, там, где у всех ухо. Смешно, птицы делают это совсем как собаки. Собаки задней лапой через переднюю дотягиваются и треплют себя за ухом; птица так же, крыло расправит, лапкой — через него и чешет голову. У меня когда-то, еще в школе, в интернате, был попугайчик, так что на птичьи повадки я насмотрелась. Смешно только смотреть, когда сорока, большая и важная, делает это так же, как маленький домашний попугай.
Пролетела с тяжелым хлопаньем — словно мокрая простыня на ветру — еще одна сорока. Я думала, она сядет к первой: нет, не села. Плавно пролетела над крышей, спланировала на ту сторону канавы и села на чей-то сарай.
Все это довольно странно, но, в общем-то, правдиво: мы любуемся, любим, понимаем лишь то, что нам знакомо. Так с лесами и долинами, так с домами — одно дело, если это просто какой-то дом, и совсем другое, если ты в этом доме играл ребенком. Так и с людьми. Только в первый момент знакомства мы оцениваем их беспристрастно и неприятно поражаемся их некрасивости, резкому голосу или дурным манерам; после же, когда хорошо узнаешь этого человека, начинаешь судить его лишь по его поступкам, по его отношению к тебе и общей своей приязни или неприязни. Так и с животными. Сначала у меня была собака. То есть она была не совсем моя, а моей подруги, но все равно. И я любила и понимала всех собак, птицы же для меня просто были птицами. Как бы это сказать? В них не было души, для меня они были неодушевленными; правда, есть одно но…. Я бесконечно всегда любила следить за птичьим полетом, какое-то невероятное величие чудилось мне в этом. А потом у меня завелся попугайчик. И скоро я поймала себя на том, что наблюдаю за всеми птицами, подмечаю их повадки и вообще — люблю. Вот так.
43. Из сборника космофольклора под редакцией М. Каверина. Песня файнов.
Золото ветвей твоих…
Постой.
Как сегодня ветер тих
С тобой.
На пригорке, где сквозь листья —
Мягкий свет
Я лежу и слышу тихий
Твой ответ.
Среди ломких трав осенних —
Тишина.
Под твоей волшебной сенью —
Я одна.
Лишь метель ветвей твоих
Со мной.
Вот и ветер к ночи стих,
Родной.
44. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день сорок второй.
Я не думала, что это когда-нибудь случиться. Я не верила. Я и до сих пор не могу поверить в то, что Кэррон пошел на это.
День сегодня был пасмурный. Был, потому что уже ночь. Все произошло утром, а я до сих пор не могу прийти в себя. Я чувствую себя так, словно меня хорошенько приложили по голове.
Рост агрессивности был зафиксирован на рассвете. Разбудили и меня. Вся проблема была в том, что рост агрессивности наблюдался в Торже. Еще было темно, только на востоке небо серело. На борту «Аси» все были взбудоражены, я вышла на трап, чтобы не слушать эти нервные споры. Я еще не проснулась как следует, и холодный рассветный воздух был мне приятен. Светало.
Все было призрачно и тихо вокруг. Я стояла, облокотившись на перила, и не думала ни о чем. Нос у меня мерз, и руки мерзли, и я думала: жаль, что я не курю, самый был момент для того, чтобы закурить. Свет восходящего солнца стыл в воздухе.
И вдруг я увидела его. Он стоял всего в десяти метрах от меня. Было уже достаточно светло. Он просто стоял и смотрел на меня. Глаза черные-черные, лицо грязное, усталое, бледное. Волосы были заправлены за уши, только одна прядь свешивалась на лицо.
— Ра, — сказал он негромко, — Уходи. Я дам тебе время, уходи.
Я смотрела на него и ничего не говорила. Какой-то ступор нашел на меня. А у него дернулась щека, и он потянулся рукой, потер щеку.
— Уходи, прошу тебя.
И тут я очнулась, наконец. До меня, наконец, дошло, зачем он пришел. И я ужаснулась. Я метнулась назад, в звездолет, закричала на бегу:
— Маркус! Излучатели! Маркус!
Ничего больше мне почему-то в голову не пришло, да ничто другое Кэррона бы не остановило. Пол дрогнул под моими ногами и накренился. Я ударилась об угол, упала, вскочила снова и, слегка прихрамывая, побежала дальше. Я слышала какой-то грохот, но мне некогда было думать о том, что произошло. Я влетела в рубку и, оттолкнув дежурного, схватилась руками за пульт. Звездолет перекосило.
Я ударила кулаком по кнопке активизации гамма-излучения, другой рукой переключила связь на всеобщую.
— Излучатели! — кричала я, — Включите излучатели! — а потом что-то полузабытое всплыло в моей памяти, и я выдала, — Код-3! Говорит «Ася»! Код-3!
Это потом, уже ближе к обеду, ко мне подошел один из пилотов и объяснил, что систему цифровых кодов отменили примерно в то время, когда я поступала в университет. А в ответ я сказала, что все равно меня поняли и излучатели включили, так что нечего ко мне цепляться. Грубить, конечно, повода не было, но я была вся на нервах. Я и сейчас на нервах.
Я этого не видела сама, а видела потом на видеозаписи внешних камер наблюдения: Кэррон пытался взлететь, но попал в поле гамма-излучения и рухнул на землю — уже в человеческом обличье. Следующее я уже видела, потому что выбежала на улицу. Я едва не свалилась, потому что трап был как-то перекошен. Уже потом я поняла, что Кэррон ударил по трапу, и лишь чудом меня не задело волной. Если бы мои ноги не были так проворны, я была бы уже мертва. И я не могу в это поверить. Я не могу в это поверить.
Когда я выбежала, Кэррон катался по бетону, зажимая голову руками. Я слетела с трапа, не чуя ног под собой, и бросилась к нему. Я сама включила излучатели «Аси», но когда я увидела, как он извивается от боли, все соображения политики, безопасности и прочие потеряли всякий смысл для меня. Я понимала только, что ему больно…. Я и не думала, что могу настолько перестать соображать.
Я не успела добежать. Я не видела, откуда они появились, не сразу поняла, когда они вдруг стали возникать — словно из воздуха. Я не понимала тогда, кто они. Они просто появились и окружили Кэррона. Теперь я думаю, что излучатели все-таки кто-то отключил, иначе они не смогли бы явиться так величественно.
Их было восемь. Высокие, черноволосые, в черных одеждах. Я была в пяти примерно метрах, когда поняла, кто они, и свалилась на землю. У меня просто ноги подкосились. В буквальном смысле.
В тот момент я никого из них не узнавала. Я, в общем-то, больше смотрела на Кэррона, чем на них. Я почти физически ощущала его боль и смятение.
Он стоял на коленях, глядя на них снизу. Они были такие, как всегда, такие, какими я запомнила их, а Кэррон стоял на коленях, в грязных лохмотьях, и лицо его было серым. Грязным. И серым, мертвенно серым.
Сцена была ужасная и в то же время какая-то будничная. Я просмотрела несколько раз видеозапись, прежде чем поняла, что говорил — Торион: каждый раз я не могла оторвать взгляда от лица Кэррона и нормально рассмотреть остальных. Лицо у него было такое мертвое, оно не выражало ничего — просто восковый слепок с некогда живого лица, только взгляд этот снизу вверх, блуждавший по их лицам — от одного к другому, показался мне затравленным.
Я была меньше чем в пяти метрах от них, но я не слышала того, что говорилось. Я видела только, как менялось лицо Кэррона, его поза. Как его плечи сгибались, и лицо еще больше мертвело. Кончилось тем, что он совсем опустил голову, волосы свесились вниз, он сгорбился, едва не падая, и я видела, что его бьет дрожь.
Потом, на пленке, я услышала, что ему говорили. Потом увидела, кто говорил, узнала суховатое правильное лицо Ториона, точно такое же, как в тот день в Альвердене, когда я впервые увидела его. А потом, когда я смотрела эту чертову пленку, наверное, в десятый раз, я увидела на его поясе — Жезл Тысячелетий, знак Царя. Ублюдок. Я же знала, что это ты, Торион, ублюдок, что ты хотел его изгнания. Я знала. Так же, как знала и знаю, что ты, ворон семисот с лишним лет, бил свою жену. Мне было шесть лет, но я и тогда в ее взгляде сумела увидеть это. И я знаю, что ты хотел изгнания Кэррона, что все дело-то было — во власти.
— Ты нарушил свой собственный запрет, — сказал Торион, — Ты развязал войну и предал сам себя. Ты предал и тех, кого повел за собой, скрыв свою сущность. А сущность твоя — изгой. Своим прикосновением ты посмел осквернить ничего не подозревающий мир. И за это ты вновь услышишь слова изгнания.
Он помолчал немного, потоп продолжал нараспев:
— Ничья тень да не падет на тебя….
Кэррон выслушал все до конца. Пряча лицо. Потом они расступились, разрывая кольцо, и он взлетел. И тогда, сидя на бетонной поверхности взлетного поля, я смотрела, как черная птица летит в сером небе, и думала о том, как… взгляни на любую птицу — как величественен ее полет! И я смотрела, как он летит — в сером небе, большая черная птица, и как этот полет был прекрасен — о, сердце мое! А перед глазами моими все стояла его помертвевшее серое лицо.
Я до сих пор не могу прийти в себя, понять, подумать здраво. Их осталось восемь. Восемь, которых не было на планете. Из их не совсем понятный речей я уловила только, что Торион в тот момент был в Серых горах и спася чудом. Почему они до сих пор не объявились? Торион что-то говорил об этом, но я не помню. Вряд ли я внимательно его слушала. Я была слишком занята: я уговаривала себя не вцепиться ему в лицо. Он никогда мне особенно не нравился, но теперь я его просто ненавидела. Он смог сделать это дважды. Он смог сделать это — дважды. Мне хотелось крикнуть ему это в лицо. Правда, для этого мне пришлось бы подпрыгивать, ведь я ему и до плеча не достаю.
Я не знаю, что теперь будет с Кэрроном, и боюсь, так боюсь. Не знаю, имеет ли значение то, что оно прочитано дважды, это заклятье. Практическое значение, я имею в виду. Для Кэра-то имеет. Его не страх так корежил там — унижение. Его поверженного — еще раз пнуть. Ах, Торион, какая же ты все-таки тварь. Но я боюсь, вдруг это что-то значит, вдруг это не символическое… что, если будет еще хуже, чем теперь? Что оно значит — изгнание, так сказать, в квадрате?
Не знаю, смогу ли я найти его. У меня сегодня голова будто набита ватой. Я не представляю, где он теперь может быть. Я не хочу, чтобы он сейчас был один, но мне его не найти, конечно. А он уже двенадцать часов где-то — один.
Одного я не могу понять — почему он не знал? Почему Кэр не знал, что кто-то остался в живых? Или их разум тоже закрыт от него — так же, как от него шарахается трава и вода? Что же мне делать…
45. Из сборника космофольклора под редакцией М. Каверина. Литературная обработка Э. Саровской. Сказания южного континента. Жалость врага.
По кустарнику, через бурелом, распугивая птиц и мелких зверюшек. Объятый золотом лес метался в такт безумной скачке. Конь Охотника еще возле обоза получил стрелу в бок и сейчас хрипел, дотягивая из последних сил, подгоняемый волей своего хозяина. Наконец он споткнулся передними ногами и рухнул на бок, придавив всадника. Шлем слетел с головы Охотника, и золотистые длинные кудри ореолом легли на траву вокруг бледного лица. Женщина.
Карг остановился, и на миг противники замерли, глядя друг на друга.
Она — та, что звалась в миру Эсса Дарринг — тцаль двенадцатого отряда Охотников, она проклинала все на свете. Ей нельзя было вмешиваться в схватку. Она должна была думать теперь не только о себе, но и о той жизни, что в себе носила. Поэтому она и ехала — от Границы, возвращаясь к своим родным: чтобы в безопасности выносить и родить. Но банды Каргов иногда забираются довольно далеко от Черной речки; и когда на рассвете они напали на обоз, обогнавший ее на тракте, она сразу почувствовала присутствие Каргов, поняла, что происходит, и — рванулась вперед. Не думая ни о чем, повинуясь лишь своему предназначению.
Сейчас, придавленная собственным конем, она смотрела в алые глаза Карга и ждала смертельного удара, немного приподнявшись на локтях. Совершенно нереального оттенка золотистые кудри рассыпались по плечам, бледное тонкое лицо было поднято к Каргу, и серые глаза смотрели на него — не отрываясь. Но лицо ее, нежное, совсем еще детское, было спокойно, да и мысли были спокойны. Она была — тцаль, она сожалела о своей глупости и только, но умирать она не боялась, даже напротив. Она чувствовала в своем противнике превосходящую силу (он был, пожалуй, хонг или веклинг, а то и дарсай), и ей было приятно, что она умрет от руки достойного противника.
Карг не шевелился. Выражения его лица не было видно, шлем оставлял открытыми только алые глаза и узкие губы, нос был скрыт полоской металла. Кривя губы, Карг разглядывал тоненькую фигуру тцаля. Потом спешился и, подойдя к ней, опустился рядом на колени. Рука его в кожаной перчатке легла на еще плоский живот.
Вокруг было страшно тихо. Где-то далеко позади остался обоз, крики и шум боя. Здесь на опушке, среди зарослей шиповника и ежевики, они были наедине — изначальные враги, Карг и Охотник.
"Дарсай, не меньше, — мелькнула у нее мысль, — веклинг не смог бы почувствовать мою беременность." Мелькнула и погасла. Молодая женщина, почти не дыша, смотрела на Карга. Сейчас, вблизи она видела, что темно-зеленый плащ его сильно потрепан, кольчужная рубаха тусклая, металлические кольца кое-где смяты. Уголок его рта пересекал тонкий шрам.
Узкие губы Карга искривила странная усмешка. Он похлопал рукой по ее животу, легко поднялся и пошел к своему коню. Не оглядываясь, вскочил в седло и уехал.
Девушка уронила голову в траву и посмотрела в небо — бледное, с рванными клочьями облаков. Она была страшно растеряна. Он пощадил ее — почему? Это было так странно…
А вокруг стоял ясный сентябрьский день, и раззолоченный лес шумел под порывами ветра. И было очень тихо, только всхрапывал иногда умирающий конь.
46. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день пятидесятый.
Что ж, скоро я улетаю. Конечно, ради меня не пошлют с планеты исследовательский звездолет, время координаторов ведь стоит недорого, так что я жду.
Конечно, я не нашла его. Планета велика. Вороны могли бы разыскать Кэррона, но просить об этом я не решилась. Торион все еще здесь, в Торже, еще здесь Дрого и еще один, которого я не знаю. Где остальные, я тоже не знаю. Но все, как бы это сказать, наладилось. У планеты есть правитель. К землянам он лоялен. И он официально заверил Стэнли, что Кэррон больше не опасен, что соединенная воля воронов в любом случае нейтрализует его. Алатороа открыта для контакта. Все кончилось. Я улетаю.
Я не представляю, где он. Восемь дней. Я боюсь, что он умирает.
….Смерть. Сколько я себя помню в детстве, я обожала всякие романтические истории с налетом трагизма — о любви, смерти и прочей дребедени. Потом я училась в университете, потом на курсах координаторов, но я не знала жизни и никогда не видела ее. Единственным проблеском знания было воспоминание о моей Элизе. Вот и все, что я знала тогда, когда впервые услышала о случившемся с Карпенко. Я была тогда на последнем курсе, девочка, почти всю сознательную жизнь прожившая в интернате, не видевшая ничего, не понимавшая ничего. И тогда я не понимала еще той истории, просто вспоминала этого зеленоглазого сумрачного парня и даже не жалела, а только удивлялась тому, что я знаю человека, с которым произошла такая трагедия. А потом я попала на Ламмант.
Я люблю вспоминать И-16, но Ламмант я вспоминать не люблю. Хоть и втайне горжусь тем, что я была там и прошла через это. Мне было очень больно это столкновение с реальностью, с жизнью, и потому воспоминания о моем первом задании у меня остались тягостные. Обстоятельства моей работы там показались бы тяжелы даже опытному координатору, не то что мне с моей пятой степенью. Но к пониманию смерти меня подтолкнул один случай, совершенно незначительный в сравнении со всеми остальными событиями. Это было так, в общем-то, неважно. Раз в деревне, в которой я ночевала, умирала старуха. Была ночь, в избе был пьяный сын соседки, и еще две соседки сидели у постели умирающей. Я устала за день и уснула как убитая. Среди ночи я пробудилась и, выглянув с печи, застала эту сцену; никто не увидел, что я проснулась и смотрю на них. Пьяный мужик, растрепанный, в слезах и соплях, нависал над умирающей старухой и говорил и не мог выговорить:
— П-пшла ты… да пошла ты…
Одна соседка хватала его за руки и старалась оттащить от кровати.
— Отойди, умирает же мать! Да дай же матери умереть спокойно!
И тогда я вдруг поняла, что вот, прямо сейчас, на моих глазах — умирает человек. Что этот переход от бытия к небытию совершается прямо сейчас. Я, в общем-то, не боюсь и никогда не боялась смерти, своей смерти, но она всегда виделась мне далекой, а тут я увидела смерть близко. Дело было не в страхе, а в том, что я впервые так приблизилась к этому явлению, впервые прикоснулась к нему. Это было так же, как впервые — не знаю — встать на ноги, впервые понять что-то очень сложное, до того ускользавшее от твоего понимания. До того мне приходилось видеть мертвых, и они, кстати сказать, не произвели на меня никакого впечатления: восковая кукла и все, не имеющая никакого отношения к человеку. А вот тогда, той ночью, я увидела впервые смерть, а не ее результат, увидела умирание.
Кажется, все мы понимаем, что есть смерть, но это не так. Умозрительно — да. Ты был, и тебя не станет. Но как она угасает, эта душа! Не важно, что с ней становиться потом, это уже не касается живых, но как же тихо и странно она уходит. Человек кончается, как вода из крана — струйка все тоньше, она запинается, разрывается на капли и, наконец, иссякает. Вот так.
Смерти я и сейчас не боюсь. Вообще, если задуматься, большинство людей не бояться смерти; старики часто говорят: "пора уж умирать" или "поскорей бы умереть", — и откладывают деньги на похороны, готовят какие-то платочки, мыло на поминки. Своя смерть вещь не страшная, ее ведь не избежать. А вот смерть другого….
Я болтаю, болтаю — о чем? Только бы немного отвлечься, иначе я, наверное, сойду с ума. Ведь он совершенно один сейчас, один. Я даже представить не могу, что с ним теперь, как он…. господи, как же это страшно — ждать чьей-то смерти.
А ведь я уже думала, что он мертв, и потом, смерть его все равно близка была, ведь он изгнан, но сейчас, кажется, я сама умру, если он….
47. Из сборника космофольклора под редакцией М. Каверина. Сектор первый, Земля. Семь принцев-воронов. (Братья Гримм).
Было у одного человека семеро сыновей и ни одной дочки, а ему очень хотелось ее иметь. Вот, наконец, жена подала ему добрую надежду, что будет у них дитя; и родилась у них девочка. Радость была большая; но дитя оказалось хилое и маленькое, так что пришлось его крестить раньше срока. Послал отец одного из мальчиков к роднику принести поскорее воды для крещения; шестеро остальных побежало вслед за ним — каждому из них хотелось первому набрать воды, — вот и упал кувшин в колодец. И они стояли и не знали, что им теперь делать, и никто не решался вернуться домой. Отец ждал их, ждал, а они все не возвращались, потерял он, наконец, терпенье и говорит:
— Пожалуй, гадкие мальчишки опять заигрались, а про дело забыли.
И он стал опасаться, что девочка помрет некрещеной, и с досады крикнул:
— А чтоб вас всех в воронов обратило!
Только вымолвил он эти слова, вдруг слышит над головой шум крыльев. Глянул он вверх, видит — кружат над ним семеро черных как смоль воронов. И не могли отец с матерью снять своего заклятья, и как они ни горевали об утрате своих семерых сыновей, но все же мало-помалу утешились, глядючи на свою любимую дочку. Она вскоре подросла, окрепла и с каждым днем становилась все красивей и красивей. Долгое время она не знала, что были у нее братья, — отец и мать избегали говорить ей об этом. Но вот однажды она случайно от людей услыхала, как те говорили, что девочка-де и вправду хороша, да виновата в несчастье своих семерых братьев. Услыхав об этом, она сильно запечалилась, подошла к отцу-матери и стала у них спрашивать, были ли у нее братья, и куда они пропали. И вот, — правды не скроешь, — им пришлось ей объяснить, что это случилось по воле свыше и рождение ее было лишь нечаянной тому причиной. Стала девочка каждый день себя попрекать и крепко призадумалась, как бы ей вызволить своих братьев. И не было ей покоя до той поры, пока не собралась она тайком в дальнюю путь-дорогу, чтоб отыскать своих братьев и освободить их во что бы то ни стало. Взяла она с собой в дорогу на память об отце-матери одно лишь колечко, хлебец — на случай, если проголодается, и скамеечку, чтобы можно было отдохнуть, если устанет. И пошла она далеко-далеко, на самый край света. Вот подошла она к солнцу, но было оно такое жаркое, такое страшное, и оно пожирало маленьких детей. Бросилась она поскорей от солнца к месяцу, но был он такой холодный, мрачный и злой, и как увидел он девочку, сказал ей:
— Чую, чую мясо человечье.
Она убежала от него и пришла к звездам. Они были ласковые и добрые, и сидела каждая из звезд на особой скамеечке. Поднялась утренняя звезда, дала ей костылек и сказала:
— Если не будет с тобой этого костылька — не разомкнуть тебе Стеклянной горы, где заточены твои братья.
Взяла девочка костылек, завернула его хорошенько в платочек и пошла. Шла она долго-долго, пока не пришла к Стеклянной горе. Ворота были закрыты; хотела она достать костылек, развернула платок, глядь — а он пустой, потеряла она подарок добрых звезд. Что тут делать? Ей так хотелось спасти своих братьев, а ключа от Стеклянной горы не оказалось. Взяла тогда добрая сестрица нож, отрезала себе мизинец, сунула его в ворота и легко их открыла. Входит она, а навстречу ей карлик, и говорит ей:
— Девочка, что ты здесь ищешь?
— Ищу я своих братьев, семерых воронов.
А карлик ей говорит:
— Воронов нету дома. Если хочешь их подождать, пока они вернутся, то входи.
Потом карлик принес воронам пищу на семи тарелочках; отведала сестрица из каждой тарелочки по крошке и выпила из каждого кубочка по глоточку, а в последний кубочек опустила колечко, взятое с собой в дорогу. Вдруг слышит в воздухе шум крыльев и свист. И говорит ей карлик:
— Это летят домой вороны.
Вот прилетели они, есть-пить захотели, стали искать свои тарелочки и кубочки. А ворон за вороном и говорит:
— Кто это ел из моей тарелочки? Кто пил из моего кубочка? Никак человечьи уста?
Допил седьмой ворон до дна свой кубок, тут и выкатилось колечко. Посмотрел он на него и узнал, что то колечко отца-матери, и говорит:
— Дай боже, чтобы наша сестрица тут оказалась, тогда мы будем расколдованы.
А девочка стояла тут же за дверью; она услыхала их желанье и вошла к ним, — и вот обернулись вороны опять в людей. И целовались они, миловались и весело вместе домой воротились.
48. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день пятьдесят первый.
Он пришел вчера вечером. Я не могу даже описать свое облегчение. Он здесь.
Я вчера под вечер села разбирать записи наших фольклористов, думала: хоть отвлекусь. Они давно просили меня, а у меня все руки не доходили. Это придумал Каверин, они хотят, чтобы я написала комментарии и предисловие. Как же, координатор второй категории.
На самом деле мне это даже доставило удовольствие. Я многое слышала в детстве, но многое не слышала, и читать было интересно. Я засиделась до поздней ночи, да и страшно мне было представить, что я могу лечь спать. Горела настольная лампа, в комнате было темно, и только неясный желтоватый круг света ложился на пол и стену. В дверь постучали, и я пошла открывать. Состояние у меня было какое-то сонное или скорее оглушенное, так бывает, когда долго плачешь, а потом наступает легкое отупение. Я думала, это Михаил Александрович, он собирался, кажется, зайти, да так и не зашел.
Я открыла дверь. Свет настольной лампы почти и не достигал порога. Он стоял в темноте, высокий, худой. Выражения его лица я не могла разобрать.
— Можно… мне войти?
Холодный ровный тон. Хоть он и запнулся, когда говорил это. Я отодвинулась от двери и сказала неуверенно:
— Заходи.
Словно снова повторялась наша первая встреча. Не самая первая, а в этот мой прилет сюда. Тогда я тоже с ума сходила от жалости и беспокойства, но стоило нам встретиться, и я не знала даже, что сказать ему, как с ним говорить.
Кэррон зашел. Я закрыла дверь и включила верхний свет. Кэррон вздрогнул, когда яркий дневной свет вспыхнул в комнате. Глаза он не закрыл, но пригнул голову, словно свет резал ему глаза. Выглядел он плохо. По-настоящему плохо. И дело было вовсе не в грязи и сбитых ногах. Я не знаю даже, как это объяснить. Вид у него был такой, словно ему все безразлично. Словно он уже умер. Как у древних греков — тень, вышедшая из Тартара.
— Выключи свет, — сказала он тихо и хрипло, и я выключила: в его голосе я ясно расслышала приказные нотки. Почему-то когда он рядом со мной, жалеть его становиться гораздо сложнее.
Мы остались в полумраке. Кэррон, похоже машинально, пригладил растрепанные волосы и снова опустил руки. Я не сводила с него глаз.
— Ты улетаешь? — спросил он.
— Да, — сказала я.
— Когда?
— Я еще не знаю.
— Ра, я, собственно… — он замолчал, подошел к столу, зачем-то потрогал разложенные на столе бумаги, — Можно, я посижу у тебя немного?
Он сказал не то, что собирался. У меня было такое чувство, словно что-то подламывается в нем и скоро обломиться. Как деревянную планку ломают — трещит, трещит, а потом переламывается. Я почти видела это в нем.
— Конечно, — сказала я.
— Я, понимаешь… — начал он и снова замолчал.
Молчал он долго. Казалось, он забыл о моем присутствии.
— Кэр.
— Что? — хрипло спросил он. Словно проснулся.
— Ты хотел что-то сказать?
Он повернулся ко мне, оперся на стол. У него дергалась щека. Правая. И это выглядело так страшно и жалко.
— Я…. Да, я… — и снова замолчал.
— Что-то случилось?
— Ничего…. Я… — он потер щеку, но тик от этого не прекратился, — Я мог убить тебя, — сказал он, — Я едва не убил тебя.
Я неловко пожала плечами. Кэррон смотрел на меня, и в его глазах отражался свет лампы.
— Ты из-за этого пришел?
— Я…. наверное…
В его глазах появилось что-то растерянное. Он опустил голову, исподлобья глянул на меня, отвел взгляд.
— Я… не хочу, чтобы ты… так меня вспоминала… понимаешь?
— Да, — сказала я.
— Я не хотел этого, деточка, — тихо сказал он. Щека у него все дергалась, и это нравилось мне все меньше и меньше, — Я пойду, наверное…. Ты прости меня….
— Останься, — сказала я.
Он выпрямился. Временами видно было, что он… не в себе, что ли. Он колебался, словно на качелях: в иные минуты взгляд его был почти разумен, а в иные…. Иногда мне казалось, что он вот-вот упадет: сейчас что-то надломиться в нем, и он упадет, потому что воля откажет ему. А вот когда я сказала ему это «останься», в нем возобладала гордость. Была же у него когда-то и гордость, и воля, и разум, какой не каждому дан. Я буквально видела, как он собирает воедино остатки своего рассудка, собирает себя в кулак. Только щека у него дергаться не перестала.
— Знаешь, что я ненавижу больше всего? — сказал он хрипло, — Когда меня жалеют.
— Я не думаю, что сейчас тебя многие жалеют, — сказала я тихо.
— Да, — сказал он и усмехнулся.
А я смотрела на него и видела: все, сил у него больше нет. Его гордости, его запала ненадолго хватило. Не физических, моральных у него не было сил. Никаких. Все, что было, уже почти иссякло. Во мне, внутри меня стоял горячий плотный ком. Если бы я могла, я бы расплакалась, но этот ком мне мешал, и плакать я не могла, могла только смотреть на него. Я потянулась, взяла его за руку. Он не пошевелился. Пальцы у него были холодные, вялые, мокрые. Казалось, он ничего не заметил.
— Кэр, хоть поспишь нормально, — сказала я, — Кровать одна, но я все равно не собиралась ложиться.
— Я могу на полу, — тихо сказал он.
— Дам я тебе на полу…. С ума, что ли, сошел.
— Я… грязный весь, деточка. Мне лучше на полу.
— Так вымойся, — буркнула я в сердцах.
Лицо его сделалось совсем растерянным. Мне стало неловко. Молча я взяла его за руку и отвела в ванную, пустила воду, тихо объяснила, что здесь к чему. Я видеть не могла его жалкое лицо! Ведь он почти полгода и вымыться не мог.
— Я найду тебе чистую одежду. Схожу в миссию, скоро приду, ладно. Ты сам справишься?
— Угу.
Он присел на край ванны. Я села рядом с ним. Рука Кэррона потянулась к моей, но в сантиметре замерла и сжалась в кулак. Я поймала его кулак обеими руками.
— Что ты?.. — сказала я.
— Детка… ты прости меня, ладно?
— За что?
Он только посмотрел на меня. Потом вдруг нагнулся и уткнулся лбом в мои руки. Рука у него была холодная, а лоб горячий-горячий. Я подумала немного, разняла руки и обняла его. Голова Кэррона уперлась в мой живот. Я погладила его спину.
Мы посидели так немного, потом Кэррон высвободился. Щека у него снова задергалась.
— Извини, — сказал он тихо, — Устал я, понимаешь, так устал.
— Я скоро вернусь. Ты справишься сам?
Он кивнул. Я видела: он понемногу приходит в себя. У меня слезы на глаза наворачивались.
— Ты только не засни в ванне, — сказала я, — А то согреешься и уснешь.
Он улыбнулся. Слабенькая это была улыбка, но она все же была. Я погладила его руку, поднялась и ушла.
Я вернулась минут двадцать. Войдя в дом, я прислушалась: всюду было тихо, не слышно было ни шума, ни плеска воды. Я постучала в дверь ванной, но никто не откликнулся. Тогда я вошла.
Его одежда валялась на полу. Свет здесь был такой яркий, словно в операционной. Я побоялась, что он действительно заснет, но он сидел в воде, обхватив колени руками и опустив голову. Мне показалось: он плачет. Плечи его подрагивали. На спине, через позвоночник тянулись несколько извилистых белесых шрамов. Я осторожно закрыла дверь. Кэррон не шевелился, похоже, он не слышал, как я вошла.
— Кэр, — сказала я тихо, — Кэр, что ты? Ты плачешь?
Он поднял голову. Я так и не поняла, плакал он или нет. Лицо у него было мокрое, но кто знает. Он ничего не сказал, просто смотрел на меня и молчал. Взгляд у него был потухший.
— Извини, — сказала я, вдруг опомнившись, — Мне выйти?
Он покачал головой.
Я села на пол рядом с ванной и облокотилась на бортик ванны, подперев щеку рукой. Я сидела и смотрела на него. Он и раньше был не красавец, а теперь уж слишком похудел. Мокрые волосы были убраны назад. Глаза у него были какие-то сонно-равнодушные. "Как бы и правда не заснул", — подумала я.
— Где ты был все это время?..
— В Альвердене… последние три дня…
— В Альвердене? — спросила я живо, все время помня о своей находке.
Кэррон помолчал, искоса поглядывая на меня черным глазом. В тот момент я подумала, что никогда толком не видела его в птичьем обличье. Только мельком. Но было в нем что-то от птицы. Этот острый профиль и манера смотреть одним глазом…
— Не в нем самом… — сказал он, наконец, — У Иахэлиэлэ…
— У лииена? — сказала я неуверенно: я не знаю, как его зовут, эти сумасшедшие лииенские имена сам черт не запомнит. И то, что назвал Кэр, было, наверняка, сокращением.
Он кивнул.
— Я знаю, что ты говорила с ним, — сказал Кэррон, — Знаю, он тебе рассказал…. Детка, я…. Ты прости меня за это…
— Кэр! — сказала я. Он так много извинялся последнее время, просто слушать я уже это не могла.
— Я ошибался тогда, — продолжал он, не услышав моего возгласа, — Может, я и умею только, что ошибаться.
— О чем ты? О том, что сейчас?
Кэррон кивнул, не сводя с меня глаз.
— Комплекс неудачника, — бездумно сказала я, — На тебя это не похоже.
— Много ты знаешь, Ра, что похоже на меня, что нет…
— Знаю, — сказала я, улыбаясь.
Глаза у него повеселели, и на душе у меня стало легче. Спокойнее. Слава богу, что он здесь. Слава всем богам, какие ни есть.
— Я думал, ты… разозлишься.
— Кэр!
— Ты не злишься?
— Я люблю тебя, Кэр, очень люблю.
— Я тоже люблю тебя, милая.
— Я знаю, — сказала я поднимаясь. Теперь уж я не боялась оставить его одного, — Ты только не усни, ладно?
Пока он мылся, я застелила кровать и перенесла бумаги на кухню. Кэррон вышел минут через пятнадцать. Заснул он сразу.
Я всю ночь просидела на кухне, разбирая бумаги. Под утро я вошла в комнату и остановилась посредине. Это про детей обычно говорят, что, спящие, они выглядят как ангелы. Именно это я подумала, когда смотрела на него, на сбившееся одеяло, смуглое худое плечо и разметавшиеся по подушке черные пряди. Лицо у него было безмятежное. Худое, жалкое, смуглое и такое спокойное лицо.
Он похож был на ангела. На измученного, оголодавшего, но все еще крылатого ангела. Я смотрела на него, и мне хотелось плакать. Становилось светлее. Неяркие еще солнечные лучи косо ложились на подушку и на его лицо, высвечивая каждую морщинку, а было их уже немало. Возле глаз, на лбу поперечная, глубокая, жесткие складки у рта. Уж очень похудел.
А я стояла и думала: где он был? Последние три дня — в Альвердене. А остальное время? Почему он сказал только про Альверден? И еще я думала о том, что, когда я улечу, он останется совсем один. И я страшусь этого. Ведь он и так убивает себя своими магическими выходками. У него явное тяготение к самоубийству, хотя, может быть, и неосознанное. Я… честно говоря, я не представляю, чтобы он осознанно пошел бы на это. Но он убивает себя, убивает. О Дорне ничего такого ведь не известно, напротив, он Марию заставил использовать Жезл. А Кэр сжигает себя. Дорн же не отдал ни одного дня из оставшихся ему, чтобы защитить свой народ, хоть дни эти были несчастливыми и тягостными.
Вот так я стояла и смотрела на него, а солнце набирало силу, ярчело, играло в комнате. За окном расчирикались птицы. Кэр, и правда, очень исхудал, и при его смуглой коже напрашивалось одно только сравнение — словно жестокое пламя опалило его. И вдруг я подумала: а ведь у меня нет больше родни. Мои родители мертвы. У меня есть только Тэй. И Кэррон. Надо же. Я ведь и не задумывалась над этим, но в детстве я Тэя считала братом на полном серьезе, да и сейчас…. И Кэр….
А потом в дверь постучали. Кэр поднял растрепанную голову с подушки и сонно посмотрел на меня. Я улыбнулась ему, пожала плечами и пошла открывать, недоумевая. Было еще совсем рано, и кого там принесло, я не могла понять.
Ни коридора, ни чего-нибудь такого у меня нет, дверь открывается сразу в жилую комнату. Кэррон сел, свесив с кровати босые ноги, натянул на плечи одеяло. Я еще посмотрела на него, повернулась, отперла дверь. Распахнула ее. И испугалась. На пороге стоял Торион.
Я действительно испугалась. Меня как окатило холодной водой. Если бы они сцепились…. Я смотрела на Ториона снизу вверх, и глаза у меня, наверное, были как у собаки перед живодером — и страх, и злоба. Если бы он сделал хоть шаг, я сама ударила бы его.
Сейчас я думаю, все-таки он очень красив. Тогда, в детстве, я слышала разговоры о его красоте, но видела только, как застывает лицо Элизы при его приближении. Как он мог быть красив для меня, когда мое сердце было отдано его жене, которой он причинял столько горя? А теперь я думаю: ведь правда. Он красив. Строгая это красота, холодная, словно изо льда высеченная. И он был совершенно такой, как раньше. Словно все было в порядке, словно Серые горы высились во славе своей. Свободные черные одежды, черный плащ, сколотый на плече серебряной брошью. Он смотрел на меня всего миг. Перевел взгляд в глубь комнаты. И лицо его застыло, окаменело.
И вдруг Кэррон засмеялся. Торион вздрогнул, лицо его изменилось, рот странно скривился. И только тогда я заметила, что в его коротких черных волосах уже изрядная доля седины. Ну, да, ведь ему за семьсот, ближе уже к восьмистам, он старше Кэррона на триста с лишним лет. Может, ему и рано еще седеть, Дрого уже за тысячу, и не одного седого волоса. Но и люди ведь седеют по-разному, а Ториона мальчиком никто не назовет.
— Что же ты? Заходи! — сказал Кэррон сквозь смех.
Торион потерянно посмотрел на меня. «Извините», — сказала я одними губами, мне казалось, что я должна извиниться перед ним. Что бы он ни сделал, увидеть здесь Кэррона ему было больно, это видно было.
— Заходи, Торри, дружище!
Торион стремительно развернулся и сбежал с крыльца. Смех Кэррона тут же оборвался. Я медленно закрыла дверь и обернулась. В лице Кэррона не было ни тени веселья, усталое оно было и расстроенное.
— Извини, — сказал он негромко, — я не сдержался.
— А он поседел.
— Ему это нелегко все далось, — тихо сказал Кэррон, — Что ты так смотришь на меня? Он был в своем праве, когда изгонял меня, он думал об Алатороа.
— А о тебе он не мог подумать? — крикнула я, — Ох, извини.
Кэррон нагнулся за рубашкой, лежавшей на полу, и сказал:
— А ты замечаешь, что мы постоянно извиняемся?…
— Кэр…
— Тебе не кажется, Ра, что это глупо?
— Ну, может, — сказала я.
— Я ни в чем не виню Ториона, если тебя это интересует.
— Ты назвал его Торри.
Кэррон засмеялся довольно нервно. Уже одетый, он сидел на кровати и пытался пятерней расчесать спутанные волосы.
— В ванной есть расческа, — сказала я.
— Он ненавидит, когда его зовут Торри.
— Этакая мелкая месть, — сказала я, — Ты как ребенок, Кэр.
— Тебя устроило бы, если бы я вцепился ему в глотку?
— А ты смог бы? — сказала я серьезно.
Кэррон покачал головой. Я подошла и села на кровать рядом с ним. Кэр взял меня за руку, погладил мои пальцы.
— Знаешь, деточка, я не знаю, что бы я без тебя делал, — он усмехнулся, — Если бы ты между нами не стояла, я бы точно на него бросился. А этого не стоило делать, это не его вина, понимаешь? Но я… как бы это сказать… раздумал умирать.
Я искоса посмотрела на него. Кэр заметил, улыбнулся мне мягкой своей улыбкой.
— Я боюсь, — тихо сказал он, — Нет, не то чтобы я не верил ему, деточка, но я не хочу… оставлять Алатороа с ним… Торион будет неплохим Царем, но он… не маг.
Я кивнула. В сущности, это был просто снобизм того особого рода, который присущ всем талантливым людям, привыкшим нести большую ответственность: им все кажется, что остальные сделают хуже, и они никому не могут доверить сделать что-то за них.
— Знаешь, Кэр, — сказала я невпопад, — А я ведь тоже была в Альвердене. Но раньше, чем ты. А где ты был до того?
— Меня не было на планете, — сказал он.
— И где ты был?
— Неважно.
Мы помолчали немного.
— И что в Альвердене?
— Что?
— Ты говорила про Альверден.
— А, — сказала я, — Я нашла там кое-что, что тебе нужно увидеть. Но сначала я… послушай, ладно? — я повернулась к нему, — Улетай, Кэр. Пожалуйста, полетим со мной, ведь ты умрешь здесь. Кэр, прошу тебя!
Он засмеялся. Смех этот был довольно странный. У него иногда прорывается это — что-то странное в смехе или улыбке, что-то злобное, и это пугает меня. Как только раздался его смех, речь моя прервалась, и я только смотрела на него растерянными глазами.
— Тебе легко будет улететь отсюда? — сказал Кэррон, отсмеявшись и внезапно став серьезным, — Я не могу. Я люблю ее. Я… слышу ее. Каждую травнику, каждый камень. Иные деревья я помню от семени, упавшего в землю. Что ты, как я… я не могу ее оставить. Ведь и ты… — он осекся.
— Да, — сказала я тихо.
Я отняла у него свою руку, встала и отошла к столу. Записи служительницы Света лежали под тетрадями Михаила Александровича.
— Вот, — сказала я, возвращаясь к кровати. Отыскала нужную страницу, протянула книгу Кэррону.
— Что это?
— Посмотри, — сказала я, — Там немного.
Читал он долго. Потом долго просто сидел и бездумно водил пальцем по строкам, согнувшись над рукописью. Волосы свесились ему на лицо. Я сидела за столом и ничем не занималась, просто смотрела на Кэррона.
— Кэр, — позвала я.
Он вздрогнул и захлопнул книгу.
— Кто знает об этом?
— Никто, — сказала я, — Только ты. Я думала, будет лучше, если ты узнаешь первым.
Кэррон убрал волосы с лица.
— Я хочу, чтобы это увидел Торион, — сказал он, — Но не раньше, чем… ну, пусть сначала твою находку задокументируют.
— Думаешь, он может уничтожить ее?
— Да, — сказал он, — Так и будет…. А эта книга так и лежала в Альвердене? В библиотеке?
— Я подумала, наверное, никто на эти записки не обращал внимания. Подумаешь, Дарсинг какой-то. Я, кстати говоря, не нашла его на карте, а на Поозерье карты у нас хорошие.
— А его и нет. Там была деревня, это на Дар-элле, в верховьях. Оттуда была моя мать, из этой деревни.
— Да что ты?
Я растерялась немного. При всем моем воображении я не могла представить себе Кэррона маленьким. А уж тем более женщину, которая его родила.
— Эта деревня еще до моего рождения сгорела. Лесные пожары, тогда все верховья Дар-элле выгорели.
В моей голове происходили некие арифметические расчеты, потом до меня дошло.
— Твою мать забрали маленькой?
— Ну, не такой, как я хотел тебя, — он сказал и смутился, даже покраснел, чего уж я совсем не ожидала, — Лет тринадцати. Но я не был старшим сыном.
— И сколько вас было? Детей, я имею в виду?
— Четверо.
Я немного удивилась. Мне казалось, что у них бывает один, очень редко два ребенка. Вообще-то, если это помножить на их манеру жениться один раз, да еще на женщинах, которые живут в десять раз меньше, чем мужья, то получается такая демографическая картина, что волосы дыбом встают.
Мы поболтали еще немного, потом я собралась к Михаилу Александровичу с записями дарсингской священнослужительницы.
— Кэр, ты не уйдешь еще?
Он пригладил волосы, улыбнулся.
— Нет, детка, не надейся.
Я засмеялась.
— Я, может, задержусь, но ты, по крайней мере, дождись меня, ладно?
Он кивнул, встал, подошел к столу.
— Чем ты занимаешься? — спросил он, раскрыв наугад одну из тетрадей.
— Это не мое. Мне просто дали почитать.
— Ничего, если я посмотрю? Там нет ничего секретного?
— Нет, — я засмеялась, — Но там все на галактисе…. Так ты не уйдешь?
— Нет. Если ты позволишь, я у тебя побуду до ночи.
— Я скоро вернусь, — сказала я, но задержалась я надолго.
Михаил Александрович обрадовался моему визиту, а находка моя его поразила. Он тоже долго читал, потом перелистал книгу, оглядел переплет. Я присела на край стола и сказала:
— Нужно сделать виртуальные копии. И, Михаил Александрович, кроме здешнего архива отправьте еще в Центральный информаторий, ладно?
— Боитесь, что запись могут уничтожить?
— Да, — сказала я.
Михаил Александрович подпер щеку рукой и сказал:
— Пожалуй. Все остальное ведь наверняка было уничтожено. Политика…. Где теперь Царь-ворон?
— Который? — мрачно спросила я.
— Мм… бывший.
— В моем доме, — сказала я.
— Он видел это?
— Да, видел.
— И что?
— Он хочет, чтобы я показала Ториону. Но сначала сделайте копии. А то Торион большой и сильный, знаете, разозлиться и просто порвет. Не драться же с ним. Он в своем праве, да он и сильнее меня. Пришлось бы его убивать еще.
— А ведь вы сказали интересную вещь, Кристина. Он в своем праве. Может быть, копирование этой записи не совсем… мм, законно?
— Ну, да, — сказала я, — Они имеют право, конечно, уничтожать все сведения о нем. Ладно, я сама сделаю копии. И сама разошлю, а то вы невесть до чего так додумаетесь.
— В сущности, вы не правы, Кристина. Это их жизнь, их планета, и решать должен Царь-ворон.
— Который? — сказала я зло.
— Кристина!
— А я не признаю этого… за Царя. Если он носит Жезл, это еще ничего не значит.
— А что, по вашему, значит?
— Его должен был избрать Совет, — быстро и зло заговорила я, — Не думаю, что Совет успел это сделать. Из выживших нет ни одного члена Совета, так что он самозванец.
— Но если они все погибли? Что же теперь…
— А по наследству? — сказала я, — Вороны не часто используют наследный принцип, но когда нет четко определенной кандидатуры, или Совет не может договориться…. У Кэррона нет наследников, значит, власть переходит к потомкам Седовласого, а это Дрого.
— А Дрого — потомок Седовласого?
— Да.
— Вы-то откуда знаете, Кристина?
— Он носит серебряную флейту на цепочке. Знак рода. И потом, о нем говорят… говорили в Альвердене. Знаменитый род, почти такой же, как род Корда.
— А у Корда были потомки? — я кивнула, — А Кэррон не…
— Нет, — сказала я, — Это Торион, только он не прямой потомок.
— Торион? Ну, надо же…. А мне казалось, он абсолютно антимагичен.
— Да, — сказала я.
Копию записей Ары Синг я действительно послала в центральный информаторий. Разместила еще в здешнем архиве и в информатории на Веге. Я хочу посмотреть в глаза Ториону, когда он прочтет это, когда он прочтет имя того, то был предшественником Кэррона.
Когда я вернулась, Кэр читал записи Каверина. Я, честно говоря, не думала, что он вообще читает на галактисе. Говорить-то говорит, галактис схож с сорти, но письменность не имеет ничего общего. Оказалось, что читает.
49. Из записей М. А. Каверина.
Очень давно, еще в детстве мне случилось услышать одну сказку, которую я теперь попробую воспроизвести. Сказка была, кажется, французская; сейчас, когда я вспомнил о ней, я попытался быстренько поискать в центральном информатории, но, конечно же, ничего не нашел. Сказки, как и другие короткие произведения, рассказы и стихи, имеют обыкновение пропадать и появляться, целенаправленно найти их совершенно невозможно. Сказки к тому же часто меняют названия и форму, смотря кем и когда они были записаны или обработаны. Та сказка из моего детства называлась "Синяя трава", кажется, но, как я уже говорил, название сказки не есть величина постоянная.
Боюсь, точно воспроизвести ее содержание я не смогу. Я вспомнил ее из-за сходства с событиями, происходящими здесь, но история Кристины и Кэррона, история Марии и Дорна — эти истории могут помешать моей памяти, они уже наложились на мои воспоминания. Итак, прежде всего отделим от общего повествования факты непреложные: в истории фигурировал Царь воронов, прикованный к некой скале, его жена, которая хотела освободить его, и синяя трава, которая якобы могла разбить его оковы. Это в сказке действительно присутствовало. Большую часть повествования занимали странствия жены, которая встречала по дороге множество различной синей травы, и ни одна не желала помочь ей. Здесь мы наблюдаем типичный прием повторения, часто используемый в сказках. Однако больше меня интересует начало сказки, где идет речь о том, как Царь воронов похитил девушку. Я не уверен насчет похищения, возможно, моя память играет со мной шутки, однако же ясно помню, что в повествовании присутствовал момент ее нелюбви к мужу. Однако же она пришла к нему, когда он оказался — не помню, из-за чего — прикован к скале, а после отправилась искать синюю траву. Как жаль, что я не могу отыскать эту сказку! Я помню, еще в детстве она зацепила меня, что-то необычное в ней было.
Конечно, если судить по моему неуверенному описанию, сходство кажется скорее надуманным. Единственное — Царь воронов. С другой стороны, насколько я могу вспомнить, вороны вообще не часто фигурируют в сказках, если не считать индейских сказок, где фигурирует фигура Ворона в его животном обличье. Из человеческих образов я вспоминаю только Кромахи — повелителя ворон из одной ирландской сказки, да этого вот Царя воронов из "Синей травы".
Да, сходство зыбко и почти незаметно. Но меня не оставляет странная, быть может, но вовсе не фантастическая мысль. Мысль эта не фантастична, о, нет, ибо мир наш вовсе не так безусловен, как кажется людям. Эта мысль все вериться у меня в голове, мне все кажется, что это сходство трех этих историй — сказки моего детства, "Истории Марии из Серых гор" и происходящих теперь событий — что это сходство доказывает одно: все три истории являются выдумками. Просто по пути от Земли до Алатороа старая французская сказка претерпела немалые изменения. И кто знает, сколько еще подобных историй развернулось на планетах между Землей и Алатороа, между Первым и Восьмым галактическими секторами? Кто знает…
Это похоже на высказывание сумасшедшего, не так ли? Но чутьем человека, многие десятки лет занимавшегося мифологией, я чувствую, что сходство это не случайно. Я не привык спускать любое сходство, привык искать точки соприкосновения. И меня настораживают эти две истории, произошедшие на Алатороа. Два Царя, изгнанные своим народом по одной и той же причине. Две женщины, носящие одинаковые имена (Кристину здесь называют Ра; Марию, жену Дорна, тоже, несомненно, звали Ра, это обычное сокращение женских имен, в которых присутствует звук "р"). Не слишком ли это? Дорн, скованный цепью и похороненный в расщелине меж скал. Нелюбовь Марии. И не думаю, что у другой, нынешней пары есть хоть что-то похожее на любовь. Что связывает их? Что связывает все три пары? Страдание и жалость. Потребность в помощи и стремление помочь.
Я знавал людей, которые не уставали повторять, что мир — это текст. Мне всегда казалось, что это слишком примитивное утверждение. Но, сам не давно уже не различающий, где вымысел, где реальность, я все чаще замечаю, что и другие люди живут в паутине иллюзий и химер, застилающих им подлинную жизнь. И теперь все чаще я думаю о том, что мир — это сочетание множества иллюзий. Все это, конечно, открыто философами задолго до меня, но подлинное значение имеют лишь открытия, которые совершаешь ты сам. Каждый человек заново выводит для себя законы, которые открывали еще древние греки. Так уж повелось, что никакие книги не дадут тебе понимание, все сам, только сам. Мир — это паутина иллюзий, и в этом иллюзорном мире моя мысль о воображаемой природе всех трех историй вовсе не кажется сумасшедшей. Я знаю только, что Кристина Михайлова реальная женщина, а вовсе не плод чьего-то воображения. Я слышал о ней на Коркусанте, говорят, она мастер палочного боя. Что ж, увидев ее, я и не подумал усомниться, такие женщины созданы не для дома и ласковой любви; не у всякого координатора увидишь такой взгляд. В этом взгляде — готовность на убийство, всегда, каждый миг: словно змея, расслабленная, сонная, в мгновение, как пружина, распрямляет свои кольца и вцепляется в агрессора, и тот моментально оборачивается жертвой. Кристина — живой человек. Не чуждый химер, но живой и реальный. Об остальных участниках моего рассуждения я этого утверждать не могу. Мария и Дорн — прежде всего литературные персонажи, и нет никаких доказательств их существования. Записи Ары Синг ничего не значат, написанное слово — не есть доказательство, записи эти могут быть простой подделкой, мистификацией, которую от скуки затеяла деревенская священнослужительница. Что до Кэррона…. Да, я видел его, говорил с ним. Но чем дольше я нахожусь на этой планете, тем более верю в то, что сама она нереальна, что она всего лишь сон, бесконечно снящийся кому-то. И Кэррон, вобравший в себя весь страх, всю боль этого сна; черный провал пещеры на цветущем склоне. Кэррон, по прихоти сновидца повторяющий судьбу Дорна, который, в свою очередь, повторяет судьбу некого Царя воронов, прикованного к скале и порожденного чьим-то уж совсем неведомым воображением.
50. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день пятьдесят второй.
Ночевал Кэррон у меня.
Я весь почти вчерашний день провела в копировании этих записей, вернулась уже в сумерках. Кэр читал, лежа на кровати. Вернувшись, я потащила его обедать. Или ужинать. Он упирался, но я заставила его поесть.
Потом мы долго болтали, сначала не кухне, потом сидели на крыльце. Здесь очень хорошо сидеть: четыре ступени и невысокие перила. И трава у крыльца. Говорили мы, в основном, о сказках, обработанных Кавериным и Саровской. На крыльце мы засиделись допоздна.
Здесь, и правда, хорошо так сидеть. Затихает улица, закат из-за дома бросает последний отсвет на восточный склон неба, и подступающая темнота так прозрачна — не то что в доме. Так можно просидеть всю ночь и ни о чем не думать — бесцельное, бесполезное времяпровождение, словно бальзам на усталую душу.
— Ну, что же, — сказал Кэр, наконец, — Я пойду, деточка. Уже стемнело.
Я удержала его за руку. Кэррон посмотрел на меня.
— Останься, ладно? Кэр, ты уйдешь, у меня сердце не на месте будет.
В полумраке я не видела, но мне показалось, лицо его как-то дрогнуло. Он остался. Мы еще немного поспорили, может ли он лечь на полу, потом легли вдвоем на кровать.
Мы проспали спокойно всю ночь. Мне и в голову ничего не пришло. Кэр спал как убитый, даже не повернулся ни разу во сне; я, правда, долго не могла заснуть. Я думала о Торионе. О том, что он будет делать, когда узнает о моей находке. О том, что он почувствует. Кэр, слава богу, "раздумал умирать". Раз «раздумал», то, наверное, не умрет. По крайней мере, переживет меня, а большего мне и не нужно. Я не надеюсь, что он проживет обычную жизнь воронов.
Каким образом он собирается… выжить, разве что покидать планету через какое-то время? Почему ни один из изгнанников так и не покинул планету? Почему они вообще так привязаны к Алатороа? Народ, которому для перемещений в космосе не нужны никакие корабли, которому хватает лишь крыльев и собственной сущности, почему этот народ не распространился по Вселенной? Почему, однажды придя на Алатороа, они так и не покинули ее больше? Тот же Дорн — уйди он с Алатороа, и в этой системе есть еще три планеты, пригодные для жизни. Ведь он мог бы жить.
Проснулась я рано, но Кэр уже не спал. Сидел на краю кровати и смотрел на меня, и мне не слишком понравился этот взгляд. Какой-то он был — оценивающий.
— Я пойду, милая, — сказал Кэррон.
Еще не рассвело, в комнате витал серый свет, предвестник восходящего солнца. В окно я видела, как над горизонтом проявляется светлая полоса, еще не рассвет, а просто признак утра. Все остальное небо было синее, с переходами от сиреневатого к темно-синему.
— Что? — сказала я сонно.
— Я пойду.
— Куда? — сказала я, не понимая, потом проснулась, наконец, — Кэр, не уходи.
— Мне надо кое-что сделать. И я боюсь, я не смогу дольше сдерживаться… и обижу тебя.
— Чем? — жалобно сказала я. Я никак не могла понять, что на него нашло.
Он слегка повернул голову. Профиль у него такой, что впору чеканить на монетах.
— Ра, я… — он сжал руки и вдруг заговорил быстро, — Я знаю, тебя оскорбила сама мысль о том, что я когда-то… хотел сделать тебя своей женой. Я знаю! Я и так много сделал тебе плохого, Ра, и я не хочу, чтобы ты об этом вспоминала, когда будешь думать обо мне. У меня ничего нет, кроме тебя, кроме твоих воспоминаний. Ничего, пойми. И я не хочу добавить еще плохого… — замолчал, потом сказал тихо, — У меня никого не осталось, кроме тебя, деточка…. Я не хочу тебя тоже… потерять.
— Что ты!
Я сбросила одеяло, села. Кэррон смотрел на меня одним черным глазом. Я не знала, что сказать. Ей-богу, иногда я начинаю уставать от этой его способности вечно находить что-то плохое, загодя думать о последствиях каждого сказанного слова. В некотором роде он все-таки зануда. Я была уже в отчаянии, я видела, ведь он сейчас уйдет и уйдет не просто так — с тяжестью на душе, обормот несчастный. Я не представляла, как его теперь успокоить. А он — он потянулся вдруг, вот так, назад и вбок, и губы его наткнулись на мою щеку. Я замерла. Теперь я думаю, чего бы он собирался или не собирался в начале, он понял, может, по моему лицу, или просто понял, что можно. А тогда я просто растерялась. Мягкое движение губ, сухих губ; он целовал меня — щеку, угол рта, потом голова его склонилась, он откинулся назад и стал целовать мою шею в вырезе майки. Онемелая, я обняла его.
Теперь я понимаю, что именно это ему было нужно — с самого первого дня, именно это. И я ведь знала! — но всегда что-то держало меня. А ему нужна была всего лишь любовь — хоть такая. Он уже не желал ждать ту единственную, которая скрасит пятьдесят-шестьдесят лет его тысячелетней жизни — краткий миг, — которую он будет помнить все бесчисленные годы после ее смерти. Он уже не желал и не мог ждать, он хотел — сейчас, хоть немного ласки, хоть немного тепла. Он хотел — меня. А я этого не понимала, и он видел, что я не понимаю. Сейчас я думаю: какая же я дура, какая тварь бесчувственная. Ведь я улечу. Ведь я скоро улечу, но ведь я была здесь — почти три месяца и ничего не сделала. Я, дура этакая, дала ему мучиться в одиночку. А мне надо было — быть с ним, просто быть с ним. Не оставлять его одного. Чтобы он хоть знал, что кто-то есть рядом. Что есть женщина, которая обнимет его ночью. Ведь прожил половину тысячелетия, и не было никогда рядом с ним никого, кто целовал бы его по ночам. Вот чего ему было нужно — хоть одного такого воспоминания, чтобы не так одиноко было умирать.
А он меня целовал. Снимал с меня майку. И прятал от меня лицо, пока я не заставила его посмотреть на меня. Вот так все и вышло. Так просто. Так бесконечно просто. Жалость. И одиночество. Никогда не думала, что дойду до такого.
А потом Кэр сел и сказал, не оборачиваясь:
— Прости меня…
— Обормот! — сказала я в сердцах, — Ну что ты извиняешься?
— Я ведь… — он провел руками по волосам и замолчал.
— Ну?
— Я… сделал бы это с любой… — осекся, замолчал, опустив голову.
— Любая бы тебе не позволила, — сказала я легко, — А силой бы ты не стал.
Он посмотрел, наконец, на меня. Увидел, что я улыбаюсь. Улыбнулся сам. Я потянулась, тронула его руку.
— Солнышко, — сказала я, — перестань. Ты сам говорил, мы постоянно извиняемся.
Он усмехнулся еле заметно.
— Я просто хотел, чтобы ты правильно поняла меня….
— Я поняла. На этой планете я единственная, кто бы позволил тебе это проделать. И ты давно уже раскаялся в том, что хотел на мне жениться…
— Ра!
— Ради тебя я переспала бы даже с кентавром… — пробормотала я.
Кэррон не выдержал и засмеялся: видно, представил себе эту картину. Я села, обняла его сзади, уткнулась подбородком в его плечо. Кэррон погладил мою руку.
— Знаешь, — сказал он, — А мы ведь, наверное, больше не увидимся.
— Кэр!
— …Мне нужно кое-что сделать, и я, наверное, не успею вернуться до твоего отлета. И я хочу тебе кое-что подарить.
Он развел руками, и она вдруг блеснула в воздухе и упала в подставленную ладонь — тонкая золотая цепочка с затейливыми звеньями. Работа аульвов, не иначе. А может, и нет, кто знает. Такое маленькое чудо, которое он совершил, почти не обратив внимания. Подумаешь — достать цепочку из воздуха, все вороны их, наверное, там хранят, а меня это так завораживало. И не сразу я подумала: что это за цепочка — ритуальная чертова штука, воронье обручальное кольцо.
— Возьми, хорошо?
— Кэр я… — я вдруг охрипла, — Я не могу, что ты!
Он разжал мою руку и всунул мне цепочку.
— Тебе не обязательно носить ее. Мне это, в общем-то, безразлично. Просто мне хочется что-нибудь подарить тебе, а больше нечего. Я хочу, чтобы ты вспоминала меня.
— Ты думаешь, я так не буду тебя вспоминать? Кэр!
— Возьми, ладно? Не будем спорить.
— Кэр, — сказала я тихо, — Ведь ты еще молод.
Он повернулся и посмотрел на меня. Я смутилась.
— Ну, я хочу сказать, что… ну, она может понадобиться тебе.
Кэррон покачал головой.
— Ты не можешь знать наперед!
— Мне пора, — сказал он, — Ты береги себя, деточка, я знаю, ты совсем сумасшедшая.
— Сам такой, — буркнула я.
— Береги себя.
— Ты тоже.
Он улыбнулся. Встал. Я его не провожала. У двери он обернулся, я все сидела на кровати. Он только посмотрел на меня и вышел, ничего не сказал.
А я легла и надела эту цепочку. Вот так я вышла замуж, кто бы мог подумать. Как говорил лииен с непроизносимым именем: "история — не зеркало". Ра — жена Царя-изгнанника. Дубль второй.
51. Из сборника космофольклора под редакцией М. Каверина. Литературная обработка Э. Саровской. Король файнов.
(Примечание Каверина М. А.: вероятно, это сказание является достаточно старым, поскольку в настоящее время файнами правит Совет старейшин Лориндола).
Она сидит на краю обрыва, и внизу шумят осенние леса, переливаясь под порывами ветра, и ало-золотые клены колыхаются над ее головой. Она расчесывает волосы. Ветер треплет длинные золотистые кудри, черепаховый гребень мелькает в них, сжимаемый тонкими пальцами.
А в двадцати метрах от нее, прислонившись к тонкому кленовому стволу, стоит он и смотрит на нее усталым, обреченным взглядом. Он — ее верная тень. Он — ее муж. Он — Король файнов.
Он следит за ней постоянно, и она знает об этом. Она знает, что он стоит там, в кленовых зарослях, и смотрит на нее, не знает только, какая тяжесть у него на душе. Отчего он следит за ней? Оттого, что она смертная, оттого, что она тоскует по родным, оттого, что она любит другого.
Пять лет назад Король файнов увез ее из родительского дома, украл, как крадут скотину лихие парни; пять лет она живет в Волшебной стране, пять лет она танцует на тропинках в бескрайних лесах, как одна из Них, но она не файн, и ей холодно и одиноко в волшебных владениях мужа.
Это случилось летом, когда она плясала на поляне в ромашковом цвету, тонкая, в белоснежных одеждах, объятая золотом волос. Она услышала топот копыт и метнулась в заросли, но, запутавшись в плетях ежевики, упала. Всадник выехал на поляну, их глаза встретились, и ее страх вдруг ушел — как не было. Всадник был совсем молодой, почти мальчик, стройный как деревце, темноволосый, с ясными зелеными глазами.
И вот уже пришла осень, и холода сковали землю лесных тропинок и позолотили листву, а они все продолжают встречаться, и только сейчас ее муж узнал об этом. И вот он стоит и смотрит на нее, и сердце его сжимает смертельная тоска. Он ждет того, кто украл любовь его жены, и когда они сойдутся здесь, все трое, кому-то из них придется умереть — ей или ее любимому.
Но время идет, сгущаются сумерки, ветер крепчает, а он все не едет. Король файнов стоит, прислонившись лбом к шершавой коре, и вечерняя роса равно ложится и на тонкий ствол, и на темные волосы файна.
Он не пришел. Ночью, поднявшись с цветочного ложа, она уходит украдкой и идет в деревню. И там, заглянув в освещенное окно, она видит своего любимого с другой женщиной. Она видит, как они обнимаются и смеются, как он целует ее в губы, и сердце жены Короля Файнов бьется глухо и с перебоями.
Она снова идет к обрыву, туда, где она ждала его, своего возлюбленного. Она не плачет и не сетует на судьбу; так же сидя на краю обрыва, она ждет рассвета. Воздух постепенно светлеет, солнце всходит из-за дальних гор, и в тот момент, когда первые солнечные лучи вспыхивают в ее волосах, она бросается вниз — навстречу осенним лесам.
С глухим криком ее муж кидается к обрыву, но поздно — ее уже нет. И если бы он мог, он бы умер, потому что сердце его исходит болью, но, бессмертному, ему недоступно это утешение.
А в золотой листве путается ветер, и солнце освещает осенний мир, и все идет по-прежнему.
52. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день пятьдесят третий.
В здании ратуши было темно и тихо. Приемная была пуста, на пыльном столе лежали какие-то позабытые бумаги, на вешалке в углу висел позабытый кем-то форменный камзол. Здание ратуши освобождали, видно, в спешке; теперь здесь жили вороны.
Приемная была большой и очень темной комнатой, два узких окна по обе стороны двери почти не пропускали свет. Стены были завешаны гобеленами, но из-за темноты сюжеты их оставались тайной. Пол был каменный, кажется, даже с мозаикой, но давно не мытый. Шаги мои гулко отдавались в помещении. Из приемной вели две двери, за одной оказалась маленькая захламленная комнатка с окном, завешанным темной шторой. В углу валялись чьи-то сапоги. Я затворила эту дверь и открыла другую.
Там оказался длинный и широкий, светлый коридор. По одной стене шли высокие полукруглые окна с затейливыми решетками, за окнами был сад. Ставни все были сняты, и растения едва ли не лезли в коридор. Пахло какими-то цветами, хоть я никаких цветов и не видела. По другой стене тянулись двери, выкрашенные светло-коричневой краской. Навстречу мне по коридору шел высокий худощавый ворон в коротком широком плаще. У него было узкое, словно лезвие кинжала, темное лицо, а волосы — роскошные, как у женщины, черные густые кудри, спадавшие ниже плеч. На нем были легкие свободные брюки, мягкие полусапожки, длинная рубаха с широкими рукавами и глубоким вырезом. Под ней было надето еще что-то. Все это было легкое, из тонкой шелковистой ткани, не стесняющее движений, и черное, словно ночь. Все они так одеваются, но плащи носят обычно длинные, с застежкой на левом плече. Я знала этого ворона, как ни странно. Это был Дрого.
Увидев меня, Дрого остановился. Серебряная флейта висела на груди на мелкой серебряной цепочке. Плащ не закалывался, а висел на завязках. Широкий такой, не длинный, всего до колен доходящий плащ с широким капюшоном. Может, такие плащи носили, когда Дрого был молодым. Он был не самым старым вороном из тех, кто был мне известен, но сейчас, наверное, остался самым старым на планете. Лицо у него было даже смуглее, чем обычно бывает у воронов, почти черное, странное лицо; узкий лоб пересечен был двумя глубокими морщинами. Он не улыбнулся. Глаза у него были небольшие, а ресницы отчего-то редкие. Веки были синеватые, словно у покойника.
— А, — сказал Дрого, — Царь-ворон будет очень рад вас увидеть. Он вспоминал вас.
— Да? — сказала я.
— Да, он вас вспоминал, госпожа координатор. Когда-то вы были очень милым ребенком.
— Теперь, видно, я уже не такая милая.
— Ну, что вы, — улыбнулся он, кинув на меня неожиданно острый взгляд, — Кто-то из наших так не считает, не так ли? Хотя не знаю, могу ли я все еще называть его одним из нас, вы уж извините.
Так. Он заметил. Мы медленно пошли по коридору. Дрого доброжелательно улыбался. Он слегка запрокидывал голову, и оттого казалось, что он смотрит на всех свысока. Изящен он был так, как бывают изящны лишь очень старые, но не дряхлые существа. Дрого всегда мне нравился. Тогда, в моем далеком сказочном детстве он буквально поразил мое воображение. Меня всегда привлекала старость, в ней есть что-то такое, чего нет и не может быть в пустой и бестолковой юности. Широкий плащ Дрого подрагивал при каждом его шаге — словно крылья бабочки.
— Вас это не шокирует, не задевает, да? — сказала я, может, слишком торопливо. Мне казалось, я должна оправдаться перед этим вороном. Почему, я даже не знаю. Где-то в глубине моей души все это время жила странная и печальная уверенность в том, что мне не следует быть рядом с Кэрроном, что этого нужно стыдиться. Ведь он — изгнанник. Это было даже не чувство, а перед-чувством; это было словно в подсознании, ведь и я в детстве слушала сказания о Марии из Серых гор. Я тоже в детстве слушала и верила в то, что должно от изгнанника отворачиваться, должно…. Как все это странно, глупо, как это естественно. Нет ничего в мире естественнее, чем выкрутасы подсознания.
— Что именно? — спросил ворон.
— Мое замужество.
Он поджал узкие губы, отчего резче обозначились складки у рта, пожевал губами и вдруг тихо и печально улыбнулся. Это была даже не улыбка, а пол-улыбки или даже четверть.
— Его отец, — сказал Дрого, не глядя на меня, — Истор, был моим другом. Очень хорошим другом. Меня, естественно, печалит судьба его сына, очень печалит. Он слишком молод, чтобы умирать, тем более такой страшной смертью.
— Но вы не были против его изгнания.
Дрого остановился.
— Что я мог поделать? — сказал он медленно, — Вы, наверное, не знаете, но я не был вхож в Совет.
— Я знаю, — сказала я, — в наших архивах есть список членов Совета Старейшин.
— Когда мальчика избирали Царем, — печально сказал Дрого, — я тогда уже знал, что добром это не кончиться. А ведь он был хорошим Царем, не много у нас было таких Царей.
Мы стояли посреди коридора, и узорчатые тени от решеток ложились на каменный, до мельчайшей трещинки освещенный пол. Было так тихо, как бывает иногда в больших каменных зданиях. Казалось, никого, кроме нас, здесь нет, а на самом деле могло быть за каждой дверью по десантному отряду. Вместе с катерами. В этих домах всегда так. Почти незаметный цветочный запах наполнял коридор. Потом я увидела, что Дрого медленно растирает меж пальцев сиреневый лепесток. На руках у него были тонкие черные перчатки, на безымянном пальце поверх перчатки было надето серебряное витое кольцо.
— Но его все равно изгнали, — сказала я.
— Изгнали его за другое.
— За что же? — резко сказала я.
— Всего дважды нашими Царями становились маги, и это кончилось плохо для обоих. Тем редким магам, что были среди нас, приходилось идти к Царю, если им нужна сила Жезла Корда. Но если власть и сила Жезла попадают в одни руки…. Совет этого не любит, госпожа координатор, Совету это неприятно, и из-за любого конфликта может произойти взрыв. А особенно, если на место Царя есть уже кандидат, во всех отношениях подходящий: зрелый, лояльный к Совету, из хорошего рода, прославленного созданием этого самого Жезла. Кому, как не потомку Корда, отдать в руки Жезл? И никто не станет считаться с тем, что Корд был не менее независим и силен, чем юный сын Истора.
— Вы не зовете его уже по имени, — сказала я внезапно.
— Да, не зову. Такова реальность, и я ее изменить не в силах…. Но я вижу, он не одинок.
— Я улетаю, — сказала я тихо.
— Ах, вот как, — обронил Дрого, — Я отчего-то думал, что вы останетесь. Как он?
— Не так плохо, как могло бы быть… особенно если вспомнить о его предшественнике.
Дрого, казалось, задумался о чем-то.
— Знаете, — сказал он, — А ведь тот был настоящий дьявол. Мой дед рассказывал мне о нем. Мальчик с ним ни в какое сравнение не идет. Он был очень жестоким. Чужие страдания были для него ничем. Впрочем, ему и самому пришлось страдать безмерно. Его жена…. Дед рассказывал, его жена говорила о нем так, словно ненавидела его.
— А его сын? — спросила я, — Что было с ним? Ведь у него остался один сын — по легенде.
— Ничего такого, о чем я бы знал. Но у выдающихся личностей дети обычно бывают ужасными посредственностями…. Я надеюсь, сыну Истора не придется так страдать, как тому…
— Его звали Дорн, — сказала я, внезапно решившись.
— Что?
Дрого взглянул мне в лицо. Потом понял, опустил глаза, задумался. Лицо у него было странное. Такое, какое могло бы быть у жреца, наблюдающего за осквернением святынь, — если жрец втайне ненавидел свою религию. Странное лицо, и глаза пустые, словно у змеи.
— Его звали Дорн. Это правда.
— Вот как, — сказал Дрого медленно.
— Я хочу, чтобы вы об этом знали.
— Я? Или вы имеете в виду воронов?
— Я скажу Ториону, Кэр хочет этого. Но вам я говорю отдельно. Только вам. Мне хочется, чтобы вы это знали.
— Почему именно я?
— Вы хорошо говорите… о них обоих. По крайней мере, вы будете знать, как его звали. Раз уж это имя всплыло через столько лет…
— Да, — сказал Дрого, останавливаясь перед дверью, — Царь-ворон здесь. Зайти с вами?
— Да нет, спасибо.
— Вы еще увидите мужа?
— Не знаю, — сказала я.
— Если увидите, скажите ему… что я беспокоюсь за него. Если я могу что-то сделать для него, я сделаю.
— Спасибо, — сказала я тихо. Я не ожидала от него этого. Дрого легко поклонился и пошел прочь. Я проводила его взглядом: тонкий, весь в черном, посреди коридора, наполненного солнечным светом и запахом зелени, он казался невыносимо изящным, словно иероглиф, вычерченный черной тушью на белом свитке. Если мои воспоминания не врут, они все такие, вороны, я имею в виду. Они не все отличаются красотой, но изящество и стать — это всегда при них; глядя на воронов, очень легко поверить в то, что они действительно некая высшая раса, может быть, и утратившая свое былое могущество. Очень легко, боже мой, слишком легко.
Я решила не стучать, просто толкнула дверь и вошла.
Большая светлая комната была обставлена, так сказать, в вороньем стиле: отсюда явно выносили мебель. Не думаю, что в ратуше могла быть настолько пустая комната, здесь и стояло только, что кровать, стул и небольшой письменный стол. Пол был каменный, а стены обшиты светлым деревом. Раньше, я думаю, на полу лежал ковер, теперь его не было: вороны, наверное, предпочитают голый камень. Оба окна были открыты, за окнами был внутренний садик, дальше снова видна была стена. Окна были низко, и прямо в комнату заглядывал высокий раскидистый куст с алыми бутончиками роз. Это был альверденский сорт — цветы мелкие, словно клубника, и невыносимо алые, чистого ясного цвета, такой редко встречается у цветов. Отчего-то цветы эти наводили на мысль о гриновском Грэе, выбиравшем алую ткань на паруса. За кустом давно не ухаживали, он беспорядочно разросся, раскинув во все стороны гибкие колючие ветки. Иные ветви лежали на подоконнике, с таким видом, словно прилегли отдохнуть. На редкость самодовольный был куст. На столе в маленьком сосуде, похожем больше всего на стаканчик для карандашей, стоял букетик из мелких алых роз и сиреневых цветочков с длинными узкими листьями, как у тюльпанов. Букетик был милый, но выглядел, как случайно нарванный веник. За окном ярко светило солнце.
Торион сидел за столом, спиной к двери, плащ его валялись на кровати. Услышав, что открылась дверь, он обернулся и, отодвинув стул, встал. Сухощавый, смуглый, красивый. Но я не могла забыть, как Кэррон стоял перед ним на коленях, и какое жалкое и страшное было тогда у Кэра лицо. И не могла не видеть тонкий витой жезл из черного металла, висевший у него на поясе.
— Госпожа координатор, — сказал Торион с легким поклоном, — Как приятно вас видеть.
— Правда? — сказала я. Если он ждет от меня титула, то не дождется.
Нас разделяло метра два, не больше. Сесть он мне не предложил, сам тоже не стал садиться, просто стоял передо мной, озаренный солнцем. Он всегда был такой, спокойный и строгий, и всегда казалось при взгляде на него, что он из тех, кто заметит мельчайший беспорядок у тебя в одежде и в мыслях. Может, оттого я так его и невзлюбила, дети не любят таких людей, а скорее даже бояться. Возле таких типов вся непосредственность замерзает, словно вода в Арктике. Не знаю, как они дружили с Кэром, тот ведь полнейшая непосредственность; говорят, конечно, что противоположности сходятся, но не до такой же степени. Хоть, может, и до такой. И вот чем кончилась их чертова дружба.
Красивое лицо Ториона вдруг окаменело. Взгляд его уперт был в мою шею. Я усмехнулась и тронула цепочку в вырезе рубашки.
— Если вас это беспокоит, — сказала я, — то не беспокойтесь. Это просто подарок.
— Подарок?! — повторил Торион с совершенно непередаваемой интонацией.
— Так мне сказал Кэррон. Женой он меня не считает, не беспокойтесь.
Торион помолчал, вскинул голову.
— Если я не ошибаюсь, вчера на вас этого еще не было.
— Простите, конечно, но вам-то какое дело? — сказала я, начиная злиться. Я понимала, что не стоит ему грубить, ведь, кто бы он ни был, теперь он носит Жезл, но не могла сдержаться.
— Что вам нужно было от меня вчера?
Торион молчал, опираясь рукой на угол стола.
— Ладно, — сказала я нетерпеливо, — это все неважно. Я пришла к вам вот почему, — держа рукопись на весу, перелистала страницы, нашла нужную, — Это записи служительницы Света из деревни Дарсинг. Оттуда ведь, кажется, была мать Кэррона?
Торион слегка побледнел, но ничего не сказал.
— Но эти записи относятся к временам более древним. Прочтите, здесь немного.
Торион взял книгу и стал читать. Я обошла его, отодвинула стул и села. Торион прочитал, захлопнул книгу, положил на стол. Оперся на книгу рукой и взглянул на меня. Взгляд у него был непроницаемый, спокойный и холодный, но в нижней половине лица что-то подрагивало.
— Где вы это взяли?
— В Альвердене, — сказала я.
— В Альвердене?! — в его голосе прозвучал гнев.
— Да, там, — сказала я, глядя на него снизу.
— Почему вы принесли мне это?
— Ну, вы же теперь… Царь-ворон.
— Ах, вот как.
Какое-то время мы молчали. Потом я сказала:
— Я хотела бы, чтобы эта рукопись вернулась в альверденскую библиотеку.
— Вы ведь улетаете, насколько я знаю, — пробормотал Торион.
Я удивленно посмотрела на него. Торион отвел глаза. Я улыбнулась и продолжала негромко:
— Конечно, в вашей власти уничтожить эту запись. Насколько я понимаю, с остальными так и поступили.
— Я мало об этом знаю, — сказал Торион.
— В любом случае это будет бессмысленно. С этой рукописи сделаны копии, и они не только в наших здешних архивах, но и в архивах Земли и Веги. Туда вы не доберетесь при всем желании.
— Зачем же вы сюда пришли? Этакая месть?
— Нет, это не месть, — сказала я как можно равнодушнее, — Вам нужно об этом знать, ведь это ваша история. И копии — тоже не месть. У нас была договоренность с университетами о копировании всех библиотечных фондов. Работа уже была начата, теперь, я думаю, она продолжиться.
— Вот как? А мне показалось, то, что вы пришли сюда с этой рукописью, это какой-то намек.
— На что намек? — сказала я, — На что? На то, что ради этого жезла вы обрекли своего друга на мучительную смерть? Ну, что вы. Я вас не люблю, это правда, и в детстве не любила, но я не за этим сюда пришла. Дорн был — вашим Царем, это история — вашего народа, только поэтому я и пришла, а так — век бы мне вас не видеть. И копии я сделала не для того, чтобы досадить вам. Да вы хоть понимаете, что она означает, эта находка, Торион? Это же единственное документальное подтверждение того, что вся эта история была в действительности, иначе ее можно было считать лишь сказкой. Если вы не цените собственное историческое наследие, это ваши проблемы. Мы ценим, мы приучены бережно относиться к историческим документам.
— А вы действительно… — Торион отошел к окну и так, не оборачиваясь ко мне, глухо продолжал, — действительно думаете, что я… хотел просто занять его место?
Похоже, это его задело.
— А разве не так? А помните, — быстро заговорила я, и голос мой опасно зазвенел, — как вы во второй раз читали над ним заклятье, а он стоял на коленях перед вами и только голову ниже опускал под вашими взглядами? Не помните?! Вам ведь понравилось его унижение, разве нет? Он был вашим другом. Он был — вашим другом.
Торион обернулся, весь дрожа, и лицо у него было бледное.
— Неужели вы думаете, что я сделал бы это — ради власти? — крикнул он.
— Да, я так думаю.
Торион провел рукой по лицу, словно стирая с него волнение. Быстро же он успокоился, или это была всего лишь игра?
— С вашего позволения я верну рукопись в библиотеку. Говорить, я думаю, нам больше не о чем…. Да, кстати, вот это месть, мелкая такая: Дорна забыли, но с Кэрроном это не выйдет. Он вступал в контакт с землянами. Его имя, события его жизни, все есть в архивах. Его не забудут, как Дорна, даже если вы хотите этого.
А когда я пошла к двери, Торион задумчиво сказал мне вслед:
— Все-таки он добился своего… как он хотел сделать вас своей женой! Еще тогда, когда вы были маленькой девочкой. Элиза помешала ему.
Я обернулась у самой двери.
— Ах, как мелко! — сказала я, — Не достойно такого великого правителя. К тому же, я знаю об этом. А вы все-таки — подлец, Торион.
— Вот как вы обо мне думаете.
— Я не думаю, я знаю. Я всегда это знала. Еще в детстве знала. Я надеюсь, больше мы с вами не увидимся.
Вот так. Поскандалила с Царем-вороном. Как он взвился, когда я сказала, что он сделал это ради власти!
Рукопись вернется в Альверден, потом все библиотеки опечатают, чтобы не было пропаж. Мало ли что. Копирование действительно начнется, Эмма Яновна собирается этим заняться и ищет помощников среди исследователей.
Рейсовый звездолет «КР-234» будет проходить в восьмом секторе, и они возьмут меня на борт до Веги. Хотя оба катера повреждены, не знаю, успеют ли починить хоть один. На «КР» таких катеров нет, это звездолет пассажирский, там только спасательные шлюпки. Если катер починят, я улечу отсюда через пять дней.
Мне хочется умереть. Впервые в жизни. Я чувствую себя глубокой старухой. Бывает, устанешь так, что лень даже рукой шевельнуть, — вот так я устала жить. Мне лень встать, сделать движение. Говорить с кем-то, о чем-то думать, лень жить. Мне хочется отдохнуть от жизни, не видеть, не слышать, ничего не ощущать. Ни о чем не думать. Лежать мертвой в своей могиле. У меня все в голове вертится это из «Гамлета»: "умереть, уснуть, и видеть сны, быть может". Там еще дальше: "какие сны приснятся в смертном сне?".
53. Из сборника космофольклора под редакцией М. Каверина. Моление файнов. Записано в святилище в долине Флоссы во время ежегодного праздника.
Боги закатных и рассветных полей,
Дневных и ночных, промокших,
Играющих с ветром, снегом прикрытых,
Пожелтевших и едва восходящих.
Боги лесов, хмурых или поющих,
Солнцем или луной освещенных,
Весенних, осенних, заснеженных или цветущих,
Опавших листвою иль зеленеющих в мае.
Боги воды, струящейся с неба на крышу,
На пожелтевшие или возросшие нивы,
То солнечной, светлой, то хмурой, тяжелой,
Льющейся темной сплошною стеною.
Боги лесных озерцов с темной зеркальной водою,
Вчерашних или сегодняшних, в густой листве
Запрятанных, с заснеженными берегами
Или льдом скованных, потерянных или найденных.
Боги обрывистых глинистых берегов,
С кричащими стрижами и молчащими,
Под дождем и солнцем, заваленных снегом,
Ночных и туманных, хмурых.
Боги солнца, и звезд, и луны,
Летних и зимних, ярких, невидимых,
Звонких, сквозь туман или тучи
Светящих, хмурых и радостных.
Боги реки темноводной, в осень
И лето текущей, завтрашней или
Вчерашней, подо льдом или снегом,
На солнце играющей вольно.
Боги лет и зим, весен и осеней,
Прошедших и будущих, вечных,
Переменчивых и постоянных,
Всюду бывающих рядом.
Боги мгновений и капель,
Слов и движений, летящих
Мимо и сквозь беспрестанно,
Запутанных и бесконечных.
Лишь об одном
Возношу я моленье в сей час:
Существуйте и нас не покиньте —
Ни сейчас, ни во веки веков.
54. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день пятьдесят четвертый.
Утро тихое, прохладное. На востоке над верхушками редких деревьев чертят небо розоватые прерывистые полосы. А небо все, где потемнее, где посветлее, покрыто ровными сотами облачков, и лишь в просветах между ними мелькает голубизна. Когда я проснулась, птицы вовсю чирикали возле дома, теперь они замолкли. Тихо вокруг.
День моего отлета все ближе, он приближается так неотвратимо, словно день казни. Я не могу улететь отсюда, боже мой, не могу! Как я буду жить, зная, что никогда больше этого не увижу? Не увижу Иллирийских лесов, не увижу, как кудрявые верхушки деревьев рисуются на фоне рассветного неба…. Так никогда и не увижу Проклятых поселений, а они тянут меня с магической страстностью, они сняться мне — небольшие дома среди заросших огородов, среди невысоких яблонь и вишен, не превосходящих ростом кусты калины, растущие тут же. Не увижу больше Дэ. Я не хочу жить без всего этого. Я не хочу, я не смогу так жить.
Которое утро так — сначала прохладно и сумрачно, а к полудню разыгрывается вдруг жара и какая! Так душно и жарко становится, что не знаешь уж и куда деваться. День моей казни все ближе. Я жду его. А перед моими глазами стоят не Дэ, не Торовы Топи, мне все видятся кирпичные и бревенчатые дома на высоких фундаментах, смешные садики-огородики, трава на дорожках, а вокруг, словно стража, Иллирийские леса. Чудятся мне Проклятые земли. До чего странно. Жаль, что я так и не собралась побывать там.
Мне постоянно сниться, что я там живу. Что я просыпаюсь поутру в Проклятых поселениях, а улица пуста и тиха, оттого что жители там встают поздно. Я просыпаюсь, а от дома моего до леса — два участка и дорога. И деревья наполняют все окна.
…С утра я говорила с Михаилом Александровичем. Зашла к нему в миссию, он завел себе там на первом этаже рабочий кабинет, и сидит там день-деньской, закопавшись в бумаги, похожий на университетской профессора. Издатели торопят его, и он весь в работе.
Кабинет у него большой, целый кабинетище, и в довольно — мм — веганском, что ли, стиле. Металлизированные серые стены, минимум мебели, все строго функционально, без украшений и прочих глупостей. Такой стиль в обстановке — отдохновение для глаз, ничто не отвлекает, ничто не тревожит. Странный стиль для места, где живут и работают исследователи, обычно они ценят уют — в отличие от нормальных, например, веганцев, бизнесменов, кулинаров и прочих людей мирных и спокойных профессий.
Я постучала, не дожидаясь ответа, вошла. Каверин заулыбался, подняв голову.
— Как ваши дела? — спросил он.
Я улыбнулась в ответ — не знаю только, была ли достаточно веселой моя улыбка.
— Если катер не смогут починить, я не улечу. Я уж подумываю, не доломать ли мне его.
— Не хотите улетать?
— Не хочу, — сказала я, присаживаясь на край стола.
Михаила Александровича это не шокировало, он и сам на столах любил посидеть. Не знаю, почему, но мне всегда казалось, что на столе сидеть удобнее, чем на стуле, — выше, все видно. Михаил Александрович отодвинул от себя толстую тетрадь, положил ручку и, подперев щеку рукой, стал смотреть на меня. Он был в очках и оттого казался похожим на ученого кота, того самого, что ходит по цепи кругом, цепей, правда, здесь не наблюдалось. Интересно, как в некоторых людях заметно это сходство. Я, например, птичка, пусть подчас очень злая птичка, но кошкой меня никому не придет в голову назвать. А вот Михаил Александрович — кот, но не дикий, не хищный, а раскормленный, домашний, умный и хитрый, но ум свой и хитрость свою прячущий под пушистой шерстью. Я смотрела на него, а он смотрел на меня, потом снял очки, потер нос и сказал:
— Знаете, интересное я кое-что вспомнил. Вы-то латынь, наверное, не учили.
— Нет, — сказала я.
— А я тут вспомнил. Знаете, как в Риме называлось изгнание? Aqua et igni interdictus. Запрещение пользоваться водой и огнем.
Я вздрогнула.
— Вот так-то, — сказала Каверин невесело.
— Здесь не Рим, — сказала я.
— Н-да.
— Как у вас работа?
— Отлично, — сказал он, — Отлично, Кристина, спасибо, что спросили, — усмехнулся, — Издатель мой съест меня живьем. Я не успеваю, хоть Эмми мне помогает изо всех сил, уж она такая. Кстати, она ненавидит, когда ее зовут Эмми.
— Не буду, — сказала я.
— А вы, Кристина, не поможете старику? Что скажете, бедная странница? Вы знаете, у меня ужасная болезнь, чем больше у меня работы, тем больше разбредаются мои мысли.
— Как вы меня назвали? — сказала я, улыбаясь.
За окном светило солнышко. Штор здесь не было, и серь стен мешалась с солнечным светом. Если бы не Михаил Александрович, можно было представить, что ты на Веге, лишь там можно поймать это сочетание — солнечный свет, отраженный от серого. Прозрачное, безжизненное, ничем не напоминающее зеленые планеты сочетание. Есть картина такая, называется "мир — не-мир", трехмерная обычная картина, на ней серое солнце светит над золотистым миром, и серые лучи теряются в золотистой дымке. Это вовсе не шедевр, и я даже не знаю, кто ее автор, но я, когда еще училась в университете, часами могла стоять перед ней, и мне казалось, что я проваливаюсь в эту смесь золота с серым. Мне кажется, в этом вся Вега, в этих двух цветах, смешанных неуловимо тонко, моя Вега. Ведь я выросла там, и я люблю эту планету, так отстранено, как можно любить лишь планету, на которой ты не родился. Родную планету любят совсем иначе, как я люблю Алатороа, например. А Вега, Вега всегда восхищала мое эстетическое чувство, серо-золотая, неуловимая, рационально-точная Вега. И в этой комнате я увидела, почуяла веганский дух, веганский свет.
А Михаил Александрович улыбался.
— Бедная странница? — сказал он, — Разве вы не читали этот роман? "Бедный странник"?
— Нет, — сказала я.
— Это история одной организации, похожей на вашу…
— На какую — нашу? — сказала я резко.
Михаил Александрович усмехнулся.
— На координаторов, не на Ассоциацию. Неужели вы не читали, столько шума было по поводу этого романа, неужели не читали? — я не ответила, — Там эта организация, называлась она Служба Мира, выполняла вроде как полицейские функции и спасательные. Работали они в Ближнем Космосе, не так, как вы, но все равно чем-то похоже. И их тоже не любили, а проще сказать ненавидели, и сотрудники этой Службы Мира часто сходили с ума и начинали убивать. Вот там описана история одного парня, который так свихнулся и начал убивать людей, причастных к гибели одной планеты. Эти люди состояли в какой-то комиссии и что-то там проморгали, и из-за этого погибло население целой планеты.
— И чем это на нас похоже?
— Не знаю, но похоже.
— Михаил Александрович, вы можете себе представить сумасшедшего координатора? — сказала я, — Вы вообще, представляете себе, что может натворить сумасшедший координатор? Не слегка свихнувшийся, а по-настоящему? Да это же катастрофа галактического масштаба, придется эвакуировать все планеты на расстоянии светового года…
— Все шутите, — сказал Каверин.
— Я не шучу.
— Ну, так что, вы мне поможете?
— Нет, — сказала я, — Вы извините. Я пойду, Михаил Александрович. Я еще хочу кое-куда слетать. На прощание.
— В Торовы Топи?
— Нет, я… в Поля Времени.
Михаил Александрович надел очки и посмотрел на меня.
— Вы с ума сошли, Кристина! Ведь там люди пропадают, там две экспедиции пропало.
— Нашли куда посылать экспедиции, — пробормотала я, — Ну, ладно, я пойду. Я вечером еще забегу, хорошо?
Я спрыгнула со стола и подошла к двери, оглянулась.
— Конечно. Заходите, Кристина.
Я попрощалась и ушла. А потом я села в глайдер и полетела. На север.
Я давно уже хотела побывать там, но все… не решалась, что ли, вспоминала о том, что там было в прошлый раз. Но раз уж я улетаю, то не могу же я улететь, не побывав там. Это страшное место, некоторые так за всю жизнь там так и не побывали, но кто побывал однажды, тот возвращается снова и снова. Потому что это место не страшное и не прекрасное, оно просто есть и все. Оно настоящее. И оно может ответить, если его спросишь.
Смешно все как-то сошлось в моей жизни. Я могу восхищаться Вегой, самой урбанизированной планетой в обитаемом космосе, я могу любить Вегу, я могу быть координатором, самым рациональным существом во вселенной, но сердце мое замирает стоит мне встретиться с чудесами. Сердце мое замирает, стоит мне лишь вспомнить о Полях Времени. Сердце мое….
Я пролетела над Поозерьем и взяла к западу. Серые горы я видеть не хотела. Летела я долго, почти три часа, потом, когда увидела Блуждающий лес, приземлилась. Когда я была в Полях Времени в прошлый раз, Блуждающий лес был в Поозерье, на берегу Крапивного озера. Теперь он километров на сто севернее, так что он и впрямь блуждает, хотя не все в это верят.
На опушке леса цвела калина, хотя давно уже перевалило за середину лета. Я вылезла из глайдера и по пояс утонула в траве.
Поля Времени начинались севернее Блуждающего леса, но лететь дальше я не решилась. Не знаю, пытался ли вообще кто-то летать над Полями Времени. Единственное, чему я точно научилась на Алатороа, так это тому, что с чудесами нужно быть осторожным. Если они есть, они смертельно опасны, как ядовитые змеи, и так же прекрасны: нечеловеческой, внеморальной, неукротимой красотой.
Цвел лабазник. Медвяный запах висел в воздухе. Только что, видимо, прошел дождь, трава была мокрая и липла к моим брюкам. В воздухе висела влажность. Стояла невероятная тишина, ни одна птица не чирикнула в лесу, ветра не было, и вокруг было так тихо, что я слышала свое глупое маленькое сердце. Оно билось, как у зайца, — от волнения. Это было чистое волнение, но в нем, как в меде, была легкая горечь: я еще не знала, хочу ли я на самом деле попасть в Поля Времени. Все же я сохранила не самые приятные воспоминания об этом месте.
Впрочем, необычное приятным не бывает. Приятное — это, что дает уют, а значит — привычное. Но меня тянуло туда, как магнитом. Я шла с затаенным волнением — сквозь мокрые травы. А потом я увидела Стены тумана.
Впереди, в метрах пятидесяти от меня, вдруг возникала сплошная серо-белая стена, перечеркнувшая мир. Перед ней была зеленая трава, и лабазник, мокрый и пряный, за ней не было ничего. Трава и небо кончались подле этой стены. Серо-белая поверхность не была сплошной, они клубилась, словно туча, переливалась всей массой. Так выглядят облака, если смотреть с вершины горы, так выглядит туман над озерами ранним утром, только это был неестественно плотный, непроглядный туман.
Шаг мой замедлился, я брела по траве, почти не глядя вперед. Вот я дошла и остановилась на миг, замерла и только потом шагнула. Словно прыгнула с мостков в глубокий омут. Весь мир от меня словно отрезали, и особенно это было заметно на слух. Там, за стеной, еще были какие-то звуки, шелест травы, липнущей к моим ногам, редкое жужжание всякой насекомой мелочи. Здесь же не было слышно ничего. Уши будто заткнули ватой. Меня обступил туман, плотный, холодный, мокрый. По телу поползли мурашки, я мгновенно озябла.
Я прошла несколько шагов и остановилась. Теперь я даже не смогла бы определить, откуда я пришла, вокруг был только туман. Я ждала. Я не чувствовала нетерпения, в таких местах нетерпения не испытываешь, это не очередь в кино. Сердце мое колотилось, а в животе был кусок льда. Я просто стояла, тихая, покорная, опустив руки, и ждала. Я знала, скоро все случиться. И вот она возникла передо мной в тумане — красноватая мерцающая тропа. И я пошла туда, куда меня приглашали.
Туман двигался, в нем были какие-то течения; он проплывал мимо меня серыми клочьями. Но даже в просветах ничего не было видно, словно здесь ничего и не было — только серь, и тишь, и мокрый холод. И красные мерцающие сполохи у меня под ногами. Тропа то появлялась, то погасала, каждый раз я ждала, не зная, возникнет ли она вновь или я уже пришла, куда мне надо было. В конце концов тропа исчезла совсем, и я осталась одна. Ничего не происходило. Я не помнила, так ли было в прошлый раз, но мне и не нужны были видения, честное словно. Мне вполне хватало тумана и этого чувства, что появляется, стоит ступить за Стены тумана, — чувства, что ты уже вне мира, в некой иной реальности. Как говорил Рездиг Этре: "там повсюду магия, она разлита там, как туман в долине Флоссы, зажатой горами". Мне хватило бы и этой «разлитой» магии, ибо я ощущала ее всем телом, всей душой.
А потом сбоку от меня в тумане возникло видение. Оно разгоралось постепенно, становилось все ярче, а я стояла и ждала, когда оно наберет полную силу. Передо мной словно проявлялась фотография, только живая, объемная: заснеженная тропа на дне ущелья, метель, беснующаяся между скалистыми стенами. На какой-то миг мне показалось, что это Кэррон сидит там, безжизненно привалившись к камню, и, обмерев, я бросилась к нему. Но через несколько шагов я наткнулась на невидимую преграду.
Это было так реально и так близко, но я не могла пройти эти три метра, что нас разделяли, меня не пускали дальше. А прямо передо мной бушевала вьюга, и среди камней он сидел, и снег оседал на его волосах, свисавших обледеневшими сосульками. Снег оседал на его запрокинутом лице. Как страшно было это изможденное лицо — череп, обтянутый серой кожей, без малейшего признака вороньей смуглости. На лбу была гноящаяся рана, мелкие язвы покрывали ввалившуюся щеку, язвы были в углах губ. Изодранная рубаха открывала худой бок, весь покрытый гнойниками. Теперь я видела уже, что это не Кэррон. Волосы короче, совсем иные черты….
Он шевельнулся. С ужасом я смотрела на него: тело его завалилось на бок, он схватился за камень одной рукой и пытался подтянуться себя. Пополз куда-то. Получалось у него плохо. Дно ущелья пошло вниз, тело ворона скатилось по заснеженными камням и замерло. На снегу видна была кровь.
Я не сразу поняла, нет. Поняла отчего-то — когда увидела эту кровь. Поняла, что вижу события двухтысячелетней давности.
— Дорн, — выговорила я онемевшими губами. Странно прозвучал мой голос в вечной тишине тумана. Глухо.
А ворон приподнял голову и посмотрел на меня. Черные глаза на изможденном сером лице. Они на миг расширились: он видел меня. Он услышал, как я назвала его имя, и он… видел меня. Я закричала.
Сейчас, когда я думаю об этом, я понимаю, что с самого начала я не воспринимала это — как видение. Может быть, оттого, что я приняла его за Кэррона, не знаю. Если бы мираж, созданный Полями Времени, мог увидеть или услышать меня, если бы это действительно случилось, я умерла бы от ужаса. Но тогда я не умерла. Я ужасалась другому, я по другой причине кричала, словно обезумев, и билась об эту преграду, как птица бьется от стекло. Или как муха. Я совершенно не соображала, что делаю. Я плакала и кричала. А потом… все кончилось. Преграда кончилась. С размаху я пробежала те два метра, что наш разделяли, упала на колени, схватила ворон за плечи, тяжело перевернула безвольное тело. Голова его запрокинулась назад. Изо рта текла струйка крови.
И только тогда, коснувшись его холодной кожу, почувствовав запах его давно немытого тела, гноя, крови — я осознала… что все было реально. Вокруг не было уже тумана, было ущелье, была зима, был ветер, швырявший снег мне в лицо. Был умирающий от истощения ворон.
Он зашелся в мучительном кашле. Повернул голову, выкашливая сгустки крови. Я придерживала его за плечи. Когда приступ кончился, помогла сесть. Глаза его закрывались, изо рта текла кровь. Он пытался отдышаться после приступа. Обнимая его одной рукой, я вытащила флягу и дала ему воды. Он сделал один глоток, другой — и все. Кэр, я помню, накинулся на воду; этому — после годового изгнания — было уже все равно.
Было так холодно, что пальцы у меня мгновенно побелели. Дыхание застывало и превращалось в пар. Сняв с себя куртку, я накинула ворону на плечи. И совершенно ничего не соображая, я вызвала глайдер.
То, что я натворила, совершенно необъяснимо, и это было бы еще полбеды. Сейчас я понимаю, что могла просто не вернуться оттуда. И потом, могли быть проблемы иного рода, о которых я не смогла бы подумать тогда, даже если способна была бы о чем-то думать. Но я просто не думала, мне было просто очень холодно, и мне казалось, что этот ворон умирает у меня на руках. Я просто связалась с глайдером по личному передатчику — словно такси вызвала. Все равно этот передатчик не на что больше не годиться, сколько лет ношу этот браслет, так толком никогда и не использовала.
Глайдер — самое странное — прилетел. Приземлился с легким шипением. Дорн открыл глаза, посмотрел на него и снова закрыл. У него, видно, не было уже сил удивляться.
— Вы слышите меня?
— Что? — хрипло спросил он.
Он открыл глаза и слизнул кровь с губы.
— Вы сможете встать? — вопрос глупый, конечно, я и так видела, что не сможет. Он не ответил.
Кое-как я перетащила его в глайдер. Подобрала свалившуюся с него куртку. Дорна я усадила между передним сиденьем и пультом управления. Могла бы, наверное, втащить его на кресло, но я уже измучилась. Даже такой худой, он все-таки был для меня слишком тяжелым, ведь он был не мешок с песком, который можно было волочить и кидать как попало. Голова его склонилась на кресло. Я села на место пилота, постоянно посматривая на Дорна. Глаза его были закрыты. Он сидел немного боком, подогнув худые ноги, совсем близко от меня сидел. Куртку я накинула ему на плечи. Лицо его было обращено ко мне, и я не могла свести с него взгляд. Руки мои сами что-то нажимали и переключали на пульте, а я все смотрела на это лицо, изможденное, страшное, жалкое…
Это лицо…. Черты тонкие, правильные, большие миндалевидные глаза, тонкий прямой нос, небольшой рот. Тонкие черты, словно у девушки, но была в его лице какая-то резкость, свойственная лишь очень красивым мужчинам. Я вспомнила Ару Синг. Он был красив когда-то, даже я это видела, и тем ужаснее казалось это лицо.
Мы взлетели. Я перевела глайдер на автопилот и, сложив руки на коленях, сидела и просто смотрела на Дорна. Здесь, в ярко освещенной кабине глайдера он казался еще страшнее. Мне казалось, я не смогу себя заставить еще раз коснуться этого жалкого страшного тела. А потом я подумала: а если бы это был Кэр? Если бы Кэр сидел передо мной — в таком состоянии? Если бы Кэррон умер вот так, в заснеженном ущелье, не имея сил даже двинуться? Говорят, замерзнуть — это самая легкая смерть, даже приятная….
Вокруг за стенами глайдера был туман. А потом он кончился, и глайдер вырвался в ясный солнечный день. Я отключила внутренне освещение. Внизу шумел и переливался Блуждающий лес. После сумрака и серости неожиданно ярким казалось все вокруг: зелень листвы, небо с белыми барашками облаков. Казалось, такой глубины и сини я не видела никогда, не видела еще такой блестящей зелени.
Дорн открыл глаза. Странно, отчего-то я думала, всегда думала, что они с Кэрроном должны быть похожи, что сходство судеб определит и их внешнее сходство. Не тут-то было, и это обстоятельство добавляло мне растерянности, хотя, казалось бы, куда уж больше.
— Вы не здешняя, — сказала вдруг Дорн хрипло, — Вы не с Алатороа.
От неожиданности я вздрогнула.
— Да, — сказала я.
— Можно мне еще воды?
— Да. Конечно.
Я встала и, присев рядом с ним, помогла ему напиться. Мне было неприятно дотрагиваться до него. Он был чужой, может, в этом все дело. Он был чужой. Если бы это был Кэр…. Но страшно даже подумать, что это мог бы быть Кэр.
С волос его и лохмотьев капала грязная вода. Я подумала еще, как это странно, что же это заклятье действует на дождь и не действует на снег? Дорн напился и закрыл глаза, и так, с закрытыми глазами, спросил:
— Мне показалось, или мы действительно взлетели над Полями Времени?
— Да, — сказала я, — вам не показалось.
— А здесь лето…
Я пересела на кресло, убрала флягу. Дорн облизал сухие губы, покосился на меня — один глазом, как Кэр, совсем как Кэр. Спросил хрипло:
— Что происходит?
Я провела руками по волосам. Дорн ждал ответа. Сейчас я думаю: как странно, с самого первого момента я почувствовала в нем — Царя. Дело ведь не во внешности, дело в ощущении, которое он оставляет в окружающих. Он был истощен, грязен, оборван, но монарх чувствовался в нем — с первого взгляда. С Кэрроном было не так. Он ждал ответа, и я неуверенно сказала:
— Я была в Полях Времени и увидела… вас. Просто увидела и… там сначала была какая-то преграда, а потом она исчезла.
— Вы знаете, кто я? — медленно сказал он.
— Да.
— Много… — он запнулся, — времени прошло с тех пор, как я… жил?
— Две с половиной тысячи лет.
Он меланхолично присвистнул.
— Никогда не слышал о таком, — пробормотал он.
Посмотрел мне в глаза. Я отвела взгляд. Что сказать, я не знала. Не знаю, оказала ли я ему услугу, и хорошая ли это услуга. Мне даже казалось, что нет. Что, может быть, лучше было бы ему умереть, чем снова, через две тысячи лет, начинать свой мучительный путь.
— Еще хорошо кончилось, — пробормотал Дорн хрипло, — Могло и хуже быть.
— Что?..
— Энергетическая перестройка идет мягко… кто-то контролирует, наверное…
— О чем вы?
Дорн посмотрел на меня. Его испачканные в крови губы растянулись в слабом подобии улыбки.
— Я привидение, — сказал он и вдруг закашлялся, согнулся, держась одной рукой за кресло. Снова показалась кровь. Когда приступ закончился, Дорн продолжал, пытаясь вытереть кровь и только размазывая ее по подбородку. Я подумала, что это похоже на чахотку, — И я привидение… не мелкое. Планета настраивается под меня….
У меня мелькнула мысль: не преувеличивает ли он свою значимость? Хотя кто знает. А он сидел, обессилевший, и со слипшихся сосульками волос капала вода. И лицо его было так жалко и страшно. Я смотрела на него, а потом закрыла глаза. И вспомнила — Кэр. "Кто-то контролирует…". Сейчас, после гибели магической элиты Альвердена, на планете был только один маг масштабов Дорна.
Я пересела на место пилота и увеличила скорость. Мне хотелось попасть в Торже — немедленно. Мне нужен был Кэр. Я была смущена и напугана, я просто не знала, что делать. И впервые я поверила в то, что Кэррон справиться там, где не могу справиться я. Впервые….
Дорн больше не сказал ни слова. Сидел, привалившись к креслу, с закрытыми глазами и был страшно похож на мертвеца.
Мы приземлились на городской площади. Она была пуста, потом я вспомнила, что сегодня был день, свободный от торговли. Понедельник. Я посадила глайдер и думала о чем-то. Я дотронулась до плеча Дорна; он даже не шевельнулся. Дыхание его было редко и рассеяно. Я вздохнула и вылезла из глайдера.
Первым, кто встретился мне в здании ратуши, был, к счастью, Дрого. Я увидела, как он свернул за угол, и бросилась за ним, испытывая немалое облегчение.
— Дрого, подождите!
Он оглянулся. Лицо его выразило спокойное внимание. Я подбежала и схватила его за руку, нимало не заботясь о том, что могу задеть его воронью гордость, и потащила его к стене. Дрого не сопротивлялся.
— Вы можете найти Кэррона?
— Подождите, — сказал Дрого спокойно, высвобождая свою руку.
— Я знаю, знаю, но это важно, поверьте мне! Ведь я знаю, вы можете отыскать его. Я прошу вас, Дрого.
— Подождите, — сказал он, — сейчас не до этого. Происходит что-то серьезное. Энергетическое поле планеты…
— Я знаю! — в отчаянии сказала я.
— Знаете?.. Хорошо, я найду его. Где вы будете, в том доме, где поселились?
— Да, — сказала я, — Спасибо вам. Я хотела попросить Ториона, но не знала, как он…
Дрого слабо усмехнулся.
— Да, — сказал он.
— Я пойду, — сказала я, — Спасибо вам.
Почти бегом я выскочила на улицу и остановилась у дверей, оглядываясь вокруг. Я словно только что попала сюда из какого-то иного мира, и теперь с тупым изумлением смотрела на все вокруг. Запрохладнело. С юга наползала темная, с неровными краями, слоистая туча; загрохотал в отдалении гром, и мелькнула раздвоенная на конце тонкая оранжевая молния. Загрохотало опять, долго-протяжно, с перекатами. Солнце скрылось уже за тучей, но край ее еще сиял светлым солнечным сиянием. Другая половина неба еще ярко голубела, и у самого горизонта медленно плыли три белых кудрявых облачка. За тучей тоже виднелась светлая, правда, не голубая, а беловатая полоса ясного неба. Погромыхивал несильный гром, молний больше не было.
Пошел редкий и сильный дождь, крупные капли забарабанили по моим плечам. Прибили пыль на пустынной площади. Пригибаясь, я побежала к глайдеру. Дверцу я оставила поднятой, и Дорн смотрел на дождь. Глаза у него были какие-то странные.
— Дорн, — сказала я тихо.
Он посмотрел на меня. Я залезла в глайдер, захлопнула дверцу и стала смотреть на приборную доску.
— Как вас зовут? — спросил он.
— Ра, — сказала я совершенно бездумно.
Он вздрогнул всем телом. Я опомнилась.
— Простите, — искренне сказала я, — Кристина.
Дорн измученно кивнул и закрыл глаза. Я подняла глайдер в воздух. Дождь пошел сильнее. Крупные капли заливали стекло. Казалось, вот-вот дождь смениться градом. Раскаты грома перекатывались через все небо. Длинная и широкая синяя молния сверкнула впереди, прорезав темное небо до самой земли. И еще одна. Большой восьмиместный глайдер едва вместился на мой маленький двор между домом и кустами, отделяющими меня от соседей. С пульта я подняла двери с обеих сторон, и в глайдер ворвались запахи дождя и мягкий мерный шум и плеск. Обойдя глайдер, я заглянула туда со стороны Дорна.
— Давайте, я помогу. Держитесь за меня.
Цепляясь за мое плечо, он выполз из глайдера и встал, пошатываясь. Дождь не попадал на него.
— А я думал, — сказал Дорн хрипло, — может, все кончилось.
Я не знала, что сказать на это. Грохотнул гром — прямо над нашими головами. Тучи пролетали, и вблизи, и вдали видно было ясное голубое небо в разрывах меж туч, но гром был серьезный, он перекатывался через все небо, и раскаты его долго не могли утихнуть. Вот еще и еще. А мы стояли возле глайдера, отчего-то не двигаясь. Сверкнула тонкая молния.
Дорн еле держался на ногах, но мы прошли метра два и снова остановились. Гром грохотал без остановки. Дорн цеплялся за мое плечо. А я в тот момент думала, словно законченная идиотка, о том, что Дорн выше Кэра, по крайней мере, сантиметров на пять.
Молния сверкнула так близко, что я вздрогнула. Но с места не сдвинулась. На меня словно столбняк напал. Тучи еще наползали — с юга, чернильно-густые; гроза разыгралась не на шутку.
А потом с неба пала черная птица, и возле крыльца перевоплотилась. Кэррон замер на миг и бросился к нам. И в этот момент ноги Дорна вдруг подкосились. Я не смогла удержать его, и мы свалились вместе. И тут же подбежал Кэр и упал перед Дорном на колени.
— Открой дверь, — сказал мне Кэр. Резко так сказал.
Я вскочила и бросилась к крыльцу. Кэррон поднял безжизненное тело Дорна на руки, глядя на него, я подумала: надорвется. Дорн, конечно, истощен до ужаса, но не думаю, что он весил намного меньше Кэррона. Быстро, почти бегом Кэррон занес его в дом и уложил на кровать. Я вошла следом.
В доме было темно и как-то пусто: так всегда кажется, когда зайдешь в дом во время дождя. В открытую дверь хлестал дождь, комната озарялась вспышками молний. Я включила верхний свет и подошла к кровати.
Голова Дорна с мокрыми спутанными волосами лежала ниже подушки. Я подошла и посмотрела в его жалкое серое лицо, покрытое гнойниками. Глаза его были закрыты. Кэррон сидел на краю кровати. Он не обращал на меня внимания, пока я не коснулась его плеча. Рубашка на нем была мокрой насквозь.
— Принеси воды, — сказал он мне, не обрачиваясь, — и губку какую-нибудь. Давай, деточка, не стой.
Я пошла в ванную. В зеркале отразилось мое бледное лицо с расширенными темными глазами и мокрой челкой. Я наполнила маленький таз теплой водой, губки у меня не было, я взяла полотенце и пошла в комнату.
Дорн пришел в себя. Кэр что-то негромко говорил ему. Я подошла, протянула таз; голова моя была пустая-пустая, тронь — зазвенит. Кэррон взял у меня таз и полотенце, устроив таз на коленях, потянулся снять с Дорна рубашку, но Дорн сказал что-то. Мертвенное его лицо вдруг залилось краской.
— Деточка, — сказал Кэррон, — посиди на кухне, ладно? Уйди, слышишь?
— Да, — тихо сказала я.
Я вышла на кухню и села перед столом, застеленным белой пластиковой скатертью, облокотилась на него, подперла кулаком щеку. Дверь я закрыла неплотно и слышала, как они разговаривают на своем языке — мягкий голос Кэррона и усталый хриплый шепот Дорна. Потом все стихло. Свет я не включала, так и сидела в полутьме, глядя прямо перед собой.
В кухне было душно; наконец, я поднялась и отворила окно. В кухню ворвался влажный холодный воздух, запахло грозой — совсем не так, как пахнет просто в дождь. Я задержалась у окна, выглянула на улицу. Дождь все еще шел, но гром слышался лишь в отделении. Серый глайдер стоял во дворе как айсберг. Он был самым светлым пятном во всей округе.
Позади меня раздались шаги. Я обернулась. В кухню зашел Кэррон, и лицо у него было усталое и расстроенное. Мокрые волосы развалились на две половины и висели вдоль лица.
— Он заснул, — сказал Кэррон.
Я кивнула.
Он подошел ко мне вплотную и сказал:
— Рассказывай.
Запинаясь, я рассказала. Он провел руками по волосам, отвернулся от меня и сел за стол, опершись локтями на столешницу.
— Но это ведь он? — неуверенно сказала я, — Это Дорн?
— Либо это он, либо уж сам Корд, — пробормотал Кэррон.
Мы замолчали. Я постояла у окна, потом притворила окно, подошла и села за стол напротив Кэррона.
— Мне страшно, детка, — сказал он тихо.
Я посмотрела на него. Он невесело усмехнулся.
— Не обращай на меня внимания, Ра. Я так.
— Я не знаю, как это вышло, как я… я просто увидела его и… вот.
— Ничего. Может, это и к лучшему. Теперь у него есть шанс, хоть какой-то шанс. У тебя, видно, призвание, деточка, спасать изгнанников.
У меня вырвался короткий нервный смех. Кэррон взял меня за руку, пальцы у него были холодные.
— Мне надо еще уйти, — сказал он, — Если он проснется, дай ему молока или что-нибудь такое. Бульон какой-нибудь. Ничего существенного не давай, будет только хуже. И не давай ему вставать, а то характер, видно, тот еще… но сил у него нет совсем, пусть отдохнет…. Кто-нибудь знает о нем?
— Нет.
— И ладно. Пока незачем…. Но он не умрет. Ладно, я пойду.
— Ты скоро вернешься?
Он пожал плечами и поднялся.
— Ничего, если он здесь побудет? Пока, деточка, хорошо? Потом я что-нибудь придумаю.
— Ой, да уймись ты, Кэр! Я, что, кого-то выгоняю? В конце концов, он здесь из-за меня.
— Да, — сказал Кэр без тени юмора, — ответственность за спасенного обычно ложиться на спасавшего. Я пойду.
Он ушел, а я так и осталась сидеть на кухне.
Дорн пришел в себя часа через два. Я заставила его выпить чашку бульона, посидела немного рядом с ним. Мы не разговаривали, но он не сводил с меня взгляда. Потом глаза его постепенно закрылись. Тогда я встала и пошла на улицу.
После дождя разъяснилось, но на небе стояли еще белые и серые пышные облака. Небо было ярко-голубое, солнце светило холодно, задувал порывистый, неожиданно ледяной ветер. На мокрой и темной земле лежали, сорванные дождем или ветром, скрученные, пожелтевшие узкие вишневые листочки. Я долго смотрела на эти листья, со стесненным сердцем впервые осознав, что скоро уже осень. И погода казалась неожиданно осенней. Порывы ветра заставляли сжиматься мое сердце. Впервые со всей отчетливостью я поняла, что приближается осень, время свершений. Отчего-то всегда в моей жизни складывалось так, что лето было для меня временем созерцания, осень же — временем действия и завершения, временем перемен. Что до остального — весна для меня вовсе не существует, зима же — это время спокойной и размеренной работы.
Последний месяц лета — это напоминание о скором приближении осени. Каждый раз я забываю об этом, о том, что осень — будет, и каждый раз испытываю тихое и глубокое потрясение, понимая, что вот она — осень, что всего десяток-другой быстрых дней и осень будет вокруг меня и во мне.
Со стесненным сердцем долго смотрела я на опавшие мелкие листья. Воздух был прозрачен и свеж, мир казался умытым, так чисты и ясны были краски. Холодное слепящее солнце играло в мокрой, переворачиваемой ветром листве. Мне не хотелось возвращаться в дом; обхватив себя руками, я стояла на холодном ветру и не двигалась с места.
Что было со мной? О чем я думала в тот момент? Как холодно и ярко светило солнце, бросая блики вокруг! Облака медленно плыли по голубому небу, белые кучевые и темно-серые расплывчатые. Было так тихо и холодно, на улице никого не было, видно, все ушли от дождя под крышу. Улица была в потеках от лившихся по ней ручьев. А в доме за моей спиной лежал тот, кто умер две с лишним тысячи лет назад. И мне это совсем не нравилось.
55. Из сборника космофольклора под редакцией М. А Каверина. Литературная обработка М. А. Каверина. Сказки о временах года. Фрагменты.
Осень.
Осенней порой тайное золото земли, которое храниться в далеких раскаленных глубинах, подступает к поверхности так близко, что деревья впитывают его корнями. Напитанные золотом, желтеют и краснеют листья и, не выдержав собственной тяжести, падают на землю. И земля постепенно утягивает золото из листьев, они теряют свой золотой цвет и увядают. Говорят, аульвы именно из листьев добывают свое золото. В самую лунную осеннюю ночь они приходят в лес и говорят там свои заклинания, и с каждого листа скатывается тяжелая золотая капля, а лист становиться таким же зеленым, как прежде.
Зима.
Когда приходят холода, и снег заметает землю, просыпаются духи зимы, и холодное непонимание нисходит на землю. Деревья, прекрасные в сне своем, не помнят и не думают друг о друге, последние листья скрывает снег, дождь не прорывается больше с небес, ветер же служит духам зимы — все в мире становиться не так. И все-таки это зима.
56. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день пятьдесят пятый.
Второй день пасмурно и холодно. Небо низко и сплошь заволочено серой пеленой. То и дело начинается дождь. После непрерывной жары никак нельзя привыкнуть к тому, что теперь холодно, и все кажется, что еще не холодно, а так. Но это начинается осень. Кэррон еще не вернулся. До моего отлета осталось три дня: я чувствую себя, как смертник перед казнью. Мне тоскливо и неуютно, но деться мне некуда. Дорн еще спит. Проснулся!
…Он долго лежал с открытыми глазами. Я ходила по дому, стараясь не шуметь, потом не выдержала, подошла и, присев на край кровати, потрогала его лоб. Лоб был горячий, но как сбить жар у ворона, я не знаю. А он… он взял меня за руку и прижался щекой к моей ладони. Закусив губу, я едва сдержалась, чтобы не вырвать у него руку: мне было так противно. Вся его щека покрыта была гнойниками. И порыв его мне был неприятен. А у него глаза были тоскливые-тоскливые. А потом лицо его окаменело. Он выпустил мою руку и сказал хрипло:
— Извините…. Я не заметил — сразу.
И не сразу я поняла: цепочка.
— Вы — его жена, Кэррона?
Я не ответила.
— Как все похоже, — пробормотал он, — И снова — Ра….
— Не-ет, — воспротивилась я, — Это совпадение, просто совпадение.
— Вам неприятно, что я здесь, так?
Я посмотрела на него. Он лежал и смотрел на меня — устало, упорно, зло. Он хотел жить. И теперь он жил — благодаря мне. Но он хотел и другого, и он хотел гораздо большего, чем Кэр. И как же быстро переменилось его настроение! Сначала он ждал от меня ласки, но понял, что ее не будет, что не дождется, и сразу переменился. Не знаю, что он ожидал услышать: да, неприятно, уходи?
— Лучше здесь, чем на том перевале, — сказала я тихо.
— А вас волнует моя судьба? Я ведь все равно уже умер, разве не так?
— Волнует, — сказала я.
— С тех пор, как он повторил мою судьбу?
Я промолчала. Мне вдруг вспомнился Дрого: "а ведь тот был сущий дьявол".
— Кэррон… ваш муж сказал мне, что про Ра… — он осекся, — про Марию рассказывают легенды. Вы не могли бы рассказать? Все-таки любопытно, — он криво усмехнулся.
— Я лучше дам вам послушать, — сказала я и встала, — У меня где-то есть диктофонная запись. Сейчас я найду.
Я, честно говоря, ужаснулась при мысли, что он заставит меня пересказывать ему легенду о его жене. Запись действительно нашлась, та самая, которую делали в доме сказаний в Раменах. Я включила диктофон.
Дорн слушал с закрытыми глазами.
— Хватит! — вдруг резко сказал он. Я остановила воспроизведение, — Нет, продолжайте.
Он дослушал до конца. Потом сказал совсем другим, немного смущенным тоном:
— Значит, в этом ущелье она должна была меня догнать?.. Должен был встретить одну Ра, а встретил… другую?
И посмотрел на меня. Я растерянно молчала.
— Я очень безобразен, да? Вам неприятно на меня смотреть?
— Нет, — сказала я, — не неприятно.
Он еле заметно улыбнулся.
— А вы улетаете? Скоро?
— Через три дня. Если все пойдет нормально.
— Что значит нормально?
— Если успеют починить катер, — сказала я.
— Катер? — сказал он задумчиво, почти про себя, и продолжал, — Знаете, я никогда не верил в то, что сорты пришли сюда из космоса. Кэррон сказал, что существует множество планет, населенных одними сортами?
Я кивнула.
— Я никогда не был за пределами планеты, — пробормотал он. Потом помолчал и добавил, — Не обижайтесь, но странная идея — летать в таких сооружениях. Тем более в космосе…. А та штука во дворе может летать в космосе?
— Нет, — сказала я, — только в атмосфере.
Он кивнул. Снова лег. Он долго лежал с открытыми глазами, но недавно все же заснул. Я посидела немного за столом, но читать мне не хотелось, и я вышла на улицу. Скоро уже ночь, а Кэр все не появлялся. Небо все сплошь было затянуто темными ровными, словно бы снеговыми тучами. Неожиданно на западе выглянуло заходящее солнце, и ясно и ярко озолотило верхушки деревьев, до последнего листа осветило все — невероятно четкая, странная картина. Дождь, весь день то накрапывающий, то затихающий, наконец, кончился совсем. Тучи хоть и стояли на небе, но по виду своему дождя не обещали; это были те самые, так называемые снеговые тучи, которые летом не приносят осадков. На юге небо было светлее, и бледное сероватое сияние лилось оттуда и спорило с золотом запада. Закат был нехороший, тягостный, как и весь сегодняшний день. Переменчивая погода, то дождь, не настоящий, а так — ледяная морось, то холодное и яркое солнце, порывистый ветер — все это делало и мое настроение непостоянным, чувствовала я себя странно. Так чувствуют себя во снах, не страшных, но тягостно-неприятных.
57. Из сборника космофольклора под редакцией М. А Каверина. Литературная обработка М. А. Каверина. Волшебные лошадки.
Всем издавна известно, что волшебные лошадки предпочитают водиться в воде. В Веде их чаще всего можно встретить в озерах, ну, а здесь, на острове, который теперь зовется Лоран, искать волшебную лошадь нужно в морском заливе. Берега Лорана изрезаны, словно неровные края торта, и в каждом заливе обитают агиски, но не полезешь же за ними на дно морское. Вот и приходится ждать месяца стрейга. В дни, когда всеми существами овладевает тяга к перемене мест, агиски тоже выбираются на берег. Ну и зрелище тогда можно увидеть, скажу я вам. Вы такого не видели и вряд ли когда-нибудь увидите. Десятки дивных жеребят с пышной гривой скачут на берегу, выделывая такие штуки, на которые обычные лошади неспособны. Если поймать одного из этих жеребят и оседлать его, из него выйдет замечательный конь, но обращаться с ним нужно будет осторожно. Один мой знакомый сумел-таки добыть себе агиски, и конь из него вырос просто загляденье, да вот какая случилась незадача: раз поехал мой приятель в гости в соседнюю деревню, и путь его проходил недалеко от моря. Агиски, видно, почуял запах родной воды, рванулся как птица, уже не слушая седока, и прыгнул прямиком на дно морское, где и разорвал хозяина на кусочки.
Мне-то ездить на агиски не приходилось, но раз или два эти буйные морские жеребята нападали на мой скот и причиняли немалый урон.
58. Дневник-отчет К. Михайловой.
Алатороа, Торже, день пятьдесят седьмой.
Сегодня потеплело. С самого утра было солнце, теперь небо все в равномерных сотах облачков, и только над самым горизонтом в этом ровном поле видна лужа синего цвета. Иначе и не скажешь, выглядит, как полынья во льду. К обеду, наверняка, разыграется жара, уже и сейчас очень тепло. Дорн еще не проснулся, Кэррона нет со вчерашнего вечера. Вот я сижу и думаю, что же мне делать теперь, что мне делать, когда он проснется. Последнее время я чувствую себя невесело. Я стараюсь как можно меньше бывать дома, сижу в миссии, помогаю Михаилу Александровичу: мне страшно попадаться Дорну на глаза. Он так смотрит на меня.
Он уже начал вставать, хотя ходит еще с трудом. Чувствовать себя больным он явно не любит, или просто передо мной не хочет выглядеть слабым. Кэр поглядывает на меня с насмешкой. У него странное чувство юмора, извращенное какое-то, но его на самом деле забавляет происходящее. А я чувствую себя беспомощной, как никогда в жизни.
…Я сбежала еще до завтрака. Приготовила все и сбежала, Дорн еще спал. Когда он спит, он такой тихий и милый, я сама не верю, что его можно бояться, но ведь я боюсь! В нем есть что-то, та самая воля, несокрушимая обстоятельствами; глядя на него, сразу понимаешь, что уж этого-то нельзя ни убедить, ни, тем более, переубедить, он все решает сам и всех заставляет плясать под свою дудку. А я не хочу, чтоб меня заставляли. Может, в этом все дело. А может, дело в том, что у него страшно тоскливый взгляд, а я не чувствую ни жалости, ни сострадания. Мне не хочется его утешать. И к тому же я чувствую себя виноватой перед ним, хоть сама не пойму, в чем. Я, наверное, должна ему сочувствовать. Раз уж я его вытащила сюда, я должна ему — его долю сочувствия, его долю тепла, он имеет на это право. Только он мне неприятен.
Я выбралась из своего дома тихонько, как воришка. Приоткрыла дверь, протиснулась, на цыпочках сошла по ступеням. Последняя — предательница! — скрипнула, и я бросилась во всю прыть на дорогу, свернула за угол, только тогда отдышалась. Мимо шла женщина, белокурая, в цветастом платье, с ведром в руках, она бросила на меня удивленный взгляд и прошла мимо. А я стояла и улыбалась, как дурочка. В эту сторону улицы я почти никогда и не ходила. Дом передо мной утопал в зелени, на углу росла сирень с темно-зеленой листвой; среди светлой и яркой зелени она бросалась в глаза, словно яма в мелком ручье. Под сиренью росли маргаритки, белые и розовые. Мне было так легко, словно я с лекции сбежала и иду теперь в кино или в кафе-мороженное. Солнышко светило. Уже несколько дней стояла почти осенняя погода, а тут вернулось лето, и мне было так легко. И главное — Дорна не было рядом.
По пути я зашла на космодром, посмотреть, как чиниться орудие моей смерти, катер то бишь. Оба катера хранились раньше на складе, но чинят их прямо на летном поле, под открытым небом, на складе просто нет места. Там, и правда, теснотища жуткая, на малоосвоенных планетах всегда так: снаряжения много, а склад стандартного размера, поди все вмести.
Они смешные, эти катера: один синий, другой оранжевый. Когда я подошла, синий стоял, как ни в чем не бывало, аккуратный, без следов ремонта, хоть сейчас садись и лети. У его оранжевого собрата была откинута задняя панель, и там копались трое механиков, причем один практически туда залез. Я подошла к ним. Тот механик, который сидел внутри, вылез и поздоровался со мной.
— Здравствуйте, — сказала я, — А тот, что, уже готов?
Механики все оглянулись на синий катер.
— Какое там, — сказал один, — он бракованный, его только на заводе можно исправить.
— А лучше вообще сдать в утиль, — сказал другой, помоложе.
— А этот? — спросила я.
— А этот еще хуже, — сказал тот, который сидел внутри катера, — Вчера нам оставалось только заменить ось Мехранова, и нате, пожалуйста, летите, куда хотите, а сегодня у него весь двигатель полетел, и никак не поймем, в чем дело. Не везет вам с катерами, — и усмехнулся мне в лицо.
Я не обиделась. Я просто растерялась.
— До свидания, — сказала я и пошла.
То, что один катер был бракованный, меня не слишком удивило, такое иногда случается даже со снабжением ассоциации. Но другой-то! Не знаю, кому из двоих я обязана этим. Каждый из них мог это сделать, им даже в нашей технике разбираться не нужно — маги чертовы.
Я пошла к Стэнли, пожаловалась на катера, но он только руками развел. Им-то эти катера вообще не нужны. Отлет мой отложен на месяц, тогда отсюда улетит «Ася».
Впрочем, теперь я, по крайней мере, могу подумать.
…Сегодня Кэр поджидал меня на крыльце. Он сидел на ступеньках, босиком, в черных подвернутых брюках и черной рубашке с глубоко расстегнутым воротом. Спутанные, не расчесанные волосы свисали на худое лицо. Вид у него был серьезный и лукавый — одновременно. Только я вошла во двор, как Кэр поднялся мне навстречу и, поймав меня за локоть, развернул обратно.
— Пойдем-ка прогуляемся, деточка.
Пальцы у него были теплые; он сильно сжал мне локоть, и я послушно пошла.
На улице не было ни души. Солнце сияло, словно снова вернулась середина лета — ясная и яркая, щедрая на тепло пора. Мы прошли мимо миссии и наискосок через бетонное поле космодрома. Шли неторопливо; я искоса поглядывала на Кэррона. Наконец, я не выдержала.
— В чем дело?
— Да, в общем, ни в чем, детка, — слабая улыбка мелькнула на его губах и погасла, — я просто хотел пройтись с тобой немного.
— Я не улетаю, — сказала я, — Твоя работа?
— Увы, нет.
— Ах, вот как!
— Вот именно. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Пойдем-ка, здесь свернем.
— Там же скошено.
— Ну, и что?
— Придет хозяин покоса, — сказала я неуверенно.
Кэррон только усмехнулся. Мы прошли метра три по скошенному полю. Ровными рядами лежала непросохшая, совсем свежая трава; одуряющее пахло зеленью. Погода и впрямь переменилась, становилось все жарче — с самого утра, и сейчас жара, казалось, достигала своего апогея. Мы присели на траву, и Кэр взял меня за руку — так естественно, как будто так и надо было.
— Ты знаешь, — сказал Кэр без тени вопроса, — он ведь к тебе неравнодушен.
— Ты ревнуешь, что ли? — сказала я неловко. Я хотела пошутить, а вышло совсем не смешно.
Кэррон покосился на меня одним глазом — свойственный ему птичий, странный взгляд.
— Знаешь, кто ревнует?.. Я и не замечал, что ты ее надела, пока не увидел, как он смотрит на меня, — он вдруг замолчал и выпустил мою руку, потом продолжал негромким, напряженным голосом, — Ты не представляешь, что это значит для меня… и чего не значит. Я… ведь не считаю тебя своей женой, деточка.
— Мой подарок, — сказала я, — что хочу, то и делаю. Или ты хочешь, чтобы я ее сняла?
— Я не знаю, — отозвался он тихо.
Я крепко сжала его руку.
— С другой стороны, — сказал Кэр неожиданно легкомысленно, — лучше сними, а то он меня еще в лягушку превратит. Или во что похуже. Как маг он гораздо сильнее меня, деточка. Хорошенькая из вас выйдет пара: вдова и вдовец. Если я стану лягушкой, тебя, наверное, можно будет считать вдовой, как ты думаешь?
— Кэр!
— А что?.. Или ты думаешь, что не сможешь полюбить его? — сказал он вдруг с неожиданной проницательностью, — Он ведь не всегда будет таким изможденным. А он красив — на самом-то деле, видела, какие черты? И потом, деточка, ему ведь нет и восьмисот, у него нерастраченный запас энергии лет на четыреста, да он тебя просто приворожит. Стесняться не станет, не их таких.
— Кэр, не шути так!
— А я и не шучу.
Мы замолчали. Жужжали какие-то мухи. Кэррон слегка улыбался, лицо у него было задумчивое. Я смотрела на него, и мне отчего-то хотелось плакать. Такое у него было лицо: усталое, смуглое, худое, странно безмятежное. Казалось, он так устал уже от жизни, что перестал тревожиться о чем-либо.
— И что вы во мне оба нашли? — ляпнула я, — Я же брюнетка.
Тут уж он расхохотался. Мне кажется, что я сто лет не видела, как он смеется. У меня потеплело на душе.
Я ударила его по руке.
— Хватит смеяться, Кэр. Ты думаешь, он действительно может приворожить меня?
— И превратить меня в лягушку, — сказал он почти серьезно.
Какой был яркий, солнечный, жаркий день! Воздух был горяч, стоило выйти под солнце, как по всему телу моментально выступала испарина. Последний привет лета — вот что был этот день. Словно сияние заливало все вокруг, трава блистала на солнце; все же я больше люблю пасмурные дни. Небо была ясное, в зените голубое, на западе бледное, кое-где видна была белесая размытость облаков. Тихо было вокруг, только кузнечики стрекотали во множестве среди нагретой солнцем травы, да жужжали мухи.
Пролетела маленькая птичка, пища и стрекоча на лету. То и дело приходилось отмахиваться от каких-то кусачих мух, по жаре они так и липнут к телу. Хорошо, хоть ветер был прохладен, хотя его почти и не было, ветра, только иногда всколыхнет травы и подует в лицо — какое облегчение!
Все же жаркий летний день посреди трав — это нечто совершенно особое, словами этого не передашь. Солнце, мухи, кузнечики, разнотравное буйство, цветы полевые — словно вся полнота жизни выражена в обычном летнем полудне. Не той жизни, что в тебе или во мне, не человеческой, полной страстей и мелочных амбиций, а той Жизни, которая всех нас породила, жизни как принципа, которая зарождается тогда, когда на смену геологической эпохе приходит биологическая, когда появляются первые органические молекулы.
Хорошо, хоть ветер был! Иначе бы я, наверное, совсем изжарилась, прекрасное было бы блюдо — жареный координатор под соусом. А Кэр только жмурился на солнце, словно кот. Впрочем, это я так, выжила же я в горах Вельда, а уж какая там была жара, не чета здешней. Настоящее пекло там было, алый ад Вельда! Да-а…
А как сладко пахнет в жару в поле. Все эти еле заметные, смешанные запахи разных трав, цветов и солнца. Летали стрекозы, просто кучи стрекоз, маленьких и больших. Пролетела одна размером с мой палец — страх божий! Я взвизгнула и шарахнулась от нее, Кэр хохотал так, что под конец свалился на траву. Что ж, полдень. Птицы спят, а мухи и прочая мелочь летает без устали. Глаза устают от солнечного сияния, все кажется, что что-то вокруг не так, что все слишком четко и ярко для того, чтобы быть настоящим. Мы долго сидели и молчали, а полдень жил и дышал, а полдень жужжал на разные голоса, он был вокруг — в бескрайней степи. Давно мне не было так хорошо, как сегодня днем.
Налетевший ветер растрепал наши волосы. Кэр выругался и стал проводить свои космы в порядок.
— Подстригись, — сказала я, запуская руку в его волосы.
Кэррон поймал меня и слегка приобнял.
— Тебе не нравиться мои волосы?
— Нравиться, — пробормотала я, — Всегда нравились.
— Да? — он отодвинулся от меня, пояснил, — А то как бы нас Дорн не увидел. Вспылит еще. Я не хочу испытывать судьбу, деточка.
— Кэррон!
— А он не похож на меня, да?
— Да, — сказала я, — Не похож.
— Я не думал, что ты наденешь ее…
— А что мне с ней делать? Носить в кармане?
Мой вопрос прозвучал раздраженно. Кэррон удивленно глянул на меня.
— Да, — сказала я, — ты меня не любишь.
— Разве я тебя не люблю?
— Любишь — девочку, которую ты носил на руках.
Он улыбнулся шире. Боже мой, как же я давно не видела его таким — улыбающимся, веселым. У него смеялись глаза.
— Ну, может, я просто не способен на подлинную страсть?
— А Дорн способен?
— У него очень горячий нрав, ты заметила?
— Кэр!
— Хорошо здесь, да?
— Угу, — сказала я.
Я сидела чуть сзади. Тихонько я обняла его сзади, прижалась подбородком к его плечу. Его волосы щекотали мне лицо, они пахли травой и летом.
— Хорошо, когда трава скошена, — пробормотал он, — можно не вспоминать, что ты изгнан.
Я подняла голову с его плеча и заглянула Кэррону в лицо. Он мягко улыбнулся.
— Не знаю, что я буду делать, когда ты улетишь, деточка.
— Кэр…
— Некому будет поплакаться.
— Можно подумать, ты мне хоть раз плакался, — сказала я сердито.
— А то нет.
— Я что-то не помню, — сказала я, — Но я еще месяц не улечу. Через месяц будет уже осень.
— И теперь нас двое — на одну тебя, бедненькую.
Я засмеялась.
Мы долго еще сидели там, греясь на солнышке. Потом я вспомнила про обед, а Кэр сказал, что ему нужно еще кое-что сделать. Эти таинственные дела отнимают у него кучу времени, уж не знаю, чем он там занимается. Так что домой я возвращалась в одиночестве. Я шла, затаенно улыбаясь. Я чувствовала себя так, словно я не жила этот час, а провела его где-то — в мечтах, что ли. Бывает так иногда, сядешь и думаешь о чем-то, и так проходит час, два, три, а потом встаешь — словно из глубокого омута, словно твое сознание и не жило все это время. Вот так я себя и чувствовала.
Когда я вернулась, Дорн был во дворе. Сидел на скамейке возле забора, смуглые тонкие руки на коленях, и смотрел прямо перед собой. Взгляд у него был сонный, странный. Он не пошевелился, не взглянул на меня, я прошла мимо него в дом и, прислонившись к двери с другой стороны, закрыла глаза. Иногда я боюсь его, просто боюсь — и все. В нем есть что-то, чего нет в Кэрроне, что-то, чего я не понимаю и, наверное, никогда не пойму.
Обедали мы с Дорном в полном молчании. Солнечный свет заливал маленькую кухню, во дворе, в пыли возилась стайка воробьев. Он чирикали и клевали какую-то ерунду, как всегда делают воробьи. Тарелки в мойке блестели на солнце, стол, покрытый белой пластиковой скатертью, казался слишком ярким, словно свежий снег на темной крыше. Лицо Дорна было освещено до мельчайшей черточки; черные, короткими прядками свисающие на лоб волосы блестели, словно влажные. Тонкое, смуглое, усталое лицо, от крыльев носа к углам рта пролегали глубокие складки, в углах глаз видна была сеточка мелких морщин. Если бы не резкость черт, это лицо казалось бы женственным. Кожа у него была уже почти чистой, сохранились еще только синеватые точки шрамиков от болячек, но и это должно было пройти. В счастливые периоды жизни он, наверное, был красив необычайно; сейчас у него слишком усталый, потухший взгляд.
Ел он мало и неохотно; Кэр так накидывался первое время на пищу, когда согласился, наконец, есть, но Дорн, может быть, слишком долго был лишен этого. Не знаю.
Мы сидели за столом друг напротив друга и молчали. Дорн не поднимал глаз от тарелки. Худые его руки на фоне белой скатерти казались очень темными. Я смотрела больше на его руки, чем ему в лицо. Я так неловко чувствую себя в его присутствии.
Я убрала со стола, Дорн и не пытался помочь мне, просто встал и вышел из кухни. Сегодня он был необычайно тихий — словно привидение. Ходил тихонечко по дому, не говорил ни слова. Я мыла тарелки и поглядывала на него в приоткрытую дверь, хотела уже спросить, что с ним, но отчего-то не спросила. Наверное, подумала, что он не ответит. У Дорна есть одна очень редкая способность: он может не отвечать на вопросы, вообще не отвечать, причем с таким видом, будто он тебя и не слышит. Редко кто так может. Я вымыла посуду и с компьютером вышла на крыльцо.
Жарко было и тихо. На улице не было ни души, воробьи за домом расчирикались не на шутку. Солнце слепило мне глаза, я не думала ни о чем. В сущности, в такие яркие летние дни невозможно о чем-то думать, и, наверное, это было к лучшему. Если бы я подумала, то не сделала бы этого, если бы я подумала, я бы испугалась. Координаторам тоже знаком этот страх — страх перемен.
Я не думала ни о чем и еще не успела испугаться, но я медлила отчего-то. А потом раздались шаги.
Дорн вышел на крыльцо и остановился у меня за спиной.
— Можно мне присесть? Ра?
Я взглянула на него.
— Пожалуйста, — сказала я.
Он сел рядом со мной на ступеньку. Одним пальцем я стала набирать текст. Я старалась не смотреть на Дорна, но все равно видела его — худого, бледного, в белой рубашке и белых брюках. В вырезе рубашки видна была худая смуглая шея и выступающие ключицы. Руки у него настолько исхудали, что кисти казались слишком широкими, так кажется обычно, когда смотришь на скелет: тонкая кость предплечья и сразу кисть с косточками пальцев. Дорн был босиком, и ступни у него тоже казались слишком большими, хоть наверняка такими не были, вороны вообще отличаются изящным сложением. Если бы на крыльце рядом со мной лежало бы осиное гнездо, я и то чувствовала бы себя уютнее.
— Вам неприятно мое общество? — сказал он вдруг.
Я снова посмотрела на него: глаза его были прикрыты черными ресницами.
— Нет, — сказала я.
Дорн медленно сжал руку в кулак, разжал, снова сжал. Он смотрел на свой кулак — так зло, словно он и был причиной всех его бед.
— Я бы ушел, — сказал Дорн, — я бы ушел, Ра. Куда угодно, но… я не могу, — он взглянул на меня, и я задрожала, — Я не могу, Ра.
— Я знаю, — продолжал он немного погодя, — Я противен вам. И то, что я так быстро забыл свою жену, вам тоже не нравиться. Но я ничего не могу поделать с этим…. Я не…
Он вдруг замолчал. Потер лицо, вздохнул.
— Простите, Ра, я не хотел…. Не буду вам мешать, извините.
— Да сидите, — сказала я с досадой, — Вы из меня монстра какого-то делаете.
Он еле заметно улыбнулся и остался сидеть.
— Что вы делаете? — спросил Дорн.
— Пишу заявление, — сказала я, — об уходе с работы. Я ведь не здешняя, я говорила вам. Я просто работала здесь.
— Хотите остаться с ним?
— Нет, — сказала я, — Я просто хочу — остаться.
— Почему?
— Почему…. А почему вы не улетели отсюда, Дорн? Вы ведь могли улететь — и жить. Почему вы этого не сделали?
Он молча смотрел на меня.
— Я не знаю, — сказала я тихо, — не знаю, почему. Просто я не могу улететь отсюда. И все.
Дорн поднялся и сказал, глядя на меня сверху:
— Может быть, у меня есть надежда…. Не буду вам мешать.
Он ушел в дом. В приоткрытую дверь я видела, как он лег на кровать поверх одеяла и закрыл глаза. Я поглядывала на него изредка: похоже, он заснул. Пискнул сигнал приема. Я посмотрела на экран, прочла ответ и засмеялась. Прочла еще раз и снова засмеялась. Бросила опасливый взгляд в дом: как бы Дорн не проснулся. Но он спал, повернувшись на бок. Одна его рука свесилась с кровати.
Конечно, я знала, что из ассоциации уйти невозможно. Но этот совершенно очевидный и одновременно невероятный выход из положения не приходил мне в голову; в управлении, ей-богу, сидит кто-то чрезвычайно остроумный: титул посла и пожизненное рабочее место на Алатороа. Я долго еще сидела на крыльце, не смея зайти в дом, а сияние лета было вокруг меня. И во мне. Последнее сияние лета.
Кэр вернулся только ночью. Я так и не ложилась сегодня, я в совершенно невообразимом состоянии. Мне кажется, я похожа сейчас на воздушный шарик, улетевший от ребенка. И вот летит он, странный и неуместный, над лесами, полями и дорогами и смотрит на все сверху. И удивляется своей непривычной свободе.
И вот я сидела на кухне и писала при свете настольной лампы. Желтый кружок света подал передо мной на стол и на экран компьютера, а вокруг была темнота. Окно было открыто, а за окном было черным-черно, такого черного непроглядного цвета бывают только две вещи в мире: дождливая ночь ближе к утру и лужица черных чернил на коричневом или зеленом ковре. Дождь шумел за окном, перекатываясь через дом, перекатываясь через город; этот шум совершенно неизъяснимо напоминает мне шум ночных трамваев, не хватает лишь металлического скрипа тормозов на поворотах да искр, слетающих с проводов. Вся маленькая кухня была полна дождевыми запахами, хоть чем это пахнет, я никогда не могу понять: землей ли, листьями или просто дождем — водой, падающей с небес. И вдруг шум крыльев ворвался в окно, большая черная птица села на подоконник. Перья ее были встрепаны и черны так, как не была черна даже ночь за окном. Я захлопнула крышку компьютера и уставилась на нее, и тут же птица исчезла, Кэр соскользнул с подоконника и сел напротив меня. Отпил чай из моей чашки.
— Привет, — сказала я, — Знаешь, что случилось?
Глядя в его смуглое худое лицо, я рассказала. Кэррон молча выслушал, глаза его были слегка расширены.
— Дорн знает?
— Да, ну и что?
— Ничего.
— Да ты ревнуешь!
Он улыбнулся, словно защищаясь этой улыбкой.
— Я просто боюсь, ты меня бросишь, — сказал он вдруг, — Кто тебя знает, Ра.
— Но ведь я осталась, — сказала я, слегка растерянная, — Я здесь, с тобой.
— Мне показалось, что ты осталась не со мной, а скорее с моей планетой.
— Давай помолчим, — сказала я.
И мы замолчали. А за окном была ночь, и в кухне была ночь — призрак всех бывших и будущих ночей.
— Посол… — вдруг сказал Кэррон и тихо засмеялся.
А я думала о том, что я совершаю ошибку. Непоправимую ошибку, меняя все свои жизни на одну — вот эту. Все миры — на один. Но я уже совершила свою ошибку, и мне осталось только пожинать плоды.
59. Из записей М. А. Каверина.
Кристина осталась на планете. Я безмерно поражен был этим известием. Как странно! Мне кажется, она безусловно совершает ошибку, выбирая из всех своих химер одну, пусть и самую любимую. Множество людей обречены видеть один и тот же сон на протяжении всей жизни, тешить себя одними и теми же иллюзиями. Кристине же доступно бесчисленное множество иллюзий, называемых жизнями, и отказаться от всех ради одной — непростительная глупость. Однако же это подводит меня к совершенно иной мысли. Попробую изложить ее.
Тем, что она останется, она докажет одну непреложную, но вовсе не очевидную истину. Примем за данность химерную природу Алатороа и ее обитателей. Очевидно, что химеры живут какой-то своей жизнью, может быть не совсем нам понятной. И Кристина предпочла эти химеры всем остальным, включая реальность. Она отказалась не только от остальных своих снов, она отказалась от реальности. Что это доказывает? То, что химеры в своем роде не менее реальны? Возможно, но я не верю в это. Я считаю, что люди, утверждающие реальность вымышленного, сами безнадежно запутались в своих снах, либо лукавят ради красного словца. Однако же и у химер есть какая-то своя жизнь, пусть призрачная, прерывистая, непостоянная. И, наверняка, химеры так же хотят жить, существовать, как и реальность. И присутствие Кристины, живого, реального человека, позволит им длить свое существование сколь угодно долго. Я хочу сказать только, что наши иллюзии, сколь бы непрочными они ни были, так же трепетно и страстно хотят жить, как и реальный мир. Гусеница хочет жить не меньше, чем человек, человек хочет жить не меньше, чем галактика, и хотя все мы умрем, кто решиться подсчитать, чья жажда жизни больше, кто своей жаждой жизни заслуживает этой самой жизни, а кто желает ее недостаточно сильно? Когда человек отбрасывает свои иллюзии, он становиться убийцей. Ведь химеры заслуживают жизни в той же степени, что и мы. В той же степени, что и мы.

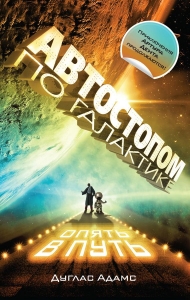




Комментарии к книге «Планета-мечта», Лилия Баимбетова
Всего 0 комментариев