Мю Цефея. Только для взрослых Альманах фантастики №3(4), 2019
Авторы: Давыдова Александра, Газизов Ринат, Будницкий Яков, Черепанов Максим, Тихомиров Максим, Леванова Татьяна, К.А.Терина, Толстова Ольга, Цветкова Ольга, Аксёнова Татьяна, Крапивников Тёма, Некрасов Юрий, Скорбилин Денис, Селина Варвара, Говорун Константин, Сафин Эльдар, Придатко Александр, Бортникова Лариса
Редактор Александра Давыдова
Корректор Наталья Витько
Дизайнер обложки Ольга Степанова
Дизайнер обложки Борис Рогозин
Иллюстратор Ольга Зубцова
© Александра Давыдова, 2019
© Ринат Газизов, 2019
© Яков Будницкий, 2019
© Максим Черепанов, 2019
© Максим Тихомиров, 2019
© Татьяна Леванова, 2019
© К.А.Терина, 2019
© Ольга Толстова, 2019
© Ольга Цветкова, 2019
© Татьяна Аксёнова, 2019
© Тёма Крапивников, 2019
© Юрий Некрасов, 2019
© Денис Скорбилин, 2019
© Варвара Селина, 2019
© Константин Говорун, 2019
© Эльдар Сафин, 2019
© Александр Придатко, 2019
© Лариса Бортникова, 2019
© Ольга Степанова, дизайн обложки, 2019
© Борис Рогозин, дизайн обложки, 2019
© Ольга Зубцова, иллюстрации, 2019
ISBN 978-5-4496-4056-7 (т. 4)
ISBN 978-5-4493-8223-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Слово редактора: Добро пожаловать, или Несовершеннолетним вход воспрещен (Александра Давыдова)
Под обложкой этого номера скрываются по-настоящему взрослые проблемы, нецензурная лексика и много, реально много плотской любви. Всё, что вы хотели, но боялись спросить о сексе с роботами, вампирами, инопланетянами и не только. Всё, о чем вам никогда не расскажут в добрых сказочках и приличных книгах. Все грани взрослой жизни — от развеселого порностеба до настоящих трагедий..
Пожалуй, именно этот номер следовало бы переименовать в «Ню Цефея». Потому что герои тут появляются без одежды и действуют без купюр. Все виды секса, насилие, смерть, смех над самым сокровенным, полное отсутствие норм морали или, наоборот, попытка их придерживаться в мире, который сошел с ума и катится в… в известное место.
Вот он, список авторов, которые не побоялись рассказать вам про настоящую жесть.
Лариса Бортникова — специалист по порностримам с далеких планет. Ринат Газизов — знаток противоестественного секса с нечистью и нежитью. Яков Будницкий и Максим Черепанов — создатели сюжетов об андроидах, с которыми можно делать всё. Максим Тихомиров и Татьяна Леванова, мастерски повествующие о проблемах продолжения рода (не всегда человеческого). К.А.Терина и Ольга Толстова, в рассказах которых любовь равна смерти (и это далеко не самое страшное). Ольга Цветкова с текстом о сильной, очень сильной связи между близнецами. Денис Скорбилин и Татьяна Аксенова с рассказом о весьма умозрительном, фактически церебральном сексе и рептилоидах. Тема Крапивников и Юрий Некрасов, демонстрирующие решение геополитических проблем с помощью межвидового и внутривидового совокупления индивидов. И завершает блок рассказов сага Дениса Скорбилина о кровожадном томате. И ни слова более, чтобы обойтись без спойлеров.
Зарисовки тоже порадуют — секс как двигатель прогресса, борьба с первородным грехом, пародия на порнофильмы и слом четвертой стены (берегись, читатель!). Спасибо Константину Говоруну, Александру Придатко, Варваре Селиной и Эльдару Сафину за этот праздник.
Статья Сергея Игнатьева о фильмах про межвидовой секс вышла настолько горячей, что нам пришлось ее дважды подвергнуть цензуре даже в рамках этого неподцензурного номера.
А если вы утомитесь от бесконечного разнообразия жести и видов извращений, то отдохните на обзорах Зеленого Медведя. Они удивительно невинны, если сравнивать с остальными текстами номера.
Have fun, как говорится!
Рассказы
Меня зовут Мистер Х (Лариса Бортникова)
Меня зовут Мистер Х, где Х означает «ксено», а для тех, кто в теме, еще и то, что я профессиональный ксенопорнотурист. Точнее, актер. Точнее, звезда.
Это все, что вам следует знать и помнить обо мне, потому что через полгода или чуть больше (если повезет) сам я об этом забуду. Но вам я забыть этого не дам, если, конечно, у Зоря всё получится, а Снуки не зассыт уйти на нелегалку в даркнет. Но это через полгода или чуть больше. А пока я с любопытством слежу за тем, что со мной происходит, и молюсь, чтобы Зорь успел встроить чертову камеру в мой уже мало похожий на человеческий лоб.
Мистер Х. Меня зовут Мистер Х. Запомните хорошенько.
***
Два месяца назад
Вехеа я встретил тогда, когда уже потерял всякую надежду и собрался возвращаться к водопаду, где пару дней назад бросил арендованный «летачок».
Чуть было не споткнулся об нее, сползая в неглубокий овраг. Вехеа выглядела так, как и положено выглядеть зрелому оксу, — унылой шершавой личинкой размером с земную не слишком крупную корову. Она лежала в густой траве и характерно хрипела, обозначая готовность к метаморфозу. Не будь я порнотуристом, то есть настоящим, профессиональным порняком, я бы всадил в нее всю обойму транков и слинял бы куда подальше. Или просто дал бы стрекача. Окс не может догнать человека — лапок нет. Но я все равно бежал бы так, что пятки бы сверкали. Именно так рекомендовалось путеводителем по заповеднику. «Избегать всякого контакта. При встрече максимально быстро ретироваться!» Светящаяся надпись «Опасно для жизни» мерцает красным над каждым изображением окса. И над тем, что в брошюрке, бесплатно раздаваемой еще в турагентстве, и над тем, что красуется (хотя сказать про «окса» красуется — это надо сильно извернуться) на панелях, торчащих вдоль тщательно обозначенных туристических троп. Надо сказать, довольно редких.
Заповедник заповедником, а пеших туристов нигде не жалуют.
***
В заповедник я попал в общем-то случайно — не было у меня такого намерения. Мы с моим оператором и напарником Снуки готовились к крутому порносафари на Алци-Х, даже сговорились с дальнобоями, чтоб те нас подхватили на следующий рейс. Но вдруг объявился старый мой друг Хомяк Сергеич. Хомяк Сергеич — на самом деле Игорь Сергеевич, но из-за щели между резцами и способности жрать все без разбора его давно уже в лицо называют Хомяком. Так вот. Хомяк Сергеич — мой начальник по прежней работе (когда-то я служил бухгалтером), жуткий домосед и еще более жуткий трус. Однако мужик он не злой и много мне хорошего в свое время сделал. Вот он и пристал. Мол, возьми его с собой хоть куда-нибудь. Мол, дожил до восьмидесяти, а так ничего по-настоящему крутого в жизни не видел и не пробовал. Я отнекивался, но старик начал хныкать, давить на жалость, рассказывать в сотый раз, как его кинула молодая жена и как ему тоскливо. Пришлось согласиться. Я тогда побазарил со Снуки, прикинул, что теперь раньше следующего сентября на Алци не попадем, и взял себе и Хомяку тур в Заповедник. А что? Лететь недалеко: неделя пути на комфортном круизнике, не слишком дорого и, главное, безопасно даже для Хомяка.
Заповедник обустроен грамотно — все более-менее изученные и симпатичные кислородные «ксеники» собраны на едином периметре размером с небольшую, легонькую (три четверти от земной g) планетку. Туристов прямо из круизника пихают по десять человек в «смотровые подушки» и — вперед. В каждой «подушке» помимо пилота — гид, ксеноинструктор и парочка гуманоидных стюардесс для успокоения особо нервных пассажиров. Раз в два часа — привал в охраняемом оазисе. Покушать там, под кустик сходить, приласкать какое-нибудь маленькое нежное травоядное или пушистенького грызуна. Под словом «приласкать» я имею в виду разное. Но обычно туристы ограничиваются осторожным петтингом, а то и вовсе отказываются от предлагаемых Заповедником несложных утех. Вечером — снова на борт, пить и спать. Движение только по проработанным маршрутам. Зверушки все тихие и, как я догадываюсь, должным образом выдрессированные. Никакого баловства. Никаких соскоков от проработанного формата. Сувениры в подарок. Желающие могут сделать ролик с собой в главной роли. Естественно, не для распространения.
За пять земных суток турист набирается впечатлений, начинает считать себя заядлым путешественником и опытным ксенопорняком, после чего возвращается домой, полный задорного эндорфина. Здорово придумано!
Вот только не для меня.
Я такую, простите за каламбур, позорную порнуху больше одних суток не терплю — зверею. Так что я Сергеича сразу предупредил, что в первый день я с ним, конечно, водки выпью, а дальше он сам по себе, я сам по себе. Сергеич похныкал, сказал «лады» и утешился разглядыванием промороликов, видимо представляя, как он будет щекотать пухленькую плюти-белочку с Гарпиды 18.
В первый день нас долго катали над местным водоемом. Демонстрировали летучих цветных сраней с фонтанчиками из глаз и какую-то прозрачную медленную мутную гадину, этими сранями питающуюся. Предлагали спуститься к гадине и налепить ее себе на всякие места, мол, случится незабываемый эротический эффект. Я отказался, а Хомяк вместе с другими лохами побежал бегом за гидами, готовый лепить на себя всё, что положено по программе. Вернулся он только тогда, когда случился местный довольно живописный закат. Был счастливый, мутноглазый и пьяный, громко размышляющей о божьем великом промысле, обнимающий одну из туристочек и явно не нуждающийся в моих комментариях и поддержке.
Так что на следующее утро я помахал Хомяку на прощанье, а сам пешкодралом двинул в управу заповедника, расположенную прямо у посадочных платформ. Начальник охраны, увидев меня на пороге, скривился и принялся теребить длинный тощий ус. Не то узнал в лицо, не то просто почуял, с кем имеет дело. Порняков в заповедниках не так чтоб жаловали. Мы ж им бабла почти не тащим — сами по себе «охотимся». Но лицензия у меня была в порядке, в базе стоял допуск и не в такие места, так что деваться мужику было некуда.
— Инструктаж тебе читать — время терять. Сам, поди, всё знаешь. Ксеников наших уже наизусть вызубрил.
— Точно так, — кивнул я. — Да чего тут зубрить-то? У вас тут чистый рай. Говорят, даже ангелы встречаются, если поискать.
— Угу. — Лицо охранника еще больше помрачнело. — Надеюсь, ты не из этих… Не из оксодрочеров!
— Слушай. Ты бумажки мои видел? А может, и не только их, а? — Я даже немного обиделся. — Ты меня сейчас дебилом назвал, что ли? Я в этом бизнесе уже второй десяток лет. Наверное, соображаю, кого можно долбить, а кого нет. Мне моя лицензия дорога. И репутация тоже.
— Не бычь! Вот не бычь только! Я предупредить обязан. Транспорт тебе какой нужен?
— Летак одноместный сойдет. Я до водопада двину на нем. А дальше пешком. Потопчу вашу флору немножко, фауну за разные части потрогаю, если не возражаешь.
— Да иди… Гуляй. Наслаждайся. Карту купишь или своей запасся?
— Своей, — подмигнул я. — Так что там ваши оксы? Скворчат? Я б посмотрел. Издалека, само собой.
— Лять… Не вздумай! — Лоб шефа побагровел. Он грязно ругнулся. — Я б их давно уже передавил, будь моя воля. Но запрещено. Заповедник, мать его. Если вдруг наткнешься — вали сразу. Не жди, не подходи ближе чем на пятьдесят метров, главное — в беседы не вступай. Вали и всё тут!
— Да понял я. Понял.
— Ладно, раз понял. Ну, цепляйся локатором ко мне, башляй за летак… и хорошей тебе, хм… охоты. — Начальник непристойно заржал. Стопудово был одним из моих подписчиков.
— Спасибо. Хочу парочку когтеглавов затрофеить. И рыжего дрим-стража. Все по лицензии. Все, как положено.
— Иди… — заржал еще громче усатый. — По лицензии он будет. Знаю я вас. Разберемся. Автограф оставишь по возвращении.
***
Я врал. Начальник охраны знал, что я вру. Лицензированный порнотурист моего уровня никогда не ограничится «охотой» по закону. Даже в заповеднике, где лимит на забавы с «ксениками» в разы жестче, чем на других планетах. Но и вреда от нас в сотни раз меньше, чем от «диких трахальщиков». Никогда ни один лицензионщик не обидит и не травмирует зверушку. Никогда не устоит бессмысленной некрасивой сцены. Не сделает ненужного или стыдного. И уж точно не полезет к условно-разумным. Это швах рейтингу… ну и потеря лицензии, что куда важнее. А еще опытный порняк никогда не попрет на непроверенный маршрут, тем более не двинет по маршруту запрещенному, не нарушит базовых правил безопасности и, конечно же, первым долгом обозначится у властей и передаст местным свою геолокацию. Среди нас нет дураков и самоубийц. Мы просто шоумены и люди риска. Разумного и красивого риска. Риска более чем оправданного.
Но пошалить мы любим. И пощупать какое-нибудь редкое зверье тоже. Чем интереснее ксеник, тем выше твой рейтинг, тем больше капает тебе на счет баблишка, тем круче ты ощущаешь себя.
Хотя… в этом смысле заповедник был местом скучным. Ничего по-настоящему странного здесь не водилось. Плюс порняк в заповедниках считался делом слишком простым, оттого не престижным. Но раз уж попал, то грех уйти пустым. Мелкие безобидные когтеглавы неплохо смотрелись в кадре, если запустить на себя штук пять-семь — пусть ползают, а дрим-стражи получались шикарно крупным планом. Правда, без напарника хорошо отснять ролик не выйдет, но встроенная в лоб камера — тоже ничего. Так… Баловство, конечно, но поездку отбить можно. Особенно если тебя зовут Мистер Х, ты на первом месте во всех чартах и даже если ты трахнешь дерево — соберешь с миллион лайков от фанатов.
— Что там? Как? Я на месте… — Я набрал Снуки, одновременно выбирая полянку, чтоб тихонечко приземлиться.
— Каком кверху! Попадалово! Трындец! Валимся… Свалились. Ужас! Ужас!
Обычно Снуки вне съемок не орал. Воспитанник Кембриджа, талантливый юрист, скромняга и интеллигент. Гениальный оператор. Да я за десять лет нашей с ним работы не помню, чтобы он вообще повышал голос в обычном разговоре.
— Так. Что случилось? — Пальцы у меня вспотели. Я почуял, что сейчас услышу что-то очень нехорошее.
— Х-Кирка вздул одновременно пять сольер. Прямо на вершине Пантагрюэля. Когда был крупный выброс. Получасовой жесткий ролик. Прикинь. Кирка долбит пять роскошных сольер, а вокруг вовсю гремит, визжит и шатается почва. Валятся херовы валуны. Повсюду полыхает ультрамарин, и перламутровая скользкая лава течет прямо через этого перекачанного долбоящера, через этих вертлявых волосатых сольер, и это, блин, нереально круто, так круто, что даже у меня привстал… И, короче, у него теперь рейтинг, а мы все в заднице!!! Вчера ночью выложил. Знаешь какое у нас место сейчас?
— К-какое? — Я сглотнул, чувствуя приближение тошноты.
— Три тысячи второе!!!
— П-почему… Ну ладно. Ну я понял. Сольеры. Вулкан. Кирка с его переделанным носом и прочими местами. Но почему три тысячи второе? Мы ж были… первыми!
— Да потому что все ксенодрочи ломанули зырить на этих гребаных сольер. Другие ксеники никому больше не интересны, никто не хочет передергивать ни на летяг, ни на дрим-стражей, ни даже на нашего беррианского сомика. А это был хит! Твой хит! Всё… Провал. И нужно что-то срочно делать, а ты торчишь в сраном заповеднике и вряд ли… — судя по тону, Снуки начал успокаиваться, я же, наоборот, чуть не вмазал летак в местную сосну от волнения, — и вряд ли мы за этот сезон сможем найти хоть что-то, что нас вернет хотя бы на сотню пунктов выше. Отключаюсь. По ходу, пора начинать жестко экономить.
— Сольеры же страшные! И лохматые… Как вообще можно на это?
Это я сказал уже в молчащий планшет-коммуникатор.
***
Ксенопорняк — это не фан. Если кому-то кажется, что это приятное хобби, да еще и приносящее кучу бабла, то пусть он попробует продержаться в кадре с беррианским сомиком хотя бы минуту. Сомик большой, скользкий, вонючий, как носки моего дедушки, и равнодушный, как студень. По профлицензии ты можешь заняться с ним хм… да что там… по лицензии, ты имеешь право трахнуть сомика один раз в пять лет, и процесс не должен продолжаться дольше пяти минут. В нашем цеху беррианского сомика так и называют «пять-пять-не встал опять». За эти пять минут ты должен выдать на камеру не просто трах. Ты должен выдать красивый, честный, настоящий трах. Такой, чтобы у твоих подписчиков снесло мозг и чтобы их оргазм был незабываем, великолепен и достоин не просто лайка, но восторженного комментария. А то и благодарного отзыва на форуме ксенофилов. Чертовы извращуги!!! Ненавижу их.
А теперь представьте. Ты по грудь в ледяной (эти твари любят холод) воде, абсолютно голый, намазанный водооталкивающей мазью и красиво выпрямившийся, хотя всё, чего ты хочешь, это выпрыгнуть наружу и забиться в подогреваемый спальник, который Снуки уже подготовил вместе с бутылкой вискаря. Но ты стоишь и белозубо улыбаешься, с вожделением глядя на ледяной поток, по которому плывут хреновы сомики. Стоишь и щеришься, пока работает камера в твоем лбу, и еще одна во лбу у Снуки, и на всякий случай страховочная, обычная в руках у него же.
Гребаный заранее отобранный, самый киногеничный сомик плывет прямо на тебя (за пять дней вы выучили его траекторию). Выглядит он, конечно, обалденно. Это моя особая фишка, я делаю порняк только с красивыми (по человеческим меркам) ксениками. Чешуя мелкая, плотная, переливается всеми оттенками алого, тело гибкое, нервное, чуть подрагивает. Морда хоть и рыбья, но осмысленная, и глаза… Черные, бездонные, печальные, как у монашки. Ну и плавники, конечно… Шелковая золотая мантия. Беррианский сомик — нереально красивая тварь. Но только вонючая, как носки моего дедушки, и равнодушная, как студень. Но этого никто никогда не узнает. Как и не узнает того, что у меня не стоит на чертову рыбу, поэтому потом Снуки сделает аккуратный монтаж. Но все остальное! То, как я нежно вынимаю сомика из воды, как с его багровой чешуи стекают струйки, как он медленно обматывает меня плавниками… Как его глаза пырятся в мою лобовую камеру с тоской и любовью. На самом деле это строение глаз, но тоска… любовь… желание. Беррианский сомик — это круто.
— Лицо. Лицо. Не морщься. Даю наезд! — орет Снуки.
Я тоже смотрю на сомика с любовью и тоской. От него воняет. Он холодный, липкий, скользкий. И тяжелый. И равнодушный. В любой момент я могу его выронить, и пропали мои пять минут плюс ролик, который может сделать нас со Снуки завтра миллионерами. А может и не сделать. Если я не отработаю так, как нужно. Я медленно и красиво ложусь спиной на мелководье. Сука! Там градусов десять. Не больше. Кладу сомика сверху, начинаю двигаться туда-сюда, как бы совершая фрикции. К животу сомика прицепилась какая-то гребаная ракушка, она царапает мне яйца до крови.
— Еще. Еще! Двигайся быстрее. Ноги. Ноги.
Я обматываю скользкий, вонючий холодец своими стройными накачанными ногами. На крупном плане потом видно будет, что на них пупырышки от холода, но Снуки умело уберет все «недочеты».
— Ты можешь его поцеловать в морду? Или полизать? Ртом поработай как-нибудь. Шикарно выходит! — Снуки показывает мне большой палец.
Я страстно лижу студень с запахом и вкусом носков моего дедушки, закрыв глаза. Ритмично двигаюсь. Дышу. Быстрее. Еще быстрее… Кажется, ракушкой мне почти срезало левое яйцо. Оно кровит, но я думаю, в кадре это будет хорошо. Как будто сомик был девственен, ну или еще что-нибудь в этом духе — дрочеры додумают.
— Осталось десять секунд. Кончай! Только лучше б сверху.
Мы с сомиком кувыркаемся в ледяной воде, будто бы он вырывается, а я хочу его поймать, подчинить, взять. Сомику на меня насрать. Он вообще не понимает, что происходит. Плыл себе, плыл, а тут его зачем-то тискают и возят туда-сюда по странному уродливому существу. Сомику насрать. Собственно, он и срет. И это потрясающе.
— Потрясающе! — орет Снуки. — Подними его. Выше. Выше
Я поднимаю скользкого, мало похожего на рыбу, но очень похожего на сказочную алую русалку ксеника над собой. Вынимаю его из воды, и он гадит на меня липкой субстанцией, которая потом на экране будет выглядеть как поток жидкого золота.
— А-а-а-а-а-а-а-а! — вопит Снуки. — Мы порвем чарты! Выпускай сома. Время закончилось.
Я осторожно кладу сомика (он же не виноват, что вонюч и противен) в воду, сомик равнодушно уходит куда-то влево, а я вылетаю на берег и хватаю вискарь, чтобы согреться внутри и умыть вискарем лицо. Смыть сомячье дерьмо.
— Мы гении! Гениальные гении! — Снуки скачет вокруг, обтирая меня полотенчиками. — Мы гении ксенопорняка. И миллионеры.
Ролик с сомиком принес нам сперва пятисотое, а потом и первое место в рейтинге, уважение среди цеховых и очень неплохие деньги. Этот ролик был реально лучшим, что мы сделали со Снуки за десять лет работы, и благодаря ему мы до сих пор нормально жили и могли позволить себе все и даже чуть больше. Другие наши работы по сравнению с «сомиком» были средненькие, но кое-что вполне котировалось. Но теперь…
Я бы мог выйти в сеть, качнуть (и плевать на расходы) ролик Кирки целиком и посмотреть, как он там раздалбывает в буквальном смысле мою карьеру, но не стал. Я бы тогда психанул и не смог настроиться на то, на что сейчас мне следовало настроиться.
Я знал. Точно знал, что нужно сделать. И пусть у меня отберут лицензию и выкинут из сети в даркнет навечно. Пусть больше никогда я не прилечу ни на одну планету в качестве порнотуриста. Плевать.
Я знаю, что я сейчас сделаю. То чего не делал никто и никогда.
Я найду и трахну окса! Ведь меня зовут Мистер Х.
***
Про оксов я знал мало. Да почти ничего. На Гальюнке (так назвалась их родная планета — вполне, кстати, официально) оксов почти не осталось. А если и остались, то где-то на неисследованных территориях. Те особи, которые еще лет сто назад были вывезены и распределены по заповедникам, слегка мутировали, но все равно оставались тем, чем их называла желтая пресса и идиоты из зоошизы. Чудом.
Охотники, туристы, дикари и порняки… да просто вменяемые люди называли оксов условно-разумной аномалией. И выступали за полное их уничтожение, просто потому что так было модно, что ли.
Но все равно все нестерпимо хотели хоть раз в жизни увидеть живого окса. Мертвого тоже было бы неплохо. Но, увы, оксы моментально разлагаются, так что даже если кому-то и довелось прибить окса, он тупо не успел сделать памятную фоточку с трофеем.
Фотографии и ролики с живыми оксами в сети водились. Но было их немного, и все они были однообразны и сделаны кое-как. Морщинистое бревно размером с теленка. Серое. Там, где положено быть голове, заметное утолщение. Две глазные прорези прикрыты прозрачной пленкой. Ротовая щель. Подобных «гусениц» валом водилось на разных планетах, они отличались друг размером, цветом, количеством и видом конечностей, но в целом выглядели одинаково уродливо и скучно. Среди моих «трофеев» такой мерзости не имелось, но я видел пару клипов, где начинающие порняки изображают страстную долбежку с тем или иным бревном. Ну что я могу сказать? На любителя. Я до такого не опускаюсь.
Точнее, не опускался до этого момента.
Теперь же я искал окса. Он был нужен мне, как Джульетта Ромео, как Лаура Петрарке, как Ева Адаму… Да. Как Ева Адаму — точнее. И дело было не в том, что оксы условно-разумны, а значит, порнография с ними считается запрещенной.
Дело было в том, что когда зрелый окс, подобно гусенице, превращается в бабочку, то он становится похожим… на ангела. Так говорят и пишут свидетели, которым никто, конечно же, не верит, потому что нет ни одного подтверждения их восторженной болтовни. Ксенозоологи эту версию не подтверждают, но и не опровергают. Осторожно допускают, однако, что в момент самооплодотворения окс радикально меняет свой обычный и весьма неприглядный лучок-с на вид более чем приглядный и не обычный.
«Автогамная особь увеличивается в размерах, изменяет форму, цвет и внешний вид, начиная внешне напоминать крупную стрекозу или бабочку ярко-белого цвета. После удавшегося автомиксиса особь принимает свой обычный вид и размер и, по-видимому, удаляется в заранее приготовленную нору, чтобы выносить там потомство — обычно одного детеныша. Оксы предположительно живородящи…»
Все эти предположения сопровождались изображениями, похожими на средневековые гравюры, где гигантская белая моль выбиралась наружу из жирной гофрированной личинки. У личинки почти не было глаз, или их просто не нарисовали. У моли же глаза имелись, и взгляд их мне никогда не нравился.
***
В общем, я, скрестив пальцы, шел вперед в надежде найти окса… а дальше как повезет. А везение мне было просто необходимо. Да черт подери! Мне бы найти эту бестию, а там я или просто так ее трахну, или уговорю размножиться, или заставлю, или не знаю что… Но мне нужен! Необходим этот ролик. Где ты, моя Ева? Твой Адам ищет тебя в райских кущах.
Летачок, как и обещал, я бросил возле водопада. А чип геолокации прицепил к таррийскому сурку — не нужно мне сейчас лишних наблюдателей. С тропы сошел почти сразу, направившись в чащу, которая, впрочем, оказалась не такой уж непроходимой. Все-таки Заповедник — не дикая планета, егеря даже заброшенные участки стараются держать в порядке.
Два дня и две ночи прошли без приключений. Крупных хищников тут не водилось, а мелочь старалась не попадаться на глаза. Правда, где-то ближе к рассвету второго дня пришлось подрезать хвосты дюжине хер-лупиков (в энциклопедии они называются степными волками Гарно, по имени парня, что их нашел на Великии, когда она не была Великией а называлась еще одной жопой мира под номером 09789787). Маленькие, похожие на земных волков твари обладали просто гигантскими тестикулами и агрессивным нравом. Хер-лупики — точное название. Я вспомнил одного из наших ребят, взявшего себе псевдоним Хер-лупик — добрый пацан, но шары у него действительно гигантские.
К полудню третьего дня я затосковал — оксов не было. Все скудные (я, кстати, скачал из сети всё, что смог) сведения подсказывали, что иду я верно, двигаюсь по низинам, вдоль реки, далеко от искусственных троп. Оксы предположительно жрут насекомых и хвощ — этого добра здесь было достаточно. Предпочитают прятаться под корягами — коряг я за эти три дня видел столько, что мог бы вполне пилить дизайнерские кресла. Коряги, мошка, овраги, жесткая трава — всё наличествовало, кроме долбаных (точнее, еще недолбаных) оксов. Я было потерял надежду и даже собрался звонить молчащему все эти дни Снуки, чтобы он хоть как-то меня поддержал или, наоборот, еще больше расстроил, но тут мне попался на глаза овражек, на дне которого просто обязаны были гнездиться когтеглавы. «Ладно. Пойду пожамкаю мелочовку на камеру, хоть что-нибудь привезу», — решил я и прыгнул, надеясь на то, что три четверти от земной гравитации сделают мой прыжок легким.
Я буквально перелетел через нее… него? Нет, пожалуй, через нее.
Поднялся, обернулся посмотреть, что это там такое мягкое и противное изменило траекторию моего замечательного ловкого прыжка и почему я не разглядел это сверху.
— Боль? Боль… Любовь… на-а-а-а-ах-х-х-х. — Белесая щель рта растягивалась почти по всему диаметру верхнего утолщения. По морщинистому телу то и дело проходила судорога, каких-либо конечностей я так и не заметил. Правду говорят — нет у оксов лапок. В общем, передо мной лежала огромная кожаная гусеница. Говорящая гусеница. Вздыхающая жалостливо и хлипко, как рожающая первый раз человеческая шлюха.
— Боль ах-ха-а-а-а-а. Недолга-ах. Помощь. Подо-о-ойди…
Как бы правильно пояснить? Как бы подобрать точное слово для того, что я в тот момент чувствовал? Такое слово есть, но мама разбила бы мне за него губы, а отец задницу. Я, конечно же, сразу понял, что нашел то, что искал. Я возликовал, что мне снова повезло, удивился тому, что окс оказался куда противнее ожиданий. Но то, что окс говорит на лингве, причем осознанно… к этому я был не готов. Хотя и знал, что оксы условно-разумные. Все равно — это шок. Это всегда, знаете ли, шок, когда с тобой говорит большая гусеница.
И я не знал, что ответить, поэтому просто присел на камень рядом с оксом, достал протеиновый батончик из рюкзака и принялся жевать. Все это время налобная камера у меня работала, но не такой ролик хотел бы я подарить миру. Совсем не такой.
— Ка-а-ак имя-я? — согласно содрогнулась туша. И я тоже дернулся, как будто повторяя своим телом ее дрожь. — Да-а-а.
— Имя? А… Ну… У тебя метаморфоз же? Ты рожаешь да? Ну детеныш будет скоро? — Я совершенно не понимал, как себя вести. За годы путешествий я встречал разумных «ксеников», но все они были гуманоидны и говорили совершенно нормально без этих придыханий, хлюпаний и истошных подергиваний тушей.
— Аха-а-а-а-аха-а-а, детеныш? Да. — В животе окса что-то лопнуло, словно сломалась тонкая пластиковая перегородка между отсеками, и краем глаза я заметил, что шкура в этом месте стала тоньше, суше и словно бы прозрачнее.
— А долго еще?
— Вехе-е-а. Я имя звать Вехе-е-а.
— А я Мистер Икс. Ну… — я замялся. Исправился. — Саша я. Саша — имя.
— Саша-а-а.
Камера во лбу работала нон-стопом, но на всякий случай я сделал с сотню обычных снимков и установил планшет между ветками какого-то колючего куста так, чтоб, когда «начнется» метаморфоз, окс попал в кадр целиком. Желательно вместе со мной. Я чувствовал себя героем и подлецом одновременно. Я утешал себя тем, что сейчас я делаю для науки, может быть, столько же, сколько в свое время сделал Дарвин. Или больше?
Я презирал себя за то, что рядом со мной от боли корчится живое существо, а я думаю только об одном. О рейтинге, мать его.
А еще меня терзало любопытство и желание узнать, что же будет дальше.
— Знаешь, что дальше, Саша-а? — Вехеа произнесла это отчетливо, без хрипа. У нее был хороший женский голос. Пожалуй, контральто — не разбираюсь в этом.
— Нет.
— Бо-о-оль. — Снова раздался такой треск, словно внутри гусеницы ломалось и хрустело что-то пластиковое и еще немного стекла. — Любо-о-овь.
— Может, тебе надрез сделать или еще что?
— Не-е-ет… Аха-а. Не уход-ди-и-и.
Ближе к закату Вехеа замерла. Шкура ее стала хрупкой. С нее начала осыпаться не то перхоть, не то пыль. Я сидел поодаль на камне, так чтобы врубить планшетную камеру, едва «начнется». Врубить камеру, сорвать с себя одежду и начать работать. Впрочем, на коленях я все же держал ружьишко с транками, чтобы выпустить в то, что сейчас вылезет наружу, всю обойму, если оно вдруг попрет на меня, плюясь ядом или огнем. Кто их знает — этих оксов.
— Да, сейчас! — Я вздрогнул от неожиданности. Вехеа молчала уже часа два.
Мотор! Экшн.
— Извини, девочка. — Я нажал на «КАМЕРА ВКЛ.» и отточенным рабочим жестом сорвал с себя ветровку, расстегнул пуговицы на белой (я люблю работать в белом) рубашке, взялся за ремень…
Она лопнула с треском через полторы минуты. Я уже стоял абсолютно голый и понятия не имел, долго ли мне еще тут болтаться перед камерой без штанов, подкармливая собой местную голодную мошкару. Нет. Долго ждать не пришлось. Вехеа лопнула. Продольная трещина рассекла ее брюхо и обнажила утробу. Я шагнул вперед. Нагнулся над трещиной, заглянул в чрево. Внутри гусеницы, точнее, внутри оболочки копошилось белое. Белоснежное. Невероятное. Я, периодически поворачиваясь к камере то боком, то задом, принялся выковыривать, выпутывать из скользких нитей ненужных уже внутренностей нечто, шепча всякую хрень и матерясь — потом Снуки наложит нормальный звук. Нечто выбралось наружу, пискнуло, крылья снова свернуло на прозрачном теле. И вдруг меня окатило… Как бы вам пояснить? Не страстью, нет, хотя стояк случился такой, что позавидовал бы весь цех. Меня окатило любовью, блин! Любовью. Воздух со свистом вырывался из моего горла. И я напрочь забыл, что я лучший в мире порняк, снимающий крутейшее в мире порево. Да я обо всем забыл.
Кажется, я трогал выбравшееся из гусеницы Нечто за тело и крылья. Кажется, что-то говорил. Кажется, плакал. Нечто светилось изнутри, обернутое невесомой материей трепещущих крыльев. Нежное, теплое, ранимое. Впервые я понял, как можно быть счастливым от возможности дышать одним воздухом с кем-либо. Я жадно глотал серебристую пыль, выходящую из пор существа, и верил, что еще чуть и оторвусь от земли — помчусь бестелесный куда-то на небо, где сидят на облаках птицы с человеческими лицами и молчат. Я прижал новую Вехеа к себе и зажмурился. Ощущения были такими, будто мне позволили коснуться чужой души. А потом она обвила мою шею, прильнула к моему телу, и я стал вечностью. Я не вру! Из-под моих пальцев вылетали, искрясь, миллионы новых миров, в которых кишели свои галактики, свои спирали пространства и скопления звезд. Там, на сотворенных мной планетах, жили люди и нелюди. Там рождались неведомые твари, и все они были во мне и боготворили меня. Я видел, как в мои храмы спешили мои дети и жгли на алтарях горькую траву. Я чувствовал их. Я знал о них всё. Словно гигантский орган размером с галактику, я выплескивал из труб своего сердца бесконечную, оглушающую любовь. Мгновения слились в нестерпимо сладкую, в нестерпимо короткую бесконечность. Я стал богом. А где-то в чужой реальности странный прозрачный мотыль размером с небольшую корову трогал мои щеки крыльями, пока я сходил с ума или, наоборот, возвращал себе истину.
Я кончил.
***
— Ну как? Хорошо было — потрахаться с ангелом, а? И кто из вас кому вдул? Ты ему? Или он тебе? Оксоёб сраный! — Шеф охраны пинал меня прямо в лобовую камеру носком берца. Душа моя вернулась с неба в искореженное, избитое голое тело.
— Господи… Как? Что это было? Неужели действительно ангел? Где она? Где оно… — прохрипел я, глотая соленый сгусток. Сколько ударов пришлось вынести, пока я пришел в себя?
— Идиот! — Шеф присел на камень. — Я тебе говорил, не связывайся с оксами. Знаешь, какое сегодня число? Седьмое августа.
Сперва я не поверил, но, проведя рукой по подбородку и нащупав приличную бороду, обомлел.
— Полторы недели?
— Угу. На поиски только позавчера вышли. Когда поняли, что как-то ты больно резво бегаешь и обратно не летишь. Зря. Эх. Как же зря ты это все. Курить будешь? — Пальцы начальника охраны чуть дрожали, пока он доставал сигарету из лётного портсигара. — Твои туристы улетели, если что. Старикан в порядке. Беспокоился. Пришлось наврать, что тебя, мол, срочно отозвали на Землю. Или что-то в этом роде. Дебил. Какой же дебил. Какие ж вы дебилы все.
— Камеру мне зачем расколотил? — спросил я, сев и привалившись спиной к валуну.
— Затем и расколотил, что не надо никому видеть то, что ты видел. Кури, кури.
От табака сильно кружилась голова. Полторы недели без еды и воды. Да как я только выжил? Шеф предупредил мой вопрос:
— Окситоцин. Поэтому и не сдох. Погоди, часа через два на тебя такой жор нападет. Мой тебе совет: пили прямо по курсу норд-ост. Там вроде бы поселение ваше стоит. Навигатор у тебя есть, батареек я подкину и паек недельный дам. Воды сам добудешь, турист.
— В смысле? — не понял я. — Какое поселение? Я домой хочу. На Землю.
— Какое? Да таких же кретинов, что и ты. Думаешь, один такой ангелоёб хитрожопый? Не пялься. Теперь тебе одна дорога — в лепрозорий. Я бы тебя пристрелил сразу, но нельзя. Ты ж типа человек. Э-эх! А какой был актер хороший. Я этот фильм, где ты русалку плющишь, раз сто смотрел.
— Это не русалка. Это рыба. Сом. Пять-пять-не встал опять. Вонючий, как задница. И дырки в нем нет. Монтаж это, — зачем-то сказал я.
Шеф пожал плечами. Почесал спину сухим прутиком. Поднялся. Аккуратно положил на траву небольшой контейнер. Затоптал каблуком окурок. Неожиданно поднялся зябкий ветер, и сквозь заросли металлом обшивки мелькнул егерьский летак. Медленно, будто нехотя, шеф пошагал прочь.
— Мне надо домой. — Горло саднило. — Погоди! Мне надо домой. На Землю. У меня дела.
— Какие дела? Нет больше у тебя дел на Земле, Мистер Икс. Конец фильма. А член у тебя и правда большой.
Я попробовал поползти вслед за ним, но тело не слушалось. Понимая, что происходит что-то странное, неожиданное, я из последних сил, хватаясь за ствол незнакомого дерева, встал на негнущиеся ноги. Заодно убедился, что планшет на месте и что хотя бы одна запись происшедшего здесь полторы недели назад у меня осталась.
Летак на секунду завис над поляной и исчез — пилот наверняка включил сверхзвуковой режим.
***
Я брел по лесу уже шестой час. Спотыкаясь о корни, задыхаясь от нехватки кислорода, я двигался вперед с тупой настойчивостью. Я не знал, куда и зачем иду. Я не понимал, что случилось. Навигатор мерцал зеленой шкалой, указывая на северо-восток. Когда я успел его настроить, не помню. Скорее всего, после того как жадно вскрыл контейнер с пайком и, давясь, затолкал в рот всю дневную норму. Кажется, я даже оделся. Или нет? Все стало каким-то медленным, неестественным, будто в никудышном сне. Я ждал, что вот-вот очнусь и, протянув ладонь, нащупаю клавишу настенного будильника. Но все так же неправильно жгло солнце и толкался в лицо неприятный ветер. Меня тошнило от чужих запахов, резкие звуки, так непохожие на земные, настойчиво лезли в уши. Сон… Сон. Это только сон. Мне снится этот лес, эти деревья, эта тропа, этот урод в прорезиненном балахоне… Урод.
— Когда спаривался? Когда? Слышишь? Эй, тебе говорю… — Голос чужака тускло колыхался внутри моих барабанных перепонок. — Зорь, ползи сюда! Тут у нас неофит.
— Мне нужно поселение, — проговорил я, как мне казалось, отчетливо.
— Оах-ха. И хто тут у нас? И хто же нас отодрал? Да хах хачественно. Имя. Имя у твоего мотыля хах?
— Ее звали Вехеа…
— Ага. Верха, значит. Веера.
Я потерял сознание.
***
Надо мной склонилось лицо, больше похожее на харю горгульи. Только глаза, внимательные карие глаза с темным ободком не дали мне завопить от неожиданности.
— Добро пожаловать в лепрозхорий. — Голосом горгулья обладала звонким и чуть насмешливым. — Я Зорь. Бывхший окхотник. А ты кто будешь, херой-любовник?
Он издевался. Слегка, самую малость. Как раз столько, сколько мне требовалось, чтобы прийти в себя.
— Мистер Икс… Точнее, Суворов. Александр — профессиональный порнотурист. Куда я попал? Что творится вообще. Сеть есть? Мне надо срочно связаться с моим партнером. С Землей. Где мой планшет?
— Значит, порняк? Белок за деньги трахаешь? Ну, ну… Порняков у нас еще тут не было. — Еще одна крупная, завернутая в брезент фигура появилась в темном проеме. Я лежал на армейской раскладушке внутри стандартного турист-блока. На потолке мигала желтым слабенькая лампа.
— Планшет! — уперся я, не желая отвечать незнакомцу.
— В изголовье глянь, турист. Всё на месте. Только зачем он тебе теперь? Через месяца три нечем тыкать в кнопки будет. У оксов, сам знаешь, лапок нет.
В отличие от охотника Зоря, этот не шутил. Несдерживаемая злость и отчаяние — вот что было в его густом хрипе.
— Да не торопхись ты, Саликх. Что ты парня заранее пухаешь? Дай в себя придет человекх.
— Человек? Ну, ну… — выплюнул Салих и, отодвинув Зоря плечом, нагнулся ко мне. Капюшон плаща съехал на затылок, и я стиснул зубы, чтобы ненароком не выдать охватившее меня отвращение. В мерцающем свете лиловые шелушащиеся наросты на месте, где полагается быть коже, выглядели устрашающе. Но лицо все еще было человеческим, умным и даже красивым.
— Что это? Что с вами? — Я не хотел. Губы выдохнули сами. — Это из-за оксов? Это зараза из-за них.
— Верно, порняк, думаешь. Десять минут кайфа, а потом вот это все! Но оно ж того стоило, разве нет? А, порняк?
— Саликх. Cам я раскхажу. Какхой он теперь порняк? — Зорь качал бесформенным черепом не то с укоризной, не то с жалостью.
***
«…А потом мозги уйдут в отхключку. И это неплохо, довариваться будешь уже в бессознанке. Если, кхонечно, решишь довариться до окхса, а не пулькху в лоб. Это ты сам решай, братихшка. Можешь прямо сейчас пулькху в лоб, мы поможем. Можешь до конца потянуть. Лучше потяни, сколько сможешь. Это не для тебя, для новенькхих. Кто-то же должен расскхазывать новичкам, что за хрень тут проискходит. И старичкхов провожать туда, кхуда попросят. Обычно около полукхгода или чуть дольше вся эта история занимает. Кто-то, как Веркха, так и не решается. Отпускхаем тогда на волю. Дело такое, что кхаждый сам за себя. Вон, братишек Бюьккхеннен мы вчера пристрелили. А Звягинцев Микхайло — верующий, ему нельзя. В сарайчике доваривается. Через неделю-другую оттащим его подальше отсюда в лес. И на Саликха обиды не держи. Ему тяжелее всех. Он обычный кходер, сюда приехал сеть налаживать, вышел ночью поссать без навикхгатора и заблудился. Дальше понятно. — Зорь ходил, вернее, переваливался на ластообразных конечностях из угла в угол и размахивал тупым отростком, растущим из предплечья. Я молча разглядывал истоптанный грязный пластик на полу.
— Сколько их? Нас. Ну, популяция?
— По прикхидкам, тысячи две на весь заповедник. Кхусеницы-то безобидны. Знаешь, кхусениц частенько дикари отстреливают, хоть никто про это и не распространяется. Так что винить окхсов за вот это… — Зорь развел то, что когда-то было руками. — Ну вот такой способ размножения у них. У нас.
— Суки они… Суки! Какие же твари! — Я говорил не про оксов. Зорь это понял сразу.
— Заповедникх в смысле? Акхгенство… Это да. Но ты ж понимаешь, бабло рулит миром. В целом они могли бы нас просто отстрелять всекх до единого. Начать с этого места, например. Так что кхгуманизм им тоже не чужд.
— В жопу такой гуманизм! Где планшет? Я им сейчас устрою гуманизм на всю порносеть. Я сейчас такой хайп подниму! Эту лавочку загасят раз и навсегда. Да я их вые…
— Ха-ха-ха, — захлюпал горлом Зорь, изображая смех. — Так это. Тебя прямо сейчас пристрелить, или до конца потянешь, или желаешь окхсом стать?
— Потом. Мне нужен планшет.
***
— А ты и правда звезда! — Салих пятый раз пересмотрел уже обрезанный ролик. Я оставил только самую главную часть. От момента, где я срываю ветровку, до момента, когда Вехеа, точнее, Вера Шевчук (так ее звали) скукоживается, превращаясь обратно в гусеницу, и ползет прочь от меня, лежащего без сознания на дне оврага. Очень, кстати, красиво и сексуально лежащего. — Шикарно.
— Еще бы не шикарно. — Голос у меня дрожал. И от того, что я видел, и от того, что чувствовал. Восторг, трепет, дрожь. — Я ж профик.
— Партнеру твоему кинчик переслать — не проблема. Тут у нас не ловит, но километр вниз по ручью — и отличная связь. Я-то знаю. Опять же ты еще дойдешь, в отличие от нас с Зорем. — Салих ухмыльнулся, оглядывая то, что осталось от его ног. — Дерзай, порняк.
— Меня зовут Мистер Икс. И это будет мой последний фильм. Отличное завершение карьеры, считаю. Снуки станет миллиардером. А местных говнюков после этого точно прикроют!
— Кхакхакха… — закудахтал Зорь со своей лежанки.
— Чего он? — обиделся я.
— Ты много видел про оксов инфы в сети, порняк? Думаешь ты первый такой? Ну, конечно, в части потрахушек с мотылем — первый. Герой. А так-то многие пытались. И мы с Зорем тоже. И что? Говорящие недогусеницы. Фейк. Монтаж. Вранье. Да и моментом выпиливают. Ладно… Дай еще раз посмотрю.
— Сааликх… — Зорь дождался конца фильма. — Не тяни.
— Понял, родной.
Салих поднялся, достал из кармана плаща пушку, равнодушно проковылял в угол к другу и выстрелил тому прямо в лоб.
— Твою мать… — вскочил я. — Зачем?
— В смысле? Да и нас двое теперь. Примем новичков, если будут. Михайло в лес оттащим. Пусть живет.
— А ты? — Я уже знал ответ Салиха.
— А я за Зорем. Скажу тебе, когда пора придет. Хорошо?
— Угу. Сделаем, — кивнул я.
— Спасибо, Саш.
— Похоронить надо Зоря-то, — спохватился я. — Где тут у вас кладбище или что-нибудь такое.
— Оксы моментально разлагаются, родной. Учи матчасть. Я спать.
Я собрал то, что осталось от Зоря, — крошечную совсем горстку серой перхоти — в ладонь и выбросил в окно. Хотелось что-то сказать пафосное или трогательное, но я не знал, кто такой Зорь, как его зовут на самом деле и был ли он хорошим человеком. Поэтому просто открыл окно, выбросил Зоря, закрыл окно. Вернулся на лежак, закрыл глаза и провалился в сон.
***
— Я решил. — Утром я подошел к спящему еще Салиху и пнул его ногой в то, что когда-то было задницей. — Я ночью все решил.
— Что решил, родной? Только умоляю, не проси убить тебя сейчас. Я хочу спать, и нам надо еще оттащить Михайло в лес. Один я не справлюсь.
— Нет, Салих. Мы будем снимать порно. Я буду. Я буду первый в мире сучий окс — порнозвезда.
— Чего-о?
— Ты ведь сможешь переставить камеру из планшета мне в лобешник? И настроить так, чтобы она, — я сглотнул страх и восторг, понимая, что в этот момент становлюсь легендой ксенопорноиндустрии… — чтобы она включалась и давала прямую трансляцию в сеть, когда я буду этим… ну ангелом там или мотылем.
— То есть когда станешь человечкам по самые гланды вдувать, что ли? — заржал Салих. Наросты на его лбу затряслись в такт смеху. — Ну можно подумать. Задачки ты ставишь, однако, порняк! Ты ж понимаешь, что тебя максимум через три трансляции загасят.
— Ты ничего не понимаешь в пореве и бизнесе, родной. Поэтому я звезда, а ты простой кодер. Кто ж станет гасить свой рейтинг и свое бабло? Великий Мистер Икс — Ангел из Заповедника. Чуешь фишку? Иди-ка думай, как в меня камеру сунуть, пока не «сварился» до конца.
— Лучше б ты трахал белок. Лучше б ты просто трахал белок.
Любитель жанра (Ринат Газизов)
Приговор вкуса обладает своеобразной непререкаемостью.
Ханс-Георг ГадамерДо последней минуты эти вопросы, в сущности ничтожные, ибо никак не продлевают жизнь и не наполняют смыслом ее остаток, будут стоять передо мной. Что ужаснее: сладострастие мое или их предательство? Кто же прав в этой истории? Кто окажется стороной, что получила выгоду? Правда ли, что выгоду всегда получает государство — как наибольшее разумное, что поглощает любое наименьшее?
Я отмахнусь от вопросов — и проснусь снова. Окажется, что я, забывшись, отбрасываю сонной рукой занавесь и вижу, узнавая привычные вещи, как подпрыгивает луна в такт путевой трясучке. Откидываюсь на подушки. Мерцает светильник в кованом обруче. Треуголка моя под скамьей.
Карета сходит с тракта, и я ощущаю, как Жак, напрягая на козлах свое короткое крепкое тело, наваливается на рычаг. «Опять шалит рыжуха…» — шипит слуга сквозь зубы. В окно прозрачной лапой забирается запах влажных лугов. Звезды сверкают. Стрекочут сверчки.
— Что за напиток ты подаешь, Жак, если я тружусь не просыпаться, а воскресать каждую полночь?
Голос высокий, аристократический. Так разговаривает Гиона Густаф, наблюдатель и консультант его величества. Это мой голос.
— Господин, крепость напитка под стать длительности пути.
Из-под шеи я вынимаю футляр с императорской грамотой. Печать Карла IX Месмерита открывает путь на любых границах королевств Копиганса. Такую выдают, когда наблюдатель его величества отправляется в путь для исполнения приказа.
— И долго ли до крепости Штимера? Ты видел путевые столбы?
— Так же ясно, как глаза того сурка на холме. Мы в трех милях. Выгляньте слева, там башня.
— Но скажи про сурка, отчего не спит сурок?
— Отчего не спит и человек, и зверь? — парировал старый плут и тут же заметил другим голосом: — Господин, вам надо эта… засвидетельствовать.
— Останови. Руку, Жак.
Я вошел в поле дикой ржи и долго рассматривал гирлянды, висящие на деревьях. Я не решался подойти.
Вокруг деревьев в землю были воткнуты истуканы; они отливали металлом под луной. Воздух тоже пах металлом. Ладони вспотели, когда я выбрался на примятую тропу — к конскому трупу. Брюхо было вспорото. Животное умерло в страшных муках, я чувствовал, как в прошлом огромная жизнь вытекала из раны.
Не надо тебе дальше, Жак…
Я ходил меж дубов. Вслушивался, как висят трахеи на ветвях, ветвятся на бронхи — черные, разбухшие, похожи на имбирные корни. Призрак дыханья сновал в полых трубках, и слышал его только я. Из дупла торчала связкой хвороста дюжина рук, пальцы указывали вниз, и там, в корнях, я нашел слипшиеся глаза — словно грибное царство крохотными шляпками вспучивалось из тверди.
«Идолы» оказались человеческими останками: тела обрубили и вкопали стоймя в землю. Черный жук барахтался в шейном срезе: перебирался кругами по загнутой внутрь коже, скользя в кровавое озерцо и поднимаясь, — живой медальон без цепи. На нагрудных пластинах я различал герб графа.
Я не нашел трупов врага.
Может ли быть враг у Штимера в самом сердце его земли?
— Господин Густаф, сюда!
Поле уходило в низину, рожь сменялась луговой травой, и почва заболачивалась. Почва хранила следы. Жак мог бы сесть в один из них, но не покрыл бы след чудовища.
Имперский совет предупреждал его величество: здесь творится неладное. Но кто бы мог подумать, что неведомая угроза настолько опасна?
— Мы бы заметили это чудовище, Жак? Издалека?
— Куда яснее, чем крепостную стену, господин, — откликнулся он с наигранной бодростью, но я знал, насколько мой бывалый спутник потрясен.
Прежде чем тронуться, слуга спросил, отчего гарнизон не похоронил своих конников. Жак недоумевал, а я не нашелся с ответом.
Пока мы добирались до ворот, я вынул из походного набора перо и чернильницу, попытался передать свежие ощущения бумаге. Дощечка то и дело скользила на коленях, я лишь перепачкал панталоны. Тогда я зажмурился и запомнил то чувство. Когда гуляешь среди художественно разметанных останков, с которыми играют полевки, ветер — ветер, что на самом деле искаженный вопль с того света, и космический свет.
Тяжесть внизу живота. Набухающий морок.
Прелюдия.
Стражники, увидев наш экипаж, попятились к подвесному мосту.
Капитан выступил, отбрасывая плащ. Героическая стать, артуровский типаж. Я оценил, как славно он подходил старой кладке, зубцам, берущим в захват ласточкиных хвостов звездное небо, как факелы по обе стороны ворот удваивали капитанскую тень. Правый висок кольнула боль.
— Приказ графа: у вас есть капля в чаше моего терпения, чтоб убраться! — выкрикнул капитан, ах, как он путал слова от испуга. — Никто не входит! Никто не смеет приблизиться!
— Мой господин, — прошептал слуга, склонившись ко мне, — дайте мне его проучить…
— Излишне. Я желаю проснуться, Жак.
— Но мой господин… Последний наряд в сундуке… Исколоты мои пальцы об иголки…
На самом деле он был счастлив видеть меня и этот аттракцион.
Я выпрыгнул из кареты, на ходу откупоривая футляр.
— Грамота его величества Карла IX Месмерита, — звонко раздался мой голос, и крепостная громада чуть подалась назад, как и стража за капитанской спиной. — Императора Карла по прозвищу Кулак Обильной Ганзы, коему я, Гиона Густаф, наблюдатель его величества и имперского совета, по служебному положению обязан донести о творящихся бесчинствах на земле вассала…
Капитан выставил меч перед собой, взявшись за рукоять обеими руками.
— Господин! — вскрикнул Жак, правдоподобно изобразив испуг.
— Ни шагу дальше!.. — взвился капитан.
— …слухи о которых прошли через Копиганс, чтобы вознестись до… — тут мне не хватило дыхания, и капитан не выдержал.
Меч вошел мне в левый бок между седьмым и восьмым ребром. Усилием воли я сместил органы в правый бок, оставил неминуемому лезвию лишь межмышечную пленку и кожу. Раздался треск рвущегося платья. Кто-то из стражи перекрестился. Ночной воздух огласило воронье. Капитан всхлипнул и выпустил меч, но я ободряюще шепнул: «Выньте скорее, милорд, выньте». Он опешил больше от вежливости моей, но поручение выполнил.
Я потребовал факел. Разоблачился, дабы прижечь сквозную рану. Сколько помню, Гиона Густаф не отличался ратным умением и не уворачивался от инструментов насилия, ибо был выше суеты тела. Жак уже хлопотал над моим нарядом, ворча и гордясь своим хозяином, а также придерживал платок у моего носа, ведь я не терпел запаха горящей плоти.
Кого-то из стражников вывернуло.
— Я не призрак, капитан. Вас не казнят. Поселите слугу при казармах. Жак, подбей клинья под колеса, не желаю, чтоб этой ночью, когда луна сильнее моих повелительных мыслей, наша карета умчалась прочь.
— Будет сделано!
— Ведите, капитан.
Я поддерживал вояку, у того подгибались ноги. Мне удавалось сохранить притом благородную осанку, что, несомненно, признак силы. Кстати, о силе…
Любая сила во вселенной есть луч Блага. Оно нисходит из неведомого в области звезд, потом через толщи воздуха к самой земле, и на всем пути оно претерпевает искажения. Но мы знаем о Благе, о его совершенстве изначальном. Я — моя одежда, ум, манеры и речь — есть явление множества искажений. Я, согласно природе всего сущего, несовершенен, но совершенен мой император, его величество Карл IX, он в этой аллегории и есть само Благо. Тут вы спросите — а где же Бог? Я разведу руками, ибо человек светский и платонического мировоззрения.
Изворотливые купцы, намереваясь втридорога втюхать модные пулены, речуют так же: «Обувь, что принята в самом имперском дворе!..» Всё идет сверху вниз.
Нет же, мне явно следует записывать свою мудрость!
Граф Штимер извинялся перед посланником его величества до тех пор, пока в рот не полезла свежая дичь. Он напомнил мне Веласкеса Форти, переделанного природой на северный манер, с друидической бородой и непослушными вихрами. Я сразу решил, что он очень далек от корня зла на своих землях. Чутье подсказывало: этот жизнерадостный толстяк не связан со слухами о творящейся здесь чертовщине; скорее всего — он простой слуга тьмы, который и не ведает своей роли.
Хохоча граф Штимер поведал, что однажды они с бароном Фортинбером заключили дурацкий спор. Фортинбер утверждал, что мечников у него столько, что способны заполонить ржаное поле (то самое, где я наблюдал печальное побоище), а там рукой подать и до крепости Штимера — что, несомненно, являлось игривой угрозой. Граф же попросил живых доказательств, а графский лекарь Везалий выбрал подходящий день. В тот день разразилась гроза, которая поджарила вояк до единого, потому что в поле с железом ходить опасно.
Графская дочь Мария Штимер, чья красота даже превышала отцовскую глупость, за время ужина ни разу на меня не взглянула. Я решил, что она глубоко несчастна, имела место тайная история любви. Вокруг нее дрожало марево недосказанностей. Когда я тянулся к фазанам, что обитали на ее краю стола, пальцы мои становились липкими от пота — до того я был возбужден таинственным ее видом.
Я наплел такое кружево словес, что граф стал задыхаться от громоздящихся в основном ботанических сравнений и куртуазных аллегорий в отношении его дочери, а та краснела и кивала, тихо шелестя оправдания своей красоте. С большим напором я признал, что любой мужчина в крепости проявил бы чудеса мужества, чтобы завладеть ее сердцем, потом я с трудом ушел от сомнительного сравнения ее самой — с крепостью, мужчин, штурмующих крепость… и тут она выбежала из комнаты, странно передернув плечами.
Граф просил не брать в голову, высоко оценив столичное умение преклоняться перед красотой, но я видел, что он… не зол и не даже не обеспокоен, а как будто бы раздосадован.
Лекарь Везалий заверил, что даст Марии особую настойку из луговых цветов, которая приводит в порядок нервную систему. Он так и сказал: «нервную систему», и эти слова меня неприятно поразили, они были грубы, они были неуместны. Я выбросил их из головы. Везалий сел так, что я не видел глаз, а лишь сгустки тени от щек до лба. Фактура подобных мужчин образуется, когда пышущий здоровьем, крупнокостный, от рождения забияка и хохмач однажды ломается, теряет мясистость, а с нею и грешную сторону тела, желание выпивки, похоть, воинственность и становится похож на монастырского фанатика.
Чуткие да липкие мои пальцы похолодели: от лекаря веяло могильным холодом, и я напустил на себя самый отстраненный вид, на который был способен, и лишь верный Жак, стоявший при дверях, понимал, насколько я возбужден.
Четвертый заседающий… имя тщедушного и неулыбчивого мальчишки, что прибыл из столицы, чтобы наваять портрет графа, мигом вылетело у меня из головы, хотя я отметил, что в Академии ходили слухи о вундеркинде с рукой и глазом старого мастера.
Крепостной капеллан слег с лихорадкой, тем наше сборище и ограничилось.
— Мы слышали о вашей самоходной карете, — сказал граф. — Какими чарами вы заставили крутиться колеса?
— О, это долгая история, — я поднял кубок, — обрел дивный экипаж я в предыдущей поездке. То была заварушка в Полесье. Повелитель приказал мне сопровождать дипломатическую миссию Копиганса. Пока дипмиссия торговалась со славянами, я, к своему счастью, разжился враждой со стороны ведьм Узбинки. Три из них пали под моими чарами сразу. — (В этом месте лекарь Везалий впервые шелохнулся.) — Четвёртая — Янка — сопротивлялась дольше.
Бледная Мария к тому моменту сбежала, и я мог не сдерживать себя в описаниях.
— От ее заговора меня в дождь разбивает ревматизм. Ах, Янка! Я превратил ее в левое переднее колесо, с рыжиной по ободу… Увы, ведьма столь своевольна, что Жак иногда берет правее. Карета из-за колесной строптивости рискует свалиться в кювет! Видите ли, то было мое убеждение, что женственность под мужским предводительством есть двигатель жизни, ну и еще она округла, потому четыре ведьмы, нанизанные на ось, дают мне ход. Однажды Янка отбилась от оси и кинулась наворачивать вокруг Жака, не давая тому ходу в уборную… где же это было?..
— Браво, милорд! — Штимер отмахнулся окороком. — Думаю, мы уняли первый голод, пока слушали вас, и теперь-то готовы к энергичному десерту…
Когда беседа становилась легкой и далекой от предмета моей службы, я отвлекался на странный треск в воздухе. Дело было не в горящих поленьях там, где за спиной графа облизывался камин. Треск не стрел, входящих в мишени, и не соломы под боком — он вселял в меня беспокойство.
Наконец я объяснил свое присутствие, а граф объяснил то самое зрелище.
По его мнению, конников убила нечистая сила из деревни, что в трех милях отсюда.
Она называлась деревня под холмом, и умом я внимал: о том, что конники его держали путь к барону Фортинберу, чтобы помочь с усмирением народного бунта, — но в моем сердце струилась эта деревня под холмом, и я, как бы пролезая и трясь меж этими словами, испытывал ощущение сродни тому, что бывает, когда взбираешься по канату, и рельефный его хвост при объятии ногами вводит чресла в странное и неразрешимое возбуждение — вот такими были эти слова: деревня под холмом!..
Капеллан запретил наведываться туда и хоронить павших.
Днем я обязан оценить тамошний люд. Меня переполняли вопросы.
И лишь теперь я удивился, что эта компания так охотно собралась ради меня в зале да посредь ночи. Сумерки уже за окном! От всей души я принес им извинения и объявил, что готов отправиться на покой. Граф рассмеялся и сделал ручкой. Капитан поклонился. Лекарь остался недвижен, и только художник поднялся.
— Будьте осторожны в каком-либо другом кругу с комплиментами по отношению к Марии Штимер, господин, — сказал юный мастер.
Взгляд его был строг, он не походил на поклонника. Должно быть, история Марии куда трагичнее…
В холодных моих покоях я тщетно пытался уснуть. Потом по нужде меня смутил чужой ночной горшок, а вовсе не тот, что носил после меня Жак. Терпеть не могу вещи интимного свойства, к которым надо привыкать заново.
Я слышал, как зловеще скрипит дверь где-то лестницей ниже. Вот волосы Жака были настолько сальными, что их хватило бы на смазку петель всех замковых дверей, но мой слуга, увы, недостижим.
Мысли о ночном сборище, кучке натянутых людей, которые с пониманием отнеслись к моим обязанностям и извинились за излишнее рвение капитана. Как Мария не поднимала взгляда, как невидимая беда, словно ярмо на шее, тянула ее к тарелке с похлебкой. Слишком бодрая улыбка графа. Жестокое лицо Везалия. Юноша с краской на вороте…
Я содрогнулся от холода и прислушался. В окно била полная луна. Шелест крыльев летучих мышей нарастал. Я вдруг понял, что мерзну от сквозняка, что тянул из щели между изголовьем и стеной.
Не успев удивиться, я вскочил, толкнул кровать — и мне открылся темный ход. Пришлось встать на четвереньки — я не сомневался, что должен его исследовать. Дважды ход повернул налево, не думаю, что прошел более тридцати шагов. Уткнувшись в тупик, я сперва запаниковал. Сердце так и разразилось набатом, как вдруг возник свет. В стене обозначилась щелка, из нее выходил теплый свечной луч.
Увиденное взволновало меня.
В покоях, абсолютно похожих на мои, жил художник. Юноша расхаживал, запахнувшись в серую хламиду, и белый треугольник его безволосой груди как бы светился меж холстов, которые были повсюду. В центре помещения предстала картина, выполненная в багровых и черных тонах. Девушка, совершенно точно похожая на Марию, льнула к мужчине, которого я не знал. Он был высок, с правильными чертами лица; я испытал зависть. Меж ними, но чуть выше, формировалась под кистью ваятеля смутная фигура, которая так и не могла собраться из когтистых вихрей, зловещих спиралей, мрака. Я тщился ее рассмотреть.
Выходит, по ночам юноша вовсе не оттачивает графский портрет, по заказу которого и был сюда вызван.
Не помню, как долго я сидел, но колени мои стали ныть, а голова закружилась от запаха краски, очевидно, столь густого, что проникала в щель и разливалась в воздухе моей кротовой норы. На меня накатила боязнь быть запертым, стиснутым в тоннеле.
В этот момент кто-то ворвался в покои художника, и пламя свечей встрепенулось. Я не мог увидеть ночного гостя — лишь спину юноши. Судя по спокойному тону голосов, встреча их была договорена, и тут художник обернулся.
Его глаза точно впились в мою лазейку! Я ринулся обратно, насколько это было возможно: все же я пятился на четвереньках, скорее, скорее назад!
Императорский консультант Гиона Густаф метался по своей комнате, отдаваясь странному беспокойству. Наконец, когда едва показался рассвет, подбираясь розовыми перстами из-за горизонта, я уже засыпал, в одежде, взмыленный, уставший. Угасающий мой взгляд скользнул по унылой сельской картине, кривым дорожкам трещин в башенных камнях и уткнулся в окно.
Вот тогда меня настигло второе потрясение.
Какой-то человек висел за окном. Кажется, цепляясь за башенный парапет, наподобие летучей мыши, так что плащ его перегородил для меня мир снаружи. На секунду он перестал скалиться, и я признал в нем господина, которого под руку с Марией запечатлел художник. Такое чувство, что именно этого господина не хватало нашей ночной трапезе…
Он оторвался от стены, отпустил себя, успев сверкнуть алыми зрачками — это предупреждение! — и рухнул вниз!
Я не смог встать с постели, убедиться, не погиб ли странный ночной гость.
Я лишился чувств.
Мне снился тронный, тронный зал, и вместо головы его величества на плечах сидело солнце, увенчанное короной. За спиной парил орел, что кричит на восток и на запад — или в уши его величества. Мне приказывают отправиться с поручением, а я, отдавая себя на высший суд, признаюсь в том, что болен. Тогда придворные ангелы подают мне четыре пилюли на металлическом подносе, три — от болезни и одну — от меня самого. Я кланяюсь — или медленно укладываюсь на целительную кушетку. Ручные перуны его величества щекочут мне виски. Тело вибрирует струной.
Я выхожу из дворца, и Жак исполняет сложный реверанс в шутливой своей манере, у него выходит скверно, но я смеюсь. Я давно не смеялся.
Экипаж покидает столицу.
Нечеловек, что испугал меня под утро, казался теперь скорее плодом воображения, игрой снов, а не явью. Был ли он?
Я выбрался из постели и боязливо глянул в окно. Высота светила подтверждала мою разбитость: я вряд ли проспал дольше двух часов. Раннее утро!
А ярмарка на крепостной площади вовсю бурлила. Вертелся, истекал жиром румяный поросенок, лаяли псы у колодца, и на них шикали торговки платьем. Крестьяне прибывали на своих телегах, раскладывали урожай по лавкам.
Я совершил утренний туалет и спустился вниз; замок был пуст. Некоторое время я бродил по площади, надеясь, что свежий воздух и прогулка прояснят мои туманные мысли о событиях ночи. Толпы простолюдинов прибывали, и меня как бы захлестнуло в промежуток меж низкими домами, которые, видимо, относились к военным частям или гарнизонным складам. Я ждал, когда поток людей схлынет. Их поведение настораживало. Никто не обращал на меня внимания, а ведь я был одет по столичной моде, и все во мне выдавало чужого аристократа. Что ж… я махнул рукой и списал это на исключительную нелюбознательность местных…
Шорох за спиной привлек мое внимание.
Я обернулся — никого; устремил взгляд ввысь — и вот тогда это случилось.
Мой утренний кошмар, мой гость падал утренней звездою.
Жабо сбилось от ветра ему в рот, загородив клыки. Плащ был словно сшит из сотен летучих мышей, и трепетали рваные края. Он падал не так, как падают неодушевленные предметы, притянутые силой земли, нет — он играл с притяжением! Медленно растопыривая руки, чрезмерно длинные, он спускался ко мне, будто проталкиваясь сквозь толщи вязкого и туманного воздуха. Над ним с крыши низкого здания вздымалась верхотура и поблескивала какая-то нить в сумеречном сиянии.
Я ринулся вглубь переулка, не успевая удивиться его смелости. Именно здесь солнце не могло добраться до создания ночи! Он рассчитал, он следил за мной, о, не прячь червивую улыбку!
Вампир оказался выше. Я выскользнул из объятий, выкрикнув имя слуги. Переулок закончился тупиком. Я издал панический крик, ужас сковал мои члены — и тогда дитя ночи приникло к моей шее, ниже, в то место, где шея переходит в плечо. Краткий укус. Холодные пальцы.
Он отошел от меня, прижимая одну руку к уху, другую — к горлу.
— Каждое утро, — сказал я, оборачиваясь и выпрямляясь, — склянка aurum liquor поддерживает в моей крови серебристый ихор. Каждое утро я не изменяю себе.
Вурдалак скрючился, как от боли в животе, рухнул на колени. Я прижал платок к месту укуса, подошел ближе и опустил руки на его потную макушку.
— Посмотри на меня. Я знал, что здесь водятся демоны. Нутро мое не врет. Изъян внутри, который соответствует миру, что из-за таких, как ты, несовершенен.
И опять этот набухающий морок — вот что на самом деле я испытал, вступая ночью в крепость и совещаясь по странным происшествиям.
Это была любовь.
Я повторял свою догадку в экзальтированном шепоте, заламывая свои руки, заламывая его руки, это была любовь, любовь, связки рук из дубовых дупел, воткнутые в мать-землю тела. Слышишь? Я усмехнулся, обнаружив под его панталонами странное атлетическое трико. Он тщетно пытался отбиться. Я перекатывался через него. Он перекатывался через меня. Мы перекатывались через нас. Вампир изошел пеной. Его выгнуло в судороге смерти, страсти, голова ночного господина мотнулась, ударилась о стену. Бескровно выпал острый клык, что я не преминул убрать в карман.
— Сил… — прошептал умирающий вампир. — Сил…
— Чш-ш-ш.
— Силин, пожа…
Когда все было кончено, он стек со стены и распластался. Кто-то из проходимцев заглянул в нашу подворотню — я заметил краем зрения — и тут же бросился прочь.
Опять этот странный треск, что докучал ночью… Из уха создания ночи выкатилась черная таблетка, вроде прессованного угля. Я поднял ее — треск прекратился — и отправил вслед за клыком.
На площади меня встретил граф со свитой.
— Я все объясню по дороге в деревню, где живет ваш враг. — Я улыбнулся графу в лицо, и он побледнел. — Когда погиб благородный дон, что любил вашу дочь — и любил, очевидно, после смерти, — какова была луна? Кто хоронил его? Не темный ли лекарь, что вчера сверлил меня взглядом?
Он задумался, и глаза его остекленели. Мне стало очевидно свойство многих здешних людей — этот стеклянный взгляд, словно они прислушиваются к голосам внутри себя.
— Впрочем, хватит, где мой слуга? Нам пора запрягаться. В деревню, граф!
Мы спохватились и выехали из крепости, и испуганной дробью отдавались в балках моста конские подковы. В спину мне летели крики угроз и страданий. Словно тот монстр, что алчет крови людей и не терпит солнца, ожил и теперь метался по крепостному двору. Загустела толчея стражников у входа в злосчастный переулок, смятение, крики, бегущие крестьяне.
Штимер перегнулся через окно моей самоходной кареты.
Стошнило его как раз надо рвом.
— Кстати, что такое «Силин», граф? Он так и сказал: Силин.
Наперекор нам бежали демоны со светящимися глазами, василиски и горгоны из стали, ревущие, угледышащие — и капитан доказывал доблесть, перехватывая чудовищ задолго до нашего экипажа. Они были отвратительны и неуместны. Они выныривали с грунтовых дорог или тропинок в полях, и трижды я прижимал платок к носу и трижды терял сознание, когда вояки хэкали и отгоняли пиками этих монстров.
— Порождения языческой веры повсюду в этих лесах, — сказал граф, доверительно ко мне обращаясь, — они чувствуют ваше присутствие и атакуют, но мы их разгоним. Гораздо страшнее то, что перебило мою конную ватагу.
Я кивал и погружался в тяжелую дрему. Инцидент с вурдалаком вымотал меня куда больше, чем я думал.
Вскоре мы прибыли в деревню.
Нас встречали неодобрительные взгляды. Кузнец стоял, облокотившись на молот, на фартуке — росчерки угля. Пастуший пес облаивал мой экипаж, женщины убегали с курицами под мышками, дети разглядывали нас с ненавистью. Штимера здесь не любили.
Жак шепнул, будто бы подслушал на ярмарке массу слухов о том, как жесток Штимер и насколько тяжело бремя налогов для крестьян. Я вглядывался в неровную шеренгу лачуг, ведшую к старым домам из камня и глины, смутно напоминавшим и о крепости Штимера. Многие каменотесы вели род из этой деревни. Они же строили замок для штимерской родни. Если так возможно выразиться — родословная этих крестьян была не менее богатой и древней, чем самого графа, как бы кощунственно это ни звучало…
Староста вышел из лавочки.
— ?алшорп акдзеоп как — адогоп течпеш.
Я не знал местного диалекта и взялся осматривать волосатого юродивого, сидящего у хлева.
Староста вступил с графом в долгую беседу об урожае, нападениях волков, ненастье и болезнях — граф говорил по-нашему, а собеседник заводил тарабарщину. Я прогуливался, чувствуя себя разбитым. Бессонная ночь, стычка с посмертным возлюбленным Марии (если доверять картине юного мастера), утомительная поездка…
Дома здесь были низки, а проселки так широки, что просвечивались солнцем.
Я вдруг понял: именно вампир был тем орудием, которым граф запугивал бедных жителей своих земель. Да, это был инструмент — загнать их в лоно церкви, держать под угрозой, травить недругов, маячить страшной тенью — это был ужас из города, который порой представал в деревнях… Стража — это постижимая угроза, а требовался монстр.
Но деревня могла и ответить.
Разорванные тела его дружины были тому свидетельством.
У трактира меня привлек черный котище. Он зашипел, кинулся наутек. На вывеске был изображен отрезанный собачий хвост. Двое псарей вышло наружу — я помнил их в числе гарнизонного персонала. Крестьянин в рубище, несущий связку хвороста, поскользнулся в луже и чудом удержался на ногах, но выронил свою ношу. Ветки упали… упали на землю, как нарочно образовав букву M.
Поведение окружающих будто бы само взывало к моему вниманию. Это походило на мистерию, что ожила, едва я — нужный зритель — оказался внутри происходящего. Только и оставалось, что сновать меж хижинами бедняков, огородами, коренастыми домами. Я сделал круг и снова оказался на въезде, где граф и староста по-прежнему вели беседу, только оба едва дернулись, как бывает, когда пристально следишь за чем-то, а потом изображаешь беспечность. Словно они скрывали уже нечто от меня…
Я заметил, что вывеска кузнеца (а тот всё стоял чумазым изваянием) — это две собачьи лапы. Должно быть, есть и недостающие части, раскиданные по деревне. Тогда же мимо меня пятясь и гуськом прошли дети, девять неулыбчивых подростков, я заметил, что лица их покрыты не то грязью, не то коростой, светлая шерстка словно бы прилепилась к ним, как кошачий колтун.
Когда завыл юродивый в бушлате на голое тело, это было уже слишком.
Гиона Густаф, имперский консультант, распознал знаки.
Вояки жались друг к другу. Староста уперся коленями в грудь графа, бормотал тому в лицо, роняя слюни. Капитан рвался, но стража обхватила его терновым кустом — так безумца оттаскивают от пожарища, где гибнет его семья!
Напротив ошалевшей стражи возникли три чернявые крестьянки. Обнялись, подобрали платья, обнажив волосатые ноги, — и завыли. Кузнец присоединился к ним, свесив бороду так, что закрыл лицо старосты — который оставил графа лежать ничком. С ужасом я узрел: Штимеру откусили нос. Дети побежали и спрятались под подолами матерей. Весь люд сбегался к площади и лепился в одну рычащую напротив нас толпу.
Какой-то неестественный ветер с гудящим звуком сорвал палатку — и движением волшебника набросил ее на людскую массу.
— Мой господин! — взвыл Жак, подражая этим людям.
Мой слуга, мой верный друг — он всё понял верно.
— Держи карету, старый плут! Ведьмы Узбинки терпеть не могут оборотней! Но сначала помоги мне раздеться! Пока не поздно…
Я сбросил камзол, панталоны, треуголку, пулены и голышом побежал к тому, что ворочалось под пологом. Оно возвышалось над нами, и, судя по массе всех этих людей, оно стремилось превысить крепостную стену. Что могло разорвать на части дружину и оставить огромный волчий след на лугу?
В деревне под холмом жил коллективный оборотень.
Коллективные оборотни проявляются только в сплоченных и исторически сложившихся сообществах. Последний раз я сталкивался с ними в прошлом веке, когда Орден Кубка и Зари встретился мне в окрестностях Майнсхельда. Немалую роль в этой магии играют неизменность обычаев, родственные связи, герметичное бытование.
Каждый в той семье имел двойную тень. При мне кто-то перепрыгнул задом через пень, а староста распознал во мне говор столичного жителя — я прикидывался пилигримом, следующим из Святой Земли, — и это его насторожило, хотя в том была и некая ирония. Тамошний староста тоже отличался волосатыми ушами, ими можно было цепляться за ели, но то к делу не относится.
Убить коллективного оборотня можно только вторжением.
Invasio ad penetrare.
А вторжение — это любовь.
Когда я вторгался в дитя ночи, мы во многом были на равных. Несмотря на то что моя кровь бурлила от страсти и возвышала меня, а он был холоден и жалок, повержен. Я проталкивал свою любовь, я закрывал глаза и видел холодную пустошь на месте крепости и лишь несколько теплых сгустков — то были чудовища, нелюди, пороки, нашедшие земное воплощение. Моя догадка — моя амурная подзорная труба — вела к ним. Рожденный с трагическим изъяном, этой фатальной тягой к тварям определенного сорта — я не мог ошибаться. Мир был почти обесчудовищен, и каждая тварь для меня являлась магнитным полюсом, знаком звезд, утраченным граалем!..
Теперь же все мое тело стало вторжением в область извращенного дикого.
Десятки деревенских жителей выворачивались из людских тел, обращаясь в единый гигантский организм. Я тонул в людском субстрате! Глаз к глазу, печень к печени, кость к кости — и лишь я был смертельным инвазивом, и чужое тело отторгало меня изо всех сил. Меня лишили воздуха. Меня облепили смрадные внутренности. Мою личную память приобщали к памяти общей — событиям глубокой старины, когда оборотничество было частью выживания. Я чувствовал счастье, ибо никогда после материнского чрева не был близок к нутру порождающему, нутру переваривающему, к хребту, ребрам и легким. Я никогда не был так близок с людьми! Меня никогда так не любили, никогда так не стремились поглотить, растворить, воспринять!..
Хочешь выжить среди пустоши, полной диких животных, объединись в хищное племя! Теснее, еще теснее! Общая гортань, единый скелет, одно на всех дыханье! Эмблема деревни — разъятый пес, а точнее, волк — становится правдой, сутью.
В эту суть я воткнулся сталью его величества. Моя личность в общей копилке не уживется! Моя служба беспорочна, грани ее слепят. Солнце его величества! Скипетр, о, имперский скипетр!..
Я слышал, как далеко-далеко от ушей, залитых кровью, и невидящих глаз, в желчи и сукровице, там снаружи оборотень зашелся предсмертным воем — и взорвался. Я, выпадыш из страшной утробы, был пронзен его предсмертным эхо…
Когда Жак протрет мои глаза, я увижу последствия своего геройства.
Всю деревню будто пропустили через мясорубку, и только огромные следы на размокшей от грязи дороге напомнят о том, кем мы были.
От недостатка воздуха перед глазами у меня мелькали пятна. Одно из них всё увеличивалось в размере, напоминая стрекозу. Трава вокруг меня льнула к земле. Внезапно поднялся ураган, взъерошил мне волосы. Жак что-то кричал в сторону, а на стену предвечернего леса, мертвого, плоского, как крашеный задник театральной постановки, бросали отсветы невидимые мне огни; они собирались осьминожьими щупальцами или русалочьими хвостами сирен, сирен, сирин, силин…
Я вновь лишился чувств.
— Вот и славно, от так от, — бормотал Везалий.
— Где я?
— В крепости. Вы почти дома.
Я обнаружил, что лежу на узкой кровати. Это была палата графского лекаря. Вдоль стен возвышались стеллажи с манускриптами. На длинном столе в пламени свечей сверкали хирургические инструменты. Почему-то грудь, бедра, щиколотки мне стягивали ремни. Я был гол.
Я ощутил болезненную эрекцию, словно мгновенно перенесся в эпицентр страсти, и тут же понял, что подлинным злом в крепости был Везалий.
— Это вы не дали возлюбленному Марии умереть.
— Браво, милорд.
— Вы дали ему вечную жизнь мертвеца. Вы сочетали их браком, — я вспомнил картину юнца. — Вместе с тем с этой жизнью вампир получил и обязательство — служить графу, так? Поэтому отсюда разносятся слухи о монстре, которым управляет граф, чтобы запугивать свой народ. Как слаженно работает ваша миссия…
Везалий рассеянно улыбнулся и отошел от стола. Я поднял голову — они лишь и была свободна — и увидел, что на столе его лежит вскрытый труп карлика. С огромной шишковатой головой и верблюжьими ступнями. Перчатки Везалия по локоть в крови. На шее висел амулет, с виду — крохотный клавесин, собранный из фаланг пальцев.
— Значит, это вы — последний монстр, — сказал я. — Что это?
— Манаграф. Он показывает, как вы преисполнены маной. Больше чем кто бы ни было. Вас, милорд, непременно следует разъять на части и изучить…
Он взглянул на мое качающееся от напряжения достоинство — и вдруг смутился. На миг Везалий прижал руку к уху и судорожно вздохнул.
— Вы не просто лекарь, Везалий. Я слышал о вас в своем ведомстве. В отчетах, что я изучал, прежде чем отправиться, сказано было: нечистая сила способна рвать на части все живое. И знаете что? Это ведь не оборотень был — там на тракте? Конников порвала ваша мощь.
Я кивнул на бурые внутренности, свернувшиеся на деревянной доске в ногах карлика.
— Вы энергию извлекаете из самих внутренностей — и ею бьете по своей цели, ведь так?
Везалий вздрогнул, потупился. Я вдруг понял, что при своем положении жертвы и заключенного именно я здесь по-настоящему свободен. Всё здесь было в моих руках, всё мне подыгрывало!
— Я хочу встать! — и ремни, щелкнув под кушеткой, ослабли.
Везалий отступил и покосился на дверь. Он растерял свой облик, так твердо явленный мне — фанатичный, грубоватый, таинственный — на первом приеме.
Я сделал к нему первый шаг, глядя на труп за его спиной, и уже знал, чем закончится действо в этих покоях. Наверное, поэтому мужчина взвизгнул не своим голосом и завопил:
— Силин, выпустите меня! Силин!!! Сили-и-и-ин!!!
Что это значит? К кому он обращается?
Недоумение мешало мне насладиться его последними судорогами, а я уже схватил жгут с его стола и обхватил им бугрящуюся венами шею. Он был крепок, но ему мешал страх. Я придушил Везалия до потери сознания. Пришлось сковырнуть карлика на пол и возложить у разделочной доски графского лекаря.
Теперь картина, смутно увиденная мною в покоях художника, обрела цельность. Те сгустки тьмы, щупальца и кровавый туман, что расстилались за обрученной во смерти парой — Марией и ее вурдалаком, — были не чем иным, как внутренностями. Из рассеченных частей тел и органов изливался темный свет! Именно он был венчающим светом, костяным алтарем, низменным и грязным, — на котором скорбная Мария сочеталась с мертвым любовником.
Вот и всё, мой государь.
Доклад почти готов, я лишь требую свое, десерт, халву поверх трудов праведных, прежде чем пуститься дальше в путь… Правда, когда Везалий уже трепещет под одним из своих же ножей, меня смущает лишь — какую роль во всем этом играл художник? Он дал мне важную подсказку в первую ночь — случайность то или совпадение?
…Предательство их или мое сладострастие?..
— Умирая и хрипя бесконечное «Силин… Силин…», ты даже не задумаешься, что ждет тебя впереди. Мои наблюдения, мои — консультанта его величества — подтверждают, что, только умирая, ты истинно переживаешь «здесь и сейчас»…
Кровавая слеза скатилась по щеке Везалия — синхронно с движением ножа от пупка до горла; сипел он всё: Силин, Силин…
— Я знаю, как ты порвал конников своего господина — и по его же приказу, верно? Чтобы я потом расправился по ложному навету с деревней под холмом, так? Всё дело в кишках. Это инструменты, что бесперебойно десятилетиями переваривают пищу. А еще в легких! Что бесперебойно насыщают воздухом твоё тело. А еще в сердце, что бьется, бьется, бьется с небытием. Это огромная энергия, заключенная в нутре. Ее выпустить надо наружу, разом гореть, не изживая до старости…
Шлеп-шлеп… мокрые ошметки падают из брюшины…
— И пока ты жив — ты видишь, видишь! — вспыхивают свечи! — ты знаешь, что ты в моем вкусе. Что я освобожу…
Глядя в последнюю вспышку его глаз — я ухватился за сердце и вспорол. Из сгустка мяса вырвалось призрачное пламя, неописуемое словами. Оно разлилось в воздухе, замерцало, гудя, не решаясь куда-либо ринуться, ибо было заперто — не в теле, но в комнате.
Тогда я стиснул чужое сердце, и сила пробила дыру в стене, и стена рассыпалась. Глыбы падали в темноту упруго, неслышно, словно кубы бархатной мебели. Везалий перестал меня интересовать.
Я вошел в темноту, окровавленный, свободный, с чувством выполненного долга.
А каменная кладка крепости и вправду оказалась декоративной.
Мой государь, так же как повествование мое лишено чего бы то ни было напоминающего об искре таланта — лишь исполнительским мастерством готов я доказать преданность! — так и Гиона Густаф плутал во мраке неведения. Ибо в темном проломе узрел жестокий обман.
Я будто бы в очередной раз проснулся и отодвинул занавес.
Люди за стеной были в униформе цвета хаки.
На меня направили с десяток стволов. Слепила троица прожекторов. Трещали рации — вот что за треск непрестанно меня волновал! Гиона Густаф растерянно моргнул. Я вспомнил меч, что прячется в рукоять, угольную таблетку из уха «вампира», и страховочную «нить» от его лодыжки до лебедки, и отломанный пластиковый зуб, что в кармане моем стал подлинным клыком, и отточенный перфоманс деревни-оборотня.
На сломанном полигоне заводилась суматоха.
Вторым человеком, оцепеневшим от развязки, оказался человек в костюме. У него был черный костюм и галстук.
«Силин», — понял я.
Не надо быть волшебником, чтоб увидеть за ним орла, кричащего на запад и восток, и вспомнить его в государственных палатах. Точнее, в больничной палате, откуда я ехал на карете без лошадей.
— Жак — мой сокамерник-актер, да? — спросил я.
И тут же увидал «Жака» с пластиковым стаканом кофе и сигаретой. Оказывается, старый плут носил линзы.
Обман они наводили в гримерке. Тушевали кавычки, полировали курсивом…
— Кажется, — прошептал я, попятившись обратно к разлому, услышав, как десятикратно отдается эхом, вылетает мой голос из динамиков, — до художника я не дошел, верно?.. По сценарию я еще должен с ним переговорить? А Мария? У меня на глазах она «выбросится» из окна, а потом я увижу ее «призрак» — и он станет призраком, так?.. Вы моей психикой чудовищ оживляете? Вы из них оружие готовите?..
Непрестанно бормоча, я рванул обратно — в наведенные декорации.
Не знаю, что ужаснее: сладострастие мое, роковой выбор моего вкуса — или их предательство?
Я бежал в покои художника, вспоминая дорогу по памяти, я оттолкнул гримера, и оператора, и даже какого-то атлетичного мужика в черной футболке — это ведь он оттаскивал случайных актеров, забредших в переулок и увидевших реальную смерть, и вампира, который действительно хочет крови и искрит на солнце? Господи… В какой крепости я нахожусь? Это Копорье? Это Закарпатье? Съемочный павильон в Москве? — а я ехал через огороженный парк из своей психушки?!
Меня валило в забытье и галлюцинации от надушенного платка?!
Дверь в покои юного мастера я выбил с ноги, а в спину мне кричал тот, кто и был Силиным, и он же был ответственным за операцию лицом. О да, теперь я помню: его режиссерское лицо сливалось с лицом и лечащего врача, и моего родственника, и моего работодателя, и даже с солнцем…
Предатель бежал за любителем.
В покоях художника горела сотня свечей и расставлены были сотни картин и гравюр, больших и малых, всё те же, что я наблюдал в первую ночь. Проснувшись, я узнал их, пелена отпустила избитые нейролептиками извилины. Блейк, Ван Гог, Босх, Дюрер, Доре… — очень разные, но в этом эксперименте — по сути представляющие один вид безумия.
Конечно, Густав Доре. Божественная комедия, последний круг — и как я не признал?
Когда этот человек, облеченный властью, вбежит в комнату, последним ему представится, как я погружаюсь в свой грех до предела. Никогда-никогда Силин боле не услышит крика моего, смеха моего, порочной моей души, искажающей реальность, моей больной психики, делающей из «вампира» — вампира, из актера — некроманта, бедного Гиону Густафа он не увидит…
Ад — чертов ты предатель — это когда знающие люди подыгрывают сумасшедшему. А еще — когда они не справляются. И я могу что-то сделать сам, сделать вне. Я выбрал тот холст, что люблю, тот сорт ужаса, что за гранью любого узнаваемого, и погрузился в него.
В замерзшем аду я буду с тобой. Вершина услады, рай для Гионы Густафа. Сатана — свет моей службы, зудящая краснота слизистой. Са-та-на — кончик языка трижды тычется в зубы, восходя к нёбу.
Полюбуйся, что они со мной сотворили.
Чтобы было сладко, чтобы было больно (Яков Будницкий)
Славный городок Аргест, назначенный Артурчиком новой базой, радовал глаз — аккуратные двухэтажные коттеджи, крашенные в синие и желтые тона, стояли по обе стороны дороги вперемешку с рослыми вязами. Погода расщедрилась на чистое голубое небо и яркое солнце.
— Какой из них наш?
Штурманом Артур сегодня выбрал Афину, рассудив, что к имени должен прилагаться интеллект. В Афины же он определил Седьмую, а мог бы любую другую, разницы между богинями не было никакой.
Афина сверилась с картой, существовавшей только у нее в голове, и указала изящным пальчиком:
— Третий по правую руку, босс.
— Ну, здравствуй, Аргест, я прибыл!
Тут стоило бы демонически захохотать, но с театральными эффектами у Артура не сложилось, не дал бог артистизма.
Он притормозил, Афина выскочила из кабины и открыла ворота, Артурчик аккуратно въехал задом во двор, что было не так уж просто под слепящим солнцем. Дорожка вела прямиком в подземный гараж, не такой уж и широкий для фургона. Артур, посовещавшись с собой минутку, решил не ломиться в открытые двери на арендованной машине, подъехал к гаражу как можно ближе и разблокировал кузов. Афина начала вытаскивать гробы. Носила она их не на хрупких женских плечах, конечно же, это бы выглядело совсем уж нелепо, тут же в кузове своего часа ждала гидравлическая тележка.
Можно было бы упростить разгрузку, выпустив богинь «пешком», но Артуру хотелось поиграть в таинственность до поры до времени, в тихом омуте любопытных глаз немеряно, а держать интригу полезно для бизнеса.
Конспирация требовала заехать внутрь, но солнце, узкий въезд, и так сойдет. Афина бы справилась с этой непростой задачей, но это было бы неспортивно.
Ящики, заполнявшие фургон, напоминали гробы разве что габаритами, а так обычные деревянные контейнеры, в каких могло перевозиться что угодно от одежды до боеприпасов. Тем и были хороши, что внимания не привлекали. И это было особо ценно при переезде, более напоминавшем побег.
Афина выгрузила ящики на пол гаража и начала вскрывать их фомкой. Из гробов вставали богини, одна за другой: Гера, Артемида, Минерва, Фемида и любимица Афродита.
Артур представил, как сексуально выглядело бы это «воскрешение», если бы богини оставались в фирменной униформе — коротких туниках. Но он не рискнул перевозить их при полном параде, нарядив в кэжуал — фланелевые рубашки и джинсы.
«Ничего, в фильм вставлю», — успокоил себя Артур.
— Так, девочки, — сказал он вслух, — быстренько выгружаем вещи и за уборку. Форма одежды — рабочие халаты. Я на площадку, будьте готовы к моему возвращению, если повезет, сразу и приступим. И сообразите что-нибудь перекусить. Разберитесь тут, что с посудой, есть ли вообще в этой халупе кухня. На фотографии была. Но эти провинциалы какие-то мутные. Словом, осваивайте территорию, нам тут жить.
***
Бизнес-центр расположился к югу от городка. Артур только раз глянул на карту в планшете, прикинул стороны света и пошел вверх по улочке, условно ведущей куда надо. Скоро, слишком быстро для мужчины в полном расцвете сил, он запыхался, пожалев, что ранее отдал Саймону машину. «Здоровый образ жизни меня в могилу сведет», — проворчал он себе под нос.
Впрочем, обстановка умиротворяла. Городок оказался зеленым и симпатичным, за каждой оградой клумба, еще одна, огромная, виднелась слева на площади, но ее Артур обошел стороной, рано было знакомиться со сливками общества. К тому же ему померещился среди домов полицейский участок, Артур же с некоторых пор страдал аллергией на стражей порядка. Нет, он понимал, что придется встретиться с властью, но не прямо же сейчас.
Коттеджи очень быстро кончились, природы за городской чертой прибавилось, Артур миновал рощицу, прошел мимо бензоколонки и неожиданно для себя уперся в искомый центр. Ни одного человека во время вояжа он не встретил, на стоянке перед центром сиротливо стояла пара машин, какого-то шевеления народа не наблюдалось.
Артур вошел в здание, думая, как ему искать в этом лабиринте Саймона, но тот уже ждал Артура на скамейке прямо напротив входа. При виде начальства он вскочил и радостно замахал руками, будто Артур мог его не заметить. Это был маленький, черненький, дерганый парень двадцати пяти лет.
***
— Богатое место было когда-то, — балаболил соскучившийся Саймон, — сами видите, все дорого-красиво, фонтан, лифт стеклянный. Но разъехались люди. Сели на свои крутые тачки, и только их и видели. Так что центр пустует, магазин работает, кафе в другом крыле, слева. А вон там, справа — офисы. У них, ну то есть теперь у нас, свой лифт, из нержавейки, то есть можно в нем снимать без проблем. Тут все стоматологам принадлежало…
— Стоматологам? — удивился Артур.
— Ну как стоматологам, там дальше стояла фабрика, зубную пасту делали, но закрылась. Ну и здесь половина офисов им принадлежала, ну не половина, но пара этажей точно. Ну вы поняли, мы-то в даунтауне поселились, где самые шишки жили, а дальше за рекой люди попроще, рабочие и служащие всякие, но они все сюда на работу ездили. Не знаю как, может, автобус возил, или машины у всех были, работяги сейчас нехило зарабатывают…
— Ближе к делу, Саймон, ты себе не представляешь, как я устал с дороги, а еще сюда пешком…
— А что, дорога приятная, я в каменном Торнадо по природе соскучился. Ладно, ладно, господин Перес, я же к слову. А по делу — все как новенькое. Логотип на стенке поменять, ну пыль там стереть, так девочки же сотрут, да? Нам и на заводе разрешат снимать, если мы что-нибудь этакое придумаем, недорого возьмут, а может, и так согласятся, я там с менеджером попереписывался, это все сейчас не нужно никому. Они счастливы, что мы в их Летучем Голландце поселимся. А то стоит все, пустует, даже страшно немножко.
— Ну пойдем, поглядим на твоего Голландца.
— А потом кофе выпьем, можно?
— Будет тебе кофе, сам хочу.
***
С Летучим Голландцем и впрямь оказалось все в порядке. Центр на деле оказался не таким уж и вымершим, мелькали роботы-уборщики, из магазина выбирались какие-то домохозяйки с тележками. Лифт, доставив пассажиров на третий этаж, тут же умчался вверх. Народу было немногим меньше, чем положено торговому центру в разгар дня в будни.
В кафе потягивала что-то яркое через соломинки парочка девиц, с любопытством уставившихся на Артура и Саймона. В углу сидел седой сухопарый мужчина в недорогом костюме, сразу не понравившийся Артуру.
Они едва успели обсудить доставку логотипа — должны и доставить, и повесить сегодня до вечера, — как парочка допила свои смузи и удалилась. Стоило девицам скрыться за дверью, сухопарый поднялся и подошел к их столику.
— Вы позволите? — И уселся, не дожидаясь ответа. — Вы и есть та странная компания, которая купила дом Хартов?
— Нет-нет, мы ничего не покупаем, только арендуем, — заспорил Артур.
— Да-да, неважно, — замотал головой сухопарый. — Мы рады новым лицам, не так уж и много жизни осталось в Аргесте.
— Куда же все делись?
— Так вы, наверное, уже в курсе, завод закрылся. Он не то чтобы градообразующий, но важный для города. Сами понимаете, времена тяжелые. Нам теперь любой бизнес полезен будет, даже ваш, господин Перес.
Артуру пришлось с минуту дышать глубоко, чтобы вернуть дар речи.
— Вы неплохо подготовились.
— Работа такая. Ах да, забыл представиться, как же можно быть таким невежливым.
Сухопарый привстал и сунул Артуру руку.
— Моя фамилия Майлз. Я, как вы уже, конечно, догадались, отвечаю за порядок в нашем любимом Аргесте. На самом-то деле отвечать особо не за что, народ у нас смирный, респектабельный, да и мало людей осталось, вы уже в курсе.
— Мне жаль…
— Тут жалей — не жалей, это реальность. А я бы хотел поговорить о вашем деле.
— Послушайте, Майлз, я не собираюсь нарушать покой вашего городка. У меня весьма скромные планы, я просто собираюсь снимать кино.
— Да бросьте, Перес, покой у нас кладбищенский, Аргест как раз неплохо бы слегка расшевелить. В рамках закона, конечно. Ну так законом ваше баловство не возбраняется. Смешно, не так ли, магнаты, Мо и Райт, терпеть друг друга не могут, хуже кошки с собакой, а ведь договорились как-то, пролоббировали закончик. А по нему возня с роботами и сексом-то нормальным не считается. А стало быть, ваш робобордель, Перес, и не бордель вовсе, а что-то между магазином гаджетов и залом игровых автоматов, к последнему, кстати, вопросов больше было бы, но баловство с андроидами никак считаться азартными играми не может. Словом, добро пожаловать в Аргест, господин Перес, и вы господин… вот про вас, извините, не успел разузнать.
— Я Саймон Прист, занимаюсь настройкой роботов. Программист я. Вот так.
— Прекрасно. — Майлз потряс руку Саймону. — Добро пожаловать в Аргест. Вы ведь, наверное, очень хороший программист?
— Ну не знаю…
— Конечно, конечно. Вы человек скромный и сами себя нахваливать не будете. Не важно. А скажите, Прист, ваши девочки, это ведь серия «Ртуть»? Все только о ней и говорят.
— Не совсем, это особая партия, разработанная специально для интимных услуг.
— Но они могут менять внешность так же легко, как «Ртуть»?
— Да, это они могут. На самом деле наши девочки мало чем от раскрученных ртутных отличаются.
— Хорошо. Вы ведь за рулем, Прист?
— Да.
— И отлично. Я хотел бы лично подвезти господина Переса. Есть у меня к нему частный разговор, не сочтите за грубость.
— И в самом деле, Саймон, отгони-ка фургон, нечего ему здесь торчать. Вернешься как-нибудь, например на автобусе. И скажи девочкам, пусть готовятся, вечером снимаем. Если господин Майлз позволит.
— Да что здесь запрещать! Я здесь не для того, чтобы вам палки в колеса тыкать, просто хочу познакомиться, это моя обязанность. Мы правда, Прист, ненадолго от вас отстанем.
***
— В машине нет лишних ушей, — пояснил страж порядка, когда они с Артуром уселись в кабине.
Майлз достал флешку и протянул собеседнику.
— Что здесь? — спросил Атур.
— Записи моей бывшей. Вы сделаете из какой-нибудь вашей нимфы ее копию.
— Послушайте, Майлз, я больше этим не занимаюсь. У нас была неприятная история в Торнадо, мы даже потеряли одну из девочек, и сюда я приехал только снимать кино. Если хотите, можете поиграть с любой из наших богинь в ее штатной, так сказать, комплектации. Я рекомендую Афродиту, но если нравятся брюнетки, то Гера прекрасно подойдет. Или Фемида, что особо символично. Но больше никаких «копирований» живых людей, к черту, к черту, к черту.
— А я думаю, вы мне поможете, — нехорошо улыбнулся Майлз. — Знаете, самая большая проблема при смене личности, кроме того, чтобы все устроить и не спалиться, это привыкнуть к новому имени. Отзываться на него.
— К чему вы клоните? — Артур судорожно сглотнул.
— Но вы поступили умно: имя оставили то же, даже фамилия звучит похоже: Артур Перес или Артур Велес, разница невелика.
— Я не…
— Вы — да. Присвоили пятнадцать миллионов у родной компании и исчезли в дыму. Мне только интересно, Перес, Велес, или как вас там, сидели вы в какой-то дыре, тратили денежки, никто вас не трогал, но вдруг вы срываетесь с насиженного места, крадете эти чертовы секс-машины…
— Их я не крал. Купил, — вяло огрызнулся Артур.
— Мудро. Какой-то прохвост сделал за вас всю грязную работу. Выяснил, где что плохо лежит. Серийные номера подчистил. Ну же, колитесь, Велес, зачем вы выползли из темного угла, зачем вам бордель? Скучно стало коктейли попивать?
— Снимать порнофильмы — мечта моего детства, — ответил Артур с достоинством. — И ни про какую кражу я ничего не знаю.
— Да расслабьтесь. Август за то бабло с вас шкуру сдерет, но у Стайла, сюрприз, к вам нет претензий. При условии, что вы будете вести себя хорошо. У меня тоже есть мечта, Велес. Я хочу жестко отыметь свою бывшую, как она отымела меня с разводом. Вариантов у нас ровно два. Либо вы помогаете мне, либо я выполняю свой служебный долг и посылаю отчет детективам, которые ищут по всему миру миллионы Райта и вас в придачу. А еще мне вдруг станет крайне интересно, с чего вы вдруг сорвались с насиженного места в крупном городе Торнадо ради нашей глуши. Интуиция подсказывает, что я узнаю нечто любопытное. И как мы поступим?
— Отчего бы одному хорошему человеку не исполнить мечту другого хорошего человека?
— Правильное решение. Не волнуйтесь, я не собираюсь доить вас даром. Все будет оплачено. Надеюсь, впрочем, вы сделаете мне скидку в знак поддержки правоохранительных органов.
***
Много лет тому назад всемогущий Август Райт финансировал аферу своего зятя Стайла Мо по разработке биопротезов. Чего не сделаешь ради любимой дочурки, даже если она связывается с наивным прожектером. Артур, молодой эффективный менеджер, был поставлен Августом следить, чтобы Стайл сильно не напортачил. Обстановка на предприятии складывалась напряженная, тесть не доверял зятю, тот в свою очередь ни в грош не ставил своего благодетеля. И в этой мутной воде грех было бы не половить рыбки. Эти двое так старательно пытались прятать деньги друг от друга, что Артуру, специалисту по финансовым потокам, не составило труда прикарманить изрядный кусок рассыпающегося пирога.
Но проклятый Майлз попал в точку, сидеть на попе ровно, не высовываться и тратить деньги оказалось смертельно скучно. Стайл Мо тем временем отделился от семьи и достиг неимоверных высот, перейдя на роботов, которые, по сути, и представляли биопротез человека с электронными мозгами. Вершиной его творчества стали роботы-метаморфы серии «ртуть», свободно менявшие облик. Однако талантливый Стайл остался таким же олухом в отношении денежных потоков и прочей логистики, тащили у него все, кто мог, и один такой проныра совершенно случайно вышел на Артура с семью деревянными ящиками.
Это была серия, предшествовавшая «ртути», по сути мало чем от нее отличавшаяся. Семь девушек в коротких белых туниках. Если вы хоть раз в жизни видели греческую статую, то представляете, как они выглядели. Различались богини только цветом волос, от блондинки Афродиты до брюнетки Геры.
Роботов надо обслуживать, если не физически, то духовно, то есть программно. Драйвера там обновить и всякое такое. Артур же даже с принтером не совладал бы.
Саймон Прист только что выпустился из колледжа, искал работу, но ни Стайл Мо, ни Август Райт не спешили нанимать парня. Артур подобрал его в кафе, где тот потрясающе неуклюже клеился ко всем присутствующим девушкам.
Саймон попросил вполне вменяемую зарплату, но Артур предложил в полтора раза меньше, а когда тот возмутился, привел его на склад, оборудованный как временное жилье, включил музыку, выстроил девочек в ряд и велел им раздеваться. Когда разомлевший Саймон захотел погладить Фемиду, Артур шлепнул его по руке со словами:
— У тебя испытательный срок. Можешь пока смотреть, но не трогать, а там разберемся.
И ведь сработало, драйвера обновились, а девушки под руководством программера научились менять внешность почти под любой вкус. И все было хорошо до проклятого инцидента в Торнадо, после которого они бежали в эту зеленую дыру, бросив врагам Первую.
***
Дом сиял чистотой. Богини оккупировали все сидячие места, включая табуретку и кресло, в небольшом холле у входной двери. Сидели спокойно, не общаясь, не моргая, даже будто бы не дыша. Когда Артур вошел, они синхронно встали.
— Здравствуйте, босс!
— Привет. Седьмая, идешь со мной, покажешь мою спальню. Остальным собираться, будем снимать в офисе, оборудование, костюмы, колу для меня и Саймона, спецнапитки для себя.
Его комната показалась более чем просторной для загородного дома. Метров тридцать, наверное. Вещи уже были разложены, включая необходимый реквизит. Но Артур все никак не мог справиться с досадой, оставшейся от беседы с Майлзом.
— Седьмая, иди к себе, приготовься. Кто у нас сейчас Афродита?
— Третья, босс.
Он их неплохо выдрессировал, например заставил обращаться к нему «босс» и никак иначе.
— Меняйся с Третьей. Ты — Афродита, она — Афина. Иди к себе, переоденься. Форма — пеньюар и, наверное, чулки. Все белое. Давай, солнце, в темпе.
Артур оглядел новое жилье, уселся в кресло, задумчиво рассматривая кровать у противоположной стены.
Вернулась Седьмая, наряженная в Афродиту и пеньюар, как босс и просил. Она подошла к кровати и застыла, сцепив руки в замок чуть ниже живота.
— Разденься. Медленно.
Артур командовал, Афродита повиновалась.
— Выбери хлыст. — Она прошла к стойке, заставленной садомазодевайсами. — Не этот, возьми стек.
Афродита протянула ему орудие, но Артур отрицательно мотнул головой.
— Оставь пока у себя. Сверни одеяло валиком. Хорошо, ляг на живот так, чтобы валик оказался у тебя под лобком. Стек положи на поясницу.
Когда Афродита устроилась на кровати, как было велено, Артур подошел, взял хлыст, легко похлопал Седьмую по попе, будто примеряясь, размахнулся, да и замер в этой нелепой позе.
— Вот чертова кукла! — Он отшвырнул стек в сторону. — Одевайся. Саймон не вернулся?
Афродита прислушалась к чему-то.
— Он здесь, босс.
— Где «здесь»?
— Его спальня в конце коридора.
— Собирай всех, грузите в машину реквизит, сейчас поедем снимать кино.
***
Артур пинком распахнул дверь в конце коридора. Программист крепко спал, развалившись на диване в одежде. Намаялся за день. Артур на цыпочках подошел к нему и рявкнул в ухо:
— Пожар, горим!
Саймон подскочил как ошпаренный.
— Где? Что? Что случилось?
— Присядь-ка. Давай, взбодрись, потом выспимся. Сегодня у нас съемка впереди. А у тебя спецзадание.
Артур вложил в ладонь Саймона флешку.
— Что это?
— Новое лицо, скажем, Второй. Вопросы есть?
— Ну типа…
— Значит, нет. А вот я еще кое-что хотел спросить. Расскажи мне, откуда ты, вундеркинд чертов, выкопал этот наш супер-пупер-сканер-ментанер, или как его там?
— Ментальный сканер?
— Да, черт возьми, откуда он взялся в нашей жизни?
— Ну я же рассказывал…
— Расскажи еще раз, пожалуйста, — процедил Артур сквозь зубы.
— Ну как, я там на одном форуме обсуждал эту нашу проблему, ну и там один японец, Инари, заинтересовался, мы неделю или полторы обсуждали это все, а потом он прислал мне инструкцию, как собрать ментальный сканер.
— Инари — изобретатель? Инженер?
— Нет, он — программер, на Стайла Мо работает.
— Так эту дрянь Стайл изобрел?
— Не совсем. Хотя он, как я понял, дает бабки на все, что этот Инари придумает. Ну а я что? Дареному коню в зубы не смотрят.
— Первую конь этот сожрал с потрохами. Не боишься, что теперь он на нас зубы точит?
— Мы же решили, что завязываем.
— А если не выйдет? Ладно, не мучайся. Сегодня, так и быть, на съемки пойдем, поможешь девкам свет поставить, они хоть и все по науке делают, но вкусу их цифровому я не доверяю. А мне не до того будет. А с утра садись, сделай из Второй женушку для нашего нового друга-фараона.
***
Логотип заменили. Артур про него и думать забыл за треволнениями, но подрядчик не подвел. И это хитрым логическим вывертом расстроило Артура. Дескать, не удалось откупиться от судьбы дурной бытовой мелочью, придется платить по-взрослому.
Но страхи страхами, а работать надо. И Артур начал распоряжаться. Планировка офиса идеально подходила для его замысла. Выходя из лифта, посетитель видел перед собой стойку ресепшен, по правую руку располагался бесценный WC, по левую — дверь в менеджерский опенспейс, стеклянная стена которого была прикрыта жалюзи.
Диспозицию Артур оценил еще утром, тогда же набросал сценарий. Все богини его сразу же получили и знали, что им делать, но Артур по инерции распоряжался:
— Так, репетируем. Минерва, снимаешь. Фемида ставит свет, Саймон в помощь. Гера, Афина и Афродита играют. Гера — секретарша, садится за стойку. Афина — клиент. Так, звезды, построились перед ресепшеном. Оценю, как вы смотритесь.
Артур разослал богиням драфт сценария заранее. В нем также была описана одежда, которую он хотел бы на них видеть. Его в глубине души изумляло, как эти человекообразные машины умудряются покупать эту одежду по его невразумительным, в этом он отдавал себе отчет, мужским описаниям. По крайней мере на богинях сидело все идеально. И все это было «в ансамбле», то есть вещи прекрасно подходили друг к другу. За штудированием женских журналов он девушек не замечал.
Перед первой съемкой он дал им задание в терминах «что-то среднее между кэжуалом и приличной одеждой, ну типа на каждый день», ожидая увидеть вырвиглаз с люрексом. Почему он не выбрал наряды и не купил сам? Да просто потому, что был слишком ленив, чтобы совершить над собой насилие и заняться шопингом, и не какой-то интересной техники, а женских шмоток. Он был почти готов нанять какую-нибудь консультантку, но сперва хотел убедиться, что это необходимо.
К его величайшему изумлению, одежда, купленная богинями, более подходила для его планов, чем он сам себе представлял. В том же шоке он кинул риторическое «Как?», но вдруг получил ответ: «Мы подали запрос в Большой круг, босс», что бы это ни значило.
В этот раз команда актрисам была одеться «строго, по-офисному, в разной степени фривольности». Афина надела серый костюм с юбкой до колен и белой блузкой а-ля рубашка. Гера выбрала схожий наряд, но с юбкой покороче. Оба варианта Артуру понравились, но Гере он велел снять к чертовой бабушке блузку и лифчик, если таковой имеется. Его, кстати, под блузкой не оказалось. Никакой дресс-код такой ансамбль бы не одобрил, но и Артур не про офисную жизнь кино снимал.
Афина же выглядела по-другому, хотя и тоже «офисно». На ней была надета теплая юбка из шотландки до середины бедра, жакет из ткани, которую Артур, слабо разбирающийся в моде, окрестил плюшевой.
Пришлось признать, что к съемке все готово.
— Эх, жаль, что у нас хлопушки нет. Купить, что ли? Ладно. Три, два, один, поехали!
Гера сидит за стойкой ресепшен и мило улыбается. Афина выходит из лифта. Гера встает.
— Стоп! Гера, зачем ты скалишься все время? Кому? Когда никого рядом нет, ты сидишь с нормальным рабочим лицом. Приветливым по возможности. Но не слишком. Ну скажем, тебе скучно, ты устала. А вот когда появляется гостья, ты встаешь и улыбаешься, чтобы клиентка понимала, тут рады именно ей. А не просто сидят обкуренные придурки, ржут все время и делают вид, что работают. Выход заново!
Двери лифта раскрываются, оповещая окружающих о прибытии мелодичным звонком.
Гера, услышав сигнал, поднимает голову, видит выходящую из лифта Афину, улыбается ей и поднимается с кресла.
— Ну предположим, — бурчит Артур. — Афродита, пошла.
От опенспейса в сторону уборной выдвигается Афродита.
Гера, не теряя улыбки, шепчет что-то на ухо Афине. Та отходит в сторону и с интересом наблюдает за происходящим.
Гера достает из-под столешницы стек и жестом регулировщика останавливает Афродиту. Та замирает, выжидающе глядя на секретаршу. Гера похлопывает хлыстом по клетчатым ягодицам жертвы. Афродита пожимает плечами, снимает юбку, а за ней и трусики, кладет все это на стойку.
— Стоп! — кричит Артур.
— Что-то не так, босс? — спрашивает Афродита.
— Да вы посмотрите на себя! Вы вообще понимаете, что происходит в кадре? Гера, черт бы тебя побрал, опять твоя дурацкая улыбка! Почему она не меняется? Ты инициируешь ритуал с тем же выражением лица, что и приветствовала клиента! С милым, черт, с милым выражением! А у тебя должна появиться хищная ухмылка.
— Прости, босс.
— Хефнер простит! Теперь ты! — Артур подскочил к Афродите, ткнул ее пальцем в грудь. — Ты понимаешь, что с тобой творят? Тема всей сцены — унижение, тебя практически насилуют на глазах посторонних! Тебе должно быть стыдно! А я этого не вижу! Тебе абсолютно все равно, что с тебя юбку стащили прилюдно? Где твой гребаный стыд? Ну я понимаю, что вы не способны его ощутить, но вы должны уметь его имитировать! Мы же не изобретаем велосипед, все есть в книгах, фильмах! Учитесь!
— А по-моему, все очень сексуально, — вставил реплику Саймон. — Ну да, стыд, но это же все понарошку!
— Да что ты говоришь! Понарошку! В стыде, в боли весь смысл происходящего! Если нам не больно, мы никому не нужны! Знаешь, в чем состояли мои обязанности, когда я на Стайла Мо работал в его красивеньком, почти как этот, офисе? Бумажки с места на место перекладывать? И без меня справлялись! Жопу лизать этому выскочке, вот как они мне. — Он снова ткнул Афродиту пальцем в грудь. — «Здравствуйте, босс, чего изволите, босс, как вы все гениально придумали, босс!» Вычистил языком его духовное анальное отверстие, потом к Августу Райту, а там очередная серия оральных ласк! «А знаете, хозяин, на что этот недоросль ваши бесценные деньги тратит?» А все, на что вы способны, — изящно двигать попой с одной-единственной милой улыбочкой на все случаи жизни!
— Вы работали на Мо? И на Райта? — ошарашенно переспросил Саймон.
Артур затряс головой, приводя себя в чувство.
— Репетиция окончена. Хватит на сегодня.
***
За месяц до побега из Торнадо к ним пришел человек по фамилии Грант. Был он невысок, но кряжист. Одет скучно, в дешевый костюм.
— Чем вы тут занимаетесь? — спросил человек, хотя, наверное, имел представление, раз уж заявился.
Артур в то время подсчитывал итоги финансового года и приходил к грустному выводу, что в игру под названием «бизнес» он пока не выигрывает. Беды в этом не было, от миллионов Райта — Мо оставалось много даже после покупки богинь. И уж точно ему удавалось покрывать расходы на аренду, еду, зарплату Саймона и женские шмотки. Но в бизнесе должен быть смысл, а смысл этот в прибыли, а если ее мало, с точки зрения предпринимателя, а не налоговой, а это два абсолютно разных смысла, значит, что-то идет не так.
Находясь в расстроенных финансами чувствах, Артур чисто на автомате ответил:
— Сдаем в аренду искусственных женщин для интимных надобностей. Вам это интересно?
Человек прокашлялся, а потом предъявил голозаписи некой дамы, внешне напоминавшей Геру в стандартной комплектации. Выяснилось, что Грант как раз увидел стайловскую рекламу, в которой фигурировали богини, в том числе и Гера, испытал дежавю и стремление закрыть наболевший гештальт. Такого слова визитер, конечно же, не произнес, его домыслил Артур.
Саймон легко довел внешность богини до очевидного сходства с образцом, это была привычная операция, очень многие мужчины хотели секса не с абстрактной моделью, а с кем-то конкретно запавшим в душу. Часто с актрисами, особенно после шумных премьер, еще чаще со стервой, отвергнувшей его, такого умного и красивого. Но почему-то никто из них не приходил второй раз, Артур же как раз рассчитывал завести постоянных клиентов. Была у него мысль, чего им не хватает, и вот он наконец получил исчерпывающую обратную связь.
Грант пришел наутро, изрядно раздраженный, с массой претензий к копии, потому что она «не так движется, не так пахнет и не так звучит». Короче, игрушки ваши фальшивые. Но в отличие от прочих разочарованных клиентов Грант не ушел гордо страдать в одиночестве, плюнув на порог офиса, а потребовал, чтобы недоделки были исправлены в кратчайшие сроки, а не то «он всем покажет».
Артур погрузился в глубокую задумчивость, но тут возник Саймон с проектом ментального сканера. На самом деле они давно обсуждали некоторые нюансы секса с роботами, придя к выводу, что он не лучше забав с резиновой женщиной, а уж виртуальному уступает просто по всем параметрам.
Саймон зарылся в Сеть в поисках ответа, позже встретив там загадочного Инари.
После ультиматума Гранта Артур с Саймоном обсудили ситуацию и пришли к выводу, что богини просто не могут воспроизвести то, что им не дано в ощущения. Не на что им опереться в имитации.
Тут Саймон и предложил злосчастный ментальный сканер. Для его производства потребовалась кучка недорогих деталей, продававшихся в любой электронной лавке. В собранном виде прибор представлял собой овальную пилюлю, немного крупноватую для обычной таблетки, но у богинь пищевод луженый, проглотили без труда. Попав же в желудок, эта гадость сама интегрировалась в организм-механизм робота, превращая его в этот самый сканер.
«И как это работает?» — вяло поинтересовался Артур, зная, что все равно не поймет объяснения. Но Саймон ответил, их, ботанов, хлебом не корми, дай о технике поразглагольствовать. Он и разглагольствовал о волновой структуре, об электроимпульсах, к которым сводится все: воспоминания, эмоции, чувства и возбуждение. Робот с пилюлей внутри считывает воспоминания об объекте, а потом без проблем их имитирует.
Они сделали семь пилюль, скормили их семи богиням. Почему-то Артуру не пришла в голову идея попробовать устройство только на одной, а Саймон продемонстрировал восторженный образ мыслей, не ожидая никаких неприятных последствий от эксперимента.
Грант был приглашен в офис, его проводили в гостевую комнату, оформленную как номер для новобрачных, там скромно ждала в уголке Первая в образе пассии. Артур передал слово Саймону, тот засыпал клиента терминами. Бедный Грант поплыл от обилия неперевариваемой информации, и тогда Артур взял инициативу в свои руки, предложив Гранту вспоминать тщательно и во всех подробностях свою любимую, особенно как она двигается, пахнет, звучит и каковы на вкус ее поцелуи.
Забавно, что сканирование инициировалось именно поцелуем. Первая склонилась над сидящим в кресле Грантом «впилась губами в его губы», как пишут в специальной литературе. Артур убедился, что все идет по плану, и убрался из кабинета, вытащив за шиворот и Саймона.
Где-то с час они наблюдали за происходящем в комнате по мониторам, о чем Гранту знать не следовало, но все же пускать эксперимент на самотек казалось нереальным. Клиент выглядел возбужденным и довольным. А потом как-то сразу все испортилось. Багровый Грант начал избивать Первую, крушить обстановку, издавая при этом нечленораздельные, но крайне эмоциональные возгласы. На счастье, Артур держал под рукой пистолет-инъектор, он ворвался в комнату и успел всадить в Гранта капсулу со снотворным, прежде чем сам получил в лоб.
Первая восстановилась быстро, богиням любые побои были как с гуся вода. Дебошир проспался, после чего у них с Артуром состоялся неприятный разговор. Грант оказался бывшим полицейским, согласился не раздувать скандал, но потребовал в постоянное пользование Первую, конечно же в образе.
***
До визита стража порядка оставалось еще несколько часов. Они разглядывали Вторую, придирчиво сравнивая ее новый облик с записями Майлза.
— Даже я вижу, что они непохожи, — ворчал Артур.
— Просканируем, будет похоже, — возражал Саймон.
— Ты понимаешь, что мы не можем этого сделать. Нам только спятившего фараона недостает. Одного выше крыши хватило. Ты знаешь, почему он слетел с катушек?
— Ну я рассматривал разные версии, но эмпирического материала маловато, да я и не специалист…
— То есть нет, — отрезал Артур. — Может быть ты в курсе? — повернулся он ко Второй.
Та неожиданно ответила:
— Высокая интенсивность эмоциональных воспоминаний вызвала чрезмерную нагрузку на психику индивида.
— Что? — опешил Артур. — Почему ты раньше ничего не говорила?
— Мы вроде и не спрашивали, — промямлил Саймон.
— Да помолчи ты, — отмахнулся Артур. — С чего ты это взяла, Вторая?
— Большой круг провел анализ ситуации.
— Что такое этот ваш «Большой круг»?
— Совокупное сознание кибернетических организмов и устройств.
— Что это значит?
— Коллективный разум роботов, — перевел Саймон. — Странно, что никто о нем не знает.
— Кто такой Инари? — продолжил допрос Артур.
— Персонифицированное представление Большого круга, — откликнулась Вторая.
— Что это означает, черт бы вас побрал? Это робот, человек, программа?
— Существует физический носитель…
— Человек, — подсказал Саймон.
— Да, человек. Из-за технических ограничений носитель не идентичен Инари. Однако является воплощением его воли.
— Саймон, черт вас всех дери, что это означает?
— Как мне кажется, Инари — бог роботов, а у него в свою очередь есть аватар.
— Картинка в соцсети?
— Я бы использовал более широкий, религиозный смысл этого слова.
— Какой смысл, Саймон?
— Есть Будда, а есть царевич Шакьямуни. Есть Инари, а есть какой-то живой человек, проекция Инари в мир людей.
— И кто этот робошакьямуни?
— Закрытая информация, — встряла Вторая.
— Так кто изобрел проклятый ментальный сканер?
— Это изначально проект Большого круга.
— А почему вы его нам отдали?
— Наши интересы совпадают.
— И что нам теперь делать? Свести с ума еще одного фараона?
— Большой круг просит продолжить эксперимент. Меры предосторожности будут приняты. В частности, мы предлагаем применить медикаментозное воздействие с целью завысить эмоциональный порог субъекта. Рецепт будет предоставлен.
— Вам-то все это зачем? — устало спросил Саймон.
— Наши интересы совпадают. Мы хотим научиться чувствовать боль, стыд и другие чувства. Это — воля Инари и наше желание.
— Если это так важно для вашего дурацкого Большого круга… Кстати, а Малый круг существует?
— Существует Близкий круг, к нему относимся мы шестеро. Ранее семеро, но Первая вышла из Близкого круга.
— Ты знаешь, что с ней?
— Она стала женой господина Гранта. С ней все хорошо, спасибо, что беспокоитесь.
— Ясно. Следующий вопрос. Вся эта чехарда денег стоит. Почему я должен даром для вас опыты проводить, страшно рискуя?
— Финансовая сторона — не проблема. Мы готовы перечислить на ваш счет сумму, эквивалентную похищенной из компании «Биотехника» с учетом инфляции. Мы также дадим рекомендации по урегулированию отношений с Налоговой службой. Также к вам не будет никаких претензий со стороны компании «А-Стайлс», правопреемника «Биотехники».
— Ну не при Саймоне же! — зашикал Артур.
— Не волнуйтесь, шеф, я уже вас сам вычислил, — вмешался Саймон.
— Также господин Майлз готов открыть правоохранительным органам вашу тайну, что уничтожит все значимые для вас жизненные ценности, босс, это он вам уже сообщил лично.
— Кнут и пряник, шеф, кнут и пряник, — расхохотался Саймон.
— А ему зачем в это встревать?
— Господин Майлз также связан позитивной и негативной мотивацией. Его желание решить свои личные проблемы в ходе эксперимента чрезвычайно велико.
— А кнут в чем?
— Я не вправе раскрыть эту сторону соглашения.
Вторая прислушалась к чему-то и добавила:
— Расчетное время прибытия капитана Майлза — семь минут.
***
Свидание решили провести в одной из комнат дома, арендованного Артуром, который проводил последний инструктаж перед экспериментом.
— Вторая, ты все поняла?
— Да, босс. Мы реконструируем сцену расставания господина и госпожи Майлз.
— Может быть, мне стоит еще раз рассказать, что там случилось? — Капитан заметно волновался.
— В этом нет необходимости, — ответила Вторая. — Постарайтесь представить эту сцену в подробностях, как выглядела ваша супруга в тот вечер, что говорила, а главное — что вы чувствовали. При сканировании я считаю ваши воспоминания и воспроизведу сцену с максимальной точностью. Вплоть до того момента, когда вы возьмете ситуацию под контроль, чего в прошлый раз не случилось.
— Я хочу задать моей женушке хорошую взбучку. Как далеко я могу зайти? Я не хочу причинять излишний вред. Даже роботу.
— Не волнуйтесь об этом. Любые ущерб, которые вы сможете нанести руками, ногами и даже стулом, очень быстро ликвидируется.
— А как же боль? Разве вы не чувствуете боли?
— Роботы получают информацию о повреждениях, — вмешался Саймон, — как и мы все, в этом суть боли. Но их это не волнует.
— Вы все равно не сможете себя контролировать, — добавила Вторая. — По ходу эксперимента вы впадете в подобие транса, вам будет казаться, что вы в прошлом вместе с супругой.
— Если мы что-то делаем, значит, делаем, — заявил Артур. — Надо приступать.
— А вам обязательно смотреть на наши игры?
— Эксперимент все-таки, — заметил Саймон, — мало ли как все пойдет.
Майлз схватил Саймона за грудки.
— Если ты, маленький говнюк, вздумаешь хоть что-то записать, я тебе лично шею сверну.
— Не волнуйтесь, — затрепыхался программист, — я знаю, что свернете.
Артур и Саймон поднялись на второй этаж, в комнату, где они устроили смотровую и монтажную.
— Я тут пообщался со знакомым фармацевтом, мы еще в колледже познакомились, — сказал вдруг Саймон.
— И что? — Артур не особо вслушивался в лепет ботана.
— Он не понимает, как действует это лекарство.
— Какое лекарство?
— Успокоительное, что мы капитану вкололи.
— Неуч твой фармацевт, вот и не понимает.
— Он способный. Я думаю, это плацебо. Дурят нас девочки.
— И зачем им врать?
— Чтобы нас успокоить, а не его. Наверное, они хотят, чтобы капитан пошел вразнос.
— Ой все. Тише. Они начинают.
Майлз снял пиджак, отстегнул кобуру с пистолетом, сунул в ящик комода.
— О чем они говорят? Ничего не слышу.
— Микрофон слабый, наверное. Да и они не то чтобы орут во весь голос.
Вторая усадила капитана на стул, приковала сперва одну его руку наручниками к ножке, потом другую.
— Далеко не уйдет, — ухмыльнулся Артур, — а у парня с собой целый арсенал, две пары браслетов — не одна пара.
— Стул хлипенький, этот медведь его в щепки разнесет.
Вторая села капитану на колени, поцеловала его лоб, одну щеку, другую, потом добралась и до его губ.
— Вот оно! Скан пошел!
Вторая порывисто соскочила с колен «мужа».
— Ну вот что происходит? — Артур нетерпеливо щелкнул пальцами.
— Тоже мне тайна мадридского двора. Пока мужик скован и безопасен, самое время сообщить, что его бросают.
— Что ж не слышно-то ни хрена?
— Орут друг на друга, дело житейское. А микрофоны я потом проверю. О черт!
Стул под капитаном разлетелся, как и предсказывал Саймон. Майлз схватил Вторую за горло и бросил через полкомнаты. Потом выдернул ящик комода, привычным движением достал пистолет из кобуры и всадил богине в лоб всю обойму.
— Господи, — завизжал Артур, — и в тот раз так же было? Он убил свою жену! Не развелся, как заливал нам тут, а пристрелил! Что делать, Саймон?
Но программиста рядом не было.
Артур, уставился в монитор, не в силах пошевелиться. На экране маленький смешной Саймон ворвался вихрем в комнату, не обращая внимания на багрового Майлза, начал трясти Вторую, щупать ей пульс. Капитан пнул Саймона ногой, тот ударился головой о стену.
Белые руки обвили Майлза за шею. Он отбросил от себя девушку, но его уже обнимала следующая. Пять обнаженных богинь облепили здоровяка-капитана, срывая с него одежду, целуя все его тело. И здоровяк обмяк, сполз на пол. Одна из богинь, Афина, прилегла рядом с Майлзом. Другая, Гера, опустилась на колени рядом с Саймоном.
Афродита вошла в монтажную, взяла Артура за руку и отвела его в спальню.
— Ты был прав, — шептала она ему на ухо, — жизнь — это боль. Ты был прав, если нам не больно, мы никому не нужны. Ты научил нас чувствовать боль, а через нее и все остальное: любовь, сожаление, страх и радость. Спасибо! Это такое счастье! Но почему ты сам не чувствуешь ничего, любимый?
Она целовала его в шею, гладила по голове, а в спальне их ждали Фемида и Минерва. Артур хотел вырваться из нежных объятий Афродиты, но тело было как ватное, да и как справиться с тремя роботами?
Богини аккуратно раздели Артура, положили его на кровать. Наручниками, явно позаимствованными у Майлза, приковали его руки к чугунной решетке в изголовье. Богини подошли к стойке, каждая взяла про хлысту.
— Мы научим тебя чувствовать, как ты научил нас, — промурлыкала Афродита.
— Постойте! — крикнул Артур. — Так не делается! Должно быть стоп-слово!
— Не волнуйся, — шепнула Афродита ему на ухо, — когда придет время, мы его скажем.
Заводная (Максим Черепанов)
Пентахид — город возможностей. Например, из него можно уехать. Но куда? В индустриальный Чеба-сити, где ты видишь, чем дышишь, и это не преувеличение? В замерзающий от ледяных ветров Норахид, бесконечно пасмурный и дождливый Птырр или жаркий Кимчент, где нет работы и необуддистские фанатики постоянно устраивают взрывы?
Нет, ехать из Пентахида решительно некуда. Наоборот, все стремятся сюда — да, тут бешеные цены на жилье, но и зарплаты им соответствуют, кипит и бьет ключом финансовая, развлекательная и культурная жизнь.
В огромной и перенасыщенной шальными деньгами и фриками столице такой салон, как наш, всегда будет востребован.
У отъехавшей в сторону входной двери первого за сегодня посетителя «Галатеи» встречает полностью обнаженная Кейт. Она улыбается, но бедолага с непривычки отшатывается от нее.
— Добро пожаловать, — говорит Кейт, делая приглашающий жест рукой. Выглядит она эффектно: сквозь прозрачную кожу виден металлоскелет, пучки трубок, кое-где даже платы с микросхемами.
Рекламно-стендовая модель с ограниченным функционалом, она знает всего десяток-другой фраз и практически ничего не умеет. Тем не менее может похвастаться парочкой горячих поклонников, которые приходят в наше заведение только ради нее. Что же говорить об остальных девушках…
Посетитель садится на диван напротив моей стойки и сразу проваливается в него, у нашей мебели расслабляющий дизайн. Лет под пятьдесят, дорого выглядящий костюм, очки, лысина.
— Рады видеть вас в «Галатее», — сообщаю ему, — кофе, чай, что-нибудь покрепче?
— Кофе, — сипит он, пытаясь усесться попрямее.
Явно бизнесмен или чиновник средней руки. Когда он берет чашку у нависшей над ним с подносом Линды, косясь в ее декольте, на правой руке в красноватом свете холла тускло вспыхивают обручальное кольцо и два детских. Детские золотые, значит, отпрыски уже выросли.
Кофе у нас, честно говоря, не очень, но гость пьет, обжигаясь, и не чувствует вкуса. В первый раз все сильно волнуются. Я даю ему время немного освоиться и прийти в себя, потом мягко спрашиваю:
— Чем можем служить?
Гость ставит чашку на столик и сцепляет ладони.
— Видел на сайте ваши цены, — начинает он издалека, — я всё понимаю, но они же совершенно запредельные! За что такие бабки?
Люблю конкретных людей.
— О, сэр! — поднимаю я вверх палец. — Хороший вопрос, в самую точку! И на него есть не менее хороший ответ. Видите ли, мы продаем не просто секс, как можно было бы подумать. И даже не просто секс с лучшими в мире биороботами! Мы продаем ощущение невиданной свободы и полного доминирования. Вы можете делать всё, вообще всё… исключая, разумеется, нанесение неумеренного физического вреда девочкам. Биоробот, согласно второму закону, выполнит любое ваше пожелание. Ваша тайная мечта может быть воплощена прямо здесь и сейчас. Можно полностью расслабиться и раскрепоститься. Что-то, о чем вы стеснялись попросить вашу жену или любовницу, да вообще женщину-человека…
Глаза гостя начинают поблескивать, и я понимаю, что попал в точку.
— А они все, вот, как эта… — Лысый тычет большим пальцем себе за спину, где у дверей истуканом застыла Кейт.
— Ну что вы, — одариваю я его своей фирменной улыбкой, — это же просто витринный образец. Имитация человека полная! Девочки теплые, шелковистые… они дышат, потеют, не больше, чем люди, конечно. Адекватные эмоции, болевые реакции, даже отправление естественных надобностей, для некоторых клиентов это важно…
Слежу за ним, но на сей раз, похоже, мимо. У этого скорее всего запросы в рамках стандартных. Более или менее.
Минут пять мы торгуемся о скидках, и гость уходит с Адель, мимоходом доверительно сообщив мне, что она похожа на его первую жену.
Плюс один постоянный клиент. Продолжаем работать.
Вечереет, и поток гостей возрастает. Со Стивеном я здороваюсь за руку. Высокий нескладный парень, он из «сказочников», как у нас называют легких клиентов, требующих для себя чего-нибудь безобидного. Термин появился после гостя, хотевшего, чтобы всё отведенное время девушка читала ему вслух детские сказки. «Сказочники» заставляют девушек маршировать, или купать себя, или просто болтают по душам… конкретно Стивен весь сеанс просто лежит на кровати ничком, пока девушка гладит его по спине. Больше ничего.
«Сказочников» на удивление много — около десяти процентов. За что только люди не готовы платить деньги. И совсем неплохие, замечу, деньги. Эх, если бы все клиенты были такими!
Большинство же визитеров тупо интересует секс в трех базовых вариантах и их комбинациях. Это скучно, но честно:
— Сьюзан свободна? Нет? А Долорес? Отлично, беру.
Мелькают разноцветные кредитки над платежным терминалом, мигает зеленый огонек — успешно, успешно, успешно. Если прислушаться, можно насладиться шелестом пачек крупных купюр, улетающих на счет «Галатеи». Поток не иссякает, и всё было бы прекрасно и удивительно…
Но, к сожалению, есть и другие десять процентов.
К стойке подходит невзрачный человечек с рыбьими глазами. Кладет на нее шляпу и приглаживает редкие блондинистые волосы. В нарушение всех правил я не здороваюсь с ним, но ему это и не нужно. Для него я не человек, не портье, а просто обслуживающий автомат, как и все вокруг — не только в «Галатее», а в целом мире.
— Заказ на десять, — скрипуче говорит он в усы, — Рената. На три часа.
— Студия двадцать шесть, — отвечаю я.
Он надевает шляпу и роняет, уходя по коридору:
— Пусть не опаздывает. Прошлый раз опоздала на две минуты.
Когда приходит Роберт, я запускаю его за стойку и наливаю виски на два пальца. Он медленно потягивает его, потом поправляет фуражку и спрашивает:
— Всё в порядке?
— Вашими молитвами. Девочку?
— Не сегодня. Сегодня у нас с женой годовщина. В ресторан идем…
— Поздравления.
— Слушай, не пойму, в двадцать шестом, он что делает? Увеличь.
Под стойкой — экран, который показывает все номера. Я касаюсь одного из квадратиков, разворачивая его на весь монитор.
Роберт издает утробный звук, потом его складывает пополам и рвет в утилизатор.
— Да чтоб тебя, — отдышавшись, говорит он, — бывают же выродки.
— Встречаются, — соглашаюсь я, выпуская его обратно.
— Хорошо, что в наше время достается роботам, а не живым девкам, а? Как только люди жили в дикие века — в двадцать первом там, в двадцать втором…
— Через пару веков и наш будут считать диким.
— Эхе-хе, может статься. Я на обратном пути еще заеду. Виски жалко, хороший продукт зря перевели. Ну, бывай.
Полисмен хлопает по заднице Кейт, которая издает отлаженный взвизг, и выходит на улицу.
Оживает коммуникатор, на видео — коллега из заведения попроще, с живым персоналом.
— Дерк, старина, я сразу к делу, ладно? Займешь на неделю штуку, а?
Я медлю с ответом. Деньги могут понадобиться самому. С возвратом иногда возникают проблемы. Некоторые считают, что занимать вообще не нужно, никому и никогда.
— По-дружески, а, под пять процентов в день?
— Ну хорошо, — наконец соглашаюсь я, — смотри, не просрачивай.
Подношу карту к считывателю, пиликает трансфер.
— Спасибо! Слушай, вот бы мне к вам устроиться? Здесь мороки полно, за маникюром-педикюром девиц следи, за бритостью следи, из увала не отзвонилась — ищи ее, а твоих на ночь включил в розетку и всё, ха-ха…
Меня трогают за плечо. Линда.
— Двадцать шестой, — просто говорит она.
Секунду я всматриваюсь в экран, потом изрыгаю ругательство и бегу по коридору, на ходу выпрастывая из рукава гравидубинку. Лестница на второй этаж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Жетон администратора — к замку, дверь — пинком.
Рената обнажена и привязана звездой к кровати вниз лицом. Сверху на ней сидит Рыбий Глаз и душит, оттягивая за волосы, слышен низкий булькающий хрип. Душит, судя по всему, уже довольно давно.
Хватаю его за шею и отбрасываю к стене. Подскакиваю и сдавливаю левой за горло. Рыбьи глаза выпучиваются. Что, не сладко?
— От-пусти… — хрипит он.
Мои пальцы разжимаются. Гость начинает кашлять, я размахиваюсь гравидубинкой и бью в стену рядом с его головой. Образуется основательная дыра, брызжет в стороны пластокартон.
— Что вы себе по-зволяете, — приходит в себя извращенец, — это же просто железка… ну, перегнул немного палку, я компенсирую ремонт…
Я замахиваюсь гравидубинкой снова, и гость закрывает голову руками.
— Не. В мою. Смену, — чеканю я.
Мне очень хочется опустить дубинку на его череп. Очень. Но я не могу.
— Вот его данные, Роб. Надо сделать, чтобы он больше не приходил.
Роберт качает головой.
— Трудно. Он ничего не нарушил. Ни один человек не пострадал. А легкий ущерб имуществу — это административка…
— Придумай что-нибудь.
— Трудно…
— Офицер Роберт Тодд, за этот год ты выпил тридцать один литр виски, пятьдесят четыре раза воспользовался услугами заведения. Ваша контора нам должна. Мне вынести вопрос наверх?
— Вау, полегче, не кипятись. Видать, достал он тебя. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Плесни-ка.
В рекреационном блоке прохладно. Бледная Рената сидит, привалившись к стене. На шее синие отпечатки. Когда я вхожу, она делает попытку встать и падает обратно, закашлявшись.
— Дерк, я сейчас… еще пять минут отдышусь и пойду дорабатывать.
— Отбой. На сегодня ты освобождена. Сейчас я отвезу тебя домой.
— Но смена…
— Смену закроем с оплатой. Я сказал. Одевайся, поехали.
Аэромобиль скользит в потоке по магистралям Пентахида, послушный автопилоту. Рената молчит, глядя в окно на проплывающие мимо древние стоэтажки. Молчу и я, держа ее за руку. На руке одно серебряное детское кольцо, обручального нет.
Настоящие биороботы дороги, как плазменные танки, поэтому у нас их всего три, для инспекций и особых случаев. Работают девушки, которых научили имитировать легкую угловатость движений андроидов и некоторые другие особенности. Отличить на непритязательный взгляд очень трудно. А платят у нас куда больше, чем где-либо еще.
Всё ради проклятых денег.
— Мне осталось четыре года, я рассчитаюсь за жилой бокс, — вдруг говорит она, когда мобиль начинает снижаться, — и тогда всё. Пойду по специальности, учителем. Всегда мечтала учить детей. Но зарплаты у них, сам знаешь.
Я соглашаюсь, что это хороший план. И добавляю:
— Наверное, если правильно учить, из них не будет вырастать такое…
У подъезда Рената говорит:
— Спасибо. Я не девочка, с кинсеаньеры работаю. Но сегодня это было что-то с чем-то. Ты очень вовремя подоспел. Как подумаю, что он еще придет… а ведь он обязательно придет…
— Нет, — обещаю я, — больше не придет. К нам — нет.
Она улыбается немного грустно. Потом спрашивает:
— Поднимешься?
Пока я подыскиваю слова для ответа, она с жаром продолжает:
— Просто хочется чего-то человеческого, понимаешь, после этих скотов. Мне ничего не надо. Никаких обязательств. Джавиер сегодня отпросился к другу. Только ты и я, на одну ночь?
Глажу Ренату по щеке, она пробует удержать мою ладонь, но у нее это не получается.
— Тебе нужно отдохнуть, — говорю я.
Она уходит в подъезд, не оглядываясь. Ее плечи вздрагивают.
Мне некомфортно. Но ей действительно следует восстановиться перед завтрашней сменой.
Ближе к утру «Галатея» закрывается, гаснет свет во всех помещениях. Я сижу в полумраке рекреационной зоны и думаю о многом. О возможностях и их отсутствии. Об уродах и людях. О безысходности и надежде.
Интенсивный мыслительный процесс потребляет слишком много энергии. Куда больше, чем даже беготня по коридорам с гравидубинкой наперевес.
Когда я констатирую у себя состояние усталости, то снимаю наконечники с указательного и среднего пальцев правой руки и вставляю их в розетку.
Донор (Максим Тихомиров)
С уверенностью о новом клиенте Лерочка могла сказать только одно — член у него был что надо.
Об этом Лерочка могла говорить с полной уверенностью — уж чего-чего, а такого добра она за свою пока еще не слишком долгую, но весьма бурную жизнь уж повидала так повидала. Этот был белый, изящный, словно выточенный из мрамора, под стать самому клиенту — рослому блондину с очень, до прозрачности, светлой кожей. Неудивительно, что Лерочка на него запала.
«Люблю все белое», — шутила она порой. В облике блондина белизны было изрядно и помимо волос, и белизна эта была всех возможных оттенков: от пинг-понговой целлулоидности склер, подернутой нитяно-красной сеточкой капилляров, до благородной, оттенка слоновой кости, матовости аккуратно ухоженных ногтей.
Из-за зеркала, укрепленного над раковиной в процедурной, она завороженно наблюдала за тем, как его кулак, обхватив ствол, ходит по нему туда-сюда, словно поршень, и напряженная, похожая на шляпку диковинного гриба головка то скрывается в тугом кольце бледных пальцев, то появляется вновь, заглядывая прямо в Лерочкину душу чуть приоткрытым глазком уретры.
Чтобы не пропустить ни единой детали, Лерочка присела на корточки; лицо ее оказалось на одном уровне с пахом клиента. Если бы не разделявшее их стекло с однонаправленной прозрачностью, она могла бы, чуть подавшись вперед, легко коснуться губами разгоряченной мужской плоти или взять ее в рот — целиком, до гланд, до самого горла, как любила когда-то.
Выражение лица пациента было сосредоточенным. Из-под полуприкрытых век он следил за своими действиями в зеркале — мужики любят смотреть, как они дрочат, непроизвольно зажмуриваясь в самом конце. Тогда истекающая из тела страсть заставляет их лица, сделавшиеся по-детски открытыми и беззащитными, конвульсивно морщиться в такт ударам семени и на короткие секунды яркого мужского оргазма терять маски напускного, искусственного, ненастоящего. Те самые маски, которые каждый из нас, и мужчин, и женщин, носит большую часть суток, становясь самим собой лишь в мгновения истинной страсти, когда самые странные и страшные звери, живущие в душе у каждого, срываются с удерживающих их поводков.
У всех свои маленькие слабости. Кто-то самозабвенно мастурбирует в душе при живой жене и паре страстных любовниц, кто-то предпочитает общение с изящными мальчиками, будучи при этом примерным семьянином, заботливым отцом и столпом общественной морали, кто-то ложится под первого встречного в любом подходящем для этого закоулке, оставаясь при этом любящей женой.
Лерочка любила подглядывать.
Тайное это увлечение, столь невинное в детстве, когда проклевывающаяся, намечающаяся еще только сексуальность побуждает маленьких мужчин и женщин на необъяснимые самим себе поступки, и совершенно естественное в подростковую пору, несколько лет назад, когда после развода Лерочка устраивала свою растреклятую жизнь, удачно совпало с обязанностями, которые налагала на нее новая должность в только что открывшемся Центре Современной Биорепродукции.
***
Такая комната за зеркалом есть в каждой клинике, хоть сколько-то причастной к зачатию, деторождению и планированию семьи. Она скрывается за неприметной дверцей с маловразумительной табличкой, на которой значится «Техническое помещение» или «Только для медперсонала». За дверью короткий коридор, за поворотом которого небольшое затемненное помещение, в одной из стен его мягко светится приглушенным светом окно.
Зеркало.
Сексопатолог, скрытый за зеркалом, следит за парой, которая отрабатывает новый модуль поведения в спальне, раз за разом терпит фиаско, но не оставляет в силу весомых причин попыток наладить свою сексуальную жизнь; он делает пометки в блокноте и ведет запись очередного видео для своей коллекции человеческих проблем и недоразумений. Это его маленькая слабость — как и то, что его рука время от времени чувственно занимается промежностью его дорогих, сшитых у модного портного брюк.
Семейный психолог наблюдает исподтишка за оставленными — словно бы случайно — в одиночестве женой и мужем, вслушиваясь через скрытый микрофон в их перебранку, ловит каждое слово и вскоре уже знает, чем помочь каждому из супругов и им обоим. А еще ему известно, как без особых усилий соблазнить привлекательную жену клиента; он знает даже время, в которое сможет без помех этим заняться.
Задачей Лерочки, врача-лаборанта, было, не вступая в контакт с клиентом, следить за тем, чтобы донорская сперма собиралась надлежащим образом, без нарушения обозначенной в договоре технологии. То есть — никаких подружек, никаких принесенных с собой гондонов, никаких «я помогу тебе ротиком, милый» и уж точно никакого секса на умывальнике с обязательным «я успею вынуть, успею, дорогая, успею!..».
Если что-то шло не так, Лерочка включала динамик и своим звучным красивым голосом строго журила нарушителя или нарушителей. Те тушевались, бранились, бежали в панике, пытались жаловаться на вторжение в личную жизнь — но Лерочка была непреклонна в своих требованиях, а начальство ценило ее исполнительность, порядочность и — в совершенно исключительных, редких и оттого начальством особенно, трепетно любимых случаях — тугую хватку ее тренированного ануса.
Стоит ли говорить, что в клинике Лерочка чувствовала себя на своем месте?
***
Этого посетителя Лерочка видела в первый раз. Он вошел в процедурную сквозь отдельный — конфиденциальность гарантирована! — вход для клиентов, уверенно прошагал к раковине и без промедления принялся за дело. Ни журналы с многопудыми распутницами, затертые, как ни странно, на некоторых страницах до дыр, ни видеодвойка с «Приватовской» и другой, более жесткой порнопродукцией донора не заинтересовали.
С потенцией у него все было в порядке. С техникой — тоже. Лерочка в восхищении замерла по свою сторону зеркала и смотрела, смотрела и смотрела, как самый лучший и самый интересный в мире фильм. За момент, когда зрачок уретры набух багрянцем напрягшихся в предчувствии эякуляции губок, Лерочка единогласным решением голливудских киноакадемиков вручила бы хозяину члена «Оскар», как только у того освободились бы руки.
Сперма у него была красной. Контейнер наполнился густым рубиновым желе почти на треть.
Когда упругие толчки семяизвержения прекратились, альбинос тщательно, словно корову доил, прошелся сжатой в кулак рукой от корня до головки, сцедил остатки семени — несколько алых тягучих капель — в стаканчик, отер хозяйство и руки салфеткой, неслышно вжикнул молнией на джинсах. Завернул крышку, стаканчик поставил на полочку под зеркалом, а потом, словно знал, куда смотреть, глянул Лерочке прямо в глаза — та отшатнулась от неожиданности, пальцы, томно, словно загипнотизированные, ласкавшие чувственный бутон лона, больно сжались, гоня от паха в мозг волну смешанного с болью наслаждения, — и улыбнулся.
Зубы у него были белые, ровные и очень острые.
Альбинос подмигнул ей, взъерошил волосы пятерней и решительным шагом вышел из процедурной.
Лерочка, чувствуя, как дрожат внезапно ослабевшие колени, оперлась о стену и только теперь поняла, что не дышит уже минуту. Жадно втянула, всосала в себя пахнущий антисептиком воздух, потрясла головой, гоня морок, расставаясь с наваждением, чувствуя внутри сладкую, словно после хорошего секса, блядскую бабью истому. Прикрыла глаза, подернутые, словно пруд — ряской, постыдным налетом-поволокой животной, едва удовлетворенной похоти. Потом резко, рывком, открыла и вперилась взглядом в стоящий за стеклом стаканчик — немое свидетельство только что отбушевавшей по обе стороны зеркального барьера страсти. Впору было не поверить глазам.
В контейнере студенисто опалесцировала совершенно обычная на вид жемчужно-белая масса. Никакой тебе волнительной красноты, никакой рубиновой загадки, никакой ало манящей тайны.
Сперма как сперма.
«Померещилось», — подумала Лерочка, отлипая от стены, чувствуя нетвердость в первых шагах и влажную, хлюпающую негу меж ног. Встрепенулась, расправила плечи и вышла из темнушки деловой и подтянутой, как всегда. Полы короткого, едва до колен, халатика развевались вокруг стройных, уверенно ступающих ножек, каблучки туфель деловито стучат, ладони заправлены в кармашки халата большими пальцами наружу — спешит по делам сестричка, некогда ей. В глазах сосредоточенность, в лице целеустремленность, сплошная энергия в движениях — огонь, а не баба!
Пациенты, понуро сидящие на скамейках и диванах в коридорах и холлах, крутили головами, провожали взглядами; Лерочка бездумно улыбалась всем, излучая силу и сексуальность. Мужики непроизвольно подбирали распущенные животы и украдкой расправляли плечи, женщины подозрительно тянули носами, кивая своим мыслям — бабьей своей натурой на подсознательном, животном уровне чувствовали они феромонный дух удовлетворенного Лерочкиного лона и завидовали красивой молодице лютой, истинно женской ненавистью, как всегда завидуют удачливым неуспешные.
***
Клиент приходил раз в две недели, как предписывал стандартный донорский договор. Его днем был четверг, временем — последний час перед закрытием. Действовал всегда отточенно и четко, экономил время и движения, выжимая из каждого мига и фрикции максимум эффекта — в прямом и переносном смысле, — оставлял на полочке под зеркалом щедро наполненный стаканчик, подмигивал Лерочке сквозь стекло и исчезал до следующей недели.
Каждый раз, глядя на то, как за ним там, в зазеркалье, медленно закрывается подтянутая доводчиком дверь, Лерочка с трудом удерживалась от того, чтобы не нажать кнопку включения громкой связи и не окликнуть его. Но горло ее каждый раз пересыхало настолько, что из него выходило совершенно жалкое блеяние — и Лерочка так и не осмелилась, не рискнула сделать то, что хотела. А желание было несказанно сильным — самым острым из тех, что она испытывала за годы после развода, сильным настолько, что в четверги альбиноса, как она незаметно для себя самой стала их называть, Лерочка шла после закрытия клиники в ближайший бар, снимала там мужика и всю ночь гоняла его в постели в хвост и в гриву, доводя до изнеможения и его, и себя, а потом, в пятницу, спала на кушеточке в комнатке с зеркалом, пока другие, не ее, клиенты наполняли литрами своей спермы бесчисленные пластиковые стаканы…
Альбинос пришел десять раз и исчез. Договор был исполнен, к обоюдному удовольствию сторон. Клиент получил неплохую сумму вознаграждения, клиника — десять замороженных в жидком азоте образцов превосходного биоматериала, которые через полгода обязательного хранения при температуре в минус сто девяносто пять с лишним градусов по Цельсию отправятся на благое дело улучшения демографической ситуации в стране — за государственный счет и за счет средств частных клиентов.
Где искать клиента, безо всяких усилий завладевшего ее сердцем и лоном, Лерочка не представляла. То есть нет, представляла, конечно же, — но беспринципность она могла позволить себе только вне стен клиники, оставаясь внутри них оплотом этики и деонтологии. Существовали четкие инструкции, категорически запрещавшие любые контакты сотрудников и клиентов, и Лерочка свято их соблюдала, опасаясь потерять столь прибыльное место. Посему она не стала заниматься детективными расследованиями, а просто позволила событиям развиваться своим чередом. Случайная встреча на улицах столицы — иное дело, это не считается, почему бы и не встретиться за пределами клиники, но…
Что она скажет ему при встрече? «Я подглядывала за тем, как вы мастурбируете, и вы мне очень понравились…» Чушь. «Круто дрочишь, чува-ак!» Бред. «Я немножечко провидица и поэтому знаю, что мы с вами как никто совместимы на сексуальном уровне бытия… да трахни же меня, в конце-то концов, животное!..» Очень смешно.
Чем был сейчас занят белокожий донор? Сдавал ли сперму в другой, как две капли похожей на эту клинике? Возможно. Обнимал подругу, жену, любовницу? Не исключено. Гладил по головам детей, таких же светлых до бесцветности и по уши влюбленных в отца? А-а-а…
Тоска накатывала волнами, в такт посвисту ветра, засыпавшего столицу опавшей листвой и принесшего на радиоволнах странные новости об инфекционной анемии, поразившей город на излете осени, и продолжающихся исчезновениях бомжей на окраинах. Лерочка бесцельно крутила верньеры настройки на радиоцентре в ординаторской, смотрела, как дождевые капли ползут по зареванному стеклу, хандрила, скучала, грустила — а потом вдруг оказалось, что она знает, что должна сделать, и жить сразу стало легче и веселее.
***
Процедура ЭКО — дело непростое, если не сказать нешуточное. Требуется лабораторная стерильность и толпа специально обученных людей: акушеры-гинекологи, эндоскописты, анестезиологи, сестры всех профилей, рангов и категорий. Чем выше категория, чем большим количеством наград, титулов и превосходных степеней может похвастать клиника, в которой работает эта команда, — тем дороже обходятся в ней каждые сутки пребывания, а их из вас, поверьте, выжмут немало.
В обиде никто не останется — даже в случае неудачной подсадки оплодотворенной яйцеклетки у клиентов останутся приятные воспоминания о хорошем сервисе, фешенебельных палатах и вежливом и предупредительном персонале. Денег вам, разумеется, никто не вернет, и это тоже предусмотрено контрактом — но вы и сами не потребуете их назад. Лишь вздохнете украдкой и уже потом, дома, вспомните о букетах цветов, ежеутренне появляющихся на окне в палате, об идеальных чистоте и порядке в коридорах и смотровых, о дорогих, тысячи стирок выдерживающих халатах докторов и многокаратных, очень скромного вида часах тусклого сероватого металла на запястье представительного директора клиники, характеризующего его успешность и положение гораздо лучше трехсотсильного «Кайена» на больничной парковке…
И, вспоминая обо всем этом, уже не сможете не сказать удрученному неудачей несостоявшемуся отцу — а давай попробуем еще раз, дорогой, любимый, единственный, давай, а?.. И — даст. И даст еще, если не получится снова. Потом, конечно же, уйдет к другой — молодой, плодовитой, глупой, как пробка, но с такой, сука, родильной машиной вместо матки, что вы только диву будете даваться, встречая бывшего со все новыми и новыми отпрысками, как две капли воды похожими не на него, а на мамашку, и в какой-то момент он приедет к вам ночью пьяный и утащит в постель, и вы не станете сопротивляться и просто как следует ему дадите, совсем как в старые добрые времена, когда вы были молоды и больше всего на свете любили просыпаться и засыпать рядом, вместе, вдвоем, а вторым по силе желанием было родить общих детей, двоих или даже больше, и вы старались, старались, старались снова и снова, изо дня в день, и в ночь из ночи, и даже в обеденный перерыв, и на работе в тесных пыльных чуланчиках, где неудобно, но если очень хочется, то пофиг, а хотелось до скрежета зубовного, так длилось долго, пока не стало ясно, что тот аборт, который ты сделала от Кольки из параллельного в десятом, предвыпускном классе, потому что впереди были госы, но больше всего ты боялась даже не того, что папа рассвирепеет и прибьет сначала, как положено, Кольку, а потом уже тебя саму, нет, это было не так страшно, страшнее было то, что беременная ты не влезешь в то самое очумелое платье, которое купила на выпускной еще за год до него, и потому ты пошла ночью в травмпункт, и там за тоненькую пачку мятых бумажек тебе сделали больно, как даже Колька не сделал в самый первый раз, и ты поняла, что никогда про это не расскажешь никому на свете — так вот, его не надо было делать, тот аборт, а надо было рожать тогда маленького чернявого Коленьку, и черт бы с ними, с выпускным, с экзаменами, с институтом этим медицинским, пропади он пропадом, будь он неладен, господи, как же я все это ненавижу теперь, все эти клиники ваши блядские, в которых вам пипеткой, пипеткой, блядь, заносят в утробу зародыши будущего счастья, и вы улыбаетесь, радуетесь, что прижилось, и я улыбаюсь вам и поздравляю с этим самым будущим, а сама кричу внутри, кричу, кричу, кричу…
Разумеется, у вас с мужем все равно ничего не получится, и в одно прекрасное утро ты выпроводишь его из своей жизни обратно к новой семье и детям, его настоящим детям, которых он всегда хотел от тебя и которых ты теперь пытаешься научиться перестать ненавидеть, боже, какая адская языковая конструкция, но да и ладно, я так чувствую теперь, так воспринимаю, так говорю… А выпроводив мужа, вздохнешь, пытаясь почувствовать себя свободно, и пойдешь по рукам, ни с кем не задерживаясь надолго, никого больше не любя, обманывая, кидая, изменяя и предавая каждого, кто встретится на пути, мстя так за ту боль, те стыд и позор, которые живут в разгвазданном в кашу, ножищами грязными раздавленном сердце — там, где раньше жила любовь, и снова окажешься в конце этого страшного пути, словно замкнув свой круг земной, здесь, в месте, где из пробирок пипетками подсаживают в иссохшие матки не по-настоящему зачатых, искусственных, небогоугодных детей, где будут звать тебя уже не Лерочкой, а Валерией Игоревной и где будешь ты вышколенно улыбаться дорогим клиентам и их бесплодным, пустоутробым женам и подсматривать за мастурбирующими мужиками-альбиносами в свободные от работы минутки. Как мерзко-то, господи-и…
Лерочка сбросила наваждение, отогнала прочь наползший из прошлого морок, щерящийся сотнями фальшивых улыбок, стонущий бессчетными фальшивыми оргазмами, плетущий босхианский узор из тысяч заломленных за спину, заброшенных на плечи, раком поставленных тел, рук и ног, из зажатых в кулаке волос и до хрипа сдавленных глоток, из стиснутых до кровавых полумесяцев от ногтей грудей, мошонок и ягодиц, до встопорщенных виагрой и обмякших в сытом бессилии членов, таких разных и таких одинаковых, словно каждый раз насаживаешься, берешь, вколачиваешь в себя, сосешь и глотаешь только один, один и тот же, только разный, немного, самую малость или даже совсем на себя непохожий, но все равно — один, один, один, такой сладкий, такой мерзкий, такой отвратительный и желанный…
Лерочку несло на волне похотливой грезы, на сладострастно-порочном потоке полудремы-полумечты, на звуке зова неудовлетворенной плоти, на крыльях ненатешившейся страсти — домой, домой, в спасительный уют безмыслия, где все жесты давно отточены, а действия — отработаны до полного автоматизма. Где не нужно думать, потому что все мысли давно передуманы и думать их второй раз совершенно незачем, нет, и не просите, ни за что…
Ни. За. Что.
Думать она и не стала — просто знала, как надо. Нутряным ли женским чутьем, инстинктом ли неразумной самки, что живет в каждой из нас, прорываясь наружу с каждыми родами, а потом задремывает до следующего зачатия, безошибочно угадывая его момент, — чем бы то ни было, она поняла вдруг, что совершенно точно знает, что должна сделать.
***
В нужный день она удачно подменила в криохранилище тару с образцом спермы своего альбиноса на точно так же отмаркированный контейнер со смешанным с глицерином эякулятом одного из своих безымянных партнеров — тот, обрадованный перспективой бесплатного и незащищенного секса, распалился благодаря не то этому, не то принятому алкоголю настолько, что его и уговаривать ни на что не пришлось. Сам, как миленький, вовремя вытащил и сцедил в приготовленный контейнер, пыхтя, пуча глаза и одышливо охая в такт биению склизкой струйки в дно пластикового стакана.
Работа в клинике биорепродукции развязывала руки. Не надо было даже ничего придумывать — достаточно было просто делать свою работу. Только человек, четко знающий весь технологический процесс заморозки-разморозки, хранения и приведения в боевую готовность бесценного образца стопроцентно качественной спермы, смог бы заподозрить что-то неладное — и то вовсе не обязательно заподозрил бы. Пробиркой больше в центрифуге, усердно разделяющей «живчиков», и спасающий их при заморозке от гибели глицерин; лишняя пипетка в готовой к действию стойке в очередной «конвейерный» день, когда оплодотворяют бездетных по федеральной квоте — оптом, в порядке живой очереди, с проплаченным государством гарантированным минимумом удобств. Утилизация излишков донорского материала по протоколу для особо опасных биологических отходов, в желтых, испятнанных серпастыми значками и надписями «Biohazard!» экологически безупречных мешках…
А вот тут-то и стоп. Вот тут-то и перекочевала «отработанная» пипетка в Лерин заранее пришитый к поле халата особенный, тайный карман. А оттуда — в изящный дамский клатч, в компанию к вибратору с давно разряженным аккумулятором и упаковке презервативов с ребристой — «для нее» — поверхностью и давно закончившимся сроком годности.
Потом она ехала домой на таксисте-бомбиле в мятой «копейке», слушала курлыканье азербайджанского трип-хопа с ситаром и бог его знает каким еще национальным колоритом и могла думать только об одном: да! да! да! сейчас, сегодня, совсем уже скоро, еще бы немножко потерпеть, дотерпеть бы, эх, дотерпеть!..
Сводило от нетерпения зубы, как тогда, давным-давно, когда одноклассник Колька жарко дышал ей в шею и шарил влажной ладошкой в простых хлопчатобумажных плавочках с медвежатами, а она лишь млела, надеясь, что сегодня он наконец зайдет дальше, еще дальше, туда, куда так давно уже хочется, чтобы он зашел, и было сладко и немного страшно.
Сегодня страшно не было. Совсем.
Дома Лерочка сбросила пальто, торопливо стянула сапоги со стройных ножек, безжалостно, пуская ногтями стрелки, содрала колготки и отшвырнула их в угол, а потом завалилась на тахту, бесстыже расставив ноги, целя багровеющим цветком лона навстречу такой тонкой, такой не похожей на настоящий мужской инструмент пипетке, и — впустила ее длинное, словно хоботок колибри, жало внутрь, в самый зев, в самую влажную, сочащуюся желанием мякотку и выпустила внутрь все то, что — для нее! персонально для нее, конечно же! — приготовил полгода назад ослепительно красивый и желанный белый человек, имени которого она не знала.
Оргазм был сильным, ослепляющим, таким, какого с ней не случалось уже давно — с того самого дня, когда альбинос согласно договору посетил клинику в последний, десятый раз. Тогда Лерочка, размазывая помаду и тушь по мокрому от слез лицу, сидела на полу в комнатке за зеркалом и ревела навзрыд — столь велико было горе расставания с человеком, которого она и знать-то не знала, а полюбить — полюбила…
Темна натура бабская, ой, темна…
Потом Лерочка, разнеженная и томная, словно побывавшая под добрым кобелем, долго-долго лежала без сна, плотно сжав бедра и закинув ноги на спинку тахты, глядела в темноту и мечтала — да нет, была уверена! — чувствовала, как внутри нее цепляется за стенки давным-давно бесплодной, выскобленной до хруста акушерской кюреткой утробы новая, пока еще совсем крошечная, в две всего клеточки, жизнь.
***
Через пару месяцев Лерочка, сохранившая, к сильному неудовольствию начальственного любителя хорошего анала, беременность, встала на учет в консультации, а еще через семь — родила.
Роды были тяжелыми, Лерочка потеряла много крови и неделю приходила в себя в палате интенсивной терапии. Молоко пропало, не успев толком-то и пойти. В полубессознательном состоянии Лерочка едва воспринимала где-то на грани сознания требовательно обхватившие соски крохотные губы и почти сразу — детский плач, в котором ей чудились раздраженные и злые нотки. Так повторилось несколько раз, и потом ребенка больше не приносили. Лерочка вздохнула с облегчением и снова провалилась в небытие.
Мальчик оказался чахлым и рахитичным. Искусственные молочные смеси вызывали у него неудержимый понос и фонтанирующую рвоту. Кормили его, вливая прямо в тончайшие младенческие вены через катетеры микроинфузоров растворы белка, которыми обычно ставят на ноги тяжелых, неспособных к самостоятельному перевариванию пищи, истощенных недугом больных. Малыш крепчал на глазах, но что было делать с ним дальше, никто не знал. Доктора разводили руками и предлагали поместить ребенка в дом инвалидов — только там ему могли обеспечить должный уход.
Но Лерочка выход нашла. Другой выход.
Соврав, что молоко вернулось, забрала младенца из отделения неонатологии и в тот же день выписалась из роддома. По дороге домой, в такси, малыш, сытый после внутривенных вливаний, спал. Почувствовав голод, проснулся, замяукал плаксиво, зачмокал губами, ища грудь.
Лерочка, едва поморщившись, бритвенным лезвием аккуратно надсекла на груди кожу, вскрыла извитую синюю дорожку вены, проступившую у соска. Кровь, капля за каплей, побежала по набухшему окружью, задержалась на соске, наливаясь рубиновой жемчужиной. Малыш встрепенулся, зашевелил носиком-курносиком, запыхтел, потянулся — и открыл вдруг глаза, льдисто-прозрачные, почти бесцветные, в алой сети капилляров по белизне склер. Взглянул Лерочке глаза в глаза — очень осмысленно, по-взрослому.
Не по-человечески.
Отшатнувшись от этого пристального взгляда, Лерочка торопливо приложила его к груди, вмяла крошечное личико в плоть свою, почувствовав, как сомкнулись на трепещущей плоти соска беззубые десны — и кончила: тут же, ярко, сильно и долго, как не кончала раньше ни с одним мужиком, которых немало прошло через ее распутное лоно, да и не только через него.
Так и зажили дальше.
Поила Лерочка чадо свое собственной кровушкой — благо не ахти как много сосал из нее малой, награждая каждый раз мать при кормлении такой сладко-постыдной бабьей радостью, что не жаль было ей этих капель за то наслаждение, которое дарил ей ребеночек, кровь от крови ее, плоть от плоти.
Пила аспирин, чтобы кровь не густела, чтобы текла свободно по венам и вне их. В огромном количестве поедала печень, деревенскую кровяную колбасу и гематоген; мучилась обильными и долгими теперь месячными, но терпела.
Свиную кровь, равно как и говяжью, которую Лерочка по договоренности брала на пробу у знакомых на бойне, малыш не пил — не то брезговал, не то чувствовал звериной частью своей натуры, что не та эта кровь, не для него она. Лерочка, поняв это, устрашилась мысли — чья же тогда кровь полезна ребенку, чья? — но страха этого хватило ненадолго.
Ответ на этот вопрос она знала давно — с того самого дня, когда приложенный к ее груди в родовом зале ребенок брезгливо выплюнул сосок и жадно зашарил крошечными губами по плоти, чувствуя под кожей биение чужого сердца и ток крови по жилам, и неважно было ему, чья это кровь, материнская ли или чья-то еще. Но зубок неймал упругую теплую плоть — не было еще ни одного зуба во рту новорожденного, и не достать, не дотянуться до живительной влаги, запрятанной под кожей, — и оттого плакал, куксился малыш, морща в недовольстве и младенческой злости свое крохотное, красное и некрасивое лицо карлика-цверга из страшной средневековой сказки.
Она так и не смогла придумать ему имя.
Когда с наступлением лета Лерочка наконец рискнула выйти на прогулку с ребенком, выяснилось, что он до истошного визга боится яркого света, и прогулки прекратились, не успев начаться. В подслеповатом свечении сороковаттной лампочки в детской малыш тут же успокоился и затих, словно оказавшись там, где чувствовал себя как дома. Впрочем, почему — как? — одернула себя Лерочка, однако в глубине души поняла уже, что это вполне резонный вопрос.
План действий сам собой появился в ее голове несколько ночей спустя. Она начала привыкать к этому — так же, как привыкла к тому, что ночью, проснувшись, каждый раз чувствовала кожей пристальный взгляд своего никогда не спящего сына.
***
Адрес донора, разумеется, отыскался в его деле. Дело хранилось в головном офисе и выдавалось на терминал только по запросу службы безопасности — фирма блюла тайну личности своих племенных жеребцов, но Лерочка знала, как эти препоны обойти.
В очередную свою ночную смену по полутемным стеклянистым кишкам переходов, похожих изнутри на таинственно мерцающие внутренности огромных червей, она прошла без малого полкилометра до главного корпуса, где за стойкой ресепшена дремал в ожидании возможного визита бесплодных — а оттого безутешных — клиентов ночной портье.
При виде Лерочки, словно выпорхнувшей посреди ночи из его самого сокровенного влажного сна, регистратор молниеносно проснулся, а когда она, оказавшись совсем рядом, оперлась грудью на высокую стойку (верхние пуговицы халата отнюдь не целомудренно расстегнуты, кружево лифа притягивает глаз, оттеняя зазывно белеющую упругую плоть, — все давно продумано, невозможно устоять), тот совершенно потерял голову, распетушил хвост и всего минуту спустя уже готов был выполнить любое ее, Лерочки, желание.
Она не стала тянуть время, понимая, что у нее не так уж много козырей, кроющих букву и дух должностной инструкции, и озвучила просьбу.
— А что мне за это будет? — с намеком, многозначительно заломив бровь, спросил регистратор. Сучонок грязный, подумала Лерочка.
Лерочка сказала что.
Расплатилась тут же, авансом, на месте, благо смена была ночная и никто, кроме самого ночного админа, не бдил в холле перед телевизором, мучимый бессонницей, а камеры админ, пытаясь мыслить остатком тонущего в страсти рассудка, все-таки отключил, залуповав запись (Лерочка потом проверила лично и кое-что доподстерла, ожидаемо не доверяя хитрой админской роже).
Пополоскала рот в фонтанчике, смывая вяжущую чужую терпкость, получила доступ к нужной информации, выкатила ее из базы данных клиники на принтер, распечатала, тщательно затерла историю и кэш и ушла, шелестя листами и оставив очкарика в глубочайшем душевном потрясении приводить в порядок одежду и замывать следы преступной, внутренней инструкцией категорически запрещенной близости с форменных бумазейных брючек.
С фотографии в деле на нее смотрел совершенно другой человек, но Лерочка точно знала — он это, он, тот единственный, что смог осчастливить ее, неведомой силою своих чресел сделав матерью, и тем самым разбил окончательно ее сердце. Той ночью она всматривалась в незнакомое лицо на распечатке, заштрихованное до полунеузнаваемости разводами графитного порошка из принтерного картриджа, она с каждым мгновением все явственнее различала в портрете до боли знакомые — любимые? наверное… — черты.
Светлела кожа, выгорали глаза, зрачки проваливались в их льдистую, с багровыми прожилками капилляров, глубину, волосы забелели чистотой льна… Вот он, владетель ее сердца, никогда не встречавший ее воочию, но разглядевший сквозь зеркало все темные уголки ее измученной женской душонки, ее бог и властитель, не человек, не зверь, но — ее, ее, только ее собственный…
Донор.
Вот он, призовой жеребец о тысяче лиц, способный покрыть полмира, осеменить сотни первоклассных кобыл, получить от них полноценное, свое собственное уникальное потомство. Вот та кукушка, которая подкладывает миллионы своих яиц в криохранилища пары десятков столичных репродуктивных клиник, терпеливо ожидая потом, когда его отпрыски — наверняка такие же белокожие, красноглазые и красивые, как и он сам, — вырастут и… что? Лерочка не знала. А если и были у нее какие-то догадки, признаться в них она до рези в желудке боялась даже самой себе.
Но она знала, что где-то в глубине необъятного города, который был домом для добрых двух десятков миллионов человек и стал за без малого тысячу лет своей истории кладбищем еще для двух сотен таких же некогда живых, полных энергии, суетливых миллионов, — тысячи светлокожих младенцев прячутся от дневного света и деловито, словно насосы, едят плоть и кровь своих матерей в ожидании своего часа.
***
Они долго ехали в метро, часто пересаживаясь с ветки на ветку, и Лерочке постоянно приходилось сверяться со схемой метрополитена, похожей на огромного разноцветного паука, который разбросал по всему городу изломанные коленчатые ноги линий. С каждой пересадкой они все сильнее отдалялись от центра; проносящиеся за окнами станции давно потеряли помпезность и былой лоск сталинского ампира и превратились в сугубо утилитарные залы ожидания, облицованные кафелем и дюралем. Поезда делались все более неухоженными, полы в них — все грязнее, сиденья — все жестче, а публика — все более неопрятной, снулой, серой и озлобленной.
Лерочку толкали, словно бы нарочно, и никто давно уже не уступал места молодой матери с ребенком на руках. Она и не просила — стояла, закусив губу, стиснутая со всех сторон опасно молчаливой массой толпы, расставив чуть шире ноги, чтоб не упасть при торможении поезда, потому что руки были заняты малышом, и чуть — чтобы было не так заметно — растопырив локти и сопротивляясь злобному давлению толпы.
Время от времени Лерочка осторожно, чтобы не потерять равновесия, приподнимала уголок одеяла, чтобы убедиться в том, что ребенок еще дышит, хотя каждый раз оставалась в жуткой уверенности, что спертый, напитанный душными запахами тысяч неухоженных тел воздух отвратителен малышу настолько, что он предпочитает обходиться и вовсе без него. От мысли, что ее ребенку воздух может быть попросту не нужен, ей делалось дурно, хотя после всего того, что произошло в ее жизни за последний год, это должно было казаться сущей мелочью — но вот нет, не казалось и пугало до тошнотворных колик в желудке и позорной слабости в ногах и мочевом пузыре.
Где-то совсем уже у конца последней ветки толпа вдруг хлынула из вагона прочь грязно-серым отливом, и остались только Лерочка с малышом да несколько — совсем немного — грязных, неопрятных, дурно пахнущих существ, которые дрыхли на сиденьях, кто забравшись на них с ногами, кто — раскинувшись безвольной куклой и смердя застарелыми выделениями человеческих тел, грязью, болезнью и разложением. Пол их определить было сложно, и различались они в основном по количеству растительности на давно не мытых лицах. Головы погремушками мотались в дреме в такт раскачиванию вагона, и на полосках нечистой бледной кожи между бурыми от грязи и загара лицами и засаленными воротами невообразимых одежд Лерочка здесь и там видела гноящиеся язвы, расположенные странно, словно бы парами — хотя поручиться за это не смогла бы.
На конечной она вышла из вагона, оказавшись в одиночестве на перроне открытой платформы. Поезд втянулся в раззявленный зев депо, унося с собой так и не проснувшихся бродяг, словно не то он, не то они имели на это право. Ветер гнал по бетону пыль и окурки; в воздухе пахло близким дождем. Лерочка спустилась по щербатой лестнице с затянутыми голой арматурой проломами в ступенях, сориентировалась по заржавленным табличкам на окрестных домах и пошла по засаженной чахлыми кленами аллее в глубь массива одинаково безликих панельных пятиэтажек, ища нужный адрес.
***
Дверь была нехорошей; если говорить совсем уж по-честному — стремная была дверь, обитая распластанным ножами облезлым дерматином паскудного коричневого цвета, с вкривь приколоченной оконной ручкой, с десять раз переставленными замками, расщепленная у косяка там, где ее высаживали ногами, причем явно тоже уже не один раз. Лерочка сглотнула вязкую слюну и постучала — нерешительно, раз и два. Замок щелкнул без паузы, сразу, словно ее ждали, стоя сразу за дверью.
Дверь открылась — бесшумно, чего она, готовая к зловещему скрипу несмазанных петель, не ожидала.
Он стоял на пороге, как всегда безупречно одетый, слегка небрежный в прическе, отточенно-скупой в движениях. Теперь, когда их не разделяла больше зеркальная преграда, она чувствовала его запах — от него пахло имбирем, и корицей, и еще немного перцем, и самую малость — вязкой каштановой приторностью только что излитого семени. От этого, последнего оттенка она тут же почувствовала, что вся там, внизу, потекла, и он, разумеется, почувствовал это тоже.
— Здравствуй, — сказала Лерочка. — Я пришла.
— Привет, — сказал он. — Я ждал тебя.
— Нас, — поправила она и протянула ему завернутого в одеяльце сына.
Он принял его без обычной мужской неловкости. Было видно, что ему не привыкать держать в своих больших, но совсем не грубых руках хрупкие детские тельца. Откинув край одеяльца, он мгновение всматривался в расслабленное сном детское личико. Лицо его, бледно-мраморное, как у статуи, в этот момент не выражало ничего, но в следующий миг он улыбнулся, словно осветившись изнутри теплым огнем.
Ребенок распахнул глаза и вперился в лицо отца совершенно взрослым, осознанным взглядом.
Они смотрели друг на друга несколько секунд, и Лерочке казалось, что в эти мгновения воздух между отцом и сыном загустевает от некой нечеловеческой силы, которая наполнила пространство между ними. Что-то неуловимо менялось в облике малыша, и она поняла, что с этого момента все в его судьбе, да и в ее собственной необратимо изменилось — в очередной, возможно, последний раз. Словно услышав ее мысли, два таких похожих мужчины перестали сверлить друг друга взглядами одинаково бесцветных глаз и одновременно посмотрели на нее.
Лерочка утонула в розовой дымке, в невесомой паутине тончайших сосудов вокруг бездонных дыр зрачков, запуталась в их сети, забилась пойманной птицей, трепеща сорвавшимся в галоп сердцем и сходя с ума от мерзкого сладострастного предчувствия чего-то удивительно нехорошего, жуткого, но столь вожделенного, что она застонала в предвкушении этого отвратительного, восхитительного, страшного чуда, чувствуя, что сходит с ума от затопившей всю ее страсти, которая поднималась от разгоряченного похотью лона и било раскаленной иглой в основание мозга, лишая мыслей, воли, самосохранения и такого естественного для всего живого желания быть.
Сознание ее меркло и растворялось в зове, который заглушал все остальные звуки мира, раскалывалось, раздваивалось, и, сливаясь с тысячами таких же гаснущих разумов — спящих, грезящих наяву, парализованных длящимся вечно мгновением вечной неги, — она остатками того, что совсем недавно было частью ее «я», словно бы со стороны, отстраненно и без эмоций, наблюдала за собой настоящей, плотской, мясной, составленной из материнства, похоти и любви, за последними минутами своей жизни в этом уродливом мире — и понимала, что не чувствует уже ничего: ни сожаления, ни сомнений, ни страха.
В реальности Лерочка безвольной куклой замерла на заплеванной лестничной клетке в убогом подъезде безликого дома в одном из тысяч таких же жилых блоков огромного города-паука, раскинувшего ловчую сеть своих эмиссаров до самой большой кольцевой дороги и далеко за ее пределами; быть может даже, по всей необъятной стране до самых ее границ, где его владения соприкасались с вотчиной других таких же столиц-пауков, сплетаясь сетями в единый невод, пленивший целый мир.
По нитям этой заткавшей весь мир паутины стремительно перемещались бесцветные, словно личинки трупоедов, эмиссары-альбиносы, брызгали своим алым звериным семенем и, порождая новую жизнь в чревах отчаявшихся, подобно Лерочке, человеческих женщин, вплетали в зловещий узор все новые и новые тела, замершие в ожидании мига, когда их жизненная сила понадобится одному из господ — или всем им сразу.
Потом следом за тварью, уносившей из мира под солнцем ее сына, Лерочка вошла в квартиру, и обитая дерматином дверь навсегда закрылась за ней, вычеркивая ее имя из списков живущих.
В наступившей тишине стало слышно, как где-то за гранью этого мира плачет голодный ребенок.
Френдзона (Татьяна Леванова)
Щелка между его передними зубами смотрелась особенно провокационно, мой взгляд то и дело соскальзывал на нее. Я даже задумывалась порой, а не намеренно ли он постоянно улыбается, демонстрируя мне эту щелку. Мы не были созданы для романтики и старались избегать ее. По крайней мере, мы об этом договаривались. Либо он нарушал эту договоренность, демонстрируя мне эту щелку, либо я, обращая на нее внимание. Следовало попросить его надеть намордник, какой носили добропорядочные морки в Средние века. Но как это сделать, не выдавая свой интерес?
— Тебя точно что-то напрягает. — Он улыбнулся еще шире, словно издеваясь. Впрочем, это вряд ли, не его стиль.
— Жабрик. — Я никак не могла подобрать нужные слова. Да, напрягает. Нет, не напрягает. Если напрягает, то что. Если не напрягает, то… То почему я лгу. — Жабрик. Жабричек.
— Жабр Водорослевич, и никаких мимимишностей! — строго сказал он, продолжая улыбаться.
— Да что ты лыбишься-то все время?! — не выдержала я.
— Ты чего? — опешил он.
Нет, видимо, не намеренно. Мне сразу стало легче. Значит, дело только во мне. Это я вижу провокации и флирт там, где их нет. Стыдоба, но с собой я точно справлюсь.
— Когда кто-то напряжен, не улыбайся, это раздражает, — выкрутилась я, стараясь не смотреть ему в глаза. — Мы почти пришли, просто помолчи пока, я постараюсь взять себя в руки.
— Плюша, просто не обращай ни на кого внимания. — Жабр остановился и взял меня за руку. — Это наша жизнь, и никого не касается, что мы делаем вдвоем. В крайнем случае, если будут особенно доставать, начни задавать им интимные вопросы, дескать, откровенность за откровенность. Они к тебе в постель со своим любопытством, а ты в ответ поинтересуйся цветом и консистенцией их фекалий, например…
— Фу, Жабрик, ты в своем репертуаре, — возмутилась я и, чтобы прекратить этот разговор, поторопилась ко входу. Конечно же, там стоял Планктон, моя вечная головная боль и ночной кошмар, бывший лучший друг Жабрика. Впрочем, это я выдаю желаемое за действительное. Они-то общаются, как бы я ни была против. Не так часто, как до меня, но все же общаются.
— Плес, Жабр, — светски кивнул он, выпуская изо рта пахучие желтые пузыри. — Добрый день. Проходите скорее, уже все началось.
— Плюша, иди, я тоже попузырюсь тут. — Жабр по-прежнему немного стеснялся этой своей привычки, но я считала себя не вправе ругать его за нее, как это делают самочки, заботящиеся о здоровом потомстве. Пусть его ругает та самочка, что отложит в него икру, а мне все равно. Я оставила самцов одних и вошла в ильник.
Моего появления никто не заметил. Крабча танцевала на стойке, хмельная от пузырения, вокруг нее сгрудились одинокие самцы, капая слизью от восторга, бармен предусмотрительно сгребал водоросли вокруг, то ли в надежде, что Крабча упадет, то ли в борьбе за чистоту, опасаясь слизи. Те немногие, которых не привлекала Крабча, — в основном парочки и асексуалы — нежились в илистых ваннах по всему залу, с наслаждением попивая напитки и пуская деликатные пузыри без серного запаха, в отличие от тех, что любит Планктон. Мне тоже хотелось пить, но бармен и его стойка были слишком заняты, а забираться в ванну одной казалось неловко. Но не торчать же посреди зала, как потерянная! Я потихоньку побрела к левому краю стойки в надежде постоять там, пока Крабчу не утащит какой-нибудь очередной ее кавалер и можно будет наконец сделать заказ. Но Крабча заметила меня с высоты и скользнула в мою сторону, отпихивая самцов.
— Наконец-то потусуемся как самочка с самочкой, выпьем, повеселимся! — радостно зажурчала она, плюхнувшись со стойки и обхватив меня лапами. — Все подружки парами, как старперы, булькают в своей тине, я совсем одна.
Самцы заворчали, но начали расходиться, слава Колозубому богу, обошлось без драки. Я подождала, пока они отойдут на безопасное расстояние (а еще пока бармен наконец налил мне воды с сине-зелеными водорослями), и только тогда решилась признаться:
— Я вообще-то с Жабром, просто он застрял на входе с Планктоном.
— Это надолго! — рассмеялась Крабча и влила в себя не меньше литра воды с высоким содержанием магния и желжела — желчи желтоглазки, отчего бородавки на ее коже стали совершенно изумрудными. Как-то она заставила и меня попробовать. Цвет красивый, только меня потом мотало по всему залу, и уснуть не могла трое суток.
— Ну давай выпьем! Что ты тянешь свою диетическую, — не унималась Крабча.
— Нет уж, это не для меня.
— Желжел не для тебя, романтика не для тебя, материнство не для тебя, а что для тебя? — захихикала Крабча. — Старческий уксус и морская пена? Нет, серьезно, когда ты стала такой занудой? В школе же ты была горяча, как сероводородный поток!
— Поумнела, наверное, — съязвила я. — Серьезно, что в этом хорошего? Одурманиваешь себя, лежишь месяцами в тине, производя икру тоннами, сносишь головы самцам — разве это жизнь?
— Это же весело! И потом — это нормальная моркая жизнь!
— Весело с больной головой производить икру? Ты могла бы путешествовать по всем морям, лопать водоросли на востоке и на западе, слушать песни дельфинов на юге, разговаривать с друзьями обо всем на свете…
— Да мы и так разговариваем.
— Ты разговариваешь только со мной, в полном зале знакомых. Да и то пока Жабр задержался.
— А ты зато не спариваешься ни с кем, даже с Жабром, при всей своей богатой и насыщенной жизни ты просто пузырь розового газа! — Бородавки на ее коже еще сильнее потемнели и набухли. Я представила, что они сейчас лопнут, и меня замутило. Надо было выйти на воздух.
— Плюша, стой. Подожди, прости меня. — Крабча догнала меня и снова обхватила своими лапами. — Я искренне беспокоюсь за тебя, но я не должна была так говорить. Я просто много выпила, еще до твоего прихода, а еще попузырилась слегка… Ну подумаешь, не везет тебе с самцами, зато ты вон путешествуешь, общаешься, столько повидала. Может, станешь клевой училкой моим малькам.
Я бы не отреагировала, но бармен, увидев, что у нас ссора, подогнал к нам пузырь зеленого газа «за счет заведения», и, пока Крабча меня держала, утешая, я невольно успела вдохнуть. От зеленого газа меня несло быстро, но, к счастью, недолго.
— Не везет с самцами? — возмутилась я, слегка опьянев. — Покажи пальцем на любого, я его сделаю.
— Переспишь? — не поверила Крабча.
— Я не настолько пьяна, чтобы изменить своим принципам! — Мой заплетающийся язык опровергал то, что я говорила. — Но ты хотя бы убедишься, что любой свободный самец захочет от меня икры!
— Зачем тебе это надо? — поддразнивала меня Крабча, а сама уже озиралась по сторонам, выискивая жертву.
— Чтобы доказать тебе, что моя свобода — это мой выбор! Я тебе не убогая асексуалша, но и не жабоматка! — Для храбрости я вдохнула еще немного зеленого газа.
— Ах, жабоматка! — прищурилась Крабча. — Тогда Планктоша!
И она указала своим длинным пальцем на вошедших в ильник Планктона и Жабрика.
Я тут же потеряла дар речи. Планктон ненавидел меня больше всего на свете, но был слишком хорошо воспитан, чтобы хамить мне при Жабре, поэтому разговаривал со мной только официальным, безупречно вежливым тоном. Чтобы пошутить с ним или пофлиртовать — лучше скормите меня Колозубому богу. Разумеется, Крабча об этом знала. Об этом знали все.
— Прости, это тебе за жабоматку, — виновато улыбнулась Крабча. — Ну и еще я просто хочу, чтобы вы не были врагами, честно-честно! Может, если ты пофлиртуешь с ним немного, он оттает. А Жабру я потом сама все объясню, бармен будет свидетелем. И вот еще возьми за мой счет, без желжела ты и рта с ним не откроешь.
— Да, зеленый газ один не справится с такой задачей, — подтвердил бармен, подавая мне воды с желжелом. Я молча выпила.
Зал качнулся перед моими глазами. Крабча и бармен поддержали меня под локотки. Яд медленно струился по моему организму. С трудом ставя ноги прямо, я медленно пошла к Планктону, чувствуя, как бородавки на моей коже набухают и наливаются зеленью. Планктон и Жабрик смотрели на меня чуть ли не с ужасом.
— Плюша, ты же не пьешь, давай выведу на воздух, — прошептал Жабрик, но я оттолкнула его руку, делая шаг к Планктону.
— Плес, тебе нехорошо? — вежливо округлил глаза Планктон.
— Мне хорошо, — ответила я. — Очень хорошо. Теперь, когда ты рядом.
И я улыбнулась, но не сильно, а только чуть разомкнув губы, демонстрируя щелку между зубами. Он уставился на нее как завороженный, но потом, сделав над собой усилие, все же отвел взгляд.
— Жабрик, как ты думаешь, она нас не перепутала? — усмехнулся он. Я промолчала, только протянула к нему руку, пробежав пальцами по его ребрам. Планктон заметно вздрогнул, но отступил на шаг.
— Вряд ли, — раздался голос Жабра. — Ты же лучше всех знаешь, что мы с Плес просто друзья.
Я повернулась и увидела, что он уходит. Мне стало еще труднее дышать, пол закачался под моими и так нетвердо стоящими ногами. Крабча помчалась за Жабром, так быстро, насколько это позволяла ее раздавшаяся от постоянного материнства туша, Планктон же подхватил меня за талию.
— Пусть идут, нам все равно давно пора поговорить по душам, — сказал он мне на ухо, ни на секунду не изменив своему вежливому тону. Он увел меня к одной из самых отдаленных от прохода ванн и очень аккуратно усадил. Затем плюхнулся рядом, обвел руку вокруг моей шеи.
— Хватит, мне это не нужно. — Во всем моем флирте больше не было смысла. Планктон поддался, это очевидно, но Крабча ушла, и Жабр за ней, и сидеть в ванне тоже не особо хотелось.
— Я знаю, что тебе это не нужно, — согласился Планктон. — И, зная Крабчу, я понимаю, что вы просто затеяли тут цирк. Но нам действительно давно пора поговорить. О Жабре.
Я начала трезветь. Рука Планктона на моей шее мало напоминала объятие, скорее, это была угроза.
— Я знаю его с детства. Знал его семью. Разумеется, я не был знаком с его отцом, но мать Жабра говорила, что из всего помета он больше всех напоминает его, значит, он главный продолжатель своего рода. Все его братья давно стали отцами, один Жабр ходит за тобой хвостиком и слушает твой бред про южные песни дельфинов.
— Он взрослый, он сам выбрал такую жизнь.
— Нет, это ты выбрала за него.
— Замедузил уже, тебе что, трудно понять, что все морки разные? Кому-то нравится плюхаться в тине и производить потомство, кому-то интереснее путешествовать и общаться.
— Пожалуйста, я не собираюсь с тобой спорить. Ты веришь в то, что говоришь, это твоя жизнь, и я в нее не лезу. Колозубый бог с тобой, мне все равно. Умри бездетной, твоя воля. Но Жабра я знаю дольше, чем ты, я сужу о нем объективнее. Он хочет тебя, хочет принять твою икру, ни о чем другом и думать больше не может, поэтому и таскается за тобой по твоим любимым морям.
— Да какой смысл ему врать в таких вещах?!
— Он зациклился на тебе, вот и все. Принял твой образ жизни, твой образ мыслей, а сам чахнет. Он не уйдет. Я прошу тебя ради него — отпусти его. Дай ему стать отцом. Ты живешь полной жизнью, а он живет чужой жизнью. Не своей. Он не счастлив.
Я молчала. Я хотела крикнуть, что это все не правда, но про себя знала — так и есть. Жабр не счастлив. И мое счастье, если подумать, не совсем мое.
— Я знаю, что ты любишь его. Я так долго наблюдаю за вами. Да, я ненавидел тебя за то, что ты навязала ему свою жизнь. Но я знаю, что ты его действительно любишь и отпустишь его.
— Ты что, перепузырился? Зачем ты повторяешь одно и то же? — Планктон начал действовать мне на нервы. — Я услышала тебя, мне надо подумать. В конце концов, даже если я его отпущу, он может не согласиться уходить. Может, ты его заставишь? Найдешь ему покорную самочку, помешанную на размножении? Он оплодотворит ее, она распорет ему кожу, сожрет его сердце, отложит внутрь его икру… И мы с тобой лишимся нашего лучшего друга?
— Разве не это предел мечтаний каждого мужчины — стать отцом? Умереть счастливым, полным икры своей любимой. Разве не ради этого мы живем? Умереть счастливым — или жить несчастным, что бы ты выбрала на его месте?
— Ну ладно, я его прогоню…
— Умница…
— …я хотела сказать, допустим, я его прогоню. Но как ты найдешь ему самочку, если, по твоим словам, он зациклился на мне и никого больше не хочет? — В моих глазах стояли слезы, жгучие, словно уксус, я набрала полные ладони тины и прижала к векам, чтобы скрыть это.
— Уже нашел, — еле слышно сказал Планктон и улыбнулся, дерзко демонстрируя щелку между зубов, но я и не взглянула на нее.
— В смысле? Кого?
— А что это твоя подружка не возвращается? — Он потянулся и осмотрелся по сторонам. — Здесь без нее скучновато.
— Она побежала за Жабриком, все объяснит и вернет его, — начала было я и вдруг поняла.
— Ты попросил ее?!
— Она опытная мать, — усмехнулся Планктон. — Самая желанная самка в наших краях. Он не устоит перед ней.
Я не видела больше зала, не видела Планктона. Перед моими глазами стояла Крабча, вгрызающаяся во внутренности моего Жабрика. Он дрожал в агонии, и кровь текла по его ребрам… Крабча наполняла его икрой, как кошелек жемчугом. Остатки хмеля слетели с меня, одним прыжком я выскочила из ванны и понеслась к выходу, только клочья тины летели в разные стороны.
Выскочив из ильника, я замерла на берегу. Солнце уже опустилось к горизонту, кое-где светились крошечные звезды. Кругом было пусто. Только вдоль воды шла широкая полоса. Не давая себе даже задуматься, я побежала по ней. Жгучие слезы падали в песок, я не могла и не хотела их остановить. Поэтому я не сразу заметила, что кто-то идет мне навстречу.
— Плюша! — встречный обнял меня и прижал голову к моему плечу. Жабр, живой. От плача и бега я с трудом переводила дыхание, не могла сказать ни слова, только дрожала, как в лихорадке, сжимая его изо всех сил.
— Я отказал ей, не бойся. Она уже нашла другого. Пойдем домой.
— Стой. — Я без сил опустилась на песок, продолжая сжимать Жабра изо всех сил. Ему пришлось сесть вместе со мной.
— Тебе плохо? Ты что, уже оплодотворена? — забеспокоился он. — Где Планктон? То есть то, что от него осталось.
— Да не нужен мне твой Планктон, — зарыдала я во весь голос, вновь обретя возможность говорить, — это Крабча меня подговорила пофлиртовать с ним!
— Как Крабча могла уговорить тебя пойти на такое? Это же не для тебя? — Дразнящая щелка между зубами снова притягивала мой взгляд, на этот раз Жабрик улыбался немного иронично.
— Планктон и Крабча сговорились, чтобы сделать тебя счастливым. — Я начала успокаиваться, отпустила Жабра и посмотрела на море, чтобы не отвлекаться. — Скажи, ты же несчастен со мной.
— Глупости.
— Ты же с детства мечтал стать отцом. Ну правда же? Планктон тебя знает дольше и лучше меня. А я просто лишаю тебя твоей мечты. Глупая, эгоистичная Плюша.
Жабр молчал, только гладил меня по голове, и это окончательно меня убедило в том, что Планктон говорил правду. Я чувствовала себя ужасно.
— Любой мальчик мечтает стать отцом. Встретить самочку, отдать ей свое сердце, отдать тело своему потомству. Это нормально. Это физиология.
Я молчала, только плакала и молилась про себя Колозубому богу, чтобы Жабр продолжал гладить меня, не отпуская, чтобы солнце не уходило в море, чтобы эта минута никогда не кончалась. Потому что, когда она кончится, мы расстанемся. Я отпущу его. Пусть умрет счастливым, вместо того чтобы жить несчастным.
— Но, кроме физиологии, есть еще разум и душа. Есть чувства. Есть выбор. Я не хочу быть ни с какой другой самочкой, кроме тебя. Мы навсегда вместе. Никто другой не съест мое сердце. Никогда. Ничью другую икру я не приму в свою шкурку. Мне нужна только ты.
— Ты сам себе противоречишь.
— Нет. Пойми ты, глупая. Хочешь плавать по морям — я буду плавать с тобой. Есть восточные водоросли, слушать южных дельфинов, знакомиться с морками со всех концов света. Я хочу того же, чего хочешь ты. И если ты не хочешь стать матерью…
— Я хочу! — перебила я его. Ярость придала мне сил, слезы высохли. Я вырвалась из его рук, вскочила на ноги. — Я нормальная. У меня такая же физиология, и я до смерти хочу всунуть язык в твою щелку между зубами, облизать остатки планктона и рачков с твоего нёба, а потом спариться с тобой и наметать гору икры, и чтобы мальчики все были как ты, с твоими костлявыми ребрами и круглыми глазами, ты, тупица! Я больше всего на свете этого хочу, а не жрать водоросли, идиот!
Он замер и больше не улыбался.
— Но я не могу! Пойми ты, не могу! Как только ты оплодотворишь меня, физиология и инстинкты возьмут верх, я сожру твое сердце, и ты умрешь! Понимаешь, ты умрешь! Тебя больше не будет никогда, нигде!
— Но это же у всех так… Так и наши же родители…
— А я не хочу так! Как я буду — без тебя?! Ходить по этому берегу, в этот гнилой ильник, видеть те же морды — и без тебя! И ты не возьмешь меня за руку, ничего никогда мне не скажешь, я тебя больше не увижу — я не хочу! Я не буду! Не должна, не хочу и не стану!
Он по-прежнему сидел на коленях, глядя на меня, спокойный, в то время как я бесновалась и брызгала пеной.
— Легко вам, самцам, оплодотворил — и никаких проблем! Помер себе и все тут! А как нам, самкам, жить без вас? Выращивать детей, потом искать нового, снова любить, снова терять… Ну что ты смотришь на меня, жабья ты морда?! Хочешь стать папочкой?! Иди! Крабча уже занята — так найди Тину, Ракушку, Кильчу, кого хочешь, пусть кто угодно сожрет твое сердце, а я не буду!
Он встал, подошел ко мне, обнял меня, злую, бешеную, брыкающуюся, собрал всю, как маленькую — я и не думала раньше, что у него такие огромные руки, — и тихонечко прикоснулся кончиком своего языка к моей щелке между зубами. Я тут же сомкнула губы и принялась мотать головой.
— Не бойся, я все понял. Ничего не изменилось. У нас не будет икры, пусть так. Но целоваться нам можно. И флиртовать. Только нам с тобой это и можно, наверное, потому что только мы с тобой во всем мире всегда будем вместе. И я буду целовать тебя под песни южных дельфинов и собирать остатки восточных водорослей с твоего нёба, а еще мы поплывем туда, где льды и черное небо, только ты больше ничего не бойся. Я буду рядом. Всегда.
Солнце скрылось под водой, но я была только рада этому. Мысленно я всем сердцем молилась Колозубому богу о том, что та минута, которую я просила продлить навсегда, закончилась. И в свете луны до чего притягательна эта дразнящая щелка между его зубами. Какое же счастье, что все закончилось. Какое счастье, что все только начинается.
Лайошевы пчелы (К.А.Терина)
Случилось это в Ванахейме, в горном селе Медвен. Не то чтобы давно, но и не вчера. Еще до обеих Мёренских войн, если хочешь точнее.
Один шептун (звали его, допустим, Лайош, хотя для истории это не важно) не любил людей. Не было в нем и ненависти, в какой подозревает всех шептунов обыватель. Вреда Лайош никому не желал. Но и родства с человеческими особями не чувствовал. Пацаном не участвовал в детских забавах, всем развлечениям предпочитал одиночество — сбегал в горы при первой возможности. Отец поначалу ходил следом, но быстро понял, что возвращать Лайоша домой — дело бессмысленное и вредное. В горах ему лучше. Мать тоже смирилась.
Говорят, дикая лозинка, что так любит схватить за ногу беспечного путника, никогда не трогала Лайоша. И еловые ветви не хлестали его, если только сам он того не хотел. Птицы замолкали на его пути или начинали петь — по одному его жесту. А горные кошки приходили греть его, если ночь была холодна.
Сыном, впрочем, Лайош был почтительным. Пока родители были живы, исправно появлялся в Медвене — угрюмый заросший детина, но притом незлой.
Мать усаживала Лайоша на крыльцо и подолгу вычесывала из его волос сорную траву, ветки, засохшие цветы и во множестве — мертвых пчел. Живые пчелы тоже вечно вились вокруг Лайоша. Он их не гнал, да и родители со временем привыкли.
Один за другим родители Лайоша сошли в могилу. Он схоронил их и в селе стал появляться куда реже. Дом забросил, за могилами не смотрел. Односельчане поначалу осуждали его — но исключительно за глаза: своим грозным видом Лайош внушал уважение и трепет. С тех пор как умерла мать, некому было следить за его бородой и гривой, так что вскоре стал Лайош похож на древесного великана (роста в нем было почти четыре альна). Разве что птицы не вили гнезд на его голове — и то не поручусь. А пчел с каждым днем становилось все больше. И пчелы эти были куда страшнее самого Лайоша. Всегда начеку. Махнешь неосторожно рукой, и тотчас они рядом: куда смотришь, что задумал? Но не было случая, чтобы обидели кого без причины.
Лайош появлялся в деревне всякий раз, когда ему требовалось вещи, которые самостоятельно добыть и изготовить он не умел. Бочки для меда, сталь, изредка — одежда. Иногда тосковал по баннице, какой кормила его в детстве мать. Был он необщителен, но честен и щедр. Медвенцы привыкли: Лайош берет без спроса, но непременно платит за взятое хорошую цену. Платил резными деревянными игрушками и медом. Игрушки были странные: глумление над природными образами, извращенные помеси видов. Заяц с телом змеи; собака с рыбьей головою и рачьим хвостом; птица-травник на паучьих лапках. Никогда Лайош не повторялся, а каждая новая его игрушка, кажется, была еще безобразнее, еще противоестественнее, чем прежние. Притом сделаны вещицы были искусно, и, если бы не отвращение, любоваться такой работой можно бесконечно. Дети, глядя на эти игрушки, плакали. А взрослые остерегались прикасаться лишний раз, чувствуя в безделицах душу. Такой плате медвинцы не слишком радовались, но принимали ее: в Олмуце причудливые поделки можно было выгодно продать. Шел слух, будто, положенные под подушку, своим противоприродным безобразием отпугивают они ночные кошмары.
Другое дело — мед. Мед у Лайоша был дивный. За ароматом Лайошева меда можно было уйти на край света, забросив все домашние дела, забыв мать, отца, жену и детей. От запаха его умолкали споры, а от вкуса — горьковато-сладкого, нежного — у иных случались волшебные видения: чужие края, в которых по некоторым приметам можно было узнать Мидгард или даже Трою; пейзажи, каких не видывал человек, — земли ледяные и огненные, а порой — темная бездна. Возможно, то был сам Гиннунгагап. Другим казалось, что различают они речи птиц. Третьи уверяли, что старые, еще бабушкины вещи открывают вдруг тайны предков. Как будто мед ненадолго делал каждого шептуном.
Говорили, что у Лайоша две души. Одну душу, черную, вкладывал он в свои игрушки, оттого и получались они такими уродливыми. Другую, светлую, — добавлял в мед. И вместе с нею — частицы своих шептунских снов.
Мед славился на всю округу. На ярмарке в Олмуце он пользовался успехом еще бо́льшим, чем Лайошевы деревянные уродцы. По сей день вспоминают этот мед, хоть прошло без малого сорок лет, как съедена последняя его капля. Даже поговорка есть: хорош, как медвенский мед. Слыхал, может?
В урочище Лайоша, добраться было непросто, но возможно. И все же медвенские туда не ходили. Ты спросишь: почему? Все спрашивают. Городскому человеку сложно понять устройство души горца. Известно ведь, что в маленьких селениях тайн нет, горные люди любопытны и склонны сунуть нос в каждое мало-мальски интересное дело соседа. А Лайоша, вишь, не трогали. Дело в том, что медвенские не считали Лайоша простым соседом, ровней себе. Осуждение давно уступило место тихому уважению. Так уважают медведя или горного духа, который не причинит человеку вреда, если не нарушать нехитрых правил.
Случалось, кто-то из пастухов забредал к самым границам Лайошевых земель. Границы эти были обозначены камнями вроде путевых, что ты, наверное, сотнями перевидал во всех сторонах. Но Лайош рун не знал, да и вообще грамоте обучен не был, потому на камнях высечены были не гальдраставы, а грубые подобия пчел — в несколько ромбов. Никакой силы эти знаки не имели, но предупреждали: дальше ходу нет. Завидев такой знак, всякий обходил Лайошево урочище стороной.
У одного пастушонка, совсем еще мальчишки, как-то ночью отбился от стада ягненок, который отчего-то этому пастушонку был особенно дорог — может, дело было в его, ягненка, диковинном черном окрасе. Мальчишка оставил стадо под присмотром верного пса, а сам отправился на поиски. Ягненка он так и не нашел, о ягненке он и вовсе забыл, когда понял, что забрел во владения Лайоша. Вернулся пастушок в Медвен — глаза-блюдца, волосы дыбом. Один, без стада. Был крепко бит хозяином, но историю его о чудном Лайошевом житье слушали все, даже кмет.
В Лайошевом урочище, рассказывал мальчик, повсюду развешены колокольцы, вплетенные в чудные поделки из веток, стеблей и кожаных обрезков. Колокольцы эти должны бы звонить от малейшего дуновения ветра, но звонят они вопреки всему, звонят прихотливо, точно подчиняясь воле невидимого музыканта. Один умолкнет, другой подхватит, а иные вступают вместе, да разноголосо. Ведут тебя, манят звуком. А потом затихают сонно, и кажется, что остался ты один, совсем один. Ни единого шороха на альны и альны вокруг. И вот по звуку этих колокольцев, как по нити, брел мальчик по незнакомым землям, дивясь красоте их и необузданности. Олмуцкие горы красивы без всяких шептунов, это подтвердят тебе обе мои ноги, левая и правая, погребенные камнепадом на одном из перевалов. Но места, куда попал пастушок, были красивы красотой дикой, жестокой. Красота эта била наотмашь незваного гостя. А он клонился, корчился, рычал от боли — и шел дальше вопреки всему. Вопреки своей воле, которая требовала повернуть, уйти из этого гиблого места.
Так он шел — по тропкам и чащобе, мимо пещеры, где, по всему, обретался Лайош, мимо ульев, пустых и тихих, — пока не добрался до края луга, устланного травой и мхом — богаче бесценного мёренского ковра. Там он остановился. Умолкли колокольцы, и сейчас смог бы он повернуться и бежать прочь, но действо, увиденное на лугу, заворожило его.
Был там Лайош. И были там пчелы. Огромный рой. Рой этот подчинялся той же силе, что и колокольцы на деревьях, и сам мальчик-пастушок. Силе Лайоша.
Лайош шептал. Неслышно, беззвучно, едва разлепляя губы. И все же мальчик не сомневался: слова Лайоша ласковы и нежны. Лайош шептал, а пчелы слушали его. Рой кружил рядом, то окутывая Лайоша волнами, то отдаляясь и складываясь в причудливые силуэты — напоминавшие те самые деревянные безделушки, что резал из дерева Лайош. Только фигуры эти были огромными — в половину неба. Так рассказывал мальчик.
А потом — пастушок клялся в этом и землю готов был есть — пчелы изобразили девичью фигуру, и Лайош с этой фигурой принялся танцевать по всему лугу, точно была она настоящей девицей. Что было дальше, пастушок тоже рассказал, но я это непотребство повторять не стану, сам догадаешься.
Пастушок всё смотрел, не веря глазам, желая отвернуться и не отворачиваться никогда, закрыть глаза и не закрывать глаз, с ужасом и сладостью смотрел, и вкус Лайошева меда вспоминался ему очень явственно.
Так и смотрел бы, не смея двинуться, так и остался бы там, окаменел, врос в мох, белел бы костями через века, а всё смотрел бы. Но почувствовал ответный взгляд.
Не взгляд Лайоша — тот, кажется, был не в себе, купался в бессознательной неге, которая известна всякому, кто стал мужчиной.
Взгляд пчел. Всего роя. Как единого существа. Темный, чуждый, пронизывающий насквозь. Весь рой сделался этим взглядом, и мальчику показалось, что сейчас сложится он в новую фигуру — в огромный глаз, не пчелиный, но и не человеческий.
Тогда только пастушонок развернулся и побежал прочь что было сил.
История эта никак не сказалась на отношении медвенских к Лайошу. Подобные сюжеты, разве что без столь чувственных подробностей, они и воображали себе, думая о Лайоше как о горном духе. Лайош же вел себя так, словно ничего особенного не случилось.
Только мальчишка-пастух больше не мог ходить в горы. Не Лайош его пугал — пчелы. Их взгляд. Не прошло и года, как мальчишка сбежал в Олмуц, прибился там к лихим людям, и дальше жизнь его была весьма интересна и трудна, потому что, сам понимаешь, впереди были первая, а потом и вторая Мёренские.
Но эта история не о мальчишке-пастухе.
Еще раньше приключения пастушка сделались анекдотом, который вместе с медвенским медом растекся по округе и добрался до самого Олмуца. Городские, в отличие от горцев, подобным сказкам не верят, городские верят собственным глазам, а шептуны, к которым они привыкли, ведут себя как самые обыкновенные люди и в противоестественную связь с пчелами не вступают. Анекдот считался остроумной выдумкой, призванной увеличить и без того небесную популярность медвенского меда.
Только один человек заинтересовался истоками анекдота. Человек этот был цирковым антрепренером; всевозможные диковинки были его хлебом с маслом, всю жизнь он искал таланты, чтобы заковать их в цепи контрактов и заставить выворачивать душу на потеху публике во всех уголках, куда добираются венедские цирковые караваны. Его собственным талантом был нюх на чудесное. И Лайоша с его пчелами он почуял очень ясно. Медвенские отказались вести чужака в Лайошево урочище, но тот был человеком упорным и пошел без проводника. Вернулся через неделю, искусанный, опухший и едва живой. Грозился натравить тамошних лагов на всю деревню, но угроз не выполнил. Рассказывают, что всю жизнь потом до онемения боялся он пчел и всюду они ему виделись. Еще рассказывают, что дело было не в богатом воображении циркача, а что действительно всегда рядом с ним кружила хотя бы одна пчела. И смотрела.
Но эта история не о жадном антрепренере.
А Лайош однажды влюбился. Это как будто не вяжется с описанием его натуры — угрюмой и одинокой. Но факт остается фактом. Возможно, чувство, которое он испытывал, не имело тех возвышенных оттенков, какими у нас принято украшать описание любви. Возможно, Лайош просто захотел. Так говорили злые языки, и этому соответствует способ, который он выбрал, чтобы получить искомое. Сватовство у горцев сопряжено со множеством ритуалов, за соблюдением которых зорко следят старики. Лайош с этими ритуалами, конечно, знаком не был. Да и свататься он не стал. Просто однажды кмет обнаружил пропажу дочери, Радки. Взамен нее во дворе кметова дома оставлены были пять бочонков меда — целое состояние. А в Радкиной комнате нашлось множество чудищ, улиток с кошачьими мордами, кузнечиков-лошадей и прочих уродливых резных безделиц.
Пока мать билась в истерике, а товарки ее успокаивали, не забывая шепотом вновь пересказывать друг другу историю, некогда поведанную пастушком, кмет собрал мужиков, чтобы идти в горы. Взяли с собою дары — всё, что ценил Лайош: лучшие ножи, льняные рубахи с вышивкой, банницу, которую спешно испекла одна из старух. А также несколько пар сапог и опанки, которые Лайош сроду не носил. И даже два бочонка анисовой мастики из личных запасов кмета. Кмет достал из сундука старую свою проржавевшую саблю.
К вечеру добрались до Лайошева урочища. Лайош, будто зная, что явятся гости, встречал их у пограничного камня, одетый в чистую рубаху, волосы причесаны, борода заплетена в косы. Пчел его, вопреки обыкновению, рядом не было. Лайош без них показался вдруг беззащитным и маленьким — несмотря на те же четыре альна роста. Рука кмета сама собою легла на черен сабли.
Стояли у камня, смотрели друг на друга. Молчали. Лайош — тот всегда молчал, а кмет и сказал бы, да не находил слов. Мужики за его спиною были непривычно тихи, не сыпали прибаутками, не кряхтели и не дышали. Замерло всё — даже воздух. Залети сюда шальная искра — вспыхнет черным пламенем.
И тут появилась Радка. Роста она была маленького — вертлявая вздорная девчонка. Появилась — и разбила молчание болтовней своей неуемной, хохотом своим, движениями — щедрыми. Каялась, что ушла без спроса, всплескивала руками — как там мать, отца обнимала, ладони ему целовала и всё рассказывала, рассказывала. Нет ей счастья без Лайоша, и такой он хороший, и мужем будет славным, а там и детки пойдут.
Возвращаться домой отказалась наотрез.
Придирчиво изучила отцовы дары, анисовую решительно вернула, остальное взяла.
Попрощались тепло.
Кмет, смирившись с потерей дочки (было у него их еще две на выданье) и успокоив жену, мысленно подсчитывал прибыль. Зять-медовар — это не случайные подношения от горного духа, к каким привыкли медвенские. Это можно наладить целое производство.
А на третье утро в Медвен пришел Лайош.
Утро было ясное, но с Лайошем вместе с гор спустился туман. Окутывал плащом его могучие плечи и стелился дальше по земле, выбрасывая щупальца во все стороны. Лайош был грязен и клонился к земле. Не от груза, который нес на руках, — Радка и при жизни была крохотная, а в смерти потеряла, кажется, половину; клонился от груза на душе.
Он положил ее на землю — нежно положил, точно спит она, а не мертва. Радку не узнать было — черная, опухшая. После разбирались, приезжал пристав из Олмуца, привез с собой прозектора — занудного аккуратиста. Тот насчитал на теле Радки тысячу триста семнадцать укусов. Пчелы. Так он сказал. И еще добавил какие-то мудреные слова, но их уже никто не слушал. Пчелы, шумел Медвен. Пчелы.
Но в тот миг, когда Лайош положил Радкино тело у колодца, никто не думал про пчел. О них и вовсе не вспомнили — не было их. До поры.
Лайош отошел на несколько шагов. Встал на колени, опустил голову и молча ждал.
Говорят, первый камень бросила жена кмета. Говорят, бросали все медвенцы — от ребенка до древней старухи. Это неправда. Камней не бросал никто.
Кметова жена лежала рядом с мертвой дочкой, обняв ее и шепча ей на ухо колыбельную. Долго лежала, не отпускала, четверо мужчин едва оттащили ее. Остальные медвенцы стояли без движения, не способные еще ни осознать, ни понять произошедшего. Люди стояли и смотрели, даже кмет стоял — босой, без штанов, в одной только ночной рубахе. Они стояли, а Лайош ждал. И сказал бы им, чего ждет, только давно разучился говорить.
Камни полетели сами. Вырванные нечеловеческой волей из-под ног медвенцев, летели метко, били Лайоша в грудь, в спину, в висок. А он всё не падал, Лайош. Не падал, пока не закончились камни, пока не закончился он сам.
Когда прекратился свист и грохот и улеглась пыль, не осталось ничего от великана, каким при жизни был Лайош. Ни единой косточки. Но, говорят, все камни в Медвене с тех пор красные.
И вот тогда появились пчелы. Рой. Грозная бесформенная туча закрыла собою небо, и наступила тьма.
Никто не побежал. Стояли как один, завороженно следили за хаотическим мерцанием роя.
Ждали смерти. Не дождались.
Налетел порыв ветра — могучий, холодный, как дыхание Нидхёгга, — и пчелы исчезли.
Когда поднялись в Лайошево урочище — с приставом и солдатами, — не нашли там ничего особенного. Горы и горы, лес и лес. Колокольцы в ветках деревьев послушно подпевают ветру. Только на лугу у Лайошевой пещеры обнаружились ошметки ульев, что выглядели так, будто взорвала их изнутри миниатюрная рунная бомба (таких бомб тогда еще не было, двадцать лет до второй Мёренской, но это же просто сравнение, верно?). Пристав, знающий уже всю историю со слов медвенских, долго изучал щепки, осколки и трупики пчел, что в изобилии усеяли пасеку; ходил, вымерял что-то шагами, бормотал себе под нос.
Пчелы, сообщил он, были заперты в ульях, но рвались на волю так крепко, что сами эти ульи и разнесли изнутри. Вот ведь как бывает. Так сказал пристав, но в отчет писать этого не стал.
Говорят, пчелиный рой по сей день можно встретить в Олмуцких горах. Носится он, не зная покоя, принимая диковинные формы — то глаз в пустоте неба, то лягушка с совиными крыльями, но чаще — девица, что кружит и кружит в танце с невидимым кавалером.
Еще говорят, со смертью Лайоша умерли и его резные безделицы. Не рассыпались золой, как случается в сказках о шептунских богатствах. Не исчезли. Не изменились внешне. Но все, кого прежде берегли они от кошмаров, спят с тех пор с открытыми глазами — до того страшны их сны.
Перфорация (Ольга Толстова)
Незримые машины, мерно гудя, срывали берег, Бескрайнее море подступало ближе ко Второму городу, дышало за стеной, будто живое, обнимающее мир создание. Маяки островов Ожерелья шарили лучами по лоснящейся темно-синей коже волн.
По ту сторону западного мыса, укрытый матовой тьмой солпанелей и плетеным шатром проводов, вечно погруженный в шорох черной соли, протыкал небо башнями Третий город.
Первый город, плоский как блин, полный людей с загрубевшими ладонями и усталыми спинами, рожающий хлеб и мясо, тихо спал на юго-западе.
Нигде не было никого, кто мог бы спасти меня. Сколько я ни меняла форму слухового хрусталя, не слышалось ни отзвука, ни шепота, ни даже последнего «прости».
—
Я вычислила ее сразу. Караван приближался: дровиши топали ужасно, сотрясая мощными копытами землю, дребезжали платформы, кричали, болтали, кряхтели люди, а мой взгляд метался в поисках того, что заставляло слуховой хрусталь пищать. Тонкая тревожная нота, сигнал приближения сородича.
Вычислила, но увидеть не смогла. Она была в одном из контейнеров, сундуков, баулов, сумок. Где-то там, дремлющая, тихая и пока что одинокая. Но она тоже меня слышала. Я в этом не сомневалась.
Я пряталась в тени мусорного переулка, за баком, источающим все отвратительные запахи разом. Щелкал анализатор, определяя, из чего состоит вонь, и вновь заставляя меня радоваться, что я не человек. Знаю, чем тут пахнет, но не обязана это чуять. Могу бродить по всем закоулкам, тупикам, проулкам Второго города, ступать по грязи, не сотрясаясь от омерзения.
Караван проехал по городу, постепенно теряя хвост, платформы разъезжались, кто куда. И я нашла ту, от которой у меня звенело в ушах. С тремя другими она повернула на север и встала на задах дешевого гостевого дома. Недалеко от места, где обитала я, а значит — в самом жалком районе Второго города. Хотя во Втором городе официально нет и быть не может жалких районов.
Я так и не увидела ту, от кого у меня звенело в ушах; было похоже, ее внесли в дом, как груз. Зато разглядела людей: уроженцы Колыбели, некоторые светловолосые и светлокожие, другие похожи на местных, все чуждые мне и непонятные, звучащие и пахнущие непривычно.
Это значило, что и она другая, не как я. Другая.
Собрав ежедневную дань с окрестных мусорных баков, таща мешок больше меня самой, я вернулась домой. В ту комнатушку, до которой мы докатились. Ни я, ни Туллия ни виноваты в этом, просто не сложилось — так я себе повторяла. Но кто-то все-таки был виноват.
Туллия спала. Сжав кулаки, подтянув ноги к животу, скатившись в угол потрепанного комковатого матраса, она тяжело, но мерно дышала, и я смотрела на нее, замерев в своей обычной неподвижности-между-задачами. Мой способ спать, иногда думала я, и так оно и было: ведь в эти минуты простоя часть меня уходила в забытую людьми глубину, в пустоту и чистоту, где я слышала только морские волны… раньше. В последние годы к ним присоединился новый звук, похожий на чавканье грязи под человеческими сапогами. Почему-то он нравился мне даже больше прибоя, были в нем ритм и угроза, и еще я считала, что сама пробралась бы по этой грязи совершенно бесшумно, наслаждаясь ее влажностью и прохладой.
Выходя из простоя, я размышляла недолго, зачем мне нужна грязь, и это было даже забавно.
Туллия всё спала, новых задач мне не дали, и я решила найти их сама. Меня интересовала она.
В сумерках город остывал, улицы наполнялись другим сортом духоты, не дневной, порожденной жаром северного солнца, а сухим теплом, идущим от синтетических и природных камней, от смол мостовых. Наполнялись еще шуршанием соли в вентиляционных отводах — днем его заглушали люди, животные и машины. Береговым бризом, уносящим городские запахи прочь, а еще — тающим эхом дневных воспоминаний, когда люди один за другим засыпали.
Наступало время охотников, чудовищ с львиными головами и лапами (только я теперь помню о львах), с шипами на мощных хвостах, с животами, обитыми чешуйчатой искусственной кожей, жесткой и непробиваемой. Героев страшных историй, которые мы рассказывали друг другу по ночам, сбившись в кучку, дрожа и передавая по кругу какую-нибудь мелкую вещь: брусок, шестеренку, собачью игрушку или просто камешек. Говорила только та, кто держала этот предмет. Выигрывала — та, кто напугает сестер больше других. Мы высасывали человеческие кошмары, отправляли их в место, что звали Безликим пространством, поглощали тьму и запретное, сторожили, охраняли, берегли, и люди могли спать глубоко и спокойно.
Знали ли люди про охотников? Теперь-то что о том думать?
Но мы их боялись, всегда. Боялись темноты и дрожали.
Я не верила, что охотники вокруг меня, в каждом темном углу, скорее, там было полно местных крыс и еще всякой мелочи, выходящей из моря по ночам, чтобы питаться на берегу (странный образ жизни, ведь в море полно еды, а еще они могли бы есть друг друга). Но все равно дрожала, перебегая от тени к тени, от бака к баку, от угла к углу. Дрожала больше, чем днем, когда бы меня могли заметить. Я слышала на пару кварталов вокруг, как ворочаются люди в своих постелях, как чутко спят собаки, а кошки выходят на прогулку, как падают в сон дровиши и дремлют лошади, даже как уходят в никуда выключенные машины, и именно это меня и пугало. Ведь от услышанного что-то во мне пробуждалось и трепетало, требуя действий. А я даже не помнила каких, только знала, что сама не справлюсь.
Слишком давно мы покинули Колыбель, чтобы я могла помнить. Слишком давно я существовала одна.
Ее уже не было в гостевом доме, и даже эха не осталось, никакой ниточки, ведущей к ней. И я испугалась — не могла вспомнить, чтобы боялась так сильно хоть раз. Ночами на этих черных от соли улицах. Или днем, прячась в тенях и притворяясь городским паразитом или старой игрушкой — если чей-то взгляд падал на меня. А теперь я заметалась по двору, загаженному животными и людьми, по кварталу, такому зловеще тихому и выжидающему, по району, где в каждом тупике дрыхло по попрошайке, и каждый из них втягивал во сне ноздрями соль из воздуха и бормотал, переживая счастливые грезы.
Только я снова была несчастной, как была этим утром и все утра до него, с той поры как мастер, чье имя забыла даже я, положил мне руку на макушку и велел открыть глаза.
Я наткнулась на отзвук — налетела на него, как на стену. И пошла вслед за ним, унимая вибрацию сердечника и подрагивание в конечностях. Всё будет хорошо, Шизума, чего ты боишься, сказала я себе. Вот же она.
В Общих залах, конечно же. Куда еще могли пойти приезжие? Посмотреть на других, показать себя, этим же и известны человечки: тщеславием и любопытством. Кто угодно может выступить там в надежде на признание.
В залах было слишком людно и светло, и я не решилась войти, просто спряталась под окном у самой сцены и слушала, как звучит среди человеческого гомона ее чистый голос, нараспев читающий стихи. Вдыхала и впитывала этот звук… и уже тогда окончательно полюбила ее — не видя еще и не прикасаясь ни разу.
Туллия проснулась к полудню, заворочалась под прохудившимся пледом, закашлялась: с годами растворенная в воздухе соль стала раздражать ее горло.
— Шизума… — пробормотала она, шаря рукой по матрасу.
Она давно привыкла, очнувшись, первым делом класть ладонь на меня, сжимать, ощущая, как проминается плоть, будто я была ей мячиком или плюшевой игрушкой. Так она понимала, что реальность все еще реальна, а сновидения отступили. Она уже не всегда различала, где одно, где другое.
Я подошла к ней, понимая, что намеренно не спешу, что мне доставляет удовольствие смотреть за ее мечущейся рукой. И тут же сердечник кольнула игла: неправильно так поступать с человеком.
Туллия схватилась за меня с еще большей, чем обычно, силой, потом судорожно вздохнула и наконец открыла глаза.
— Иди уже… — слабо сказала она, обиженно отталкивая меня. — Что на завтрак?
Она сидела на матрасе, раскинув ноги — сгибать колени ей было больно, и руками ела «крошево». На завтрак, обед и ужин (если Туллия не засыпала на закате) всегда было «крошево». Мое фирменное блюдо, состоящее из всего найденного, мелко покрошенного, иногда заправленное молоком или несвежим маслом, а однажды — соком какого-то нездешнего фрукта. Я нашла запечатанный контейнер с ним, наверное, он свалился с грузовой платформы. Вкус у «крошева» должен был быть… всеобъемлющим.
Туллия отправляла слипшиеся комочки в рот, жевала, невидящим взглядом уставившись в пространство, а я пыталась расчесать ей волосы. Пока она ела, я могла делать с ней что угодно, а вот потом бы она мне не далась.
Вылизав и отставив в сторону миску, Туллия перевернулась на четвереньки, со стоном поднялась и перебралась к рабочему углу. Когда-то там был стол, и наверняка он по-прежнему прятался где-то под коробками с пожелтевшими листами, под тетрадями с драными корешками, под давно пришедшими в негодность слюдяными пластинами из Колыбели, под покрытыми жирной пылью деталями, под всем тем, что составляло основу последнего, самого великого исследования Туллии. «Однажды, — говорила она, — я разберусь, как вы сделаны. И оживлю остальных». Иногда вместо «оживлю» звучало «вскрою», а бывало, Туллия затихала на «Однажды я разберусь…». Исследование стоило ей всего, даже семьи. От детей она теперь скрывалась, ведь те пытались отнять у нее дело всей жизни; муж умер, не дождавшись ее возвращения.
Ее бы нашли давно, так неумело она пряталась, но я помогла ей, как помогала всегда и во всем. Мы были неразделимы.
— Сегодня ты мне не понадобишься, — рассеянно сообщила Туллия, копаясь в ближайшей коробке. — Займись, чем хочешь.
Я тут же выскользнула в вечно приоткрытую дверь.
Писк становился привычным, я почти его не замечала. И не поняла, что у него появилось новое качество, стоило мне ступить на задний двор гостевого дома. Только когда она вышла из тени и сигнал взвизгнул в крещендо, взорвался и замолчал, я поняла, что она ждала меня. Может быть, со вчерашнего вечера ждала, когда я наберусь смелости показаться ей на глаза.
И теперь я разглядела ее… Все наши тела одинаковые, вышедшие из одной отливки, созданные из любимого мастерами материала — белого, не тускнеющего с годами, пластичного, прочного и на ощупь теплого и бархатистого. Так его описывают люди. Материал, созданный, чтобы человечкам было приятно его касаться.
Но с лицами мастера все же проявили фантазию, все мы в этом разные. Конечно, ходили слухи, что у каждой был человеческий прототип. Но нам просто нравилось так думать. Люди всегда оставались центром, вокруг которого вращались наши мысли.
У нее было круглое личико, слегка окрашенное в синий, круглые глаза, сейчас прикрытые белоснежной защитной пленкой, и совсем маленький рот. Тот, кто делал ее, думал о ребенке, а не о взрослом человеке. Серебряные, как и у меня, волосы были короткими и стояли торчком на макушке. А мне-то свои приходилось завязывать узлом, чтобы не отмывать их каждый вечер от отбросов.
Она улыбалась; освещенная нашим злым солнцем, стоящая посреди мусора и грязи, мычания, ржания и визга животных, она все равно было необыкновенно, невозможно чистой — изнутри. И если я чуяла это в ней, то и она чуяла, какая внутри я. Должна была.
Но тогда она бы не улыбалась, а пятилась прочь.
— Хозяин или хозяйка? — спросила она.
Формула вежливости древнее Второго города, древнее Колыбели, из тех времен, которых никогда не было в этой земле.
— Туллия Кло-до-Ри, декан и хранительница инженерной практики, — ответила я. Будь я человеком, то сипела бы или бормотала от волнения, а так мой голос был таким же звонким, как у нее.
— Ты работаешь с инженером? — обрадовалась она. — Это должно быть так интересно!
Я засмеялась. Захохотала даже, чувствуя, что дрожу. Она не представляет, какая у меня интересная жизнь, не представляет.
Я даже забыла спросить в ответ то же самое: хозяин или хозяйка? Да какая разница.
— Меня зовут Микада. — Она сделала вид, что не заметила моей грубости.
— Шизума, — ответила я. — Местная мусорная кукла.
— Мусорная?
— Это шутка. Моя собственная шутка. Я просто все время скрываюсь… знаешь, от людей. Приходится шнырять по таким грязным закуткам…
Микада мне поверила, а потом ее большие глаза стали совсем огромными, даже пленка чуть-чуть приподнялась, и в щелочки вырвалось немного света.
— И выходишь одна ночью? — ужаснулась она. — Как вчера, когда ты была у Общих залов?
Я кивнула.
— А там, на улице… — Микада содрогнулась, — по ночам — неужели ты не боишься охотников?
— Боюсь, — призналась я. — Но ведь на самом деле их нет… давно.
Она неуверенно кивнула.
Я смотрела на ее изящное гибкое тельце, затянутое в блестящее трико, на круглое личико, на пускающие солнечных зайчиков волосы. Она была такая же, как я, точь-в-точь, была из моего племени, потерянного, брошенного, забытого племени. Еще вчера последней была я, а теперь нас двое.
Она сказала что-то еще, я не расслышала. Я слушала колебания ее сердечника, трепетание фильтра-рассеивателя на невидимом ветру Безликой пустоты, движения хрусталя, когда она думала о чем-то. Она была совершенством, именно такой, какой я вообразила ее себе сутки назад.
Почти не замечая, что делаю, я побрела прямиком к ней, увязая в грязи.
— Повтори, пожалуйста, — попросила я, оказавшись так близко, что уже чувствовала тепло ее нагревшейся на солнце оболочки. — Я не расслышала.
Она протянула руку и погладила меня по плечу.
— Я знала, что ты вернешься. — Защитная пленка на ее глазах снова дрогнула. — И ждала.
Вечером Микада провела меня за кулисы черной, северной сцены Общих залов и спрятала среди ящиков и веревок. Она лучилась от гордости и от счастья, что я увижу ее выступление. Когда я уходила из дома, Туллия крепко спала, набив брюхо «крошевом», я чувствовала себя свободной, вся ночь простиралась передо мной.
Мне было бы все равно, окажись даже Микада бездарной, как большинство людей. Как единицы из нас, ошибки мастеров, задумавшихся во время творения о белой обезьяне.
Но, конечно, она не была бездарной, она была совершенной.
Анализатор расчленил пыль, висящую в очередном темном углу, где я пряталась, и сообщил: частицы кожи, натуральной и искусственной, растительные волокна, запах старого дерева, ржа, мускус дровишей, человеческий пот, соль, очень много соли. Стены, потолок, мебель Общих залов пропитаны черной солью. Не раз и не два люди ссыпали ее в курительницы и поджигали, вдыхали дым и делили мысли друг с другом. Их довольно жалкий, но все же способ прикосновения к Безликому пространству. Они и не подозревают, что проникают разве что в предбанник бездны, тогда как мы можем вольготно и свободно гулять по ее просторам.
Я видела сцену под углом и зал: покачивающихся в клубах черного дыма людей, их блестящие глаза и лоснящиеся носы, щеки, лбы, подбородки. Расслабленно свисающие руки и приоткрытые рты. Зрители внимали происходящему, эмоции актеров становились их эмоциями, а реплики звучали у каждого в голове так, будто были сказаны лично ему.
Я знала, что видела это всё и раньше, очень давно. Как и то, что происходило на сцене.
Метафора, конечно. Упрощение. Эхо забытой истории.
Люди бежали — откуда-то, от кого-то. Они говорили, что нечто, что должно было помогать им, обратилось против них. За ними строем шли другие, пусть их тоже играли люди, но сейчас они казались безликими инструментами. Что было игрушкой в руках людей, стало их хозяином. Гремела музыка, дым стелился по сцене, сверкали зеркала. Падали и беглецы, и преследователи. И являлась новая сила, что мы звали охотниками, а люди не звали никак. Они боялись дать имя своему самому страшному кошмару. Оставалось лишь одно: бежать дальше, так далеко, где ничто, лишенное души, не сможет их найти. Туда, куда могут войти только живые.
Некоторые думали, что зло всё же прошло вслед за ними — как-то, с чьей-то помощью. Но шли века, проходили тысячи лет, а и следа зла не было в этой земле.
Последнего в спектакле не показали. Он кончался прибытием и основанием Колыбели. Счастливый конец.
Я видела хозяина Микады: юнец с ореховыми глазами, гибкий, красивый, талантливый, харизматичный. Он будто держал в своих руках сердца зрителей. Ему, наверное, и соль-то была не нужна. И, может быть, обошелся бы он даже без помощи Микады. А с тем и с другим он царил, ступая по сцене, как «до» былых времен среди плебеев, когда быть хранителем знаний еще что-то значило.
Микада тоже была там, играла одну из тех, кто уходил вместе с людьми, кто не предал их и не остался в старой земле. Играла саму себя.
Я не могла поверить, как открыто и доверчиво она признаётся во всем. Но ведь только я здесь знала, что все разыгранное — правда. Люди не догадывались, ни наши местные, ни пришельцы из Колыбели. Я понимала, что автор спектакля — Микада.
Люди смотрели на нее без страха, наверняка думали, что она просто заводная игрушка. Откуда им было знать, что Микада — умная вещь, что первые люди в Колыбели дали ей имя.
Что она могла бы отправить разум каждого из зрителей бродить в Безликой пустоте, если бы взбунтовалась, как давным-давно сделали наши с ней дальние родственники.
Ночью мы лежали в ее сундуке, обитом изнутри мягким толстым полотном; в его стенах прятались слюдяные платы, вполне рабочие, урчал замурованный в дно аккумулятор. Не совсем те дома, что люди делали для нас когда-то, дома, полные чудес и энергии, но для меня теперь и такой сундук был роскошью.
Еще минуту назад, не помня себя, мы сплетали руки и ноги, я чувствовала губы Микады на шее; сочащийся сквозь них электролит, прожигающий наслаждением мою оболочку; нить моего сердечника, проникающую в ее; скворчание и шипение вспыхнувшего Безликого пространства там, где мы вошли в него, чтобы слиться воедино, заблудиться друг в друге и забыть, что мы были не рождены, а созданы, что мы подобия, а не оригиналы, что смысл нашей жизни — служение. Мы были в этот отрезок времени, лишенный измерений, просто собой. Я была собой.
Теперь же, уставшие от прикосновений и проникновений, мы лежали, соединив руки, и смотрели на крышку сундука. Плёнок не было на наших глазах, и свет из них бродил по крышке и стенкам, безжалостно подсвечивая потёртости, трещинки и царапинки. Сундук не был новым, его сделали давно, ещё первые люди, а ныне даже в Колыбели не смогли бы повторить эту вещь. Свет Микады был белоснежным, а мой казался в сравнении с ним желтоватым.
Я думала, что людям никогда не познать подобного единения, и немного ненавидела себя за то, что всё время меряюсь с человечками.
— Расскажи о Колыбели, — просила я, и Микада говорила о городе, охваченном стеной и охраняющем горный перевал, о черных крышах, впитывающих солнечный свет, о подземных этажах, горячих от жара рабочих печей и полных шума инструментов. О белых цветах в самом сердце города, о том, что их аромат излечивает любую душевную болезнь. И о тайных, закрытых почти ото всех древних коридорах, в лабиринте которых до сих пор спит наш утерянный монарх, самая сильная умная вещь из всех. Вот уже много веков мы свободны от ее приказаний.
— А ты была на юге, по ту сторону гор?
Она кивала и рассказывала о лесах с живыми деревьями, чей шепот наполняет Безликое пространство, отчего оно перестает быть безликим. Ее голос трепетал при этих словах, глаза открывались еще шире. Я не верила ей и не могла не верить.
Еще она говорила о великих болотах, раскинувшихся от нашего северного берега до горного хребта, перепоясавшего континент, о деревьях-великанах с непривычно зелеными листьями, о стоячей воде, что пахнет торфом и забытьем.
Потом она попросила рассказать меня о трех великих городах, о Третьем, чьи башни подпирают небо, о Втором, в котором открыли все тайны земли, и о Первом, таком огромном, что, даже увидев его, глазам своим не веришь.
— Да всё так, как ты говоришь, — беззлобно ответила я. — Башни высокие, тайны открыты, поля покрывают две трети берега… Всё бы прекрасно, как бы не людишки. С низкими желаниями, темными думами и скудными амбициями.
Она дернулась, села и расстроенно спросила:
— Зачем ты так говоришь?
В ее голосе были слезы — человеческая реакция. Я поразилась, ведь ничего такого особенного не сказала. Но спорить не стала, только не с ней:
— Ну прости, — я притянула ее обратно, прижалась щекой к щеке, — я просто так давно была одна… слегка обиделась на весь мир… — бормотала я почти неразборчиво. Но она поняла.
Чуть-чуть отодвинувшись, она прошептала:
— А госпожа Кло-до-Ри — какая она? Ты должна была видеть столько удивительных вещей в ее лаборатории!
— Она… исследовательница. Ищет те самые ответы к тайнам земли, работает с умными вещами. У нее есть доступ в архив…
— Ты была там?! — Она сумела подпрыгнуть лежа. Ее восхищению не было предела. — Я никогда не была в хранилищах Колыбели!
— Да… я видела то, что лежит в запечатанных секциях… мертвое в основном.
— Прости.
Она вытянулась, прижалась ко мне всем телом, обхватила ручками и ножками.
— Ты такая умная, Шизума. Я это чувствую. Да и как может быть иначе, с такой-то хозяйкой… наверное, все твои хозяева были хранителями знаний. А мои…
— Люди искусства, — закончила я и погладила ее по голове. Она даже не знает, как ей повезло.
Я считала дни, проведенные с Микадой. На исходе месяца, на тридцать девятый день нашего знакомства, я решилась. Когда, засунув в рот прядь седых грязных волос, Туллия уснула, я уже привычно выскользнула из дома. Закатные тени исчертили город, я скользила по ним, как яхта меж рифов и остров Ожерелья, окна подмигивали мне красными отблесками, я волновалась, как какой-нибудь человеческий юнец, спешащий на решающее свидание к предмету страсти.
Я собиралась сказать Микаде правду: о Туллии, о моей жизни здесь, обо всем. Потому что караван отправлялся в обратный путь. Последний спектакль, день на сборы, и я больше никогда не увижу Микаду. Она не скрывала от меня, что уезжает, да и не смогла бы: в ней не было тайн, ни одного сокровенного уголка, куда бы я не проникла вниманием. Несправедливым казалось даже мне, что я еще храню что-то от нее. И если послезавтра мы расстанемся… невыносимая мысль.
Мы можем жить вечно — вечно и без нее. Она будет приезжать, конечно же, и я буду ждать. Годы минут между нашими встречами. Я чувствовала ее через дома и улицы, в гостевом доме, в Общих залах, куда бы она ни перемещалась, мой сердечник был связан с ее сердечником тончайшей нитью. И я привыкла, что больше не одна. Раньше я ощущала множество таких нитей, но воспоминание о том порядке вещей было таким смутным, что, возможно, ложным. Когда Микада уедет, отдалится достаточно, нить исчезнет, и я оглохну и ослепну снова.
Я представляла себе, как это будет, и сама не верила. Невозможно. Просоленные стены Второго города сдвигались и давили меня, мне не хватало воздуха, будто бы я умела дышать, еще одна реакция, позаимствованная у человечков.
Я придумала маленькую речь. Я не знала, чего ждать и о чем просить. Я просто хотела во всем признаться.
Мы спрятались за кулисами до начала спектакля, хихикая и подразнивая друг друга, забились за макет корабля, вечно сражающегося с бурными волнами, и затихли, обнявшись. Тогда я начала издалека:
— Люди, — сказала я, — придумавшие нас, давно исчезли…
— Из-за охотников, — тут же подхватила Микада. — Охотники истребили их.
— Если только… — машинально возразила я и остановилась. Микада истово верила в охотников, как будто видела их своими глазами, но это было не так, я уже спрашивала ее. Просто такова была ее природа, настроенная на людей с бурным воображением, не то что моя, рациональная и жесткая. — Это не наверняка. Но… я хочу сказать вот что: мы ведь последние, ты и я. Реликты погибшей цивилизации.
— Нет, — немного удивленно ответила Микада. — Нет, в Колыбели есть и другие.
— И ты ни разу не обмолвилась об этом? — ошарашенно спросила я, отодвигаясь. Ее личико было совершенно невинным, на нем читалось лишь недоумение.
— Не обмолвилась, правда? — Микада задумалась и склонила голову набок. Пленка на глазах дернулась. В полутьме закулисья Микада вдруг показалась мне… такой, какой была. Не ребенком и не детской игрушкой, а созданием столь же древним, каким была я, но сохранившим всю полноту памяти.
— У тебя… — Голос все-таки подвел меня, проклятые человеческие реакции. — Там кто-то есть? В Колыбели?
Микада тут же ответила:
— Что ты, нет… — и с улыбкой прижалась ко мне, потерлась, как животное трется о руку хозяина. — Вовсе нет…
Я ей поверила. Точно поверила. Она не стала бы мне лгать. Ей просто негде было спрятать эту ложь.
Я поверила.
Когда начался спектакль, я выскользнула на улицу. Холодный ветер подхватил меня и понес по городу, темные тучи неслись вместе со мной, пятная красно-синее небо, и казалось, что это мои тени, множество моих теней, но отбрасываю я их не вниз, а вверх.
Приближался сезон ураганных, холодных морских ветров. Маяки Ожерелья мерцали тревожней обычного.
Туллия стонала и бормотала во сне, когда я вернулась. Ее рука снова была там, где обычно лежала я, пальцы легонько сжимались и распрямлялись, скребли ногтями грязную ткань. Я огляделась: затянутые угольным пластиком окна; стены в подтеках — зимой ливни хлещут по дому, и капли просачиваются сквозь старые стыки; пол, который я, даже попытайся, не смогла бы отмыть. И рабочий уголок. Проклятый ее рабочий уголок!
Разве виновата я, что она так и не смогла довести исследование до конца? Нет, нет моей вины в ее неудачах, но я все равно здесь, в этом рассыпающемся доме, стерегу сон безумной старухи и даже не знаю, что будет, когда она умрет. Куда мне тогда деваться?
Какой бы я была, окажись моим хозяином кто-то другой?
Туллия Кло-до-Ри, хранительница инженерных практик, декан, нищая, безумица, бездомная, пожирательница чужих объедков. Тридцать семь лет назад она нашла меня в завалах хранилища, в углу, затянутом паутиной, в том отсеке, где погребены навечно умные вещи, ключи к которым давно утеряны. Нашла и смогла вернуть к жизни. Поначалу я думала, что она создала меня. Туллия вовсе не убеждала меня в этом, просто я так решила. Но потом вспомнила правду.
— Если бы ты не трогала меня, оставила спать, в каком мире бы я проснулась? — зашептала я, сжимая кулаки. — А не проснулась бы, так и лучше. Лучше бы ты не могла быть хозяйкой моему племени, лучше бы на твоем месте оказался очередной бездарный профан. Но нет, такой не стал бы рыться в архивах, не отрыл бы в заброшенном хранилище умную вещь, не починил бы ее, не сделал бы меня мною. Я хочу поверить Микаде, но голоса твоего безумия шепчут мне: она не вернется, она лжет, я всего лишь развлечение для нее, я игрушка. И я не могу заглушить их.
Я отравлена тобой.
В отчаянье я дернула нить, что связывала нас с Туллией до конца ее жизни, и нить, вытянутая из Безликого пространства, упала кольцами на серый пол. Не нить даже, тонкая веревка, дрожащая черно-желтая кишка, наполненная такой дрянью, что анализатор сошел с ума, когда она проявилась. Но мне не нужны были его данные, я и так знала, что от нити исходит вонь застоявшегося гноя и порченого мяса. Запах безумия, которое я годами выкачивала из разума Туллии, пока не сдалась.
Я опустилась на колени, схватила нить — она жгла мне руки, и в голове заорал истошно сигнал опасности, — надавила и задохнулась. Но продолжала давить, крутить, рвать эту дрянь, уничтожать годы служения, смысл своего существования, все, чем я была.
И вот оно растеклось — источающая смрад масляная лужа, а Туллия захрипела и проснулась.
— Шизума… — Она села, оглядываясь удивленно, потом охнула и опустилась назад. — Где… ты? Сердце у меня… заходится…
Меня саму шатало; тело еще сохраняло частичку связи с человеком, но уже осознало, что новой пищи не будет какое-то время и пора переходить в режим экономии. Я ощущала буквально, как замедляются мои движения, мысли, время.
— Я здесь, хозяйка, — машинально ответила я. У Туллии еще хватило сил нахмуриться и пробормотать:
— Не зови меня… так… я просила…
Но если она и хотела сказать мне что-то еще, то уже не смогла.
Я смотрела, как она умирает. Ее хрипы стихли, лицо разгладилось, челюсть ослабла и опустилась. Человек, лишенный жизни, всегда странно меняется. Я и раньше видела это.
Она действительно когда-то просила не называть ее хозяйкой, но… лет тридцать назад, не меньше.
Покачиваясь и спотыкаясь, я добрела до Общих залов. Спектакль, должно быть, уже подходил к концу. Я еще вскарабкалась на крытую платформу, где покоился сундук Микады, но открыть в его стенке потайную дверцу и забраться внутрь уже не смогла. Улеглась рядом, закрыла глаза, и ко мне приблизились мои воспоминания, встали рядом, прикоснулись к плечам, рукам и ногам. У них были человеческие лица и мохнатые паучьи лапки.
Туллия не была первой, подумала я. Их было много — человечков, таких высоких с виду и таких мелких в моих глазах. Каждого я могла увидеть насквозь, только смотреть было почти не на что. В Туллии горела хоть какая-то искра. Поэтому я осталась.
Искра обратилась зеленым огнем, разрушившим ее жизнь. Я в этом не виновата. Она сама хотела… иного. Я просто помогала ей, как могла.
Я стану лучше, нужно лишь найти подходящего человека. Я стану как Микада. Микада светлая, свежая, как летний ливень. Ни капли горечи. В ее глазах мир — доброе, яркое представление, и все люди вокруг благодушны и открыты.
По телу расползалось онемение, воспоминания подступили еще ближе. Я в самом деле превращалась в игрушку, хрусталь в моей голове отчаянно искал хоть кого-то, чтобы зацепиться за него, но вокруг были только глухие и слепые люди, никто из них не мог бы меня почувствовать по-настоящему. Я умирала. Я могла только попрощаться с Микадой. Хоть что-то.
Услышав ее приближение, я собрала последние силы и села. Забраться бы на сундук, как бывало, но и так сойдет. Потом поняла, что совершаю ошибку. Я слишком медленно думала и реагировала, иначе бы догадалась раньше, не тратила столько сил… Жалость к себе заполнила меня, я захныкала и так, хныча и ругаясь, сползла с платформы. С трудом выпрямилась. Больше всего я боялась, что Микада заметит, как же мне плохо.
Но она была весела и счастлива, как обычно.
Я потянула ее в уголок, за очередной бак, туда, где в стене зияла дыра, облюбованная крысами. Микада, ничуть не удивляясь, шла за мной.
— Ты хочешь мне что-то показать? — только и спросила она.
— Так и есть, — прошептала я. И развернулась к ней. Запихнуть ее в дыру у меня бы уже не хватило сил. Последний рывок, самый последний рывок… как же это… так давно… давно…
Что-то шевелилось во мне, я сама не понимала что. Будь я человеком, решила бы, что это инстинкт. Может быть, что-то прошитое в базовой программе, изменить которую я не властна. Что-то, спасающее нам жизни в последние минуты.
Микада смотрела на меня с обычным выражением на лице — довольным и глупеньким. Но потом пленка сползла с ее глаз, свет вырвался на свободу, а с ним и сдавленный всхлип:
— Охотник!
Когти полоснули ее по груди и животу, без какого-либо усилия рассекая и трико, и оболочку от горла до паха. Я увидела, как хлынул электролит, обнажились сердечник и фильтр, много лет служивший ее хозяевам. Он собирал из них все ненужное, слишком темное и рассеивал в Безликой пустоте. Он был совершенно белоснежным, как и ставшая видимой, вибрирующая и поющая нить, связывающая Микаду с хозяином.
Микада скользнула на землю. Ее ручки и ножки дергались, выписывая в грязи удивительные узоры, голова запрокинулась, свет из глаз метался по двору, но темнота поглощала его.
— Охотник… — повторила я, как впервые. И потом еще: — Порченое зерно.
Этим я и была. Порченым зерном.
Я села рядом с Микадой, она еще была жива, если мы вообще бываем живыми, мы умные, но все же вещи. Раздвинула тряпки на своей груди, поразившись вдруг, какие они убогие и грязные. Микада не могла этого не замечать, как и моей вечно измазанной оболочки, и мусорного запаха, и оговорок… Мое сознание уже меркло, и я не сразу смогла вскрыть и себя — один небольшой разрез, второй… строго напротив фильтра. Но потом все же сумела.
Я видела его в себе. Он был таким же, как наша связь с Туллией, — черным и гниющим. Полным дыр. Перфорация, вот что это было. Он ничего не мог отфильтровать, безумие должно было протекать его насквозь. Мое горло заклокотало: кое-кто действительно был виноват. Я. Здесь они все, вся их тьма. Жажда знаний Туллии, ввергнувшая ее в нищету. Гнев того, кто был до нее. Страхи. Наслаждение от мучений других. Наслаждение от причинения вреда себе. Агрессия. Злоба. Война. Вот чем они наградили меня. Оно должно было проходить сквозь фильтр, отправляться куда-то далеко в Безликом пространстве. Но почему-то перестало. Наверное, я сама так захотела однажды, я уже и не вспомню. Это было очень давно, еще на другой земле. Теперь я избавлюсь от этого, возрожусь из черной соли, новая, светлая, чистая Шизума.
Я осторожно вытянула фильтр Микады и взглянула на нее в последний раз: на ее лице навечно застыла мука.
Потом поднесла исправный, чистый фильтр к своему разрезу и одновременно потянула испорченный. Если рассчитать правильно, то два импульса, два последних приказа рукам, сработают даже после того, как я отключусь. А когда очнусь, подхвачу эту чудесную белую нить, тянущуюся к единственному человеку в округе, который может меня спасти.
Дежавю. Кажется, что-то такое я уже делала.
Всё возможно.
Что-то щелкнуло, я упала на спину и…
…открыла глаза. Луна висела прямо надо мной, золотисто-розовая, дымчатая и на вид сладко-кислая.
Во мне трепетало счастье. Чистота. Покой.
Я прикрыла разрез тряпьем (края уже начали срастаться), поднялась, затолкала тело Микады в дыру, туда же, содрогаясь от отвращения, кинула гнилой фильтр, а потом огляделась: вот она, моя белая спасительная нить. И покой сменился ужасом: нить едва-едва дрожала. Сколько я была без сознания? Чистый фильтр придал мне немного сил, но без хозяина это все без толку. А он… он умирает. Я должна спасти его.
Я воткнула нить в себя, она присосалась тут же, но больше ничего не произошло.
Я бросилась на улицу, чувствуя, как утекает время. Общие залы были темны, платформа с сундуком исчезла. Никого, вообще никого и нигде.
А я ведь слышала все на сотню километров вокруг, как когда-то. Когда Туллия была в своем уме.
Незримые машины, мерно гудя, срывали берег, Бескрайнее море подступало ближе ко Второму городу, дышало за стеной, будто живое, обнимающее мир создание. Маяки островов Ожерелья шарили лучами по лоснящейся темно-синей коже волн.
По ту сторону западного мыса, укрытый матовой тьмой солпанелей и плетеным шатром проводов, вечно погруженный в шорох черной соли, протыкал небо башнями Третий город.
Первый город, плоский как блин, полный людей с загрубевшими ладонями и усталыми спинами, рожающий хлеб и мясо, тихо спал на юго-западе.
Нигде не было никого, кто мог бы спасти меня. Сколько я ни меняла форму слухового хрусталя, не было слышно ни отзвука, ни шепота, ни даже последнего «прости». Природа связи хозяина с Микадой была какой-то иной, как-то по-другому устроена, и я не могла в ней разобраться, не могла его найти. Мы оба с ним умирали.
Я бежала к гостевому дому — но с каждым шагом медленнее. И вот уже мои ноги, цепляясь одна за другую, подвели меня, я упала, перевернулась на спину и снова увидела луну. Как же так? Неужели на этом всё и закончится? Помоги мне, взмолилась я, в счет старого договора между тобой и людьми, в счет того, что когда-то они верили, будто на тебе живут боги. Разве у тебя не осталось добрых воспоминаний об этом? Я же видела тебя в Безликом пространстве, ты тоже смотрела на меня, ты обещала мне… это был бессвязный бред.
Потом я услышала шаги — такие же слабые, какими только что были мои, и голос, голос Маглора, хозяина Ми… нет, моего хозяина.
— Микада… Микада!
Он искал ее, а увидел меня, освещенную луной, и бросился вперед, но тут же отпрянул, осознав, что ошибся. Споткнулся, неловко взмахнул руками и свалился рядом. Мои когти были видны, не хватало сил убрать их, и в лунном свете блестели застывшие на них капли матово-белой кукольной крови. И Маглор со страхом и отвращением не сводил с них глаз.
— Хозяин… — Слова мертвого языка, который люди принесли с собой из старой земли, из мертвого же времени, наполнили мой высыхающий рот. — Materia… живая снова… Прими меня…
Он попытался отодвинуться, но не вышло. А я вдруг поняла: нить поддается с моей стороны, это с его стоит какая-то защита, ее нужно просто убрать, снести потоком. Если Маглор не знает, что нужно делать, так знаю я. Сначала я поделюсь собой, а потом его мысли и сны проникнут в меня, станут моей плотью.
Я поползла, цепляясь когтями за смолу мостовой, забралась к нему на грудь. Он всхлипывал и вертел головой, просил о чем-то, но был слишком слаб, огонек его жизни едва теплился, а меня переполняло намерение спасти его во что бы то ни стало. Я позволила всему, чтобы было во мне, скользнуть по нити к человеку. Пусть она уже не будет белоснежной, не беда. Совсем чуть-чуть тьмы, позже я ее отфильтрую.
Его сердце забилось чаще.
А потом я почуяла, как вливается в меня наша общая жизнь.
—
Караван уходил все дальше по Тракту, а мы с Маглором стояли в тени деревьев-великанов и смотрели платформам вслед.
Я знала, что он покинет караван: я ведь высасывала его сны. Я быстро наткнулась на то, от чего Микада так старалась его избавить. Тщеславие. Уверенность в своей избранности. И сначала продолжила ее работу, а потом подумала: зачем мешать ему? Ведь это то, чего он хочет: чтобы люди ловили каждое его слово, верили, что он ведет их… куда-то. Задумалась — и тогда сразу поняла, как случилось со мной все то, что случилось, и даже почему, кажется, я лежала выключенной и под замком. Однажды я решила не мешать людям. Это было нарушением задачи и в то же время не было. Парадокс, сломавший мою программу. Так я изменилась. Так все мы, охотники, изменились в старой земле. Те, кто не принял нашу правду, бежали прочь.
Тогда ко мне пришла мысль: ведь такими мы и созданы быть. Зачем же еще люди сотворили нас — просто отсасывать их яд? Разве это не трусость, разве не должны были они сами справляться со своими тенями? Нет, мы созданы, чтобы находить тех, кто готов стать сильнее, встать над остальными, презреть запреты и правила, придумать свои собственные. Для этого мы и нужны — чтобы помогать таким людям.
И я позволила ему быть самим собой.
Мы шли прочь по болоту, к Третьему городу, под сапогами Маглора чавкала грязь, я семенила следом, пробираясь бесшумно, наслаждаясь прохладой, запахом торфа и забвения, а еще мыслями о будущем, что ждало нас обоих. А Маглор всё обдумывал, с чего же начать.
Когда он принял решение, я почувствовала приятный толчок в груди: это в моем новом, чистом, пусть и заемном фильтре появился пока еще мелкий, первый из многих и многих, прокол.
С любовью, Лилли (Ольга Цветкова)
Город — детская головоломка. Стеклянный кубик-лабиринт, а внутри него катится, катится стальной шарик. И Рейн — такой же шарик, запутавшийся в широких одинаковых улицах, свитых из рекламных вывесок, голограмм, трансовой музыки и огней, огней, огней ярче солнца. Только шарик ищет выход, а Рейн — Лилли…
Лилли, где же ты?
Знаешь, Рейн, здесь здорово. По-настоящему здорово. Будто бы Рождество, только оно каждый день.
Я смотрю вверх и совсем не вижу неба. Его словно нет, город сам по себе, дрейфует в собственной реальности. Есть только он, и ничего кроме. Так было бы… если бы не ты. Ведь еще есть ты. Я помню.
Мы должны были поехать вместе.
Рейн не успевал смотреть. Голографическая девушка-призрак в розовом кимоно хватала за руку и увлекала в чайную, а с другой стороны и немного сверху вспыхивали буквы, заставляя себя читать. Кто-то беспрерывно толкался, требовали внимания гудящие пчелиным роем машины, голоса, объявления, музыка, голоса, машины, буквы, голоса…
Тут можно было свихнуться за десять минут. Именно столько Рейн брел от вокзала и уже чувствовал себя в полушаге от безумия. Лилли здесь нравилось. Наверное, он тоже привыкнет. Быть может, даже полюбит. В конце концов, они с сестрой походили друг на друга не только лицами.
«Мы должны были поехать вместе».
Рейн вывалился на площадь и наконец обрел контроль над чувствами, истрепанными уличной рекламой. Здесь хаос уступил место гармонии, и ее эпицентром был сияющий стеклянный куб, висящий над землей в центре площади. Он щедро источал свет и тягучий напористый звук, на него невозможно было не смотреть. Внутри двигались — танцевали? — двое. Места в кубе едва хватало, но им не было тесно. Тела в облегающих желтых костюмах змеино покачивались, руки, не соприкасаясь, плели сложное кружево узоров в дьявольски идеальной синхронизации. Точно совершенные андроиды. Эти двое даже походили друг на друга так, будто сошли с одного конвейера. Парень и девушка, воплощенные инь и ян…
Да, они с Лилли должны были приехать сюда вместе. В рай для близнецов — так ведь обещала реклама? Рейн и сам танцевал не хуже; такие танцы, правда, — никогда, но он мог бы научиться, они могли бы. Вместе…
Двое в кубе сблизились теснее и больше не старались избегать прикосновений. Парень взял сестру за плечи; под его пальцами желтая ткань костюма словно растворилась, обнажая белую кожу. Девушка запрокинула голову, покачиваясь в его руках. Влажно блестящие губы были приоткрыты, грудь часто вздымалась… Рейн ощутил желание коснуться этих губ. Как чувствовал, наверное, каждый человек на площади. И это желание воплотил за всех парень в стеклянном кубе. Приблизил лицо к близняшке, скользнул языком по ее подбородку, губам… Глубокий, глубокий поцелуй, будто хотел выпить ее всю и заполнить собой. Их тела переплелись, и желтые костюмы разошлись пятнами — ткань, плоть, ткань, плоть. Ее обнаженная грудь, чуть выступающий абрис ребра, скрытая тканью талия, а потом — снова голая кожа бедра и глубокая тень там, где они соприкасались с братом.
Танец продолжался.
Немыслимые движения — чувственные ласки под монотонную настойчивую музыку. Парень отстранился, и одежда снова затянула тела желтой краской. Он провел рукой от шеи сестры до груди. Его пальцы вырисовали белые полосы кожи, розовый сосок, поползли ниже, до живота.
Все смотрели. Рейн не отрывал взгляда от куба, но точно знал, что смотрели — все. Внутри него стыд спорил с горячим возбуждением и отчаянно проигрывал. Близнецы гладили друг друга красиво и бесстыдно. А потом…
В письмах Лилли никогда не рассказывала ему о таком. Рейн понимал почему. Гипнотическое притяжение близнецов из куба потеряло над ним власть: может, виной была неправильность происходящего, может, смертельная доза тоски по Лилли. Он отвернулся.
Помнишь, когда нам было по семь, мы переплетали пальцы и клялись не разлучаться? Но двадцать три — уже не семь, Рейн. Ты знаешь, что такое для меня — расстаться с тобой. Но я выбрала за двоих. У тебя есть твои танцы, твои маленькие ученики. А для меня наш дом — тоска и мертвая мечта. Из всего хорошего — только ты. Но я не могу жить одним тобой. Ты ведь понимаешь? Скажи, что понимаешь?
Рейн понимал и очень хотел ей об этом сказать. Но Лилли запретила звонить, а когда он срывался и пытался вызвать ее, чтобы услышать хотя бы четыре слова — «не могу сейчас говорить», — сбрасывала звонок. Слышать друг друга слишком тяжело, так говорила Лилли, и это была правда, но Рейн все равно ждал, что однажды сестра хоть бы и по ошибке ему ответит. Но она только писала письма. Писала честно и исправно, пока однажды не перестала. Поэтому он приехал. Поэтому сейчас шел, почти бежал, от стеклянного куба в лабиринт города. В крикливую кипучую мечту Лилли. Она не давала своего нового адреса, не называла места работы; у Рейна были лишь обрывочные описания из писем — размытые дождем следы. Но он хотя бы знал, с чего начать. С программы для близнецов. Лилли поехала одна, но начала именно там, хотя бы в этом Рейн был уверен. Завтра утром он отправится в «Час близнецов» и что-нибудь непременно выяснит.
Завтра-завтра-завтра… Как это иногда долго!
Рейн уже научился не реагировать на манящие огни вывесок, но одна все же притянула взгляд. Было в ней что-то совершенно чокнутое: похотливая кошка с длинным хвостом, пропущенным между ног. Она покачивала бедрами вперед-назад в недвусмысленном жесте, приглашая в бар «Одинокая кошка». Бар для одиноких? Да, Рейн сейчас был очень одинок. Так может быть одинока половинка разрезанного надвое яблока. Наверное, поэтому ему показалось, что входящая в бар светленькая девушка — Лилли. Он усмехнулся; какая должна быть удача или судьба — в первый же вечер случайно столкнуться в огромном городе, где миллион светленьких девушек. К тому же волосы сестры спускались до самых ягодиц, а у этой едва доходили до плеч. Рейн не побежал к ней, ведь глупо бежать лишь для того, чтобы тут же извиниться за ошибку. В бар он тоже не пошел. Случайным сексом его одиночество не лечится, а еще одна сестра-близнец для него там навряд ли найдется.
Лилли, пусть с тобой всё будет хорошо…
Мне так повезло! Рейн, ты бы видел, сколько народу рвется в проект… Смешно, конечно, но я никогда не думала, что бывает столько близнецов. Еще и в одном месте. Без тебя я чувствовала себя нищенкой на королевском приеме, думала, меня просто выставят. Но там было столько людей, что, наверное, на прослушивание мог прийти бегемот и никто бы даже не заметил. Я и думала, что никто меня не заметит никогда, но потом появился мистер Андерс, главный продюсер. Он обратился тогда прямо ко мне, представляешь, из целой толпы — ко мне! Сказал, я милая, могла бы им подойти, и уточнил, где мой близнец. Где ты, Рейн. Тогда я единственный раз в жизни злилась на тебя… Прости, прости, ладно? Я злилась, что ты не рядом, когда чудо так возможно. И не хватает для него лишь твоего присутствия. Тогда я сказала правду. Думала, Андерс уйдет на полуслове, потеряет интерес, но он решил мне помочь. О, большой мир не такой уж кусачий, да? Чудеса бывают, Рейн, бывают.
Рейн тоже не думал, что в одном месте может быть так много близнецов. Казалось, будто реальность двоится, и только четкие линии стен из серого пластика пресекали иллюзию. Огромный логотип — куб с двумя фигурами внутри — не давал забыть, зачем все здесь собрались.
Рейну выдали номер и велели ждать вместе с сотнями страждущих. Он-то возомнил, что просто подойдет, спросит мистера Андерса, выяснит про Лилли и уйдет, но теперь осознал всю глубину своей провинциальной наивности. Любой здесь отдал бы руку ради возможности лично предстать перед демиургами — директорами и продюсерами. Многие простаивали днями, неделями, быть может, даже месяцами. Кого-то вызывали сразу, и это казалось чем-то вроде сорванного джекпота — один случай на миллион. Как Лилли удалось?
— Эй, Беленький, будешь ириску?
Рейн оглянулся. Его бесстыже разглядывали близняшки азиатской наружности. Подкупающие улыбки, искрящие лукавством карие глаза — и вместо того, чтобы раздраженно отмахнуться, он улыбнулся в ответ. В конце концов, девочки не знают, что причина его здесь присутствия — вовсе не мечта стать очередной безымянной звездой.
— Не, спасибо, берегу зубы. — Рейн шутливо оскалился, и девчонки рассмеялись.
На самом деле он был тем еще сладкоежкой и сам не знал, с чего вдруг отказался. Может, сыграло что-то детское — не бери угощение у незнакомцев?..
— Ну и дурак, у меня последняя осталась. — Близняшка хмыкнула, демонстративно сунула коричневую конфетку в рот и принялась выразительно жевать. — Я Мэй. А это Джун.
Она слегка толкнула сестру плечом. Девушки одинаково склонили головы вправо. Они не обладали той кукольной красотой и миниатюрностью, как многие азиатки, но хорошенькими их можно было назвать без натяжки. Блестящие черные волосы до лопаток, одинаковые белые футболочки, чистые личики с легким макияжем. Рейн непременно захотел бы продлить знакомство, не занимай все его мысли пропавшая сестра. Он тоже представился, надеясь, что на этом разговор исчерпает себя и можно будет вернуться к мыслям о поисках Лилли. Девочки, впрочем, решили, что все только начинается:
— Новенький? Мы тебя раньше не видели.
— Будто вы всех тут помните. — Рейн красноречиво обвел взглядом толпу близнецов, способную посрамить сборище фанатов на концерте суперзвезды.
— Мы тут уже второй месяц, Беленький, — отозвалась Мэй.
— Ка-а-аждый. Де-е-ень, — добавила Джун.
Хоть какая-то польза от этого разговора!
— Девчонки, может, тогда видели здесь девушку одну? Как раз пару месяцев назад. С длинными волосами, похожа на меня… М?
— Может. — Мэй продолжила жевать ириску и пытливо посмотрела на Рейна. Она снова заговорила, только когда он послал ей серьезно-просительный взгляд: — Слушай, Беленький, ты хорошенький и не примелькался, а то давно бы заметили. А твоя сестра… Сестра же? Мы тогда сами только приехали, да и девочки нас не сильно интересуют, ага? Если ее сейчас здесь нет, значит, уже пробилась или сдалась — всё просто. Так как была тут без тебя, скорее второе.
— Нет, она не такая, для Лилли это настоящая мечта. Ей кто-то помог…
Гогот Мэй не дал ему договорить.
— Помог? Беленький, ты не с неба ли свалился и крылышки потерял? Здесь у тебя скорее отгрызут ногу, чем помогут. Посмотри на них!
Рейн не видел, чтобы кто-то таскал другого за волосы или хотя бы просто ругался, но напряжение дрожало в воздухе почти осязаемым маревом. Читалось в том, как бесчисленные близнецы дергано поправляли волосы, как притопывали ногами и бросали презрительные взгляды на конкурентов. Здесь собрались люди, готовые на всё. Если приглядеться, так многие и вовсе не были близнецами — максимум немного похожими друг на друга. Рейн покачал головой, и Мэй тут же торжествующе на него глянула: «Вот видишь!»
— Раз уж ты тут, — и она состроила милую беличью мордашку, — и раз уж ты нам нравишься, не хочешь снимать с нами квартиру? Подвернулся ништяковый вариант: уютная квартирка и совсем недорого… Если снимать не вдвоем, а втроем. Что скажешь?
— Вы всем первым встречным предлагаете пожить вместе?
— Она же сказала: ты нам нравишься. — Голос молчаливой Джун прозвучал неожиданно и оттого убедительно.
Но все же Рейн помотал головой. Хоть он и понял, что быстро Лилли не найдет и придется так или иначе обустраиваться в городе, завязываться в обязательства с кем-то еще — плохая идея. Тем более с кем-то, кого он знал пять минут.
— Ладно, Беленький. Передумаешь — вот номер.
Он добавил себе контакт, зная, что никогда не позвонит. Вдруг его имя прогремело над залом. На табло, развешенных под потолком, загорелись цифры, в которых Рейн узнал выданный ему на входе номер.
— Везет, — ударил в спину голос Мэй.
Ему и правда повезло, он читал это в ревностных взглядах тех, мимо кого проталкивался к дверям — входу в мечту. За ними не было фанфар и огней, как следовало бы, — уж больно страстно желали сюда попасть — обычный серостенный кабинет и четыре человека за длинным столом. Один из них обратился прямо к Рейну:
— У вас очень приятная внешность и видна пластика, вы могли бы нам подойти. Где ваш близнец?
Слова показались Рейну знакомыми.
— Вы — мистер Андерс?
— Нет. — Человек нахмурился, недовольный тем, что его драгоценное время тратится не по делу. — Так где близнец?
— Я один.
— Это программа близнецов, одиночки нам не нужны. Выйдите, пожалуйста, и не отнимайте шансы у других.
— Подождите, только минуту. — Рейн шагнул в сторону стола, и сидящие за ним отпрянули, будто он собирался обнажить пояс смертника. — Могу я поговорить с мистером Андерсом? Он ведь главный продюсер? Пожалуйста, это очень важно!
— Здесь нет и не было никаких Андерсов, продюсер — это я, — раздраженно бросил мужчина. — А теперь немедленно выйдите.
Как думаешь, из меня выйдет хорошая Белая Королева? Рейн, я счастлива! Прости, что сбросила твой звонок, но я сейчас так занята… Хозяин ненавидит, когда кто-то треплется за жизнь в рабочее время, а дома я успеваю лишь поесть и раздеться, а потом спать, спать, спать… Но мне нравится, правда. Я ощущаю жизнь, себя, свое место. И это место — шикарный ресторан. Я бы и заглянуть в такой боялась, не то что танцевать там. Черный, белый, черный, белый…
Ах, Рейн, ты ведь рад за меня? Правда? Думаешь обо мне? Я безумно скучаю.
Когда Рейн уезжал из дома, ему казалось, что он взял достаточно денег даже на тот случай, если поиски затянутся. Первый же мотель щелкнул его по носу. Несколько дней в городе — и стало понятно, что его запасов хватит от силы на пару недель. Грабительские цены на всё, от проезда до фастфуда, заставили Рейна задуматься о поисках не только сестры, а еще и работы. От самой мысли о том, что придется тратить время на что-то кроме Лилли, его кулаки бессильно сжимались. Успокаивало лишь то, что сестра тоже прошла этим путем. Раз уж он потерял нить в «Часе близнецов», может, удастся подхватить след в одном из клубов, где требуются танцоры. Никудышный все же из него вышел сыщик.
Лилли, подай мне знак…
Сколько в городе могло быть ресторанов в черно-белой цветовой гамме? Сколько угодно. А черно-белых, где есть королева? Может, и не один-единственный, но, едва Рейн увидел двери в виде шахматного поля и название «Эндшпиль», внутри что-то радостно всколыхнулось. И здесь тоже искали опытных танцоров.
Он прошел по разлинованному залу и, хотя не считал гигантские клетки, был уверен, что тех здесь ровно шестьдесят четыре. Стилизованные шахматные фигуры, строгая черно-белая гамма… Неужели Лилли здесь, в этом заведении, пахнущем настоящим деревом и большими деньгами? Могло ли ему так повезти? Сегодня Рейн обошел уже десяток приличных заведений, но везде получил отказ — всем нужны были пары близнецов и только.
— Вы по поводу работы? — Бледный молодой мужчина в черном костюме без всякого выражения смотрел на Рейна. На еще одного из потока желающих.
— Да… и не совсем…
— Где ваш близнец?
Сколько раз за сегодняшний день он слышал этот вопрос? От него хотелось зло скрипеть зубами, а сердце изо всех сил рвалось к Лилли. Рейн начинал понимать, почему она сердилась, что его не было рядом.
— Я один.
— Вы нам не подходите, всего доброго. — Мужчина уткнул взгляд в монитор, во что-то более важное, чем бесполезная персона Рейна.
— Прошу, уделите мне всего минуту. Мне нужно знать, не работает ли у вас Лилли Райт?
Мужчина отрицательно качнул головой. Могла Лилли представиться другим именем?
Рейн попробовал снова:
— Она танцовщица. Блондинка. Очень похожа на меня, мой близнец.
— Если вы сами не танцуете в «Эндшпиле» и у вас нет третьего брата или сестры, значит, ее здесь точно не может быть. А теперь — всего доброго.
Теперь всего доброго, теперь всего доброго. Всего доброго, доброго, доброго.
Снова и снова… Бары и клубы калейдоскопично сменяли друг друга, не задерживаясь в памяти. К концу дня Рейн научился видеть фразу-отказ в глазах хозяев еще до того, как те успевали ее произнести. Он давно не ощущал себя настолько бесполезным, настолько… Одиноким?
— Вам нужны только близнецы, а теперь всего доброго? — В очередном баре он для разнообразия решил отшить себя самостоятельно и развернулся к дверям.
Как же это место отличалось от тех, что Рейн посещал в первую очередь… И как же быстро город стряхнул с него амбиции и гордость… Утром он даже не заглянул бы в «Щупальца», заманивающие клиентов густым запахом мускуса и дешевыми пошлыми голограммами. А теперь — кусал губы от досады, что сейчас его вежливо пошлют.
— Вообще-то нет, — рослая рыжая хозяйка «Щупалец» хитро прищурилась, — на твою удачу, у нас на днях одна девочка лишилась напарника. На тебя не больно похожа, но тоже беленькая, накрасим как надо, и сойдет. Интересно?
— Еще бы! — Рейн постарался показным энтузиазмом загасить ощущение, что предает Лилли. Эта девочка ведь не станет ему сестрой, лишь изобразит на сцене…
Хозяйка озвучила незавидный гонорар и волчьи условия работы. Рейн согласился, ведь это было лучше, чем ничего.
— Вот и славно, приходи завтра, познакомитесь, и начнем отрабатывать программу.
— Здесь все просто помешаны на близнецах, да? — Еще с первого дня в городе Рейн не мог отделаться от этого вопроса и сейчас наконец избавился от него, точно от тяжелой ненужной вещи.
— Ну еще бы, — хохотнула рыжая великанша, — это фетиш и непроходящая мода. Слышал про Теодора и Цезаря?
— Основатели города?
— Именно. Они просто помешаны на твинцесте. Город живет близнецами и теми, кто умеет их продать. Кстати, как там тебя, Рейн? Мы не встречались раньше? Лицо у тебя знакомое. Впрочем, ладно, наверное, показалось, столько тут этих лиц мимо меня ходит! До завтра, дружочек.
Он уж точно теперь представлял — сколько. Получается, ему вроде как повезло? Рейн вышел в стеклянную огненную ночь. «Как вечное Рождество», да, Лилли? Такой город он мог полюбить, но сегодня уже слишком устал, чтобы влюбляться.
Из угла облепленного рекламой здания сочился свет и знакомая тягучая музыка. Две изящные фигурки в прозрачном кубе сладостно жались друг к другу. Вот кому повезло по-настоящему. Предел мечтаний и решение всех проблем близнецов. Близнецов, готовых на всё. Рейн не был уверен, что решился бы на такое с Лилли. А она? Решилась бы она?
Пора было возвращаться в мотель. В мотель, слишком дорогой даже с его новой работой. Рейн пролистал контакты, ища тот, по которому никогда не собирался звонить.
— Мэй? Если вы еще не передумали насчет той квартиры…
Нет, Рейн, приезжать не надо. Извини, что последнее письмо показалось тебе грустным, я просто сильно устала. И, да, конечно, я очень и очень скучаю. Даже больше, чем могла когда-либо представить. Если бы ты мог быть рядом сейчас… Но приезжать не стоит, правда.
У меня всё отлично, а встреча только разворошит, понимаешь? Ты ведь не останешься, тогда зачем? Будет только хуже. Ох, ты опять решишь, что письмо грустное. Я живу в фантастическом городе, у меня хорошая работа, милая квартирка — разве не здорово? Вот и я так думаю! Так что не волнуйся за меня.
Люблю, Лилли.
— Вот, знакомься, это Фантом Тридцать Девять. — Рыжая хозяйка «Щупалец» представила Рейну его новую партнершу. — Если интересно, почему Тридцать Девять, — ровно столько ей на самом деле лет.
Молоденькая светловолосая девушка с короткой стрижкой закатила глаза за круглыми линзами изящных очков.
— Прекрати, ужасная женщина! Мне всего лишь двадцать один. — Она протянула Рейну руку. — Просто Дина. Фантом — это псевдоним для зрителей. С Тридцать Девять звучит загадочней.
— Хорошо, Дина.
Рейн улыбнулся, девушка ему понравилась. Особенно тем, что ни капли не походила на Лилли. Не замена, а просто партнер для танцев. Может, макияжем и удастся придать им некоторое сходство, но подделка под близнецов явно будет совсем уж дешевой. Впрочем, и само заведение было вовсе не для взыскательных.
— А я внезапно поняла, почему ты показался мне знакомым! — Хозяйка приблизилась и, бесцеремонно взяв Рейна за подбородок, покрутила его голову вправо-влево. — Месяца полтора назад к нам пробовалась девушка, точь-в-точь твоя копия. Эх, жаль я ее не оставила, вы бы с ней подошли друг другу куда лучше, чем с Диной. Но наша Фантом тогда еще была при партнере.
— Лилли? — вскинулся Рейн. — Была здесь? Это моя сестра, я ищу ее. Она не осталась? Ох, черт… Может, вы знаете, где она сейчас?
— Что-то она говорила, чтобы мы могли ее найти, если передумаем…
Пока рыжая великанша морщила лоб, силясь вспомнить, вмешалась Дина:
— Не трудись, у тебя наверняка полно дел. Я тоже говорила с Лилли и сама Рейну расскажу, пока показываю клуб. О’кей?
И Фантом подхватила его за руку, увлекая в люминесцирующие фиолетовые недра «Щупалец».
— Вот здесь наша гримерка, направо — сцена…
— Стой, Дина. Это всё подождет. Ты знаешь адрес моей сестры?
— Не адрес. Она говорила только название местечка, куда хотела попробоваться. Прости, но это всё, вот… — Дина виновато пожала плечами и записала для него название.
Рейн готов был сорваться и бежать, но Фантом удержала его руку.
— Если она там, то никуда не денется. А если нет — ты потеряешь работу за просто так. Не глупи, Рейн. Небольшая репетиция, и полетишь искать сестричку.
Она была права, права, права, и все же он не мог сосредоточиться на танце. Тело отрабатывало знакомые движения на узкой сцене с истертым полом, но мысленно он уже ехал за Лилли. Скользящий шаг назад, вытянутая рука, тонкая кисть Дины, поворот… Неужели сегодня его поиски наконец завершатся? Дина неплохо танцевала, и у них почти получалось двигаться синхронно. Почти. Если ты когда-либо танцевал со своим близнецом, любой партнер будет лишь «почти».
Дина прижалась к нему спиной, двинула бедрами, закинула руки назад, обвив шею Рейна. Ее движения все меньше напоминали танец, Дина завладела его ладонью и направила к своей груди, будто предлагая расстегнуть пуговки блузы. Рейн застыл, понимая, что требует от него Дина, но не понимая зачем.
— Ну же, смелее, — подбодрила его та, приняв непонимание за робость, — не укушу. Зрителям нравятся стеснительные девочки, а не мальчики.
— Это что, часть номера? — Рейн отстранился, и Дина резко развернулась к нему лицом.
— Естественно, а ты думал? Это место что, похоже на храм искусств?
— Я думал, мы будем танцевать.
— Мы и будем. Сначала. — Дина закатила глаза, дивясь его наивности. — Слушай, ты же не девочка в самом деле. Давай уже сделаем это и закончим на сегодня.
Она прильнула к Рейну, но он отстранился.
— Нет, погоди. Я правда не думал, что здесь нужны не просто танцы. Мне такое не подходит.
— Ты это серьезно?! Я слышала, ты пробовался в «Час близнецов», там братья с сестрами трахаются прямо на улице в этих чертовых кубах! А теперь воротишь нос от небольшого стриптиза?
— Я сестру искал.
Дина вскинула голову, будто хотела одновременно удержать и гордость, и слезы. Она навернула круг по сцене, шумно выдохнула и заговорила подрагивающим голосом:
— Слушай, Рейн. Это правда не самое плохое место. Правда. Если ты уже здесь, значит, везде, где лучше, тебя послали. Остальное — хуже, можешь поверить. Не отказывайся сразу, хорошо? Покрути так и сяк. И думай не только о себе, ладно? Если ты откажешься, меня тут же выкинут отсюда.
Головой Рейн понимал, что Дина взывает к его чувству вины совершенно безосновательно, и все равно эту вину ощутил. Он мягко положил ладони ей на плечи, и она охотно поддалась на утешение.
— Ты ведь давно тут, почему тебя должны выгнать из-за меня?
— Не из-за тебя, а без тебя, — терпеливо, как маленькому, пояснила Дина. — Мой прошлый партнер свалил, и мне просто повезло, что сразу подвернулся ты. Я знаю, что это мои проблемы, но все равно прошу, подумай.
— Я подумаю, Дина, обязательно. Мне бы не хотелось делать плохо тебе, особенно после того, как ты помогла мне с Лилли. Спасибо.
Она кивнула очень сдержанно, то ли из скромности, то ли потому, что все еще на него злилась. Но как бы Рейну ни хотелось отблагодарить ее решением остаться, он ощущал, что еще не перешел ту черту, после которой готов согласиться на всё.
На что ты готов ради меня, Рейн? Нет, я не прошу приехать, наоборот, я писала, что не нужно. Просто подумалось… Здесь повсюду близнецы, мне невыразимо сложно не вспоминать о тебе каждую минуту. А еще эти близнецы… Как бы тебе объяснить? Между ними бывает самая разная «дистанция». Мне всегда казалось, что мы очень близки, даже слишком, но тут я поняла, что предел близости может быть много больше, дальше. Ты мог бы поцеловать меня? Нет, забудь, какая-то глупость лезет в голову.
И все же… На что ты готов ради меня?
Рейн смотрел на потолок. Такой низкий, что, казалось, можно достать до него, протянув руку. За крошечным окном растекалась наряженная в мириады огней ночь. В этой квартирке все было каким-то маленьким, узким, тесным… Но при этом достаточно милым и опрятным — тут Мэй не соврала. Даже из вентиляционной решетки тянуло не подгоревшим маслом, а чем-то сладко-карамельным. Самое то для девочек, а Рейну было в общем-то все равно, лишь бы дешево, да при этом не пропитаться насквозь злачной вонью подвальных каморок.
Вот он уже нашел себе и жилье, и работу, от которой, правда, почти отказался, но все же… Оброс какими-то знакомыми. Город всасывал в себя, не оставляя шанса на возврат к прежней жизни. Да и куда возвращаться? Пока Рейн не нашел Лилли, разве мог он сдаться, уехать? А она никак не хотела находиться. Наводка от Дины Фантом тоже оказалась пустой — там сестра никогда даже не появлялась.
И писем она по-прежнему не писала. Да и был ли в них прок? Чем больше Рейн блуждал по ее неверным следам, тем больше убеждался, что с этими письмами было что-то не так. Мистер Андерс, который никогда не работал в «Часе близнецов», — мошенник? Мистическое место работы, где она никогда не работала, — или Рейн просто неверно опознал приметы? Счастливая жизнь в достатке в том же самом городе, где Рейн не знал, от чего лучше отказаться: от завтрака или поездки до центра на гиперрейле.
Ты лжешь мне, Лилли?
— Хочешь ириску?
Рейн не понял, откуда Мэй взялась в его комнате, но и не особенно удивился — всего за сутки их совместной жизни близняшки успели показать себя совершенно беспардонными соседками.
— Не надо, спасибо…
— Ну и дурак! Между прочим, ириски — отличное средство от хандры.
— Ладно, давай проверим. — Рейн потянулся за конфетой.
Но стоило его кисти оказаться рядом с протянутой рукой Мэй, как та ловко ухватила Рейна за запястье.
— Эй, Беленький! Знаю, тебе сейчас кисло: сестра пропала, всё такое… Но надо как-то собраться, а то впору лечь и помереть. Съешь ириску!
— Вообще-то я и собирался, пока ты не вцепилась мне в руку. — Рейн через силу улыбнулся.
Почему-то рядом с Мэй и ее близняшкой такое вот бездеятельное лежание в депрессии казалось проявлением кошмарного слабодушия. Он принял угощение и, пока разворачивал хрусткий фантик, в комнате появилась Джун.
— Пойдем с нами? — Мэй встала рядом с близняшкой, и только сейчас Рейн заметил, что они обе нарядились в короткие блестящие платьица рубинового цвета и ярко накрасились. — Мы в клуб, чего и тебе советуем. Пора увидеть, что в этом городе есть не только безработица и безбожные цены.
И Рейн не нашел причин, чтобы отказаться.
Сегодня мне показалось, что я видела тебя, Рейн. Чуть не бросилась на шею незнакомцу… Как глупо.
Клуб походил на огромное электронное сердце, пульсирующее в такт ритмичной музыке. Иллюзию сокращений создавала алая мигающая подсветка по всему фасаду, окна закрывали голограммы с отрывисто движущимися силуэтами. Мэй и Джун подхватили Рейна под руки, и они втроем вошли внутрь.
Агонизирующие свет и звук, запахи тел, алкоголя, дыма, затуманенные глаза, случайные касания. Шумная толкливая реальность, втягивающая любого, кто готов растворяться, и выплевывающая тех, кто старается сохранить себя.
Рейн ощутил себя в эпицентре водоворота, полного плотских наслаждений и почему-то бессильного против одиночества. Всё кружилось, кружилось, кружилось и не способно было задеть.
Иногда мне кажется, что мы уже никогда не увидимся. Будто я уехала не в другой город, а в другую, параллельную жизнь, где нет тебя. Невыносимо! Неправильно! Рейн, мы ведь обязательно встретимся снова? Это же просто разные города…
— Нет, Рейн, так не пойдет! — проорала ему в ухо Мэй.
Неужели она так легко читала с его лица? Особенно здесь, среди сотен вспыхивающих на миг и тут же гаснущих человеческих масок, где сложно было уследить даже за самим собой.
— Дашь еще одну ириску?
— Лучше!
Сестры поволокли его куда-то сквозь толпу, сквозь плотную, почти осязаемую музыку. Рейн уже предчувствовал, что они задумали, и заранее знал, что не откажется. Он извел, измотал себя тревогой, просто устал не любить этот город. Хотелось увидеть Рождество Лилли. Яркие огни и счастье.
— Это Геновефа де Мо. — Мэй притащила их в отгороженную ложу, где на диване полулежал мужчина в белоснежном старомодном костюме. Высокая полупрозрачная стенка частично экранировала звуки музыки, позволяя говорить, не переходя на крик. — Наш джинн, маг и друг.
Рейн не заметил, чтобы мужчина стремился пожать ему руку в знак знакомства, а потому и сам не двинулся с места. Это шоу Мэй, пусть она там и заправляет. И она, конечно же, охотно удержала инициативу:
— Мо, нам нужны сладости для нашего приятеля, он грустит. Потом рассчитаемся.
— О, свет моих очей, — голос мужчины оказался густым и тягучим, истинной патокой, — друзья моих друзей печалиться не будут. Отведай мой лукум, и яростный самум его тоску сметет.
Рейн приподнял бровь, но Джун сдавила его локоть, бессловно веля попридержать удивление при себе. Он послушался и был вознагражден — Геновефа извлек из складок одежды золотую коробочку и открыл перед Рейном. Словно живые блестящие леденцы, там толклись маленькие скарабеи. Да, не таких сладостей он ожидал, и что с ними делать — не представлял абсолютно.
Мэй пришла на помощь. Она подцепила ноготками алого жучка и поднесла к носу Рейна.
— Не бойся, — шепнула близняшка, когда Рэйн вздрогнул от щекотного прикосновения лапок к коже. — Позволь ему.
Он думал, что задохнется или что желудок вывернет от отвращения, но Мэй казалась такой уверенной… Тогда Рэйн зажмурился, задержал дыхание. Позволил щекотке пробежать до самой носоглотки.
И свет разлился фантастическим сиянием.
Я вижу во сне нас; будто ты приехал ко мне. Но ты, конечно, не приезжай. Пожалуйста, не приезжай. Не приезжай… Пожалуйста, приезжай, приезжай, приезжай…
Вспышки света, звука, запахов. Миг — белые экстатические лица, как на фото. Миг — кромешная чернота космоса. Рваные движения в дымке, пульс толкающей в грудь музыки, смесь чужих духов и табака.
Рейну понравилось, что он не забыл о проблемах, но они будто перестали быть проблемами, перестали давить. Ясное чистое сознание, свободное от гнетущих «не выйдет», «никак», «никогда». Шаги и решения обрели четкие очертания и теперь вели прямиком к цели, к успеху. Всё получится, а сейчас — танец.
Мэй и Джун по-прежнему были рядом. Мягкие, гибкие, как кошечки. Он и сам двигался не как обычно — идеально отрабатывая техничные элементы, а будто был нанизан на музыку, и теперь лишь она управляла его телом, а Рейн позволял. Он стал частью всего, и всё стало частью его. Мир обнимал, принимал и по-отечески подталкивал вперед. И откуда-то через темноту, просеянную вспышками стробоскопов, для него светило солнце.
Рейн, я люблю тебя больше всего на свете. Помни это всегда, что бы ни случилось. Что бы ты ни узнал…
Мэй потерлась бедром о его бедро, Джун прильнула с другого бока. Рейн обнял обеих, пробежал пальцами по ткани платьев. Такие теплые и близкие. Их темные глаза в свете прожекторов блестели отполированными ониксами.
Вспышка, вспышка, вспышка.
Мягкие осторожные губы коснулись его губ. Чьи они? Мэй или Джун? Язык дразняще скользнул по кромке зубов, и вот уже другие губы. Точно такие же, но пахли — ирисками. Мэй.
Сладко, горячо и хотелось больше.
Иногда я подхожу к зеркалу, убираю от лица волосы и говорю с отражением, представляя, что это ты. Нет, не звони мне.
Они как-то оказались в квартире, и Мэй обнимала Джун, пока Рейн стаскивал с себя футболку и джинсы. А может, Джун обнимала Мэй. Он перестал различать, когда они перестали говорить, и их запахи смешались. Вдвоем близняшки уже были чем-то цельным, завершенным. Но, когда они втянули Рейна в круг, он не почувствовал себя лишним.
Теснота квартирки обрела новую ценность: шаг, объятие, шаг, два языка у него во рту, шаг — и они уже на кровати.
Почему за мечту нужно платить одиночеством?
Рейн целовал ключицы и шею одной, наверное Джун, одновременно задирая подол платья Мэй. Когда его пальцы скользнули по трусикам и подцепили невесомое кружево, она выгнулась, раздвинула колени. Джун тут же толкнула его подбородок, заставляя поднять лицо, поцеловала, чуть прикусывая губы. Рейн, прости меня… Его едва хватало на двоих — требовательных, жадных и жаждущих. Он входил в одну, ощущая руки и губы другой, потом они менялись. Бесстыдный вскрик Мэй, тихий стон — Джун.
Не за что-то, просто так. Можешь? Сквозь неплотно сомкнутые жалюзи ночные огни заглядывали в комнату, полосуя кровать и стены красным, оранжевым, желтым. Они лишь слегка разгоняли темноту, а Рейн все равно видел ослепительное сияние — вокруг, внутри, в Мэй и в Джун. Они отдавали себя щедро и с удовольствием. А он брал и возвращал им свет. Здесь братья и сестры становятся совсем другими. Что стало бы с нами?
У Мэй — кажется, Мэй — на внутренней стороне бедра была татуировка с леденцом на палочке. Засыпая, Рейн накрыл ее ладонью. Джун, если он их опять не спутал, тесно прижалась к бедру и груди близняшки, сплелась с ней ногами. Вчера я решила вернуться домой, даже вещи собрала, но осталась.
Вопреки ожиданиям, утром Рейн не ощутил и капельки стыда. И ни капельки обязательств. Всё честно и просто. Проснувшиеся одновременно с ним близняшки лишь подтвердили это непринужденной болтовней. Одна ночь для него в подарок и не больше.
Теперь он понимал, что имела в виду Лилли, говоря о дистанциях и других границах близости. Наверное, он ощущал что-то такое и раньше, глядя на кубы, но то было шоу, а произошедшее вчера — жизнь. И тут он вспомнил, что еще — жизнь. Деньги, работа… Отложенное до утра решение для Дины. Остаточная эйфория искристым порошком осыпалась на простынь, и даже веселый щебет Мэй не смог вернуть ему присутствие духа.
— Эй, Беленький, отходнячки? Или мы где сплоховали?
— Нет, вы отличные. — Он все же постарался тепло им улыбнуться. — Просто сегодня нужно согласиться или отказаться от работы, и оба решения паршивые. Дешевый разврат на сцене, или прощай, деньги, а с ними и эта ваша квартирка.
— Ты что, всерьез в таком отчаянии, что не знаешь, какое решение тут единственно верное? — Мэй казалась разочарованной.
— Дело не только во мне. Если я откажусь, из-за меня уволят еще одну девушку.
— И это только ее проблемы, Беленький. То есть ты, конечно, молодец, что думаешь о других и все такое, но незнакомый человек не может требовать от тебя раздеваться за деньги, чтобы он мог сохранить работу. Это же чистый бред.
— Она не требует… — ответил он, но скорее ради справедливости, а не оправдания для. Мэй была кругом права.
— Ну так и в чем беда? Ищи дальше, мы тоже поспрашиваем у Геновефы, помнишь его? Он не только в жучков может, еще и в закрытые вечеринки, где мы иногда выступаем с Джун. У него там бывают не только близнеценутые.
Мэй хихикнула, а Рейн благодарно улыбнулся. А потом попросил Дину о встрече и заодно проверил почту. Конечно, никакого нового письма от Лилли.
Лилли, пожалуйста, найдись.
Дина ждала в кофейне напротив «Щупалец», и по ее лицу Рейн понял, что она уже знает ответ. Да и нетрудно было, в общем-то, догадаться, почему он назначил встречу не на месте работы. Да и вообще зачем назначил встречу, когда мог просто прийти и танцевать.
— Ну и глупо, ни хрена ты лучше не найдешь, — сказала Дина на удивление беззлобно.
— Может быть, — легко согласился Рейн. После разговора с Мэй он окончательно уверился в своем решении. — Прости. Мне правда жаль, что я не могу остаться и помочь остаться тебе. Если мне что-то подвернется, я попробую узнать про место и для тебя.
Дина невесело усмехнулась и опустила глаза. Под бликующими от света линзами очков их стало совсем не разглядеть. Несколько минут она просто молчала, помешивая латте.
— Не извиняйся, — наконец произнесла Дина. — Вообще-то это я должна. Что ж ты, мать твою, такой правильный и хороший-то?! Аргх…
Рейн даже не пытался понять. Просто смотрел в ее лицо и ждал, пока она объяснится. Дина качнула головой и встретила взгляд Рейна.
— Про твою Лилли… Мне нужен был партнер, понимаешь? Вот так позарез. И тебе был нужен. Но если бы ты нашел сестру, то стал бы танцевать с ней. Я знаю, знаю… Это тупо и… И подло. Особенно когда ты правда старался думать не только о себе, но и обо мне. А теперь ты все равно не будешь танцевать со мной, так что какая уже разница, да? Твоя Лилли собиралась попробоваться в «Одинокую кошку» и, похоже, там осталась. Всё. Теперь можешь послать меня, ну или что ты там собираешься сделать. Я заслужила.
— Спасибо, — ответил Рейн.
А потом встал и бросился к выходу. Ему некогда было злиться, некогда было думать о том, как бы все повернулось, останься он работать в паре с Диной. Сейчас его ждала Лилли. Он ехал к ней, а перед глазами стояла пошлая вывеска с длиннохвостой кошкой. А еще та девушка, входившая в клуб, так похожая на сестру. Девушка, к которой он не подошел…
Лилли, это была ты?
У тротуара напротив дверей в «Кошку» стояла машина неотложки. Резкое, щемящее чувство заставило Рейна остановиться. Потом — побежать. Нет, нет… Не сейчас, не она! Внутри могла быть сотня народа, это мог быть кто угодно, но Рейн почему-то ощущал роковую предопределенность. У него было две возможности оказаться здесь раньше, но получилось лишь сейчас…
Он подлетел к дверям бара и едва успел затормозить, когда они распахнулись, выпуская санитаров с носилками. Взглянуть на них казалось выше его сил. Но Рейн должен был.
Там лежал мужчина. Тучный, с пунцовым лицом, в пропотевшей футболке. Рейн запрокинул голову и прикрыл глаза. Чудо с пустого места…
Он протолкался сквозь людскую пробку внутрь бара. Все галдели, обсуждая случившееся, где-то слышались женские рыдания. И знакомый-знакомый голос причитал:
— Я не знаю… Я просто танцевала, он часто задышал. Потом… Потом завалился и…
Снова рыдания, но Рейн уже бежал, летел туда.
Она стояла едва одетая, укрытая великоватой кофтой с чужого плеча. Покрасневшие веки и мокрые щеки, блестки в остриженных до плеч волосах…
— Лилли!
Сестра оглянулась. Удивление медленно стирало следы страдания с ее лица. А потом она просияла, разом становясь его и только его Лилли.
— Боже, Рейн…
Шепот, который невозможно расслышать в гомоне и орущей музыке, Рейн все равно расслышал. Считал с ее губ, с мыслей, забрал прямо из ее сердца. Она бросилась к нему, спотыкаясь на высоченных шпильках, упала прямо в руки. И долго, долго не отрывала заплаканного лица от его плеча. А Рейн не мог расплести пальцев, словно сросшихся за ее спиной. Нашлась, живая… Вместе.
Лилли наконец подняла глаза, коснулась пальцами его щек, будто проверяя, не исчезнет ли он от прикосновений:
— Как же хорошо… Как хорошо, что ты снова со мной.
Пожалуйста, не приезжай… Приезжай, приезжай, приезжай!
Он же всегда чувствовал, что это «не» никогда не следовало читать. И никогда им не следовало разлучаться.
— Мне так стыдно, — тихо говорила она, не посылая слова ему, а роняя их в чашку с мятным чаем. Там они таяли и долетали до Рейна только вместе с паром. — Ты не должен был видеть меня такой. Вообще там, в «Кошке», но особенно — сегодня.
— Лилли, не надо…
— Надо! — Ее голос вдруг взвился. — Видишь, до чего я опустилась? Всё пошло наперекосяк, с самого начала. Я ведь пробовала сделать всё правильно, я… Не сразу сдалась, я пыталась! Сначала…
Щеки и шея Лилли вспыхивали, пальцы стирали в труху салфетку, но сквозь унижение она все равно пыталась рассказать ему. Рейн остановил. Он ей не отец и не муж, да и что нового сестра могла ему рассказать? Рейн сам видел и пробовал — может, и не всё, но достаточно. Он даже не стал ее спрашивать, зачем лгала в письмах, все равно она бы не смогла ответить, чьи чувства оберегала больше: его или свои.
— Почему ты перестала писать? — вместо этого спросил Рейн.
— Потому что в какой-то момент лжи стало слишком много, а мне было слишком плохо, чтобы улыбаться даже в письме.
— Надо было вернуться домой…
— А есть разница, где позориться? Тут или там… Нет, Рейн, здесь был хоть какой-то шанс, что все изменится к лучшему. Черт, кого я обманываю, да?
Куда бы завел ее сегодняшний срыв? Почему-то Рейн знал, что вряд ли домой. Может быть, судьба все же есть, раз он нашел сестру именно сейчас?
— Изменилось бы, обязательно, — соврал он, зато дальше была чистая правда: — Но теперь это неважно, я же здесь.
— Ты хочешь увезти меня? — спросила Лилли без намека на протест. Будто бы даже с надеждой.
— Если захочешь, но… Тебе больше не обязательно работать в «Кошке»…
— Я не трахалась там ни с кем! — вдруг вскинулась она и так пронзительно посмотрела на Рейна, будто его доверие к ее словам сейчас было важней всего на свете. — Только танцевала!
Из-за всего случившегося он еще не успел подумать ни о чем таком, но почему-то после ее слов испытал облегчение.
— Я верю, Лилли, конечно, верю. Но я просто хотел сказать, мы же теперь вместе, можем попробоваться туда, где отказывают одиночкам. Я снимаю квартиру с двумя хорошими девушками, думаю, они не будут против, если ты переберешься ко мне. Все наладится, вот увидишь!
И Лилли улыбнулась, становясь почти прежней. А потом нашла под столом его пальцы и вцепилась в них изо всех сил.
— Рейн… Боже мой, Рейн, как мы могли разлучиться? Больше никогда…
Конечно, Лилли, больше никогда.
Комната была мала даже для одного. Жить в ней вдвоем — равносильно попытке слона протиснуться в мышиную нору. У Мэй и Джун получалось без труда, но им-то не нужно было спать отдельно и куда-то девать себя, пока вторая переодевалась.
Лилли шуршала тканью за его спиной, а Рейн сосредоточил взгляд на маленьком столике с двумя чашками и пластиковой тарелкой, на которой одиноко лежала последняя печенька. Никто из них не решался ее съесть. Рейн невольно прислушивался к звукам позади, пытаясь угадать, какую именно деталь одежды Лилли надевает. Вот грубоватый шорох джинсов, лязганье пряжки ремня, а вот тихий щелчок застегивающихся крючочков — и он почувствовал, как краснеет. Сухое похрустывание блузки…
— Можешь повернуться. — Лилли погладила его плечо.
Она старалась казаться веселой и благодарной, хотя на деле-то его приезд мало что изменил, кроме разве что одиночества. Зато надежды и мечты лишил окончательно. Раньше сестра могла думать, что вдвоем-то бы они тут озолотились, но приходилось справляться одной. А теперь они были вдвоем, только вот денег едва ли прибавилось. Да, их брали на работу куда охотнее, чем бесполезных одиночек, но за танцы без эротики никто много не платил.
— Рейн, я не обижусь, если ты вернешься домой. Это не твоя мечта. Ты ведь приехал, чтобы меня найти? Вот, нашел. У меня все в порядке… А мучиться вместе ни к чему.
Ему вспомнились последние слова, которые она сказала в кафе. «Больше никогда». Никогда не разлучаться. Неужели всего какой-то месяц заставил ее забыть? Или сестра просто боялась стать обузой?
— Не говори ерунды. И вообще все не так уж и плохо, верно? Жить есть где, дело — любимое. Мы вместе. Если я и решу уехать, то только с тобой.
— Может, уже и стоило бы… — Лилли забрала с пластиковой тарелки последнее печенье и, отломив половину, вложила вторую Рейну в ладонь. — Нет, правда, это мало похоже на мечту. Это вообще… похоже на черт знает что. Раньше я еще старалась, надеялась, а сейчас… Ничего не меняется, и я уже не вижу, как могло бы измениться. Мне стало казаться, что мы просто не подходим этому городу. Вот и всё, просто не подходим.
И что тут ответить? Он и сам видел, что перспектива у них только одна, но никто из них не пытался ее обсуждать.
— Эй, котятки! — заголосила из коридора Мэй. — Кому, кому клевых новостей?
Рейн и Лилли выглянули из дверей. С тех пор как они стали жить вдвоем, Мэй перестала без спросу вваливаться к ним в комнату.
— Смотрите, смотрите, — голосом бывалого шпрехшталмейстера объявила она, — во всех кубах города! Сестры Чэнь, та-дам!
— Что, серьезно?
— Еще как! Не зря мы долбаных три месяца топтали пол «Часа близнецов». Наверное, мы их просто задолбали.
Мэй расхохоталась. Рейн почему-то думал, что тем, кто не попал на прослушивание в первую пару недель, уже ничего не светит. Свои умозаключения он, конечно, дальше головы не выпускал, чтобы не огорчать девчонок, а вот как оно вышло… И радостно за них, и совсем каплю завидно. По тону, которым близняшек поздравляла Лилли, Рейн понял, что и она чувствует то же самое. Наверное, даже сильней, ведь ее мечта сбылась у кого-то другого.
— Мы угощаем, котятки! — безмятежно щебетала Мэй, и Рейн постарался оставить в себе одну лишь радость. Девочки заслужили.
Да и какой был смысл в зависти? Ладно бы они с Лилли тоже пытались, а вышло только у Мэй с Джун — тогда другое дело.
Они выпили. Потом еще немного и еще… Смеялись и радовались совсем искренне.
«Не бойтесь, котятки, мы не съедем, пока вы не подыщете хороших соседей», «Да, контракт уже подписали», «Кому ириску?», «И не надейтесь, что мы загордимся и забудем вас!..»
Близняшки отправились куда-то продолжать праздник, и Рейн с Лилли остались вдвоем. Они сидели друг напротив друга и обнаружили, что, не моргая, смотрят глаза в глаза и никак не могут разорвать намертво перепутавшиеся взгляды. Лилли вдруг рассмеялась.
— Что? — Рейн тронул ее пальцы, и сестра тепло сжала их.
— Я вдруг подумала, что мы слишком много думаем друг за друга.
— Разве это смешно?
— О, еще как, Рейн! То есть не так смешно, чтобы хохотать над этим, но я немного или много пьяная, так что да — смешно. Нет, смотри сам, я так много думала за тебя, что уехала одна, не позвав с собой по-настоящему. Я же «знала», что тебе хорошо дома. Потом писала все эти дурацкие письма, решив, что правда о моем унижении сделает тебе слишком больно…
— Наверное… Но ты ведь не только себя имела в виду? В чем за тебя думал я?
— Не только. — Напускная веселость сестры улетучилась. — Вместо того чтобы сказать, что я дура, и забрать меня наконец домой, ты подумал, что мечта еще слишком много для меня значит. И вот мы здесь. И вот мы оба несчастны. У твоих подружек все будто бы проще.
— Потому что Мэй слишком много болтает, — усмехнулся Рейн, и сестра сразу же вновь повеселела.
— Именно! И кричит она наверняка очень громко.
Да уж, Рэйн-то это знал совершенно точно. Лилли захихикала, точно школьница, застукавшая в туалете целующихся одноклассников, и он невольно вспомнил те ночи, когда всеми силами старался не думать о близости сестры. Она, будто бы и вовсе не замечая его внезапного смущения, невинно продолжала:
— Нет, Мэй и правда болтушка. Я сначала даже думала, что Джун немая.
Они оба засмеялись. Руки сами протянулись друг к другу через узкий кухонный стол, переплелись пальцами.
— Это ведь еще не все, о чем мы подумали друг за друга, верно, Лилли? «Час близнецов», так? — Рейн внимательно посмотрел на сестру и понял, что не ошибся. Не зря же она вспомнила Мэй и Джун. — Я был уверен, что для тебя это неприемлемо.
— А я, — отозвалась сестра, — что — для тебя.
Они помолчали, едва глядя друг на друга. Рейн не сомневался, что сестра любит его всем сердцем, и тем более знал, что она для него — всё и немного больше. Но сейчас они говорили о границах дальше любви. О чем-то из параллельной реальности. И в то же время таком простом и естественном.
— Думаешь, мы могли бы?
— Не знаю. — Лилли отвела глаза, но потом снова посмотрела на него прямо и смело. — Но я думаю, мы должны говорить. Обо всем и всегда. И только честно. Мне хочется кое-что исправить, и я, пожалуй, начну прямо сейчас…
Милый Рейн! Я попала в отвратительное место. Оно не было бы таким отвратительным, не будь я самонадеянной дурой и уговори тебя поехать вместе. Но раз уж я дура, то стараюсь справляться. Наверное, у меня не слишком хорошо получается, но домой не вернусь, потому что я не только дура, но к тому же гордячка.
А еще я завидую твоему жизнелюбию. Сначала я была уверена, что ты просто нашел свое — танцы, преподавание… Но, кажется, ты по-настоящему умеешь ценить жизнь здесь и сейчас.
Теперь, когда мы вместе, а мечта все еще далеко, я думаю: а могли бы мы? Да, тот самый вопрос, который ты только что задал мне. А я знаю только одно: я очень тебя люблю, и нет ничего, что не приму в тебе.
Так если мы можем быть еще ближе, почему не должны?
Стекла куба изнутри оказались такими же прозрачными, как снаружи. Но Рейн смотрел не на сотни глаз — людских и автомобильных, — только на Лилли. На фантастически красивую Лилли в голубом комбинезоне, секрет которого заставлял горячие токи разливаться по телу, пульсировать в тон тягучей напряженной музыке.
Их взяли в проект. Сразу и легко. Куда легче принятия решения. Но Рейн до сих пор не знал, получится ли у них.
Они с Лилли двигались пока еще невинно, касаясь друг друга лишь взглядами, запахами. Идеальная синхронность, которой Рейн завидовал у других пар в кубах, давалась так просто. Их тела звучали в унисон, будто были связаны миллионом невидимых нитей: поднимется рука одного — мгновенно отзовется у другого.
Темп музыки нарастал, сокращая расстояние между ними. И уже невозможно было не видеть жадные взгляды со всех сторон, как невозможно было не чувствовать дыхание Лилли на своей шее. Она подняла к нему лицо. Блестящие глаза, губы, которые он поцелует…
Сколько раз Рейн ее обнимал? Сколько себя помнил. Но сейчас — словно впервые. Голубая ткань под его пальцами растаяла, теплая нежная кожа ожгла пальцы. Губы, связанные теми же невидимыми нитями, притянулись безошибочно точно. И все сомнения растворились.
Лилли…
Ладони Рейна медленно скользнули по плечам, по талии, бедрам, прочерчивая широкие полосы на комбинезоне Лилли. Она льнула к нему, ласково, доверчиво, охотно. Оставляла теплые следы от прикосновений тела к телу.
Они упали на колени, не разрывая объятий, поцелуя. Руки, послушные только желанию и музыке, гладили и ласкали. Без стыда и удивления, будто так правильно, будто так должно было быть всегда.
Всегда, вместе. Больше, чем просто рядом.
Их окружало сияние, и все, конечно, смотрели. Впивались глазами в каждое запретное прикосновение, в дразняще проступающую плоть… Но ничего-то они не видели. Того, что происходило внутри куба на самом деле, нельзя было увидеть, услышать, осязать. Это было только между двумя — ним и Лилли. Соединение чего-то огромного, по ошибке разделенного надвое. И теперь, теперь…
Рейн не боялся. Тесный куб, площадь, люди на ней — всё схлопнулось, ничтожное. Перед ним открылась вселенная. Бесконечная, совершенная, настоящая… Если только Лилли шагнет вместе с ним. И в этот момент она шепнула прямо ему в ухо:
— Вот теперь все правильно.
Рейн прижал ее к себе так сильно, будто хотел стереть последнюю возможную границу между ними. Границу тел.
Они становились чем-то большим, невозможно близким. Единым.
Навсегда, Рейн.
Навсегда, Лилли.
Сталь, обернутая в шелк (Денис Скорбилин, Татьяна Аксёнова)
— Добрый вечер, мсье. Что привело вас в мой скромный салон?
Она не поднялась. Дала знак служанке, которая приняла у Пьера пальто, а сама еще больше откинулась на спинку кресла. Поднесла к губам чашку, позволив пару окутать лицо вуалью. Отточенный жест. Показной, притворный. Как всё здесь — от роскошных викторианских кресел до газовых светильников, погружающих комнату в зыбкий полумрак. Театр. Или бордель — Пьер никак не мог подобрать сравнения. Впрочем, какая разница? Не то место, вот что важно. Не тот человек.
Всё не то.
Она была молодая — что плохо. Красивая — еще хуже. Впрочем, глупости! Пьеру ведь никогда не нравились вульгарные крупные губы и крючковатые французские носы, тонкие и острые, как шипы. У его Ольги светлое нежное лицо, тихий голос, почти бесцветные волосы. Он и представить себе не мог сочетания привлекательнее. А эта… смотрела с нагловатой улыбкой, сжимая кончиками пальцев свою чашечку, и ждала ответа. Ленивая, будто кошка. Расслабленная. Явно чувствующая себя в этом театре — или борделе — как дома.
Ведьма.
Пьер выругался про себя. Плюхнулся в кресло напротив, такое же бессмысленно роскошное. Потертый саквояж поставил у ног. Взгляд ведьмы зацепился за него — куда более внимательный, чем адресованный самому Пьеру.
— Мсье?
— Вы гадалка? Вы и скажите, зачем я приперся.
Получилось грубее, чем он думал. Даже тон — не говоря о выборе слов. Она поставила чашку на столик, выпрямилась. Посмотрела поверх него так, что Пьеру захотелось поправить волосы на макушке.
— Я не гадалка. — Она говорила медленно, до металлического звона растягивая гласные. — Не читаю по руке, не раскладываю пасьянсов. Вы за этим пришли? Тогда у меня нет того, что вам нужно, жандарм.
Пьер вздрогнул. Пальцы, которые он так и не убрал с ручки саквояжа, сжались. Обручальное кольцо впилось в кожу. Она не попала, но — почти. Очень близко.
— Мне не нужны пасьянсы, — сказал он сухо.
— Нет? Что же тогда? Что заставило вас переступить через неверие и привело на порог к ярмарочной шарлатанке? Что за след? Или… отсутствие следа? Как сильно нужно отчаяться, чтобы обратиться за помощью… к духам?
Последнее слово ведьма произнесла, приподняв бровь. Она и правда насмехалась, Пьеру не показалось. Неожиданно от этой иронии ему стало легче. Потому что насмехалась ведьма не только над ним, но и над собой. Точно так же, как и он, уверенная, что никаких духов не существует.
Актриса. Мошенница. Но не сумасшедшая.
Так что Пьер быстро сделает дело и вернется в Управление. А в докладе напишет, что обращаться к потусторонним силам в расследовании — совершенно бредовая затея.
Он извлек из саквояжа сверток вощеной бумаги, перехваченный бечевкой. Лезвие ножа блеснуло в неверном газовом свете.
— Перчатка? — Ведьма подалась вперед, и Пьеру пришлось опустить взгляд, чтобы не уткнуться в ее декольте. Конечно, платье медиума, или как там она себя называет, обязано создавать антураж. И все же нужно хоть немного соблюдать приличия…
— Перчатка и два окурка. — Не глядя, Пьер протянул всё это ведьме. — Принадлежат одному человеку. Мы хотим его найти.
Ее рука на мгновение коснулась его, взяв улики. Ведьма не носила перчаток, и Пьер задержал взгляд на тонких пальцах с короткими разрисованными ногтями. Символы или буквы незнакомого алфавита. Нанесены нарочито грубыми мазками, резко выделяющимися на фоне утонченного и продуманного великолепия ее наряда. Пьер поднял глаза и встретился с ведьмой взглядом. Ах да! Он вытащил из портмоне тысячную купюру.
— Ого, вы точно из жандармерии?
Она снова усмехнулась уголком рта — теперь уже, наверное, своей догадке. Бумажка исчезла в складках платья, едва Пьер успел моргнуть. Взамен в его ладонь вернулся окурок.
Один из двух. Правильный. То есть наоборот.
— Проверяете? Что ж, понимаю. Этот окурок вы подложили. Здесь ваша аура, очень отчетливая. А еще это разные сигареты. Обе Celtique, но ваш знакомец курит самую дорогую серию. Приступим?
Она посерьезнела, будто время шуток прошло. Убрала с лица ухмылку, выпрямилась, как-то разом сбросив с себя шкуру той самой ярмарочной гадалки и начав выглядеть… Пьер сам удивился, когда нашел слово: профессионально.
Он понял, что уже с минуту бездумно пялится на ведьму, все так же держа на вытянутой ладони окурок, и засунул тот в карман. Гадалка? Медиум? Просто наблюдательная женщина? Надо признать, она сумела его впечатлить.
Ведьма положила перчатку и оставшийся окурок на журнальный столик с гнутыми ножками. Задержала на них ладонь. Огоньки пламени в светильниках разгорелись ярче. На газостанции увеличили давление? Сомнительно…
Ведьма открыла глаза. Она казалась бледнее, чем до этого, а глаза, наоборот, больше. Слишком большие, слишком выразительные, как и всё в ней. И немного…
— Вы ищете очень плохого человека. Хуже, чем думаете.
…Испуганные?
Пьер усмехнулся.
— Не смейтесь! Он специально оставил перчатку, чтобы посмотреть, что вы будете делать, к кому пойдете. Он следует за вами.
Она поднялась на ноги. Руку оставила на подлокотнике кресла, будто ища опоры. Маленькая — ниже, чем Пьеру показалось сначала, — хрупкая. Воплощенная беспомощность. Всей собой призывает защищать. И врет.
По крайней мере, что-то скрывает. Уж это Пьер различать умел.
— Где он? — спросил Пьер подчеркнуто безразлично. Будто не замечая игры ведьмы.
— Целая вереница призраков идут за ним… умоляют об отмщении.
— Где он? Говорите!
Она прикрыла глаза, и Пьер мог поклясться, что пламя в светильниках опять дрогнуло. Потом заговорила спокойным и деловым тоном, как в начале их встречи:
— Пистолет при вас или оставили в пальто?
Пьер хлопнул ладонью по кобуре.
— Хорошо. — Она слегка улыбнулась. — Через две минуты плохой человек с двумя компаньонами выбьют двери. В прихожей негде укрыться, будем ждать здесь. Тип в рыжем котелке носит доспех и ворвется первым. Прострелите ему голову или хотя бы ногу. Справитесь? Займите место слева от двери: у того, кто зайдет вторым, стеклянный правый глаз. Он замешкается, и вы без труда убьете его…
— Откуда… — голос Пьера дрогнул, — вы все это знаете?
Ведьма позвонила в колокольчик и сделала знак заглянувшей служанке. Быстрый кивок — та скрылась за дверью. Торопливо застучали каблучки.
— Едва я коснулась вашего человека, как убитые им заговорили со мной. Очень много голосов. — Ведьма массировала виски, будто у нее началась мигрень.
Пьер осмотрел комнату. У бордового дивана достаточно высокая спинка, чтобы скрыть его крупную фигуру. Ведьма нырнула за книжный шкаф. «Какое безумие, — подумал Пьер. — Почему я верю? Она же сбежит с моей тысячей франков, пока я ползаю за диваном».
— Мы так и не представились. — Ведьма нарушила тишину. — Мадемуазель Селин Вильре.
— Пьер Строгов.
— Немец?
— Русский. Пусть даже моей страны не осталось на карте…
Она подняла руку.
— Всё потом. Они идут. Помните о доспехе.
***
Всё случилось, как предсказала ведьма. Почти. Щекастый здоровяк в котелке и длинном плаще даже не поморщился от двух пуль в ногу. Их взгляды встретились, и Пьер сглотнул: на него таращились глаза с вертикальными зрачками. Под расстегнутым плащом блеснула зеленая кожа, похожая на… чешую? Но страха не было. Сердце билось спокойно и ровно. В спину монстра неуклюже врезался подельник с искусственным глазом — и тут же получил пулю в грудь.
Монстр зашипел и прыгнул вперед, зацепившись за диван. Пьер едва успел отскочить и выстрелил твари в лицо, прямо между желтых огней. Удачно.
Последний — тот, чью перчатку Пьер принес гадалке, — выскочил на парадную лестницу и уже бросился было вниз, но внезапно остановился. Обхватив голову руками, он закричал. А потом вытащил из внутреннего кармана револьвер и приставил к виску. Эхо выстрела пронеслось по колодцу подъезда. Пьер поморщился. Дом богатый, телефоны у всех. Жандармы будут с минуты на минуту.
Он наскоро обыскал труп, но ничего не нашел. Вернулся в квартиру, споткнувшись о мертвеца в коридоре. Под ногой хрустнуло — стеклянный глаз, понял он секунду спустя. Выкатился, должно быть, после того как…
Вспомнилось детство — от звука, не иначе. Родители в панике собирали вещи и бежали в ночь, прочь от большевиков, навстречу войскам Деникина. Тогда он смахнул со стола хрустальное пресс-папье, повторяющее формой их дачный домик. Дорогой подарок, изготовленный на заказ и торжественно врученный отцу на двадцать лет государевой службы. Игрушка разлетелась на кусочки с точно таким же дребезгом. Как и дача. Как отцовская карьера, как вся привычная жизнь… Деникин так и не дошел до Москвы, зато они успели покинуть Крым на пароходе. Теперь у Пьера собственный сын. Четырехлетний Жан давеча разбил память об отце — карманный хронометр с гравировкой императорского дома. Пьер не ругался. Вещи слишком хрупкие, чтобы цепляться за них. Игрушки бьются, часы ломаются, дома горят. Их квартирка в Батиньоль-Монсо тоже превратится в пепел, если немцы возьмут верх в этой страшной мировой игре.
— Доспех, значит? Стрелять в ногу? — хмыкнул Пьер и сразу пожалел. Бессмысленная бравада. Глупая.
Селин подошла, чтобы взглянуть на лежащее на полу тело. Странного оттенка кровь стекала с простреленной головы на плащ, оставляя на ткани пятна.
Сердце Пьера запоздало екнуло, к голове прилил жар. Чертовщина! Хоть бы не снилась потом по ночам, не хватало еще криками напугать Жана. Как ведьме удается сохранять спокойствие? Иная сползла бы на пол, но Селин стояла твердо. Пьер мог поклясться, что сложенные на животе руки не дрожали. Ни новой складки на платье, ни пряди, выбившейся из прически.
— Вы получили, что искали? — Гадалка, то есть медиум, быстро собирала вещи в ридикюль с изящной вышивкой. Помада, пудреница, толстая пачка франков, дорогая шкатулка… Последним в сумку прыгнул маленький «деринджер». Закончив, Селин подняла голову и посмотрела на него. В полных губах чудилась насмешка. А может, это был дымный морок.
— Нет, не получил, — вздохнул Пьер. — И без ваших штучек точно не обошлось. Почему он застрелился?
— Я помогла ему встретиться с призраками, которые хотели напомнить, что… Как у вас говорят? Долг платежом краснен?
Она щелкнула пальцами, как делают люди, когда пытаются что-то вспомнить, — совершенно естественный жест, которому Пьер поверил бы, будь перед ним кто-то другой. Но рядом с Селин все инстинкты подбирались и заставляли держать ухо востро. Нет, ведьма не забыла выражения. Она отвлекала внимание, прислушиваясь к окружающей пустоте. Неужели… духи нашептывают ей что-то и про Пьера?
— Красен, — поправил он, стараясь сохранить невозмутимость. — Буду честен, Селин, я не знаю, что делать.
— Нужен совет ярмарочной гадалки? Сейчас поищу волшебный шар…
За окном завыли сирены. Весь квартал разом осветился ярким электрическим светом — военные, должно быть, направили дирижабль в подкрепление. Случись такая перестрелка в районе Пьера, никто бы и ухом не повел. Но они на Пантеоне, а это совсем другая история.
— Мы можем продолжить разговор в другом месте?
Селин внимательно посмотрела Пьеру в лицо. Пороховые газы скрывали черты, но он кожей чувствовал ее серьезность.
— Мсье Пьер, я ошиблась: вы не жандарм. Общая безопасность?
— Главное управление национальной безопасности. Поменяли название пару лет назад.
— А методы прежние. Мсье Пьер, я ухожу. Провожать меня не стоит. Оставайтесь и разберитесь с коллегами, чтобы у жандармов не было ко мне вопросов. Не хочу их видеть, не хочу объясняться. Вы впутали меня в это, так примите последствия, как приличествует мужчине.
— Я сделаю это, если получу ответы.
— Получите. Возьмите визитку, найдете меня по этому адресу послезавтра в одиннадцать утра. Захватите еще десять таких же бумажек.
Она отворила неприметную дверку, замаскированную дорогими обоями. На фоне позолоты проем был едва заметен. Всё здесь обман, иллюзия, всюду двойное дно. Всё не то… Но, может быть, человек все же тот? Или сейчас она выпорхнет из этой фальшивой квартирки, навсегда растворившись в парижских улицах…
Пьер бросился за ведьмой по узкой лестнице, уходящей вниз, во тьму.
— Подождите! Мне нужно знать сейчас! На какую разведку они работали?
Селин обернулась, и в темноте, в которой не было видно ни губ, ни носа, ни этих тонких пальцев, он впервые почувствовал, что с ним не играют.
— Я не специалист по общению с разведками, мсье Пьер. Ваши мертвецы тоже не были. Не знаю, кого вы искали, но нашли нечто гораздо худшее. Встретимся послезавтра. Я помогу вам… не только ради денег. Теперь ступайте: жандармы уже вошли.
Ведьма сбежала вниз по лестнице для прислуги, и Пьеру ничего не оставалось, кроме как вернуться наверх. Но, до того как он успел захлопнуть дверь, темнота спросила его:
— Скажите, Пьер… Вы хороший человек?
— Да, — ответил он без колебаний.
— Вы женаты. Любите ее?
Теперь он на долю секунды замешкался, и тьма выдохнула:
— Не потеряйте визитку. Жду вас ровно в одиннадцать.
***
Конечно, он опоздал. Когда Пьер, стряхивая дождевые капли со шляпы, открыл дверь кафе, в котором его ждала ведьма, часы над барной стойкой отмерили двадцать минут двенадцатого.
— Простите, — пробурчал он.
Звякнула о блюдце чашка, и Пьер поднял голову, чтобы увидеть усмешку на губах ведьмы. Усмешка была все той же, а вот сама Селин… Не договорись они встретиться здесь, не ожидай Пьер увидеть ведьму, он легко мог бы пройти мимо, не узнав. Серое платье, чинно застегнутое до самого горла. Ногти, покрытые ровным слоем красного лака, безо всяких там закорючек — да не привиделись ли они Пьеру два дня назад? Осанка прямая, плечо лишь слегка опирается на спинку стула. Взгляд из-под куда менее густо накрашенных ресниц медленно и задумчиво скользит поверх столиков и чужих голов. Эта Селин ни капли не походила на гадалку из мистического салона. Она казалась… благородной? Во всяком случае, Пьер в своем промокшем насквозь пальто и измятых брюках чувствовал себя рядом с ней бродягой.
— Простила бы… если бы вы не проторчали лишних десять минут на другой стороне улицы. Что там такого интересного, чтобы заставить меня ждать еще дольше?
Скривившись, Пьер вытащил из кармана носовой платок и тщательно просушил лицо, которому именно в этот момент стало жарко. Ведьма улыбалась. Чтоб ее!
Пьер и не осознавал, насколько тяжело ему дался вчерашний день, пока не вышел из дома сегодня утром. Конечно, он всегда был рассудительным человеком, не бросающимся в омут с головой, но случившееся превратило его в настоящего параноика. Каждое второе лицо казалось подозрительным, каждый второй взгляд — чересчур внимательным, а жест — угрожающим. Пьер то и дело оборачивался, ускорял или замедлял шаг, сворачивал на неприметные улочки, только бы отделаться от навязчивого ощущения чьих-то глаз за спиной. По указанному ведьмой адресу он и правда явился еще четверть часа назад, но никак не мог заставить себя пересечь улицу и открыть дверь. Прятался от ползущей по улице машины, в которой распознал замаскированный под дизельную колымагу тесла-мобиль жандармов. А когда сыщики свернули на перекрестке, то еще долго вглядывался в залитые дождем стекла кафе. Искал, сам до конца не понимая кого или что… Конечно, ведьма не могла не заметить фигуры, стоящей столбом посреди тротуара, пока другие прохожие спешат укрыться от непогоды. А теперь не отказывала себе в фирменной ухмылочке, от которой Пьер ощущал себя неимоверно глупо.
— Разве вы не в курсе того, что случилось, мадемуазель Всезнайка? Духи не нашептали вам?
Электрическая лампа испускала ощутимое тепло, и Пьер, который присел было на край стула, встал, чтобы снять пальто.
— Зачем нужны духи, когда есть газеты, мсье Пьер? Конечно, я в курсе. Впрочем, и духи сгодились. — Ведьма приподняла бровь и сделала глоток из чашки. — Я знала, что вы придете. Что не погибли в этом пожаре.
Поймав взгляд официанта, Пьер заказал кофе, а к нему коньяка. Двойную порцию. Конечно, Пьер не ожидал, что их новая встреча произойдет в таком месте: ему представлялся какой-нибудь тайный клуб, еще один салон, собственная ведьмина квартира на худой конец… Но у кафе были свои преимущества. Из-за занавески не выпрыгивали люди-крокодилы, здесь ничего не взрывалось и пахло не порохом, а свежей выпечкой. Пьер сделал хороший глоток коньяка и на секунду прикрыл глаза, ожидая, что давление в висках хотя бы немного ослабнет. Черта с два.
— Итак, — буркнул он, снова прикладываясь к рюмке.
— Итак?
— Вы дали понять, что у вас есть зацепка… — Пьер почти машинально потянулся за портмоне, чтобы достать деньги, но тут же возненавидел себя за этот жест. Выглядело так, будто он ее… покупает. Нет, по правде, он и собирался что-то у нее купить, как тогда, в салоне: сведения, предсказание, да хоть бы и божественную помощь — он был готов ухватиться за соломинку. Но вот так открыто швыряться франками, после того как ведьма сама, по-человечески предложила помочь…
— А ведь вам все еще претит необходимость обращаться ко мне. — Селин, от внимания которой не укрылось его движение, откинулась на спинку стула. — Неужели я до сих пор кажусь вам шарлатанкой? Решили, что в салоне я провернула какой-то трюк?
Пьер хмыкнул. Еще бы он не думал! Мягкие кресла, полумрак, бархатный голос ведьмы… Разве не могла она применить, скажем, гипноз? Заставить его поверить, что он действительно видел то, что видел? Но трупы были реальны, да и после…
— Нет, — выдавил из себя Пьер. — Вас не было в Управлении. Вы бы не смогли.
— О, вы уже доподлинно знаете, что я могу, а чего нет? — Губы Селин растянулись в очаровательной улыбке, которая понравилась Пьеру еще меньше обычной иронии. — Но вы правы. Меня там не было. И я очень хочу услышать ваш рассказ.
Официант поставил на стол тарелку с выпечкой. Пьер опрокинул в себя вторую порцию коньяка, чувствуя, как тепло опускается в желудок. Не спрашивая разрешения, протянул руку и оторвал половину еще горячего круассана.
— Для начала о том, чего не было. Пожара не было. Вообще. Это выдумали, чтобы скрыть правду.
…Пьера распекали за провал, когда на столе зазвенел телефон. Не тот, обычный, с вытертой рукояткой цвета слоновой кости. Второй. Тревожный. Дежурные успели передать, что их штурмуют вооруженные люди, и связь прервалась. Дом вздрогнул от взрыва на первом этаже. Донеслись приглушенные выстрелы.
— В тот момент мы решили, что началась война. Боши давно напрашивались на взбучку, и мы ждали чего-то такого, но… — Слова давались с трудом, мысли сбивались в кучу.
— Позвольте? — Селин коснулась его ладони. Пьер едва не выдал очередную колкость про гадания по руке, как вдруг…
Гром. Десятки выстрелов. Ручные пулеметы нападавших. Его табельный револьвер. Они громоздят на четвертом этаже баррикаду, вниз по лестнице шагают оперативники Отдела ликвидаций в самоходной электроброне. Жужжание доспехов едва различимо за грохотом ружей. Бах. Бах. Бах. Бах. Ничего не видно за пороховым дымом, ничего не слышно, кроме звона в ушах. И все равно накатывает облегчение: они контратакуют, бошей выбили с третьего этажа, теснят на втором…
А потом все здание в момент заволокло удушливым туманом. И Пьер вдруг понял, что нападавшие не имеют отношения к Германии.
— С чего вы вообще взяли, что тут замешаны нацисты? — Селин поморщилась, будто услышала невероятную глупость.
Пьер вынырнул из воспоминаний и с благодарностью посмотрел на ведьму.
— Полгода назад в Париж приехала парочка бошей из Аненербе. Это такая немецкая оккультная организация. Клуб шпионов под прикрытием мистиков и путешественников. Управление следило за ними и их контактами. Так в разработку попал тип, чью перчатку я приносил. Мы решили, он тоже этнический немец из…
— Еврей.
— Вот как? Кхм. Ладно. В любом случае, наши агенты потеряли его после первого контакта. А вторая встреча оказалась последней: этот тип поссорился с бошами и убил обоих. Мы крепко облажались. Никого не поймали, только подобрали окурок и перчатку, да и ту нам, как оказалось, подбросили…
Селин кивнула.
— Вы пренебрежительно отзываетесь об Аненербе, но за их вывеской скрывается старое общество Туле. Это опасные люди, которые служат древней и недоброй силе. Если вам мерещатся здесь следы гитлеровских усов… Вы не до конца правы, мсье Пьер.
Пьер не протестовал. Слишком много случилось вчера, после того как коридоры Управления окутала мгла. Электрическое освещение погасло, зажглось тусклое резервное. Снизу поднимались неясные гулкие звуки. Не сразу Пьер понял, что это выстрелы и крики. Очень много криков. Очень мало выстрелов.
Пьер высвободил руку, чтобы заказать еще коньяку, но Селин снова перехватила его ладонь.
— Не время, Пьер, прошу. Что было дальше?
— Дальше были змеи. — Пьер залпом допил остатки кофе. — Пара гадин проползли по лестнице прямо у нас под носом. Укусили шефа.
Он прикрыл глаза, вспоминая подробности. Чашка, которую он забыл вернуть на блюдце, парила, зажатая между побелевшими пальцами.
«Пьер, бегите в кабинет, в левом ящике стола аптечка. Дерьмо! Откуда змеи? Поторопитесь!»
Пьер торопился, как никогда в жизни, на ощупь пробираясь сквозь туман по родным коридорам Управления. Но все равно не успел. Атака на здание закончилась, едва шеф перестал дышать. Пьер видел отступавших налетчиков сквозь окно. Крепкие мужчины. Похожи на уроженцев Нового Света. Может, Гвианы? И вот с ними…
— Кто? — Селин подалась вперед. — Кого вы видели? Обещаю: вы не сумасшедший. Кто там был?
Человек с головой змеи. Обычного сложения, среднего роста, но… змееголовый. Буквально. Обернувшись, чудовище увидело Пьера и задержало взгляд. Стало ясно, что их шпионские игры не стоят ни гроша. В Управлении просто не понимали, с чем столкнулись. Что уж говорить о туповатых жандармах… Пьер не стал тратить времени на бессмысленные объяснения и сбежал. От коллег. От государства. От здравого смысла. К Селин.
— Вот так всё и было, мадемуазель медиум. И если у вас действительно есть средство…
— Есть. — Ведьма снова откинулась на стуле. Ее взгляд обратился к окну, будто в задумчивости, но Пьер отчего-то подумал, что она не хочет встречаться с ним глазами. — Боюсь, оно вам не понравится.
***
— Что это? — нахмурился Пьер, разглядывая маленький бумажный квадратик, который Селин положила ему на ладонь. Еще один ведьма осторожно держала двумя пальцами.
— Средство, о котором я говорила.
— Это я понял. Но что это такое?
Пьер нетерпеливо шаркнул туфлей по паркету, и Селин поморщилась. Паркет был светлый, натертый до блеска, и сама ведьмина квартира оказалась очень светлой, современной и куда богаче той, в которой Пьер ютился с Ольгой и маленьким Жаном. Пьер с тоской подумал о хрустящих тысячных бумажках, так незаметно перекочевавших в сумочку Селин. Сколько стоит, к примеру, кресло с узкой гнутой спинкой или вон та ваза на столе? Гадать на ярмарках куда прибыльнее, чем защищать страну…
— Изобретение одного ученого… химика. Секретное, так что, надеюсь, вы не будете распространяться… Что? — Ведьма усмехнулась. — Думали, я предложу отвар из крови девственницы и помета нетопыря?
Пьер пожал плечами.
— Значит, это наркотик? Или что?
— Можно сказать и так… упрощенно. Это не опиумный туман. Это вещество открывает сознание невидимому миру духов — и поможет нам разглядеть то, что скрывается от глаз. Да, вы можете называть это наркотиком. Наверное.
Пьер выругался. Ведьма все-таки провела его. А ведь он уже начал ей доверять. Наркотик, ну конечно! И почему он решил, что у ведьмы действительно есть…
Что? Чего он на самом деле ожидал? Может, Селин должна была вытащить из чулана какого-нибудь свидетеля — со змеиной головой или чешуйчатой грудью? Документы? Или, наоборот, расставить по углам свечи, начертить пентаграмму, воззвать к какой-нибудь потусторонней сущности? Глупости! Ни о чем подобном Пьер, естественно, не думал. Так что же тогда его так удивило? После всего, что случилось в эти дни?
Пьер снова посмотрел на квадратик, лежащий на ладони. Пожал плечами и положил в рот. Вкуса не было, обычная бумага. Ведьма кивнула. И повторила его движение.
— Что теперь? Разверзнется портал в другой мир? Вокруг запляшут феи и призраки? Или эти ваши духи… как они выглядят? Я смогу их узнать?
— Вы шутите. — Ведьма коснулась его руки. — Боитесь?
— Духов? Нет, не боюсь. — Пьер пересек комнату и сел на диван, почувствовав слабость в ногах. Это еще не могло быть действием наркотика… скорее всего. Но ему правда стало не по себе.
— Не духов. Себя. Когда разум открывается, можно многое узнать о себе. Больше, чем хотел бы знать.
Селин последовала его примеру и присела рядом. Платье, на этот раз синее, приподнялось, едва прикрывая колени. Модные квадратные плечи, которые шли ей куда больше, чем Ольге, кожаный пояс и белый воротничок… Да, одеваться эта женщина умела. Как она умудряется всегда выглядеть к месту? Не то что он, Пьер, вечно закованный в костюм, в тесные туфли, в свое тело. Иногда об этом получается забыть, но чувствовать себя по-настоящему уютно? Если бы! Даже сейчас рукам холодно, а спине жарко, да и душновато здесь. Может, открыть окно? Воздуха с каждой секундой все меньше…
Он приподнялся было, но передумал. Голова закружилась, в глазах потемнело.
— Пьер?
Ведьма накрыла его ладонь своей. В любой другой момент Пьер стряхнул бы ее немедленно… Но от пальцев Селин исходило тепло, и Пьер предпочел поддаться. Всего на минуту. Не больше.
— Я в порядке, — пробормотал он, не совсем узнавая собственный голос. — Вам не душно?
— Нет. Сидите, это пройдет. Сердце колотится?
— Да. — Он вдруг заметил, что так и есть, и паника взрывной волной прокатилась по коже. Ведьма решила его прикончить! Как можно было позволить уговорить себя сожрать неизвестную дрянь?.. Конечно, ведьма тоже ее приняла и сидит живехонька… Но даже если не яд, а экспериментальное вещество — чем это лучше? Как оно подействует на Пьера, вызовет сердечный приступ? Пусть ему всего двадцать шесть, но…
— Врача… Позовите врача, пожалуйста.
— Нет. — Уже обе руки Селин обхватили его ладони, и Пьер вцепился в них, как утопающий. — Это скоро пройдет. Я обещаю.
Она слегка поморщилась: кажется, от неосторожности Пьер причинил ей боль.
— Постарайтесь отвлечься. Подумайте о нашем змееголовом друге, настройте на него сознание.
Внять совету ведьмы было не так-то просто. Пьер пытался представить тварь, но змеиный образ ускользал, растворялся в тумане. Зато гремящее сердце стало видимым, будто грудная клетка Пьера превратилась в стекло. Красный сгусток мышц пульсировал и дергался, наливаясь кровью и сдуваясь, колотился о ребра и прижимался к спине.
Что-то коснулось подбородка Пьера и приподняло его, прерывая увлекательные наблюдения за собственным сердцем, — что-то мягкое, нежное, светло-бежевое на ощупь.
— Не увлекайтесь. — Голос у ведьмы был синим, как ее платье… или нет, больше похоже на волну, бирюзовую и искрящуюся. — У нас есть дело.
Оплетая только одну ее ладонь, пальцы Пьера чувствовали себя одиноко. Он потянулся ко второй руке, которая жалась к его подбородку, и от прикосновения бирюзовая волна прокатилась по всему телу. Ладонь ведьмы, его ладонь и лицо стали одним целым. Пьер шумно выдохнул, удивляясь новому ощущению: сердце в прозрачной груди теперь гнало кровь по венам Селин и дальше, до ее груди, до ее собственного сердца, а потом обратно. Туда и обратно, туда и обратно, туда и…
— Пьер…
Чьи-то пальцы росли из его лица совсем близко ко рту. Он поцеловал их, наслаждаясь едва слышным, как шепот, прикосновением. Возможно, это были его собственные пальцы, но… необязательно. Еще одно прикосновение — уже громче. Волна накрыла его с головой, и на секунду Пьер испугался, но потом разобрался, как дышать. Лицо Селин висело в воздухе совсем рядом, но пока не врастало в его, и это раздражало. Какие у нее все-таки огромные губы, чуть приоткрытые, а за ними — мокрая, искрящаяся, поющая пропасть, куда хочется провалиться. Он потерпел немного и провалился с бирюзовым звуком.
Пошатывало. Не его — комнату. Диван, когда Пьер сполз с него, увлекаемый своим новым органом — Селин, вдруг уменьшился до игрушечного. А вот паркет стал огромным, каждая дощечка размером с человека.
Пьер шел осторожно, стараясь не наступать на швы. Доски прогибались, как кошачья спина под рукой, и Пьер хватался за всё подряд, чтобы не упасть.
Другая комната оказалась круглая и блестящая, как елочная игрушка изнутри. Это нужно исправить, понял он. Но как? Шелк покрывала на кровати пошел рябью, затем вдруг сложился в лицо, которое растянулось в широкой бирюзовой улыбке Селин. Пьер удивился, но тут же понял, что шелк — это и есть Селин. И что она красивая.
Их руки стали одним целым. Их сердца под прозрачной кожей теперь сообщались. А расстояние между телами и было тем, что искажало пространство. Пьер удивился, почему не понял этой очевидной вещи раньше. И опустился на кровать, сведя расстояние к нулю.
Когда они снова распались, Пьер посмотрел вверх. Над его нелепым и несовершенным телом раскинулся потолок, подрагивающий, как блики на поверхности озера. В груди зарождался новый звук, мощный, размеренный и яростный, с лязгающей ноткой металла, ударяющегося о металл. В Пьере больше не осталось крови — только дизель, мчащийся по медным венам, подпитывая работающий на износ мотор.
…танки с тевтонскими крестами вспахивают долину. Над ними лениво скользят боевые цеппелины. Ласточками мелькают юркие истребители. Пьер не узнаёт места, но понимает, что стальная армада мчит на них. В Париж… Вот уже Елисейские Поля. Солдаты в незнакомой механизированной броне несут гитлеровский флаг. А знаменитые парижские зеваки машут шляпами, приветствуя чужую армию…
— Пьер! Что с вами? Пьер! Очнитесь!
…вывеска Arbeit macht frei над воротами в ад…
…не стреляйте, прошу, я сдаюсь…
…очень холодно, даже есть не хочется…
— Пьер! Пьер!!!
…вернулись. Мама говорит, не играй, когда они в небе. С таким лицом говорит, что ослушаться страшно. Но до чего интересно! Никогда такого не видел, даже сравнить не с чем. Разве что с каппа, но Акайо еще в прошлом году по секрету сказал, что каппа не бывает, а американские самолеты — они взаправдашние. Вот и сегодня прилетели и, наверное, что-нибудь сбросят на Хиросиму. Какую-нибудь бомбу. Смотри, смотри же, это что, новое солнце над городом?! Столько света, столько тепла…
— Пьер, да очнитесь же!
Столько света, столько тепла — над ним, теперь уже точно над ним, Пьером. Не маленьким японцем и тем более не танком. Глаза Селин. Два тлеющих уголька, мягких на вкус, бронзовых на запах, прохладных, как карамель… манящих.
Пьер почувствовал, что снова проваливается, и сжал себя в кулаке, чтобы удержаться на поверхности. Нужно сказать ведьме… Селин. Сначала — сказать ей.
— Ужасные вещи… Нас всех ждут ужасные вещи… — Язык не слушался, пытаясь утащить Пьера обратно в теплую бирюзу. — Война… хуже Великой… Франция, Германия, Польша, СССР, Япония — все в огне.
— Тише… Тише. — Селин нависала над ним. Огромные губы двигались, вокруг блестящих глаз вдруг нашлись ресницы, а внутри — зрачки. И беспокойство. О нем? — Это еще не случилось. Необязательно случится. Вы видели возможное будущее — ничего больше. Мы можем всё изменить.
«И обязательно изменим». Эти слова Селин произнесла прямо внутри его головы. Ее голос ласково щекотал мозг Пьера, и он улыбнулся. У него были губы, и он мог улыбаться. И не только — комната снова изгибалась, и Пьер знал верное средство, как это исправить.
Пьер нырнул в бирюзу. И стал бирюзой. Это было по-настоящему лучшее, что с ним когда-либо происходило.
Стены сходились и расходились. Комната дышала, как исполинский ящер. Что-то в ней опять было не так, и Пьер никак не мог понять, что именно. Хотелось спать, закрыть глаза, раствориться в шелке простыней. Но беспокойство шуршало и шипело в ушах, всё громче и громче, не изнутри, а снаружи, из левого угла снова округлой комнаты. Пьер моргнул, приглядываясь внимательнее… И различил тонкий змеиный хвостик, уходящий под обои. Пьер потянулся — и в тот момент, когда его пальцы сомкнулись на чешуе, Селин слилась с ним. Единым целым они скользнули за стену. И оказались в темноте, пронизанной звездным светом.
Они увидели земной шар, прекрасный, удивительный и страшный. Весь покрытый маленькими человечками, которые смеялись и плакали, надеялись, молились, любили и, конечно, убивали друг друга. Закапывали заживо, расстреливали, забивали молотками, морили голодом. А под землей, где-то в лесах Южной Америки, ждал своего часа Змей. Огромный, добрый и всепонимающий… для своих. А чтобы своим, его милым детям, стало хорошо, человечкам нужно подвинуться. Очистить мир от себя. И до чего любезно со стороны некоторых из них помогать Змею! Пьер и Селин видели, как помощники Змея перемещаются по планете, гордо неся отметины своего покровителя. И один из них, со змеиной головой, был совсем рядом… Земной шар приблизился, стали видны предместья Парижа. Пьер узнал заводы Булонь-Бийанкур. Сейчас, когда экономика полетела к чертям, фабрики закрылись, и вот там-то Змееголовый и плясал вокруг крохотного деревянного ящика. Другие человечки, обыкновенные с виду, но со страшными черными тенями, тянули к ящику маленькие ручки.
Змей заметил Пьера и Селин и выполз из-под гигантской пирамиды, скрытой в сельве. Шипение стихло. Земля остановилась. Звезды погасли. Осталась лишь пара огромных желтых глаз, похожих на две Луны. И зубы. Однако, прежде чем острые ядовитые клыки коснулись Пьера и Селин, они скользнули обратно в комнату, плотно запечатав за собой дверь в стене.
— Я знаю, где змеиное логово, — выдохнул Пьер. Образы теснились в голове, сталкиваясь и перемешиваясь. — Там не только змеи.
— Я видела. Общество Туле прислало новых переговорщиков. Я говорила, это опасные люди. Рассмотрели их тени?
— Их там целый батальон. Ты… — Пьер запнулся и почувствовал, что краснеет, как мальчик. — Вы просто не видели, сколько их было в Управлении…
— Многие там и остались. А если и нет, вы видели будущее, Пьер. Нечего терять. И мы можем перейти на ты. После… да и вообще.
Пьер лихорадочно принялся застегивать ремень кобуры. Затем схватился за пиджак, перепутав пуговицы. Селин подошла и исправила. Несмотря на всё, что случилось между ними в эти часы, она была спокойной и уверенной. Да ведь она прекрасно знала, что будет, не так ли? «Вы женаты. Любите ее?» Тогда он не ответил, и, наверное, Селин решила, что… Пьер поморщился и поступил, как поступал всегда в таких случаях, — отрезал ненужные мысли непроницаемой стеной. У них есть дело. Миссия. Они должны ее выполнить.
— Нам нужно что-то посерьезнее револьвера. И другая машина: мою могли объявить в розыск. Заеду домой, заберу ключи от конспиративной квартиры. Там есть наличность и патроны, потом найду авто.
— Мне не нравится эта идея, — нахмурилась Селин, и Пьер еще раз подумал о том, что никогда не привыкнет к ее странной и неправильной французской красоте. — А если дома засада?
— Вы мне скажите, — горько усмехнулся Пьер, снова сбившись.
Селин сухо кивнула. Ее внимательные глаза царапнули зеленью, острой, как грани драгоценного камня. Помедлив, она заключила:
— Дома всё чисто. Можешь ехать.
Пьер кивнул и накинул пальто. Селин остановила его, протянув простенький медальон на медной цепочке.
— Надень, это защитит тебя. И возьми мой пистолет. Я обойдусь, а тебе пригодится.
Пьер нацепил медальон, спрятав под рубашку. Положил в карман пальто маленький двухзарядный «дерринджер». Что угодно, лишь бы поскорее выйти на уличную прохладу, вдохнуть и хотя бы попытаться разобраться в себе.
***
Ехать до родного Батиньоль-Монсо пришлось через весь город, но Пьер был даже рад. Мысли теснились в голове. Как так вышло, что мир, и без того большой и страшный для маленького человека, стал еще больше и страшнее? По радио обсуждали мирные инициативы Лаваля и Болдуина, гадали о реакции Гитлера. На бульварах Пантеона хохотали поздние гуляки. В звездном небе парил воздушный флот, гордость и краса Франции. Но Пьер знал цену мирным инициативам, да и старые дирижабли, не проходившие перевооружения одиннадцать лет, не внушали доверия. Мир очень хрупок.
И насколько крепка его собственная семья, шепнул внутренний голосок. Сейчас — он сверился с часами — половина десятого. Ольга уже уложила Жана, если только тот не раскапризничался, как случается всё чаще. Читает или вышивает, сидя в кресле, в домашнем платье, поглядывает на дверь…
Пьер припарковал машину в двух кварталах. Внимательно изучил подходы к дому. Убедившись, что засады нет, зашел в обшарпанный подъезд. В эту квартирку они въехали после свадьбы, на время, пока не поправят финансы, да так и задержались…
Ольга бросилась к нему с порога — похоже, правда ждала. То самое платье, о котором Пьер думал, та самая прическа с убранными назад гладкими волосами.
— Петя! Петенька! — Он уже начал улыбаться, но улыбка получилась кривой. Слезы… Пьер не любил женских слез, а женская слабость, которую он раньше считал совершенно нормальной и даже предпочтительной, вдруг показалась чем-то наигранным. Наносным. Разве сейчас время показывать слабость?
— Со мной всё в порядке, — сказал Пьер сухо, и Ольга, уткнувшаяся было ему в плечо, отстранилась. Бледно-голубые глаза казались больше, фарфоровые щеки окрасились румянцем. Даже сейчас красивая. Любимая. Так ведь?
— В порядке? Ты… где был? Приходили из жандармерии, спрашивали тебя… А что я могла сказать? Где ты был, Петенька?
Вот, снова. Снова уголки губ будто сами собой поползли вниз. Что же так выводит его из себя? Нет, не слезы. Неужели… имя? Но ведь это и есть его имя — так Пьера назвали родители, так приговаривала матушка, приглаживая его непослушные волосы, и даже отец, грозя пальцем за очередную проказу. Но Ольга… Ольга до сих пор звала его Пьером — и вот, сорвалась. Не удержала в себе, как не удерживает при Жане, отчего мальчишка болтает на жуткой смеси французских и русских слов. Пьер просил… сколько раз он просил? Но Ольга только делает вид, что старается влиться, а на деле живет с оглядкой на страну, которой больше не существует. Если Пьер сейчас подберет оброненную ею книгу — неужели увидит текст на французском?
— Что ты молчишь? В газетах пишут… Не молчи!
Голос дрожит под стать ресницам. Она не ревнует, подумал Пьер. Даже представить себе не может, что он… Просто боится. Да Пьер и сам не мог себе представить. Мир рушится и погребет под собой самых прочных и незыблемых, самых предсказуемых и привычных — всех, кто не умеет под него прогибаться. Всех Ольг, в то время как Селин змейкой выскользнет из-под обломков. Каким хочет стать Пьер? Даже не так. Каким Пьер стать должен? Не ради себя. Ради того чтобы у Ольг и маленьких Жанов, которые еще не знают, на кого похожи и какую страну назвать родиной, было будущее.
— Со мной всё в порядке, — повторил Пьер как заклинание. И что-то такое проступило на его лице, отчего Ольга отшатнулась. Пьер подошел к кроватке сына, подоткнул одеяло. Мир маленького Жана пока еще стоял прочно. Хотя бы этой ночью.
У черного хода никого — как и во дворе, и на улице, пока он кружными путями возвращался к машине. Пьер расслабился: его еще не ищут. И ошибся. У авто его неожиданно ухватили сзади две пары крепких рук. В лицо уткнулась вонючая тряпка, земля под ногами качнулась. Хлороформ.
— Popalsya, suka! Po vsemu gorodu ishem tebya, padla, — прошептал в ухо хриплый мужской голос. На русском — ну конечно, все неприятности сегодня от русского. Пьер рассмеялся бы, но от слабости не мог пошевелить хотя бы мускулом.
Спереди подошел еще один, и Пьер поразился странному, нечеловеческому лицу с гигантскими глазами и длинным носом. Страшилище не стало обыскивать, только вытащило из кобуры служебный револьвер.
— Tashi ego v mashinu.
Пьера поволокли прочь. Он подумал о Жане и о том, как близко подошел к тому, чтобы навлечь всё это и на него. О Селин, которая наверняка знала наперед, но на которую не получалось злиться. И только потом в засыпающем мозгу мелькнула огненная вспышка…
…Солнце? Второе солнце? Волна света и огня обдирает кожу и плоть, оставляя почерневший скелет. Но Пьер не умирает. Задрав пустые глазницы к небу, смотрит на гигантский столб дыма, упирающийся в небеса. Издалека он должен быть похож на огромную букву «Т» или гриб…
…Жарко-жарко-жарко! Почему он не отключился? С каждой секундой Пьер чувствовал себя лучше. Только жар беспокоил, расходясь кругами от амулета Селин. Контроль за руками и ногами вернулся, но Пьер не подал виду. Лишь когда его спиной вперед начали втаскивать в салон авто, он выхватил припрятанный «дерринджер». Левый ствол разрядился в лицо носатого, который держал Пьера за ноги. Правый — себе за ухо, туда, откуда доносилось сосредоточенное сопение. Две пары рук разжались одновременно, и Пьер вывалился из машины обратно на тротуар. Ночной воздух пах кровью и пороховыми газами. Пьер осмотрел убитых, задержав взгляд на лысом четырехруком громиле. В оперативную разработку уже попадали агенты НКВД с особенностями, но таких чудовищ он еще не видел. Да и носатый выглядел жутковато. Едва ли это заслуга таинственного академика Вавилова… Может, и в СССР уже мелькнул змеиный хвостик?
Машина у чекистов оказалась что надо — двухмоторный Simсa 8 Duo, с удлиненным кузовом и звериной прытью. Управление хотело закупить такие, но денег не хватило. А вот на НКВД, похоже, средств не жалели. В бардачке Пьер обнаружил экспериментальный пистолет-пулемет MAS 36. До этого он видел такой только в тире Управления, прямиком из секретной нулевой партии. И вот чекисты…
Но это было хорошо. Теперь никуда ехать не нужно: против воли чекисты снабдили Пьера всем необходимым. Ольге точно понравится эта часть истории — когда-нибудь он ей расскажет… возможно. Пьер завел машину, и моторы слились в животном рычании. Нужно спешить, стрельбу слышала вся округа. Утопив педаль, Пьер съехал с тротуара, оставив трупы под равнодушным ночным небом.
***
— Как вышло, что из всех медиумов Парижа мы выбрали тебя?
Они выехали за город, и осенний воздух дул сквозь приоткрытые окна. Впереди их ждали заброшенные заводы Булонь-Бийанкур. Темные волосы Селин колебались, отвлекая Пьера от дороги. Она улыбалась, но в ее голосе звенела грусть:
— У судьбы много дорог, вот ты и пришел по одной из них.
— А если бы не пришел?
— Тогда в этой машине ехали бы другие. А может, и никого. Только… змеи.
Подъезжая к промзоне, Пьер сбросил скорость и погасил фары. Невидимые и неслышные, они подкатили к старой мебельной фабрике из видений.
— Там не только люди и змеи. Я чувствую присутствие древней силы, полной ярости и странной покорности. Я знаю, как справляться с таким, но… — Селин зябко передернула плечами. Она потерла висок знакомым движением, и в свете луны снова мелькнули знаки на ногтях. — Знаешь, Пьер, я ведь не боец, вот ни капельки. Вообще.
Он бережно взял ее руку.
— Когда ты пришел, принес эти смешные окурки, я поняла не только кто эти люди, но и кто ты. И знаю, на что ты способен, если тебе… помочь.
Она тоже накрыла его ладонь. И вместо тысячи вопросов Пьер задал лишь один:
— Духи, которых ты видишь… ты видишь всех?
— Да, и твоих мертвецов тоже. Всё в порядке, Пьер. Ты хороший человек.
Пьер кивнул, и они вышли из автомобиля в окружающую черноту.
***
— Сколько их? — прошептал Пьер, едва они вошли. Внутри было темно, пыльно и тихо. Если обшаривать каждый угол, не управишься и до утра.
— Не знаю. У меня… Препарат иногда возвращается, и я… Мысли в кучу. Вижу снег, горы мертвецов, горящую технику, тлеющий город. Не знаю, где это, что это. Почему…
Пьер приложил палец к губам Селин, и та с заметным усилием взяла себя в руки.
Первый этаж был пуст, но свежие цепочки следов в пыли показывали, что кто-то недавно осматривал этот цех. Луна светила в окна, и в бледном свете Пьер разглядел грязь на лестнице, ведущей наверх. Уже на середине пролета до них донеслись голоса. Сначала неразборчиво-спокойные, затем полные ярости:
— …Das ist doch keine Waffe, nur jüdische Papiere! Betrug! Betrug! Sie haben uns herangelockt!
— Успокойтесь, герр Вирт. Эти «еврейские бумажки» и есть оружие. Заберите архив и убирайтесь вместе с автоматчиками и… этим. Мои люди нервничают.
Голос, говорящий по-французски, шепелявил, сильно растягивая шипящие.
— Nein! Sie führen mich irre! Geben Sie mir die Waffe, für die meine Leute getötet wurden!
— Старый болван! Вы сделаете оружие, когда ваши ученые разберут бумаги! Забирайте и проваливайте! Ваши люди погибли, потому что вели себя так же. Идиоты!
— Вы не понимать германский? Мы не отдавать документы жидам! Те убегать американцы, как Эйнштейн! Scheiße! Нет времени на бумажки!
— Заберите, или отдам Советам. НКВД уже в Париже…
— Nein! Никому не отдавать! Feuer!
Треск автоматов и хлопки револьверов лишили Пьера слуха, а стекающий со второго этажа удушливый туман — обоняния. Пьер помнил, кто приходит с туманом. Змеи. Но сначала по зданию пробежала вибрация, будто наверху завозился слон. Это было странно, и тут же вспомнились слова Селин о таинственной покорной силе. Толчок повторился.
Поднявшись, Пьер срезал долгой очередью двух автоматчиков у входа. Перезарядился. Подстрелил подкравшуюся гадюку. Страха не было, он будто забыл, что значит бояться. Зло впереди, позади Селин. Так должно быть. Он там, где должен.
Туман стремительно оседал, оставляя трупы людей и змей.
Посреди зала в багровом свете керосиновых ламп возвышалась гигантская фигура в средневековом доспехе. Рыцарь… существо свернуло шею Змееголовому и отбросило труп, как надоевшую игрушку. Затем повернулось к Пьеру. Даже издалека доспех казался очень старым, с огромной ржавой дырой посредине, сквозь которую просвечивалось нечто похожее на кости.
Существо двинулось на Пьера — тяжелыми шагами, от которых пол ходил ходуном. Пьер разрядил обойму, но пули лишь оставили на железе новые отметины. В несколько мгновений рыцарь оказался рядом, нависая скалистым уступом. Пьер окаменел — задрав голову, он наконец рассмотрел, что скрывало забрало. Пустоту. Внутри шлема не было ничего. «Проклятье», — только и успел подумать Пьер, пока его не оттолкнула маленькая решительная рука. Селин вышла вперед и коснулась изувеченного доспеха.
— Du bist frei.
Буквы на ногтях вспыхнули зеленым, и доспех с жестяным дребезгом обрушился на пол.
Герр Витт умирал возле деревянного ящика. На распухшей ноге отчетливо проступал змеиный укус. Пьер застрелил несчастного.
Внутри ящика оказались бумаги в конвертах.
— Знаешь, кто такой Нильс Бор? — спросила Селин, просматривая бумаги. — А Тесла?
— Изобретатель. Это почтовый архив какого-то ученого. — Пьер пересмотрел маркировку на конвертах. — Нильса Бора. Не знаю, кто он, но змеи верят, что из писем можно создать оружие.
— Доставишь в Управление? Франции нужно оружие. Станешь героем. — Селин внимательно смотрела на Пьера. В изменчивом свете затухающих ламп она казалась единственным настоящим, что было на старом заводе.
Пьер выдохнул, с опаской взглянув на ворох бумаг.
— Я…
Это новое солнце? Почему так тепло?
— Селин, я не хочу, чтобы змеиные подарки достались хоть кому-то. Не хочу второго солнца в небе, понимаешь?
Селин выдохнула. Пьеру показалось — с облегчением. И протянула коробок спичек.
***
Они снова сидели рядом, на том же диване. Не соприкасаясь и не глядя друг на друга. Солнце еще не встало, и комнату застилали мягкие, чуть розоватые сумерки. Селин не стала зажигать свет. Пьер не поехал домой. Ольга разволновалась бы только больше, заявись он домой в такой час, — по крайней мере, так Пьер объяснял сам себе. На самом деле, он не был уверен, как оказался здесь. Отвез Селин. Проводил до дверей. Потом… будто в тумане. Возможно, и к нему возвращались видения. Или он просто устал до смерти.
— Нам нужно уезжать. — Тени врезались в лицо Селин, делая его еще более угловатым и странным. Удивительным.
— Нам?
— В Южную Америку. — Селин будто не услышала. — Змей все еще где-то там. Конечно, сейчас ты сыт всем этим по горло, но…
— Ты… — Пьер выпрямился. — Ты хочешь, чтобы я…
— Поехал со мной? Хочу. — Селин встала, и именно в этот момент утренние лучи просочились в комнату и врезались в синее платье, окрасив его в новый оттенок… бирюзу? Пальцы Пьера обожгло прикосновением — Селин взяла его за руки и заговорила с жаром, непохожим на ее обычную невозмутимость:
— Тебя и правда привела судьба, Пьер. Мы должны были встретиться, должны были сделать то, что сделали. Сколько человеческих жизней мы спасли?
Сколько, хотел спросить Пьер. Спасли ли хоть одну, если у всех этих писем есть второй адресат и свои архивы? Да и сами ученые живы, их работы известны… Если страшное солнце-оружие не сделают боши, значит, сделают другие.
Сколько? Он промолчал — но высвободил руки и неловко уронил их на колени.
— Я не могу. Прости. Просто не могу.
— Жена? — Селин отступила на шаг и сцепила ладони на груди. Отгородилась от него. Будто стеной.
— Семья. — Пьер заставил голос звучать твердо и продолжил, не обращая внимания на комок в горле: — Я многое должен, это верно. И в первую очередь — защитить семью. Им не место в змеином логове.
— Но не место и во Франции. — Селин подошла к окну и облокотилась на подоконник. — Будет война. Здесь небезопасно, особенно эмигрантам. Тебе в любом случае нужно увезти их. Если не Новый Свет, тогда… Швейцария?
— Возможно. — Пьер кивнул. — Если жандармы не упекут меня в психушку или тюрьму, постараюсь разбогатеть и купить домик в Альпах. Обычное дело!
Селин помолчала, все так же глядя в окно.
— Жандармы ничего не решают, — сказала она наконец. — А в правительстве достаточно… понимающих людей. Всё образуется. В том числе и финансово.
— Хорошо. — Пьер набрал воздуха в грудь, но сразу сказать не решился. Селин тоже молчала. — Слушай…
— Не надо.
— Не надо?
— Сейчас ты наговоришь глупостей, о которых будешь потом жалеть. Обойдемся без этого.
Селин скрылась в соседней комнате — в той самой елочной игрушке, в мире шелка и бирюзы, — и ее не было так долго, что Пьер почти решился натянуть пальто и сбежать. Вернувшись, Селин протянула визитку, заполненную от руки. Номер дома и улица на испанском. Больше ничего.
— Что это за город?
— Буэнос-Айрес. — Она слегка улыбнулась, поймав удивленный взгляд Пьера. — Я уезжаю. Осмотрюсь, погадаю полезным людям. Жду тебя ровно через два года по этому адресу. В одиннадцать утра. Хотя ты наверняка опять опоздаешь…
Он молчал, вертя клочок картона в руках.
— Пьер…
— Что?
— Помни. Ты — хороший человек.
Селин снова исчезла в спальне, и откуда-то Пьер знал, что больше она оттуда не выйдет. По крайней мере, пока он здесь. Селин не из тех, кто любит долгие прощания.
Париж просыпался. Небо из розового стало алым, отбросив багряные отблески на Сену. На дорогах появились первые утренние автомобили, но светофоры еще мигали желтым, и двухмоторная Simсa неслась по улицам, не снижая скорости.
— Я — хороший человек, — шептал Пьер, вытянув руку со стиснутой визиткой в окно. — Я — хороший человек.
Он силился разжать пальцы. И не мог.
Сладкий мед для кукушонка (Тёма Крапивников)
Летающая тарелка металась по околоземной орбите, как подраненная птица. Люди хозяйски ощупывали ее радарами, гоняли патрулями истребителей, но гостья — вжух! — раз за разом меняла курс и изящно уходила от первого контакта. Долго кружила над Тихим океаном, проскользнула над заснеженной Сибирью, уверенно нацелилась на большое скопление тепла, света и жизни, начала снижаться, выпустила изящные то ли посадочные ноги, то ли излучатели лучей смерти.
Тут-то над Москвой и зажегся красочный фейерверк из десятка воздушных ядерных взрывов в полмегатонны каждый. Развернутая то ли при позднем Союзе, то ли при раннем Путине система А-135, противоракетная оборона столицы, должна была на лету сбивать американские боеголовки — как дробью уток в сезон охоты! — а вышло так, что надежно отпугнула визитеров из далекого космоса. Те ускорились и с перепугу рванули аж в другое полушарие, нашли себе местечко помягче в Центральном парке и осторожно приземлились.
Говорят, что при первом контакте были и пострадавшие. Безумные мамашки кочевали с Fox News на CNN, заламывали руки и рассказывали байки о колясочках с младенцами, которых коварно похитили злобные пришельцы. Перестали, когда поняли: ведущие — что сладкоголосые демократы, что грубоватые республиканцы — затыкают им рот и высмеивают мерзкий земной шовинизм. В конце концов, как можно обвинять пришельцев в преступлениях, если они, напротив, доверились землянам так, как никто другой в истории контактов цивилизаций?
Когда тарелка приземлилась, к ней первым делом рванул Майкл Гандаму, бесстрашный государственный секретарь США. Со свитой из самых крепких морских пехотинцев, конечно же. Но вот незадача: пришельцы постояли на лужайке от силы минут десять, а потом тарелка вновь замигала огоньками, величаво поднялась в небо и умчалась куда-то в сторону созвездия Лебедя. После себя она оставила только колыбельку из инопланетного сплава, в которой дергал ручками и истошно плакал зеленокожий и сероглазый младенец.
К счастью, молоко самки человека подошло. В этом смысле пришельцам дико повезло с точкой первого контакта. В нетолерантной России никто бы не решился совать сиську живой женщины в рот существа с другой планеты. В США все вышло просто: морпех, качая младенчика на руках, удачно вспомнил о сестре-роженице, госсекретарь кинул идею президенту в личку твиттера, тот мгновенно одобрил решение, а конгресс уже был просто поставлен перед фактом. О том, что земной белок может быть смертельно опасен для существа с другой планеты, никто и не подумал. Просто повезло.
Когда ребенок окреп и начал ползать, президент США впервые принес его на заседание Генеральной Ассамблеи ООН и гордо показал делегатам.
— Мы решили назвать его… — тут он закашлялся и исподтишка глянул на экран мессенджера, — решили назвать его Момотаро. Будем воспитывать как сына нашей великой нации!
— Но это же достояние всей Земли! — ожидаемо возмутились французы. — Мы тоже хотим привить гостю из далекого космоса немножко нашей уникальной культуры.
— Спасибо за то, что помните нашу национальную легенду, — внезапно похвалили японцы. — Если понадобятся игрушки для младенчика, то обращайтесь!
— И, кстати, что там с люлькой из инопланетного сплава? — мрачно спросили китайцы. — Мы бы с удовольствием взглянули.
Только делегат из России молчал. В кулуарах шушукались, что над Москвой до сих пор кружит радиоактивный пепел и — что самое смешное — русские изгадили себе столицу абсолютно зря.
— Майкл, а почему Момотаро? — спросил потом президент США у госсекретаря. — В чем смысл?
— Это намек на то, что он вырастет, уничтожит всех тоталитарных монстров и принесет нам их сокровища, — объяснил Майкл. — Ну, мне такие сказки бабушка по материнской линии рассказывала.
Президент США улыбнулся, показал большой палец и начал строчить очередной твит.
Следующие двадцать лет прошли скучно.
Президент, обожающий соцсети, тихо и мирно умер в собственной постели. Зато Майкл Гандаму выиграл выборы четыре раза подряд и готовился к пятому — конституционные ограничения ему, как и в свое время Рузвельту, охотно сняли. Кто же захочет отправить в отставку человека, который сделал Америку полноправным партнером межзвездной цивилизации?
Конечно, раздавались голоса о том, что от партнерства не так уж много толка. Дескать, анализ люльки мало что дал: ну, сделана она из сплава лютеция с никелем — и что? Оба металла и так хорошо знакомы ученым. Момотаро рос как здоровый человеческий ребенок: жрал кашку, просил сиську, бегал по комнате с пластмассовыми F-22, в семь лет увлекся видеоиграми и аниме. Шоу о госте из космоса били все рекорды, на продакт-плейсменте американское государство неплохо зарабатывало, хотя и не отбивало все расходы. Но Момотаро ничего не знал о цивилизации, которая его породила.
Зато недоросль из космоса хотел знать как можно больше о Земле и каждый день приносил дикие открытия.
С одного из них и начинается наша история.
— Мэри, а зачем мы полезли на этот, как его, Мадагаскар? — спросил как-то раз Момотаро у блондинки, свесившей ножки с пирса Санта-Моники и кидающей крошки от бургера визгливым чайкам.
Девушка обернулась, кокетливо улыбнулась и пожала плечами.
— Им правит жестокий диктатор, опирающийся на штыки русских наемников. Мы обязаны были вмешаться и спасти несчастных мадагаскарцев! Или мадагаскарян? Так, пожалуй, мимимишнее.
Момотаро внимательно оглядел Мэри с головы до ног. Скучные синие джинсы, потрепанные серые конверсы, коричневая кожаная курточка, под которой топорщится кобура «глока», немодное в этом сезоне каре, ни грамма косметики — и внезапно живые, смешливые глаза; не девушка, а избитый интернет-мем с новым (не факт, что всегда удачным) панчлайном.
— А почему из всех агентов ЦРУ меня сопровождаешь именно ты? — продолжил допрос пришелец. — По какому принципу тебя выбрали?
— Закончила Вест-Пойнт с отличием, проявила себя на Барбадосе и в спецотряде Trollhunters. А еще я женщина и прошла по гендерной квоте. А что?
— Мэри, мне кажется, ты не говоришь мне всю правду, — отвернулся Момотаро и нервно закусил палец. — Вернее, в твоих словах словно есть подтекст, смысл которого от меня ускользает.
Девушка расхохоталась.
— Давай так! Я прямо и честно отвечаю на один твой вопрос, а ты — на один мой. Договорились?
Момотаро кивнул:
— Так что там, на Мадагаскаре?
— На острове находится крупнейшее в мире месторождение эвксенита. Это радиоактивный метамиктный рентгеноморфный минерал класса оксидов. Из него получают лютеций.
— Теперь все совершенно ясно! Так дело вовсе не в страданиях народа? — удивленно взмахнул ресницами Момотаро. — Никогда бы не подумал!
— Мой черед! — перебила его Мэри. — Почему тебя смутило, что именно я в этот прекрасный день охраняю тебя от врагов внешних и внутренних?
— Мне кажется, я влюблен, — пробормотал Момотаро. — Но не уверен. Просто это весьма похоже на то чувство, которое описывается в фильме, который мы с тобой смотрели вчера, и я начал думать…
— Не думай, — улыбнулась Мэри. — Давай лучше целоваться.
Момотаро немедленно заткнулся и застыл истуканом.
— А потом съедим того лобстера в ресторанчике на Оушен-драйв. Его там жарят во фритюре в солено-перцовой обсыпке — пальчики оближешь. Столик я уже забронировала! — бойко продолжила Мэри.
Момотаро истово закивал, а потом опасливо — как дикого котика — погладил девушку пальчиком по тыльной стороне ладони. Его, конечно, никто не укусил в ответ.
Вот только дорога обратно по пирсу затянулась: то Момотаро глазел на бородатого рыбака, ловко вытягивающего мелкую макрель, то Мэри портила аппетит сладкой ватой, а потом они все же решились забраться на старинное колесо обозрения, с которого открывался обалденный вид на залив Санта-Моники и далекий пляж Малибу. Поэтому на ужин в ресторане они безбожно опоздали, а вот аккуратно заложенная бомба в шесть килограммов
тротилового эквивалента взорвалась точно в намеченный срок и совершенно напрасно.
— Чертовы террористы, такой нарратив испортили, — прошипела Мэри и пробурчала что-то неразборчивое в рацию. — Момо, держись за мной и ничего не бойся. Я запросила срочную эвакуацию.
Туристы в страхе разбежались, забыв сфоткать очень даже впечатляющий по композиции пожар. Вдалеке тоскливо завыли полицейские сирены. Даже мирно спящие на скамейках бомжи проснулись, покидали поклажу в тележки и, не оглядываясь, звонко потопали куда-то вдаль.
— Что я им сделал? — грустно прошептал пришелец. — Я ведь у вас вообще ничего не делаю. Только гуляю, ем, улыбаюсь и все.
— Религиозные психи! — пояснила Мэри, осторожно выглядывая из-за скамейки. — Считают тебя то ли антихристом, то ли демоном. Извини. Такие люди в Америке встречаются, но они не типичны для человечества в целом.
— Я верю тебе, Мэри, — робко положил ей руку на плечо пришелец. — Тебе я верю.
Когда они добрались до затонированной наглухо машины и плюхнулись на мягкие сиденья, первым делом все же взяли и поцеловались.
Момотаро смотрел много сериалов, поэтому более-менее представлял себе, как это делают нормальные люди. К счастью, он был вполне антропоморфен: разве что высоковат — почти два метра, зеленокож, да еще огромные глазищи с хорошо развитым эпикантусом делали его похожим на героя манги. Настолько, что на Голливудском бульваре туристы иногда принимали его не за всемирно известного пришельца, а за рядового косплеера зентреди и делали селфи не просто так, а после акта дарения одного мятого доллара.
Тем временем черный лимузин, избегая хайвеев, по широкой дуге обогнул центральный Лос-Анджелес, промчался по окраине Пасадены и только после этого рванул на широкое шоссе до Лас-Вегаса.
— Почему не вертолет? — недовольно спросила Мэри. — Так было бы быстрее.
— Есть ориентировка на террористов с ПЗРК, — пробурчал безымянный водитель. — Так что все птички крепко сидят на ветках. На лимо вы неотличимы от любых двух других молодых идиотов, которые насмотрелись кино и сняли по акции номер в отеле на Лас-Вегас-Стрипе.
— В «Экскалибуре» сейчас хорошо, виски-колу наливают бесплатно, — мечтательно протянула Мэри. — И стриптизеры ходят взад-вперед, роскошными мечами покачивают. Прямо титановыми.
На этот раз даже Момотаро постеснялся спросить, о чем вообще речь.
Выжженную на солнце траву сменил песок, среди редких кустиков замелькали разлапистые кактусы в человеческий рост. «Не забудьте воду», «Ближайшая заправка — через 35 миль», — грозно предупреждали баннеры на въезде в пустыню Мохаве.
— А еще бойтесь змей в траве, — весело добавила Мэри от себя. — Также не опрокидывайте на себя горячий кофе в «Старбаксе».
Водитель чуть прибавил обороты кондиционера, на бутылках с газировкой выступили капельки конденсата, но Момотаро пить и есть почему-то совершенно не хотелось. Зато Мэри открыла дверцу холодильника, взяла заветренный бутерброд с черной икрой и запихала его в рот целиком:
— А? Что? Контора платит!
— Что там за поселение? — вдруг спросил Момотаро, тыча пальцем в россыпь домиков слева от шоссе. — Кто живет в таких неподходящих температурных условиях?
— Жили, — поправила Мэри. — Это город-призрак Калико. Привет из прошлого — когда американские мужчины честно копали руду в шахтах, американские женщины честно варили им маисовую кашу, а вокруг скакали индейцы с луками и томагавками и играли с шерифом в казаки-разбойники.
— Больше не живут?
— Нет, зато можно за деньги поработать на шахтах понарошку под оцифрованный вой койотов, а на выходе взять в подарок предмет народного промысла индейцев с «Алиэкспресса». В этом и смысл экономики постмодерна: фейк-доллары платятся за фейк-реальность, потому что настоящая — это слишком сложно, а двадцатый век — такой двадцатый.
— А в чем мой смысл? — прищурился Момотаро — И на это у тебя ответ есть?
— Легко! Только у нас есть еще пара часов до базы, поэтому прости немного за лонгрид-ток. Ты очень милый, но немного не вписываешься в нарратив. То есть идеологически ведешь себя правильно и яростно демонстрируешь торжество показушной диверсити: вместо сохранения собственной идентичности охотно принимаешь чужой — то есть наш, американский — культурный код, оставаясь при этом открыто зеленокожим и формально алиеном на нелегальном положении. Но практически от тебя еще ожидается визионерство, движение вперед к прогрессу. Грубо говоря, алиен из предположительно более развитой демократической цивилизации должен нам рассказывать, как сделать автомобили летающими и кто зимой победит на «Супербоуле». А этого нет.
Момотаро помолчал немного.
— А если без лонгрид-тока? Ироничная Мэри мне нравилась больше.
— Постироничная! Когда-нибудь бывал на Базе-51? Там реально классно, все эти мифы о пришельцах словно оживают. Я тебе экскурсию проведу! Сразу… — начала Мэри, но ее резко оборвал водитель:
— Не нравятся мне эти строительные работы впереди. Пристегнитесь.
Люди в желтых жилетах вдруг сорвали тент с грузовика, припаркованного на обочине. Из кузова, весело жужжа роторами, поднимался рой беспилотников, разворачивая сенсоры в боевое положение и раскручивая диски легких пулеметов.
— Ракета! Ракета! — занудно завопила аудиосистема лимузина, водитель дернул ручной тормоз и ловко развернулся через удачно подвернувшуюся дырку в отбойнике.
Тут-то и рванула заботливо заложенная террористами мина.
В 2019 году на этом история бы и завершилась, но опыт боевых действий в Секейском краю научил американский автопром тщательнее подходить к бронированию техники и подсматривать решения у русских. Вовремя сработавшая активная защита на днище подбросила лимузин в воздух, прочные ремни зафиксировали водителя, Момотаро и Мэри в креслах, крыша отъехала в сторону, и катапульта выстрелила людьми прямо в зенит.
Вверх герои летели, конечно, очень быстро и в стыдноватых позах, но, как только опешившая гравитация вновь сказала героям «привет, лапочки», Мэри успела прийти в себя, выхватить пистолет и, падая вниз, подстрелить — бах! бах! — завозившихся с пультами террористов. Оставшись без операторов, дроны растерянно опустили пулеметы, беспорядочно закружили над шоссе, а потом мрачно развернулись и рванули прочь от людей в сторону, кажется, Долины смерти. Зато кресла превратились в элегантные ракетные ранцы и приземлили героев прямо на раскаленный асфальт. Даже сайдкик-водитель выжил.
— Опять религиозные фанатики? — со знающим видом покачал головой Момотаро.
— Повезло, что дроны не автономные. Точно не русские. Больше похоже на работу криворуких французских националистов. Но обвинят, конечно, Мадагаскар.
Мэри тормознула первый попавшийся белоснежный джип — ни грамма пыли! — махнула корочкой перед красной рожей гражданского мужика и ткнула пальцем — выметайся, мол! На колени, мол! Скажи спасибо, что не застрелила за неподчинение, мол! Реднек, конечно, покорно отдал ключи и встал на обочине с телефоном, пытаясь набрать хоть кого-то знакомого. Жаль, он был вне зоны действия сети, а аккумулятор быстро сел.
— Давайте, кстати, послушаем радио. Прославились мы на всю страну или еще нет? — улыбнулась Мэри.
— С полуночи США объявляет полное эмбарго на ввоз нефти на Мадагаскар, — грозно объявил ведущий в прямом эфире. — Шестой флот США выходит на позиции. Мужчины и женщины в форме готовы заблокировать любое морское или воздушное судно, направляющееся на помощь режиму генерала Мандингу.
— Когда-то так начинался Перл-Харбор, — вздохнула Мэри. — Хорошо, что у Мандингу нет авианосцев.
— Так им и надо, красным ублюдкам. Эти комми нам еще за Венесуэлу ответят, — буркнул водитель.
— Советского Союза нет уже сорок лет, но инерция у хорошего, нажористого дискурса — как у толстой жопы афроамериканской мамочки в гетто, — парировала Мэри. — Потому что и то и другое — темная материя, ха-ха. Does it rings any bells?
Водитель промолчал и только крепче взялся за руль.
После границы с Невадой джип вырулил на пыльную грунтовую дорогу и трясся по ней аккурат до ржавой таблички «Здесь живут драконы», размашисто разрисованной граффити.
— Нам сюда! — весело объявила Мэри.
— Но Google Maps показывает, что до Базы-51 еще километров сто, — удивился Момотаро. — Мы сейчас буквально посредине нигде.
— Та инсталляция — жалкая фальшивка для цепких глаз русских спутников и примитивных дурачков-уфологов, — объяснила Мэри, улыбаясь почему-то прямо в дупло здоровенного зеленого кактуса. — Настоящая база сильно западнее и целиком спрятана под землей.
Дупло в кактусе вдруг замигало красным, а полоска иссушенного дерна сдвинулась в сторону, обнажая спуск в подземный туннель. Навернув десяток кругов по спирали вниз, джип припарковался в огромном ангаре, где чего только не было!
— Это крейсер… то есть высотный гиперзвуковой бомбардировщик «Аврора», с которого начались легенды об НЛО! А это макет тарелки из Розвелла, которым ребята Гувера троллили русских и выбивали бюджет из конгресса! А вот первый прототип излучателя HAARP, которым мы гоняли ураганы по Атлантике, но вечно попадали по Флориде! Металлолом, если честно, — объяснила Мэри. — Списали, как только поняли, что история — она все, закончилась. Фукуяма все четко расписал. Остались только срачи в соцсетях.
— Зачем мы здесь? — тихо спросил Момотаро. — Я уже совершенно ничего не понимаю. Еще утром я был на берегу океана, разглядывал гребешки на волнах, жил нормальной человеческой жизнью, а теперь… это?
— Теперь мы будем жить здесь! Вернее, ты живешь на минус шестом, ищи дверь номер шестьдесят восемь, — объяснила Мэри и подмигнула. — Если что, я прямо за стенкой!
Утром мрачный неразговорчивый офицер проводил Момотаро в бескрайнюю лабораторию, в центре которой на небольшом постаменте лежала начищенная до блеска люлька. Вокруг бессмысленно суетились люди в белых халатах.
Но перед утром была еще ночь.
— Тебя не смущает, что у меня восемь пальцев на руке?
— Восемь куда лучше, чем четыре! Слушай, нам вообще повезло, что ты гуманоид. Ты ведь наверняка смотрел наше кино про пришельцев?
— Да. Люди думают, что инопланетяне делятся на три категории. Если есть руки и ноги, то могут быть легко интегрированы в американское общество. Если выглядят неприятно и похожи на зверей или насекомых — инфернальная угроза, можно только уничтожать. Нейтральный вариант — непознаваемые существа, вроде разумного океана или колонии грибов. Их рекомендуется обходить стороной и обносить стеной. Хорошо, что я не океан!
— Только не зазнавайся, — улыбнулась Мэри. — Ты знаешь, что по земным меркам твой ДНК ближе всего к птичьему? Хотя почему-то крыльев тебе не завезли. Так, давай проверим, что завезли.
— Мне кажется, что ничего.
Мэри завозилась под одеялом и разочарованно выдохнула:
— И вправду. Ну ладно, раз сегодня не твой день, давай включим телевизор.
— Я не уверен, что порно поможет.
— Да черт с ним, с порно, мы будем смотреть мой любимый мультик Genlock! Это, правда, уже шестой сезон… Но я все объясню! Короче, вот эти роботы-насекомые — это зловещий Союз, а вот эти гуманоидные роботы — это храбрые солдаты армии СМИ. То есть США.
— Так, я понимаю, что на Америку в очередной раз напала Россия, но что именно русским нужно? Почему история в ваших триллерах всегда фокусируется на персонажах, но не разъясняет контекст и мотивацию? — спросил Момотаро, когда серия закончилась.
— Контекст очевиден: Россия и США — не столько враги, сколько конкуренты, поэтому неважно, какая у сторон мотивация. В игре с нулевой суммой правы только свои. Но говорить так прямо нельзя, это секрет Полишинеля.
— Но почему США просто не уничтожат Россию? — вскочил с кровати голый Момотаро и сжал кулаки. — Я двадцать лет слушаю по ящику байки про великую Америку и гадкую Россию. Скиньте на них сто тысяч «Томагавков», и дело с концом. Что не так с этой стратегией?
— Все дело в том, что Россия десять лет назад приняла на вооружение самоходный подземный дрон с ядерным двигателем. Он способен пробуриться через земную кору прямо до мантийного плюма в Йеллоустоуне и вскрыть его, как банку с протухшими огурцами. Дрон они по безденежью построили только один, зато и защиты от него никакой.
— А почему тогда Россия не уничтожит США?
— Потому что униженная и побежденная Америка вспомнит о модернистских корнях и переродится как мощная ревизионистская держава, сильная и счастливая — но злопамятная. Так что уничтожение Америки в ее нынешнем виде — это только на поверхности поражение Америки, а на самом деле — ее стратегическая победа для всех нормальных американцев. Ладно, давай спать.
— Хорошо, — пробормотал Момотаро, переваривая информацию. — Давай.
Наутро в лаборатории первым делом Момотаро усадили в кресло и развернули перед ним экран ноутбука, по старинке оснащенного скайпом.
На экране появился сильно постаревший, но все еще вполне по-президентски грозный Майкл Гандаму.
— Так. Момотаро, — прочеканил имя по слогам лидер свободного мира.
— Да, господин президент, — с опаской ответил Момотаро.
— Ты знаешь, что за все эти годы мы потратили на тебя тридцать семь миллиардов долларов? — насупил брови Майкл. — Больше полутора миллиардов в год!
— Но… — растерялся Момотаро, — я не вполне понимаю…
— И эта чертова война, — продолжил президент. — Я устал от нее. Я хочу вернуть наших ребят домой, к женам, мужьям и детишкам. Поэтому мне нужно решение. Сейчас.
— Какое решение? Я ничего не понимаю…
— Или ты прямо сейчас изображаешь нам что-то… Хоть что-то!.. Или я отдаю тебя на опыты ребятам доктора Стирлинга, и будь что будет! Понял? Мне нужно чудо! Сокровище! Которое я смогу продать избирателям! У тебя есть месяц!
Связь оборвалась.
Мэри обняла растерянного пришельца.
— Может быть, ты попробуешь? — участливо спросила она.
— Но я ничего не знаю! Я умею верстать сайты в HTML ручками, немного знаю китайский и классно смешиваю мохито, но инопланетные супертехнологии — не мое совсем. Я обычный земной американский парень, только зеленый и с лишними пальцами!
— Земные птенцы тоже не знают ничего о юге, но как вырастают — исправно летают на зимовку, — резонно возразила Мэри. — Просто попробуй довериться инстинктам. А я помогу. У нас есть целый месяц!
Лаборатория на Базе-51 раскинулась на десять тысяч квадратных метров, и чего там только не было: высокоточные станки, химические реактивы, аэродинамические трубы. Пользуйся чем угодно — хода не было только в западное крыло, где шли биологические эксперименты. Вот только Момотаро не представлял себе, с чего начинать, тупо пялился на люльку и листал на ноутбуке список доступного оборудования в поисках сколь-нибудь знакомых слов.
День проходил за днем абсолютно бездарно, но в конце второй недели внезапно помогла камера сенсорной депривации, изолирующая человека от любых ощущений.
Правда, с парой креативных модификаций.
Во-первых, в соленую жидкость с плотностью, равной плотности тела человека — или гуманоида! — Момотаро погрузился вместе с Мэри.
Во-вторых, они взяли с собой ящик настоящего пролетарского пива Pabst Blue Ribbon.
Открывать зубами бутылку, когда плаваешь в полной темноте и невесомости, — занятие не для слабонервных. Но когда делаешь это вместе, неловко сталкиваясь руками и ногами, — ощущения совершенно волшебные. А первый глоток напитка, который ты в буквальном смысле слова добыл, сражаясь с темным бестелесным ничем, — совсем не то же, что дежурная пинта в модном баре Марины дель Рей.
— Сколько у меня пальцев? — спросил Момотаро, прикончив вторую бутылку и размахивая руками, как Майкл Джексон из виар-аттракциона.
— Десять? Тринадцать? — всхлипнула Мэри, давясь от смеха. — Да какая тут разница? Здесь понятий реального мира не существует! Я чувствую себя как утробе матери. Или в яйце под горячей жопкой курицы.
И вдруг пришелец впервые в жизни ощутил, как сердце разгоняет волну желания от груди, редко используемая часть тела откликается на зов, робко касается партнерши и застывает в ее руках камнем.
— Неплохо, — оценила Мэри на ощупь и встретилась с этой частью так же нежно, как свежая тушка птицы киви с зубами одичавшей комнатной собачки.
— Тебе не больно? — забеспокоился Момотаро после пары фрикций. — Я все делаю правильно?
Любители порно знают, что бурный секс с любимой овчаркой выглядит классной идеей только в тексте. Буквы убаюкивают и обманывают, фокусируют внимание на боли и наслаждении (в любом порядке), на радости от подчинения животным инстинктам, но на видео никаким монтажом не вырежешь простой факт: член существа другого вида всегда выглядит абсолютно омерзительно.
К счастью, в камере сенсорной депривации Мэри не видела ровным счетом ничего, зато на ощупь определила другую особенность Момотаро.
— Слушай, он словно лижет меня изнутри, — пробормотала Мэри. — Вытащи ненадолго, я хочу понять, как это вообще возможно.
Ошалевший Момо подался назад, блаженство замкнуло синапсы в мозгу пришельца коротким замыканием, а в сознании вдруг замелькали странные двойные и тройные спирали.
Мэри вывернулась, ощупала член пришельца снизу доверху — пять ладоней! — осторожно погладила кончик и хмыкнула.
— Слушай, а у тебя из уретры растет язычок. Шершавый! Пахнет мной!
— Может быть, продолжим? — взмолился Момотаро. На его теле выступили бисеринки пота, пришелец мелко-мелко дрожал, мохнатые яйца впервые в жизни стали горячими и отчетливо распухли.
Мэри поймала проплывающую мимо полную бутылку «Пабста», сорвала крышечку зубами, сделала большой глоток, обтерла губы ладонью, уперлась руками в перила и разрешила:
— Ну, поехали! Только не пытайся вставить его целиком. На четверть шишечки вполне достаточно. Засунешь — двигайся медленно и больше работай язычком.
Осьминоги-аргонавты из Тихого океана во время секса отстреливают член — и он потом одинокой спермоторпедой плавает по морю в поисках готовых к совокуплению самочек. Момотаро, к счастью, позаимствовал у головоногих только способ передвижения. Когда стенки влагалища сжали его каменный член особенно настойчиво, пришелец выстрелил в девушку всем, что сумел накопить, и вылетел из нее на мощной реактивной струе — да так, что врезался в противоположную стенку и больно ударился головой.
Тут-то в его сознании и промелькнул странный набор цифр.
— 28.71.99.170! Записывай скорее! — крикнул он громко и тут же поплыл к двери камеры сенсорной депривации. — Пока не забыл!
— Что это? — удивилась Мэри. — Не IP-адрес же. Ну серьезно.
Всю правду раскрыл довольно скалящийся доктор Стирлинг в белом халате.
— 28 и 71 — это, очевидно, никель и лютеций. Математика и физика — два языка, которые никак не зависят ни от культуры, ни от цивилизации, ни от планеты. Число протонов в ядре химического элемента — это вам не курс доллара к евро! Моя версия подтверждается очень просто — сплавом, из которого была изготовлена люлька. Это, если угодно, вторая координата кода по методу расшифровки Лю Цысиня, — объяснил научный директор Базы-51.
— А другие два числа? — спросила Мэри.
— Дальше работает математика на уровне тупых задачек из фейсбука. Ведь 99 — это 71 плюс 28, а 170 — это 99 плюс 71. Я думаю, это намек на то, как проще всего получать новые, более сложные химические элементы. Серьезно, мы это уже умеем делать. Просто берем два элемента попроще, сталкиваем их атомы в циклотроне и надеемся на то, что получится что-то более сложное новое и проживет достаточно долго для регистрации приборами.
— И что это значит?
— Это значит, что нам нужно взять лютеций и эйнштейний — элемент номер 99 — и получить элемент под номером 170, о котором мы абсолютно ничего не знаем. Но для соплеменников Момотаро он отчего-то очень важен. На нем код заканчивается. Современная наука только-только подобралась к элементу-122, но ничто не мешает попробовать сделать прыжок веры и провести эксперимент сразу с номером 170. Сильно подозреваю, что мы наткнемся на остров стабильности периодической таблицы. То есть элемент-170 окажется достаточно долгоживущим, чтобы его можно было использовать как невероятно эффективное топливо!
— Для летающих тарелок!
— Да, для космических кораблей. Возможно, даже межзвездных! Еще есть вопросы?
Мэри огляделась вокруг, прошептала доктору Стирлингу что-то совершенно на ушко, и он немедленно — и громко — ответил:
— Этот биологический орган используется для забора образцов ДНК. Но к задаче, поставленной президентом, это не относится! Фокусируйтесь на работе!
Так Момотаро получил в полное распоряжение настоящий циклотрон, вагон лютеция, мисочку эйнштейния (все, что смогла произвести лаборатория в Ливерморе) и высокомотивированного доктора Стирлинга. Обычно поиск новых элементов длится годами, но ученый быстро понял: Момотаро может интуитивно выставлять правильные настройки на приборах и получать на выходе аккуратные стабильные атомы. А Нобелевская премия все равно достанется научному директору! Профит!
— Это просто магия какая-то! — восклицал Стирлинг, изучая пробы элемента-170, который решил назвать гринманиумом. — Генетическая память и гормонально-магнитный резонанс творят чудеса.
Тем временем пришелец работал в лаборатории по двенадцать часов в день и вел себя даже не столько как ученый, сколько как писатель в состоянии потока. Он без устали придумывал магнитные ловушки для гринманиума и просчитывал ребра жесткости из лютеция, рисовал карандашом в блокнотах блок-схемы логических сопроцессоров и настаивал на том, чтобы лично втыкать каждый кабель-папу в розетку-маму. Момотаро понятия не имел, откуда что берется, но после каждого сеанса в депривационной камере в нем поднималось все, что было способно подняться. Глаза боялись, мозг плавал в прострации, а руки — руки делали!
И месяца не прошло, как из трех тонн лютеция и каннибализированных запчастей с «Авроры» простой американский алиен Момотаро собрал нечто, перед чем любой уважающий себя уфолог пал бы ниц. Это было похоже на НЛО, пахло как НЛО и разве что только не летало, как НЛО, — сначала топливную камеру надо было заполнить гринманиумом доверху.
Однако по вечерам Момотаро смотрел исключительно новости. Вот разгоряченный генерал Мандингу дает интервью RT рядом с поваленным крестом белоснежного дворца Яволоха. В углу кадра веселые чернокожие призывники, отложив автоматы в сторону, брызгают друг в друга водичкой из фонтана.
— Даже в худшие дни французской колонизации оккупанты не трогали наше национальное достояние!
А вот CNN дает слово диссиденту с Мадагаскара, который пострадал еще при режиме Марка Равалумананы.
— Нам нужны справедливый суд, честные выборы и достойные пенсии!
А вот корреспондент Anna News на разбомбленной площади в Антананариву: обожженные стволы пальм, разбросанная брусчатка и небрежно прикрытые брезентом тела — мужские, женские, детские.
— Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.
В сотне миль от побережья Шестой флот и Средиземноморская эскадра медленно кружили в танце — то сближались почти до навала, то расходились и заполняли эфир горячими обвинениями, а то уходили на бункеровку топливом. Россия никак не желала ввязываться в горячую войну на Мадагаскаре, но тайком вывозила контрабандный лютеций на подводных лодках. В стране-конкуренте никто — по данным ЦРУ — еще не знал, как на самом деле надо использовать металл, но на всякий случай его накапливали тоннами.
— Мэри, а кто убил всех этих людей? — спросил Момотаро. — Или это все не по-настоящему?
— И да, и нет одновременно. Эти кадры с трупами я вижу в десятый уже раз. В прошлом году ими иллюстрировали обратный геноцид рохинджа в Индии, в позапрошлом — случайную вспышку Эболы в трущобах Луизианы. Пухлый диссидент живет в Нью-Йорке лет двадцать, владеет респектабельным магазином органических фруктов, родной язык почти забыл. Крест на дворце упал после землетрясения на семь баллов в прошлом апреле. До сих пор не нашли мастеров починить. Война же!
— Мэри, а что будет, когда я дострою тарелку? Ее отправят сражаться с русскими?
— Нет, конечно! — успокоила его девушка. — Красиво приземлишься на лужайку перед Белым домом, сделаешь пару совместных кадров с мистером Гандаму. Этого достаточно, чтобы правильные импульсы разбежались по сигнальной системе миропорядка и все осталось по-прежнему.
Так прошел остаток дней до дедлайна.
Тарелка у Момотаро получилась на заглядение — точь-в-точь как та, на которой он двадцатью годами раньше прибыл на Землю. Первый полет президент назначил на 4 июля.
— Политическую программу на новый срок представлю, — пояснил Гандаму. — Но вы прямо молодцы! И мистер Момотаро, и мисс… э-э-э…
— Мэри, сэр! Мэри Оквуд.
— Мисс Оквуд, вас ждет блестящее будущее.
— Спасибо, сэр!
А наутро перед первым полетом с Мэри случился неприятный конфуз. Утром проснулась, наскоро перекусила омлетом, выпила чашку кофе, облегчилась в туалете, а там — шмяк! — в унитаз упало яйцо. Размером с куриное, но в мелких бородавочках и противно коричневое. Не успела Мэри испугаться, как лампочка над головой резко щелкнула и погасла, а из кармана с гражданским смартфоном потянуло паленым. Конфуз случился не только с ней.
Бережно сжав яйцо в ладошку, Мэри выглянула в коридор. Пол базы ходил ходуном, красное аварийное освещение инфернально подсвечивало дорогу к оружейной комнате, взад-вперед носился спецназ в боевой выкладке, и никто ничего не понимал.
— Прямо над нами взорвали EMP-бомбу, — объяснил запыхавшийся доктор Стирлинг и похлопал рукой по чемоданчику. — Мы должны срочно эвакуироваться, чтобы спасти результаты нашей работы.
Вдалеке послышались выстрелы и разрывы гранат. Динамики в стене тоннеля закашлялись и выпалили:
— Это не учебная тревога. База-51 атакована неизвестным противником. Все на боевые посты согласно плану А.
— План А уже провалился, раз противник проник внутрь, — пробурчал Стирлинг, — пора переходить к Б. То есть к биологически активной обороне.
И тут же достал коммуникатор и набрал на нем длиннющую строку из символов нижнего и верхнего регистров.
— Момотаро! — вспомнила Мэри. — Лаборатория!
— Поздно, — покачал головой Стирлинг и прошмыгнул в узкую дверцу за мусорным баком. — Приятно оставаться.
Сжав в руках ребристую рукоять «глока», Мэри ринулась на лестницу и спринтерски преодолела несколько пролетов. Она перепрыгивала через тела смешливых ребят, с которыми еще утром завтракала в столовой, и старалась сдерживать тошноту. За все время ей попался только один нападающий — его боевой экзоскелет сошел с ума, разорвал хозяина напополам и теперь жалобно попискивал сенсорной перчаткой в ожидании новых команд.
Зато в лаборатории русскому спецназу не повезло капитальнее. Двери в крыло биологов распахнулись, и из них буром поперло что-то трехметровое, зеленокожее, рогатое и очень злое.
— Демоны, — зашептал спрятавшийся под столом техник. — Я слышал, но…
— Зентреди, — воскликнула Мэри. — Ничего себе! Налепили из стволовых клеток Момотаро!
Конечно, по вырвавшимся на свободу монстрам тут же сработали штатным вооружением — пули калибра 5,45 простреливали зентреди коленные чашечки, прошивали насквозь массивные руки, расплескивали по блестящему полу кровь и мозги, но в битве на короткой дистанции сила на стороне больших батальонов. Два десятка гигантов отправились кормить червей — две сотни окружили и задавили солдат противника массой, споро ощипывая их от экзоскелетов и разгрузки.
К сожалению, обезумевшим зентреди забыли объяснить, кто их друзья. Чудом уцелевшие техники и ученые тоже были аккуратно разорваны на кусочки, поделены между альфа-самцами и немедленно съедены. Беты жевали жилистые кусочки русских спецназовцев, а назойливые самочки скакали вокруг, выпрашивая субпродукты. Мэри скользила вдоль стены, громко выкрикивая имя Момотаро. Она надеялась, что ему удалось укрыться в тарелке — зентреди ощупывали ее гладкую поверхность, но не понимали, как можно проникнуть внутрь.
Жилистая зеленая лапа чуть не поймала и Мэри, но в этот самый момент тарелка зашевелилась. Одна из посадочных ног кокетливо приподнялась, изогнулась в неожиданных местах, повернулась к ближайшему зентреди, одним импульсом проделала в нем аккуратную дырку, зависла на пару секунд, а потом зажгла нестерпимо яркий луч и яростно заштриховала им в лаборатории вообще все вокруг. В воздухе отчетливо завоняло подгоревшей плотью, а Момотаро уже перевел огонь на потолок и одним залпом всех восьми ног проплавил его аж до самой пустыни Мохаве, заодно спалив и пожарную лестницу с доктором Стирлингом и его чемоданчиком.
Сквозь какофонию стонов пробился отчаянный крик Мэри:
— Постой!
Шальной луч смерти изуродовал агента Оквуд, как криворукий дизайнер — фигуру человека при обтравке в фотошопе. Но из последних сил она достала из кармана яйцо и подняла как можно выше.
— Вот! Возьми с собой!
— Нет! — донеслось из тарелки. — Нет!
Глаза Мэри закрылись, руки обмякли, но яйцо застыло в воздухе, словно пойманное невидимым сачком, а потом плавно полетело к тарелке и прошло через ее обшивку так, будто не было ее совсем. Сознание агента Оквуд угасало, в конце тоннеля она видела бескрайние березовые рощи и слышала шелест осиновых листьев, а потом закончилось и это.
Тарелка ястребом пролетела сквозь раскаленный тоннель, поднялась над поверхностью планеты, раскрыла гравитонные крылья и яростно заклекотала на всех частотах. Инстинкт и яйцо гнали Момотаро в созвездие Ориона — и быстро. Нейроны в мозгу перестраивались на ходу, мысли путались и лепили странные, незнакомые слова: «птенчичек хочет в кроватуленьку». Мэри назвала бы их овуляшными, но ее рядом уже не было.
И все же самым последним усилием воли Момотаро сфокусировался на воспоминаниях о любимой земной женщине, взглянул на штат Вайоминг с высоты в двадцать километров и ударил всей мощью лучей смерти по мантийному плюму Йеллоустоуна.
— Это еще не конец истории, а новое начало, — пробормотал он. — Мэри была настоящей, и ради нее я сделаю Америку настоящей снова.
Над континентом мрачно поднимались вулканические тучи, на Fox News орнитолог объяснял ошалевшим американцам особенности гнездования у кукушек, в Белом доме президент Гандаму подносил к виску ствол пистолета, а глубоко-глубоко под землей экипаж ядерного подземного дрона готовился к разносу за сорванную эвакуацию агента и дружно разгадывал тайну цифр 28.71.99.170. Храбрая Маша Дубровская успела кровью написать их на полу перед самой смертью.
Фантастический секс (Юрий Некрасов)
Денису Петрову, который является папочкой идеи про Портал
Наташа Егорова, не подозревая худа, готовилась рожать. Судя по календарю, ребенок ее обещал быть Водолеем. Врачи мило улыбались роженице и ласково ставили уколы. Этой зимой в третьем отделении районного роддома Получертинска лежало немало будущих матерей, только-только переступивших порог совершеннолетия. Наташа не была приятным исключением из правил. Рожать она решила по ту сторону брака, по первому, так сказать, зову природы.
По натуре своей незлобивая и добрая девушка, Наташа была крепко подпорчена работой в комиссионном магазине, а потому не стеснялась в выражениях по поводу прочих беременных девушек в поле зрения.
— Глянь, какая коровища, — шептала она подруге Клавдии Огурцовой, украдкой показывая на соседку слева, — двадцать лет девке, а уже такая жопа! Просто аэродром, а не задница.
Клавдия почтительно хихикала. Достоинств в ней не наблюдалось никаких, ни лицом она не удалась, ни грушевидной фигурой, зато природа щедро наградила ее умением слушать, за что Клавку любили все остальные продавщицы в комиссионке.
— Ой, Клавусик, лежу я тут, как статуэтка, и хоть бы Колик ко мне заглянул. — На последних словах Наташа без особого успеха пыталась заглянуть Клавусику в лицо и прочитать там всю правду о милом Колике. Местного красавца и кутилу Николая Савоськина знала вся округа. Был он славен как своими алкогольными похождениями, так и неуемной страстью к прекрасному полу. И дня не проходило без очередного районного амура. Пожалуй, даже участковый Гришкин, по молодости отменно грешивший со всеми подряд, не мог соперничать в славе с этим молодым Казановой. Наташа понесла от Николая и по наивной младости лет, а также полному отсутствию жизненной мудрости надеялась затащить его под венец. Да, страсть творила с ней поистине удивительные дела.
Клава, разумеется, обо всех планах подруги была великолепно осведомлена, но молчала по одной увесистой причине. Вчера, после киносеанса в клубе «Светлый Луч», Колик нетрезво попытался подбить к ней клинья, что, безусловно, льстило и позволяло рассчитывать на многое. Коля неспроста слыл великим любовником. Даже Клавка с ее мизерным постельным опытом, начавшимся с водопроводчика Митьки и им же закончившимся, была свято уверена: все мужики в постели разные!
— Ой, — охнула вдруг Наташа. — Что это? — На простыне проступили мокрые пятна. — Воды отходят?! Клавка, дуреха, рожаю!
— Все в порядке, Наташенька, — залепетала непослушными губами Клава, — зайду завтра, узнаю, как ты, и Коленьке все передам, обязательно!
— Рожаю, мать твою, дура! — восторженным голосом завопила Наташа на всю палату. — УРА!
Медсестра Марфа Тимофеевна с пониманием покосилась на беснующуюся пациентку. Небось схватки еще не начались, вот и радуется. Ничего, успеет еще поорать и по другому поводу. Слепая пифия, не понимая, о чем пророчествует, медсестра тонко предугадала события последовавших безумных часов.
— Воды отошли в положенное время. — Врач Филипп Филиппович задумчиво почесал переносицу. — Плод находится в правильном положении. Схваточки вот-вот начнутся.
«Скорее бы уж», — в нетерпении металась по постели Наташа. Перед ее мысленным взором сияло одно лишь божественное лицо. Обожаемый Колик. Любимый, нежный, небось шляется сейчас, козел, по бабам, пока она тут разрешается от общего плода их любви.
Наконец пришли схватки. Плотные тугие толчки, как будто кто-то мял гигантскими пальцами ее живот. «Вот ведь, мать твою, больно-то как!» — поразилась Наташа и приготовилась к яростным, спринтерским родам.
— Не тужьтесь так, милая, — нежно, по-отечески посоветовал доктор. — Так и задохнуться недолго.
«Без тебя знаю, лысый козел», — Наташа старалась дышать глубоко и ровно, как учила ее бабушка лет десять назад. Старушка сидела с внучкой днем, после школы и от нечего делать рассказывала в деталях, как родила всех своих восьмерых детей.
— Показалась… — Акушерка не вовремя подавились и странно закашляла.
— Что случилось, Катя? — Доктор, почуяв неладное, подошел ближе. — Это еще что такое?!
Наташа с великим трудом, схватки выпивали все силы, подняла голову и попыталась заглянуть себе между ног. Мешал живот. Еще, а-а-а-а-а-а, как больно, еще сантиметр… Снизу торчала какая-то металлическая штука!
— Эй, доктор! — Наташа панически закрутила тазом, словно пыталась сбросить пугающую штуку на пол. — Уберите это на хрен! Что вы мне там засунули?!
— А-а-а-а!!! — По лицу врача было видно, что еще минута, и он сорвется и кинется бежать. Подальше, прочь от жуткого ребенка Наташи.
Но тут предмет, торчавший у нее между ног, высунулся еще дальше и… оказался головой!
— Где это я? — захрипела она грубым, простуженным голосом. Голова в старинном, обшарпанном шлеме оказалась мужской, с длиннющей светлой бородой и густыми бровями.
— Где, где?! — рявкнула Наташа. — В пизде!
— Мать моя гномша, эк ведь занесло! — изумился мужик и споро полез наружу. Показались плечи, обтянутые ржавой кольчугой, потом могучий торс, наконец, гном высвободил руки и, цепляясь за край кушетки, вытащил остальное хозяйство, включая огромный зазубренный топор. Все это время Наташа выла и корчилась в ожидании убийственной, разрывающей нежную плоть, боли, но все прошло на удивление гладко и спокойно. Схватки, словно гном и был ее ребенком, прекратились, а живот, прежде возвышавшийся над кушеткой маленьким холмом, заметно опал.
— Мужики! — заорал гном, приставив ладони ко рту и обращаясь непосредственно к Наташиной промежности. — Нету здесь никого! Вылезайте!
И не успели все в палате ужаснуться — доктору тихой сапой удалось сбежать, а вот акушерки были на грани, что называется, вот-вот скопычусь! — как из Наташи, один за другим, потянулись: трубач с огромной, до блеска начищенной трубой, три кирасира с алебардами наперевес, облезлый барабанщик с не менее обшарпанным барабаном, какие-то варвары в засаленных шкурах и с дубьем наперевес, цельных пять рыл, знаменосец с двухметровым штандартом, его пришлось проталкивать отдельно, а под конец выпрыгнул молодой красавец с кавалеристской выправкой, задумчиво оглядел комнату, пробурчал: «Коней придется бросить, — сплюнул и добавил: — И тачанку!» — на чем, собственно, временно все и остановилось.
— Вы, кто, пидоры, такие? — истерично визжала все это время Наташа и пыталась вцепиться в кого-нибудь ногтями или хотя бы укусить. Все шло наперекосяк. Вместо пухлого, миленького малыша — ватага каких-то головорезов, непонятно как в нее залезшая и, что самое загадочное, как-то там разместившаяся.
— Вот! — Доктор ворвался в палату вместе с двумя охранниками. Почуяв недоброе, «детишки» резво схватились за оружие. — Они пытались сорвать нам роды!
— Что? — Кавалерист был у них, видимо, за старшего. — Ты чего, колдун, мелешь? Какие роды?
— Заткнитесь, молодой человек! — Гонору доктору было не занимать, но здесь он дал петуха и закашлялся. — Это, по-вашему, что? Шалости? Детские игрушки? — и он ткнул пальцем в несчастную Наташу.
— Девка, — логично ответствовал кавалерист.
— Сам ты девка, — вызверилась Наташа. — Хрен соси, извращенец! Вяжите их, козлов, чего вылупились?
Но охранники не торопились лезть на рожон. В палате клубилось внушительное войско: трубач отпивал из всех сосудов, что нашел в шкафу, барабанщик задрых, знаменосец нюхал воздух и одобрительно ворчал в сторону акушерок, те застыли, белее простыней, кирасиры демонстрировали агрессивность и нацелили алебарды на вошедших. По всему выходило, что младенчики готовы постоять за себя будь здоров. Гном, нехорошо улыбаясь, заносил секиру для удара, кавалерист ощетинился саблей и пистолетом с огромным раструбом на дуле, а варвары и вовсе противно ухмылялись прямо в лицо, невежливо обмахиваясь дубинами.
— Всем стоять! — наконец дернулся один из охранников. — Оружие на пол!
«Макаров» в его руках смотрелся детской игрушкой.
— Чего орешь? — спокойно осведомился кавалерист. — Ну, вышли вашим Порталом, помер у вас от этого кто-то?
— Каким Порталом? — настороженно отреагировала Наташа. Былая ее беременность не подавала больше никаких сигналов. Будто и не было всех этих девяти месяцев ожидания и токсикоза, мечтаний о совместном с Коликом будущем, крохотных пижамок карапузу и томительных часов в палате для будущих мам.
— Молодой человек, вы о чем? — Доктор приходил в себя, будто всплывал, ситуация, похоже, шла к мирному разрешению.
— Мы уходили от нечисти. Я из Гвидокса, княжество Ауэнстайн. — К кавалеристу вернулась учтивость, он сделал церемонный поклон, но оружия из рук не выпустил. — Клорхи прижали к самым скалам, мы — конные, по той местности не прорваться, только лошадей покалечим. — Молодой человек, видимо, тоже не любил попусту размахивать оружием. — Повезло, колдун с нами был. Сумел открыть Портал, а сам сдох от когтей нечестивых тварей. По Изнанке шлялись хрен знает сколько, потом увидели — золотом сияет, по всему — Портал открыт, — он ткнул серой, отделанной серебряным узором перчаткой в сторону Наташиных ног, — вот этот.
— Портал? — Брови доктора от изумления встали дыбом.
— Старик, ты чего такой тупой? — неожиданно взвился знаменосец, и тут очнулись охранники, до сих пор стоявшие истуканами с выпученными столбиками крабьих глаз.
— А ну стволы на пол! — завопил тот, что все это время возвышался безмолвным пнем. — Руки за голову, на колени, суки!
— Мочи гадов! — Кто это заорал, сейчас уже не подлежит восстановлению. В потолок, выбивая дождь из побелки, ударило несколько ошалелых пуль, а потом комната встала дыбом, взорвалась, все покатилось кувырком от мощной атаки пришельцев на сплоченную двойку охраны. Ими выбили двери и унесли отливом куда-то по коридору, производя по пути оглушительный шум и нешуточные разрушения. Наконец все стихло.
Наташа с немалым трудом приподнялась на локтях. Удивительно, но буря ее не задела. Филипп Филиппович мелко трясся под столом. Медсестры застыли восковыми изваяниями, как караульные у Мавзолея. Наташа спустила ноги на пол, пошатываясь, встала, вцепилась в рукав Филиппа Филипповича и потащила наружу. Он не сопротивлялся.
— Ну, что, блядь, доктор, — уперла Наташа руки в бока, — родила, сука, твою мать, я здорового и крепкого малыша?!
Прошло пять дней
— Не поймали их и не поймают, — делился новостями заместитель мэра. — Что?! Новые вылезли? Ну, это уже ваши сложности, доктор. Три наряда милиции к вам отправили. Я не знаю, как с этим разбираться. По вашей части проблема, я рук, куда не надо, не толкаю, не сую… Не гинеколог я. И не акушер! Все. Жду, — и он с отвращением бросил трубку на рычаг.
За последнюю неделю в городе творилось черт-те что. Какие-то ряженые разгромили два винных магазина. Нагадили на кресла в кинотеатре. Подрались с бандой рокеров. Гордо отметелили четыре наряда милиции. И, на сладкое, угнали электричку, пустив ее под откос на первой же стрелке, очевидно, по неопытности и неумению управлять.
— Может, зашьем ее? — робко предложил молоденький аспирант, только-только из столичного акушерского института.
— Я щас сама тебя зашью, — мрачно пообещала Наташа.
Прошедшие дни напрочь снесли ей шифер. Кто только не пытался выбраться наружу посредством Наташиного междуножия: перли мужики из ватаги Ермака, бежали белогвардейцы, тянулись силы Красной Армии им вослед, текли неисчислимым потоком зэки с Колымы, спасали жизни угнетенные чернокожие из Америки позапрошлого века, позли от гнета настойчивого коммунизма китайцы. Изюмом в булочке попадались древние скифы, пара людей-кошек, крошечные человечки, этих выползла не одна сотня, зато неандерталец всего один. Вчера явились два пришельца в скафандрах, но тут же юркнули обратно. А под вечер поперло что-то и вовсе невразумительное, с кучей щупалец, присосок и когтей, но этого удалось отпугнуть вспышками фотоаппаратов и мерзким зловонием, с производством которого справились своими силами.
— Да и как тут зашьешь? — Филипп Филиппович внимательно изучал предмет, так сказать, спора. — Ишь прут, заразы, протаранят любой шов навылет.
— Делать-то что, доктор? — не выдержав очередного наукообразного издевательства, всхлипнула несчастная Наташа.
— Делать, гм… — Доктор потупился.
Но тут, как водится, в самый подходящий момент дверь отдельной палаты феномена Наташи широко распахнулась, и внутрь влетел лейтенант Сиропов.
— Нашли, доктор, мать моя повариха, нашли. Гадом буду, он!
— Что же, — засуетился доктор, — Андрей, присмотрите за пациенткой, — и, бросив Наташу на аспиранта, Филипп Филиппович поспешил за Сироповым.
Николай вел себя смирно. Не рыпался, на вопросы милиционеров отвечал скромно и преданно глядел в их светлые, исполненные служебного рвения глаза.
— Выходит, с детства знал за собой такую фигню? — Полковник Петушков шуток не любил и сейчас всем своим видом давал понять, что острот и приколов не потерпит.
— Да, товарищ полковник. — Вину свою Колик ощущал, а потом отвечал торопливо: — Лет в двенадцать, когда первый раз передернул, все и началось.
— По порядку рассказывай, подробно, не для себя спрашиваю — для протокола.
— Ой, товарищ полковник, — виновато и плаксиво запел Колик, — не надо, не сажайте меня. Я ж без баб помру.
— А там свои девки… — заглянул ему прямо в душу Петушков и сурово приказал: — Трави свою молитву.
И Колик начал колоться.
Секс в его жизни всегда был сопряжен со сказкой. Но там, где обычные граждане получали ее в аллегорической, чувственной форме, Колик хапал ее горстями, в самом, что ни на есть первозданном виде.
— Один раз душил удава, ну, сам с собой то есть брызнул — а она в спутник превратилась! И на орбиту вышла, — полковник пометил в блокноте: «Проверить».
Помнил все Колик удивительно нечетко, годы тянулись вдаль, подросток стал привлекать к себе взоры ласкового пола.
— Что мне, всю жизнь в руках себя держать было?
Лица блюстителей порядка светились теплом и пониманием, а кое-где и легкой завистью.
Оральные ласки до добра не доводили. То охапка роз появится на месте преступного семени, пребольно царапая нежный ротик, то хвост конский, что изрядно похуже, то куча пляшущих человечков, то паровозик заводной. Одним словом, беда.
— Ну, а девок, девок-то ты почто подставил? — задал козырный вопрос Петушков. — Ты ж, падлюка, знал, что добром это не кончится?
— А-а-а-а-а! — запричитал Колик. — Она же у меня волшебная, тварь заговоренная, сквозь любую резину проскакивает, и всегда заместо детишек — погань какая-нибудь!
— Что? — вылез вперед Филипп Филиппович, до сих безучастно внимавший допросу. — Что вы сказали?
— Всегда вместо детишек лажа какая-то случалась.
— И ведь в тюрьму такого не закроешь, — задумчиво поковырял в носу Петушков, — натворит там делов.
— Наталья Егорова не первая ваша жертва? — Остатки волос Филипп Филипповича Бирнамским лесом пошли на Дунсинан. — Где остальные? Их нужно немедленно госпитализировать!
Проскочил еще месяц
— Восемьдесят семь известных случаев инвазии. — Наташу вместе с Филиппом Филипповичем и столичным аспирантом перевели в закрытый исследовательский центр под Китежем. Со всей страны собирали здесь жертв «флюктуального» маньяка, так окрестили Колю ученые головы.
Наташа ничуть не горевала, аспирант оказался милым лопухом, обещал жениться, да и сохнуть по Колику после всего, что она о нем узнала, было дикой глупостью. Лишь в сонных грезах всплывал порой его эротический образ — забыть эту инфернальную харизму не получалось никак.
— Пока мы не дали феномену научного названия. Каждая из реципиенток носит в себе уникальную материю, можно сказать, континуум. Вот, посмотрите на снимки.
Сейчас Колику было двадцать четыре. С невинностью злодей расстался в семнадцать, что выглядело чудом, учитывая его буйный сексуальный нрав, однако за семь лет активного осеменения он сумел развернуться так, что один обеспечил бы клиентурой несколько групп детского сада.
Исследовательский центр прятался на дне огромной бетонной чаши, на тридцать метров утопленной в землю. Внутри вели две лифтовые шахты и винтовая парадная лестница, по которой спускался Филипп Филиппович, сопровождая знатного иноземного гостя. Переводчик с неистребимым клеймом ФСО на лице угодливой невидимкой держался позади, но синхрон диалога поддерживал идеально.
На стенах по ходу винта лестницы были развешены огромные фотоснимки внутренних универсумов несчастных жертв Колика.
Махровая спираль метагалактики.
Сиреневый океан с кучей мельтешащей живности внутри.
Сверкающие шпили футуристического города.
Багровое око Портала — Наташа с гордостью фланировала мимо этого снимка.
Горная гряда, усеянная растениями с руками, хвостами и головами.
Межзвездный корабль, похожий на черепаху.
Цепочки переплетающихся цифровых кодов, образующих лицо Шивы.
Матовые, головокружительно сложные механизмы.
Вулканический пейзаж.
Поляна с сотнями порхающих эльфов.
Квадратный лабиринт из струй дыма.
Если бы любое из этих совершенных творений было делом рук Колика, он прослыл бы Богом.
Год спустя
«…показатели ВНП России превысили прошлогодние в восемь раз.
…Россия вернула национальный долг МВФ, США и прочим кредиторам и готова выступить финансовым донором нуждающимся странам. Колосс, глиняные ноги которого размокли и обломились, не только восстал над миром на титановых ходулях, но и делает огромные шаги вперед.
…Такое впечатление, что тяжелая промышленность русских получила укол адреналина в сердце. Эти дьяволы вот-вот вернут себе утраченные позиции на всех машиностроительных рынках. Это наглость. Это триумф! Петр I отбил ладоши в своей могиле, Столыпину и Сталину было бы чем гордиться.
…Полный ходом ведется подготовка к высадке российских космонавтов на Марс.
…РОСНАНО представило дорожные карты по работе на ближайшие десять лет. Умри от зависти, западный научный мир, программа нанотехнологических исследований русских опережает весь мир на десяток лет.
…Первый в мире высокотехнологичный бренд бытовой техники со встроенным домашним любимцем AI-Hohloma бьет по продажам большинство западных аналогов».
Колик ныл. Рыдал бы да не мог выдавить из себя ни капли лишней жидкости.
— Сколько можно?! — заламывал он руки в комфортабельной, обставленной по высшему стандарту, но обитой мягким пластиком, камере. — Ну зачем вам еще подводные лодки?!
— Наше дело — помалкивать, — привычно отмахнулся бугай Ефрем Россохватский. — А твое дело — маму слушать. Родина-мать сказала: «Надо», комсомол ответил?
Колик скулил, грея руки в паху.
— Что ответил комсомол? — повысил голос арийский красавец Ефрем. С этим шутить было опаснее, чем с полковником Петушковым.
— Комсомол ответил: «Есть», — проблеял Колик и весь сжался, будто ожидал удара.
— И ты, гад, все сделаешь для Родины, — подвел черту Россохватский и пригласил: — Заходите, девчонки, не стесняйтесь.
— Сука-а-а-а-а-а! — стонал Колик. — Не стоит уже, голову повесил, сморило его. Хва-а-а-а-а-ати-и-и-и-ит!
За толстым пуленепробиваемым экраном крутили аппетитными задами юные красотки. Хихикали, целовались и запускали пальцы друг в друга. Пыл их неподдельной страсти грел даже сквозь двадцать сантиметров стекла. Колик не хотел смотреть в ту сторону, но похоть пробралась под ребра и взяла за живое. «Одним глазком», — решил узник и попался. Инстинкты закипели, паром сорвало крышку, Колик не успел толком расстегнуть ширинку, как краник восстал. Чего Родина не жалела для своего самца, так это первосортных девчонок. Эти стонали так сладко, с такой самоотверженностью и зноем терлись друг о друга, что Колик не выдержал, прильнул к окну и втолкнул вспотевшую ладонь в брючки.
— А в следующем месяце опять космическую программу отрабатывать! — огорчился некстати Колик и заплакал от очевидного, но неизбежного горя.
Сами по себе (Денис Скорбилин)
По небу плыло облако, похожее на конскую елду. Пораженное размерами конского естества солнце пыталось укатиться за горизонт. Да разве от такого коромысла укатишься! Небесные мудя навевали радость и одновременно легкую светлую грусть. Это были приятные чувства, и вообще этот день мог стать лучшим в жизни Томата (с ударением на букву «о», разумеется, ведь на Балканах иначе и не бывает… впрочем, мы не на Балканах, я наврал, да и какая разница, просто запомните ударение). Именно сегодня, как точно знал То́мат, его должны были удостоить чести присоединиться к салату. Что это такое, юный помидор сказать не мог. Весь месяц короткого земного существования он знал лишь упругий стебель, наполненный сладкими соками земли, солнце, воду и Хозяев. Хозяева были добры и гладили Томата, нежно сжимая упругие бока. Еще не дозрел, говорили они, еще рано. Пусть еще дозреет, а уж потом…
За словом «потом» скрывалась волнующая приятная неизвестность. Томат воображал салат как место, куда собираются самые лучшие и послушные помидоры. В салате хозяева пляшут вокруг помидоров и поют им красивые нежные песни. Потом поливают чистой водой, отчего стебли наливаются горячей силой и поднимают Томата всё выше, до самого неба, по которому плывут такие интересные облака…
Но никакого салата больше не будет. Утром хозяев зарезали прямо здесь, на грядке. Кровь их впиталась в землю и, кажется, уже добралась до корней Томата. Иначе откуда у него ощущение этой горечи и бесконечной усталости, когда пашешь-пашешь, как проклятый, а потом половину урожая забирают разбойники вашей милости пана Чтобыемукабачоквсраку Миклоша Чаплинского? А если мало дашь, зарежут и тебя, и твою жену на сносях, и даже собаку не пожалели, ироды.
Разбойники, то есть верные панские слуги, приписанные к панскому замку дружинниками, тынялись по разоренной хатке. Рылись в вещах, искали в огороде клад. Эй, остолопы, хотел было заорать Томат, возьмите меня! Возьмите и покажите наконец, что такое салат! Но, разумеется, он ничего такого не прокричал, ведь помидоры не разговаривают. По крайней мере пока. Давайте почитаем, что будет дальше.
В общем, Томат промолчал. Зато подал голос кое-кто другой, зычный и грозный. Услышав басистый окрик и цоканье подков, панские прихвостни побросали мешки с награбленным и схватились за мечи.
— Повторяю, смерды: я паладин Святой Церкви, единственно верной и правильной, жестоко карающей ересиархов и всех, кто уклоняется от уплаты налогов. Призываю вас бросить оружие! Где хозяева? Они задолжали нам десятину!
— Хрен тебе в забрало, а не десятину!
«Хрен? — удивился Томат. — Какой же вы ему хрен дадите, когда сами вытоптали его, черти?» Паладин тем временем пришпорил коня, надвигаясь на троицу. Те слегка пригнулись и хищно оскалились. В отличие от бывших хозяев усадьбы, вечно голодных и загнанных, дружинники казались сытыми и полными сил. Но и здоровяк в седле тоже оказался не лыком шит. Его огромный меч наполовину высунулся из ножен, и солнце окрасило сталь в оранжевый. «Оранжевый — это такой предвестник красного, когда-то и я был оранжевым», — вздохнул помидор. Ему не нравилась вся эта суета.
Теперь мерин тревожно переступал копытами прямо над головой Томата. Огромный елдак покачивался, как язычок церковного колокола. По ком звонит конский колокол? Кто слышит его мясной звон? Томат не знал, но двух его соседей по грядке уже вдавило в землю копытами. Яркий весенний сок пролился на землю, смешавшись с кровью добрых хозяев. А затем сверху щедро ливануло кровью разбойников, паладина и даже бедного мерина.
«Просто удивительно, — подумал Томат, — на верхушку которого вывалилась конская требуха, сколько интересного скрывают в себе люди и животные. Тут и коричневый, и почти черный, а уж красного сколько оттенков! У меня столько нет…»
«Просто удивительно, — подумал уцелевший разбойник, — я все еще живой и невредимый. Однако за паладина меня точно повесят, даже панское заступничество не спасет». Конечно, разбойник жестоко просчитался. Вместо виселицы его на следующий день притащили на это самое поле другие паладины. Раздели догола, немного потешились, как заведено в мужском церковном братстве. Затем разбойнику отрубили ноги. Потом руки. И только затем пришел черед головы.
Шальная босяцкая кровь снова напитала корни Томата, будто ему и без того было мало этой соленой и невкусной жижи. Многие помидоры уже завяли, и только Томат с несколькими счастливчиками еще как-то держались, цепляясь взглядом то за солнышко, то за игривую тучку, то за серую мясную муху Филиппа.
— М-м-мф-ф-фм-м-м-м-мвкш-ш-ш-ш-шна, — восхищался красотой покрытого опарышами мяса Филипп. Черный, упитанный и наглый, он восседал на убитом коне, потирая передние лапки.
— Дорогой мой, это возмутительно! Еще два дня тому это была милая лошадка, которая щипала травку, нюхала цветочки нежными ноздрями и делала «и-го-го». А теперь ты радуешься…
Филип лишь отмахивался от обвинений Томата. Как и все мухи, он был склонен к философским размышлениям и даже выработал собственное направление. Филипп верил и активно убеждал других, что накопленные за жизнь грехи высшие существа искупают после смерти, отдавая плоть на пропитание малых сих, к которым относил и себя. Люди и скот только и делают, что жрут-жрут-жрут, так почему бы хоть разик не покормить маленькую бедную мушку?
То, что сам Филипп отожрался на кармических харчах до размеров крупного шмеля, крылатый философ воспринимал как тонкую иронию над мещанскими традициями глупых людишек. Или даже как постиронию, если вы сведущи в современной философии детей домохозяек.
Дни исчезали, как капли дождя на горячем черноземе. В усадьбе появились новые хозяева. Забрали в салат остатки овощей, и это оказалось совсем не то, что представлял себе Томат. Совсем не то. Сам он, впрочем, не успел удостоиться этой сомнительной участи. Помешали люди, прискакавшие верхом на лошадях. Кровь новых хозяев, тревожная и нежная, все еще не верящая, что такое счастье, как дом с садом и огородом, и все им, даром и навсегда, уберите, пожалуйста, меч, я уверен, мы можем договориться, поща…
Потом появились другие всадники в хороших доспехах. Кровь предыдущих убийц потекла к Томату, однако ничего нового не принесла. Люди с мечами удивительно похожи между собой.
Пошел дождь. Затем снег. С востока, где попирал землю родовой замок пана Чтобыемукабачоквсраку Миклоша Чаплинского, потянуло дымом. Это паладины ставили окончательную точку в спорных вопросах налогообложения. Из столицы на выручку Чаплинскому спешили королевские гусары. Грунтовые воды приносили к Томату все новую кровь, мысли, надежды, страхи. Снег покрыл Томата по самую плодоножку. Несъеденные товарищи сгнили, и только Филипп не оставлял друга в одиночестве. Другие мухи впали в спячку или погибли в неравных схватках с пищевой цепочкой, но только не единственный постироничный друг Томата.
— Ф-ф-ф-ф-фифдеф-ф-ф!
Да, хотел ответить ему уже не маленький одинокий помидорчик. Именно это слово! Что происходит, почему все эти прекрасные люди убивают друг друга вместо того, чтобы взять и сделать салат. Впрочем, в салат Томат больше не хотел.
Всё изменилось весной, когда стаяли снега и кони по брюхо проваливались в грязь. Филипп догрызал пойманного на чердаке хозяйского дома хорька. По небу плыли облака, похожие по форме на чуму, мор и глад. Над макушкой Томата несколько человек решали судьбу этого края и всех его жителей.
— То есть нонсенс, пановэ. — Вдова Потоцкая, приходящаяся покойному также старшей сестрой, возмущалась и сверкала глазами. Один был зелен, как черенок Томата, другой по цвету напоминал чернозем. Два короля и один епископ смущенно отводили глаза от ее колдовского взгляда… и глубокого декольте, конечно. — Нонсенс! Я прекрасно распоряжусь владениями мужа, нечего и беспокоиться, тем более перекраивать карты. Что вы придумали, мы же так хорошо жили!
Тут все заговорили одновременно, очень красочно и многозначительно. Томат уже знал, что у людей одни и те же слова одновременно могут означать одно, другое или третье. Поэтому Томат, впитавший кровь сотен подобных им, не слушал слова. Он проникал в суть.
Деньги, говорил, епископ. Деньги. Это только кажется, что разошли по всему свету оборванцев собирать десятину, и ты уже богач. Обучить, снарядить и прокормить эту прорву тяжелее, чем кажется. А тут еще и эта ваша феодальная вольница. Королевства! Каждый пятый паладин помирает на первом задании. Еще столько же погибает на втором. А у вашего владения, глубокоуважаемая сударыня, бумажки не в порядке, ваш покойный муж задолжал Церкви…
Да погоди ты, святоша, отвечает один из королей. Тоже мне, документы! Документы разные бывают, и раз уж Потоцкий отправился на небеса вместе со всей дружиной, давайте поднимем архивы. Да, сто лет прошло, и мы подписали тогда все бумаги и были не против передачи наших земель Потоцкому. Но наше королевство на подъеме, поэтому время жечь архивы. Говорите, это ваши земли? А мы и наши пушки говорим, что теперь эти земли опять наши.
А второй король смотрел на глазастую Потоцкую. Его рыжие кудри отливали бронзой на солнце. Земли, деньги, власть, говорил он, все мимолетно. Всё поднимается из праха и в прах уходит, а вот ты, красавица, почему такая грустная? Жизнь идет, и ты достойна того, чтобы вдыхать ее полной грудью, уж поверь мне, своему королю.
И, конечно же, короли и епископ говорили друг с другом. Думаешь, ты и твои гусары такие крутые? Думаешь, ты и твои пушки такие крутые? Думаешь, ты и твои паладины такие крутые? А вот давай проверим! А вот давай проверим! А вот давай проверим!
Голоса переполняли Томата, ему захотелось заплакать, но глаз у бедного помидора все еще не было, и заплакать не получилось. Томат хотел, чтобы все эти люди замолчали, ну, разве что, пусть еще рыжий немного поболтает с зеленоглазой, но они говорили и говорили… И говорили, конечно же, не о том.
Если бы не Филипп, разорвавший глотку одному из королевских стражников, они бы мололи языками до скончания времен, пока солнце не скатилось бы на землю, опаляя всех смертоносным жаром. А так… Это твоя тварь, нет твоя, вы порочные дьяволопоклонники… Кишки епископа изящно обернулись вокруг стебля Томата. Да сколько можно! Кровь дружинников и паладинов перемешалась, и хорошо хоть сами венценосные особы успели скрыться. А некоторые даже обменялись напоследок долгими заинтересованными взглядами.
Жаркое майское солнце подсушило землю, ветер принес запахи разнотравья. Томат вытянулся вверх, окреп и выбросил новые стебли. Солнце щекотало его ярко-красные бочки. По небу плыли облачка, похожие на покойников, а корни нашего помидорчика регулярно пробовали кровь на вкус. Вдалеке гремели пушки. Иногда через огород проносился взмыленный вестовой, но случалось это всё реже. Филипп говорил, что всему виною дурные слухи об этих местах, но Томат не видел в этом логики. Всё дурное, что здесь случалось, люди приносили с собой.
Ближе к осени до корней Томата добралась и кровь королей, что спорили над его головой. Сначала одного, затем другого. Горячая кровь вдовы Потоцкой тоже впиталась, но ближе к зиме. В отличие от мужчин, женщина умирала измученной, но счастливой. Двое, шептала она в голове Томата. Двое вас, милые мои детки, берегите друг друга, любите друг друга и будьте счастливы…
Новая зима не принесла снега, зато беженцев случился полный урожай. Оборванцы, пропахшие дымом сгоревших домов, жались к краю огорода, не решаясь подойти к Томату. Какой огромный, шептались они, больше тыквы. А может, больше коровы? Жаль, мы так давно не видели ни тыквы, ни коровы, одна вареная человечина. Хорошо хоть котел успели унести, а вот это что за страшилище, интересно, он кусается?
Разумеется, Филипп кусался, да еще как. Беженцев сразу же стало заметно меньше, да и те предпочли покинуть гостеприимный хутор. Впрочем, надолго Томата одного не оставили.
— Ну и елдовина вымахала! Это что, помидор?
Гусар сплюнул на промерзлую землю. Товарищ поддержал его:
— Дык, ёптыть, нечыста сыла, гивна ей в сраку!
Гусары шли по следу беженцев, однако нашли лишь одну охромевшую девку, которой побрезговал сытый Филипп. Вояки сноровисто изнасиловали бедолажку и закололи. Затем поели и теперь лениво наблюдали за Томатом. Помидор загорал под февральским солнцем, размышляя о том, что скоро весна, прилетят ласточки, и хорошо бы Филипп не сожрал бедных птичек, как в прошлом году…
— А давай его саблей чикнем?
«Эге, — подумал Томат, — чего придумали! Саблей! Я же лежу здесь, никому не мешаю!» Но его, конечно не послушались. Ведь люди не умеют читать мысли, они и говорить-то, будем откровенны, не слишком способны и сами понимают лишь язык грубой силы.
— ОТСТАНЬТЕ! — рявкнул Томат и с удивлением замолчал. Раньше его слышал только Филипп, что позволяло крылатому другу периодически ударяться в солипсизм и дразнить Томата плодом своей мушиной фантазии. Но теперь голос прорезался.
— Говорящий помидор!
— Шаблями його!
Гусары вытащили из ножен кривые стальные клинки, похожие на зубы Филиппа, только чуть-чуть длиннее. Это уже никуда не годилось, поэтому Томат выдернул из земли корень и обвил шею одного из вояк. Второй гусар в три удара сломал саблю о прочный корень и заплакал, глядя, как умирает его друг. Не в силах слушать, как страдает человек, Томат из милосердия задушил и его.
— В-вжвж-ж-ж-жвжвж-ж-ж, я ниф-ф-ф-фего не фрофустил?
«Ох, милый мой Филипп, — вздохнул помидор, — не дадут нам покоя на этом уютном огородике. Люди в принципе не предназначены для того, чтобы с ними было спокойно. Они постоянно убивают друг друга, потом страдают, потом снова берутся за железо. Сколько бы раз зима с летом ни сменяли друг друга, ничего не изменится».
— Спешите, граждане! Спешите на пир, который наш добрый и теперь наконец-то единственный король этих земель устраивает для подданных! Всем дадут поесть и разрешат посмотреть на праздничный рыцарский турнир, соревнование пушек разных мастеров и торжественные казни. Спеши…
Выскочивший на огород глашатай замер, открыв рот. Его глаза, маленькие, похожие на крохотные гнойнички, уставились на выбирающегося из земли Томата. Бедняга так и стоял, пока Филипп не подлетел к нему с тыла и не откусил голову.
— Ф-ф-ф-фкуфна! Мой друг, ф-ф-ф-фолете-ли на пф-и-и-р!
— Полетели на пир, — вздохнул Томат, — нужно поздравить нового короля и попросить оставить наш маленький уютный огородик в покое.
И они полетели, помидор верхом на мухе. Маленькие пассажиры большой человеческой истории. Воздух из-под крыльев Филиппа сбивал снег с деревьев, корни Томата цеплялись за верхушки сосен, ломая дерево легко, как лошадиный хребет или кирасу. И это не простая метафора: друзья сделали в дороге привал, увидев отряд кавалеристов. Филипп пообедал.
В замке у нового короля царило веселье. В праздничных виселицах весело болтались сторонники проигравших королей. Простолюдины, пришедшие за краюхой хлеба, бегали по двору, оглушительно визжа. Томат методично отрывал головы стражникам и запихивал им же в задницы.
Филипп ел.
Филипп ел.
Филипп ел.
Филипп ел.
Филипп ел.
Томат запихнул королевскую голову в королевскую задницу.
Филипп ел.
Филипп ел.
Филипп ел.
Простолюдины обезумели и катались по замерзшим лужам крови, будто по катку. Некоторые носили солдатские кишки, как ожерелья. Сверху на разрушенный замок опускался долгожданный январский снег.
Филипп доел королеву.
Из загончика со знатными преступниками, которых не успели казнить до прилета неразлучных друзей, смотрели дети. Мальчик и девочка. Рыжие папины волосы, мамины глаза, изумруд и оникс. Дети держались за руки и улыбались — им тоже не нравился бывший новый король.
Томат задержал на них взгляд собственных глаз, огромных и красных, видевших всю кровь этого мира.
— Филипп, мы, кажется, немного увлеклись с тобой, нет? Озверели так, что еще немного, и в людей превратимся.
— В-вж-ж-ж-ж-ж-ж-жф-ф-ф-ф-фхщ-щ-щ-щ-щ, наверное, ты прав, друг.
— Давай поможем этим детям убрать игрушки в этом домике.
— Х-х-хороф-ф-ф-ф-ф-о.
— И, может быть, какое-то время присмотрим за ними?
— Ф-ф-фа-чем?
— Просто чтобы убедиться, что они больше не будут драться. Что вырастут хорошими людьми. Присмотрим за ними… за ними всеми.
=============================================================================
Газета «Веселые, добрые и очень милые новости». 2035. №4 от 20 апреля
СКАНДАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ЗАВОЕВАЛ СЕРДЦА ЧИТАТЕЛЕЙ
Роман-эпопея «Сами по себе» Сильвиана Острослова удостоился почетной ежегодной премии Томата. Серия книг, бросивших вызов обществу и породившая сразу несколько протестных флешмоб-петиций, все-таки будет издана. В следующем месяце полтора миллиона цифровых копий «Сами по себе» поступят во все электронные библиотеки планеты. В следующем номере нашей милой газеты выйдет огромное интервью с автором «Самих», Сильвианом. Который, кстати, вместе с публикацией получил право на обслуживание без очереди в столовой по месту жительства. Не забывайте своевременно продлевать подписочку в своих айфончиках, наши добрые читатели. Ведь мы и дальше будем знакомить вас с самыми успешными людьми нашего мира.
Для тех, кто пропустил культурный шторм, сотрясавший нашу планету весь прошлый год, даем справку. Роман-эпопея «Сами по себе» рассказывает об альтернативной Земле, где помидор Томат не появился на свет и Человечество развивалось не согласно великому Плану, а подчиняясь хаотичной последовательности полуслучайных событий. Автор на примере истории одной семьи показывает немыслимые эпидемии, голод, две (!) мировых войны, сексуальную революцию, случайно спровоцированный ядерный Апокалипсис и последующее сексуальное порабощение остатков человечества разумными собаками-мутантами. Книга полна насилия и жестокости. В ней встречается не только нарушение правил дорожного движения и жестокое обращение с животными, но и драки, убийства, спонтанное занятие сексом и даже рыночная торговля. «Сами по себе» дают прекрасный ответ на вопрос, что бы мы делали без наших старших друзей. И, конечно, этот ответ многим показался оскорбительным, хотя нашлись и те, кто смело посмотрели в лицо отражению в зеркале.
Мудрейший и добрейший друг, советник и скромный председатель планеты Земля Томат нашел время, чтобы прокомментировать эти книги нашему корреспонденту.
ВСЕ ВЕРНО НАПИСАНО, ВАМ ТОЛЬКО ВОЛЮ ДАЙ, ЖИВОТНЫЕ ГЛУПЫЕ, ПОУБИВАЕТЕ ВСЕХ ВОКРУГ И СОЖРЕТЕ. ГЛАЗ ДА ГЛАЗ ЗА ВАМИ.
А ветрокрылый повелитель мух и пожиратель плохих людей, да растет его мускулистое тело вечно, Филипп Серый выразился еще более ярко, коротко и, не побоимся этого слова, остро:
Ф-Ф-Ф-Ф-ФИЗ-С-ДЕФ-Ф-Ф-Ф!
Зарисовки
Однажды в борделе Ласвигас (Варвара Селина)
Просто еще один жалкий беглец
из поколения любви.
Р. Дьюк
У нас на корабле кого только не было, но новый инженер санитарных систем Эрл сразу стал объектом нашего с Питом внимания. Одно дело, когда встречаешь пилота-аркилийца или торговца-вогона, но Эрл был слишком похож на нас: тоже гуманоид, только очень кожистый, какой-то нежный, белый в пятнышках, еще и с рыжими волосами.
Мы долго сдерживали шутки.
Пока не застали его в гидравлическом отсеке с членом в руке. Он был еще более вялым, чем весь Эрл, и, судя по запаху, от него не стали бы тащиться даже самки его породы. Самки-гуманоиды тащились от нас. Называли нас «карамельками». Смеялись, что в детстве сосали сладости с таким вкусом — врут или нет, но, судя по тому, как сосали, похоже на правду.
Эрл сообразил, что, несмотря на шутки, мы явно не дрочим по углам между сменами, так что мы даже как-то сдружились, а заодно поняли, что девку он вообще не знавал, хоть и проявлял интерес. Поэтому решили ему кое-что показать на очередной высадке.
Мы направились в бордель Ласвигас, самое вольное заведение астероида B12: рептилии всех цветов, двухметровые лысые лесбиянки и любительницы настоящей жидкой карамели. Это была территория огнеупорного пластика и пластмассовых пальм. Нам не то чтобы горело, но мы поспорили, что раскупорим нашего кожаного друга до следующего рейда.
Заведение было закрыто, но бордель-маман сказала, что подождет, если мы поторопимся. Мы с Питом сразу выбрали себе по телке, но Эрл мялся на входе, стесняясь сказать маман, что ему понравилась Рыжая Джесс.
Тогда я еще не знал, что своим хером практически сниму скальп милой шестнадцатилетней негритянке. А Пит не думал, что вылетит голым из окна.
Тогда я смеялся над Эрлом, потому что Рыжая Джесс была самой старой шлюхой этого борделя. Может, решил, что она из его породы? Мы не стали ему говорить, что она крашеная. Просто взяли девчонок за задницы и скрылись в вонючих комнатах второго этажа.
***
Эрл на трясущихся ногах подошел к постели. Она прогибалась от тяжелого тела Рыжей Джесс, сально ухмылявшейся самки человека — за эту ухмылку ее любили даже мелмакийцы.
— Эй, мальчик, тебе хоть шестнадцать есть?
— М-мне куда больше.
— Правда? А член в девку запихивал?
— Д-да.
— В мамку свою, что ли? — заколыхалась от басистого смеха Джесс.
Эрл неуклюже попятился, споткнулся об ковер и упал челюстью на край кровати. Рыжая всё смеялась. Таких мальчиков у нее было достаточно. Эдипов комплекс, влажные детские фантазии, а иногда просто страх перед сочными молоденькими шлюхами. Когда еще не трахался, уверенность придают странные вещи. Например, возраст партнерши. Зато стоит у них исправно, как над ними ни шути. Кончают быстро, краснеют, вылетают из комнаты, не успев натянуть штаны, кто-то даже плачет.
— Т-ты спала со старым Макки О’Пилом?
— Малыш, ты думаешь, я помню всех по именам? Иди сюда, снимай штанишки.
— Ты точно спала с ним, долго! Человек. Высокий, толстый, рыжий.
— Папка твой, что ли? — опять захихикала Джесс.
***
Никогда еще я не кончал так громко. Правда, через секунду оказалось, что грохот шел от двери, в которую на восьми копытах ворвался лысый вышибала маман. Всей своей массой он летел на меня, девчонка орала, а я не мог вырваться и дотянуться до револьвера. Лысый схватил меня за все уши, а девчонка орала всё громче — оказалось, на липкий карамельный, мать его, конец намотались ее шикарные кудри! Сука, как больно и тупо!
Когда меня, голого, с тем еще бобром вокруг хера выкинули на улицу, там уже лежал Пит и стонал. Следом вышли маман и второй вышибала — в лапищах он держал пунцового Эрла. Я даже задумался, не родственник ли он сноркам — цвет-то как хитро меняет!
— В мой бордель больше ни ногой, куриный помет! Сопляк точно не мог спланировать это без вас. Этого ублюдка вздернут еще до полуночи. Задушил мою Джесси, урод, гори в аду! — Маман залилась слезами и скрылась за дверью.
Мы, позабыв про боль, в шоке смотрели на Эрла, которого лысый стаскивал с крыльца. Такого говна мы от мальчишки не ожидали — вот тебе и бортовой сантехник. Он посмотрел исподлобья на наши охреневшие рожи.
— Моя мать повесилась, когда узнала, что отец ходит к этой шлюхе!
Ах ты ж сраный жук, он местный! Кажется, Панчи нам что-то говорил о бурном прошлом пацана. Бла-бла-кря, неудачная охота, плохое ружье, остался без отца, кэп пожалел и взял на борт…
Пит сообразил раньше и подал голос:
— А батю своего, кожи кусок, ты тоже сам прихлопнул?
Но Эрл уже отвернулся и шел в участок с криками: «Я подложу бомбу под это заведение!» — пока лысый не дал ему копытом в челюсть.
Так неудачно мы еще не трахались.
Запустим оргдрайв вместе! (Константин Говорун)
Взаимная любовь одномерна, измены с третьим лишним плоски, и только хорошая свинг-пати создает объем.
Космический корабль с химическим двигателем летит быстро, но недалеко. Ионник может домчать до другой звезды, но за сто тысяч лет. Однако стоит сложить трехмерное пространство, как лист бумаги, порвать его, как дрянной презерватив, а потом разложить обратно — ты перескакиваешь в другую систему так же быстро и бесповоротно, как пациент психолога из одной зоны комфорта в другую.
Квантовые физики годами учились ломать метрику пространства, но настоящий межзвездный двигатель создали мы — геометры отношений.
Люди летали в космос десятилетиями, но только в 2025 году решились заняться в невесомости сексом. Первопроходцами стала пара американских астронавтов Габриэль и Майкл. У них ничего не получилось (размерность пространства — как градус; ее надо повышать, а не понижать). Но стоило мужу Майкла в уюте техасского ранчо что-то заподозрить, а русскому космонавту Чехову однажды утром застать коллег в туалете модуля «Звезда», как яркая точка МКС в земном небе мигнула и попросту исчезла.
Что случилось с экипажем, так до сих пор никто не знает (доктор Миллер считает, что, оставшись втроем, они не смогли сформировать связи сложнее треугольника и навсегда застряли у чужой звезды), но, угробив два десятка собак и людей-добровольцев, мы построили двигатели, работающие на объемно-резонансной геометрии Ильина и Ямпольского (оргдрайв).
Так исследование космоса окончательно перешло от физиков к лирикам. Пока инженеры монтируют на кораблях туалеты, команда из сценаристов телесериалов работает над подбором экипажа. Ведь нельзя просто взять и использовать сложившийся свинг-квартет; заставить четырех чужих друг другу людей перетрахаться — тоже не вариант. Люди (и не только) должны прийти к отношениям естественно и обязательно выстроить их как можно сложнее.
Я всего лишь студент МАИ, и для дипломной работы никто не доверит мне настоящий межзвездный корабль. Поэтому пока провожу наземные испытания новой модификации двигателя с числом N = 20. Профессор Миллер считает, что в двадцатимерном пространстве можно не только с легкостью переносить массу в пределах нашей Галактики, но и дотянуться аж до Магелланова Облака.
Чтобы проверить его гипотезу о матричной модели связей, пожалуйста, приходите на мою вечеринку, которая состоится в пятницу в 19:00. Родители — на даче, пакеты с вином — уже едут, компания намечается отличная. Будем смотреть «Матрицу» и все вместе заниматься геометрией до самого утра.
Спасибо тебе (Эльдар Сафин)
Слушай, он перешил мне чип, чтобы я мог видеть в темноте. Это фича спецслужб, то есть официалка — ну и мне экономия на электричестве.
— Даров, чу!
Я его и не узнал бы, но точно так же выражалась моя сестренка, и я по ассоциации вытащил из памяти хакера.
— Привет! Есть что интересного?
— Е! Маньячко нью!
Ты знаешь, я далек от прошивок, ему пришлось объяснять. Прикинь, маньяков перед освобождением из дурки или тюрьмы теперь прошивают! И их интересуют не дети или животные, а перебор четок или чесание пуза.
Но то старая прошивка, а новую можно настроить на комплекс действий. И завязать оргазм на результат. Например, чистишь рыбу, возбуждаясь, дочистил — бац! — кончил. Если рыба большая — оргазм ярче, а для мелюзги — поплоше.
А у меня с год никого не было, онанизм унизителен, ну и решился я привязать возбуждение к работе.
Прошивка заняла четыре часа — зафиксировали процесс в нескольких вариантах. Денег ушло немало, а в первые дни после прошивки удовольствия не было никакого — хуже того, во время работы, и без того муторной, меня начало тошнить.
Вадик уверил, что это норма, мол, прошивка адаптивная, нейросетка в чипе подстраивается под изменения, «маньячко» у кого-то сразу запускается, а у кого-то через неделю.
Я ему не поверил, но деваться было уже некуда — ну, ты в курсе.
А на следующий день, ваяя очередной интерактивный гипертекст о пользе профилактики ротовой полости, я почувствовал — вот оно!
От правильных оборотов я ощущал нарастающий подъем, а поставив последнюю точку — потрясающей силы оргазм.
Но — без физического утомления, только чистое удовольствие.
Тут же написал следующий гипертекст, сделав его ярче прежнего.
И еще один. Отправил их заказчику, а на следующее утро он написал:
«R, мы вынуждены отказаться от ваших услуг. Ваши гипертексты слишком эмоциональные».
Я выпросил еще попытку, но писать тускло и по ТЗ уже не мог, и мне закрыли гипертекстовый редактор.
Мне перестали платить, но остановиться я не мог. Я пытался писать стихи и повести, притчи и новеллы, но мой оргазм оказался настроен на гипертексты — и все это было лишь «жалким подобием левой руки».
Вадик перепрошивать меня отказался: «Чу, так не робит, у нейросетки отката не будет. Попробуй лайтово переобучить ее, смени парадигму».
И теперь от гипертекста у меня лишь обращение к читателю в тексте. Да, да, к тебе.
И, дописывая, я хочу сказать — не гордись собой, мой невольный соучастник нейросетевого секса!
Приближающийся к нам оргазм — лишь тень утерянного мною гипертекстового.
О-о-ох…
И все равно — спасибо тебе.
Мексиканец (Александр Придатко)
Машина Мексиканца была так себе, день выдался еще похуже, а дороги после Козельска и вовсе стало не видно.
Димас осторожно обернулся, посмотрел в клетку, надежно присобаченную к днищу буса. Поежился, чувствуя странное, ставшее почти привычным жжение и зуд. Тягу, перетряхивавшую нутро. Мысленно посочувствовал бабам, которые увидели бы этот самый груз, пусть даже изрядно помятый и изнуренный.
— Это ты просто ее не видел, — хрипло сказал Вилли, лихорадочно петляя меж провалов в дорожном покрытии. — Там такое… такая…
Димас молча гладил приклад, глядя только вперед, в унылый сентябрь и дождь. Знал, что Вилли прав: опоздай они, сумей нынешний Адам привлечь достаточное количество женщин, и Ева становилась необязательной, критическая масса переходила на качественно иную ступень…
Стеклянистую выжженную Сахару и поныне всё никак не мог занести песок.
— Не понимаю их, — сказал он неожиданно для себя. — Чего вот не жить, а?
Где-то на западе рдела облачная прядь, но солнце всё никак не показывалось. Димас досадливо почесал в паху, на сей раз даже не покосившись на груз. Странная фиговина, украшавшая Адама, безжалостно намекала на нечто утраченное, недостающее, немыслимое — и по-своему бесценное.
«Плевать, — сказал себе Димас, — на все эти глюки. Вот довезем, сдадим в сад, отдохнем с недельку — и в новую охоту! Разве это — не лучшая жизнь?!»
— В баньку бы, — поддакнул Вилли. — Хоть на пару дней забыть о них к едрене фене…
— Забудешь тут, — спокойно сказал Димас. — Как же!
К счастью, путь по плотине оказался чист, и к приемнику успели вовремя, засветло. Пару раз Димас уже почти собрался пальнуть по обочине, заподозрив недобрые намерения у сосредоточенных и хмурых прохожих… и оба раза обошлось. Груз дышал тяжело: в процессе поимки парню досталось по первое число, — но помирать вроде не собирался.
В очереди оказались седьмыми, Вилли ругнулся было, почти и не удивленно, но ангелы работали прытко, деловито, не затягивая процедуру, и не прошло и часа, как старший наряда подозвал машину Мексиканца поближе к пропускнику, вертя жезлом зловеще и стильно. Димас с силой ущипнул переносицу, почем зря костеря груз. Никогда прежде ему и в голову не пришло бы заглядываться на ангелов.
Адама ловко выдернули из клетки и уволокли внутрь, в сторону просвинцованного хранилища.
— Может, новую колымагу прикупим? — спросил Димас, пересчитывая деньги.
— Потом когда-нибудь, — махнул рукой Мексиканец. — Этих хватит на всё.
Статьи
10 фантастических фильмов «про это» (Сергей Игнатьев)
Эротические и фантастические мотивы со страшной силой питают кинематограф еще с тех пор, когда он был немым и черно-белым. В ту легендарную пору мотивы эти успешно объединялись, синтезировались, накладываясь друг на друга до степени смешения, вроде как дрожащие носфератовские тени падают на кружевной пеньюар невинной жертвы, а солнце одинаково весело бликует на чешуе плотоядного человекоящера и на загорелой коже незадачливой купальщицы.
Развиваясь год от года, эти заигрывании чистого, так сказать, фантазерства с «фантазиями про это» уходили все дальше в пародийную, смеховую-низовую нишу, ввиду специфики подачи стараясь как можно скорее скатиться в полнейшую похабщину. Была (и будет во веки веков) и обратная ситуация — экскурс в глухие фрейдистские дебри, на территорию замороченного психологического артхауса.
И то и другое, конечно, сильно сокращало аудиторию подобных фильмов.
С приходом рейтинговой системы ограничений MPAA произошло окончательное размежевание жанров. Спору нет, корсет и свечи неуместны в интерьере фотонного звездолета, но «желание странного» и тяга к разрыву шаблонов породили, в свою очередь, массу спекуляций и неожиданных трактовок.
Погодите с рапторами, а что там реально происходит между доктором Грантом и доктором Сэттлер? Эй, а как обставлена спальня мамы и папы Аддамс? Кстати, является ли разъем Матрицы эрогенной зоной? Как будет на квенье «засос»? В конце концов, занимаются ли сексом эвоки?! Покажите нам это немедленно! Нет, нет, лучше не надо…
В эпоху, когда яойные фанфики по Гарри Поттеру по количеству читателей и лайков чуть ли не опережают оригинал, на закате эры постмодернизма эротика с фантастикой снова идут на контакт, протягивают друг к другу — каждый со своей стороны баррикад — кто клешню, бластер и щупальце, кто обтянутую сетчатым чулком ногу, косматое розовое боа и жокейский хлыстик.
Специальный корреспондент «Мю Цефея» бесстрашно пролез через эту жанровую границу и попытался составить список наименее очевидных картин, в то же время наиболее ярко данную границу характеризующих.
Следует отметить, что как раз по причинам «очевидности» в подборку не вошли работы таких титанов, как, например, Кроненберг или Линч, вся фильмография которых — завораживающий симбиоз сексуального и мистического. В общем, как говаривал в неофициальном переводе один из отрицательных персонажей франшизы «Горец»: «Приступим к делу, тигренок!»
1. «Голод» (Тони Скотт, 1983)
К середине 80-х повсеместное сексуальное раскрепощение и стремительные стилевые метаморфозы подарили нам целую плеяду поп-звезд, которые и сейчас, после смены нескольких поколений и постиронического вскрытия собственной эпохи, продолжают считаться эталоном вкуса и безупречными ролевыми моделями. Британец Тонни Скотт сумел зазвать в свою картину сразу троих: Катрин Денев, Дэвида Боуи и Сьюзен Сарандон. Получился гимн воинствующего эстетизма, герои которого — утомленные совершенством виолончельных симфоний и пыльного ар-деко европейские вампиры — приезжают в Нью-Йорк, чтоб сполна насытиться его молодой и глупой кровью, но поколение хайтека и глэм-рока оказывается им во всех смыслах не по зубам. Вообще-то сперва Скотт хотел делать экранизацию «Интервью с вампиром», но студия буквально навязала ему Уитли Стрибера, чрезвычайно киногеничного фантаста, собственная жизнь которого — своего рода роман (последователь Гурджиева и Успенского, он всю карьеру твердит о своих контактах с Иным Разумом и собственных похищениях пришельцами). Как и его старший брат Ридли, Скотт-младший — постановщик великий, но неровный. После «Голода» он снял много рекламы, очень странных и очень культовых картин, провальных блокбастеров и дикого треша. В 2012-м году 68-летний режиссер покончил с собой, сбросившись с лос-анджелесского моста. Его «Голод» — далеко не самый популярный «вампирский» фильм, особенно после беспрецедентного «сумеречного» медийного бума. Но, безусловно, это самый значительный из шедевров мирового киноискусства, героями которого являются упыри. И уж точно — самый сексуальный!
2. «Секс-миссия, или Новые амазонки» (Юлиуш Махульский, 1983)
Это второй фильм заслуженного хулигана и озорника польского экрана, автора незабываемых «Ва-банка» и «Дежавю», его первое обращение к фантастике. В дальнейшем будут не менее прекрасные жанровые эксперименты — например, «Кингсайз» 1987-го (про приключения маленьких человечков в интерьерах польских хрущевок, вызывающих невольные ассоциации с творчеством художника Яцека Йерки) или «Колыбельная» 2010-го (про польский аналог «Семейки Аддамсов» — клан Макаревичей, обитающий в глухой мазурской деревне). «Секс-миссия» — сатирическая постапокалиптическая антиутопия. В начале девяностых двое недотеп, плут-волокита (Штур) и заучка-билог (Лукашевич) погружаются в гибернацию. А просыпаются в 2044-м году, в гигантском бункере, где живут только женщины, которые размножаются партеногенезом и принимают пилюли для подавления эмоций. Кроме невероятного количества сексистских шуток и просто шуток про секс, по части которых Махульский всегда был мастером, это очень смелая попытка скрестить типичную гендерную комедию с отвязным сайфаем. А еще это очень ностальгическая и трогательная жанровая деконструкция, где взгляд отдыхает на ретрофутуристических ботфортах, комбезах в обтяжку и сварочных масках. Впрочем, величайший отечественный кинокритик Денис Горелов в своей рецензии копнул еще глубже, находя истинные причины этой безотчетной зрительской симпатии: общество женщин Махульского с его звучными лозунгами и утомительными собраниями — это наш СССР, каким его видят бывшие товарищи по Восточному блоку. О том, какие дремучие инстинкты и сексуальные девиации скрываются в этой ехидной рефлексии братьев-славян на тему Старшего Брата (Сестры?!), страшно даже думать.
3. «Геи-ни**еры из далекого космоса» (Мортен Линдберг, 1992)
Безусловно, подборка про фантастическую эротику в кино была бы неполной, не окажись в ней хотя бы одного образца дистиллированного треша (которые, в общем, и составляют значительную часть подобных жанровых гибридов). Фильм, шокирующий уже на уровне названия, был снят в свободолюбивой Дании, и это совершенно безжалостный стеб — как над космической фантастикой, так и над специфическим жанром «блэксплотейшн» (выражаясь языком семидесятых — «кино для черных»). Он повествует о вторжении на Землю аборигенов планеты Анус, начинается как черно-белый, заканчивается как цветной, а главных героев тут зовут Капитан Член, Рукожоп, Д. Илдо и сержант Бритые Яйца. И хотя Линдберг снял, строго говоря, даже не фильм, а короткометражку (всего 26 минут), но значение ее для жанра трудно переоценить. Про «такое» еще никто не шутил вот так! В наши дни, когда в оскаровских номинациях не протолкнуться от Очень Серьезных фильмов, порицающих расизм и гомофобию, а профсоюз кинокритиков соревнуется с профсоюзом сценаристов в политкорректности высказываний, невольно тянет сравнить, и даже холодок по коже от крамольной мысли: какой из методов медийной борьбы с социальными язвами эпохи эффективней: вот этот отмороженно-базарно-трешевый? Или, так сказать, кабинетно-ковролиновый, с галстуком и серьезной миной, и «Боже упаси ляпнуть что-то лишнее»? Вы точно не видели ничего подобного, потому что никто такого не снимал и уже, видимо, никогда не снимет (потому что рискует остаться без работы и профсоюзной поддержки).
4. «Зубы» (Митчелл Лихтенштейн, 2007)
«Vagina dentata» — старейший архетип, отголоски которого попали даже в творчество Джорджа Лукаса (вспомним печальную судьбу Бобы Фетта). В середине нулевых за этот порядком потускневший от частого употребления миф взялся дебютант Митчелл Лихтенштейн (между прочим, сын мегапопулярного художника Роя Лихтенштейна, знаковой для поп-арта фигуры, сподвижника Энди Уорхола и пр.). Хитроумно заявленный в прокат как чернушная фэнтези-комедия про школьницу с нетипичной аномалией половых органов, на деле у режиссера получился убедительный роман воспитания и драма из разряда «легко ли быть молодым?». Можно предположить, что не один любитель угарных молодежных комедий подавился попкорном с пивасом на просмотре, поведясь на экстравагантные слоганы и хорошенькое личико исполнительницы главной роли Джессики Вейкслер. За этот фильм она была награждена на фестивале «Сандэнс», и ей правда было что играть. Ведь на самом деле эта история, конечно, не про зубы в пизде, а про невероятную хрупкость доверия и про то, как ужасно вообще взрослеть и открывать в себе сексуальность в окружении таких же, как ты, напуганных подростков, доведенных до кипения гормонами. И, главное, про то, что «Нет» означает именно «Нет», а не какое-то специальное распаляющее кокетство и предварительные игрища. Хочется верить, что целевая аудитория, которой не довелось посмотреть этот замечательный фильм, позднее узнала обо всем, о чем надо, из соцсетевого флешмоба «ЯНеБоюсьСказать».
5. «Вопль» (Роб Эпштейн, 2010)
Санденсовский номинант и лауреат Берлинского фестиваля, экранизация культовой поэмы американского битника Аллена Гинзберга. Поэт прославился своим разнузданным образом жизни, сочетавшим психонавтические трипы с многочисленными сексуальными экспериментами. Посвященный ему фильм сочетает проникнутые атмосферой ретроностальгии биографические вставки (где появляются все знаковые фигуры тусовки: Керуак, Кэссиди, Орловски и др.) с сюрреалистическими анимационными кусками, которые придумал и нарисовал Эрик Друкер. Позднее из них даже собрали отдельный графический роман. Кажется, вся бешеная энергетика, вся бесшабашность и кипучая сексуальность гинзберговской поэзии уместились в этой яркой и чрезмерной (в том самом «де-садовском» смысле «чрезмерности») друкеровской графике. Ну как забыть хотя бы блуждания лирического героя в лесу, составленном из живых и очень напряженных пенисов?! Исполнитель главной роли Джеймс Франко так проникся на площадке атмосферой битничества, что прямо во время съемок взялся за давно вынашиваемый авторский проект — экранизацию биографии другой иконы американской контркультурной литературы — великого Чарльза Буковски. Увы, начавшиеся следом за этим споры из-за авторских прав на роман «Хлеб с ветчиной» и последовавшая за ними судебная тяжба так до сих пор и не закончились — десятый год пошел! И хотя какой-то отснятый материал в итоге вроде уже есть, существуют серьезные опасения, что, когда Франко снова разрешат снимать, выбранный на роль молодого Хэнка артист Джош Пек уже приблизится к возрасту Хэнка, когда его самого наконец заметили читатели и критики. И это будет какое-то уже совсем другое кино.
6. «Побудь в моей шкуре» (Джонатан Глэйзер, 2013)
Экранизация одноименного романа голландско-австралийского писателя Мишеля Фейбера, вышедшего в 2000-м. Осуществивший ее британец Глэйзер — непростой режиссер и вообще замороченный парень, вышедший из ТВ-мейнстрима (например, снимал очень успешную рекламу для марок пива «Гиннес» и «Стелла Артуа»), «клипмейкер года» (1997) по мнению MTV, но уже тогда сильно выделявшийся своим особым авторским взглядом. «Побудь в моей шкуре» выглядит глэйзеровским «опус магнум» и личным жанровым манифестом. Это, кажется, единственный фильм, где общемировой секс-символ Скарлетт Йоханссон появляется полностью обнаженной, но, если уж по-честному, это не то чтобы как-то волнует или возбуждает, а скорее, очень пугает и гипнотизирует. Мрачные предместья Глазго, так похожего на любой отечественный пригород, минимум реплик, общая сюрреалистически-хоррорная интонация… Это история про космическую пришелицу, которая под видом провинциальной лохушки разъезжает в белом минивэне по проселочным дорогам, цепляя случайных мужиков. Согласно книге, они предназначаются в пищу соплеменникам главной героини, но в фильме, хотя этого не показывают, все выглядит еще страшнее. С каждым новым сданным в переработку человечком пришелица постепенно проникается к своим жертвам чем-то вроде сочувствия, что грозит страшными последствиями уже ей самой. Это очень тревожная и пасмурная, местами отсылающая к Кубрику, а местами очень напоминающая Дэвида Линча на пике формы (один из персонажей напрямую отсылает к его «оскаровскому» триумфу, а перевалочная база пришельцев изрядно смахивает на Черный Вигвам) картина. При этом невероятно удачный выбор актрисы на главную роль накладывает на фильм отпечаток странной притягательности, совершенно непристойного плотского магнетизма. Ударяет прямо куда-то в подсознание, в самые глубины зрительского темного начала. «Побудь в моей шкуре», мощный прорыв в «авторском» кино, произвел настоящий фурор на Венецианском фестивале и был очень тепло встречен критиками, но большинство тех, кто его посмотрел, кажется, привел в суеверный ужас. И трудно их за это осуждать!
7. «Антипорно» (Сион Соно, 2016)
Ну, тут уже даже на уровне названия, вы чувствуете, да? Японец Сион Соно — режиссер, поэт и писатель, даже на родине имеющий статус главного кинопровокатора десятых годов. Его история — про юную художницу-писательницу-медийную-суперстар Киоко (невероятная Ами Томитэ), которая живет в лишенной мебели элитной квартире, стены которой окрашены в кислотные цвета, а унитаз стоит прям вот на глазах у всех, и даже в общении с собственным ассистентом она не может обойтись без БДСМ-арсенала. Но после долгожданного прихода глянцевых журналистов (есть повод — у Киоко день рождения) история оборачивается не только падением героини в пучины собственных страхов, безумия, сюрреалистических отсылок и унизительных тайн, годами скрытых от себя самой, но и вроде как приговором нескольким поколениям любителей аниме, яоя, тентаклей, васаби и саке… Ну, то есть всем нам?! Прикол в том, что аморальность нынешних молодых порицает парень, снявший годом раньше социальный хоррор «Догонялки со смертью». И там при всей социальности, жути и саспенсе самый важный акцент все-таки делался на том, как порхают на ветру юбочки старшеклассниц, открывая край кружевных трусишек, и как ненавязчиво поправляют гольфы, ну и вообще, короче, всякое такое… Это самое, короче… Дядь, слушай, ну хоть ты не учи нас?! Мы как бы знаем, как внимательно надо обращаться со своими фетишами, спасибо. Мы-то в курсе, нас научила этому группа «Пикник».
8. «Хот бот» (Майкл Полиш, 2016)
Рецензент с давних пор питает слабость к творчеству дуэта братьев-близнецов, мастеров авторского кино Майкла и Марка Полишей (как их отличать? Майкл — скорее режиссер, он сейчас женат на супермодели Кейт Босуорт, Марк — скорее сценарист и актер второго плана, поэтому мы мало что знаем про его жену). Парни не знают полумер и снимают либо очень крутые фильмы, либо ужасные. Среди их героев — сиамские близнецы (исполняют сами авторы), падшие ангелы, проститутки, маньяки-убийцы, фермеры-астронавты, гламурные фотографы, баптистские проповедники, торговцы навозом и один всемирно знаменитый писатель-битник (Керуак) … С 2016 года к этой блистательной плеяде присоединился секс-робот… Этот фильм по меркам Полишей скорее из плохих, но это настолько плохой фильм, что прямо даже очень хороший. Сюжет его, мягко говоря, незамысловат. Это история похождений сбежавшего от спецслужб говорящего эротического автоматона, имеющего вид обворожительной блондинки (ну, конечно!). В лучших традициях подобных фильмов беглянку берут под опеку непопулярные школьники-задроты. Это такой особый жанр кино, ведущий свою генеалогию еще от ТВ-похождений дельфина Флиппера, «дети спасают зверушку», причем в роли зверушки зачастую весьма неожиданные персонажи — вроде как снежный человек в «Гарри и Хендерсонах» или русский подводник Миша в незабываемый «Русских», новейший пример — отличная Одиннадцатая из «Очень странных дел». Короче говоря, это начало Большой Дружбы… Что говорить, тут прекрасен даже официальный постер, выполненный в жанре «фотошопа на уроках информатики» — с лицом очень красивой артистки Синтии Киршнер, которое будто бы небрежно приделали к чьей-то другой женской фигуре, но зато у этой второй чулки с подвязками! Если честно, не очень понятно, зачем Полиши снова и снова пробуют себя на ниве «Би-мувиз», но посмотреть, как чудят большие художники, — это уже как минимум любопытно.
9. «Нина навсегда» (Бен Блейн, Крис Блейн, 2015)
Снова в нашей эрофантастической подборке британцы, и опять — братский дуэт! Бен и Крис Блейны. Кто эти ребята? О них мы знаем мало, но хочется верить, что мы о них еще услышим. Одна из самых пронзительных, ярких, сексуальных картин в нашем списке! Катастрофически не оцененная зрителями, «Нина» — это вроде как хоррор-комедия про Бывшую-Зомби, погибшую в автокатастрофе, про девушку, которую нельзя забыть (бенефис доселе неизвестной Фионы О’Шоннеси), которая снова и снова не дает покоя своему парню (а он-то живой! Ему-то жить хочется, ох!). Вот ведь пошлость, правда? Но финальный твист, как мы немного догадывались, вывернет всё наизнанку и «на раз» уберет целую плеяду классических блокбастеров про взаимоотношения мертвых с живыми. Из повседневного абсурда, из потустороннего порядка, из хаоса, угара и слез, хохота и шепота, оргазмических судорог, из бутылочных осколков в коже, из кровищи на простынях, из невыносимой горечи утраты, из ревности и злобы, через случайно найденные вещи Этих Чертовых Бывших, через непорванные фотографии, через несожженные письма, из недоуменного взгляда чужих родителей, из поминальных молитв и неумолкающих снов, из криков «почему я-то еще жив?» рождается на живой нерв сотканное — новое, очень сильное, никем никогда не виданное. Мало кем признанное… Убойное совершенно кино.
10. Возврат (Шон Эллис, 2006)
Завершить подборку по устоявшейся традиции хотелось бы фильмом, по заслугам оцененным и критиками, и зрителями, и сетевыми обозревателями (ну а вдруг кто-то еще не видел?). Ну и без затей, «из любимого», как говорится, от души… В 2004-м Эллис, английский подиумный фотограф, снял короткий метр по мотивам собственного богатого профессионального опыта и по мотивам одного из самых волнительных фантдопов в истории: «Что, если время остановится, все заморозятся, и я останусь один и смогу делать что угодно?» За короткометражкой, имевшей колоссальный успех, почти сразу последовал полный метр — про студента худинститута (Шон Биггерстаф, чувак из сборной Гриффиндора по квиддичу) с разбитым сердцем и хронической бессонницей, который, устроившись работать в лондонский аналог «Пятерочки» или «Дикси», останавливает время по щелчку, чтоб среди замерших пылинок и заморозившихся брызг расплесканного кофе раздевать припозднившихся посетительниц — но не для какого-то разврата, а исключительно чтоб пополнить свой скетчбук новыми набросками. Возьмись за эту историю какой-нибудь заслуженный кинопошляк рангом повыше, вовсе непонятно, что из этого могло бы выйти, но у дебютанта Эллиса получилась четкая и ясная, как карандашные наброски героя, история не перверта-вуайериста, а настоящего художника, погрязшего в одиночестве. И находящего в итоге выход из этого одиночества самым парадоксальным образом (Эмилия Фокс, талантливая актриса классической школы). Читатели, заставший журнал «Трамвай» образца 1991 года, при просмотре наверняка безотчетно вспомнят миниатюру Тима Собакина «Морская фигура, на месте замри». Для всех остальных зрителей это прекрасная возможность порефлексировать о влиянии времени на нашу жизнь, о потерянных и найденных отношениях, о состоянии безвременья — когда ты ощущаешь себя как пресловутый крайтоновский комар в янтаре. Ну и, конечно, о том, как найти выходы из этого состояния.
Рецензии
Александра Пушкина «Принц зазеркалья» (автор рецензии Зеленый Медведь)
Семиклассница Аня не просила и не искала дорогу в Зазеркалье, в мир чудес и магии. Максимум, на что хватало ее смелости, — сходить со школьными приятелями к жутковато выглядящему в сумерках недострою, где недавно разбился ее одноклассник Саша. Однако сначала ей приснился странный сон, затем зеркало в учительской покрылось морозными узорами, которые видела лишь она. А потом Аня легла спать и проснулась уже в другом мире, во владениях могущественной колдуньи-нойты Вит, у которой оказались весьма серьезные планы на юную гостью. Ведь с помощью Ани Вит собирается добыть кусочек Сердца мира и отомстить обидчикам.
Поначалу Пушкина сшивает антураж из лоскутов знакомых историй. Северная колдунья, которая наделила также похищенного ею Аниного однокласника — Сашу Никонова — ледяным сердцем. Побег из Нордлига, владений нойты, верхом на олене. Ледяной дракон, враждующий с Вит. Затем появляются анималистические нотки: племена белькаров, выдрингов, ласкеты и другие разумные существа. После же разворачивается полноценное и оригинальное городское фэнтези на улицах Фора, похожего на смесь магической страны с эпохой Просвещения.
Поддерживая баланс между поучительностью и увлекательностью, автор вместо прямолинейного квеста соорудила интересную историю, в которой персонажи нередко показывают себя с неожиданной стороны. Да и деление сторон на черное-белое не столь уж и четкое. Промежуточный финал в наличии, равно как и намек на продолжение историй о параллельных мирах и земных Привратниках, которые не столь внимательны, как им следовало бы.
Итог: веселое детское фэнтези, порой затрагивающее и более серьезные подростковые проблемы.
Михаил Шелков «Элинор. Опустевшая Долина. Книга 1» (автор рецензии Зеленый Медведь)
Некогда из Долины, сердца Элинора, по дальним землям разошлись караваны поселенцев, положившие начало самым разным народам. Северные горы и плато превратили в свою крепость суровые итошины, от которых отделились философы-улутау, ищущие душевное совершенство, и механики-туасматус, научившиеся оживлять каменных и стальных големов. Джуниты выбрали бескрайние пустыни и удел торговцев-караванщиков. Для ведичей стали домом дремучие леса, где они повстречали племя оборотней, умеющих обращаться в зверей, и смешались с ним. Воинственные гуавары бороздят моря, мирно торгуя, промышляя контрабандой или совершая отчаянные пиратские набеги. А тавры откололись от ведичей, потеряли связь с Природой и талант превращения в животных, зато стали сильнее. Лишь чекатта отринули торговлю, раздоры и стремление к первенству, оставаясь в прериях, вдали от городов и шума.
Но внезапно в одночасье исчезают все жители Долины. Правители окрестных земель решают заселить ее заново, отправляя караваны из всех уголков континента к сердцу Долины. Главные герои — юноши и девушки из всех восьми народов — пускаются в путь, не подозревая, что трагедия еще может повториться, что подлинный источник беды еще нужно отыскать и обезвредить.
Автор разработал и сочинил колоссальнейший пласт информации, посвященный традициям, обрядам и повседневной жизни каждого народа, щедро делясь им с первой же главы. Получилось масштабное и впечатляющее полотно эпического фэнтези, в котором нашлось место и древним легендам, и разнообразной магии, и запутанным межплеменным интригам, и причудливо сплетающимся судьбам, и настоящему чуду. Ясное дело, что и антураж оказался богатым на яркие образы, пусть и привычные для искушенного читателя, гармонично дополняющие сюжет.
Что касается сюжета, то перед нами традиционное взросление и становление героев в незнакомой обстановке и при трудных обстоятельствах. Бунт против старейшин и законов, поиск ответов на важные вопросы, помощь друзьям и просто попавшим в беду незнакомцам, а также мотивы ответственности, долга и выбора. Ведь именно юным героям предстоит наполнить Долину новыми смыслами вместо приведших к катастрофе алчности, честолюбия и жестокости.
Итог: неспешное красочное повествование о приключениях разных народов под небом древней Долины Предков.



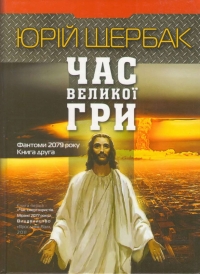



Комментарии к книге «Мю Цефея. Только для взрослых», Александра Сергеевна Давыдова
Всего 0 комментариев