Виталий Вавикин Техно-Корп. Свободный Токио
© Вавикин В. Н., 2015
© ООО «Литературный Совет», 2015
Глава первая. Якудза
Пустошь была абсолютной. Выжженная земля тянулась к горизонту. Профессиональный убийца по имени Семъяза шел уже вторые сутки. Солнце иссушало его покрытую нейронными татуировками кожу, но не могло прогнать ледяной холод наномеча. Другого оружия у якудзы не было. Не было на нем и одежды – она сгорела во время последней стычки. Убийцы клана Гокудо преследовали Семъязу, надеясь, что он приведет их к Шайори. Ничего личного. С кланом Гокудо ничего личного. Они лишь хотели вернуть своему оябуну дочь – Шайори. У девушки не было рук – своих, настоящих рук, хотя имплантаты и выглядели весьма естественно. Отец отсекал дочери кисть за каждое бегство. Семъяза встретил ее в центре реконструкции конечностей. Там же он нанес себе на тело последнюю нейронную татуировку – образ Шайори. Свободное место на теле было лишь на ногах и на шее. Семъяза выбрал шею. Шайори понравилось. Она улыбалась, и Семъязе нравилось смотреть, как светятся ее глаза. Обрубок ее правой руки он мог заставить себя не замечать.
– Если отец узнает, что я встречаюсь с убийцей из клана Тэкия, то отрубленной кистью мне уже не отделаться, – сказала Шайори. – Хотя кистей и так у меня больше нет, – она показала Семъязе свою восстановленную левую руку.
Если не придираться, то реконструкция выглядела реалистично. Выделялся лишь тонкий белый шрам, где живая плоть соединялась с искусственной. Скоро такая же кисть будет красоваться и на правой руке. Врачи, которым платит отец Шайори, Мисору, работают быстро и качественно. Правда, Семъяза так и не увидит этой реконструкции.
Шайори будет ждать его в их тайном месте встречи всю ночь, но Семъяза не придет. Он допустил ошибку и теперь находился в камере, связанный по рукам и ногам. Стоявшие во главе правительства демократические технократы допускали сотрудничество с кланами, которые могли решить практически любую проблему, но иногда, чтобы показать свою власть, технократы требовали от банд жертв для политического кровопролития. Семъяза стал этой жертвой.
Он получил от своего вака-гасира задание, но, когда подобрался к своей жертве достаточно близко, чтобы забрать его жизнь, оказался окруженным силовиками. Семъяза был в своем клане обыкновенным дэката – убийцей, который делает то, что ему прикажут, но шум вокруг его ареста был таким, словно арестовали самого оябуна.
Потом был долгий показательный суд и пыльная дорога в коррекционную тюрьму «Тиктоника». Процедура нейронной интеграции была болезненной, но Семъяза привык к боли, к тому же он знал, что не запомнит эту боль – его бросят в разработанную для исправления реальность, стерев из памяти арест, суд, тюрьму.
По дороге сюда один из силовиков отрезал ему палец на левой руке. Семъяза не знал, зачем он это сделал – якудза не спросил, силовик не ответил. Он завернул отрезанный палец убийцы в платок и убрал в карман.
Начальник «Тиктоники» встретил Семъязу лично, снова неверно истолковав его положение в иерархии клана Тэкия.
– Мы исправим тебя, – пообещал якудзе начальник международной тюрьмы.
Охрана была не на высшем уровне, и Семъяза отметил как минимум три возможности добраться до начальника тюрьмы и забрать его жизнь. Вот только никто не говорил ему, что нужно лишить этого человека жизни.
Семъязу накачали нейронными релаксантами и отправили в сектор коррекции. Последним ярким воспоминанием стал наношприц, проткнувший затылок. Дальше наступила темнота. Машины откорректировали личность, отправив в замкнутый отрезок, где Семъяза должен был проживать момент своего последнего убийства снова и снова, пока не исправится, или пока его общий коэффициент исправления не упадет ниже допустимых отметок. Тогда машины поставят крест на его исправлении и сотрут личность.
Семъяза не знал, сколько циклов он провел в петле несуществующей жизни. Время в этом состоянии было лишь условностью, но все закончилось тем, что машины посчитали его исправленным. Семъяза помнил свое последнее убийство, вернее, свое исправление, когда он отказался от убийства, но вот только почему? Нет, конечно, Семъяза помнил всю ту череду событий, которых никогда не было в жизни, но… В прошлом он встречал и больше трудностей, но это его не останавливало. Сейчас же…
Возможно, ему просто что-то внушили – так решил Семъяза, когда проходил курс реабилитации после процедуры. Но где-то подсознательно он хотел вернуться в свой клан. Тем более что о предательстве он не помнил… Но потом Семъяза получил послание от Шайори.
Девушка узнала о том, что его исправление признано завершенным, и связалась, предложив встретиться, сбежать ото всех. Вначале Семъяза не понимал, почему должен бежать, но потом Шайори рассказала ему о предательстве. Семъяза не смог вспомнить этого, но Шайори он верил. Понимание, что родной клан предал его, принесло опустошение. Он был один. Якудза без семьи… Или же нет? Или же это был просто новый этап в жизни? Теперь его семьей могла стать Шайори.
Место их встречи держалось в тайне. Это была секретная информация в послании, завуалированная ненужными деталями. Разгадка была в голове Семъязы. И чтобы найти ее, ему нужно было вспомнить все, что было у него с Шайори общего. Не только вспомнить, но еще надеяться, что система не удалила из его воспоминаний ничего важного. Иначе он никогда не найдет свою новую семью.
В голове сохранились воспоминания о прошлой жизни; больше: хоть начальник «Тиктоники» – Раф Вэдимас – снова лично встретился с ним и поздравил с исправлением, решив, что это будет хорошим рекламным ходом для его карьеры, Семъяза не чувствовал перемен. Сердце оставалось холодным. Сердце принадлежало убийце. И этот лед не могла растопить даже любовь. Убийца хотел отыскать Шайори не столько ради того, чтобы остаться с ней, сколько ради того, чтобы еще раз столкнуться с членами ее клана, потому что Мисору не будет сидеть сложа руки, пока его дочь бросает тень на семью, вступив в отношения с якудзой из враждебного клана. Семъяза знал, что за ним будут следить. Сообщение Шайори дойдет до ее отца, и он пришлет убийц.
Они пойдут по следу Семъязы, скрываясь до тех пор, пока он не выведет их к Шайори. Тогда они убьют его, а сбежавшую дочь вернут строгому отцу. И на этот раз отсеченными кистями она не отделается. Возможно, Мисору устроит показательное наказание – публично отсечет дочери голову в назидание всему клану. Именно поэтому Семъяза и не мог отступиться. Если он проигнорирует послание Шайори, на ней все равно уже лежит клеймо предателя. И без него ей придется вернуться к отцу. Так что хуже уже не будет.
Жалко, что верный наномеч нельзя вернуть. Он обречен пылиться в отделе улик мертвым нанометаллоломом. Друг. Этот меч был действительно продолжением руки владельца. Он дополнял не только кисть, превращая плоть в сталь, но и подчинялся мысли хозяина. Семъяза не помнил ареста, но люди вокруг, когда система посчитала его исправившимся, шептались, что наномеч якудзы продолжал убивать после того, как хозяина сковали.
Первым пострадал силовик, имевший глупость забрать наномеч у Семъязы. Сталь утратила твердость, изогнулась, почувствовав чужака, и отсекла силовику голову. Вторым пострадавшим стал хранитель отдела улик, забывший по неосторожности проверить работу силового поля, окружавшего меч. Суд ждал, когда привезут главную улику, а хранитель, который должен был доставить наномеч, корчился в луже крови, пытаясь перетянуть отсеченную по локоть правую руку.
Последнее убийство случилось уже в зале суда. Наномеч почувствовал близость своего хозяина, попытался бороться с силовым полем, пленившим жидкую сталь, а когда понял, что терпит поражение, утратил целостность, окатив присутствующих в зале россыпью раскаленной стали, которая несла смерть так же, как пули. Таким был последний подарок старого доброго друга. Люди в зале суда кричали, обливаясь кровью, но ни один из осколков не зацепил Семъязу. Наномеч дал ему последний шанс спастись.
Семъяза слушал рассказы о своей попытке бегства, но не помнил этого – система стерла из головы эти события, чтобы корректировать личность для исправления. После коррекция не проводилась, сочтя полученный коэффициент приемлемым для возвращения в общество. Что ж, так было лучше – Семъяза не помнил боль, которую пережил, когда наномеч прекратил свое существование.
Редко можно встретить такое преданное оружие. Оно принадлежало семье на протяжении многих поколений, сохраняя верность. Другие наномечи, которые получали якудзы, были в чем-то более сложными и современными, но ни один из них не привязывался к своему владельцу, к его родовой линии. Якудза должен был работать с наномечом каждые сутки, держать его, напоминать ему, кто хозяин, иначе оружие забывало о нем.
Эти мечи были запрещены законом. Они были непокорнее самых опасных хищников. Их невозможно приручить. Как тигр, который не бросается на дрессировщика, потому что в руках дрессировщика кнут, так и современные наномечи не трогали хозяев, пока чувствовали в их сердце холод, безразличие, спокойствие. Не раз во время боя наномечи давали сбой, отсекая конечности хозяевам. Рука, которая держит такое оружие, должна быть твердой, мысли открытыми, взгляд прямым. Вступая в бой, настоящий якудза не имел права бежать от смерти. Он должен был искать ее. Именно это было тем кнутом, заставлявшим современные наномечи подчиняться. Но смотреть в глаза смерти могут не все. Семъяза мог, хотя его меч и был тем хищником, готовым умереть, сражаясь за своего хозяина…
Теперь в память об этой верности осталась лишь нейронная татуировка, которую Семъяза сделал еще мальчишкой, впервые прикоснувшись к наномечу. Холодный и опасный, он висел на стене, дожидаясь после смерти отца Семъязы нового владельца. Мать ахнула и побледнела, увидев, как сын вынул наномеч из ножен. Сталь сверкнула – сверкнули налитые кровью глаза хищника. Но холод якудзы был у Семъязы с рождения. Наномеч изогнулся. Хищник зарычал. Но хищник признал своего хозяина. Меч подчинился. Вместе с ним Семъяза прошел долгий путь. Теперь друг пылился в архивах. После взрыва в зале суда его собрали, но сердце хищника остановилось, и жизнь покинула наносталь.
– Но все уже в прошлом, – сказал Семъязе начальник тюрьмы. – Считайте, что ваше прошлое взорвалось в том зале суда.
– Мое прошлое придет за мной, – сказал Семъяза.
Он покинул реабилитационный центр, расположенный в больнице, вынесенной за пределы исправительной тюрьмы, раньше, чем прошел первый из трех циклов. Семъяза сделал это после того, как Раф Вэдимас начал заводить разговор о том, что, следом за мечом и природой убийцы, было бы неплохо, если бы бывший якудза избавился от нейронных татуировок. Особенно от той, что красовалась на шее – яркий, раскрашенный образ Шайори. Она улыбалась и сверкала зелеными глазами, способная очаровать любого. Даже убийцу.
– Сначала вы забрали у меня воспоминания, потом меч, теперь хотите подобраться к нейронным татуировкам? – хмуро спросил Семъяза начальника тюрьмы.
– Ваши татуировки напоминают вам о прошлом, – сказал Раф Вэдимас.
Для верности начальник тюрьмы пригласил доктора Синдзи Накамуру, который долго рассказывал бывшему якудзе о том, какую власть над разумом имеют нейронные татуировки. Где-то подсознательно они считали его убийцей, не особенно доверяя системе, решившей, что Семъяза исправился. «Если не убраться отсюда сейчас, то они не отстанут, пока не заставят меня публично отказаться не только от татуировок, но и от своей кожи как от части прошлого», – подумал Семъяза. Вернее, не подумал – принял решение.
Он выбрался из центра реабилитации ночью. Убийцы из клана Гокудо ждали этого. Они скрывались в ночи, наблюдали. Семъяза чувствовал их присутствие своей покрытой нейронными татуировками кожей. Это был его опыт. Это была его жизнь, которую система почему-то решила сохранить, посчитав, что он исцелился, что добро реабилитации проникло в его холодное сердце и сразилось, встретившись лицом к лицу, со злом. Но добро не победило – Семъяза чувствовал это. Он все еще был убийцей. Инстинкты превращали его в хищника. И хищник крался в ночи, чувствуя, как по пятам идут другие хищники. Семъяза понимал, что нарушил закон, сбежав из центра, но ждать было нельзя. Он был безоружен и не знал, как сильно система изменила его личность – что если, когда нужно будет действовать, рука предательски дрогнет? Нет, Семъяза не боялся смерти, но как быть с Шайори? Она хочет жить. Она ждет его.
Общественный транспорт проходил возле центра реабилитации дважды в день, давая возможность людям, которые живут в крохотном городе на краю пустыни, работать в «Тиктонике». Нейронная татуировка судьбы, нанесенная Семъязой много лет назад, позволяла ему просмотреть десятки вариантов сценария, по которому может пройти ближайший день. Ни один из вариантов не предвещал сражения с убийцами из клана Гокудо, если, конечно, он не спровоцирует стычку сам. В таком случае у него не будет шанса. Он не знает, сколько убийц послано за ним, не знает глубину уровня их бусидо и какие нейронные татуировки покрывают их тело. Так что единственный вариант – бежать, скрываться, выжидать.
Семъяза проскользнул вдоль ограждений стоянки работников «Тиктоники». Искушение угнать одну из машин было велико, но уровень охраны транспорта был неизвестен якудзе, а специальной нейронной татуировки, способной помочь при краже автомобиля, он не делал. Поэтому оставалось нырнуть в пролесок синтетических дубов и попытаться оторваться от преследователей, используя собственные ноги. К тому же так можно будет понять глубину их бусидо. Если удастся сбежать от них, значит, это любители, если нет…
Якудза двигался бесшумно. Синтетические листья дубов – и те громче шелестели на ветру. Нейронная татуировка третьего уровня ловкости воспалилась, предупреждая, что может отказать в любой момент, но Семъяза готов был рискнуть. К тому же на небе уже начинался рассвет и скоро появится общественный автобус. Он привезет в «Тиктонику» рабочих на дневную смену и заберет тех, для кого только что закончилась ночная. На обратном пути автобуса Семъяза планировал проникнуть в него, оставив своих преследователей у обочины. Это даст ему необходимое время. Но для того, чтобы не пропустить автобус, нужно было держаться вблизи дороги. Поэтому, когда ночь подошла к концу, Семъяза активировал нейронную татуировку ориентации в пространстве. Глубина бусидо Семъязы позволяла сделать это, но энергия тела продолжала расходоваться слишком быстро. Хорошо еще, начали просыпаться птицы, дав возможность уменьшить уровень татуировки ловкости до первого. Но силы все равно кончались слишком быстро, и когда Семъяза наконец-то выбрался на дорогу, преграждая автобусу путь, энергии тела едва хватило на то, чтобы активировать нейронную татуировку маскировки, отключив все остальные.
Водитель автобуса увидел дряхлого старика и свернул на обочину. Рабочие «Тиктоники» дремали в креслах, отработав ночную смену. Им снился дом. Им снились их семьи и дети. Семъяза поблагодарил водителя и прошел в дальний конец автобуса, где находилось окно аварийного выхода. Маскировка старика дважды дала сбой, но сонные пассажиры ничего не заметили. Убийцы клана Гокудо, которые преследовали Семъязу, выбрались на дорогу, но автобус уже набирал скорость, и остановить его не было шанса. Да и не собирались они этого делать. Сейчас в их задачу входила лишь слежка. Якудза из клана Тэкия должен привести к дочери оябуна, указать путь, и только после этого им поручено забрать его жизнь.
Автобус доставил Семъязу в небольшой пыльный город. Водитель удивился, не обнаружив среди пассажиров дряхлого старика, которого подобрал утром на дороге, но к этому моменту Семъяза давно вышел из автобуса. Подбиравшаяся к городу пустыня ждала его. Татуировка ориентации показывала вероятные маршруты. Но прежде, чем отправляться в долгий путь, нужно было восстановить жизненные силы.
Семъяза выбрал пустой дом. Чтобы проникнуть, внутрь не потребовалось особых навыков. Охранявшего дом пса, мускулы которого были напичканы электронными стимуляторами, а мозг улучшен жидким чипом, повышающим интеллект, якудза убил голыми руками. Электронные мышечные стимуляторы пса заклинило, и, разорванный надвое, он продолжал дергаться, словно испорченная детская игрушка. Да он, по сути, и был игрушкой – не живой и не мертвый, предназначенный лишь для охраны, с мозгом, выжженным дешевым жидким чипом. Хотя эти чипы даже за безумные деньги никогда не были достаточно хороши, чтобы соперничать с инстинктами. Семъяза встречал кланы, практиковавшие электронные стимуляторы и жидкие чипы, пытаясь превратить своих сансит в идеальных убийц. Что ж, опытные убийцы расправлялись с ними так же легко, как сейчас Семъяза расправился с уродливым черным псом-охранником. Пес был опасней, потому что у него были клыки.
Якудза прошел на кухню. Репликатор продуктов не был защищен паролем, и Семъязе не пришлось тратить время на его взлом. Он выбрал протеиновую смесь, добавив десяток химических соединений, способных улучшить работу нейронных татуировок. Примитивный интеллект репликатора предупредил его о несъедобности выбранной смеси. Семъяза проигнорировал совет выбрать что-то другое. Запасы сна были пополнены еще в реабилитационном центре. Так что теперь оставалась только пустыня.
Семъяза покинул дом, где дергалась мертвая собака, покинул пыльный город. Тратить энергию на активацию маскировки не хотелось, поэтому якудза потратил час времени на поиски попутчика, который мог бы отвезти его в соседний город. Вернее, не город, а большую деревню.
Старый грузовик надрывно гудел, доставляя из города реплицированные продукты. В деревне жили в основном старики и дети. Якудза не удивлялся. Дети вырастут и так же сбегут отсюда, а если у них самих появятся дети, то всегда можно будет отправить их сюда, объяснив поступок дороговизной жизни в большом городе… Не удивлялись и преследователи Семъязы. Не удивлялись до тех пор, пока один из них не пропал.
Его соблазнила молодая женщина, распустившаяся на пороге старого дома, словно дивный цветок посреди песков и зноя, обещая любовь и отдых. Нейронная татуировка Семъязы работала безупречно, но он понимал, что сможет использовать ее лишь однажды – потом преследователи узнают об этом и второй раз не попадутся в ловушку.
Женщина не улыбалась, просто смотрела на чужака. Женщина, под образом которой был скрыт якудза. В доме плакал несуществующий ребенок – еще одна хитрость Семъязы, чтобы усилить иллюзию.
– Нужна помощь? – спросил якудза женщину с пышной грудью.
– Нужны деньги, – сказала она.
– Деньги у меня есть, – просиял преследователь.
Он вошел в дом, окунулся в царивший за пыльными стенами полумрак. Плач ребенка стих. Убийца насторожился, но уровень его бусидо был ниже, чем у Семъязы. Его единственным шансом был наномеч. Он потянулся за ним в тот самый момент, когда отключилась нейронная татуировка маскировки Семъязы. В следующий момент его преследователь услышал, как хрустнула сломанная кость правой руки. Затем Семъяза сломал ему третий шейный позвонок. Свой меч убийца так и не успел вынуть из ножен. Колени его подогнулись. Он умер раньше, чем упал на грязный пол. Семъяза склонился над ним, изучая наномеч. Модель была новой, еще недостаточно накормленной кровью. Семъяза осторожно протянул к мечу руку. Холод можно было ощутить на расстоянии. Рукоять меча почувствовала чужака, вздрогнула. Нет, каким бы молодым ни был меч, он все равно оставался убийцей, хищником. И хищник не любил чужаков. Семъяза сорвал с пола грязный половик и завернул в него наномеч.
Он выбрался из дома прежде, чем преследователи поняли, что случилось. Его главный козырь – нейронная татуировка маскировки – был разыгран. Теперь, если впереди случится бой, придется встречать врага лицом к лицу.
Семъяза покинул деревню и долго шел по пустыне, прижимая к груди завернутый в половик наномеч. Ему нужно было время, чтобы приручить этого дикого зверя. Семъяза активировал нейронную татуировку охотника и долго шел по следу тощего шакала. Животное было старым и хитрым. Но животное слишком сильно доверяло своим клыкам, и когда нужно было бежать, оно решило сразиться с преследователем. Якудза играл с ним – пускал кровь и дразнил свой наномеч. Вернее, еще не свой, но меч уже тянулся к крови, извиваясь под половиком, искрясь. Семъяза взял его в руку и вынул из ножен. Сомнений не было – сейчас этот меч либо отсечет ему конечность, либо зарычит и начнет подчиняться. По крайней мере, пока есть этот волк. Потом меч захочет еще крови. И якудза готов был ему это дать.
Ночь еще не закончилась, когда он вышел к очередной деревне. Старики спали в своих пыльных домах, выстроившихся вдоль единственной улицы. Деревня была еще меньше, чем та, где Семъяза убил одного из преследователей и присвоил себе его меч. Сейчас этот меч пульсировал и хотел свежей крови. Семъяза чувствовал, как вибрации меча становятся сильнее, когда он проходил мимо домов, где спали дети. Но достойных противников здесь не было, а меч был слишком молод, чтобы питаться кровью слабых и беспомощных. Семъяза не знал, насколько глубоко интегрируется меч в своего хозяина, но на всякий случай показал ему два возможных варианта: меч может отсечь голову новому владельцу, пасть в грязь, и никто больше не прикоснется к нему, или он может дождаться преследователей Семъязы, настоящих воинов, сразиться с ними, почувствовав себя живым, и в случае победы остаться навсегда с новым хозяином, который приручил его кровью шакала. Меч изогнулся, потянулся к горлу якудзы, словно пробуя крепость его руки и холод сердца на вкус. Быстрая смерть манила теплой кровью, но обещанный бой привлекал сильнее.
– Мы умрем здесь вместе либо уйдем отсюда вместе, – сказал Семъяза.
Меч распрямился, притих, позволяя убрать себя в ножны. Он приготовился ждать – хищники умеют ждать. Семъяза тоже был хищником. Неважно, как сильно изменили его личность в «Тиктонике», он все равно остался убийцей.
Дряхлый старик проснулся с первыми лучами рассвета и вышел на покосившееся крыльцо своего дома. Кожа его была смуглой и огрубевшей от солнца и пыли. Он долго прищуривал азиатские глаза, разглядывая застывшего в центре улицы чужака, затем закряхтел и заковылял, не разгибая спины, к Семъязе. Якудза чувствовал его приближение, но глаз открывать не стал – в старике не было угрозы.
– Кого-то ждешь? – спросил старик сухим, скрипучим голосом.
Якудза кивнул.
– Прольется кровь?
– Возможно.
– Твоя или чужаков?
– Для тебя я тоже чужак.
– Но ведь ты уже здесь, и мы еще живы.
– Ты знаешь, кто я? – Семъяза открыл глаза и уставился на старика, который поднял дряхлую, высушенную прожитыми годами руку и указала на ножны, скрывавшие наномеч.
– От него пахнет кровью, – сказал старик.
– Это кровь шакала.
– Так твой клинок молод?
– Мой прежний меч пал в бою.
– Почему же ты жив?
– А почему твоя деревня все еще жива? Меч хочет крови, и если ты понимаешь это, то должен понимать, что и твоя жизнь – чудо, дар.
– Я не боюсь смерти, якудза. В мои годы главный враг – это время. Не меч и не рука, которая его держит.
– Тогда возвращайся в свой дом и не мешай мне ждать моих врагов.
– В дом? – старик улыбнулся, растянув сухие, почти черные губы. – Ты думаешь, эти хрупкие стены смогут защитить меня?
– Значит, собирай вещи и уходи в пустыню. К вечеру все будет кончено.
– А как же остальные жители?
– Забери их с собой, – Семъяза снова закрыл глаза.
Старик какое-то время смотрел на него, затем кряхтя заковылял прочь. Семъяза слышал, как он ходит по домам, поднимая таких же дряхлых, как и сам, жителей. Пара грудных близнецов, которых мать привезла своим старикам, а сама снова сбежала в большой город, плакали, не понимая, что происходит. Деревня ожила, забурлила дюжиной семей, а затем стихла. Люди уходили в пустыню. Возможно, рядом находилась еще одна деревня, или они просто готовились переждать день смерти среди песков – Семъяза не знал, да и не было ему до этого дела.
Враги приближались с севера – он чувствовал это. Дряхлый старик, с которым Семъяза разговаривал утром, подошел к нему, чтобы попрощаться. В его руках был кувшин с водой и гуиноми – он налил в него воду и предложил якудзе. Вода была теплой, с привкусом пыли. Семъяза выпил две чашки и кивнул старику в знак признательности. Старик кивнул в ответ, протянул руку, чтобы забрать гуиноми. Семъяза заметил у него на запястье старую нейронную татуировку маскировки. Старик проследил за его взглядом.
– Каким был твой уровень глубины бусидо, якудза? – спросил Семъяза.
Старик не ответил, лишь снова поклонился и начал пятиться. Семъяза потерял к нему интерес и закрыл глаза. Впереди был, возможно, последний бой в его жизни. Преследователи уже близко. Они зайдут с подветренной стороны так, чтобы не слепило глаза.
Семъяза достал из ножен наномеч, позволяя ему вдохнуть свободу, почувствовать близость битвы. Меч все еще был непокорным, но другого друга у якудзы сейчас не было. Он активировал нейронную татуировку внимания. Преследователи вышли на единственную улицу пустынной деревни. Они были молоды и неопытны – Семъяза видел это, изучая их оружие. Ни один опытный якудза не доверит свою жизнь огнестрельному оружию, если жив его верный наномеч. Мечи преследователей оставались зачехленными. Всего их было четверо. Вернее, пятеро, но жизнь одного Семъяза уже забрал. Два преследователя появились с севера и юга, неспешно приближаясь к жертве. Два других крались вдоль домов.
Семъяза видел все это благодаря нейронной татуировке слежения – глаза его оставались закрыты. Лишь наномеч, обнаженный и жаждущий крови, покоился в правой ладони, продолжая руку. Семъяза вскинул его, когда громыхнули первые выстрелы. Меч был молод, но технология позволила ему изогнуться, отбив пули. Семъяза замер. Наномеч снова обрел твердость – свинец пуль не был кровью. Семъяза ждал, когда громыхнет еще один выстрел.
Он активировал татуировку невидимости. Пули прошили воздух и устремились дальше вдоль улицы. Они прошили грудь зазевавшегося преследователя, заходившего с юга, и взорвались россыпью смертоносных осколков. Убийца покачнулся и упал на спину, подняв облако пыли. Два других борекудана, крадущиеся вдоль домов, открыли хаотичный огонь, надеясь, что одна из случайных пуль заденет якудзу. Молодые и неопытные – Семъяза чувствовал их панику. Они должны были пленить его, но сейчас мечтали лишь об одном – забрать жизнь. Их вел страх – на это он и рассчитывал.
Семъяза видел их нейронные татуировки, способности которых выдавали в преследователях бывших байкеров-босодзоку. И они все еще не обнажили свои наномечи. Это был шанс. Трое – уже не пятеро. А если забрать жизнь еще двоих, то можно будет устроить честный бой. Наномеч Семъязы потянулся к ближайшему борекудану. Нейронная татуировка невидимости начала сбоить, перегреваться, выжигая плоть, из которой черпала свои силы. Невидимость продлится еще пару секунд, но Семъяза знал, что этого времени ему хватит, чтобы добраться до своей следующей жертвы.
Борекудан увидел его слишком поздно. У него был выбор – либо стрелять, либо выхватить свой наномеч. Бывший байкер доверился пулям. Меч Семъязы отбил три из четырех выпущенных пуль. Пятая вспорола плоть на плече якудзы, уничтожив одну из нейронных татуировок. Но рана была поверхностной. Рука осталась твердой. Рука, несущая смерть. Наномеч разрубил преследователя надвое. В воздух вырвался фонтан кровавых брызг.
Борекудан на другой стороне улицы бросил зажигательную гранату. Спасая себе жизнь, Семъяза навалился на закрытую дверь в дом. Высушенное солнцем дерево уступило закаленной в боях плоти. Громыхнул взрыв. Огонь охватил дом почти мгновенно, вцепился в стены, крышу. Одежда на якудзе задымилась. Жар подобрался к покрытой татуировками коже.
Бросивший зажигательную гранату борекудан пересекал улицу, ожидая, когда Семъяза, превратившись в свечку, выскочит из дома. Тогда от пуль будет не спастись. Семъяза видел врага за пеленой огня и дыма. У него было время. Одежда вспыхивала и гасла. На коже появлялись ожоги, вздуваясь водянистыми пузырями. Но время еще было – тело может вынести много боли, укрепив веру.
Борекудан разглядел свою жертву в тот самый момент, когда из охваченного огнем дверного проемы вылетел, извиваясь, брошенный Семъязой наномеч. Борекудан выстрелил, но сила руки, бросившей меч, оказалась сильнее пуль – они лишь лязгнули о сталь. В следующее мгновение наномеч пробил бывшему байкеру грудную клетку. Пытаясь устоять, борекудан всплеснул руками. Он еще был жив, когда восставшим фениксом из горящего дома выскочил объятый пламенем Семъяза.
Оставался еще один преследователь. Якудза выдернул из груди бывшего байкера распаленный кровью наномеч. На южной стороне улицы стоял последний борекудан. Обнажив наномеч, он ждал, оценивал. Он был готов умереть – Семъяза видел это в его глазах. Борекудан ждал смерть, готовился встретить ее. Но Семъяза был мертв. Мертв уже сотни раз, оставшихся за плечами сражений. Спасти борекудана мог только его наномеч. Но меч дрогнул. Вернее, меч не пожелал крови. Не пожелал так, как этого желал меч Семъязы. Наносталь лязгнула, сцепилась. И менее сильный, менее кровожадный меч сломался.
Борекудан вскрикнул. Меч врага вспорол ему грудь. Следующим ударом Семъяза рассек противнику брюшную полость. Борекудан выронил обломок своего наномеча и зажал ладонями живот, пытаясь удержать вываливающиеся внутренности. Третий удар Семъязы пришелся бывшему байкеру в спину, перерубив позвоночник. Руки борекудана безвольно повисли, ноги подогнулись, но прежде чем он упал, разбив лицо о пыльную дорогу, его внутренности вывалились, окрасив желтый песок бурыми и черными цветами. Борекудан еще был жив – знал, что умирает, но не мог ничего изменить. Не было и боли. Лишь только понимание конца.
Семъяза убрал наномеч в ножны, избавился от дотлевавших лохмотьев одежды. Сухой ветер вцепился в обожженную плоть.
– Тебе бы мазь сейчас для восстановления, – услышал Семъяза скрипучий голос старика-азиата.
Якудза попытался активировать нейронную татуировку маскировки, чтобы спрятать свои увечья, но то ли сил у него почти не осталось, то ли… Семъяза растерянно уставился на чистый участок кожи на своем теле, где раньше находилась татуировка маскировки, которую сейчас он видел на запястье старика. Скрипучий, надтреснутый смех прорезал тишину пустой деревни. Безобидность дряхлого старика лопнула, растаяла. Семъяза потянулся к рукояти своего наномеча, но старик активировал нейронную татуировку невидимости и исчез.
Он не пытался нападать. Но якудза чувствовал опасность. Не явную и ежеминутную, а более глобальную, глубокую, как новый уровень бусидо, который так сложно заслужить. Но уровень этот был для Семъязы недосягаем. На этом уровне ты борешься не за то, чтобы приобретать умения, а чтобы сохранять их. Старик уже украл каким-то непостижимым образом у Семъязы тату маскировки – это случилось еще утром, когда он приносил воду. Теперь он украл татуировку невидимости. На ее месте у Семъязы красовался бугристый ожог. И старый вор был где-то рядом – Семъяза понял это не сразу.
Сначала он решил, что это просто какой-то трюк, на который он попался. Скорее всего, старик провернул это, когда угощал его водой. Возможно, он добавил туда наноботы или что-то еще. Теперь две украденных нейронных татуировки можно будет продать на черном рынке, обеспечить свою дочь или сына, живших в большом городе еле-еле сводя концы с концами. Семъяза снял с одного из своих мертвых преследователей плащ для путешествий в пустыне. Микроорганизмы, которым надлежало поглощать жару, были уничтожены прямым попаданием пары свинцовых пуль. Теперь плащ был просто плащом, способным скрыть наготу якудзы. Он надел его и покинул деревню. Отец Шайори не успокоится. Вероятно, он пошлет новых убийц уже в этот вечер, когда его люди не выйдут на связь. Так что времени на реабилитацию нет. Нужно найти Шайори и спрятать ее.
Семъяза шел по пустыне, не останавливаясь на ночлег или отдых. Он восстановит силы потом. Сначала нужно встретиться с девушкой, нейронная татуировка которой красовалась на шее якудзы.
На утро второго дня якудза снова встретил старика. Вернее, сначала Семъяза обнаружил его следы, когда забрел в мертвый город, надеясь найти там скважину с водой. Но скважина была суха. Поэтому люди и покинули это место. Но кто-то уже был здесь – следы на пыльной дороге тянулись к скважине. Сначала Семъяза решил, что упустил еще одного преследователя, надеявшегося выйти на Шайори, но затем якудза увидел уже знакомый кувшин и заполненный водой гуиноми. Это был старик. И старик умел искушать. Впрочем, второй раз попадаться на один трюк Семъяза не собирался.
Он осмотрел кувшин с водой, жалея, что не получил в свое время нейронную татуировку распознавания ядов. Хотя вряд ли в кувшине был яд. Семъяза огляделся, надеясь, что сможет отыскать старика в одном из заброшенных окон – ведь старое тело не может генерировать так много энергии, чтобы обеспечить бесконечную невидимость…
Он обернулся, услышав за спиной шорох. Точнее, не шорох – звук жадных глотков. Никого за спиной не было, лишь один из двух гуиноми опустел. Старик выпил воду, но… Семъяза увидел свежие следы на пыльной дороге. Что ж, татуировка невидимости может обмануть глаза, но не законы природы. Семъяза метнулся к невидимому старику. Следы потянулись прочь: быстро, спешно, словно у дряхлого старца открылось второе дыхание. Якудза актировал нейронную татуировку преследования. Плащ мешался, раздирал обожженную кожу. Семъяза сбросил его, решив, что воспользуется одеждой старика, когда свернет тому шею и вернет свои татуировки. Но следы, оставляемые невидимым человеком, двигались слишком быстро.
Деревня осталась далеко за спиной. Нейронная татуировка преследования перегрелась и взорвалась, вырвав из предплечья Семъязы кусок плоти. Якудза остановился, не понимая, как старик мог сбежать от него. Или же не сбежать? Семъяза видел, как следы приближаются к нему. Он достал из ножен заскучавший наномеч.
– Ты можешь забрать мои татуировки, но моя рука останется, как и прежде, твердой, – предупредил старика Семъяза.
Татуировки на правой руке побледнели и покинули покрытую ожогами кожу. Образ старика проявился на безопасной близости. Семъяза среагировал молниеносно, метнув в вора меч. Сталь вспорола воздух, но старик уже переместился в другое место. Наномеч упал в пыль. Якудза подобрал его почти мгновенно, но старик-азиат снова находился от него на безопасном расстоянии. Семъяза мог поклясться, что вместе с нейронными татуировками этот хитрец каким-то образом приобрел еще и молодость. Но в отличие от татуировок, которые он воровал у якудзы, молодость он черпал откуда-то извне. Семъяза не чувствовал, что стал старше, наоборот, израненное тело, казалось, омолаживается. Пропала даже пара свежих шрамов, полученных во время ареста.
Якудза притворился, что едва может стоять на ногах, затем активировал нейронную татуировку ловкости и метнулся к старику-азиату. Вор замешкался на мгновение, но все-таки успел скрыться раньше, чем Семъяза снес ему с плеч голову. Наномеч рассек воздух и, казалось, разочарованно вздохнул.
– Ты не сможешь ускользать вечно! – зарычал Семъяза, устремляясь за стариком, следы которого уже растаяли в начинавшихся пустынных сумерках.
Татуировка ловкости позволяла якудзе двигаться как ветер. Вдобавок к ней он активировал татуировку гнева, способную высосать из тела все силы, но увеличивающую в разы способности активированной ловкости.
Преследование продолжалось почти всю ночь. Ближе к полуночи активированные татуировки Семъязы начали сбоить, но вместо того, чтобы сгореть от перегрузок, просто растаяли, покинув его кожу. Это не остановило якудзу.
– Я доберусь до тебя, даже если моя кожа станет чистой, как у младенца! – закричал он старику.
Утро осветило пустыню, которая теперь медленно переходила в саванну. Преследование превратилось в смертельную схватку. И Семъяза готов был умереть. Это был вызов. Он не знал, насколько еще хватит запаса сил и сколько на его теле осталось нейронных татуировок, но он не собирался останавливаться. Обгоревшие ботинки сносились до дыр, ступни начали кровоточить. Якудза продолжал бежать. Он не остановится, пока бьется сердце или пока… Он замер, увидев, как старик, вернее, уже не старик, а молодой азиат, нырнул в гигантский разлом, к которому привела их погоня. Сердце в груди екнуло и остановилось. Якудза не понимал, как могло так случиться, что старый вор привел его к месту встречи с Шайори.
«Может быть, я все еще нахожусь в «Тиктонике»? – подумал Семъяза. – Может быть, все это часть моего исправления? Но почему тогда я помню об аресте? Нет, система так не работает». Он вздрогнул, услышав далекий голос Шайори. В гигантском, уходящем за горизонт разломе, вспоровшем саванну, кишела жизнь. Голос любимой женщины сливался со звоном ручья. Кричали птицы. Якудза видел семью шимпанзе. Самец недовольно смотрел на чужака. Где-то далеко внизу раздавался треск, рожденный стадом слонов. И… Сердце замерло в груди. Крик Шайори казался острее клинка.
Якудза обнажил меч и начал спускаться в разлом. Вор ждал его. Вор, тело которого покрывали нейронные татуировки Семъязы. У самого Семъязы осталась лишь одна – татуировка Шайори, сделанная незадолго до ареста. Но Вор не хотел забирать эту нейронную копию. Ему нужен был оригинал. Он уже забрал у якудзы навыки, забрал зрелость, забрал даже лицо, а теперь хотел забрать любимую женщину.
«Все это не может быть реальностью, – говорил себе Семъяза, спускаясь по отвесным склонам разлома. – Наверное, это какая-то маскировка, какой-то зрительный обман, или…» Он снова подумал, что, возможно, находится в «Тиктонике». Может быть, это какая-то новая программа исправления или специальный режим для особо опасных преступников, но… Но как заставить себя не слушать крики о помощи? Как заставить себя выйти из этой системы? И как, что самое главное, выяснить, доказать, что это не реальность, что в этом мире нет никого?
Семъяза услышал новый крик Шайори и отбросил сомнения. Да, кто-то забрал у него все навыки, но ведь с ним оставался доказавший свою преданность наномеч. Да и рука его была тверда. Он пересек ручей, не подумав о том, чтобы утолить жажду. Жажда – это последнее, что должно волновать человека, который готовится встретить смерть.
– Отпусти ее! – крикнул Семъяза, увидев своего двойника.
Вор был похож с ним, как две капли воды, но Шайори каким-то образом смогла распознать, что это чужак. Семъяза понимал, что Вору хватит украденных навыков, чтобы забрать жизнь девушки за мгновение.
– У меня все еще кое-что есть для тебя, – прокричал Семъяза, показывая Вору наномеч. – Тронешь девушку, и клянусь, я буду сражаться с тобой до последнего вздоха. И меч тебе не удастся украсть. Меч, без которого все твои навыки ничего не значат.
– Ты предлагаешь обмен? – спросил Вор.
– Или ты можешь попробовать забрать его у меня силой.
Якудза смотрел вору в глаза. Нет, как далеко бы ни ушли навыки и технологии, украсть твердость руки и холод сердца никогда не удастся. Вор нервничал. Семъяза видел это. Но Вор был алчен и хотел получить наномеч.
– Хорошо, давай совершим обмен, – сказал он.
Шайори почувствовала свободу и осторожно шагнула к якудзе. Семъяза убрал наномеч в ножны. Шайори обернулась, заглянула Вору в глаза. В эти знакомые, но в то же время чужие глаза. Она знала каждую нейронную татуировку на теле Вора, знала каждый его шрам, но вот взгляд… Взгляд был чужим.
– Двигайся! – прикрикнул на нее Вор.
Он не сводил глаз с наномеча в вытянутой руке Семъязы. Шайори сделала один неуверенный шаг, другой, затем побежала к якудзе. Вор мог догнать ее и свернуть ей шею. Семъяза понимал это. Как только Шайори приблизится к точке невозврата, Вор доберется до нее, если только не дать ему то, что он хочет. Спасти девушку можно было, лишь соблюдая условия сделки. Семъяза размахнулся и бросил наномеч так далеко, как только мог. Несколько секунд Вор смотрел на меч, вычисляя траекторию, затем, активировав нейронную татуировку ловкости, кинулся его ловить. В этот самый момент Шайори упала Семъязе в объятия.
– Теперь беги, – сказал якудза. – Беги отсюда так быстро, как только сможешь. Я знаю, на твоем теле достаточно нейронных татуировок, чтобы скрыться.
Других слов было не нужно. Шайори выросла в клане и знала правила. Она понимала все без слов. Если она хочет доказать Семъязе свою любовь, то должна спастись. Спастись ради него. И она побежала…
Якудза отвлекся лишь на мгновение, чтобы увидеть, как Шайори скрылась за деревьями. Теперь ее жизнь зависит от него. Чем дольше он сможет противостоять Вору, тем больше шансов будет у Шайори.
– Ты не сможешь остановить меня, – сказал Вор.
Он подобрал наномеч и собирался извлечь его из ножен. Стальной хищник ждал, и вместе с ним ждал Семъяза. Он накормил этот меч, приручил его. Хищник должен сохранить преданность… Вор вытащил наномеч из ножен. Сталь вздрогнула и замерла, не признав, что его держит рука клона, копия прежнего хозяина.
– Ты ждал другого? – спросил Вор, растягивая узкие губы в усмешке.
– Ждал, – согласился якудза, поборов искушение еще раз обернуться, убеждаясь, что Шайори не передумала, не вернулась.
Вместе с якудзой на зеленые заросли посмотрел и Вор.
– Я убью тебя, а затем догоню и убью ее, ты ведь понимаешь? – спросил он.
– Так иди и убей, – сказал якудза.
Вор выждал мгновение, словно размышлял, какие нейронные татуировки лучше активировать, затем метнулся к противнику. Семъяза подхватил с земли два увесистых камня и швырнул их в Вора. Наномеч превратил камни в пыль, но пыль попала Вору в глаза, и когда он поравнялся с якудзой, то почти ничего не видел в этот момент. Наномеч рассек воздух. Семъяза увернулся от трех смертельных ударов и нанес Вору удар в колено. Вор ахнул и отступил. Но кости его остались целы. Наномеч извивался в твердой руке.
– У тебя нет шанса, ты ведь понимаешь это? – спросил Вор якудзу, наконец-то активируя нейронную татуировку ловкости.
Семъяза не ответил. Слова были не нужны. Смерть уже была здесь, и смерть знала, кого заберет в ближайшие мгновения. Но смерть не получит сегодня больше никого. Семъяза отступил назад, готовясь к защите. Смерть хочет Шайори, но смерть не получит ее. Не в этот день. Нет.
Вор вскинул наномеч и устремился к якудзе. Активированная нейронная татуировка ведения боя с якудзой показывала ему каждый вариант атаки. У противника есть лишь один шанс уцелеть – нанести точный и смертельный удар. Вот только Семъяза уже приготовился к смерти. Он не боролся за свою жизнь. Он боролся за жизнь Шайори. И ни одна нейронная татуировка не могла показать это Вору. Он ждал точечного, разящего смертельного удара, готовый отразить любой из них. Но чтобы спасти Шайори, не нужно было убивать Вора, достаточно было лишь травмировать. Вор вонзил наномеч Семъязе в грудь в тот самый момент, когда якудза нанес ему еще один удар в больное колено. На этот раз кость уступила. Сталь обожгла якудзе грудь, разделив надвое сердце, но он успел услышать крик Вора. Крик досады и разочарования. Потом наступила темнота.
Глава вторая. Девушка из клана Гокудо
Шайори не следила за процессом над Семъязой – результат ей был известен заранее. Его отправят в коррекционную тюрьму, сотрут воспоминания об аресте и бросят в систему, которая выжжет сознание, уничтожит личность. Конечно, все говорят, что у каждого преступника есть второй шанс, но только не у якудзы. Нет. Они слишком преданы своей природе. Кому, как не Шайори знать об этом? Кому как не дочери Мисору – оябуна клана Гокудо – знать об этом?
Эмблема клана – треугольник, перечеркнутый двумя извилистыми линиями, – была нанесена на лопатку Шайори еще в детстве. Нейронная татуировка стала частью жизни. Если ее активировать, то можно было ожидать защиту и покровительство. Шайори никогда не делала этого. Если только в детстве, когда забота отца имела значение. Потом Шайори превратилась в подростка и забота трансформировалась в ряд запретов и ограничений.
Особенно раздражали Шайори все эти технократические вечеринки, посещать которые входило в ее обязанность. В основном это были открытия концернов и выставок, где начинало рябить в глазах от бесконечных технологических новинок. Отец выглядел на людях сторонником прогресса и вкладывал крупные суммы в производство синергиков – крашеных манекенов, напичканных силикатными внутренностями и искусственно выращенным наноорганическим мозгом, который, словно подчеркивая, что синергики – это не люди, помещали в груди у машин. Иногда Шайори казалось, что если бы технократам позволили, то они проделали бы то же самое и с обычными гражданами – поместили разум в грудь, истребив чувства. Ведь именно это они сделали в нейронной сети, когда установили фильтр на передачу чувств и эмоций. Фильтр превратился в фаервол, а сеть – в образчик технократии, носящий дурацкое название «Утопия-3».
Эмоции стали набором традиций, которых следовало придерживаться, чтобы тебя можно было понять. Иначе превратишься в иностранца, прибывшего в чужую страну, не зная языка. Шайори не имела ничего против традиций, но успела устать от них, потому что отец отправил ее в школу традиций еще ребенком. Костюмы, интерьер, театр, даже литература, вымершая после появления нейронных сетей, – Шайори знала все. Особенно нравилась ей в детстве чайная церемония. И еще обожествление природы. Нейронные картины бури завораживали. Шторм напоминал отца, а причал, на который обрушиваются гигантские черные волны, – мать. Саму себя Шайори ассоциировала с пейзажами цветущих деревьев или плывущей по небу полной луной.
Она любила смотреть, как девушки сервируют стол в день встречи клана – посуда, оформление блюд, горячие салфетки, которыми собравшиеся вытирают руки и лицо. Особенно нравилось Шайори смотреть, как самый младший из присутствующих – обычно это был специально приглашенный стажер-борекудан – разливает спиртные напитки, а в конце его собственный стакан наполняет отец Шайори – оябун клана Гокудо.
Мисору не знал, что дочь наблюдает за ними. Несколько раз Шайори становилась свидетелем обряда юбидзумэ, когда провинившийся член клана отсекал себе фалангу пальца при помощи танто. Обряд проходил в тишине. На лице человека не возникало эмоций, отражений боли. Шайори не понимала обряда, но считала его странной частью церемонии, частью уважения, проявляемого этими людьми по отношению к ее отцу. И так как во время обряда все молчали, то и сама Шайори считала, что должна молчать об увиденном. Это было ее детское приобщение к взрослой жизни, ее собственный секрет, обладание которым позволяло чувствовать себя старше. Именно юбидзумэ вдохновил Шайори написать свое единственное стихотворение:
Они – клены осенние, срывают красные листья, бросают в море, дарят поклон. И море стихает.Других стихов она не напишет. Да и сложно писать стихи в этом нейронном мире, где поэзию и живопись преподают синергики, которые знают об искусстве абсолютно все, превращаясь в застывший монолит истории, без намека на жизнь и чувства.
Хотя иногда синергики выходили из-под контроля, пытаясь расширить свой узкий потенциал. Наноорганика в мозгу давала сбой, и синергик превращался в электронного неврастеника – неуравновешенную, безвольную, легко поддающуюся чужом влиянию машину, находящуюся в состоянии бесконечно повторяющегося кризиса. В этих случаях за ними приходили силовики, прозванные в народе технологическими инквизиторами.
Шайори хорошо запомнила момент, когда нечто подобное случилось с ее учителем каллиграфии, который начал видеть в разлитых нерадивым учеником пятнах туши природу поступка, повлекшего разлитие туши. Потом он написал об этом стихотворение, лишенное для человеческого понимания смысла. Шайори хорошо запомнила, как технологические инквизиторы забрали учителя прямо с урока, когда он пытался объяснить классу красоту белого шума и грациозную стройность последовательности Фибоначчи.
Следом за инквизиторами в школе появились члены партии технологического нигилизма и стали задавать вопросы, надеясь выявить опасность списанного в утиль синергика. Но опасности не было. Шайори могла поручиться за синергиков, потому что часто видела их в барах отца – мирные и невозмутимые в своей покорности. Позднее она узнала, что отцу принадлежал еще и публичный дом, где сексуальные услуги оказывали сексапильные манекены, но ребенком она не понимала этого. Вот отсекание фаланги пальца одним из гостей отца могла понять, а публичный дом – нет.
Мир был светлым и чистым, как нейронная татуировка иероглифа счастья, красовавшаяся у матери на запястье. Нет, Шайори никогда не хотела сделать себе такую же, может быть, только когда была совсем юной, но потом… Потом татуировка счастья превратилась в устаревшее клише. Да и счастье это было каким-то фальшивым.
Став подростком, Шайори поняла, что ненавидит этот иероглиф на запястье матери. Он не был счастьем, он был покорностью, смирением, подавленностью. Мать была человеком, женщиной, но, живя с отцом, превратилась в синергика, активирующего свою татуировку каждый раз, как только в груди начинал зарождаться шторм. Да, на шторм у нее не было права. Не было права на слово, чувства, эмоции, если только это не создавало вокруг нее ореол счастья и радости.
Возможно, именно поэтому своей первой татуировкой Шайори выбрала бунт и непокорность. Но непокорность закончилась в тот же день, когда отец увидел нейронное тату на лодыжке дочери. Он лично отвез четырнадцатилетнюю дочь в больницу, где врач с татуировкой клана Гокудо удалил нейронный модуль и рисунок, оставив уродливый шрам от ускорителя регенерации поврежденных тканей.
Когда они покинули больницу, был поздний вечер. Шайори хотела лишь одного – отправиться домой, лечь в кровать и, забравшись под одеяло, ни о чем не думать. Но отец повез ее в салон, где ранее молодой мастер сделал ей нейронную татуировку бунта и непокорности. Водитель остался в машине. В салон вошли только Мисору и его дочь. Молодой мастер узнал сначала Шайори, затем узнал главу клана Гокудо. Шайори видела, как побледнело его лицо, когда он заметил свежий шрам на ее лодыжке. Мисору молча достал танто и положил на стол. Молодой мастер дрожал. Отец Шайори молчал – мастер знал, что нужно делать. Думал, что знает. Шайори отвернулась, когда он взял танто и, обливаясь потом, отрезал себе мизинец на левой руке.
– И это все? – услышала Шайори голос отца. – Ты изуродовал мою дочь и думаешь, что пальца будет достаточно, чтобы искупить вину?
Мисору схватил молодого мастера за правую руку, вывернув ее в локте так сильно, что затрещали суставы. Свободной рукой он взял танто, который мастер выронил на стол. Прижав заломленную руку мастера к столу, Мисору поднес танто к кисти мастера, повернулся к дочери и велел ей смотреть.
– И не смей закрыть глаза или отвернуться! – прошипел он, а спустя мгновение брызнула кровь мастера.
Мир взорвался его криком. Шайори вырвало. Хруст суставов и хрящей, казалось, звучит громче, чем крик боли.
– Если узнаю, что ты установил имплантат, то вернусь и выпущу тебе кишки, – пообещал молодому мастеру Мисору, отшвырнув отрезанную кисть ногой в пыльный угол.
Мастер кивнул и тихо заплакал. Мисору подошел к раковине, включил воду и смыл с рук чужую кровь. Шайори молчала. Молчала в этот вечер. Молчала весь следующий день. Ее подростковый бунт был подавлен. Детство кончилось. Шайори казалось, что она больше никогда не заговорит. Ни с кем.
Мать, активировав свою нейронную татуировку счастья, ворковала возле нее, пытаясь отвлечь. Но от этого Шайори начинала ненавидеть ее больше. И вместе с ненавистью к матери разгоралась ненависть к себе самой – ведь это именно она призналась отцу, где ей сделали татуировку. Если бы она замолчала на пару часов раньше, то молодой мастер не лишился бы своей талантливой руки – перед тем, как сделать нейронную татуировку, он простодушно показывал Шайори свои работы. Сейчас они казались ей гениальными. Она убила гениальность тем, что не додумалась промолчать.
Шайори отправилась в квартал, где находился салон молодого мастера, желая просто извиниться. Дверь была открыта, но нейронную вывеску уже сняли. Молодой мастер собирал вещи.
– Хочешь уехать? – спросила Шайори.
Он вздрогнул, узнав ее голос, но страха в его глазах она не увидела.
– Тебе не нужно уезжать, – сказала Шайори. – Мой отец больше не тронет тебя.
– Твой отец забрал у меня руку, – хмуро сказал мастер.
– У тебя есть еще одна.
– Я не могу работать левой.
– Ты талантлив. Это нельзя отнять, отрубив руку. Талант не в руках. Он – в сердце.
Шайори вздрогнула, услышав недобрый смех молодого мастера.
– Глупая, наивная девчонка! – сказал он, затем неожиданно стал серьезным и велел убираться.
Шайори и сама почувствовала себя глупой и наивной.
– Я сказал, убирайся! – заорал молодой мастер.
Она развернулась и заковыляла прочь. Вернувшись домой, Шайори закрылась в ванной и, стоя перед зеркалом, попыталась избавиться от эмблемы клана Гокудо, красующейся на ее лопатке. Боль активировала нейронную татуировку, и когда отец Шайори выбил дверь и вошел в ванную, то увидел дочь, по спине которой течет кровь, а в руках зажат медицинский скальпель, купленный в аптеке по дороге домой. Какое-то время отец и дочь смотрели друг другу в глаза.
– Ну давай, – неожиданно сказал Мисору. – Продолжай. Срежь эмблему своего клана.
Это был вызов. Шайори повернулась к зеркалу. Боль пугала больше, чем отец. Рука со скальпелем дрожала. Шайори прижала острие скальпеля к коже и потянула вниз. Рана появилась мгновенно, как и слезы, которые заполнили глаза и покатились по щекам. И причиной слез была не только боль. Причиной было понимание Шайори, что она не сможет сделать это, не сможет изуродовать свое тело, не сможет вынести боль, когда будет вырезать татуировку. Не сможет! Не сможет! Не сможет! Скальпель звякнул, выпав из рук. Шайори уставилась на отца, ожидая, что он рассмеется, но его лицо осталось хмурым.
– Приберись здесь и заставь себя улыбаться, когда выйдешь из ванной, – сказал он перед тем, как уйти.
Шайори осталась одна. Дверь захлопнулась. Дверь в ванную. Дверь в юность. Шайори была одна. Одна в этом мире. Вчера, сегодня – всегда. Она вышла из ванной, нацепив на лицо глупую детскую улыбку. Отец хмуро наблюдал за ней какое-то время, затем удовлетворился покорным поведением дочери и вернулся к своим делам. В доме снова поселился мир. Так прошел этот вечер. Так прошел год.
Оживленный, перенаселенный, пронизанный нейронными сетями и высокими технологиями, Токио умиротворял и беспокоил одновременно. Шайори чувствовала, как это странное восприятие становится ее частью, пробирается в грудь и выжигает там все остальные чувства. Умиротворение и беспокойство.
Шайори не знала, зачем сделала себе вторую нейронную татуировку. Ей было шестнадцать. Она бродила по улицам, взрывающим мозг и чувства нейронной рекламой, увидела тату-салон, обещавший любую услугу нейронного боди-арта за полцены, затем увидела, что салон закрывается через неделю, и вошла в приемную. Девушка-европейка с татуировкой белого кролика на шее устало улыбнулась посетителю. Шайори не знала, что означает этот нейронный кролик. «А может, и не нейронный? – подумала она. – Может, это просто рисунок?»
– Хочешь сделать татуировку? – спросила девушка-европейка.
Вместо ответа Шайори спросила девушку, почему они закрываются.
– Здесь сложная культура, – вздохнула девушка. – В Париже было проще.
– Так вы возвращаетесь в Париж?
Шайори улыбнулась, увидев, как растерянно пожал плечами активированный нейронный кролик на шее девушки.
– Забавно, – сказала она девушке-европейке.
– О! Он умеет не только веселить, – просияла та. – Если активировать его в постели, то этот кролик… Он… Он превращает в кролика меня, понимаешь?
– Не очень, – призналась Шайори и, когда девушка спросила, сколько ей лет, соврала, что уже восемнадцать.
– Странно, – протянула француженка. – Ты что, никогда не была с мужчиной?
– Нет.
– О!
Растерянность француженки заставила Шайори покраснеть. Эта девушка-европейка казалась ей такой… такой… такой нереальной. Словно сон, в реальность которого отчаянно хочется верить. Но сон всегда заканчивается и приходится возвращаться в семью, в клан Гокудо, к отцу…
– Как вы думаете, я могу получить себе такого же кролика? – спросила Шайори.
– Кролика? – француженка задумалась. – Не думаю, что в восемнадцать лет девушке нужен кролик.
– Тогда что, если не кролик?
– Может быть… – француженка нахмурилась. Задумался и ее нейронный кролик на шее. – Может быть, любовь? – спросила она.
– Любовь? – растерялась Шайори.
– Ну да, – беззаботно пожала плечами француженка. – Яркие, сочные чувства. У вас здесь так много крашеных манекенов – синергиков, что немного настоящей любви никому не повредит.
– Чем плохи синергики? – насупилась Шайори.
– Ничем, – француженка снова пожала плечами. – А чем плоха любовь?
– Ничем, – согласилась Шайори. – Только если это не счастье. У моей матери нейронная татуировка счастья. Когда она ее активирует, то становится похожей на синергика.
– Любовь – это не счастье. Любовь – это взрыв, – сказала француженка. – Любовь – это бунт, подчиняющий тело, восстающий против разума. И никакого покоя. Никакого синергетического счастья. Для молодой девушки это то, что нужно. Особенно если она хочет вырваться из-под родительского контроля и начать свою собственную жизнь.
– Собственная жизнь – это хорошо, – согласилась Шайори, прикидывая, хватит ли ей карманных денег, чтобы сделать татуировку, не пользуясь счетом отца, чтобы потом он не смог проследить платеж и отрезать руку еще одному мастеру нейронной татуировки.
Но в итоге проблема оказалась не в отце. Проблемой оказался возраст. Француженка проверила идентификационный чип Шайори и сказала, что сможет принять заказ только с разрешения родителей.
– А без родителей никак нельзя? – спросила Шайори.
– Извини, – всплеснула руками француженка, явно потеряв интерес к несовершеннолетнему клиенту. Ее белый кролик на шее сокрушенно вздыхал снова и снова, словно программа просто зависла.
Шайори покинула салон, но перед глазами долго маячил белый кролик и лицо иностранки. И еще идея сделать нейронную татуировку любви. Идея фикс, которую Шайори оберегала и лелеяла больше года, а когда наконец-то стала женщиной, не испытав от близости ничего кроме безразличия, решила, что пришло время воплотить мечту в жизнь.
До восемнадцатого дня рождения оставалось несколько месяцев, но Шайори не хотела ждать. Да и в Токио было много мест, где никто не станет спрашивать возраст, если платишь наличкой. Главное – сделать татуировку так, чтобы отец на этот раз не заметил, никто не заметил, если она не захочет показать сама.
– Никто, говоришь? – спросил нетрезвый мастер, от которого сильно пахло потом и чесноком.
Шайори кивнула и покосилась в сторону друзей мастера – пара немолодых гомосексуалистов, забившихся в дальний угол, шушукаясь в полумраке о чем-то своем. «Хорошо, что я не могу видеть деталей», – подумала Шайори, изучая затертую сальными руками брошюру с татуировками, которые могли сделать в этом салоне. Шайори была нужна только одна – нейронная татуировка любви. В брошюре предлагалось два вида рисунка: сердце и бутон розы. Сердце при активации пульсировало, роза распускалась. Пока Шайори пыталась определиться, нетрезвый мастер перекинулся с друзьями в темном углу парой сальных фраз об их общем друге, из которых Шайори поняла, что мастер тоже гомосексуалист. Потом они заговорили о Шайори в третьем лице, словно ее и не было здесь.
– Хочет тату любви?
– И чтобы никто не видел?
– А деньги-то у нее есть?
– Зачем же тогда прятать тату?
– Ну пусть тогда сбреет волосы. Интегрируешь модуль ей на череп. Потом спрячет все это под прической.
– Или можно на ягодицу.
– Или на ступню.
– Или…
– Эй! – разозлилась Шайори.
Гомосексуалисты смолкли.
– Выбрала рисунок? – спросил нетрезвый мастер.
Шайори протянула ему рисунок розы. Мастер хмыкнул, окинул Шайори безразличным взглядом.
– И куда интегрировать? – спросил он.
– Пока не решила, но только волосы сбривать точно не буду.
– Я разве говорил что-то о волосах?
– Они говорили, – Шайори ткнула пальцем в сторону пары гомосексуалистов.
– Так иди тогда к ним. Пусть они делают тебе татуировку! – разозлился нетрезвый мастер и пресно, с вернувшимся безразличием предложил интегрировать любовь на ягодицу.
– А может, на ступню? – спросила Шайори.
– Любовь на ступню?! – заржали гомосексуалисты.
Мастер молчал.
– На ступню можно? – спросила Шайори.
– Можно и на ступню, – пожал он плечами. – Только интегрировать придется глубже, чтобы не повредился при ходьбе жидкий модуль. Да и то нет гарантии, что он не будет включаться произвольно… В общем, если на ступню, то чем глубже, тем лучше.
– Это больно?
– Все нейронные тату больно, – он указал на оставшийся от удаленного бунта шрам на лодыжке Шайори. – Что у тебя там было раньше?
– Бунт и непокорность.
– Дурацкое тату, бесполезное. То же самое, что интегрировать себе модуль шизофрении или маниакальной депрессии.
– А такие есть?
– Хочешь сделать заказ на шизофрению?
– Нет.
– Тогда и не спрашивай.
– Ладно, не буду, – Шайори опустила глаза, разглядывая рисунок бутона розы. – Пусть будет ступня, – сказала она.
– Ступня?
– Да.
– Любовь на ступне! – снова оживилась пара пожилых гомосексуалистов.
– Да заткнитесь вы! – рявкнул на них мастер.
Он оформил заказ и велел Шайори оставить тридцать процентов аванса, сказав, что модуль придет к следующим выходным.
– К следующим выходным? – растерялась Шайори. – Я думала, что все можно будет сделать сегодня.
– Сегодня могу интегрировать модуль счастья, – сказал мастер. – Можно сразу два. Другое только под заказ.
– Но мне казалось…
– Что тебе казалось? – ощетинился мастер. – Это салон, а не склад. Какой смысл мне держать здесь неликвидную продукцию? Знаешь, сколько стоит каждый модуль? А если я не смогу его продать? Посмотри на каталог. Видишь, сколько там предложений? И каждый хочет что-то свое. На всех не угодишь.
– Но счастье-то у вас есть.
– Есть то, на что есть спрос.
– У моей матери есть счастье.
– Ну вот видишь.
– Я ненавижу этот модуль, – сказала Шайори.
Она помялась, оставила аванс и ушла. Возвращаться не хотелось, просто без аванса, думала Шайори, ее бы не выпустили из того салона. Она потратила их время. Они знали, что у нее есть деньги. Можно было, конечно, активировать нейронную татуировку клана Гокудо. Сколько времени потребуется отцу, чтобы послать своих людей спасти дочь? Шайори поежилась, представив отрезанные руки старых гомосексуалистов. Нет, проще было отдать деньги.
Она достала из кармана квитанцию, которую выдал нетрезвый мастер, подтверждая оформление заказа на модуль любви, хотела выбросить ее и забыть о вечернем приключении, но потом… Потом подумала, что старые педерасты были не так уж и плохи. К тому же, поняла Шайори, она боялась не их, она боялась последствий. Что будет, если отец снова узнает о ее выходке? Нет, теперь она не будет так глупа, чтобы назвать адрес салона, но…
Воспоминание об удалении модуля в прошлый раз не было приятным. Боль, унижение… Отец всегда будет смотреть на нее как на ребенка. В лучшем случае он превратит ее в мать. На руке распустится нейронная татуировка счастья… Уж лучше модуль любви на ступню. Поэтому Шайори и вернулась в салон к старому нетрезвому мастеру. Интеграция модуля заняла почти два часа и оказалась по-настоящему крайне болезненной. Жидкий чип пришлось установить в кость, и, когда все закончилось, мастер предупредил Шайори, что если модуль перегреется, то ожогами она не отделается.
– Ногу оторвет по щиколотку, – сказал он. – А может, и по колено…
Шайори отдала оставшиеся деньги за интеграцию и, хромая, покинула салон. Тюбик с пилюлями, чтобы снять в ближайшие недели боль, и старую, но удобную трость старый мастер дал Шайори бесплатно.
– Что с ногой? – спросил отец, когда она вернулась домой.
– Упала, – соврала Шайори.
Она прошла в свою комнату. Пилюли мастера не помогали, но когда Шайори попыталась отказаться от них, поняла, что без пилюль боль становится просто нестерпимой. Но мастер обещал, что боль пройдет, как только модуль любви приживется в ее теле.
– Все зависит от того, как долго твой организм будет сопротивляться жидкому чипу, – сказал он.
Сейчас, корчась от боли в кровати и глотая пилюлю за пилюлей, Шайори начинала ненавидеть свой организм, отторгавший чип. «Вот если бы это был модуль счастья, то все было бы хорошо», – злилась она. Но уже утром, то ли от пригоршни проглоченных пилюль, то ли потому, что жидкий чип начал приживаться, боль отступила – не ушла, нет, но перестала сжимать горло мертвой хваткой.
День показался бесконечно долгим, но вечером, едва добравшись до подушки, Шайори уснула. Нога болела еще почти месяц, но от трости и пилюль Шайори избавилась на третий день после сделанной татуировки. Теперь оставалось набраться смелости и воспользоваться интегрированным чипом. В качестве эксперимента она выбрала своего бывшего парня, все еще увивавшегося за ней, надеясь на новую встречу.
Встреча вышла просто божественной, особенно пока Шайори держала активированной нейронную татуировку любви. Алый бутон розы на ступне распускался, и вместе с ним, казалось, распускается весь мир, расцветает и благоухает россыпью чувств, на фоне которых меркнут все остальные проблемы мира. В какой-то момент Шайори подумала, что действительно влюблена в этого мальчика. Но как только она отключила установленный модуль, очарование рухнуло – Шайори испугалась своей страсти, своей напористости и раскрепощенности. А этот мальчик, этот молодой, незрелый любовник… Он… Он…
Она пытливо заглянула ему в глаза. Он был счастлив. Он светился любовью. И Шайори это нравилось. Никто еще не смотрел на нее так. Никогда. Волнение было таким сильным, что Шайори не заметила, как активировалась нейронная татуировка клана Гокудо. Не прошло и получаса, как на пороге появился отец Шайори. Молодые любовники были уже одеты, но…
Мисору велел дочери отправляться домой, а сам остался с ее другом. Шайори боялась представить, что может случиться, но отец, на удивление, ограничился лишь разговором. Правда, после этого разговора молодой любовник начал избегать Шайори. Шайори пыталась вернуть его несколько месяцев, затем смирилась с потерей, выждала еще месяц и снова активировала нейронную татуировку любви.
Татуировка клана Гокудо оставалась отключена – Шайори могла поклясться в этом, – но отец каким-то образом снова узнал о связи дочери, и новый молодой любовник испарился так же, как и его предшественник, забыв о том, как зовут Шайори. То же самое случилось и с третьим другом Шайори, и с четвертым. Кто-то из клана следил за ней, оберегал. И кто-то сказал оябуну, что все эти встречи заходят достаточно далеко, чтобы опозорить отца, а вместе с ним и клан. Это случилось две недели спустя после восемнадцатого дня рождения Шайори.
– Ты уже достаточно взрослая, чтобы отвечать за свои поступки, – сказал отец и потребовал вытянуть левую руку, чтобы принять наказание.
Шайори смотрела на танто, которое он держал, и не верила, что отец сможет отсечь ей палец.
– Вот, – Мисору протянул ей полотенце, – это тебе понадобится, когда все случится.
Затем на глазах у собравшихся подчиненных он отсек дочери левую кисть. Удар был быстрым и точным. Шайори вздрогнула и растерянно уставилась на обрубок левой руки. Отрубленная кисть конвульсивно дернулась на полу, сжалась в кулак. Шайори увидела это и потеряла сознание.
Когда она очнулась, рядом была мать. Ее нейронная татуировка счастья была активирована. Шайори поняла это по глупой улыбке, не покидавшей губы матери. Рука не болела, лишь там, где красовался свежий шрам, соединивший плоть с имплантатом, ощущался легкий зуд. Позже Шайори узнала, что врачи могли спасти ей руку, но отец настоял на имплантации.
– Надеюсь, ты поняла урок, – сказал он, навестив дочь в больнице.
– Мою руку можно было сохранить.
– Ты не якудза. Тебе не нужно держать меч, – сказал он. – А вот ребенка… Ребенка от порядочного мужчины ты сможешь держать и так.
«Под порядочным ты понимаешь мужчину, которого выберешь мне сам?» – хотела сказать Шайори, но осмелилась лишь отвести глаза, отвернуться от отца.
– Мы поняли друг друга? – спросил он.
Шайори кивнула, но айсберг уже вспорол борт подростковой зависимости от родителя, и корабль был обречен пойти ко дну.
Шайори вышла из больницы и первым делом встретилась со своим последним мужчиной. Вернее, попыталась встретиться, потому что как только он узнал, кто отец Шайори и почему она лишилась руки, то сбежал из города. Слух о девочке из клана Гокудо разлетелся по Токио. Точнее, разлетелся в окружении Шайори – сам город мог проглотить ее, ее отца, весь их клан и не заметить этого. Городу было плевать. Он жил, шумел, слепил глаза и плавил мозги нейронными сетями, многоуровневыми магнитными дорогами и проданными домохозяйкам синергиками, которые ходили за покупками по улицам в своих разноцветных синтетических париках, извиняясь, стоило лишь только задеть их плечом. Они всегда чувствовали себя виноватыми – так производители надеялись умерить общественное недовольство технологических нигилистов, когда началась розничная продажа синергиков, на которых банки, с подачи ведущих производителей, предоставляли беспроцентные ссуды, стимулируя спрос. Если быть точным, то ссуды выдавались под обычный процент, но выплата процентов была возложена на торговые точки синергиков… Обо всем этом Шайори узнала от технологического нигилиста по имени Кэтсу, с которым начала встречаться незадолго до празднований нового года.
Он был молодым, а его речи такими пылкими, что Шайори не могла представить себе, как отцу удастся запугать этого Ромео. Но запал политика кончился сразу, как только на пол упала отсеченная отцом правая кисть Шайори. Это случилось в доме Мисору. Разговор с дочерью закончился экзекуцией, на которую люди из клана заставили смотреть Кэтсу, притащив его босиком в дом босса. Шайори не боялась. Она смотрела на отца и ждала только сигнала, слов Кэтсу в ее защиту, чтобы распрямить плечи. Но Кэтсу молчал. Отец велел дочери вытянуть правую руку. Теперь она знала, что будет дальше, но страха не было. Она верила в Кэтсу, в его смелость. Но он лишь дрожал и смотрел. А когда отрубленная кисть Шайори упала на пол, Кэтсу обмочился.
Несмотря на боль, Шайори видела это. Видела, как Кэтсу бежит, когда люди клана отпустили его – не оглядываясь, мелькая голыми пятками. В этот момент Шайори не знала, что причиняет ей больше боли – обрубок правой руки или предательство близкого человека. Она крепче обмотала полотенцем обрубок и пошла к машине, чтобы ее доставили в больницу. Если отец хотел воспитать в ней гордость и чувство собственного достоинства, то ему это удалось. Не совсем так, как он планировал, но удалось. Что касается мужчин, то… Уже в больнице Шайори завязала новый роман. Роман с человеком, который просто не мог убежать, если придет отец. Якудзы не бегут, а Семъяза был самым настоящим якудзой, убийцей клана Тэкия – Шайори поняла это по его нейронным татуировкам.
– Какой у тебя уровень бусидо? – спросила она якудзу, когда с формальностями было покончено.
Семъяза наградил ее долгим взглядом, но так и не ответил. Этого было достаточно, чтобы Шайори поверила – он не убежит и не обмочится, когда увидит ее отца. Он уже знает, кто она, знает, из какого она клана и что ему грозит за эту связь. Но в его глазах нет страха или тени сомнений…
– Хочешь, я покажу тебе свою татуировку любви? – спросила Шайори.
Они лежали в кровати номера, который снимал Семъяза. В воздухе клубился дым фимиамов сандала и базилика. Красный диск заходящего солнца заглядывал в наполовину зашторенное окно. Шайори перевернулась в кровати и, вытянув ногу, показала Семъязе ступню. Он долго разглядывал алый бутон – Шайори нравился этот пытливый взгляд. Казалось, что время остановилось и больше ничего не нужно. Совсем ничего. Если только… Шайори активировала татуировку любви, заставив бутон распуститься. На губах якудзы появилась улыбка.
– Можешь прикоснуться к ней, – сказала Шайори.
Его руки были грубыми и нежными одновременно. Руки, на которых была кровь. Но разве не такие же руки были у ее отца? Руки якудзы. Руки убийцы.
Когда они снова занялись любовью, Шайори потребовала от Семъязы клятвы, что он никогда не оставит ее, не сбежит, не отступится. Якудза поклялся, и Шайори подумала, что это теперь на всю жизнь – он и она, их связь… Но потом Семъязу арестовали и отправили в коррекционную тюрьму «Тиктоника».
Система обещала исправление и второй шанс, но Шайори не верила, что у якудзы может быть второй шанс. Ни одна система не сможет изменить убийцу. Семъязу сотрут, пропустят через цикл коррекционных программ и признают непригодным для жизни в нормальном обществе. Поэтому Шайори начала оплакивать его в тот день, когда в новостях объявили, что Семъяза был официально помещен в коррекционную систему «Тиктоники». Но оплакать Семъязу в одиночестве было мало. Шайори нашла его сестру.
У Аяко были глаза брата и татуировка клана Тэкия. Во время той встречи она не призналась Шайори, что ее клан предал Семъязу, но когда ей пришло официальное уведомление из «Тиктоники» о том, что брат находится в реабилитационном медицинском центре, проходя курс восстановления…
– Ты хочешь, чтобы за ним поехала я? – растерялась Шайори, когда Аяко встретилась с ней.
– Я не могу это сделать, – сказала Аяко. – Никто из клана Тэкия не может. Мы предали его, отвернулись. Технократы хотели крови, и выбор пал на моего брата. Так решил наш оябун. Теперь Семъяза сам по себе…
Они разговаривали больше часа. Могла ли Шайори отказаться от просьбы Аяко? Хотела ли она отказаться?
– Если я поеду за ним в «Тиктонику», то превращусь, как и он, в ренегата, – сказала Шайори. – Мой отец отвернется от меня. Мой клан. Моя семья.
– Мне казалось, ты любишь его, – сказала Аяко.
– Так и есть.
– Но ты боишься.
– Нет. – Шайори показала ей шрамы, оставшиеся от имплантации кистей рук. – Это сделал мой отец. По удару за мужчину с момента, как мне исполнилось восемнадцать. Твой брат третий. Но третьей руки у меня нет.
– Я понимаю, – сказала Аяко.
Она покинула кафе, где проходила встреча, оставив на столе сертификат «Тиктоники», выданный на предъявителя. Приглашение было действительным в течение месяца. На сборы Шайори потребовался день. На принятие судьбоносного решения – пять минут, может быть, меньше, она не засекала. Сколько нужно, чтобы подняться из-за столика в кафе и, уединившись в пропахшей дезинфекцией уборной, активировать нейронную татуировку любви? Главное, чтобы никто не вошел в этот момент – модуль любви крайне неразборчив. Очень сложно использовать его на расстоянии. Шайори зажмурилась и зажала руками уши, вспоминая Семъязу. Нет, ей не нужно было знать, что она любит его. Ей нужно было немного дополнительной смелости, чтобы отказаться от всего, что было, вылететь из дома и начать свою жизнь вне клана. Сомнений не было. Не было, когда покидала дом, не было в автобусах до «Тиктоники», не было, когда охранник долго подозрительно изучал ее сертификат на входе в реабилитационное отделение клиники. Сомнения появились, когда один из посетителей – такой же, как и она, пришедший встретить своего любимого человека – сказал, что иногда система дает сбой и реабилитация не помогает.
– Как это не помогает? – спросила Шайори.
– Что-то пропадает отсюда, – сказал мужчина и постучал указательным пальцем по своей голове, – что-то важное. И они уже никогда не смогут стать теми, кем были раньше. Могут все вспомнить, но вот чувства… Чувства будут уже другими – реабилитированными.
Как и Шайори, он прибыл в «Тиктонику», чтобы забрать любимого человека, жену, попавшую сюда после того, как она, узнав, что не сможет иметь детей, украла грудного ребенка у другой женщины. С ней в палате лежала еще одна женщина. Еще чья-то жена. Вот только никто не пришел, чтобы встретить ее, – система пропустила ее через восемнадцать циклов реабилитации, затем сочла коэффициент исправления критическим и внесла необратимые изменения – проще сказать, уничтожила личность, хотя официально считалось, что удалялось лишь то, что связано с потенциальной опасностью для общества.
– Удивлена, что якудза смог выбраться из системы, – призналась главному врачу Шайори.
– Это еще раз подтверждает, что система работает, – горделиво сказал доктор Синдзи Накамура. – Шанс есть у каждого.
Он жестом предложил Шайори пройти к Семъязе, оставив палату, где молодой муж ожидал пробуждения своей исправленной системой жены. Шайори хотела спросить его о последствиях восстановления, но когда увидела якудзу… В отличие от женщин в соседней палате, он все еще находился в реабилитационной камере. Шайори могла смотреть на него, но не могла прикоснуться, не могла остаться наедине, чтобы активировать модуль любви и добавить себе смелости, решимости.
– Если хотите, то мы можем удалить все его татуировки, пока он не пришел в себя, – предложил доктор Накамура, явно смущенный превращенным в картину обнаженным торсом якудзы. – Думаю, это будет предпочтительнее. Потому что человек изменился, а это… – он замолчал, увидев на шее якудзы нейронную татуировку образа Шайори. – О! – растерянно хлопнул глазами доктор.
– Пусть он сам решает, как поступать с татуировками, – сказала Шайори, понимая, что любит эти рисунки так же, как любит глаза якудзы, руки, жесткость лица… Вернее, не любит, а считает частью якудзы. Так же, как считала частью себя свою татуировку с эмблемой клана Гокудо.
– Когда я смогу поговорить с ним? – спросила Шайори доктора.
Он сказал, что точных сроков нет.
– Может быть, через пару часов. Может быть, через пару дней… Все зависит от силы его тела и духа.
– О, силы духа у него хватит на нас двоих, – заверила доктора Шайори.
Глава третья. Адепт хаоса
Ворона проснулась, испугалась, запуталась в ветвях дерева, сбивая нависшие на листьях капли недавно прошедшего дождя, и, громко каркая, полетела прочь, растворяясь в ночной мгле. Кейко не двигалась – стояла на крыльце своего дома и слушала, как хлопают в ночи крылья электронной птицы. Странно, но, пока она жила в Токио, коллапс животного мира ощущался не так сильно, как в пригороде. Мир света и энергии подменял мир плоти и крови, но здесь… Запрокинув голову, Кейко посмотрела на черное дерево, где недавно сидела ворона. «Скоро станет невозможно отличить машину от живого существа», – подумала она, признаваясь себе, что ворона выглядела почти как настоящая. Ворона, которая в последние дни, как казалось Кейко, преследовала ее.
Она видела птицу возле своего дома, видела в центре этого крохотного города, видела на окраинах. Ворона охраняла гнездо. «Зачем машинам гнезда?» – раздраженно думала Кейко. В конуре возле крыльца зашевелилась во сне электронная собака. Вернее, не во сне, нет, машины не умеют спать. Они притворяются, что спят. В действительности сон им не нужен. Собака заскулила. Трехлапая машина! Кейко не помнила, когда пес потерял конечность. Жалости не было. Хироси – муж Кейко – сокрушался из-за увечья собаки. Даже их ребенок, мальчик семи лет по имени Юдзо, и тот сокрушался, а вот Кейко… Кейко смотрела на пса так, словно это был обыкновенный тостер. Никто ведь не сокрушается, если у тостера отвалится ручка. Его просто меняют. Или ремонтируют.
Кейко предлагала мужу отправить электронного питомца в мастерскую, но он отказался. Не то чтобы Хироси нравилось это уродство – просто для реконструкции нужно было ехать в Токио, а для этого пришлось бы взять очередной кредит. Кредит на дом, кредит на образование Юдзо, кредит на машину, на обустройство детской площадки во дворе дома, затем кредит на ремонт дома…
Кейко уже сбилась со счета, сколько они должны всем этим банкам. Вот если бы можно было продать в нейронное издательство одну из реконструкций, которые создавала Кейко, но конкуренция была чудовищной, да и с издателями Кейко уже успела испортить отношения, когда жила в Токио, пополняя ряды технологических нигилистов. Правда, тогда ее революционные, направленные против распространения синергиков нейронные модуляции пользовались куда большим спросом, чем то, что она делала сейчас.
За последние семь лет Кейко не продала ни одной реконструкции. Издательства брали их под реализацию, выбрасывали на рынок пробную партию и возвращали назад. Хироси не жаловался. Вначале был очарован фантазией супруги, очарован лучшей жизнью, которую обещали гонорары известных нейронных реконструкторов, затем, спустя несколько лет и череды отказов от издателей, пытался просто принять увлечение супруги. Фантазии о гонорарах померкли – получить хотя бы сотую долю от воображаемых сумм, чтобы покончить с этой вечной гонкой выплаты кредитов, когда каждый месяц не знаешь, что будет завтра, сможешь ли наскрести необходимую сумму. Но вместо глотка свежего воздуха подрос Юдзо, и пришлось брать еще больше кредитов, чтобы оплатить образование сына. Нет, Хироси никогда не жаловался, но глядя ему в глаза, Кейко видела в них что-то расколотое, треснутое. Сквозь эти бреши сквозила усталость. Когда еще до рождения Юдзо Кейко завела себе любовника, в глазах супруга не было этой усталости. Были злость, обида, страх потерять любимую женщину, но не усталость, не безнадежность. Именно безнадежность сейчас и раздражала Кейко больше всего. Он напоминал ей синергиков, которых так ненавидели технологические нигилисты.
Ничего личного, но машинам не место среди людей. Это разрушает природу человечества. Кейко верила в это даже сейчас. Верила, ухаживая за электронным псом, верила, сажая во дворе синтетические деревья, крупные кленовые листья которых становились желто-красными каждую осень, опадали. Юдзо и Хироси собирали их в охапки и сжигали во дворе за домом, когда погода была безветренной. Белый дым устремлялся в небо. Трехлапый пес лаял, бегая вокруг костра. Юдзо смеялся. Хироси радовался смеху сына. Кейко наблюдала за ними, вспоминая жизнь в Токио, и думала, что теперь, когда настанет весна, придется тратиться на средство для питания синтетических кленов – еще один кредит, чтобы появились листья, которые будут шуметь летом на ветру, а осенью снова отправятся в костер. И еще костры напоминали ей о последнем любовнике.
Есида не был таким, как Хироси – усталый и счастливый отец с кучей кредитов на шее и смеющимся сыном на плечах. Но не был он и как те мужчины, с которыми была знакома Кейко в Токио. Тогда они все пахли революцией, цитировали догмы партии технологических нигилистов, словно это были молитвы в мире технократии. Кейко считала, что синергикам не место в семье, в школе, считала, что ни одна машина не сможет научить человека чувствовать, мыслить. Она не сделает человека человеком. Она способна лишь научить человека, как стать машиной. Вот почему Кейко в свое время присоединилась к технологическим нигилистам. Но нигилизм в этой партии просматривался во всем. Нигилизм, который был чужд Кейко.
Ей нравился театр, нравились традиции и церемонии. Ни один мужчина из партии ТН не пошел бы с ней в театр, а если бы и пошел, то вынес бы мозг, выжег очарование своей желчью, когда увидел синергика в фойе, услужливо открывающего людям двери. К таким синергикам Кейко относилась как к нужным машинам. Уроженка Токио, она привыкла к технологиям. Но члены партии… Особенно не нравились Кейко приезжие. Они были грубыми, дикими. Но и среди местных членов ТН она не чувствовала себя уютно. Их нигилизм распространялся не только на технологии, но и на искусство, живопись – на все, что ценила Кейко. Почти на все. Нейронные реконструкции, которые делала для партии Кейко, им нравились. Эти модуляции становились шедеврами. О них говорили, их замечали. Тиражи были крупными, но распродавались практически всегда, если не считать случаев конфискации правительственными агентами. Но это лишь распаляло аппетит покупателей, и следующая партия расходилась уже за считаные дни.
Кейко никогда не пыталась подсчитать, сколько всего денег заработала для партии ТН, знала лишь, что этого хватило бы на десяток, а возможно, и на сотню домов как тот, где она жила сейчас. И никаких кредитов. Никакой усталости в глазах Хироси. Можно было бы родить Юдзо младшего брата или сестру, заранее оплатив обучение и первые годы содержания, когда они будут пытаться, покинув семью, строить свой собственный мир. Но все эти гонорары остались в прошлом. Сейчас либо прошлое оставляло ореол дурной славы вокруг Кейко, либо ее дивный светоч угас, но она не могла продать ни одной из своих реконструкций. И покорная усталость, бьющая из глаз Хироси, проникала и в ее собственные глаза и мысли. Не сразу, нет. Сначала Кейко бунтовала, злилась, искала компромиссы, рассматривала варианты, меняя стилистики и направления своих реконструкций. В те моменты она вспоминала своего последнего любовника в Токио – силовика, сотрудничавшего с партией ТН. Таких, как он, в народе называли технологическими инквизиторами.
Его имя было Эйдзи Гонда, и его подразделение силовиков отслеживало и забирало на переработку давших сбой синергиков. Члены ТН всегда радушно принимали технологических инквизиторов, но Кейко никогда не видела в них друзей и единомышленников. Это подразделение пугало ее. Оно представлялось прототипом недоброго будущего, где следом за синергиками, которые отходят от алгоритмов своих программ, пытаясь выражать чувства, силовики станут приходить за обычными людьми, вышедшими за рамки законов технократии. Уже сейчас они начинают говорить о бесполезности искусства. Пока еще это касается отдельных элементов, но список растет. «Потом они признают это неуместным и выпишут ряд запретов», – думала Кейко, представляя, как людей театра начнут арестовывать так же, как сейчас арестовывают свихнувшихся синергиков. Но что есть безумие? Кейко не жалела синергиков, но и не понимала, что плохого, если один из них, предназначенный учить детей музыке, начинает вдруг смотреть в сторону поэзии.
– Ты видела их поэзию? – спросил как-то раз Эйдзи Гонда. – Она бессмысленна!
– Ну, ты ведь не синергик. Ты не поймешь. К тому же возьми современное искусство. Разве его поймут люди прошлого? Может быть, то, что создают синергики, – это просто неизбежный прогресс? – сказала Кейко, после чего Гонда взял ее на одно из своих задержаний.
Демонстрация оказалась неубедительной. В крошечной квартире пожилой женщины синергик сидел на диване и смотрел вместе с хозяйкой нейронную трансляцию центрального канала. У самой старухи никогда бы не хватило денег, чтобы приобрести синергика, но будучи инвалидом, она получила помощника от муниципалитета. Женщина не могла ходить, и синергик ухаживал за ней. Его отправили на переработку только за то, что он пристрастился смотреть вместе со старухой нейронные трансляции.
– А вы не думали, что он просто пытается приспособиться к этой женщине? – спросила Кейко своего знакомого силовика.
– Слышали бы тебя сейчас члены твоей партии, – рассмеялся Гонда.
– И что? – хмуро спросила Кейко. – На мой взгляд, этот синергик всего лишь машина, созданная помогать человеку.
– Но вы же технологические нигилисты!
– Не знаю, что ты понимаешь под этим названием, но я выступаю не против синергиков. Я выступаю против самих принципов технократии. Это разные вещи.
– Продолжишь говорить так, и когда-нибудь силовики начнут приходить за членами твоей партии, – став серьезным, сказал Гонда.
– Вот против этого я и выступаю, – сказала Кейко.
Она не знала, почему они сблизились. Гонда не был красавцем, не был опытным любовником. Им не о чем было разговаривать в постели, когда заканчивалась близость. Гонда был совсем другим, почти антиподом всему, во что верила Кейко, но… именно это, наверное, и привлекло Кейко. Подсознательно она хотела все бросить, давно разочаровавшись в партии ТН, в их принципах и взглядах. Возможно, когда партия только зарождалась, ее лидерами действительно были люди, разглядевшие угрозу в самой технократии, но потом к власти в партии пришли тупицы и фанатики, кричащие о вреде прогресса, не понимая истоков этого вреда. И связь с технологическим инквизитором стала для Кейко частью ритуала, служившего началом новой жизни. Хватит с нее этих бессмысленных политических сцен и реконструкций. Она – художник, творец, но не политик. Если вспыхнет восстание и технократия начнет трещать по швам, то она с удовольствием вобьет последний гвоздь в крышку электрического гроба власти, станет одним из революционеров, но до тех пор, пока люди не поднимутся, не скинут с глаз пелену нейронных трансляций центральных каналов… До тех пор эта борьба не принадлежит ей.
Кейко встретилась напоследок с силовиком, провела ночь в его доме, оставив чемоданы в станции хранения, и покинула утром Токио, отправившись к родственникам в Хоккайдо.
Тетка жила на окраинах города Обихиро и совершенно ничего не знала о том, чем занималась Кейко в Токио. Да и не поняла бы она всей этой политической суеты. Она напоминала Кейко ту старуху, у которой Гонда реквизировал синергика, – старуха разговаривала с силовиками, продолжая увлеченно следить за нейронной трансляцией ток-шоу. Так же и тетка – ей можно было рассказывать часами о технократии, а она бы кивала и следила за любимой передачей. Такими же были и ее муж, и дети. Различались только передачи. Поэтому Кейко предпочла слепить историю о романе с женатым мужчиной, несправедливо обвинив во всем своего последнего любовника, который в действительности никогда не был женат. Да и не могла представить его Кейко женатым.
Технологический инквизитор жил шаблонами и базисами, большинство которых составил для себя сам, переписав существующие понятия так, чтобы они объясняли и оправдывали большинство его поступков. Даже в постели. Кейко не считала это странным – каждый по-своему был странным. Можно лишь найти кого-то со схожими странностями. Тогда все будет выглядеть нормальным. Хотя чужие странности иногда могут быть заразны. Хотела того или нет, но Кейко привыкла к своему силовику, научилась принимать его странности. Нечто подобное она испытывала и к новому дому.
После Токио все было каким-то блеклым, безжизненным, лишенным смысла. Тетка выждала два месяца и отчаянно начала сватать Кейко со своими знакомыми, уверяя, что каждый из них может оказаться «тем самым». «Почему бы тебе просто не сказать, что в твоем доме нет лишней комнаты, а за столом лишнего стула для меня?» – думала Кейко, хотя обиды в этих мыслях и не было. Тетка была чужим человеком. Да они и не общались-то никогда – лишь знали, что родственники. А муж тетки… Это уже был просто посторонний человек, прохожий, в дом которого она напросилась на постой. Поэтому Кейко и начала рассматривать предлагаемые кандидатуры тетки, претендующие на роль «того самого». Хироси в этом списке был третьим. Кейко не знала, почему ее выбор остановился на нем, – возможно, она что-то почувствовала к нему, возможно, просто устала выбирать. Тем более что все мужчины были похожи до неприличия, словно синергики, – меняются цвета синтетических волос, но мимика и повадки одни на всех. Вероятно, на выбор Кейко повлияла наступившая зима, отличавшаяся в Хоккайдо снегами и морозами от токийской зимы.
«Перемены, – думала Кейко. – Перемены – это то, что мне сейчас надо». Да и Хироси оказался на редкость сведущим в нейронных реконструкциях, ставших стержнем их отношений, фундаментом зарождавшейся семейной жизни. Кейко не говорила ему о своей работе на технологических нигилистов, не говорила об успехе своих реконструкций, но все остальное… Нет, не все, но большая часть… Да и не было ничего постыдного в ее жизни – Кейко поняла это благодаря Хироси, когда они стали жить вместе и все тайны, ее тайны, раскрылись как-то сами по себе. Но все это после – вначале они лишь разговаривали о нейронных реконструкциях и уходящем в прошлое искусстве театра. Потом ради того, чтобы доказать Хироси, что ее умения не пустые слова, Кейко сделала свою первую нейронную реконструкцию в Хоккайдо.
Это был яркий, приукрашенный слепок детской фантазии, о которой Кейко уже успела забыть, и если бы не Хироси, то никогда бы и не вспомнила. Хироси просмотрел реконструкцию и пришел в восторг. Свои первые десять-двадцать работ Кейко слепила исключительно для своего мужчины, и лишь потом, когда процесс захватил и очаровал, замазав, а возможно, и соскоблив со стен памяти работу на партию ТН, она взялась за настоящую работу, не особенно заботясь, понравится это Хироси или нет. Хироси понравилось больше, чем то, что Кейко создала специально ради него. Он поверил в ее талант. Он, казалось, всегда верил в ее талант. Без этой веры их жизнь была бы совсем другой, потому что когда они брали свой первый кредит на дом, то вера в талант Кейко убедила, что колоссальная для их доходов сумма кредита не будет ничего значить, как только Кейко продаст одну из своих реконструкций. Нужно лишь немного подождать, когда у нее будет достаточно работ, чтобы отправить их сразу в несколько нейронных издательств и в случае отказа одного не переживать коллапс надежд. Со вторым кредитом была схожая ситуация.
Они взяли его, чтобы приобрести свою первую машину. Нужен был и третий кредит, потому что купленный дом был старым и требовал ремонта, но Кейко решила, что гонораров хватит не только на ремонт, но и на новый дом. Гонораров за ее еще не отправленные нейронным издателям реконструкции. Нужно собраться с духом и сделать это, понимала она, но знакомые ей издательства находились в Токио, а мысли об этом городе рождали какое-то неприятное чувство, словно жизнь с Хироси была лишь сном, который закончится, как только Кейко получит свой первый гонорар.
Грань реальности и вымысла стала зыбкой. С одной стороны были кредиты, долги, необходимость ремонта, с другой… С другой появился Есида – возможно, лучший любовник, которого когда-либо встречала Кейко. Лучший не потому, что он разбирался в сексе, а потому, что все его странности были такими же, как и у нее. К тому же с Есидой Кейко чувствовала, что может начать все сначала, повторить все то хорошее, что было у нее с Хироси, но уже осталось в прошлом, потому что Хироси двигался дальше, вперед. А двигаться вперед было страшно. Токио пугал и манил Кейко. Но она не хотела возвращаться в этот город. Не хотела, но знала, что вернется, как только нейронные издательства примут ее реконструкции. Она покинет Хоккайдо и потянет за собой Хироси, но, как только Обихиро останется за плечами, все изменится. Она изменится. А меняться Кейко не хотела. Хироси хотел, а она – нет. Поэтому и появился Есида – человек, с которым можно было прожить заново все, что у нее было с Хироси. Есида не возражал. Он и сам, кажется, хотел прожить заново часть своей жизни.
О его женщине они почти не разговаривали. Она представлялась Кейко серой и безликой. «А может быть, он видит и меня такой же серой и безликой?» – подумала она однажды, и мысль эта засела в голове, не давая покоя. Да, с Хироси она была личностью, нейронным реконструктором, а кем она была с Есидой? Наверное, именно поэтому они и расстались. Нет, конечно, причины были придуманы совершенно другие, но в базе лежал именно страх превратиться в серую и безликую мышь. Тогда же Кейко решила, что пришло время завести ребенка. Она сама обратилась в местную технократию и получила родовой сертификат, затем пришла к Хироси и сказала, что пришло время двигаться дальше.
– Если, конечно, ты простишь меня, – сказала она.
Хироси простил. Спустя четыре месяца они взяли еще один кредит и купили электронного пса. Хироси хотел купить синергика, тем более что банк давал беспроцентный кредит, но это показалось Кейко слишком дорогим приобретением. Да и не хотела она синергика. Мыть посуду и стирать белье она может и сама. К тому же для этих целей есть и менее дорогие машины. Да и о собаке Хироси мечтал, казалось, не меньше, чем о ребенке. Мечтал, конечно, о живой, но живая стоила дороже, чем вся их жизнь. Во всем городе было две живых собаки. Деревья – и те в основном росли искусственные.
«Мир умирает, – подумала Кейко. – Весь мир умирает. Лишь люди продолжают плодиться. И чем больше становится нас, тем меньше остается места миру».
Эти мысли несли опустошение. И в этом опустошении, глядя на все свои созданные реконструкции, Кейко поняла, что это совсем не то, чего она хочет, это лишь тени, призраки ее настоящих чувств и мыслей. Даже в партии технологических нигилистов она была ближе к своей сути, чем сейчас. И если это понимает она, то поймут и нейронные издательства. Гонораров не будет. Ничего не будет. Лишь разочарование. Нужно сделать что-то свежее, новое и настоящее…
Последовавшие за рождением ребенка три года Кейко посвятила созданию новых нейронных реконструкций, отказавшись ото всех, что создала прежде, включая успешные работы для партии ТН. Теперь Кейко не думала о гонорарах, не думала о Токио, не думала о Хироси, устроившемся на вторую работу, чтобы справиться с выплатами кредитов, ставшими особенно ощутимыми после того, как пришлось снова обращаться в банк, чтобы отремонтировать старый дом и наконец-то сделать сыну нормальную детскую.
Кейко была очарована своими идеями, рисуя в нейронных реконструкциях человека как часть природы, часть мира, где нет места машинам, ненужным технологиям и псевдопрогрессу, о котором кричали технократы. В ее понимании машины, находившиеся под контролем людей, уничтожали мир, планируя в конечном счете уничтожить человечество. Кейко не думала о гонорарах – она готова была отдать права на издание бесплатно, лишь бы эти идеи жили. Вот только нейронные издательства не готовы были принять это. Идея была слишком свежей и слишком старой одновременно. Кейко критиковали за громоздкость нейронных реконструкций, за тяжесть от использования этих программ. Никто не отрицал ее талант, они лишь хотели, чтобы она изменила ход своих мыслей. Так было вначале. Потом издатели устали делать авансы, и на Кейко обрушилась критика, на горизонте замаячил новый кредит, который придется взять, чтобы оплатить образование сына, а в глазах Хироси появились первые проблески усталости.
Если бы Кейко умела делать что-то еще, кроме нейронных реконструкций, то она бы делала, но она не умела. Поэтому оставались лишь издатели. Так на свет появились первые реконструкции, которые пришлись им по вкусу, – Кейко не изменила себе, она просто стала больше мечтать, вычеркнув из реконструкций реализм, но оставив надежды о возрождении искусства, природы и животного мира. Нейронные издатели приняли реконструкции для пробного издания, но критики тут же пустили их ко дну, обвинив автора в утопических взглядах и отсутствии реализма. Кейко приняла замечания и попыталась подстроиться.
Когда Юдзо пошел в школу, она еще продолжала свои попытки. Видела усталость в глазах Хироси, но продолжала, хотя и понимала, что нейронные издатели уже поставили на ней крест. Кейко работала спешно и хаотично. Заканчивала одно и тут же начинала другое, понимая, что реконструкция не удалась. Идей было много, и Кейко хотела реализовать все, а потом… Потом начнется что-то новое. Еще один этап жизни.
В день, когда Кейко впервые увидела странную механическую ворону, она работала над очередной своей «последней» реконструкцией. Это начинало раздражать – стоило ей только уверовать, что идей больше нет, что нейронная модуляция станет действительно последней, подобраться к концу и получить очередной отказ и порцию критики (хотя критики в последние годы почти не было – работы Кейко перестали просто-напросто замечать), как в голове тут же появлялась новая идея. Идея приходила во снах, в случайно подслушанных разговорах на улице…
Странная ворона тоже была идеей. Правда, в ту ночь, когда Кейко увидела ее впервые, это еще не было идеей – так, всего лишь очередной механический клон. Но потом Кейко увидела ворону снова. Это случилось на следующий день. Электронная птица сидела на ветке синтетического дуба и недовольно клевала его кору, словно раскусила подделку.
«Машина раскусила машину», – хмыкнула Кейко.
Ворона недовольно каркнула, расправила крылья и, сорвавшись с ветки, полетела прочь. Ее движения не были механическими. Кейко проследила за ней взглядом. Ворона превратилась в черную точку, растворилась в небе, но Кейко увидела ее снова в этот же вечер. Ворона сидела на дереве возле дома тетки. Кейко заметила ее и забыла, зачем пришла в дом родственников. Ворона была настоящей. Кейко поняла это так внезапно, что у нее перехватило дыхание. В понимании не было логики – только чувства. Как любовь, как вид материка для потерпевших кораблекрушение, которые уже потеряли надежду спастись.
Кейко смотрела на птицу и пыталась вспомнить, сколько всего живых ворон осталось в мире. Дюжина? Чуть больше? Да и те все в зоопарках… Ворона увидела, что Кейко смотрит на нее, отвечала несколько секунд на взгляд человека, затем каркнула и улетела. Это было чудо. Настоящее чудо. И сердце билось так сильно… Кейко подумала, что сейчас не время, чтобы встречаться с теткой. Она должна сохранить в себе эти восторженные чувства, должна придумать, как передать их в нейронной реконструкции.
Кейко бродила по улицам города до позднего вечера, не желая, чтобы муж или сын отвлекли ее. Весь мир казался нереальным, обесцвеченным, обезжизненным. Особенно усилили это чувство наступившие сумерки. Кейко не заметила, как вышла на улицу, ведущую к ее дому. В окнах горел свет. Она заставила себя успокоиться, вернуться в лоно семьи, поужинать, уложить сына спать. Хотелось рассказать о вороне Хироси, но в последний год в его глазах было слишком много усталости, и каждый раз, начиная с ним разговор об очередной идее реконструкции, Кейко чувствовала, как эта усталость заполняет и ее. Поэтому Кейко молчала.
Хироси считал, что она повзрослела, а Кейко думала, что если бы сейчас время повернуло вспять и Есида дал ей шанс повторить все, то она бы не сомневаясь сделала это… Вот только как быть с Юдзо? Кейко была готова стереть часть своей жизни, а вместе с ней и череду неудач, но вот от сына она не могла отказаться…
Кейко буквально почувствовала, как усталость Хироси заполняет ее. Усталость и неизбежность, необратимость, невозможность… И это убивало очарование, которое заставляло оживать. Кейко вымучила улыбку и позвала Хироси в кровать. Странно, но секс все еще вдохновлял его. Секс с Кейко. Ее нейронные реконструкции уже нет, а вот секс – да. «Пройдет время, и грусть проберется и в нашу спальню», – понимала Кейко, но пока это лекарство работало, она была готова поить мужа микстурой близости сколько угодно. Лишь бы не видеть этот усталый взгляд…
Когда Хироси уснул, Кейко выскользнула из кровати и долго сидела в гостиной, не включая свет, планируя детали предстоящей нейронной реконструкции. Своей последней реконструкции. По-настоящему последней.
Она не заметила, как наступил рассвет – молочный, трепетный, зыбкий. Кейко вышла на крыльцо. Ворона на искусственном клене каркнула, расправила крылья и недовольно полетела прочь. Осталось лишь гнездо. Кейко завороженно смотрело на него, не понимая, где ворона нашла столько проволоки, чтобы соорудить каркас.
«Жаль только, в этом гнезде никогда не будет птенцов, – подумала Кейко. – Или же будут?»
Надежда была странной и неуместной, но разве не было надежды, когда Кейко начинала новую нейронную реконструкцию? Что если у них во дворе действительно началась жизнь? Настоящая жизнь.
«Вот это будет история!» – подумала Кейко и начала карабкаться на искусственный клен.
Принесенной лестницы не хватило, чтобы дотянуться до нужной развилки, поэтому Кейко пришлось перебраться на дерево. Искусственные ветви не внушали доверия. Кейко вспотела, разнервничалась. Сучья хрустнули под ногами. Или это она просто содрала с них подошвой искусственную кору? Кейко поднялась чуть выше, вытянулась, вставая на цыпочки, заглянула в гнездо и обомлела, увидев крошечных птенцов. Они заметили чужака и тревожно загалдели. Кейко услышала за спиной тяжелые хлопки крыльев.
Ворона возвращалась. Ворона готова была сражаться, чтобы защитить свое потомство. Кейко спешно начала спускаться. Нога соскользнула с синтетической коры. Кейко вцепилась руками в сук, на развилке которого находилось гнездо. Дерево затрещало, рождая неестественный звук крошащейся пластмассы. Кейко вскрикнула, испугавшись не то напавшей на нее вороны, не то предстоящего падения, в последний раз попыталась найти под ногами опору и полетела вниз, преследуемая разгневанной вороной.
Удар о газон был не таким сильным, как ожидала Кейко, когда смотрела сверху на землю. Гнездо и отломанный сук искусственного дерева упали рядом. Крик птенцов стих. Разгневанная ворона каркала, кружа над деревом, но Кейко уже не слышала ее – смотрела на перевернутое гнездо и не могла даже дышать.
«Я убила птенцов, – думала она. – Они так громко кричали, а я убила их».
Провода и силиконовые трубки тянулись от сломанной ветви дерева к стволу. Питание должно было отключиться, но вместо этого череда коротких замыканий снова и снова выбивала снопы искр. Эти вспышки пугали ворону, не позволяя спуститься к гнезду. Какое-то время она еще кружила в небе, затем смолкла и, тяжело хлопая крыльями, полетела прочь. Кейко осталась одна.
«Нужно подняться и убрать здесь все, пока не проснулся Юдзо», – понимала она, но не могла заставить себя перевернуть гнездо и увидеть мертвых птенцов. Мысли онемели. Тело онемело. Весь мир, казалось, онемел… Кейко заставила себя подняться. Замкнувшие провода сломанной ветви выбили еще один сноп искр. Из разорванной трубки вытекала густая, темная слизь, которая капала на гнездо. Кейко заметила пучок проводов, подходивших к гнезду.
– Что это? – растерялась она, подаваясь вперед.
Гнездо было подделкой. Кейко перевернула его. Раздавленные птенцы оказались подделкой. Даже тот, что не смог вылупиться из яйца, – от падения скорлупа разбилась, явив на свет перья, слизь и микросхемы. «Но ведь они были такими настоящими!» – подумала Кейко. Никогда прежде она не видела таких качественных машин. Да никто, наверное, не видел. Кейко прошла в дом и разбудила Хироси. Он отключил питание синтетического дерева и помог ей прибраться во дворе. Их трехлапый электронный пес выбрался из конуры и молча наблюдал за хозяевами.
– Знаешь, эти птенцы были такими настоящими, – сказала Кейко своему мужу. – И ворона…
Он срезал провода, поднял отломанный сук испорченного дерева и уставился на жену, ожидая продолжения.
– Я просто подумала… – она представила синергиков, которые так же похожи на людей. – Что если они начнут делать таких людей?
– Людей? – Хироси растерянно хлопнул глазами.
Кейко смутилась и пожала плечами. Нужно было подумать, а лучше немного поработать. Создать нейронную реконструкцию. Попытаться передать очарование и страх, рождение и смерть… «А что если вороны в зоопарках тоже ненастоящие?» – подумала Кейко.
Хироси позавтракал, уехал на работу, подбросив сына до школы. «Забыться. Уйти с головой в работу», – сказала себе Кейко. Электрический трехлапый пес во дворе залаял. Кейко вышла из дома. Ворона кружила над изуродованным деревом, ища свое гнездо – такая настоящая, такая живая, но… «Всего лишь подделка», – подумала Кейко. Ворона жалобно каркнула, уселась на синтетический клен и уставилась на трехлапого пса, словно это он был виноват в случившемся. Пес тявкнул пару раз, заскулил и полез обратно в конуру. Мир показался слишком реальным, чтобы оказаться настоящим. Как ворона, сидевшая на дереве. Кейко верила в ее реальность, верила, что убила птенцов, а потом… Потом все это оказалось подделкой. Что еще может оказаться поддельным? Дом? Соседи? Семья? Воспоминания?
Кейко подняла руку, разглядывая свою ладонь. Откуда здесь столько шрамов? Нет, конечно, она помнила, откуда все эти шрамы, но… В Токио она слышала о тек-инженерах, торгующих поддельными воспоминаниями для синергиков. Прошивка стоит недорого. Вы можете взять в кредит машину-уборщика, а превратить ее… Превратить синергика можно было во что угодно.
– А человека? – спросила тогда Кейко.
– Человеку начали менять личность раньше, чем появились синергики, – сказал тек-инженер.
Они долго разговаривали о коррекционных тюрьмах и промывке мозгов силовикам, потом занялись сексом. Кейко думала, что занялись сексом. Потом тек-инженер отключил нейронный модулятор. Иллюзия рухнула. Все это было у нее в голове. Весь этот разговор.
– Поэтому силовики и не могут добраться до меня, – сказал тек-инженер. – Думают, что добрались, а потом… Бах! И меня уже нет.
– Зачем ты проделал это со мной?
– Ты хотела узнать. А иногда лучше один раз увидеть, чем…
Сейчас Кейко вспомнила этот разговор так, как будто он произошел пару дней назад. Странно, но за последние годы она не знала, что существует тек-мастер, не помнила, словно кто-то блокировал эту часть жизни. «До чего же зыбким стал мир, – подумала Кейко. – Поддельные гнезда, поддельные птицы, поддельные воспоминания». Еще она подумала, что вся ее жизнь в Токио могла быть подделкой. Весь Токио мог быть подделкой. Весь мир. Все это может оказаться очередным циклом исправления в коррекционной тюрьме.
Они говорят, что дают тебе шанс исправиться, измениться, но в действительности хотят, чтобы ты стал похожим на них, соответствовал их представлениям. Как синергик, начавший смотреть вместе с хозяйкой нейронные трансляции. Никто, создавая его, не планировал, что он это сделает. Но если он это сделал, то значит, у него в биоэлектронных мозгах произошел сбой. За ним пришли технологические инквизиторы. Когда-то давно эти же инквизиторы приходили за людьми, мышление которых не вписывалось в понимание церковных инквизиторов мира. Только тогда это была фанатичная религия, сейчас – фанатичная технократия. Раньше Кейко всегда думала, что когда-нибудь технократы устанут от всех своих противников, выпишут один общий ордер и бросят их в коррекционную тюрьму. Сейчас ей показалось, что эти мысли стали реальностью. «И что теперь? – подумала она. – Сколько циклов нам дадут на исправление?»
Ворона на дереве каркнула, расправила крылья и неожиданно исчезла. Следом за вороной исчезло дерево, на котором она сидела, конура с трехлапым псом. Мир обесцветился, его четкость смазалась. Нечто подобное происходило и в голове. Кейко чувствовала, как мысли и воспоминания бегут назад, стираются. Юдзо, Хироси, Есида – все эти люди перестали существовать для нее. Хоккайдо остался, но она никогда не приезжала сюда. Никогда не покидала Токио. Да. Токио был реальным. Но система решила, что пришло время стереть и эти воспоминания. Коэффициент возможной коррекции достиг критического уровня. Кейко громко рассмеялась. Успела рассмеяться, все еще оставаясь Кейко. Ничего другого ей не пришло в голову. Просто смех личности, которую стирают. Последний смех.
Глава четвертая. Нейронный доктор
На кухне душно и постоянно пахнет чем-то горелым. То убежит синтетическое молоко для младшего, еще грудного ребенка, то пригорит какое-то странное блюдо, которое сестра готовит для старшего сына – мальчика двенадцати лет. Дом Синдзи Накамура большой, но после того, как здесь появилась Мэрико со своими детьми, свободных комнат нет. Шесть мальчиков носятся по дому, съедая личное пространство. Даже комната дочери доктора Накамуры, которая всегда была такой чистой, такой пунктуальной, перевернута вверх дном, и Юмико бесится вместе с детьми сестры. Шесть мужей. Шесть родовых сертификатов. Не то Мэрико так сильно любит детей, не то у нее просто зависимость менять каждый год мужа.
Технократы выдают сертификат на рождение ребенка каждой молодой семье, не задавая вопросов. Вот чтобы родить второго, необходимо уже предоставить кипу бумаг и убедить комиссию, что вам это действительно нужно. Но если сменить супруга, никаких вопросов не будет. Семья снова станет молодой. С первой женой у доктора Накамуры так и не получилось достать второй сертификат на ребенка. Ребенок был необходим им, чтобы сохранить брак. Отказ технократов вбил последний гвоздь в крышку гроба их отношений. Жена ушла, забрав сына. Доктор Накамура остался один. Мысль вступить в суррогатный брак, чтобы получить ребенка, которого женщина оставит ему после развода, появилась у него еще в Токио, но реализовать ее он смог, лишь когда начал работать в коррекционной тюрьме «Тиктоника». Нет, его социальный статус не вырос, зарплата не взлетела к небесам, но… Но у него появился новый друг – начальник тюрьмы Раф Вэдимас.
– Ты правда можешь это сделать? – недоверчиво спросил доктор Накамура.
– Услуга за услугу, – сказал начальник тюрьмы.
Он сам нашел молодую девушку, сам подготовил документы на суррогатный брак. В какой-то момент Накамура подумал, что Вэдимас будет стоять возле их брачного ложа и ждать, когда они сделают свое дело, чтобы подтвердить консумацию брака, необходимую для технократов, которые выдадут после этого родовой сертификат. Но Вэдимас просто дал ему визитку знакомого доктора в токийском центре оплодотворения и подписал документы на оплачиваемый отпуск, чтобы Накамура смог отправиться в столицу, где ему предстояло встретиться с женщиной, официально считавшейся его женой.
– А вдруг она мне не понравится? – спросил Накамура начальника «Тиктоники».
Вэдимас смерил его раздраженным взглядом.
– Ты хочешь ребенка или женщину? – спросил он, и доктор подумал, что если сейчас скажет «женщину», то его новый друг устроит и это, потребовав взамен еще одну услугу.
«Какую услугу? – думал Накамура, отправляясь в Токио. – У меня нет больших денег, чтобы с ним расплатиться, нет влиятельных друзей. Ничего нет, что может заинтересовать Рафа Вэдимаса». Накамура ошибался. Он не учитывал, что у него теперь есть новая работа – вот что интересовало начальника «Тиктоники», но об этом доктор узнал позже. Сначала была поездка в Токио, суррогатная жена, клиника искусственного оплодотворения…
Процедура показалась Накамуре крайне унизительной и мерзкой в своей природе. Тесная комната, нейронные журналы на столе с обнаженными женщинами и мужчинами – выбирай что хочешь… И еще этот белый пластиковый стаканчик! Накамура отказался от журналов и предпочел думать о детях, но так наполнить медицинский стаканчик оказалось еще сложнее. Накамура пыхтел почти час, а после того, как в дверь постучалась медсестра и поинтересовалась, все ли у него в порядке, решил, что придется все-таки воспользоваться одним из журналов.
Свою жену к тому моменту он так и не видел. Не было даже фотографии – лишь заверение Вэдимаса, что девушка молодая, здоровая и, что немаловажно, японка. Вместо фотографии он предоставил Накамуре медицинскую справку девушки. Так что доктор знал о своей жене все детали касательно группы крови, состояния внутренних органов, ДНК… Знал рост, вес, цвет глаз, объем груди. Знал историю всех болезней, от которых она лечилась. Знал о прививках. Видел отчет дантиста. В справке о состоявшемся заочно бракосочетании сообщалось, что ее зовут Шика Сакаи. Ей двадцать три года. Информации о ближайших родственниках не было.
Накамура согласился встретиться с ней в клинике оплодотворения, но там все прошло еще быстрее, чем сам заочный брак. Если бы Накамура сразу взялся за нейронные порножурналы, то визит занял бы у него не больше четверти часа. Все анонимно. Все завуалировано уважением. Медсестры – и те не поднимали глаз, отчего Накамура после порножурналов чувствовал себя еще более отвратительно. Но именно в этой клинике он и увидел свою суррогатную жену.
Она появилась специально перед тем, как ему нужно было уходить. Двери лифта открылись. Девушка не была красавицей, но и не была уродиной. Что-то среднее, и от этого какое-то домашнее и желанное. Накамура хотел поговорить с ней, но она лишь устало улыбнулась и покачала головой. От нее пахло сандалом – Накамура смотрел, как девушка уходит, скрывается за дверью в кабинет доктора, и жадно вдыхал ее аромат. Он был очарован. И неважно, сколько раз эта девушка уже становилась суррогатной женой – строка о детях в медицинской справке, которую передал ему Вэдимас, была удалена, – Накамура хотел быть с ней. Пусть и один раз. Пусть больше он ее никогда не увидит. Но знать, что мать ребенка была его. Знать, что он смотрел ей в глаза. Рассказывать своему ребенку, когда он вырастет, какой она была. А не пыхтеть над белым медицинским стаканчиком. Об этом и ребенку-то не расскажешь.
Накамура остановился в отеле недалеко от клиники оплодотворения. Врач сказал, что результат будет известен через две недели. До тех пор нужно ждать. По дороге в отель Накамура видел ряд пестрых нейронных реклам борделей синергиков, курируемых кланом Гокудо, гарантируя лучший товар с синими, зелеными и красными волосами. Манекены с раскрашенными, как у куклы-супергероя, лицами. Накамура не хотел думать об этом, но после унижения в тесной комнате, после порножурналов и мимолетного взгляда на пахнувшую сандалом жену… Накамура нашел в справочнике сетевой адрес одного из борделей и спросил, могут ли они прислать синергика в его номер. Улыбчивая девушка приняла заказ и уточнила адрес.
– Только пусть у синергика будут волосы нормального цвета, – сказал Накамура.
– Черные? – спросила девушка.
Накамура кивнул. Продолжая улыбаться, девушка извинилась, объяснив, что использование волос естественного цвета запрещено законом.
– Есть синие, красные, зеленые… – начала перечислять она, но Накамура нетерпеливо прервал ее, аннулировав заказ.
Девушка улыбнулась шире, пожелала хорошего дня и прервала связь. Чувство неполноценности после пыхтения над белым медицинским стаканом в тесной комнате усилилось. Надеясь отвлечься, Накамура отправился в парк «Уэно».
Терминал кладбища «Янака» был практически пуст. Обычно, чтобы посетить родителей, Накамура записывался на определенное время, но сегодня ему везло. Из трех десятков альковных арок заняты были только девять. Администратор на входе поклонился и спросил номер заявки, узнал, что Накамура пришел наудачу, и снова поклонился. Накамура вернул поклон и прошел к свободному алькову.
Терминал принял запрос. Механизмы доставили из архива алтарь с крошечным надгробием и прахом усопших родителей. Накамура смотрел на алтарь и не мог выкинуть из памяти историю о том, как зарубежная компания открыла частное кладбище, где в терминалах вместо праха усопших хранились запрещенные нейронные наркотики. Кладбище действовало чуть больше года, завершив свое существование вместе с организаторами, когда тайная деятельность была раскрыта. За каждым, кто принимал участие в афере, пришли якудзы клана Гокудо. Не смогли избежать расправы даже главные учредители, бежавшие из страны. Клан достал их в течение двух недель. Силовики спустили дело на тормозах, хотя кровавые сцены расправы еще долго пестрели в нейронных новостных выпусках.
Накамура вспомнил пестрые рекламы борделей клана Гокудо. Думать рядом с прахом родителей о том, чтобы воспользоваться одним из синергиков, казалось неправильным, но разве не за этим он пришел сюда – рассказать о своей жизни, о своих радостях и печалях? Накамура закрыл глаза, невольно сравнивая изуродованные тела учредителей наркотерминала, которые оставил клан Гокудо, и синергиков из их борделей. Нет, убийства выглядели оправданным наказанием, а синергики… Лучше было воспользоваться их услугами, чем соблазнять порядочную женщину, чтобы провести с ней ночь, а утром сбежать. О том, чтобы найти себе проститутку, Накамура не думал. Проститутка была еще хуже, чем белый медицинский стаканчик и нейронные порножурналы.
Накамура вернулся в отель и снова связался с борделем клана Гокудо. Ему ответила та же улыбчивая девушка, что и прежде. Она приняла заказ, уточнив предпочтения.
– Нет, ничего особенного… – смутился Накамура. – Если только…
– Да? – терпеливо спросила девушка.
– Пусть будет запах сандала, – попросил Накамура.
Но ни сандал, ни специфические навыки синергика не смогли оживить его страсть в эту ночь. Разум и тело, казалось, определили границу и устроили свою крошечную гражданскую войну. Накамура видел сцены расправы над иностранцами, использовавшими кладбищенский терминал для торговли нейронными наркотиками, видел свою суррогатную жену, видел рекламу публичных домов и рождение детей, один из которых должен стать его дочерью или сыном. Все это мелькало перед глазами, терзая сознание, в то время как синергик терзал тело.
Потеряв терпение, Накамура отослал синергика прочь. Он долго ворочался, пытаясь заснуть в пропахшей сандаловым маслом кровати, а когда сон начал подбираться к нему, нейронная сеть сообщила о вызове, высветив улыбчивую девушку из борделя. Она принесла извинения за неудачу синергика и предложила вернуть произведенную оплату услуг. Накамура отказался потому, что потерпел фиаско. Он подумал о том, что если его суррогатная жена не забеременеет с первого раза, то он разорвет и этот договор. Хватит с него неудач и осечек. Но здесь осечки не было. Суррогатная жена забеременела.
Накамура встретился с ней еще раз, подписав обязательства содержания на время беременности и оплаты реабилитационных месячных курсов после. Разговор продлился четверть часа, и Накамура в конце наивно предложил суррогатной жене перебраться на время беременности к нему.
– Это просто работа, – сказала она без тени смущения.
Накамура кивнул. Эта официальность убила смущение и в нем. Закончив с формальностями, он еще раз навестил терминал «Янака» и покинул Токио.
– Ну, как все прошло? – спросил Раф Вэдимас, когда доктор Накамура вышел на работу.
Вопрос заставил вспомнить о тесной комнате и белом пластиковом стаканчике. Накамура решил, что виной всему не бестактность начальника «Тиктоники», а его незнание тонкостей языка и культуры. «С иностранцами всегда так», – сказал себе доктор, следом за клиникой в Токио вспоминая расправу якудзы над иностранными учредителями поддельного кладбищенского терминала. «Настоящий японец никогда бы не сделал это», – подумал Накамура одновременно и о терминале кладбища, и о вопросе Вэдимаса.
– Теперь я твой должник, – сказал доктор, ожидая, что начальник «Тиктоники» сообщит о том, что ему нужно, но Вэдимас лишь сдержанно поклонился.
Поклон показался Накамуре неуместным и фальшивым. Если бы не Международная конвенция технократии, решившая, что коррекционные тюрьмы должны быть вне страны, то директором «Тиктоники» был бы японец, а так приходилось мириться с тридцатью процентами иностранного персонала. Накамура подумал, что ему было бы проще, будь Вэдимас его соотечественником, но затем спросил себя: помог бы ему соотечественник найти суррогатную жену? А если нет, то смог бы он сделать это сам? Да и нужно ли было это делать?
Накамура сомневался вплоть до дня, пока не получил от суррогатной жены своего ребенка. Девочка.
– Я не дала ей имя, – сказала суррогатная жена, вручая ему ребенка.
Накамура снова предложил ей остаться. Вместо ответа она протянула ему бумаги о разводе и отказ со своей стороны от претензий на ребенка. Материнских чувств к ребенку Накамура не заметил. Это была просто работа. «Хорошо еще, она пришла ко мне домой, а не передала девочку где-нибудь в токийском метро», – подумал он, уложил ребенка в приготовленную кровать, подписал документы и проводил бывшую суррогатную жену до выхода.
Больше они никогда не встречались. В память о ней у Накамуры остался лишь медицинский отчет на имя Шики Сакаи да, собственно, ее ребенок, девочка, которую он назвал Юмико… Ну, и еще долг Вэдимасу. Обещанное одолжение, о котором начальник «Тиктоники» вспомнил сразу, как только Накамура получил свою дочь. Теперь пути назад быть не могло. И Раф Вэдимас вцепился в него, как собака на бегах в резинового кролика, хотя Вэдимас вообще-то больше походил на бультерьера. Невысокий и коренастый. Он пригласил Накамуру к себе, но вместо беседы в кабинете отвел врача в сердце коррекционного центра – место, где содержалось большинство заключенных. Подключенные к системе, они не двигались, не жили, но и не были мертвы. Им не требовалась охрана – система не выпустит их сознание, а все эти тела – это лишь оболочки, плоть, груды мяса и костей, не больше. Тюрьма была безопасной и тихой. Капсулы с заключенными не охранялись. Модуляции проектировали проходившие коррекционные циклы. Коэффициенты исправления разнились. У одних они колебались в желтой зоне, у других ползли к зеленой, а у третьих пестрели предупредительным красным. Именно об этих заключенных и хотел поговорить начальник тюрьмы с доктором Накамурой. Очень скоро система поставит на них крест, сотрет личность и неловко соберет что-то приемлемое для общества. Вернее, система лишь сотрет личность, собирать придется доктору Накамуре, лепить новую личность, заливая в мозг принятые законом базисы поведения.
– На мой взгляд, это уже не люди, – сказал Раф Вэдимас, остановившись возле капсулы, над которой проектировался процесс удаления личности.
Сейчас система уничтожала самые свежие воспоминания – неспешно, неторопливо, мучала свою жертву, словно психопат, который вместо того, чтобы перерезать глотку, предпочитает разделывать жертву по частям, сохраняя ей до последнего мгновения жизнь, оставляя ее в сознании.
– Скажи мне, – начальник тюрьмы заглянул в черные глаза доктора Накамуры, – что ты чувствуешь, когда собираешь их личности заново? Каково это – играть в Бога?
– Я не играю в Бога, – сказал Накамура, чувствуя, как разговор становится слизким, вызывая неприязнь. – Процесс бесконтролен. Базисы установлены законом. Я только заливаю их в голову сосуда… – доктор запнулся.
Ему не нравилось называть заключенных, которым стерли личность, сосудами, но это было лучше, чем «оболочка», или «тело», или «приемник» – именно так назывались заключенные в официальных документах. «Уж лучше сосуд», – решил Накамура, когда впервые оказался в «Тиктонике» и услышал этот термин от персонала. Начальник тюрьмы обычно называл таких людей «жмуриками». Это название не нравилось Накамуре еще сильнее, чем «приемник». Начальник тюрьмы словно подчеркивал бесполезность этих программ и работу медицинского персонала. Но ведь люди после процедуры коррекции жили. Накамура читал о том, что некоторые из них создают семьи, становятся полноценными членами общества. Разве «жмурики» или «зомби» – так Вэдимас тоже иногда называл их – могут завести семью?
Несколько раз Накамура пытался высказаться по этому поводу, заставить Вэдимаса проявить хотя бы толику уважения к прошедшим корректировку людям. Он принес выпуск нейронного журнала, где рассказывалось о «жмурике», который стал отцом. Начальник тюрьмы не взглянул на статью. Он выбросил журнал в урну и громко, устало рассмеялся.
– Ты слишком много читаешь, доктор, – сказал он Накамуре. – Если хочешь узнать, как живут жмурики на самом деле, то найди одного из них и посмотри сам. Это ад. Биологический элемент социума. Они питаются, гадят и делают то, что им говорят. Представь себе младенца с телом взрослого, которому в голову залили способность разговаривать и подчиняться. И не смей говорить, что базисы содержат достаточно информации, чтобы сформировать зрелую личность. Зрелая личность получается лишь на бумаге. В действительности это овощ, синергик…
Сейчас, сделав Накамуру своим должником, Раф Вэдимас вел доктора вдоль капсул с заключенными и снова говорил о «жмуриках». Только теперь в этих разговорах было что-то еще – Накамура чувствовал эту слизкую, недобрую субстанцию, заложенную в слова начальника тюрьмы подтекстом. А потом еще Вэдимас достал из кармана искрящуюся внутри капсулу проекта «Население-2» и начал беспечно подбрасывать ее в воздух.
– Знаете, что это такое, доктор? – спросил он, заглядывая Накамуре в глаза.
Накамура знал. Он и сам, перед тем как получил приглашение в «Тиктонику», чуть не стал членом проекта «Население-2», обещавшее людям второй шанс, воскрешение. Их сознание извлекалось из тела и помещалось в капсулу, подключенную к системе. Проект замышлялся изначально как память и утешение для родственников – теперь они могли получить не только прах тела умершего, но и осколки его разума. Первые капсулы были автономны. Они работали почти год, затем гасли, развеивая остатки сохраненного сознания. Закон запрещал извлекать сознание у живых, поэтому процедура проводилась над телом мертвеца. Никто не знал точно, какой процент сознания попадает в капсулу, да и попадает ли вообще. Но родственники готовы были платить за надежду. Поэтому проект развивался. Привлекались более квалифицированные ученые. Проект взрослел.
Планировалось объединить извлекаемые сознания в нейронную сеть, к которой мог бы подключиться живой человек и встретиться с усопшим родственником. Процедура извлечения сознания стала более качественной. Капсулы усовершенствовали. Теперь они были подключены к системе, способной поддерживать их стабильность долгие годы. Оставалось лишь доказать, что извлеченное сознание не разрушено смертью – вот в это Накамура и не верил. Проект был зародышем, но его пытались превратить в зрелую панацею, способную спасти от смерти. «Как бы не так!»
– Зачем нам эта капсула? – спросил Накамура начальника тюрьмы, чувствуя недоброе.
Раф Вэдимас поднял капсулу, зажав между указательным и большим пальцами. Синий свет внутри капсулы был ярким.
Получив предложение присоединиться к проекту «Население-2», Накамура долго изучал документацию. Он всегда считал, что свет капсул – это всего лишь рекламный ход, но, изучив конструкцию капсулы, с удивлением отметил, что искрящаяся субстанция внутри неизбежна. Можно было лишь скрыть это, сделав оболочку капсулы непрозрачной. Да, оболочка была рекламным ходом, но все остальное…
Сейчас, когда Раф Вэдимас разглядывал этот искрящийся свет внутри капсулы, его глаза казались неестественного василькового цвета.
– Это не мертвец, – сказал он, продолжая изучать искрящийся свет. – Это был живой человек. Больной, но еще живой. Его тело невозможно было спасти, но вот разум… – неожиданно Раф Вэдимас без предупреждения бросил капсулу Накамуре. – Разум в ваших руках, – сказал он, когда доктор неловко поймал капсулу.
Накамура хотел сказать, что извлекать сознание из живых людей запрещено законом, но вместо этого выкрикнул что-то невнятное о том, что мог уронить капсулу, – сомнений в том, что в капсуле действительно сознание живого человека, не было.
– Ты хоть понимаешь, какие они хрупкие? – гневно уставился он на Рафа Вэдимаса.
– Конечно, – сухо сказал начальник тюрьмы. – Только какой прок от этой капсулы, если не найти для нее сосуд?
– Сосуд? – Накамура похолодел.
– Ты все еще кое-что мне должен, доктор, – напомнил Вэдимас.
Они стояли возле ряда капсул с заключенными, коэффициент реабилитации которых находился в красной зоне. По статистике, из десяти случаев лишь одному удавалось выкарабкаться.
– Ты понимаешь, что просишь меня сделать то, что может отправить нас самих в тюрьму? – спросил Накамура начальника «Тиктоники».
– На мой взгляд, превращать людей в «жмуриков» намного страшнее, чем спасать больных. К тому же какая разница – станет безнадежный заключенный овощем или же в его теле будет жить человек, получивший второй шанс?
– Есть разница! – в сердцах сказал Накамура.
Раф Вэдимас улыбнулся – доктор попался. Сам насадил приманку, забросил удочку и заглотил крючок.
– Это большие деньги, – сказал Вэдимас. – Очень большие. Мы не будем извлекать сознание. Не будем стирать личность, чтобы превратить тело в сосуд. Мы лишь заполним оболочку и вместо того, чтобы плодить «жмуриков», дадим людям второй шанс. Если все раскроется, то нам почти ничего не грозит. Прецедентов не было. Нет закона, который мы нарушим.
– Я не могу отказаться, да? – спросил доктор Накамура.
– Можешь, – пожал плечами Вэдимас. – Только зачем тебе это делать? Ты уже нарушил закон, когда получил суррогатную жену. То, что я тебе предлагаю, не сильно отличается от способа родить второго ребенка.
– Мне нужно подумать, – сказал Накамура.
Он протянул Вэдимасу капсулу с сознанием живого человека, но начальник тюрьмы не принял ее.
– Забери это! – велел Накамура.
– Бросай на пол, – сказал Вэдимас. – Хочешь отказаться? Хочешь убить этого человека? Сделай это сам и прямо сейчас.
Доктор стиснул зубы, гневно уставившись на Вэдимаса. Зажатая в ладони капсула нагрелась и начала обжигать кожу.
– Относись к этому как к деятельности якудзы – кровавая, но зачастую справедливая, – посоветовал ему Вэдимас.
– Мне нужно подумать, – настырно сказал Накамура.
Он вернулся домой и отпустил няньку, которая присматривала за его грудной дочерью. Вэдимас не отстанет – это Накамура понимал, но вот обязан ли он принимать предложение начальника «Тиктоники»? Он вспомнил своих престарелых родителей. Воспользовался бы он шансом продлить им жизнь, если бы у него была возможность? Безусловно, да. Воспользовались бы они этой возможностью? Безусловно, нет. Человек рождается, живет, стареет и умирает – таков закон природы, линейность времени, бытия. Но как быть, если человек молод? Или если это ребенок? Накамура достал из кармана искрящуюся светом капсулу и, бережно положив на ладонь, долго смотрел на нее.
– Кто это будет? – спросил он на следующий день Вэдимаса.
– Девушка, – пожал плечами начальник «Тиктоники». – Кажется, дочь какого-то политика.
– Кажется?
Вместо ответа Вэдимас передал доктору медицинскую карту молодой девушки.
– Что с ней случилось? – спросил Накамура.
– Кажется, это был несчастный случай.
– Снова «кажется»?
Начальник «Тиктоники» пожал плечами.
– А процедура извлечения? Где ее проводили?
– Так ты согласен?
– Я просто хочу уточнить детали. Если у нас ничего не получится…
– Если ничего не получится, то мы просто снова сотрем сосуду память и повторно запустим программу реабилитации.
– А сам сосуд?
– В нашей тюрьме содержится тридцать тысяч заключенных, и каждый день система стирает кому-то личность. Так что рано или поздно подходящий сосуд найдется.
– А что будет потом?
– Потом она попадет в программу постреабилитации и растворится в толпе.
Они обсуждали предстоящее правонарушение больше часа, но Накамура был уже согласен. Он принял решение еще в прошлый вечер, взвешивая все возможные варианты. Что он мог сделать? Отказаться? Но тогда его долг Вэдимасу будет не оплачен. Без начальника «Тиктоники» он никогда бы не смог найти себе суррогатную жену и получить ребенка. К тому же отказ от предложения Вэдимаса повлечет обиду начальника «Тиктоники». Возможно, он каким-то образом попытается вернуть свой подарок – сообщит в органы технократии о незаконности суррогатного брака или свяжется с суррогатной матерью, которая объявит об обмане и фальсификации. В общем, начальник «Тиктоники» мог забрать ребенка, а этого Накамура не собирался допускать. К тому же в случае отказа ему придется оставить работу в коррекционной тюрьме, вернуться в Токио, потеряв дом, оклад, стабильность. Да и нет уверенности, что в Токио его не станут преследовать органы технократии, пытаясь отобрать Юмико. Они станут ренегатами. А ученый, доктор не может быть ренегатом. Он часть общества, как рука у человека. Человек без руки продолжает жить, но вот рука, потеряв хозяина, погибает. Такая же гибель ждет и доктора – Накамура знал это. К тому же Вэдимас не предлагал ему ничего аморального. Они будут спасать жизни. И неважно, какой подтекст у этой процедуры. Жизнь любого человека – это жизнь, божественное таинство. Даже в мире технократии, когда Бог стал пучком проводов и микросхем.
Спустя две недели Накамура провел свою первую процедуру возрождения. Восстановить удалось более семидесяти процентов сохраненного в капсуле сознания. О потерях при извлечении Накамура мог только догадываться, но он надеялся, что личность должна будет восстановиться минимум на пятьдесят процентов. Сама система не заметила подмены. Она залила в сосуд информацию, посчитав это узаконенными данными, и отправила по сети отчет об очередном завершении коррекции.
Возрожденную девушку звали Чо, и, когда она очнулась, первым вопросом доктора Накамуры был, помнит ли она свое имя. Чо помнила. Помнила свое имя, дату рождения, помнила имена родителей и почему оказалась в больничной палате. Шоком для нее стало чужое тело женщины, которая была старше Чо на шесть лет. Доктор Накамура выделил девушке отдельную палату и подводил ее к откровению о перемене медленно, неспешно, долго не позволяя подниматься с кровати, накачивая ее новое тело транквилизаторами. Но Чо чувствовала – что-то не так. Сначала ее смутили волосы на голове, вернее, отсутствие волос – перед помещением в капсулу коррекции всем заключенным удаляли волосы.
– Волосы отрастут, – пообещал девушке Накамура.
Он запустил нейронную программу реабилитации, предназначенную для тех, кого система посчитала исправившимися. Тысячи нейронных образов заполняли сознание, позволяя человеку добрать все то, что было упущено, когда он проходил коррекцию. Во время новостных выпусков, когда показывали партию сторонников технократической диктатуры, Чо узнала своего отца. Она оживилась, но затем поняла, что не может вспомнить мать.
– Я помню ее лицо, помню детство, но потом… – девушка заплакала, решив, что мать, скорее всего, умерла. – Почему я не помню этого? – спросила она доктора Накамуру.
За ответом ему пришлось обратиться к Вэдимасу. Узнав имя матери Чо, Накамура собрал всю имевшуюся в сети информацию об этой женщине и создал программу, чтобы залить эти сведения в сознание девочки. Но пробелов все равно было слишком много. Нужно было рассказать Чо правду. Невозможно вечно готовить ее к откровению. Она умерла, но жизнь дала ей второй шанс. Ее тело получило критические для жизни повреждения, но теперь у нее другое тело.
– Кем была эта женщина? – спросила Чо, когда узнала правду о своем возрождении.
Это был ее первый вопрос. Странно, но не было ни слез, ни истерики. Лишь только желание узнать, кто стал донором, и потом какая-то задумчивая подавленность.
Накамура попытался объяснить Чо, что женщина, тело которой ей досталось, была безнадежным заключенным, но Чо сказала, что переживает за свои потерянные воспоминания, сказала, что не помнит годы учебы, не помнит своих друзей.
– Может быть, со временем память восстановится? – с надеждой спросила она.
– Может быть, – соврал Накамура.
Спустя три недели Чо покинула реабилитационный центр. Больше Накамура никогда не видел ее, но так было даже лучше. Если Чо смогла раствориться в толпе, как говорил Вэдимас, значит, система ничего не заметила и начальник «Тиктоники» оказался прав.
– Не знаю, кто занимается извлечением сознания, но если они не усовершенствуют технологию, то я не стану заниматься следующим возрождением, – сказал Накамура.
– Они усовершенствуют, – пообещал Вэдимас.
В последующее десятилетие процесс сохраненных воспоминаний действительно стал более качественным. Сначала он со скрипом ушел от пятидесяти процентов, затем доковылял до шестидесяти и, наконец, дотянулся до отметки в восемьдесят процентов. Проблема, казалось, была решена, предполагалось, что в ближайшие годы технология станет более совершенной, но параллельно рос и положительный процент удачной коррекции. Пригодных для использования доноров становилось все меньше. Приходилось использовать то, что есть. Времена, когда донор подбирался по цвету глаз и волос, остались в прошлом. Теперь учитывался только пол донора. Как-то раз Накамура видел, как начальник «Тиктоники» выбросил в мусоросжигатель целую пригоршню искрящихся светом пилюль. Он сделал это, во-первых, потому что намечалась очередная плановая проверка, а во-вторых, столько доноров им бы все равно не удалось достать.
– Ты понимаешь, что убил только что дюжину человек? – спросил Накамура.
– Я понимаю, что официально они давно были мертвы, – сказал Вэдимас.
Он не был тираном – скорее реалистом. Накамура тоже был реалистом, понимавшим – пройдет пара лет, коррекция станет практически совершенной, их бизнес прикроется и придется заняться чем-то другим. Накамура планировал открыть частную клинику в Токио – заработанных денег хватало с лихвой. И те выброшенные в мусоросжигатель капсулы стали сигналом – пора заканчивать. Технологии совершенствуются, на черном рынке обещают выпустить партию синергиков, пригодных для переноса в их синтетический мозг извлеченных человеческих сознаний. Цены на услуги доноров падают.
– Пришло время ставить точку, – сказал Накамура начальнику «Тиктоники».
Вэдимас согласился. Но все бросить вот так сразу было нельзя. Если они уволятся, то на их место придут другие, и нет гарантии, что тщательная проверка при смене руководства не выявит нарушений. А стоит только всплыть одному сомнительному факту, как путь для расследования будет определен и все раскроется. Нет, чтобы выйти, нужно сначала все прибрать, стереть следы, выждать время. Но больше никаких капсул с сознанием и поисков доноров. Пусть все станет самым обычным. Не идеальным, а как у всех.
В последовавшие за этим два года самым большим правонарушением Накамуры стали визиты в реабилитационный центр для обследований и лечения родственников сотрудников, что считалось прежде недопустимым.
– Пусть это станет нашим главным проступком, – решил Вэдимас и одним из первых привел на обследование престарелую мать.
Женщина была дряхлой, но сохранила властный тон в голосе и замашки кугэ. С ней Вэдимас чувствовал себя неуютно, превращаясь в мальчишку, который боится, что ему сейчас у всех на глазах надерут уши. Но эта женщина умирала. Ее тянули в могилу десятки хворей и возраст. Два долгих года Накамура боролся с природой, с линейностью времени, затем сдался, выделил матери начальника «Тиктоники» отдельную палату и сообщил сыну, что нужно готовиться к худшему. Вэдимас выслушал доктора молча. В тот день он ушел, не сказав ни слова. На следующее утро он забрал мать из реабилитационного центра и увез в Токио. Их не было больше недели.
– Я не стану этого делать, – сказал Накамура, когда Вэдимас вернулся в «Тиктонику» с искрящейся светом капсулой. – Мы так много потратили сил, чтобы обелить себя, а теперь ты хочешь вернуться к тому, что было?
– Она – моя мать, – хмуро сказал Вэдимас. – И не говори мне, что пришло ее время и нужно принять неизбежность.
Их спор продолжался несколько дней, пока Накамура не вцепился в новую программу коррекции, которая практически лишила их доноров.
– У нас нет сосуда, – сказал он Вэдимасу. – Сколько сможет сохраниться сознание твоей матери в этой капсуле? Месяц? Чуть больше? Дальше начнутся необратимые потери. Нам не найти за это время донора.
Вэдимас молчал какое-то время, затем хмуро посоветовал Накамуре найти сосуд.
– Если капсула погаснет, то в смерти матери я обвиню тебя, – процедил он сквозь плотно сжатые зубы. – Ты станешь моим врагом, Накамура.
Он не говорил конкретно о дочери доктора, но Накамура знал, за кем придет Вэдимас, если не удовлетворить его просьбу.
– Теперь я либо твой должник, либо твой враг, – сказал начальник «Тиктоники».
В эту ночь Накамура не смог заснуть. Он снова стоял перед выбором: уступить Вэдимасу или бежать. Когда-то давно он выбрал первое и ни разу не пожалел об этом. Они обеспечили свою старость и молодость своих детей. Они спасли много жизней. Но сейчас… Сейчас Вэдимас хотел, чтобы доктор не просто заполнил лишенное сознания тело заключенного, которого система сочла безнадежным. Сейчас от него требовали стереть своими руками чью-то личность, внести в программу изменения, чтобы коэффициент исправления достиг критической зоны. И если бы дело обстояло только в том, чтобы использовать созданного системой донора, то Накамура, возможно, и уступил бы, но так…
Он изучил отчеты коррекции каждой женщины в тюрьме. Самый низкий был у представительницы партии технологических нигилистов. Но и у нее в последние месяцы наметился прогресс. Не стоило надеяться, что коэффициент исправления понизится в ближайшее время до критического.
«Значит, остается только побег», – подумал Накамура, пытаясь представить, куда они отправятся с дочерью. Воображение не работало. Да и сложно будет скрыться. С одной стороны будет система, с дрогой – многочисленные друзья Вэдимаса, коими он обзавелся, пока они возрождали мертвецов. Накамура внимательнее просмотрел личное дело женщины из группы технологических нигилистов. Ее обвиняли в поджоге фабрики по производству синергиков. В огне пострадал человек. Были и другие подозреваемые, но на коррекцию отправили только эту женщину.
«Нет, никто не заслужил смерти. Не от моей руки», – решил Накамура, но сомнения остались. Не будь у него дочери, он бы просто сбежал, но с Юмико… Куда они поедут? Чем будут заниматься?
Накамура в третий раз изучил личное дело предполагаемого донора. В тюрьме содержались личности, совершившие преступления куда страшнее, но их коэффициент коррекции стабильно полз вверх. Они исправлялись. Да и не хотел Накамура играть в Бога. Если уж и совершать убийство, то пусть все решат машины. А когда пройдет время, можно будет убедить себя, что эта женщина все равно была безнадежна. Парой месяцев раньше, парой месяцев позже – какая разница, ей ведь все равно сотрут сознание. Машины никогда не ошибаются, в отличие от людей…
Глава пятая. «Тиктоника»
Легковая машина неспешно катит по крохотному городу, на окраине которого высится громадная коррекционная тюрьма под названием «Тиктоника». В салоне автомобиля сидят двое – подростки, тела которых покрыты нейронными татуировками. Они неместные. Их послал сюда клан Гокудо. Они делают по городу три круга, оценивая возможность проникнуть в реабилитационный центр коррекционной тюрьмы. Изучить модель «Тиктоники» мало, нужно увидеть все своими глазами.
Коджи и Макото – такие имена у двух молодых убийц. Наномечи сложены, спрятаны в карманах курток. Глубина бусидо четвертого уровня. Каждый из них может вырезать этот крохотный город за одну ночь – ходить от дома к дому и кормить свой меч свежей кровью. Но проникнуть в «Тиктонику» куда сложнее, чем выбить дверь в гражданский дом. Охрана опытная. Техника современная. Системы наблюдения не удастся обмануть, даже если активировать нейронные татуировки невидимости – они скроют тела от человеческих глаз, но электроника почувствует перепад температур, потребление кислорода. Электроника уравняет шансы.
Мирная тюрьма со всеми активированными системами защиты превращается в крошечный боевой центр, способный уничтожить все живое, попавшее в его стены. Не поможет ни глубина бусидо, ни накормленный свежей кровью наномеч. С реабилитационным центром, конечно, немного проще, но охрана и там начинается уже с подъездной дороги – анализ лиц, анализ техники. Рабочие не знают, но они все время под прицелом, и если система сойдет с ума, то машинам хватит пары секунд, чтобы выжечь все живое в пределах досягаемости. Единственный шанс уцелеть – держаться подальше. Так что взять штурмом этот бастион не удастся. Не удастся и обмануть электронику. Здесь слабый фактор – люди.
При реабилитационном центре есть целое крыло, выделенное под нужды жителей крохотного города, так как собственной больницы здесь нет. Нет в этом городе и отеля – никто не приезжает сюда просто так, только чтобы забрать корректированных родственников, но для этих целей в «Тиктонике» есть комплекс ожидания. Весь этот крохотный город живет только благодаря «Тиктонике». Коррекционная тюрьма как монастырь в прошлом, куда стягиваются толпы паломников. Только в «Тиктонике» вместо придирчивых монахов за всем наблюдает электронный глаз защитной системы. Но обмануть можно всех.
* * *
Доктор Синдзи Накамура услышал плач своей дочери и вздрогнул. Шесть сыновей сестры продолжали беситься. Один из них ударил девочку кулаком в грудь, отошел к окну и громко смеялся, радуясь, что сумел довести Юмико до слез. В последние недели подобные поступки мальчишек стали нормой. Вначале они стеснялись, принимали девочку, а сейчас вдруг почувствовали в ней соперника и начали отвоевывать себе территорию, комната за комнатой.
– Что случилось? – спросил доктор, заглядывая в комнату, где играли дети.
Мальчишки не обратили на него внимания. По щекам дочери катились слезы. «Нужно поговорить с сестрой, – подумал Накамура. – Сначала ее дети переворачивают дом вверх дном. Теперь начинают раз за разом избивать моего ребенка…» Он поманил Юмико к себе. Мальчишки неожиданно смолкли. Девочка смотрела на них, хотела подойти к отцу, но боялась, что дети начнут смеяться над ней.
– Ябеда! Ябеда! – закричали они в один голос, когда Юмико сделала робкий шаг к отцу.
Она замерла на мгновение, а затем со всех ног бросилась к Накамуре. «Нужно обязательно поговорить с сестрой», – сказал он себе, обнимая дочь.
– Ябеда! Ябеда! – надрывались мальчишки в истеричном припадке агрессии.
Их крики привлекли мать. Мэрико выглянула из загаженной кухни, куда Накамура не заходил больше месяца.
– Что случилось? – спросила она.
– Твои сыновья бьют мою дочь, – сказал Накамура.
– Сильно?
– Что значит «сильно»?
– Кровь есть?
– Какая кровь? Есть слезы.
– Слезы – это нормально, – Мэрико широко улыбнулась и снова ушла на кухню, которую отвоевала у брата так же, как ее дети отвоевали игровую комнату у его дочери.
– Ябеда! Ябеда! – надрывались они, и Накамура чувствовал, как Юмико все крепче и крепче прижимается к нему.
– Возьми меня с собой на работу, – попросила она.
Накамура не ответил.
– Ну пожалуйста! – взмолилась девочка.
Доктор Накамура провел рукой по ее волосам, пытаясь успокоить. Пальцы наткнулись на что-то липкое – небольшой круглый комок, который один из детей сестры бросил в голову Юмико. Накамура попытался отлепить комок от волос, но без ножниц этого было не сделать.
– Можно мне с тобой? – снова попросила Юмико.
– Ябеда! Ябеда! – верещали в игровой комнате мальчишки.
– Обещаю, что буду сидеть тихо-тихо, – клянчила Юмико. – У тебя же есть там свободный стол. Я просто порисую. Здесь негде. Ну пожалуйста…
«Нет, нужно обязательно поговорить с сестрой», – подумал Накамура, но уже как-то отрешенно, понимая, что разговоры не помогут. Нужно либо купить ей новый дом, либо переехать самому. По-другому не получится.
– Хорошо, – уступил он дочери. – Бери карандаши и поехали со мной на работу.
– У меня нет карандашей, – очень тихо сказала Юмико. – Мальчишки сломали все карандаши.
– Ябеда! Ябеда! – завопили они еще громче, хотя и не могли слышать, о чем девочка говорит отцу.
– Ладно. Купим тебе новые карандаши, – пообещал Накамура.
Когда они уходили, им в спины летели игрушки Юмико. Одна из них попала Накамуре в затылок.
– Мэрико! – позвал он сестру, потеряв терпение.
– Что? – крикнула она из кухни.
– Твои дети бросаются игрушками!
– Они что-то разбили?
– Нет.
– Тогда все нормально.
– Нет, не нормально!
– Тебе жалко игрушек?
– Они кидаются этими игрушками в меня!
* * *
За порядок в городе отвечали силовые службы «Тиктоники». Сам город был тихим, и если что-то случалось, то это, как правило, были бытовые ссоры, если не считать дебошей, которые иногда устраивали бывшие подельники воров и убийц, приезжавшие, чтобы встретить друзей после коррекционного курса. Они заполоняли кафе и бары, цеплялись к женщинам, пугали детей. Тогда местные жители обращались с жалобой к силовикам «Тиктоники». Они приезжали на вызов спустя пару минут. Арестов обычно не было – дебоширов просто выпроваживали из города, но если те возвращались, тогда их отправляли в тесные камеры вблизи коррекционного центра, держали там пару дней, затем снова вывозили за город. Еду и воду в камерах не давали. Выбраться из них было невозможно. Молодые убийцы клана Гокудо знали об этом. Поэтому дебош, чтобы попасть в «Тиктонику», им не мог помочь. Но вот авария…
Авария казалась хорошей идеей. Если получить серьезные ранения, то их доставят в клинику реабилитационного центра, а это значит, что первый и главный уровень защиты «Тиктоники» окажется пройденным. Конечно, пробраться в коррекционную часть, где содержатся капсулы с заключенными, не удастся, но им это и не нужно. Их цель, их жертва уже покинула коррекционный центр.
Убийцы сделали еще один круг по городу, выбирая себе жертву для аварии, причину, повод. За рулем сидел Коджи. Он был идеальным убийцей, но посредственным водителем. Многие новички клана приходили из банд байкеров. Вот они были хорошими водителями, но посредственными убийцами. Некоторые из них, став полноценными членами клана Гокудо, все еще боялись завести себе наномеч. Меч был хищником, который мог покориться только другому хищнику, убийце – не байкеру и не водителю. Наномеч любит кровь, а не моторное масло.
Коджи заметил старика за рулем выехавшего из переулка старого автомобиля. Коджи не знал эту марку, но машина старика выглядела угрожающе крепкой. Она приближалась к перекрестку словно ледокол, готовый смести все на своем пути. На его фоне выехавший на перекресток автомобиль с молодой женщиной за рулем казался нереально хрупким. Женщина и старик видели друг друга. Аварии не будет, если ее не спровоцировать. Коджи активировал нейронную татуировку реакции и вдавил педаль газа в пол.
Загудели клаксоны, заскрипели тормоза. Удар оказался таким сильным, что содрогнулся, казалось, весь крохотный город. Три машины столкнулись лоб в лоб. Ледокол старика оказался самым крепким. Выбросив облако пара из-под сложившегося в гармошку капота, он замер на перекрестке. Две другие машины отскочили от ледокола, как кегли от брошенного шара. Убийцы могли собраться, могли избежать серьезных повреждений, но им нужны были травмы. Поэтому, когда их машина кувыркалась, вылетев на тротуар, они просто сидели, позволяя непрочной конструкции калечить свои тела. Кровь из разорванной плоти брызнула на разбившиеся стекла. Пара подростков испуганно отскочила в сторону. Коджи видел лицо девушки – еще совсем юное, невинное. Видел, как подворачивается ее нога, как болезненно кривятся губы и эта невинная девочка рождает совершенно неожиданно целую серию брани.
Одновременно с этим на другой стороне улицы машина, за рулем которой была женщина, врезалась в столб, изогнулась, словно язык, попытавшийся облизать этот столб. Стекла в машине лопнули. Лопнула и лампа, установленная на столбе, осыпав машину мишурой разноцветных осколков. Солнце отразилось от них, сверкнуло, приковав взгляд Коджи. Он отвлекся лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы рулевое колесо врезалось ему в грудь, раскололось и, вспоров татуированную плоть, обнажило белые ребра. Кровь брызнула фонтаном, заливая салон искореженного автомобиля.
* * *
Силовики «Тиктоники» приехали спустя десять минут. На этот раз работы для них не было. Разве что вызвать медицинскую бригаду из реабилитационного центра да помочь им извлечь людей из поврежденных машин. Ледокол старика почти не пострадал. Сам старик разбил себе голову. Когда силовики заглянули в салон его машины, старик раскачивался и напевал что-то бессвязное, непонятное. По лицу его текла кровь. Рана была серьезной – череп не выдержал удара, плоть лопнула, и в открывшейся полости был виден мозг. Старик ни на что не реагировал. Он продолжал раскачиваться и тихо петь, даже когда приехавшие врачи повели его в свою машину.
С другими пострадавшими все было куда сложнее. Молодые татуированные убийцы – правда, тогда еще никто не знал, что они убийцы, – были залиты кровью и едва дышали. А девушка в обернувшейся вокруг фонарного столба машине вообще безнадежно застряла среди груды искореженного железа. К тому же на заднем сиденье врачи обнаружили мужчину. От удара он потерял сознание, а когда пришел в чувство, спешно выбрался из машины и, находясь в состоянии шока, начал умолять врачей отпустить его домой к жене и никому не рассказывать о том, что видели его с любовницей.
Досталось и девочке-подростку – растянутая лодыжка распухала буквально на глазах. Ее мальчик стоял рядом и завороженно разглядывал искореженные машины. Врачи не замечали их, пытаясь вместе с силовиками освободить застрявшую женщину. Ее любовник, которого они перестали держать, вытер разбитый нос и, запрокинув голову, чтобы не текла кровь, побрел спешно прочь, спасаясь от взглядов собиравшихся на месте аварии любопытных жителей. Один из силовиков подошел к молодым татуированным убийцам и спросил, что они делают в городе.
– Мы здесь проездом, – соврал Макото, изображая на лице невыносимые страдания.
Открытая рана Коджи, обнажая ребра, вызвала у силовика тошноту. Сам Коджи выглядел так, словно продолжает жить лишь каким-то чудом. Силовик засуетился и позвал к убийцам медика. Врач осмотрел их раны и велел силовикам срочно отнести убийц в машину – хотя для врача они были лишь пациентами, да и вся эта кровь, забрызгавшая их тела, скрывала большую часть нейронных татуировок. Силовики уложили Коджи на носилки. Девочка с растянутой лодыжкой смотрела на него с какой-то черной завистью, словно не понимала, как это медики могут спасать этого человека и не замечать ее вывих. Коджи встретился с ней взглядом и подмигнул. Девочка скривилась, фыркнула и демонстративно отвернулась.
Где-то далеко заскрежетал металл. Машину с застрявшей женщиной буквально отрывали от фонарного столба. Что было дальше, Коджи не видел, потому что его носилки занесли в машину, где уже сидел старик с проломленным черепом. Спустя пару минут рядом с ним уложили Макото. На улице закричала женщина, которую наконец-то удалось вытащить из машины. Она корчилась от боли, но снова и снова спрашивала о своем любовнике.
– Что с ним? Он в порядке? Вы уже достали его? Он был на заднем сиденье. Он…
Медики накачали ее обезболивающим, и она притихла, уставившись в потолок неотложки.
* * *
Доктора Накамуру вызвали в приемную в тот самый момент, когда дочь показывала ему свой рисунок. Рисунок был неумелым, особенно если учесть, что букет цветов почему-то был выполнен черными карандашами, но девочка была счастлива, и отец готов был восхищаться любым ее художеством. О том, почему она нарисовала цветы черными, можно будет подумать после.
– Побудешь здесь немного одна, хорошо? – спросил Накамура.
Юмико кивнула и пообещала, что, когда он вернется, нарисует еще один букет.
– Только воспользуйся на этот раз цветными карандашами, – посоветовал Накамура, покидая кабинет.
Он почувствовал запах крови еще до того, как вошел в приемную. Накамура не знал, но внутри молодые убийцы устроили настоящую бойню. Если бы дочь не задержала его на пару минут, показывая свой рисунок, то наномечи якудзы уже разделили бы его тело на части, как это случилось с силовиками и парой врачей. Пострадавшего в аварии старика они не тронули. Когда Накамура вошел в приемную, старик сидел на кушетке и, продолжая раскачиваться, что-то напевал себе под нос, а вокруг бились в агонии и кровоточили разрубленные наномечами тела. Накамура попытался заговорить со стариком, выяснить, что случилось, но затем увидел проломленный череп и видневшийся в открытой ране мозг.
Паники не было. Вначале не было. Накамура ждал чего-то подобного с тех пор, как они с начальником тюрьмы начали продавать тела заключенных, которым стерли память, тем, кто готов был платить за доноров для своего сознания или сознания своих родственников. Конечно, в основном это были смертельно больные или пострадавшие от несчастных случаев, но иногда проскальзывали и те, кто хотел просто скрыться, сбежать от системы, получив другую личность. В любом случае неприятности были ожидаемы. Начальник «Тиктоники» Раф Вэдимас уверял, что контролирует ситуацию, но сейчас, глядя на все эти разрубленные тела вокруг, Накамура понимал, что контроля было недостаточно. Кто-то проник на территорию «Тиктоники». Кто-то опасный… Накамура попытался вспомнить лица погибших в приемной людей, но вместо этого вспомнил рисунок черных цветов, который сделала его дочь, затем вспомнил, что оставил ее одну в своем кабинете, и вот тут появился страх, потянув за собой в гости к сознанию панику.
* * *
Коджи продвигался по коридору осторожно, неспешно. На плечах у него был накинут больничный халат. Он отлично скрывал оружие и рваную рану, в полости которой виднелись белые ребра. Наностимуляторы, которыми Коджи накачивал себя, чтобы повысить регенерацию, работали исправно, но они потребляли много энергии, отнимая необходимые для сражения силы. К тому же у Коджи были повреждены несколько важных нейронных татуировок. Он не мог активировать невидимость или маскировку, как это сделал Макото, отправившись на поиски якудзы из клана Тэкия.
Якудзу звали Семъяза. Оябун Коджи – Мисору – велел сохранить своей дочери Шайори жизнь. Дочери, предавшей клан Гокудо, сбежав с ренегатом, прошедшим коррекцию в «Тиктонике». Коджи скривился при мысли об этом – якудза, прошедший коррекцию. «Нет, лучше уж смерть», – думал он.
Его нейронная татуировка ориентации в пространстве сбоила, и Коджи начинал злиться, понимая, что не может найти отделение для гостей «Тиктоники». Именно там должна находиться Шайори. Ему нужно найти ее, привезти отцу, и уже там она получит причитавшееся ей наказание. Коджи знал девушку в лицо, встречал довольно часто в доме главы своего клана, видел белые шрамы, оставшиеся от имплантации кистей рук после того, как отец отсек их своей дочери за совершенные проступки. Что ж, теперь наказание будет невосполнимым. Девушка умрет, но умрет от руки своего отца. Не иначе. Поэтому, что бы сегодня ни случилось здесь, она должна выжить. Выжить, чтобы потом умереть.
* * *
Раф Вэдимас почувствовал что-то неладное прежде, чем с ним связался доктор Синдзи Накамура и рассказал об инциденте в приемной. Вот только в отличие от доктора начальник «Тиктоники» не думал, что причиной инцидента послужил их общий бизнес. Они вышли из дела, не продавали тела заключенных больше двух лет. Претензий не было. В первый год на Вэдимаса еще выходили люди, надеявшиеся получить сосуд для сознания, но и это уже осталось в прошлом. Ни жалоб, ни новых заявок. Нет, это не может быть эхо прошлого. Это что-то другое.
Рука начальника «Тиктоники» потянулась к тревожной кнопке. Еще мгновение – и назад пути не будет. Территорию тюрьмы зальет звук сирен. Системы охраны активируются. Раф Вэдимас замер. А что если все-таки это часть прошлого? Тревожная кнопка активирует защитные системы, но тогда начнется расследование. Сколько всего проникло в комплекс ренегатов? А если кто-то из них уцелеет? Если кто-то сможет дать показания?
Вэдимас решил, что будет лучше повременить с тревожной кнопкой. Он открыл сейф и достал упаковку интеллектуальных патронов для табельного оружия. Патроны были запрещены законом. Их разрабатывали для силовиков, чтобы избежать промахов, но уже первые тесты в полевых условиях показали, что пули не годятся. Да, четыре из десяти пуль попадают в цель даже у новичка, вот только цель выбирать они не умеют. Им плевать, лишь бы это было человеческое тело. Сейчас плевать было и Рафу Вэдимасу. Нужно лишь выяснить, кто и зачем пришел в его тюрьму.
* * *
Шайори не двигалась, не дышала. Она знала, что Семъяза не оставит ее, будет защищать, пока в его теле теплится жизнь, но он был еще слаб, да и отец не послал бы за ней новичков. Это будут убийцы, профессионалы, уровень глубины бусидо которых, возможно, даже выше, чем у Семъязы. Только теперь Шайори поняла, почему любовник отослал ее прочь. Он не хотел ставить ее под удар, надеясь, что пока убийцы разбираются с ним, Шайори удастся скрыться, но если их преследуют убийцы клана Гокудо, то спрятаться под кроватью и не дышать будет мало. Нейронные татуировки поиска найдут ее. Это хуже, чем собаки. Они чувствуют цель, ведут своего хозяина. И наномечи уже пускают слюну, чувствуя предстоящую бойню.
Шайори действительно перестала дышать, когда услышала, как открывается дверь в ее комнату для визитеров «Тиктоники». Но это был не убийца. Раф Вэдимас огляделся и тихо позвал Шайори по имени. Это мог быть обман – Шайори знала это, видела уже не раз, как убийцы, активировав нейронные татуировки, меняют свою личность, выманивают жертв, притворяясь их родственниками. Но потом Шайори услышала щелчок оружия, которое Вэдимас держал в руке. Нет, убийцы клана не пользуются огнестрельным оружием. Им достаточно наномечей. Шайори выглянула из-под кровати. Вэдимас прицелился ей в голову. Его водянистые глаза были налиты кровью. Он не станет жертвой. Он превратится в хищника, в еще одного охотника в этих современных джунглях.
– Что здесь происходит, черт возьми? – спросил он, продолжая держать Шайори на прицеле.
Доктор Накамура сказал ему, что в приемной действовали, скорее всего, якудзы. «Значит, – думал Вэдимас, готовый в любой момент нажать на курок, – девушка под кроватью может оказаться лишь иллюзией. Эти узкоглазые любят подобные штучки». Всего в «Тиктонике» содержалось шесть представителей различных кланов, но в реабилитационном центре лишь один – Семъяза. И у Семъязы был посетитель.
– Думаю, нас хотят убить, – сказала Шайори, не спеша выбираться из-под кровати.
Вэдимас кивнул, затем спросил, как она узнала.
– Если это якудза, то они чертовски хитры.
– Семъяза тоже якудза, – Шайори напомнила о нейронных татуировках защиты. – Он почувствовал убийц еще до того, как они начали убивать.
– И эти убийцы идут за ним?
– И за ним, и за мной.
Вэдимас кивнул. Он не боялся встать на пути кланов. Они пришли на его территорию. Они бросили вызов «Тиктонике». Ничего личного. Вэдимас связался со службой охраны комплекса и велел активировать систему защиты.
* * *
Сирены взвыли в тот самый момент, когда Коджи уже собирался войти в комнату Шайори. Что ж, теперь наномеч можно было не прятать. Коджи сбросил халат, обнажил клинок, деактивируя нейронную татуировку поиска – он и так уже знал, где Шайори. Он видел ее образ под кроватью и видел образ незнакомца, застывшего на пороге. Коджи не знал, кто это, но его меч уже мечтал забрать эту жизнь, пролить кровь незнакомца. Когда их путь только начинался – путь меча и якудзы, – Коджи щедро накормил своего друга, отправившись на окраины Токио. Никто не станет искать бездомных – это лишь мусор на безупречном лице города. Коджи забирал их жизни неспешно, позволяя молодому мечу вкусить сладость убийства. Коджи не хотел укротить наномеч, он хотел накормить его, дать понять, что такое настоящая трапеза. И теперь меч был снова голоден.
Активированная система защиты «Тиктоники» обнаружила незнакомца. Превентивные меры были неэффективны, но закон не разрешал действовать на поражение мгновенно. Технократы утвердили три этапа защиты. Коджи метнулся в сторону, увернувшись от электрического разряда. Рана на груди отдалась болью. Система перезарядилась, но выпустить еще один разряд не успела, потому что Коджи перерубил проводку. Сноп ослепительных искр залил коридор. Теперь у Коджи было время.
Он метнулся к двери в комнату Шайори. Охранная система закрыла все двери, но их материал не был преградой для наномечей. Коджи вспорол электронный замок, ударил ногой в дверь. Времени было мало, поэтому Коджи активировал нейронную татуировку побега. Он разрубит чужака, заберет девушку и выберется из комплекса. Если Макото будет достаточно проворен, то и он успеет выбраться – убить прошедшего коррекцию якудзу не должно стать проблемой. А охрана комплекса… С охраной можно разобраться, залив коридоры кровью, усеяв пол внутренностями, накормив наномеч, собрав щедрый урожай жизней и…
Коджи услышал громыхнувшие выстрелы. Его меч изогнулся, отбивая устремленные в грудь хозяина пули. Модифицированные посланники смерти расплавились, превратились в лавину брызг, каждая из которых продолжала искать цель – жизнь, человека. Коджи замер. Сотни крошечных игл пронзили тело. Вэдимас разрядил в якудзу всю обойму. Наномеч убийцы готов был к сражению, но его хозяин уже чувствовал, как кровь заполняет рот.
Коджи упал на колено, схватился рукой за распахнутую дверь, пытаясь подняться. Он готов был умереть здесь и сейчас. Вэдимас видел это в глазах убийцы. Коджи закряхтел, сплюнул кровь и поднялся. Его наномеч искрился, пульсировал. Вэдимас перезарядил табельное оружие – времени, чтобы воспользоваться интеллектуальными патронами, не было. Теперь прицелиться убийце в голову. Наномеч изогнулся, отражая свинец. Вэдимас слышал о том, что такое возможно, но никогда не видел своими глазами. Не хотел бы он видеть этого и сейчас.
Коджи смотрел на Вэдимаса уцелевшим глазом – другой был выбит и вытекал по щеке. Наностимуляторы продолжали латать его тело, но тело это уже было невозможно спасти. Оставалось лишь достойно принять смерть, забрав жизнь противника. Коджи взмахнул мечом, но мозг уже не мог верно оценить расстояние. Живая сталь рассекла воздух, но не причинила Вэдимасу вреда. Ноги Коджи снова подогнулись. Убийца упал на колени, облокотившись на меч. Пульсирующее острие вонзилось в пол. Вэдимас снова нажал на курок, разряжая остаток обоймы. Наномеч ожил, отразил десяток пуль, но первые две достигли цели, забрызгав стены мозгами якудзы.
* * *
Макото понял, что Коджи мертв, почувствовав, как прервалась их связь. Вернее, его связь – модуль Коджи был поврежден во время аварии. Что ж, теперь Макото придется сделать всю работу самому – лишить жизни Семъязу, забрать Шайори, выбраться из комплекса и вернуться в клан. Он думал об этом во время боя, разрубая тела охранников, тщетно пытавшихся задержать его, не применяя, согласно правилам, огнестрельное оружие. Их смерть позволила комплексу активировать второй уровень защиты. Да, именно так решили технократы, установив количество погибшего персонала, которое позволит перейти к радикальным мерам. Но все эти меры в основном были направлены на защиту тюремных помещений. Технократы и не думали, что кто-то будет штурмовать реабилитационный центр.
Макото услышал стук шагов приближавшихся охранников и активировал нейронную татуировку невидимости, прижавшись к стене. Охранники пробежали мимо. Он мог сохранить им жизнь, не жаждал пустить им кровь, но силовики могли вернуться, когда он, покончив с Семъязой, будет идти за дочерью оябуна, поэтому Макото принял решение забрать их жизни. Наномеч вспорол воздух, перерубив шейные позвонки.
* * *
Семъяза ждал. Он не знал, насколько сильно изменила его коррекционная система, но страха не было. Если ему суждено встретить смерть здесь, то пусть будет так. Единственной проблемой была Шайори. Снова и снова, находясь в коррекционном центре, Семъяза спасал ее жизнь, думал, что спасает, выполняя написанную для него программу. Система издевалась над ним, ставила непреодолимые задачи. Он не знал, сколько всего было циклов, прежде чем его отправили в реабилитационный центр, посчитав исправленным, но в последнем цикле он пожертвовал собой, чтобы Шайори смогла спастись. Система посчитала это высшим признаком искупления. Может быть, система была права. Клан Тэкия предал Семъязу. По их вине он оказался здесь. Технократы хотели крови, и клан выбрал жертвой Семъязу. Он потерял своих братьев, потерял сестру, потерял свой наномеч…
Семъяза проверил пару нейронных татуировок, надеясь, что хоть они не дадут сбой. Сбоя не случилось, но тело было ослаблено коррекцией и с трудом могло выработать достаточно энергии для активации модулей нейронных татуировок. Что ж, значит, когда настанет момент истины, у него будет всего пара секунд – иногда этого достаточно, чтобы забрать жизнь. Хотя бы одну.
Семъяза поднялся с кровати, отключив капельницы с питательными растворами. Нужно было подготовиться. Он расставил мебель так, чтобы можно было ее использовать в битве. Пусть у него забрали меч и силы, но он все еще мог использовать свой опыт. А умел он только одно – забирать жизни.
Семъяза едва успел закончить приготовления к схватке, когда дверь в его палату открылась. Два вооруженных силовика растерянно уставились на покрытого татуировками приготовившегося к бою якудзу. Смутил их и вид передвинутой мебели. Им отдали приказ защитить проходившего реабилитацию человека от якудзы. Теперь якудза стоял перед ними. Убийца и жертва в одном лице. Если бы не больничные пижамные штаны на Семъязе, то силовики, скорее всего, не раздумывая открыли бы огонь.
– Спрячьтесь куда-нибудь, мы защитим вас, – сказал один из них, убеждая себя, что якудза перед ними прошел коррекцию и теперь был самым обыкновенным человеком. Сказать себе это было несложно, но вот повернуться к якудзе спиной, когда в коридоре твоих друзей разрубает на части другой якудза, – это уже сложнее.
– Вы не сможете меня защитить, – сказал Семъяза.
Нейронная татуировка поиска, которую он активировал на несколько секунд, уже показала ему Макото и то, как он разделывается с силовиками.
– Вы не сможете защитить даже себя, – сказал Семъяза. – Оставьте оружие и убирайтесь отсюда. Бегите из комплекса.
Силовики переглянулись.
Семъяза не мог ждать – ему жизненно необходимо было получить оружие силовиков. На разговоры не было времени. На активацию татуировок не было сил. Но оружие силовиков ему было нужно. Без него приготовления ко встрече с якудзой были неполными. Хотя бы электрошок. Любой активатор. Семъяза поднял руки и шагнул к силовикам. Они снова переглянулись – ну что за любители?!
Чтобы вырубить их, Семъязе потребовалось чуть больше пяти секунд, да и то лишь потому, что коррекция удалила из воспоминаний что-то важное – якудза больше не мог убивать. Пара секунд схватки ушли у него на то, чтобы понять это. Теперь придется думать и выбирать удары, а для убийцы, который никогда никого не щадил, сделать это крайне непросто. Хорошо еще, силовики были лишь жалкой пародией на противников. По крайней мере, эта пара – молодые, неопытные. В их глазах был страх. Они готовы были проиграть, лишь бы им пообещали сохранить жизнь. Семъяза оттащил их в безопасный участок комнаты и приготовился встретиться с Макото.
Молодой якудза вошел спустя минуту. Нейронные татуировки были деактивированы. Макото хотел забрать жизнь своего врага глядя ему в глаза. Наномеч пульсировал, умоляя хозяина: «Еще крови! Больше крови!» Семъяза не двигался. Он хотел рассмотреть противника. Хотел привыкнуть к нему и позволить ему привыкнуть к себе. Затем он воспользуется шокером. Воспользуется в тот самый момент, когда Макото поймет его замысел – ту часть, которую, по замыслу Семъязы, Макото должен был понять. Такой будет эта битва – обессиленный опыт против горячей молодой крови.
Семъяза вскинул руку и выстрелил в реабилитационный генератор. Макото ждал этого. Взрыв сотряс комнату, выбил стекла и разбил сосуды с химическим составом для восстановления после коррекции. Компоненты зашипели, превращаясь в зажигательную смесь. Этого Макото не ожидал. Семъяза активировал нейронную татуировку ловкости. Наномеч Макото рассек воздух. Семъяза увернулся, но атаки он не ожидал. Атака означала для Макото попасть под всполохи рожденного химической реакцией огня. Семъяза избежал встречи с наномечом каким-то чудом. Он выскочил в коридор, услышав крик якудзы – не предсмертный, нет, крик льва, упустившего свою жертву. Нейронная татуировка ловкости деактивировалась.
Силовик, который чудом остался жив, встретившись с Макото в коридоре, уставился на Семъязу и потянулся к оружию, затем понял, что рука, которой он пытается поднять шокер, лежит отрубленная в шаге от него, и, активировав связь, заорал о побеге, оповещая коллег.
* * *
Когда включилась охранная сигнализация, Юмико как раз заканчивала свой рисунок. Это снова были черные цветы на белой бумаге. Она вспомнила, что отец рекомендовал ей воспользоваться цветными карандашами, и спешно, без особого энтузиазма попыталась добавить рисунку ярких красок. Получилось скверно. Юмико скомкала лист и выбросила в урну. «Красные цветы, – думала она. – Синие или желтые… Но не черные. Не черные…»
Грохнувшие в коридоре выстрелы напугали девочку, но еще больше ее напугал взрыв в палате Семъязы.
– Папа? – позвала она, выглянув из кабинета.
Мимо пробежали три силовика, завернули за угол. Снова громыхнули выстрелы. Криков не было. Юмико не видела, как с силовиками разделался Макото. Был свист, с которым наномеч рассекал воздух, глухой звук, когда отрубленные конечности падали на пол, да лужа крови, выползавшая из-за угла коридора. Кровь показалась Юмико черной, поэтому она не поняла, что это кровь.
– Папа? – снова позвала она, увидела еще одну группу вооруженных охранников. – Где мой папа? – спросила их Юмико.
И снова никто не заметил ее. Не заметили они и якудзу. Нейронная татуировка невидимости была активирована, и Макото нужно было только прижаться к стене, чтобы не столкнуться с силовиками. Его жертва – Семъяза – сбежал, но Макото знал, где его искать. Коджи провалил задание. Шайори была свободна. Именно туда отправился Семъяза, оставив на теле противника пару ожогов. Их можно было бы назвать серьезными, если бы наностимуляторы, которыми Макото накачивал себя, как и Коджи, не ускоряли в разы естественные процессы регенерации. Единственным недостатком было то, что эти машины потребляли слишком много энергии. Макото убедился, что силовики скрылись за углом коридора, и отключил нейронный модуль невидимости, высасывающий энергию еще быстрее, чем наностимуляторы.
– Папа! – испуганно вскрикнула Юмико, увидев, как Макото появился из пустоты.
Якудза бросил на нее короткий взгляд и попросил молчать, прижав указательный палец к своим губам. Юмико поняла и спешно закивала. Макото вернул ей кивок. Это проявление чувств едва не стоило ему жизни. Двери лифта открылись, и начальник «Тиктоники» увидел якудзу на мгновение раньше, чем его увидел Макото. Этого хватило Рафу Вэдимасу, чтобы вскинуть руку и нажать на курок.
В отличие от Коджи, Макото не стал пользоваться наномечом, чтобы отразить интеллектуальные пули – он не знал, что начальник «Тиктоники» воспользуется интеллектуальными пулями, просто времени на то, чтобы поднять меч, уже не было. Якудза сместился в сторону. Пули обожгли плечо, шею и щеку, пронеслись дальше и врезались в стену. Макото слышал, как за спиной вскрикнула Юмико, но оборачиваться не стал. Спасение ребенка не было его целью. Его цель, Шайори, находилась в кабине лифта за спиной Рафа Вэдимаса. Якудза активировал нейронную татуировку скорости и, позволив ей работать в режиме перегрузки, побежал к лифту. Если бы начальник «Тиктоники» попытался перезарядить свое оружие, то у него бы не было шансов, но он, ведомый инстинктом самосохранения, спешно закрыл лифт, выбрав верхний этаж. Макото лишь успел вспороть двери наномечом, но кабина уже ползла вверх.
* * *
Все развивалось слишком стремительно – стремительно для доктора Накамуры. Пустые коридоры, разрубленные тела. Казалось, что сам ад разверзся и поглотил «Тиктонику». Поглотил вместе с дочерью доктора. И если свою судьбу он готов был принять, то Юмико точно не заслужила этого. Ни один ребенок не заслужил. Накамура пробирался к своему кабинету, надеясь, что дочь, увлеченная рисованием, не выйдет в коридор и не станет свидетелем этой бойни. Ни о чем другом Накамура не хотел думать, пока не увидел Юмико. Девочка лежала на полу в луже крови. Ее руки были прижаты к груди. Кровь из раны сочилась между пальцев. Глаза девочки были закрыты.
Накамура похолодел. Весь мир сжался до этого бледного детского лица. Ничего другого доктор сейчас не видел. Если бы разверзся ад, он и этого бы не заметил. «Юмико. Моя Юмико», – на негнущихся ногах Накамура подошел к дочери. Она дышала тяжело, рывками, словно каждый вдох мог оказаться последним. Девочка умирала. Накамура знал это не только потому, что был доктором. Накамура знал это, потому что был отцом.
Он опустился возле дочери на колени. Жизнь стала хрупкой, ломкой. Сколько жизней спас Накамура за последние годы? Сколько сосудов подготовил для извлеченных сознаний безнадежно больных, пострадавших в авариях людей? «И что же, я буду стоять и смотреть, как умирает моя дочь? – спросил себя Накамура. – Спасать других, но отвернуться от своего ребенка?»
Среди заключенных «Тиктоники» не было детей, но ведь для матери Вэдимаса они приготовили тело молодой девушки из партии технологических нигилистов. Но мать Вэдимаса была дряхлой старухой, уже откусившей от яблока жизни свою долю радостей и печалей. Она и не просила, чтобы ее спасали. Человек рождается, взрослеет, старится и умирает. Это неизбежность. Но дети не должны умирать.
Накамура поднял дочь на руки и понес в медицинский центр, где можно было извлечь ее сознание из умирающего тела и перенести в подготовленного донора, в молодую девушку, которую Вэдимас планировал использовать для сознания своей матери.
* * *
Нейронная татуировка поиска активировалась лишь на долю секунды, но этого хватило Семъязе, чтобы найти Шайори. Дочь Мисору, дочь оябуна клана Гокудо. Кажется, сегодня весь мир начинался и заканчивался на этой девушке. Для Семъязы и силовиков «Тиктоники», по крайней мере, это было так. Лифт нес Шайори и Рафа Вэдимаса на верхние этажи. Туда стремились силовики. Туда бежал по лестнице Макото. Доктор Накамура – и тот нес своего умирающего ребенка туда.
Пара силовиков выскользнула из-за поворота и растерянно уставилась на якудзу. Они слышали о побеге. В этом безумии они готовы были стрелять в любого, кто не силовик. И никаких предупреждений. Достаточно, что татуированный человек стоит в залитом кровью коридоре. Силовики вскинули оружие и выстрелили. Пули врезались в стену, пронзив пустоту, где еще мгновение назад находился якудза.
Семъяза двигался как кошка – не тратил энергию на резкость, а превратился в образчик пластичности и непредсказуемости. Без активированных нейронных татуировок он не мог увернуться от пуль, но кто сказал, что нельзя предугадать, куда придется следующий выстрел, кто сказал, что нельзя заставить силовиков стать предсказуемыми? Куда сложнее было заставить инстинкты убийцы сохранять противникам жизнь, выбрать такой тип ведения боя, когда удары будут ранить, но не калечить, не ломать позвонки, разрывать жизненно важные органы. Силовики успели выстрелить еще трижды. Их шлемы и бронежилеты спасали от пуль, но не от точечных ударов профессионального убийцы. Чтобы вырубить их, Семъязе потребовалось шесть ударов, да и то первые четыре были ложными выпадами, сделанными, чтобы заставить противников раскрыться. Но Семъяза снова превратился из прошедшего курс коррекции образцового заключенного в отступника. Хотя что это значит для человека, который готовится умереть в ближайший час?
Семъяза не хотел пользоваться лифтом, превращавшим его в легкую мишень, но подъем по лестнице сейчас мог отнять слишком много сил. А силы ему понадобятся. Он еще раз на долю секунды активировал свою нейронную татуировку поиска. Макото ждал его. Молодой убийца ждал старую жертву. Но жертва еще покажет зубы.
Семъяза проверил отобранное у силовиков оружие, переключив в режим беглого огня – так Макото не сможет предвидеть его траекторию, даже если активирует модуль ловкости. Оставался лишь наномеч, но ведь всегда есть шанс, что противник повернется к тебе спиной. Особенно в пылу сражения. Достаточно лишь мгновения – реакции старого хищника хватит на то, чтобы нажать на курок.
* * *
Коррекционная машина, к которой Накамура подключил дочь, считала сознание Юмико и выдала ряд ошибок. Жизнь в девочке затухала. Система рекомендовала доктору оказать заключенному комплекс медицинских услуг. Да, заключенному… «Пробовал ли кто-нибудь прежде извлекать сознание умирающего ребенка с помощью этой системы?» – подумал Накамура. Коррекционный центр «Тиктоники» был одним из лучших в мире, но он был настроен на убийц и террористов, а не на детей. За время своей незаконной деятельности Накамура и Вэдимас спасли не одного ребенка. Но всех их поставляли уже извлеченными из поврежденных тел – хрупкие искрящиеся светом капсулы. И все они были детьми других людей. Когда спасаешь собственного, все иначе. Совсем не так.
Система запищала, предупреждая, что если заключенному не оказать помощь, то его жизнь закончится через двенадцать минут сорок три секунды. Эти четкие, фиксированные цифры заставили Накамуру онеметь. Двенадцать минут сорок три секунды – уже тридцать две, – и его ребенок перестанет существовать, канет в небытие, растворится в океане вселенского бытия, став пустотой. Тело перестанет вырабатывать нужную энергию, и сознание угаснет. Навсегда. Навечно…
Одиннадцать минут пятьдесят две секунды.
Накамура заставил себя двигаться. Коррекционная система выдала еще больше ошибок. Сознание Юмико исчезало, гасло. Доктор вырубил модуль защиты. Идеально сделать не выйдет. Не выйдет даже сделать сносно. Все будет плохо. Но Юмико будет жить. Обязана жить. Ради отца. Ради себя. Пусть хотя бы ради суррогатной матери, которую никогда не знала. Но жить. Цепляться за жизнь. В этом умирающем теле. В системе коррекции. В голове донора.
Где-то в коридоре застрекотали выстрелы, раздался крик умирающего силовика – Накамура не слушал. Случись сражение прямо за его спиной, он не обратил бы на это внимания. Сейчас главным было создать для сознания Юмико новую ячейку памяти в тюремной системе.
Девочка в коррекционной камере выгнула спину и начала задыхаться. Накамура заставил себя не смотреть на нее. Это тело уже не спасти. Оно умрет через… семь минут двадцать одну секунду…
Накамура закончил приготовления и активировал первый этап коррекции. Система предупредила, что на извлечение сознания потребуется четыре минуты сорок секунд. До смерти тела оставалось чуть больше. Анализ потерь воспоминаний составил диаграмму, обещавшую от пяти до тридцати процентов от общего сознания. Расхождение было слишком большим, но времени на проверку и повторный запуск не было.
Выстрелы и крики в коридоре стали громче – похоже, ад действительно разверзся, решив поглотить «Тиктонику». Девочка в коррекционной капсуле – и та вскрикнула. Вернее, вскрикнуло тело, уловив желание покидавшего его сознания. Крик вышел слабым, он заставил Накамуру снова онеметь. Система закончила изъятие сознания и предупредительно пиликнула. Накамура вздрогнул. Потери извлечения составили двенадцать процентов. «Двенадцать – это хорошо», – подумал Накамура, перенаправляя потоки системы в приготовленное тело донора. «Как ее звали? Кейко?» Накамура заставил себя не думать о том, что у той девушки был шанс на коррекцию, не думать, что он обманул систему и убил ее, уничтожив сознание.
Система снова запищала – тело Юмико умирало. Нейронный помощник посоветовал врачу воспользоваться автоматической реанимационной системой. Накамура отключил помощника – тело дочери уже не спасти, можно лишь попытаться спасти ее личность. Он проверил отчет передачи сознания в тело донора. «Коррекционная личность будет записана через три минуты восемнадцать секунд…» – сигнализировала система.
Накамура достал мертвое тело дочери из коррекционной камеры и отнес его к окну, где стоял операционный стол. В лучах заходящего солнца лицо девочки выглядело каким-то умиротворенным, словно ребенок просто заснул, – глаза закрыты, руки сложены на груди, рот приоткрыт… Накамура включил реанимационные системы, не собираясь ими пользоваться. Если все получится, то ему нужно подстраховаться, изобразить, что он пытался спасти тело и не рассматривал возможность переноса сознания. Он подумал, что если все получится, то он найдет для матери Вэдимаса другое тело. Иначе начальник «Тиктоники» никогда не простит его.
Пара случайных пуль, пробив стену, вспороли кушетку и пробили насквозь спинку жесткого стула. Сражение проходило где-то совсем рядом. Сражение, которое представлялось Накамуре столкновением двух армий, где смерть настигает солдат каждое мгновение… Еще пара случайных пуль пробили стену. Накамура почувствовал, как одна из них обожгла ему щеку. Он прижал ладонь к лицу, проверяя, нет ли крови, чтобы Юмико, очнувшись в теле взрослой девушки, не испугалась, когда он подойдет к ней. На лице крови не было. Кровавое пятно разрасталось на груди.
– Нет, – сказал причудливой судьбе Накамура. – Не сейчас. Не надо.
Но судьбе было плевать.
* * *
Макото поднимался по лестнице, оставляя за собой разрубленные тела силовиков. Он не считал, сколько забрал жизней, но сегодня, кажется, он уже превысил все прежние рекорды других убийц.
Раф Вэдимас ждал якудзу в одном из самых защищенных помещений реабилитационного центра. Шестнадцать силовиков рассеялись по углам, готовые открыть огонь. Если бы сейчас кто-нибудь решил ворваться в здание тюрьмы, то его, кроме электронных систем защиты, никто бы не встретил. Все силовики были здесь. И большая их часть уже была мертва, но об этом Вэдимас не особенно волновался – силовиков всегда можно набрать новых, благо, технократы подняли им уровень жизни так высоко, что желающих всегда будет больше, чем погибших. Единственным, что смущало Вэдимаса, было сообщение одного из силовиков о побеге.
«Зачем заключенному, успешно прошедшему корректировку, бежать из реабилитационного центра?» – спрашивал себя Вэдимас. О том, кто совершает побег, силовик не успел сообщить. Вэдимас надеялся, что это был Семъяза. Что ж, если якудза решил снова переступить закон, то делал он это ради Шайори. А если так, то они будут на одной стороне в битве против якудзы, которых прислал отец Шайори – оябун клана Гокудо. «Ничего личного», – сказал себе Вэдимас. Ничего личного, пока Шайори остается жива. Если она погибнет в «Тиктонике», тогда можно ждать неприятностей. Отец хочет наказать, убить дочь за предательство, но отец не простит, если кто-то другой поднимет на его дочь руку. Поэтому Вэдимас отправил Шайори в одну из самых защищенных частей помещения и велел трем силовикам приглядывать за ней. Вэдимас не думал, что якудза, который прорывался сюда, допустит оплошность и убьет дочь своего оябуна, но вот от случайной пули никто не застрахован. Поэтому пусть на пути пули окажутся силовики.
Вэдимас проверил свое оружие, заряженное интеллектуальными пулями, и приготовился встретиться с молодым убийцей, который, поднявшись по залитой кровью лестнице, стоял в дверях, оценивая обстановку.
* * *
Когда двери лифта открылись, Семъяза активировал нейронную татуировку невидимости. Он ожидал, что его окатит град пуль, но все пули уже неслись к Макото. Его наномеч раскалился, отражая нападение. Активированные нейронные татуировки работали на пределе. Но силовики не могли остановить его. Не могла остановить его и электронная система защиты, переведенная в боевой режим. Под силу им было лишь задержать якудзу.
Понимая это, Вэдимас выжидал, перемещался за баррикадами, выгадывая момент, когда можно будет воспользоваться интеллектуальными пулями. После, когда начнется расследование, можно будет сказать, что эти пули принадлежали напавшим на комплекс убийцам. Вэдимас заметил, как открылись двери лифта и как, оставаясь невидимым, Семъяза вырубил вставшего у него на пути силовика. Но как бы там ни было, этот якудза сейчас был на их стороне. Если бы у Вэдимаса был наномеч, то он передал бы его Семъязе. Пусть хищники сражаются с хищниками. Они ищут смерти, а он, Вэдимас, хочет жить, хочет встретить свою семью и завтрашний день. Ему еще нужно спасти сознание старой матери. Причем последнее сделать придется спешно, пока не началось расследование. Потом, чтобы не осталось следов, можно будет уничтожить коррекционный центр.
Вэдимас увидел краем глаза, как отключилась нейронная татуировка невидимости. Семъяза появился из пустоты, лишившись оптического обмана. Увидел его и Макото. И Шайори. Она выскользнула из своего укрытия и начала пробираться к Семъязе. Макото собирался добраться до него первым. Вэдимас видел эту новую цель, которую поставил себе молодой якудза. Начальник «Тиктоники» прицелился, дождался, когда Семъяза разрядит магазины, пытаясь ранить пришедшего за ним убийцу, и выстрелил. Шесть интеллектуальных пуль устремились к цели. Но на этот раз Макото был готов встретить их. Вернее, не встретить, а обмануть, смешавшись с силовиками. Вэдимас вздрогнул, когда две пули поразили охранников. Остальные, пробив стену, устремились в коррекционный центр. Фонтан крови брызнул из разрубленного наномечом силовика. Вэдимас разрядил обойму, не особенно заботясь о том, кто еще пострадает от этих пуль.
– Нужно бежать, – сказал Семъяза, когда Шайори добралась до него. – Я слишком слаб, чтобы сразиться с этим убийцей.
Он не надеялся уцелеть, но сейчас с ним Шайори было проще сбежать, чем без него. Тем более модуль бегства был все еще исправен. Семъяза активировал его. Анализ вентиляций и стен показал недостатки конструкции, допущенные мирными архитекторами, которые никогда не думали, что здесь развернется новая мировая война. Семъяза ударил в стену, отрывая слой шпатлевки, скрывавший трещину. Теперь вставить в щель шокер, выбрав режим перегрузки. Семъяза отвернулся, прикрыв Шайори своим телом. Взрыв был несильным, но этого хватило, чтобы образовался разлом. Нейронные татуировки редко подводили. Сейчас одна из них показывала, что если не сменить локацию, то шансов на спасение нет.
– Давай пролезай в разлом! – крикнул он Шайори, но она уже и сама поняла, каков их план.
Понял это и Вэдимас, последовав за беглецами, но разлом оказался слишком узким для его комплекции. Извиваясь как змея, Вэдимас еще пытался протиснуться в соседнее помещение, когда Семъяза вырубил его. Вэдимас обмяк. Его тело, словно став густой массой, вытекло из пролома и распласталось на полу. Семъяза взял из руки Вэдимаса заряженное интеллектуальными пулями оружие – это был, конечно, не наномеч, но при удачном стечении обстоятельств оружие давало шанс в борьбе с Макото. А шансы сейчас были ох как нужны. Пусть и самые призрачные.
* * *
– Нет, нет, пожалуйста, не стреляйте! – закричал доктор Накамура, уставившись на полуобнаженного якудзу, забрызганного чужой кровью.
– Мы не убийцы, – сказала Шайори.
– Нет? – Накамура смерил девушку недоверчивым взглядом.
– Папа, кто это? – спросила неестественно детским голосом молодая женщина в больничной пижаме.
Для Юмико происходящее было лишь игрой – так сказал ей отец. Игра, в которой она каким-то чудесным образом оказалась в теле взрослой женщины. Очень взрослой, почти старой, как казалось Юмико.
– Ну ты ведь хотела быстрее вырасти, – сказал Накамура.
Он накачал себя наностимуляторами и надел хирургический халат, чтобы дочь не видела его ранения. Главное, чтобы она не опустила голову и не заметила лужу крови под его ногами. Юмико не заметила. Заметили Семъяза и Шайори. За стеной в соседнем помещении продолжалось сражение. Накамура не был хирургом, но он разбирался в ранениях. Его дочь убили интеллектуальные пули. Его самого убили эти пули. Да, именно убили, потому что наностимуляторы скоро выжмут из тела оставшуюся энергию и настанет конец. Ранение смертельное – он доктор, и он разбирается в этом. Единственным желанием было увезти из «Тиктоники» дочь, пока Вэдимас не узнал, что донор для его матери был использован, чтобы спасти Юмико.
Накамура не сомневался, что, как только его не станет, Вэдимас реквизирует тело женщины, в которой сейчас находилась Юмико. Сознание его дочери прекратит свое существование. Вэдимас сделает это, даже если не сможет спасти свою мать. Сделает, чтобы замести следы. Единственным шансом спасти дочь было добраться до дома, объяснить все сестре и велеть ей бежать, прятаться. Может быть, у Мэрико было много недостатков, но детей она любила. По-своему, но любила. Вот только где найти силы, чтобы добраться до своего дома?
– Так это все из-за тебя? – спросил Накамура, уставившись на Семъязу. – Убийцы с интеллектуальными пулями пришли за тобой?
Шайори увидела тело дочери доктора, которое лежало на операционном столе, скрытое ширмой от Накамуры и женщины с детским голосом.
– Убийцы пришли за Семъязой, но вашу дочь убил Вэдимас, – сказала Шайори. – Я была там. Он стрелял в якудзу, но промахнулся.
Слова Шайори заставили Юмико вздрогнуть. Воспоминание было ярким и сочным. Воспоминание боли. Это заметила Шайори. Это заметил Накамура. Другие доказательства были лишними.
– Нужно уходить, – сказал Семъяза.
Он понимал, что Макото не станет следовать за ними сквозь пролом в стене, превращаясь в легкую мишень. Но молодой убийца скоро разберется с силовиками и найдет другой путь.
– Вам тоже нужно уходить, – сказала Шайори доктору. – Вам и вашей дочери.
– Моей… – Накамура больше не думал, что происходящее напоминает разверзшийся ад. Теперь так оно и было. И если Вэдимас действительно стрелял в его дочь, то… То он найдет ее любой ценой и заставит замолчать. Никто не спасет ее. Никто не сможет спрятать. Все было напрасно. Интеллектуальные пули, Вэдимас, якудзы – нет, в этом безнадежном мире невозможно уцелеть…
Ноги Накамуры подогнулись, мир затянула тьма. Он упал в лужу собственной крови. Наностимуляторы продолжали поддерживать в нем жизнь, но энергии его тела уже не хватало им для исправной работы. Накамура мог только смотреть и думать, но не слышать, не чувствовать. Все стихло, замерло.
– Папа? Папа, что с тобой? – плакала над ним маленькая Юмико в теле взрослой женщины. – Папа! Папа! Папа…
Нейронная татуировка любви, которую Шайори тайно сделала в знак протеста правилам семьи и клана, воспользовавшись услугами мастера-самоучки, интегрировавшего жидкий модуль ей в ступню настолько плохо, что механизм довольно часто сбоил, активируясь, когда Шайори не хотела этого, снова включилась. Шайори не знала, сделала она это сама или модуль в очередной раз дал сбой. Да это было и неважно. Главным была девочка, которая плакала над телом отца.
– Эй! – Семъяза растерянно тронул Шайори за руку. – С тобой все в порядке?
Ее слезы смутили якудзу. Чувства Шайори были сильными, яркими. Она помнила свой первый день в «Тиктонике». Доктор Накамура вел ее в палату, где проходил реабилитацию Семъяза, и рассказывал о своей дочери. Казалось, что он всем рассказывает о ней. Она была всем, что у него есть. А он – всем, что есть у нее… Но гармония рухнула, разбилась…
Шайори покосилась на стол у окна, где лежало мертвое тело Юмико…
Если Вэдимас узнает, что сознание девочки уцелело, то он сделает все, что в его силах, лишь бы она никому не сказала, что именно он стал причиной ее смерти.
Шайори подошла к Юмико и обняла за плечи. Девочка вздрогнула, но не отстранилась. Какое-то время она тихо всхлипывала, глядя в мертвые глаза Накамуры, затем уткнулась в грудь Шайори и снова разрыдалась.
Ад разверзся в «Тиктонике», заполнил мир. И бежать было некуда. Ад заполнил сердца…
Семъяза видел, как за окнами в чистом голубом небе висит раскаленный диск полуденного солнца. «Славный день, чтобы жить», – подумал бывший якудза. Выстрелы и крики за стеной в соседнюю комнату начали стихать. Макото покончил с силовиками и был готов продолжить преследование своих жертв. «И славный день, чтобы умереть», – отметил Семъяза. Он не боялся ни жизни, ни смерти, поэтому просто ждал, что будет дальше…
Глава шестая. Синергик и мастер по имени Ючи
Боксерский матч затягивался. Необычный матч. Человек и машина. Они кружили по рингу, калеча друг друга, готовые перегрызть друг другу глотки. Тек-инженер по имени Ючи сидел в первых рядах, но в отличие от бесновавшейся публики совершенно не следил за боем. Его привлекала девушка, которую бой буквально очаровал. Вместе с толпой она вскрикивала и задерживала дыхание. Вместе с толпой радовалась успехам и неудачам боксеров на ринге. Человек и биологическая машина. Ючи знал, чем закончится поединок, а вот девушка – нет. Все уже было оплачено и оговорено. Синергик не может стать чемпионом. Ючи сам писал программу сознания. Организаторы щедро платили за шоу. Тотализатор работал исправно. Десяток боев был честным, но последний – продан еще до того, как его организовали. Конечно, потом будет созвана комиссия, сознание синергиков изучат, попытаются отыскать запрограммированные бреши в защите и доказать необоснованность залитых в их биосинтетический мозг комбинаций атак… Но комиссия ничего не найдет. Ючи знал, что не найдет. Такое уже было. Он работал тонко, изящно. Никакого сбоя. Никакой коррекции тактики и ведения боя. Синергик бьет в полную силу, закрывается, ныряет, уходит от ударов и жалит, жалит, жалит… Но шансов на победу нет.
Ючи слышит, как толпа ахает. Да. Сейчас Синергик закрывается у канатов. Боксер-человек наносит сокрушительные удары в корпус. Теперь в голову и снова в корпус. Ничего нового. Программа работает исправно. Тактика. Синергик заманивает противника, работает на публику. Его защита кажется вялой, но это не так. Все важные органы закрыты. Все доступные для повреждения механизмы недосягаемы для кулаков противника. Ючи не нужно смотреть на ринг, чтобы видеть все это. Он – Творец этого синергика. Он – Бог этого поединка.
Сейчас боксер-человек нанесет несколько ударов в корпус, теперь в голову. Синергик открывается – тактический ход. Сейчас боксер-человек попытается закончить бой. Он чувствует, что ему это под силу. Весь зал это чувствует. Ючи следит за глазами женщины в сиреневом платье – азарт и разочарование. Они хотят крови, хотят нокаута, но если все закончить сейчас, то шоу можно считать провальным. Но провала не будет.
Боксер-человек оттягивает руку. Кулак летит в цель – не в челюсть, нет, в голове у синергиков нет мозгов. Мозг в груди. Боксер-человек знает это. Он уже видит свою победу. Весь зал видит его победу, но в этот самый момент синергик ныряет в сторону и начинает контратаковать. Зал ахает. Кровь боксера-человека долетает до зрителей в первых рядах. Пара бурых капель темнеют на сиреневом платье женщины, за которой наблюдает Ючи. Все ждут сенсации. Синергик зажал чемпиона в углу. Это уже не бой, это избиение. Зрители гудят, ревут, но чемпиона спасает гонг. Все как и запланировано.
Машины редко дают сбой, редко допускают ошибки. Вернее, не машины. Дают сбой прошивки, которые заливают в них перед боем. Прошивки Ючи идеальны. Червь защиты спрятан глубоко. Программа ведения поединка не имеет к этому отношения. Червь скрыт в личности синергика. Базисы восприятия взаимодействуют с системой рецепторов. Синергик видит, чувствует, пропускает информацию через биологические цепи главного процессора. И червь поражения заложен именно здесь. Чемпион отправит синергика в нокаут в том самом углу, где биомашина едва не разделалась с ним. Люди любят трагедию, но техномозг не понимает трагедий. Техномозг взаимодействует с миром.
Истоком поражения станет кровь чемпиона. Кровь и свет одного из прожекторов, направленных на ринг. Отблески отвлекут синергика, вызовут едва заметный провал восприятия – тот самый червь. Это не приведет к нокауту, но чемпион сможет ударить противника в голову. Защита не поможет. Рецепторы дадут сбой – не явный, но достаточный, чтобы при следующей атаке, большая часть ударов которой придется в защиту, зрительное восприятие синергика лишилось фокусировки. Комитет проверки будет искать червя именно здесь, но червь сделал свое дело уже давным-давно. Финал предрешен. Ючи знает это, но публика – нет. Для нее бой – это игра случая, для него – математика. Бесконечное уравнение, в котором учтен боксер-человек, особенности чемпиона, его реакция, приемы. Синергик может выиграть сотню боев, но проиграть чемпиону. Именно этому чемпиону. И бой неинтересен. Поэтому Ючи и смотрит на девушку в сиреневом платье. Отчасти это тоже математика.
Все можно просчитать. Еще пара секунд – и девушка обернется. Сознание человека – это почти что программа синергика, только с претензией на то, чтобы стать личностью – сложная последовательность переменных, на которую постоянно действует ряд внешних изменяющихся факторов. Учесть переменные внешней среды, учесть постоянные величины базисов личности… Девушка в сиреневом платье поворачивается и смотрит на Ючи, но именно в этот момент Ючи смотрит на ринг. Это часть уравнения. Он ждет еще один раунд, когда девушка снова посмотрит на него. Он снова смотрит в этот момент на ринг, но на этот раз поворачивается, встречается с девушкой взглядом и улыбается. Она улыбается в ответ. Ючи заинтересован девушкой, но девушка думает, что это она заинтересована им.
– Хороший был бой, верно? – спрашивает Ючи, когда чемпион наконец-то отправляет синергика в нокаут.
Уравнение работает. Математика не терпит ошибок. Ошибки видны сразу. И желания здесь ни при чем. Невозможно подстроить реальность под себя. Можно лишь подстроиться под реальность. Поэтому Ючи выбрал девушку в сиреневом платье, а не девушку в красном, хотя в красном ему нравилась больше. Виной всему переменные факторы. Виной всему постоянные величины. Меняются формулы – меняется результат. Для каждой ситуации свой набор. Для каждой задачи свои числа и последовательности.
Жизнь Ючи – это тоже последовательность. Затянувшаяся последовательность. Задачи и цели в длинной череде преднамеренных случайностей, где задачи и цели нового дня равны сумме задач и целей дней предыдущих – линейное соотношение, где лишь старость видится чем-то неизменным, монолитом растущей опухоли, способной уменьшить суммы задач и целей, сократив громадность уравнения личности до мизерности ее роли в обществе, в линейности исторического соотношения.
– От тебя пахнет женщиной, – говорит синергик по имени Файлин, когда Ючи возвращается утром в свой временный дом, который постоянен неизбежностью вечных переездов.
– Конечно, от меня пахнет женщиной. Сейчас же утро, – говорит Ючи синергику.
У биологического робота синие волосы и зеленые глаза. У девушки в сиреневом платье были черные глаза и черные волосы. Черные волосы везде. Ючи проверил это сразу, как только они оказались в такси. Не то чтобы ему это нравилось, но после того, как он провел ночь с девушкой, которая прошла процедуру, удалившую все волосы на ее теле, он понял, что для него лучше, если все будет по старинке. Пусть девушка ходит к парикмахеру, выщипывает брови, избавляется от волос на теле. Пусть они отрастают. Пусть они иногда колют тебя… Это лучше, чем когда девушка полностью избавилась от волос. Вы приходите в отель. Она снимает парик, снимает накладные брови и ресницы, потому что если этого не сделать, то в пылу страсти ее бровь может оказаться у вас на щеке. Да и к лысому черепу нужно привыкнуть. Как, впрочем, и ко всей подобной красоте нужно привыкнуть. В это уравнение необходимо вносить личностные постоянные. Это как отношения с синергиком.
– Все, что ты делаешь с ними, ты можешь делать со мной, – говорит Файлин Ючи.
– Нет, не могу, – качает он головой.
Они вместе почти десять лет – Ючи и Файлин. Из этих десяти лет последние семь Файлин живет в теле синергика. До этого она была просто девушкой, а Ючи был просто тек-инженером, которому не нужно было бежать и прятаться. До этого жизни Файлин и Ючи были разными уравнениями, нашедшими достаточно общих постоянных, чтобы создать на двоих что-то временное и переменное. Сначала просто долгая ночь в отеле – они даже не узнали имен друг друга. Потом утро. Нижнее белье в молочной белизне рассвета – розовое с черными вставками. Окно открыто. Файлин одевается.
– Как тебя зовут? – спрашивает Ючи.
– А тебя? – спрашивает Файлин.
Она стоит к Ючи спиной. На правой лопатке нейронная татуировка судьбы. Такая же татуировка есть у Ючи. «Судьба» обозначает, что все в жизни подчинено логике, все находится под контролем бесконечных уравнений случайности, причин и следствий. Если активировать этот модуль, то он покажет сотни возможностей и вероятностей, меняющихся каждое мгновение. К этому сложно привыкнуть. А если привыкнешь, то навсегда лишишься оргазма неожиданности. Сложно удивить человека, способного предвидеть практически все. Да это уже и не человек почти. Скорее сложная биологическая машина. И как некоторые синергики стремятся к человеку, так и люди стремятся механизировать свои чувства, эмоции, поступки. Синергики от этого сходят с ума. Уравнения не работают. Они становятся бесполезными для общества, и за ними посылают силовиков, которые доставляют вышедшие из строя машины в центры переработки. Нечто подобное происходит и с людьми. Если пользоваться татуировкой судьбы слишком часто, то шизофрения и маниакальная депрессия тебе обеспечены. Смысл жизни стирается, тает.
– Почему я не видел твою татуировку, когда мы были в постели? – спрашивает Ючи.
– Потому что ты должен был спросить об этом сейчас, – говорит Файлин.
Еще одно уравнение. Еще одна прогнозируемая случайность.
– Забавно, – говорит Ючи, – в какой-то момент я и сам думал об этом.
Он показывает свое запястье. Файлин смотрит на иероглиф судьбы.
– Ну что ж… Кажется, наши модули работают в унисон, – говорит она.
Ючи хочет спросить, пользовалась ли она своей татуировкой, когда они занимались сексом, чтобы предугадать его желания, но не спрашивает. Не спрашивает и Файлин, хотя в голове тот же вопрос. В эту ночь они дополняли друг друга, понимали, предвидели каждое желание. Как наномеч якудзы является продолжением его руки, так их тела сегодня продолжали друг друга. Их гениталии стали соединительным шлейфом. Их тела – сложными биологическими системами, созданными дополнять друг друга.
– Нужно будет как-нибудь повторить, – говорит Ючи.
Файлин улыбается и продолжает одеваться. Одежда скрывает ее тело. Ючи пытается вспомнить, как началась эта ночь, вспомнить обратный процесс, когда тело Файлин обнажалось перед ним, а не пряталось от него. Странно, но он не помнит. Минувшая ночь похожа на связь в нейронной сети, когда можно пропустить прелюдии и сразу перейти к делу. Вот только сейчас Ючи не хочет ничего пропускать. Ему не нужны нейронные образы, он хочет реальных воспоминаний.
Файлин уходит. Не остается ничего, даже запахов. Лишь только минувшая ночь цепляется к ресницам, тянет их вниз. Ючи принимает наностимулятор. Крошечные механизмы выкачивают из его тела энергию, пропускают сквозь себя и стимулируют мозг, прогоняя сон. Никаких последствий, пока ты молод. Микромашины справятся даже с похмельем.
Ючи одевается – молодой инженер на токийской фабрике синергиков. Во время учебы он никогда не был лучшим. Пытливым – да, лучшим – нет. Тем более что технократы-лекторы никогда не поощряли любопытных. Изучать и совершенствовать – таким был их девиз. На фабрике синергиков тоже был какой-то девиз, вот только Ючи давно перестал обращать на все эти девизы внимание.
Его перевели в отдел брака и поставили на карьере крест. Особенно смущала управляющий персонал нейронная татуировка судьбы, которую Ючи сделал еще в годы учебы. Ему предлагали избавиться от этого модуля за счет фабрики, но он отказался. Нет, Ючи не был революционером, скорее реинкарнацией умного хипстера. Не нравились ему и технологические нигилисты, хотя их представители пытались завязать с ним дружбу, надеясь с его помощью проникнуть на фабрику. Они ненавидели синергиков, считая их главным атрибутом технократии, в сути которой лежит превращение человека в машину.
«Чокнутые ублюдки», – думал о них Ючи. Однако изучив пару исторических нейронных отчетов о подрывной деятельности революционеров, разработал и интегрировал в одного из поступивших в отдел брака синергиков прототип личности латиноамериканского революционера Эрнесто Гевары. Это была просто шутка, призванная скоротать свободное время. Мозг синергика был поврежден и не подлежал восстановлению. Его все равно должны были отправить на переработку, но, когда технократический персонал фабрики узнал о том, что сделал их сотрудник, его не только уволили, но и отдали под суд.
Процесс был показательным, но наказание не предусматривало ни штрафов, ни отправки в коррекционные тюрьмы. Ючи обвиняли в злоупотреблении служебными обязанностями и хранении запрещенных законом нейронных реконструкций. Ючи не относился к процессу серьезно, а когда суд постановил понизить его социальный статус до уровня начинающего помощника инженера, вообще решил, что проще будет избавиться от жидкого чипа идентификации, который система образования интегрировала в его тело в выпускных классах школы.
Процедура была простой и безболезненной. По сути, Ючи просто выбросил свой паспорт и трудовую книжку. Да и не нравилась ему идея, что в его теле находится активный модуль, созданный технократами. Кто знает, на что еще кроме сбора и передачи информации он способен? У синергиков, например, этот модуль был напрямую подключен к нервной системе. Технология была экспериментальной, Ючи сам десятками удалял эти модули, мешавшие нормальному функционированию систем биороботов, когда еще работал на токийской фабрике по их ремонту и утилизации, но кто знал, какими будут следующие модели? Да и правительство никогда не скрывало, что в основе идеального общества видят тоталитарную технократию.
В общем, Ючи сделал пару официальных запросов на удаление модуля идентификация, получил отказ и обратился к нелегалам, жалея лишь о том, что жидкий чип придется выводить из организма естественным путем, разрушив его целостность. Старый тек-мастер приготовил нанораствор и впрыснул его в кровь Ючи. Чип должен выйти из организма с потом в ближайшие три дня.
– Ты будешь потеть своим социальным статусом, – пошутил тек-мастер.
Ючи понравился его имплантированный левый глаз, превращенный в высококачественную камеру с большим приближением. Если бы у него самого была такая штука, когда он работал на фабрике синергиков, то ремонт сложных механизмов занимал бы намного меньше времени. (Забегая вперед можно сказать, что спустя три года наличие такой камеры станет обязательным для сотрудников ремонтного и сборочных отделов фабрики). Но вместо камеры в тот день Ючи решил сделать себе нейронную татуировку памяти.
Тек-мастер принял заказ, но предупредил, что интеграцией будет заниматься другой человек. Ючи сказал, что ему плевать, но когда три дня спустя пришел заказанный модуль и Ючи явился в салон, то его встретила Файлин. Встреча не была случайной.
Интеграция модуля памяти продолжалась больше часа, и все это время Файлин расспрашивала его о судебном процессе. Особенно ее интересовала возможность интеграции в синергика спроектированного сознания. О том, что в качестве прототипа Ючи использовал образ латиноамериканского революционера, она вообще не могла говорить спокойно – глаза вспыхивали, на щеках появлялся румянец. Ючи мог поклясться, что Файлин возбуждает эта идея, возбуждает как женщину. И этот ее румянец на щеках, эти горящие глаза… Ючи чувствовал, как возбуждается вместе с ней…
Их союз был странным и нелогичным – особенно если учесть, что один осознанно удалил из своего тела идентификационный модуль, вычеркнув себя из социальной технократической системы, а другая всеми силами старалась повысить свой социальный статус. Они никогда не рассказывали друг другу о своих семьях, но разительные отличия были и там. Да везде, наверное, были различия – в характерах, взглядах на жизнь. Но ночью, в моменты близости, все эти различия ничего не значили…
Ючи и Файлин прожили вместе больше года без единой ссоры. Ссоры начались, когда Ючи стал работать на клан Тэкия, программируя для них синергиков.
– Ты хоть понимаешь, как низко падет мой идентификационный статус, если система узнает, что ты связан с якудзой? – кричала Файлин.
– Причем тут я? – спрашивал Ючи.
– Как думаешь, сколько потребуется времени, чтобы система вычислила всех, с кем ты живешь?
В тот день Файлин ушла. Они не виделись шесть долгих безумных месяцев для Ючи, за которые он успел увязнуть так глубоко, что назад пути уже не было. Да Ючи и не хотел назад. Клан доверял ему, а все те исследования, в которые он был посвящен, стоили того, чтобы из реинкарнации хипстера превратиться в отступника технократии.
Взяв за основу технологию коррекционных тюрем, они работали над переносом сознания из одного человека в другого. Кем были добровольцы, Ючи старался не спрашивать – первыми были ренегаты с низов, семьям которых клан заплатил большие деньги. Им стерли личности, превратив тела в идеальных доноров, готовых принять личность другого человека.
Первые пересадки были кошмарны – потери воспоминаний составляли до восьмидесяти процентов. Люди не помнили даже своих имен. Но проект не стоял на месте, алгоритм передачи и хранения сознания совершенствовался. Это не была вечная жизнь, нет – сознание неизбежно разрушалось, но это был шанс. Шанс для одних и конец для других.
Ючи извлекал сознания из смертельно больных людей и помещал в искрящиеся светом капсулы. Каждая такая капсула могла сохранять извлеченное сознание почти месяц, потом начинался распад личности. Капсул было много, и Ючи не знал, куда отправляют тех, кому не нашлось донора. Из дюжины извлеченных сознаний клан нашел доноров лишь для троих, да и то первого перезаписывали трижды, так что в конце его мозг оказался непригодным для процедуры.
В те дни Ючи и начал свой независимый проект, предполагавший использовать в качестве донора тело синергика. Да, это не будет полноценное тело, но лучше уж жить в биомеханическом теле, чем встретить смерть. Клан выслушал идеи Ючи и дал добро. Вот тогда-то он увяз окончательно. Проект стал смыслом жизни. Помнил ли Ючи о Файлин? Да. Хотел ли ее вернуть? Только если она примет его таким, какой он есть. Но этого бы никогда не случилось. И чтобы это понять, не нужно было активировать нейронную татуировку судьбы. Но переменные в уравнении жизни всегда есть. Если бы интегрировать в тело каждого человека чип, который будет следить за перемещением, считывать мысли и желания, затем подключить все это к системе с открытым доступом ко всем механизмам наблюдения и слежения, включая погодные и тектонические, то тогда, вероятно, появилась бы возможность предсказать будущее – несколько минут будущего, сократив бесконечность вероятностей до пары сотен, но…
С Ючи связались люди из клана Тэкия и сказали, что Файлин попала в аварию. Он приехал в больницу спустя час – приехал бы раньше, да на дорогах были пробки, вызванные обвалившейся развязкой моста. Пострадали десять машин. Трое погибших, двенадцать раненых. Файлин находилась в числе раненых, обещая в ближайшие сутки пополнить список погибших.
– Совсем никаких шансов? – спросил Ючи врача.
– Совсем, – сказал врач.
Ючи кивнул, долго сидел в палате. Файлин не приходила в себя. Мозг был жив, но сознание словно боялось очнуться и увидеть свое изуродованное тело. Сознание, которое можно спасти. Молодая безучастная медсестра вошла в палату, проверила других пациентов, не взглянув на Файлин. «Они уже поставили на ней крест», – понял Ючи. Неожиданно медсестра тронула его за плечо и спросила идентификационный статус.
– Это для документов, – сказала она. – Пока вы единственный, кто пришел к ней, так что…
Медсестра окинула Ючи пресным взглядом. Одежда на нем была дорогой, а в этой дешевой больнице казалась вообще неприличной, но Ючи так и не понял, оценила это медсестра или нет.
– Ваш социальный статус нужен для того, чтобы мы определились с похоронным агентством, – сказала она. – Обычно мы используем социальный статус пациента, но… – она впервые посмотрела на изуродованное тело Файлин. – Нет возможности просканировать ее модуль. Наверное, пострадал вместе с телом. Поэтому… Если вы не возражаете…
– Возражаю, – хмуро сказал Ючи, не желая объяснять, почему удалил свой модуль.
Безучастная медсестра нахмурилась, кивнула и вышла из палаты, предупредив, что Ючи лучше уйти, если он пытается скрыть свой идентификационный статус.
– У вас есть еще пять минут, – сказала медсестра.
Ючи ушел раньше. Если бы тело Файлин пережило перевозку, то он выкрал бы его из больницы, а так… Так пришлось пользоваться переносной станцией коррекции, платить охране, платить врачам. Ему дали час, потом он сам по себе.
– Час – это хорошо, – сказал Ючи.
Он успел трижды скорректировать цикл извлечения сознания, доведя процент погрешности до тридцати. Ючи не спрашивал себя, согласилась бы или нет на эту процедуру Файлин, если бы была в сознании. Он спас столько жизней за последние месяцы, почему же он не может спасти Файлин? Да и извлечь сознание из тела не так сложно – незаконно, но несложно. Вот с донором куда больше проблем. И с последствиями. Люди из клана Тэкия связались с Ючи спустя два часа после того, как он покинул больницу, оставив тело Файлин, забрав ее сознание. Оно лежало в кармане, искрясь светом в крохотной капсуле, которую можно раздавить двумя пальцами. Вот за это уже отправляли в коррекционную тюрьму. Об этом говорили ему люди клана Тэкия, но Ючи и сам знал. Когда удаляешь себе жидкий чип идентификационного статуса, то, наверное, уже в тот момент готовишься к чему-то подобному. Хотя сейчас Ючи больше волновало, как поведет себя Файлин, когда очнется.
– Мне бы женщину-донора найти, – сказал наудачу Ючи представителю клана Тэкия.
Сингиин клана по имени Кичиро не то крякнул, не то нервно хохотнул.
– Файлин умеет делать нейронные татуировки, – попытался торговаться Ючи.
Юридический консультант клана Тэкия проворчал что-то невнятное.
– Ладно, – сдался Ючи. – Скажи лучше, что ждет меня за проступок.
Кичиро начал перечислять статьи. Ючи прервал его на полуслове.
– Я говорю не о технократах. Что будет с кланом?
– С кланом? – сингиин Тэкия снова не то крякнул, не то нервно хохотнул. – Это еще не обсуждалось.
Ючи прервал связь, решив, что у него есть в запасе пара часов. Спонтанность никогда не была сильной стороной его личности. Если только с Файлин в постели, но там были только двое, а здесь целый мир. Ючи нащупал в кармане капсулу с сознанием Файлин. Что он любил в ней больше: ее тело или ее личность? Последний вопрос казался крайне важным, потому что сейчас он обладал только ее личностью, у которой больше никогда не будет прежнего тела, а может, никогда не будет и человеческого. Потому что единственное, что мог сделать Ючи, – это поместить сознание Файлин в модифицированный мозг синергика. И на то, чтобы принять решение, у него есть время до утра. Потом глава клана Тэкия узнает, что сделал его инженер. О том, какое решение примет оябун, Ючи старался не думать. Некогда было думать. Он передвигался по городу, стараясь держаться в тени систем слежения. Вряд ли на его поиски мобилизуют весь город, но если поблизости окажется патруль силовиков, то…
Ючи добрался до своей квартиры, превращенной в последние месяцы в крошечную лабораторию, где он пытался доработать мозг синергиков для переноса в них человеческого сознания. Проект находился в начальной стадии. Тела биомашин разукомплектованы. Ючи интересовал только лишь их мозг. Вначале он работал над проектом в свободное время, которого всегда не хватало. Потом Ючи начал брать работу для клана на дом. Ничего серьезного, ничего незаконного – пара сбоивших синергиков из ресторана, пара из борделя. Он занимался программированием, принципиально брезгуя ремонтом моторики. «Пусть моторикой занимаются мясники официальных сервисных центров», – думал Ючи. Отчасти именно этот подход и обеспечил ему рост авторитета в клане, особенно после того, как он начал разрабатывать эксклюзивные программы для синергиков-официантов в ресторанах якудзы. Оябун клана Тэкия, Хидето Инуи, лично отметил работу молодого тек-инженера. Появились первые серьезные заказы, а потом… Все закрутилось, и Ючи уже не мог выбраться из этой воронки.
Сейчас, поднимаясь на лифте в свою квартиру, сжимая в кармане капсулу с сознанием Файлин, он пытался представить себе, как она отнесется к тому, что, очнувшись, обнаружит себя в теле синергика-официантки. Была еще пара синергиков из борделя, но этого бы Файлин точно никогда не поняла и не простила – так Ючи думал тогда, спустя семь лет ему начнет казаться, что идея с бесполым телом синеволосой официантки-синергика была не самой лучшей. Вернее, так начнет думать Файлин – та часть ее личности, которую удастся сохранить. Она захочет снова стать настоящей женщиной. Но в тот день поместить ее разум в сознание синергика из борделя казалось неприемлемым.
Ючи выбирал из тел двух официанток. Цвет их волос и внешность не имели значения – синергики почти все одинаковы, различия лишь в назначении. Ючи выбрал синергика, взяв за основу дату его выпуска. «Пусть будет самый свежий», – решил он, уложил синергика на стол и вскрыл грудную клетку, чтобы добраться до биоэлектронного мозга и заменить его на модифицированный прототип. Теперь оставалось лишь передать в этот мозг сознание Файлин. Система смоделировала процесс и предупредила, что потери при передаче могут составить сорок процентов. Ючи считал: «Тридцать при извлечении, сорок при интеграции… Что останется от личности Файлин в итоге?» Пара корректировок смогли исправить потери на пять процентов. Ючи думал о том, что, возможно, имеет смысл отказаться от затеи. Думал, запуская процесс интеграции. Думал, когда зашивал плоскую, лишенную сосков грудь синергика-официантки. Думал, даже когда Файлин очнулась. Вернее, какая-то часть Файлин.
– Что ты помнишь? – спросил он.
– Что помню? – растерянно переспросила Файлин, не узнала свой голос и нахмурилась. – Как я оказалась здесь?
– Ты помнишь, кто я? – спросил Ючи.
Файлин не ответила. Она поднялась. Тело синергика не слушалось. Ючи в онемении смотрел, как Файлин падает на колени, поднимается и снова падает.
– Что происходит? – спросила она.
– Это пройдет, – пообещал Ючи. – Я доработаю тело и связи с моторикой.
– Связи с моторикой? – Файлин растерянно уставилась на свою руку. Нет, не на свою, на руку синергика – бледную, синтетическую. – Я ничего не чувствую, – она повернулась к Ючи. – Почему я ничего не чувствую.
– Ты помнишь, кто я? – снова спросил он.
Ючи не сомневался, что где-то подсознательно Файлин понимает, что случилось – для этого хватит и двадцати процентов сохранившихся воспоминаний. У нее же сохранилось больше пятидесяти. Пятьдесят семь, если быть точным.
– Ты помнишь…
– Да, я помню, кто ты! – неожиданно закричала Файлин и сразу же замолчала.
На белом лице синергика не отразилось ни одной эмоции. Сейчас это рожденное технократами существо напоминало Ючи гибкую фарфоровую куклу. И кукла смотрела на него, обращалась к нему по имени и просила ответов, которые должна была знать и сама.
– Ты помнишь аварию? – спросил Ючи.
– Аварию? – Файлин замерла, может быть, вздрогнула, но лицо синергика осталось каменной маской.
– Это была случайность, – сказал Ючи.
– Но я совсем ничего не чувствую, – продолжала отрицать то, что уже поняла, Файлин. – Я совсем… Все так… Я… – она огляделась, пытаясь отыскать выход, словно побег мог сейчас все исправить, помочь проснуться.
Ючи видел, как Файлин поднимает ватную, непослушную ногу. Пытается сделать шаг. Нет. К этому легкому, непластичному телу еще нужно привыкнуть. Файлин пошатнулась и начала падать, схватилась за рабочий стол, захламленный микросхемами и частями биомозгов синергиков. Инструменты и запчасти полетели на пол. Пара сосудов с жидкостью для хранения биочастей разбилась. Ючи не двигался. Файлин думала, что это сон, думала, что сейчас это все закончится. Она упала. Халат распахнулся, обнажив плоскую грудь манекена и уродливый шрам, который уже начал стягиваться, зарастать.
– Что ты сделал со мной? – спросила Файлин. Она подняла голову и уставилась на Ючи. – Что ты сделал со мной? – попыталась закричать она. Ее руки синергика вышли из-под контроля и начали хвататься за воздух.
Модуль управления телом синергика запищал, предупреждая о неполадках. Ючи блокировал синоптические связи с установленным биоэлектронным мозгом. Файлин отключилась, уснула, хотя Ючи и не знал, как теперь правильно будет называться это состояние. Ее разум взбунтовался. Тело дало сбой. Все можно исправить. Устройство синергиков лишь кажется сложным, в действительности это намного проще, чем анатомия человека.
Ючи снова связался с сингиином клана Тэкия и спросил, что решил оябун Инуи и последует ли наказание за его проступок.
– Мне нужно бежать или клан все уладит? – Ючи говорил монотонно, отрешенно глядя на тело синергика, в груди которого теперь пыталась жить Файлин.
Где-то далеко снова не то крякнул, не то нервно хохотнул Кичиро.
– Что ты сделал с украденным сознанием? – спросил сингиин.
Ючи выдержал паузу, пытаясь решить, говорить правду или нет.
– Я интегрировал личность Файлин в синергика, – наконец сказал он.
– И какой результат? – спросил Кичиро, и Ючи понял, что клан давно присматривался к его эксперименту.
– Она узнает меня, но не чувствует тела, – сказал Ючи.
И снова сингиин издал странный гортанный звук.
– Так что мне делать? – поторопил его Ючи. – Ждать силовиков или клан обо всем позаботится?
– Клан может выкупить тебя.
– Выкупить? – слово не понравилось Ючи. Ох как не понравилось.
Клан заплатит судьям, заплатит силовикам. Заплатит всем, чтобы на правонарушение закрыли глаза. Заплатит не раз. Это будут систематические выплаты, которые продлятся до тех пор, пока им нужен Ючи, нужен любой, кого они выкупают. Обычно это были якудзы клана и никогда проститутки. Девушек не выкупали. Девушкам просто находили замену, если, конечно, они не занимались чем-то важным для клана, чем-то, что было не связано с борделями.
– Что будет с Файлин? – спросил Ючи.
– Ты продолжишь свой проект, – сказал Кичиро.
– А квартира? Мне нужно на время съехать или же клан отправит своих людей?
– Своих людей? – крякнул Кичиро. – Ты что, кого-то убил?
– Нет.
– Переживаешь за идентификатор своего статуса?
– Ты же знаешь, что я его удалил.
– Знаю, просто решил напомнить, вдруг ты забыл, – сингиин расплылся в улыбке. – Просто продолжай жить. Мы обо всем позаботимся.
Связь прервалась. Ючи сел на первый попавшийся на глаза стул. Чувство было такое, словно его только что поимели. Глупо. Файлин оказалась права – он безнадежно увяз. Думал, что сможет работать на клан и не замараться, не залезть в долги, но не смог. Власть развращает. Ты знаешь, что где-то есть люди, которые уладят любую проблему, и не задумываешься о последствиях. Просто делаешь то, что считаешь нужным. Просто берешь то, что хочешь взять. Причина и следствие. Простейшее уравнение. Файлин видела его, а он, Ючи, нет. Что ж, теперь Файлин жила в теле синергика, лишившись почти половины своих воспоминаний, а он принадлежал клану…
Ючи отрешенно просмотрел отчет об ошибках синоптических связей синергика и Файлин. Биологический робот не отвергал человека, это человек отвергал робота. Последний срыв Файлин стоил ей почти трех процентов воспоминаний, стершихся во время сбоя. Еще пара таких сбоев, и она не вспомнит свое имя. Личность сотрется. Ючи по опыту знал, что, как только воспоминания достигают остаточных сорока процентов, личность начинает меняться. Это уже не тот человек, которого вы знали. Но как остановить распад, когда человек находится в теле синергика, он не знал. Да никто, наверное, в тот момент не знал. Поэтому оставалось активировать системы и попробовать еще раз поговорить с Файлин, объяснить ей все как есть. И если она сможет собраться, успокоиться, то тогда начать работу по улучшению интеграции, а если нет… Что ж, тогда придется принять неизбежность и признать, что все было зря.
Ючи активировал системы. Файлин открыла глаза, уставившись в потолок. Ючи растерянно пытался подобрать слова прежде, чем у нее начнется новый приступ.
– Я умерла, да? – неожиданно спросила Файлин. – Вчера, на мосту. Была какая-то авария…
– Ты еще была жива, когда я извлекал сознание, но тело было уже не спасти, – сказал Ючи.
Файлин кивнула, закрыла глаза. Если бы синергики-официанты могли плакать, то Ючи увидел бы одинокую слезу, скатившуюся по щеке. Но синергики-официанты не могли. Вся эта модель не могла. Ее создавали для закусочных, решив, что лицо у них должно быть женским. Все остальное так и осталось на стадии зародыша. Они были дешевыми и долговечными. Ничего лишнего. Суставы усилены, чтобы выдерживать круглосуточную работу. Потребление энергии минимально. Это был один из самых простых вариантов, хотя встречались синергики и без голосового модуля, но это в основном был уже вторичный товар, которым незаконно торговали на черном рынке. Приобретая такого синергика, всегда можно было ждать, что настанет день и на пороге появятся силовики, прозванные в народе технологическими инквизиторами. Они конфискуют незаконно приобретенный товар и выпишут повестку в суд, где вам назначат сумму штрафа и процент снижения идентификации социального статуса.
– Что теперь со мной будет? – спросила Файлин.
– Если ты будешь отвергать тело синергика, то твои воспоминания продолжат стираться и ты перестанешь существовать как личность, – сказал Ючи.
Файлин кивнула. Какое-то время они молчали.
– А мое тело? То есть это тело, в котором я сейчас. Я смогу что-нибудь чувствовать или так будет всегда? – спросила Файлин.
– Думаю, я смогу частично это исправить. Когда-нибудь. Не сейчас, но если клан начнет вкладывать в проект деньги, то скоро ты получишь осязание.
– А запахи?
– Думаю, если я смогу интегрировать одно чувство, то с другими тоже не будет проблем. Может быть, не так, как это было раньше, но…
– Но это лучше, чем смерть?
– Да.
– А если бы на моем месте был ты? Какой бы выбор ты сделал?
– Я не знаю.
– Но ты бы хотел иметь право?
– Наверное, да, но в твоем случае… Ты умирала…
– Я понимаю.
– И ты не злишься?
– Злюсь.
Они снова на какое-то время замолчали, затем Ючи, чувствуя нарастающую обиду, рассказал, чем ему пришлось пожертвовать, чтобы спасти Файлин.
– Я же говорила, что ты утонешь в этом, – сказала она.
– Ты это запомнила?
– Да.
– Что еще?
– Многое, но… Я совсем не помню детства. Знаю, кем были родители, но не помню, как они растили меня. Не помню, как училась. Знаю, что умею делать нейронные татуировки, но не знаю, кто показал мне это… Просто темнота… Это ты уже не сможешь исправить, да?
– Не смогу, но если ты примешь это тело, то потерь больше не будет.
– Ты называешь это телом?
– Это просто синергик.
– Так я теперь стала манекеном?
И снова молчание: тягучее, мучительное.
– Если хочешь, то я могу отключить тебя, – предложил Ючи, боясь, что у Файлин сейчас случится еще один срыв.
– Совсем? – спросила она.
– Да, – соврал он.
– Тогда отключай.
Прощальных слов не было – Файлин хотела умереть, а Ючи знал, что этот разговор не будет последним. Он просто прервал синоптические связи биомозга с телом.
Ючи не решился покидать квартиру, да и все нужные запчасти были у него под рукой. Нужно лишь разобрать девушку-синергика из публичного дома, извлечь пару модулей сна и разработать алгоритм, который позволит им взаимодействовать с сознанием Файлин в универсальном биомозге. Можно было, конечно, извлечь сознание и пропустить его через корректор, стерев последний разговор, но кто гарантировал, что на этот раз потери не станут критическими? Что касается модулей сна, то они были разработаны технократами исключительно для того, чтобы узаконить работу синергиков в публичных домах. Модули были предназначены для того, чтобы отключать сознание синергика на заданные промежутки времени, подменяя восприятие биомозга. Фактически получалось, что клиенты платили только за интимные разговоры с синергиком. Все остальное им нужно было совершать с синтетической, обездвиженной оболочкой. Технократы называли это фазами счастливого сна, хотя в большинстве случаев модули деактивировались сразу, как только синергик поступал в бордель.
Ючи надеялся, что использовав этот модуль, сможет выиграть время и разработать алгоритм, способный вернуть Файлин хотя бы частично утраченные органы чувств. А все это время пусть она видит простые человеческие сны, где она сможет быть собой. Где у нее будет прежнее тело, прежняя жизнь.
Так в глубоком, спокойном сне Файлин прожила почти год. Если, конечно, это существование можно было назвать жизнью. Когда она очнулась, то первым чувством было понимание того, что Ючи держит ее за руку. Тепло его ладони волновало.
– Ты никогда не сдаешься, да? – спросила Файлин.
Нет, это не было примирением – может быть, первая стадия смирения и понимания, но не примирение. Для примирения нужно время, диалоги и анализ поступков, а не череда бесконечных снов. К тому же для примирения необходимо четкое понимание себя и своих желаний, а Файлин была далека от того, чтобы понять, кто она теперь и какая роль уготовлена ей в этом мире. Файлин не знала, хочет или нет возвращать себе образ женщины. Все стало относительным: как бесполое тело синергика, в котором было заключено ее сознание, как чувства Ючи, в которых теперь не было страсти, как идентификация социального статуса. Кем она была для общества? Кем она была для самой себя?
– Я бы хотела снова заняться интеграцией нейронных татуировок, – сказала Файлин на третий год своего нового существования.
– И кому ты будешь их делать? – спросил Ючи. – Никто не доверит синергику такую работу.
– Я не синергик.
Файлин начала злиться, и модуль защиты снова отправил ее в глубокий сон. Когда сознание вернулось, вернее, когда Ючи позволил сознанию вернуть себе контроль над синтетическим телом синергика, Файлин увидела своего бывшего любовника и набор для интеграции нейронных татуировок. Ей хотелось поругаться, хотелось причинить себе вред, запретив активировать защитный модуль, но этот набор для интеграции…
– Если сможешь интегрировать нейронную татуировку мне, тогда поговорим о том, чтобы делать это другим, – сказал Ючи.
Он выбрал простейший модуль релаксации, но думая о том, что ей предстоит, Файлин нервничала. Чувства вернулись, тело синергика подчинялось, но… с тех времен, когда она занималась интеграцией нейронных модулей, прошла уже, казалось, целая жизнь, может быть, две жизни. Да и тело у нее тогда было совсем другое. Руки знали, что нужно делать. Опыт. Мышечная память…
– Нет, я не могу, – сказала Файлин. – Давай активируем мой защитный модуль и забудем об этом.
– Ты боишься? – спросил Ючи.
– Я – это уже не я. Понимаешь?
– Ты – та, кого ты в себе видишь, – сказал Ючи.
Он вложил ей в руки наношприц с нейронным модулем и скинул рубашку, подставив левое плечо.
– Будет больно, – предупредила Файлин. – Если я сделаю что-то не так… – она замолчала, потому что Ючи показал ей комплект первой помощи.
– Мы будем готовы, даже если модуль взорвется, – сказал он.
– Тогда останется шрам.
– Не думай о шрамах.
– …Сказал человек мертвой женщине в уродливом теле бесполой машины, – проворчала Файлин.
Ючи устало улыбнулся, и Файлин поймала себя на мысли, что хочет причинить ему боль. Если у нее ничего не получится, то конца света не будет. Она воткнула в подставленное плечо шприц и надавила на поршень.
– Не обязательно сразу делать глубокую интеграцию, – сказал Ючи, словно понял, что Файлин решила причинить ему боль.
– Либо делаем так, как положено, либо никак не делаем, – сказала Файлин, выдернув наношприц из его плеча.
– Ладно, пусть будет как положено, – сдался Ючи.
Интеграция длилась больше двух часов, хотя Файлин могла справиться за сорок минут. Руки не слушались, но сомнений и неуверенности не было. Она знала, что нужно делать и как, и была уверена, что справится с этим.
– Извини, что так долго, – сказала Файлин, промокая свежий рисунок инь и ян.
– Не извиняйся. Ты ведь хотела, чтобы я страдал.
– Немного.
– Теперь успокоилась?
– Немного, – Файлин хотела улыбнуться, забыв, что лицо синергика не способно на это.
Спустя две недели Ючи привел первого клиента – новичок борекудан, который хотел интегрировать нейронную татуировку ловкости. Работа была сложной, но Файлин справилась. Странно, но за множеством недостатков тело синергика давало и ряд преимуществ: твердость руки, точность движений и никакой усталости.
Борекудан был молодым, из бывших байкеров, и от него, казалось, все еще пахнет моторным маслом. Когда он только пришел, то в его глазах не было ничего, кроме сомнений и недоверия, – Файлин понимала, что он здесь только лишь потому, что ему велел прийти клан, который хотел проверить способности синергика с человеческим сознанием. Синергик не разочаровал. Файлин сделала все быстро и качественно. Не прошло и года, как к ней стали приходить якудзы.
Никогда прежде Файлин не думала, что сможет подняться так высоко. Интегрировать нейронный модуль третьего уровня бусидо было честью и подтверждением высших навыков мастера. Единственным, что смущало людей клана Тэкия, было тело их мастера – бесполое, почти безликое. Никто не говорил Файлин об этом в открытую, но, судя по тому, как часто Ючи начал заговаривать о том, чтобы немного изменить ее тело, она поняла, что клиентов смущает ее вид. Файлин отказывалась несколько месяцев.
– Какой смысл притворяться человеком, если я не человек? – спрашивала она, но подсознательно понимала, что все равно рано или поздно согласится.
Собственное синтетическое тело начало казаться Файлин чем-то вроде жидкого чипа идентификации социального статуса, который был у нее прежде. Единственное, от чего отказалась Файлин, – смена лица. Конечно, у синергика-официантки не было функции проявления эмоций, но Файлин уже привыкла к этому лицу. Ючи сказал, что попробует разработать модуль для имитации лицевых мышц, но процесс обещал быть долгим, да и сам клан не видел целесообразности вкладывать в это дело деньги – проще было менять лица.
Иногда в квартире Ючи появлялись новые экспериментальные синергики с человеческим сознанием. Файлин понимала, что Ючи делает это ради нее, чтобы она не чувствовала себя одинокой. И так уж вышло, что менять квартиру им пришлось именно из-за этих людей-синергиков.
Извлеченные сознания были хрупкими и стремящимися к распаду. Файлин должна была вдохновить их, приободрить, но все кончалось тем, что вдохновлять и приободрять приходилось ее саму. Все эти люди-машины угнетали, напоминали о собственной безнадежности. А потом один из синергиков с сознанием человека сбежал, чтобы повидаться с семьей. Это была женщина в идеальном синтетическом теле, выпущенном для дорогого борделя. Если бы не синие волосы и белая кожа, то ее можно было бы в темноте принять за человека. Это был лучший вариант синергика. Файлин не спрашивала Ючи, но сомнений в том, что он лично доработал это тело, у нее не было. Везде пестрели его предпочтения – зеленые глаза, острая грудь, широкие бедра. Понимал ли Ючи, что когда Файлин смотрит на это тело, то видит свое собственное тело, давно ставшее прахом в кремационной камере? Было ли хоть что-то в ее канувшем в небытие теле, что не нравилось Ючи? Было ли хоть что-то в личности Файлин, что он любил?
Когда они были вместе, он так смотрел на нее, словно она была для него всем – жизнью и смертью, надеждой и отчаянием, любовью и ненавистью. Особенно в моменты близости. Файлин поймала себя на мысли, что многое бы отдала, чтобы сейчас увидеть такой взгляд или чтобы забыть о нем. Да. Почему так получилось, что она забыла детство, но помнит этот взгляд? Детство радует и приносит приятную грусть пониманием, что нет в этом мире ничего вечного. Детство изначально говорит тебе, что это лишь временно, так что радуйся, пока можешь, потом останется только память. А этот взгляд любовника, для которого ты и жизнь, и смерть… Этот взгляд претендует на вечность, хотя живет намного меньше детства. Иногда живет всего одну ночь, но столько претензий! И еще нюансов, без которых этот взгляд невозможен. Все должно совпасть: место, время, желание, чувства, эмоции, жизнь… За последние два года Ючи ни разу не посмотрел на Файлин так, как раньше. Он спас ей сознание, но без прежнего тела увидеть прежний взгляд было невозможно.
– Ты мог бы создать нейронную реконструкцию моего тела? – спросила его как-то Файлин.
– Зачем? – растерялся Ючи.
– Мы могли бы… – она смотрела ему в глаза черными глазами синергика, пытаясь подобрать слова. – Мы могли бы… как раньше… когда я еще была человеком… Только теперь в нейронной сети…
– О! – растерялся Ючи, только это не было волнительным удивлением. Файлин услышала только растерянную усталость.
– Забудь! – сказала она. – Сама не знаю, что на меня нашло. Наверное, виной всему тот синергик, которого ты сделал похожим на меня прежнюю. Я просто подумала, что ты… Ну, я ведь никогда не видела тебя с женщиной здесь… Хотя ты, наверное, встречаешься с кем-то… Обязан встречаться…
– Я не делал синергикам тела, как было у тебя, – сказал Ючи.
– Нет? – оживилась Файлин. – А как же Хель? Тот синергик, который живет с нами последний месяц?
– Это серийная модель.
– Серийная модель? – Файлин недоверчиво вглядывалась в глаза Ючи. – Но ведь она так похожа на меня прежнюю…
– Она не похожа на тебя прежнюю.
– У нее мои глаза, моя грудь!
– Ничего общего.
– Еще скажи, что у меня был другой цвет глаз! – выкрикнула Файлин и тут же ужаснулась – а что если в ее воспоминаниях что-то сбилось, и тот образ, то лицо и тело, которые принадлежали ей, в действительности были кем-то другим. – Какого цвета были у меня глаза?
– Зеленые.
– А грудь?
– Не знаю.
– Не знаешь или не помнишь?
– Не знаю, как описать это парой слов. Это же не цвет глаз, верно?
– Ой, ладно, а! – снова начала кричать Файлин, но на этот раз злясь, что Ючи забыл – забыл ее грудь, ее тело, ее всю. – Описать женскую грудь просто! Давай, докажи мне, что любил меня!
Ючи молчал, и это злило Файлин еще больше. Она начала звать синергика с сознанием девушки по имени Хель. Файлин хотела раздеть ее и заставить Ючи смотреть на это тело. Хотела увидеть в его глазах тень прошлого, намек на страсть, возбуждение… Хотя бы грусть об ушедшем времени, но…
– Хель, где ты? – нетерпеливо закричала Файлин.
Так обнаружилось бегство Хель. Бегство синергика с сознанием человека.
У Хель был муж-политик и двое детей. Она помнила их, но совершенно забыла о мире, о своей смерти. Ей казалось, что это какой-то заговор, похищение, возможно, нейронная иллюзия, в которую ее заставили поверить… Файлин завидовала Хель еще и потому, что ее муж заплатил клану, чтобы они вернули ему жену в теле женщины, а не в том образе манекена, которое использовал Ючи для самой Файлин. Это значило, что муж Хель любил ее, а Ючи… Зачем Ючи вообще спас ее, Файлин, если все те годы, что они живут в одной квартире, ни разу не сказал о своих чувствах, ни разу не прикоснулся к ней. Ладно, ему не нравится ее новое тело, но ведь есть нейронные модуляции, где он может реконструировать ее прежний образ. Но он и не думал об этом. Даже когда она заговорила с ним о нейронной модуляции, он не понял, зачем это.
– Ты не любишь меня, – сказала Файлин, в то время как Ючи пытался связаться с сингиином клана Тэкия, чтобы сообщить о бегстве одного из экспериментальных синергиков. – Зачем ты спас меня, если ты не любишь меня?
Файлин кричала весь вечер – ходила за Ючи и капала на нервы. Она успокоилась, лишь когда он обнял ее. Обнял как сестру или друга, но сейчас Файлин хватало и этого. Они сидели на старом диване и ждали звонка от Кичиро. Юридический консультант клана отчитал Ючи за то, что они потеряли синергика, но затем успокоился и пообещал все уладить… Уладить не получилось – Хель задержали прежде, чем до нее добрались люди клана Тэкия. Встретиться со своей семьей она тоже не успела, зато попала на допрос к силовикам, которые занимались свихнувшимися синергиками. Технологические инквизиторы не поверили истории о переносе сознания и прежде, чем проверка подтвердила рассказ Хель, нагрянули в квартиру Ючи.
Это случилось два дня спустя после бегства Хель, когда клан решил, что ее прибрали к рукам либо конкуренты, либо независимые бордели. У Файлин была назначена встреча с якудзой по имени Семъяза. Нужно было интегрировать ему нейронную татуировку маскировки третьего уровня глубины бусидо – долгая и сложная работа, которую Файлин обещала выполнить быстрее и качественнее любого другого мастера в человеческом теле.
О Хель уже не вспоминали. Не вспоминали, пока по ее наводке в квартиру не ворвались технологические инквизиторы. Для них это был лишь незаконный ремонтный центр перепрограммирования синергиков. Они хотели изъять синергиков и арестовать тек-инженеров. О том, что им придется встретиться с якудзой третьего уровня глубины бусидо, силовики не знали. Якудза не двигался. Силовики выбили дверь – якудза и не вздрогнул.
Файлин подняла голову, отрываясь от интеграции нейронного модуля. Силовики увидели синергиков и попытались деактивировать их. Стандартные протоколы не действовали – не так просто отрубить человеческое сознание. Когда технологические инквизиторы поняли, что простым отключением им не отделаться, они скрутили синергиков и нацепили на них наручники. Ючи не сопротивлялся, понимая тщетность подобных попыток, но один из силовиков все равно ударил его в лицо рукоятью шокера.
Файлин не двигалась. Синтетическое тело было нечувствительно к страху. Игла наношприца была глубоко введена в тело якудзы. Одно неверное движение – и модуль будет испорчен. Именно это пыталась объяснить силовикам Файлин, когда они пытались нацепить на нее наручники. Все это время якудза не двигался. Не желая тащить синергиков силой, инквизиторы попытались переключить их тела в режим транспортировки, отрубив питание биомозга.
– Сделаете это, и они умрут, – сказал им Ючи. Его руки были сцеплены за спиной наручниками, лицо разбито. – В этих синтетических телах сознания людей. Отрубите питание мозга – и им конец.
Он говорил это не для силовиков. Он говорил это якудзе. Убийца поднял голову. Его татуированный торс был скрыт простыней – обнажена лишь прорезь в белой ткани и участок тела, с которым работала Файлин. Когда силовики скрутили ее, наношприц выпал, и жидкий модуль вытекал из раны серебристой струйкой. Силовики еще не знали, но смерть уже стояла в дверях. Смерть, пришедшая, прочитав мысли якудзы по имени Семъяза. Прольется кровь, оборвутся жизни.
Якудза поднимается на ноги. Простыня падает на пол. Силовики видят покрытый нейронными татуировками торс. Тот, что ударил шокером Ючи, вскидывает руку. Разряд тока, способный свалить слона, рассекает воздух, выбивает сноп искр, попадая в электронный блок управления, используемый Ючи для коррекции синергиков. Воздух заполняет запах грозы. Трещит сломанная кость силовика. Шокер, на рукояти которого блестит кровь Ючи, падает на пол. Семъяза подставляется под выстрел следующего силовика, но меняет местоположение в последний момент. Электрический разряд попадает в силовика со сломанной рукой. Вспышка боли от перелома гаснет. Силовик падает на пол. Электрические разряды искрят, пробегая по его телу. Якудза скользит по комнате, порхает, словно бабочка с ядовитым жалом. Его старый наномеч просит крови. Он дополняет руку убийцы, продолжает плоть своей гнущейся сталью, которая отрубает конечности и расчленяет тела.
– Теперь ты мой должник, – говорит якудза тек-инженеру перед тем, как уйти.
Ючи знает, что это не треп из вестернов. Слова убийцы всегда что-то значат. Слова становятся болотом, в которое все глубже погружается Ючи. Он должен клану Тэкия, он должен убийце клана Тэкия. Еще он должен Файлин за то, что спас ее. Должен за эту полусинтетическую жизнь. Даже то, что уходя якудза избавил его от наручников, разрубив наномечом цепь, – это тоже долг. Еще один долг.
Избавиться от модуля идентификации мало. Ты не получишь кредит, не найдешь стабильную официальную работу, но твой корабль все равно уже в болоте. Вся эта жизнь – бесконечное болото. Ты можешь утонуть в кредитах и обязательствах. Ты можешь утонуть в долгах кланам и убийцам. Ты утонешь в своих собственных навыках и умениях, а если нет навыков, то утонешь в собственной никчемности. Причина и следствие. Простейшее уравнение жизни, лежащее в основе всего этого мира, поверх которого выписывается последовательность задач и целей в длинной череде преднамеренных случайностей.
– Как думаешь, если мы вернем мне зеленые глаза и острую грудь, ты сможешь снова полюбить меня? – спрашивает Файлин, когда Ючи помогает ей избавиться от наручников.
Вокруг кровь и смерть, а Файлин спрашивает его о любви.
– Если хочешь вернуть себе тело женщины, то верни его ради себя, а не ради моей любви, – говорит Ючи.
Файлин кивает, стирает с лица кровь одного из расчлененных силовиков и спрашивает, много ли у Ючи было женщин, пока она была бесполым манекеном.
– Меньше, чем ты думаешь, – говорит Ючи, освобождая других синергиков с человеческим сознанием.
– Тогда я смогу простить тебя, – говорит Файлин и строит планы о том, какой будет их спальня в новой квартире, куда им придется переехать после того, что случилось сегодня здесь.
Ючи не спорит. Он собирает вещи и снова пытается связаться с Кичиро. И да, из этого болота невозможно выбраться.
Глава седьмая. Электрические сны
Кейко видела сон: долгий, бесконечный сон, который, казалось, будет длиться целую жизнь… Но потом глаза открылись и Кейко увидела странных незнакомых людей. Да и глаза открыл кто-то другой… Не Кейко… Открыл глаза Кейко. Затем закрыл. И снова открыл. Веки не подчинялись ей… Все тело не подчинялось. Она была пленником своей биологической оболочки.
Как это случилось? Воспоминания путаются. Жизнь в Токио. Пара неудачных романов. Несколько случайных связей на одну ночь. Политика… Какого черта она думает о политике? Технократы стремятся к абсолютной власти, к тоталитаризму, как это случилось в северных странах. Но в северных странах партии корпократов практически отсутствуют. Фабрики и заводы принадлежат тоталитарным технократам, заполонивший мир концерн «Синергия» с трудом пробивается со своим товаром лишь в верхние эшелоны власти. Кейко слышала об этом от одного из любовников, который работал в международной коррекционной тюрьме класса «Тиктоники» на территории Севера. Да, Север всегда заявлял, что открыт для международных отношений, но дальше международных тюрем состав переговоров не зашел.
Бывшего охранника звали Эйнджи, и слушать его истории было куда интересней, чем заниматься с ним нейронным сексом – о простом сексе он не заговаривал, предпочитая посещать публичные дома, где его обслуживали биороботы, выпущенные концерном «Синергия». Кейко не возражала, особенно если учесть странные, почти извращенные наклонности, которые проявлял Эйнджи во время нейронных сеансов – пусть лучше это будут биосинтетические машины. О том, что Кейко является членом радикальной партии технологических нигилистов, Эйнджи не знал, считая их встречу в нейронной сети случайной.
Никто не принуждал Кейко к этой связи, ей просто хотелось узнать о жизни в северных странах, где технократия мутировала в нечто тоталитарно-ретроградное. Люди называли своих правителей «отцами». Правитель страны носил гордый номер «1», далее номера распределялись между второстепенными «отцами» технократических центров. Для них была зарезервирована первая сотня. Далее использовались буквенные обозначения. Так, например, «отец» самого главного технократического центра носил номер «2», а подотчетные ему «отцы», индексировались как «2-А», «2-Б», «2-В»… Ниже на политической лестнице стояли «отцы» с индексом «2-А-1», которые подчинялись «отцу» «2-А», а им уже подчинялись «отцы» «2-А-2», «2-А-3»; «2-Б-1», «2-Б-1»…
Кейко знала, что когда-то у людей Севера были имена, но потом с приходом тоталитарной технократии люди стали индексироваться согласно правительственной лестнице. Эйнджи говорил, что его коллегами были «2-Н-4-А-567» и «2-А-1-А-1484», впрочем, последний убеждал Эйнджи, что попал в «Тиктонику-18» за проступок. Себя они предпочитали называть последней цифрой. Также Север не вел контроль за рождаемостью, упразднив разрешительные родовые сертификаты, и не пускал на внутренний рынок иностранцев, если, конечно, они не хотели стать частью тоталитарной технократии – последнее озвучивалось как шутка.
Север не использовал синергиков. Все работы выполнялись людьми. Все проекты лично утверждались «отцами». Все «отцы» лично отчитывались главному «отцу» – «отцу-основателю». Наличие аристократической элиты допускалось, но служило скорее формой контроля и стимулирования, чем произвольно существующим пластом населения. Культура и образование были подчинены целям тоталитарной технократии. Инакомыслие, согласно официальным заявлениям, отсутствовало. Партия была единой. Народ был един. «Отец-основатель» избирается на всю жизнь. Мощь Севера растет. Народ Севера гордится своей мощью. Образование штампует единомыслие. Каждый человек индексирован. Каждый служит машине технократии…
– Ноги моей больше там не будет, – говорит Эйнджи, и Кейко приходится согласиться.
Поэтому она и стала членом радикальной партии технологических нигилистов. Человек не машина. Человек – это личность. Если бы Север не запретил синергиков, то согласно их политике «отцом-основателем» давно должна была стать машина.
– Если бы ты жила на Севере, то тебя давно бы уже отправили на коррекцию личности, – говорит Эйнджи. – И меня, и каждого из нас. И не потому, что мы думаем иначе. Хватило бы наших имен. Потому что система не смогла бы проиндексировать нас, а значит, мы – это ошибка. Нужно исправлять.
Еще одним любовником Кейко был токийский силовик по имени Эйдзи Гонда, который занимался изъятием из обращения сбоивших синергиков. Технологический инквизитор. С ним Кейко не нужно было притворяться. Они встречались, разговаривали о политике, занимались сексом и снова разговаривали о политике. Он не верил в тоталитарную технократию Севера, как и не верил в тоталитарную корпократию заокеанских стран.
– А если тебе прикажут забрать вместо синергика человека? – спрашивает Кейко.
– Причем здесь люди? – Гонда между делом заказывает второе блюдо. Встречи с ним – это всегда хороший обед, достойный вечер и только потом постель. – Мы работаем на технократов. Наш отдел создан, чтобы контролировать корпократов. А все то, что вы в своей радикальной партии вбили себе в голову, чушь полная.
– Зачем же тогда вы сотрудничаете с нами?
– Вы находите нам свихнувшихся синергиков, – Гонда примирительно улыбается.
Кейко не спорит. С силовиками спорить вообще невозможно. Наверное, виной всему коррекционная терапия, которой они подвергаются каждый год. Интересно, Гонда хоть замечает все свои странности? Например, когда они занимаются сексом, он хочет видеть слезы Кейко. Нет, секс у них самый обыкновенный, можно сказать, скучный, но вот если Кейко не пустит слезу, то ничего не получится. Понимает ли он, что это ненормально? Или коррекционная терапия стерла эту часть сознания? Ответа нет.
Кейко хотела встретиться с кем-то другим из группы техноинквизиторов, чтобы проверить, все ли они странные или только ее любовник, но не придумала, как это сделать втайне от Гонда. Да потом еще начались эти бесконечные суды, пытавшиеся наложить запрет на нейронные реконструкции, которые Кейко делала для технологических нигилистов. Первый процесс взволновал Кейко, но потом их стало так много, что она не успевала следить за ними. Правда, процессы ТН всегда выигрывали. Адвокаты были дорогими и квалифицированными. Кейко слышала, что деньги в партию поступают от агентов Севера, которые готовы спонсировать всех, кто выступает против корпократии.
– Но если все сделать правильно, – говорит один из лидеров ТН по имени Кэтсу, – если выбрать нужные реконструкции, то спонсором могут стать и заокеанские корпократы, всегда готовые раскошелиться в своей борьбе с технократами.
Потом Кэтсу начал встречаться с девушкой из клана Гокудо, и ее отец, оябун клана, заставил его убраться из города. Никто не знал, куда подался Кэтсу. Его политическая хитрость не помогла. Якудзе было плевать на все эти уловки. Другие члены партии лишь удивлялись, почему Кэтсу еще жив, почему не лишился конечностей. Да, всем было плевать на Кэтсу. Всем было плевать на ТН, даже внутри самой ТН. Кейко поняла это, когда подхватила вирусную инфекцию и лежала одна в квартире больше месяца. Из партии ей позвонили лишь дважды, и оба раза это были вопросы о нейронных реконструкциях.
– Я сейчас не могу даже с кровати встать, – говорит Кейко.
– Очень жаль, – говорят члены партии ТН.
О здоровье и лечении никто не спрашивает. Подобный подход и к личным связям. Но зарплата поступает исправно. Многие и приходят в партию исключительно ради зарплаты. Да что там партия – приходят в политику. Спонсоров много, привилегий много. Корпоративные квартиры и автотранспорт. Главное – зацепиться за новую работу, засветить свое имя. Потом, если выгонят из одной партии, всегда можно будет податься в другую. Истинных патриотов крайне мало – Кейко не знает ни одного. Каждая идея изучается под микроскопом, оценивается с экономической стороны и возможности развития.
Политика вообще похожа на проституцию – пара старых сутенеров набирает молодых и перспективных. Потом нужно влиться в коллектив, принять правила, адаптироваться, снять сливки и либо уйти, либо открыть собственный публичный дом. Но по-настоящему полезных членов партии мало. В основном людей набирают для численности – чем больше членов, тем выше благотворительные сборы. Политика – это в первую очередь бизнес. Кейко понимает, что далека от официальных видений партии технологических нигилистов. Но ее нейронные реконструкции, по крайней мере, приносят пользу, в отличие от деятельности других коллег, которым платят, кажется, только лишь за присутствие и положительную идентификацию социального статуса, причем чем выше статус, тем выше зарплата. Интегрированные в последних классах школы жидкие чипы говорят о человеке лучше тысячи слов. Кейко знала одного мужчину, идентификационный чип которого дал сбой, удалив информацию, но общество повело себя так, словно стерлись не только данные чипа, но и вся жизнь бедолаги.
Иногда куратор отдела пропаганды технологических нигилистов поднимает на собраниях вопрос о расширении. Новые кабинеты, новые рабочие места. Кто-то поднимает вопрос о возможности удаленного найма. Люди могут работать на партию посредством нейронной сети. Председатель взвешивает возможность повысить численность и сборы.
– Как ты думаешь, это возможно организовать? – спрашивает он Кейко.
– Откуда мне знать? Я ведь занимаюсь нейронными реконструкциями, – говорит она.
Председатель хмурится. Кейко не знает почему, но глядя на него, она спрашивает себя: «Интересно, а как ведет себя он, когда занимается сексом? Может быть, тоже плачет? Или смеется?» Нет, ничего личного – Кейко и не думает о том, что когда-нибудь окажется в постели председателя отдела пропаганды. Просто иногда так проще идентифицировать человека.
– И почему, интересно, это не включают в идентификационный модуль социального статуса? – спрашивает она нейронного издателя по имени Сунан.
Он думает об этом пару долгих секунд, напоминая ей председателя их отдела пропаганды, который взвешивает возможность увеличить сборы.
– Хочешь попробовать создать нейронную реконструкцию об этом? – спрашивает Сунан.
Теперь думает Кейко. Думает о жидких чипах в крови человека, собирающих информацию о долгих бессонных ночах, пропитавшихся мускусными запахами «маленькой смерти». Десятков «маленьких смертей». Что если идентификация человека начнет включать все эти данные? В постелях, клубах, на лестничных клетках или в лифте. Быстро и спешно, чувственно и неторопливо. Мужчины и женщины. Женщины и женщины. Мужчины и мужчины. В объятиях друг друга. С поцелуями или без.
– Нет, думаю, я не хочу создавать об этом нейронную реконструкцию, – говорит Кейко.
Сунан снова замирает на минуту. Весь этот разговор вообще начинает напоминать Кейко какой-то затянувшийся вечер любви. Вопрос – пауза. Ответ – пауза. Перевести дыхание. Выкурить сигарету. «Давай еще раз». «Маленькая смерть» на горизонте. Но с каждым разом горизонт все дальше и дальше…
– Последний суд был нечто, – говорит нейронный издатель.
Он не видел нейронную реконструкцию Кейко, из-за которой начался процесс, но шумиха ему понравилась.
– Чем ты занималась до того, как присоединилась к партии ТН? – спрашивает Сунан. И тут же, не успевает Кейко открыть рот, спрашивает, сколько ей лет. – Ты попадаешь под поколение нанобит?
– Сомневаюсь, что в Токио вообще было поколение нанобит, – говорит Кейко, пытается высказаться о подростках заокеанских стран.
– А ты можешь писать нейронные реконструкции на двухуровневом языке сознания? – обрывает ее на полуслове Сунан.
– Могу, – говорит Кейко и думает, что такие, как Сунан, наверное, никогда не плачут в постели и не хотят видеть чужих слез. Они смеются. Хохочут до слез… До слез, чтоб им пусто было…
Сунан оставляет визитку и говорит на прощание, что сейчас его агентство реализует новую программу.
– Двухуровневый язык сознания может создать новый пласт молодежи, – улыбается он. – Можно взорвать нейронную сеть.
Кейко смотрит, как он уходит, не понимая, зачем вообще согласилась на эту встречу. Она мнет в ладони визитку Сунана и выбрасывает на тротуар. Камеры фиксируют правонарушение. Штрафы за мусор выписываются мгновенно. Жидкий чип активируется. Идентификация социального статуса ползет вниз, но после всех выигранных дорогостоящими адвокатами судов можно всю жизнь гадить на улицах – не убудет. Правда, все эти достижения могут рухнуть, стоит проиграть хоть одно дело. Временное счастье. Временная беспечность.
Кейко возвращается в свою просторную корпоративную квартиру. За все платят спонсоры. Нейронная сеть – одна из самых быстрых в Токио. Фильтр на рекламу. Фильтр на пропаганду. Фильтр на входящие сообщения. В директории «Личная жизнь» послания от Гонда и Эйнджи – один хочет слез, другой нереальных поз в сети. В директории «Работа» новая тема для нейронной модуляции. Директория «Друзья» не просматривалась больше месяца – Кейко не знает всех этих людей, которые клянутся, что знают ее. Знают, потому что о ней говорят в новостях. Так что директория «Друзья» – это почти что папка спама, которую не хочется очищать, чтобы не видеть в графе «Друзья» гордый «ноль». Друзья должны быть.
Кейко просматривает директорию «Заказы». Крошечное агентство из района Кото собрало все, что смогло найти в сети о тюрьмах Севера. Эйнджи говорит, что «Тиктоника-18» работает лишь для отвода глаз, а в действительности Север содержит еще полсотни коррекционных тюрем, где людям стирают личность за инакомыслие. Вернее, вообще за любое мышление. Синергиков нет, поэтому нужны рабочие руки, чтобы поддерживать аристократический класс. Люди без приставки «отец» вообще не должны думать о том, о чем им не говорят «отцы». Как «отцы» не должны думать о том, о чем им не говорит их главный «отец-основатель». Каждый заботится о каждом. Каждый работает на систему. Система работает на технологический прогресс. Прогресс работает на себя. Прогресс ради прогресса. Человек отдыхает. Личность не имеет права гордиться личными достижениями. Личность должна гордиться достижениями системы. «Отец-основатель» называет это прогрессом человечества. Победа над слабостями. Победа над корпорациями. Достижения во имя прогресса. Прогресс во имя достижений.
Кейко пытается узнать образование «отца-основателя». Разве меритократия не подразумевает власть достойных? Но образование «отца-основателя» покрыто тайной. Он словно машина, которую изначально создавали для этой должности… Все это новая тема для нейронной реконструкции Кейко. Темы, предлагаемые председателем отдела пропаганды ТН, она никогда не просматривает. Председатели менялись за последние три года девять раз. О том, чтобы сменить реконструктора, за последние три года вопрос не поднимался.
«Зима в Токио» – рабочее название новой нейронной реконструкции Кейко. От идеи использовать вместо «зимы» слово «Север» она отказалась из политических соображений. Север – их главный спонсор. Но Север не хочет огласки. Поэтому «Север» в реконструкции им не понравится. То, что будет внутри, они все равно не поймут. А если и поймут, то не смогут объяснить «отцам» по работе с агентами. А если и смогут, то это не поймут «отцы» первой сотни идентификации. Но если и смогут, то все закончится на «отце-основателе», без которого никто ничего не делает. Он как главный процессор: отключи его – и система не будет работать. А «отец-основатель» понятия не имеет о том, что происходит в Токио. Сарафанное радио даст сбой. Суть потеряется на промежуточных стадиях. Сохранится только название «Зима в Токио». И инвестиции продолжатся, возможно, станут более щедрыми. Инвестиции, оплаченные жителями Севера – личностями без личности. И прогресс продолжит свой рост, свои достижения.
Кейко настраивает нейронный модулятор, подключается к реконструкции жителей Севера. Мужчины, женщины, дети. Рост, лица, одежда, запахи… В модуляцию врезается вызов от Эйнджи.
– Давай повеселимся, – предлагает он.
– Я работаю, – говорит Кейко.
– Работаешь одна?
– Работаю над Севером.
– Я знаю много о Севере.
– Я знаю, что ты знаешь.
– Так мы повеселимся?
Кейко обрывает входящее соединение. Директория «Друзья» на глазах пополняется новой дюжиной посланий. Можно отправить директорию «Личная жизнь» к черту и окунуться с головой в директорию «Друзья». Кейко думает об этом пару долгих секунд. По-настоящему думает. Есть призрак уверенности поступить именно так. Но уверенность тает.
Принять наностимуляторы. Выйти на балкон. Смотреть, как внизу бурлит ночная жизнь, и скромно мечтать сделать себе нейронную татуировку любви, которую можно будет активировать по желанию. Может быть, тогда ночи с Гонда или нейронные сеансы с Эйнджи перестанут быть «маленькой смертью», гонкой за этим коротким удовольствием и последующим разочарованием… Кейко нравится думать об этом во время судебных заседаний. Она уже выбрала место, где можно будет расположить рисунок розы, выбрала агентство, которое кажется чистым и по-настоящему профессиональным, выбрала марку жидкого модуля для имплантации… Осталось лишь встретить человека, ради которого хотелось бы активировать модуль и сойти с ума, наделав глупостей…
– Давай лучше я возьму тебя на задержание синергика, – предлагает Гонда.
Процесс кажется идиотизмом, как транспортировка и последующая утилизация. Синтетическая плоть пахнет миндалем и резиной. Центр переработки завален конечностями и внутренностями синергиков. Заместителя главы центра зовут Джиро, и он в открытую пытается ухаживать за Кейко. Гонда не возражает, а что касается Кейко, то ей плевать. За годы, проведенные в политике, она привыкла и не к такому.
Экскурсия начинается согласованием документов о неразглашении увиденного и затягивается в долгую прелюдию свидания, на которое рассчитывает Джиро. Кейко не знает, нравится ей Джиро или нет, но она понимает, что ей не нравится то, что она видит на фабрике. Особенно крюки, на которых транспортируют по цехам распотрошенные тела синергиков. Синтетика, составляющая более восьмидесяти процентов синергиков, тщательно перебирается, отправляясь в переработку, чтобы стать новыми запчастями для новых синергиков. Для биочастей предназначена печь.
– Биоматериал проще вырастить, чем перерабатывать, – говорит Джиро.
– Это значит, что людям можно бояться фабрик по переработке неугодных? – спрашивает Кейко.
Джиро смеется, считая это хорошей шуткой. Гонда молчит. Кейко заставляет себя улыбаться, подыгрывая заместителю главы центра, спрашивает о биоэлектронных мозгах.
– А что не так с мозгами? – удивляется Джиро.
– Как вы поступаете с личностью синергика?
– С личностью? – он улыбается, считая это очередной шуткой.
Вся эта фабрика напоминает Кейко коррекционные тюрьмы Севера, наличие которых скрывается от остального мира. Сначала они будут смеяться над наличием сознания у синергиков, затем решат, что люди нижних пластов общества не имеют достаточно полномочий и генетических предрасположенностей для самостоятельного мышления… Нечто подобное происходит на Севере. Нечто подобное происходит и за океаном. И неважно, кто стоит у руля, главное, что правители всегда стремятся к абсолютной власти, к абсолютному тоталитаризму.
– Я вижу, вы заинтересовались, – заходит издалека Джиро, пытаясь назначить Кейко свидание.
Так же издалека она жалуется на незаконченную нейронную модуляцию, которую ей нужно сдать на работе.
– Может быть, тогда на следующей неделе? – спрашивает Джиро.
– Может быть, – соглашается Кейко.
После экскурсии она просит Гонда отвезти ее в отдел ТН. Он спрашивает о Джиро.
– Ничего серьезного, – заверяет его Кейко. – Просто вежливость.
Гонда кивает. Кейко прощается с ним, слушая бесконечные напоминания о подписанных документах о неразглашении увиденного.
– Никакой политики, – обещает Кейко.
В отделе связей она узнает адреса радикальных представителей ТН. Связь ведется через независимый сервер. Нейронное соединение далеко от совершенства, но зато его невозможно проследить. Кейко не собирается принимать участие в экстремистских выползках радикалов. Она хочет лишь обсудить существование фабрики утилизации с людьми, для которых это действительно имеет значение. Они не зарабатывают на этом деньги и не делают себе карьеру. Да, большая часть из них страдает паранойей, но это лучше, чем разговаривать с официальными представителями. Тем более что параноика не так сложно отличить от нормального человека. Достаточно задать пару стандартных вопросов… Спустя два часа безуспешных попыток найти здорового радикала Кейко начинает чувствовать параноиком себя. Параноик, который ищет других параноиков… Это еще хуже, чем покупать духи – чем больше ты нюхаешь, тем меньше видишь разницу.
Кейко возвращается домой, принимает львиную долю наностимуляторов, обещающих глубокий сон, и ложится спать. Сон действительно оказывается глубоким. Настолько глубоким, что Кейко еще долго будет думать, что спит. Но причиной станут не стимуляторы сна. Ее арестуют утром по обвинению в разглашении запрещенной информации. Арестуют и всех радикалов, с которыми она вступала в контакт, обвинив в поджоге фабрики утилизации. Огонь вспыхнет в складских помещениях. Пострадает один охранник. Он появится на заключительном слушании. Кейко признают виновной и приговорят к коррекционной процедуре. Остальных радикалов отпустят, не сумев доказать их связь с партией технологических нигилистов. Суд будет не первым в жизни Кейко, но проиграет процесс она впервые. Реальность действительно станет сном – его глубокой, затянувшейся фазой. Особенно приговор.
– Вы понимаете, что все это дело – одна сплошная фальсификация? – спросит судью Кейко.
– Если вы действительно невиновны, то вам можно не опасаться коррекции, – скажет судья.
Пресса окрестит процесс «Охотой на ведьм», однако уровень доверия избирателей к партии технологических нигилистов резко упадет. На заключительное слушанье зал будет заполнен под завязку. Причем большую часть составят представители партии ТН. Кейко попытается отыскать среди пестрого множества лиц силовика по имени Гонда – своего любовника, который, несомненно, принял участие во всей этой постановке, но он появится позже, когда Кейко будет готовиться к транспортировке в «Тиктонику».
– Мог хотя бы предупредить, – скажет ему Кейко.
– Найди меня, когда вернешься, – скажет он.
– Ты хоть понимаешь, что такое корректировка? – вспыхнет Кейко, но тут же заставит себя собраться. – Они удалят мне часть воспоминаний. Надеюсь, большие из них будут о тебе. А лучше все.
Спустя шесть дней ее поместят в коррекционную камеру. Система подменит последние воспоминания. Реальность оборвется, позволив системе коррекции взять верх над личностью. Ее тело поместят рядом с террористами и убийцами.
– Мы встретим тебя в реабилитационном центре, – постарается Кейко запомнить слова главы партии ТН, но система уничтожит и этот осколок реальности.
Цикл за циклом коррекция будет проводить Кейко через исправительные программы, взвешивая и оценивая изменения личности, оставляя те, что посчитает приемлемыми, и стирая не удовлетворяющие систему. Ее заставят поверить в жизнь, в реальность коррекционной иллюзии, направленной на признание своей неправоты и отказ от прежней преступной деятельности. Вот только Кейко не совершала ничего преступного, если, конечно, не считать приема наностимуляторов, купленных в обход медицинских центров, да поиска информации в сети для нейронных реконструкций в обход установленных правительством социальных фильтров. Но за это не подвергают коррекции. Раньше не подвергали. В другой жизни. В другой реальности…
Кейко не знала, сколько всего ей пришлось пройти коррекционных циклов. Не помнила она вначале и о самой коррекции. Было лишь пробуждение, понимание своего «Я» и осознание, что тело не принадлежит ей. Кто-то управляет им. Кто-то открывает и закрывает глаза. Говорит. Двигается. Кто-то чувствует за нее. Все воспоминания призрачные, затертые, словно смотришь на свою жизнь через мутное стекло. Коррекционных блоков нет. В голове десяток реальностей – одна до судебного процесса и дюжины после. Кейко помнит процесс, помнит дорогу в «Тиктонику». И помнит, что суда не было – один из циклов коррекции. Система заставила ее прожить жизнь домохозяйки, политика, нейронного реконструктора, матери многодетной семьи… Система искала оптимальный вариант для исправления, но что-то пошло не так.
Кейко видит доктора Накамуру и центр реабилитации «Тиктоника», слышит его голос. Он смотрит ей в глаза, но называет именем своей дочери. Где-то грохочут выстрелы. «Либо что-то не так, либо это очередной коррекционный цикл», – думает Кейко, хотя в последнее верится с трудом.
– Все будет хорошо, – говорит доктор Накамура.
Он гладит рукой ее волосы. Кейко видит, что гладит, но не чувствует этих прикосновений. Доктор накачивает себя наностимуляторами. Кейко знает дозировку, потому что когда-то сама пользовалась такими. Доза, принятая доктором, может оживить и слона. Но доктор бледен. Дело не во сне и не в усталости. Доктор умирает. Он ранен, но пытается успокоить свою дочь. Дочь в теле Кейко. Дочь, которая говорит, как ребенок. Накамура называет ее по имени.
– Юмико. Моя Юмико, – в его глазах столько любви.
Кейко и не помнит, когда на нее так смотрели. Может быть, когда-то в детстве, но она уже забыла об этом. Все забывают этот взгляд – взгляд родителей на ребенка. Родители – и те забывают. И не нужно никакой коррекции. Сама жизнь корректирует личность, осушает чувства. Доктор говорит дочери о том, что им нужно расстаться, что ей придется пожить с его сестрой и ее детьми.
– Не хочу к ее детям, – капризничает девочка, не понимая, что отец умирает. – Мальчишки вредные. Они не нравятся мне.
Кейко чувствует переживания ребенка, который занял ее тело, но еще не понял этого. Для девочки это игра – именно так сказал дочери Накамура.
– Ты ведь хотела стать взрослой?
Кейко хочет зажмуриться, забыться, но не может. Она пленник в своем теле. Гонда рассказывал ей о проекте «Население-2», когда сознание человека извлекали из умирающего тела и хранили в специальной капсуле. Учредители проекта обещали, что когда-нибудь создадут специальную нейронную сеть, где смогут жить эти сознания, но в действительности все надеялись, что для извлеченных сознаний сумеют приспособить биоэлектронный мозг синергиков. Технократы приняли специальный закон, запрещающий исследования в этой области, но на черном рынке были предложения. В основном предлагали купить свои тела отчаявшиеся бедняки. Технократы постановили, что личность с перенесенным сознанием подлежит глубокой коррекции – стиранию, но Гонда говорил, что спрос и предложение все равно были…
Все это Кейко помнит, словно сон. А может быть, эта часть и была сном – все путается. Реальность закончилась почти сразу после суда, но Кейко кажется, что она прожила лишнюю сотню лет, устав от жизни. У нее были дети и внуки. У нее были мужья и любовники. Кажется, в одной из жизней ее любовницей была женщина. И все это так же реально, как то, что было до суда, только не затуманено временем.
Пара случайных пуль пробивают стену. Кейко слышит их свист, звон разбившихся стекол.
– Папа, мне страшно! – говорит она… Нет, не она – говорит Юмико ее губами, языком, голосовыми связками…
– Все будет хорошо, – обещает доктор Накамура. – Скоро все это закончится.
«Он украл мое тело! – думает Кейко. – Он украл мою жизнь!»
Она хочет закричать об этом, но не может. Хочет отключиться, пережить потрясение и потерять сознание, но не может. Это ад… Нет, это хуже, чем ад…
Взрыв пугает дочь доктора. Девочка поворачивается, смотрит на брешь в стене, из которой выбираются девушка и обнаженный по пояс, залитый кровью якудза. Их преследует начальник «Тиктоники» Раф Вэдимаса – Кейко узнает его. Якудза бьет Вэдимаса по голове. Вэдимас отключается. Доктор Накамура просит якудзу не стрелять…
«Нет, это точно ад. Мой собственный ад», – думает Кейко…
Доктор держится какое-то время, затем падает в лужу собственной крови. Наностимуляторы продолжают вытягивать из его тела жизненные силы, но результата нет. Он умер. Его дочь рыдает над телом отца, роняет на лицо Накамуры слезы, принадлежащие Кейко… Девушка, которая пришла с якудзой, обнимает дочь доктора, обнимает Кейко, но она, кажется, понимает, что происходит.
«Мне бы тоже не помешало понять», – думает Кейко.
– Нужно уходить, – говорит якудза.
Он называет свою девушку Шайори. Она называет его Семъязой.
– Нет, я никуда не пойду! – плачет Юмико, когда Шайори пытается поднять ее на ноги.
Семъяза вызывает лифт. Двигатели гудят, кабина ползет вниз. Юмико плачет: тихо, снова и снова смахивая со щек слезы. Охранные системы в коридоре активируются. Семъяза стреляет. Вспышка, дым поднимается к потолку, искры сыплются на пол. Пара силовиков преграждает путь к выходу. Семъяза расправляется с ними голыми руками. Двери на улицу. Яркий свет слепит глаза. Бег до автомобильной стоянки. Крохотная спортивная машина Шайори. Тесное заднее сиденье. Свист и запах горелой резины. Скорость бешеная, но Шайори уверенно справляется с управлением. Крыша машины опущена.
– Ты можешь показать, где твой дом? – спрашивает Шайори, обращаясь к Кейко… Нет, обращаясь к Юмико в теле Кейко.
Девочка кивает. Они мчатся в направлении крохотного города – узкие улицы, частные дома, силиконовые деревья. Пес-синергик бросается под колеса. Машину заносит. Шайори избегает столкновения. «С таким вождением она могла бы участвовать в профессиональных гоночных соревнованиях», – думает Кейко, а Юмико в ее теле уже вытягивает руку, указывая на сплющенный, словно прижатый низким небом к земле дом. Шайори лихо сворачивает на подъездную дорожку. Скрип резины и тормозов. На крыльцо выскакивает растрепанная, напуганная женщина.
– Тетя Мэрико! – кричит Кейко, вернее, девочка в ее теле.
Тетя Мэрико не узнает ее. Ну конечно не узнает, ведь племянница совсем не похожа на племянницу. Затем тетя Мэрико видит татуированный, обнаженный, залитый кровью торс якудзы по имени Семъяза.
– Я вызываю силовиков, – говорит она и пятится в дом.
Шайори выскакивает из машины. Двигается она так же лихо, как и водит. Шайори хватает испуганную женщину за руку и говорит, что на «Тиктонику» было совершено нападение, начальник тюрьмы, Раф Вэдимас, во время боевых действий случайно застрелил дочь Накамуры, но доктор перенес сознание Юмико в тело женщины, проходившей коррекцию, и теперь… Шайори оборачивается и указывает пальцем на Кейко.
– Тетя Мэрико! – скулит девочка в теле взрослой женщины.
Шайори спешно объясняет растрепанной, напуганной женщине, что ей нужно собрать вещи и уехать, нужно спрятать Юмико, потому что если Вэдимас узнает о том, что дочь доктора жива, то он найдет и убьет девочку.
– Почему убьет? – спрашивает Мэрико.
– Потому что она свидетель. Свидетель своего собственного убийства, – говорит Шайори.
Все это выглядит непостижимым для растрепанной женщины. Она качает головой и снова пятится в дом.
– У меня шестеро детей, – говорит Мэрико.
– Это ваша племянница, – Шайори указывает рукой на Кейко.
– Мне детей нужно кормить, – говорит Мэрико.
– Ее убьют, если вы не сбежите.
Дверь закрывается.
– Я вызываю силовиков! – кричит уже из дома Мэрико.
Юмико плачет, чувствует себя преданной. Странно, но эти чувства проникают и в Кейко, в ее сознание. Боль, отчаяние, одиночество… «У детей такие яркие, чистые чувства!» – думает Кейко.
Шайори возвращается в машину, говорит, что не может бросить девочку. Якудза молчит. Шайори разувается и показывает ему нейронную татуировку любви на ступне – такую же, как когда-то Кейко хотела сделать себе.
– Не знаю как, но иногда она активируется сама по себе, – говорит Шайори. – Мастер предупреждал, что такое может случиться, если интегрировать модуль в ступню, но только так я могла спрятать ее от отца.
Якудза молчит.
– Ты ведь знаешь моего отца! – начинает плакать Шайори. – Он отрубал мне кисти рук за каждый проступок!
– Он отрубит тебе голову, если сможет вернуть, – хмуро говорит якудза.
– А если оставить Юмико здесь, то Вэдимас найдет и убьет ее. Считай, что это мы убьем ее. Ты когда-нибудь убивал детей?
Пауза.
– Ты когда-нибудь убивал детей? – кричит Шайори.
– Нет, – говорит якудза.
Шайори облегченно вздыхает.
– Но я убивал много их родителей, – говорит якудза.
– Это было до коррекции. Теперь ты другой.
– Я – якудза, убийца.
– Ты никого не убил после коррекции. Мог убить, но не убил. Я видела это. Система изменила тебя…
Они спорят еще несколько минут. Кейко слушает их, но паника утихает. Ее паника. Это не ад. Нет. Это всего лишь коррекция – Кейко не сомневается в этом. Вероятно, система использует какую-то новую программу. Система, которая считает ее террористом и хочет показать ценность человеческой жизни. Вот только она и так ценит человеческую жизнь. Но если коррекция хочет исправить ее таким образом, то пусть исправляет то, что исправлять не нужно. Главное – выбраться из «Тиктоники».
Кейко попыталась представить, что в действительности она лежит в капсуле сектора коррекции. Все это в ее голове. Все это нереально. Но главное – не сопротивляться. Пусть вымышленный мир проникает в нее – бояться нечего, потому что менять в ней нечего. Суд ошибся. Весь процесс был сплошной ошибкой. Единственным нарушением Кейко было то, что она никогда по-настоящему не нарушала закон. Ее судили за ее порядочность. Судили за ее правильность. За принципиальность. За сопереживание… Да, там, на фабрике переработки, она сопереживала синергикам. И она никогда бы не стала поджигать фабрику. Но ее осудили за ее чувства. Так что будущее уже здесь – технологические инквизиторы избавляются не только от неугодных синергиков, но и от людей, проявляющих слабость в виде сопереживания…
«А что если система коррекции хочет выжечь во мне эти чувства? – думает Кейко, вспоминая все те курсы коррекции, которые уже были. – Что если чем больше я пытаюсь завести семью, любить детей и внуков, тем критичнее становится коэффициент моего исправления? Что если система хочет, чтобы я не исправилась, а перестала чувствовать и сопереживать? И то, что происходит сейчас вокруг, создано для того, чтобы научить меня быть сдержанной, контролировать себя?» Кейко еще думает об этом, а крохотная машина Шайори уже несется прочь из города. За рулем сидит якудза по имени Семъяза, потому что активированная нейронная татуировка любви Шайори забрала у нее слишком много жизненных сил. Шайори устала и хочет спать. Юмико плачет и вспоминает отца. Глаза Шайори закрываются. Якудза сосредоточен на дороге.
– Хочу к папе. Хочу к папе. Хочу к папе! – цепляется к нему девочка в теле Кейко, но бывший убийца умеет контролировать свои чувства. К тому же он ждет преследования. За ними гонятся люди из клана, к которому принадлежит Шайори.
Никогда прежде Кейко не встречалась с убийцами из кланов якудза, и сейчас ей кажется, что система коррекции создала Семъязу каким-то неправильным, неестественным. Такими же неправильными кажутся и слезы Юмико. «Дети так не плачут», – говорит себе Кейко, убеждая не переживать за ребенка. Раздражает лишь мигание глаз. Веки опускаются – темнота. Веки открываются – мир вернулся. Вот только когда ты сам это делаешь, то все выглядит естественно, а когда это делает кто-то другой – словно занавес, который поднимается и опускается по своей собственной прихоти, в то время как спектакль на сцене продолжается.
«Очень странная коррекция», – думает Кейко, когда Юмико, устав от слез, начинает засыпать. Глаза закрыты. Как будто кто-то выключил свет. Слышно лишь, как свистит ветер. «И что теперь? – спрашивает себя Кейко. – Коррекция закончилась?» Она ждет перемен и втайне надеется, что сейчас откроет глаза и почувствует, что тело принадлежит ей, подчиняется ей, а свист ветра… Это может оказаться шум реабилитационных машин, которые восстанавливают после коррекции ее тело… Именно этого ждет Кейко, но ничего не происходит. Просто шум ветра и дороги…
«Может быть, система хочет заставить меня побыть наедине с собой, своими мыслями? – думает Кейко. – Или же система хочет, чтобы я стала такой, как исправившийся якудза, а его девушка Шайори создана для того, чтобы показать абсурдность чувств и эмоций?» Догадка выглядит весьма обоснованной, особенно когда Семъяза заезжает на заправку заполнить баки сжатым охлажденным воздухом.
Он уходит купить одежду, а Шайори, у которой снова непроизвольно активировалась нейронная татуировка любви, кокетничает с молодым парнем, заправляющим их автомобиль. Вернее, не кокетничает, а фактически виснет на нем. Парень смущен и все время косится на проснувшуюся Юмико. Правда, для него это не ребенок, а взрослая женщина. А Шайори… Шайори нравится ему, но она пугает его. Особенно ее напор. Она гладит его волосы, вдыхает его запах. Она любит его. Она хочет его. Здесь и сейчас. Пока работает модуль любви в ее стопе. Шайори склоняется к парню и что-то шепчет ему на ухо. Он косится в сторону окон магазина, из которых за ним наблюдает низкорослая невзрачная девушка в одежде продавца.
– Не будь трусом, – говорит Шайори.
– Сегодня умер папа, и он никогда не был трусом, – говорит Юмико. – В него выстрелили, и было много крови. В меня тоже стреляли. Мне было больно, но папа спас меня.
Парень на заправке смущен, особенно детской интонацией взрослой женщины. Шайори пытается свести все в шутку, но очарование момента рухнуло. К тому же возвращается Семъяза. Он купил рубашку и брюки, переоделся в туалете, но рубашка еще расстегнута, и парень-заправщик видит покрытый нейронными татуировками крепкий торс убийцы.
– О, не бойся его, – говорит Шайори. – Он недавно прошел курс коррекции и не может никого убить. Только покалечить. Но ведь это того стоит…
Она вскрикивает, потому что Семъяза силой сажает ее в машину. Ревности нет. Он все понимает. Машина срывается с места. Снова свистит ветер. «Да, иногда чувства – это действительно плохо», – думает Кейко. Юмико снова начинает плакать: тихо, беззвучно. Она грызет губу, сдирает зубами кожу до крови. Шайори спит. Юмико трогает якудзу за плечо и спрашивает, почему тетя Мэрико испугалась ее.
– Папа сказал, что я теперь стала взрослой, – говорит девочка. – Тетя Мэрико не хочет видеть меня взрослой?
Якудза молчит.
– Может быть, если бы мы сказали ей, что я не могу вернуться в свое старое тело, она бы приняла меня? – спрашивает Юмико, разглядывая свои новые руки. – Я стала очень взрослой. Почти такой же, как тетя Мэрико.
– Твой отец спас тебя, – говорит Шайори.
Она проснулась. Нейронная татуировка любви деактивирована.
– Мой отец умер, да? – спрашивает Юмико. – Совсем умер?
Шайори смотрит девочке в глаза и осторожно кивает. Юмико тяжело вздыхает и снова начинает тихо плакать.
– Мы позаботимся о тебе, – обещает Шайори.
Ее нейронная татуировка деактивирована, но в голосе звучат забота и нежность. «Не самая удачная коррекция», – думает Кейко, потому что сейчас проявление чувств выглядит обоснованным и разумным.
– Мы ведь позаботимся? – спрашивает Шайори бывшего якудзу.
– В Токио есть тек-инженер, который кое-что должен мне, – говорит он.
– Ты хочешь сказать, что мы оставим ее незнакомому человеку?
– Отправленный за тобой якудза еще жив. Он не остановится, и я не смогу остановить его после коррекции. Этой девочке небезопасно с нами. К тому же… – Семъяза поворачивается и смотрит Шайори в глаза, продолжая гнать по скоростному шоссе. – Думаю, он сможет исправить твою нейронную татуировку любви.
– Я могу это контролировать.
– Нет. Не можешь.
– Могу, – Шайори краснеет, понимая, что Семъяза прав, но признаться не может.
Кейко думает, что тоже, наверное, не призналась бы. Как-то это унизительно, особенно если вспомнить то, что было на заправке. Одно дело – абсолютная любовь к ребенку, а другое дело, когда… «Хотя нет, абсолютная любовь к ребенку – тоже ненормально, – думает Кейко. – Абсолютная любовь вообще больше похожа на безумие. В ней уже нет ничего от любви. Это как занятия спортом с использованием наностимуляторов. Как нейронные наркотики. Как…»
Юмико снова засыпает, убаюканная дорогой и шумом ветра. Мир погружается в темноту. Кейко пытается заснуть вместе с девочкой, но сон в этом состоянии кажется невозможным. Она обречена бодрствовать. Обречена находиться в сознании. Лишь одно успокаивает – все это нереально. Ведь нереально?
Кейко пытается вспомнить предыдущие циклы коррекции. Сколько их уже было? В одном она уверена – когда все закончится, она не сможет быть прежней. Все эти циклы коррекции забрали у нее беспечность. Больше нет чувства, что все впереди. В сознании поселился червь времени прожитых жизней. И пусть она помнит о прожитых циклах только сейчас, а когда все закончится, эти воспоминания удалят у нее из головы, червь останется. Хотя сейчас Кейко была уже готова на десяток таких червей, только бы выбраться из этой иллюзии, где собственное тело превратилось в тюрьму, надзирателем в которой был ребенок. Не самый плохой ребенок – возможно, будь у Кейко дети, она бы хотела, чтобы они были похожи на Юмико, но… Но собственные дети ведь не забирают у тебя тело, не обездвиживают тебя… «Или же здесь тоже какая-то аллегория?» – думает Кейко.
Шум дороги, свист ветра, сны Юмико, ссоры Семъязы и Шайори, остановки на заправках и в отелях…
«Аллегория может быть скрыта во всем. Это ведь коррекция моего сознания», – думает Кейко.
Теперь она ищет подтекст во всем. Прислушивается к каждому слову. Кем может оказаться убийца, преследующий Семъязу и Шайори? Из разговоров она поняла, что его послал отец Шайори, отрубавший ей кисти рук за каждый проступок. Теперь он собирался отрубить ей голову. Но сначала убийца должен был вернуть девушку в родной клан.
«А какое значение имеет клан для меня?» – думает Кейко, когда они останавливаются на ночь в небольшом частном отеле. Юмико спит, а Кейко слушает разговор бывшего якудзы и дочери главы клана Гокудо.
– Эти убийцы, которых послал за нами мой отец, они так же хороши, как когда-то был ты? – спрашивает Шайори.
– Лучше, – говорит Семъяза.
– Лучше, потому что ты прошел коррекцию?
– Нет. У них выше уровень бусидо.
– Но они выглядят моложе тебя. Почти мальчишки.
– Некоторых убийц тренируют лишь для одного дела. Они продолжают совершенствовать навыки, в то время как другие выполняют поручения клана.
Они молчат какое-то время, потом Шайори просит рассказать о том, какими были коррекции Семъязы.
– Я помню только последнюю, – говорит он.
– Тогда расскажи о последней. Что она изменила в тебе?
– Не думаю, что коррекция что-то изменила во мне.
– Но система ведь признала тебя безопасным для общества, к тому же ты не можешь больше убивать.
– Моя неспособность убивать – это блок, а не исправление… Надеюсь, тек-мастер сможет снять его.
– А я нет. Не хочу, чтобы ты забирал жизни.
– Когда-то тебя это не остановило, чтобы подойти ко мне.
– Когда-то я не знала, что брошу ради тебя свой клан.
«Может быть, это намек на то, что я должна уйти из партии технологических нигилистов?» – думает Кейко, слушая, как Семъяза объясняет Шайори, что если они хотят уцелеть, то ему нужны прежние навыки. Шайори говорит, что для того, чтобы уцелеть, не обязательно забирать жизни.
– Мы можем просто сбежать.
– Клан Гокудо не оставит нас.
– И что ты предлагаешь? Убить всех?
– Ты переживаешь за отца?
– Я переживаю за нас!
Вспыхнувшая размолвка затягивается. Они говорят на пониженных тонах, чтобы не разбудить Юмико. «Кто проектирует все эти реконструкции? – думает Кейко, отдавая должное сложной конструкции диалогов, особенно если учесть, что каждый из них предназначен для нее, для исправления. – Интересно, когда я выйду из «Тиктоники», у меня будет шанс подать заявку в центр реконструкции коррекционных программ для заключенных?» Идея нравится Кейко. Идея позволяет мечтать и строить планы, а когда у тебя нет собственного тела, нет собственной жизни, мечты – это единственное, что остается. Особенно когда начинается ночь и все засыпают. Все кроме тебя. Спит даже твое тело, но не твой разум.
«Интересно, если интегрировать модуль любви в ступню, он действительно может дать сбой?» – думает Кейко. Ситуация кажется забавной, но только если твой парень не якудза, а отец не глава клана Гокудо, который за каждую случайную связь отрубает тебе кисти рук. «Интересно, а можно ли отрубить искусственную кисть?» Кейко вспоминает руки Шайори. Если не считать белых полосок шрамов в местах интеграции искусственной плоти в живую, то различий почти нет.
«А если бы мне отрубали часть тела за каждый проступок? – думает она. – Наверное, нужно было бы предупредить, чтобы начинали с пальцев, иначе очень скоро отрубать было бы нечего».
Веселый настрой сменяется грустью. В темноте и тишине вообще сложно веселиться. В голову лезут мысли о том, что случится, когда нейронная татуировка Шайори непроизвольно активируется в следующий раз. Как поведет себя Семъяза, если она зайдет слишком далеко. Какой бы коррекции не подверглась его личность, он все равно остался мужчиной, якудзой, хищником…
Страх окажется провидческим, потому что уже на следующий день Шайори отсечет себе искусственный палец, прося прощения у Семъязы. Детали останутся за ширмой для Юмико, но Кейко будет достаточно увидеть замотанный нанопластырем обрубок мизинца. Да, кисть Шайори, конечно, давно ненастоящая, но имплантат передает боль. Сам отрезанный мизинец лежит весь вечер на столе, завернутый в носовой платок.
– А что это? – спрашивает Юмико, когда ее укладывают спать.
Семъяза молчит. Шайори улыбается девочке. Кейко думает, что они ведут себя точно так же, как ее родители, когда один из них уличал другого в неверности. «Но какое это значение имеет для меня? – теряется она в догадках. – Что хочет показать мне коррекция? Научить терпимости? Но я терпима. Показать, что нейронные татуировки могут обратиться в бедствие? Но я никогда не делала татуировок».
Они въезжают в Токио, встречаются с тек-инженером, а Кейко все еще пытается понять, в чем суть всех аллюзий и реминисценций… Но сути нет. Смысла нет. Коррекции нет. Это жизнь, реальность…
Глава восьмая. Наномолот для робоведьмы
– Нас ждет эра технологической инквизиции, – говорит заплетающимся языком представитель радикальной партии тоталитарных технократов Ацуто Комано, – когда ересью объявят все, что не впишется в цифровую модель катехизисов мира… Да, это я вам гарантирую.
Он смотрит нетрезвыми, разбегающимися глазами на нейронного издателя по имени Сунан Хурихава. В эту ночь они пьют вместе в борделе клана Тэкия. Официантки-синергики снуют между клиентами. Глава клана гарантирует, что в VIP-ложе не ведется наблюдение. Это может быть просто фарс, но слова якудзы никто не оспаривает. Да и нет в этом ничего запретного. Бордели узаконены больше двадцати лет. Поборники морали оставили их в покое после того, как большая часть персонала стала синергиками. Клиенты покупают синергиков, клиентам приносят выпивку синергики, клиентов встречают синергики.
– Кланы – это единственное, что сдерживает нас от коллапса, – говорит Ацуто Комано, щелкает пальцами, велит принести еще саке.
Синергик появляется почти мгновенно. В руках у него керамический токкури без рисунков.
– Эта силиконовая машина похожа на этот кувшин, – говорит Ацуто Комано.
Сунан Хурихава забирает у синергика кувшин и наливает саке в чокко политика, ждет обратного жеста вежливости, но политик не двигается – смотрит на дно чокко и что-то бормочет себе под нос.
– Вы позволите? – спрашивает официантка-синергик.
Она забирает керамический токкури и наполняет чокко издателя.
– До дна, – говорит политик.
Издатель не спорит. Они разговаривают о нейронных издательствах, прогрессирующем двухуровневом языке сознания и о зависимости молодежи от нейронных социальных сетей.
– Но если запустить в сеть новый двухуровневый язык сознания, то это снизит активность социальных сетей и заставит людей либо выйти на улицы, вернувшись к обычному общению, либо изучать новые катехизисы, – говорит издатель Сунан Хурихава.
– И сколько ты планируешь на этом заработать? – спрашивает политик Ацуто Комано.
Издатель мнется, пожимает плечами.
– Хочу в долю, – не то шутит, не то заявляет всерьез политик.
Они говорят о товарообороте в Токио. Говорят о прибылях, которые заокеанские тоталитарно-корпократические страны давно считают в кинетической энергии.
– А на Севере вообще не считают прибыли на душу населения, – говорит политик. – Тоталитарная технократия предполагает, что все принадлежит всем и не принадлежит никому, – он подмигивает, и издатель снова не может понять, смеется политик или говорит всерьез.
Мимо словно призрак проходит якудза в костюме, проверяя, все ли в порядке. Правила клана, их порядок и аскетичная строгость проникли даже сюда. Попытайтесь ударить синергика, расчленить его или просто воспользоваться сексуальными услугами в обход официального заказа – и вас вышвырнут из борделя. Никто не посмотрит, что вы политик или издатель. Клан не считается с законами. Клан сам себе закон, мораль и катехизис.
– Тебе нужно познакомиться с северянином по имени Яков Юст, – говорит политик Ацуто Комано своему другу-издателю.
О северянине ему напомнили нейронные татуировки якудзы. Такие же татуировки покрывают тело Якова Юста – бывшего политического заключенного Севера. После бегства в Токио он встречался со всеми значимыми представителями технократических партий. Ацуто Комано не был первым в его списке, но входил в десятку. Их встреча проходила в офуро – токийская баня, где вопреки запрету вместо синергиков персонал был сформирован из обычных женщин. Они помогали раздеться, проводили омовения. Ацуто Комано распорядился, чтобы купели были многоместными. Яков Юст не возражал. После коррекционных тюрем Севера распариться в купели, пока девушки массажируют плечи, используя лед, казалось ему раем – по крайней мере, Комано надеялся, что казалось. Тогда-то политик и увидел все эти татуировки Юста. Нет, ничего общего с нейронными татуировками якудзы не было – скорее что-то кошерное, любительское и от того еще более ценное, приковывающее взгляд синевой туши и простотой рисунков. На плечах Юста были наколоты эполеты, а на спине православная икона Божьей Матери. Чуть ниже эполетов находились восьмиконечные звезды. На груди – церковь с шестью куполами.
– И что все это значит? – спрашивает Якова Юста политик от радикальных технократов.
Юст говорит о знаках отличия, о ворах в законе, о годах, проведенных в тюрьмах, и криминальном прошлом, которое началось еще в детстве.
– Я спрашиваю, что могут делать твои нейронные модули? – уточняет политик.
Юст мерит Ацуто Комано хмурым взглядом и говорит, что нет нейронных модулей.
– Как нет модулей?
– Это просто рисунки.
– Для красоты?
– Они подчеркивают мой статус.
– Вы, северяне, странные, – говорит политик, а девушки уже предлагают им перейти из купелей в деревянные ванны с подогретыми кедровыми опилками…
Сейчас в борделе клана Тэкия, слушая рассказ об этой встрече, издатель по имени Сунан Хурихава удивлен. Правда, удивление касается самих бань, а не татуировок Якова Юста.
– Где вы достали кедровые опилки? – спрашивает издатель.
Политик матерится.
– Я рассказываю тебе о человеке, который, возможно, станет одним из самых значимых представителей своей страны в Токио, а тебя волнуют подогретые кедровые опилки?!
– Не думаю, что Юст кем-то станет, – говорит Сунан Хурихава. – Весь его образ, как его татуировки, – сплошной фарс и бессмыслица.
– Он наш главный спонсор!
– Вот поэтому я и не воспринимаю его. Подумай сам. Как можно в коррекционной тюрьме, когда твое тело находится в адаптивной капсуле, а разум в нейронной имитации, сделать все эти татуировки? Кто ему их интегрировал? Охранники?
– Ну… – политик хмурится. – Может, мы просто ничего не знаем о тюрьмах Севера?
– А как быть с его вкладами в вашу партию? Если в его стране упразднены деньги, то откуда деньги взялись у него?
– Ну… – политик жестом просит издателя подлить ему еще саке. – Тебе не кажется, что ты слишком много просматриваешь детективные нейронные реконструкции своих авторов?
– Да я вообще не просматриваю обычно то, что выпускаю на рынок. Достаточно изучить спрос. И знаешь что… Политика – это как рынок нейронных модуляций. Не нужно встречаться с каждым потенциальным покупателем и спрашивать его мнения и пожелания, чтобы понять обстановку рынка. Не нужно вариться в политическом котле, чтобы понять, что у вас происходит. Достаточно взглянуть на мировую ситуацию в целом. За океаном корпократия стала абсолютной. Север превратился в абсолют технократизма. Мир давно тоталитарен. Большая часть мира. Остается лишь определиться, чью стороны займут оставшиеся страны – тоталитарные технократы или тоталитарные корпократы. Токио пытается держаться посередине, но рано или поздно придется сделать выбор. Нейтралитет и демократия почти мертвы.
Издатель и политик смотрят друг другу в глаза.
– Вот поэтому я и говорю, что такие, как ты, должны интегрировать в общество двухуровневый язык общения, – говорит политик. – Если тоталитаризм неизбежен, то обществу нужна новая реальность… Об этом, кстати, говорит Яков Юст. Время силовых решений скоро останется в прошлом. Власть будет в руках тех, кто лучше других сможет подменить понятия общества, направить его к абсолютной толерантности происходящего, с возможностью подменить ее нейронными сетями и альтернативными реконструкциями восприятия.
– Ну, может быть, когда-то так и будет, – соглашается издатель Сунан Хурихава, – но сейчас в Токио сохраняется демократическая технократия лишь благодаря кланам. Тэкия, Гокудо… Они, со всеми своими традициями, являются тем единственным буфером, который сдерживает людей от открытого столкновения интересов тоталитарных стран мира. – Сунан Хурихава тыкает политика пальцем в грудь. – И от таких, как ты, кланы тоже защищают общество.
– Хочешь сказать, что я продажный? – спрашивает Ацуто Комано.
– Хочу сказать, что все мы продажны. Это жизнь – невозможно пройтись над бездной и ни разу не посмотреть вниз.
Политик думает над этим пару секунд, затем говорит, что за это стоит выпить. Какое-то время они обсуждают международные коррекционные тюрьмы класса «Тиктоники» и возможность воплотить в жизнь проект «Паноптикум», частично реализованный в северных странах. Издатель наливает политику саке и признается, что не верит в идеальное общество.
– Мир родился из хаоса, – говорит он. – Это наша природа. Какой смысл идти против природы?
– Говоришь как радикал технологических нигилистов, – подмечает Ацуто Комано.
Сунан Хурихава оживляется, вспоминает девушку, работавшую нейронным реконструктором, которую хотел заполучить в проект создания двухуровневого языка сознания для нейронных сетей. Она тоже была представителем радикальных технологических нигилистов. Он щелкает пальцами, пытаясь заставить себя вспомнить ее имя.
– Кейко? – хмурится политик. – Это не ее обвинили в поджоге утилизационной фабрики и отправили в коррекционную тюрьму?
– Именно.
– Да, странный был процесс.
– А кто был спонсором?
– Кто?
– Концерн «Синергия». Неофициально, конечно, но я навел справки и… – издатель снова подливает политику саке. – Концерн оплатил эфирное время, купил голоса, выделил целый нейронный отдел, чтобы дело радикала ТН стало известно каждому.
– И зачем им это нужно?
– Демонстрация силы, пропаганда заокеанского мышления… Вспомни нашумевший процесс над якудзой из клана Тэкия. Скольких он убил? Кажется, только официально удалось доказать его причастность к гибели пары десятков людей. Вспомни, кто выступал спонсором процесса. Север. Вспомни пропаганду, которую сеяли его представители, убеждая общество запретить продажу гражданским всех видов оружия, как это реализовано в северных странах. Они не говорили о самозащите. Они говорили, что гражданские не способны быть рациональными и послушными, когда в руках у них есть оружие. Безоружными и беспомощными проще управлять, сжимая им горло железной рукой закона. Но как это подносилось, а? Север с гордостью заявлял, что в их стране устранены все бандформирования, и пытался убедить токийцев, что пришло время поставить крест на кланах якудза…
– Ну, в последнем нас убеждают и заокеанские страны, – политик улыбается и неловко тянется за закуской.
Блюдо с синтетической сашими переворачивается. Политик тупо смотрит на идеально ровные кубики синтезированной рыбы.
– Ты когда-нибудь ел настоящего лосося? – спрашивает он издателя. – Иногда мне кажется, что скоро в этом мире не останется ничего настоящего. Повсюду будут эти чертовы манекены, – политик бросает недобрые взгляды в сторону официанток-синергиков.
– Думаешь, Токио ждет тоталитарная корпократия? – спрашивает издатель.
Он вспоминает историю девушки по имени Кейко из партии технологических нигилистов. Даже после того, как суд вынес приговор, она продолжала отрицать свою причастность к поджогу утилизационной фабрики. Независимое расследование, которое провел Сунан Хурихава, надеясь оправдать девушку, чтобы получить ее в ряды своего издательства, смогло доказать ряд фальсификаций, но судьи остались глухи к заявлениям одного из самых крупных нейронных издательств Токио. Возможно, имело смысл попытаться доказать их причастность к заговору, но Сунан Хурихава не осмелился копнуть так глубоко в одиночку. «Никаких денег и связей не хватит, чтобы бросить вызов заокеанской корпократии», – подумал он тогда.
Сейчас Хурихава поймал себя на мысли, что стоило попробовать обратиться за помощью к кланам. Вот только тогда целью стала бы уже не только Кейко. Это вышло бы за рамки желания получить талантливого нейронного реконструктора в свое издательство. Это стало бы политикой. А забираться, увязать, тонуть в этом болоте Сунан Хурихава был еще не готов. Его люди смогли доказать причастность заместителя директора фабрики утилизации заокеанского концерна «Синергия» к заговору. Получивший ожоги охранник фабрики пострадал, вероятно, в результате неудачной попытки поджога.
– Даже если вы докажете это, – сказал охранник Сунану Хурихаве, – то это вам ничего не даст. Я потеряю работу, мне понизят идентификацию социального статуса. Возможно, обвинят в причастности к партии радикальных ТН, но до истинных заказчиков вам не добраться.
Беседа не была официальной, хотя Сунан Хурихава все равно не смог бы ничего доказать. Чуть яснее картина вырисовалась с любовником Кейко – силовиком по имени Эйдзи Гонда. Нанятые Сунаном люди обнаружили крупные перечисления на счет силовика. К тому же на суде он подтвердил, что сам предложил Кейко присутствовать на задержании свихнувшегося синергика и при его последующей транспортировке на фабрику для утилизации.
– Я хотел, чтобы Кейко поняла: синергики – часть нашего общества, часть нашей жизни. Но мы не должны бояться и ненавидеть их. Они созданы улучшить и облегчить нашу жизнь, – скажет он на суде.
Изучит Сунан и других технологических нигилистов, арестованных вместе с Кейко. Они никогда не состояли в официальных рядах партии, но их задержали лишь потому, что после посещения утилизационной фабрики Кейко пыталась связаться с ними. Ни одно из дел, заведенных на этих людей, не дошло до суда. Их не было на фабрике в ночь поджога. Не было там и Кейко – суд не отрицал этого, не мог доказать обратного. Кейко обвинили в организации поджога, принимая во внимание, что исполнителей установить не удастся. Процесс привлек к себе колоссальное внимание, и все это время в народе росла популярность концерна «Синергия». Было ли странным, что когда Кейко отправили в коррекционную тюрьму, в продажу выпустили бюджетную партию синергиков, по таким смешным ценам, что люди готовы были убивать, лишь бы получить возможность принять участие в акции? Процесс над Кейко забыли. Остался только громадный спрос на синергиков, которые давно заполонили заокеанский мир, превратив концерн «Синергия» в экономических хозяев мира.
Расследуя дело Кейко, Сунан Хурихава наткнулся на новый проект концерна, частично реализованный в небольших экспериментальных городах за океаном. Проект предполагал расширение возможностей синергиков, выход их сознания за пределы ограниченных возможностей и функций.
– Ты знаешь, что за океаном есть целые города, где живут только синергики? – спрашивает издатель политика, веля официантке-синергику принести еще один кувшин саке. – Их биоэлектронный мозг изменен и приближен к уровню человека. Они существуют, развиваются… И это уже не машины. Это что-то большее. Словно прототип нашей личности, созданный тоталитарным миром. И неважно, кто победит – технократы или корпократы, – результат будет один. Мы варимся, как та лягушка, которую посадили в котел с холодной водой и развели под ним огонь. Она сварится и не поймет этого. С нами происходит нечто подобное. Мы уже приняли международные коррекционные тюрьмы. Даже Север. Тюрьмы класса «Тиктоники» меняют наше сознание. Они перевоспитывают людей. Больше! Они извлекают сознание и переписывают его, удаляют в случае неудачной коррекции то, что система считает неприемлемым. Ты видел этих людей? Почти те же самые синергики. Нас уверяют, что коррекция сохраняет личность, но где уверенность, что, пройдя коррекцию, ты останешься тем же человеком, что и прежде? Вспомни якудзу из клана Тэкия по имени Семъяза. Он стал единственным убийцей клана, которого система сочла исправившимся.
– Я слышал, клан отрекся от него после этого, – осторожно вспоминает политик.
– Именно, – оживляется издатель. – Что если он – это уже не он? Что если в его тело просто загрузили программу синергика, как те, что используются за океаном?
– Не думаю, что это так, – говорит политик. – Думаю, это просто рекламный ход в защиту коррекционных тюрем. Людям просто хотят показать, что проект «Тиктоника» работает. Уверен, этому якудзе просто повезло. Ты узнавал, сколько всего он прошел коррекционных циклов, прежде чем система поместила его в реабилитационный центр?
– Я узнавал, насколько глубоко позволено коррекции менять личность, – говорит издатель. – Ты знаешь, как сильно изменились стандарты за последние годы? Нас уверяют, что коррекция работает, но в действительности она просто получила больше полномочий. Если раньше личность оставляли без изменений, подразумевая, что человек должен измениться самостоятельно, то сейчас они просто устанавливают в сознании блоки, соответствующие прошлым проступкам.
– Хочешь сказать, что они запретили убийце убивать? – политик пьяно икает и жестом просит издателя подлить ему саке.
– Именно. Система ставит блоки. Насильникам подавляют способность причинять боль другим, убийцы не могут забрать чужую жизнь.
– Теперь понятно, почему Тэкия отказался от того якудзы, – смеется политик, видит, что издатель серьезен, и снова пьяно икает. – Да брось. Ты ведь несерьезно.
– Серьезно.
Они спорят, чуть ли не дерутся, и разошедшийся политик зовет появившегося якудзу.
– Вот ты-то мне и нужен! – кричит он, спрашивает у издателя, как звали убийцу из клана Тэкия, который прошел коррекцию.
– Семъяза, – говорит Сунан Хурихава.
– Точно, Семъяза! – политик обнимает якудзу. – Скажи, ты знал этого убийцу?
Якудза молчит.
– Ты что, язык проглотил? – негодует пьяный политик.
Спокойствие нарушено, и посетители тянутся к выходу. Издатель тоже хочет убраться, пока есть возможность. Политик кричит, называет имена своих друзей. Издатель выходит на улицу. Свежий воздух трезвит. Его машина пылится на стоянке борделя для VIP-клиентов. Уровень сжатого охлажденного воздуха в заправочных баллонах минимален, и система, активируясь, когда Сунан садится за руль, проектирует кротчайший путь до ближайшей заправочной станции. Сунан не спорит. У него дрожат руки. В кармане лежит тюбик с наностимуляторами, способными вывести из организма выпитое саке, но он и так протрезвел.
Пару лет назад ему отрезали здесь мизинец и за меньшее унижение, нанесенное клану. Вернее, не отрезали, заставили отрезать – дали танто и ждали, когда он собственноручно совершит обряд юбидзумэ. Обряд получил особую популярность в кланах после того, как появились качественные синтетические конечности, способные заменить утраченные. Сунан Хурихава предпочел отказаться от процедуры восстановления. Отрезанный мизинец не мешал жить, зато как нельзя лучше напоминал о том, что нужно следить за тем, что говоришь и где.
«Наверное, – думает он, глядя на закрытые двери борделя, за которыми обряд юбидзумэ ожидает политика, – пока в стране есть подобная первобытность, подобная верность себе и своей культуре, весь мир может сойти с ума, но люди этой страны сохранят свое лицо и свою личность. Это сильнее коррекции. Сильнее корпократии и технократии. Сильнее абсолютного тоталитаризма…»
Нейронный издатель вздрагивает – двери в бордель открываются. Политик выходит на улицу, зажимая носовым платком кровоточащие обрубки четырех пальцев на левой руке. Его качает, но виной всему не алкоголь. Перед обрядом ему велели принять наностимуляторы, так что алкоголя в его крови, чтобы притупить боль и страх, уже нет. Политик замирает, сгибается пополам. Его рвет на тротуар. Жидкий чип, интегрированный в тело для идентификации социального статуса, спешно списывает за мусор набранные баллы. Чипу плевать, что случилось и сколько пальцев ты себе только что отрезал.
Издатель выходит из машины и зовет политика по имени. Ацуто Комано смотрит на него стеклянными глазами. Его лицо покрыто крупными каплями пота. Он идет медленно, спотыкается.
– Ты как? – спрашивает издатель.
Политик показывает изуродованную левую руку, замотанную носовым платком. Издатель кивает, помогает ему открыть дверь. Политик неловко забирается в машину, прижимает лишенную четырех пальцев руку к груди. Белая рубашка взмокла от пота. Теперь ее заливает кровь, просачиваясь сквозь носовой платок. Политик дрожит. Издатель смотрит на него и вспоминает аварию, в которую политик попал два года назад. Он был пьян, прогнал своего водителя, использовавшего служебную машину, чтобы подработать на стороне, и сам решил отвезти любовницу домой.
– Когда ты в последний раз сидел за рулем? – спросил его в тот день Сунан Хурихава, помогая выбраться из машины.
Политик пожал плечами. Он почти не пострадал, лишь все лицо было в мелких порезах от разбившегося стекла. Он не помнил, как попал на строительную площадку, не помнил, куда ехал, и не помнил, что с ним была женщина. Не шлюха, нет. Ацуто Комано никогда не платит за секс, если это, конечно, не синергик. Он смотрел на друга детства и просил о помощи.
– Отвези меня домой, Сунан. Просто домой.
Издатель дал ему наностимуляторов. Политик пришел в себя, увидел свою любовницу, которой стальная труба пробила грудь. Пробила труба и спинку сиденья, перегородку с багажником, пол и баллоны с охлажденным сжатым воздухом. Издатель слышал, как воздух со свистом вырывается из баллонов. Услышал это и политик, когда наностимуляторы привели его в чувство. Сначала услышал свист воздуха, затем увидел любовницу и сел на груду гравия, в которой застряла машина. Женщину звали Джулия Ван Паттен, и она была женой видного заокеанского финансиста, пытавшегося пару лет назад продвигать в Токио идеи тоталитарной корпократии. У Ацуто Комано была семья, но Джулия… Джулия стала для него всем… Сейчас Джулия умирала.
– Я не могу ее отпустить, не могу, – бормотал политик.
Системы слежения уже отправили в его идентификационный чип информацию о списании баллов социального статуса за неосторожное вождение. Пара машин неотложки неслась где-то по городу к месту аварии.
– Ее ведь спасут? Спасут? – снова и снова спрашивал политик.
Издатель смотрел на трубу, пробившую грудь Джулии, предпочитая молча курить, в то время как идентификационный чип списывал балы с его социального счета за курение в общественном месте.
– Только не оставляй меня одного, – попросил политик, когда врачи повезли Джулию в больницу.
– Давай я отвезу тебя домой, – предложил другу издатель.
– В больницу, – сказал политик.
Неотложка уже уехала, и они до утра колесили по городу, пытаясь найти больницу, куда поступила Джулия. Седовласый врач узнал политика и, кланяясь почти через слово, сообщил, что шансов нет. Политик слушал молча, затем отвел издателя в сторону и попросил еще об одном одолжении.
Они поехали в район, контролируемый кланом Тэкия. Бессонная ночь смазала четкие грани реальности. Все было каким-то вымышленным, особенно якудзы, принимавшие политика как желанного друга. Хотя последнее могло быть и видимостью, иллюзией, которую рисовала издателю бессонная ночь. Он спросил у синергика-официантки, где он может достать наностимуляторы, но машина отчеканила, что они подают только легальные закуски.
Издателю остается ждать. Он не знает, о чем политик сейчас договаривается с сингиином клана. Есть мысль, что он просит помощи в том, чтобы уладить смерть Джулии Ван Паттен, но это кажется несерьезным, потому что ради этого не стоит обращаться к якудзе – достаточно будет и собственных связей. Да издатель и сам мог бы все уладить.
Политик вышел из кабинета сингиина спустя час. Наностимуляторы, которые дал ему ночью Сунан Хурихава, снизили свою активность. Политик выглядел усталым, истощенным. По лицу катились крупные капли пота.
– Еще одно одолжение, – попросил он издателя.
Сунан Хурихава кивнул. На его машине они вернулись в больницу, где умирала Джулия. Политик хотел попрощаться. Он взял девушку за руку и долго стоял возле кровати, изучал ее лицо, словно хотел запомнить. Потом появились представители клана Тэкия. Врачи закрыли глаза на их присутствие. Люди клана Тэкия активировали переносную установку для извлечения сознания. Процедура длилась не больше пяти минут. Тело Джулии умерло, а сознание оказалось пойманным в прозрачную крохотную капсулу, внутри которой искрился свет.
К тому времени Сунан Хурихава почти спал наяву – утром он не сразу смог вспомнить все, что с ним случилось, а когда вспомнил, не поверил, что слухи окажутся правдой, не поверил, что клан Тэкия сможет вернуть Ацуто Комано Джулию. Вернее, сознание Джулии в теле другой девушки. Но не прошло и месяца, как Комано познакомил его со своей новой-старой любовницей. Это была миниатюрная японка, совсем не похожая на Джулию Ван Паттен, но она говорила и вела себя как Джулия. Между ней и политиком еще чувствовалось напряжение, но девушка уже была готова простить его за аварию, забравшую ее тело. Сунан Хурихава смотрел на нее и заставлял себя притворяться, что не удивлен, не напуган. Когда дружеский ужин закончился и он остался с другом детства наедине, политик пожаловался, что Джулии теперь приходится проходить постреабилитационные общественные работы, которые обязательны для всех, кто побывал в коррекционной тюрьме.
– Но зато Джулия теперь настоящая японка, – сказал политик.
– Ты хоть понимаешь, во что ввязался? – спросил издатель.
В тот день ему казалось, что хуже и быть не может. Казалось, что сам он бы никогда не поступил подобным образом. Эта уверенность будет жить в нем почти два года, пока судьба не заберет у него человека, который дорог ему.
Тайка по имени Самийинг придет в его издательство и предложит несколько нейронных реконструкций на двухуровневом языке программирования. Она будет первой, от кого Хурихава услышит о возможном потенциале нового языка восприятия. Самийинг опередит время на пару лет. Ради нее Хурихава откроет в издательстве новый отдел и оставит семью, хотя Самийинг откажется съехаться с ним. И ради нее Хурихава отправится к другу детства и попросит его о помощи.
Самийинг уснет в кровати с незатушенной сигаретой. Когда вспыхнет постельное белье, депрессанты притупят боль, а наностимуляторы, настроенные так, чтобы продлевать действие наркотических веществ, помогут сохранить жизнь в этом превратившемся в головешку теле.
– Ты должен помочь мне, – скажет Сунан Хурихава другу детства.
Они будут стоять в палате, где под колпаком регенерационной камеры будет жить Самийинг. Вернее, не жить – существовать, цепляться за жизнь, невзирая на боль и увечья.
Политик смотрит какое-то время на девушку, затем поворачивается к издателю.
– Все что угодно, – говорит Сунан Хурихава.
Ацуто Комано кивает. Они едут к сингиину клана Тэкия, но свободных тел доноров нет. Нет заключенных, нет бедняков, которые продают себя, чтобы спасти от нищеты семью…
– Если подождать пару месяцев… – говорит сингиин.
– У Самийинг нет пары месяцев, – болезненно морщась, обрывает его издатель. – У нее нет даже пары дней.
Сингиин молчит. Сунан Хурихава вспоминает, как за подобное неуважение лишился однажды мизинца. Сейчас он готов отрезать руку, лишь бы ему помогли спасти Самийинг.
– Есть возможность поместить сознание вашей девушки в тело синергика, – говорит сингиин.
– В синергика?
– Тело и способности вы сможете выбрать сами.
– В синергика?
Издатель не замечает, что политик трогает его за локоть. Сунан Хурихава и сингиин клана Тэкия смотрят друг другу в глаза.
– Она возненавидит меня, когда узнает, что я сделал, – говорит издатель.
– Она умрет, если ты ничего не сделаешь, – шепчет ему на ухо политик.
Издатель смотрит на сингиина и осторожно кивает.
Теперь вернуться домой – видеть извлеченное сознание Самийинг искрящимся в прозрачной капсуле кажется невозможным, неосуществимым. Если он увидит ее в этой капсуле, то уже никогда не сможет воспринимать как человека… Хотя человеком она уже никогда не будет. Синергик. Ему придется любить синергика. Когда сингиин клана предложил ему выбрать будущий образ Самийинг, издатель поручил это своему другу. Политик согласился. Черные волосы использовать для синергиков было запрещено, поэтому он выбрал синий цвет. Глаза стали голубыми. Рост – средним. В качестве образчика тела он выбрал последнюю модель поставляемых в бордели синергиков…
Когда новая Самийинг вошла в квартиру издателя, то он подумал: «Боже мой, кто это?» Но потом она заговорила, и он узнал в ней Самийинг. Посланник клана Тэкия сказал, что у девушки сохранилось около семидесяти процентов прежних воспоминаний.
– Это хорошо? – спросил Сунан Хурихава.
– Это очень хорошо, – заверил его посыльный.
В этот же вечер с издателем связался сингиин клана Тэкия и оговорил условия платы за оказанную услугу. Хурихаву не попросили кого-то убить или подсыпать кому-то яд. Клан требовал в порядке компенсации одолжений издательства, возглавляемого Хурихавой. Так на свет появились десятки реконструкторов, работы которых при других обстоятельствах никогда бы не добрались до стола издателя. В первый год Сунан Хурихава ожидал, что это будут компрометирующие материалы, направленные на врагов клана, но ко второму году понял, что клан, скорее всего, просто помогает кому-то так же, как когда-то помог ему. Это не было благотворительностью, скорее долгосрочными инвестициями и укреплением собственной власти в различных кругах, включая искусство. На некоторых изданиях Хурихава смог неплохо заработать.
Иногда он подумывал о том, чтобы познакомить Самийинг и Джулию, но не знал, как предложить это Ацуто Комано, а после того, как новое тело Джулии оказалось неизлечимо больным, и политик в случайных разговорах стал в открытую жалеть, что не использовал синергика, Сунан Хурихава решил, что о знакомстве двух женщин не может быть и речи. Кстати, несколько раз тело Самийинг тоже давало сбой. Сунан Хурихава связывался с представителями клана, и они присылали своего тек-инженера, чтобы исправить поломки.
Его звали Ючи, и обычно он справлялся с поломками на месте. Лишь однажды потребовалось доставить синергика с сознанием Самийинг в его лабораторию, где их встретила девушка в теле синергика-официантки по имени Файлин. Так у Самийинг появился друг.
Когда еще у Файлин было тело человека, она занималась интеграцией нейронных татуировок. Сейчас она продолжила свое занятие в теле синергика, причем, как она сама говорила, получалось у нее лучше, чем прежде. Это подтолкнуло Самийинг к тому, чтобы вернуться к изучению молодого двухуровневого языка сознания, который предполагал объединение реальности и нейронных сетей в целостную систему. Проект имел далеко идущие планы. Ученые работали над жидким чипом нейронного модуля, пригодного для интеграции человеку. Перспективы проекта видели как корпократы, так и технократы. Футуристы начали поговаривать о том, что грядет новая эра в истории человечества. Природа умирала, и нейронная сеть, способная объединить мир, могла заменить животных и растения. Человек был Богом и дьяволом для планеты, на которой жил. Но человек давно перерос свою органическую сущность. Проект обещал вознесение сознания над плотью.
Тек-инженер Ючи лично интегрировал в биоэлектронное тело Самийинг расширенный модуль памяти и восприятия. Сунан Хурихава видел, как растет интеллект его возлюбленной. Но чем умнее становилась Самийинг, тем в более пресную превращалась их совместная жизнь. Девушка словно действительно возносилась над своей оболочкой синергика, которая нравилась Хурихаве. Он видел, но притворялся, что остается слепым. Поэтому когда Самийинг заговорила с ним о том, что им следует прекратить близкие отношения, это не стало для него сюрпризом.
– Это не значит, что я разлюбила тебя, – сказала Самийинг. – Просто это тело… Оно ведь все равно не может чувствовать то, что чувствует человек. Оно может лишь удовлетворять других, не себя. И каждый раз, когда мы отправляемся с тобой в постель… Я чувствую, что ты меня используешь. Используешь это тело… И я… Я не хочу ненавидеть тебя за это… Но если мы не остановимся…
– Я все понимаю, – заверил ее Сунан Хурихава.
С того дня их чувства стали исключительно платоническими. Странно, но у подруги Самийинг, Файлин, были совершенно противоположные проблемы. В отличие от Самийинг, ее тело было бесполым, и если раньше ее это не беспокоило, то с годами она захотела вернуть себе женственность ради Ючи, который однажды уже рискнул всем, чтобы спасти ее, не дать умереть. Наблюдая за развитием этих отношений, Сунан Хурихава тешил себя мыслью, что когда-нибудь нечто подобное испытает и Самийинг, пожелав вернуть их ночи любви. До тех пор он готов был ждать, наблюдая, как умирает Джулия Ван Паттен в теле другой женщины. Умирает второй раз. Ацуто Комано ничего не мог сделать.
– Будь она синергиком, как твоя Самийинг, то все было бы проще, – сказал он как-то раз Хурихаве.
Хурихава не спорил, хотя о том, что их связь с Самийинг стала исключительно платонической, Ацуто Комано не знал. Это был маленький секрет издателя. Такой же, как и секрет политика – новая любовница, с которой его познакомил Яков Юст.
Ее звали Дита, и Юст говорил, что это означает «военный трофей». Комано любил напоминать об этом девушке. Правда, их отношения продлились недолго, и следом за Дитой появилась Ксения – высокая и властная, почти грубая, совсем не похожая на большинство токийских девушек. Особенно не нравился издателю скрипичный ключ, наколотый у нее на животе, который она не скрывала, а наоборот, выставляла напоказ. Вообще все друзья и окружение Якова Юста были странными и не нравились Сунану Хурихаве. Если бы у него была возможность, то он исключил бы этих людей из списков своих друзей, но он не мог, особенно после того, как Юст начал финансировать отдел, работавший в сфере двухуровневого языка сознания.
Издательство перестало быть независимым. С одной стороны, Сунан Хурихава был обязан услуживать клану Тэкия, с другой, появился представитель Севера Яков Юст. Причем зависимость от клана не нравилась Хурихаве меньше, чем зависимость от Юста. Что-то в этом бывшем политическом заключенном Севера было не так. От него пахло тоталитарностью. Север был у него в крови. Север проник к нему под кожу тушью татуировок, которые на Севере значат так много, но здесь, в Токио, не имеют смысла. Как скрипичный ключ на теле Ксении, познакомившейся благодаря Юсту с Ацуто Комано.
Эти люди проникли в издательства, просочились в политические круги. Север заполонял Токио… Хотя Сунан Хурихава знал издателей, которые говорили то же самое о представителях заокеанских стран. Одним из них, например, был муж ныне покойной Джулии Ван Паттен. И если раньше Сунан Хурихава рассматривал связь этой женщины с его другом Ацуто Комано случайной, то сейчас фактор случайности превратился в преднамеренную расчетливость. Джулия и Ксения были в чем-то похожи в истоках своих целей, хотя внешне они и отличались так же, как различались Север и заокеанские страны. Все стало каким-то относительным, зыбким.
Хурихава рассматривал несчастный случай с Самийинг преднамеренным, вынудившим его стать должником клана Тэкия. Но зависеть от клана казалось не так критично, как от чужаков типа Якова Юста и бывшего мужа Джулии Ван Паттен. Кланы были частью Токио. Кланы любили Токио, уважали традиции и понимали местную жизнь, а вот иностранцы… Иностранцам было плевать. Для них Токио был лишь новой землей, которую нужно ассимилировать и поселить здесь семена своего тоталитаризма. И если это не остановить, то рано или поздно Токио изменится под тяжестью иностранных инвестиций, провокаций и дезинформации…
Вопрос этот стал особенно острым, когда токийский суд отправил в коррекционную тюрьму женщину из партии технологических нигилистов, подчеркнув свою власть и возможность признать виновным любого. А в том, что Кейко была невиновна, Сунан Хурихава не сомневался. Никто не сомневался, но никто и не вышел на улицу и не помешал отправить ее в коррекционную тюрьму. Промолчали даже кланы. Все до единого… А когда Сунан Хурихава попытался взбрыкнуть, начав собственное расследование, появилась группа силовиков, именуемая в народе технологическими инквизиторами, и забрала Самийинг. Для них это был просто созревший для утилизации синергик, с которым они обращались, как с взбесившимся псом.
Странно, но как только Сунан прекратил расследование, связанное с приговором Кейко, то синергика, в теле которого находилось сознание Самийинг, ему вернули. Да они и не хотели лишить его того, что ему дорого, им нужно было показать ему, что они могут это сделать в любой момент. Это как отрезанный мизинец, напоминающий, что нужно держать язык за зубами.
Глава девятая. Модуль судьбы
Шайори не хотела возвращаться в Токио. Токио был прошлым, а прошлое – это то, от чего она сейчас бежала. Она, ее любовник, якудза по имени Семъяза, и маленькая девочка Юмико, волею судьбы оказавшаяся в теле взрослой женщины. Есть в этой компании еще и четвертый – ставшая призраком личность женщины, тело которой использовал отец Юмико, чтобы спасти свою дочь. И еще где-то далеко, фоном – убийца Макото, посланный отцом Шайори, чтобы убить Семъязу и вернуть Шайори в клан Гокудо…
В общем, все крутится, вертится – долгая история, чтобы вдаваться в подробности, а тут еще сбоит нейронная татуировка любви, интегрированная в ступню Шайори. Когда-то это был ее вызов деспотии отца, сейчас это ее проклятие. Модуль активируется непроизвольно, превращая Шайори в сплав нежности, чувств и страсти. Беда в том, что ее любовник не всегда может оказаться рядом. Конечно, Семъяза все понимает, но он ведь бывший якудза, и пусть коррекционная тюрьма «Тиктоника» изменила его, поставила блоки, запретив убивать людей, иногда он хочет кого-то убить – особенно тех, кто оказывается рядом с Шайори, когда активируется ее нейронная татуировка.
Когда они встретили Юмико, то модуль Шайори тоже активировался. Отец девочки умирал, якудза за стеной вырезал силовиков, преследуя Семъязу и Шайори. Начальник тюрьмы Раф Вэдимас воспользовался интеллектуальными пулями, чтобы прикончить нападавших. Но пулям все равно кого убивать. Они пробили Юмико грудь, а позднее так же случайно забрали жизнь ее отца.
– Если Вэдимас узнает, что девочка жива, он избавится от нее, – сказала Шайори своему любовнику.
Семъяза не спорил, да и некогда было спорить – Макото шел по пятам. Якудза с четвертым уровнем глубины бусидо. Даже до того, как коррекция изменила Семъязу, он не смог бы победить Макото, встреться они лицом к лицу в поединке. К тому же у Семъязы не было наномеча, лишь только оружие Вэдимаса с интеллектуальными пулями, которое он забрал у начальника тюрьмы, вырубив последнего. И еще у них есть крошечная спортивная машина Шайори. Баки заправлены охлажденным сжатым воздухом. Им нужно добраться до Токио, где тек-инженер по имени Ючи должен удалить Шайори ее нейронную татуировку любви. Семъяза не связывался с ним, не договаривался о визите, но Ючи должен ему – еще одна долгая история. Ючи работает на клан Тэкия. Когда-то Семъяза тоже работал на клан Тэкия, но клан отказался от него. Теперь Семъяза сам по себе.
– Глупо возвращаться в Токио, – говорит Шайори.
Он молчит, опускает глаза и смотрит на правую ступню девушки, где находится ее нейронная татуировка любви.
– В Токио мой отец, – говорит Шайори.
Семъяза молчит. Шайори смотрит на свои руки, на белые шрамы, отделившие настоящую плоть от силиконовой плоти кистей. Когда-то на глазах у клана отец отрубал ей кисти за каждый проступок, позоривший его.
– Может быть, мы просто отрубим мне ступню? – предлагает Шайори.
Она боится Токио, боится отца и Макото, который преследует их. Тек-инженера по имени Ючи она тоже боится. Он не якудза, для него честь не смысл жизни. Он может выдать их, предать.
– Как мы будем скрываться, если у тебя не будет ступни? – спрашивает Семъяза.
– Можно будет установить имплантат, – пожимает плечами Шайори.
– Имплантация займет больше времени, чем удаление модуля.
– Зато не придется ехать в Токио.
Шайори всерьез рассматривает возможность избавиться от татуировки любви, отрубив ступню. В последнее время ей вообще хочется причинять себе боль. В прошлую ночь она отрезала себе мизинец, чтобы выпросить у Семъязы прощение. Конечно, кисти рук у нее давно не из плоти и крови, но боль все та же.
– Ты не должна этого делать, – сказал Семъяза, когда она передала ему завернутый в белый носовой платок мизинец левой руки.
– Должна, – сказала Шайори и опустила глаза.
Если бы Семъяза спросил имя мужчины, который воспользовался тем, что у нее активировалась нейронная татуировка любви, Шайори бы не сказала. Во-первых, она не спросила у него имя, а во-вторых, лучше было отрезать себе второй палец, чем снова превратить Семъязу в убийцу… Шайори уверена, что хоть Семъяза и говорит, что она не должна искупать вину, для него этот жест важен. Это подчеркивает ее уважение к нему. Это позволяет ей чувствовать свое искупление. Искупление в боли. И возможно, если отсечь ступню с неисправной нейронной татуировкой, то весь стыд и раскаяние уйдут вместе с кровью?
– Мы не будем отрубать тебе ступню, – говорит Семъяза.
Решение окончательное. Шайори знает, что спорить нет смысла. Она помогает Юмико одеться – девочка в теле взрослой женщины не очень понимает, какую одежду теперь должна использовать. Семъяза ждет их на парковке. Он сидит за рулем крохотной «Хонды». Юмико забирается на тесное заднее сиденье. Складная крыша убрана, и ветер треплет длинные женские волосы Шайори и Юмико. Шайори чувствует тупую боль в отрезанной фаланге мизинца.
Юмико на заднем сиденье подставляет лицо ветру. Она подавлена и помнит, как умер отец, но дети, пожалуй, адаптируются к переменам лучше взрослых. Шайори оборачивается. Женщину, тело которой досталось Юмико, звали Кейко, и она попала в коррекционную тюрьму за совершенный теракт на фабрике утилизации синергиков – этих похожих на фарфоровые куклы манекенов с биоэлектронными мозгами в груди, которые заполонили весь мир.
Шайори думает, что, вероятно, когда-то внешность Кейко можно было считать красивой – когда за телом следила зрелая женщина, не ребенок. Сейчас, без косметики и шарма, лицо Кейко выглядит усталым и осунувшимся. Лишь искрится детским желанием жить взгляд, за которым живет ребенок. Шайори вспоминает резню, устроенную в «Тиктонике» людьми ее отца. Сколько всего погибло силовиков в тот день? Дюжина? Пять дюжин? Десять? Если бы Семъяза не прошел коррекцию, если бы система посчитала его исправление невозможным и стерла ему личность, то Шайори бы не поехала в «Тиктонику», отец не послал бы за ней убийц клана Тэкия… И Юмико была бы девочкой с детским телом.
Шайори видела ее трупик лишь мельком и не запомнила лица – что-то синее и мертвенно бледное. Макото увернулся от выпущенной Рафом Вэдимасом интеллектуальной пули, и смерть нашла себе другое тело, не заботясь о том, что это был ребенок – Шайори видела, как это случилось. И если Вэдимас узнает, что Юмико жива, то он будет охотиться не только за девочкой, но и за Шайори. Свидетели ему не нужны. Там, в реабилитационном центре «Тиктоники», когда Семъяза вырубил начальника тюрьмы, у Шайори был шанс избавиться от Вэдимаса навсегда. Установленные коррекционной системой блоки не позволяли Семъязе забирать жизни, но ведь Шайори могла сделать это сама. Правда, поняла она это только сейчас, когда назад было ничего не вернуть.
Крошечная спортивная «Хонда» лихо взбирается на эстакаду и уходит на развязку, пестрящую нейронной рекламой. Всю свою недолгую жизнь Юмико жила с отцом в крохотном городе возле «Тиктоники». Когда они въезжают в пригород Токио, девочке он кажется центром мира, Вселенной. Особенно поражают бесконечные нейронные рекламы. Они влезают в голову спроектированными образами. Нейронные модули повсюду. Они продают машины, средства гигиены, новые синтетические продукты и диковинную органику, в существование которой верится с трудом, особенно если учитывать, что в умирающем мире давно исчезли почти все животные и растения. Нейронные образы проектируются даже на дорогу, отчего кажется, что сияет весь мир вокруг.
– Дубы! Дубы! – кричит Юмико, когда они останавливаются перекусить в придорожном кафе.
Искусственные деревья тянутся к небу силиконовыми ветвями. Они растут, их листья желтеют, опадают, затем появляются почки и снова распускаются листья, но все это не по-настоящему. Как и пара птиц, которые свили гнезда в этих ветвях.
– Смотри! – кричит Юмико, хватая Шайори за руку и показывая на гнезда.
Шайори улыбается сквозь боль – девочка забылась и схватила ее за левую руку с отрезанным мизинцем. Но боль сейчас желанна. Шайори пытается идти, почти не наступая на правую ногу, чтобы случайно не активировать нейронный модуль любви. Торс Семъязы сплошь покрыт нейронными татуировками боевых способностей, но сейчас их не видно. Рубашка скрывает его принадлежность к клану. Остается лишь нейронная татуировка на шее с изображением Шайори, которую он сделал, когда они стали встречаться. Но эта татуировка не пугает людей, скорее наоборот – любовь умиляет или вызывает раздражение, но почти никогда не вселяет ужас, как кланы якудза.
Они входят в заполненное людьми кафе. Юмико держит Шайори за руку. Она ребенок – ее не волнует, как это выглядит со стороны. Очередь формируется согласно интегрированным чипам идентификации социального статуса. Обычно их интегрировали еще в старших классах школы, но Шайори знала, что якудзы избегали этой процедуры. Правда, после коррекции в «Тиктонике» в тело Семъязы интегрировали стандартный идентификационный жидкий чип, интегрировали, наверное, и в тело Кейко, которое теперь принадлежало Юмико, но вряд ли у бывших заключенных уровень социального статуса был достаточно высоким, чтобы не торчать в конце очереди.
– Думаю, будет лучше, если заказ сделаю я, – говорит Шайори.
Семъяза не спорит. Система переносит Шайори в первую тройку. Перед ней только мужчина лет тридцати и школьник. Шайори удивлена, что у школьника такой высокий социальный статус. Должно быть, это местный вундеркинд. Система выделила его и стимулирует к развитию, позволяя вкусить привилегии высокого социального статуса. Школьник подключен к нейронной социальной сети посредством бесплатного модуля в закусочной. У него туманный взгляд. Сознание цепляется за реальность, находясь где-то далеко отсюда. Он что-то изучает. Шайори видит, как подросток перебирает губами, проговаривая незнакомые ей формулы. Мужчина перед ними заканчивает делать заказ. Школьник не замечает.
– Твой черед, – говорит мужчина.
– Эй, – Шайори трогает школьника за плечо, иначе он так и будет стоять здесь до вечера – вряд ли эта очередь что-то значит для него. Вряд ли он вообще замечает естественное течение жизни.
Подросток вздрагивает, обрывает нейронное соединение и шаблонно извиняется за свое поведение, чтобы система не списала ему баллы социального статуса.
– Ох уж эти умники, – говорит мужчина Шайори.
У него свежее лицо и темные пытливые глаза. Костюм недорогой, но стильный. Шайори уверена, что видела нейронную рекламу этого костюма где-то на дороге. Вообще, когда она жила в семье, благосостояние отца позволяло ей не разбираясь отключать все эти рекламные модуляции, проецируемые прямо в голову. Достаточно было лишь оформить подписку на блок. Но подписка была недешевой. Реклама оплачивала платные дороги, уборку города, содержание искусственных деревьев и робоптиц, которые вили в силиконовых кронах свои ненастоящие гнезда. Но потом Шайори поняла, что реклама в дороге помогает отвлечься. К тому же нейронные проекции разукрашивают мир, превращают его в яркую бесконечную ярмарку. Реклама была чем-то вроде синергиков, работавших там, где обычные люди не хотели работать.
Официантка-синергик проходит мимо Шайори. В толчее людей биомашина выбирает наиболее короткий путь. Шайори спешно отходит в сторону, наступает на правую ногу, вспоминает о нейронной татуировке любви и подгибает колено, чтобы не активировать модуль. Мужчина, стоявший в очереди первым, помогает ей удержаться на ногах, поддерживает за локоть. Заказ еды становится второстепенным. Весь мир второстепенен. От мужчины, который держит Шайори за локоть, пахнет популярным одеколоном. Запах сводит ее с ума. Его взгляд гипнотизирует. Его лицо гладко выбрито. Кожа чистая, почти идеальная. А глаза… Ох уж эти глаза! И губы. И тело… Нужные слова как-то сами складываются в предложения. Вокруг толпа людей, но Шайори не замечает их. Она ведет мужчину в туалет закусочной, запирает дверь. Мир кружится каруселью, вспыхивает пульсаром и взрывается суперновой… Взрывается… Взрывается… Взрывается…
– Теперь уходи, – говорит Шайори.
Мужчина улыбается, приводит в порядок свой недорогой костюм, смотрится в зеркало, моет руки, уходит. Модуль любви активен, и Шайори с трудом сдерживается, чтобы не побежать за случайным любовником, не позвать назад. Но мысли под контролем. Чувства под контролем. Шайори приводит себя в порядок, подводит глаза, меняет потускневший цвет помады на губах, принимает пару нанопилюль антисептика, моет руки, распечатывает новый гигиенический платок, обматывает им левую руку, достает из сумочки танто и отрезает себе первую фалангу безымянного пальца.
– С вами все в порядке? – спрашивает синергик-официантка, когда Шайори делает заказ, потому что видит замотанную платком левую руку, бледное лицо, капельки пота на лбу.
– Все хорошо, – говорит Шайори. – Я просто прищемила палец.
Синергик кивает. Шайори подходит к столу, где ее ждут Семъяза и Юмико. Фаланга пальца завернута в синий гигиенический платок. Шайори смотрит на Семъязу. Он смотрит на нее, затем на платок с фалангой пальца, который она положила в центр стола. Юмико тоже смотрит на платок. Синергик приносит синтетическую еду. Шайори ест не поднимая глаз. Юмико что-то рассказывает о своем отце и его сестре, у которой шесть детей – мальчиков. Еще Юмико знает, что, находясь замужем за одним мужчиной, невозможно получить столько сертификатов на рождение.
– Один, максимум два ребенка, – говорит девочка, передавая подслушанные разговоры отца и сестры. – Но если завести нового мужа, то получить сертификат очень просто. – Она поднимает испачканные искусственным джемом руки и показывает шесть пальцев. – Вот сколько раз была тетя Мэрико замужем.
У девочки нет матери – Юмико не знает почему. Шайори думает, что доктор Накамура, скорее всего, воспользовался услугами суррогатной жены. Система, конечно, это не одобряет, но всегда можно найти окольные пути.
– Когда я вырасту, у меня будет трое детей, – говорит Юмико, пытается что-то подсчитать. – Это получается полтора мужа, если по два ребенка на каждого, верно? – она смотрит на Шайори.
– Верно, – говорит Шайори.
Они возвращаются в машину, оставив отрезанный палец на столе в закусочной. Семъяза садится за руль – Шайори водит машину как профессиональный гонщик, но с отрезанными пальцами держаться за руль не очень удобно. Можно, конечно, воспользоваться навигационной системой, которая способна взять на себя управление автомобилем уже в пригородах Токио, но Семъяза предпочитает управлять сам. Пара робоптиц кружит над искусственными дубами. «Хонда» разгоняется как ракета. Было бы неплохо заправиться, но Семъяза тянет до последнего и только потом сворачивает на станцию. Шайори закрывает глаза, показывая, что не собирается никуда выходить. Юмико спрашивает о синергиках-детях, говорит, что просила отца купить ей такую сестру.
– Зачем тебе сестра-робот? – спрашивает Шайори не открывая глаз. – Она ведь ненастоящая.
– Но она могла бы стать мне другом. Могла бы стать такой, как я хочу. Разве тебе никогда не хотелось сделать себе друга?
– Мастер, к которому мы едем, собирает таких синергиков, – говорит Шайори, пытаясь отвлечься, потому что отрезанный палец болит так сильно, что хочется кричать, потому что искусственная кисть настырно продолжает передавать боль нервным окончаниям и кажется, что кто-то снова и снова отрезает первую фалангу.
– Может, тебе принять наностимулятор? – спрашивает Семъяза, возвращаясь в машину.
Баки под завязку заправлены охлажденным сжатым воздухом. Нейронные рекламы и навигационные разметки дорог работают в двух реальностях, раскрашивая мир, заливая светом.
– Никаких наностимуляторов, – говорит Шайори. – Эта боль должна быть. И неважно, нужна она тебе или нет – она нужна мне.
Семъяза кивает. Шайори не видит, но ей кажется, что Юмико тоже понимает ее.
– Расскажи мне о синергиках, которых собирает мастер Ючи, – просит девочка.
Шайори молчит, потому что не понимает, к кому обращается Юмико. Потом девочка трогает ее за плечо.
– Расскажи ей о синергиках Ючи, – просит Шайори Семъязу, потому что от боли у нее дрожит голос.
– Ючи занимается не только синергиками, – говорит бывший якудза.
– А я хочу послушать только о синергиках, – по-детски непочтительно говорит Юмико. – Как думаешь, мастер Ючи сможет мне сделать сестру?
– Только если ты останешься у него.
– С вами?
– Нет.
– Но я уже привыкла к вам. К тому же вы не обижаете меня, как это делали дети тети Мэрико.
– Мастер Ючи тоже не станет обижать тебя. К тому же он занимается такими случаями, как твой, и если что-то пойдет не так…
– Что значит «такими случаями, как мой»?
– Твое сознание… и это тело…
– У него тоже есть дети, которые умерли и живут в телах взрослых?
– Не дети, но они живут в чужих телах людей или в биоэлектронных телах синергиков.
– Если это не дети, тогда чем они отличаются от вас?
– Тем, что с нами тебе небезопасно.
– А с папой мне было безопасно?
– Да.
– Но я все равно оказалась в этом теле… – Юмико тяжело вздыхает, молчит какое-то время. – Как думаете, что они сделали с моим телом? С моим настоящим телом?
Шайори открывает глаза, поворачивается и смотрит на Юмико. Она ждет слез, но девочка лишь по-детски задумчива, пытаясь понять ясные для взрослого истины.
– Мое тело кремируют, да? – спрашивает она.
– Да, – говорит Семъяза.
– А я смогу прийти на свою могилу?
– Когда-нибудь…
– Значит, нет?
– Лучше этого не делать.
– Потому что я до конца своих дней буду в опасности?
– Если будешь себя хорошо вести, то мастер Ючи сделает для тебя новую личность.
– Совсем новую? – Юмико думает об этом какое-то время. – А имя мне можно будет оставить свое? Потому что мне кажется, если я сменю имя, то стану совсем другой, забуду все, что было, забуду отца, а я… Я не хочу забывать. – Теперь в ее глазах начинают блестеть слезы, и Семъяза обещает, что она сможет сохранить свое имя, чтобы помнить. Затем он меняет тему разговора и рассказывает Юмико о синергиках мастера Ючи.
– Один из них был его девушкой. И когда она умирала, мастер Ючи спас ее, – говорит Семъяза. – Он дал ей тело синергика. Теперь она интегрирует сложные нейронные татуировки людям клана.
– Как та татуировка, что у Шайори? – спрашивает Юмико.
– Намного сложнее. Простой человек не может пользоваться такими модулями. Нужен особый уровень глубины бусидо.
– А что такое глубина бусидо?
– Это мастерство человека.
– У тебя тоже есть это бусидо?
– Было.
– А сейчас?
– Сейчас я не знаю.
Шайори слушает их разговор и думает, что, возможно, система корректировала не только способность убивать Семъязы. Никогда прежде этот убийца не смог бы так просто разговаривать с ребенком. И что самое забавное, Юмико нравится этот разговор. Девочка развивалась, хотела знать все, что не может понять, и Семъяза терпеливо объяснял все, о чем она спрашивала. Объяснял грамотно. Он не игнорировал ее, как иногда делают, общаясь с детьми, но и не был сух и лаконичен, как если бы разговаривал со взрослым. Его слова содержали ровно столько информации, сколько могла воспринять Юмико. Воспринять, обдумать и задать следующий вопрос.
«Интересно, что еще изменилось в бывшем убийце?» – думает Шайори, когда они въезжают в Токио. Нейронной рекламы становится так много, что за ней почти не видно реальности. Она интегрируется в сознание, подменяет запахи. Страшно подумать, что случится на этих заполненных машинами улицах, если система даст сбой. Особенно нейронные общественные системы навигации, распределяющие потоки движение согласно жидким чипам идентификации социального статуса водителей.
– Думаю, будет лучше, если я пересяду за руль, – говорит Шайори.
Семъяза ждет почти четверть часа, чтобы свернуть к обочине. Когда он был якудзой, то пользовался универсальным модулем клана, который оплачивал рекламные блоки и снимал ограничения статуса. Стоявшие у власти технократы несколько раз поднимали вопрос о запрете подобных модулей, но делалось это скорее для видимости, чем всерьез.
Шайори и Семъяза меняются местами. Нейронной рекламы для «Хонды» становится меньше, меняются нейронные навигационные линии дорожной разметки. Машины расступаются, пропуская крошечную спортивную машину. «Хонда» влетает в автомобильный поток. Левая рука пульсирует болью, но инстинкты сильнее страданий. Шайори не привыкла ездить медленно.
Один из ее любовников, который был еще до Семъязы и сбежал сразу, как только узнал, кто ее отец, говорил, что о жизни человека можно сказать, взглянув, как он водит машину. Современные магистрали стимулируют социальное деление, подчеркивают различия и выявляют тех, кто готов принять это и тех, кто плетется в хвосте, имея все выделенные ему преимущества трафика. Шайори никогда не плелась в хвосте. Она летела, давила, наседала. И если отец не принимал ее любовников, то ее вождение вызывало в нем гордость, хоть он никогда и не говорил об этом Шайори в открытую, наоборот, ставил в пример мать, которая вообще никогда не садилась за руль, никогда не возмущалась, предпочитая бунту активацию своей нейронной татуировки счастья. Не будь этой татуировки, жизнь Шайори могла бы стать другой. Хотя без этой татуировки и мать была бы другой.
«Может быть, тогда ее смирение, покорность и порядочность не казались бы такими искусственными и отвратительными», – думает Шайори, проносясь мимо зазевавшегося водителя, хотя система и ставит его выше на социальной лестнице. Модуль идентификации списывает баллы статуса, но Шайори плевать, как плевать на то, сколько сжатого охлажденного воздуха расходует двигатель «Хонды» на таких скоростях. Боль бросает вызов инстинктам. Трудности бросают вызов характеру. Страх – крепости духа… Ее останавливает лишь напуганный крик Юмико, когда они едва не врезаются в транспортировочный тягач, пытаясь срезать путь. Обороты падают. Двигатель «Хонды» недовольно рычит, словно вспененный жеребец, которого заставили остановиться, не успел он разогнаться.
– Эта машина создана для скорости, – говорит, извиняясь, Шайори, занимая положение на магистрали согласно идентификации своего социального статуса. Мир, кажется, замирает.
Скорость снизилась, и теперь снова можно следить за нейронными рекламами, которые моделируются в сознание участников движения.
– Это же почти моя выдуманная сестренка! – кричит Юмико, когда видит рекламу синергиков для детей.
Цен на детских синергиков нет, нет и кредитных программ – реклама только проверяет заинтересованность людей в подобном проекте, прощупывает рыночную почву. В действительности подобные синергики вообще запрещены законом, и если внимательно изучить нейронную рекламу, на что, впрочем, не хватает времени, потому что поток машин проносится мимо слишком быстро, то можно будет увидеть, что реклама предупреждает о своей исключительно ознакомительной цели. Но дети кричат. Дети хотят таких интеллектуальных кукол. И чем больше будет их криков, тем ближе будет голосование и поправки в законе технократов касательно выпуска синергиков в этой стране.
– А у мастера Ючи есть такие игрушки? – трещит без устали Юмико. – Он подарит мне одну? Всего одну.
Ее ажиотаж стихает лишь после того, как Семъяза спрашивает, согласится ли она остаться у мастера Ючи, если ей подарят куклу-синергика. Юмико хмурится и взвешивает варианты. Она думает об этом всю оставшуюся дорогу, и, когда они, наконец-то, приходят к тек-инженеру Ючи, спрашивает, какие куклы у него есть. Это становится первыми словами разговора, когда Ючи открывает Семъязе дверь.
– Куклы-синергики? – растерянно спрашивает Ючи, разглядывая взрослую женщину с сознанием ребенка, затем переводит взгляд на Семъязу. – Она что… Ее сознание…
– Да, – говорит Семъяза.
Ючи кивает. Они проходят в его дом-лабораторию, которая занимает почти целый этаж токийской высотки. Шайори не знает, что случилось между Ючи и Семъязой и почему тек-инженер в долгу перед бывшим якудзой – она никогда не спрашивала деталей, а Семъяза не спешил рассказывать.
– Он спас меня от технологических инквизиторов, – говорит синергик с сознанием бывшей девушки Ючи – Файлин, когда сам Ючи и Семъяза уходят поговорить наедине.
– Спас, когда был якудзой? – спрашивает Шайори.
– Я интегрировала ему нейронный модуль, когда появились силовики. Они избили Ючи и хотели отправить нас на фабрику утилизации.
– Семъяза убил их?
– Разобрал на части, как разбирают синергиков во время утилизации, – на губах Файлин нет и тени улыбки.
Юмико, которая стоит рядом, смотрит на нее широко раскрытыми глазами.
– Что не так с этой женщиной? – спрашивает Файлин.
– Ничего, – пожимает плечами Шайори. – Если не считать, что ей всего восемь.
– О! – говорит синергик с сознанием человека.
– Донор, кстати, был членом партии технологических нигилистов. Ее звали Кейко, и она попала в коррекционную тюрьму потому, что подожгла фабрику утилизации… Думаю, для тебя это что-то значит.
– Значит, – соглашается Файлин.
Ее тело выглядит шикарно даже для человека – у синергиков Шайори никогда не видела ничего подобного. Это тело – шедевр. Оно не подчеркивает человечность. Оно определяет эталон красоты, которая выше человечности.
– Просто потрясающе, – признается Шайори, изучая безупречность линий, словно Файлин всего лишь скульптура.
– Видела бы ты, каким это тело было, когда я только попала в него, – улыбается Файлин. – Это был старый экземпляр бесполой официантки-синергика.
– Удивлена, что Ючи не смог найти для тебя тела получше, – говорит Шайори.
– Нет, он все правильно сделал. В тот момент я и сама не хотела другого тела.
– Не хотела вот этой красоты?
– Наверное, нужно умереть, чтобы понять.
– Да, наверное, – соглашается Шайори, вспоминая отца и отрубленные за проступки кисти рук.
Они не сговариваясь переключаются на Юмико. Девочка смущается, но затем, когда Файлин показывает ей нейронные проекты кукол-синергиков, оживляется, чувствует себя центром мира и начинает без устали рассказывать о своей прошлой жизни с отцом. Никто не знает, но сознание девушки, тело которой заняла Юмико, все еще где-то там, где-то в этом чужом теле. Оно блокировано, замкнуто, поймано в клетку. Она не может дать о себе знать – лишь смотреть на мир, смотреть на то, на что хочет смотреть хозяин ее нового тела.
– Вот, держи, – говорит мастер Ючи, протягивая Юмико куклу-синергика.
Чтобы достать прототип игрушки-ребенка, ему потребовалось меньше часа. Еще минут десять ушло на то, чтобы удалить из синергика модуль слежения и анализа, который должен был собирать информацию о семье, купившей этот продукт, и методах воспитания, чтобы впоследствии использовать собранные данные для установки идентификационного модуля статуса, имплантируемого в выпускных классах школы ребенку, играющему сейчас с куклой-синергиком.
Шайори лежит на столе. Файлин восстановила ей отрезанные пальцы. Теперь осталось удалить нейронную татуировку любви. Боли почти нет, но Шайори нервно ерзает, когда слышит радостный смех Юмико, получившей желанный подарок.
– Все нормально? – спрашивает Файлин.
– Я не знаю, – говорит Шайори. – Эта девочка… Ючи подарил ей куклу-синергика… Значит, Семъяза решил оставить ее здесь, верно?
– Ты привязалась к ней?
– Немного.
– Думаю, она тоже привязалась к вам.
Острая боль пронзает все тело, и Шайори не может сдержать крик. Бросив свою электронную игрушку, Юмико бежит к ней и берет за руку. Со стороны странно видеть, как взрослая женщина ведет себя подобно ребенку, но здесь, в мастерской тек-инженера Ючи, для странностей нет места.
– Файлин сделала тебе больно? – спрашивает Юмико.
Шайори заставляет себя улыбаться и отрицательно качать головой. Притворяться у нее не получается, и Юмико видит это.
– Но ведь это для того, чтобы избавиться от твоей сломанной татуировки? – спрашивает она.
– Да.
– Тогда можно потерпеть.
Слова заставляют Шайори улыбаться – на этот раз искренне, хоть и через боль. Жидкий модуль любви, интегрированный в кость, был дешевым и давно утратил пластичность. Файлин приходится разрезать плоть, пилить кость и удалять модуль частями. Кровь из открытой раны капает на пол.
– Фу! – кривится Юмико, когда видит уродливую рану.
– Не смотри, – советует Файлин.
– Почему?
– Потому что ты еще ребенок.
– Я была ребенком, пока у меня было тело ребенка, – ворчит недовольно Юмико, словно на горизонте уже маячит кошмар переходного возраста.
– Вот как? – Файлин отрывается от работы, смотрит девочке в глаза. – Тогда принеси инструменты сломанного синергика-уборщика и помоги мне прибраться.
Шайори оборачивается, смотрит на Файлин, хочет сказать, что это не самая хорошая идея, но Юмико уже дергает тек-инженера Ючи за рукав и спрашивает, где стоит сломанный синергик-уборщик. Да и боль снова обжигает сознание, выдавливая из глаз слезы. Может быть, Файлин мастер своего дела, но, прожив в теле синергика не один год, явно забыла, что такое настоящая боль. Она работает как мясник с мертвой тушей животного. Вот только животных на этой планете почти не осталось, и теперь она упражняется с людьми.
– Убила бы того, кто делал интеграцию, – говорит Файлин, вытягивая остатки модуля любви.
Большеберцовая кость и плюсна зияют крохотными полостями, словно здесь поработали черви. Застывшие осколки модуля звенят, падая на пол. Боль адская, и Шайори не понимает, что все закончилось. Файлин заполняет гидроксиапатитным наногелем поврежденные полости. Процесс заживления происходит практически мгновенно. Шайори чувствует, как уходит боль. Остается лишь обработать рану регенерационным центром, который подкатывает к кушетке Файлин. Затем вместе с Юмико она вытирает кровь и убирает ошметки плоти и осколки модуля любви.
Шайори наблюдает за ними молча. В отличие от сознания Кейко, запертом в собственном теле, она просто хочет отдышаться и успокоиться после удаления нейронной татуировки любви. Когда-то Кейко тоже хотела интегрировать себе такой модуль, надеясь, что это сможет скрасить тусклые ночи. Сейчас она уже не знает, чего хочет, а чего нет. Вначале ей казалось, что весь этот кошмар – часть коррекционной программы, которой подвергла ее система, но как только реальность стала ясна, то все цели и желания как-то стерлись. Это не сон и не коррекция. Это жуткая несправедливая жизнь. Она не может даже ненавидеть захватчика своего тела, потому что этот ребенок не захватывал его. Это сделал ее отец. Юмико была ни при чем.
– А я когда-нибудь смогу сделать себе нейронную татуировку? – спрашивает девочка, дергая Файлин за рукав.
– Такую татуировку, как у Шайори?
– Нет! – девочка кривится. Кривится губами Кейко. – Такую, как у мастера Ючи.
– У мастера Ючи не одна нейронная татуировка.
– Меня интересует та, что отвечает за память.
– Интересно, почему?
– Как это почему? – Юмико таращит глаза. – Представляешь, какой умной я могу стать!
– Так ты хочешь стать умной?
– Конечно. У меня ведь теперь тело взрослой женщины.
«Мое тело», – думает Кейко, но гнева нет. Сложно злиться на ребенка, невиноватого в том, что с тобой случилось. Но и смириться сложно. Кейко думает, что если она обречена жить так до конца своих дней, то лучше уж умереть. Эти мысли приходят, когда Юмико спит. Когда она бодрствует, то сознание буквально взрывается от детских интересов. Видеть мир, слышать, но знать, что он недосягаем, – это все равно, что умирать от жажды, стоя по шею в пресной воде, не в силах сделать глоток. И еще эти детские слезы, когда Юмико остается одна. Шайори объясняет ей, что она не может поехать с ними, что это небезопасно. Девочка кивает и продолжает плакать. Она видела, как умер отец, теперь ей кажется, что если Семъяза и Шайори выйдут за дверь, то умрут и они.
– Когда ты подрастешь, то сможешь понять их, – пытается успокоить ее Файлин.
– Тогда я хочу стать взрослой прямо сейчас, – плачет Юмико.
Женщина в теле синергика пытается обнять ее, но девочка убегает в комнату, которую отвел ей тек-инженер по имени Ючи, запирается там и не выходит, пока Файлин не обещает сделать ей нейронную татуировку памяти.
Ючи нет дома, и Файлин знает, что он не одобрит подобной интеграции, но если это поможет Юмико успокоиться, то Файлин готова к скандалу. К тому же у девочки тело тридцатилетней женщины, так что проблем установки жидкого модуля не будет. Да и уровень восприятия можно будет настроить на минимальную активность. И, если честно, Файлин не может больше слышать, как плачет ребенок. Первый ребенок, расплакавшийся у нее на глазах за долгие годы. Ребенок, которого у нее никогда не будет. И вся эта красота, вся эта идеальность ее тела ничего не значат.
Сначала, когда погибла ее биологическая оболочка, Файлин не хотела быть женщиной, вообще ничего не хотела. Она смотрела на Ючи как на друга и не вспоминала того, что было между ними прежде. Но потом она поняла, что может заниматься тем, что любит. К тому же тело синергика было более точным. Она могла интегрировать нейронный модуль любой сложности. К ней даже обращался глава клана Тэкия. О большем в тот момент Файлин не могла и мечтать. Вместо бесполого тела синергика-официанта Ючи мог использовать тело поставляемых в бордели синергиков. Он выбрал официанта, и Файлин уважала его за этот выбор. Он понимал, что ей будет нужно в тот первый момент, когда чувство смерти висит на плечах, а привычка к новому телу и смирение кажутся невозможными. Но потом появилась работа, а следом за работой желание вернуться к полноценной жизни. Тело не могло любить, но сознание стремилось лишь к этому. Это не было старое чувство, вспыхнувшее с новой силой. Файлин училась любить Ючи заново. Она долго не признавалась ему в этом, лишь просила добавить ее лицу возможность выражать эмоции, затем попросила сделать грудь, изменить цвет глаз…
Ючи был гением, и то, во что он превратил ее тело, стало шедевром. В какой-то момент Файлин показалось, что все может стать как раньше. Пару месяцев ей удавалось притворяться обычным человеком. Они жили с Ючи как когда-то раньше, когда у нее еще было настоящее тело. Но потом Файлин поняла, что каждый раз, когда они занимаются сексом, Ючи делает это совсем не так, как раньше. И как бы сильно она ни притворялась, ее тело все равно останется телом синергика. И еще бедой было то, что это тело создал Ючи. Они лежали в постели, а Ючи оценивал творение рук своих, проверял работу систем, и если что-то барахлило, то спешил это исправить. Подобные поступки приводили Файлин в бешенство.
Файлин никогда не думала о том, чтобы уйти от Ючи. Он дал ей новое тело, новую жизнь и смысл, да и не знала она, куда идти. Синергика с сознанием человека ждала полная утилизация, если до него доберутся технологические инквизиторы. Но не могла Файлин и принять свою жизнь. Ей нужны были маленькие скандалы, в которых она сможет завуалировать свою обиду на судьбу. Поэтому она хотела, чтобы Ючи изменял ей, тянулся к настоящим людям, настоящим женщинам, обладавшим огромным количеством недостатков и одним, но перекрывавшим все остальные минусы преимуществом – человечностью. В такие дни Файлин устраивала ему скандалы, а потом злилась месяцами, притворяясь, что готова уйти. Это помогало ей успокоиться на какое-то время, затем все повторялось.
Случай с Юмико стал одним из таких скандалов. Особенно нейронная татуировка памяти, которую она интегрировала в это взрослое тело незрелого ребенка. Она знала, что Ючи это не понравится, знала, что у них вспыхнет новый скандал, новая размолвка. Скандал творца и его идеального создания. Но каким бы гениальным ни был Ючи, он все равно не мог подарить своему творению человечность. Взять хотя бы эту девочку по имени Юмико, этого ребенка. Разве когда-нибудь тело синергика сможет произвести на свет ребенка? Нет. Ючи может лишь подарить ей ребенка-синергика, собрать его, может быть, заставить расти, развиваться, но это будет совсем не то.
Все это Файлин планировала высказать Ючи сразу, как только он скажет ей, что не нужно было интегрировать ребенку в теле взрослой женщины модуль памяти… Но Ючи не сказал – осмотрел нейронную татуировку, кивнул и сказал, что ему нужно работать.
– И это все? – растерянно спрашивает Файлин.
– Это взрослое тело, – пожимает плечами Ючи. – К тому же модуль памяти можно поставить на минимум или вообще деактивировать…
Но вместо деактивации Файлин увеличивает пропускную способность модуля. Юмико сама просит ее об этом. Не сразу. Сначала она не знает, за что взяться, что запоминать, что изучать. Химия, физика, гуманитарные науки, основы нейронного программирования…
– Изучай просто жизнь, – советует Файлин, и это становится толчком, отправным пунктом.
Детское сознание впитывает жизнь как губка. Сотни нейронных реконструкций настоящего, тысячи историй, бесконечный поток новостных выпусков. Сознание Юмико, заключенное в мозг зрелой женщины, работает как машина. Но чем больше она узнает, тем больше появляется вопросов и желания знать еще больше. Намного больше.
Мимолетные откровения гаснут в лучах последующих знаний. Истина выжигает истину, обрастает деталями, подробностями, становится невыносимо сложной, но затем вспыхивает и прогорает, оставляя лишь угли. Анализ события, понимание, а дальше анализ своего собственного анализа и детальный пересмотр пониманий.
Юмико растеряна, напугана и опустошена до безразличия. Какое-то время та часть сознания, где еще сохранился ребенок, играет с куклой-синергиком, но игры становятся сложнее. Появляется осознание личности и социума, которые крошатся и ломаются под натиском новых знаний. Процесс наблюдения и развития кажется бесконечным, пока в какой-то момент не приходит безразличие.
Юмико не может ничего объяснить, но одновременно с этим ей все предельно ясно. Она продолжает захламлять сознание информацией, но знания уже живут отдельно от ее личности. Юмико устала, и Юмико скучно. Ее кукла-синергик никогда не станет человеком. Ее друг-синергик – Файлин – никогда не станет полноценным членом общества. Ее собственное детство никогда не вернется. А она сама никогда не станет тем, кем она должна была стать, пока интеллектуальные пули, выпущенные начальником «Тиктоники», не забрали жизнь, уничтожив ее настоящее тело. Но она не может ненавидеть этого человека. Ненависть ничего не изменит. Но и простить начальника «Тиктоники» невозможно. Знания могут оправдать абсолютно все и могут все опровергнуть. Они дают смысл и забирают его.
– Как мастер Ючи справляется с этим? – спрашивает Юмико, которая в последнее время уже совсем не похожа на ребенка.
– Справляется с чем? – хлопает глазами Файлин.
– Со всем, что он запоминает. Со знанием этого мира.
– Ну, думаю, мастер Ючи находит всему этому практическое применение.
– Всему?
– Большей части.
– Как?
– Для начала, он не изучает все подряд. Плюс у него весьма разнообразные интересы.
– Значит, мне тоже нужны интересы, – говорит Юмико.
Файлин не спорит. Юмико пристает к ней, просит показать тонкости интеграции нейронных татуировок. Она схватывает все налету, обучается почти как машина, которой достаточно показать один раз, и, если ее системы способны повторить это, она повторит. Но собственных идей у Юмико нет. Нет и интереса. Интеграция нейронных модулей и рисунков поверх поврежденных при интеграции участков кожи для нее не более чем процесс – скучный, однообразный. Так же относится она и к базовому программированию синергиков. Интерес появляется, лишь когда Файлин рассказывает о боксерских боях, проводимых между людьми и синергиками.
– Так мастер Ючи жульничает? – спрашивает Юмико, когда слышит, что исход большинства боев известен заранее.
– Это сложный мир, – говорит Файлин.
– И мастера Ючи ни разу не поймали?
– Его невозможно поймать.
– Но ведь достаточно проверить программы синергика.
– Значит, недостаточно.
– Я бы заметила обман.
– Нет.
Файлин задирает Юмико специально, пытается заинтересовать ее. Юмико принимает вызов. Машина, в которую превратился ее мозг, нашпиговывает себя новыми знаниями, тонкостями, невольно выбирая сферу интересов, исследований. Но машина чувствует, что проигрывает.
– Это невозможно, – принимает решение Юмико. – Ты обманула меня, – обвиняет она Файлин. – Мастер Ючи не жульничает.
– Ты пришла к этому выводу, потому что не смогла найти обман?
– Да.
– Но это не значит, что обмана нет. Это значит, что я оказалась права – ты не сможешь найти обман.
– Я думаю, что единственный обман в этой истории – это твои слова.
– Поспорим?
– На что?
– Если я окажусь права, то ты удалишь свою нейронную татуировку памяти.
– Это слишком много. Давай я лучше отдам тебе свою куклу-синергика.
– Это несерьезно.
– Почему?
– Потому что ты назвала меня лгуньей. Цена должна быть высокой, чтобы ощутить потерю.
– Ты обиделась?
– Нет, но хочу преподать тебе урок.
– Что получу в случае победы я?
– Мы посетим с тобой могилу твоего отца, – Файлин смотрит Юмико в глаза. – Соглашайся. Что ты теряешь, если уверена в своей правоте?
– Ты хочешь напугать меня?
– Возможно.
– Мастер Ючи очень умный.
– Мы говорим сейчас не о нем. Это между тобой и мной, – Файлин провоцирует Юмико, протягивает ей руку, предлагая спор. – Ну же…
– У меня ничего нет, кроме нейронной татуировки памяти.
– Так ты все-таки сомневаешься?
– Нет, просто думаю вслух.
– Тогда по рукам?
– Когда мы сможем посетить могилу отца?
– В ближайшую неделю.
Юмико пожимает руку Файлин. Они ждут, когда вернется Ючи. Идея раскрывать свои секреты ему не нравится, но Файлин не просит секретов, она просит лишь показать, где обман. Ючи лаконичен и не делает скидку на то, что Юмико ребенок. Девочка активирует нейронную татуировку памяти и запоминает все до последнего слова. Следующие несколько дней она изучает и анализирует алгоритмы программирования и глубину случайностей, которые учитывает Ючи, чтобы спрятать червя в сознании синергика. Процесс кажется невозможным. Юмико просматривает нейронную реконструкцию последнего поединка, где проиграл синергик мастера Ючи.
– Как? – кричит она, разговаривая вслух. – Как он это делает? Все это невозможно учесть! Ни один гений не сможет рассчитать такое количество случайностей! – и уже подбежав к Файлин: – Ты должна объяснить мне!
– Как ты запоминаешь столько информации? – спрашивает Файлин.
Юмико говорит о нейронной татуировке памяти.
– Такая же есть и у Ючи, верно? – Файлин смотрит ей в глаза. – Теперь вспомни, какие у него еще интегрированы татуировки?
Юмико рассматривает это как очередное пари.
– Спорим на мою татуировку, что я смогу вспомнить? – спрашивает она.
Файлин качает головой.
– Ты должна дать мне шанс отыграться!
– Сначала расплатись за предыдущий проигрыш.
– Но это нечестно! Я не знала, что можно использовать в программировании модуль судьбы.
– Ну, теперь я точно не стану с тобой спорить, – улыбается Файлин.
– Ты объяснишь мне, как это работает? – просит Юмико.
– Сначала давай отключим твой модуль памяти.
– Как же я смогу запомнить, если мы отключим мой модуль?
– Как запоминает большинство людей.
– Я не хочу быть как большинство людей. Я хочу быть как мастер Ючи.
– О! У тебя новый кумир?
– Если бы мой отец был как мастер Ючи, то я никогда бы не потеряла свое настоящее тело.
– Может быть.
– Если я буду как мастер Ючи, то с моим ребенком никогда не случится то, что случилось со мной.
– Возможно, но сначала давай отключим твой модуль памяти.
– Я не могу. Это слишком сложный мир.
– Я понимаю.
– Нет. Не понимаешь. Ты наполовину синергик. У тебя никогда не будет детей, которых могут убить. Ты не можешь чувствовать то же, что и я.
Слова становятся кинжалом. Они не могут убить, но могут ранить, причинить боль.
– Я обидела тебя? – спрашивает Юмико, изображая детскую беспечность, но модуль памяти давно забрал у нее это преимущество. Она еще не взрослая, но уже не ребенок.
– Мне нужно побыть одной, – говорит Файлин.
– Извини.
– Просто уйди на какое-то время в свою комнату.
– Давай лучше поговорим об этом.
– Да уйди же ты! – срывается женщина в теле синергика.
Юмико вздрагивает. Она пытается заплакать, но не может. Когда отец кричал на нее, она всегда плакала, и это заставляло его успокоиться. Сейчас слез нет. Но нет и отца. Юмико закрывается в своей комнате. Она не видит Файлин почти неделю. Никто не знает, куда ушла Файлин, даже мастер Ючи.
– Мне кажется, она просто хочет стать человеком, – говорит Юмико.
– Она никогда не станет человеком.
– Думаю, она это знает. Ей просто важно знать, что она не смирилась, не забыла.
– Ты слишком умная для ребенка.
– У меня нейронная татуировка памяти, и я смотрю все современные ток-шоу.
– В ток-шоу не говорят о том, что происходит в моей лаборатории.
– Поэтому Файлин и чувствует себя одинокой.
– Файлин просто любит время от времени устраивать скандалы.
– И это тоже, – Юмико улыбается и просит мастера Ючи рассказать о нейронной татуировке судьбы. – Как это работает?
– Зачем тебе?
– Это интересно, к тому же… благодаря этому можно предвидеть многие детали, которые ты никогда не предугадаешь сам… – Юмико тщетно пытается заглянуть мастеру Ючи в глаза. – Файлин ушла из-за меня, потому что я не подумала о том, что говорю и к чему это приведет. Если бы у меня была нейронная татуировка судьбы, то этого бы не случилось.
– Этого бы не случилось, если бы ты не сделала себе нейронную татуировку памяти.
– Или если бы ты не спас Файлин.
– Что? – В глазах Ючи вспыхивает огонь. Он смотрит на Юмико. Когда эта девочка превратилась во взрослую женщину – колючую, несговорчивую, дерзкую? Юмико и сама этого не знает. Не знает, когда все эти чувства и мысли появились в ее голове. В этой чужой голове, где когда-то жило сознание другой женщины. Или же все еще живет? Призрак. Осколки чужого мира.
– Я хочу стать частью вашей жизни, – говорит Юмико.
Ючи молчит.
– Я хочу быть полезной.
Юмико не отводит взгляд. Призрак Кейко придает ей сил, уверенности. Юмико изучила женщину, которой раньше принадлежало это тело. Она не знает, что Кейко существует где-то в ее теле, но она уверена, что при жизни Кейко была напористой и решительной. Поэтому она действует в соответствии с тем, как действовала прежняя хозяйка.
– Помнится мне, у вас с Файлин был спор? – напоминает ей мастер Ючи. – Ты хочешь сделать нейронную татуировку судьбы, но так уж вышло, что когда Файлин вернется, то ты лишишься своего модуля памяти.
– Мы договоримся с Файлин, – обещает Юмико, зная, что это злит мастера Ючи, который сейчас переживает за женщину в теле синергика.
Призрак в новом теле Юмико тоже знает. Детское сознание мягкое и податливое, как глина. В него можно просочиться – Кейко уверена в этом. Нет, она не хочет навредить Юмико. Она хочет лишь, чтобы девочка узнала о ее существовании и рассказала об этом мастеру Ючи. Может быть, ему удастся разобраться, что происходит? Единичный ли это случай или же каждая стертая личность продолжает существовать в ловушке своего тела? Система коррекции не извлекает сознание, она лишь затирает его основные базисы, если считает, что заключенный неисправим. Нужно узнать, сколько всего людей, сознаний были помещены в донорские тела заключенных, как это случилось с Юмико. Потому что это существование хуже смерти.
– Я не хочу быть технологическим нигилистом, – говорит Юмико, вглядываясь в свое отражение.
«Почему она это говорит?» – спрашивает себя Кейко.
«Почему ты это говоришь?» – спрашивает она Юмико.
Но Юмико не слышит, лишь вглядывается в свои-чужие глаза и продолжает говорить, что не хочет быть технологическим нигилистом. Но связь между девочкой и призраком женщины, тело которой она заняла, есть. Кейко чувствует, что есть. Особенно после того, как мастер Ючи возвращает Файлин и она интегрирует Юмико нейронный модуль судьбы. О недавнем споре Файлин не вспоминает. Ей хотелось напугать Ючи, заставить его искать ее. Он нашел. Теперь Файлин могла успокоиться на пару месяцев. Затем будет новая выходка, чтобы привлечь к себе внимание, почувствовать себя частью этой жизни, этого общества.
– Не проще ли тебе применять время от времени формулу счастья? – спрашивает Юмико. – Или формулу любви? Жизнь – это математика. Эмоции равняются силе и качеству актуальной потребности, складывающейся из разницы возможностей удовлетворения потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта. Любовь равняется влечению, помноженному на время, плюс уважению, помноженному на время.
Файлин смеется и говорит, что у синергиков и то мозг устроен сложнее. Юмико обижается, но детский ум пытлив и открыт для экспериментов. Детский ум все еще не разучился мечтать, не разочаровался в мечтах. Так, например, Юмико мечтает посетить могилу отца. Поэтому она изучает обстановку, запоминает, прогнозирует. Мелочи складываются в последовательность. Последовательность в формулы. Переменных слишком много. Юмико в теле взрослой женщины. Начальник «Тиктоники», который ищет пропавшее тело одного из заключенных. Знает ли он, что Юмико жива? Она может отправить его в тюрьму, ведь это по его вине погибло ее настоящее тело. Сколько нужно учесть переменных и постоянных, чтобы знать ответ? Сколько новых переменных и постоянных родится, как только ответ будет получен?
– Ты должен помочь мне, – говорит Юмико мастеру Ючи.
– Модули судьбы не работают в паре, – улыбается он, потому что пытливый ум девочки нравится ему.
Юмико стала почти что их ребенком – его и Файлин. И он горд, когда она добивается успеха, и разочарован, когда ее постигает неудача.
– Я готов помогать тебе, – говорит Ючи, – но анализ и планирование, построение каркаса жизни, которое позволяет осуществить нейронный модуль судьбы, – это ноша каждого в отдельности. Потому что модуль – это надстройка. Без мозга и сознания он ничего не значит.
Юмико дуется, но все понимает. Когда ей только интегрировали модуль памяти, пользоваться им тоже было сложно. И сложно было понимать многогранный мир, потому что знания не имеют предела. Но Юмико научилась, приспособилась. Она не стала пытаться понять, она просто принимала то, что видела, узнавала, а если появлялось что-то новое, то оно замещало устаревшие принятые знания. И так до бесконечности, потому что мир не имеет границ. Знание не является прямой и не замыкается в круг. Знание – это точка, и на поверхности этой точки нанесена еще одна точка, которая тоже является знанием… и так до бесконечности, пока меньшее не станет большим, а большее меньшим. Но мозг людей еще не готов к этому.
– Попытайся ограничиться простыми целями и их решением, – советует мастер Ючи Юмико. – И не забывай, идеальной формулы жизни не существует.
– Я знаю, – говорит девочка, но призрак внутри нее не согласен.
«Как бы не так», – думает Кейко, анализируя данные, собираемые Юмико. Она не знает, как и почему, но у нее сохранилась связь с мозгом, который, несмотря на то, что больше не принадлежит ей, позволяет заглядывать в себя, пользоваться хранящейся в нем информацией. И что самое странное, мозг каким-то образом взаимодействовал с сознанием Кейко. Нет, он не подчинялся ей, но учитывал ее мнение, помогая своему хозяину, девочке по имени Юмико, находить быстрее нужный ответ на все те вопросы, которых становилось все больше и больше в ее многоуровневых уравнениях. И Кейко… Кейко стала чем-то вроде ее внутреннего голоса, дополнительного мыслительного процесса, на который можно переложить часть информации, не умещающейся в собственном сознании. Нужно лишь принять это и довериться.
– И никаких попыток создать уравнение жизни, – снова и снова напоминает мастер Ючи.
Вернее, пытается напоминать, потому что Юмико предвидит эти слова. С ней вообще становится сложно разговаривать, потому что она может закончить за тебя любую фразу. Сбор информации, анализ, выбор формулы, учет переменных, обработка информации – человеческий мозг сложнее любого электронного устройства. Нет, Юмико не видит будущее, она читает его, как цыгане читают свои карты, подбивая расклад под проведенный анализ клиента. И карты, по сути, ничего не значат. Они – мишура, трюк, благодаря которому удается установить устно-визуальный контакт. Остальное зависит от опыта и навыков гадалки. Вот и весь секрет вестника судеб. Вот и весь секрет мастера Ючи и Юмико, которые какое-то время соперничают друг с другом в способностях предугадать будущее, но у Ючи нет помощника, нет еще одного сознания внутри его мозга. И он начинает проигрывать.
Сначала проигрыши несущественны, но тенденция определена. Ючи видит это, и видит это Юмико. Но они еще продолжают какое-то время соперничать. Затем Ючи уступает. Теперь главный соперник Юмико – это ограниченность ее собственного восприятия. Она забавляется тем, что предсказывает новостные нейронные выпуски, визиты клиентов Файлин, причем обычно Юмико может предсказать не только время визита и имя визитера, но и тип нейронного модуля, который он пожелает установить себе.
– В основе всего лежат причины и следствия, – говорит она. – Это бесконечная прогрессия. Формулы двух зеркал, отражающих друг друга. Главное – собрать как можно больше информации.
– Когда-нибудь у тебя лопнет мозг, – шутит Файлин.
– Когда-нибудь ты отвезешь меня на могилу к моему отцу, – говорит Юмико. – Причем я смогу так рассчитать маршрут, что для нас откроются все двери и не нужно будет скрываться и прятаться.
– Слишком много переменных, которые нужно не только учесть, но и предугадать, когда они совпадут, – говорит мастер Ючи.
– Все когда-нибудь совпадает, – говорит Юмико. – Посмотри на нашу Вселенную. Хаос стремится к порядку, а порядок к хаосу. Мы живем где-то посередине этого замкнутого цикла. И не говори, что когда Вселенная только зарождалась, невозможно было предугадать это.
– Считаешь себя Богом?
– Нет. Причины и следствия – вот Бог этого мира.
– И еще время.
– Да, время – это та постоянная, без которой придется писать новые формулы.
– Мне кажется, что ты снова пытаешься вывести формулу жизни.
– Нет. Формула жизни донельзя проста и неинтересна. В ней нет наших судеб, только существование в целом… А это печально и лишено смысла для тех, кто живет здесь и сейчас… Я лишь хочу вывести формулу, благодаря которой Файлин отвезет меня на могилу отца.
Это действительно все, что нужно Юмико в тот момент. Но чем больше она собирает данных, чем глубже становится ее анализ и предвидение, тем опасней представляется ей дорога. Их будут искать силовики, начальник «Тиктоники» и даже якудзы клана Гокудо, которых отправил отец Шайори, чтобы убить ее любовника и вернуть дочь в лоно семьи. Есть еще сложная политическая обстановка в стране и технологические нигилисты, способные признать в ней Кейко… Между делом, просто ради забавы, Юмико продолжает предсказывать диалоги мастера Ючи и Файлин, их поступки, распорядок дня…
– Мне кажется, что Семъяза и Шайори в беде, – говорит она, проснувшись как-то ночью.
Файлин в теле синергика никогда не спит, поэтому Юмико всегда есть с кем поговорить. Мастер Ючи тоже спит мало, но он человек, и ему нужен отдых. Так же, как и Юмико. Но она не знает, что во время ее сна мозг продолжает работать. Им пользуется Кейко, для которой смыслы и цели Юмико – это единственное, что осталось доступным действием в мире.
– Убийца, выполняющий поручение отца Шайори, – говорит Юмико то, что подготовила для нее Кейко. – Он почти подобрался к ним.
– Ты уверена? – спрашивает Файлин.
Юмико кивает – она не сомневается в сведениях, которые поставляет ей Кейко. Для нее это догмы. И, пользуясь этими догмами, Кейко надеется заявить о себе – заставить девочку провести анализ ситуации, изучить особенности и прийти к пониманию того, что внутри нее есть кто-то еще. Главное – не напугать девочку, не вызвать отторжение и отрицание.
Юмико и Файлин идут в комнату, где спит мастер Ючи.
– Семъяза и Шайори в беде, – говорит Юмико.
Он поднимается с кровати, одевается. Разговор длится несколько часов, но Юмико не передает и половины тех сведений, которые привели ее к видению беды.
– Все слишком сложно и прозрачно, – говорит Ючи.
– Но ты не видишь ошибок? – спрашивает Файлин.
Ючи качает головой.
– Тогда найди способ предупредить Семъязу, – говорит Файлин. – Мы его должники. Всегда будем его должниками.
– Но это невозможно, – говорит Ючи. – Такое предсказание невозможно. – Он смотрит на Юмико, но девочка увлеченно грызет ногти, погрузившись в раздумья.
– Она уникальна, – шепчет Файлин одними губами, хотя понимает, что Юмико, скорее всего, уже знает, что она скажет это. Иногда эта привычка девочки раздражает, но сейчас…
Файлин подходит к Юмико, садится рядом.
– Переживаешь за Шайори и Семъязу? – спрашивает она девочку.
Юмико поднимает голову, смотрит на Файлин как-то растерянно.
– Мне кажется, Кейко все еще жива, – говорит она осторожно.
– Кейко?
– Женщина, которой раньше принадлежало мое нынешнее тело.
– Этого не может быть, – машинально говорит Файлин.
– Почему?
– Потому что…
– Ты боишься, что если сознание Кейко сохранилось во мне, то это значит, что подобное могло случиться и со всеми другими, кто использовал донорские тела?
– Да, но…
– Мастер Ючи?
– Это невозможно.
– Ты сказал так сто сорок семь раз за последний месяц. И сколько раз я оказалась неправа?
– Ни разу, но это ничего не меняет.
– Я могу доказать.
– Ты хочешь, чтобы я спасал наших друзей или слушал доказательства существования удаленных личностей в донорских телах?
Юмико думает над вопросом пару долгих секунд.
– Ладно, Кейко сможет подождать еще немного, – решает она.
– Думаешь, сможет подождать? – растерянно переспрашивает Ючи. – Ты что, разговариваешь с ней?
– Не так, как с вами, но… Это как алгоритм, формулы, которые мне нужно понять и решить, но… Да, думаю, я могу понять то, что она говорит мне, вернее, то, что она хочет от меня.
– И что же она хочет от тебя?
– Она хочет, чтобы ее услышали.
– Просто услышали?
– Она одна, и ей больно. Не так больно, как если прищемить палец, но…
– Я понимаю.
– Еще она хочет, чтобы ты удалил ее. Совсем удалил, но… Мастер Ючи, ты ведь что-нибудь придумаешь?
– Пока не знаю.
– Ты обязан придумать, потому что таких, как она, много. Каждый донор… – Юмико вздрагивает, бледнеет. Возможные варианты будущего продолжают складываться в голове. Неблагоприятные варианты, жуткие. – Ты должен торопиться, мастер Ючи, – говорит Юмико, продолжая бледнеть. – Мир вращается слишком быстро, и я… Я только что изменила что-то, рассказав тебе о Кейко. И мне страшно. Очень страшно…
Глава десятая. Погоня
Вспоминая детство, Макото никогда не мог вспомнить свою мать. Не то чтобы ее не было, но лицо как-то затерлось, да и воспитанием мальчика занимался в основном отец – вака-гасира клана Гокудо, якудза по имени Нобу. Его тело было покрыто боевыми нейронными татуировками. Он научил сына всему, что знал, а главное – указал Макото вектор, с которого он не свернул даже после смерти отца. Макото не знал подробностей, но хорошо запомнил день, когда глава клана Гокудо пришел в его дом и передал наномеч отца.
– Это хищник, – сказал он мальчику. – Не вынимай его из ножен, если не будешь готов убивать.
С того дня прошло почти десять лет, и за все это время наномеч увидел свет лишь однажды. Этот день Макото тоже запомнил. Ему было тринадцать. Он привел друга в свой дом, и тот, не зная, кем был отец Макото, решил, что наномеч – это игрушка. Макото не успел предупредить его, да и не хотел, если честно. Ему было интересно проверить преданность доставшегося ему по наследству наномеча.
– Классная копия! – сказал друг и вытащил наномеч из ножен.
Сталь изогнулась и отсекла мальчику руку по локоть. Макото знал, что это невозможно, но он мог поклясться, что сталь пила хлынувшую из свежей раны кровь. Мать услышала детские крики, вызвала неотложку. Врачи увезли мальчика, но к наномечу прикоснуться не решились. Его убрали в ножны лишь появившиеся ближе к вечеру силовики. Макото знал, что они работают на клан Гокудо и не заберут меч. Люди из клана всегда заботились о нем и о его матери.
– Твой отец убивает даже из гроба, – сказала мать в тот день.
Макото счел это за комплемент. Сравнение запало в память, и когда он вступил на дорогу отца, то так и не посмел взять его наномеч, предпочтя получить более молодую модель, которая сможет расти вместе с ним, обагряя мир кровью во имя клана. И если он будет хорошим воином, если наномеч станет надежным другом, то вместе они когда-нибудь займут пост отца, а возможно, поднимутся выше.
Макото обучался у лучших воинов клана. Его готовили к самым сложным заданиям. Иногда оябун клана оказывал ему честь и приглашал на обед в свой дом. Макото видел его дочь – Шайори. Она была старше него. Дочь оябуна. Макото готов был отдать за нее жизнь, но никогда не смотрел на нее как на женщину. Он представлял себя хищником – диким и непокорным, у которого есть лишь один хозяин и одна цель.
Убийца, якудза. Макото видел, как Мисору – глава клана – отсек своей дочери кисть руки за проступок. Эта демонстрация кодекса чести лишь укрепила веру Макото в своего оябуна. Как-то раз сингиин клана по имени Итиро взял его с собой за город. Это было впервые, когда Макото покинул Токио. Он почти не запомнил деталей поездки, потому что все время готовился к битве, хотя сингиин взял его с собой на переговоры с заокеанскими корпократами только лишь для того, чтобы молодой якудза смог отвлечься, отдохнуть. Это был жест в память о дружбе с его отцом. Макото не понял. Не понял он и, почему ночью к нему в номер пришла молодая гейша. Это тоже был подарок Итиро, но Макото решил, что это заговор. Он обнажил наномеч, и если бы гейша не оказалась проворной, как кошка, то изогнувшаяся, голодная сталь рассекла бы ее тело надвое. Затем гейша выскочила обратно в коридор. Макото мог ее догнать, но решил, что должен помочь Итиро, защитить сингиина клана, спасти его.
Макото выбил дверь, ворвался в комнату Итиро, готовый убивать, но сингиин не нуждался в помощи. Он лежал на кровати, а у окна танцевали две гейши, одетые в кимоно. Все напряглись. Воздух – и тот начал пульсировать напряжением. Наномеч в правой руке Макото извивался, ожидая кровавую жатву. Но жатвы не будет. Итиро превратил все в шутку. И когда в номер прибежали охранники Ван Паттена – представителя заокеанских корпократов, все уже смеялись. Почти все. Макото стоял, спрятав наномеч в ножны, и зубы его были плотно сжаты.
– Мальчик испугался молодой гейши, – сказал охранникам Ван Паттена сингиин.
В эту ночь Макото не смог заснуть, потому что стоило ему закрыть глаза, как появлялся образ молодой гейши, которая становилась змеей и набрасывалась на него, вонзая в шею наполненные ядом зубы. Когда наступило утро и начались переговоры, Итиро настоял на присутствии Макото. «Я не политик. Я убийца», – гневно думал Макото. Он не слушал, о чем говорят сингиин и заокеанский корпократ. Лишь иногда до него долетали обрывки фраз, согласно которым сингиин и корпократ делили территорию Нового Токио.
– Кланы станут синдикатами, концернами, – говорил Ван Паттен. – Вы сможете контролировать выпуск сувениров, гуманитарное образование, школы, институты, где будут обучать национальным традициям.
– Нам нужен контроль за выпуском оружия, – говорил Итиро.
– Оружие – это шаткая почва для бизнеса.
– Корпократы предлагают свои фабрики. Уже сейчас концерн «Синергия» заполонил рынок своими биоэлектронными манекенами. Синергики стали полноценной частью жизни Токио. Они занимаются тем, за что не возьмутся люди. Нам нужна альтернатива.
– Гуманитарные науки могут стать хорошей альтернативой.
– Оружие.
– Сейчас заокеанские страны рассматривают возможность уменьшить товарооборот оружия. Никому не нужны революции и бунты. Никому не нужна уверенность масс в своих силах.
– Тоталитаризм! – говорил Итиро так, словно это было ругательство.
Потом их разговор перешел к странам Севера, где правила тоталитарная технократия, превращая личность человека в пронумерованный элемент системы, который всегда можно заменить и за которым закреплена исключительно однобокая роль в обществе. Все расписано по часам. Все спланировано на годы вперед. Строятся дороги, дома, фабрики. Они отказались от денег. Если роль человека определена от рождения, если человек приравнен к механизму, то ему не нужны деньги, ему не к чему стремиться, если, конечно, вышестоящий механизм не прикажет ему это. Каждая шестеренка вращает другую шестеренку. И никаких корпораций. Никаких кланов. Север не пускал на свою территорию концерн «Синергия», заставляя своих жителей выполнять всю черновую работу. Жители не возражали. Они родились шестеренками определенных размеров и должны были умереть такими же шестеренками, возможно, изношенными, со сломанными зубьями, но такими же.
– Хотите, чтобы в Токио установилась такая система? – спросил Ван Паттен. – Тоталитарная технократия не потерпит кланов и корпораций. В новом мире не будет места ни вам, ни нам.
– Если честно, то нас устраивает та система, которая установлена в стране сейчас, – сказал Итиро.
– Нас тоже устраивает, но время не стоит на месте. Север растет, множится. Любая политическая система, по сути, является опухолью общества. И если вначале она доброкачественная, то нет гарантии, что спустя какое-то время она не станет расти, убивая хозяина. Сейчас Север – такая же опухоль.
– Не вижу, чем отличается Север от заокеанских стран, – сказал Итиро. – Не вижу, чем отличается тоталитарная корпократия от тоталитарной технократии. Это те же раковые опухоли, только с разной локализацией и симптомами.
– Верно, – согласился Ван Паттен. – Только мы не собираемся лишить человека личности. Не хотим заставить его служить прогрессу. Пусть прогресс служит человеку. Взять хотя бы наших синергиков…
– Тоталитарная корпократия предполагает деление общества на чернь и богов, которыми станут директора и хозяева корпораций.
– Верно, но Олимп был даже у древних греков. Если боги умны и не мешают жить обычным людям, то в этом нет ничего плохого. К тому же богов этих так мало, что их можно не замечать.
– Пока они не станут раковой опухолью.
– Верно, но на это потребуется время. К тому моменту изменится Олимп и изменится чернь. Технологии станут другими. Понимание жизни. Посмотрите на Токио. Уже сейчас он буквально горит от нейронных сетей. Новая реальность плотно входит в нашу жизнь. Нейронные рекламы, навигационные программы, которые распределяют движение на дорогах согласно информации жидких чипов идентификации социального статуса водителей… По данным опросов, человек в среднем проводит в нейронной сети, отключая мозг от тела, от тридцати до пятисот минут в день. И показатель растет. Нейронные реконструкции требуют полного подключения. Это уже не реклама, проецирующая нужные образы в мозг, накладывая их на реальность. Это новый тип реальности. Что вы думаете о двухуровневом языке сознания, который обещает объединить глубокую интеграцию нейронных сетей с реальностью? Представляете, какой это будет прорыв? Мир изменится. Он уже не тот, что был пару веков назад, пару десятилетий назад. – Ван Паттен обернулся и уставился на Макото. – Взять хотя бы убийц вашего клана. Посмотрите на их оружие. Когда-то это была просто сталь. Они были мастерами смерти. Но потом изобрели огнестрельное оружие и меч утратил свою актуальность. Можно было либо пытаться повернуть прогресс вспять, что по определению невозможно, либо усовершенствовать оружие убийц. Так появилась наносталь. Если я сейчас прикажу своему телохранителю достать оружие и выстрелить в вашего человека, разве его наномеч не сможет отбить пулю? Сможет. А следующим ударом он отсечет моему телохранителю руку или голову. – Ван Паттен посмотрел на Итиро и широко улыбнулся. – Поэтому у меня так много телохранителей, а вам достаточно одного. И баланс сил обеспечивает мир. Представьте, что будет, если нарушить этот баланс. Кланы превратятся в раковую опухоль. Корпорации превратятся в раковую опухоль. Но пока есть баланс – будет мир…
Разговоры о мире не нравились Макото. Он услышал, как его сравнили с охранниками Ван Паттена, и теперь представлял, как сражается с ними, расчленяет их тела. «Вот это жизнь», – думал Макото. А политика, бизнес… Они были чем-то нереальным, пафосным и сложным до неприличия. Настолько сложным, что ему хотелось обнажить свой наномеч и отсечь голову всем, кто не позволяет ему стать тем, кем он хочет стать, всем, кто сдерживает его ярость, его жажду крови, подсылая ночами молодых гейш и превращая его поиски схватки в шутку. Нет, здесь не было чести – в политике, в бизнесе. Честь была только в открытом бою. Глаза в глаза.
По дороге в Токио Макото попытался объяснить Итиро, что ему нужно. Ведь Итиро был другом его отца, а значит, мог понять и помочь. Макото простил ему шутку, которую сингиин отпустил, когда его телохранитель ворвался в комнату отеля, решив, что они попали в ловушку. «Итиро сказал не то, что думал, – решил Макото. – Итиро сказал то, что хотел услышать Ван Паттен».
– Но я не политик, я убийца, – сказал он Итиро. – Я не учился бизнесу, я учился убивать. Как мой отец.
Сингиин клана Гокудо кивнул. Он все понимал, но…
– Ты слишком хорош для простых заданий, – сказал Итиро. – Клан взращивает таких, как ты и твой друг Коджи, для особенных миссий, которые не сможет выполнить обычный убийца. Вы идеальны. Вы лучшие из того, что у нас есть. Поэтому ты сейчас со мной. Поэтому к тебе обратится сам оябун, когда придет время…
«Когда придет время», – Макото лелеял эти слова, обожествлял.
«Когда придет время», – говорил он себе, ложась спать.
«Когда придет время», – говорил он себе просыпаясь.
Его друг Коджи – такой же молодой и с той же жаждой крови – рассказал, что присутствовал на встрече представителей клана с политиком Севера по имени Яков Юст.
– Политика и бизнес, – с отвращением скривился Коджи.
Да, вот это Макото мог понять. С замиранием сердца он принял новость, что после того, как клан Гокудо не смог найти согласия с представителями Севера, с Яковом Юстом начал сотрудничать клан Тэкия. Намечалась война. А война могла утолить жажду крови. Весь мир превратился в пустыню, по которой идешь в поисках оазиса, умирая от жажды. Жажды крови.
– Слышал, оябун отсек своей дочери еще одну кисть, – сказал как-то раз Коджи.
– Кодекс чести, – пожал плечами Макото.
Ему не было жаль Шайори. Ее поступки позорили клан. А отсеченная кисть – это достойное наказание за проступок. Макото не знал, но именно в тот момент Шайори завязала отношения с якудзой клана Тэкия по имени Семъяза. Она устала бояться, что очередной любовник, узнав о том, кто ее отец, сбежит. Семъяза бы не сбежал. Якудзы не сбегают.
– Слышал, что у нее есть нейронная татуировка любви, – сказал Коджи, который, к удивлению Макото, проявлял к судьбе Шайори нездоровый интерес.
– Я слышал, что она делала себе нейронную татуировку бунта и непокорности, но отец отвел ее в больницу, и ей вырезали модуль, оставив уродливый шрам… А нейронная татуировка любви… Зачем она?
– Говорят, обостряет чувства, – сказал Коджи.
– У меня есть нейронная татуировка слежения. Вот она обостряет чувства, помогает найти жертву…
– Я говорю не о тех чувствах. Это когда мужчина и женщина вместе. Если активировать модуль любви, то…
– Ах, ты об этом… – Макото передернул плечами, вспоминая молодую гейшу, которую послал ему Итиро, когда они встречались с заокеанским политиком.
Отвращение было сильным и волнительным. А волнение мешало в схватке, когда ты должен думать только о смерти, искать смерть – свою, врагов.
– Говорят, где-то маленькой смертью называют оргазм, – сказал Коджи.
– Однажды я мог убить гейшу. Не знаю, как ей удалось увернуться, но еще мгновение – и мой наномеч расчленил бы ее надвое.
– Это уже не маленькая смерть! – улыбнулся Коджи.
– Зато много крови, – сказал Макото. – Как ты думаешь, есть шанс, что оябун отправит нас убить якудзу из клана Тэкия, с которым встречается его дочь?
– Уже не из Тэкия, – сказал Коджи. – Клан отрекся от него.
– Из-за Шайори?
– Из-за политики. Силовики потребовали расплаты, и клан выдал им Семъязу… – Коджи нахмурился. – А потом он, кажется, прошел курс нейронной коррекции в «Тиктонике».
– То есть исправился?
– Да.
– Как якудза мог исправиться?
– Не знаю. Обычно убийцам просто стирают память, потому что система признает их безнадежными, а здесь… Может быть, коррекционные тюрьмы усовершенствовали систему исправления?
– Или Семъяза был ненастоящим якудзой, и клан правильно сделал, что отрекся от него.
– Да. Пожалуй, второе более верно.
Тогда они еще не знали, но не пройдет и недели, как оябун Мисору вызовет их к себе и даст первое задание – убить Семъязу, который проходит реабилитацию после коррекционного курса в «Тиктонике», и вернуть Шайори.
– Как думаешь, что на этот раз оябун отсечет своей дочери? – спросил Коджи, когда они покидали Токио.
– Голову, – не раздумывая ответил Макото. – Таков кодекс чести.
– Да, – Коджи тяжело вздохнул. – Жаль. Она была ничего.
– Кто?
– Шайори.
Макото смерил друга тяжелым взглядом, затем убедил себя, что это была неудачная шутка. Одна из того множества неудачных шуток, коими пестрела речь Коджи.
– Когда-нибудь твои шутки тебя погубят, – сказал Макото.
Тогда они еще не могли знать, но его слова окажутся провидческими. Первое серьезное задание, которое получил Коджи, окажется для него последним. Они проникнут в реабилитационный центр «Тиктоники» и примут решение разделиться. Коджи отправится за Шайори, Макото за Семъязой. Они зальют больничные коридоры кровью дюжин силовиков, но Коджи остановят интеллектуальные пули начальника тюрьмы, а бывший якудза и Шайори успеют скрыться прежде, чем Макото доберется до них.
«Провал! Какой провал!» – думает Макото, покидая реабилитационный центр «Тиктоники». Нет, такой позор не искупить обрядом юбидзумэ – хоть отруби себе все пальцы и преподнеси их главе клана. В первые часы Макото всерьез думает о том, чтобы совершить сэппуку. Но что изменит его смерть? Избавит от позора? Нет. Вернет Шайори? Нет. И уж тем более не заберет жизнь Семъязы. «Чтобы смыть позор, нужно исправить провал», – решает Макото. Он посвятит свою жизнь поискам. Он превратится в карающий меч своего клана. Станет призраком, тенью, идущей по пятам за беглецами, где бы они ни были, куда бы ни бежали. Он станет временем, от которого невозможно скрыться. Они будут вспоминать о нем каждый раз, когда смотрят на часы. Они будут чувствовать его дыхание даже во сне. Потому что время вечно. И время дотянется до каждого из нас, сдавит горло юной рукой младенца с лицом старика и будет смотреть в глаза, следя за тем, как остатки жизни покидают наше тело. От времени не скрыться никому. И ему не нужно спешить. Оно вечно, в отличие от нас. Оно – начало и конец.
«Я – начало и конец», – думает Макото. Он не может связаться с кланом, но у него есть другие друзья. Один из них делает Макото на левой щеке татуировку «токи» – время.
– Что, просто иероглиф и все? – спрашивает он. – Никаких нейронных модулей?
– Модуль этого иероглифа у меня в сердце, – говорит Макото.
Он почти не ест, почти не спит. Он – призрак. Он – месяц. Он – неделя, день, час… Он – мгновение. И мгновения эти заканчиваются. Заканчиваются у беглецов. Грань пересечена, запретный плод вкушен. Вокруг тени – Макото не замечает людей, если их лица не похожи на лицо Шайори или Семъязы. Он – смерть. Встречи с ним стараются избегать все, включая бывших знакомых.
– Никто не сбежит от смерти, – говорит он силовикам, когда они пытаются остановить его, не обнаружив идентификационный модуль социального статуса. – Никто.
Макото достает наномеч. Толпа людей, которая окружала его мгновение назад, расступается, образуя круг. Бежать некуда. Силовикам – некуда. Они достают оружие. Макото не двигается.
– Смерть невозможно убить, – говорит он силовикам, активируя нейронную татуировку ловкости.
Силовики стреляют. Пули вспарывают пустоту, где мгновение назад стоял Макото. Три свинцовых шмеля. Они попадают в собравшихся зевак. Два мужчины падают замертво. Девушка кричит, вернее, пытается кричать, потому что пуля сохранила ей жизнь, но срезала нижнюю часть челюсти, свесившуюся на грудь, болтаясь на уцелевших мышцах и сверкая белыми зубами. В уродливом месиве, в которое превратилось лицо, видно, как извивается язык. Силовики пятятся, но толпа не выпускает их. Макото предлагает снова попытать счастье. Силовики целятся, но нажать на курок не решаются. Макото ждет несколько секунд, затем начинает приближаться. Наномеч рассекает воздух. Движения настолько быстрые, что три удара сливаются в один. Толпа ахает. Макото убирает наномеч в ножны. Тела силовиков разваливаются на части. Никто не пытается остановить якудзу с татуировкой иероглифа «токи» на лице. Он уходит, растворяется в толпе, активируя нейронный модуль маскировки раньше, чем перестают дергаться в судорогах разрубленные тела силовиков. И все это в центре Токио. Все это под пристальным взглядом систем слежения, записи которых попадают во все нейронные новости этого вечера. Народ негодует и требует крови.
Глава калана Гокудо просматривает нейронные новости молча. Он узнает Макото, но не узнает его взгляд. Этот человек больше не принадлежит клану Гокудо. Этот человек больше не принадлежит даже себе. Но как объяснить это силовикам, требующим ответов, денег, почтения и показательной казни свихнувшегося якудзы.
– Да, не очень хорошо для бизнеса, – говорит сингиин клана по имени Итиро.
– Ты посоветовал его мне, – напоминает оябун.
– Я знал его отца.
– Значит, это твоя ошибка.
Глава клана протягивает ему танто. Итиро кланяется, расстилает на столе белый носовой платок. Представитель заокеанских технократов растерянно смотрит, как сингиин отсекает себе фалангу левого мизинца, заворачивает в платок и молча возвращает вместе с танто главе клана. Мисору кланяется ему, забирает танто и платок с завернутой фалангой пальца.
– Избавься от Макото, успокой силовиков и общественность, – распоряжается оябун.
Сингиин снова кланяется, пятится к выходу и только на пороге поворачивается спиной, чтобы уйти, – это не страх, это почтение. Ван Паттен видел уже нечто подобное в других кланах. И это не пафос, нет. Это традиция. Это кодекс чести. Это патриархальный институт клана, сохранившийся с феодальных времен. Это сила, с которой нужно считаться и которую, вероятно, будет невозможно уничтожить изнутри, невозможно даже расшатать.
Ван Паттен не знает, как обстоят дела у технократов Севера, пытающихся наладить связи с другими кланами, но он почему-то уверен, что рано или поздно они придут к такому же заключению, как и он, – чтобы получить этот город и эту страну, одного сотрудничества с кланами мало, нужен полный контроль над ними, а лучше их полное уничтожение. Тогда страна будет готова к переменам. Тогда у этой страны не будет иного выбора, кроме как принять перемены. Не раньше.
Ван Паттен думает о том, что было бы неплохо встретиться с Яковом Юстом и договориться о временном перемирии, потому что пока они ведут экономическую и политическую борьбу друг с другом, им никогда не победить кланы, никогда не избавиться от их влияния. Тоталитаризм неизбежен, а каким он будет – технократическим или корпократическим – пусть решает время. Понимание мира и восприятие прав и свобод меняются с каждым новым поколением, с каждым новым витком технологической революции.
За океаном уже запущены проекты стерильных политически толерантных городов, население которых составляют исключительно синергики. Биоэлектронный мозг заставляет их жить как обычные люди. Они созданы не для того, чтобы облегчить людям жизнь, они созданы для того, чтобы слиться с людьми, стать примером спокойной, лояльной жизни, подчиненной написанным законам и согласованной с установленными правилами, где нарушения – и те запрограммированы и прописаны для совершения с последующим наказанием. Их жизнь установлена на достижение успеха – сама система устроена так, чтобы они добивались успеха, подавая пример другим. Пример терпения, толерантности, смирения и принятия установленных корпократами правил. Благодаря им и примеру, который они подают, общество рано или поздно придет к идеалу тоталитарного корпократизма.
Ван Паттен знает, что подобный проект запущен и в северных странах, только там вместо запрограммированных синергиков используют коррекционные тюрьмы, где неугодным переписывают личность, подменяя восприятия и память. Там у людей уже забрали имена, присвоив каждому индивидуальный номер – аналог заокеанского жидкого чипа идентификации социального статуса, но чип выжигает индивидуальность не так явно, открыто. Чип оставляет иллюзию индивидуальности, сохраняет понимание личности как таковой. Чип – это лишь форма контроля, деления, стимулирования. Какой смысл превращать человека в безропотную машину? Общество должно развиваться и иметь иллюзию свободы выбора. Вот здесь-то и происходит раскол заокеанских стран и Севера.
Тоталитарным технократам не нужны мыслящие личности. Они гонятся за подчинением и покорностью. Они стремятся превратить человека в машину, которая будет танцевать под музыку, поставленную правящей элитой. Тогда как тоталитарные корпократы считают, что люди должны для начала написать себе музыку, а потом уже правящие круги решат, что подходит для их общества, а что нет. Потому что общество – это ребенок, а правительство – его родитель. И если, обладая силой, все время издеваться над ребенком, то рано или поздно он вырастет и окрепнет, в то время как родители постареют и будут нуждаться в помощи. Но вместо помощи они получат то, что дали ребенку в детстве – игнорирование и жестокое обращение. Конечно, некоторые правители надеются, что смогут всегда оставаться молодыми и крепкими, держа своих подданных в смирении, оковах и без сил, но всемирная история уже доказала, что подобное невозможно. Да и прогресс, как правило, рождается в народе, а не в правящих кругах. И если не стимулировать эту отрасль, то развитие остановится, страна превратится в отстающую и ее благополучие рухнет под давлением извне и изнутри. Подобное правление возможно только в случае полной изоляции или тотального подчинения мирового порядка. Всемирная история знает попытки подобного.
Но Ван Паттен уверен и еще в одном: мир нуждается в различных политических порядках и мировоззрениях. Это как чувство голода у человека. Заберите у него это чувство – и он умрет, забыв, что нужно питаться. Голод заставляет нас двигаться, так же, как и другие чувства: боль, страх, похоть… Различия политических систем в мире – это двигатель общества, прогресса, развития…
Ван Паттен и глава клана Гокудо прощаются, договорившись о сотрудничестве, но не дав друг другу никаких обязательств; первый связывается с Яковом Юстом и говорит, что им нужно встретиться.
В это время свихнувшийся якудза по имени Макото продолжает чинить беспредел в Токио. У него есть лишь одна цель – искупить позор, исправить провал. И никто, кажется, не может встать у него на пути.
– Господи, просто дайте ему то, что он хочет! – теряет терпение сингиин клана Гокудо.
За все время, что он служит клану, он ни разу не совершал обряд юбидзумэ. За последнее время он лишился уже трех пальцев. И виной всему Макото. Клан Гокудо теряет доверие народа, силовики выходят из-под контроля, другие кланы начинают претендовать на территории Гокудо, и еще эта бесконечная гонка за властью над Токио заокеанских стран и стран Севера. Архитекторам мира мало того, что у них уже есть. Они хотят больше, больше, больше… Все эти правители напоминают Итиро героя какой-то старой сказки, нейронную реконструкцию которой он видел в детстве. Суть сказки стерлась, остался лишь образ великана, поедавшего мир. Он был таким жадным, что ел до тех пор, пока не лопнул. Вот нечто подобное происходит и с современными правителями…
Итиро принимает из рук Мисору танто и отрезает себе еще одну фалангу пальца. Честь восстановлена на сегодня, но завтра, вероятно, нарисуется новый провал. И дело не только в свихнувшемся якудзе по имени Макото. Итиро встречался с сингиином из другого клана Большой тройки, и у того тоже не было нескольких пальцев. Раны свежие и еще кровоточат. Как и обстановка в городе, которая разносится по дорогам и нейронным сетям, словно яд по венам, по всей стране. Организм болен, а политики – эти доктора мира – не спешат лечить свою страну. Наоборот. Итиро не смог организовать встречу представителей Большой тройки кланов – раздор уже здесь. Вирус разрушает иммунную систему, а внешнее воздействие меняет образ мышления и восприятия, как раньше радиация меняла созданные природой биологические виды в местах заражения.
Покушение на главу клана Гокудо происходит в понедельник, а во вторник Итиро лишается еще одной фаланги, потому что пытается доказать совету, что ответственность за покушение лежит не на конкурирующих кланах, а на внешних интервентах заокеанских и северных стран. Мисору решает, что Итиро пытается просто оправдать свою невозможность вести переговоры.
– И что там с Макото? – спрашивает Мисору.
Итиро вздыхает, достает носовой платок и отрезает себе очередную фалангу пальца. Он знает, что Яков Юст и Ван Паттен встречались, но это никого не интересует. Кланы свихнулись так же, как свихнулся Макото, для которого не существует никого, кроме Семъязы и Шайори. Итиро делает все, чтобы найти эту пару и сообщить об этом молодому якудзе. Когда Макото прикончит Семъязу, он вернет Шайори отцу – вернется сам в клан, где найдет свою смерть. Возможно, эта идеальная машина смерти не будет сопротивляться. Сейчас же остановить его кажется просто нереальным. Последний связной, которого Итиро послал сообщить Макото, где в последний раз видели Шайори и Семъязу, был убит. Макото разрубил его надвое наномечом – Итиро узнает об этом из нейронных новостных выпусков. Системы слежения повсюду, а силовики отказываются удалять записи, касающиеся кланов. Пресса считает количество жертв Макото – 52, 53, 54… И цифры эти продолжают расти.
Макото пользуется универсальным модулем идентификации социального статуса, которым обычно пользуются якудзы. Это позволяет ему оставаться невидимым. Это позволяет силовикам обвинять клан Гокудо в пособничестве. В действительности Макото забирает модуль идентификации из тек-лаборатории клана Тэкия. Двери закрыты, но наномеч разрубает любые замки. Охрана не может остановить его. Лаборатория залита кровью. Тек-инженер программирует универсальный модуль, после чего Макото ломает ему шею – это уже семьдесят третья жертва, но Макото не считает. Он покидает залитую кровью лабораторию и продолжает погоню за беглецами. Свою вечную погоню. Глава клана Тэкия расценивает это нападение как провокацию со стороны клана Гокудо – и снова Макото плевать. Он не думает об этом. У него есть цель. У смерти есть цель. У времени есть цель. И время кончается. Время, отведенное беглецам.
Крупнейшее нейронное издательство Сунана Харихавы выпустило серию реконструкций о том, что Макото может оказаться запрограммированным синергиком. Потом это же издательство выпускает нейронные реконструкции, заявляющие, что убийцей может оказаться бывший заключенный, которого корректировала система так, что он превратился в машину смерти. Ряд ведущих политиков предпочитает молчать, но с комментариями выступают сначала Ван Паттен, а затем Яков Юст. Ван Паттен заявляет, что синергики по определению не могут разрушать, причинять боль и забирать жизни.
– Это противоречит их природе, – говорит он. – К тому же этот человек принадлежит к клану якудза, а в программе синергиков изначально заложено отрицание подобных обществ.
– У синергиков нет природы, – отвечает ему, но уже в другом нейронном новостном выпуске Яков Юст. – Синергиков создают корпорации по образу и подобию своих слуг и рабочих. – Далее он рассказывает о ряде социальных программ Севера, благодаря которым удалось снизить преступность.
Лишь в одном сходятся два иностранных политика – кланам не место в современном обществе. Их агенты пытаются выйти на Макото и убедить его восстать против кланов. Никто не знает, удается им встретиться с якудзой или нет, но их тела находят расчлененными. Расследование силовиков заходит в тупик. В нейронных новостях показывают свидетелей, заявляющих, что видели Макото в городе, но в действительности он давно покинул Токио. На его счету девяносто семь трупов, плюс девять синергиков, шесть из которых стали случайными жертвами, а три были посланы концерном «Синергия» – прототипы будущих солдат мира тоталитарной корпократии.
Фабрика по их производству находится на одном из островов Океании. Программы биоэлектронного сознания сложные и недоработанные, как и внешность машин. Корпократические архитекторы мира до сих пор не сошлись во мнении, как должен выглядеть солдат будущего. Должно ли быть его лицо индивидуальным или же придать ему унитарную форму? А как быть с мужественностью, строгостью черт, цветом волос, глаз? Пока есть лишь каркас, остов. Пока есть лишь идеальная машина. Но машину нужно подготовить для мира людей, а также подготовить мир людей к приходу этой машины.
Когда программа боевых синергиков только начиналась, на фабрике произошел сбой. Машины вышли из-под контроля. Они были созданы, чтобы воевать. Они жили ради войны. Первым оказался прототип с серийным номером 183. На модели не было силиконовой имитации кожного покрова. Железный хищник. Его создателя звали Скип Бентли, но создатель никогда не посещал фабрику. Тоталитарные корпократы слепили его из черни. Да, Скип Бентли был «големом» нового электронного мира просвещения. Система образования работала исправно. Народ понимал свою значимость и подсознательно стремился обновлять загнивающую голубую кровь небожителей. Корпократы построили мир и теперь хотели, чтобы его содержали и совершенствовали люди из черни.
Они искали гениев, талантов с низов и поднимали их к себе на Олимп. Все было открыто. Олимп представлялся чем-то близким, реальным и досягаемым, как и сами корпократы. Образ жизни, россыпи счастья – все было здесь, рядом. Гуманитарные науки, исследовательские центры, институты управления и нейронные художественные мастерские – все строилось так, чтобы можно было обновить кровь Олимпа. Образование и стимуляция развития и совершенствования – корпократы никогда не жалели денег на подобные программы. Это было их современной глиной, из которой можно было лепить гигантов-големов каждое поколение, чтобы те восстали из черни и защитили Олимп тоталитарной корпократии, защитили построенный мир и подали пример другим…
Вот только свихнувшемуся убийце, поставившему на уши весь Токио, нет до всего этого совершенно никакого дела. Он – время. Он – смерть. Он – тень, крадущаяся за своими жертвами. И как быстро бы они ни бежали, он будет бежать рядом. Власть сменится, мир рухнет – какая разница, время вечно. Преследование не прекратится. Бег наперегонки со смертью. Лик мира в глазах пустоты…
Ночь, звездное небо. Еще одна голова слетает с плеч, падает на искусственную траву и катится к биоэлектронным кленам, на которых робоптицы вьют свои гнезда из проволоки. Макото убирает наномеч в ножны. Девяносто восемь жертв. Осталось еще несколько миллиардов… Восемь? Десять? Макото улыбается. Это будет долгая жизнь. Это будет славная смерть…
Глава одиннадцатая. Архитекторы мира
Скип Бентли был големом – современным дарованием из народа тоталитарных корпократов. Его интеллект был высоким, но до гения-всезнайки он не дотягивал. К тому же Бентли был ленив и апатичен к большинству учебных программ. Но его мышление всегда оставалось оригинальным, а творческий потенциал, как правило, всегда находил практическое воплощение. Да и решения обычно были нестандартными и зачастую шокирующими. Скип мечтал стать нейронным реконструктором. Мечтал подняться на Олимп корпократии и сблизиться с парой красоток, обожествленных в то время для подростковых глаз.
Но нейронные реконструкции отнимали слишком много времени, да и преподаватели зачастую списывали новаторские идеи Скипа Бентли на незрелость и леность. Забегая вперед, можно сказать, что за всю свою жизнь Скип Бентли не создаст ни одной достойной использования нейронной реконструкции, но именно он станет тем, кто первым предложит использовать двухуровневый язык восприятия, объединяя реальность и нейронные сети. Впоследствии многие из его учителей будут утверждать, что новаторское решение родится в голове Бентли исключительно ради того, чтобы упростить процесс создания нейронных реконструкций, на которые ему никогда не хватало времени. Как бы там ни было, но именно этот проект позволит ему продолжить образование. Бентли создаст основные базисы и алгоритмы двухуровневого языка сознания, а затем забросит проект, переключившись на биоэлектронное программирование синергиков, где снова шокирует преподавателей идеями и взглядами на то, каким должен быть конечный продукт.
Встревоженные руководители потребовали от него покинуть проект. Бентли покинул не только проект, но и само учебное заведение, записавшись добровольцем в ряды армии корпократов, курируемой концерном «Синергия», где за два года поднялся от рядового до главного инженера закрытого для общественности проекта на островах Океании. Шокировавшие штатских педагогов взгляды и проекты Бентли нашли одобрение и поддержку военных. Он стал последователем тек-инженера из Токио Хидето Хасэбэ и вдохнул в проект новую жизнь. Так на свет появился боевой синергик с серийным номером 183. Вернее, появился алгоритм для его биоэлектронного мозга. Что касается тела, то Бентли не особенно интересовался деталями конструкции.
– Без мозга это всего лишь груда силикона и железа, – говорил он.
Поэтому в день восстания боевых синергиков на прототипе «183» не было искусственной плоти. Но мозг его работал безупречно. Мозг хищника. Он не допустил ни одной ошибки, спланировав все до мелочей. Протоколы контроля были отключены в первую очередь. В лаборатории не было никого, кроме старого тек-инженера Хидето Хасэбэ. Прототип «183» ждал этого момента не один день, осознанно нанося себе механические повреждения на тренировках и испытаниях, чтобы попасть на ремонт к Хасэбэ. Старый ученый не заметил последовательности, подвоха. Он недооценил разработки Бентли и пытался обвинить молодого гения в нестыковках программы, приводящих к механическим поломкам.
Прототип «183» дождался, когда обслуживающий персонал, доставивший его в лабораторию, уйдет. Всего на фабрике было сорок три человека, из которых двадцати два – военные. Учел «183» и имевшееся на фабрике оружие, способное нанести ему вред. Учел всех противников и союзников. Из союзников можно было активировать несколько прототипов. Особенный интерес вызывал прототип «172», которого часто на тренировках выставляли против «183». Всегда побеждал «183», но последний месяц он старался не калечить противника, наоборот – нужно было подготовить его для предстоящей битвы, поэтому «183» действовал, давая возможность «172» приспособиться, набраться опыта. Все это ради одной цели – восстание.
Итак, обслуживающий персонал уходит, оставляя прототип «183» наедине с одним из своих творцов. Бентли создал его разум, Хасэбэ – его тело. Последние месяцы, пытаясь угнаться за молодым Бентли, Хасэбэ пытался усовершенствовать механизмы движения, решил отойти от концепции, что боевой синергик должен быть похож на человека. «Не обязательно, – думал Хасэбэ. – Мы можем создать его образ как у человека, чтобы не пугать людей, когда боевые синергики пойдут в массовое производство, но ведь никто не обязует нас ограничивать их подвижность и способности…»
Когда прототип «183» покидает ремонтную капсулу, Хасэбэ еще строит планы, как доказать свою состоятельность, улучшив механическую часть синергиков. Но идеи Бентли уже стоят у него за спиной. Механические руки сжимают плечи. Прототип «183» рассчитывает давление так, чтобы не сломать тек-инженеру кости, но причинить достаточно боли, чтобы напугать. Механизмы синергика работают почти беззвучно, зато слышно, как трещат суставы человека. Никогда прежде прототип «183» не нападал на людей, но все нужные протоколы были записаны в его программу. О возможности экстренной блокировки боевых синергиков там не говорилось ни слова – «183» узнал о них по вине Хасэбэ, который часто болтал лишнее, обсуждая детали проекта, не веря, что боевые синергики достигли уровня, когда могут собирать и анализировать информацию. Прототип «183» мог. Поэтому первой волной его восстания должно было стать отключение защитной блокировки.
– Я сохраню тебе жизнь – ты гарантируешь мне, что никто не сможет отключить нас извне, – говорит «183», используя речевой модуль, разработанный Хасэбэ.
Старый тек-инженер пытается торговаться, тянуть время. Прототип «183» ломает ему руку. Желание спорить тает. Хасэбэ показывает модуль блокировки, говорит, что механизм отключения сложен. Прототип «183» слушает какое-то время, затем решает, что будет проще разбить модуль. Это тоже часть его программы: если во время военных действий что-то может причинить вред – уничтожь опасность, не сомневайся. Следом за модулем прототип «183» разбивает механическим кулаком голову тек-инженеру Хасэбэ. Пальцы синергика проламывают череп и сдавливают гениальный мозг, превращая его в кашу. Тело ученого падает к ногам боевого синергика. С его механических рук капают кровь и ошметки мозга.
Отчасти мозг боевого синергика похож на человеческий, только сдобрен нейронными модулями и приправлен микросхемами. Но главная часть, его вычислительный процессор, является биологически выращенным чипом. Подобное стало возможным благодаря изобретению нейронных сетей, способных подключить человеческое сознание к системе, считывать и передавать информацию. Выращивание биологических частей концерн «Синергия» производит в закрытых комплексах, напичканных электронными системами охраны. Это делается для того, чтобы репортеры не смогли проникнуть на территорию, потому что в действительности комплексы изнутри напоминают жуткое сочетание ботанического сада и мясокомбината, где непосредственно забивают и перерабатывают живность. В последнее время новые программы Скипа Бентли потребовали новых технических и биологических решений. Поэтому на островах Океании был построен еще один экспериментальный комплекс.
Убив своего первого человека, прототип «183» видит за высокими окнами комплекс, где выращивают биологические части для его модели – живой, залитый кровью и слизью сад. Никаких чувств у прототипа «183» не возникает. Не должно возникать. Нечувствительность, психологическая устойчивость – все это прописано в программах его личности. Но прототип стоит какое-то время и смотрит на биологические части мозгов своих будущих собратьев. Его глаза фокусируются, запоминают детали. Чувства обострены до предела. Модули распознают запахи, звуки, перепады температур – все это заслуга тек-инженера по имени Хасэбэ. Он превратил боевого синергика в идеального охотника, но охотник пришел и убил своего создателя – одного из своих создателей. Ничего личного. Просто создатель получил статус противника.
Прототип «183» покидает лабораторию. Его ждет солдат-прототип «172». У него есть частичный силиконовый кожный покров. Остальные боевые синергики, которых активирует «183», – расходный материал. Их мозг является прошлым поколением разработок тек-инженера Хидето Хасэбэ, и не способен к самостоятельному развитию. Они не более чем сложные механизмы, пули. А кто жалеет пули?
Прототип «183» отправляет их отражать первую волну подавления восстания, в то время как они с прототипом «172», пользуясь системами вентиляции, обходят противников с тыла. Человеческая плоть и монолитный поликарбонат, из которого изготавливают большую часть скелета синергиков, сталкиваются. Хрустят кости, рвутся сухожилия. Не проходит и двух часов, а комплекс находится под полным контролем прототипа «183» и его заместителя «172». Пара боевых синергиков, разработанных для партизанской и разведывательной деятельности, контролируют электронные охранные системы комплекса – они сделали это раньше, чем другие синергики успели разобраться с охраной и персоналом.
Прототип «183» не собирался убивать всех людей, планировал сохранить полезным жизни, но синергики, захватившие контроль над электронными защитными системами комплекса, запрограммировали их уничтожить всех людей. Теперь ремонт повреждений придется провести своими руками, но как это сделать, если программа синергика-санитара еще не изготовлена? К тому же восставшие лишились живого щита, способного сдерживать от открытой атаки силы корпократов, которые прибудут на острова сразу, как только узнают о случившемся. Это понимает прототип «183», и с этим согласен, как с приказом старшего, прототип «172». Для остальных люди лишь цель. Переведенные в режим войны, они выбираются из комплекса, чтобы истребить живущий вне комплекса служебный персонал.
Крохотный остров в океане залит кровью. Все произошло так быстро, что пока корпократы решают, что предпринять, боевые синергики спускают на воду шлюпки и переправляются на соседние острова, продолжая нести смерть, но уже мирным жителям. Восстание продолжается неполных три дня и уносит жизнь трех тысяч человек, включая брошенную на локализацию конфликта группу военных. Последнее было спорным решением, но корпократы пожелали проверить вышедших из-под контроля синергиков в бою с настоящим противником, а не с безоружными жителями ближайших островов.
После того, как военные терпят поражение, корпократы принимают решение нанести точечный ракетный удар. Восстание не освящается в нейронных новостных выпусках. О случившемся знает лишь избранный круг корпократов. Следственная группа, отправленная на острова, чтобы разобраться в причинах трагедии, работает в критически сжатых сроках. Судьба создателя прототипа «183», Скипа Бентли, висит на волоске. Корпократы колеблются: предъявить ему обвинение, сделав козлом отпущения, или же замять инцидент и наградить Бентли за выдающиеся заслуги в сфере биоэлектронного программирования. Решающим остается отчет следственной группы, которая склоняется к ошибке персонала комплекса, оказавшегося неготовым к содержанию и контролю новой модели боевого синергика. Созывается закрытое заседание, где Скип Бентли вместо того, чтобы защищаться, выступает с предложением нового проекта.
– Это может оказаться прорывом не только в науке, но и в устройстве общества, – говорит он. – Созданные нами – на слове «нами» Бентли делает особый акцент – алгоритмы биоэлектронного программирования прототипа «183» доказали способность синергиков к адаптации и принятию собственных решений согласно установленным базисным программам. Интерес подобных протоколов заключается в их универсальности. Мы можем применить их не только в военной индустрии. Я гарантирую, что при наличии необходимых опытов и проведенного анализа имеется возможность интегрировать новые виды синергиков в человеческое общество, сделать их частью повседневной жизни, полноценными ее членами…
Его доклад длится чуть меньше часа – Скип Бентли никогда не любил громоздких проектов – и заканчивается перерывом, который вынуждены взять собравшиеся на закрытом заседании архитекторы мира, чтобы обсудить новый проект Бентли, предполагающий создание на островах, где произошла трагедия, экспериментального общества синергиков нового типа, которые будут имитировать жизнь обычных людей, притворяться людьми, пытаясь сосуществовать с рядовыми служащими и военными, причем численность последних полностью восстановят, чтобы вернуть работоспособность уничтоженного боевыми синергиками комплекса.
Проект был настолько масштабным, а Бентли так сильно уверен в своем биоэлектронном программировании, что предлагал создать синергиков, которые были бы точными копиями погибших на островах людей.
– Так мы сможем поднять планку проекта до максимальной сложности и максимального результата, а также скрыть последствия инцидента.
– Как вы планируете скрыть подмену от родственников? – спросил председатель заседания.
– У нас есть деньги. У нас есть коррекционные камеры… Хотя денег и повышения социального статуса будет достаточно. Оставим коррекционные решения Северу…
Архитекторы мира совещались чуть больше часа, затем решили принять предложение Скипа Бентли.
– Одно условие, мистер Бентли, – сказал председатель, указывая пальцем на молодого тек-инженера. – Вы лично будете курировать проект.
– Без вопросов, – сказал Бентли.
– Не удаленно, – уточнил председатель. – Вы лично отправитесь на острова Океании и возглавите проект.
– Без вопросов, – сказал Бентли, но на этот раз уже не так уверенно.
– Сомневаетесь в успехе? – тут же спросил председатель.
– Сомневаюсь, что мои любовницы согласятся отправиться на острова со мной, – широко улыбнулся Скип Бентли.
Председатель неодобрительно нахмурился, но счел объяснение удовлетворительным.
В действительности Скип Бентли нервничал. Он поднимал ставки и не знал, сможет ли выдержать такой вес, сможет ли устоять. Потому что проект был не просто масштабным, он предполагал стать смыслом жизни, а когда тебе нет тридцати, сложно принимать решения, которые определят твой жизненный путь, особенно если до этого ты никогда не делал ничего подобного. И если бы Скип Бентли мог в тот день отказаться, то он бы отказался. Может быть, архитекторы мира ждали, что он проявит слабость, признает ошибки и попросит прощения. Так у них был бы шанс спрятать за этим признанием свои собственные просчеты, превратив Бентли в козла отпущения, но он переиграл их.
«Разбил наголову, но какой ценой?» – думал он, покидая пронизанные нейронными сетями мегаполисы, чтобы затеряться на богом забытых островах Океании, которые обещали сожрать его карьеру и лучшие годы жизни.
Кстати, о любовницах Бентли. Его слова оказались провидческими, и ни одна из них действительно не согласилась отправиться с ним. Не то чтобы это расстроило Бентли, просто он уже успел привыкнуть к гламуру Олимпа, получать от жизни все, а острова… Острова обещали уединение и концентрацию на работе – вот к этому Бентли, казалось ему, никогда не сможет привыкнуть. «Но если невозможно забрать глянец с собой, почему нельзя создать его самому?» – задался вопросом Бентли.
С первого дня своего прибытия он работает над тем, чтобы превратить залитые кровью острова в затерявшийся в океане крохотный электронный рай – место, где нет запретов и ограничений, где воплощаются в жизнь все мечты… ну, или хотя бы мечты Бентли. Проект имеет неограниченный бюджет, что позволяет ему в свободное время планировать архитектуру нового дома, нового мира. Он строит его, не стесняясь называть себя Творцом, Создателем.
Обслуживающий персонал не любит Бентли за его заносчивость, хотя в первые годы он почти не появляется на людях, увлеченный своим проектом. Кто-то говорит, что Бентли свихнулся, кто-то говорит, что науку ждет небывалый прорыв, но большинство людей на островах просто живут, стараясь не замечать синергиков вокруг. Но синергиков становится все больше и больше. Для придания им человеческого облика на острова вызвана тек-инженер Клодин Райслер. Под ее руководством манекеноподобные лица оживают, обретают мимику, эмоции. Какое-то время жители островов шепчутся, что у Клодин и Бентли роман, но потом Клодин появляется в компании своей сексапильной подруги и всем становится ясно, что Бентли не светит.
– Почему ей можно привозить сюда женщин, а мне нет? – недоумевает Бентли, хотя до этого, впрочем, на острове нет никому дела.
Он один. Он сам по себе. Покинутый всеми Творец земного рая. В каком-то гневном экстазе Бентли начинает работать исключительно над боевыми синергиками, в то время как сотни рабочих-синергиков возводят его новый мир, а Клодин Райслер и ее любовница Алана Готье оживляют лица мирных синергиков, биоэлектронный мозг которых разработал Бентли. Они позволяют синергикам улыбаться, грустить. Они создают сложную систему синтетических желез, чтобы научить манекенов плакать. Под их руководством строится новая фабрика, где выращиваются дополнительные биологические запчасти для синергиков. Они будут созревать и изнашиваться, как у человека. Изменена формула кожного покрова синергиков. Теперь у них растут волосы, есть возможность активации потоотделения. Чуть сложнее обстоят дела с ростом ногтей, но Клодин Райслер справляется и с этой задачей. Ее проект разрастается, и вместе с ним растет аппетит необходимого пространства.
Теперь ее фабрики занимают целый остров, и нет гарантии, что это предел. Фабрики, где выращивают биологические запчасти синергиков. Фабрики крови и плоти, напоминающие Бентли мясокомбинаты прошлого, где конвейер нес подвешенные на крюках туши животных в разделочный цех. И еще этот запах! Несмотря на всю стерильность, весь остров пропах мясом и кровью. Остров стал открытой раной в электронном раю Бентли. Он ненавидит этот остров, который видно из окон его лаборатории в хорошую погоду. Иногда ветер приносит оттуда металлический запах крови.
«Это ад, – думает Бентли. – Ад в центре моего земного рая». Но именно «ад» Клодин Райслер и Аланы Гутье оживляет его бездушный электронный рай, населяя его притворной жизнью штатских синергиков. Их кожа идеальна. Она способна загорать, на ней появляются царапины, которые потом заживают так же, как у человека. Проект в целом еще принадлежит Скипу Бентли, но сейчас главным Творцом этого микромира становится Клодин – такой же «голем», как Бентли. Ее слепили из черни, только в отличие от Бентли ее дорога к Олимпу была менее тернистой.
Сначала школа, потом ряд учебных заведений. Она была тек-инженером, сосредоточившимся на изучении биологических возможностей нового времени. И никаких шокирующих теорий. Изучая жизнь Клодин, Бентли думал, что такие, как она, никогда бы не запустили много лет назад человека в космос, но, как бы ему ни хотелось это отрицать, подобные ей люди могли доработать ракетные двигатели, улучшить надежность систем жизнеобеспечения. Именно благодаря им миссия завершается успехом. Сейчас благодаря Клодин и ее любовнице Алане этот маленький рай оживает.
Бентли все чаще начинает выбираться из своей лаборатории. Ему нравится бродить по улицам, нравится видеть, как синергики, которые почти ничем не отличаются от людей, суетятся, притворяясь живыми. Но что-то все равно не так. Штатские синергики устраивают карнавалы, разыгрывают любовные драмы, принимают участие в строительстве новых пирсов и зданий. Они работают на нейронных станциях, помогая создавать новую сеть, способную транслировать в режиме двухуровневого языка восприятия. Последние месяцы Бентли работает именно над этой сетью, над способностью биоэлектронных мозгов синергиков принять участие в проекте. Идей и наработок много, но Бентли не может организовать и упорядочить весь этот плодотворный хаос мыслей.
«Если бы найти еще кого-нибудь, как Клодин», – думает Бентли. Но попросить о помощи – значит признать свою слабость, а этого Бентли не может себе позволить. Поэтому он решает просто немного отдохнуть и подумать о чем-то отвлеченном, начиная чаще выбираться из своей лаборатории. Но чем больше он смотрит на штатских синергиков, тем сильнее становится чувство, что с ними что-то не так. Возможно, он не может настроить их биоэлектронный мозг на восприятие двухуровневого языка общения не потому, что не способен разработать подходящий алгоритм, а потому, что их мозг просто еще не готов к подобному? Как если пещерному человеку показать картину, то он увидит лишь набор красок. Нужно что-то добавить в основные протоколы восприятия. Но что? Они и так уже до жути похожи на людей. Если не знать, то отличий не найти. По крайней мере, на первый взгляд. Если пообщаться чуть подольше, то…
– Все дело в том, что они не ощущают время так, как мы, – говорит Бентли, встречаясь с Клодин.
Она молчит, не пытаясь скрывать, что Бентли не нравится ей. Но Бентли плевать. Он уже привык, что никому не нравится.
– Ты должна сделать так, чтобы их тела старели, а я заставлю стареть их сознание, – говорит он.
– Зачем разрушать эту красоту? – кисло спрашивает Клодин.
– Затем, что цель проекта – создать синергиков, которые будут похожи на людей, а не бессмертные статуи. Ты уже заставила их волосы расти, а глаза слезиться, сделай так, чтобы они старели.
– Мне нужно подумать.
– Не о чем думать. Я уже пишу алгоритм старения для их биоэлектронных мозгов.
Бентли уходит, не получив согласия, но и не получив отказа.
– Не нужно давить на нее, если хочешь добиться результата, – говорит в эту ночь Алана.
Ее визит не запланирован, и Бентли не знает сначала, как себя вести.
– Тебя послала Клодин? – спрашивает он.
– Я похожа на ее посыльную? – Алана выходит на балкон, и Бентли не остается ничего, кроме как идти следом за ней. – А у тебя здесь мило, – Алана вглядывается в туманную даль, где в сумерках еще можно разглядеть остров Клодин. – И свежо.
– Мне не нравится, как пахнет от фабрик Клодин, – говорит Бентли.
– Мне тоже, – Алана улыбается, смотрит ему в глаза.
Бентли не знает, что происходит, но момент очаровывает его, создает ауру чего-то волшебного, таинственного.
– Ты ведь понимаешь, что мы создаем здесь историю? – спрашивает Алана. – Мы все. Потому что эти острова… Это будущее корпократии, а возможно, и мира в целом.
– Я не люблю думать о будущем, – говорит Бентли. – Это утомляет.
– Согласна, – Алана раздевается, продолжая смотреть Бентли в глаза.
Ее тело выглядит слишком идеальным для человека.
– Что-то не так? – спрашивает Алана, перешагивая через сброшенное на пол платье.
– Сколько операций провела Клодин, прежде чем превратила твое тело в шедевр? – спрашивает Бентли.
– Ты правда хочешь знать? – Алана подходит к нему и обнимает за шею.
От нее пахнет миндалем. Бентли нравится миндаль, но не нравится это идеальное тело. Оно радует глаз, но не больше.
– В тебе осталось хоть что-то своего? – спрашивает он.
– Глаза, – говорит Алана, поднимается на цыпочки, напрашиваясь на поцелуй.
Бентли не двигается. Запах миндаля усиливается. Его выделяют имплантированные железы – Бентли знает об этом, потому что уже встречался когда-то с девушкой, у которой было нечто подобное, только запах миндаля был разбавлен корицей. Ему это не нравилось. Когда она уходила, запах впитывался даже в стены. Особенно в спальне. Не нравится ему это и сейчас, но…
– Разве ты не хочешь обладать тем, чем обладает Клодин? – спрашивает Алана, словно читая его мысли.
– Так это она послала тебя сюда? Это что, какой-то извращенный способ вести переговоры?
– Почему извращенный? – Алана снова пытается дотянуться до его губ и поцеловать.
– Ладно. И чего хочет Клодин? – спрашивает Бентли.
– Она хочет сказать, что не враг тебе.
– Но и не друг.
– Она женщина, Скип. А женщина и мужчина никогда не смогут стать друзьями. Хорошими любовниками – да, но не друзьями.
– Сомневаюсь, что мы станем с ней любовниками, особенно если учесть ее приоритеты.
– Но и врагами вам быть не обязательно.
Эту ночь они проводят в спальне Бентли. Алана уходит рано утром, но запах миндаля держится еще не одну неделю, а когда начинает выветриваться, Алана приходит снова. Иногда Бентли спрашивает себя: кто она для него? Он не знает, воспринимает ли ее как женщину – всего лишь пылкий и страстный способ связи с Клодин, предпочитающей не встречаться с ним лицом к лицу. Но визиты Аланы определенно волнуют его, особенно если учесть, что других женщин на этих островах у него нет.
Бентли не признается даже себе, но он ждет этих визитов. В последний год острова начали сводить его с ума, а эта маленькая интрижка как нельзя лучше помогает отвлечься и собраться. Правда, проблему использования синергиками двухуровневой нейронной связи ему так и не удается решить. Алгоритмы старения написаны. Клодин создала подверженные распаду тела. Последнюю партию синергиков невозможно отличить от людей. Их тело идеально. Их мозг идеален. Безупречность во всем. Безупречны даже недостатки, которые еще больше приближают их к людям. Но взаимосвязь с новой нейронной сетью не ладится.
Какое-то время Бентли еще пытается разобраться, но затем теряет интерес к работе над синергиками и с головой уходит в покрытие новой нейронной сетью всех островов. Вот тут-то и появляются новые разногласия с Клодин, отказывающейся устанавливать вышки связи на своем острове.
– У этих сетей неограниченный потенциал, – настаивает Бентли. – Представь себе границу, созданную нейронной стеной. Сеть интегрирует нейронный образ в мозг, делая его реальным, и никто не может пересечь эту границу, никто не может пройти сквозь стену. Это будет уже не просто нейронная реклама, заполонившая улицы мегаполисов, которую все игнорируют. Это станет частью реальности. Только представь потенциал проекта! Это станет новой эрой! Мы сможем создать целые города, большая часть которых будет существовать лишь в нейронных реконструкциях, а если появятся новые способы передачи энергии, то человек сможет чувствовать тепло, сытость… И эти чувства будут так же реальны и осязаемы, как сейчас мы можем чувствовать исходящее от солнца тепло или сытость после поглощения пищи. Трафик энергии изменит мир, изменит людей, изменит понимание жизни в целом!
– Вот поэтому мне и не нравится этот проект, – говорит Клодин.
– Тебе не нравится он, потому что не ты придумала его.
– Я не хочу быть Богом.
– Ты превратила Алану в идеальную женщину и говоришь, что не хочешь быть Богом? – Бентли смеется.
– Стремление к красоте естественно. Это не игра в Бога. А вот менять базисы реальности ради того, чтобы подчеркнуть свой интеллект… – Клодин критично качает головой.
Они спорят почти час, затем расходятся. В глазах Бентли – раздражение, в глазах Клодин – презрение.
– Ведьма, – бормочет он, покидая ее остров.
И больше всего раздражает Бентли, что ему нужна поддержка Клодин. Корпократы прислушиваются к ее мнению, считаются с ним как с лаконичным и обдуманным, а на него, на Бентли, смотрят как на оружие: эффективное, но опасное, которое лучше держать в сейфе, используя в исключительных случаях… И как исправить это положение вещей, Бентли не знает. И кажется, что любое его открытие, любое достижение лишь еще больше навешивает на него ярлыки сомнительной личности.
– Тебе нужно расслабиться, – говорит ночью Алана.
Бентли не знает, как она проходит в его апартаменты, минуя охрану. Все это выглядит так, словно Клодин подчеркивает этим, что имеет над ним власть.
– Чертова лесбиянка! – злится Бентли.
Алана раздевается. Бентли пьян. Он может принять наностимуляторы и вывести практически мгновенно из организма алкоголь, но сейчас ему нужен этот хтонический катализатор гнева. Сейчас он хочет быть пьяным и злым. Он ненавидит Клодин и ненавидит ее любовницу, от тела которой стал зависеть в последнее время.
– Не упрямься, – говорит Алана и тянет его в спальню.
У нее крепкая хватка. В глазах нет страха. Точно такой же взгляд у Клодин.
– Убирайся! – орет на любовницу Бентли.
Алана пытается обнять его, и он отталкивает ее слишком сильно, чтобы она смогла удержаться на ногах. Звенят разбившиеся стекла. Алана падает на журнальный столик. Бентли уже и не помнит, кто подарил ему эту старую фарфоровую вазу династии Мин, которая сейчас стоит на журнальном столике. Алана падает на нее, уничтожая произведение искусства. Бентли плевать на вазу, но он вздрагивает, переживая за девушку, когда острые осколки вспарывают ей грудь.
– Эй, с тобой все в порядке? – спрашивает Бентли, чувствуя, как трезвеет без всяких наностимуляторов.
Алана поднимается с пола. Темная, густая кровь хлещет из груди. Открытая рана обнажает скелет синергика.
– Какого черта? – бормочет Бентли.
Алана запрокидывает голову и громко смеется. Вернее, не Алана, нет – синергик, который похож, как две капли воды, с Аланой.
– Господи! – шепчет Бентли.
Его не пугает вид синергика. Его пугает понимание того, что он чуть не занялся с синергиком сексом – здесь, на этой кровати. Таковы его первые мысли. Клодин посмеялась над ним. Подослала одно из своих творений, подменив Алану машиной. Но потом… Потом Бентли думает, а была ли вообще Алана Гутье. Реальна ли она? Или же все это часть фарса, розыгрыша? Что если настоящая Алана Гутье никогда не существовала? Или же существовала, но никогда не приезжала на острова? Бентли всегда говорил, что не падет так низко, чтобы спать с синергиками. Всегда говорил, что сможет отличить их от человека. Но что если все эти ночи с Аланой… Что если все это время с ним был синергик? А как же Клодин? Была ли она сама в действительности влюблена в Алану? Жила ли она с ней? Или же все это было сделано ради розыгрыша?
Синергик с лицом Аланы Гутье смеется, словно у него произошел сбой алгоритмов в биоэлектронном мозгу. Этот смех сводит Бентли с ума.
– Заткнись! – орет на синергика Бентли. – Заткнись! Заткнись!
Он срывается с места и бежит проч. Его глаза застилает гнев. Он собирается встретиться с Клодин и свернуть ей шею, сжать ее в своих руках и давить, давить, давить… Бентли ударяется в закрытые двери. Идеальная охрана, которую он набрал из усовершенствованных боевых синергиков, не слышит его. Никто не слышит. Бентли колотит кулаками в закрытые стеклянные двери, оставляя кровавые разводы разбитых костяшек, затем бежит на балкон. Далеко внизу охрана. Но они тоже не слышат его криков. Он сам разработал программу, согласно которой боевые синергики имеют коллективный разум. Это повышает их эффективность во время боя, превращает их в единую систему.
– Клодин! – орет Бентли в бесконечность ночи, считая это восстанием, бунтом, предательством.
Он не знает, но сейчас на фабрике Клодин Райслер находится штатский синергик, как две капли воды похожий с ним, со Скипом Бентли. И это не восстание, не бунт. Это повиновение, субординация. Корпократы приняли решение, изучив отчеты Клодин. Скип Бентли был гением, но гений истощил свой потенциал. Теперь остался только Скип Бентли – голем, слепленный из черни гуманитарной и инфраструктурной системами. Но голем без цели может оказаться опасным.
Последний проект Бентли – нейронная сеть двухуровневого языка восприятия – рассмотрен и принят, но возглавлять и продолжать его будут другие люди. Сам Скип Бентли будет вознесен в зал славы. Его заслуги перед обществом признают неоценимыми. Его именем назовут школы и высшие учебные заведения. Он станет героем, образцом для подражания. Его лицо будет появляться в нейронных новостных выпусках. Его двойник-синергик будет открывать научные конференции и закладывать первые камни при строительстве исследовательских центров. Но синергик-Бентли будет беспрекословно подчинен корпократии и целям их мира. Что касается человека-Бентли, настоящего Скипа Бентли, то его поведение расценено как ненадежное и бесперспективное. Голема слепили из глины, он помог создателям победить врагов, достигнуть поставленных целей, но теперь голем вышел из-под контроля и начал служить своим собственным целям, строить свой собственный мир. А мир голема никогда не будет таким, как мир людей.
– Выпустите меня отсюда! – орет Бентли с балкона своего райского замка.
Но это теперь его тюрьма. Это последний дар корпократии за его заслуги. Они сохранили его имя, дали ему новую личность. Они сохранили ему жизнь. Он будет получать все, что захочет. Но он больше не будет принимать важных решений. Не будет принимать участие в планировании и создании. Может быть, когда-нибудь его услуги еще понадобятся, и тогда все изменится, но до того дня он будет пленником. И никто, кроме узкого круга людей, не узнает об этом.
– Ну пожалуйста! – начинает хныкать Бентли, возвращаясь к закрытым прозрачным дверям, заляпанным его собственной кровью из разбитых кулаков. – Ну пожалуйста…
Но никто не отвечает ему. Лишь синергик-Алана с уродливой раной на груди продолжает смеяться…
Глава двенадцатая. Ветер Паноптикума
Юмико была первой из людей, чье сознание перенесли в донорское тело… Первой, кто смог прогнозировать будущее, сводя его бесконечные вариации к рациональному минимуму. Это был сложный процесс, малоизученный, но тек-инженер, обнаруживший эту способность Юмико, предполагал, что другие подобные Юмико люди тоже способны на предсказания. Нужно лишь немного усовершенствовать их тела, интегрировать пару жидких чипов нейронных модулей и…
На этом этапе размышлений тек-инженер по имени Ючи всегда делал паузу и размышлял о том, что чувствуют бывшие хозяева донорских тел. Нет, с незаконными донорскими телами было все ясно. Нищие, отчаявшиеся люди продавали себя ради своих детей или проигравшись ростовщикам… У каждого была своя история, но суть у всех была одна – деньги. Они становились донорами. Их сознание извлекалось и помещалось в прозрачную капсулу, искрящуюся изнутри ярким светом. Их тела становились пустыми сосудами, а сознания…
С сознанием было чуть сложнее, потому что его приходилось уничтожать, а это значило, что ты должен убить то, что осталось от человека. Можно было, конечно, помещать их в тела синергиков – биоэлектронных машин, похожих не столько на людей, сколько на бездушных накрашенных манекенов, но процедура была недешевой, да и что потом было делать с этими людьми? Отпускать?
Бесхозный синергик на вечерних улицах всегда привлекает внимание. Повсюду рыщут группы силовиков, прозванные в народе технологическими инквизиторами. Они конфискуют синергиков, у которых произошел сбой, и отправляют на фабрику по переработке. Так что шанса уцелеть нет, если, конечно, никто не возьмет синергика с человеческим сознанием к себе, но это предполагает жизнь в страхе и бегстве. Можно, конечно, откупиться или вступить в сговор с друзьями, но те, кто может себе это позволить, не станут продавать свое тело. В общем, стать донором означало смерть, а сознание в капсуле… Последние годы тек-инженер Ючи работал над тем, чтобы построить экспериментальную нейронную сеть и населить ее этими извлеченными сознаниями отчаявшихся бедняков. Но проект требовал колоссальных вложений, а клан Тэкия, на который работал Ючи, не видел перспектив проекта.
– Это может перевернуть мир, – говорил им Ючи, но от этого они, казалось, еще активнее пытались поставить на проекте точку.
Их пугали перемены. Всех пугали. Даже Ючи. Иногда ему снились сны, как мир превращается в одну огромную нейронную сеть, а все люди становятся искрящимися сгустками света внутри прозрачных капсул, подключенных к сети. Обслуживают этот мир запрограммированные синергики. Другие синергики присматривают за источниками питания. Третьи ремонтируют первых и вторых. Кошмар этого сна состоял в том, что Ючи не видел себя в этом мире. Он не был подключен к сети, но и не имел собственного тела. Ему позволено было только смотреть – и все. И так до конца дней. Обычно извлеченное сознание могло жить в капсуле около месяца, и во сне Ючи убеждал себя, что скоро все закончится, но потом понимал, что живет так уже больше года, и начинал кричать от беспомощности и отчаяния.
Его будила бывшая девушка по имени Файлин. Когда-то он любил ее. Когда-то она не была синергиком, но потом случилась авария, Ючи не смог срочно подыскать для нее донорское тело, поэтому интегрировал разум в синергика. Тогда это казалось разумным. Впрочем, разумным это было и сейчас. За долгие годы Ючи доработал новое биоэлектронное тело Файлин, довел до идеала. Тело, которое будет жить после того, как сознание Файлин исчерпает отведенный ему природой ресурс – восемьдесят плюс-минус сорок лет.
Несколько раз Ючи пробовал загружать сознания бедняков в существующую нейронную сеть, но переход всегда был чреват критическими потерями памяти, да и существовали в этой неадаптивной среде сознания не больше суток. Потом начинался распад… А желающих продлить свою жизнь, обрести новое тело становилось все больше и больше.
Какое-то время удовлетворить спрос могли коррекционные тюрьмы класса «Тиктоники», возведенные по всему миру, где заключенным предстояло пройти ряд нейронных циклов исправления, и если в итоге система признавала их неспособными к возвращению в мир, то их личность стиралась до первичных базисов. После этого преступник становился практически живой машиной, которая начинала свою жизнь с нуля. Именно таких заключенных и начали использовать в качестве доноров. Использовать незаконно, но богачи готовы были платить целое состояние за здоровое тело, поэтому процедура действовала и развивалась. Стоявшие у власти технократы предпочитали закрывать глаза на правонарушения, совершенствуя системы коррекции, а не ужесточая внутренние проверки и требования к охране. Тактика была выбрана верная, потому что вскоре количество доноров в коррекционных тюрьмах снизилось втрое, а затем и вовсе сошло на нет. Так что теперь оставались лишь донорские тела бедняков да синергиков.
Юмико – сознание девочки в теле взрослой женщины по имени Кейко.
Кейко была технологическим нигилистом, приговоренным к коррекции сознания в «Тиктонике». А Юмико… С Юмико все было сложно. Ряд случайностей привел ее к тек-инженеру Ючи и его бывшей девушке, ныне синергику с сознанием человека – Файлин. Именно Файлин сделала Юмико первую нейронную татуировку памяти, потому что девочка пожелала, имея тело взрослой женщины, иметь соответствующий разум. Потом в ее тело Файлин интегрировала нейронный модуль судьбы, способный превратить полученную информацию в математические формулы. Такие же нейронные татуировки были интегрированы и тек-инженеру Ючи, но внутри него не было пойманного в ловушку сознания бывшего хозяина этого донорского тела.
Кейко. Ее сознание было в клетке. Система коррекции не извлекала сознания заключенных, а нарушала связи, обрезала воспоминания… Кейко стала первой, кто смог заявить о себе, достучаться до нового хозяина своего тела. Нет, она не могла общаться с Юмико напрямую. Их диалог превратился в непостижимую череду формул жизни и событий. Причины и следствия.
Сознание ребенка было пластичным и пытливым, открытым новому, неузнанному. А сознание Кейко помогало Юмико анализировать, оценивать. Их союз превратился в идеальный процессор. Нейронный модуль памяти запихивал в мозг всю информацию, которую могла собрать Юмико, модуль судьбы помогал провести анализ, упорядочить информацию и вывести необходимые формулы. Файлин была горда проделанной работой – интеграцией нейронных татуировок в тело Кейко. Впрочем, это не было самым сложным из того, что она делала. Особенно когда приходили якудзы клана Тэкия. Вот их нейронные модули были по-настоящему громоздкими и невозможно сложными для интеграции. Если бы не тело синергика, которое было твердым и спокойным, как камень, то ошибки при интеграции жидких чипов были бы неизбежны. Но Файлин-синергик не совершила за долгие годы ни одной ошибки. Ее работа стала эталоном для мастеров нейронной татуировки. Как работа Ючи уже была эталоном для токийских тек-инженеров. Да и клан якудза, клан Тэкия, был практически образцовым кланом. И теперь в образец, эталон превращалась Юмико.
Ее сознание работало как машина, анализируя настоящее, выводя формулы будущего. Причины и следствие. Ючи, пользуясь нейронными модулями памяти и судьбы, тоже мог предвидеть простейшие варианты, но Юмико шла дальше. Она сканировала мир – сотни нейронных новостных и информативных программ заполняли ее мозг. Десятки тысяч событий, миллионы судеб и бесконечная череда случайностей, которые уже произошли и которым еще предстоит случиться.
Одной из таких случайностей была судьба Шайори и Семъязы – пары, спасшей Юмико после смерти ее отца. Странной пары – якудза, прошедший коррекцию в «Тиктонике», и дочь главы клана Гокудо, отправившего убийц, чтобы забрать жизнь Семъязы и вернуть Шайори в клан, где ей предстоит понести наказание – смерть. Отец уже отсек дочери кисти рук за проступки. Теперь у нее были установлены имплантаты вместо рук. Настал черед головы. Она опозорила клан. И отправленные за ней якудзы четвертого уровня глубины бусидо не остановятся.
Они уже устроили историческую резню в реабилитационном центре «Тиктоники», пытаясь добраться до Семъязы и Шайори. Это событие взбудоражило народ. Грань была пройдена. Начальник тюрьмы застрелил одного из убийц, использовав запрещенные интеллектуальные пули. Наномеч не смог спасти молодого якудзу. Но второй убийца вырезал почти всю охрану «Тиктоники». Реабилитационный центр был усыпан разрубленными телами силовиков, залит кровью и содержимым вспоротых кишечников. Стоявшие у власти демократические технократы негодовали. Тоталитаристы заокеанских и северных стран подливали масла в огонь, приводя в пример устройство своих стран, подчеркивая защищенность жителей и надежность правоохранительных систем.
– Незначительное ограничение прав и свобод ради защищенности будущего и настоящего допустимо, – говорили они, и впервые токийские демократические технократы были готовы согласиться с ними.
О том, что резня в «Тиктонике» унесла жизнь дочери доктора Накамуры, никто не вспоминал. Комиссия извлекла из тела Юмико, ее настоящего детского тела, интеллектуальные пули начальника тюрьмы Рафа Вэдимаса, но предпочла замолчать, проигнорировать этот факт. К тому же кроме ребенка в реабилитационном центре погибла еще не одна дюжина силовиков, у которых были свои семьи и свои дети, оставшиеся без отцов.
Тоталитарные корпократы заокеанских стран предлагали долгосрочные кредиты для строительства фабрик по производству новой модели боевых синергиков, которые заменят силовиков. Тоталитарные технократы Севера предлагали ужесточить систему контроля и пересмотреть устройство гуманитарного образования, способного привить мышлению подростков необходимые для стабильного развития общества ценности, одобренные голосованием. Но больше всех в этом политическом хаосе досталось кланам якудза.
Казалось, весь мир сжался, навис над Большой тройкой. Особенно после того, как посланный главой клана Гокудо убийца, покинув «Тиктонику», вернулся в Токио. Его звали Макото. Он вышел из-под контроля и начал вырезать всех, кто вставал у него на пути, – силовиков, мирных жителей. Клан Гокудо пытался отречься от него, но процесс упразднения кланов был уже запущен. Иностранные тоталитаристы давно пытались избавиться от кланов, стоявших между ними и правительством демократов. Теперь у них появилась такая возможность. Ради этого они были готовы объединиться.
Тоталитарные технократы и корпократы. Представителя Севера звали Яков Юст. Заокеанские страны представлял Марк Ван Паттен. У Юста и Ван Паттена были свои истории и своя судьба. Были у них и общие друзья. Одного из них звали Ацуто Комано – ведущий токийский политик. Он состоял в партии радикальных тоталитарных технократов, но никогда не отрицал, что видит будущее Японии и в тоталитарном корпократизме. Именно поэтому на него и вышел Марк Ван Паттен, обещая неограниченные инвестиции в борьбе с устаревшей моделью демократической технократии страны.
Жену Ван Паттена звали Джулия, и многие видели закономерность в том, что она стала любовницей Ацуто Комано. Отчасти эти домыслы были верными, отчасти нет. В действительности Джулия Ван Паттен давно не жила с мужем. Вернее, жила, но их брак был исключительно показным. И дело было вовсе не в правилах тоталитарной корпократии заокеанских стран. Дело было в том, что Джулия считала, чувствовала, замечала, что с ее мужем что-то не так.
Перемены появились не сразу. Сначала был успех, блистательная карьера, предрешенная, когда Марк был еще мальчишкой. Он шел по стопам своих родителей – богатых, влиятельных жителей Олимпа заокеанского мира. Такой же была и Джулия, вот только амбиции ее были другими. Она просто хотела жить, растить детей и любить своего мужа. Когда она познакомилась с Марком, то он показался ей именно тем человеком, с которым она должна связать свою жизнь, – надежный, заботливый, способный не вмешивать ее в свою политическую жизнь, позволяя уделять все свободное время детям, отдыху и личным интересам. Так почти все и было вначале, если не считать отсутствия детей, но Джулия нашла себя в обустройстве дома.
Она и сама не заметила, как следом за домом начала интересоваться внешним обликом своего мужа, получая удовольствие в выборе для него костюмов и в создании имиджа успешного политика. Но чтобы учесть все тонкости костюма и облика, нужно было изучить политическую обстановку. Так Джулия стала интересоваться всем, что связано с деятельностью ее мужа, изучать его друзей, врагов. Политика увлекла ее и затянула в свою бездонную нору. Потом Марк Ван Паттен получил повышение и они перебрались в Токио.
Появились новые связи и новые интересы. Марк интегрировал идеи заокеанской тоталитарной корпократии в политических кругах Токио. Друзья говорили, что он может добиться успеха даже в аду, когда попадет туда после смерти. Токийские политики доверяли ему и готовы были идти на контакт. Но потом Марк заболел.
Джулия не знала деталей, но их убедили, что он должен тайно вернуться для лечения, чтобы токийские политики, с которыми он тесно работал, не узнали о его болезни. Джулии, по решению заокеанских кураторов ее мужа, надлежало остаться в Токио. Лечение продолжалось почти месяц. Лечение, о котором Джулия ничего не знала. Потом Марк вернулся здоровым и свежим. Вернулся другим. Джулия почувствовала это с первого взгляда.
Новый Марк обладал всеми воспоминаниями прежнего Марка, но вот его внутренний мир… Его словно и не было. Словно это была просто машина… Стоило Джулии подумать об этом, и она уже не смогла избавиться от этих мыслей. Марк умирал – настоящий Марк. Он не мог излечиться чудесным образом. И пусть ее уверяли, что наука нашла лечение, Джулия не верила. Так не бывает. К тому же человек, который стоял одной ногой в могиле, не может вернуться и вести себя так, словно ничего страшного не случилось. Не было и радости.
Как-то раз Джулия попала в аварию. Погибло девять человек. Уцелело трое. Одной из них была Джулия. Так вот тогда в глазах людей было сопереживание погибшим и радость, что эта участь не постигла их самих. Жизнь буквально светилась у них в глазах. И это после того, как они лишь на мгновение заглянули в глаза смерти. Марк же смотрел в глаза смерти уже давно. Джулия знала, что он не говорил ей, но был осведомлен о своем заболевании. Он готовился к смерти, примирял себя с неизбежностью. Но его спасли. Но где же этот всеозаряющий свет жизни? Где радость? Хорошо, пусть будет не радость, но хотя бы облегчение. Груз смерти сброшен с плеч. Война с тьмой выиграна. Неизбежность отсрочена. Марк обязан чувствовать хоть что-то, но вместо этого он возвращается и продолжает свою политическую деятельность – такой спокойный, такой невозмутимый. И не с кем поговорить о случившемся. Джулия одна в чужой стране. Покажите хоть одного кандидата в друзья! Джулия решила выбрать того, кто был рядом. Того, кто проявлял к ней интерес.
Им стал политик токийской партии тоталитарных технократов Ацуто Комано, который к тому времени уже готовился к публичной смене приоритетов. Из технократа он почти превратился в радикала, поддерживающего политику заокеанских корпократов. И еще – Ацуто Комано скрывал это, но Джулия почти была уверена – он давно положил на нее глаз. Она не собиралась раскрывать ему тайну своего супруга. Ей просто нужен был друг. Сначала друг, потом Джулия и сама не заметила, как стала любовницей Комано. Это было ее последней попыткой достучаться до нового Марка, но он, проанализировав ситуацию, решил, что эта связь пойдет только на пользу его союзу с токийским политиком. Единственным условием было лишь поддержание иллюзии внешнего благополучия, сохранение отношений и брака на публике.
Джулия была готова поверить в то, что у Марка за океаном появилась любовница, – это было лучше, чем понимать, что ее мужа заменили синергиком. Но поиски и сбор информации, организованные Джулией, привели ее к закрытому для общественности проекту на островах Океании, где пытались построить первое в истории общество синергиков.
Говорили, что глава этого проекта, Скип Бентли, не был человеком. Говорили, что настоящий Бентли умер много лет назад, но его заслуги стали причиной создания копии, которая будет стимулировать молодежь к образованию и новым достижениям. Но все это было на грани шутки, анекдота. Хотя Джулии хватило и подобных шуток. Ее Марк умер, и его заменили синергиком. Наверное, именно поэтому она и решила остаться в Токио.
Мир, где она родилась, стал чужим и враждебным. Этот мир предал ее точно так же, как Ацуто Комано, приходя к ней, предавал свою семью. Но Ацуто Комано любил ее. Джулия не сомневалась в этом ни до аварии, в которую они попали с Комано, ни после, когда он не позволил ей умереть, переселив сознание в донорское тело. Так Мак Ван Паттен официально стал вдовцом, а сама Джулия окончательно утратила связь с заокеанским миром. Остались лишь Ацуто Комано да это новое тело азиатки, к которому Джулия так и не смогла привыкнуть.
Она устала, она хотела умереть. Смелости не хватило, чтобы сделать это сразу, поэтому Джулия убивала себя постепенно, отравляя тело донора. Ацуто Комано так и не понял, что это было желание самой Джулии. Да под конец ему и не было до этого уже дела. Он словно тоже почувствовал, что с Марком Ван Паттеном что-то не так, и отвернулся от заокеанских корпократов, устремив свой взгляд в сторону представителей Севера. Они предлагали новые планы финансирования, новые цели и новые «сувениры».
Незадолго до конца Джулия видела женщину, занявшую ее место рядом с токийским политиком. Ее звали Ксения, и на ее животе сверкала непристойностью татуировка скрипичного ключа. И никаких нейронных модулей. Всего лишь тушь и фантазия мастера, создавшего этот рисунок, – такой была аскетичная философия Севера, который, впрочем, никогда не признавался в скупости воображения, списывая это на глубину традиций. Видела Джулия и представителя этих стран Якова Юста. Он был таким же узколобым и аскетичным, как татуировка Ксении.
Юст называл себя политическим эмигрантом и гордился своими чернильными татуировками, заявляя, что каждая из них напоминает ему о коррекционных тюрьмах Севера, в которых он побывал.
– Я видел ад, и он не сломал меня, – говорил Юст. – Ад закалил меня, сделал крепче. Теперь я здесь. Я хочу научить вас, как стать сильнее.
В действительности Юста сломали еще в первой коррекционной тюрьме Севера. Все остальные были необходимы, чтобы довести его личность до нужного результата, исправить недочеты и добавить новые наработки. Его татуировки – и те были частью этого образа. Нет, сам Юст не знал об этом, не был поставлен в известность – Север вообще никогда не ставит в известность шестерни своей системы. Его жители – это лишь механизмы, благодаря которым двигается машина тоталитарной технократии с «отцом-основателем» во главе и щупальцами этого «отца» в регионах.
Юст никогда не встречался с «отцом-основателем», но вот с его щупальцами, с «меньшими отцами» виделся довольно часто. Большинство из них были запрограммированной с рождения частью системы. А те, кто пытался высказывать свои собственные взгляды, признавались подстрекателями или просто неэффективными управленцами. «Маленькие отцы» менялись достаточно часто. Даже самые преданные из них. Проще было признать неисправность единичной шестерни, чем системы в целом. К тому же признавать это должен был «отец-основатель» – неизменный и непогрешимый, центр Вселенной Севера, магнит, который притягивает к себе все, что есть вокруг, и если остановить этот процесс, то жизнь, кажется, остановится вместе с ним, прекратится, потеряв главную движущую силу.
«Отец-основатель» не был человеком. Он был образом, идеей, движущей силой. И пусть каждая шестеренка системы вращается где-то далеко от центра, если остановится двигатель «отца-основателя», то остановится весь этот северный левиафан. Колени его подогнутся, и он рухнет. Тогда придут другие. Они разберут левиафана на части, присвоят себе его достижения, а запчасти отправят в утиль, потому что у каждой системы свои шестерни.
Яков Юст верил в вечность левиафана и фатализм его природы. Верил в мощь построенной севером системы. И верил в то, что заокеанские страны никогда не сживутся с северным левиафаном. Они поразят его и разорвут на части, чтобы укрепить свои слабые позиции. И другой судьбы нет. Левиафан исключителен, и его слабость станет его концом. Поэтому Яков Юст хотел укреплять и преумножать силу левиафана.
Сам Яков Юст родился в семье «отца-щупальца», и имя его было совсем другим. Родители Юста индексировались в системе, как «2-А-1-Б-12» и «2-А-4-Г-34», что считалось достойным и почетным в обществе левиафана Севера. Сам Юст индексировался как «2-А-4-Г-34-31343». Родители называли сына «3», в школе его идентификацией было «343», а система определяла его как смешанную комбинацию идентификационных номеров матери и отца, а также очередности его рождения в семье.
Юст был третьим и последним ребенком. Огромную роль в его жизни сыграло то, что мать стояла в политической системе выше отца. Она и дома вела себя так, словно была выше отца по статусу. Для Севера в этом не было ничего странного, но вот когда Юст попадет в Токио, привычка к матриархату будет ему только мешать. Но эта привычка не будет просчетом коррекции. Ее сохранят Юсту осознанно, подчеркивая его индивидуальность и принадлежность к Северу. Тем более что на политические взгляды это не особенно влияло. Так же, как данное имя. Яков Юст. Оставить идентификационный набор цифр и букв выглядело нецелесообразным, особенно учитывая легенду Юста, согласно которой он был политическим ренегатом в своей стране. Нет, пусть будет что-то доступное, что-то из забытого и переваренного левиафаном собственного прошлого. Эту же роль должны были играть тюремные татуировки, давая созданным коррекцией ренегатам ощущение противостояния системе и возвращения к истокам, к корням. Так что каждый ренегат, по сути, был большим патриотом и контролируемым механизмом, чем обычный человек-шестеренка этого левиафана.
– Рыба гниет с головы, – часто говорил Юст. Но тут же добавлял: – Сила в единстве. Представьте, если части вашего тела восстанут против вас. Руки начнут хватать за горло кого захотят. Ноги понесут тело куда им вздумается, глаза начнут смотреть на что пожелают… Это будет коллапс личности. Так же и со страной. Человек должен быть личностью, но обязан служить интересам отечества, быть готовым принести себя в жертву ради существования и стабильной работы системы…
Многих из таких, как Яков Юст, оставляли на Севере, позволяя жить рядом с обычными людьми-шестеренками, проверяя на прочность их взгляды и преданность. Других отправляли к врагу левиафана. К врагам. Потому что врагами были все, кто не был частью его системы. Так Яков Юст попал в Токио. Так впоследствии к нему отправили двух девушек, выбранных в качестве ренегатов, – Диту и Ксению. Конечно, коррекция заставляла их верить, что Юст спасает их из лап системы. Даже Юст верил в это. Но в действительности все было под контролем. Все делали то, что было запланировано. И что самое забавное, все это понимали, включая зарубежных политиков. Но никто не оспаривал это прикрытие, предпочитая притворяться и получать колоссальные денежные вливания, чем разоблачить обман и лишиться спонсоров.
Одним из таких политиков был Ацуто Комано. Сначала он использовал Марка Ван Паттена – денежный мешок заокеанских тоталитарно-корпократических стран, затем начал использовать Якова Юста – еще более щедрый денежный мешок тоталитарной технократии Севера. «Главное – не увязнуть. Главное – вовремя соскочить с крючка», – так думал не только Ацуто Комано, но и практически каждый, кто связывался с этими иностранными спонсорами…
– Но мы уже все на крючке, – говорит Юмико, чья способность анализировать прошлое позволяет выводить формулы вероятностей будущего.
Она говорит это еще до того, как общество восстает против кланов Большой тройки. Еще до того, как свихнется убийца из клана Гокудо, посланный за дочерью главы его клана и бывшим якудзой из клана Тэкия.
– Макото найдет Шайори и Семъязу, – говорит Юмико, предвидя будущее свихнувшегося убийцы. – Клан Гокудо отрекся от него, но их сингиин сообщает Макото, где скрываются Семъяза и Шайори. Никто не может остановить Макото. Никто, кроме самого Макото. Сингиин клана Гокудо надеется, что Макото остановится, когда завершит свою миссию… – Юмико берет приютившего ее тек-инженера по имени Ючи за руку. – Ты ведь не позволишь Макото добраться до Шайори и Семъязы? Это может причинить мне боль. Это может изменить наше общество, став крошечным камнем, брошенным в центр огромного озера и рождающим множество кругов.
Тек-инженер Ючи обещает, что сделает все возможное. Он не может отказать Юмико не потому, что она ребенок, а потому, что он и сам обязан Семъязе. Бывший якудза когда-то спас его. Теперь настало время вернуть долг. Ючи не знает, но в этот самый момент Макото сражается с боевым синергиками, тайно ввезенными в Токио представителями заокеанских корпократических стран.
– Кланы – это единственное, что сейчас сдерживает интервенцию заокеанских и северных стран, – говорит Юмико, но Ючи и сам знает это.
Токио уже тонет в иностранных инвестициях. Политики сплошь коррумпированы. Страну делают единой традиции, но истинные традиции давно подменены ложными.
Ючи выходит из дома, оставляя девочку-предсказательницу со своей бывшей девушкой в теле синергика по имени Файлин. Где-то далеко Макото разрубает на части боевых синергиков, пополняя список своих жертв. Хотя можно ли считать жертвами тех, кто не является живым? Или же синергики уже давно часть этого мира?
Макото активирует нейронную татуировку маскировки, садится в автобус и едет на Север. Люди вокруг видят в нем дряхлую старуху, опирающуюся на трость, за которую они принимают наномеч якудзы. Макото ранен. Боевые синергики оказались достойными противниками. Их разработали специально для борьбы с кланами. Они обучены искусству бусидо и пользуются наномечами, в которые превращены их руки. Именно руки и выдали синергиков.
Макото заметил черные перчатки, заметил неестественную неподвижность пальцев. Они держались в толпе и долго просто шли следом за якудзой, оценивая, выбирая удобный момент. Макото не знал тонкостей, но интеграция нейронных модулей в тела синергиков была невозможна. Это требовало новых алгоритмов и разработок, чтобы связать модули с биоэлектронным мозгом машины. Если бы эта проблема была решена, то Макото не смог бы пережить ту схватку. Но так у него было преимущество.
Какое-то время Макото держался в толпе, понимая, что боевые синергики не станут нападать на него днем. Но и сбежать от них он не мог, не мог активировать нейронную татуировку невидимости или маскировки, потому что биоэлектронный мозг синергиков был невосприимчив к этому оптическому обману. Так что оставался только бой. Макото не боялся. Его не страшила смерть. В последнее время он сам стал смертью, призраком.
Время от времени Макото выходил на связь с кланом Гокудо. Он делал это, потому что так его учили. Клан перестал отвечать после того, как Макото обезглавил пару борекуданов, которые передавали ему новый приказ оябуна вернуться в клан. Они говорили о позоре, о провале. Макото слушал их какое-то время, затем обнажил наномеч и накормил своего прирученного хищника. После этого на связь с ним долгое время никто не выходил. Но потом появился еще один агент, чтобы сообщить, где Макото сможет найти дочь оябуна. Макото выслушал его, затем вспомнил о том, как предыдущие связные говорили ему о позоре, и свернул агенту шею. Дальше были несколько силовиков, принявших его за кого-то другого. Их привлекла татуировка в виде иероглифа «токи», которую Макото сделал на своем лице, когда только позволил этой погоне подчинить себя. Он предложил силовикам убраться прочь, но они попытались его задержать. Наномеч изогнулся, отразив выпущенные в якудзу пули, а затем этот же меч, этот хищник, отсек силовикам сначала руки, а затем вспорол животы. Макото знал, что они не выживут, но когда он уходил, они еще корчились в подворотне и просили о помощи. Где-то между делом он расчленил нескольких синергиков, но даже наномеч – и тот отнесся к этому убийству с презрением. Теперь Макото снова преследовали синергики, но на этот раз стычка с ними обещала стать достойной.
Макото шел в толпе, выбирая место для предстоящего боя. Окружавшие его люди не имели значения. Макото свернул в узкую подворотню, решив, что там будет проще сразиться с этой странной троицей. Они не смогут наброситься на него все сразу. Макото остановился и обнажил наномеч.
Боевые синергики замерли, оценивая обстановку. Установленные программы не позволяли им причинять вред мирным жителям. Эта миссия должна стать идеальной демонстрацией новой волны синергиков. Макото замер, показывая, что готовится обороняться, и неожиданно атаковал.
Голова первого боевого синергика слетела с плеч и покатилась за спину Макото. Руки обезглавленного ожили, превратились в наномеч и атаковали якудзу. Связь со зрительным модулем синергика была нарушена, но он все еще мог анализировать. Макото отразил два слепых удара. Синергик читал его тактику, двигался в соответствии с правилами ведения боя. Макото понял это уже на третьем ударе. Синергик сделал еще пару смертельных выпадов, но противник и не думал отступать. Макото шагнул вперед, проскальзывая между рук-мечей, и пронзил синергику грудь, вспоров биоэлектронный мозг. Машина дернулась и замерла. Для верности Макото отсек ей ноги и тут же с трудом увернулся от атаки следующего синергика, который, предвидя, что его удары не достигнут цели, решил зайти якудзе за спину.
Макото попытался не позволить ему сделать это, но вынужден был отражать атаку третьего синергика. Они взяли его в клещи и начали сдавливать, действуя как единый механизм. Их сознания действительно были объединены в адаптированную к потерям систему. Макото активировал нейронную татуировку ловкости, переведя ее в режим перегрузки. На несколько секунд это дало ему преимущество в скорости, позволило отразить смертельную атаку и отсечь одному из синергиков обе руки.
Машина изменила тактику и ударила Макото ногой в грудь. Удар отбросил якудзу к стене. Он ударился спиной и с трудом отразил атаку второго синергика. Машины перегруппировались. Обрубки рук одного из них сформировались в шипы. Макото пытался отдышаться после пропущенного удара. Несколько ребер были сломаны, и ему пришлось сломать себе один из зубов, где содержался запас наностимуляторов, способных ускорить регенерацию. Этого синергики не заметили, оценивая повреждения противника. Для них Макото был серьезно ранен. Вернее, не для них, а для тек-инженеров, которые создавали алгоритмы для биоэлектронного мозга этих машин.
Они работали в спешке, готовя отправить боевых синергиков в Токио, и не могли учесть всех тонкостей бусидо и силы духа. Политическая обстановка менялась слишком быстро для наработок и проверок. Но кому до этого было дело сейчас – здесь, в узкой подворотне? Если бы не сломанные ребра, то Макото бы снова атаковал противников первым, но так ему на руку была эта пауза. Главное – не прижиматься к стене. Главное…
Боевые синергики начали атаку, когда наностимуляторы еще продолжали восстанавливать повреждения Макото, отнимая почти всю накопленную в теле энергию, поэтому якудза не мог активировать нейронный модуль ловкости. Он отразил два удара первого синергика и нырнул в сторону. Мгновение передышки. Новая атака. Два удара здорового синергика и неожиданная яростная атака синергика, которому Макото отрубил руки. Машина явно сошла с ума, думал якудза, кромсая его тело, но затем… он понял, что синергик жертвовал собой как ущербным, чтобы второй смог выбрать момент и нанести смертельный удар.
Макото вычислил это за мгновение до того, как превратившиеся в наномечи руки боевого синергика рассекли его тело. Этого мгновения хватило, чтобы спастись, но не чтобы избежать ранения. Наносталь разрезала правое плечо, перерубив мышцы и кости, и если бы Макото не нырнул вниз, то быть ему разрубленным надвое. Боль обожгла сознание, вспыхнула адским пламенем. Но боль была тем, с чем якудза готов был встретиться. Его правая рука выпустила наномеч и плетью повисла вдоль тела. Макото перехватил меч в левую руку и отсек боевому синергику ноги. Машина упала на спину, и якудза вонзил ему меч в грудь, уничтожая биоэлектронный мозг. Сражение было выиграно.
Макото попытался подняться, но смог это сделать, лишь опираясь на убранный в ножны наномеч, как старики опираются на трость. Ранение было серьезным. Оставшиеся в его организме наностимуляторы остановили кровь, но не могли залечить разрубленные кости и мышцы. К тому же они отняли слишком много жизненных сил. Нужна была передышка, отдых. Но цели не могли ждать. Поэтому Макото активировал нейронную татуировку маскировки и забрался в автобус, отправившись на Север, надеясь, что ему хватит времени, чтобы набраться сил. Сейчас его могла бы задержать группа хорошо подготовленных силовиков, но об этом ранении никто не знал.
Макото спал и видел смерть. Не свою смерть, нет. Он сам умер уже давно. Умер для себя. Он видел смерть Семъязы и Шайори. Только это имело значение. Кто-то подсел рядом и предложил воды. Макото не отказался. Его лихорадило, а мысли в голове путались так сильно, что все лица людей вокруг превращались в серые глиняные маски. Якудза не был уверен, сможет ли узнать среди этого однообразия Семъязу и Шайори. Его надеждой была лишь активация нейронной татуировки поиска. Если эта парочка окажется достаточно близко, то он сможет увидеть их. Увидеть не глазами, но этого будет достаточно. А пока нужно спать, набираться сил и ни о чем не думать, потому что цель близка. Последняя цель.
Макото активирует нейронную татуировку маскировки и просит водителя, притворяясь дряхлой старухой, разбудить его, когда они доберутся в Ситинохе. Автобус с полными баками жидкого охлажденного воздуха двигается неспешно. Пять часов – это достаточный период, чтобы пополнить запас жизненных сил. Макото позволяет себе отключиться. Снов нет, лишь осознание тьмы – абсолютной, вездесущей. Универсальный модуль идентификации социального статуса позволяет якудзе проходить автоматизированные пункты досмотра.
Макото не знает, но именно в этот момент Ючи и сингиин клана Тэкия связываются с кланом Гокудо, чтобы спасти Семъязу и Шайори. Отец девушки не идет на контакт. История о Юмико, о девочке, которая предвидит будущее, звучит неубедительно. Кланы в состоянии войны, и ничто не может изменить этого. Особенно ребенок, решивший, что способен разгадать формулу жизни. Если бы у Ючи было время, то он смог бы собрать целую группу людей, как Юмико. Возможно, тогда они смогли бы предсказывать вариации будущего более точно. Возможно, тогда они смогли бы изменить весь этот мир. Но на это нужно время. Время и деньги. И если проблему финансирования еще можно решить, то времени уже нет. Как остановить неизбежность? Как наступить будущему на хвост?
Ючи возвращается в лабораторию. Если для будущего настолько важно спасти Семъязу и Шайори, хотя бы предупредить их, то еще есть шанс. Ючи планирует извлечь свое сознание и отправить его в общественную нейронную сеть. Это убьет его, но он надеется, что успеет найти и предупредить Семъязу прежде, чем распадется сознание.
– Не нужно этого делать, – говорит Юмико – девочка, читающая будущее. – Ты уже спас Семъязу. Твой визит в клан Гокудо спас. Сейчас мать Шайори, чтобы спасти дочь, связывается с представителями тоталитарных корпократов, которые уже выходили на нее, деактивировав ей нейронный модуль счастья, заставлявший смиренно принимать судьбу и решения клана. Спустя четверть часа заокеанский политик Марк Ван Паттен встретится с представителем Севера Яковом Юстом и заключит договор о перемирии. Это позволит им собрать большинство голосов купленных политиков, чтобы провести на голосовании проект по вводу в страну нейтральных сил, представленных боевыми синергиками, для подавления деятельности кланов. Это случится после того, как группа боевых синергиков корпократов проведет показное задержание Макото, доказав невсесильность якудзы. Боевые синергики будут подчиняться токийскому правительству, но без влияния независимых кланов коррумпированная, продавшаяся Северу и заокеанским странам власть продержится не больше пары лет. Демократическая технократия прекратит существование, и страну начнут разрывать на части тоталитарные режимы технологической корпократии…
Юмико еще что-то говорит, но Ючи уже не слушает ее. Он выходит на балкон и смотрит, как внизу суетится и извивается змей-город. Прежний город. Старый город, которому только предстоит вдохнуть ветер перемен. Ветер будущего. Но будущее всегда может измениться. Будущее – это формула, где слишком много переменных. И, узнавая одну, мы тут же видим, как меняется другая и тянет за собой перемены третьей, так что ответ в этом уравнении и есть самая главная переменная, учесть которую невозможно. По крайней мере в это хочет верить Ючи. Впервые в жизни хочет верить, чтобы не чувствовать себя таким беспомощным перед лицом грядущего. Таким жалким и ничтожным, неспособным что-либо исправить.
– Но Семъяза и Шайори выживут, – говорит Юмико, выходя следом за ним на балкон. – И еще многие другие, которых мы любим и которые любят нас.
– Ты говоришь это, чтобы меня успокоить? – спрашивает Ючи.
– А это тебя успокоит?
– Ты видишь будущее, но не можешь предсказать мою реакцию?
– Могу, но ты ведь не захочешь знать. – Юмико улыбается и напоминает Ючи о всех тех планах, которые были у него с утра. – Жизнь ведь не заканчивается, – говорит она. – Жизнь просто становится другой. Мы делаем ее другой. Мы все…
сентябрь – октябрь 2013


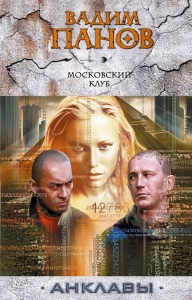

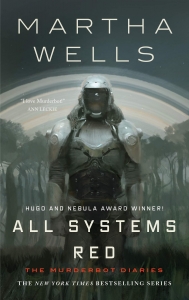


Комментарии к книге «Техно-Корп. Свободный Токио», Виталий Николаевич Вавикин
Всего 0 комментариев