Уильям Гибсон ЗИМНИЙ РЫНОК
Здесь слишком много дождя. Зимой бывают дни, когда за размытой серой мутью совсем не видно света. Но бывают и такие, когда кажется, что кто-то отдёргивает вдруг штору, минуты на три ослепляя сиянием залитых солнцем и будто парящих в воздухе гор, эдаким логотипом перед началом снятого Господом Богом фильма. Вот в такой день мне и позвонили её агенты. Из глубин зеркальной пирамиды на бульваре Беверли мне сообщили, что её уже нет, что она уже в сети и что «Короли сна» скоро станут уже трижды платиновыми. Я редактировал бόльшую часть «Королей», делал всю работу по брэйн-карте, не говоря уж о записи и монтаже — так что и мне причитались кое-какие авторские.
«Нет, — сказал я, — Нет». Потом: «Да, да». И повесил трубку. Куртка в руке, проносящаяся под ногами лестница, ближайший бар и восьмичасовая отключка, что закончилась на бетонном уступе, в паре метров над полночной водой залива Фолс Крик. Городские огни, та же серая чаша неба, только ставшая пониже и подсвеченная теперь неоновыми и ртутными лампами. И снег, крупные редкие снежинки, исчезавшие без следа едва коснувшись чёрной воды. Я смотрел вниз, на носки туфель, что выступали за край бетона, на воду между ними. Туфли были японскими, новыми и дорогими, из Гинзы. Тонкая перчаточная кожа, резиновые носы. Я долго стоял там, прежде чем сделать первый шаг назад.
Потому что она мертва, и это я дал ей уйти.
Потому что теперь она бессмертна, и помог ей в этом тоже я.
И потому что знал: она обязательно мне позвонит. Утром.
Мой отец был инженером звукозаписи, занимался мастерингом и застал ещё доцифровые времена. Те технологии, что они использовали, были ещё большей частью механическими — это неуклюжее квази-викторианство вообще было свойственно технологиям двадцатого века. Можно сказать, он был просто токарем: превращал звуки в дорожки на покрытом лаком диске. Потом с помощью гальванопластики делались пресс-формы, которыми и штамповали записи — те круглые чёрные штуки, что можно увидеть в антикварных магазинах. И я помню, как за несколько месяцев до смерти он рассказывал мне, что резкие скачки частоты — вроде бы так он это называл — могли запросто пережечь головку. Ну, ту, что делала дорожки. Эти головки стоили кучу денег, поэтому для их защиты применяли нечто под названием «акселерометр». Вот об этом я и думал, стоя там, над водой: «головка… пережгли…»
Именно это с ней и случилось.
И именно этого она хотела сама.
Не нашлось акселерометра для Лайзы.
По дороге к кровати я отключил телефон. Рабочим концом немецкого студийного штатива — ремонт обойдётся в недельную зарплату... Потом проснулся, взял такси и отправился обратно к Рубину, на Грэнвил Айлэнд.
Рубин каким-то непонятным образом воспринимается как повелитель, учитель — японцы называют таких «сэнсей». Хотя… Если чем он и повелевает — так это хламом, барахлом, мусором, тем морем отбросов, в котором плавает наш век. «Гόми-но сэнсей». Повелитель мусора.
На этот раз я нашёл его присевшим между двумя зловещего вида ударными установками — раньше я их у него не видел. Ржавые паучьи лапы выгибались из скоплений помятых стальных барабанов, выловленных на свалках Ричмонда. Он никогда не называет это место студией, да и вообще не считает себя художником. «Просто дурака валяю» — так Рубин определяет то, чем здесь занимается и, похоже, смотрит на это, как на продолжение скучной мальчишеской возни на каком-нибудь заднем дворе. Его захламлённый, заваленный чем попало мини-ангар примостился на краю Рынка, и Рубин бродит по нему в сопровождении самых умных и шустрых из своих созданий, бродит как добродушный Сатана, погружённый в разработку ещё более странных процессов для своего персонального мусорного ада. Как-то раз он научил свои конструкции распознавать и материть посетителей в одежде от самых модных дизайнеров сезона, другие его творения предназначались для ещё менее понятных целей, а некоторые, казалось, вообще были созданы исключительно для саморазрушения с максимально возможным шумом. Рубин — он как ребёнок, но в то же время его работы стоят бешеных денег в галереях Токио и Парижа.
Я рассказал ему о Лайзе. Он дал мне выговориться, затем кивнул:
— Знаю. Какой-то урод из Си-Би-Си звонил мне уже раз восемь, — он отхлебнул из помятой кружки. — «Дикой индейки» хочешь?
— А тебе почему звонили?
— Потому что моё имя на обложке «Королей сна». Ну, там где «Посвящяется…»
— Я ещё не видел альбом.
— Так она тебе пока не звонила?
— Нет.
— Позвонит.
— Рубин, она умерла. Её уже даже кремировали.
— Да знаю я… Но она ж обязательно тебе позвонит.
Гоми… Где заканчивается гоми и начинается собственно мир? Японцам ещё с сотню лет назад стало некуда сваливать гоми вокруг Токио — так они придумали создавать из него жизненное пространство. В 1969-ом построили себе в Токийском заливе маленький островок из гоми и окрестили его «Остров Мечты». Но город продолжал исправно поставлять свои девять тысяч тонн ежедневно, и они построили «Новый Остров Мечты»… А теперь процесс отлажен, из Тихого океана поднимаются всё новые острова. Рубин видит это в новостях, но ничего не говорит.
Ему нечего сказать о гоми. Ведь это его среда обитания. Воздух, которым он дышит. То, в чём он плавает всю свою жизнь. Он мотается по округе в переделанном из древнего аэродромного «Мерседеса» грузовичке, крышу которого закрывает переваливающийся из стороны в сторону полупустой резиновый баллон с природным газом. Он постоянно ищет что-то под те странные чертежи, что небрежно нацарапаны внутри его черепа кем-то, кто работает у него за Музу. И он тащит домой гоми. Иногда гоми оказывается ещё рабочим. А иногда — ещё живым. Как Лайза
Я встретил Лайзу на одной из вечеринок у Рубина. Он часто их устраивает. По Рубину не скажешь, что эти вечеринки доставляют хоть какое-нибудь удовольствие ему лично, но всегда удаются на славу. Я и счёт потерял, сколько раз за ту осень просыпался на куске «пенки» под рёв древнего кофейного автомата, такого потускневшего чудовища с большим хромированным орлом наверху. Этот рев, отражаясь от гофрированной стали стен, становится просто жутким, но одновременно и здорово успокаивает: кофе есть, значит и жизнь, вроде бы, ещё продолжается…
Впервые я увидел её в кухонной зоне. Это вряд ли можно назвать кухней — просто три холодильника, плитка и сломанная конвекторная печь — всё, естественно, притащено со свалок в числе прочего гоми. В общем, впервые я увидел её перед открытым холодильником с пивом. Оттуда падал свет и я разглядел её скулы, решительную линию рта… А ещё чёрный блеск поликарбона на запястье и блестящее пятно там, где экзоскелет натёр кожу. Я был слишком пьян, чтобы понять что это такое, скорей просто почувствовал — что-то тут не то… И поступил точно так же, как обычно поступали с ней все — просто переключился на другое кино. Вместо пива направился за вином, к стойке рядом с печью. Не оборачиваясь.
Но она разыскала меня. Подошла пару часов спустя, лавируя между людьми и горами хлама с той пугающей грацией, что запрограммирована в эти экзоскелеты. По тому, как она двигалась, я уже понял что это, но был слишком смущён, чтобы спрятаться, убежать или пробормотать извинения и смыться. Стоял как пень, обнимая какую-то левую девицу, пока издевательски-грациозно передвигавшаяся (точней, передвигаемая) Лайза не оказалась прямо передо мной. Её глаза чуть ли не светились от «фена», моя девица впала в тихую панику, вывернулась и исчезла, а Лайза застыла, зафиксированная своими тончайшими поликарбоновыми протезами. Глядя в эти глаза казалось, что слышишь её ноющие синапсы, какой-то невыносимо-высокий, ультразвуковой визг, с которым «фен» открывал каждую нейронную цепочку её мозга.
— Пойдём к тебе, — сказала она, и эти слова ударили как кнут. Наверное, я покачал головой. — Ну пойдём...
Там были и боль, и нежность, и удивительная жестокость. Я вдруг понял, что ещё никто и никогда не ненавидел меня так глубоко и отчаянно, как эта маленькая больная девчонка ненавидит меня сейчас, ненавидит за то, как я посмотрел, и как я отвернулся там, у холодильника с пивом.
И тогда я сделал то, что иногда делаешь, совершенно не понимая зачем, просто потому, что кто-то внутри тебя точно знает — по-другому нельзя.
И я повёз её к себе.
У меня две комнаты в старом доме на углу Четвёртой и МакДональд-стрит. Десятый этаж, лифты обычно работают. А если сесть на перила балкона и, держась за угол соседнего дома, откинуться назад, то можно увидеть небольшой вертикальный срез моря и гор.
По дороге от Рубина она не проронила ни слова, а я уже достаточно протрезвел для того, чтобы чувствовать себя очень неуютно, когда отпирал дверь и впускал её к себе.
Первой вещью, которую она увидела, был портативный монтажный пульт, который я прихватил с работы прошлым вечером. Экзоскелет переместил Лайзу по пыльному полу комнаты всё той же походкой манекенщицы на подиуме. Теперь, когда не мешал шум вечеринки, я смог услышать мягкие щелчки, сопровождавшие движение. Она остановилась, слегка наклонившись над пультом, и на её спине под грубой кожей куртки обозначились тонкие поперечные рёбра. Какая-то болезнь. Или одна из тех старых, что толком так и не сосчитали, или из новых, порождённых бардаком с окружающей средой, им и названия-то ещё не всем успели придумать. Она просто не могла двигаться без этого внешнего скелета, подключённого напрямик к мозгу через микроэлектронный интерфейс. Эти хрупкие на вид поликарбоновые стерженьки двигали её руками и ногами, пальцами управляли более точные системы, гальванические вставки. Я некстати подумал о дёргающихся лягушачьих лапках из школьного учебного фильма и сразу стал сам себе противен.
— Это ведь монтажный пульт, — сказала она каким-то новым, будто издалека, голосом, и я решил, что действие «фена» должно быть проходит. — А что он тут делает?
— Я на нём редактирую, — ответил я, закрывая дверь.
— Да ну, — она засмеялась. — Редактируешь. И где?
— На острове. Контора называется «Аутономик Пайлот».
Она повернулась, положила руки на бёдра, дёрнула ими вперёд-назад и её блекло-серые глаза кольнули меня смесью «фена», ненависти и какой-то пародии на страсть:
— Ну что, редактор, как насчёт этого?
И я снова услышал тот приближающийся кнут, но больше не собирался подставляться под удар — хватит и прошлого раза. Так что я упёрся в неё холодным взглядом, идущим откуда-то из пропитанного пивом центра моего ходящего, говорящего, подвижного, обычного тела… Слова вылетели как плевок:
— А ты что-нибудь почувствуешь?
Попал. Может она и моргнула, но на лице это не отразилось.
— Нет. Но иногда мне нравится смотреть.
Через два дня после её смерти в Лос-Анжелесе Рубин стоит у окна и смотрит на падающий в залив снег.
— Так ты её так и не трахнул?
Один из его «тяни-толкайчиков», таких маленьких Эшеровских ящериц на роликах, поджав хвост носится передо мной по столу.
— Нет, — говорю я, и это правда, а дальше мне становится смешно, — Зато мы с ней подключились напрямую. Прямо той ночью.
— Ты и правда чокнутый, — говорит Рубин с заметным одобрением в голосе. — Ты ведь мог себя угробить. Сердце же могло остановиться, или, там, дыхалка… — Он опять поворачивается к окну. — Так она тебе ещё не звонила?
Мы подключились. Напрямую.
Раньше я никогда этого не делал. Если бы спросили почему, то я бы ответил, что работаю редактором, а прямое соединение — это слишком непрофессионально.
Но правда выглядит скорей так… Среди профи — имеется в виду легальный рынок, я никогда не занимался порнухой — черновой материал называют «сухими снами». Это нейрозаписи из тех уровней сознания, что большинству людей доступны только во сне. Но художники, те с кем я работаю в «Аутономик Пайлот», способны преодолеть поверхностное натяжение реальности, нырнуть гораздо глубже, вынырнуть уже в море Юнга и принести оттуда… Ну, назовём это «сны». Сойдёт для простоты. Думаю многие художники, композиторы и тому подобное — так всегда и делали, но нейроэлектроника дала нам возможность прямого доступа к их ощущениям. Так что теперь мы можем это записать, упаковать, продать, проконтролировать продвижение на рынке… Словом, «столько всего изменилось…», как любил говаривать мой отец.
Обычно я получаю черновой материал в студийных условиях, то есть уже профильтрованным кучей всякого специализированного железа ценой в несколько миллионов. Мне даже необязательно видеть самого художника. А то, что мы выдаём конечному потребителю, сами понимаете, уже структурировано, сбалансировано, словом — превращено в искусство. Но до сих пор есть люди, наивно верящие, что можно получить удовольствие, подключившись напрямую с тем, кого любишь. Думаю, большинство подростков это попробовало. Один раз.
В общем, это достаточно просто — на любой электронной барахолке можно купить и «ящик», и троды, и кабели. Но сам я никогда этого не делал. Я и сейчас вряд ли смогу объяснить почему. Да и вряд ли захочу объяснять.
Но я знаю, почему сделал это тогда, с Лайзой. Сел рядом с ней на свой мексиканский футон и воткнул переходник оптоволоконки в разъём на её позвоночнике, в такой гладкий спинной гребень экзоскелета, что поднимался от основания шеи и прятался под её тёмными волосами.
Потому что она назвала себя «художником». Потому что я знал — мы оказались противниками в каком-то тотальном сражении, и не собирался его проигрывать. Возможно, для вас это и бессмысленно, но вы ведь никогда не знали её, или узнали поздней, через «Королей сна», а это совсем не то. Вы ведь никогда не ощущали её голода, скованного сухой необходимостью и уродливого в своей абсолютной целенаправленности. Меня всегда пугали люди, точно знающие чего они хотят — а Лайза слишком давно и слишком точно знала, что ей нужно, и кроме этого она не хотела ничего. В смысле — совсем ничего. А ещё я боялся признаться себе, что боюсь. А ещё я видел достаточно чужих снов, чтобы знать, что большинство чьих-то «доморощенных монстров» оказываются глупыми и смешными в спокойном свете сознательного. А ещё я был пьян.
Так что я нацепил на себя троды и потянулся к панели монтажного пульта. Большинство его студийных возможностей было уже отключено, и восемьдесят тысяч долларов японской электроники временно превратились в подобие того «ящика» с барахолки.
— Ну что, понеслась, — и нажал на кнопку…
Слова. Слова тут не помогут. Ну, разве что очень приблизительно. Даже если б я знал, как начать описывать то, что из неё выплеснулось. Что она сделала…
Помните, в «Королях сна» есть один эпизод — вы ночью на мотоцикле, никакого света, да он вам и не нужен — вы просто знаете, что рядом обрыв и под ним море, вы несётесь в конусе тишины — грохот мотоцикла просто не поспевает за вами, он остается позади. Всё остаётся позади… В «Королях» это всего лишь миг, но это одно из тех мгновений, что никогда не забываются среди тысяч других, вы возвращаетесь к ним, вы навсегда загоняете их в свой «словарь ощущений». Восхищение. Свобода. Смерть. Прямо здесь, здесь, сейчас, по лезвию, в вечность.
Ну а мне досталась версия для больших мальчиков, на меня это вывалили в спрессованном, необработанном, неурезанном виде — просто взорвали перенасыщенную нищетой, одиночеством и безвестностью пустоту. Это была Лайза, её в спешке вываленные желания и амбиции. Вид изнутри.
Наверное, это заняло не больше четырёх секунд.
И она, конечно же, победила.
Я сдёрнул троды и невидящими от слёз глазами упёрся в постеры на стене. Я не мог смотреть на неё. Я услышал, как она выдернула оптоволоконку. Я услышал скрип экзоскелета, поднимавшего её с футона. Я услышал его застенчивое пощёлкивание, когда он повёл её на кухню за стаканом воды.
И вот тогда я заплакал.
Рубин вставляет тонкий щуп в брюшко того роликового «тяни-толкайчика» и сквозь увеличительное стекло разглядывает микросхему, подсвечивая себе крохотными фонариками, закреплёнными на висках.
— Ну и? Тебя зацепило, — он пожимает плечами и поднимает глаза. Уже темно и два узких лучика бьют мне в лицо, в ангаре холодно и сыро, откуда-то снаружи доносится вой предупреждающей о тумане сирены. — Ну и?
Теперь моя очередь пожимать плечами:
— Я просто… Мне, вроде бы как, ничего больше и не оставалось…
Лучики вновь опускаются в электронные потроха сломанной игрушки.
— Тогда всё нормально. Всё ты правильно сделал. Я имею в виду — она сама хотела стать тем, чем стала. И к тому, что она сейчас оказалась там, ты причастен не больше чем этот твой монтажный пульт. Если бы она не нашла тебя — нашла бы кого-нибудь другого…
Я договорился с Барри, нашим главным редактором, и получил двадцать минут, начиная с пяти ноль-ноль. Холодным сентябрьским утром Лайза пришла и шарахнула по мне тем же самым, но на этот раз я был готов, прикрылся всеми этими фильтрами, брэйн-картами — так что мне не пришлось переживать это всё заново. Две недели, выкраивая минуты в редакторской, я монтировал то, что она вывалила, в нечто, что можно прокрутить Максу Беллу, владельцу студии.
Белл не особо обрадовался, точней, совсем не обрадовался, когда я объяснил что принёс. С редакторами, пытающимися разрабатывать собственные проекты, обычно одни проблемы. Почти каждый редактор время от времени вдруг решает, что «открыл» наконец-то новую звезду — и начинается бессмысленная трата времени и денег. Так что, когда я закончил говорить, он только кивнул, затем почесал нос кончиком своего красного фломастера:
— Ну-ну. Понял. Самый крутой хит с тех пор как рыбы отрастили ноги. Так?
Но он всё-таки запустил сведённую мной демо-версию. Дека «Браун» уже выщелкнула её, а Белл продолжал сидеть с побелевшим лицом, упёршись взглядом в стену.
— Макс.
— А?
— Ну и что ты думаешь?
— Думаю? Я… Как, ты сказал, её зовут? — он моргнул. — Лайза? С кем, говоришь, она подписала?
— Лайза. Ни с кем. Она ещё ни с кем ничего не подписала.
— О Господи… — он всё ещё не мог придти в себя.
— Знаешь, как я её нашёл? — спрашивает Рубин, шаря по мятым картонным коробкам в поисках тумблера.
Коробки заполнены тщательно отсортированным гоми: литиевые батарейки, танталовые конденсаторы, штекеры, разделочные доски, лента для ограждений, феррорезонансные трансформаторы, мотки проволоки… В одной коробке — сотни оторванных головок кукол Барби, в другой — похожие на клешни космического скафандра промышленные бронеперчатки для особо опасных работ. Свет заливает ангар и нечто из мятой разрисованной жести, эдакий богомол в духе Кандинского, поворачивает свою крошечную, с мяч для гольфа, головку в направлении самой яркой лампы.
— Я мотался по Грэнвилу, смотрел гоми, выезжаю на какую-то аллею, гляжу — сидит. Заметил скелет, да и вообще она выглядела не очень, ну и спросил — как она. Не отвечает, даже глаза закрыла. Ну, думаю, значит не моё собачье дело. Часа через четыре еду обратно, а она так и не пошевелилась. — Слушай, — говорю, — милая, можёт в твоей железяке что барахлит? Так я могу помочь, — Молчит, — Давно здесь сидишь? — Молчит. Ну я и уехал.
Он подходит к своему верстаку и поглаживает пальцем лапку жестяного богомола. За верстаком, на разбухших и покорёженных листах фанеры, развешаны пассатижи, отвертки, пистолеты с клейкой лентой, ржавая воздушка «Дэйзи», обжимки, щипцы, щупы-тестеры, паяльные лампы, карманные осциллоскопы — кажется, что здесь висят все изобретённые человечеством инструменты, причём висят они безо всякой видимой системы, но я ещё ни разу не видел, чтобы Рубин ошибся, протянув руку.
— В общем, я вернулся, — продолжает он, — Где-то через час. Она к тому времени уже полностью оттрубилась, так что я просто повернул её спиной к себе и прозвонил экзоскелет. Аккумуляторы совсем сдохли. Я думаю, она доползла туда на остатках заряда и устроилась дожидаться смерти от голода.
— Когда это было?
— Примерно за неделю до того, как ты повёз её к себе.
— А если бы она умерла? Если бы ты её не нашёл?
— Нашёл бы кто-нибудь другой. Она не могла ни о чём попросить, понимаешь? Только принять. Не могла быть перед кем-то в долгу.
Макс нашёл ей агентство, и троица очень шустрых младших партнёров прилетела уже на следующий день. Лайза не стала встречаться с ними в студии, поэтому мы доставили их к Рубину, где она всё ещё обитала.
— Добро пожаловать в Кувервил, — приветствовал Рубин, когда они показались в дверях.
Его вытянутое лицо было живописно измазано машинным маслом, а ширинка неравномерно севших штанов держалась на честном слове и согнутой скрепке. Молодые люди автоматически улыбнулись, но как-то деревянно. У девицы улыбка вышла более естественной:
— О, мистер Старк, — заговорила она, — Я была на прошлой неделе в Лондоне и видела вашу инсталляцию в «Тэйт».
— «Фабрика батареек Марчелло», — отозвался Рубин, — Они говорят, что это, как его, копрология, ну, англичане… — он пожал плечами. — Я в смысле — кто его знает…
— Они правы. А ещё это очень прикольно.
Молодые люди в костюмах сияли как два пятака. Демо-запись была уже в Лос-Анжелесе. Они это знали.
— Значит, вы и есть Лайза, — начала девица, пробираясь между кучами хлама, — Скоро вы станете очень знаменитой, Лайза. Так что нам нужно очень-очень много чего обсудить…
А Лайза стояла, поддерживаемая своим поликарбоном, и выражение её лица было таким же, как тогда ночью у меня дома, когда она спросила, не хочу ли я её трахнуть. Но даже если дама из агентства и заметила что-то, то не подала виду. Она была профи.
Я сказал себе, что я тоже профи. Я приказал себе успокоиться.
Повсюду вокруг Рынка горят в железных бочках костры из мусора. Снег всё ещё идёт и подростки жмутся к огню, переминаются с ноги на ногу, как побитые артритом вороны, а ветер продолжает хлестать их тёмные куртки. Выше, в живописных развалюхах Фэйрвью, висит чьё-то смёрзшееся на верёвках бельё, розовые квадраты простыней на фоне серых стен и мешанины из спутниковых тарелок и солнечных батарей. Крутится без остановки ветряной генератор, установленный каким-то местным экологически озабоченным — хер вам, а не плата за газ.
Рубин шлёпает в своих заляпанных краской кедах, втянув большую голову в воротник великоватой ему потрёпанной куртки. Иногда кто-нибудь из этих сгорбившихся ребятишек узнаёт его и показывает пальцем — вон, мол, пошёл тот мужик, что строит всякую хрень, роботов и прочее дерьмо.
— Знаешь, в чём твоя проблема? — спрашивает Рубин, когда мы, направляясь к Четвёртой улице, заходим под мост. — Ты из тех, кто всегда читает инструкции. Всё, что придумали люди, все эти технологии — они предназначены для каких-то строго определённых целей. Для того, чтобы делать то-то и то-то, всем уже понятное. Но если это совсем новая технология — она открывает горизонты о которых до этого никто даже и не думал. А ты читаешь свои инструкции и вряд ли захочешь поэкспериментировать. Поэтому тебя так и заводит, когда кто-то использует это для того, что тебе и в голову не приходило. Как Лайза.
— Она не была первой. — Над нами грохочут вагоны.
— Ну да. Но она точно первая из тех, кого ты знал лично. Ну, кто умер и переписал себя в память машины. Или три-четыре года назад ты тоже потерял сон, когда то же самое сделал этот, как там его, ну, этот француз, писатель?
— Да я особо и не думал об этом. Думал — так, рекламный трюк…
— А ведь он всё ещё пишет. И самое интересное, собирается писать и дальше, разве что кто-нибудь взорвёт его сервер.
Я вздрагиваю, трясу головой:
— Но ведь это не он, ведь так? Это всего лишь программа.
— Любопытная точка зрения. Трудно сказать… Хотя, насчёт Лайзы мы узнаем это точно. Она ведь не писатель.
«Короли», в общем-то, были уже давно готовы. Только заперты в её голове, как её тело — в экзоскелете.
Агенты организовали ей контракт с серьёзной конторой и вызвали рабочую группу из Токио. Лайза заявила, что хочет редактором меня. Я сказал «нет». Макс уволок меня в свой кабинет и пообещал поджарить на медленном огне. Если я отказываюсь, то им нет никакого смысла работать в нашей студии — Ванкувер вряд ли можно назвать центром мира и агенты предпочли бы Лос-Анжелес. Для Макса это означало кучу денег, для «Аутономик Пайлот» — шанс пробиться в высшую лигу. А я даже не мог объяснить ему, почему отказываюсь. Это было слишком абсурдным, слишком личным, Лайза меня просто добивала. По крайней мере, мне так тогда казалось. Но Макс был настроен серьёзно и не оставил мне никакого выбора. Мы оба знали, что другая такая работа мне не светит, по крайней мере — в этом городе. В общем, мы вернулись к агентам и сообщили, что всё улажено, я в деле.
Агенты продемонстрировали свои белоснежные зубы.
Лайза достала ингалятор и втянула лошадиную дозу «фена».
Мне показалось, что леди из агентства всё же слегка приподняла одну из своих математически совершенных бровей. Если это и означало неодобрение, то тем оно и ограничилось. После того, как бумаги были подписаны, Лайза могла делать более или менее всё, что хочет.
А Лайза всегда знала, что она хочет.
Мы делали «Королей» три недели, саму запись. Я напридумывал кучу причин не появляться у Рубина — в некоторые даже сам поверил. Она всё ещё жила у него, хотя агенты были от этого не в восторге. По соображениям безопасности. Позже Рубин рассказал мне, что ему пришлось натравить на них уже своего агента, и только после этого они, вроде бы, успокоились. Я и не знал, что у него есть агент. С ним как-то легко забывается, что Рубин Старк — самая большая знаменитость из всех, кого я знаю, всяко знаменитей даже того, чего мы тогда ожидали для Лайзы. Я понимал, что мы работаем с очень перспективным материалом, но ведь никогда не знаешь заранее насколько высоко это взлетит.
Но в те часы, что мы проводили в студии, Лайза была восхитительна.
Казалось, она была рождена именно для этой формы искусства, хотя на момент её рождения ещё не существовало даже технологии, сделавшей эту форму возможной. Когда видишь подобное, невольно задумываешься — сколько тысяч, или даже миллионов феноменальных художников так и умерло в безвестности, кануло в веках. Людей, которые так и не смогли стать великими поэтами, художниками или, там, саксофонистами, но у которых был этот дар, эти импульсы в мозгу, ждущие лишь микросхем, что выпустят их наружу…
За время, что мы провели в студии, я узнал кое-что и о ней. Так, обрывки. Что родилась она в Виндзоре. Что её отец был американцем, служил в Перу и вернулся оттуда наполовину слепым и полностью свихнувшимся. Что болезнь у неё врождённая. Что все эти её потёртости от того, что она никогда не вылазит из своего экзоскелета — начинает задыхаться при одной мысли о полной беспомощности. Что она давно сидит на «фене» и её дневной дозы вполне хватило бы на футбольную команду.
Агенты притащили медиков, те привели в порядок потёртости, напылили на поликарбон микропорку, накачали витаминами, попытались посадить на диету. Но никто даже не попытался забрать у неё ингалятор.
Ещё они нагнали стилистов, визажистов, модельеров, имиджмейкеров и прочих маленьких хомячков большой рекламной компании. Лайза выносила всё это с выражением, которое при большом желании можно было почти принять за улыбку.
И все эти три недели мы с ней не разговаривали. Только чисто студийные дела. Художник — редактор. Ограниченный набор профессиональных терминов. Её воображение рисовало такие сильные и яркие образы, что ей и не нужно было как-то объяснять мне требуемый эффект. Лайза выдавала, я обрабатывал и возвращал ей, а она просто говорила «нет» или «да». Обычно это было «да». Её агенты отметили это, одобрили, похлопали Макса Белла по плечу и пригласили пообедать. А мне прибавили зарплату.
Я ведь и в самом деле профи. Дельный, внимательный, чуткий. Я решил, что больше уже не сломаюсь и старался не вспоминать о той ночи когда плакал. И ещё. Я делал лучшее из всего, что делал до сих пор, а это много что значит и само по себе.
А потом, как-то утром, около шести, после очень долгой записи — она тогда впервые выдала целиком тот таинственный котильон, что ещё называют «танцем призраков», — Лайза вдруг заговорила со мной. Один из двух парней-агентов постоянно болтался в монтажной и скалил зубы, но он куда-то ушёл, и в студии стояла мёртвая тишина, только тихий гул вентиляции откуда-то из кабинета Макса.
— Кейси, — сказала она хриплым от «фена» голосом. — Извини, что я так на тебя… навалилась.
Сначала я подумал, что она говорит о записи, которую мы только что сделали. Я поднял глаза, посмотрел на неё, и тут до меня дошло, что мы остались одни. Впервые с того дня, когда записывали демо-версию.
Я совершенно не знал, что ответить. Да и что чувствую — тоже не знал.
Подпираемая своим экзоскелетом, она выглядела даже хуже чем тем вечером у Рубина. Даже сквозь всю эту штукатурку, постоянно поддерживаемую специалистами по макияжу, было видно — «фен» её доедает. Временами казалось, что сквозь лицо не особо красивого подростка просвечивают кости черепа. А я ведь и не знал сколько ей на самом деле. И не старая, и не молодая…
— Эффект наклонной плоскости, — наконец сказал я, сматывая кабель.
— Это как?
— А это природа так сообщает, что пора приводить себя в порядок. Вроде математического закона, который гласит, что настоящий приход на стимуляторе можно поймать только определённое количество раз, даже если увеличивать дозу. И в любом случае никогда не будет так же хорошо, как вначале. По крайней мере — не должно. Это недостаток всех модельных наркотиков — они слишком умные. У той дряни, что ты нюхаешь, есть такой хитрый хвостик на одной из молекул — он мешает разложившемуся адреналину превращаться в адренохром. Если бы не это — ты уже была бы шизофреничкой. У тебя, случайно, нет никаких маленьких проблем? Асфиксии, например? В смысле — ты не задыхаешься во сне?
Но на самом деле я даже не уверен, что испытывал ту злость, что слышалась в моём голосе.
Она смотрела на меня своими тускло-серыми глазами. Модельеры заменили дешёвую кожаную куртку чёрным блузоном — он гораздо лучше скрывал поликарбоновые рёбра. Лайза всегда носила его наглухо застёгнутым, даже если в студии было слишком жарко. Днём раньше стилисты пытались сотворить что-то новое с её причёской. Безрезультатно. Жёсткие тёмные волосы так и торчали перекошенным взрывом над этим нарисованным треугольным лицом. Она продолжала смотреть на меня и я опять ощутил насколько всё в ней направлено только на цель.
— А я просто не сплю, Кейси.
И только позже, гораздо позже я вспомнил, что она сказала «извини». Больше она этого не делала, да и вообще это был единственный раз, когда я слышал от неё что-то, что было не в её характере.
Диета Рубина состоит из сэндвичей, что продаются в автоматах, пакистанской еды на вынос и кофе-эспрессо. Я ни разу не видел, чтобы он ел что-нибудь ещё. Мы едим самосы в маленькой забегаловке на Четвёртой улице. Единственный пластиковый столик втиснут между стойкой и дверью в сортир. Рубин сосредоточенно расправляется со своей дюжиной, шесть с мясом, шесть с овощами, не отвлекаясь на мелочи, вроде измазанного подбородка. Он по-настоящему предан этому заведению, хотя терпеть не может грека за стойкой. Тот отвечает ему взаимностью. В общем — настоящие прочные отношения. Если грек вдруг исчезнет, то и Рубин тоже, наверное, перестанет тут появляться. Грек неприязненно косится на крошки, прилипшие к подбородку и куртке Рубина, тот, в перерывах между самосами, отвечает ему короткими колючими взглядами из под своих заляпанных линз в стальной оправе.
Самосы — это обед. Завтраком служат расфасованные в треугольники из молочного пластика подсохшие кусочки белого хлеба с яичным салатом и шесть маленьких чашек ядовито-горького эспрессо.
— А ты и не мог этого предвидеть, Кейси, — Рубин смотрит на меня в упор через толстые захватанные линзы своих очков. — Потому как у тебя слабовато с латеральным мышлением. Ты ж у нас всегда сначала инструкции читаешь, так? И что, ты думал, ей понадобится потом? Секс? Ещё больше порошка? Мировое турне? Она оставила это всё в прошлом. Это и сделало её такой сильной. Она оставила это всё позади. Вот почему «Короли» стали тем, чем стали, почему ребятишки покупают их, почему верят ей. Они знают. Те пацаны с Рынка, что греют свои жопы у огня и не знают, где сегодня спать будут, — они верят ей. Это самый крутой альбом за последние восемь лет. Парень из магазина в Грэнвиле сказал мне, что продаёт этой хрени больше, чем всего остального вместе взятого. Сказал, что не успевает заказывать новые партии… Её покупают, потому что Лайза такая же, как они. Только глубже. Она знала, парень. Ни мечты, ни надежды… Пусть ты и не видишь клеток на этих пацанах, но и до них постепенно доходит, что им тоже ничего в этой жизни не светит. — Он стряхивает прилипшие к подбородку крошки, но три всё равно остаются. — Так что она просто спела это для них, спела так, как они сами никогда не смогли бы, нарисовала им картинку. А потом просто купила себе выход из всего этого. Вот и всё.
Я смотрю как пар оседает на окне и большие капли, время от времени, стекают вниз, оставляя прозрачные дорожки. За окном можно разглядеть разутую «Ладу». Колёса сняты, оси на тротуаре.
— Рубин, а ты не в курсе — сколько ещё людей сделало это?
— Да не думаю, что много. В любом случае — трудно сказать. Ведь большинство из них скорей всего политики, которых мы считаем благополучно и бесповоротно помершими. — Он хитро глядит на меня. — Да. Не самая приятная мысль. Но по-любому, первый толчок этой технологии дали именно они. Это ведь всё ещё слишком дорого даже для «обыкновенных» мультимиллионеров, но я слышал, как минимум, о семи. Говорят, ещё в «Мицубиси» раскошелились на это для Вайнберга — ещё до того, как его иммунная система окончательно накрылась медным тазом. Он возглавлял их гибридную лабораторию в Окаяме, а поскольку их котировки по мононуклонам всё ещё на высоте — то может это и правда. Ну и Ланглуа. Тот француз, писатель… — Он пожимает плечами. — У Лайзы не было таких денег. Даже сейчас нет. Но она пробилась в нужное место и в нужное время. Ей недолго оставалось, но она уже была в Голливуде, а там уже поняли чем станут «Короли».
В тот день, когда мы закончили, чартерным рейсом «Джапан Эйрлайнс» из Лондона прилетела четвёрка тощих парней. Они производили впечатление хорошо смазанной машины с гипертрофированным чувством стиля и полным отсутствием эмоций. Я усадил их в рядок на одинаковых «Икеевских» офисных стульях, намазал виски проводящей пастой, прицепил троды и запустил рабочую версию того, что должно было стать «Королями сна». Когда они выпали в реальность, то разом залопотали на британской разновидности профессионального языка студийных музыкантов — четыре комплекта бледных рук с гулом рассекли воздух. Меня они игнорировали полностью.
Но я кое-что уловил. Что они в отпаде. Что они думают — получилось «вааще». А посему взял куртку и ушёл. Пасту с висков как-нибудь сами вытрут, не рассыпятся.
Той ночью я увидел Лайзу в последний раз.
На обратном пути к Рынку Рубин шумно переваривает свой обед. Алые тормозные огни отражаются в мокрой мостовой, город позади Рынка кажется вырубленной из света скульптурой — красивая ложь, где сломленные и потерянные зарываются в гоми, что как гумус нарастает у подножья башен из стекла и стали.
— Я собираюсь завтра во Франкфурт, монтировать инсталляцию. Не хочешь поехать? Я могу записать тебя техработником, — Он ещё глубже зарывается в свою потрёпанную куртку. — Платить, конечно, не смогу, но билеты за мой счёт, так что…
Забавно такое слышать, особенно от Рубина. Но я понимаю, он обо мне беспокоится, думает, я слегка свихнулся из-за Лайзы, и единственное, что ему приходит в голову, — вытащить меня из города.
— Во Франфуркте сейчас даже похолодней, чем здесь.
— Тебе не помешало бы сменить остановку, Кейси. Я не знаю…
— Спасибо, но… У Макса куча работы для меня. В «Пайлоте» сейчас новые времена — люди со всего света прилетают…
— Ну-ну…
Оставив лондонцев в студии, я направился домой. Прошёлся по Четвёртой, дальше на троллейбусе, мимо витрин, что вижу каждый день, ярко освещённых и мигающих. Одежда, обувь, софт, японские мотоциклы, присевшие, как чистенькие эмалированные скорпионы, итальянская мебель. Витрины меняются каждый сезон, да и сами магазины появляются и исчезают. Всё движется в предпраздничном режиме, на улицах полно людей, много пар, быстро и целеустремлённо идущих мимо ярких витрин и точно знающих где именно продаётся то замечательное маленькое что-то-там-для-кого-то-там. Половина девушек в этих высоких, дутых, нейлоновых сапогах, прошлогодняя нью-йоркская мода, Рубин говорит, что в этих сапогах их будто слоновья болезнь всех хватила. Я улыбнулся, вспомнив это, и вдруг до меня дошло, что всё закончилось, что я наконец разделался с Лайзой, что теперь Голливуд засосёт её с той же неотвратимостью, как если бы она сунула ногу в чёрную дыру. Голливуд просто затянет её немыслимым гравитационным полем Больших Денег. Поверив в то, что она, наконец, ушла, уведена из моей жизни, я ослабил оборону и даже позволил себе немного пожалеть её. Но только чуть-чуть — потому как не хотел, чтобы что-то испортило мне вечер. Мне хотелось «расслабиться». Со мной этого уже давно не случалось.
Я сошёл на своей остановке, лифт отозвался с первого раза. Хороший знак — сказал я себе. Поднявшись домой, я разделся, сходил в душ, нашёл чистую рубашку, сунул в микроволновку несколько буррито.
— Приходи в себя, — посоветовал я своему отражению, когда брился. — Ты слишком плотно работал. Твоя кредитка слегка растолстела и самое время это дело чуток компенсировать.
Буррито на вкус напоминали картон, но я решил что они нравятся мне именно за эту агрессивную обычность. Машина была в мастерской, на ней как раз меняли потёкшие водородные элементы, так что об этом можно было не беспокоиться. Просто пойти куда-нибудь и как следует набраться. А завтра позвонить на работу и сказать, что заболел. Макс и не вякнет. Я теперь его звёздный мальчик. Он мне теперь кое-чем обязан.
— Слышь, Макс, а ты ведь у меня в долгу, — Обратился я к выловленной в морозильнике ледяной бутылке «Московской». — И никуда ты, блин, не денешься. Я только что убил три недели своей жизни, редактируя мечты и кошмары одной особы. Весьма свихнувшейся особы, если честно, Макс. Для тебя, любимого, кстати. Дабы ты толстел и процветал, Макс.
Я плеснул водки в завалявшийся с какой-то прошлогодней вечеринки пластиковый стакан и вернулся в гостиную.
Временами мне кажется, что здесь живёт кто угодно, но только не какой-то конкретный человек. Не то чтобы у меня беспорядок, с этим-то я справляюсь, даже пыль на рамочках постеров не забываю протирать в том числе и сверху, но иногда вдруг делается как-то немного зябко от этого обычного набора обычных вещей. Не то, чтобы мне хотелось завести кошку или там цветочки в горшках… Просто в такие моменты понимаешь, что здесь мог бы жить кто угодно, и все эти вещи могли быть чьими угодно, всё кажется таким взаимозаменяемым, моя жизнь и ваша, моя и чья-то ещё…
Думаю, Рубин смотрит на вещи точно так же, причём всегда, но для него это наоборот, источник силы. Он живёт в чужом мусоре. Всё, что он тащит к себе, когда-то было новеньким и блестящим, что-то для кого-то пусть и недолго, но значило. Вот он и собирает весь этот хлам в свой дурацкий грузовичок, везёт к себе и выдерживает, как в компостной яме, пока не придумает куда пристроить. Рубин как-то показал мне свою любимую книгу по искусству двадцатого века, там была фотография движущейся скульптуры под названием «Мёртвые птицы снова летят», эта штука вращала подвешенные на ниточках настоящие трупики мёртвых птиц. Рубин улыбнулся, кивнул, и мне показалось, что он считает автора кем-то вроде своего духовного предка. Интересно, а смог бы Рубин сотворить что-нибудь из этих моих постеров в рамочках, из моего мексиканского футона, из темперлоновой кровати? Хотя, подумал я, делая первый глоток, он-то как раз и смог бы, вот поэтому он знаменитый художник, а я — нет.
Я прижался лбом к оконному стеклу, такому же холодному, как и стакан у меня в руке.
— Пора двигать, — сказал я себе. — А то наблюдаются явные симптомы страха одиночества. Городского обычного. И от этого есть лекарство. Допиваешь — и вперёд.
Довести себя до нужной кондиции в тот вечер мне так и не удалось. Остатки здравого смысла подсказывали, что надо плюнуть на это дело, вернуться домой, посмотреть какое-нибудь древнее кино и тупо заснуть. Но напряжение, копившееся все эти три недели, превратилось в какую-то часовую пружину, которая тащила меня по ночному городу, время от времени смазывая это движение парой глотков в очередном случайном баре. И я решил, что это одна из тех ночей, когда можно соскользнуть в другое измерение, где город остаётся всё тем же самым, но с одной единственной разницей — в нём нет никого, кого бы ты любил, или знал, или даже просто когда-нибудь разговаривал. В такую ночь можно зайти в знакомый бар и обнаружить, что там поменялся весь персонал. И тогда понимаешь — ты и зашёл-то только потому, что хотел увидеть хоть какое-то знакомое лицо. Бармена, да кого угодно... Веселью такие мысли, как известно, не способствуют.
Но я так и не остановился, побывал ещё в шести или семи местах пока меня не занесло в какой-то ночной клуб на западе, он выглядел так, будто обстановку там не меняли чуть не с девяностых. Куча блестящего хрома, пластик, мутные голограммы, вызывающие головную боль если начать в них вглядываться. Вроде бы Барри рассказывал мне о нём, но я так и не вспомнил по какому поводу. Я огляделся и ухмыльнулся. Если требовалось место, где может прибить ещё сильней, то это оно и есть.
— Да уж, — сказал я себе, усаживаясь на угловой табурет у стойки. — и скучно, и грустно и... В общем, то, что надо. Достаточно мерзко, чтобы именно тут поставить точку в этом поганом вечере. Принять ещё разок на дорожку, промочить глотку — и домой.
И тут я увидел Лайзу.
На мне всё ещё была куртка с поднятым от ветра воротником и она меня не узнала. Лайза устроилась на другом конце стойки, перед ней стояла пара пустых высоких бокалов — их ещё подают с такими маленькими гонконгскими зонтиками или пластиковыми русалками внутри. Когда она смотрела на сидящего рядом парня, в её глазах был отчётливо виден блеск «фена», так что было ясно — в тех бокалах нет ни капли алкоголя. При таких дозах мешать уже нельзя. Парень был совсем готов — с лица не сходила пьяная улыбка, временами он даже начинал стекать с табурета, но тем не менее всё ещё пытался сфокусировать взгляд и лучше разглядеть Лайзу. А она сидела в своём наглухо застёгнутом чёрном кожаном блузоне, и кости её черепа, казалось, прожигали бледную кожу, как тысячеваттная лампочка. Я сидел там, смотрел на неё, и вдруг много чего понял.
Что она действительно умирает, или от «фена», или от своей болезни, или от того и другого сразу. Что она слишком хорошо об этом знает. Что парень рядом с ней слишком пьян, чтобы увидеть экзоскелет, но не настолько, чтобы не заметить дорогую куртку и деньги. И что это было именно тем, на что было похоже.
Но в тот момент всё это не укладывалось у меня в голове. Что-то во мне сопротивлялось.
А она улыбалась, или, во всяком случае, изображала нечто, похожее в её представлении на улыбку, потому как знала, что ситуации соответствует именно это выражение лица, и даже вовремя кивала, когда парень выдавал очередную глупость. Невольно вспомнились её слова, что она «любит смотреть».
Теперь я понимаю, не встреть я их там — я смог бы принять случившееся потом. Возможно, даже порадовался бы за неё, нашёл бы способ поверить в то, чем она стала — в программу, которая притворяется Лайзой настолько хорошо, что сама в это верит. Смог бы, как и Рубин, поверить, что она и в самом деле всё оставила позади, наша Жанна д’Арк века хай-тек, сгоревшая ради единения со своим электронным божеством в Голливуде. Что она ни о чём не жалела в свой последний час. Что она с радостью покинула своё измученное больное тело. Просто освободилась от клетки из поликарбона и ненавистной плоти. Ну, в конце концов, может так оно и было. Думаю, она именно так всё это и представляла.
Но я видел её там. Видел, как она держала за руку того пьяного парня. За руку, которую она даже не чувствовала. Тогда я раз и навсегда понял — человеческие мотивы никогда не бывают чёткими и однозначными. Даже у Лайзы, с её разъедающим, сумасшедшим стремлением к славе, к кибернетическому бессмертию, были слабости. Обычные, человеческие слабости. И я ненавидел себя за это понимание.
В ту ночь она просто пришла попрощаться. Найти кого-нибудь достаточно пьяного, чтобы сделал это для неё. Потому что — теперь я это знал — она действительно любила смотреть.
Боюсь, Лайза заметила меня когда я уходил, практически убегал. Если так, то она должна была возненавидеть меня ещё сильней. За ужас и жалость на моём лице.
Больше я её никогда не видел.
Как-нибудь надо будет спросить у Рубина, почему он не умеет мешать ничего, кроме своих «Диких индеек» чуть не промышленной концентрации. Он протягивает мне мятую алюминиевую кружку, а вокруг нас тикают, шуршат и копошатся его маленькие создания.
— Тебе всё-таки стоит смотаться во Франкфурт, — заводит он снова.
— Зачем, Рубин?
— А затем, что в один прекрасный день она тебе позвонит. А ты, по-моему, всё ещё к этому не готов. Ты всё ещё не пришёл в себя, а это будет говорить её голосом, думать как она… И тогда ты совсем свихнёшься. Поехали во Франкфурт, слегка развеешься. Да и она не будет знать где ты…
— Да я ж говорил уже, — отвечаю я, вспоминая её там, в баре. — куча работы, Макс опять же…
— Да какой, на фиг, Макс! Ты ему такую кучу денег заработал, так что твой Макс должен сидеть и не вякать. Да и сам ты должен был неплохо поиметь с «Королей», позвони в банк и убедись. Так что ты вполне можешь позволить себе отпуск.
Я смотрю на него и думаю, расскажу ли ему когда-нибудь о том последнем взгляде.
— Рубин, спасибо тебе, но я просто…
Он вздыхает и отхлёбывает из кружки.
— Что «просто»?
— Если она позвонит — это будет она?
Рубин долго смотрит на меня.
— Да Бог его знает… — кружка звякает о стол. — Я в том смысле, Кейси, технология-то, она, конечно, есть, но вот кто сможет сказать это точно?
— Думаешь, мне и правда стоит съездить с тобой в этот Франкфурт?
Он снимает свои очки в стальной оправе и безуспешно пытается протереть их об свою клетчатую фланелевую рубашку.
— Ну да, думаю. Тебе нужен отдых. Может и не прямо сейчас, но вскоре точно понадобится.
— В смысле?
— Когда тебе придётся редактировать её следующий альбом. А это, скорей всего, будет очень и очень скоро. Она ведь теперь занимает кучу места в постоянной памяти какого-нибудь корпоративного суперкомпьютера. И тех денег, что она получила за «Королей», и близко не хватит за всё это расплатиться. А ты — её редактор, Кейси. В смысле, кто ж ещё?
Всё, что я могу — сидеть не шевелясь и смотреть, как он пристраивает очки на место.
— Кто ж ещё, мужик?
Одна из его конструкций вдруг щёлкает, и вместе с этим чётким коротким звуком до меня доходит, что Рубин прав.
Ванкувер, 1985 г.
Перевод: Н. Колядко, 1999 г.
X Имя пользователя * Пароль * Запомнить меня



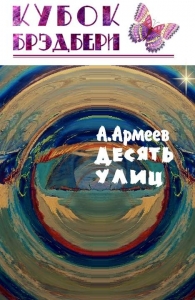


Комментарии к книге «Зимний Рынок», Уильям Гибсон
Всего 0 комментариев