Макс Фрай Все сказки старого Вильнюса Продолжение
© Макс Фрай, текст
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
Площадь Йоно Жемайчё (Jono Žemaičio a.) Правила джиннов
Юсуф был странный.
Во-первых, одно имя чего стоит. С таким именем хорошо быть персонажем «Тысяча и одной ночи» или, ладно, арабским студентом, их у нас не то чтобы много, но все-таки есть. Или хотя бы просто смуглым бородатым брюнетом с манерами избалованного и одновременно давно некормленого кота. А в сочетании с русыми волосами, бледно-голубыми, словно бы выцветшими на солнце глазами и веснушками на носу имя Юсуф кажется таким же невозможным, как крылья, клыки или хвост. Рога, и те были бы уместней: по крайней мере, под ними можно вообразить невидимый шлем, а викинг из широкоплечего увальня Юсуфа – хоть сейчас в голливудскую массовку зазывай.
Во-вторых, Юсуф всегда ходил в юбке. Не в одной и той же; юбок у Юсуфа было много, он часто и с явным удовольствием их менял. Длинные, узкие из строгой костюмной ткани; кожаные, рокерские, с заклепками и застежками-«молниями» в самых неожиданных местах; пестрые, широкие, как японские штаны-хакама; брезентовые, блестящие, с ассиметричным косым подолом; да какие угодно, разве что, ни одной клетчатой. Подозреваю, Юсуф не хотел портить сногсшибательный эффект даже минимальным сходством с шотландцами, толпа которых ежегодно приезжает на баскетбольные матчи и гуляет по городу в традиционных килтах, к ним-то давно все привыкли, зато к другим вариантам – нет. Теоретически вполне общеизвестно, что мужские юбки с завидной регулярностью появляются в коллекциях haute couture разных модных домов, но мало ли что творится на подиумах, по улицам в таких нарядах пока не очень-то ходят. А если и ходят, то не у нас.
В-третьих, у Юсуфа было два профиля, настолько непохожих, словно его голову слепили из двух разных голов. Если присмотреться, становилось понятно, что на самом деле у него просто сломан нос, да так удачно, что анфас практически незаметно, зато один профиль получился курносый, а второй – роскошный, орлиный, хоть сейчас на монете чекань. И улыбался он криво, всегда только одной левой половиной рта, одновременно трагически заламывая правую бровь, так что горбоносый профиль обычно выглядел веселым, а курносый – подчеркнуто меланхоличным. Когда рассказываешь, получается, словно бы Юсуф нарочно так кривлялся; но кажется, все-таки нет.
И в четвертых, при всей своей ослепительной эксцентричности, Юсуф был воплощением здравого смысла. Очень спокойный и рассудительный человек. И, насколько можно судить со стороны, хозяйственный и практичный. По крайней мере, «Черная чашка» при нем расцвела.
«Черная чашка» – это кофейня на площади Йоно Жемайчё, напротив военного министерства, маленькая, всего на шесть столов и два широких подоконника, на которых тоже можно сидеть. Сперва Юсуф стал одним из ее завсегдатаев, а потом как-то незаметно переместился за стойку и выглядел там уместно и естественно, словно всегда так и было. Я так понимаю, хозяевам кофейня уже надоела, закрывать ее было жалко, а Юсуф просто в нужный момент подвернулся под руку и сделал им хорошее предложение; впрочем, это только мои догадки, как там было на самом деле, я не знаю.
Факт, что Юсуф стал единолично хозяйничать в «Черной чашке», с утра до вечера, без выходных, и как-то со всем справлялся сам, без помощников, даже посуда на столах не задерживалась, и мусорное ведро оставалось, в худшем случае, полупустым, и туалет блестел, и очередь собиралась – ну, максимум два-три человека, хотя дела в кофейне явно пошли в гору; я имею в виду, народу порядком прибавилось, как магнитом всех притягивало. И ясно было, что этот магнит – Юсуф, который, с точки зрения стороннего наблюдателя, большую часть времени вообще проводил снаружи, у входа, с короткой черной сигаретой в зубах. Юсуф дымил, как паровоз. Но каким-то непостижимым образом, это совершенно не мешало ему в нужный момент оказываться за стойкой с очередной порцией только что приготовленного кофе в руках.
Я ходила в «Черную чашку» и до Юсуфа, когда там хозяйничали Кястас и Настя, сперва полные энтузиазма, потом уже не особо; я не раз слышала краем уха, как они деликатно переругиваются друг с другом по телефону на тему: «И ни одна зараза не приходит меня, бедняжечку, подменить». Под конец они уже совсем пали духом, сидели с кислыми минами, перестали заказывать свежую выпечку, ради которой многие к ним ходили, даже кофе стал ощутимо хуже, и я мысленно возложила венок на гроб любимой кофейни, которая так удачно расположена на моем ежедневном маршруте между работой и домом, что хочешь, не хочешь, свернешь. По утрам глоток эспрессо придает мне нужное ускорение, а латте с сиропом по вечерам помогает вспомнить, почему я до сих пор не повесилась. Да потому, что жизнь, несмотря ни на что, хороша. По крайней мере, местами. И «Черная чашка» – одно из этих мест.
Кстати, при Юсуфе кофе в «Черной чашке» стал не просто лучше, а по-настоящему отличным, это даже мне было ясно, хотя я совсем не гурман. У меня один внятный критерий: если горько и при этом не противно, значит, все хорошо.
Но положа руку на сердце, дело, конечно, не в кофе. А в обстановке. И в атмосфере. Я хочу сказать, что с тех пор, как в «Черной чашке» начал хозяйничать Юсуф, мне стало гораздо проще вспоминать, почему я до сих пор не повесилась. И даже вовсе не задаваться этим вопросом – в некоторые, особо удачные дни.
Мы с Юсуфом здоровались еще в те времена, когда он был не барристой, а простым завсегдатаем, как я сама. Ну то есть, как – здоровались, просто обменивались приветливыми кивками. Позже, обосновавшись за стойкой, он стал полноценно желать мне хорошего утра, дня, или вечера, как и всем остальным клиентам; я вежливо отвечала, но и только, заговорить с ним мне бы в голову не пришло. Я не люблю разговаривать с незнакомцами; положа руку на сердце, со знакомцами тоже, я вообще не люблю разговаривать с людьми, зато мне нравится слушать, что они говорят – не мне, а друг другу. Поэтому болтовню Юсуфа с другими посетителями «Черной чашки» я всегда подслушивала с удовольствием, хотя ничего особенно интересного он им вроде бы не рассказывал. Просто журчал, как ручей, спокойно и даже как-то утешительно – не по смыслу, по интонации; послушаешь несколько минут, и потом целый день ходишь довольная, хотя ничего особенно хорошего с тобой не случилось, да и вообще – ничего.
Впервые Юсуф заговорил со мной однажды вечером, когда я курила, усевшись снаружи на подоконнике, где всегда по традиции лежали тонкие маты из кожзаменителя, специально для желающих сесть. Спросил: «Он не мокрый? – и, не дожидаясь ответа, пояснил: – Днем был небольшой дождь».
Я ответила: «Спасибо, вроде уже не мокрый», – вот и весь разговор.
Но для Юсуфа с этого момента все изменилось. Вероятно, в голове у него хранился список клиентов, с которыми следует или просто можно разговаривать, и теперь он всякий раз беседовал со мной о погоде, городских праздниках, ремонте соседних улиц, отреставрированных домах, новых скульптурах, музыке, кинофильмах и других пустяках, обращался так ласково и доверительно, словно я была его любимой младшей сестрой; я ненавижу так называемые «смолл-токи», всю эту необязательную болтовню ни о чем, но всякий раз покупалась на его интонацию и отвечала почти с удовольствием, а может быть, слово «почти» здесь лишнее; ладно, чего там, с Юсуфом было приятно поговорить. Однажды вечером он, ни о чем не спрашивая, протянул мне светло-коричневую таблетку: «У вас начинает болеть голова; вы, наверное, думаете, кофе поможет, но сегодня лучше примите цитрамон». Я так растерялась, что проглотила таблетку, хотя обычно не принимаю лекарств, запила предупредительно подсунутой минералкой; Юсуф подмигнул: «За сговорчивость вам полагается кофе за счет заведения. Но – не сегодня. В следующий раз».
На самом деле я совсем не отличаюсь сговорчивостью, но в тот раз ушла домой, так и не выпив кофе, спрашивала себя по дороге: «Мама, что это было? Гипноз?» Но голова, надо сказать, прошла практически сразу, за это я была благодарна Юсуфу. Жизнь и так невеселая штука, куда мне еще дополнительная боль.
На следующий день Юсуф и правда не взял с меня денег за кофе, но вел себя сдержано, с разговорами особо не лез, всем своим видом показывал, что не претендует на новую степень близости или какое-то особое отношение только потому, что вчера дал мне таблетку, а я ее приняла. Мне это понравилось: такая подчеркнутая деликатность по нынешним временам великая редкость, я очень ее ценю.
Примерно неделю спустя я возвращалась с работы довольно поздно, около десяти. Так иногда бывает: жизнь главного бухгалтера сравнительно небольшой юридической фирмы, по большей части, легка и беззаботна, но пару раз в год наступает расплата. В смысле аврал. Впрочем, мне-то как раз грех жаловаться, авралы меня бодрят, будь моя воля, устраивала бы их почаще; ладно, как есть, тоже вполне ничего.
Я была уверена, что в это время «Черная чашка» уже закрыта, но в зале горел свет, а за столом напротив окна сидела парочка, оба огненно-рыжие, с совершенно одинаковыми аккуратными вздернутыми носами, так что не поймешь, то ли влюбленные, то ли просто брат и сестра. Юсуф нес вахту у входа, курил свою черную сигарету, приветливо улыбнулся мне половиной рта: «Как вы сегодня поздно! Я думал, уже не придете. Очень вам рад».
Разумеется, я зашла. И заказала латте, хотя по моему опыту, после восьми вечера кофе, включая совсем слабый и сладкий, мне лучше не пить. Но если всегда поступать правильно, жизнь окончательно утратит даже те остатки смысла, которые мы придумали себе в утешение, потому что никакого смысла, конечно же, нет.
Пока я пила латте, примостившись на высоком табурете у стойки, Юсуф прошелся по залу, шурша подолом длинной широкой юбки из какой-то блестящей, на вид непромокаемой ткани, собрал пустые чашки и вытер столы, не несколькими суетливыми жестами, как сделала бы я сама, а одним долгим непрерывным движением; никогда прежде не обращала внимания, как он наводит порядок, а сейчас наконец оценила. Очень красиво, как будто уборка грязной посуды – какое-то тайное боевое искусство, и Юсуф в совершенстве им овладел.
Вернувшись за стойку, Юсуф вдруг сказал: «Мне кажется, вы должны хорошо играть в нарды. Хотите партию? Я очень давно не играл, да и вы тоже».
Я не успела не то что ответить, даже обдумать его предложение, а передо мной уже лежала маленькая карманная доска с крошечными магнитными шашечками; считается, что дорожная, у меня тоже такая есть, хотя сама не знаю, зачем ее купила, играть-то мне не с кем, ни дома, ни в дороге. Я живу одна и путешествую тоже одна. И действительно очень соскучилась по игре.
– Странно, – сказал Юсуф, когда я бросила кубики, – почему-то мне кажется, что в последний раз вы играли в нарды со смертью. Но это все-таки вряд ли. Смерть не играет в настольные игры с людьми.
Я уставилась на него, забыв сделать ход: что за чушь?! Но потом кое-что вспомнила и удивилась еще больше. И рассмеялась, потому что правда вышло смешно.
– В последний раз я играла в нарды с папой, – наконец сказала я. – Но знаете где? В похоронном бюро! Он там одно время работал администратором, или что-то вроде того; не знаю, я не вникала, слишком далеко друг от друга живем. Несколько лет назад приезжала в гости, зашла за папой к нему на работу, чтобы вместе идти в ресторан, а ему надо было кого-то дождаться, не то взять, не то отдать ключи; в общем, тогда мы с ним и поиграли, хороший способ скоротать полчаса.
– А, – с явным облегчением кивнул Юсуф, – да, так понятно. А то получалась какая-то ерунда.
– Но откуда вы вообще взяли?.. – начала было я, но он меня перебил:
– Ваш ход.
Даже не знаю, почему не стала требовать у него объяснений. Скорее всего, потому, что и сама понимала: что ни скажет, все равно не поверю. А если поверю, тем хуже. Мне потом с этим жить.
Первую партию я выиграла, вторую проиграла, третью и четвертую снова выиграла, обе с минимальным преимуществом, зато пятую продула как-то совершенно позорно, а перед началом шестой мы вдруг обнаружили, что уже половина первого. И Юсуф предложил: «Отыграетесь завтра. Вам же, наверное, рано вставать».
Назавтра я и правда отыгралась, выиграла три партии из четырех. Немного опасалась, что теперь придется играть каждый вечер, и мне быстро надоест, а Юсуф так искренне радуется что нашел наконец подходящего партнера для любимой игры, что мне будет проще сменить кофейню, чем придумать, как вежливо ему отказать. Но Юсуф больше не вспоминал о нардах, так что примерно через неделю я сама предложила сыграть, и он просиял: «Отлично! Я уже очень соскучился, но не хотел вам надоедать».
В подобных случаях обычно говорят: «Так мы и подружились». Но даже наедине с собой я могу сказать только: «Так мы… не знаю что». Потому что я правда не знаю, что именно произошло между нами. И произошло ли вообще хоть что-то. По большому счету, мы с Юсуфом из «Черной чашки» просто стали регулярно играть в нарды, примерно раз-два в неделю. А иногда вместе выходили покурить.
Однажды мы курили у входа в кафе, а по площади, мимо военного министерства шли моряки в красивой парадной форме. Не знаю, как их к нам занесло, у нас не портовый город; впрочем, неважно. Я тогда почему-то призналась Юсуфу:
– Я в детстве хотела стать моряком, представляете?
– А я – джинном, – откликнулся он.
– Кем?! – переспросила я, в полной уверенности, что ослышалась.
– Джинном, – повторил Юсуф. – Всемогущим, как в сказках, только, конечно, без лампы. Чтобы не выполнять желания любого дурака, который ее найдет, – и, помолчав, добавил: – Но я, кстати, до сих пор не передумал. Работаю в этом направлении. Делаю, что могу.
– Джинном, значит, – растерянным эхом откликнулась я. – Духом, созданным из чистого бездымного пламени. Хорошая, должно быть, профессия. Губа не дура у вас.
– Не дура, – спокойно подтвердил Юсуф. – Но человеку трудно стать джинном.
– Трудно, но все-таки можно?
– Точно пока не знаю. Надеюсь, что да, – сказал он, выбросил докуренную сигарету и исчез за дверью кафе. Я вошла следом; Юсуф как раз ставил перед очередным клиентом чашку с только что сваренным кофе, как будто никуда не выходил.
Три дня спустя, когда я снова застала Юсуфа у входа в «Черную чашку» с сигаретой в зубах, он, не поздоровавшись, сказал:
– Есть сорок правил, исполняя которые на протяжении достаточно долгого времени, человек может стать джинном. А может и не стать, тут уж как повезет. Не всякий человек подходит для превращения в джинна. Но пока не попробуешь, не узнаешь, подходишь ли ты.
Я так удивилась, что споткнулась и чуть не упала; и упала бы, если бы Юсуф меня не подхватил. Спросил:
– Не ушиблись?
А я спросила:
– Что за правила? Откуда вы их узнали? Как такое вообще может быть?
– Понятия не имею, – ответил Юсуф. – Может быть, они мне приснились. А может быть, пригрезились наяву. – И, рассмеявшись, добавил: – А может быть, я просто сам эти правила выдумал. У меня в детстве воображение было – о-го-го!
Мне почему-то стало так обидно, словно я уже твердо решила превратиться в джинна, дело оставалось за малым: получить инструкцию. И вдруг выясняется, что никакой инструкции нет, меня разыграли, умеренно остроумно и совершенно непонятно зачем.
– Извините, – поспешно сказал Юсуф. – На самом деле ничего я не выдумывал. Куда уж мне. Просто сперва сказал вам правду: «Они мне приснились», – сразу понял, как глупо это звучит, и попытался превратить разговор в шутку. Шутка явно не удалась.
– Нормально звучит. Всем время от времени снятся странные сны. И некоторые люди, включая меня, придают им довольно большое значение, – заметила я. И вошла в кафе, а Юсуф остался на улице со своей сигаретой. Но за стойкой он все равно почему-то стоял.
Кроме нас в «Черной чашке» никого не было, хотя время самое бойкое, вечер, в начале седьмого здесь обычно полно народу, куда они сегодня все подевались? Нет, правда, куда?
– Первое Правило Джиннов, – сказал Юсуф, ставя передо мной пиалу с зеленым чаем вместо привычного латте, – гласит: завладей семью вещами, на которые не имеешь права по рождению. Звучит как нечто невыполнимое, правда? Но я в свое время много об этом думал и понял, что не обязательно грабить караваны и убивать царей, чтобы занять их престол. Можно просто уехать из города, в котором родился, поселиться в другом, изучить его лучше, чем старожилы, полюбить, устроиться, завести дом, обрасти кучей приятелей, стать завсегдатаем в местных кофейнях, быть в курсе всех городских новостей, радоваться добрым переменам и огорчаться, когда в городе что-то не так, словом, сделать чужой город своим – вот вам и первый пункт.
– Это и правда не слишком сложно, многие так удачно переезжают, – согласилась я. – А еще что?
– Можно сменить имя, – улыбнулся Юсуф. – По крайней мере, я это сделал; специально выбрал арабское имя – в честь джиннов и просто потому, что я сам – человек другой культуры. Не араб, а наполовину белорус, а наполовину поляк. Мои родители никак не могли назвать ребенка Юсуфом. Никаких шансов! Тем не менее это теперь мое имя. Даже в паспорте записано. Менять документы хлопотно, но я решил, дело стоит таких трудов.
– И юбки вы поэтому носите? – не удержалась я.
– Конечно. Такая одежда по праву рождения мне определенно не положена, она считается женской. А я шестой год постоянно юбки ношу. Уже трудно представить, что раньше одевался иначе; на старых фотографиях какой-то странный незнакомец в штанах. В этом смысле мне, конечно, здорово повезло с эпохой: в наше время одевайся, как хочешь, ничего тебе за это не будет, разве только прохожие иногда оборачиваются, и детишки пялятся, как на клоуна, но это, как по мне, совсем не беда. А еще я курю.
– И что с того? – удивилась я. – Многие курят.
– Не понимая, что они делают, – усмехнулся Юсуф. – Дым некоторых растений, включая табак, предназначается в дар высшим духам. Я курю – возможно, вы обратили внимание – только сигареты из натурального табака. И таким образом, вдыхая дым, присваиваю чужую еду. Но высшие духи не против. Они на самом деле совсем не жадные. И любят делиться с теми, кто не забывает их благодарить.
Я хотела расспросить его подробнее про высших духов и сигареты, но в это время в кофейню наконец-то ввалилась развеселая компания студенток с разноцветными волосами, и Юсуф занялся их заказом, а я подумала: перекрасить волосы в какой-нибудь розовый, синий или фиолетовый цвет – это, наверное, тоже одно из возможных решений? Вроде бы, сходится: никто на этой планете не мог родиться с таким цветом волос. Интересно, а почему Юсуф не перекрасился? Это даже менее экстравагантно, чем ходить в юбке, по крайней мере, я не раз видела в городе мужчин с разноцветными волосами… И какие еще три вещи он беззаконно присвоил, если на то пошло? Увел чужую жену? Издал под своими именем украденную рукопись романа или хотя бы институтский диплом? Перерисовал чужое фамильное древо, заплатил за печать и теперь может хвастать дворянскими предками? Или выжил после смертельной болезни, присвоив себе саму жизнь? Долго еще ломала голову, но расспрашивать не решилась: захочет – расскажет сам.
Не рассказал. И вообще вел себя как ни в чем не бывало, так что я даже начала сомневаться: да был ли вообще тот странный разговор о правилах для людей, желающих превратиться в джиннов? Или просто приснился? В детстве я совсем не умела различать сны и явь, да и теперь путаюсь иногда.
Но месяца два спустя, во время очередной партии в нарды Юсуф вдруг сказал:
– Вы извините, что иногда сбиваю вас с толку своей болтовней. Со мной в этом смысле трудно: пятое Правило Джиннов велит говорить все, что взбредет в голову, не задумываясь о последствиях. И я стараюсь по мере возможности его выполнять.
– Если так, вы плохо стараетесь, – заметила я. – Я имею в виду, вы довольно редко говорите странные вещи.
– Так это потому, что они редко приходят мне в голову, – улыбнулся Юсуф. – Я в сущности скучный человек.
– А какие остальные правила? – рискнула спросить я. И тут же прикусила язык. Будь я на месте Юсуфа, мне бы совсем не понравилось, что кто-то бесцеремонно лезет в мои дела.
Но он не рассердился, только печально вздохнул:
– Я понимаю, как это некрасиво: заинтриговать и ничего толком не объяснить. Но, к сожалению, восемнадцатое Правило Джиннов запрещает раскрывать людям тайны. Нечаянно проболтаться можно, а намеренно рассказать, увы, нельзя. Я бы с удовольствием выдумал несуществующие правила, специально чтобы вас развлечь, но третье Правило Джиннов гласит, что лгать нельзя даже в штуку. А если нечаянно вырвалось, надо сразу же извиниться перед собеседником и признаться, что обманул. Это, пожалуй, самое трудновыполнимое правило, очень я с ним намучился, пока привык. Хорошо хоть умалчивать и недоговаривать разрешается, а то даже не знаю, как бы я дожил до этого дня.
– Да, всегда говорить правду довольно неудобно, – согласилась я.
Больше я его о правилах не расспрашивала, но однажды, вернувшись домой, нашла в кармане пальто салфетку из «Черной чашки», тоже, конечно, черную, на которой белым карандашом было написано: «Девятое Правило Джиннов: каждый день кого-нибудь удивляй». И почему-то обрадовалась, хотя, по идее, должна была рассердиться, что он залез мне в карман. Но Юсуф есть Юсуф, поди на него рассердись.
В ноябре, когда дни делаются все короче, а до солнцеворота еще так мучительно далеко, что в него почти невозможно поверить, мне стало хуже. Ничего удивительного, в это время мне всегда становится хуже, в смысле повеситься хочется даже во сне; на самом деле это не так страшно, как, наверное, можно подумать, страшно было только в первые годы, пока я не привыкла и не убедилась на опыте, что эта горькая вечная тьма не имеет надо мной особенной власти, точнее, что она – это не вся я. Кроме тьмы есть что-то еще, и оно твердо решило выжить, не для радости, которой мне, в силу устройства организма, не светит, а просто назло. Чтобы не достаться тьме на завтрак, обед и ужин, ишь, раскатала губу, обойдется! Что-что, а это пока в моей власти – заставить тьму голодать.
Поэтому я не только до сих пор не повесилась, но каждый день хожу на работу и даже не путаюсь в цифрах, чего только не сделаешь назло врагу. А что с кислой мордой, и вокруг меня густое черное облако, невидимое, но явственно ощутимое – ничего не попишешь, коллеги потерпят, благо у меня отдельный кабинет. Но другим людям меня в это время, конечно, лучше не видеть. Дело не в том, что я опасаюсь с ними рассориться или чем-то обидеть, просто иррационально боюсь, что их поглотит моя голодная тьма. Хотя, конечно, так не бывает. Чужая тьма никому не страшна. Умом я это понимаю, но все равно стараюсь ни с кем не встречаться, даже с родителями по телефону не разговариваю, только пишу короткие сообщения; к счастью, они верят, что с ноября до Нового года у меня на работе страшный завал.
Но в «Черную чашку» я, конечно, исправно заходила каждый день, по утрам и после работы; не такая я дура, чтобы отказаться от этого утешения, последнего аргумента в споре с тьмой, единственного недолговечного убежища от нее. Ради этих визитов я весь день копила силы; их худо-бедно хватало на одну почти искреннюю улыбку, с которой я говорила Юсуфу: «Привет». Он отвечал, как обычно, развлекал меня болтовней, несколько раз доставал из-под стойки нарды – за эти дары я была ему благодарна, хотя знал бы кто, сколько усилий мне стоило их принимать.
Однажды во время игры – я как раз начала выигрывать и почти по-настоящему этому радовалась, ну, насколько могла – Юсуф вдруг сказал: «О. Кажется, это можно убрать», – и коснулся моего лба; жест совершенно неуместный, но безобидный, так проверяют, не поднялась ли температура. Я даже не отшатнулась, но удивилась: чего это он? Но не успела спросить, потому что расплакалась. Сама не знаю, как это произошло, обычно я очень сдержанная, даже наедине с собой.
Ничего не случилось, поступок Юсуфа меня не обидел, только чуть-чуть удивил, но я рыдала, как в раннем детстве, когда любое огорчение – горькое горе, малейший испуг – лютый ужас, а пустяковая обида невыносима, и кажется, что все это – навсегда. Юсуф сохранял полную невозмутимость, только выдал мне пачку салфеток и сказал:
– Двадцать первое Правило Джиннов гласит: «Когда хочется плакать, плачь». Вам, конечно, эти правила исполнять необязательно, зато мне есть, чему поучиться. Отлично вы плачете, даже зависть берет.
Услышать про зависть почему-то было так смешно, что я рассмеялась сквозь слезы. А досмеявшись, обнаружила, что слезы наконец-то закончились. И сказала Юсуфу:
– Хорошо. Значит, я могу не извиняться. И не объяснять свое поведение. Тем более, я все равно не знаю, как его объяснить.
Он отмахнулся:
– Еще и не такое бывает. Лучше делайте ход, пока я не воспользовался вашим положением и не начал переставлять шашки. Правила правилами, но я с рождения жулик, а против природы не попрешь.
Как-то мы доиграли; кажется, я даже выиграла эту партию, впрочем, не поручусь, очень плохо помню, чем закончился вечер. И только по дороге домой, заметив, что кручу в руках сложенный зонт, словно бы выполняя простенькое упражнение с мечом, поняла, что настроение у меня если и не отличное, то как минимум легкомысленное. И никакой тьмы во мне нет. Только снаружи, но она-то как раз совсем не страшная, мутно-желтая, призрачно-голубая, местами оранжевая из-за фонарей.
Тьма не вернулась ко мне ни во сне, ни наутро, а к вечеру я уже почти не верила, что была какая-то тьма, превратившая мою жизнь в аккуратный, грамотно спроектированный филиал ада на одну условно грешную душу; на самом деле, очень условно, сколько там тех грехов. Помнить – помнила и вряд ли когда-нибудь забуду, но не всем измученным телом, как обычно даже выздоровев, вспоминают болезни, а только теоретически: «было – так».
Я, конечно, зашла в «Черную чашку» с утра, по дороге на работу, как почти всегда делала. Юсуф приветливо поздоровался, поставил передо мной эспрессо и убежал протирать столы; впрочем, все к лучшему, мне надо было спешить. Зато вечером он предложил выйти покурить, угостил своей сигаретой, как по мне, слишком уж крепкой, все-таки я совсем не высший дух. И с нескрываемым, явно злорадным удовольствием любовался, как я давлюсь горьким дымом, наконец, милосердно отнял угощение, утешил:
– Ничего, я к ним тоже не сразу привык.
Дождался, пока я развернусь, чтобы войти обратно в кофейню, и прошептал, почти касаясь губами затылка:
– Пятнадцатое правило джиннов гласит: «Не печалься о чужих болезнях, скорбях и бедах, но если можешь исцелить, исцеляй».
А когда я переступила порог «Черной чашки», он, конечно, был уже там, стоял, склонившись над кофейной машиной, то ли исправлял какую-то поломку, то ли просто фильтры менял, такой серьезный и сосредоточенный, что я не решилась спросить, какого черта он дурит мне голову. В смысле, сказать, что я теперь, кажется, должна ему целую жизнь. И не знаю, чем отдавать такой долг. И не факт, что придумаю. В общем, я промолчала, но Юсуф все равно ответил, на миг оторвавшись от недовольно фыркающей машины: «Не все долги надо отдавать».
С Рождества до Нового года в нашей фирме каникулы, и на эту неделю я всегда уезжаю куда-нибудь к морю, в тепло. Я люблю путешествия, можно сказать, только ради них и работаю, а возможность удрать из нашей темной мокрой зимы в чужое вечное лето – это настоящее счастье, в той форме, в какой оно вообще доступно для меня.
Билеты я всегда покупаю заранее, еще весной. И гостиницу заказываю примерно тогда же. Потом цены начинают расти и к осени взлетают до почти немыслимых, но дело, конечно, не только в этом; то есть на самом деле вообще не в этом, экономна я только в теории, на практике мне плевать. Просто к началу каникул от меня обычно остается так мало, что добровольно пальцем не пошевелю, а оплаченные билеты тянут меня как на аркане – туда, где будет почти хорошо. Нехитрый трюк, но со мной он неизменно срабатывает: я не люблю, когда рушатся мои планы. Терпеть этого не могу.
На этот раз все было иначе – в том смысле, что меня не надо было тащить на аркане, я сама подпрыгивала от нетерпения, предвкушая поездку: если уж раньше солнце и море меня хоть немного, да радовали, то как же отлично там будет сейчас!
За несколько дней до праздников я увидела объявление на дверях «Черной чашки». Там было написано: «В Сочельник кофейня будет работать до полуночи, ждем всех, кому одиноко в Рождество». Я сперва очень обрадовалась такой прекрасной идее, но потом вспомнила, что улетаю двадцать четвертого, сразу после обеда, так что не для меня этот праздник. Так и вошла в растрепанных чувствах, улыбаясь и чуть не плача. На вопросительный взгляд Юсуфа честно ответила:
– Огорчилась, что не попаду на вашу рождественскую вечеринку. Еду в отпуск, двадцать четвертого днем самолет.
– И правда жаль, – согласился он. Больше ничего не сказал, даже, кажется, ободряюще улыбнулся одной половиной рта, но вернувшись домой, я поменяла билет на двадцать пятое. Страшно вспомнить, какую пришлось добавлять доплату, но денег было совсем не жаль. Чувствовала себя полной дурой, и это свежее, яркое ощущение захватило меня целиком.
Юсуфу я ничего не сказала. Решила, пусть будет сюрприз. Сам говорил, что девятое Правило Джиннов велит каждый день кого-нибудь удивлять. Вернее, написал на салфетке. Я ее тогда приколола кнопкой к доске для записей в коридоре; так до сих пор и висит.
По дороге я, помню, подумала: «Вот будет номер, если кофейня закрыта!» – и тут же отругала себя за глупость. Юсуф написал объявление, значит, будет работать. Кому и верить, если не ему.
Свернув на площадь, я увидела, что в «Черной чашке» горит свет, и прибавила шагу. Впрочем, я всю дорогу очень быстро шла, даже жарко стало, хотя была в легком осеннем пальто – очень уж теплый выдался вечер. У нас почти всегда «черное», то есть бесснежное Рождество.
Юсуф курил у входа, заметил меня издалека, поднял руку в приветственном жесте. Сказал:
– Не надеялся, что вы придете. – Подумав, добавил: – Но все равно верил, что будет именно так. Надежда и вера, сами знаете, разные вещи.
– Разные, – подтвердила я.
Я думала, в кофейне этим вечером будет или совсем пусто, или, наоборот, людно и празднично. Но не угадала: вечером Сочельника в «Черной Чашке» все было как всегда, точнее, как ранним вечером воскресенья: народу немного, зато все расслабленные и довольные, заказывают чаще чай лате, чем кофе, многие берут пирожные, и никто никуда не спешит. Вот и сейчас за одним столом сидела рыжая парочка, которую я здесь время от времени встречала, за другим – маленькая кудрявая женщина, невзрачный коренастый мужчина средних лет и высокий блондин, за обе щеки уписывающий шоколадный торт; этих я, кажется, тоже видела пару раз. А на подоконнике, теоретически предназначенном для романтических юных дев, расположились два здоровенных дядьки, еле втиснулись, бедные, и вот их-то я точно видела в первый раз, а то бы запомнила: у одного глаза ярко-зеленые, как огни светофора, у второго к разбойничьей роже прилагались совершенно детские ямочки на щеках.
Юсуф поставил передо мной высокую прозрачную чашку с кофе и шапкой взбитых сливок, сказал:
– По случаю праздника с настоящим ямайским ромом. Называется «Фарисей». Его положено пить, не размешивая, сквозь сливки, но если очень хочется, так и быть, размешайте. Слова дурного вам не скажу.
И подхватив еще две таких чашки, понес их дядькам на подоконнике. Вернувшись, достал нарды, подмигнул мне:
– Когда еще и играть.
То ли кофе с ромом на меня так подействовал, то ли просто общая атмосфера, но я продула четыре партии кряду, чего прежде никогда не случалось. Мы с Юсуфом всегда играли примерно на равных, даже я чуть-чуть лучше, логика и расчет – моя сильная сторона. Но, похоже, вся моя логика улетела в отпуск вовремя, в отличие от остальной меня.
– Не огорчайтесь, – сказал Юсуф после четвертой партии. – Мне сегодня с самого утра везет, аж голова кругом. Такой уж день. Идемте лучше покурим, пока никто не хочет добавки. Надо ловить момент.
– …Последнее, сороковое правило Джиннов гласит: «Исчезая из мира людей, можно выбрать, в чьей памяти ты останешься», – сказал Юсуф, прикурив свою черную сигарету. – Мне это нравится. Как-то я не готов вот так сразу совсем с концами исчезать. Как вы на это смотрите?
– На что? – опешила я. – На перспективу исчезнуть с концами? А что, знаете, может, я и не против – если не прямо сейчас.
– Ну что вы. Куда вам сейчас исчезать, – совершенно серьезно ответил Юсуф. – Вы, можно сказать, только жить начали… я имею в виду, делать это с удовольствием. Не самый подходящий момент все бросать. Я хотел спросить, как вы посмотрите, если я останусь именно в вашей памяти? Мне кажется, вам это скорее понравится, чем повредит, но мало ли, что мне кажется. Может быть, вы не такая, как я себе представляю. Я довольно плохо разбираюсь в людях. И вообще фантазер.
Этот разговор мне не нравился. Какой-то он был не праздничный. Недостаточно легкомысленный для новой, сегодняшней, глупой, счастливой меня. И я честно попыталась разрядить обстановку:
– В моей памяти вы все равно останетесь, хотите того или нет. Некоторые вещи не забываются. Одни ваши юбки чего стоят! Нет уж, такие воспоминания я ни за какие сокровища не отдам.
– Отлично, – кивнул Юсуф. – Значит, по рукам.
И действительно протянул мне руку. Пришлось ее пожимать. Ладонь у него была такая горячая, словно он только что вышел из сауны. Или специально на радиаторе руки грел.
В награду за покладистость я получила еще порцию «Фарисея». И еще одну. Вечер набирал обороты, в «Черную чашку» ввалилась компания трезвых, но возбужденных туристов во главе с крупной дамой в шапочке Санта-Клауса, которая восторженно повторяла: «А я вам говорила, это Вильнюс! Самый чокнутый город на свете! Здесь даже в Сочельник работают кофейни! Убедились теперь?» Юсуф угостил их кофе за счет заведения и прибавил громкость на магнитоле, которая тихо напевала что-то себе под нос в дальнем углу. Рождественские гимны сменились танцевальной музыкой; после какого-то по счету «Фарисея» я внезапно обнаружила себя танцующей невообразимо дикую пародию на танго в объятиях незнакомца с разбойничьей рожей, причем, кажется, где-то под потолком. Впрочем, это обстоятельство смутило меня только наутро, когда я, невыспавшаяся, но неописуемо довольная собой и жизнью, волокла вниз по лестнице чемодан, пытаясь вспомнить, как вернулась домой.
Правильный ответ: да никак не вернулась. Просто почему-то проснулась там.
Семь дней отпуска пролетели, как один очень длинный, ленивый, утомительный, скучный, веселый, солнечный, пасмурный, заполненный одиночеством и болтовней с незнакомцами день. А что в ходе этого дня несколько раз прилегла ненадолго поспать – так это обычное дело на южном морском курорте, где размеренно тянется и незаметно пролетает наша чужая, под проценты одолженная у скупердяйки-судьбы жизнь. Мне она всегда нравилась больше, чем настоящая, могла бы, застыла бы в этой капле солнечной теплой смолы навсегда, но на этот раз мысли о возвращении домой не портили мне удовольствия, а, наоборот, взбадривали. «Прилечу ранним вечером, – думала я, – и сразу пойду в “Черную чашку”. И тогда…» Я понятия не имела, что будет тогда. Скорее всего, ничего особенного: Юсуф приготовит мне латте, скажет: «Долго вас не было», – и достанет нарды. Ну или просто позовет покурить. И расскажет еще что-нибудь о Правилах Джиннов, или, что гораздо более вероятно, о них помолчит, но так выразительно, что лучше любого разговора. А может, вообще ничего не произойдет. Меня в равной степени устраивали все варианты. Кроме одного, но его я предвидеть никак не могла.
Кофейни «Черная чашка» на площади напротив военного министерства не было. И вообще никакой кофейни. В том месте, где мы с Юсуфом курили у входа, теперь была только стена, причем не стена здания, а просто сравнительно невысокая ограда, отделяющая площадь от территории Президентуры; я и сама не понимала, где тут могла умоститься кофейня. Но она была! Совершенно точно была, несколько лет. Называлась «Черная чашка»; господи, да у меня дома салфетка из этой кофейни, я только что оттуда, своими глазами видела: салфетка висит!
Я так растерялась, что несколько раз зачем-то обошла площадь, превращенную в стоянку для автомобилей работников военного министерства, потом пошла вдоль стены, сунулась в открытую калитку, попала в проходной двор, через который часто возвращалась домой из кофейни, вцепилась в первого встречного старичка: «Скажите, пожалуйста, здесь рядом недавно было кафе…», но по выражению его лица поняла, что расспросы бесполезны, кафе моего собеседника совершенно не интересовали, вне зависимости от того, рядом они находятся или нет.
Я больше никого не пыталась расспрашивать, а собралась с духом, взяла телефон, вошла в интернет, отправила запрос: «Вильнюс кафе черная чашка». Поиск выдал мне кучу названий кафе и ресторанов: Caffeine, Mint Vinetu, Kinza и еще какую-то ерунду, не имеющую ни малейшего отношения к настоящей «Черной чашке», куда я ежедневно ходила, к Юсуфу, его юбкам, нардам и Правилам Джиннов, к нашему Сочельнику с «Фарисеями» и ко мне, счастливой, пьяной, танцующей танго, ужасно довольной своей жизнью, хотя так и не ставшей моряком.
Я даже теперь совсем не чувствовала себя несчастной. Растерянной – да. Сбитой с толку. Огорченной. Испуганной. Очень сердитой. Но несчастной – нет. Если бы сейчас передо мной появился Юсуф, я бы, наверное, его поколотила – не по-настоящему, не всерьез, как любимые младшие сестры дубасят кулаками своих терпеливых братьев, от всего сердца, но вполсилы, твердо зная, что сдачи им не дадут.
Дома я сразу метнулась к доске в коридоре: висит салфетка? Слава богу, висит. И надпись цела: «Девятое Правило Джиннов: каждый день кого-нибудь удивляй». Юсуф, конечно, молодец, хорошо выполняет правила. Вот уж удивил так удивил.
Тогда я вспомнила еще одно, не помню, какое по счету правило: «Когда хочется плакать, плачь». И дала себе волю. В смысле разревелась прямо в коридоре, даже пальто не сняла.
А потом слезы закончились. Их всегда оказывается гораздо больше, чем можно предположить, но все-таки меньше, чем нужно, чтобы плакать вечно. И я, шатаясь от слабости, и придерживаясь за стену, пошла на кухню, чтобы пополнить запас. В смысле выпить воды.
Даже не включая свет, я увидела, что на кухонном столе лежит тетрадка. Совершенно точно не моя, бумажных тетрадей у меня в доме отродясь не водилось. Я их не покупаю уже много лет.
Тетрадка была горячая. Не настолько, чтобы обжечься, но чтобы согреться – в самый раз. Я долго сидела в темноте на табурете, поочередно прижимая тетрадь то к лицу, то к груди, то к коленям, то к шее, очень уж приятно было ощущать ее тепло.
Потом я все-таки включила свет. И увидела, что тетрадь очень старая, обложка, когда-то красная, выцвела до бледно-розовой. И аккуратная надпись «Правила Джиннов» поблекла, но все-таки была вполне различима. Я открыла ее на последней странице, повинуясь детской привычке начинать читать книги с финала, чтобы сразу узнать, чем дело закончилось, и потом не особо переживать. Там было написано: «Тридцать девятое правило: при всякой возможности делай подарки, которых сам никогда не получал».
Проход Йоно Меко (Jono Meko skersvėjo takas) Сквозной проход
– Какая сегодня будет улица? – спрашивает Нёхиси.
Знает, что в качестве секретаря я прекрасен, как свальный грех всадников Апокалипсиса, но спрашивает все равно.
Его счастье, что я честный. И не делаю вид, будто пытаюсь вспомнить то, чего никогда не знал. А просто корчу первую попавшуюся дурацкую рожу и говорю:
– Да какая пожелаешь.
Мое счастье, что он азартный. И вместо того, чтобы испепелять меня негодующим взором, радуется:
– Забыл? Отлично! Значит, можно погадать.
На свет божий появляется шляпа. Откуда она появляется – отдельный вопрос. Обычно я в таких случаях говорю (в том числе, и себе), что Нёхиси достал ее из рукава, как фокусник. Но сейчас он выглядит, как довольно крупный солнечно-рыжий кот. Какие могут быть рукава у кота.
Что касается меня, в данный момент я выгляжу как человек. Относительно невидимый, то есть видимый не всем подряд. Однако руки у меня на месте, и это не настолько хорошая новость, как может показаться. Она означает, что я обречен писать.
На свет, по-прежнему божий, извлекаются – на этот раз хотя бы ясно, что из шляпы – школьная тетрадка в линейку и карандаш.
– Записывай! – командует Нёхиси. – Я буду диктовать.
Что с ним поделать, записываю названия улиц Старого города, благо Нёхиси помнит их наизусть. Ну то есть как – теоретически считается, что помнит. А на практике всякий раз получается разное количество. Несколько лет назад было сто восемь, как имен у Шивы или бусин на буддийских четках; я, помню, очень радовался этому совпадению, носился с ним, как с писанной торбой, пока при следующем подсчете улиц не оказалось сто двадцать шесть. Потом их вдруг стало сто четырнадцать, потом сто пять, потом внезапно сто тридцать одна, и я окончательно махнул рукой на подсчеты. Так до сих и не понял – то ли память Нёхиси не столь совершенна, как, по идее, положено всемогущему существу, то ли число наших улиц действительно непостоянно, причем само по себе – лично я в их дела до сих пор никогда не вмешивался и по своей воле ничего не менял. Хотя, может, и следовало бы. Любой бардак должен либо быть немедленно упорядочен, либо с самого начала организован мной.
На этот раз улиц у нас сто девятнадцать. Ладно, тоже хорошее число. Бумажки мы, разумеется, складываем в шляпу, чтобы вытянуть одну наугад. Отдельный вопрос, кто ее будет вытягивать. Не то чтобы нам обоим настолько нет веры, жульничать самим неинтересно. Просто Нёхиси всемогущий или что-то вроде того, да и я не совсем пропащая душа. Заранее ясно, что любой из нас, сам того не желая, вытащит из шляпы бумажку с названием улицы, которую прямо сейчас по какой-то причине любит больше других. Это не то чтобы катастрофа, но какой тогда смысл гадать.
Поэтому мы сидим на низком подоконнике, рядом с витриной сувенирного магазина, где полчаса назад устроились со своим рукоделием, и озираемся по сторонам в поисках помощника. Довольно долго, надо сказать, озираемся. Не то чтобы нам нужен какой-то особенный человек. Любой, кто способен сейчас меня увидеть, вполне подойдет. Но в три пополудни, во вторник таких героев не то чтобы много: люди слишком заняты повседневными делами, а это здорово мешает видеть реальность такой, какова она есть – непостижимой, неопределенной и полной сюрпризов.
Одна надежда на туристов. Собственно для того они и уезжают из дома невесть куда, чтобы увидеть что-нибудь необычное. Например, меня.
Вот и сейчас нас выручает крупная черноглазая девица в зеленом пальто, с ярко-оранжевой шевелюрой и рюкзаком в виде розового клыкастого демона за спиной. Она пытается незаметно сфотографировать меня телефоном, но я перехватываю ее взгляд и говорю по-английски:
– А покажите, что получилось!
Это не просто повод заговорить, мне действительно интересно. По тому, что человек увидел на месте меня, можно довольно много понять о нем самом. А я люблю понимать.
С экрана телефона, любезно предоставленного смущенной девицей, на нас взирает здоровенный бритоголовый старец, с бородой, заплетенной в разноцветный косы. Нос у этого удивительного меня размером чуть ли не в полголовы, один глаз прикрыт пиратской повязкой, шея замотана ажурной вязаной шалью с кистями, камуфляжная куртка украшена брошью в виде божьей коровки, на руках тяжеленные перстни в форме черепов. Что тут скажешь, хорош засранец. Отличное чувство комического у девочки. И неплохой, хоть и несколько эксцентричный вкус.
Нёхиси, едва взглянув на снимок, задирает хвост и пулей удирает в ближайшую подворотню. Он молодец. Вряд ли эта милая барышня способна сохранить душевное равновесие, услышав, как басовито хохочет вполне обычный с виду уличный кот.
– Спасибо, – говорю я, возвращая телефон владелице. – Отлично получилось.
– А можно я вас еще раз сфотографирую? – осмелев, спрашивает она. – В другом ракурсе? В смысле вблизи.
– Можно. Но только при одном условии… – начинаю я.
На этом месте барышня заметно напрягается, явно прикидывая, не придется ли ей сейчас удирать от полоумного старца. Нормальная на самом деле реакция, я бы на ее месте тоже насторожился. От такого типа, каким я ей привиделся, чего угодно можно ждать.
– Просто достаньте из этой шляпы бумажку, – говорю я. – Одну, наугад.
– О, так я буду ярмарочным попугаем! – радуется она.
У меня на языке вертится: «Расцветка у вас для такой роли что надо», – но я благоразумно помалкиваю. С этими юными девицами никогда не угадаешь, какой комплимент их обрадует, а какой испортит настроение на ближайшие семьдесят лет.
– Так какая же у нас сегодня улица? – нетерпеливо спрашивает Нёхиси.
Барышня уже удалилась, предварительно сфотографировав меня примерно три миллиона раз. А он как раз досмеялся и вышел из подворотни, все такой же рыжий, по-прежнему кот. Этот облик он способен носить целый день, даже цвет не меняя. Все прочие надоедают ему гораздо быстрей.
– Очень странная, – говорю я. – Она даже не то чтобы улица. А какой-то сквозняк имени Йонаса Мекаса[1] – если дословно. Знаю художника с таким именем[2], но что в его честь назвали некий проход, впервые слышу. Это вообще где?
– Ну здрасьте. Это же твоя любимая лестница от Ужуписа к Художественной академии. Где раньше ангел в арке висел, пока ты не подговорил его улететь.
– Не подговорил, а просто честно рассказал о разнообразии возможностей, открытых всем крылатым существам. Каждый гражданин, даже если он жестяной ангел, должен знать свои права.
– Ладно, – вздыхает Нёхиси. – Пусть так.
– Надо же, я даже не подозревал, что эта лестница считается отдельной улицей. И кстати, не помню, что записывал это название. Ты мне такое точно диктовал?
– Если твоя подружка достала бумажку из нашей шляпы, значит диктовал, – невозмутимо отвечает Нёхиси. – Иначе откуда бы ей там взяться, сам посуди. Чудес не бывает.
Смешно.
– Ладно, – говорю, – что теперь делать. Впрочем, место вполне подходящее для игры. В каком-то смысле, даже наилучшее из возможных. Пошли?
– …Здесь что, вообще никто никогда не ходит? – возмущается Нёхиси. – Мы сидим уже три часа!
На самом деле максимум десять минут. Но у каждого свое ощущение времени, поэтому спорить бессмысленно. Только сочувственно покивать. И объяснить:
– Всего третий день, как более-менее потеплело. За зиму все привыкли, что ступеньки обледенели, поэтому вниз, к академии лучше ходить другой дорогой. Еще не успели сообразить, что лед растаял, вот и нет никого. Ничего, кто-нибудь да появится, куда они денутся. Не грусти. Хорошо же сидим.
Сидим мы и правда отлично, по крайней мере, с точки зрения кота: на заборе, обмотанном строительной сеткой. Будь мое тело чуть более человеческим, ни за что бы сюда не полез, но сегодня я в отличной физической форме, позволяющей элегантно воспарить над любыми обстоятельствами, включая неудобные для сидения поверхности. Всегда бы так.
– Ну вот! – наконец восклицаю я. – Смотри, кто-то здесь все-таки ходит. Не зря ждем.
– Какие девчонки хорошие!
От избытка чувств Нёхиси по кошачьему обычаю бодает меня в бок. Я отвечаю ему торжествующей улыбкой – видишь, я же тебе говорил!
Хотя проку от этих девчонок, честно говоря, никакого. Вчетвером идут. А по нашим правилам игрок обязательно должен быть один, иначе ничего не получится. Но все равно, почин есть почин, а красивые студентки Художественной академии, будем считать, хорошая примета. Теперь дело пойдет.
– Вот, – говорит Нёхиси, – Вот! Наконец-то. Идет одна. Смотри, какая красотка!
Я с энтузиазмом соглашаюсь:
– О да!
На самом деле вполне обычная женщина лет тридцати. В черном пуховике с капюшоном и джинсах в обтяжку, которые, будем честны, не делают ноги тоньше, а потому мало кого красят, но ей вполне можно такие носить. Хотя лично я…
На этом месте во мне некстати просыпается художник, что само по себе не беда, но он тут же будит своего непутевого брата дизайнера. Теперь я обречен мысленно наряжать незнакомку, приближая ее к существующему исключительно в моем воображении идеалу. Да столь увлеченно, что не сразу замечаю, как лестница исчезает, склон холма становится бескрайней равниной, залитой талой водой, так что казалась бы озером или даже морем, если бы из этой воды не поднимались высокие белоствольные деревья, по-зимнему голые, но с уже набухающими темно-вишневыми почками. Интересно, что из таких в итоге получится? Красные листья? Цветы?
Я смотрю, как женщина останавливается, прижав руки к груди; другие, оказавшись на ее месте, обычно озираются по сторонам, а эта застыла, как статуя, и только полы длинного серебристого плаща трепещут на теплом влажном ветру, как па…
Бездарное на самом деле сравнение. Никуда не годится. При чем тут какие-то паруса.
– Плащ – твоя работа? – деловито спрашивает Нёхиси. – Или она сама?
Пожимаю плечами.
– Поди теперь разбери. Ты лучше посмотри, какие у нее здесь удивительные облака. Ты такие когда-нибудь видел?
– Видел, – подумав, кивает Нёхиси. – Такие прозрачно-зеленые, сияющие, как будто их подсветили лампой, иногда проплывают на границе между сновидениями шестого и седьмого уровня погружения, которых обычно никто не помнит наяву. А эта красотка себе оттуда облака утащила – что тут скажешь, молодец.
В этот момент женщина тяжело оседает на землю, и мы оба сразу понимаем: с нее хватит. Пора немедленно прекращать. Хотя разыгравшееся пространство, будь на то его воля, еще бы пару минут в таком виде с удовольствием покрасовалось. Но на сегодня – все.
Миг спустя наваждение рассеивается, вместо серебристого плаща на женщине снова черный пуховик, вместо зеленых сияющих облаков – наши обычные февральские тучи, а вместо залитой водой равнины – склон холма, строительные заборы, стены домов и частично отремонтированная лестница, на одной из ступенек которой она и сидит. Ничего страшного не случилось, даже не примерещилось, просто шла, как всегда замечтавшись, не смотрела под ноги, споткнулась, и вот результат.
Меньше, чем я втайне рассчитывал. Но все-таки лучше, чем ничего.
– Гораздо лучше, чем ничего, – говорит мне Нёхиси. – Она, конечно, забудет. Вернее, скажет себе, что ей даже нечего забывать. Зато этот холм не забудет, как был мокрой весенней равниной и как в талой воде отражались сияющие облака. Такого воспоминания ему всю жизнь не хватало.
Ну, это да.
Трудно сказать, для кого мы на самом деле играем. Ясно, что в первую очередь для себя – как и все, что делаем. Но не только.
Нёхиси считает, что земле, на которой построен наш город, очень полезно время от времени ненадолго превращаться во что-то такое, чем она никогда до сих пор не была. Я с ним не спорю, но втайне болею за игроков – за случайных прохожих, оказавшихся в нужное время в нужном месте, где можно увидеть свой персональный утраченный рай, подлинную причину вечной неосознанной горечи, невыразимую тайную родину своего сердца. Формулировки, конечно, никуда не годятся, просто я не знаю, как еще можно назвать пейзажи, возникающие перед взорами одиноких прохожих, когда мы с Нёхиси вытаскиваем наугад из шляпы очередную бумажку с названием улицы, которой суждено пережить кратковременные удивительные превращения, занимаем места на галерке и принимаемся ждать. Все остальное наши игроки делают сами. То есть мы не подсовываем им собственные наваждения. Наоборот, затем и играем, чтобы увидеть чужие. Не только, конечно, но в том числе и затем.
Вот о чем я думаю, пока мимо нас проходит очередная шумная компания студентов, за ними старушка с внуком примерно пяти лет и парочка туристов, безостановочно фотографирующих телефонами наши живописные руины и разноцветные граффити на стене.
Хорошие ребята, но, увы, не в игре.
– Мальчишка! – оживляется Нёхиси. – Смотри, какой отличный мальчишка! И один, без спутников. Это он большой молодец.
«Мальчишке» вот так навскидку вряд ли меньше пятидесяти. Но это видят мои неисправимо человеческие глаза, а Нёхиси своими кошачьими, как говорят в таких случаях, прозревает самую суть. Поэтому мое дело маленькое – засунуть в задницу свои суждения и почтительно внимать.
Длинный и тонкий, как богомол, в очках с толстыми стеклами, с трижды обмотанным вокруг тощей шеи полосатым вязаным шарфом, одетый скорее небрежно, чем по-настоящему бедно, наполовину русый, наполовину седой, наш мальчишка вприпрыжку бежит по лестнице, того гляди взлетит. И похоже, его совсем не смущает, что лестница идет уже не вниз, к реке, а вверх по заросшему какими-то дикими синими травами склону горы, такой высокой, что даже нам с Нёхиси не разглядеть ее вершину; похоже, эта гора бесконечна, никакой вершины у нее просто нет.
– Смотри, совсем не испугался, – одобрительно говорит Нёхиси.
– Или вообще не заметил, что стало… эээ… немного не так?
Словно бы отвечая на мой вопрос, очкарик смеется громко и торжествующе: наконец-то вышло по-моему! – вот о чем его смех. А когда гора с синей травой исчезает, сменяясь обычным пейзажем, он на ходу, не замедлив шаг, даже не сбившись дыханием, грозит небу неожиданно большим при его худобе кулаком. Можно подумать, это у них старый спор.
– Это у них старый спор, – вслух произносит Нёхиси. – У мальчишки со всем остальным миром, я имею в виду. Он с детства хотел усилием воли изменить реальность, почти все равно каким образом, лишь бы своими глазами увидеть, как – ну, к примеру, на ровном месте вырастает самая высокая в мире гора. Или залитая асфальтом площадь становится рощей столетних дубов. Или болото знойной пустыней. На самом деле, ему все равно, что во что превратится. Или почти все равно.
– И, судя по тому, как он держался, у него уже кое-что получалось, – улыбаюсь я. – Это явно не первый раз.
– Только подолгу удерживать не умеет, – кивает Нёхиси. – Оно и понятно: здешняя материя все-таки чересчур инертна, даже для меня. Надо постараться не упускать его из виду, это хороший партнер для большой игры. Если забуду о нем, напомни. Договорились?
Не будь он котом, я бы сейчас повис у него на шее. Но не на чем там пока повисать, придется для выражения своих сложных и сильных чувств воспользоваться строительным забором, должен же быть от него хоть какой-нибудь прок.
– Отлично кувыркаешься, – одобрительно говорит, глядя на мои упражнения, Нёхиси. – Не знал, что ты акробат.
Словно бы в ответ на мое веселье, на лестнице появляется еще один мальчишка. Этот уже настоящий, я имею в виду, он выглядит, как подросток, каковым, строго говоря, и является. Навскидку, не больше пятнадцати лет.
– Ты его помнишь? – взволнованно спрашивает Нёхиси. – Очень везучий! Он уже дважды нам попадался: на Кафедральной площади и…
– И возле горы Трех Крестов[3], – подхватываю я. – Причем оба раза видел одно и то же: белый замок, похожий на Нойшванштайн[4], только примерно вчетверо выше. И такой сияющий, словно его строили специально приглашенные ангелы из материалов, выписанных с небес. А вот, собственно, и он.
Белый замок уже тут как тут, он красуется на вершине горы Трех Крестов, по такому случаю изрядно подросшей, покрывшейся снегом и окружившей себя другими ледяными вершинами. Наш мальчишка, взмахнув руками, переходит на бег, а мы – что мы. Смотрим ему вслед и мысленно делаем ставки: сколько продержится? Хорошо бы не меньше минуты. Пусть получится! Давай! Впрочем, на самом деле, дольше одного восхищенного вздоха – уже превосходный результат.
Мальчишка давным-давно скрылся в зарослях у реки, предположительно свернул к мосту, а замок по-прежнему ослепительно белеет на фоне заснеженной горной гряды.
– Третья минута пошла, – говорит Нёхиси, почему-то шепотом, хотя никого, кроме нас, сейчас на лестнице нет.
На пятой минуте небесный Нойшванштайн все-таки исчезает, как и положено недолговечному видению. И я удивлением понимаю, что втайне от себя самого надеялся: а вдруг он теперь навсегда? А ведь взрослый вроде бы че… Ладно, не человек, а черт знает кто, но все равно взрослый. И прекрасно знаком с правилами этой игры; более того, добрую их половину выдумал сам. Ну я даю.
– Ну он дает! – восхищенно вздыхает Нёхиси. И, помолчав, добавляет: – Надеюсь, мальчик не очень огорчился, что замок не навсегда.
– Еще как огорчился, – говорю я. – Лично я на его месте сейчас бы в голос рыдал. Но это огорчение – естественная составляющая выпавшего ему счастья, так что пусть будет. Главное, что не испугался. Всерьез испортить такое событие может только страх. Вот женщину в черном мне действительно жалко, а этим двоим впору позавидовать. С ними случилось необъяснимое. Невероятное, невозможное. И им теперь с этим жить.
– Ну слушайте, как так можно? – укоризненно говорит Таня, – Неужели вам людей совсем не жалко? Ни капельки, да?
Мы изумленно переглядываемся. Откуда она здесь взялась? Только что не было никакой Тани, и вдруг – здрасьте пожалуйста, младший инспектор Граничной полиции, тут как тут. Стоит не на лестнице, а во дворе, с другой стороны стены, в дурацкой полосатой пижаме и разноцветных носках, один розовый с желтой пяткой, второй – красный в синий горох; пожалуй, я тоже такие хочу. Но замечательные носки почему-то совершенно не улучшают Танино настроение. Сверлит нас укоризненно-огненным взором, как учительница математики, застукавшая своих лучших учеников курящими в школьном дворе.
Интересно, с каких это пор сотрудники городской Граничной полиции взяли моду лезть в наши дела? Вообще-то им не положено, у нас на этот счет договор. С другой стороны, судя по носкам и пижаме, Таня сейчас не на службе. Просто дома после дежурства вздремнуть прилегла. Так что даже не придерешься. Кто угодно имеет полное право видеть нас с Нёхиси во сне – если сумеет. А Таня – талантливая девочка, далеко пойдет, несмотря на удивительную кашу в кудрявой голове.
– Нет, – наконец отвечает Нёхиси. – Нам никого не жалко. А должно быть? За что тут жалеть?
– Сам бы хотел оказаться на их месте, если бы не сидел уже на своем, – добавляю я. – Это же такое отличное приключение: идешь себе по делам, ничего особо интересного не ожидаешь, и вдруг – хлоп! – полная смена реальности. Счастье как оно есть.
– Это тебе только кажется, – хмурится Таня. – Привык судить по себе. Обычно людям совсем не нравится обнаруживать, что они сходят с ума.
– Нравится, не нравится, это не разговор, – отмахивается Нёхиси. – Мне вон тоже далеко не все нравится. И ничего, живу.
Танины глаза, и без того не то чтобы маленькие, становятся огромными, как блюдца. Ей бы сейчас собаку из сказки Андерсена на поводок, вышло бы очень смешно.
– Тебе не все нравится?! – потрясенно спрашивает она. – Вот уж никогда бы не подумала. Но что?..
– Например, инертность материи, – неохотно говорит Нёхиси. Он очень не любит жаловаться, но оставлять важный вопрос без ответа тоже как-то нехорошо. – Как ни бейся, норовит принять привычную форму. А я, знаешь ли, не привык, чтобы дела моих рук были менее долговечны, чем вечерний туман. Когда соглашался на эту работу, даже не представлял, насколько…
– Аууу! – перебивает его собака с глазами как чайные чашки.
Как и всякое существо, которому пришлось возникнуть из небытия вследствие моего легкомысленного решения, она сейчас в шоке. Но ничего, привыкнет, обживется, еще спасибо скажет. Всякому сказочному чудищу приятно стать чьим-нибудь сном.
– Господи, что это?! – восклицает Таня.
– Не «что», а «кто». Можно подумать, тебе впервые в жизни приснилась собака.
– Такая, можешь представить, впервые. И слушай, откуда у меня в руках поводок? Твои проделки?
С достоинством пожимаю плечами. Интересно, а чьи же еще. Но поводок все-таки исчезает. Обрекать этих двоих на общество друг друга, пожалуй, действительно перебор.
Почуяв свободу, собака вертит головой во все стороны, жадно нюхает воздух и наконец убегает в направлении выхода из двора. Ее намерения мне понятны: как можно скорей присниться еще куче народу. В четыре пополудни задача нетривиальная, но ничего, как-нибудь дотянет до ночи, и сразу станет легко.
– Один ты умеешь меня утешить, – укоризненно говорит Нёхиси. – Но эта собака мне тоже не слишком понравилась, извини. И все-таки думай прежде, чем делать. Хотя бы иногда. Для разнообразия. Забыл, что я сейчас кот?
– Лучше уж пусть тебя пугает, чем ни в чем не повинных прохожих, – мстительно хихикает Таня. – Ты всемогущий, переживешь. А люди…
– Тем более переживут, – отмахивается Нёхиси. И серьезно, насколько это вообще возможно, сохраняя кошачий облик, добавляет: – Человек, можно сказать, рожден для потрясений. И очень быстро портится, если его время от времени не трясти.
– Тише, – говорю я. – Сюда идут.
Таня делает трагическое лицо, но не уходит. Страшная правда о Тане заключается в том, что как бы она ни пыталась нас вразумить, на самом деле ей до смерти интересно увидеть, что будет. Это гораздо важнее, чем настоять на своем. И так каждый раз. Потому и говорю, что она далеко пойдет: любопытство – великая сила. И ключ вообще ко всему.
– Смотри, какая важная дама к нам приближается! – взволнованно шепчет мне Нёхиси.
Это даже я понимаю, хоть и не кот. В толстой, крашеной хной старухе, которая осторожно опираясь на палку, спускается к нам по лестнице, столько неописуемого достоинства и внутреннего огня, что вполне можно принять ее за странствующую королеву какой-то неведомой далекой страны.
– Я ее знаю, – говорит Таня. – Это мадам Мадлен, француженка, здесь, совсем рядом живет. Однажды приехала в Вильнюс на экскурсию с группой пенсионеров, и так ее что-то здесь зацепило, что решила остаться навсегда. Лет десять уже живет, если не больше. Я почему, собственно, в курсе: наше начальство любит устраивать познавательные экскурсии для новичков, и когда я только поступила на службу, меня сразу потащили смотреть сны мадам Мадлен, по ним как раз очень легко понять, как сновидения отдельных горожан влияют на состояние общегородского онейрологического поля. Она огромная молодец: украсила сновидения грушевыми садами – не только свои, все подряд – научила тополя завязываться узлами, вытерла пыль с фонарей и пригласила компанию призраков своих предков, потомственных циркачей, вы наверняка их много раз видели, ребята любят показываться на городских ярмарках, в том числе, наяву. А еще мадам Мадлен развела в сновидениях мелких, размером со стрекозу драконов – вот это действительно бесценный вклад!
– А почему бесценный? – удивляется Нёхиси. – Какой от них толк, если размером со стрекозу? Их же даже не разглядишь.
– Вообще-то, в сновидениях люди обычно гораздо внимательней, чем наяву. За любую незначительную деталь способны зацепиться и вырастить из нее целый мир. Но дело даже не в этом. Драконы старой Мадлен, как выяснилось, охотно едят пауков, которых безответственно развели в общем пространстве другие сновидцы, а те принялись обильно плодиться, уже до экологической катастрофы было недалеко. Но драконы численность этих красавцев быстренько подсократили. Что, на мой взгляд, отлично. Людям обычно не нравится видеть во сне пауков, и я не исключение.
– Просто ты не умеешь их готовить! – хором говорим мы с Нёхиси, и я тут же прикладываю палец к губам: наша важная дама едва ковыляет, но пока мы трепались, она уже прошла почти половину лестницы и приближается к нам.
Остановившись возле забора, прямо напротив моей свисающей сверху ноги, старуха задирает голову и некоторое время разглядывает меня с таким интересом, что я бы дорого дал за возможность узнать, кого она увидела на моем месте. Но привычки фотографировать незнакомцев телефоном мадам Мадлен не имеет. И отразиться мне здесь совершенно не в чем, увы.
Наконец нервы у меня не выдерживают, и я говорю:
– Добрый день!
– Добрый день, – приветливо отвечает мадам Мадлен. – Хорошо, что вы заговорили, а то я стояла, гадала, кто вы: манекен, наряженный мушкетером, или все-таки живой человек в костюме мушкетера. А спрашивать было неловко.
– Очень даже живой, – заверяю ее я. – Как мало кто в этом городе! – И решив, что надо как-нибудь объяснить свой экзотический облик, зачем-то возникший в воображении моей собеседницы, добавляю: – Жду коллег. У нас фотопроект.
– Искусство – это прекрасно, – величественно кивает старуха и наконец идет дальше. Шаг, передышка, еще один шаг.
Таня у меня за спиной беззвучно хохочет, закрыв рот руками. «Мушкетер! – восхищенно шепчет она. – Ты – и вдруг мушкетер!»
– Мушкетер короля, заметь, – с достоинством подтверждаю я. – А не какой-то бессмысленный гвардеец кардинала. Учись, как надо завоевывать женские сердца.
– Мне-то зачем? – изумляется Таня.
– Просто так, чтобы были. Лишнее женское сердце в хозяйстве никому не повредит.
– Вы так все пропустите, – укоризненно говорит Нёхиси. – А там есть на что посмотреть.
Там и правда есть на что посмотреть. Наша лестница теперь обрывается на краю невесть откуда взявшейся пропасти, но дело не в самой пропасти, а в том, что скрывается на ее дне, там, внизу, в позолоченной солнечным светом, жемчужной от влаги долине, где стоит город; впрочем, нет, не стоит, течет. Зыбкий и переменчивый, он словно бы соткан из дождей и фонтанов, струи, бьющие из земли и стекающие с небес, переплетаются и складываются в дома причудливых форм, с винтовыми лестницами на крышах, устремленными в небо и растворяющимися в облаках.
Вот это мадам Мадлен, вот это она выдала. Сколько я всего на своем веку перевидал, но подобного, кажется, никогда не…
– Никогда такого не видел, – говорит Нёхиси.
– Даже ты?!
– Даже я. Только однажды, очень давно слышал легенду – совершенно напрасно смеешься, я не шучу, там, откуда я родом, тоже есть легенды и сказки – о городе, который вечно идет, как дождь, одновременно оставаясь на месте. И жители города текут вместе с ним, ежесекундно изменяя свой облик, характер, взгляды и настроение, но при этом, конечно, оставаясь собой. Может быть, это он и есть? Ну и подарок! Ну и мадам Мадлен! Сумела меня удивить.
Тем временем, сама мадам Мадлен стоит на краю лестницы, в смысле у края пропасти и, не отрываясь, смотрит вниз.
– А ее сердце выдержит такое потрясение? – робко спрашивает Таня. – Она же старенькая совсем.
Я пожимаю плечами.
– Да чего там выдерживать. Выдержало же оно долгую жизнь без этого города. И без малейшей надежды хоть когда-нибудь… Ох!
Охаем мы втроем удивительно слаженным хором – особенно если учесть, что один из нас кот, вторая видит сон, и только я в достаточной мере человек, чтобы охнуть от ужаса и восторга в тот миг, когда грузная рыжая старуха отбрасывает в сторону палку, единственную надежную опору, связывающую ее с этой землей, и делает шаг вперед. И не падает; впрочем, и не взлетает, а становится ярким, рыжим от хны дождем и льется вниз.
– Это как же? – жалобно спрашивает Таня. – Что теперь с ней будет? Она упадет? Умрет?
– Скорей уж наоборот, воскреснет, – растерянно откликаюсь я.
– Некуда тут было падать, – напоминает Нёхиси. – Эта пропасть нам только мерещится, вы чего?
– Но она же правда исчезла, – голос Тани дрожит. – Ее нигде нет, а палка осталась, вон, валяется, в самом низу лестницы. И только не пытайтесь списать на то, что я сплю. Я-то, может, и сплю, а вы точно наяву все это творите. И мадам Мадлен пропала наяву.
– Да ладно тебе – пропала. Просто вернулась домой до срока. Там сейчас небось веселый переполох, и за вином в лавку уже побежали, – говорит Нёхиси. – Это мало у кого получается, – добавляет он. – На моей памяти она всего четвертая. Нам сегодня удивительно повезло.
Аллея Казё Шкирпос (Kazio Škirpos al.) Эффект Жаровски
Я как бог, никто в меня не верит
(случайно подслушанная реплика неизвестного прохожего)– …а тебе уже рассказывали легенду о Жаровски? Ну, про студента-гуманитария чуть ли не с кафедры востоковедения, который по рассеянности перепутал аудиторию, зашел на лекцию к математикам, где как раз разбирали полное доказательство теоремы Ферма, посидел, послушал, сказал: «Так можно же проще!», вышел к доске, написал буквально три строчки, извинился: «Вообще-то я с другого факультета», – и ушел, оставив аудиторию обтекать. На этом месте рассказчик обычно делает круглые глаза и сообщает, что профессор демонстративно посмеялся над выскочкой, но решение тщательно переписал в тетрадку, а двумя днями позже, конечно же, умер от инфаркта, а тетрадку – еще раз конечно же! – так и не нашли. Вот сразу ясно, что древняя история, сейчас бы все сфотографировали телефонами – если бы было что.
– Трижды, – улыбается Томас. – В том числе начальство, с назидательным выводом: вот почему своих студентов надо знать в лицо. По-моему, это такая типичная страшилка для преподов-новичков, как и все остальные истории про гениальных первокурсников, которые у нас вместо Гроба-На-Колесиках и Черной Руки – все знают, что их не бывает, но слушать все равно интересно. А ты откуда знаешь про Жаровски? Ты разве преподавал в нашем универе?
– Ну так друзья там работали, – пожимает плечами отец. – Они эту байку на хвосте принесли. Мы смеялись, что легенду явно сочинили гуманитарии, чтобы их боялись. Но никто их не боится все равно.
– Тем более, что перепутать аудиторию у них при всем желании не получится, – смеется Томас. – Из их корпуса к нашему через полгорода придется чесать.
* * *
– …папа рассказывал про одного чувака, они то ли учились вместе, то ли просто жили в одном дворе, так у него, представляешь, машины всегда заводились, – говорит Лена, закуривая третью по счету сигарету.
Господи, – думает Магда, – как же тянется время, когда ждешь эвакуатор, хуже, чем в любой очереди, кроме, может быть, той, которая в туалет. И Лена трещит, не умолкая. И ведь не попросишь заткнуться – обидится. Все почему-то обижаются, когда их просят немножко помолчать.
– …ни хрена не разбирался, – продолжает Лена, – хорошо, если вообще знал, как открыть капот. Может, даже сам не водил, не помню. Папа говорил, он вообще был гуманитарий – то ли философ, то ли филолог, что-то в таком роде. Просто вот такое у него было удивительное свойство: если сядет за руль, повернет ключ в замке зажигания, любая машина заведется, даже с севшим аккумулятором. Ты вообще представляешь, какие тогда были машины? Жуткое барахло. Зимой, в мороз, когда никто не мог завестись, у него под окном хором орали: «Жа-ров-ски! Жа-ров-ски!» – и он такой выходил, весь красивый, в импортной дубленке, как кинозвезда. Брал по рублю с носа, это в то время было, как сейчас… а даже не знаю. Вроде пару бутылок пива можно было купить. Ну значит, примерно три евро. Все равно дешево. Вот бы его сейчас сюда, этого папиного филолога! И никого не надо ждать.
– Ну слушай, – говорит Магда, с трудом скрывая раздражение, – ну так не бывает. При всем уважении к твоему папе, по-моему, это какая-то ерунда. Был, наверное, какой-нибудь сообразительный мастер, ходил по дворам в морозы, всех заводил, быстро и дешево; кто-то краем уха что-то не то услышал, и привет, готова городская легенда о мироточащем философе-автомеханике… О, смотри, кто-то едет. По-моему, это к нам.
* * *
– …и на этом несуществующем языке писал стихи, – говорит Марк.
– Стихи на несуществующем языке? – недоверчиво спрашивает Элла. – А твоя мама их видела вообще?
– Их никто не видел. Этот… – как его звали-то? – Вацлав, Вацлав, Вацлав… Жарковский? Жароцкий? Жаровский? – ладно, на самом деле неважно – так вот, он их прятал. Закапывал куда-то, я толком не понял. В общем, делал какие-то тайники.
– Да ладно! – смеется Элла. – Тайники он делал! Из стихов на несуществующем языке! Вот уж сокровище так сокровище! Просто некоторые знают, какую лапшу надо вешать на уши девушкам. Ну, правда, смотря каким. Со мной у него этот номер не прошел бы.
* * *
– …и жил там несколько лет, – говорит Андрис. – На этом долбаном острове, где уже сорок лет вообще никого нет, натурально Робинзоном. Устроил себе дом внутри гигантской черепахи… Ну чего ты смеешься, не в живой черепахе, а в статуе. Там же раньше была вилла какого-то богача, куча скульптур осталась. А от дома одни развалины, в них уже невозможно жить…
– Внутри черепахи? На необитаемом острове? Ты что, в это веришь? – спрашивает мать.
– Конечно, нет. Но очень люблю эту историю. Лучшая из всех, которые папа выдумывал про своих друзей. Самая абсурдная. И одновременно красивая. Прикинь: крошечный тропический остров, вокруг океан, рассвет. Из гигантской каменной черепахи вылезает заспанный голый мужик с тетрадкой – он же там сны свои записывал. По папиным словам, у Жаровски была такая идея, что если спать в полном уединении, сновидения будут какие-то особенные. Якобы без каких-то помех. Правда, эту тетрадку никто никогда не видел, папа говорил, этот Жаровски книгу про сны писал. Но так и не написал. Непросто написать целую книгу, когда ты всего лишь чей-то вымышленный друг.
– Но кстати, на хуторе действительно спится гораздо лучше, чем в городе, – задумчиво кивает мать.
* * *
– …мог прийти среди ночи, сказать: «А поехали на море», – и поди возрази, триста километров по трассе за два часа, чтобы окунуться и сразу назад, потому что Нийоле утром на работу… невыспавшейся, с красными глазами и гудящей от шампанского головой, вот радость-то, да? Но она говорила, это было такое счастье, что уже потом ни с кем не смогла.
– Старые девы любят сочинять такие истории, – пожимает плечами Алдона. – Про великую любовь, которой они хранят вечную верность. А там всех реальных событий – увидела кого-то в окно… ладно, предположим, в гостях у подруги – и давай фантазировать. В каком-то смысле очень удобно, можно больше ничего не делать, жизнь и так полна.
– Но наша Нийоле была не такая. Я имею в виду, не классическая старая дева с бульварным романом под подушкой. Ты помнишь, какая она красивая на институтских фотографиях? Ай, ну что я спрашиваю, ты ее не на фотографиях видела. У вас же разница в возрасте всего пять лет.
– При чем тут красивая-некрасивая? Не от этого зависит. Просто некоторые люди боятся реальной жизни. Нийоле – моя сестра, и я точно знаю, жизни она боялась. Даже в кино, когда самую обычную драку показывали, всегда закрывала глаза. И, кстати, этого ее поклонника никто никогда не видел. Ни родители, ни подруги. Специально я за ней не следила, но не помню, чтобы она куда-то бегала по ночам.
– Нийоле говорила, им обоим нравились тайны. Да и продолжалось это всего одно лето. Потом этот Жаровски уехал в какую-то экспедицию, писал ей письма без обратного адреса и постепенно совсем пропал…
– Письма она, конечно же, сожгла.
– Ну да, – вздыхает Рута. – Говорила, сожгла, когда поняла, что он не вернется. Наверное, и правда не было у нее никакого поклонника. Ты совершенно права.
* * *
Вацлав Жаровски идет домой. Сколько в его жизни было домов, сколько, наверное, еще будет – шестьдесят два года, считай, только начало жизни, настоящей, вдумчивой, полной, как даже и не мечтал – а прямо сейчас его дом окружен цветущими кленами и стоит у самой реки.
Вацлав Жаровски идет, ускоряя шаг, чувствует, как тело его становится невесомым, тихо смеется от внезапно охватившего его счастья и закрывает глаза, но по-прежнему видит тропу под ногами, стволы деревьев и пасмурное серое небо, сулящее скорый дождь.
«Это сон», – думает Вацлав Жаровски и сразу смотрит на свои руки. В молодости он читал книгу о магии сновидений, из которой почему-то запомнил именно это правило: когда понимаешь, что видишь сон, надо смотреть на руки. Черт его знает зачем.
Вацлав Жаровски видит, что его руки стали прозрачными, говорит себе: «Точно сон», – и смеется, стоит и смеется, смеется, смеется, пока его тело тает и стелется над рекой, как холодный поземный туман, словно не было никогда никакого Вацлава Жаровски, словно один только Вацлав Жаровски в мире и есть.
Улица Калинауско (K. Kalinausko g.) Ну, например
С виду совсем дряхлая развалина, думаю я, разглядывая сидящего напротивтощего сутулого старика.
На самом деле ему, скорее всего, едва за шестьдесят, это поколение поголовно выглядит много хуже, чем смели надеяться ответственные за их обработку скульпторы из мастерской Кроноса. Не живые, а дожившие до пенсии. Впрочем, дед, разминающий сейчас сигарету кривыми ревматическими пальцами, похоже, все еще работает – то и дело поглядывает на часы и в целом вид имеет вздрюченный, как человек, опасающийся опоздать на службу. Особого рода напряжение чела в сочетании с тусклым, но цепким взглядом, свидетельствует о привычке к систематическому умственному труду. Скорее всего, препод из технического колледжа, осеняет меня, это же здесь совсем рядом, на Басанавичяус, дорогу два раза перейти. Карьеру, понятно, не сделал, студентов сдержанно недолюбливает, как и все остальное человечество, без разбора. Они отвечают ему столь же сдержанной взаимностью, даже прозвища, небось, никакого не прилепили за все эти годы, ни смешного, ни обидного, просто никто никогда не судачит о бедняге за глаза, настолько он неинтересен. Не злой, на экзаменах не валит, зачеты ставит автоматом, вот и ладно, но благодарности его поведение не вызывает, люди всегда инстинктивно распознают равнодушие и не прощают, даже когда оно им на пользу.
Сюда, в парк, дед, конечно, приходит покурить в перерывах между лекциями. Теоретически он мог бы курить во дворе колледжа, но коллеги-преподаватели, те, что помоложе, неодобрительно косятся, и, хотя вслух ничего не говорят, дед и сам понимает – как-то нехорошо при молодежи, даже если молодежь сама вовсю дымит в уборной на первом этаже, презрев административные запреты.
Я исподтишка разглядываю старика – сигареты обычно хватает на семь-восемь минут, а с развлечениями в парке, прямо скажем, не очень, и лишь наличие двуногих бескрылых ребусов помогает скоротать время.
Я, понятно, далеко не Шерлок Холмс, ну так и мир вокруг гораздо проще и скучнее, чем художественная литература, люди тут самые обычные, нелитературные персонажи. Ни маркеров, ни конюхов, ни даже отставных флотских сержантов среди виленских прохожих в помине нет, только клерки обоего пола, пролетарии всех стран, школьники, студенты, пенсионеры, неистребимые тетки с кошелками, изредка иностранцы и богачи – люди особой породы, этих разгадывать интересней, но, честно говоря, не намного. А еще порой на глаза попадается потрепанная интеллигенция старого советского образца, вроде этого деда. Чрезвычайно, замечу, потрепанная. Ветхая одежда со следами былой солидности – пальто ему, похоже, справили еще при советской власти, не просто купили, а именно справили, долго копили, потом ходили всем семейством за реку, в центральный универмаг, приценивались, выбирали; брюки поновее, но покойного президента Бразаускаса[5], несомненно, еще застали на посту. А вот портфель совсем древний, впору принести его в дар историкам-краеведам, старьевщики на такое добро все равно не позарятся, а науке польза. Ботинки… Кстати, на удивление приличные ботинки. Не новые, слегка поношенные – до того самого состояния, которое делает дорогую обувь по-настоящему элегантной. Ботинки, внезапно решаю я, подарок сына. Купил себе, оказались тесноваты, разносить не удалось, в магазине обменять отказались, подумал, вздохнул и отдал отцу. Я уже почти вижу этого сына – большой, грузный мужчина за тридцать, звезд с неба не хватает, но на ногах стоит крепко, хозяйственный, обеспеченный, прижимистый и властный, весь в мать. Жена у деда, спорю на что угодно, толстая, шумная, басовитая старуха, готовит отлично, а продукты покупает только самые дешевые, умеет, как говорится, сделать из говна конфетку. И, конечно, держит беднягу в черном теле, уж ему-то не понаслышке известно слово «заначка», которое окончательно уйдет из активной лексики вместе с этим поколением, стало быть, совсем скоро.
А в портфеле у него, конечно же, бутылка самого дешевого бренди, думаю я. Сейчас еще одну пару в колледже отчитает, а потом отправится в гости к старому приятелю. Счастливчик овдовел пару лет назад, поэтому теперь у него можно сидеть, сколько душа пожелает, вернее, пока не закончится выпивка, а что будет вечером дома, об этом лучше вовсе не думать. Впрочем, ничего такого, к чему дед не успел привыкнуть за эти годы, до сих пор не убившие беднягу, но и сильнее не сделавшие, вопреки безответственным обещаниям прочитанных в юности книг.
Мне уже тошно от собственной прозорливости; куда лучше было бы не вычислять, опираясь на факты и житейский опыт, а выдумывать, но выдумывать я не умею, поэтому просто отворачиваюсь от деда с потаенной бутылкой в ветхом портфеле и принимаюсь разглядывать тех, кто сидит на других лавках. В стороне, на безопасном расстоянии от курящих нас, устроились мамаша с коляской и старуха с внуком-дошкольником – пустой номер, нечего тут разгадывать, и без того обе как на ладони. А слева у нас кто? Женщина средних лет в красном пальто с укороченными по последней моде рукавами, в длинных, до локтя трикотажных перчатках из недорогого молодежного магазина – я не то чтобы специально интересуюсь дамскими аксессуарами, но почти каждый день хожу мимо витрины, где они выставлены, невозможно не опознать. Готов спорить, обручального кольца под перчатками нет, и не было никогда, и теперь уж, пожалуй, не будет, с таким жалким, с детства напряженным выражением лица женихов особо не наловишь, сколь бы хороши не были длинные ноги в плотных черных чулках. Я и сам поспешно отворачиваюсь и даже инстинктивно отодвигаюсь, хотя где я, а где дама в красном, между нашими скамейкам непреодолимая пропасть, шага четыре, не меньше.
И живет она до сих пор с родителями, мрачно думаю я, вернее, не с родителями, а с мамой. И не удивлюсь, если домой должна возвращаться к девяти, послабления возможны только в дни рождения подружек, да и то не факт. Какие уж тут женихи. Вот бедняга.
Отвернувшись от дамы в красном пальто, я увидел, что у меня появился сосед. В парке полно пустых скамеек, но тип в дурацкой шапке с помпоном почему-то выбрал мою, деликатно уселся на самом краю, достал из кармана диковинный портсигар, изукрашенный в стиле иллюстраций к арабским сказкам, и теперь судорожно обшаривает карманы в поисках зажгалки – похоже, безуспешно.
Не желая и дальше оставаться свидетелем его мук, я протянул бедняге спичечный коробок, который все это время машинально вертел в руках – оказывается. И подумал, что судьба в кои-то веки подкинула мне интересную шараду. Хрен его знает, кто этот тип. Клерком он не может быть по определению, шапка дурацкая – еще ладно бы, но к шапке прилагается подбитый овчиной джинсовый полушубок и, самое главное, две разноцветные штанины, одна из шоколадно-коричневого вельвета, вторая, помоги мне, матерь божья, из красного. Такую красоту не каждый день увидишь. Для студента он недостаточно молод, для богача, даже очень эксцентричного, чересчур расслаблен, да и тряпки слишком дешевые. Иностранец? Похоже на то.
– Спасибо, – говорит моя интересная шарада, принимая спички.
Ну вот, теперь ясно, местный. Настолько местный, что по сравнению с ним я сам иностранец, хотя живу здесь уже четырнадцать лет. Тогда, внезапно осеняет меня, художник. И левая рука, гляди-ка, измазана белой краской. Элементарно, Ватсон!
– Почти угадали, Холмс, – неожиданно говорит незнакомец с помпоном. – Не художник, но архитектор. А краска – это потому что у меня здесь рядом объект. Полная перепланировка квартиры, ремонт и, конечно, дизайн интерьера.
Я умею скрывать удивление. По крайней мере, мне приятно думать, что умею. Поэтому я забрал протянутые мне спички и вполне хладнокровно откликнулся:
– Я действительно подумал, что вы художник. А почему вы сказали: «Холмс»?
– Потому что вы очень внимательно нас разглядывали – меня и всех остальных. И я подумал – ну, например, этот человек играет в Шерлока Холмса. Подмечает детали и делает выводы. Отличное развлечение, пока куришь в парке. И наверняка принял меня за художника – с учетом того, в каком виде я нынче выскочил из дома, это самое логичное заключение. Я сам так часто играю. То есть не совсем так. Логика – не самая сильная моя сторона. Да и с наблюдательностью не все благополучно. Поэтому я не ломаю голову над фактами, а придумываю всякую ерунду. Впрочем, нет, не «придумываю». Скажем так, я просто позволяю всякой ерунде появляться в моей голове. Понятия не имею, откуда она берется, но развлечение выходит отличное. Всякий раз какой-нибудь сюрприз.
– Хорошее дело, – согласился я. – Но у меня так, к сожалению, не получается. Не могу игнорировать факты. И не делать очевидные выводы тоже не умею. Рад бы, но не выходит.
– Просто вы еще никогда не старались как следует, – безмятежно улыбнулся он. – Ерунда штука гордая, в чью попало голову добровольно не придет. Для нее сперва надо расчистить место, а потом отправить приглашение и терпеливо ждать. А пока у вас в голове нет никакой ерунды, могу, если хотите, поделиться своей.
Я кивнул – из вежливости. Старается человек, развлекает меня, честно отрабатывает позаимствованную спичку. Это какой же надо быть сволочью, чтобы не поддержать беседу.
– Ну, например, у этого старика в портфеле спрятан дракон, – выпалил он.
Я даже опешил. Чего угодно ожидал, но дракон в портфеле – это и на неловкую шутку не тянет. Перебор. Абсурд. Да просто глупость.
– А женщина в красном пальто, – он на секунду замешкался и уверенно продолжил: – ну, например, балерина. Не прима, конечно, кордебалет, но все-таки. В пачке, на пуантах, блестки в волосах, как в детстве мечтала. Но вот беда, недавно она заметила, что стремительно стареет, когда кружится в танце по часовой стрелке; ей сейчас всего двадцать семь, а кажется, что лет на десять больше, правда? И ведь ни с кем не обсудишь такую беду, никому не пожалуешься, тем более, совета не спросишь. Толку все равно не будет, засмеют, начнут перешептываться за спиной, перестанут приглашать на вечеринки. Всякий человек отчаянно одинок, но большинство узнает об этом только когда с ними начинает происходить что-то не то. Впрочем, наша балерина молодец, сама нашла выход. Теперь она часто тайком остается в театре после закрытия, выходит на сцену и подолгу кружится – против часовой стрелки, конечно. Она вовсе не убеждена, что это поможет, то есть вообще не верит, только смутно надеется, но еще до Рождества наглядно убедится, что ее наивный метод работает. Это открытие навсегда изменит нашу даму в красном и весь мир… Ну, положим, не то чтобы весь, а, скажем, в радиусе трех-четырех метров от ее танцующего тела. И это, поверьте, совсем немало.
Ему бы романы писать, а не квартиры ремонтировать, снисходительно думаю я. Изображать вежливую заинтересованность при этом не забываю. Мне нетрудно, а психу с помпоном приятно.
– А женщина с коляской?
Сам не знаю, зачем я спросил. Вполне можно было выбросить почти докуренную сигарету и распрощаться.
– Там, похоже, все очень интересно. Ну, например, ее младенец не родился, как это принято у добрых людей, а просто приснился своей матери… Ну как – просто. Он снился ей почти каждую ночь на протяжении нескольких лет, и женщина так привыкла к этому сну, что почти не удивилась, проснувшись однажды от громкого плача. В ее снах младенец был тих как ангел, наяву же ему требовалось срочно менять пеленки, а потом бежать в магазин за молочной смесью, но женщину это совершенно не смутило. Она давно мечтала о ребенке и была вполне готова к сопутствующим житейским трудностям. Вместо того, чтобы сводить себя с ума, размышляя о случившемся с ней невозможном событии, новоиспеченная мать лихорадочно гадала, как раздобыть свидетельство о рождении, которое, впрочем, внезапно обнаружилось в одном из ящиков бабкиного буфета, где прежде хранился ветеринарный паспорт сбежавшего еще прошлой весной кота. Она наспех сочинила для соседей и коллег по работе умершую родами незамужнюю кузину, и на этом предпочла остановиться, сказала себе, что все улажено, так что и думать больше не о чем. Правда, иногда беспокоится – будет ли ее младенец расти, как все нормальные дети, и как его следует воспитывать, чему учить, но всякий раз говорит себе: «Поживем – увидим», – и она совершенно права… А знаете, что забавно? Эта женщина сейчас запросто могла бы обсудить свои сомнения с соседкой по лавке. Очень интересная старушка. Ну, например, она живет на свете уже не первую тысячу лет, и много чего повидала. Видите, рядом с ней сидит мальчик? Случайный наблюдатель, вроде нас с вами, глядя на них, подумает: любящая бабка выгуливает внука, обычное дело. Как же, держи карман шире! Старая ведьма взялась выращивать себе очередное новое тело, то-то малыш от нее ни на шаг не отходит. Вы когда-нибудь видели такого спокойного ребенка? То-то же.
– Но ребенок – мальчик. А она – женщина, – возразил я.
Как будто все остальное было логично, и только тут – небольшая нестыковка.
– Ну правильно, мальчик, – согласился архитектор. – В любом деле важно разнообразие. Женщиной она уже побывала не раз; мужчиной, впрочем, тоже. Чередование, надо думать, освежает ощущения.
– Слушайте, – решительно сказал я. – Так нельзя. Дед с драконом в портфеле, балерина, запутавшаяся во вемени, мамаша со сновидением в коляске, ведьма, вытащившая на прогулку свое будущее тело. Это получается, во всем парке ни одного нормального человека нет?
– Почему нет? Есть, – улыбнулся псих с помпоном. – Мы с вами. Впрочем, нет, только вы, потому что я… Ну, например, я сейчас не здесь, а еще на объекте. Только через четверть часа в парк покурить выйду.
Фильтр догоревшей сигареты обжег мне пальцы. Я вздрогнул, уронил окурок на землю, но, устыдившись, подобрал и щелчком отправил в урну. Интересно, подумал я, с кем я все это время разоваривал? Хороший вопрос. Хороший, но в сложившейся ситуации совершенно бесполезный. Чем скорее я выброшу из головы всю эту чушь, тем…
Старик в потрепанном пальто тем временем тоже докурил и принялся возиться с замком своего портфеля. Я как завороженный следил за борьбой негнущихся пальцев с холодным металлом, думал, что надо бы предложить помощь, но так ничего и не сказал. Наконец замок капитулировал, и на свет был извлечен ярко-красный плюшевый дракон в прозрачной целлофановой упаковке. Старик критически оглядел его со всех сторон, достал из внутреннего кармана открытку и принялся прикреплять ее к свертку.
Это просто игрушка, думал я, оглушенный грохотом собственного сердца. Дешевая плюшевая игрушка из «Максимы», подарок внуку или внучке, ну что ты, в самом деле, успокойся, пожалуйста, очень тебя прошу.
Старик спрятал дракона в портфель, снова повозился с замком, наконец, встал и неторопливо пошел в сторону улицы Калинауско. Женщина в красном пальто тоже поднялась и стремительно понеслась в том же направлении, широко, по-балетному расставляя носки пестрых резиновых сапожек. Я смотрел им вслед – а что мне еще оставалось.
Через четверть часа, значит, выйдет, вспомнил я. Ладно. Достал из кармана еще одну сигарету, закурил и принялся ждать.
Улица Кармелиту (Karmelitų g.) Белый кролик Лена
Улицу Кармелиту искал долго и бестолково, зато дом узнал еще издалека – розовый, как и писала Рут. И нужный подъезд в глубине двора нашел сразу, и даже квартиру, хотя неподготовленного человека их нумерация могла бы свести с ума: на первом этаже третья, пятая и семнадцатая, на втором – восемнадцатая и еще одна пятая, помеченная литерой А, без звонка, об этом Рут тоже предупредила. Постучал. И еще раз, и еще, пока не услышал шаги и лязг задвижки.
Открыла дверь заспанная, растрепанная, в детской пижаме с медвежатами, такая маленькая, что чуть было не попросил ее позвать маму. Совсем не похожа на взрослую женщину, с которой разговаривал в скайпе. Только и сходства, что тоже рыжая.
Спросила, глядя снизу вверх, хлопая длинными, слипшимися со сна ресницами:
– Ты кто?
Черт. Неужели все-таки ошибся адресом?
Сказал:
– Я Эдгар, приехал жить с твоим кроликом.
– Ой, конечно! Прости. Всю ночь собиралась, гадала, приедешь ты или нет, нервничала ужасно, заснула только под утро, и теперь вообще ничего не понимаю.
Предложил:
– Давай я оставлю вещи и пойду гулять. А ты спи дальше. Только скажи, когда возвращаться.
Улыбнулась:
– Спасибо! К полудню приходи, ладно?
Бродил по улицам, глазел по сторонам, раздираемый противоречивыми чувствами. С одной стороны, вполне симпатичный город и жить здесь, похоже, приятно. С другой – господи, какую же дурацкую авантюру я затеял! Что я буду тут делать целых два месяца? И ведь не откажешься теперь. Рут улетает прямо сегодня вечером, и кролика ей девать некуда. Мне себя, впрочем, тоже некуда девать. Поэтому хватит ныть. Сделанного не воротишь. Лучше выпей горячего чаю и съешь что-нибудь. Хоть какое-то время будешь при деле, несчастье.
На улицу Кармелиту вернулся ровно в полдень. Поднялся, постучал. Дверь распахнулась почти сразу же и Рут предстала перед ним во всей красе. В смысле все в той же детской пижаме с медвежатами. Зато свежая, причесанная и с прояснившимся взором. Кажется, даже ростом стала повыше, хотя все равно едва доставала ему до плеча.
– Ты мне практически спас жизнь, – сказала она. – А также разум и человеческий облик. Два дополнительных часа сна помогли мне обрести хоть какое-то их подобие. Пошли на кухню, познакомлю тебя с новой подружкой. И кофе напою.
Отказываться не стал. Любители кофе – народ непримиримый и несговорчивый. Услышав, что вы предпочитаете чай, они, во-первых, автоматически занесут вас в список личных врагов. А во-вторых, все равно сварят кофе и, будьте уверены, нальют вам полную чашку, чтобы сполна насладиться вашими страданиями.
Большую часть кухни занимала здоровенная клетка, где среди опилок, веток и кучек сухой травы царственно возлежал белый пуховый шар.
– Это и есть Лена, – сказала Рут. – Вообще-то, сперва я назвала ее Селеной. Потому что большая, круглая и такая белая, что даже мерцает в темноте отраженным светом, как самая настоящая луна. Но имена от частого употребления стираются и укорачиваются, по крайней мере, в моих руках. Я и сама, как несложно догадаться, Рута. Но последняя буква давным-давно отвалилась, закатилась в какую-то щель; если случайно найдешь ее где-нибудь в коридоре, выброси в окно, без нее лучше.
Улыбнулся:
– Только меня в «Эда» не переделывай, пожалуйста. Сколько себя помню, все вокруг только этим и заняты, а я сопротивляюсь. По-моему, очень противно звучит.
– Не беспокойся, не переделаю. Просто не успею. Я же улетаю прямо сегодня вечером.
– В далекую страну Аргентину, где спелые гаучо падают с ветвей араукарий и танцуют танго на просторах засушливой пампы. Ужасно тебе завидую.
– Да я сама себе завидую, – улыбнулась Рут и поставила на стол две красные кружки. Точь-в-точь такие же были у Эдгара дома, давным-давно, почти год назад, в те незапамятные времена, когда слово «дом» еще имело какой-то смысл.
– Поверить не могу, что все получилось, и уже послезавтра утром я буду пить кофе в Буэнос-Айресе, – сказала она. – Между прочим, только благодаря тебе. Лену совсем не с кем оказалось оставить. Просто катастрофа! То есть на неделю-другую ее многие соглашались взять. Но целых два месяца – это слишком долго. У всех свои планы на лето, в которые совершенно не вписывается чужой кролик. А в практическую пользу объявлений на интернет-форумах я совершенно не верила. Сунуться туда – это был жест отчаяния, а не надежды. Еще пару дней и пошла бы сдавать билеты, пока хоть какие-то деньги можно вернуть. И вдруг как по волшебству появляешься ты!
– Хочешь сказать, если бы я не откликнулся на предложение пожить в Вильнюсе, ты бы отменила поездку в Аргентину? К сестре? Из-за кролика?!
– Ну да. А что делать? С собой Лену не потащишь, кролики плохо переносят дальние путешествия, я узнавала. А на улицу ее уже выбрасывали, хватит.
– Как – выбрасывали?
– Да очень просто. Посадили в коробку, поставили посреди тротуара, и привет. То ли дети в дом принесли, а родители не разрешили оставить, то ли взрослые дураки завели, не подумав, а потом клетку чистить надоело. А откуда, ты думаешь, она у меня взялась?
– На улице нашла?
– Ага. Здесь, совсем рядом, в переулке. Я об эту коробку в темноте споткнулась, о чем-то задумавшись. А там – белый кролик. Сидит смирно, никуда не убегает, таращится, дрожит. Пришлось взять. А ведь как я не хотела заводить зверей! Причем именно из тех соображений, что свяжут по рукам и ногам, решишь куда-нибудь поехать, а ничего не выйдет. Хотя нельзя сказать, что я так уж много путешествую. Я, как все настоящие мечтатели, тяжела на подъем, вон даже в Буэнос-Айрес к Данке целых четыре года собиралась – то билеты дороги, то отпуска не дают, то диссертацию срочно дописывать надо, то большой перевод сдавать, потом, все потом…
– Слушай, а как же ты в итоге решилась? Да еще на целых два месяца. Серьезный срок!
– А я и не решилась! Само так вышло. Это, знаешь, совершенно дурацкая история о глупости и удаче. То есть до сегодняшнего утра я думала, что только о глупости, но теперь, когда ты приехал, чтобы присматривать за Леной, картина выглядит более оптимистично. Я собиралась поехать всего на неделю. Ну, дней на десять, никак не больше. Сказала себе: пора! Потому что который год откладываю, а тут наконец-то отпуск, и Данка рыдает в скайпе, да я и сама почти рыдаю от злости на себя. Дело было за малым: найти дешевые билеты. Потому что грабить банки я не умею, а другого способа быстро добыть кучу денег так и не изобрела. И вдруг на билетном сайте, где я, понятно, просиживала часами, появляется дешевое предложение, всего триста евро в оба конца. С кучей дурацких пересадок, но, господи, какая разница. И я, ошалев от счастья, тут же цапнула билет. И только заплатив, внимательно посмотрела на дату возвращения. Чуть в обморок не грохнулась: через два месяца! И билет уже не сдашь. Ну, то есть как, сдать-то можно, но вернут только сорок процентов стоимости. Дешевые билеты всегда с сюрпризом, для невнимательных дурочек вроде меня. Я сперва поплакала, а потом решила: ладно, попробую все организовать. Терять-то уже особо нечего. Думала: кролик – ладно, все подружки ее обожают, кто-нибудь да возьмет. А вот рабооооота! Но вышло наоборот: на работе договорилась сразу же, зато клуб обожательниц Лены меня подвел. Одна собирается замуж, вторая в Берлин, у третьей ремонт, и так далее, у всех уважительные причины, захочешь – не обидишься… Как тебе мой кофе?
Только сейчас обнаружил у себя в руке красную чашку. А во рту, соответственно, горячую горькую жидкость, которая, впрочем, оказалась не особо противной на вкус. Вполне можно жить.
Сказал:
– Если ты едешь в Аргентину, чтобы научиться варить кофе, можешь смело оставаться дома.
– Ого. Вот это комплимент!
Кролик Лена завозилась в клетке. Рут просияла:
– Проснулась! Сейчас я вас познакомлю.
Открыла дверцу, протянула руку. Крольчиха уткнулась розовым носом в ладонь и замерла, блаженно сопя. Рут вытащила ее из клетки, усадила на колени. Сказала, почему-то перейдя на шепот:
– Можешь погладить.
Протянул руку, осторожно коснулся нежного пуха. Осмелев, потрепал мохнатый загривок. Лена сидела смирно, не проявляя ни малейшего желания убежать.
– Надо же, – обрадовалась Рут, – совсем тебя не боится!
Усмехнулся:
– Предчувствует, что нам предстоит жить вместе долго и счастливо, целых два месяца – с точки зрения кролика, почти вечность. Ты не волнуйся, пожалуйста. У меня правда в детстве были кролики, я не наврал. Черный и пестрый, Тим и Балбес, сладкая парочка. Буду рвать твоей Лене свежую траву в парке и покупать морковку с яблоками. И приносить ветки, чтобы зубы точила. И мыть поилку, и менять опилки. Все, что требуется. Я помню.
– И если вдруг что-то случится, визитка ветеринара на холодильнике, – сказала Рут. – Вот эта, синенькая. И еще одна на зеркале в коридоре, на всякий случай. По-моему, это единственный в городе специалист по кроликам, по крайней мере, я больше никого не нашла… Лена, слава богу, ничем не болела и, надеюсь, не собирается, просто мне сначала постоянно мерещилось, будто она слишком мало ест и вообще грустит, так что по докторам я ее, бедняжку, знатно потаскала. Люблю ее очень. Хоть и понимаю, что это довольно глупо – так сильно привязаться к бессмысленному зверьку. Но тут уж ничего не поделаешь. Выпускай ее иногда из клетки, ладно? Ненадолго, просто для разнообразия, чтобы не затосковала. Но только под присмотром. Чтобы ничего не погрызла и не залезла в какую-нибудь щель.
– Конечно. Не волнуйся, правда. Все будет хорошо. Мне нравится возиться со зверьем.
– Отлично, – улыбнулась Рут. – Все решено, все сказано, осталось найти в моем организме кнопку, отключающую тревожность. Всю жизнь ее ищу.
Протянул руку, коснулся кончика ее носа и сказал: «Пип!» Просто невозможно было удержаться.
– Слушай, помогло, – удивленно сказала Рут. – Кто бы мог подумать, что эта чертова кнопка расположена на самом видном месте! А знаешь что? Давай-ка я устрою тебе экскурсию по городу, пока время есть. Покажу все наши достопримечательности: рынок, сапожную мастерскую, ближайший супермаркет, троллейбусную остановку, чайную лавку, почтовое отделение, булочную, газетный киоск, пару кофеен, книжный магазин и стриптиз-клуб.
Усмехнулся:
– О да, стриптиз-клуб – это самое главное. Только ради него, можно сказать, и приехал.
– Именно так я сразу и подумала, – невозмутимо кивнула Рут.
Усадила кролика ему на колени и отправилась одеваться. Эдгар и Лена растерянно смотрели ей вслед.
Под предводительством маленькой рыжей Рут, сменившей пижаму с медвежатами на футболку с черепом, красные джинсы и ярко-желтые кеды, «вполне симпатичный» город оказался замечательным местом, почти волшебным и одновременно обжитым, разношенным как домашние тапочки, словно в детстве каждое лето приезжал сюда на каникулы к бабушке, которая работала доброй феей в какой-нибудь соседней сказке, а по выходным водила гулять, объясняла: «В этом доме у нас живет очень злой колдун, которого все боятся, зато его жена печет самое вкусное печенье в городе и торгует им с семи утра до полудня, пока злой колдун спит; сегодня уже поздно, а завтра с утра купим немного к чаю, попробуешь. А за теми воротами обитает дракон; говорят, в детстве его подобрала маленькая черно-белая кошка, выкормила как котенка и научила мурлыкать, поэтому дракон вырос очень добрым и ласковым, смотри, не вздумай его дразнить».
Рут, конечно, так далеко не заходила, но и в ее изложении реалистические детали переплетались с сиюминутными вымыслами, связывались в причудливые узлы, складывались в фантасмагорические узоры, слушаешь, смеешься, а потом, за обедом, уже не можешь понять, что видел взаправду, а что просто пригрезилось под негромкий щебет спутницы; проще уж решить, будто все еще едешь в автобусе, спишь сидя, прислонившись лбом к холодному, потемневшему от тысяч ночных дорог стеклу, и видишь такой замечательный сон, что и приезжать уже никуда не надо. Главное – подольше не просыпаться.
Думал: «Как жалко, что она улетает в эту свою дурацкую Аргентину. С другой стороны, если бы не улетала, я бы не приехал сюда. Ну уж нет! К черту такие сослагательные наклонения».
Вслух, конечно, ничего подобного не говорил, только многословно нахваливал поданное к обеду мясо с грибами-лисичками, холодный свекольный суп, капустный пирог. Еда в этом смысле даже лучше погоды, идеальная тема для разговора, помогает хранить полное молчание, ни на минуту не закрывая рта. Смешной парадокс.
Думал, впереди еще весь вечер, практически вечность, но внезапно оказалось, что дело движется к шести, а не позже семи Рут надо приехать в аэропорт. Был бы ребенком, разрыдался бы от обиды прямо за столом – мы же только разыгрались! Но поскольку давным-давно вырос, смог только предложить:
– Давай я тебя провожу.
– Если бы ты знал, сколько весит мой чемодан, спрятался бы от греха подальше в соседском подвале, – рассмеялась Рут. – Но теперь поздно, роковое слово произнесено, и тебе не вырваться из моих когтей!
Возвращались почти бегом, но дома Рут первым делом заключила в объятия кролика Лену, тискала ее, гладила, целовала, шептала что-то в смешное длинное ухо – прощалась. Даже не думала спешить. И только в половине седьмого, когда внимательно следящему за часами Эдгару стало окончательно ясно, что на самолет путешественница уже опоздала, принялась названивать в такси, которое приехало прежде, чем успели вынести на улицу вещи, и домчало их до аэропорта минут за десять – то ли город такой маленький, то ли транспорт тут заколдованный, поди разбери.
Поставив чемодан Рут на ленту транспортера, все-таки сказал:
– Ужасно жалко, что ты улетаешь. Да еще на целых два месяца. Так здорово было с тобой гулять!
– Да, отлично получилось, – улыбнулась она. – Но согласись, глупо было бы сдавать билет именно теперь, когда есть с кем оставить Лену.
– Твоя правда.
Когда Рут пересекла широкую желтую черту, отделяющую путников от провожающих, сказал ей вслед:
– Я буду расчесывать Лену два раза в неделю. И все остальное. Ни о чем не беспокойся, пожалуйста.
– Все равно буду беспокоиться, – безмятежно улыбнулась Рут. – И ежедневно караулить тебя в скайпе, чтобы подвергнуть допросу. Таково уж мое дурацкое устройство. Переживешь?
Улыбнулся, заранее радуясь предстоящим сеансам связи:
– Переживу.
И еще долго смотрел ей вслед, даже после того, как рыжая голова окончательно скрылась в суетливой толпе уже прошедших досмотр пассажиров.
Восемьдесят восьмой автобус, рекомендованный Рут, домчал его в центр почти так же быстро, как давешнее такси. Некоторое время стоял посреди улицы, раздумывая: что теперь? Многочисленные, на первый взгляд, варианты сводились к универсальной формуле: выпить пива. Вопрос – какого, где именно и сколько раз. Решил, что начать можно прямо здесь, на Ратушной площади, затянутой тентами летних кафе. Но вместо этого почему-то развернулся и пошел на улицу Кармелиту, почти сердито думая: «Кролик там сидит один. То есть, одна. Ай, неважно. И жалюзи в кухне опущены, и сгущаются сумерки – тень, восточная сторона. Вдруг кролик боится темноты? Мои, вроде, не боялись. С другой стороны, кто их знает, я же не спрашивал…»
Открыл чужим ключом чужую дверь, щелкнул в коридоре чужим выключателем, прошел на чужую кухню, открыл клетку, взял на руки большую толстую теплую крольчиху, уселся с ней на чужой диван, зарылся носом в пушистую шерсть, подумал: «Вот я и дома».
А вслух сказал:
– Видишь, какой я дурак? Думал, ты темноты боишься.
И ответил себе тоненьким голоском, как бы от имени кролика Лены:
– Я не боюсь, но все равно молодец, что быстро пришел.
Иногда найти общий язык проще простого.
Ощущение «вот я и дома» не покидало его весь вечер. То и дело обнаруживал все новые совпадения: ладно бы только красные чашки, но диск с моцартовским концертом для флейты в музыкальном центре, добрая половина книг на полках как будто из моей библиотеки, круглый бумажный абажур в гостиной, пластиковая занавеска с морскими звездами в душе, и даже полосатое постельное белье в точности как у меня, словно мы с Рут не познакомились всего три недели назад на интернет-форуме для желающих найти бесплатное временное жилье в разных городах Европы, а прожили душа в душу много лет и успели перенять все мелкие пристрастия и привычки друг друга, так что теперь уже и не вспомнишь, где чье.
После некоторых колебаний постелил себе на кухонном диване, рядом с клеткой, чтобы кролик Лена не затосковала в одиночестве. Сто раз слышал, будто кролики не способны привязываться к людям, но не верил этим утверждениям. Всегда твердо знал, что Тим и Балбес его любили. И кстати, даже скептически настроенная мама признавала, что в его отсутствие кролики теряют аппетит. Ну, то есть, делают небольшие перерывы в еде, что по их грызуновым меркам – суровая аскеза.
Уснул под умиротворяющий хруст морковки с чистой совестью и разбитым сердцем. Ну, скажем так, слегка надколотым. И только утром, кутаясь после душа в темно-лиловое полотенце, сообразил, на что это все похоже. Даже рассмеялся, не то от растерянности, не то просто от неожиданности. Сказал кролику Лене:
– Слушай, похоже, я влюбился в твою хозяйку. Вот прямо рррррраз – и все, прикинь. И что теперь делать? Она же черт знает когда приедет. Черт знает когда! Бедные мы с тобой бедные.
От избытка чувств чмокнул крольчиху в меховой лоб и принялся варить кофе, чего никогда до сих пор не делал, поскольку терпеть его не мог. А для гостей держал кофейную машину.
Чуда не произошло, гадость получилась та еще. Но мужественно выпил ужасающий результат до последней капли. Более бессмысленного подвига во имя прекрасной дамы и вообразить невозможно. Тем более, что Рут ничего о нем не узнает. Что только к лучшему. Любители кофе никому не прощают надругательств над своей святыней.
Все утро возился с кроликом. Отпустил зверька гулять по всей квартире, а сам ходил следом, как пастух, присматривал, чтобы не безобразничала. Лена, впрочем, вела себя как хорошо воспитанный ангел, даже провода грызть не порывалась, а ведь для Тима и Балбеса провода были любовью всей жизни, самым вожделенным лакомством, генеральным дьявольским соблазном их вполне райского бытия.
В полдень вернул кролика в клетку и стал собираться на улицу – без особого энтузиазма, скорее из чувства долга. Глупо, приехав в незнакомый город, сидеть в четырех стенах. Хотя уходить из дома совсем не хотелось. Быть здесь – все равно что продолжать разговаривать с Рут; в каком-то смысле, даже больше, чем просто разговаривать. Сидеть на ее диване, развешивать одежду в шкафу среди ее платьев и свитеров, кипятить воду в ее чайнике, кутаться в ее плед – все это казалось сейчас разновидностью ласки, физической близостью, невинной, тайной и сладкой, все равно что спящую за руку держать, гладить по коротко стриженной голове, пока ее разум не ведает, что творится, зато тело прекрасно все понимает и соглашается, и хочет продолжения, и твердо намерено сохранить секрет.
Гулять однако все же пошел, сказав себе, что вернуться в Рутин дом будет даже приятней, чем сидеть в нем безвылазно. К тому же, для начала можно повторить вчерашний маршрут, сентиментальное путешествие влюбленного прекрасно совместится с покупкой овощей для кролика и какой-нибудь человеческой еды – если не себе, то хотя бы холодильнику, который еще со вчерашнего вечера чувствует себя опустошенным, и ощущения его совсем не обманывают, будем смотреть фактам в лицо.
Когда зашел пообедать в то же кафе, где сидели вчера, подумал вдруг, насколько же не похожа оказалась наскоро, наугад, наудачу начатая новая жизнь на старательно вымечтанную в больнице, когда, изнывая от милосердной скуки, незаметно победившей отчаяние и страх, спрашивал себя: «Если получится жить дальше, то как? Чего ты на самом деле хочешь?» В те дни, представляя себя беспечным перекати-полем, променявшим условно счастливое прошлое и условно же внятное будущее на сочное великолепие текущего момента, строил в воображении умопомрачительные декорации: море, пальмы, загорелые уличные музыканты, крики чаек, блеск рыбьей чешуи, кирпичные стены нью-йоркских лофтов, потемневшие от времени столешницы английских пабов, зелень венецианской воды, белые пески океанских пляжей, скошенные потолки обетованных мансард, синие двери Крита, красное испанское вино и дороги, дороги, дороги, все золото редких ночных огней, вся сладость допитой под утро воды, все дорожные сквозняки, все небеса под самолетным крылом, весь мир, такой прекрасный, необязательный, недоступный и вожделенный, когда проносится мимо на скорости восемьдесят или восемьсот километров в час, все равно, лишь бы не останавливался.
И вот, сделав первый шаг в полную неизвестность, обнаруживаешь себя в самой статичной из возможных позиций: под зеленым тентом уличного кафе, в самом центре маленького города, который наверняка покажется чертовски скучным не позже, чем послезавтра, когда все достопримечательности будут осмотрены по третьему разу, а новые не возникнут из утреннего тумана по мановению твоей руки, к этой мысли лучше привыкнуть заранее. В тарелке у тебя жареные колбаски, в кружке светлое пиво, в ушах звучат знакомые песни, а в телефоне ждут своего часа свежайшие, бессмысленнейшие новости из интернета, как будто и не уезжал никуда. Только и разницы, что теперь в чужом доме тебя терпеливо ждет белый кролик, рюкзак набит яблоками и свеклой, а дурацкое сердце сжимается от еще не наступившего и вряд ли вообще возможного счастья. И вот это, честно говоря, самый потрясающий сюрприз, совершенно на него не рассчитывал, когда старательно разукрашивал воображаемые декорации, повествующие об идеальной жизни идеального человека на идеальной земле, которой нет – и ладно, не надо, черт с ней. Берем, что есть, и плачем от благодарности, только не прилюдно, я тебя умоляю, в это кафе тебе еще ходить и ходить.
Домой вернулся еще засветло, покормил кролика Лену, сунулся в интернет в надежде на новости от Рут, которых пока не было, да и ждать еще не следовало, она говорила, что рейс с дурацкими неудобными пересадками, в сумме получается больше суток, если так уж хочется нервничать, можно начинать завтра утром, раньше – просто нечестно, не по правилам, запишу тебе штрафное очко.
Примерно час спустя начал понимать, что жизнь бездельника вовсе не так сладка, как представляется офисным страдальцам, измученным бесконечным ожиданием окончания рабочего дня. Но не бежать же устраиваться на работу вот прямо сейчас, в незнакомом городе, в чужой стране, да еще и на ночь глядя. То есть бежать-то, конечно, можно, вопрос – куда?
Правильный ответ: в супермаркет.
Купил пучок душистой травы, муку и дрожжи, ветчину, помидоры, шампиньоны и сыр, а еще несколько блокнотов и пачку карандашей. По дороге домой, злорадно потирая руки, говорил себе: «Ты когда-то мечтал вести в поездках дневник путешественника, описывающего быт и нравы современных европейцев, как будто они – дикие жители экзотических островов, на которые до сих пор не ступала нога цивилизованного человека, искренне удивляться повседневности аборигенов, рисовать их портреты, автомобили, компьютеры и прочие примитивные орудия труда. Вот и начинай прямо сейчас, благо в твоем распоряжении прорва свободного времени, новый город, чужая непонятная речь, щедро сдобренная более-менее знакомыми языками, цепкая память и кролик Лена, самая покладистая натурщица всех времен. И приносить тебя в жертву голодным местным богам пока никто не собирается, неплохое начало, мало кому из твоих великих предшественников настолько везло».
Вернувшись домой, замесил тесто для пиццы, пока оно подходило, нарисовал целых три портрета белого кролика, скалку, чайник и собственную босую ногу, которая получилась удачней всех. Отправив пиццу в духовку, вкратце описал вчерашнюю прогулку с Рут и даже несколько диалогов, не слово в слово, но довольно близко к тексту – еще один способ заниматься любовью в отсутствие предмета страсти. Какой я, оказывается, смешной.
Пицца, надо сказать, получилась не хуже, чем дома, хотя обычно чужие духовки преподносят неприятные сюрпризы малоопытным поварам. Остаток вечера поделил между записями сегодняшних наблюдений, едой и возней с кроликом Леной, которая сперва печально сидела в углу клетки, но после небольшой прогулки и дружеских объятий повеселела и принялась хрустеть яблоком. Так устал со всеми этими приятными хлопотами, что отложил мытье посуды на завтра, и душ тоже на завтра, хорошо хоть раздеться хватило сил, а ведь мог бы заснуть, как сидел, все к тому шло.
Утро принесло сразу несколько сообщений от Рут: «Как дела?» «Как у вас дела?» «Ты куда подевался?!» «А, дошло, ты же спишь, у нас шесть часов разницы, я только прилетела и пока ничего не понимаю». «Тоже пойду спать».
Ну слава богу, добралась. Жалко, совсем чуть-чуть ее не дождался, уснул около двух, а Рут объявилась в половине третьего, ждала ответа, волновалась, пока я дрых, как дурак.
Написал: «Прости, действительно спал как убитый, у нас все хорошо, Лена радуется жизни, грызет ветку и передает привет», – и пошел ставить чайник. Умывшись, вернулся в кухню и только тогда сообразил: что-то тут не так. Но что именно? Все вроде бы на месте. Солнце в небе, кролик в клетке, нетбук на подоконнике, потолок над головой, пол под ногами, остывшая четвертушка пиццы в тарелке, тарелка на столе, остальная посуда в ра… Ой, нет. В раковине пусто, и сама она сияет чистотой.
Посуда, включая доску для теста и скалку, обнаружилась в кухонном шкафу, чистая и даже сухая, как будто вымыл ее, как положено, с вечера. А может, и правда вымыл? Да нет же, я точно помню, как засыпая, думал: «Быстро я тут обжился, уже и свинарник развел, как дома»… Вот черт!
Налил себе чаю. Подумал: «Могло быть и хуже. Например, если бы я честно помыл посуду перед сном, а с утра она бы снова оказалась грязной». Развеселился. Вспомнил: «Мама как-то рассказывала, что в детстве я ходил во сне; будем считать, это случилось снова. Оказывается, лунатические припадки бывают чертовски полезны в хозяйстве. Еще бы кроличью клетку научиться чистить, не просыпаясь. И мусор выносить заодно».
Допив чай, сказал кролику Лене:
– Еще есть вариант, что ты у нас – заколдованная принцесса. И по ночам превращаешься в прекрасную девицу, готовую помочь с уборкой приютившим ее добрым людям. В этой версии только одна неувязка: вряд ли принцессы приучены мыть посуду. Поэтому ты вне подозрений, можешь жевать дальше.
Крольчиха виновато моргнула и подошла поближе к дверце, явно напрашиваясь на ласку. Погладил ее, просунув палец через решетку. Сказал:
– А наша Рут спит сейчас в Буэнос-Айресе. У нее там еще глубокая ночь. Минус шесть часов, это тебе не кот чихнул. Знаешь, что такое «кот»? А почему у меня такое замечательное настроение, знаешь? Вот и я – нет. Хотя несколько рабочих версий имеется.
Отправившись гулять, взял с собой нетбук, останавливался в каждом кафе с бесплатным вайфаем, заходил в интернет, проверял, не появилась ли в скайпе Рут. Написал ей несколько писем, забавных и нежных, но ни одного не отправил, опасаясь показаться слишком назойливым. Сохранил в черновиках – может быть, пригодятся когда-нибудь потом.
Давился горьким эспрессо, суеверно полагая его чем-то вроде приворотного зелья: если пить кофе, пока не потемнеет кровь, а глаза приобретут цвет кофейных зерен, Рут не устоит, рано или поздно придет на запах, как голодный хищник, скажет: «Теперь я твоя навек», – прокусит вену и прильнет к вожделенному напитку. Ну или хотя бы просто напишет вот прямо сейчас, потому что невозможно уже ждать, пока пройдут эти дурацкие минус шесть часов, и для нее тоже наступит утро.
Когда Рут наконец проснулась и ответила на его сообщение лаконичным «Ура», отправил ей подробный отчет о жизни кролика Лены. Дескать, ест хорошо, спит спокойно, выпускаю гулять, иногда грустит, явно скучает по хозяйке, но, если погладить, снова довольна, жует и хрустит, ни о чем не волнуйся в своем далеком Буэнос-Айресе, в существование которого так трудно поверить здесь, на залитой августовским солнцем Ратушной площади Вильнюса, но я очень стараюсь, потому что если бы Буэнос-Айреса не было, тебе сейчас пришлось бы оказаться нигде, глупо получилось бы, правда? И кстати, как тебе там?
«Понятия не имею, – ответила Рут. – Я же только приехала. Успела добраться до Данки, выпить вина, завалиться спать и увидеть длинный скучный сон о том, как мою посуду на собственной кухне, а она все не кончается и не кончается, представляешь? Поэтому я пока вообще не уверена, что действительно приехала в Буэнос-Айрес. Но это можно проверить – вот прямо сейчас. О результатах доложу».
Ответил: «Буду ждать». И только попрощавшись, запоздало удивился совпадению: снилось, что мыла посуду, надо же. И, похоже, действительно ее вымыла. Никакое расстояние не помешает хорошей хозяйке навести порядок на своей кухне. А кстати, сколько между нами сейчас километров? Действительно интересно.
Двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть, если по прямой, – подсказал всезнающий интернет. И зачем-то добавил: звук преодолеет это расстояние за десять часов двадцать две минуты, а свет – за четыре сотых секунды.
Хорошо быть светом.
Вечером опять затеял пиццу. Не то чтобы совсем ничего кроме нее не умел, но остальные освоенные блюда готовились быстро и просто, а ему сейчас хотелось не столько есть, сколько основательно повозиться с ужином. Мало что так успокаивает и умиротворяет, как готовка, всегда это знал, даже в детстве, когда приходил домой, разобидевшись на всех друзей сразу, и принимался жарить картошку, потому что родители на работе, а в холодильнике – только ненавистный суп. И снимая крышку с истекающей луковым ароматом сковородки, всякий раз обнаруживал, что настроение уже исправилось, а причина ссоры не стоит выеденного яйца.
Снова рисовал кролика, пока подходило тесто, снова записывал подслушанные в городе диалоги, пока пицца томилась в духовке, за едой читал английский детектив в бумажной обложке из стопки, случайно обнаруженной в шкафу среди полотенец, перед сном пошел прогуляться – на самом деле, просто тянул время, надеясь, что Рут объявится в скайпе, но опять не дождался, хотя честно просидел почти до трех.
Посуду, однако, мыть не стал – на этот раз не от усталости, а ради эксперимента. Вдруг поутру она снова окажется чистой? Вот был бы номер.
Проснулся от шума льющейся из крана воды. Открыл глаза и тут же зажмурился от яркого света. За окном только-только начинали синеть предрассветные сумерки, зато лампы горели, все три: верхняя, настольная и светильник, закрепленный над мойкой.
– Сам виноват, – злорадно сказала Рут. – В комнате надо спать, а не в кухне.
Буркнул спросонок:
– Тут же кролик.
И только тогда понял, что происходит нечто невероятное. Хозяйка квартиры, позавчера улетевшая в Буэнос-Айрес, как ни в чем не бывало стояла возле раковины в своей дурацкой детской пижаме с медвежатами. И мыла посуду.
Здравый смысл требовал громко заорать и немедленно проснуться, схватившись за сердце. Но орать при Рут было неловко, а проснуться еще раз без крика не получалось, как ни старался, поэтому просто спросил:
– Ты что, уже вернулась? Как такое может быть? Или вообще никуда не улетала? Просто разыграла меня? Но зачем?
– Ерунда какая-то получается, – вздохнула Рут. – Сколько прочитала в свое время об осознанных сновидениях – кто руки или часы советует разглядывать, кто имя свое вслух произнести или попробовать почитать книжку. Но похоже, я сейчас переплюну всех гуру разом. Терпеливо объяснять своему сну, что я сплю, а он, соответственно, мне снится – элегантное решение, кто бы спорил. Главное, чтобы ты не начал утверждать, будто это я – твой сон. Тогда я просто чокнусь, не углубляясь в дискуссию. И проснусь в сумасшедшем доме, где мне, честно говоря, самое место.
На всякий случай покосился на свои руки. Вроде бы самые обыкновенные, как всегда; с другой стороны, кто может поручиться, что наяву они не были зелеными, с восемнадцатью пальцами и длинными полосатыми когтями? А что эта бледная пятипалая немочь сейчас кажется нормой – обычное сонное наваждение, знаем, плавали.
Сказал:
– Сумасшедший дом на окраине Буэнос-Айреса – это, по-моему, невероятно романтичный финал, способный украсить любую биографию. А мне тогда придется жить в Вильнюсе с твоим кроликом до конца наших общих дней. Тоже ничего себе артхаус. Все кинофестивали наши.
– Ага. Во сне ты такой же чудесный болтун, как наяву, – заметила Рут. – Какое счастье.
Был так польщен, что переспросил:
– А я был именно чудесный?
– Да не то слово. Я даже пожалела, что не предложила тебе приехать на пару дней раньше. С другой стороны, откуда мне было знать, что мы с тобой так замечательно споемся. В скайпе ты какой-то сердитый был. И грустный. Я даже почему-то решила, что ты от жены хочешь сбежать, не сказав, куда. А что, два месяца – отличный срок, чтобы как следует проняло. Боялась только, как бы вы раньше не помирились – что тогда с Леной делать?
Объяснил:
– Да я просто стеснялся. Ты тоже, знаешь, такая строгая была, как учительница. И лет на десять старше, чем на самом деле. Эти дурацкие встроенные камеры никого не красят. А бегать мне не от кого. И мириться, соответственно, не с кем. Не брошу я твоего кролика, не переживай.
– Теперь уже ясно, что не бросишь, – согласилась Рут. – Ты приехал, я на тебя посмотрела, и сразу поняла, что все будет в порядке. А то сказала бы: «Извини, моя поездка внезапно отменилась». Был у меня такой запасной сценарий. Я даже придумала, как прекрасно и с пользой проведу время, если останусь в Вильнюсе – чтобы не так горько реветь после того, как закончится регистрация на мой чертов рейс. Но если бы ты мне не понравился, осталась бы дома, не сомневайся. Я и так-то не в меру ответственная, и это всегда усложняло мне жизнь. Но с кроликом вообще какой-то кошмар начался! Заколдовала она меня, что ли?
– Я бы не удивился. Надо же им как-то среди людей выживать. Вот представляешь, если бы нас разводили великаны-людоеды? И поди разбери, зачем тебя взяли в дом и кормят – чтобы потом сожрать, или просто так, для радости? В такой нервной обстановке гипноз и прочая черная магия – единственное надежное средство. Сам не заметишь, как эволюционируешь.
Рут рассмеялась. Потом сказала:
– Все-таки совсем не похоже на сон. Как-то уж очень связно мы с тобой разговариваем. И обстановка не изменяется, и вообще ничего. Я уже несколько минут смотрю на эту тарелку, не отрываясь. И она до сих пор ни во что не превратилась. Но при этом я точно помню, что легла спать в Буэнос-Айресе, в Данкиной комнате для гостей. Пришла с прогулки и сразу рухнула как подкошенная – столько впечатлений! Плюс вино, да еще джетлаг. А ты что скажешь?
Усмехнулся:
– Ничего не скажу. Потому что если я твой сон, то могу только озвучивать твои идеи. А если ты – мой, тогда вообще все равно, отвечу я или нет. В смысле, настоящая Рут ничего об этом не узнает.
– Логично, – согласилась она. – И это настораживает меня еще больше. Во сне не бывает так логично! Впрочем, ладно. Если уж мне все равно снится, что я дома на кухне, давай хотя бы Лену потискаю. Достань ее из клетки, пожалуйста. Я почему-то никак не могу отойти от раковины… И это просто отлично! Хоть что-то происходит, как положено во сне.
Открыл клетку, протянул руку, осторожно погладил спящего кролика Лену и очень бережно, чтобы не напугать, вытащил зверька наружу. Снова погладил, прислушиваясь, как бьется сердечко – вроде, не быстрее, чем обычно, значит, все хорошо. Медленно, стараясь не делать резких движений, встал.
– Держи свою красавицу.
И только тогда понял, что возле мойки никого нет. И вообще нигде. Что, честно говоря, совершенно нормально, потому что Рут – в Буэнос-Айресе, двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть километров отделяют ее сейчас от смешного розового носа кролика Лены, от текущей из крана горячей воды, ярко горящих ламп, стопки чистой посуды в кухонном шкафу и циферблата настенных часов, на которых уже почти пять утра.
На всякий случай Эдгар обошел дом. Кролика носил с собой – без нее в темных комнатах почему-то было жутковато. Потом вернул Лену в клетку и заварил себе чаю. Все равно теперь не уснуть – после такой-то встряски. Присниться, конечно, может все что угодно. Но свет, но вода, но чистая посуда – все это было уже наяву. И совершенно необъяснимо.
– Как ты думаешь, хоть сейчас-то я проснулся? Или еще нет? – жалобно спросил он кролика Лену.
И ответил тонким, насмешливым голоском:
– Проснулся ты или нет, меня не касается. А вот почему ты до сих пор не порезал мне яблоко – это да, вопрос.
Она была совершенно права.
Был уверен, что уснуть не удастся как минимум до полудня, а то и до самого вечера, однако задремал прежде, чем успел допить чай, благо добираться до постели не понадобилось, уже там сидел. И проспал до десяти, как миленький. И, честно говоря, спал бы дальше, да Лена разбудила, не то затеяла в своем домике генеральную уборку с перестановкой, не то просто так бузила, но шум подняла знатный. И вид имела не виноватый, а напротив, чрезвычайно довольный. «Я царица мира, где моя морковка?» – таково было выражение еще недавно кроткой морды.
Достал кролика из клетки, погладил, прижал к сердцу, поцеловал в макушку. Сказал:
– Похоже, ты ко мне уже привыкла.
И пропищал в ответ:
– Это что за телячьи нежности с утра пораньше? Жрать давай!
Быть счастливым дураком легко и приятно. Но превратиться в такового практически невозможно. Мало кому настолько везет.
В таком состоянии и пребывал до самого сеанса связи с Рут. Только в самый последний момент забеспокоился: мне-то самому сейчас кажется, что это был удивительный, совершенно необъяснимый сон. Или даже не сон, а что-то вроде чудесного видения. А со стороны наверное бред собачий, ничего интересного. Может, еще и неприятно станет, что приснилась кому-то за мытьем посуды. Нет чтобы прекрасной принцессой в заоблачном замке!
Но все равно решил рассказать. Благо из-за плохой связи довольствовались письменными сообщениями, а так объясняться гораздо легче, чем вслух. Есть время обдумать каждую фразу. И выражения лица не видно, и голос не дрожит. И вообще.
На каждую реплику Рут отвечала: «Ничего себе!» А в финале призналась: «Представляешь, мне снилось ровно то же самое. Один в один. Полночи мыла дома посуду и трепалась с тобой. Дословно всего не припомню, но примерно о том же. По крайней мере, сумасшедший дом на окраине Буэнос-Айреса определенно упоминался, я еще Данку только что допрашивала, где тут ближайший, посмеялись».
Написал: «Ты извини, пожалуйста, что оставил столько грязной посуды. В первый раз просто спать очень хотел, а вчера нарочно не помыл, чтобы проверить, станет она опять чистой или нет. А выходит, тебя загрузил – каким-то идиотским мистическим способом».
«Ничего страшного, – ответила Рут. – Мытье посуды – единственная домашняя работа, которая меня не бесит. Даже, наоборот, успокаивает. И руки можно погреть».
Собравшись с духом, спросил: «Слушай, а что вообще происходит?» – совершенно не представляя, как можно ответить на этот вопрос.
«Понятия не имею. Но надеюсь, оно продолжит происходить, – написала Рут. – Ужасно это все интересно!»
«Да не то слово».
Вот именно, не то слово. Совсем не то. Но тоже хорошее.
До вечера бродил по городу, ничего толком не замечая, не думая ни о чем, почти не осознавая, что происходит; потом, уже дома здорово удивился, обнаружив, что, оказывается, успел нарисовать несколько десятков человеческих лиц – поспешные неловкие наброски, да еще и в линованном блокноте, вот дурак. Впрочем, какая разница, эти рисунки имеют разве что этнографическую ценность, да и то очень условную, в рамках давным-давно придуманной игры с самим собой. А теперь началась какая-то другая игра, совершенно непонятная, но захватывающая. И такая азартная! Уж очень высоки ставки, даже если никаких ставок нет вовсе, даже если сам их нафантазировал, даже если фраза Рут «Надеюсь, оно продолжит происходить» продиктована только вежливостью, или, например, любопытством, сама же сказала: «Интересно», – и это вовсе не означает, что… Да просто вообще ничего не означает. Все равно ставки высоки, как небо, до которого, если верить надписи в кафе, куда случайно забрел и остался обедать, двенадцать километров; получается, небо в тысячу раз ближе, чем чертов Буэнос-Айрес, где сейчас пьет горький черный кофе маленькая рыжая Рут. Даже чуть больше, чем в тысячу, в тысячу с хвостиком – кроличьим, конечно, чьим же еще.
– Все это хорошо, но ты с недопустимым легкомыслием относишься к обязанности резать для меня яблоки, – насмешливо сказала кролик Лена.
Ну, то есть сам, конечно, сказал, вернее, пропищал, для смеху. Но был совершенно уверен, что озвучивает Ленины мысли. Не так уж сложно было их угадать. А смягчить ее недовольство еще проще.
Пиццу на этот раз не пек, разогрел и доел остатки предыдущих кулинарных экспериментов. Немного прибрал квартиру. Не любил заниматься уборкой, но не мог допустить, чтобы Рут приснился бардак, который он уже успел развести при активном участии Лены. Крольчиха устала прикидываться тихим ангелом и, будучи выпущена на свободу, быстренько раскидала все, до чего успела дотянуться, включая книги, тапки и сложенные в плетеную корзину овощи, отличный вышел натюрморт. Но Рут его лучше не показывать.
Ждал ночи, как давно ничего не ждал. И одновременно очень боялся. Чего именно – бог весть. Что Рут не появится в кухне? Или что она все-таки появится, и тогда окончательно станет ясно, что мы оба сошли с ума? Или не оба, а только я? Или только она? Вот это, кстати, было бы обидно. Общее безумие объединяет, как необходимость вместе выживать на неизвестной планете, воздух которой, вроде бы, вполне подходит для дыхания, но на этом хорошие новости для нас заканчиваются. Или нет?
Или нет.
Сказал Лене:
– Мне с самого начала следовало заподозрить неладное. Если в деле фигурирует белый кролик, можешь начинать писать прощальное письмо своей голове. Но заметь, я ни на что не жалуюсь.
– Еще бы ты жаловался, – пропищала крольчиха.
Ну, то есть не она, конечно. Сам пропищал. Все сам. И уснул тоже сам. В смысле один-одинешенек. Зато проснулся от шума воды и яркого света, как вчера. И Рут снова была здесь, в пижаме с медвежатами, маленькая, рыжая, растрепанная, немного хмурая спросонок, такая знакомая, настолько привычная, родная, своя, словно вместе росли, или хотя бы снились друг другу с детства – вот как сейчас.
– Очень мило, что ты оставил в раковине всего одну чайную чашку, – сказала Рут. – Но это не облегчило мою участь. Скорее наоборот. Я эту чертову чашку уже несколько минут тру, никак не могу ни домыть, ни просто отставить в сторону. Что, в целом, успокаивает. Нормальный такой себе сон, из разряда особо дурацких. Впрочем, теперь появился ты, и это отлично. Есть кому пожаловаться, что у нас тут сейчас зима – несложно было догадаться заранее, но я, конечно же, не догадалась, взяла с собой полный чемодан футболок и сарафанов, а здесь плюс одиннадцать, лютый аргентинский август, для них все равно что февраль, а больше всего это похоже на наш виленский октябрь, который как раз наступит, когда я вернусь домой. Данкины свитера мне велики, но ничего не поделаешь, хожу, надев один на другой и закатав рукава, такая смешная короткая толстая тумбочка, видел бы ты! Зато нынче побывала в квартале Палермо искала там дом Борхеса; как ни странно, нашла. Познакомилась в соседнем баре с прекрасной безумной англичанкой, она уже несколько лет тут живет. Узнала от нее имена двух главных местных ветров: юго-западный Памперо и юго-восточный Судестада, мальчик и девочка; уверена, что у них роман, и они счастливы вместе, хотя дуют, конечно, по очереди. Я сейчас очень лирически настроена, вот и выдумываю всякую чушь. Зато могу хвастаться, что в Буэнос-Айресе у меня уже целых четыре друга: два ветра, англичанка и Борхес. Но мне все равно мало. Я по тебе скучаю, представляешь? Гуляла сегодня, глазела по сторонам и думала: «Вот бы показать это Эду»… Ох, прости! Ты просил не сокращать твое имя, я помню. Но я не нарочно. Оно само!
Сказал:
– И черт с ним. Я так рад, что ты по мне скучаешь! На таких условиях можешь сократить меня хоть до одной буквы Э.
– Похоже, к тому все равно идет, – усмехнулась Рут. – Но учти, если завтра выяснится, что ты снова помнишь, как я мыла посуду на кухне, и этот наш разговор, я буду все отрицать. Неловко наяву признаваться почти незнакомому человеку, что соскучилась. А во сне само вырвалось. И почему-то нормально. Как будто так и надо. Такой уж дурацкий сон.
– Отличный сон. Но договорились, наяву я тоже сделаю вид, будто ничего такого не слышал. И сам не стану говорить, что счастлив тут, как последний дурак – просто от того, что живу в твоем доме, хожу по твоему городу, кормлю твоего кролика, и вдруг выясняю, что у тебя полотенца такого же цвета, как мои, и простыни, и Моцарт…
– Мой Моцарт такого же цвета, как твой?
Смеялись совсем как наяву. Только Рут при этом продолжала терзать чашку. Похоже, действительно не могла перестать ее мыть.
Добавил, досмеявшись:
– И письма я тебе наяву не отправлю. Потому что письма – это уже совсем страшный компромат на меня. Взрослые люди такого друг другу не пишут. А я уже штук восемь накатал.
– Нет уж, письма пожалуйста, отправь, – строго сказала Рут. – Потому что, во-первых, все равно проговорился. А во вторых, я же действительно скучаю. Зря, что ли, ты снишься мне каждую ночь?
Молчал, совершенно потрясенный тем, как складывается их разговор. В такой ситуации уже все равно, кто кому снится. И как это вообще возможно. И кто сошел с ума, вернее, кто сошел с ума первым. Потому что теперь-то, пожалуй, оба. И, господи, как же это хорошо.
– Слушай, – сказала Рут, – я тебя особо не расспрашивала, хотя ужасно хотела. Но наяву казалось бестактным лезть в чужие дела, я так не могу. Но сейчас-то можно, а даже если нельзя, все равно спрошу: а чего тебя вообще понесло в Вильнюс? Да еще на целых два месяца. Какие у тебя здесь дела?
– Абсолютно никаких. То есть, одно дело теперь есть: присматривать за твоим кроликом. Но это все.
– Ты приехал в Вильнюс, потому что захотел возиться с чужим кроликом? Я правильно тебя поняла? А не проще было завести своего?
– Не совсем так. Я приехал в Вильнюс потому, что здесь нашлось бесплатное жилье на достаточно долгий срок. Ну, просто твое объявление первым на глаза попалось. А мне было почти все равно, куда, лишь бы поехать. Лишь бы начать.
– Начать – что?
– Новую жизнь. Такую, как всегда хотелось. Переезжать из города в город, задерживаться где-то на месяц, где-то на полгода, как пойдет, чтобы не туристом по достопримечательностям проскакать, а пожить по-настоящему, втянуться в городской ритм, обзавестись привычками и предпочтениями, с кем-то познакомиться, что-то начать понимать, а потом – рррррраз! – и дальше. Еще куда-нибудь. Вообще-то для такой жизни надо быть богачом. Но я, как и ты, грабить банки не умею. Бонни и Клайда из нас не выйдет, это я уже понял. Но может оно и неплохо?
– Переезжать из города в город, – зачарованно повторила Рут. – Менять одну жизнь на другую, не всерьез, понарошку, как будто у тебя их много-много, как платьев в шкафу модницы, самого долгого лета не хватит, чтобы выгулять все, но можно хотя бы просто покрутиться перед зеркалом. Слушай, как же я тебя понимаю! Сама когда-то мечтала так жить. Перепробовать побольше разных судеб или хотя бы только разных городов и стран, и везде представляться разными именами, просто так, от жадности, чтобы примерить на себя все, сколько успею. Но знала, что не решусь. И организовать не сумею. И деньги – хоть сколько-то совершенно необходимо. Откуда, скажи на милость, их брать? Но ты, получается, все же решился. Вот объясни мне, разумной трусихе, как?!
Сказал:
– Знала бы ты, сколько лет я не решался. Жил, как нормальный человек, каждый день ходил на работу, два раза в год брал отпуск, уезжал куда-нибудь на край света, и это было настоящее счастье, только слишком быстротечное – ну уж какое есть. А все остальное время я – отдельно, а мои мечты о вечных странствиях – отдельно, ясно же, что невозможно, так не бывает, люди так не живут, кроме, разве что, нескольких сотен эксцентричных богачей, но одним из них мне не стать, даже если мою прекрасную зарплату завтра увеличат еще втрое. Но, в общем, и так все неплохо, – говорил я себе, оглядываясь по сторонам, сравнивая себя с другими, и был по-своему прав. Так бы и жил до сих пор, если бы не заболел. Одно время думал, что не выберусь, но как видишь, выбрался, даже без серьезных последствий, не хмурься, забудь, не о чем тут говорить. Просто пока выбирался, у меня появилось время как следует подумать. Спросить себя, что именно так сильно боюсь потерять сейчас. И оказалось – возможности. Сотни тысяч нереализованных возможностей, одна другой слаще. Понятно, что до всех мне не дотянуться, ни одной самой долгой человеческой жизни на это не хватит. Но с чего-то можно начать. Я спрашивал себя: «Чего ты хочешь больше всего на свете?» И отвечал. Целыми днями только тем и занимался, что отвечал себе на этот вопрос. Больничная скука и слоняющаяся по коридорам смерть, о которой никогда точно не знаешь, за кем она сегодня пришла, отличные исповедники. Кого угодно заставят посмотреть в лицо некоторым фактам о себе. А когда я вышел из больницы, практически новорожденный, растерянно озирающийся по сторонам, оказалось, что моя прежняя жизнь уже благополучно рухнула – сама, без моих усилий. На работе мне нашли замену, девушка успела не только закрутить новый роман, но и выскочить замуж, друзья – не то чтобы отвернулись, даже помогали, чем могли, но им было скучно со мной больным и совсем не о чем говорить с выздоровевшим, а мне – с ними, я все-таки сильно изменился за это время, и общего контекста у нас не стало, это тоже важно, может быть, вообще важнее всего… На самом деле я мог быстренько отстроить на этих руинах новую жизнь, точную копию старой. С моим резюме и знакомствами совсем несложно найти работу, а все остальное наросло бы само собой: девушки, друзья, прежние или новые, какая разница, отпуск на тропических островах, квартира – если не та же самая, то примерно такая же; год спустя я, чего доброго, решил бы, что жизнь наладилась, выдохнул и снова принялся бы мечтать о чем-нибудь прекрасном и даже вполне возможном – для других, не для меня. Но я сказал себе: «Стоп». Подсчитал остатки финансов, окончательно понял, что богатым бездельником мне, увы, не бывать, зато если путешествовать, скажем, автобусами и находить недорогое, а еще лучше бесплатное жилье, моих запасов хватит на пару-тройку очень счастливых лет. По крайней мере, таких, как я хотел. А там – поглядим.
– Ну ты даешь, – вздохнула Рут. – Не думала, что ты такой храбрый.
– И глупый.
– Не без того. Но такой глупости поди еще научись. Слушай, как же я рада, что ты нашел мое объявление!
– А я-то как рад. Совершенно не собирался ехать в Вильнюс. В моих мечтах фигурировали Париж, Барселона, Венеция – список настолько предсказуем, что можешь продолжить сама. И тут вдруг: «Требуется компаньон для белого кролика». Я так и сел. Сперва написал из чистого любопытства, потом ходил, думал, говорил себе: «Какая разница, с чего начинать, лишь бы поскорей, пока голова не заработала в нормальном режиме и не прикрыла проект». И вдруг как-то неожиданно выяснилось, что я уже приехал и стучу в твою дверь. И с этого момента все пошло совершенно не по плану. Поди такое запланируй. Я тут у тебя как-то внезапно обнаружил, что мне все еще довольно мало лет. И я снова ни черта не знаю о мире, в котором мы живем. Зато у меня определенно есть сердце, большое-пребольшое, едва помещается в груди. И куча времени впереди – в любом случае, сколько бы его ни осталось, потому что теперь даже всего один день – это невероятно много, как целая жизнь. Не могу объяснить, почему так. Ай, неважно. Я сейчас вообще ничего не могу объяснить. Но оно все равно происходит, а это главное.
– Знаешь что? – сказала Рут. – Если завтра ты опять будешь все помнить, можешь не делать вид, будто никакого разговора не было. И я не стану. Потому что разговор был. Для меня это важно. Сон, не сон – да хоть галлюцинация. Все равно глупо было бы от него отказываться. Хоть и чокнуться можно, если хоть на минуту задуматься о сопутствующих обстоятельствах.
– Я вчера вечером решил, что все дело в белом кролике. Как только в истории появляется белый кролик, разум может подавать в отставку. Ему же будет спокойнее.
– В белом кролике? – переспросила Рут. – Слуууушай! Ну конечно. Сразу могла бы догадаться. А ну-ка скажи, что сейчас делает Лена?
– Дрыхнет в клетке без задних ног.
– А ты попробуй ее разбудить… Нет, погоди секунду. Послушай. Если я исчезну, как только Лена проснется, значит я угадала. Тогда выходи в скайп прямо сейчас. Я тебе все объясню. А потом пойду сдаваться в сумасшедший дом.
Сказал растерянно:
– Ладно.
И полез в клетку за Леной. Очень медленно и осторожно. Трудно разбудить кролика, не испугав.
К счастью, кролик Лена была не из пугливых. Даже не вздрогнула, когда Эдгар ее погладил. Моргнула и принялась обнюхивать его ладонь, доверчиво положив на нее передние лапы.
Сказал:
– Я молодец. Очень аккуратно ее разбудил. Достать? Хочешь поздороваться?
Но ему никто не ответил. Рут действительно исчезла. И кран на этот раз за собой закрыла. И чашку оставила в мойке – ослепительно чистую, глазам больно.
Подумал: «Ну надо же, а». И пошел включать компьютер, как договорились.
Рут уже ждала его в скайпе. Даже успела написать: «Ну и где же ты?» Такая нетерпеливая.
Спросил: «Слушай, все было, да?»
Дурацкий, конечно, вопрос – это если вне контекста. Зато с ним – в самый раз.
«Было, – ответила она. – Более того, я тебе сейчас расскажу, что именно было. Обхохочешься. Хочу это видеть. Попробую позвонить. По ночам тут вроде нормально все работает».
Когда Рут появилась на экране, стало ясно, что пижама с медвежатами по-прежнему на ней. Не то доказательство, не то просто совпадение, поди разбери. Но безусловно добрый знак.
– У нас еще детское время, – сказала она. – Чуть-чуть за полночь. Я тут очень рано ложусь и встаю, а дома была такая сова! Но джетлаг творит чудеса. Сейчас быстренько расскажу тебе про Лену и пойду спать дальше. Просто до завтра откладывать не хочу. Завтра проснусь с ясной головой, подумаю: «Что за глупости», – и не стану ничего тебе рассказывать. А это будет нечестно.
Молча кивнул, подбадривая ее. Дескать, что там про Лену?
– Штука в том, что это я ей приснилась, – сказала Рут.
– Что? Ты? Кому?
Так растерялся, что задал, как минимум, два лишних вопроса. Вполне можно было ограничиться одним «Чтооооо?!»
– Я. Приснилась. Кролику. Лене.
Рут говорила громко и четко, практически по слогам. По некоторым косвенным признакам Эдгар догадывался, что у него по-дурацки распахнулся рот. Но ничего не мог с этим поделать.
– Ну что ты теперь смотришь на меня как на чокнутую, – вздохнула Рут. – Я-то, конечно, чокнутая, не вопрос. Но сейчас дело говорю. С Леной все, видишь ли, очень непросто.
– Ну да. Она же белый кролик.
Наконец-то справился с непокорным ртом, сложил его в более-менее убедительную улыбку.
– Ты сперва дослушай. С Леной у нас было вот что. Когда я принесла ее в дом, поселила в своей спальне – ну, чтобы всегда была под присмотром. И все у нас шло хорошо. Только я время от времени просыпалась посреди цветущего луга. Такой, знаешь, совершенно идеальный луг, залитый солнцем, заросший свежайшей молодой травой, и дождь явно недавно прошел, и земляника поспела. Я думала – какой хороший сон – и спала себе дальше. Не брала в голову. Да и кто бы на моем месте стал? А что у меня в волосах то и дело застревала трава, ничего удивительного – если учесть, что я постоянно собираю ее для кролика. Потом я купила большую клетку и поставила ее в кухне. Лена к тому времени уже вполне обжилась, я решила, можно оставлять ее на ночь одну. И какое-то время ничего особенного не происходило. Ровно до тех пор, пока я не стала спешно дописывать диссертацию. Штука в том, что когда я напряженно работаю, я начинаю много курить. Помогает сосредоточиться; впрочем, неважно. Важно, что из-за этого мне пришлось устроить рабочее место на кухне. Это единственное помещение в доме, где можно курить, потому что там отличная вытяжка, ну и вообще, кухня есть кухня, там должно быть можно все.
– Точно.
– Рада, что ты тоже так думаешь, – зевнула Рут. – Обидно было бы не сойтись с тобой в одном из самых главных вопросов бытия.
– Вот и я обрадовался. Извини, что перебил.
– Ничего. Я сейчас как танк, меня с толку не собьешь. Потому что твердо решила: пока не закончу, спать не пойду. Мощная мотивация! Так вот, стала я работать на кухне. И Лена рядышком в клетке возится. Похрустит-похрустит и засыпает. И вот тогда этот прекрасный райский луг стал мерещиться мне наяву. Я сперва испугалась – ни фига себе заработалась до галлюцинаций! А ведь, можно сказать, только начала, что дальше-то будет? Да, так вот. Что особенно интересно. Я, как типичная тревожная мамаша, чуть что не так, хватаю кролика на руки, чтобы защитить от всех напастей. И тогда тоже лезла за ней в клетку, хотя глупо, конечно, защищать зверька от собственных галлюцинаций. Но моими действиями руководил не разум, а дремучий инстинкт. Зато когда я брала Лену на руки, видения тут же рассеивались. Я переводила дух, а она сонно моргала и барабанила лапами по моему животу – дескать, оставь меня в покое, дай поспать! Так что какое-то время я была свято уверена, что галлюцинирую от переутомления, и только прикосновение к чудодейственному кролику Лене возвращает мне разум. Но дело, конечно, было не в этом. А в том, что я ее бужу. Это пришло мне в голову гораздо позже. Причем даже не тогда, когда по утрам я выметала из кухни увядшие листья и сухие цветы. А когда у меня остался ночевать приятель. Я постелила ему на кухне, а поутру выслушивала восторженный рассказ о том, как сладко у меня спится. И какой замечательный сон он тут увидел, чудесный цветущий луг, омытый недавним дождем и освещенный солнцем. Соображаешь?
– Ты поняла, что этот луг мерещился не тебе, а кролику?
– Ну как – «поняла». Скорее просто заподозрила. Звучит как бред собачий, особенно если вслух говорить. Кролику вполне может присниться все что угодно, но каким образом ее сны становятся видны всем остальным? А все равно, почему бы не проверить. И я проверила. Перетащила клетку в спальню и спокойно дописала диссертацию без единой галлюцинации. А клетку потом вернула на место. Решила, что больше ничего не хочу знать о снах моего кролика. И так твердо решила, что выбросила из головы все эти глупости – до сегодняшнего дня.
– Но, кстати, цветущий луг мне пока ни разу не примерещился.
– А кто сказал, что кролику все время должен сниться один и тот же сон? – усмехнулась Рут. – Время шло, концепция в ее маленькой голове сменилась; возможно, неоднократно. А тут еще я уехала. Что бы там ни говорили зоологи, а я совершенно уверена, что Лена по мне скучает. И поэтому ей снится, как я мою посуду. Я уже давно заметила, что ей нравится шум воды. Я часто мыла посуду по вечерам, перед тем, как пойти спать. И Лена всегда просила, чтобы ее выпустили из клетки, подходила поближе к мойке, сидела смирно и слушала, как меломан на концерте. Видимо именно так она теперь представляет себе рай: за окном ночь, в кухне горит свет, журчит вода, я мою посуду.
– Но ты же была совершенно настоящая! А не какая-нибудь галлюцинация.
– Откуда ты знаешь? Ты же меня не трогал. А разговаривать можно и с галлюцинацией. Многие так делают, я читала.
– Но ты же все помнишь, как будто действительно здесь была. И в скайп сейчас вышла, потому что мы договорились… – погоди, получается, мы сейчас разговариваем, потому что договорились об этом в кроличьем сне? Ох.
– Получается, – вздохнула Рут. – И я тоже не понимаю, почему так получается. Может быть, штука в том, что я сама в это время спала? И каким-то образом, была «на связи»? Ну, как будто включила телефон, хочешь – звони. А когда я бодрствую, Лене снится что-нибудь другое. Или вообще ничего. Можно же какое-то время спать без сновидений. Медленная фаза… или, наоборот, быстрая? Ни черта не помню о них; впрочем, неважно. Звучит-то в любом случае совершенно чудовищно.
Согласился:
– Чудовищно. Тем не менее, если ты сейчас ложишься спать еще до полуночи, все совпадает. Когда ты мыла посуду, у нас было как раз около пяти утра. И Лена действительно дрыхла. Твоя версия кажется мне все более разумной. Именно «разумной», прикинь! Приятно сходить с ума в хорошей компании.
– Рада, что тебе нравится. Потому что, подозреваю, именно этим нам с тобой предстоит заниматься в ближайшее время. Знаешь что? Пойду-ка я спать дальше. Завтра еще наговоримся. А посуду лучше больше не мой. Всего одна чашка, как сегодня – это был практически кошмар. Никакого разнообразия!
Сказал, глядя ей вслед, вернее, в потемневший экран:
– По крайней мере, ясно одно: спать я теперь буду только на кухне. Пока не вернешься. А там поглядим.
Улица Кауно (Kauno g.) Где-то здесь рядом
Забрели невесть куда, что само по себе невелика беда, туристам спешить особо некуда, а фотографировать телефоном – косо-криво, даже не ради похвальбы в соцсетях, кого нынче удивишь короткими бюджетными путешествиями, а как бы «на память», в доказательство, что поездка действительно была – не все ли равно, что именно. Но изрядно продрогли на сыром зимнем ветру, к тому же обеим очень хотелось кофе или чаю. Да практически чего угодно горячего, но определенно не шаурмы, безрадостную встречу с которой сулила поблекшая вывеска единственной на всю улицу забегаловки. Тогда Катя подошла к женщине средних лет, выгуливавшей улыбчивую белую лайку, спросила, говорит ли та по-русски, получила в ответ нетерпеливый кивок, сказала: «Я точно помню, в прошлом году где-то здесь была прекрасная кофейня, забыла, как называется, но, может, вы случайно знаете, о чем речь?» Женщина расцвела улыбкой – ну как же, «Кофейная Страна», сама их очень люблю, это совсем рядом, просто вы не с той стороны подошли. Видите арку? Пройдете двор насквозь, выйдете на улицу Кауно, сразу налево, ближайшая к воротам дверь.
Сказали нестройным дуэтом: «Спасибо», – нырнули в арку и попали во двор, где каким-то образом уживались новенький, с иголочки двухэтажный особняк, ветхие дровяные сараи, неуместные в декабре яркие пляжные полотенца на веревках и унылая пятиэтажка советских времен, покрытая условно каллиграфическими надписями на разных языках, среди которых попадались вполне понятные: «First things first», «Punk’s Not Dead», «Руслан – лох».
Мир велик, везде одно и то же.
Уже в кофейне, заняв очередь за девочкой с голубыми волосами и бородачом в клетчатых штанах, Соня спросила:
– Так ты уже сюда ездила? А говорила, в первый раз…
– Конечно, в первый, – пожала плечами Катя. – А почему ты?.. – и, оборвав себя на полуслове, рассмеялась: – Ай, ну да! Я же той тетке сказала, что в прошлом году… Неважно; я ей соврала. Это просто такой метод быстро находить в незнакомом городе все, что захочешь.
Соня нахмурилась – какой метод? О чем она вообще? Но тут подошла их очередь, и расспросы пришлось отложить.
– Так что за метод? – спросила Соня после того, как они, обхватив озябшими руками горячие кружки, устроились в креслах с такими удобными спинками, хоть никогда отсюда не уходи.
– Просто когда мне нужно срочно найти что-нибудь в незнакомом городе, я всегда расспрашиваю прохожих так, как будто точно знаю, что оно где-то тут рядом есть.
– Что ты имеешь в виду?
Когда Катя начинала вот так бойко, бодро тараторить, Соня переставала ее понимать. Из-за этого всю жизнь считала себя глупее сестры. Хотя самой было ясно, не в уме дело, просто у них разная скорость. Дай им обеим какую-нибудь задачу повышенной сложности и срок на решение сутки, ее, в итоге, решит именно Соня. А элементарную, из учебника арифметики для младшей школы, но за десять секунд – за этим к Кате. У Сони предложение сделать что бы то ни было за десять секунд вызовет, в лучшем случае, головокружение. Они вообще были очень разные, во всем, хоть и родились почти одновременно, с разницей двадцать, что ли, минут. Но не близнецами, а двойняшками, настолько непохожими, что их никогда не принимали за сестер.
– Извини, – кротко сказала Катя. – Вечно я тараторю. Смотри как: когда я оказываюсь в незнакомом городе и очень хочу быстренько найти, например, как сегодня, хорошую кофейню, которая совершенно не факт, что есть поблизости, я выбираю какого-нибудь симпатичного прохожего и говорю: «Я точно помню, что где-то тут была отличная кофейня, но почему-то не могу ее найти». И всегда выясняется, что рядом действительно есть отличная кофейня. Или аптека. Или художественная лавка, или обувной магазин. Да все что угодно. Однажды в Праге я оказалась с заблокированной картой, практически без наличных, в воскресенье, когда банковская служба поддержки бодро обещает разобраться завтра – представляешь, да?
Соня невольно поморщилась, вообразив такую неприятность. Вот за это она и не любила путешествия: в любой момент может случиться какая-нибудь дурацкая накладка, на которую нужно быстро реагировать, соображать, принимать меры, менять планы, все вот это вот. Причем всего заранее не предусмотришь, не застрахуешься, как ни старайся. Конечно, ничего страшного в этом нет, все преодолимо, но что за отдых, если приходится что-то там преодолевать? Командировки – еще ладно бы. Работа есть работа, можно и потерпеть.
– Какая-то еда у меня в гостинице была, – продолжала тараторить Катя, – а наличную мелочь я почти сразу спустила в уличном киоске на горячую булку и что-то вроде какао, думала, не пропаду. И не пропала, конечно, но гулять весь день под моросящим дождем мимо всех этих сияющих теплых окон, за которыми пьют и едят, и ни разу нигде не присесть было ужасно обидно. Так я, представляешь, спросила какую-то юную парочку: «Ребята, мне этой весной где-то здесь бесплатно налили кофе…» – они мне не дали договорить! Дружно закивали и показали какую-то забегаловку – ну как забегаловку, скорее даже что-то вроде ресторана – с подвешенным кофе. Знаешь, что это такое?
Соня, когда-то читавшая об этой традиции в Интернете, кивнула.
– Ну вот. А я именно тогда и узнала. Дело было лет восемь, кажется, назад… Неважно! Важно, что даже в такой непростой ситуации сработало. В общем, по моему опыту, если спрашиваешь о чем-то так, словно точно знаешь, что оно где-то здесь рядом, обязательно оказывается, оно действительно есть. А когда просто: «Подскажите, где тут у вас что-нибудь такое?» – как повезет.
– Интересно, – задумчиво сказала Соня. – А почему обязательно в незнакомом городе?
– Потому что в своем всегда более-менее представляешь, что тут где. Что в каком районе есть, а чего совершенно точно быть не может. Даже если не знаешь, все равно краем уха слышала, мельком видела или просто догадываешься. И в итоге выходит нелепо, как попытка угадать имена собственных одноклассников на общей фотографии. Невозможно угадать то, что и так знаешь. Понимаешь, о чем я?
– Пожалуй, – согласилась Соня. И надолго умолкла.
Катя косилась на сестру с некоторым опасением. Уже привыкла, что настроение у той может испортиться когда угодно, от любой ерунды. И тогда уж – где мой конь пройдет, не растет трава. То есть слова дурного не скажет, и улыбаться будет, и вежливо поддерживать разговор, а нервы все равно вымотает, и настроение испортит, и выглядеть на любом празднике жизни будет, как гроб под новогодней елкой. Как ей это удается, не понимает никто.
Но сейчас Соня выглядела вполне довольной. Сидела в кресле, маленькими глотками пила щедро разбавленный молоком кофе, рассеянно рассматривала развешанные по стенам плакаты. И явно не жалела, что согласилась на совместную поездку. Скорее всего, временно не жалела. Но все равно отличный результат.
Катя уже давно старалась растормошить сестру, которая сиднем сидела дома, не то что куда-нибудь за границу, а на оставшуюся им родительскую дачу выбиралась хорошо, если пару раз за все лето. И к морю ни разу не ездила с тех пор, как их восьмилетних в последний раз возили в Крым родители. Считай, вообще никогда. Изредка ее отправляли в рабочие командировки, в Германию и обратно. С командировками Соня смирялась и справлялась легко, поездок она не боялась, просто не любила. Не понимала, какого рода удовольствие можно получить от перемещения тела в пространстве. «Все равно везде примерно одно и то же», – говорила она.
Ясно, что не всем быть великими путешественниками, невеликими тоже не всем. Но Катя не оставляла надежды привить сестре хоть какой-то вкус к поездкам. В первую очередь ради себя. Катя любила сестру. То есть дело даже не в этом, мало ли, кого мы любим, вовсе не обязательно всюду таскать их за собой. Просто с Соней было здорово делать что-нибудь вместе. Все равно что, да хоть пельмени лепить. Вместе у них получалось как-то удивительно ладно, легко и быстро, как будто вместо одной неторопливой помощницы получила целую дюжину. Соне вроде бы тоже нравилось проводить время с сестрой, но от поездок она до сих пор наотрез отказывалась, изобретательно сочиняя отговорки, одна убедительней другой. И вдруг согласилась на четыре дня поехать в Вильнюс. Интересно, почему? Что-то пошло не так? Или, наоборот, чересчур «так»? И оказалось, что все это время хотелось совсем другого, чего теперь, как ни старайся, не получишь? Поди угадай, Сонька скрытная. С ней никогда не поймешь.
– А что-нибудь совсем невозможное ты пробовала? – спросила Соня.
С момента разговора в кафе прошло уже часа полтора. За это время сестры успели допить кофе, вернуться в Старый город, слегка заплутав по дороге, сфотографировать пару десятков забавных рисунков на стенах, купить ядовито-зеленые носки с Гомером Симпсоном и запоздало осознать, что дарить их некому, такие никто не станет носить. Значит, придется справляться самим.
Поэтому Катя сперва не поняла, о чем речь.
– Пробовала ли я что-то невозможное? – переспросила она. – Хороший вопрос. Пожалуй, все-таки нет. Как же его попробуешь, если оно невозмо?..
Соня, обычно готовая годами терпеливо ждать, пока собеседник закончит фразу, не дала ей договорить.
– Я имею в виду, ты когда-нибудь пробовала сказать кому-то из прохожих, что где-то рядом совершенно точно находится… ну, я даже не знаю. Летний дворец королевы фей. Курсы хождения в голом виде. Штаб-квартира чемпионата мира по безутешным рыданиям. Прачечная для облаков. Было бы смешно, если бы они и на это соглашались. И показывали дорогу. И ты попадала бы во все эти удивительные места.
– А, поняла! – обрадовалась Катя. – Нет, совсем невозможное – точно нет. Но, кстати, мой пражский вопрос про бесплатный кофе был на грани, согласись?
– Если даже теоретически не знать, что бывают заведения, где кофе «подвешивают», пожалуй, да. Но, по-моему, это как-то недостаточно эффектно. Ну кофе, ну бесплатно, подумаешь. Я все-таки за курсы хождения голышом… при дворце королевы фей. Давай кого-нибудь спросим? Хочешь, я сама спрошу?
Вот в этом вся Сонька. Молчит, думает о чем-то своем, улыбается напряженно, как отличница перед экзаменом, и вдруг – ррраз! – готова расспрашивать незнакомых прохожих о курсах хождения голышом. И только самые близкие знают, что это еще вполне невинная выходка, Сонечка-лайт.
– Курсы для голых при дворце королевы фей – это все-таки слишком нелепо, – сказала Катя. – Мы с тобой не психи и точно знаем, что такого нигде в мире не может быть. Ничего не получится, еще и мой прекрасный метод, чего доброго, испортится от неправильного употребления. Надо придумать что-нибудь потоньше. Так, чтобы у нас самих оставалось смутное сомнение: а вдруг такое бывает?
Соня недовольно поморщилась, но, подумав, согласилась:
– Ладно, курсы и правда глупо. И никому не нужно, чтобы они здесь появились. Включая нас. Что мы будем делать с таким счастьем? Записываться? Так нам улетать в воскресенье. К тому же, занятия наверняка проводятся на литовском языке.
Катя прыснула, но сестра сохраняла серьезность.
– Пусть тогда будет комитет по защите воздушных шаров от воздушных змеев, – предложила она. – Или наоборот, змеев от шаров? Или санаторий для нервных комнатных растений. Мы, к примеру, собрались навестить любимую азалию нашей тетушки Изольды, но забыли дома визитку с адресом лечебного учреждения, только помним, что оно где-то возле Святых Ворот… Или нет, лучше какой-нибудь музей. Мы же туристы. Туристам полагается искать музей. Чего-нибудь совершенно бессмысленного и бесполезного.
– Музей разных глупостей, – предложила Катя.
– Да. Например, музей разных глупостей. Или даже так: музей глупых вещей. Отличное должно быть место. С воистину необъятной экспозицией. Все результаты деятельности человечества, кроме унитазов, стиральных машин и противозачаточных таблеток. Я бы на такое посмотрела. Ну что, давай?
Катя пожала плечами – дескать, делай, что хочешь. Не то чтобы ей было жалко; честно говоря, она вовсе не боялась, что ее любимый способ освоения незнакомых городов действительно испортится от неаккуратного применения – еще чего! Просто заранее представляла, как Сонька будет переживать разочарование. Будем честны, неизбежное. И ведь сама это знает, а все равно лезет. Как будто нарочно подыскивает повод огорчиться и ходить потом мрачнее тучи до самого отъезда. По уважительной причине, не просто так!
С другой стороны, если не поддержать игру, настроение у нее испортится не меньше. Но тогда Сонька будет обижаться не на весь жестокий мир, а адресно, на сестру. Нет уж!
Поэтому Катя поспешно добавила:
– Если спрашивать, то ту бабку в лиловой шубе. Если кто во всем городе и знает про музей глупостей, спорю, это она.
Старуха и правда была что надо. К лиловой шубе из меха невинноубиенного поливинилхлоридного агнца прилагались такие же лиловые кудри, радужные митенки, цыганская юбка и ковбойские сапоги. Встречая подобных красоток, Катя всегда думала: «Ужас какой, совсем чокнулась бедняга», – но вслух демонстративно заявляла: «Вот и я в старости тоже такая буду!» А Соня обычно говорила: «Нет, ну это уже слишком», – с такой плохо скрываемой завистью, что сразу становилось ясно, как она представляет идеальный закат своих дней.
Сейчас, впрочем, Соня не стала обсуждать наряды лиловой старухи, а торопливо подошла к ней, заговорила – ай, жаль, далеко, не слышно! Диалог затянулся, откуда-то появилась карта центра города, у них самих были такие же, в гостиницах их всем раздают. Две головы, лиловая и белокурая склонились над трепещущим на зимнем ветру тонким листом бумаги, наконец Соня выпрямилась, многословно поблагодарила свою помощницу и вернулась к сестре. Сказала, не дожидаясь расспросов:
– Она сама туристка. Из Лондона. У нее там, не поверишь, парикмахерская для кошек, а ее герл-френд в салоне через дорогу стрижет собак. Такой вот счастливый союз, основанный на фундаментальном противоречии. Но важно не это. А то, что на ее карте отмечены все достопримечательности Старого города. В частности, Городской Музей Глупых Вещей.
– Что?!
– Сама чуть в обморок не грохнулась, – призналась Соня. – Невозможно же! Но не хотелось волновать старушку. Случись с ней что, кто подстрижет несчастных лондонских кошек? На ее подружку надежды нет. Как пройти, я запомнила. Здесь совсем рядом. Пошли?
Соня преобразилась до неузнаваемости, хотя Катя, пожалуй, не смогла бы сказать, в чем именно заключаются перемены. Просто безобидная белокурая плюшка внезапно превратилась в валькирию. Того гляди, взлетит, прихватив с собой, кто под руку подвернется, не разбираясь, погиб этот счастливчик в битве или пока нет. Его проблемы!
Эта перемена потрясла Катю так сильно, что только у самого входа в музей, прочитав новенькую вывеску на нескольких языках, включая русский, «Музей глупых вещей», она спохватилась: я же до сих пор так толком и не удивилась! А надо бы. Такого дурацкого музея не может быть в природе, но он все-таки есть. Есть потому, что мы спросили. Только потому! Чокнуться можно же.
Вывески над небесно-голубой дверью было достаточно, чтобы засчитать себе победу в этой нелепой игре с городом и всем миром, заходить уже не обязательно; будь Катя одна, она бы и не стала. Отложила бы до завтра, а пока расспросила бы о странном музее баристу в ближайшей кофейне, а вечером еще и гостиничного портье, поискала бы информацию в Интернете, отправила бы фотографию вывески всем друзьям с припиской: «В мире вот какое диво!» И за сутки худо-бедно привыкла бы к самому факту существования этого невозможного места, тогда можно вернуться и зайти. Или, наоборот, убедить себя, что это абсолютно неинтересно. «Неинтересно» звучит гораздо лучше, чем «страшно». Никакого сравнения, факт.
Но Соню сейчас было не остановить. Валькирия и есть валькирия, вижу цель, не вижу препятствий, по крайней мере, обнаружив, что входная дверь заперта, она не развернулась и не ушла, а нажала на кнопку звонка.
«Надо же, что творится. Давно я ее такой не видела», – растерянно думала Катя.
Собственно, с детства. Тогда на Соню регулярно находило. Тихоня тихоней, а идея отправиться ночью на кладбище, навек расколовшая их дружную дачную компанию на позорных трусов и Победителей Мертвецов, принадлежала именно ей. И прогулка от дачного поселка до дальнего села, двадцать с лишним километров через лес, тоже. И город они уже к десяти годам изучили вдоль и поперек, пешком и всеми видами городского транспорта, с Сониной легкой руки: «Поехали, посмотрим, что там, на конечной сорок девятого! Вдруг что-нибудь необыкновенное? Или хотя бы магазин канцтоваров с закладками, каких больше нигде нет?» Забавно, что родители всегда считали заводилой бойкую Катю. Поневоле приходилось присваивать чужую славу – не ябедничать же на сестру! А потом…
«…а потом Соня стала взрослой, – подумала Катя. – И я тоже. Просто взрослыми, это нормально, со всеми случается. Но похоже, сегодня у нее это вдруг прошло».
Голубая дверь меж тем распахнулась, и на пороге возникла старушка. Не то чтобы копия той, которая подсказала дорогу, просто тоже кудрявая и крашеная, только не в лиловый, а в алый. Одета она была в ярко-зеленое платье, по какому-то недоразумению отороченное алыми, под стать кудрям, перьями.
– Музей, к сожалению, закрыт, – сказала она по-русски. – Мы не работаем по понедельникам и…
– Но сегодня четверг! – возмутилась Соня.
– …и по четвергам! – торжествующе завершила старушка.
Нокаут.
Но Соня не собиралась сдаваться.
– Мы столько слышали о вашем музее! – умоляюще сказала она. – И приехали специально на него посмотреть. Всего на один день, представляете, как обидно?
– Слышали? – удивилась старушка. – Правда? Но где, от кого? Мы совсем недавно открылись.
«Точнее, возникли из небытия. Зато действительно совсем недавно. Буквально пять минут назад», – подумала Катя. На благоразумно промолчала. Пусть Сонька сама выкручивается как хочет.
Соня действительно выкрутилась.
– В Интернете читали, – сказала она. – «В Вильнюсе скоро откроется Музей глупых вещей», уникальная экспозиция, знающий экскурсовод.
– Так и написано, «знающий экскурсовод»? – умилилась старушка. – Очень приятно получить столь лестный отзыв.
– А вы и есть экскурсовод?
– Совершенно верно. А также директор, бухгалтер и уборщица, по совместительству. Меня зовут Луиза Яновна. Этот музей открыл мой племянник, можно сказать, мне в подарок, чтобы не скучала на пенсии. Он довольно богатый человек и, как говорится, с причудами. Всем бы такие причуды, отличная была бы жизнь!.. Ладно, что с вами делать, заходите. Но ненадолго.
– Всего на минуточку! – просияла Соня. – Быстренько посмотрим и сразу уйдем. Просто мы несколько дней спорили, какие тут у вас экспонаты. Интересно, кто угадал.
– Ну и кто из вас угадал? – спросила Луиза Яновна.
– Никто, – растерянно откликнулась Соня.
А Катя только молча кивнула. Потому что если бы они с сестрой действительно взялись фантазировать, что за экспонаты будут в этом музее, ни за что не угадали бы. Когда попадаешь в совершенно невозможный, немыслимый Музей Глупых Вещей, ожидаешь увидеть там что-нибудь причудливое. Например, объекты современного искусства. Или клоунский реквизит. Или бракованную продукцию разных заводов: фотоаппараты, к которым забыли приделать объективы, ботинки с двумя пятками, кастрюли с намертво припаянными крышками, стаканы без дна. А здесь в витринах самые обычные вещи. Расческа, очень старая нарядная кукла, посеребренный поднос… Что в них такого уж глупого?
– А что глупого в этих вещах? – спросила она.
– Судьба, – улыбнулась Луиза Яновна. – Сами по себе вещи в нашем музее вполне обычные. Зато все как одна с чрезвычайно нелепой судьбой. Это, можно сказать, самые ненужные и неуместные вещи в мире: расческа, выигранная в лотерею лысым бобылем, которому даже передарить свой приз некому; поднос, купленный любящим супругом, чтобы приносить по утрам кофе в постель жене, которая ушла от него в тот самый день, пока он ходил по магазинам; кукла, всю свою долгую жизнь просидевшая в шкафу, потому что ее подарили девочке, мечтавшей о конструкторе и самокате. Кукла, кстати, моя, поэтому за эту информацию отвечаю головой. Впрочем, и за всю остальную: все вещи я собирала лично, по родственникам, друзьям и знакомым, вместе с историями, которые подробно рассказываю, проводя экскурсии. Без дополнительных пояснений никакого смысла в этой экспозиции, конечно, нет. Но я люблю рассказывать. Жалко, что вы уезжаете, я могла бы записать вас на послезавтра, в одиннадцать утра будет русская группа. Но нет, значит нет.
– Спасибо, – вежливо сказала Катя. И, не удержавшись, добавила: – У вас, получается, очень печальный музей.
Соне сейчас явно было не до разговоров, она с жадной сосредоточенностью зыркала по сторонам, словно бы задавшись целью не только разглядеть все экспонаты, но и составить их полный перечень. И запомнить его навсегда.
– Скорее, лирический, – улыбнулась Луиза Яновна. – Музей человеческих ошибок, роковых и просто забавных. В каком-то смысле, гораздо более честная история города и человечества в целом, чем та, которую мы знаем из учебников. Человек – существо, самой природой предназначенное ошибаться. Но ничего страшного в этой нашей особенности, как ни удивительно, нет. Если уж мы до сих пор живы – и мы с вами, и вообще все, кто сейчас есть. На этой оптимистической ноте предлагаю распрощаться. Не обижайтесь, дамы, у меня большие рабочие планы на этот выходной день.
«Например, пройтись по знакомым, выпросить для своего адского музея авторучку, которой так и не написали ни одной поэмы, шелковую простыню, не попавшую на ложе любви по причине полного равнодушия объекта страсти, погремушку для нерожденного младенца, кошелек, куда оказалось нечего положить», – подумала Катя. Но вслух, конечно, сказала только: «Спасибо», – и с нескрываемым облегчением выскочила на улицу. Сестра последовала за ней.
«Здорово, конечно, что у нас получилось, – думала Катя. – Но какое же оно оказалось ужасное! Но получилось, это само по себе о-го-го!»
– Получилось, ну надо же! – сказала она вслух. – Сонька, у нас с тобой получилась вот такая невероятная фигня! Ты спросила, старуха ответила, мы пошли и пришли в этот невозможный музей, которого не бывает. Как ты думаешь, он тут останется? Навсегда?
– Все не навсегда, – пожала плечами Соня. – И музей этот наверняка скоро закроется. Как только богатому племяннику надоест платить за аренду. Или Луизе ходить на работу. Я бы поставила на то, что она и года не продержится. Одно и то же каждый день пересказывать, слово в слово – это чокнуться можно. Разве что у нее разные наборы историй для разных групп? И она все время сочиняет новые? Тогда, конечно, может, и подольше музей простоит. Но неважно. Пока ты стояла, разинув рот, я нащелкала фотографий, несколько уже отправила в Инстаграм. Даже если теперь у меня сломается телефон, доказательства останутся в любом случае. Значит, этот музей точно есть, мы не сошли с ума, жизнь прекрасна и продолжается, а твой метод действительно работает.
И помолчав, добавила:
– Ух, я теперь развернусь.
Катя содрогнулась. Потом достала телефон и принялась фотографировать. Все подряд: дома, прохожих, запорошенные снегом анютины глазки на клумбах, проезжающий мимо экскурсионный автобус, афишу возле филармонии, припаркованный в неположенном месте, прямо под знаком красный автомобиль. Просто на память. Не о поездке, а о последних минутах обычной городской жизни в нормальном реальном мире, за пять минут до того, как Сонечка за него взялась.
Кафедральная площадь (Katedros a.) Четыре летних грозы
У грозы, приходящей с юга, семь пятниц – не на неделе даже, на дню. Гроза, приходящая с юга, сама не знает, чего хочет, она собирается целый день, как стареющая красавица, избалованная вниманием, но заранее тоскующая от его недостатка, собирается в театр на премьеру спектакля, где можно встретить всех былых возлюбленных разом и всех ненавистных подруг, лепит на лицо и шею целебные маски, укладывает волосы, делает макияж, перебирает наряды, потом она может передумать, обидеться на весь мир, накинуть халат, сесть на балконе в шезлонг, закурить сигарету, но в самый последний момент сорваться и все-таки побежать, натянув старое платье, отложенное, чтобы подарить племяннице; к счастью, на самом деле оно действительно лучше всех. Так и гроза, приходящая с юга – солнечным утром мы слышим гром, в полдень раскаты его повторяются ближе и ближе, но в небе ни единого облачка, солнце пылает все жарче, и только после обеда вдруг начинается ливень, да такой, что ломаются стебли цветов, а трава припадает к земле, обнимает, просит: «Убереги». Но солнце по-прежнему светит, выглядывая из-за туч, которых только что не было вовсе. Солнце в недоумении: мы так не договаривались! «Ладно, нет так нет», – покладисто отвечает гроза, пришедшая с юга, и минуту спустя все снова тихо, и над чисто вымытым городом изгибается радуга, и птицы орут как весной. Но бывалые горожане знают цену воцарившемуся покою, поспешно убирают с балконов белье, уводят домой детей, накрывают свои палисадники пластиком и картоном, что есть под рукой, надо очень спешить, потому что вот-вот где-то на юге, далеко, за аэропортом, снова грохнет, и пока мы станем прислушиваться – что это было? – новая молния перечеркнет ясное небо наискосок, всю страницу сразу, не церемонясь, и на розово-серый гранит, которым вымощена Кафедральная площадь, упадет первая градина размером с пулю, пущенную в висок.
Гроза, приходящая с севера, последовательна в своих действиях. Грозу, приходящую с севера, метеорологи безошибочно предсказывают заранее, чуть ли не за неделю до первой ослепительно-белой молнии, которая аккуратно раскалывает небесную твердь ровно на четверть секунды и внимательно следит, чтобы края снова сошлись. Гроза, приходящая с севера, знает себе цену, осознает свою силу, у грозы, приходящей с севера, всегда есть задача, очень важная, почти невыполнимая: осуществиться, не разрушив этот прекрасный хрупкий мир, и она отлично справляется, мир до сих пор стоит, и в этом легко убедиться, достаточно выйти из дома прямо сейчас, пока грохочет и полыхает гроза, пришедшая с севера, поливая дремлющий город аккуратно процеженным сквозь пальцы дождем, от которого можно укрыться плащом, темным, как грозовое небо, а можно не укрываться, промокнув насквозь, дойти до Кафедральной площади, встать там, прижавшись спиной к круглой угловой башне древнего Нижнего замка, которой давно уже нет, на ее месте стоит колокольня, выросшая как молодой побег из старого пня, но, прислонившись спиной, кто скажет наверняка, на что опирается, глядя, как в небе смеется, ликуя, совсем молодое лицо грозы, пришедшей к нам с севера, грозы, которой только что снова все удалось.
Гроза, приходящая с востока, предпочитает происходить по ночам, тревожить спящих грохотом грома, полыханием молний и шумом обрушившегося на ветхие крыши дождя, но действует осторожно, не в полную силу, так, чтобы жертвы не просыпались, а только стонали во сне, а потом, поутру, не могли вспомнить, что их испугало, пили горький горячий кофе, прикладывая ко лбам пальцы, холодные от пережитого ужаса, долго стояли в душе, безуспешно пытаясь смыть с себя нервную дрожь, выходили на уже просохшие улицы, пахнущие липовым цветом, яблоками и шоколадом из соседней кондитерской, залитые солнечным светом, как ликованием, и, вдохнув запах далеких, но легких дорог, забывали не только о давешнем страхе, но о самой способности его испытывать – навсегда, или до следующей летней грозы, которая снова придет с востока ночью, на цыпочках, подкрадываясь ко всякому изголовью неслышной походкой убийцы, чтобы в последний момент сунуть под подушку подарок и уйти, не оставив записки, сами думайте, сами гадайте, за что вам такое счастье, откуда и от кого, по какому такому случаю, пока гроза, пришедшая в город с востока, с ближней границы, будет хохотать, грохотать, умирать от любви к кому-нибудь несуществующему, проливаясь сладким теплым дождем на гранит Кафедральной площади, серый, как сумерки, розовый, как рассвет, который уже наступил.
Гроза, приходящая с запада, приносит с собой тьму и начинается задолго до собственного начала. Первая тьма наступает внутри каждого, кто вышел на улицу, или остался дома, это ничего не меняет, и тогда одни засыпают посреди дня, практически на ходу, или стоя у плиты, или сидя на стуле, хорошо, если не за рулем, а другие просыпаются от собственного крика и идут покупать коньяк, шоколад, или новые платья, или затевают внезапно игру, часто опасную – все что угодно, лишь бы отвлечься от подступающей тьмы, лишь бы не видеть, как чернеют глаза влюбленных, а руки убийц становятся прозрачными как речная вода, где плавают рыбы, серебристые тени смерти, которая вот прямо сейчас вышла на Кафедральную площадь, встала на плитку с разноцветной надписью «чудо», «stebuklas», загадала желание, повернувшись трижды на пятке, и смотрит теперь, не отрываясь, на небо – как на западном горизонте, над Жверинасом, за рекой, сгущаются тучи, и город, только что полный жизни, спешащий, жующий, поющий, плачущий, разрушающийся, строящийся, деревянный, каменный, неприбранный, ветреный, золотой погружается во тьму, слишком густую для этого летнего дня. И когда небо озаряет первая молния, все, кто увидел ее – деревья и птицы, реки и ветры, смерть и прохожие – вздыхают от счастья, плачут от облегчения: гроза началась, живем.
Улица Кедайню (Kėdainių g.) Требуется чудовище
Дал себе слово не искать работу до Нового года. «Надо отдохнуть» – подсказывал голос разума. «Надо отдохнуть, надо отдохнуть, надоотдохнуть, надохнуть!» – скандально верещал остальной организм. А от него не уйдешь, хлопнув дверью.
Поэтому работу не искал. А что каждый день просматривал сайты и газеты с вакансиями – так это не настоящий поиск. Просто успокоительное чтение под кофе. Прочитаешь с утра: требуются бухгалтеры, требуются водители, требуются электрики, швеи, секретарь-референт, продавцы, охранники, рабочие в типографию, и так далее, – и сразу ощущаешь себя частью удивительного гармоничного мира, где все позарез нужны всем. Почти как фантастику читать. Даже не «почти», а лучше.
Когда среди умиротворяющих объявлений о нехватке швей, грузчиков и переводчиков вдруг заметил строчку мелким шрифтом «Требуется чудовище», – сперва не обратил на него внимания. Только целую минуту спустя вслух переспросил: «Чтоооо?!» – и вернулся назад. Просто чтобы понять: померещилось или все-таки не померещилось? И если не померещилось, что имеется в виду?
Не померещилось. Перечитал: «Требуется чудовище, работа посменная, оплата почасовая». Ни кому оно вдруг понадобилось, ни зачем, ни какого рода требования предъявляются к кандидатам, написано не было. Сэкономили на знаках? Или просто розыгрыш? Какие-то остряки поспорили, сколько народу откликнется до конца рабочего дня? Если меньше десяти, один ставит пиво, если больше – другой. Главное, что пиво будет в любом случае.
Впрочем, почему обязательно сразу розыгрыш? Скорее всего, ищут бедолаг, согласных поработать живой рекламой. Человек-тюбик зубной пасты, человек-ботинок, человек-бутерброд. А человек-чудовище вполне может рекламировать новый магазин игрушек. Или кинотеатр. Или…
Да практически все.
Пожал плечами и выкинул дурацкое объявление из головы. Ну, то есть думал, что выкинул. А на самом деле постоянно о нем вспоминал, до самого вечера. И на следующее утро, не дожидаясь, пока сварится кофе, полез на сайт проверять, что там с объявлением про чудовище. На месте? Или уже сняли?
Оно было на месте. Более того, появилось еще на двух других сайтах, менее популярных. Когда пошел гулять, не удержался и купил четверговую рекламную газету, благо она как раз появилась во всех киосках. Рубрика «Вакансии» там крошечная, пара десятков объявлений, в лучшем случае. Однако объявление «Требуется чудовище» обнаружилось и там, самым мелким шрифтом, с экономными сокращениями: «посмен.», «опл. почасов.»
Смешно.
Гулял по городу своим обычным маршрутом: выйти из дома в глухой, неизменно безлюдный переулок Кедайню, свернуть на Траку и вверх, на холм, прямо-прямо до самого парка, оттуда по мосту на другой берег, и через Жверинас обратно в центр. Часа полтора-два получается, если не очень спешить. И почти всю дорогу тихо, спокойно, безлюдно. То что доктор прописал.
То есть доктор действительно именно это прописал: покой, прогулки, витамины, хорошее настроение и любовь. Последняя рекомендация звучала особенно прекрасно. Как будто можно прийти в аптеку, швырнуть на прилавок рецепт и несколько крупных купюр: «Мне любовь, на все», – и ждать, нетерпеливо барабаня пальцами, пока ее отмеряют, взвешивают и пакуют в мешки.
Но ладно. Прогулки, покой и витамины, тоже давали неплохой результат: то самое хорошее настроение, прописанное доктором. Местами даже слишком хорошее, то есть граничащее с дурью. Потому что чем, как не дурью, можно объяснить следующий поступок: взрослый человек усаживается на мокрую от вчерашнего дождя парковую скамейку, достает из кармана телефон и звонит по самому нелепому объявлению за всю историю рекламных газет: «Здравствуйте, я по поводу чудовища. Только один вопрос: живая реклама или все-таки розыгрыш? Второй день голову ломаю».
– Ни то, ни другое, – ответил мужской голос на том конце провода.
То есть не провода, конечно. Какие могут быть провода. Но как тогда сказать? На другом конце – чего именно? Эфира? Пространства? Ноосферы?
Не пойдет.
Голос, кстати, ему понравился. Спокойный такой голос, бархатный и глубокий, одно удовольствие слушать. На радио бы его.
– Понимаю, что наше объявление выглядит довольно интригующе, – бодро говорил человек на том конце неизвестно чего. – Сам хотел добиться такого эффекта. Однако подробности об этой вакансии я сообщаю только тем, кто приходит на собеседование. Завтра в одиннадцать вас устроит?
Ничего себе, какой шустрый.
Пришлось честно признаться:
– Я не собираюсь устраиваться на работу. Просто из любопытства позвонил. Извините, пожа…
Но собеседник не дал ему договорить.
– Я прекрасно понимаю, что вы позвонили только из любопытства. Могу вас успокоить: вероятность, что вы нам подойдете, крайне невелика. У нас, скажем так, довольно специфические требования. Однако я предлагаю честный обмен: вы уделите мне четверть часа своего времени, а я удовлетворю ваше любопытство. Плюс с меня кофе. Или, если предпочитаете, чай.
Зачем-то сказал:
– Нет, я как раз кофе… Но…
– Вот и прекрасно. Чашка кофе в одиннадцать утра никому не повредит. Жду вас в кафе напротив ратуши.
– Но…
– Если передумаете, можете не перезванивать, – великодушно сказал потенциальный работодатель. – Все равно я каждый день пью там кофе. В одиннадцать утра, не раньше и не позже. И завтра намерен проделывать то же самое, а с вами или без вас, решайте сами.
И положил трубку. В смысле нажал кнопку «отбой» или как она там называется. С красненьким значком.
И хорошо. А то как-то совсем уж неловко стало под конец.
Ночью, уже засыпая, подумал: «Ужасно все-таки интересно, что этот тип рассказывает идиотам, которые приходят на собеседование».
А утром зачем-то подскочил в семь тридцать вместо ставших уже привычными девяти. Как подскакивал раньше времени в детстве, в день рождения, когда под кроватью ждал поставленный туда ночью подарок, а на кухне – обрезки коржей для «Наполеона». Любил их больше, чем сам торт, и мама всегда оставляла. И немножко заварного крема в маленькой щербатой пиале – чтобы можно было вымазать пальцем и облизать, пока все спят и не видят, что он творит.
Но сегодня не было ни дня рождения, ни подарка, ни сладких черствых коржей. Ни, тем более, детства. Только рандеву в одиннадцать утра, на которое, ясное дело, никто не собирается идти.
Не собирается, ясно?
А кофе пей себе сколько влезет. Просто подальше от ратуши. И, будь добр, за свой счет.
«Господи, да при чем тут какой-то кофе, – думал, стоя под душем. – Просто я хочу узнать, что он мне скажет. Что вообще говорят психам, явившимся на собеседование по объявлению «Требуется чудовище»? По идее, какую-нибудь совершенно умопомрачительную чушь. И я хочу ее послушать. А от кофе откажусь. Ну или ладно, выпью, если он будет настаивать. Выслушаю, поблагодарю, попрощаюсь и уйду. Имею полное право, он сам сказал».
– Да не собираюсь я устраиваться ни на какую работу, – сказал он вслух своему зеркальному отражению, укоризненно наблюдающему, как тщательно выбирает рубашку и джемпер его легкомысленный оригинал. – Какая там может быть работа? Кем? Чудовищем? Не сходи с ума. Просто необходимость достойно выглядеть в любой ситуации никто не отменял.
Отражение было настроено скептически, но отобрать ключи от квартиры, кошелек и телефон все равно не могло. В этом смысле оно – идеальный опекун.
Ровно без трех минут одиннадцать был у ратуши. Но, устыдившись собственной пунктуальности, обошел ее кругом, еще раз и еще, под дружный перезвон всех городских колоколов. И только потом разрешил себе войти в кафе. Переступая порог, запоздало спохватился: интересно, а как я его узнаю? Не приставать же к каждому сидящему в одиночестве: «Вы не меня ли случайно ждете? Чтобы про чудовище рассказать?»
Но опасения были напрасны. Кафе оказалось почти пустым. За одним столиком сидела парочка влюбленных юных менеджеров, или банковских служащих, или просто секретарша и курьер, кто их разберет. Серые костюмчики, черные ботиночки, детский румянец на щеках, шапки взбитых сливок над чашками, блестящие глаза, горячий шепот, и пусть весь мир подождет.
Молодцы, так и надо.
Столик у окна занимала старушка, или даже старая леди в шляпке цвета осенних сумерек и таком же светлом синевато-сером пальто. А в дальнем конце, возле входа в служебные помещения сидел коренастый блондин средних лет, одетый, мягко говоря, не слишком официально. Джинсы, клетчатая рубашка и какая-то невнятная куртка, измятая не то от небрежного обращения, не то в соответствии с актуальной молодежной модой, поди разбери. Явно не работник отдела кадров. Скорее, журналист. Например.
Когда блондин приветливо улыбнулся и призывно взмахнул рукой, обреченно подумал: «Ну точно журналист. Или какие еще бывают любители ставить психологические эксперименты над живыми людьми? Социологи? Точно, они. Сейчас небось попросит меня заполнить анкету: возраст, профессия, социальный статус, где прочитал объявление, почему на него откликнулся, и все в таком духе. Как же я не люблю такие штуки! И вот, земную жизнь пройдя до середины, внезапно влип».
Решил: ладно, от анкет, если что, откажусь наотрез. Силой никто не заставит. Не убегать же теперь, сломя голову. Было бы от чего.
– …Рад, что вы здесь, – сказал блондин. – И пожалуйста, не надо так на меня смотреть. Нет у меня под столом оператора с камерой. И опросника на сто сорок пунктов в папке тоже нет. И даже самой папки. Вообще никакого подвоха. Я пригласил вас на собеседование, вы пришли. С меня кофе и ответы на все ваши вопросы. И все.
Сказал, усаживаясь напротив:
– Кофе необязательно.
– Конечно необязательно, – согласился блондин. – Просто я его вам вчера пообещал. И буду чувствовать себя довольно глупо, если передо мной будет стоять чашка, а перед вами нет. Давайте так: кофе я все-таки закажу. А вы его не пейте, если не хотите.
– Ладно.
Впрочем, любому дураку ясно, что сидеть перед полной чашкой и не прикоснуться к ее содержимому – задача трудновыполнимая. Рано или поздно все равно отхлебнешь – машинально, увлекшись разговором. Поэтому лучше сделать первый глоток сразу, пока кофе горячий. Чего тянуть.
Отпил немного – кофе как кофе. Стандартный, как почти везде, кроме избранных тайных мест, которые наперечет. Сказал:
– Вы обещали объяснить, что за чудовище вам требуется. Вернее, что это за работа. Я третий день умираю от любопытства. Поэтому и пришел.
– Понимаете, – сказал блондин, – я сейчас в трудном положении. Потому что существует стандартный ответ на этот вопрос: «Мы действительно разыскиваем чудовище, чтобы предложить ему работу в должности чудовища. Но вы нам, к сожалению, не подходите, потому что вы – человек. Не огорчайтесь, в наше время это скорее преимущество, чем недостаток. Всего доброго. Успехов!»
– Ясно. Исчерпывающий ответ. Хотя совершенно не объясняет, зачем вам понадобилась эта затея с объявлением. Неужели просто потому, что скучно пить кофе в одиночестве?
– Кстати, прекрасная причина, – обрадовался блондин. – Спасибо! Надо будет запомнить и повторять всем желающим узнать тайную подоплеку моего поведения.
Ладно, будем считать, расплатился за кофе добрым советом. Уже хорошо.
Спросил без особой надежды услышать что-нибудь еще:
– А на самом деле? Какова тайная подоплека?
– Да нет никакой тайной подоплеки. Мне действительно позарез нужно найти кого-нибудь на должность чудовища. И ужас моего положения в том, что вы, похоже, подходите. При этом вы вчера очень твердо заявили, что не собираетесь устраиваться на работу. А я вас успокоил, заверил, что не стану ничего предлагать. Кто же знал, что вы окажетесь подходящей кандидатурой? И как мне теперь, скажите на милость, вас уговаривать?
Ничего себе поворот. О чем он? Во что меня пытаются втянуть?
Сказал:
– Не надо уговаривать. Лучше объясните.
– Ладно, – кивнул блондин. – Объясню, куда я теперь денусь. Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться?
Насторожился.
– Куда?
– Никуда. В смысле не куда-то в конкретное место. А просто прогуляться по городу. Где-нибудь тут, в центре. Никаких подозрительных подземелий, спальных районов и трущоб под снос.
Подумал, кивнул:
– Ладно, идемте.
Несколько минут шли молча. Блондин имел вид задумчивый и рассеянный. Казалось, вот-вот скажет: «Спасибо, что проводили, приятно было познакомиться», – и нырнет в какой-нибудь офис. Или просто в подъезд.
Внезапно он оживился, пихнул локтем в бок. Жест, конечно, грубый и фамильярный, но в его исполнении вышел дружеским, как в детстве, когда толкаются от избытка сил и чувств. И прошептал тоже по-детски, свистящим заговорщическим шепотом:
– Видите того парня в синей куртке? Попробуйте посмотреть на него боковым зрением. Умеете? Видите? Ну?!
Ничего не понял, но послушно уставился на высокого мулата в синей куртке, который стоял на бульваре, прислонившись к дереву и разговаривал по телефону. И поспешно отвернулся: неловко же так пялиться. Не был уверен, что понимает, что такое «боковое зрение», но на всякий случай покосился на парня исподтишка. Ничего особенного не увидел, как и следовало ожидать.
– Не умеете, – заключил блондин. – Ладно, объясняю. Надо повернуться к объекту боком и смотреть прямо перед собой. Но при этом внимание сконцентрировать на периферии зрительного поля. В смысле на самом краю картинки. Понятно объясняю?
Буркнул:
– Не очень.
Но все-таки попробовал выполнить инструкцию. Старался до зуда в глазах. И в какой-то момент показалось или все-таки действительно увидел… Да нет, конечно, просто померещилось, что на месте смуглого лица незнакомца, прямо над расстегнутым воротом бушует яркое, синее, как его куртка пламя. Такой неукротимой мощи, что даже удивительно, как оно не перекинулось на дерево, к которому прислонился обладатель огненной головы. А с дерева – на остальной бульвар.
– Увидели! – восхищенно прошептал блондин. – Вы его увидели!
Сердито помотал головой, заодно отгоняя непрошенную галлюцинацию.
– Да ничего я не увидел.
– Неправда.
– Правда. Просто глаза стали слезиться, все расплывается, неудивительно, что…
– Синий огонь? – торжествующе ухмыльнулся его спутник.
Яростно выкрикнул:
– Нет!
Мулат в синей куртке тем временем закончил телефонный разговор, отлип от дерева и неторопливо пошел по бульвару. Невольно покосился ему вслед, вернее, не покосился, а посмотрел этим дурацким «боковым зрением» и снова увидел столб синего огня. Меж языков пламени мелькали лица, не то птичьи, не то все-таки человеческие, просто до неузнаваемости искаженные гримасой – боли? Гнева? Какого-то иного не поддающегося описанию чувства?
Да кто ж их разберет.
На этот раз не устоял на ногах. Начал оседать, тяжело, как мешок с песком, который перед этим всю ночь таскал другие мешки с песком. И устал навсегда.
Со спутником ему повезло. Не растерялся, подхватил, не дал упасть, усадил на лавку, извлек из внутреннего кармана маленькую флягу белого металла, открутил пробку, поднес к губам.
Там был очень хороший коньяк. Такой хороший, что ради возможности сделать два неуверенных глотка вполне имело смысл падать в обморок.
Хотя, положа руку на сердце, такое незначительное происшествие и обмороком-то не назовешь. Просто голова закружилась.
Сказал:
– Спасибо.
Достал из кармана единственную сигарету, специально приготовленную, чтобы покурить перед возвращением домой. Обычно за день выкуривал две, одну в финале прогулки, вторую – перед сном.
Но сейчас она явно гораздо нужней.
– Абсолютно нормальная реакция здорового организма, – примирительно сказал блондин. – Увидели то, чего человеческими глазами видеть не положено – получайте. Все честно. Впрочем, не переживайте, привыкните.
Еще чего не хватало – к такому привыкать.
Спросил:
– Слушайте, что это было вообще?
– Не «что», а «кто». Один из лучших моих сотрудников. Возможно, ваш будущий коллега… Ладно, ладно, забудьте. Не коллега, не будущий, не ваш. Огненный синий демон Двенадцатой Пустыни Альстейна, талантливый скрипач, очень заботливый сын; говорят, фантастический любовник. Не знаю, лично не проверял. Нам взаимно повезло: мне – заполучить столь ценного работника, а мальчику – зарабатывать достаточно денег, чтобы его мать проводила зиму на юге, а лето – на берегу Северного моря. У нее врожденная любовь к перемене мест и очень хрупкое здоровье. Ничего не поделаешь, немного я знаю женщин, способных родить демона без всякого ущерба для себя. Впрочем, извините, увлекся. Вас проблемы этой семьи совершенно не касаются. Тем более, что и проблем у них уже давно нет.
– Ничего себе. Это сколько же он зарабатывает?
– Понимаю ваше любопытство. Но называть точную сумму было бы неэтично. Скажем так, сколько ему нужно, столько и зарабатывает. И еще немного сверху – просто так, чтобы всегда был приятный сюрприз.
– А зачем огненному демону деньги?
– Ровно затем же, зачем всем остальным. Он же в некотором смысле совершенно обычный человек. То есть, воплощен в человеческом теле, которому нужно есть, пить, жить в тепле, не ходить по улице голым и получать разнообразные удовольствия. Все, что этот юноша пока может – демонстрировать свою удивительную природу на радость тем, кто способен ее увидеть. Может быть, потом, позже… Впрочем, поглядим, что будет потом. У всех по-разному получается.
Выбросил в урну скуренную до фильтра сигарету. Вздохнул: вторая сейчас не помешала бы. Но она осталась дома, в портсигаре, в ящике письменного стола.
Сказал:
– Ладно, хорошо, предположим. Но я-то вам зачем? Я не синий демон. И даже не фиолетовый в клеточку. Если бы был, я бы знал.
– Совершенно верно, – кивнул блондин. – Вы не демон. Вы – другое существо. А насчет вашего последнего замечания, вынужден разочаровать. Поначалу никто о себе не знает. Многие так и не узнают до самого конца. Потом, уже после так называемой смерти, очень веселятся, выяснив, какими дураками были все это время. Люди, впрочем, тоже, так что в этом смысле никакой принципиальной разницы между нами нет.
– Между «нами» – это между кем и кем?
– Между существами разной природы, скажем так. Если хотите посмотреть на меня боковым зрением, не стесняйтесь. Станет плохо, не беда, коньяк еще остался. И сигарету я вам найду.
Ох. То еще искушение. Продаться за глоток коньяка и сигарету. В смысле обменять на них остатки своего душевного равновесия. И последнюю надежду на то, что все-таки не сошел с ума, а просто…
Да ну, почему сразу «последнюю надежду»? С какого такого ума, кто сошел? Отставить панику. Просто померещилось что-то, со всеми бывает, отстань.
В глубине души понимал, что коньяк и сигарета – очень неплохая цена. Все равно ведь поглядел бы, как удержаться. Может быть, не прямо сейчас, а на прощание. Но поглядел бы непременно, потому что любопытство никто не отменял.
Пресловутое «боковое зрение» оказалось отличным способом галлюцинировать на халяву. То есть не принимая внутрь никаких специальных веществ. Вот и сейчас внезапно обнаружилось, что вместо коренастого блондина на лавке сидит великан.
Ну, то есть как – великан. Всего втрое больше среднего человека, но этого обычно достаточно, чтобы произвести впечатление.
Кожа у великана была золотой, глаза – зелеными, в каждом блестело как минимум три зрачка. Может быть, больше, но уточнять не взялся бы: врожденный астигматизм, даже в относительно легкой форме может оказаться серьезной проблемой при подсчете чужих зрачков.
На голове великана росли роскошные буйволиные рога, крупные даже для его габаритов. Ну или не росли, а были как-то к ней прикреплены. Надо же себя украшать перед выходом в город. Особенно если собираешься выпить кофе в кафе возле ратуши. В одиннадцать утра. Например.
В одной руках великан держал бубен из светлой кожи. Другой время от времени аккуратно по нему постукивал. Возможно, в этом постукивании был какой-то ритм, но чтобы его уловить, надо послушать подольше. А это довольно затруднительно, когда каждый удар отзывается у тебя в животе протяжным, сладким и одновременно тошнотворным эхом.
Хрен его знает, что было дальше. И было ли хоть какое-то «дальше». Потому что когда вынырнул из вязкой предобморочной тьмы, сделал торопливый огненный глоток из поспешно протянутой фляги, было не до воспоминаний о том, что случилось на дне этого провала.
А потом они, конечно, исчезли, не оставив даже намека на тень надежды когда-нибудь их вернуть. Так растворяются в едкой кислоте бытия самые сладкие предутренние сновидения. Только что были, и вот их уже нет. И это «нет» – навсегда.
Ладно, плевать.
– Я довольно безобидный с виду, – примирительно сказал блондин. – Немного великоват, но тут ничего не поделаешь. Зато похож на человека. И выгляжу вполне добродушно, сразу ясно, что я не собираюсь никого есть живьем, раздирая на куски. Для людей это обычно довольно важное обстоятельство.
Согласился:
– Есть у людей такая маленькая слабость. Чертовски приятно знать, что в ближайшее время тебя никто не съест.
За сговорчивость получил сигарету. Почему-то черную. Видимо, для пущего демонизма. Однако табак был неплох, и на том спасибо.
Впрочем, главное, что она вообще была.
Спросил после первой, самой жадной затяжки:
– Зачем это все? Дурацкое объявление, разговоры, мороки? Зачем смотреть на кого-то боковым зрением? Зачем видеть то, чего на самом деле нет? Чего вы от меня добиваетесь?
– Понимания, – серьезно сказал блондин. – И в идеале согласия на меня поработать. Но это на ваше усмотрение, силой не заставлю. Вы же видели, я добряк.
Ннннуууу… Ладно, договорились. Запомним. Именно так и выглядят добряки: шестиметровые, с рогами и бубном. Предположим. О’кей.
Но вслух ничего не сказал. Просто сил не было на препирательства.
– …Тут такое дело, – говорил великан. В смысле блондин. – В каждом человеческом поселении должны водиться чудовища. То есть существа нечеловеческой природы. Причем совершенно конкретное количество. Городу с полумиллионным населением, вроде нашего, полагается сорок три ночных чудовища и двадцать восемь дневных. Только не спрашивайте, почему такие строгости. Сам толком не знаю. Предполагаю, что просто для равновесия и заполнения некоторой пустоты. Факт, что такое правило существует, хотим мы того или нет. И оно работает. Это я вам как младший дух-хранитель города с четырехсотлетним стажем говорю.
Дух-хранитель, значит. Причем младший. Скромненько так. Приехали, поздравляю. Следующая станция – Желтый Дом.
Подумать-то все это подумал, но не встал и не ушел. Хотя силы уже вернулись. Бегом удрать вряд ли получилось бы, но быстрым шагом – вполне.
Однако с места не сдвинулся. Сидел. Слушал.
– С ночными чудовищами проблем у нас никогда не было, – говорил блондин. – Ночные чудовища жили тут всегда. Не знаю, от самого ли начала времен, но все вакансии были заняты задолго до момента моего вступления в должность, это факт. И по мере роста города своевременно подтягивались новые кадры. Сами приходили, точнее, возникали из тьмы. Ну так на то они и ночные. Ночь – самодостаточная стихия, сама всех, кого надо породит, а тех, кто больше не нужен – поглотит. И все довольны.
– Включая поглощенных?
– Разумеется. Для них это все равно что в отпуск съездить. Домой.
Сказал:
– Вы сводите меня с ума.
– Отчасти это так, – спокойно согласился блондин. – Однако у вас остается возможность, расставшись со мной, сказать себе, что стали жертвой нелепого розыгрыша. Вероятно, при участии заезжего гипнотизера. И думать так до самого конца жизни вам никто не запретит. И даже не помешает. Я неназойлив. Этого требуют мои служебные инструкции, а я их чту свято. Если вы сейчас уйдете, не стану вас догонять. И караулить под подъездом не начну, и в окно в полночь влетать, и даже являться во сне, пытаясь усовестить и переубедить, не буду. Хотя вы мне, чего греха таить, очень нужны.
Спросил:
– Для чего?
Хоть и понимал, что лучше бы сейчас не развивать эту тему. Чем быстрей закончится этот выморочный разговор, тем лучше. Целее будут остатки того, что еще три дня назад казалось вполне себе светлым разумом. Как я теперь без него.
Блондин обрадовался вопросу, как вампир, которого только что вежливо пригласили войти в дом. И принялся обстоятельно отвечать:
– В нашем городе сейчас всего двадцать четыре действующих дневных чудовища, причем семерых нашел и нанял я сам. Осталось еще четыре вакансии. И ни одного стоящего кандидата с начала прошлого года. К дневным чудовищам очень строгие требования. С одной стороны, ни в коем случае нельзя пугать людей, демонстрируя им ту часть бытия, которая должна быть от них сокрыта. По крайней мере, при дневном свете. С другой стороны, чудовище должно быть именно чудовищем, плотным и материальным, а не бледной тенью смутного воспоминания о себе. Поэтому на должность годятся только существа вроде синего демона или, к примеру, вас. Временно занимающие человеческие тела, но при этом не полностью утратившие связь со своей подлинной природой. А это огромная редкость. Вашему брату нечасто приходит в голову отмочить что-то подобное. Разве что в ранней юности, лишившись опеки старших, по глупости или на спор… Впрочем, «на спор» – просто одна из разновидностей глупости.
Вздохнул:
– Вам бы книжки писать.
– Да я бы с радостью. Но пока времени хватает только на рекламные объявления, на которые обычно откликаются студенты, всегда готовые заработать на пиво, попрыгав по улице в образе человека-здорового зуба, человека-летучей мыши, человека-соленого огурца. Ну или чудовища, какая им разница… Если бы я был способен впадать в отчаяние, уже давно бы впал. Но, к счастью, моя природа этому препятствует.
Подумал: «Мне бы твои заботы». Но вслух спросил:
– А почему бы не махнуть на все это рукой? Если уж, как вы сами говорите, существует некое правило? Если оно работает, значит недостающие чудовища сами рано или поздно найдутся. Я не прав?
– В том-то и дело, что правы, – кивнул блондин. – Именно в том и беда, что непременно сами найдутся. На пустующее место городского чудовища может прийти кто угодно. Откуда угодно. В любой момент. Вы даже не представляете, что это может быть. А я бы предпочел не помогать вашему воображению. Просто поверьте на слово, что нам здесь такого не надо. Собственно, почему я так хочу как можно скорей укомплектовать штат: очень устал каждый день отбиваться от незваных гостей. Не то что на личную жизнь, а даже на остальную работу времени практически не остается. Притом, что кроме меня ее никто не сделает.
– А как же старший дух-хранитель?
Хотел, чтобы вопрос прозвучал ехидно, но интонация, вопреки его воле, получилась скорее озабоченная.
– Старший пока спит, – коротко ответил блондин. И, подумав, добавил: – Честно говоря, так лучше для всех.
Духи они там или нет, а отношение к начальству более чем понятное.
– Ясно, что сейчас вам совершенно не хочется слушать, что я еще придумаю, чтобы заморочить вам голову, – сказал блондин. – Однако, согласно служебной инструкции, обязан сообщить, что, во-первых, у нас очень неплохие условия работы. От сотрудника требуется находиться на улице или в любых других общественных местах не меньше шести часов в день. В любую погоду – это, согласен, большой минус. Но в такой ситуации, поверьте моему опыту, очень выручают так называемые «общественные места». Всегда можно отсидеться в кафе или пройтись по магазинам. В вашем случае гулять придется в светлое время суток, это очень важно. Зато точное расписание прогулок остается на ваше усмотрение. Как удобно, так и поступайте.
Невольно улыбнулся:
– Действительно, работа мечты.
– Есть один существенный минус: выходных не предусмотрено. Впрочем, раз в год можно взять отпуск – при условии, что вы научитесь осуществлять некоторые специальные обряды, необходимые для сохранения вашего места в неприкосновенности. Положа руку на сердце, довольно сложные, но до сих пор не было такого, чтобы кто-нибудь захотел и не смог научиться.
– А вот это уже звучит не очень заманчиво.
– Ничего не поделаешь, так есть. Не обманывать же вас в ходе еще не начавшихся переговоров. Зато оплата труда у нас щедрая. Как я уже говорил: ровно столько, сколько необходимо, плюс еще немного.
– Минус штрафы за прогулы?
– Прогулов у нас не бывает, – отмахнулся блондин. – И не потому что я такой грозный начальник. По моим наблюдениям, никто из подписавших контракт просто не может усидеть дома. При всем желании. Тянет его на улицу, и хоть ты тресни. Мистика какая-то.
Про мистику – смешно.
– А если заболеет?
– На такой работе особо не заболеешь. На моей памяти даже обычного насморка никто не подцепил. Можете считать это надбавкой к основной зарплате. Есть, впрочем, еще одна надбавка, самая важная – возможность познакомиться с собой.
– Это как?
– Ни один из тех, кого я нанимал на работу, до нашей встречи понятия не имел о том, кто он такой. Рождаясь в человеческом теле, мы забываем о себе, как спящий забывает о своей жизни наяву, а бодрствующий – самые сокровенные сны. Потому что жизнь человека и есть что-то вроде очень глубокого сна. И вспомнить себя, не просыпаясь – величайшая удача для всякого сновидца… Эй, что с вами?
– Ничего.
И не солгал. Но не в том смысле, что ничего не случилось. А в том, что внезапно случилось НИЧЕГО. Подошло очень близко, к самому краю сознания. Стояло, смотрело. И не пресловутым «боковым зрением», а открыто, прямо в глаза. И, кажется, собиралось протянуть руку и потрогать: «Это что у нас тут такое?»
А что будет с тем, к кому прикоснется НИЧЕГО, лучше бы никогда не знать.
– …По-моему, пора вас отпустить, – внезапно решил блондин. – Не удивляйтесь, если придете домой и проспите весь день. Обычное дело. Мое общество довольно утомительно, тут ничего не поделаешь. Думаю, это из-за бубна. Никто не слышит, как он звучит, но слух – далеко не единственный орган восприятия.
Ушам своим не поверил, но со скамейки немедленно встал. Заодно убедился, что ноги действительно в полном порядке.
В отличие от головы.
Хотел развернуться и уйти, но тут блондин сказал.
– Я, как и обещал, оставлю вас в покое. Ничем не стану о себе напоминать. А если вдруг все-таки приснюсь, имейте в виду: это просто работа вашего собственного мозга, перерабатывающего дневные впечатления. Бывают и такие бессмысленные, ничего не означающие сны, хоть и непросто в это поверить.
Надо же, какое откровение.
– Но, если что, – добавил он, – имейте в виду: каждый день, включая выходные, я пью кофе в кафе возле ратуши. В одиннадцать утра.
– А если кафе закроют?
Сам не знал, зачем спросил. Какая разница?
С другой стороны, лучше заранее знать, какое еще место кроме Ратушной площади теперь лучше обходить десятой дорогой. Или даже одиннадцатой. Чтобы уж точно никого нигде никогда случайно не застать.
– Еще лет шесть не закроют, – уверенно сказал блондин. – А к тому моменту рядом откроется два других, оба очень хорошие. Даже не знаю, какое выбрать; впрочем, этот вопрос еще какое-то время ждет.
Да уж. Кто бы спорил.
– Если будет желание, заходите, – предложил блондин. – Не обязательно устраиваться на работу. Можно просто поболтать. Иногда побыть рядом с тем, кто видит твою подлинную природу и принимает ее вместо того, чтобы инстинктивно шарахаться, большое облегчение. Вы же наверное думаете, что плохо сходитесь с людьми. И в любви вам не очень везет, верно? Привыкли обвинять во всем свой нелюдимый характер. А дело совсем не в нем.
Подумал: «Ну уж нет. Я – нелюдимый хмырь, это любому ясно. И в любви мне действительно просто не очень везет. Хотя пару раз складывалось совсем неплохо, особенно поначалу… Ай, ладно. Таких как я нелюдимых хмырей очень много, не все же они чудовища. Это было бы как-то слишком».
Но вслух ничего не сказал. Просто ушел.
Блондин сдержал слово, остался сидеть на скамейке, даже не попытался догонять. Какая жа…
Нет, не «жалость», а «радость». Какая радость, что меня наконец-то оставили в покое, вот так надо формулировать. Что за херня творится у тебя в голове, мой бедный чокнутый я?
По дороге ни разу, то есть честно, вообще ни разу не попытался посмотреть боковым зрением на собственные отражения в зеркальных стеклах витрин. Хотя такая идея, конечно, приходила в голову. Но не как соблазн, а как самый страшный страх. Как в детстве на трещину в асфальте наступить. Или пройти через «собачьи ворота». Или нарушить еще какое-нибудь страшное дворовое табу.
Дома, как и предсказывал рогатый великан, в смысле, коренастый блондин, сразу упал и уснул. И проспал как убитый не до вечера даже, до четырех утра. Больше двенадцати часов – ничего себе рекорд.
Зато чувствовал себя отлично. Спокойным и умиротворенным. И самое главное, все увиденные, услышанные и сказанные за прошедший день глупости благополучно вылетели из головы. Ну, то есть какие-то воспоминания остались. Но без особых подробностей.
Вот и хорошо. Быть психом совсем не так интересно, как кажется. Попробовал, не понравилось, больше не хочу.
И в зеркало смотреться пока не хочу. Мало ли что спросонок померещится, а мне с собой еще жить и жить.
То-то и оно.
Сварил себе много-много кофе, добавил в него много-много молока. С огромной кружкой и целой тарелкой бутербродов завалился на диван, прихватив с собой полдюжины детективов в мягких обложках. Чтобы если не пойдет один, сразу можно было цапнуть другой. И не вставать лишний раз, не проходить мимо большого зеркала, такого удобного, когда надо критически оглядеть себя перед выходом из дома. И совершенно не нужного во всех остальных случаях, больно уж выжидающе смотрит из его глубины одетый в новенькую с иголочки домашнюю пижаму двойник. Дескать, не хочешь ли ты, дорогой друг, взглянуть на себя боковым зрением, как великан научил? Неужели не интересно? Как, совсем-совсем? Врешь.
Хоть скатертью его завешивай. Или простыней, как в доме покойника. Но завесить зеркало означало бы признать его настоящей серьезной проблемой. А этого делать совершенно не хотелось. По крайней мере, не прямо сейчас. Может быть, потом, утром, когда рассветет, тело, щедро накормленное бутербродами, отяжелеет, а умиротворенный чтением детективов ум твердо скажет и пятнадцать раз повторит, что шарахаться от собственных зеркальных отражений – это совершенно нормально. И даже разумно – после всего, что нам пришлось сегодня пережить.
Четыре часа, шесть бутербродов и два с половиной детектива спустя пришлось все-таки встать и отправиться в туалет. И в душ заодно – если уж все так удачно совпало. Ум к тому времени был уже настолько умиротворен, что вообще ни черта не боялся. Можно сказать, обнаглел.
Подумал: «Дело выеденного яйца не стоит. Даже не на две трубки, как у Холмса, а на один взгляд. Сейчас посмотрю на себя в это чертово зеркало, не увижу ничего нового и успокоюсь навек. По крайней мере, перестану шарахаться от собственной мебели в собственном же доме. Эх, заживу тогда!»
Вышел в холл, как был, завернутый в полотенце, повернулся к зеркалу боком и уставился прямо перед собой тяжелым немигающим взглядом человека, пытающегося сосредоточить внимание на самом краю доступного зрению мира. Чего тянуть.
Существо, которое увидел в зеркале, не было чудовищем в прямом смысле этого слова. То есть его при всем желании сложно было назвать страшным. Длинное текучее тело, сотканное то ли из зеленоватого густого тумана, то ли из мутной воды, то ли из жидкого света, в лучах которого носятся мириады пылинок и пузырьков – что ни скажи, сравнение будет неверным и скорее уводящим от правды, чем приближающим к ней. Просто в человеческих языках нет подходящих слов для обозначения этой материи. И правильно, с какой бы стати придумывать специальное слово для явления, которого нет.
А потом вспомнил нужное слово: «кьёнгх».
Кьёнгх – так называется та разновидность чистого света Райны, которая нужна для рождения четырехсмысленного живого и не препятствует равномерному течению любых других форм материи.
Например, я – кьёнгх. То есть нет, не так. Мы – кьёнгх. В нашем языке нет единственного числа для обозначения живого, оно годится только для неодушевленных предметов, потому что о множественности всякого сознания известно даже младенцам.
Мы был зеленым потоком кьёнгх и потом еще буду. Точнее, мы суть зеленый поток кьёнгх – вечно-всегда. В нашем языке только два грамматических времени: «кратко-всегда» и «вечно-всегда», первое подходит для разговоров о сиюминутном, второе – чтобы описывать воспоминания и намерения. Какая важная подробность, огромное счастье ее вспоминать!
Еще одно огромное счастье – вспоминать, что всегда (в данном случае «вечно-всегда») мы сижу рядом с Суйен, и они с азартом и увлеченностью дилетанта разглагольствует о невозможности сохранения четырехсмысленного сознания в условиях абсолютного преобладания «тронг» – жесткой плотной материи, препятствующей большинству живых потоков и практически всем чистым. О ее существовании, хвала чистому свету Райны, известно только теоретически. Сталкиваться с горькой непроницаемостью тронг еще и дома – это было бы чересчур.
Хотя в первый краткий (пережитый вне дома, а значит, не вечный) миг это даже интересно. И совсем не так страшно, как принято считать. Мы вечно-всегда прав!
Мы тогда был (вечно-всегда есть) совсем дурак, юный, вдохновенный и страстный. Который, будем честны, вообще понятия не имел о том, что такое тронг, но твердо знал, что сила высшего острия четырехсмысленного сознания безгранична. И выкрикнул, для убедительности вспыхнув по периметру ярким лиловым, как в детстве: «Вы кратко-всегда ошибаешься, глупый прекрасный Суйен, мы вам это доказываю вечно-всегда!»
И сейчас прошептал, зажмурившись от наслаждения: «Глупый прекрасный Суйен, мы кратко-всегда побеждаю тронг, вы вечно-всегда проигрываешь наш спор! С вас выпивка, готовься. Мы вечно-всегда, «скоро», как говорят опьяненные силой тронг, возвращаюсь домой».
И отвернулся от зеркала. Потому что слишком много радости, памяти и чистого света кьёнгх сразу – невыносимо. Себя надо принимать как лекарство, щадящими дозами. А то подействует как яд.
Пошел в кухню. Залпом выпил стакан воды, сразу же налил второй и тоже выпил. Подошел к окну и долго-долго смотрел на пустой в это время, впрочем, как и в любое другое, переулок Кедайню, куда заглядывает, в лучшем случае, дюжина человек в день. Оно и понятно, кому охота гулять мимо логова чудовища. Даже совсем безобидного, вроде меня.
Сказал почему-то вслух:
– Там, где я пройду, будет разливаться беспричинная пьяная радость, как будто подул ветер, принесший запах весны.
Прозвучало очень глупо, зато было правдой. Он это точно знал.
Посмотрел на часы. До одиннадцати еще два с половиной часа, до Ратушной площади минут пятнадцать пешком. Значит, что? Значит, правильно, можно успеть дочитать тот смешной детектив, выяснить, кто убийца, а потом уже с чистым сердцем отправляться в кафе.
Конечно, давал себе честное слово до Нового года не устраиваться ни на какую работу, ну так в шею никто и не гонит. А чашка дармового кофе ни одному чудовищу не повредит.
Улица Клайпедос (Klaipėdos g.) Повадки духов Нижнего Мира
– Правда же, я красивый?
Смотрит на себя в зеркало. И видит там, надо думать, примерно то же, что Яничка: впалые щеки, вдвое увеличившиеся от худобы глаза, почти бескровные губы, бледный лоб, перечеркнутый вертикальной морщиной. Но ему это, похоже, нравится. Румяный, полнокровный крепыш, он всегда хотел быть худым, глазастым и скуластым, как девочка-анорексичка какая-то, честное слово, смешно.
Ну вот, получилось.
«Все у тебя всегда получается, горе мое, – думает Яничка, – так или иначе, а своего добьешься, ты у меня упрямый».
А вслух говорит:
– Очень красивый.
И, подумав, добавляет для убедительности:
– Если бы я родилась дядькой, хотела бы таким как ты.
Яничек удовлетворенно кивает и откидывается на подушки. Он очень слаб. Даже на такую маленькую радость сил не хватает. И это его, конечно, бесит, но на злость сил не хватает тоже. Вот уж где совсем кранты.
– Ничего, силы скоро вернутся, – говорит Яничка вслух. – А красивым быть ты при этом не перестанешь, прикинь, как круто. Щеки так быстро не наешь, хоть ты лопни!
Яничек улыбается. Это дорогого стоит. Это стоит так дорого, что… Ай, ничего.
На самом деле, ничего.
– Я сейчас, – говорит Яничка. – В туалет. Я быстро.
И выходит из комнаты, и действительно идет в туалет, потому что только там можно дать волю слезам, сдерживать которые она, конечно, уже научилась. Но не очень долго. Пока – так.
Она беззвучно рыдает, уткнувшись лицом в застиранное оранжевое полотенце, закусив зубами противную, жесткую, пахнущую мылом для рук, почти невыносимую во рту махру, так – можно, так Яничек не услышит, а зареванных глаз, будем надеяться, не разглядит, зрение у него в последнее время сильно упало от лекарств, ну или не от них, какая разница, упало, факт. И ни хрена он не увидит, и все, и все, – думает Яничка.
И все, – думает она. И просыпается в слезах. И улыбается сквозь слезы, как подсудимый, только что выслушавший оправдательный приговор. Нет у меня никакого умирающего мужа, на самом деле его нет, никто ни от чего не умирает, это просто сон. Ну или ладно, не «просто», а тягостный, мучительный, страшный, но все-таки сон. Наяву у меня все живы, и знали бы они, мои все, как я их за это люблю.
* * *
– Да счастливое у меня было детство, счастливое, – почти сердито говорит Яна. – И никаких воображаемых друзей я себе не сочиняла. Мне реальных хватало. Более чем.
Ей сейчас не до детства и не до разговоров, Яна варит шоколад по условно ацтекскому рецепту, с перцем чили, корицей, ванилью и солью. Ясно, что немудреный рецепт выужен из интернета, не Уицилопочтли в видении нашептал, но какая разница, все равно варить шоколад трудно, особенно без постоянной практики, а Яна варит шоколад примерно раз в полгода, когда вот такой собачий холод на улице, настроение ниже плинтуса, а тут вдруг мальчишки пришли, и надо срочно устроить праздник, причем без капли спиртного, потому что один за рулем, второй откажется за компанию, а у самой Яны еще перевод на пол-ночи, в лучшем случае, если хорошо пойдет. И что прикажете делать? В смысле подавать на стол. Просто кофе – это обыденно, чай – ну, слушайте, даже не смешно. Поэтому пусть будет шоколад, не зря же купила его в лавке деликатесов, где томятся под стеклом самые дорогие в городе сыры, а на полках пылятся бутылки с оливковым маслом, сто миллионов, ладно, не миллионов, но честное слово, больше полусотни разных сортов. Глаза разбежались, так хотела унести оттуда хоть что-нибудь, а выбрать почти невозможно, вот и купила дурацкий шоколадный порошок, на который как раз была скидка. Вари теперь, сама виновата, жадина.
– Янчик, – говорит Томас, прижимая к груди большие свои ручищи, – тебе точно не нужно помогать?
– Упаси боже, нет! – отмахивается она. – Сейчас сварю, выдам тебе чашку, вот ее и переворачивай в индивидуальном порядке себе на колени. Слышишь? Себе! А не на мою плиту.
Ромка понимающе ухмыляется и деликатно отодвигается от Томаса, якобы поближе к окну, якобы выглянуть, что творится на улице Клайпедос, постепенно превращающейся в один большой сугроб. Якобы выяснить, замело там его машину, или еще не совсем? Штаны ему, надо понимать, пока дороги. Хотя с виду и не скажешь. Суровые боевые штаны, что им какая-то кастрюлька шоколада, не о чем говорить.
Шоколад меж тем ведет себя просто идеально. Нагревается, густеет, вот-вот снова забулькает. И никаких чертовых комков. Вот что значит – друзья зашли. Когда себе варила, какой-то лютый ужас с этими комками был, пришлось в итоге процеживать. А сейчас – хоп! – и все. Делать что-то для других почему-то всегда гораздо легче, чем для себя. И веселее. Наверное, для того и была придумана дружба – чтобы обхитрить суровый материальный мир, в котором любой пустяк требует серьезных усилий.
– Ацтекский шоколад готов, – объявляет Яна. – Выпьете его и будете, как боги. Ацтекские, конечно. Осталось понять, кто из вас кто.
– Чур я Кетцалькоатль! – Томас подскакивает с табурета, роняя его и еще один соседний, предназначенный для Яны.
Хорошо, что я на него еще не села, – меланхолично думает она.
А вслух говорит:
– Ты не пернатый змей, ты пернатый слон. К тому же, в посудной лавке.
– Но все-таки пернатый, заметь, – говорит Томас, самодовольно поглаживая свою косматую шевелюру.
– Что есть, то есть.
– Тогда я Тескатлипока, – говорит Ромка. – Он там самый главный, я точно помню.
– Ну как тебе сказать…
– А вот и не подеретесь, – смеется Яна, раздавая чашки с горячим шоколадом. – Вернее, подеретесь, конечно, вам это мифологически положено. Но чур не здесь и не сейчас. Моя кухня совершенно не подходит для божественных битв. Мне и так непросто живется. Особенно в последнее время.
– Вот с этого места, пожалуйста, подробнее, – просит Томас. – Потому что пока я понял только, что у тебя умирает вымышленный друг детства. Которого ты при этом не выдумывала. Я в растерянности!
– Растерянность – это твое нормальное состояние, – ухмыляется Тескатлипока. В смысле Ромка.
Спорит, стало быть, с Кецалькоатлем, как миф велит. Молодец.
– Все-таки не вымышленный, – говорит Яна. – Вымышленного друга сперва надо выдумать, а уже потом дружить. А этот красавец мне просто снится. По собственной инициативе, я тут ни при чем. Уже очень давно снится. С детства. Не каждый день, но более-менее регулярно.
– Это называется «повторяющийся сон», – подсказывает Ромка.
– Мне кажется, не совсем. У меня только человек один и тот же, а все остальное меняется. Я бы даже сказала, последовательно развивается. Как в телесериале, каждый год – новый сезон. Изменяются обстоятельства, появляются новые сюжетные линии, только главные герои одни и те же, и краткое содержание предыдущих серий хранится в их головах, прирастая все новыми эпизодами, как и положено воспоминаниям о прошлом. Сперва герои взрослеют, потом понемногу начинают стареть, а история все тянется и тянется, пока милосердный продюсер не прихлопнет эту лавочку. Вот и у нас так. В смысле у меня. В детстве мне снилось, что мы с Яничеком живем в одном дворе. В самом первом сне мы одновременно вышли гулять, я с папой, он с бабушкой, познакомились, обрадовались, что нас одинаково зовут, решили – надо дружить, если уж все так отлично совпало. Я, кстати, даже искала его потом, когда проснулась. Не видела разницы между сном и явью, думала: был же такой отличный соседский мальчик, мой тезка, куда подевался? И родителей втянула в свои поиски. Они честно пытались помочь, расспрашивали соседей, пока не въехали, что мой новый друг, о котором я им все уши прожужжала, это просто сон. До сих пор помню, как они смеялись, а я обиделась. У меня друг потерялся, а им смешно! Правда, они пытались объяснить, что смеются не надо мной, а над собой, но для ребенка это все-таки слишком сложная концепция.
– Она, не поверишь, и для большинства взрослых слишком сложная, – ухмыляется Томас. И наконец-то роняет чашку. Правда, почти пустую, так что последствия не столь страшны, как рисовало воображение. Одна разбитая чашка и всего пара шоколадных клякс на полу, не о чем говорить.
– С тех пор мне время от времени снилось, как мы с Яничиком вместе гуляем и ходим друг к другу в гости, – говорит Яна. – Как лазаем по крышам, запускаем воздушного змея, катаемся на санках и придумываем всякие интересные игры; в некоторые я потом пыталась играть наяву, с настоящими дворовыми друзьями, но без Яничека получалось как-то не так. Чего-то важного не хватало, черт его знает, чего… А потом я пошла в школу, и во сне мы тоже пошли в школу, конечно же, в один класс. И начался новый сезон нашего сериала, сны о том, как мы встречаемся у подъезда, чтобы вместе идти на урок, делимся бутербродами, пишем друг другу записки, ссоримся, миримся, хотим сидеть за одной партой, больше не хотим сидеть за одной партой, нас дразнят «женихом и невестой», мы обижаемся и деремся, а потом уже не обижаемся, сообразив, что «жених и невеста» – это совсем неплохая идея, если пожениться, можно будет ночевать в одной комнате и, например, играть в «Морской бой», или рассказывать анекдоты – хоть до самого утра, никто не запретит… А потом школа как-то незаметно закончилась, и наяву я поступила на ИнЯз, а во сне в политехнический, с Яничеком за компанию. Зря, между прочим ухмыляетесь, мало ли что наяву без калькулятора два и два не сложу, зато во сне я уже давно главный инженер не пойми чего, но пока сплю, очень даже неплохо понимаю… Впрочем, все это совершенно неважно. Важно, что раньше это всегда были очень хорошие сны. Давали мне радость, силу, а иногда, в трудные времена, и смысл. Надо жить дальше, чтобы мне снился Яничек, как же я его брошу? И жила, как миленькая. И, как видите, дожила до седых волос.
– Прям-таки до седых, – укоризненно качает головой Ромка.
– Еще до каких седых. Просто они крашеные. На самом деле я не рыжая, прости, друг. Темно-русая, цвета приунывшего воробья, пришлось перекраситься, чтобы не умножать мировую скорбь.
– Надо же, какие зловещие тайны открываются сегодня, – смеется друг Ромка. – Одна за другой!
– Да уж, – вздыхает Яна. – Сама удивляюсь. Сижу тут с вами, жалуюсь…
– Жалуешься? Да ну, отличные сны. Я бы сам, пожалуй, не отказался от такой запасной жизни, в которой у меня все хорошо. Или ладно, не обязательно хорошо, просто как-нибудь совершенно иначе. Например, я там капитан круизного лайнера. Или хотя бы боцман. Или – внезапно! – оперный певец. И счастливо женат на подружке детства. Наяву всего этого со мной уже не случилось, а попробовать, как оно бывает, интересно.
– Ну вот и я так думала. Пока этот красавец не собрался помирать. Вдумчиво и обстоятельно, как все, что он делает. Ладно бы, один сон такой приснился. Проснулась, выдохнула и живи себе дальше. Но не с моим счастьем. События развиваются логично и последовательно, как всегда в этих снах. С причинно-следственными связями там всегда было в порядке. Если уж приснилось, что поступила в политех, в следующем сне не обнаружишь себя со скальпелем или за роялем. И даже одно и то же любимое пальто не желает оставаться новым, снашивается, как самое настоящее. Если разобраться, наяву нестыковок и неожиданностей гораздо больше, по крайней мере, у меня. Это еще надо подумать, где у нас сон, а где так называемая «настоящая жизнь».
– Кстати, да, – кивает примолкший было Томас. – Тоже иногда понимаю, что ничего не понимаю… И что, теперь тебе каждый день снится, как умирает твой муж? Не позавидуешь.
– Слава богу, не каждый. А то навещали бы вы меня сегодня в психушке. Но чаще, чем хотелось бы, это да.
– Елки, – сочувственно говорит он. И после долгой, томительной паузы повторяет: – Вот елки!
«Вот именно», – думает Яна и отворачивается к окну, где на подоконнике цветут и отчаянно, навзрыд пахнут нарциссы, неделю назад купленные в супермаркете, стремительно распустившиеся в тепле и, похоже, уже начавшие догадываться, что не доживут до настоящей весны. Сколько ни прижимайся к холодному стеклу, за которым сейчас плещется молочно-желтая от снега и фонарного света вечерняя тьма, апрельского солнца там не покажут.
– Ладно. Будем тебя спасать. Есть идея, – внезапно говорит Томас.
– Какая? А, ну да, примерно понятно. Для начала поиграть в снежки, продолжить вечер в ближайшем баре, а надравшись как следует, купить в ночном супермаркете какой-нибудь нелепый пластиковый поддон, гордо именуемый санками, и до рассвета кататься на нем с холма? Чтобы потом приползти домой, упасть и уснуть прямо в коридоре, и никаких дурацких снов? Я тебя обожаю, Томочка. Это вполне могло бы сработать. Но у меня дедлайн.
– И совершенно напрасно ты меня обожаешь. Идея надраться и кататься на санках отличная. Но не моя, увы.
– Ну надо же, – говорит Ромка. – Я тоже был уверен, что ты сейчас скажешь: «Одевайтесь, пошли, и пусть весь мир содрогнется». Ну и дальше примерно по Янкиному сценарию.
– Это потому что вы тайные алкоголики и латентные хулиганы, – ухмыляется Томас. – Одно у вас на уме. А я мыслю глобально. И совсем о другом.
– О чем?
– О том, что у нас тут Нижний Мир.
– Чего? – изумленно переспрашивает Яна. И Ромка вторит ей с некоторым запозданием: «Чегоооооооо?!»
– С точки зрения тех, кто нам снится, у нас тут Нижний Мир. Мир духов. Ну типичный же! Сами прикиньте, от того, что мы тут съедим или выпьем, напрямую зависит их – в смысле, наших сновидений – судьба. А от поставленного будильника – срок жизни…
– Точно, – тут же подхватывает Ромка. – Обожрешься на ночь котлет, а у них, бедняг, от этого сразу апокалипсис. Или, к примеру, школьный экзамен по физике. Что в общем примерно одно и то же. Трудно им с нами!
– Придурки, – ласково говорит Яна. – Даже не знаю, кто хуже.
В переводе на общечеловеческий язык это означает: «Как же я вас обоих люблю». Впрочем, и так понятно.
– Эй, будь повежливей! – смеется Томас. – Ты сейчас в Нижнем Мире. С духами разговариваешь, не с кем-нибудь.
– Ну так я и сама дух. Если уж тут живу.
– Если живешь, то да. А если, предположим, ты сейчас сюда в гости пришла? Потому что там, у себя, наяву, в смысле во сне, ты – великий шаман с большим бубном. Например.
– Я – даааааа, – подтверждает Яна. – Великий. В смысле великая. Великая шаман!
– Вот именно. И теперь ты должна нас умилостивить.
– Что?!
– Умилостивить, – повторяет Томас. – Ты, кстати, уже начала. И очень неплохо начала! Таким горячим шоколадом самого злобного духа умилостивить можно. А мы с Ромкой даже и не особо злобные. Просто прожорливые. И если ты сейчас сваришь еще одну порцию…
– Господи, – смеется Яна. – Ну так бы сразу и сказал!
И идет мыть кастрюльку. По справедливости, надо бы гостей припахать, но если уж у них хватило ума вовремя назначить себя духами Нижнего Мира – ладно, пусть сидят. Заслужили.
– Я, между прочим, совершенно серьезно, – говорит Томас, наблюдая, как Яна ставит кастрюльку на плиту.
– Совершенно серьезно хочешь добавки? Не сомневаюсь.
– Да ну тебя. Я про Нижний Мир.
– А. В смысле что с точки зрения наших сновидений бодрствование – это пребывание в Нижнем Мире? Да, красивая концепция.
– По-моему, Томка имеет в виду, что если уж мы – духи Нижнего Мира, значит, мы можем решить проблему шамана, – внезапно говорит Ромка, – То есть мы сперва выжрем твой шоколад – прости, друг, но без щедрых приношений духам никак не обойдешься, это тебе любая магическая традиция подтвердит – а потом за это спляшем какой-нибудь специальный полезный мистический танец, от которого исцелится твой больной муж. В смысле муж, который тебе снится. По-моему, гениальный ход. Потому что события наяву, хотим мы того или нет, а влияют на наши сны. Конечно, совершенно непредсказуемо. Но все-таки если нам удастся как следует тебя впечатлить…
– Ого, – задумчиво бормочет Яна, размешивая густеющий на огне шоколад. – Ого! – повторяет она. – Слушайте, дорогие духи Нижнего Мира, а давайте попробуем. А?
– Я как раз над этим думаю, – совершенно серьезно говорит Томас. – Пытаюсь понять, чем мы можем тебя впечатлить – после стольких-то лет знакомства.
– Для начала хотя бы не урони свою чашку, – вздыхает Яна. – Просто аккуратно поставь ее на стол. Если сможешь, я уверую во все, что ты скажешь – хоть в Нижний Мир, хоть в духов, хоть в свое шаманское призвание. Навсегда.
– Я-то смогу, – кивает Томас. – Но мне кажется, этого недостаточно.
– Конечно недостаточно! – вклинивается Ромка. – Нам же не лося какого-нибудь дурацкого в капкан загнать надо, а целую человеческую жизнь спасти. В таком деле без кровавой жертвы не обойтись.
– Точно! – Томас поднимает указательный палец. – Принесем жертву. А лучше сразу две. Чего мелочиться. Пошли.
– Куда? – подскакивает Яна.
– Ты – никуда. Ты тут сиди. А мы – на улицу. Будешь смотреть на нас в окно. Внимательно смотри! Ты – шаман, тебе положены чудесные видения. Видела когда-нибудь, как духи Нижнего Мира приносят себя в жертву друг другу? То-то же. Трепещи.
И очень аккуратно ставит пустую чашку на стол, да так далеко от края, что захочешь – рукавом не смахнешь.
Ну надо же. Чудеса.
Яна стоит у окна и, затаив дыхание, глядит вниз, на улицу Клайпедос, внезапно ставшую полем битвы самозванных духов Нижнего Мира. Там, на белом снегу, извиваются темные тени, вполне бесплотные, если смотреть на них с высоты третьего этажа, но явно антропоморфные. Впрочем, какими им еще быть?
Если смотреть с высоты третьего этажа, может показаться, что мальчишки дерутся по-настоящему. Хорошо, что на улице пусто, потому что прохожие могли бы вызвать полицию… Ай, нет, конечно нет, они же сейчас наверняка хохочут, как школьники, просто отсюда не слышно, третий этаж – это все-таки довольно высоко, да и окно закрыто, чтобы не заморозить беднягу нарцисса, ему, сдуру рискнувшему расцвести в феврале, и так нелегко. Но ржут же, на что угодно спорю, знаю я их. Очень хорошо знаю, так уж мне повезло.
«Господи, – думает Яна, – спасибо тебе, что мы есть. Вот такие невероятные придурки, на любые глупости готовые, чтобы утешить друг друга. Впрочем, на глупости мы готовы и просто так, без всякого дополнительного повода, и за это отдельное спасибо Тебе, очень здорово придумал».
Темные тени внизу, похоже, устали сражаться, упали на землю и теперь неподвижно лежат, два черных силуэта на белом снегу, четких, плоских, словно вырезанных из бумаги. Скоро они поднимутся, отряхнутся, обретут дополнительное измерение и пойдут наверх, требовать за подвиг еще одну порцию шоколада… Кастрюлю, что ли, пока помыть?
Надо бы, конечно, помыть, но Яна стоит у окна, смотрит вниз, ждет, когда темные тени, духи Нижнего Мира, только что принесшие себя в жертву друг другу, павшие в честном бою, воскреснут, встанут, превратятся в живых теплокровных разноцветных людей, обнимутся от полноты чувств и потопают к подъезду. Но они все лежат и лежат, не шелохнутся, а время идет, и снег тоже идет, такими густыми хлопьями, что на месте двух черных фигур скоро будут два невысоких сугроба, а они… Какого черта?!
– Какого черта они не поднимаются? – вслух говорит Яна.
Говорит и от звука собственного голоса почему-то мгновенно впадает в панику. Выскакивает в подъезд и несется по лестнице вниз, перескакивая через несколько ступенек, проклиная слетающие с ног тапки и себя, дуру, за то что побежала на улицу, не надев сапоги, там же минус то ли пять, то ли вообще семь и снежище, а эти два придурка валяются на морозе в сугробах, промокли наверное уже насквозь, зубами стучат, если только не… Да нет, слушай, нет, не могли же они, в самом деле, поубивать друг друга, что у тебя вообще в голове?
Хороший вопрос, но ответ на него неизвестен, да и какая разница, что у тебя в голове, когда ты выскакиваешь на улицу, на мороз, в одной футболке, старых домашних джинсах и тапочках на босу ногу, тапочки – это, конечно, особенно прекрасная деталь образа, клетчатые, с розовыми помпонами, на два размера больше, чем надо и поэтому все время слетают, в подъезде еще как-то удавалось их подхватывать, но стоило пробежать всего несколько шагов по снегу, и вот уже тапки застряли в каком-то дурацком сугробе и остались там, вероятно, навек, потому что Яне совсем не до них. Отсюда два тела на снегу кажутся ей еще более темными, тяжелыми и неподвижными, чем выглядели сверху, да что же это такое, не может этого быть!
Добежав, она падает на четвереньки, чтобы увидеть лица, заглянуть в глаза, на худой конец хотя бы просто услышать дыхание, убедиться, что мерзавцы ее разыграли, да и сама хороша, придумала черт знает что на ровном месте, но все это уже не имеет значения, потому что сильные, очень холодные, очень мокрые руки, целых четыре сразу, хватают ее, валят в снег, заключают в объятия, и Ромка кричит: «Поверила!» – а Томас торжествующе хохочет: «Я же говорил!»
– Гады какие! – смеется Яна. – Я же перепугалась. И тапки потеряла. И осталась босиком.
Тапки, кстати, нашлись – потом, по дороге домой, куда Томас любезно донес ее на руках. А Ромка замыкал шествие, торжественно размахивая клетчатыми тапками с намокшими розовыми помпонами. Таковы, надо понимать, повадки духов Нижнего Мира, делают что хотят и ржут при этом как кони, никакого сладу с ними нет, это вам любой шаман подтвердит.
* * *
– Представляешь, пока мы дрыхли, выпал снег, – говорит Яничек. – И еще не успел растаять. Дождался нас, такой молодец.
Он стоит у окна и смотрит на улицу. Это само по себе настолько удивительно, что никаких дополнительных чудес вроде апрельского снега Яничке уже не надо. Ну, то есть, как – не надо, пусть будет, если уж выпал. Но и без снега трудно поверить, что все это происходит наяву, потому что Яничек, который всего неделю назад чашку ко рту поднести едва мог, встал, как ни в чем не бывало, без посторонней помощи добрался до окна и преспокойно там стоит, даже не опираясь на подоконник, где цветет солнечно-желтый нарцисс-долгожитель, купленный в супермаркете еще в феврале. И, в общем, уже понятно, что это – не случайное временное улучшение, а нормальное развитие событий, врачи обещали, что именно так теперь все и будет, а я им не верила, дура. И, похоже, не очень-то верю до сих пор. Ай, ладно, какая разница, верю, не верю, главное, что это – так.
– И какой-то энтузиаст на радостях успел пробежаться по этому снегу босиком, – говорит Яничек. – Хотел бы я посмотреть, как это было. Но следы босых ног на снегу и сами по себе – вполне вдохновляющее зрелище… Эй, заяц, а почему ты не удивляешься? И не бежишь смотреть, пока все на фиг не растаяло? У тебя все хорошо?
– Все хорошо, – эхом повторяет Яничка. – А как оно еще может быть? Я просто сон пытаюсь вспомнить. Но уже, наверное, не получится, ускользнул. Жалко. Что-то такое прекрасное мне снилось. Мы там все время ржали с… с кем-то. Вспомнить бы с кем… Ай, ладно, неважно.
Она вылезает из-под одеяла, подходит к окну, обнимает Яничека крепко-крепко, говорит:
– Ну давай, показывай, что там за босые следы на снегу?
Улица Косцюшкос (Kosciuškos g.) Тяжелый свет
Когда ехал домой привычным уже, самым коротким маршрутом, от Петра и Павла[6] по Косцюшкос, увидел далеко впереди, на другом берегу здание, украшенное в честь грядущего Рождества гигантской, от земли до крыши, гирляндой синих фонариков, таких убийственно мощных, что зарево от них было чуть ли не на пол-неба.
Очень яркий свет. И очень холодный. Вблизи он, должно быть, совершенно невыносим.
Даже свернул раньше, чем обычно, поехал кружным путем, через Старый город, лишь бы не смотреть.
Не то чтобы с утра до ночи переживал по поводу этих синих огней, но каждый вечер неизбежно сворачивал из-за них к Кафедральной площади и делал изрядный крюк. И всякий раз заново обижался, неведомо на кого – то ли на незадачливых украшателей темного зимнего мира, подобравших такой ужасный цвет для праздничной иллюминации, то ли на себя за внезапный приступ эстетства. Синие огоньки, видите ли, не угодили. Другие вон ездят мимо, и ничего.
Думал: ладно, скоро уже Рождество, а потом фонарики уберут.
Пожаловался на противный синий свет Янине. Та переспросила: «Это где?» Выслушав объяснения, нахмурилась, потом пожала плечами – ну надо же, а я не замечала, хотя почти каждый день там… ладно, предположим, я-то не езжу, хожу пешком. Может быть, только с проезжей части видно? Хотя если, как ты говоришь, зарево на полнеба, странно, что я не обратила внимания.
Развел руками – бывает. У каждого из нас свой список раздражителей. Ты, например, не выносишь звук газонокосилки, а я под него спать могу. Зато, оказывается, бешусь от синего света, слава богу, не любого, а только этого оттенка, как он, интересно, называется? Ультрамарин? Ну, может быть. Такой ядовитый неоновый, практически бьющийся в судорогах ультрамарин.
Поговорили и забыл – до того дня, когда Янина зашла за ним на работу, чтобы вместе ехать домой. До сих пор она так не поступала, но тут случайно оказалась рядом незадолго до конца рабочего дня и зашла, такая молодец.
Обрадовался ей, потому что любил внезапные сбои в постоянном распорядке, даже такие незначительные.
И Янину тоже любил.
Когда ехали по Косцюшкос, сказал:
– Видишь, какая синяя жуть? Это я на нее тебе жаловался.
Янина как-то растерянно моргнула, повертела головой в разные стороны:
– Где?
Ничего не ответил, пока не остановились у светофора возле моста Короля Миндаугаса. Только тогда спросил:
– Ты что, правда не видишь? Вон, на той стороне, справа и впереди. Такой невыносимый синий свет!
Она молчала, пока не загорелся зеленый. Уже после того, как свернули, сказала:
– Ничего, бывает. Всем время от времени что-то мерещится. Вот и теперь примерещилось – не то тебе этот противный синий свет, не то мне его отсутствие. И, в общем, все равно, кто прав: мы теперь вместе, значит, все у нас общее, и морок тоже один на двоих.
Ничего себе поворот.
С одной стороны, ужас, конечно – получается, синие огоньки – галлюцинация? А с другой – услышать от сдержанной, скупой на слова Янины сентиментальное рассуждение насчет общего морока было удивительно приятно. Прежде не подозревал, что нуждается в словесных подтверждениях их близости, а оказалось – еще как.
Не знал, что на это ответить. Но и молчать было нельзя. Поэтому предложил:
– Давай сейчас поставим машину возле дома и пойдем поужинаем в городе. Хочешь суши, Нинка? Сто лет их не ел.
Янина понимающе улыбнулась, кивнула:
– Конечно, давай.
С тех пор невзлюбил синие фонарики еще сильней. И стал ездить домой совсем уж дурацкой кружной дорогой, лишь бы не видеть эту чертову праздничную иллюминацию.
В отместку чертова иллюминация стала сниться по ночам. Только во сне свет был не синим, а желтым. Но таким же холодным и невыносимо ярким.
Во сне не сворачивал с набережной раньше времени. Наоборот, хотел добраться до источника света, выяснить, что за здание украсили дурацкими фонарями, посмотреть на него вблизи и может быть наконец что-то понять. Но это никогда не удавалось. Все время то проезжал мимо нужного моста, то напротив, никак не мог до него доехать. А иногда откуда ни возьмись появлялся полицейский патруль и приказывал остановиться. Лица у патрульных бывали разные, причем далеко не всегда человеческие, но их начальник, седой, коренастый, очень придирчивый и дотошный с упорством, достойным лучшего применения, кочевал из одного сновидения в другое. Пока этот тип внимательно изучал документы на автомобиль, целые тюки бумаг, которые, согласно дурацкой логике сновидения, приходилось возить в багажнике связанными в толстые пачки, успевал зазвонить будильник. Это было досадно.
Проснувшись, всякий раз мысленно показывал седому бюрократу кулак. Не то чтобы это помогало, но немного поднимало настроение. По утрам это важно.
На Рождество они с Яниной поехали к друзьям в Краков, и там сны про яркий холодный свет и полицейских прекратились. Был этому очень рад. Однако стоило вернуться домой, и все стало по-старому. Синее зарево наяву, желтое во сне. Праздники давным-давно миновали, закончились школьные каникулы, уехали последние туристы, от Рождественской ярмарки на Ратушной площади не осталось и следа, сняли фонарики, украшавшие рестораны и кафе, убрали искусственные елки из магазинных витрин, но вот именно эта проклятая синяя гирлянда никуда не делась.
Как назло.
Однажды залез на крышу дома – не во сне, наяву. Подозревал, что синее зарево должно быть оттуда видно. Подозрение, увы, подтвердилось; счастье еще, что окна квартиры выходили на другую сторону.
Время от времени специально проезжал по набережной днем, ничего особенного там не увидел; впрочем, и не ждал. А однажды, воспользовавшись теплой погодой, прогулялся вдоль реки пешком, пристально разглядывая здания на другом берегу. Дома как дома, жилые и офисные. Ничего выдающегося. Но переходить мост, чтобы рассмотреть их поближе все-таки не стал. Бог весть почему.
Несколько раз пытался сфотографировать синие огоньки телефоном – просто чтобы получить доказательство их существования или отсутствия. Все-таки фотография – это документ. Однако ничего из этой затеи не вышло. Снимки оказывались то полностью черными, то наоборот, пересвеченными. Никакой особой мистики тут не было, просто плохонькая камера в старом телефоне не справлялась со съемкой в темноте.
С Яниной о синих фонариках на том берегу больше не говорил, не хотел лишний раз выставлять себя психом, а она не расспрашивала. Оба боялись нарушить хрупкое равновесие счастливой совместной жизни, которой ждали и, чего греха таить, смутно опасались целых шесть лет, пока он работал в другой стране, и встречаться удавалось хорошо если раз в месяц. А теперь, съехавшись, старались беречь друг друга, каждый – от себя. В первую очередь, от собственной способности быть человеком-не-праздником. В смысле не только праздником. Не всегда им.
Иногда подвозил с работы коллег, живущих более-менее по соседству. С ними специально ехал по Косцюшкос, а потом по набережной, мимо сияющего ультрамарином здания на другом берегу. На самом деле ничего страшного, если смотришь прямо перед собой, только на дорогу, а справа, между тобой и невыносимым синим сиянием сидит безмятежно разглагольствующий о пустяках пассажир.
После разговора с Яниной не решался открыто обсуждать эти синие огни с другими людьми. Кому хочется прослыть сумасшедшим. Но всякий раз, выезжая на набережную, как бы вскользь замечал: вот удивительно, праздники давным-давно миновали, а светящиеся гирлянды кое-где до сих пор так и не убрали, это же огромный дополнительный расход на электричество, вот на чем следует экономить учреждениям, а не на зарплатах сотрудников, – и так далее, обычное ворчание умеренно благополучного обывателя. Очередной спутник, глядя прямо перед собой, в освещенную ультрамариновым заревом тьму, рассеянно переспрашивал: да неужели не все убрали? Разве что-то еще осталось? А где?
Впрочем, все они удовлетворялись неопределенным мычанием: «Нннууу… кое-где в центре». Им было все равно.
Думал порой: какой же бездарный из меня получился псих. Одна-единственная галлюцинация, довольно противная, но совсем не страшная. И не интересная, будем честны. Зато всегда на одном и том же месте, даже во сне. Удивительный я все-таки зануда.
Посмеяться над собственными проблемами – хороший способ приуменьшить их значимость, это всем известно.
Однако к началу февраля был вынужден признать, что нервы уже на пределе. Синий свет стал занимать слишком много места в его мыслях. А бестолковые сны про желтый повторялись теперь не время от времени, а почти каждую ночь. Ну или даже не «почти», просто иногда будильник звонит невовремя, и потом невозможно вспомнить, что приснилось, как ни старайся; кажется, это как-то связано с фазами сна, когда-то об этом читал. Очень давно.
Когда понял, насколько сильно его беспокоит этот синий свет, решил бороться с наваждением методом «клин клином». Снова стал ездить домой с работы коротким удобным путем: по Косцюшкос, потом по набережной, и плевать на невидимые для всех остальных ультрамариновые фонари на другом ее берегу. Подумаешь – фонари.
Не то чтобы это помогло. Скорее наоборот. Теперь целыми днями был на взводе, предвкушая предстоящую поездку. Стал делать в документах ошибки, которых раньше – не то что просто себе не позволял, а даже вообразить не мог, каким надо быть рассеянным идиотом, чтобы их навалять.
Говорил себе: «Ладно, ничего, потерпи, день прибывает, еще немного, и будешь возвращаться с работы засветло». И всякий раз внутренне вставал на дыбы от необходимости ждать и терпеть.
К тому же, не факт, что увеличение светового дня как-то повиляет на содержание сновидений.
С Яниной по-прежнему вел себя как ангел; слава богу, давно научился ни при каких обстоятельствах не срываться на близких. Однако воздух в доме звенел от напряжения, и она это, конечно, чувствовала. И тоже нервничала. И тоже не подавала виду. Не спрашивала, что происходит; может быть, зря.
Все чаще думал: «Похоже, я все порчу, вот черт».
А о том, что напрасно, наверное, ухватился за первую же возможность вернуться в этот город, старался думать пореже. Говорил себе: «Рано сдаваться, все еще наладится. Контракт пока подписан на год. Потом поглядим».
Ни дня не хотел здесь оставаться. Не хотел никуда уезжать.
Наконец решился. Сказал себе: сегодня посмотрю на чертовы синие фонарики вблизи. Поеду на тот берег, выйду из машины, обойду вокруг увешанного ими дома, потрогаю его, в конце концов. Попробую еще раз сфотографировать, может быть, вблизи хоть что-то получится. И тогда…
А что, собственно, «тогда»? Чего он ждал от этой экспедиции? Сам понятия не имел, просто ум, утомленный полным непониманием происходящего, требовал действий. Все равно, каких. Давно пора было кинуть ему эту кость.
Смешно, но чуть не проскочил мимо моста Короля Миндаугаса, на который собирался свернуть. По привычке заранее перестроился в крайний левый ряд и только в самый последний момент сообразил, что сейчас надо наоборот, в правый. Вспомнил, сколько раз это случалось во сне, невольно улыбнулся. Подумал: «Ладно, по крайней мере, обошлось без полиции».
Ага, держи карман шире.
Полиция остановила его уже за мостом, практически в двух шагах от вожделенной цели. Ну, правда, не его одного, а целую кучу народу. Как бы проверка документов, а на самом деле, скрытая, но эффективная реклама страхования и своевременного техосмотра, ничего личного.
Документы у него были в порядке, зато от близости источника ультрамаринового света кидало в дрожь, а седой полицейский, пожелавший хорошего вечера, показался старым знакомым. Неужели сны о нем были вещими? И теперь я – провидец и пророк? Вот спасибо.
Не удержался от нервного смешка, полицейский оторвался от изучения документов и уставился на него с доброжелательным, но требовательным интересом. Дескать, чего ржешь.
Пришлось объяснять:
– В последнее время мне несколько раз снилось, как меня останавливает полиция. И один из полицейских был очень похож на вас.
– А, это бывает, – флегматично кивнул седой. И снова уткнулся в его документы.
Он и наяву очень долго их изучал, за это время можно было успеть прочитать средних размеров рассказ. Или даже его написать. Наконец спросил:
– Во сне – это когда вы ехали посмотреть на желтые огни?
– Что?
– На желтые огни, – невозмутимо повторил полицейский. – Во сне они желтые, а наяву синие, верно? Такой тяжелый, почти невыносимо яркий холодный свет. И никто кроме вас их не видит. Это довольно неприятно. Выбивает почву из-под ног.
– Что?!
Чокнуться недолго от подобных откровений. Не мог же я уснуть за рулем? Или еще раньше, в офисе?.. Или мог? Нет, стоп, погоди. Во сне свет ярко-желтый. А сейчас – адский, невыносимый, судорожный ультрамарин, как всегда бывает наяву.
– Что слышали, – неожиданно сурово ответил полицейский.
Отдал ему все бумаги, только права почему-то продолжал вертеть в руках. Молчал, думал. Наконец сказал:
– Хорошая новость состоит в том, что вы не сошли с ума. И я тоже. Просто одни люди видят этот синий свет, а другие нет. Так бывает. Да чего только не бывает, на самом-то деле… Знаете что? По-моему, вы очень хотите закурить. А сигарет нет, на работу вы их с собой не берете, верно?
Буркнул:
– Беру. Но всего две штуки, специально под кофе в перерывах. До вечера они обычно не доживают.
– Ничего, – сказал седой полицейский, – я с вами поделюсь. Идемте.
Опешил:
– Куда?
– Да просто отойдем немного в сторону от дороги. Машину оставьте как есть, тут она никому не мешает.
– Ладно.
Поднял стекло, погасил фары, вынул ключ из замка зажигания. Вышел. В награду за сговорчивость получил обратно свои права. И сигарету. Да не простую, а «Camel» без фильтра. Надо же, они еще, оказывается, есть в природе. Интересно, где этот тип их берет? В магазинах их точно нет, запрещены к продаже – здесь и в подавляющем большинстве европейских стран.
– Контрабандные, – усмехнулся седой полицейский. И вдруг как-то очень по-свойски подмигнул. Словно они были знакомы целую вечность, и шутка про контрабандные сигареты сопровождала чуть ли не каждую встречу. Ну или не шутка, как знать.
Чуть было не поверил, что так оно и есть. Но вовремя опомнился. Есть же такая штука – «дежавю». Необъяснимая, зато все объясняющая. Очень удобно.
Полицейский протянул ему зажигалку. Сказал:
– Представляю, сколько у вас вопросов. И вы не знаете, с чего начать. Поэтому начну я. С этими синими фонариками, как вы и сами догадываетесь, все довольно непросто. Они вполне объективно существуют, однако людей, которые их видят, по пальцам можно пересчитать. Причем, как правило, если уж кто-то увидит синий свет, сразу устремляется к нему, как мотылек к лампе, забыв обо всем на свете. Но по дороге, еще не добежав, обнаруживает, что свет погас, все выглядит, как обычно. И спокойно возвращается к своим делам. Ну, то есть, как – спокойно. На самом деле, конечно, тревожится, спрашивает себя: «Что это вообще было?» Некоторые даже обращаются к врачам и получают вполне успокоительные объяснения. В этом смысле сейчас очень удачное время, любое странное происшествие можно списать на стресс, выдохнуть с облегчением, перекреститься и забыть. А с вами не так. Вы этого синего света сразу испугались, хоть и сочли его обычной рождественской иллюминацией. Отлично, на самом деле. У вас, судя по всему, неплохие шансы.
Сигарета без фильтра оказалась очень крепкой. Оно к лучшему, стал от нее как пьяный, и слова этого странного полицейского звучали, как забавная, но вполне бессмысленная байка случайного собутыльника. Удивительно успокаивающий эффект. Однако при слове «шансы» встрепенулся.
– Какие шансы? На что?
– Добраться до источника света, конечно. Подойти к нему совсем близко. Погрузиться в него целиком. Войти.
– И что тогда будет?
– Что будет конкретно с вами? Я тоже хотел бы это узнать, – усмехнулся седой полицейский. – Заранее никогда не скажешь. Я слышал о людях, которые, достаточно долго простояв в лучах этого тяжелого синего света, словно бы приходили в чувство. И о других, которые забывали все, включая собственное имя. И о тех, кто исчезал неведомо куда. И о таких, кто просто возвращался домой, разочарованно пожимая плечами – ну и к чему была вся эта суета? А я, например, просто устроился на работу. В ту зиму синяя гирлянда украшала центральное отделение полиции, где как раз расположен отдел кадров. Смешно тогда получилось; я-то всю жизнь считал себя без пяти минут анархистом и вообще человеком здравомыслящим…
Он умолк – то ли вспоминал забавные подробности своего трудоустройства, то ли просто прикидывал, что бы еще такого интересного рассказать. Наконец заговорил:
– Единственное, в чем я более-менее уверен, – добираться до источника света следует наяву, а не во сне. В здравом уме и твердой памяти, чувствуя себя полным идиотом, сознательно переступая через собственный иррациональный страх. Вполне справедливая плата за входной билет неведомо куда. Впрочем, не только в оплате дело. Еще и в том, что люди не придают значения сновидениям. Нравится мне это или нет, но таковы особенности культуры, в рамках которой мы все воспитаны. Что бы ни стряслось с человеком во сне, а просыпается таким же дураком, как был накануне. Ничего не помнит, а если и помнит, отмахивается – приснится же всякая ерунда. Поэтому я так назойливо вмешивался в ход ваших сновидений, не давал вам удовлетворить любопытство. Между прочим, в нарушение служебной инструкции. Знаете, сколько уже выговоров получил за превышение полномочий? У-у-у-у-у-у, и не сосчитать! К счастью, устных. Начальство у нас все-таки понимающее. И здравомыслящее, не хуже меня самого. И словосочетание «по велению сердца» для него не пустой звук.
Растерянно повторил:
– По велению сердца? Но какое вам?..
– Какое мне дело до вас? Сложно сказать. С одной стороны, конечно, никакого. А с другой, я сочувствую всем, кого пугают и одновременно притягивают эти синие фонари. Трудно забыть, что сам когда-то был в таком же положении. Да и надо ли забывать? Не факт.
– А мне обязательно туда идти?
Совершенно не планировал задавать такой жалобный, совершенно детский вопрос. Само вырвалось. Потому что вдруг испугался, как не боялся до сих пор никогда, ничего. Впрочем, нет, было один раз – в самолете, когда показалось, будто что-то пошло сильно не так. Вот эта холодная тошнотворная бездна, разверзающаяся в собственном животе, от которой никуда не деться, потому что она – и есть ты.
Впрочем, тогда обошлось. И сейчас обойдется. Что может случиться с человеком, обеими ногами стоящим на твердой, надежной земле?
На самом деле все что угодно. В том и беда.
– Господи, ну конечно не обязательно, – вздохнул полицейский. – Каждый человек имеет право испугаться и передумать. Я здесь не затем, чтобы вас заставлять.
– А зачем?
Полицейский только плечами пожал. И отвернулся. Похоже, он внезапно утратил интерес к беседе. И теперь жалел, что вообще ее затеял.
Докурил крепкую сигарету, почти такую же невыносимую, как синее зарево над головой. Огляделся по сторонам в поисках урны. Не нашел, зато увидел канализационный люк и засунул окурок в щель. Полицейский последовал его примеру. Сказал:
– Еще одна новость. Не уверен, что однозначно хорошая, но вам, по идее, должна понравиться: этот морок не навсегда. Скоро закончится. Даже из города уезжать не обязательно. Вы об этом уже начали думать, верно? Жалко все бросать, но рассудок дороже.
Кивнул, даже не удивившись его проницательности.
– Так вот, с отъездом можете не спешить. Просто наберитесь терпения. Однажды вы поедете ночью по набережной и внезапно обнаружите, что небо над ней самое обыкновенное. Никакого синего зарева. И сны перестанут вас беспокоить. И я отстану. Все пройдет. Все.
– Правда?
– Конечно, правда. Плюньте на этот синий свет. Он скоро погаснет – лично для вас. Перестанет беспокоить. Все будет хорошо. Поезжайте домой. Я же отдал вам ваши права? Проверьте.
Проверил. Права были на месте, в бумажнике.
Пока рылся в карманах, седой полицейский куда-то ушел, видимо, присоединился к коллегам.
Сел за руль. Спросил себя: «Что это было вообще?» Ответа разумеется не последовало. Да и какой тут может быть ответ.
Развернулся и поехал обратно на мост, а оттуда домой – мимо Кафедральной площади, через центр. Хватит с меня этих синих фонарей. Хотя бы на сегодня хватит, договорились?
Янине, конечно, ничего не рассказал. Зачем пугать человека историей развития навязчивой галлюцинации. Тем более, если добрый полицейский обещает, что все скоро пройдет. Он, конечно, сам та еще галлюцинация, ну да ладно. Не будем придираться.
Вместо исповеди просто сел на пол возле Янининого кресла, положил голову ей на колени. Сказал:
– Буду мешать тебе тупить в интернете. Как настоящий котик.
– Ну что ты, – флегматично возразила Янина. – До настоящего котика тебе далеко. Пока жопой на клавиатуру не уселся, не считается.
Не стал спорить. Нет, так нет.
Спросил ее:
– Нинка, а откуда я вообще взялся?
Янина рассмеялась.
– Такой прекрасный, на мою голову? Из франкфуртского аэропорта. Мы вместе застряли там в лифте, и я опоздала на свою дурацкую пересадку, а ты совершил самый галантный в мире поступок: пропустил свою, чтобы было кому меня утешать. И честно утешал до утра во всех барах города Франкфурта, смешивая напитки в какой-то адской последовательности; как живы-то остались, вот я чего не пойму. Неудивительно, что ты забыл.
– Да ну тебя. Ничего я не забыл. Просто… Ай, неважно. Считай, что я впал в грех сентиментальности. Пост и молитва определенно спасут то немногое, что осталось от моей души.
Не говорить же ей, что воспоминание о счастливом знакомстве в поломанном лифте, как и сотни тысяч других воспоминаний внезапно перестало казаться надежным источником информации. То ли действительно было, то ли приснилось, то ли кино такое когда-то смотрел. И отдельный вопрос, откуда я взялся в этом дурацком лифте? В отпуск летел? Просто в отпуск с пересадкой во Франкфурте? Правда, что ли? Ладно, предположим, что так. У Янины всяко не спросишь, она не в курсе.
А все этот дурацкий псих в полицейской форме с разговорами о людях, которые «словно бы приходили в чувство» от невыносимого синего света. В какое это, интересно, «чувство»? Хотел бы я знать.
Впрочем, нет. Не хотел бы.
Не сейчас.
– Трудно тебе тут, – сказала Янина.
Не спросила, а констатировала. И была, конечно, права.
Но яростно помотал головой, вложив в этот отрицательный жест так много силы, что даже шея неприятно хрустнула.
– Ты же мне тогда полночи рассказывал, как рад, что уехал из Вильнюса, – улыбнулась она. – И что не любишь этот город и не планируешь возвращаться, ни за что, никогда! А я ужасно сердилась, потому что ты мне очень понравился. И я думала, это ты так элегантно даешь понять, что продолжения не последует, и не надейся, детка. Но оказалось…
Улыбнулся:
– Еще как оказалось! Ужасно этому рад.
– Но тебе трудно, – упрямо повторила Янина.
Согласился:
– Трудно, конечно. А как иначе. Тяжелая работа – быть человеком на этой прекрасной земле двадцать четыре часа в сутки, без перерывов и выходных. Зато и платят неплохо. Иногда, например, счастьем. Например, рядом с тобой.
– Тогда ладно, – невозмутимо кивнула Янина. – Пока такая зарплата тебя устраивает, я могу спать спокойно.
Вот и хорошо.
После этого разговора и сам спал – не просто спокойно, а как убитый, без сновидений. И проснулся в приподнятом настроении. Все проблемы внезапно показались пустяковыми. Думал, пока брился: «На самом деле мы же так отлично живем. За почти полгода ни разу не поссорились, так вообще не бывает. И город со времени моего отъезда все-таки здорово похорошел. И даже работа, на которую согласился только из-за более-менее приличной зарплаты, оказалась совсем не такой противной, как я себе воображал. А этот дурацкий синий свет, господи, ну подумаешь. Какие-то огоньки порой мерещатся, тоже мне горе. Даже если никогда не пройдет, вполне можно с такой галлюцинацией жить.
Припеваючи.
Хорошего настроения хватило ровно до обеда. А потом оно внезапно сменилось паникой. Ну, то есть, как – паникой. По офису с воплями не бегал, рук не заламывал, ни своих, ни чужих. Даже срочную работу кое-как закончил, трижды перепроверил, нашел и исправил несколько ошибок, и руки не дрожали, когда застегивал пуговицы пальто.
Почти не дрожали.
Ушел с работы последним; спускаясь по лестнице, написал Янине: «Похоже, немного задержусь». Подумал: «Как она без меня?» Отогнал дурацкий вопрос яростным усилием воли. С чего бы вдруг вот так сразу – «без меня»? Купил в ближайшем магазине пачку сигарет Camel. С фильтром, конечно, других-то в продаже нет.
Прежде, чем закурить, оторвал этот дурацкий фильтр к черту. Но все равно не то, конечно. Совсем другой вкус.
Ладно, не беда.
Выехав на Косцюшкос, вздохнул с облегчением: синее зарево было на месте. Никуда не исчезло, не рассеялось, не померкло, или что там еще случается с галлюцинациями, когда пациент перестает ими страдать?
А ведь как испугался, что больше никогда его не увидит. Совсем дурак.
На этот раз заранее перестроился в нужный правый ряд. И полиции за мостом не обнаружилось. Что к лучшему, полиция – это было бы уже слишком. А так все в порядке. Небольшой крюк по дороге домой для успокоения нервов, что может быть естественней после непростого рабочего дня.
Почти сразу понял, что ехать навстречу синему свету – плохая идея. Чем ближе, тем сильнее кружится голова, тем труднее следить за дорогой, да что там дорога, за самим собой – и то не уследишь. Остановился, включил аварийку, потер виски, выдохнул, осмотрелся, увидел пустое место на парковке возле маленького магазинчика с темными витринами. Поставил машину там. Вышел. Достал из пачки еще одну сигарету, оторвал фильтр, сделал несколько жадных затяжек. От табака начало мутить, и это почему-то показалось добрым знаком. Как будто с детства знал, что тошнота – к счастью. Хулы не будет.
Однако окурок топтал с искренней ненавистью, как личного врага. А затоптав, пошел вперед – туда, где стояло довольно высокое, никак не меньше шести этажей, здание, украшенное ультрамариновой гирляндой, которая даже издалека всегда казалась слишком яркой, а вблизи стала настолько невыносимой, что от света мутило хуже, чем от давешнего табака.
Тяжелый свет.
Но ничего не поделаешь, решил дойти – значит надо. Шел.
Шел по набережной, то и дело останавливаясь – не столько от нерешительности, сколько от внезапно охватившей его физической слабости. Хорошо, что кое-где росли деревья. Когда прислоняешься к фонарному столбу, становится только хуже, того гляди, сползешь понемногу на землю, будешь лежать на асфальте, в лучах невыносимого синего света, биться как выуженная рыба в тщетных попытках встать. Зато древесный ствол – отличная опора. Живая, надежная, даже сил вроде бы прибавляется. Постоишь так немного, и вполне можно пройти еще несколько шагов.
Когда наконец добрался до дома, украшенного синими фонарями, не чувствовал ничего, кроме желания лечь и сдохнуть. Прямо здесь, прямо сейчас, чего тянуть.
Удивительное дело, думал, вблизи от источника синего света будет очень страшно. А оказалось – просто тошно. Невмоготу.
Когда увидел, что парадная дверь приоткрыта и даже подперта кирпичом, чтобы не захлопнулась, не рассмеялся только потому, что на это не было сил. А так-то очень смешная ловушка. Такая наивная, что даже пятилетний ребенок мог бы изобрести что-нибудь поинтересней. Но при этом все равно эффективная. Кто угодно согласится войти в эту дверь, как только сообразит, что внутри не будет никаких синих фонарей. Они останутся снаружи. Снаружи! И если так, то плевать на ловушку, на все плевать.
Порог переступал так медленно, что за это время там, на улице, у него за спиной вполне могли пройти годы. Словно бы всю жизнь его переступал. И до жизни, и после нее. Вечно, всегда.
Интересный эффект. Раньше так не было.
– Тони Куртейн, я тебя убью!
В ответ на угрозу смотритель маяка заорал: «Ты вернулся!» – и заключил его в объятия. От избытка энтузиазма даже оторвал от земли и закружил, как ребенка. Вот же лось здоровенный. Поди такого убей.
Впрочем, не очень-то и хотелось. Так, в сердцах вырвалось.
– Получилось! – сказал Тони, поставив его наконец на твердую землю. – Ты гений, Блетти Блис. И я тоже. Хоть и страшенный дурак. Прости, что тебя на это подбил.
Сказал:
– Сигарету дай. Только нашу, если есть. От тамошних меня теперь еще долго будет тошнить.
Тони вынул из серебристой пачки с надписью «Dark Bark» тонкую черную сигарету, протянул ему. С наслаждением затянулся горьким дымом. Надо же, прежде всегда считал их дрянью, курил только контрабандные. Как и все остальные, кто мог их достать. А на самом деле наши лучше.
– Ты вообще как? – спросил Тони.
Огрызнулся:
– А как ты думаешь? Восемь лет, чувак. Восемь долбаных лет!
Что последние шесть получились очень даже ничего, говорить не стал. И даже не потому, что не Тониного ума это дело. Просто если сейчас разрешить себе думать о Янине, крыша совсем съедет. Нинка – потом. Сперва – разобраться с делами.
– Что у тебя с памятью? – нетерпеливо спросил Тони. – Что-нибудь помнишь о том, как там жил?
Пожал плечами.
– Много чего. Может быть, вообще все. А может быть, не помню, а наскоро выдумал, пока запирал за собой дверь, хрен теперь проверишь. Но давай будем считать, что помню. Особенно, как меня тошнило по дороге к твоему маяку. Чуть всю набережную не заблевал напоследок. Такой элегантный прощальный привет.
– Ну, тут ничего не поделаешь, – развел руками Тони. – Пришлось выдать самую полную мощность. Ты очень крепко там увяз.
– Крепко – не то слово. Кстати, сотни за такое дело явно маловато. Я сдуру тогда согласился, думал, быстро вернусь. Ну или совсем сгину, тогда и деньги ни к чему.
– Согласен, – кивнул Тони. – Все время, пока тебя не было, откладывал понемножку. Так что шесть сотен могу добавить прямо сейчас. И еще одну ближе к лету. Пока не накопил, но мое слово твердо, ты знаешь. Отдам.
Едва сдержался, чтобы не броситься ему на шею. Еще семь сотен! Сколько лет промышлял контрабандой, и дела вроде шли неплохо, а таких денег в жизни в руках не держал. Даже неловко так много с человека брать.
Впрочем, Тони есть Тони. Смотрителям маяков очень хорошо платят, а тратить при такой работе почти некогда. Во всяком случае, не на этой стороне. И если Тони сам говорит, что готов накинуть к той сотне еще семь, можно взять, совесть будет чиста.
Поэтому сказал:
– Всего получается восемь сотен за восемь лет. Ладно. Это справедливо.
– Хорошо, – улыбнулся Тони. – Главное, ты вернулся. Нарушил Второе Правило, а все равно тут как тут! Значит, в принципе это возможно. За такую новость ничего не жалко. Пошли в кабинет. Деньги там. И коньяк найдется.
Вот это совсем славно. Выпить сейчас точно не помешает.
После третьей рюмки осознал наконец, что вернулся домой. До сих пор понимал это только теоретически. Умом. А теперь дошло по-настоящему.
И как ничтожно малы были шансы вернуться, тоже только теперь дошло. Что забыл себя – ладно, это на Другой Стороне часто случается, уж больно силен ее морок. Сам не раз так влипал и все равно возвращался как миленький на синий свет маяка. Поэтому ни черта не боялся, верил: сердце выведет, оно выводит всегда.
Но теперь, задним числом, насмерть перепугался, вспомнив, что бывает, когда приходишь на маяк во сне, прельстившись его желтым светом. Тони ему перед уходом все уши прожужжал, предостерегая, и всякий раз мороз продирал по коже.
Наяву маяк – просто путь домой, самый прямой и легкий. Для того их, собственно, и ставят во всех приграничных городах, где проще простого провалиться на Другую Сторону; настоящих мастеров делать это по своей воле, оставаясь в полном сознании, по пальцам можно пересчитать, зато нечаянно практически каждый горожанин хоть раз в жизни, да влипал в подобную историю, особенно в детстве, и где бы мы все сейчас были, если бы не наши маяки.
Но во сне маяк – гиблое место, хуже не придумаешь. В тот момент, когда переступаешь его порог, вместо того, чтобы просто вернуться, как случается наяву, просыпаешься. Причем не дома, а там, где уснул. То есть, на Другой Стороне. Что приснилось, не помнишь, а если и помнишь, тут же выбрасываешь из головы, потому что с этого момента ты – самый настоящий человек Другой Стороны, а они, за редким исключением, снов не запоминают и особого значения им не придают. И дороги назад тебе больше нет, света маяка уже никогда не увидишь. Твоя настоящая жизнь становится просто забытым сновидением, а временная шкура, которой обрастает всякий гость Другой Стороны, прилипает к тебе навсегда. Не сдерешь, как ни старайся. До гробовой доски. Ангелы смерти, говорят, умеют снимать фальшивые шкуры, как гардеробщики пальто с подгулявших клиентов. И, похоже, никто кроме них.
Содрогнулся.
Сказал:
– Я должен поставить Альгирдасу хорошую выпивку. И еще, если по уму, полжизни в придачу. Но не знаю, как отломить от нее кусок, да он и не возьмет…
– Какому Альгирдасу? – удивился Тони. – Аптекарю?
– При чем тут аптекарь? Альгирдасу из Граничной полиции. Твоему дружку.
– Ничего себе. Я думал, у тебя на него зуб.
– Естественно. И не просто зуб, а очень длинный клык. Был. Однако он спас мою шкуру, это факт. Если бы не Альгирдас, твои синие фонарики помогли бы мне, как мертвому припарки. Как же я их возненавидел, знал бы ты! Теперь наверное до конца жизни на праздничные огни без изжоги смотреть не смогу.
– Ты не вспомнил, что это маяк? Даже не догадывался? Никаких смутных подозрений?
– Ну, разве что, совсем смутные. Чуял, что этот синий свет горит не просто так, а лично для меня. Но добра от него не ждал. Набережную объезжал дальней дорогой, только бы лишний раз на синие огоньки не смотреть.
– Ясно, – кивнул Тони. – Значит, никакой я не гений. А просто наивный болван. По моей теории, свет должен был тебя вытащить, хочешь ты того или нет.
– Ну, он, как видишь, все-таки вытащил. В итоге. Спасибо Альгирдасу, что тут скажешь. Он, представляешь, не давал мне добраться до маяка во сне. Всякий раз возникал невесть откуда, да не один, а с подкреплением, останавливал и затевал проверку документов. Рылся в бумагах, пока не зазвонит будильник. А потом и наяву объявился. Ничего толком не объяснил, но душу растревожил; слава богу, мне этого хватило… Интересно, как он туда пробрался?
– Тоже мне проблема, – отмахнулся Тони. – Наша граничная полиция по обе стороны дежурит. Ты не знал?
– Откуда бы? Раньше он ко мне на Другой Стороне не цеплялся.
– А зачем? Ничего противозаконного ты не делал. Ходить на Другую Сторону никому не возбраняется. Получается – гуляй себе на здоровье, оба города только спасибо скажут, им нравится, когда мы бегаем туда-сюда. Только добычу оттуда приносить запрещено. Да и то… Сам, в общем, знаешь, что запрет скорее формальный. Тебя за все эти годы даже не оштрафовали ни разу. А ты контрабанду мешками таскал.
Усмехнулся:
– Однако крови этот тип мне попортил. Вечно крутился где-нибудь рядом. Все всегда обо мне знал. Говорил, собрал такое шикарное досье, что уже не на одну, а на три пожизненные ссылки из приграничной зоны потянет. То ли дразнился, то ли всерьез грозил, поди его разбери. Подобные дурацкие разговоры очень нервируют. Как по мне, штраф в сто раз лучше. Заплатил и спи спокойно. А так сиди, думай: вдруг и правда даст делу ход, добьется ссылки? Заработок – черт бы с ним, я много чего умею, нигде не пропаду, но без прогулок на Другую Сторону быстро зачахну, факт… И вдруг – вот так повернулось. Я сам себя давным-давно потерял, а он нашел. И спас – столько раз, сколько понадобилось. Ни хрена себе злейший враг.
– Альгирдас всегда о тебе беспокоился. Говорил, такие, как ты, слишком способные и азартные, никогда не умеют вовремя остановиться и пропадают почем зря. А у него сердце рвется. И поделать ничего нельзя, только ссылкой грозить, хотя самому ясно, что такое спасение хуже любой погибели.
Тони помолчал и неохотно добавил:
– Он со мной почти год не разговаривал, когда узнал про наш с тобой уговор. Потом, вроде, помирились, но на самом деле он меня все равно не простил. Хотя знает, что я не просто из любопытства тебя на дурость подбил. Алекс, Вера, Эдо, Квитни, Беата, Аура, Ванна-Белл… Ай, ладно, что толку перечислять имена сгинувших на Другой Стороне. Про Эдо доподлинно известно, что он нарушил Второе Правило, выехал за пределы города. Весь тамошний мир ему, видите ли, приспичило посмотреть. Почти не сомневаюсь, что остальным под хвост попала примерно та же вожжа. Естественно, я хотел убедиться, что вернуться, нарушив Второе Правило, хотя бы в принципе возможно. Теперь твердо это знаю, спасибо тебе. Буду думать, что делать дальше. Я же из тех, кому для того, чтобы эффективно действовать нужна не просто надежда, а уверенность, что хоть какие-то шансы на успех есть. Тщетность усилий – мой главный страх. Единственный непобедимый.
Надо же, как Тони разговорился. Не ожидал от него. А ведь выпили совсем немного.
Сказал:
– Эта слабость – обратная сторона твоей силы. Дуракам вроде меня в этом смысле гораздо легче. Когда уверен, что возможность действовать, как считаешь нужным, сама по себе успех, вопрос о тщетности вообще не встает. Ну так мне и смотрителем маяка никогда не бывать, сам знаешь. Не из того я теста. Фигура, а не игрок.
– Это так, – согласился Тони. – Зато какая фигура! Самый настоящий ферзь. Вернулся, ну надо же! Восемь лет спустя, а все-таки вернулся. Чокнуться можно.
– Вот это точно.
Помолчали. Тони налил еще по рюмке. Спросил:
– Как тебе там вообще жилось? Подробности выпытывать не стану, мне сейчас вот что важно знать: ты тосковал по дому после того, как забыл, что он есть?
– Да как тебе сказать. По дому ли? Скорее уж, по Блетти Блису, которым перестал быть. Впрочем, вряд ли это называется «тосковал». Чтобы тосковать, надо хоть что-нибудь помнить. Просто мне его не хватало. Ну, то есть на самом деле себя, о котором напрочь забыл, когда задремал в машине на выезде из города. Вроде бы, неплохо придумал, да? Выбрал единственный вариант передвижения, который гарантированно вынуждает бодрствовать: сел за руль. Никаких автобусов, поездов и, тем более, самолетов. Сперва вообще собирался идти пешком, но решил, что у водителя все-таки меньше возможности заснуть, чем у пешехода. Понадеялся на многолетнюю привычку сохранять бдительность за рулем, представляешь? Думал, я самый умный. А оказалось, такой же дурак, как все. Только на то и хватило моей привычки, чтобы в последний момент, уже практически с закрытыми глазами свернуть на обочину и остановиться. Ладно, сам уцелел и никого не угробил, и то хлеб. А что пару минут спустя на месте Блетти Блиса проснулся просто Эдгар, непоседливый виленский житель, решивший попытать счастья в чужих краях – так это изначально входило в условия задачи. Не на что жаловаться.
Тони улыбнулся:
– Ты был бы не ты, если бы не попробовал перехитрить дурацкое Второе Правило и весь мир с ним за компанию. Не получилось, бывает. Но это вовсе не означает, что не следовало и пытаться. Ничего. Главное – ты вернулся. А значит, рано или поздно мне удастся вытащить еще кого-нибудь. Если очень повезет, вообще всех.
– Для этого надо, чтобы они, для начала, вернулись в город. Поди их заставь. Я, например, очень не хотел возвращаться. Такой, знаешь, почти иррациональный внутренний протест. Всякий раз, когда туда приезжал, нервничал. А когда пришлось вернуться надолго, все время прикидывал, как бы снова куда-нибудь умотать. Особенно после того, как увидел твои синие фонари. Думаю, это обычные фокусы Другой Стороны. Она отпускать не любит.
– Ничего, – отмахнулся Тони. – Как-нибудь выкрутимся. Я эти восемь лет тоже не то чтобы совсем без дела штаны протирал. Мой маяк теперь и в других городах иногда видно.
– В других городах?!
– Ну.
– Вдалеке от границы? Правда, что ли?
– Именно. Впрочем, пока это вполне неуправляемый процесс. Слишком мало зависит от моей воли. Но сам факт…
– Да уж. Ну ты даешь! Всегда считалось, что это невозможно.
– Мало ли, что считалось. Невозможное – это просто то, чего с нами до сих пор не случалось. Но все однажды случается в первый раз. На том и стоим. Налить тебе еще?
Подумал. Наконец неохотно отказался.
– Давай я лучше завтра вернусь. Выпьем и поговорим, о чем захочешь. Мне бы сейчас…
– Поспать дома?
– И это тоже. Но есть кое-что поважнее.
Тони кивнул.
– Понимаю. У тебя неплохие шансы. Альгирдас на сегодня свое отдежурил. А значит, наверняка сидит в «Разбитой Кукушке».
– Что за «кукушка» такая?
– Точно, откуда бы тебе знать. Они открылись лет пять назад, уже без тебя. На углу Лисьих Лап и Вчерашней, напротив трамвайной остановки. Как по мне, ничего выдающегося, но Альгирдас к этой забегаловке как-то прикипел. Говорит, идеальное место, чтобы сменить шкуру после дежурства. Ему виднее.
На пороге Тони снова его обнял, от всего сердца, так, что ребра хрустнули.
– Блетти Блис, вот же черт! Ты не представляешь, как я рад, что ты вернулся.
Подумал: «Да почему же, вполне представляю. Я же помню, что Эдо был твоим лучшим другом. И что к тебе даже подходить было страшно после того, как он пропал, тоже помню. Я – не он, но конечно, ты сейчас рад».
Но вслух ничего не сказал.
Одно дело идти по городу, из которого уехал восемь лет назад. И совсем другое – по городу, о котором целых восемь лет вообще не помнил. Вроде ничего не узнаешь, и в то же время прекрасно знаешь, куда тебе сейчас надо свернуть, через какой проходной двор сократить путь до улицы Лисьих Лап, а уж когда понимаешь, что вон то высокое здание из красного кирпича – школа, в которую ты когда-то ходил с тяжелым, до отказа набитым книгами и игрушками ранцем, волосы становятся дыбом, не от страха, конечно, от радости. От такой странной, непривычной разновидности радости, подозрительно похожей на страх. Однако желания расцеловаться с каждым кирпичом это сходство совершенно не отменяет.
Тони спрашивал о тоске по дому – смешно! О чем тосковать тому, кто все позабыл? Надо будет сказать ему завтра, что тоска по дому приходит, оказывается, потом, задним числом, весь запас, рассчитанный на восемь тягучих медовых лет чужой, потусторонней, выморочной, а все же твоей собственной жизни, обрушивается на тебя в один миг, и это, конечно, невыносимо и одновременно прельстительно сладко, очень уж похоже на любовь.
Наверное, это и есть любовь. При чем тут какая-то тоска.
Бар «Разбитая кукушка», названный так, надо думать, в честь несчастной механической птицы, навек вывалившейся из своего гнезда, свитого в недрах прибитых над стойкой огромных старинных часов, и правда, не представлял собой ничего особенного. Часы с болтающейся на пружине кукушкой и полудюжиной хаотически скачущих в разные стороны стрелок были единственной примечательной деталью интерьера. Но интерьер его интересовал сейчас меньше всего. Какой, к чертям собачьим, может быть интерьер, когда на высоком табурете у барной стойки сидит твой спаситель, седой человек, успевший уже сменить форму полицейского на клетчатую рубашку и какие-то невнятные темные штаны с миллионом карманов в самых неожиданных местах.
Сел рядом. Открыл было рот и понял, что слова вымолвить не способен. Куда только подевались эти проклятые слова.
Слава богу, Альгирдас заговорил первым.
– Контрабандист Эдгар Куслевский по прозвищу Блетти Блис, – сказал он. – Здравствуй, любимчик Другой Стороны, головная боль всей моей жизни. Вернулся таки. Мать твою. Зарыдать впору.
И отвернулся, демонстративно вытирая глаза рукавом клетчатой рубахи. Не то смеху ради, не то и правда прослезился. Кто его разберет.
Прокашлялся. Смог наконец выговорить:
– По справедливости, я должен выставить тебе всю выпивку в этой забегаловке. И во всех остальных. Ты за сотню жизней столько не выпьешь, сколько я тебе теперь должен.
– Не выпью, – согласился тот. – Зато возьму сигаретами. Спорю на что угодно, что ты их сюда притащил. Ни за что не поверю, что ты вернулся с Другой Стороны без добычи. Сколько себя ни забывай, а рефлексы никто не отменял. Ты же и с того света, если что, душу праотца Адама притащишь и втюхаешь за бесценок городскому музею.
Кивнул:
– А ведь ты совершенно прав.
Достал из кармана пачку сигарет, купленную сегодня вечером после работы. Почти полная, всего двух штук не хватает. Положил на стойку. Сказал:
– Только эти с фильтром. И, как по мне, довольно паршивые. Но других там сейчас не продают.
– Да знаю, – усмехнулся Альгирдас. – Те, без фильтра мне по случаю достались. Приятель откуда-то привез, угостил.
Спросил его:
– Может быть, все-таки что-нибудь выпьешь?
– Стакан чего-нибудь горького, как мои мысли о нашем с тобой ближайшем будущем.
– Джин-тоник сойдет? – деловито спросил молчавший все это время бармен, нацепивший для смеху маску в виде сердитой кошачьей головы.
– Вполне, – откликнулись хором.
– Я вот это примерно и имел в виду, когда предупреждал тебя, что допрыгаешься, – сказал Альгирдас после того, как были сделаны первые глотки. – Не то чтобы я был против контрабанды как таковой, да и горожане наши ценят всякую возможность попробовать еду, сигареты и выпивку с Другой Стороны. И обоим городам такой обмен скорее на пользу, как и наши прогулки. Контрабанда официально запрещена по одной-единственной причине: Другая Сторона – алчное место. Неохотно отдает свое и всегда зарится на чужое. Когда ты уносишь оттуда мешок леденцов и пару блоков сигарет, некий невидимый, невообразимый, но определенно существующий кладовщик делает пометку в своей черной книге: теперь ты должник. Чем больше вынес, тем больше должен, и самый простой способ взыскать с тебя долг – заставить остаться там навсегда. Ты крепко влип, Блетти Блис. Столько уже утащил с Другой Стороны, что и правда, стоило бы выслать тебя куда-нибудь подальше от границы – просто чтобы спасти твою шкуру. Да ведь вернешься, я тебя знаю. Найдешь способ. Я бы на твоем месте тоже нашел.
Ничего себе он разоткровенничался. Не то чтобы совсем на ровном месте, а все равно непривычно это – с полицейским такие разговоры вести.
Напомнил:
– Я уже дома. Уже вернулся. Повезло, пронесло. И тебе, конечно, за это спасибо. Без тебя я бы намертво влип. До задницы Тонин маяк тому, кто застрял так надолго. Но слушай, я все равно вернулся. Даже я! Значит, не так уж велика алчность Другой Стороны. И власть ее над нами не безгранична. По-моему, это хорошая новость. Скажешь, нет?
– Так-то оно так, – невесело усмехнулся Альгирдас. – Но прежде, чем хорохориться, хорошенько подумай, что за сила толкала тебя под руку, когда ты обдумывал предложение Тони: сознательно рискнуть, нарушить Второе Правило, уехать из приграничного города, забыть себя и посмотреть, что из этого выйдет.
– Любопытство, конечно. И привычка к собственной удаче. И жадность, не без того. Он же сотню мне предложил! Целую сотню за авантюру, которую я и сам был совсем не прочь провернуть, потому что, как мне казалось, нашел способ всех обхитрить. Дерьмо, а не способ, как выяснилось. Но кто же знал.
– Ладно, – вздохнул Альгирдас. – Хочешь думать, будто ты тогда сам так решил, думай, кто ж тебе запретит. Никому не нравится признавать, что самые важные решения за нас принимает кто-то другой… Что-то другое. Прости, что порчу тебе праздничный вечер этими разговорами. Но что мне остается делать, когда другого шанса поговорить может уже и не случиться? Ты же прямо сейчас, отсюда, отправишься обратно. Даже домой не зайдешь. И тебя можно понять. Другая Сторона позаботилась, чтобы у тебя была веская причина вернуться как можно скорей.
Он что, мысли мои читает?
Сказал неохотно:
– Нинка… Янина не виновата, что связалась с потусторонним бродягой. С виду я был таким надежным и благоразумным, теперь смешно вспомнить. Ты бы на меня посмотрел.
– Да я и посмотрел, – усмехнулся Альгирдас. – Можно сказать, впрок налюбовался. Когда еще такое чудо увижу – Блетти Блис, прилежный бухгалтер, почти образцовый семьянин, тишайший из виленских обывателей…
– Да ладно тебе. Тоже мне «тишайший».
– А что, скажешь, нет? Шуму от тебя было, прямо скажем, немного. Даже правил дорожного движения никогда не нарушал. Такой молодец.
Ладно, пусть дразнится, если хочет. Что толку сейчас спорить.
Сказал:
– Между прочим, я же и есть бухгалтер. Точнее, экономист. Почти. Три года учился считать чужие деньги, потом надоело, бросил. А на Другой Стороне оказалось, что все-таки выучился, прикинь.
Помолчали.
– Все-таки пойдешь обратно? – наконец спросил Альгирдас.
– Ну а что мне остается. Она там сейчас с ума сходит. Телефон у меня не отвечает. Когда о пропавшем человеке известно, что он был за рулем, в голову лезут понятно какие мысли. Служба спасения, скорая помощь, полиция, морг. Всех уже небось обзвонила. И слушай, я же до сих пор не знаю, как это там устроено. Что случается после того, как пленник сбежал? В реальности образуется необъяснимая дырка? Или о нем все забывают? Или в морге появляется свеженький труп?
– Да по-разному бывает, – неохотно сказал Альгирдас. – Никогда заранее не знаешь, как выйдет… Впрочем, пока ты всем сердцем хочешь вернуться, труп не появится. Другая Сторона до последнего держится за возможность вернуть добычу. С первой попытки никого не отдаст.
– И это хорошо. Труп – не лучший прощальный подарок возлюбленной. Необъяснимое исчезновение, впрочем, ничем не лучше. Поэтому все-таки надо за ней сходить. В смысле, к ней.
– «За ней»? Планируешь нарушить еще и Первое Правило и посмотреть, что будет? – горько усмехнулся Альгирдас. – Извини, но вынужден разбить тебе сердце: провести на маяк человека, который не видит его свет, невозможно. Что с ним ни делай, какими наркотиками ни накачивай, как ни усыпляй, а все равно не пройдет. Другая Сторона своих так легко не отдает. И наше Первое Правило записано в Граничном Кодексе только для того, чтобы вдохновенные авантюристы вроде тебя не мучили зря людей невыполнимыми обещаниями. Ну и себя заодно. Жизнь и так непростая штука.
– Правда, что ли, никаких шансов?
– У тебя – никаких. И это, не поверишь, хорошая новость. Люди Другой Стороны у нас – не жильцы. Про Незваные Тени когда-нибудь слышал?
– Слышал, конечно. Думал, это сказки, детей пугать, чтобы по ночам на улицу играть не убегали. Разве нет?
– Скажем так, не всегда.
– Плохи мои дела. Но ладно, нет, так нет. В гости-то ходить мне никто не помешает. Мы, собственно, и раньше так жили, в разных городах, целых шесть лет. А теперь еще и на билеты тратиться не надо. Следовательно, жизнь скорей налаживается, чем наоборот.
– Всегда знал, что оптимизм – утешительный приз для тех, на кого ума не хватило.
Ладно, ничего. Если смеется, значит, не такую уж самоубийственную глупость я затеял. Это сейчас главное. А там поглядим, как пойдет.
– Ты главное дрыхнуть там не завались, – сказал Альгирдас. – А то знаю я тебя, решишь, что один раз выкрутился, и теперь все можно. Можно, конечно. Вопрос – какой ценой.
Кивнул:
– Ладно, не завалюсь. Не настолько я любопытный, чтобы на собственной шкуре узнать, что бывает с теми, кто приходит во сне на маяк.
– Правда, что ли, не настолько? Не узнаю тебя, Блетти Блис.
Хотел сказать: «После того, как ты сколько раз спасал мою шкуру, она уже отчасти твоя, а с чужим имуществом я всегда обращался бережней, чем со своим». Но язык не повернулся. Не привык говорить подобные вещи вслух. Проще отшутиться:
– По крайней мере, не прямо сейчас. У меня несколько сотен в кармане, а богачи, сам знаешь, не слишком рисковый народ.
Альгирдас недоверчиво покачал головой. Но останавливать его не стал. Даже без обычных советов возвращаться домой с пустыми карманами обошелся. Как подменили человека.
Вышел из бара, свернул на Вчерашнюю улицу, пошел по ней так быстро, как только мог – чем быстрее идешь, чем больше сбивается дыхание, чем меньше замечаешь вокруг, тем скорее окажешься на Другой Стороне. Таков был его способ; вряд ли кому-то еще подойдет. Это же только возвращаются с Другой Стороны все примерно одинаково, на свет маяка, а уходит туда каждый своим путем. Некоторые, говорят, до конца жизни не могут понять, как им это удается, поэтому во всем полагаются на волю случая. Но настоящими мастерами перехода таких считать, конечно, нельзя.
Сам-то давно был мастером, а все же до сих пор на дорогу уходило как минимум полчаса. Обычно больше. А теперь и минуты не прошло, как оказался на набережной, где оставил машину. Слишком быстро. Подозрительно быстро. Видимо, дело в том, что слишком долго тут жил. Интересно, уходить опять будет так тошно? Ладно, пусть. Если и есть на свете что-нибудь, с чем я не справлюсь, будем считать, что его все равно нет.
И достал из кармана телефон.
Улица Кранто (Kranto g.) Сделай сам
– Туфли для сна, – говорит человек с резко очерченными скулами и волосами цвета выгоревшей травы.
У него хищный профиль и недобрый прищур, но внезапно – обезоруживающая улыбка и трогательные ямочки на щеках.
– Что ты имеешь в виду? – спрашивает второй, большой, широкоплечий, коротко остриженный под машинку, в джинсовой куртке, выцветшей почти добела.
Этот кажется совершенно невозмутимым.
– Здешним жителям совершенно необходимы туфли для сна. Мягкие, войлочные или просто вязаные. С такими, знаешь, специальными хитрыми узорами на подошвах, чтобы сновидец всегда мог найти обратную дорогу и проснуться дома. Куда бы он перед этим ни заснул.
– Принято. Отличная идея. Простая, практичная и абсурдная. Все как я люблю. Но этого мало. Тут, сам видишь, надо почти все строить заново. Не с нуля, конечно. С нуля я бы и не взялся. Но работы непочатый край.
У этого стриженного в куртке такие ярко-зеленые глаза, что мне даже отсюда видно. Хотя я сижу не то чтобы совсем рядом. Метрах в десяти, не меньше.
Интересно, думаю я, это линзы, или настоящие? Да ну, разве такой цвет бывает… Хотя, все бывает, наверное.
Наверное, все.
– Эту речку зовут Вильняле, – говорит тем временем зеленоглазый.
– Хорошая, – одобрительно откликается его приятель. – Рыженькая такая.
Вода в реке сегодня и правда переливается всеми оттенками янтаря. Но Вильняле не всегда такая рыжая. У нее каждый день что-нибудь новенькое. Поэтому я так часто хожу сюда рисовать. То есть я по многим причинам хожу, но в частности – поэтому.
Этюдник мой стоит в высокой густой траве. Я сижу рядом. Делаю вид, будто напряженно обдумываю работу, а на самом деле, конечно, просто подслушиваю двух говорливых незнакомцев. Над их головами вьются бабочки – белые, желтые, голубые, рядом деловито пасутся толстые утки.
При этом считается, что все мы находимся на одной из центральных городских улиц. До знаменитой Святой Анны отсюда минут пять ходу, до Кафедральной площади – еще столько же.
На всех картах это благословенное место фигурирует под названием «Кранто гатве». То есть Береговая улица. Тут нет ни жилых домов, ни фонарных столбов, ни даже какого-нибудь ветхого забора, на который можно было бы повесить табличку с названием. Зато много травы, цветов и деревьев. И густые заросли кустарника. И один из лучших видов на дома и сады Ужуписа – там, на другом берегу. Словом, мы сидим в очень хорошем месте.
Ну как – «мы сидим». Я с этюдником отдельно, а эти двое – отдельно, сами по себе. Пришли, уселись на траву всего в десятке метров от меня. Хотя берег совершенно безлюден, вполне могли бы отойти подальше. Мне же каждое их слово слышно. Но им, похоже, плевать. Или, наоборот, нравится, что кто-то их слышит? Некоторые шутники любят вот так, на публике нести чепуху и исподтишка наблюдать за реакцией. А может, я теперь человек-невидимка? Поди разбери. Но я в любом случае только за. Мне интересно. Так интересно, что краска на кистях уже засохла, то-то радости будет потом их отмывать.
– Тут еще есть Нерис, – говорит зеленоглазый. – Большая, серьезная, солидная река, настоящая граница, делит город на две части – почти равные, но неравноценные. Лично я к Правому берегу равнодушен, слишком уж он реален и, как следствие, деловит. Мне там делать совершенно нечего, а вот на мосту постоять – отличное занятие. На любом, все хороши… Хочешь попробовать? Здесь совсем недалеко. Сперва по берегу до Святой Анны, потом пересечь Кафедральную площадь и, считай, дело в шляпе.
– Которой у нас, между прочим, нет.
– Зато мы у нее есть.
– Ну да. Целых два белых кролика, – смеется его друг. – Повезло этой шляпе, чего уж там.
А уж мне-то как повезло. Одно удовольствие их слушать.
– Не знаю пока, что там с Нерисом, – говорит скуластый. – А вот в Вильняле, несомненно, водятся русалки. Видимо-невидимо.
– Бывалые рыбаки ловят их на суши из японских забегаловок, – подхватывает зеленоглазый. – Местные русалки так любят суши, что даже удочка ни к чему. Достаточно показать, поманить, и она сама на берег полезет.
– Погоди. А зачем рыбакам ловить русалок? Их же не едят. А если едят, я так не играю.
– Вечно у тебя одна жратва на уме. Почему все, что поймал, обязательно надо сразу в рот тянуть? Может быть, русалок просто для красоты в домах держат?.. Или нет, не так. Например, они поют. Сладчайшими, прельстительными голосами. Как старшие сестры их, сирены. Но все же никто не цепенеет и волю не теряет. Просто слушают, распахнув рот, забыв обо всех делах и заботах. И все.
– Ладно. Значит, русалки у нас поют. А в перерывах лопают суши и сашими. Роллы тоже годятся. Главное, чтобы не с огурцом. Да будет так.
– Чем, интересно, тебе огурец не угодил?
– Понятия не имею. Просто у меня тяжелый характер. Мне совершенно необходимо всегда иметь в запасе образ врага. Огурец сойдет.
– Ладно, – кивает зеленоглазый. – Как скажешь.
Совсем психи, восхищенно думаю я. Такие прекрасные психи. И как же хорошо, что никому до сих пор не пришло в голову их вылечить. Это была бы невосполнимая потеря.
– Еще туманы, – говорит скуластый. – По моему опыту, без туманов никак. Если у нас не будет туманов, можно сразу прикрывать лавочку.
– Как это – не будет? За кого ты меня принимаешь?! Тем более с туманами тут и без нас все в порядке. Величайшее виленское сокровище. Жемчужина княжьих снов. И практически в полной сохранности. Время над ними не властно, равно как и людская суета.
– Отлично. Верю на слово. Но. Того, что есть, по умолчанию недостаточно. Было бы достаточно, нам с тобой и делать ничего не пришлось бы. Значит – что? Значит, надо распоясаться.
– Ты, похоже, уже вполне распоясался, – одобрительно говорит зеленоглазый.
– Распоясаться в данном случае следует не столько мне, сколько туманам. Пусть берут все в свои руки. Пусть покажут, кто в этом городе хозяин. Для начала пусть просто стирают все на хрен, каждую ночь. А потом возвращают на место. Можно как было, можно с некоторыми небольшими измнениями. Второй вариант мне, сам понимаешь, нравится больше. Но я не настаиваю. Как пойдет. Пусть хозяйничают, к примеру, между тремя и четырмя часами утра. Отличное время. Любители шляться по ночам будут в восторге, а я лоббирую их интересы. Сам такой – был, есть и буду.
– А кстати, о гуляющих. Вот с этой, к примеру, горы, – зеленоглазый машет рукой в сторону холма, увенчанного тремя белыми крестами, – должен открываться вид на вчерашний день. То есть на тот город, который был вчера. Поначалу, конечно, никто ничего не поймет. Но со временем непременно найдется кто-нибудь достаточно внимательный, чтобы заметить, к примеру, как резко изменилась погода. Скажем, весь день моросил дождь, а стоило забраться на холм, и над городом засияло солнце, в точности, как вчера. Спустился – а там опять мокро, и небо тучами затянуто. Или увидит, что над городом парят воздушные шары, которых, пока он поднимался, не было. И быть не могло, погода-то нелетная. Зато как раз вчера эти шары все небо заполонили, и вот этот красный с надписью «Ergo» точно так же низко-низко летел, чуть ли не царапая дном корзины колокольню Святого Иоанна… Словом, непременно найдется кто-нибудь достаточно внимательный и любопытный, чтобы сперва задуматься, а потом проверить свои догадки. И проверять, и перепроверять – снова и снова. И друзей за собой таскать, чтобы были независимые свидетели. И глядеть сперва недоверчиво, а потом – едва унимая сердцебиение. И наполнять город слухами, как же без них. Слухи – это в нашем деле главное.
– Отлично, – кивает его друг. – Просто слов нет. Я бы, пожалуй, предпочел позавчерашний день, но это, возможно, перебор. Действительно, пусть будет вчерашний. Для полной ясности.
Я уже не просто не рисую. Я уже даже не делаю вид, будто собираюсь рисовать. И кисточки давно упали в траву. И лежат там, скрестившись, сложившись в большой деревянный икс. Которым в школьных учебниках математики любят обозначать все неизвестное.
– Твой ход, – говорит зеленоглазый.
– Башмаки на перилах мостов.
– Что-о?
– Пусть люди развешивают на мостах свои старые башмаки. То есть не от балды, кто попало и когда попало, а в особых случаях. К примеру, когда человек твердо сказал себе, что начинает новую жизнь. И, чтобы придать силу своему решению, снимает обувь, в которой ходил старыми путями, оставляет ее на мосту и отправляется дальше, вдохновенный и босой. Ну, или не босой, если запасную пару с собой прихватил. Почему нет.
– Народ у нас хозяйственный, а башмаки – вещь полезная, долго не провисят, – ухмыляется его друг.
– Смотря какие. К тому же, далеко не каждый захочет вот так наугад на чужой путь становиться. С другой стороны, если все-таки будут растаскивать, оно даже и хорошо. Естественный круговорот башмаков и путей в природе, так и надо.
– Слушай, а ведь со временем некоторые горожане станут развешивать на мостах свои старые туфли для снов. В таком деле перемены даже желанней, чем наяву. А другие станут их таскать – просто из любопытства.
– Совершенно верно. Сам бы таскал. Мало ли чьи попадутся. Вдруг повезет.
– Ага. Отлично может получиться. Как же хорошо, что я тебя сюда заманил.
– Мне тоже нравится. Прекрасное развлечение выходит. И город замечательный – уже сейчас. А то ли еще будет.
– Единственное что плохо, моря здесь нет, – печально говорит зеленоглазый.
– Зато целых две реки. Мало тебе?
– Да хоть бы и три, все равно мало. Надо, чтобы море хотя бы мерещилось. Пусть будет его запах летними вечерами – для начала. И проходы к морю в глубине некоторых дворов. То есть тем, кто идет мимо, должно казаться, будто тут есть проход к морю, и если свернуть, непременно к нему выйдешь. Правда, сейчас совершенно нет времени, но в следующий раз – непременно. Прекрасное ощущение.
– Тогда еще должно быть одно особенное кафе у самой реки. Непременно с верандой.
– Есть уже такое. Будем мимо идти – увидишь.
– Отлично. Так вот, пусть все, кто сидит на веранде, видят оттуда море. И никакого другого берега, вода до самого горизонта, запах йода и водорослей, все как положено, без обмана. А как только расплатятся, выйдут на набережную – бац! – снова река. И другой берег – вот он, рукой подать, вброд перейти – раз плюнуть. Но всегда можно вернуться на веранду. И сидеть там сколько заблагорассудится.
– Популярное станет место.
– А то. Что дальше? Твой ход.
– Давно думаю, что надо бы слегка перемешать времена года. Аккуратно, без перегибов. Просто, к примеру, изредка снег в июле. Выпал, полежал полчаса, тут же растаял, все танцуют. И продолжают загорать.
– Тогда уж и оттепели посреди зимы. А то нечестно.
– Они здесь и так каждый год бывают.
– Не просто какой-нибудь жалкий плюс один по Цельсию, а хорошая, добротная, жирная оттепель. Плюс пятнадцать и подснежники прут как на дрожжах. На буйном цветении садов, впрочем, не настаиваю. Перебор.
– Будешь смеяться, но тут и без нашей помощи пару лет назад каштаны в декабре цвели. И форзиции в январе. И, кстати, никто не погиб, не замерз, весной снова цвели, как миленькие, такие молодцы. Впрочем, ты прав, нельзя полагаться на волю случая. Зимние оттепели не менее важны, чем июльский снег, значит – будут. По рукам?
– По рукам. Теперь смотри, есть такая важная штука как зеркала. С зеркалами вообще отдельная песня. Вернее, великое множество песен, все – хиты. Хоть альбом записывай… Знаю, что у тебя на уме – входы и выходы из ведомого в неведомое и, соответственно, наоборот. Для чего еще и нужны зеркала, все так. Но здесь у них будут и другие обязанности. Настолько пустяковые, что их вполне можно считать развлечениями. Из зеркал станут порой выглядывать чужие отражения и, смущенно хихикая, исчезать, уступая место законным владельцам места. И, конечно, в некоторых зеркалах дети смогут увидеть себя взрослыми, а старики – юными. Еще на зеркалах станут писать записки своим отражениям и порой получать ответы. И… Нет, стоп. Пошли прогуляемся. Да вот хотя бы к другой реке. Некоторые слова следует произносить, оставаясь на месте, а другие – только на ходу.
– Как скажешь.
Они поднимаются и идут по берегу в сторону рынка, а я, забыв о приличиях, этюднике и упавших в траву кистях, вскакиваю, чтобы побежать за ними – вот интересно, что я собираюсь делать, догнав? Не знаю и теперь уже никогда не узнаю, потому что, не сделав и шагу, падаю навзничь.
И просыпаюсь.
Я лежу в густой траве, чуть поодаль валяется деревянный икс, сложившийся из упавших кистей. Над моим этюдником вьются бабочки – белые, желтые, голубые, рядом деловито пасутся толстые утки. Мне очень смешно и немножко обидно – просто приснилось, надо же!
Вру. Совсем другая пропорция. Мне очень обидно и немножко смешно. Ровно настолько, чтобы не заплакать от разочарования.
Просто приснилось.
А может быть, и не приснилось, думаю я. То есть приснилось, конечно, но не «просто». Может быть, это были духи-хранители полян и ручьев, местная разновидность фэйри, или даже какие-нибудь мелкие локальные божества. Такие типы, если верить соответствующей литературе, обычно с удовольствием насылают волшебный сон на всех, кто встретится на их пути. Вот и на меня наслали. Вполне может так быть.
Вот теперь мне уже действительно очень смешно. И совсем чуть-чуть обидно. Исчезающе малая велична, можно игнорировать. Духи! Божества! Волшебный сон! А ведь только третьего дня справку о полной психической нормальности выдали – для управления автомобилем. Бедный наивный старенький доктор. Знал бы он, что творится у меня в голове. Особенно если поспать на солнцепеке.
Кстати, да. Солнцепек – это многое объясняет.
Я лежу в густой мягкой траве и курю сигарету. Мне больше не обидно. И даже не смешно. Мне – хорошо. Такое специальное, ни на что не похожее «хорошо», для которого нет антонима «плохо». И вообще никакого антонима. Без вариантов.
А башмаки на мосту, думаю я, это и правда была бы отличная традиция. Куда лучше дурацких замков с именами молодоженов, под тяжестью которых уже перила всюду гнутся.
Башмаки на мосту, думаю я, это очень красиво. Отличный образ. Нежный, стилистически безупречный абсурд. Надо бы их хоть нарисовать, что ли. Как висят на перилах моста, привязанные за шнурки, на фоне темной тяжелой зелени, звонкой золотой воды, линялого июльского неба и обманчиво далеких храмов.
А можно вообще ничего не рисовать, думаю я. А взять да и повесить на мосту башмаки. Просто так, низачем. Чтобы было. Чтобы появилось то, чего раньше не было, и без меня не стало бы никогда. Строго говоря, именно это и есть искусство. Картинки и прочее рукоделие – только средство, самый простой и понятный метод изменения мира, а не конечная цель, как принято считать.
Я смотрю на свои ноги, обутые в дурацкие лакированые ботинки с острыми, как шпаги, носами. Прежний владелец, мой дед, разносил их на совесть. Вид ботинок неописуемо ужасен. Я надеваю их только когда собираюсь как следует поработать, чтобы ноги не уставали. Более удобной обуви у меня не было никогда. И, наверное, уже не будет.
Мне, конечно, просто напекло голову, думаю я. Поэтому и приснилась всякая прекрасная ерунда, местами переходящая в горячечный бред. С другой стороны, развешивать башмаки на мосту – это была бы прекрасная традиция. И почему бы мне не попробовать ее основать? Вот прямо сейчас. Уж мои ботинки вряд ли кто-то сопрет. Их в руки-то взять страшно.
Поднимаю с травы сперва себя, а затем и засохшие кисти, складываю этюдник. Какая теперь работа. Разве что после доброго литра кофе, а ближайший дружественный кофейник находится на другом берегу Вильняле. То есть у меня на кухне. Перейти через мост, и я практически дома.
Мой мост находится в стороне от туристических троп и традиционных свадебных маршрутов. Поэтому замков с именами молодоженов тут и дюжины не наберется. В таком количестве они кажутся вполне элегантным украшением. А подвешенные в правильном месте дедовы башмаки превратят этот мост в… эээ… икону стиля. Насколько это возможно для моста.
Господи, да чего тут раздумывать. От этих башмаков давным-давно пора избавиться, цена изведенного на починку клея уже наверняка превысила их первоначальную стоимость, по дедовским заверениям, немалую. Просто рука не поднималась вынести их на помойку. А поскольку я не могу себе позволить держать в двенадцатиметровой студии ненужный хлам, приходилось делать вид, будто в дедовских башмаках мне как-то особенно упоительно работается. Что в общем чистой воды ерунда и самогипноз.
К тому же, думаю я, вспоминая сон, новый путь сейчас определенно не повредит. И не потому что старый плох, просто мне нельзя подолгу сидеть на месте. Я от этого устаю. Настолько, что вон уже прямо за работой засыпаю. В середине дня. Это вообще-то совершенно ненормально. Верный признак переутомления, избавиться от которого можно в момент – просто придумав что-нибудь новенькое. В идеале – совершенно новую жизнь.
А двести шагов, отделяющих середину моста от моего порога, вполне можно пройти босиком. Уж в июле-то точно можно.
Я разуваюсь.
Стоя босиком на теплом, нагретом солнцем мосту, любуюсь на дело своих рук. Ботинки подвешены просто отлично, именно там, где надо. Все-таки чувство композиции у меня – о-го-го. А уж сегодня я – просто живое воплощение чувства композиции. В том смысле, что ничего, кроме нее, не чувствую.
Внезапный порыв не по-летнему холодного ветра сметает с моста конфетные фантики и сожженные солнцем листья, треплет полы моей рубахи, подталкивает в спину – давай, давай, иди уже отсюда – а мне хоть бы хны. То есть теоретически понимаю, что ветер холодный, но не мерзну. Совсем.
Огромная черно-сизая туча стремительно, как у нас заведено, заволакивает добрую половину неба, последний солнечный луч отчаянно пробивается сквозь прореху, но секунду спустя исчезает и он, и вот тогда я понимаю, что нужно срочно бежать в дом. Потому что сейчас как хлынет – мало не покажется. А мне бы еще стул с веранды забрать. И одеяло.
На нос мне падает первая холодная капля. И еще одна, и еще. Ничего-ничего, я уже почти во дворе. А дождь пока совсем не такой сильный, как можно было бы ожидать. Не по-летнему мелкий и слишком скудный для такой роскошной тучи. Протягиваю вперед руку, открытой ладонью вверх, чтобы поймать и лизнуть пару дождевых капель.
И останавливаюсь, и зачарованно гляжу, как на мою ладонь одна за другой опускаются крупные снежинки.
Переулок Крейвасис (Kreivasis skg.) Темнее, чем просто тьма
«Темнее, чем просто тьма», – будет говорить он потом, много лет спустя, когда заинтересуется словами настолько, что научится извлекать из своего узкого змеиного горла необходимые звуки, а из пылающего беспокойного ума – подходящие смыслы, и сводить их вместе: ближе, точнее, еще точнее, еще. Еще.
Темнее, чем просто тьма, потому что обычная тьма опирается на восприятие и интерпретацию наблюдателя, осведомленного о существовании света и тьмы, способного отличить одно от другого, сделать правильное умозаключение и назвать тьму «тьмой». А та изначальная тьма, о которой он будет пытаться рассказать (самому себе, больше никому, потому что больше, конечно же, некому), не нуждается в опоре; самим фактом своего присутствия она исключает возможность появления наблюдателя. Как, впрочем, и любую другую возможность. Пока есть эта тьма, ничего больше нет.
Темнее, чем просто тьма, – так он станет потом описывать время, когда его еще не было, а значит, вообще ничего не было, как бы ни старалась сейчас убедить его яростная, разноцветная, веселая реальность, будто уж она-то была всегда. Смешно. Как хоть что-то могло существовать без меня?
Только что было темно, темнее, чем просто тьма, и вдруг – ослепительная вспышка. Не свет, а голос: «Конечно, он есть!»
* * *
Это было хорошее, наверное, вообще самое лучшее лето, хотя, по идее, оно должно было стать совсем никудышным, скучным, бессмысленным, никаким. Что-то пошло не так – это уже потом, повзрослев, Яшка узнает, что в том году отца уволили с работы, а весной он нашел новую, поэтому летний отпуск ему не светил, да и долгов накопилось изрядно, традиционную поездку к морю пришлось отменить, и Яшке предстояло все лето просидеть в городе. Мама по этому поводу ходила с подчеркнуто скорбным лицом, как вдовы в кинофильмах про войну, так что Яшка сперва даже испугался: что же такое страшное происходит летом в городе? От чего нам теперь не спастись?
Соседка Нийоле, семиклассница, которая сидела с Яшкой по вечерам, когда его родители уходили в кафе или в кино – и какое на самом деле счастье было не знать, что ей за это платят, и думать, что она, такая взрослая, сама почему-то захотела с ним дружить – так вот, соседка Нийоле сперва начала было рассказывать, что летом, когда многие уезжают, кто в деревню, кто к морю, и в городе остается совсем мало людей, на его улицы приходят лесные духи, в реки приплывают русалки, а по ночам из могил выкапываются мертвецы и устанавливают свои порядки. Но когда увидела, что Яшка вместо того, чтобы испугаться, пришел в восторг, тут же утратила энтузиазм, кисло сказала: «Все равно для нас они невидимые», – а потом добавила: «Людям летом в городе скучно, ничего интересного не происходит, и даже в кино крутят только старые фильмы, тебе не повезло».
Обычно Яшка верил каждому ее слову, но насчет скуки в летнем городе поверить так и не смог.
* * *
Наделенный ясным скептическим умом, он был способен подвергнуть сомнению все, что видел, слышал, думал, помнил и ощущал. Но одно знал твердо: с тех пор, как голос сказал: «Конечно, он есть!» – тьма перестала быть чем-то бо́льшим, чем обычная темнота глубокого погреба. А сам он, напротив, стал чем-то. Светом? Нет, пожалуй, тогда еще не светом. Но возможностью существования света, наверное, все-таки стал.
* * *
В июне мама взяла отпуск, и они с Яшкой очень много гуляли. Сделали так: купили карту города, разделили ее на двадцать примерно одинаковых участков и каждый день отправлялись исследовать новый район – наугад. Это торжественно называлось «экспедиция» и оказалось неожиданно интересно, особенно после того, как отец стал придумывать для них задания, каждый раз какие-нибудь новые: записывать всех попадающихся навстречу собак, отмечая породу или хотя бы цвет и размер; обязательно найти книжный магазин и купить там книгу; запомнить и подробно рассказать ему, как выглядит двор дома номер пять по такой-то улице; сосчитать количество встреченных по дороге грузовиков и так далее. Простые задания вносили в их долгие прогулки охотничий азарт, маме это нравилось не меньше, чем Яшке, она потом еще долго вспоминала: отличный получился отпуск, хоть и не поехали на юг.
Потом наступил июль, и мамин отпуск закончился. Теперь гуляли только по выходным, втроем, вместе с папой, и это было здорово. А в будни Яшка оставался один, по рукам и ногам связанный Настоящей Рыцарской Клятвой не уходить дальше двора, в котором, честно говоря, было даже скучнее, чем дома, где его ждали конструкторы и разрозненные тома старых энциклопедий с картинками; там в основном и сидел – первые несколько дней. Потом в город вернулась соседка Нийоле и – теперь, задним числом, понятно, что после разговора с Яшкиными родителями – вызвалась составить ему компанию. Не каждый день, но довольно часто. Иногда Нийоле водила его в парк, где были качели или в кино, иногда провожала до библиотеки, на несколько часов оставляла в большом, прохладном и совершенно пустом читальном зале, среди невозможно разноцветных журналов, а потом возвращалась и уводила домой.
Это, собственно, оказалось самым интересным – возвращаться домой из библиотеки. Она была довольно далеко, почти полчаса пешком, это если самой короткой дорогой, а Яшке часто удавалось уговорить Нийоле пойти каким-нибудь новым, дальним, кривым, им обоим незнакомым путем. Она и сама любила блуждать в переулках, перелезать через чужие заборы, подбирать с травы самые первые, мелкие, невыносимо кислые яблоки и, не умолкая, пересказывать услышанные от деревенских подруг страшные истории про ведьм, леших, русалок, волков-оборотней, гномов и домовых. Яшка эти истории обожал и совершенно не боялся, больше всего на свете хотел своими глазами на кого-нибудь этакого посмотреть, заранее не сомневался, что с «этаким» запросто можно подружиться. Однако быстро сообразил, что если держать восторги при себе и делать вид, будто испугался, историй будет гораздо больше. Нийоле нравилось его пугать.
На заброшенный дом они наткнулись случайно, когда в чужом дворе, куда залезли, чтобы сократить (на самом деле, наоборот, удлинить и окончательно запутать) дорогу, на них стала лаять большая собака. Пес вроде бы сидел на цепи, но вместо того, чтобы гадать, насколько она длинная, с перепугу перемахнули через забор и некоторое время бежали, куда глаза глядят, а когда, запыхавшись, остановились, увидели совсем рядом покосившийся двухэтажный дом, почти полностью скрытый зарослями хмеля, дикого винограда, жасмина, смородины и еще каких-то кустов. Подошли ближе, обнаружили выбитые окна, дверь, заколоченную крест-накрест, разрушенное крыльцо. Переглянулись, Нийоле нахмурилась, но тут же решительно кивнула: «Полезли!» Ей и самой хотелось исследовать этот заброшенный дом. А вдруг там найдется что-нибудь интересное? Подружки ей все уши прожужжали рассказами о брошке из настоящего золота, которую чьи-то знакомые нашли в подвале пустующего дома на краю соседней деревни, и Нийоле, конечно, тоже теперь мечтала что-нибудь такое найти, даже не обязательно золотое, лишь бы красивое и таинственное, неизвестно откуда взявшееся, с никому не известной удивительной историей, которую можно придумать самой. Именно этим настоящие сокровища и отличаются от просто вещей.
Но одна она бы вряд ли куда-то полезла. А с Яшкой – вполне можно. Нийоле ни за что бы себе не призналась, но рядом с этим избалованным соседским мальчишкой, чьи родители были готовы платить деньги, лишь бы он не скучал, ей было совсем не страшно. Такой вот удивительный эффект.
Поэтому Нийоле так старалась его напугать: не то из благодарности, не то в отместку. Но на самом деле раз за разом неосознанно проверяла крепость своего защитника: неужели опять не испугается? А так? А сейчас? Мальчишка попался совершенно бесстрашный, ничего не боялся, только прикидывался, очень неумело, но Нийоле почему-то было приятно его притворство, как аплодисменты актеру. Как будто Яшка таким способом ее благодарит.
Так оно, впрочем, и было.
И в тот день, когда они, осмотрев заброшенный дом, сквозь сгнившие половицы которого проросла высокая луговая трава, нашли лаз, ведущий в погреб, и решили туда залезть, Нийоле крепко держала Яшку за руку, объясняя: «Если упадешь и разобьешься, твоя мама мне голову оторвет», – а на самом деле, конечно, просто вцепилась в него, чтобы не так сильно бояться.
Это, как всегда, помогло.
* * *
Иногда убеждал себя и даже почти по-настоящему вспоминал, что сначала, до голоса, навсегда отменившего тьму, было предчувствие голоса, ну или не само предчувствие, а только тень возможности предчувствия, бледная, как свет далекого фонаря, но всякий раз вовремя останавливался, говорил себе: «Не надо сходить с ума. Если и было какое-то предчувствие, то не у меня, потому что меня тогда еще не было, совершенно точно не было, сначала голос, а уже потом – я».
Но все равно любил вспоминать (почти вспоминать) о предчувствии, которого не было, потому что если оно все-таки было, он сам тоже был, еще до голоса, а значит – вообще всегда. Верить в это оказалось приятно, а чего еще требовать от веры? Больше ни для чего она не нужна.
* * *
В погребе было совсем темно. К счастью, Яшка никогда не расставался с фонариком, папиным подарком, везде носил его с собой, а включал редко, экономил батарейки, которые в ту пору было трудно достать; в общем, правильно делал, что экономил, теперь фонарик понадобился по-настоящему, для дела, а не для баловства, чтобы осветить лестницу, по которой спускались. Когда ступеньки закончились, хотел выключить, но Нийоле велела оставить как есть. Сказала: «В темноте споткнешься, упадешь, и что я тогда скажу твоей маме? Нет уж!»
Яшка оставил фонарь включенным, и они обошли весь погреб, Нийоле горячо шептала ему в макушку, что в заброшенных домах духи прячут драгоценности, снятые с утонувших в болоте путников и провалившихся в канализационные люки горожан, а когда он спросил: «Что за духи?» – не стала, как обычно, туманно объяснять: «Разные, очень страшные, но для нас невидимые, пока не приснятся, и уж тогда держись!» – а ответила: «Например, Айтварас[7]», – и торжествующе уставилась на Яшку, как будто этим было сказано все. Но Яшка, конечно, спросил: «А кто такой Айтварас?»
Вот балбес.
«Ты что, не знаешь?!» – изумилась Нийоле, и Яшка отрицательно помотал головой, потому что и правда не знал. На самом деле откуда бы? Они переехали в Вильнюс всего три года назад, а до этого жили в Самаре, которую он почти не помнил, местной родни у них не было, ни единой завалящей прабабушки с какого-нибудь дальнего хутора, некому было рассказывать Яшке местные легенды; была, впрочем, книжка сказок, очень большая, толстая, но ее он пока не прочитал.
«Айтварас – это такой ужасный дух, примерно как черт, – объяснила Нийоле. – Очень страшное привидение! Может выглядеть как огненный змей, а когда хочет обмануть человека, прикидывается кошкой или вороной, но смотреть на такую ворону все равно жутко, сразу чувствуется: что-то с ней не так!»
«Огненный змей, – мечтательно повторил Яшка, забыв на радостях, что надо притворяться испуганным. – То есть дракон? Который иногда превращается в ворону и кошку? Как здорово!»
«Нашел чему радоваться, – зашипела Нийоле. – Айтварас злой и ужасный! Он насылает на людей ночные кошмары. Такие страшные сны, что люди вовсе перестают спать, лишь бы их не видеть. Вот ты сейчас болтаешь, а Айтварас где-нибудь тут сидит и уже придумывает, какой бы кошмар на тебя сегодня наслать!»
В ответ Яшка так широко улыбнулся, что Нийоле окончательно на него рассердилась и сказала, просто чтобы досадить глупому мальчишке: «А вообще это просто сказки. На самом деле никакого Айтвараса нет».
«Конечно, он есть!» – воскликнул Яшка, который уже явственно представил себе великолепного огненного змея-дракона, который умеет превращаться в кошку, а значит, получается, его вполне можно забрать жить домой, как-нибудь уговорить маму с папой и потом всю жизнь дружить с этим волшебным духом, хранить его тайну и каждую ночь смотреть интересные сны про войну с инопланетянами – именно так Яшка представлял себе ночные кошмары. Расставаться с такими прекрасными планами он не был готов. Поэтому снова упрямо повторил: «Конечно, он есть!»
«Пошли отсюда», – решила Нийоле.
На самом деле она ужасно боялась, что Айтварас и правда живет в этом темном погребе. Ну или не Айтварас, а что-нибудь похуже. Чего только не бывает в заброшенных домах. Вон, Рута рассказывала… Нет, сейчас лучше не вспоминать.
По ступенькам она поднималась бегом, а Яшка шел сзади, светил своим фонариком, то и дело оглядывался в надежде увидеть огненный сполох или хотя бы кошку. Не увидел, конечно. Очень жаль.
С другой стороны заброшенного сада обнаружилась тропинка, которая вывела их на знакомую улицу, а оттуда уже было рукой подать до дома. По дороге они молчали. Нийоле сердилась на себя и на Яшку, но больше всех – на сокровище, за то, что не нашлось, а Яшка – только на Нийоле, что так быстро утащила его из погреба. «Если бы мы посидели там подольше, – думал он, – огненный змей решил бы, что мы – свои, и вышел бы к нам знакомиться. Было бы здорово. Я бы хотел на него посмотреть».
* * *
Потом, много позже, как следует распробовав вкус множества разных жизней, задним числом испугался: а что, если бы я так и не появился? И ничего бы не было? Никогда? Но быстро опомнился и выкинул из огненной своей головы глупые робкие мысли. Сказал себе: этот мир без меня невозможен. Ничего на свете не могло бы быть без меня.
Не то чтобы он действительно в это верил. Но жить с такой убежденностью было легко и приятно. А это очень важно – чтобы было легко и приятно. Тогда гораздо проще летать.
* * *
Нийоле наотрез отказывалась снова идти в заброшенный дом. Даже в переулок Крейвасис, откуда они туда попали, больше никогда не сворачивала, обходила дальней дорогой, пугала Яшку – не Айтварасом, а милиционерами, которые запросто могут арестовать всех, кто залезает в чужие дома.
Милиции Яшка боялся примерно так же, как духов, мертвецов и русалок. То есть ужасно хотел познакомиться с каким-нибудь настоящим милиционером и расспросить его обо всем на свете. И попросить показать пистолет. И, может быть, даже уговорить дать его подержать, хотя надежды на это, конечно, было немного. Но переубедить Нийоле он не смог, а выходить за пределы двора в одиночку ему по-прежнему мешала Настоящая Рыцарская Клятва. И как тут быть?
Осенило его внезапно, в читальном зале детской библиотеки, куда Нийоле его в очередной раз привела и оставила, пообещав вернуться к двум часам. А пока была всего половина двенадцатого, и Яшке совсем не хотелось рассматривать журналы. Не то настроение.
Окончательно заскучав, Яшка вдруг сообразил, что в Настоящей Рыцарской Клятве, которую он торжественно произнес в последний день маминого отпуска, речь шла только о том, что он не станет выходить из двора. О библиотеке не было сказано ни слова. Ясно, что родители рассердятся, если узнают, что он ушел, не дожидаясь Нийоле, и бродил по городу один, но это как раз ерунда, наказания Яшка совсем не боялся. Нарушить Настоящую Рыцарскую клятву – это был бы страшный позор. А так – ну, просто проступок. Обычное дело, все равно, что чашку разбить. Тем более, они ничего не узнают.
«Никто ничего не узнает, – думал он. – Если я вовремя вернусь в библиотеку, а потом не проболтаюсь Нийоле. А я не проболтаюсь, буду хранить тайну! Она сама виновата, что не хочет идти в тот дом».
Дорогу к заброшенному дому Яшка нашел легко. У него была цепкая память, и единожды пройденный маршрут он не забывал уже никогда.
Чужой двор в переулке Крейвасис он на этот раз обошел, чтобы лишний раз не ссориться с собакой, которая, впрочем, ни разу ни залаяла, пока он бродил вдоль забора, наверное, спала. Но все равно лучше не связываться. Поэтому к заброшенному дому, заросшему хмелем и диким виноградом, Яшка подобрался с другой стороны. И сразу полез в погреб. Нийоле именно там сказала про Айтвараса; впрочем, и так ясно, что все самое интересное должно скрываться где-нибудь под землей, в темноте.
Удержался от искушения обшарить с фонарем все темные углы, подумав, что ему самому было бы неприятно, если бы так поступил забравшийся в его спальню незнакомец. Поэтому просто уселся поудобней и принялся ждать.
Время текло медленно, Яшка был уверен, что просидел в погребе до вечера, но потом оказалось, совсем недолго, даже в библиотеку вернулся раньше Нийоле, так что об этом его побеге никто никогда не узнал. Но пока сидел в погребе, ему казалось, что прошло уже много-много часов, родители вот-вот вернутся с работы, начнут его искать, и страшно подумать, как попадет Нийоле. Только из-за нее и вылез из погреба, а вовсе не потому, что перестал ждать и верить. Сказал себе: «Конечно, Айтварас тут есть! Просто спрятался, спит или улетел по своим драконьим делам».
* * *
Он знал, что такое благодарность. Он вообще довольно много знал; откуда – отдельный вопрос, ответа на который у него не было, только догадки, настолько смутные, что обсуждать их было затруднительно даже с самим собой.
Но что такое благодарность, он знал задолго до того, как научился ее испытывать. И отдавал себе отчет, что руководило им вовсе не это возвышенное чувство, а желание подолгу находиться рядом с источником жизни. Он был весел и бодр, но явственно ощущал недостаток сил, как ощущают голод и жажду. И прекрасно знал, что следует делать, чтобы их утолить.
«Если хочешь надолго войти в человеческий дом, сделай так, чтобы тебя пригласила хозяйка», – сказал он себе. А его слово никогда не расходилось с делом – собственно, этим волшебные существа и отличаются от людей. Остальные различия не столь существенны.
* * *
Кота принесла мама.
Это было примерно так же удивительно, как если бы она привела в дом бродячий цирк с шатрами, тиграми, лошадями и карликами и сказала, что они теперь будут с нами жить. До сих пор мама всегда говорила, что держать животных в городской квартире нельзя, и не соглашалась даже на морскую свинку. И вдруг принесла кота! Маленького, рыжего, тощего, с узким змеиным телом и удивительными оранжевыми глазами. Сказала растерянно, словно бы сама себе не веря: «Похоже, он потерялся, выглядит, как домашний. И людей не боится, от самого Белого переулка за мной шел. Надо его покормить. А потом повесим объявления».
Про объявления она сказала с таким фальшивым энтузиазмом, что стало ясно: писать их мама не собирается. Сказала только чтобы успокоить – не столько домочадцев, сколько себя.
Отец недоверчиво хмыкнул, пожал плечами, но возражать не стал. Он вырос в доме, где всегда держали котов-мышеловов, и квартира без кошки казалась ему недостаточно уютной. Вроде бы все на месте, но чего-то не хватает. Ну, то есть на самом деле понятно, чего: кошки или кота.
А теперь полный комплект.
Яшка от восторга надолго утратил дар речи. Весь вечер тенью ходил за котом, не решаясь его погладить, хотя кот вряд ли стал бы возражать. Яшка сразу стал его любимцем, и никто не удивился, когда кот улегся спать у него в ногах, а потом как-то незаметно просочился под одеяло, вернее, под тонкую простыню, которой Яшка был укрыт в эту теплую июльскую ночь. Так что поутру они проснулись в обнимку, кот звонко мурлыкал от удовольствия, а Яшка чуть не плакал от счастья, прижимая его к животу. Заглянул в оранжевые глаза, прошептал в мохнатое ухо: «Я тебя не выдам! Никому не скажу, что ты на самом деле дракон».
Кошмары ему, кстати, никогда не снились. Правда, часто снились инопланетяне. Но Яшка их всегда побеждал.
* * *
Когда почувствовал, что пришла пора уходить, долго думал, как сделать, чтобы источник его жизни не горевал в разлуке. К тому времени он успел довольно много узнать о людях и понять, что привязанность – их уязвимое место. Люди не знают, что разлуки не бывает, что все, кого мы любили хотя бы один день, или час, или только миг, остаются с нами навсегда; впрочем, возможно, для них это действительно не так.
Не придумал ничего лучшего, чем разбудить его поцелуем в лоб. Конечно, обжег, но в тот момент мальчишка не почувствовал боли. Глядел как зачарованный на прекрасного огненного дракона, маленького, размером чуть больше кота, который вылетел в распахнутое окно, но тут же снова вернулся, пристально посмотрел в его лицо, оранжевые глаза встретились с серыми, такими счастливыми, что можно было улетать с легким сердцем: все самое лучшее уже произошло.
* * *
Ожог на лбу был совсем маленький, но шрам от него оказался глубокий, так и не сошел. Яшка, впрочем, был доволен, шрам ему нравился. Иногда, под настроение рассказывал друзьям: «Это случилось той ночью, когда убежал наш кот. Мне тогда было пятнадцать лет, и я как раз окончательно перестал верить, что он – заколдованный огненный змей. В этом возрасте мы все становимся удивительными дураками, но у меня довольно быстро прошло – от ожога. Повезло».
Переулок Кривулес (Krivūlės skg.) Прокрастинатор
Открываю глаза и сразу понимаю, что, во-первых, сегодня у меня будет нормальное человеческое утро. А во-вторых, мне совершенно не хочется работать.
В последнее время и то, и другое случается все чаще. Похоже, я по-настоящему устал.
Ладно, ничего. Зато утро такое хорошее.
Утра вроде сегодняшнего прекрасны, в частности, тем, что можно босиком идти в кухню, открывая по дороге одно окно за другим, чтобы впустить в дом морозный воздух и горячий солнечный свет, возиться с печью, греть воду, заваривать чай. Я не люблю есть, но пить черный чай, крепкий, горячий и сладкий – большое удовольствие. Глупо было бы себе в нем отказывать. Тем более, что браться за работу надо только через час. Или даже через полтора. Как пойдет. В шею меня никто не гонит, по утрам особенно приятно это осознавать.
Я наливаю чай в кружку. Никогда не разбавляю его кипятком. Это, на мой взгляд, варварство. Следует сразу заваривать чай нужной тебе крепости и не давать ему настаиваться слишком долго. Пяти минут обычно более чем достаточно, потом чай начинает горчить.
Сажусь на стул у окна. За окном у меня сегодня пустынный переулок Кривулес, он упирается в улицу Паупё, бывшую Поплавскую, а сразу за ней, совсем рядом река; из моего окна реку не видно, но это неважно, мне достаточно знать, что она там есть.
На земле лежит снег. Впрочем, за моим окном всегда лежит снег, от времени года это не зависит. Наверное, штука в том, что снег мне нравится. Как будто вокруг облака.
Впрочем, сегодня снег действительно лежит везде в городе. Ночью выпал, а растаять еще не успел. Люблю такие совпадения.
На моем кухонном столе стоит ваза с конфетами. Черный шоколад, пралине. Я не люблю есть, но на конфеты моя неприязнь не распространяется. Конфеты к чаю нужны непременно, без них нет праздничного настроения, а по утрам оно на вес золота. Я довольно серьезно отношусь к началу каждого своего дня.
Сделав первый глоток, я привычно думаю, что для совершенного удовольствия мне сейчас не хватает только хорошей книжки. Но книг в доме, где я иногда просыпаюсь по утрам, нет. Не знаю почему. Теоретически это легко исправить. Но руки не доходят. Просто не успеваю. Слишком много работы.
Ох уж эта работа. Лучше и не вспоминать.
Поскольку книжек нет, и взяться им прямо сейчас неоткуда, я включаю компьютер. В отличие от книг, он в этом доме есть. Что, собственно, неплохо, хотя, будем честны, несколько уменьшает мои шансы начать работу вовремя.
Ай, плевать.
Сразу захожу в фейсбук. Он меня раздражает, но я все равно захожу туда каждое утро – в те дни, когда у меня есть утро. На самом деле только из-за Тани. Чтобы ее читать. А иногда я пишу – тоже, собственно, только для Тани. Рассказываю ей то немногое, что могу рассказать. Всякие пустяки.
И сейчас я пишу: «Утро удалось. Снег за окном, чай на столе, и даже конфеты есть. Как в такой непростой ситуации заставить себя взяться за работу – вот вопрос».
«Карамба! – сразу же комментирует Таня. – Какие люди!»
Надо же. Обычно в это время Таню в сети не застанешь. Но сегодня мне повезло. Ну или наоборот, не повезло, учитывая, как трудно будет теперь заставить себя прервать переписку и заняться делом.
«Сто лет тебя тут не было», – пишет Таня.
Да прямо уж – сто лет. Если верить встроенному в компьютер календарю, с нашей последней встречи в комментариях даже недели не прошло.
Впрочем, по Таниным меркам, неделя – это, наверное, очень много. У людей быстрое время, особенно у занятых.
Мне нравится Таня. И дело, конечно, не в ее записях. Пишет она примерно такую же ерунду, как я. То немногое, что считает возможным рассказать. Таня служит в полиции, но если бы я этого не знал, ни за что бы не догадался: о работе в ее записях нет ни слова. Только о нашей переменчивой погоде, проделках кота Допельгангера и забавных разговорах, случайно подслушанных на улице. Еще Таня методично исследует городские кофейные автоматы и оценивает результаты их деятельности по двенадцатибалльной шкале, от «Адское смертоносное хрючево» до «Не так плохо, как хотелось бы» – это уже наивысшая похвала, удостоившихся ее кофейных автоматов в городе пока нашлось только два, в фойе больницы Скорой Помощи и в одном автосервисе на окраине. Первый я кстати проверил, действительно вполне ничего. До второго пока не добрался, но планирую буквально в ближайшие дни.
Но кофейные автоматы – это, конечно, неважно. Важно, что Таня мне нравится.
Мы не то чтобы по-настоящему знакомы, но я несколько раз ее видел. Во время работы, издалека. Таня маленькая, легкая, улыбчивая и вечно растрепанная, словно в ее волосах живет ветер. Хотя, собственно, почему «словно»? Может быть и живет. Ветры – странный народ, все со своим причудами, чего угодно можно от них ожидать.
Мне бы очень хотелось проверить, прячется в Таниных волосах ветер или все-таки нет, но для этого пришлось бы подойти к ней поближе, а так поступать мне ни в коем случае нельзя.
Таня о наших с нею встречах, конечно, не знает. Для нее я – просто виртуальный приятель, с которым иногда можно поболтать. Она несколько раз признавалась, что я – ее самый любимый собеседник. Ясно, что преувеличивала, но я не против. Даже наоборот.
Иногда я думаю, как бы все сложилось, будь я кем-нибудь другим. Тогда я мог бы, например, предложить Тане совместную экспедицию по кофейным автоматам как-нибудь в выходной. Или, скажем, завести кошку той же породы, что Допельгангер, кажется, она называется «скоттиш фолд», «шотландская вислоухая», и деликатно подвести Таню к идее совместных котят. Ну или просто предложить ей выпить наконец вместе чаю, чего тут мудрить.
Это приятные и смешные мысли, они меня отрезвляют и одновременно вдохновляют, только я сам не знаю, на что именно. Но вдохновляют, определенно.
«Ничего себе у некоторых утро, – пишет тем временем Таня. – Уже вообще-то почти пять, закат скоро».
«Завидуй молча», – гордо отвечаю я. Но, спохватившись, что перегнул палку, тут же добавляю: «Просто некоторые особо бедные зайцы ложатся спать только в полдень. И при этом работы у них как было по горло, так и осталось по самое немогу».
Это я так подлизываюсь. «Бедные зайцы» – Танино любимое выражение. У нее все подряд «бедные зайцы», начиная от наделавших глупостей коллег и заканчивая сломанным кофейным автоматом.
«А забить никак нельзя?» – сочувственно откликается Таня.
«Забить всегда можно, – пишу я. – Но все-таки не нужно. От этого в мире может наступить полный бардак».
Иногда можно позволить себе говорить откровенно – при условии, что откровенность будет похожа на обыкновенный человеческий треп. В последнее время я преуспел в этом искусстве.
«Ты великий герой, – хвалит меня Таня. – Хоть и бедный заяц, конечно. Поможешь мне выбрать сумку?»
И не дожидаясь ответа, заваливает меня картинками. На картинках женские сумки, по большей части, смешные. Сумка в виде бутылки текилы, сумка в виде свернутого в рулон коврика, сумка, обвешанная шерстяными помпонами, сумка-кожаный жакет, сумка-прозрачное розовое ведро, сумка-черно-белый кот.
«Кота надо брать», – пишу я.
«Святые слова, – соглашается Таня. – Кота всегда надо брать, не задумываясь. Даже если он стоит две твоих зарплаты. В смысле, моих».
«Так дорого? – изумляюсь я. – Но это же просто сумка!»
«Вот именно, просто сумка, – Таня рисует в конце фразы грустный смайлик, но тут же снова оживляется: – Зато смотри, что я тебе нашла! Тот самый Клаус Номи, которого ты, как мы в прошлый раз выяснили, не знаешь. Во всей своей красе сразу, чтобы тебя проняло. Он тут Пёрселла поет. Арию Гения Холода, не кот чихнул[8]. Слушай давай немедленно! Хочу знать, что ты на это скажешь».
И отправляет мне ссылку. Если по уму, мне бы уже пора понемногу прощаться, выключать компьютер, отменять этот просторный дом с печью, чайником и конфетами на кухонном столе и браться за работу. Но я, конечно, иду по ссылке. Отложить дела еще на десять минут – одно из самых больших удовольствий, какие только можно придумать. По крайней мере, для меня.
По ссылке обнаруживается видео. Я терпеть не могу видео, по многим причинам. Но Таня хочет знать, что я на это скажу, а значит, придется смотреть.
На видео – человек с лицом, выкрашенным белой краской, черным ртом и черными острыми треугольниками бровей. Одет он даже хуже, чем загримирован, поверх обтягивающего черного трико громоздится короткий и очень широкий плащ из прозрачного пластика. Зрелище настолько нелепое, что его можно считать прекрасным – в своем роде.
Человек с белым лицом довольно давно умер, это всегда бросается в глаза; впрочем, наверное, только мне. Люди, насколько я знаю, совершенно спокойно смотрят видеозаписи с выступлениями умерших актеров и певцов. Притом, что смерти они обычно очень боятся. Настолько, что даже на кладбища после наступления темноты стараются не ходить, а ведь трудно найти на земле места более умиротворяющие. И не дай бог им случайно увидеть безобидное привидение, крик поднимется до небес. При этом видео с участием мертвых люди смотрят с огромным удовольствием. Поразительное противоречие, никогда этого не пойму.
Ладно, не все ли мне равно.
Тем временем мертвый человек начинает петь, и тут я понимаю, что наряд и грим – хорошая, тщательно продуманная идея. По контрасту со столь нелепой внешностью его высокий, не мужской и не женский, почти нечеловеческий голос кажется еще более прекрасным. Отличный эффект.
«Как жаль, что он уже умер, – думаю я. – И как же жаль, что он умирал без меня, достался кому-то из коллег. Я бы…»
А что, собственно, «я бы»? Да ничего. Черт знает какая чушь лезет иногда в голову. Музыка виновата, действует на меня, как водка. Лучше бы мне слушать ее пореже. С другой стороны, куда еще реже? С начала года этот Клаус у меня первый. Да и он только из-за Тани. Спасибо ей, что тут еще скажешь.
Какое-то время я больше ни о чем не думаю, а только смотрю, как он поет. Я знаю, что в таких случаях обычно говорят «слушаю, как поет». Но я именно смотрю.
А потом – еще раз. Я хочу разобраться.
Таня, заскучав, принимается бомбить меня комментариями.
«Елки! – возмущается она. – Куда ты там пропал? Тебе настолько не понравилось, что ты со мной больше не разговариваешь?»
«Просто посмотрел твое видео дважды, – объясняю я. – Извини».
«Так тебе понравилось?» – радуется Таня.
«Понравилось – неправильное слово, – пишу я. – Мне было интересно. А такое случается довольно редко».
«Слушай, как я рада!»
Вот теперь самое время попрощаться и начать сборы, потому что мне уже действительно пора. Однако я очень хочу прямо сейчас объяснить Тане, почему мне было так интересно. Не то чтобы это действительно важно, просто я люблю с ней разговаривать. А тут такой прекрасный повод.
«У нео рстеряннй вид, – торопливо, пропуская буквы пишу я. – Он поет удивительным, невозможным, почти божественным голосом, с совершенно человеческим растерянным выражением лица. Это очень сильно, потому что предельно честно. Двойственная природа человека как она есть. Бесконечное всемогущество, помноженное на ноль бесконечной же слабости, причем произведением может оказаться любое число, но только не ноль. Никогда не ноль. Это поразительно, но оно – так».
Таня какое-то время молчит. И я уже начинаю жалеть о собственной откровенности, но тут она наконец отвечает: «Боже мой, какой же ты отличный! Как здорово все рассказал!»
«Я – да, отличный. И одновременно я – бедный заяц, которому уже пора работать», – пишу я. А сам при этом улыбаюсь до ушей.
«В последнее время стало модно плодить дилетантские рассуждения о математике. Противно читать».
Это, конечно, пишет не Таня. Какой-то незнакомый человек по имени Виктор Шлап. Или под псевдонимом Виктор Шлап, кто его разберет. Так называемые «настоящие» человеческие имена обычно ничуть не более настоящие, чем выдуманные прозвища, поэтому отличить одно от другого я не могу.
«Еще пятнадцать лет назад в интернете можно было спрятаться от дураков, – возмущается мой комментатор. – А теперь все уже тут».
Интересно, откуда он вообще взялся? Всегда был уверен, что меня читает только Таня и несколько ее друзей, по Таниному совету, или просто за компанию. Об их существовании я знаю только по редким деликатным «лайкам» под моими записями о правилах заварки чая, принципиальных отличиях осиновых дров от березовых и прочей чепухе в таком роде. Думаю, мои неизвестные читатели делают это, чтобы я не чувствовал себя совсем уж одиноким и никому не интересным. В моем случае это, конечно, довольно смешно, но само по себе намерение поддержать чужого, постороннего человека вызывает у меня уважение.
Тем неожиданней выглядит появление этого сердитого Виктора, зачем-то встрявшего в чужой разговор.
До сих пор я только теоретически, с Таниных слов знал, что в интернете некоторые люди охотно пристают к незнакомцам, чтобы сообщить им об их несовершенствах. Многие даже специально ходят по ссылкам друзей, или просто читают все подряд, лишь бы найти к чему придраться. Не знаю, зачем им это нужно. Чтобы отвлечься от собственной жизни? Вероятно. Хотя лично я на их месте ни за что не стал бы отвлекаться от жизни, которая и так слишком коротка.
Таня советует в таких случаях сразу банить комментатора. Говорит, глупо позволять неизвестно кому отнимать у тебя время и внимание, не доставляя при этом никакого удовольствия. И теперь я думаю, что она совершенно права. Даже когда в твоем распоряжении вечность, глупо тратить ее на ерунду. Все равно что будучи миллионером, покупать просроченные продукты – только из тех соображений, что серьезного ущерба бюджету это не нанесет.
Интересно, как это делается – технически? Я еще никогда никого не банил. Спросить, что ли, Таню? Или сам разберусь?
Ладно, разбираться в любом случае буду потом, потому что я и так уже везде опоздал. Ну, почти опоздал. Пока еще вполне можно исправить положение.
Но вместо того, чтобы исправлять положение, я устраиваюсь поудобнее, отправляю в рот конфету, запиваю ее остатками уже давно остывшего чая и пишу неизвестному Виктору: «Думаю, пока еще далеко не все, но судя по некоторым косвенным признакам, процесс действительно идет».
И спрашиваю Таню, радуясь поводу обменяться с ней еще парой реплик: «Вот объясни мне, зачем я отвечаю на всякую ерунду?»
«Не зачем, а почему, – сразу откликается она. – Потому что тебе неохота работать! Правда же, я угадала?»
Еще бы.
«Неохота», – соглашаюсь я.
«Бедный, бедный ты заяц, – пишет Таня. – А то, может, правда забьешь? Или тогда будут неприятности?»
«Даже не знаю, – отвечаю я. – Вообще-то вряд ли».
На самом деле, и правда не знаю. Вернее, вообразить не могу. Неприятности. У меня! Звучит абсурдно. С другой стороны, чего только не бывает. Всегда что-нибудь случается в первый раз.
Интересно, кстати, как могли бы выглядеть мои неприятности? Не то чтобы я действительно хотел на них нарваться, но любопытства никто не отменял.
«Позвони своему начальству и скажи, что ты внезапно заболел, – советует Таня. – Температура тридцать девять, например. А сам с книжкой под одеяло. Иногда можно. Даже нужно, чтобы всерьез не слечь».
Хороший совет. Очень хороший – для того, у кого есть начальство, которому к тому же можно позвонить. Но я-то работаю на себя. Или все-таки нет?
Ну, то есть. Ясно, что «начальство» у меня есть. Но не менее ясно, что к моим делам оно совершенно равнодушно. «Поступай, как сочтешь нужным» – это единственное распоряжение, которое я получил – то ли когда-то в самом начале времен, то ли вчера перед сном. В моем случае это одно и то же.
Но кстати. «Как сочтешь нужным» – это вовсе не обязательно означает: «Работай, пока есть работа». Эта формулировка допускает и другие трактовки. Например: «Отдыхай, когда устанешь». Или: «Откладывай на потом все, что хочется отложить». И даже: «Бездействие равно действию, не имеет значения, что ты предпочтешь».
Удивительно все же, что подобные мысли никогда прежде не приходили мне в голову. А ведь так очевидно… Или нет?
Теперь – очевидно.
Я смотрю на часы в верхнем правом углу компьютерного экрана. И глазам своим не верю. Буквально только что было пять часов вечера. Как раз когда Таня прислала мне ссылку на Клауса Номи, я посмотрел на часы, и было ровно пять. А теперь уже пять пятьдесят восемь, и я не понимаю как… Впрочем, будем честны, прекрасно я все понимаю. Сам тянул время, бесконечно откладывая момент, когда придется прощаться с Таней и приступать к делам. И даже появлению сердитого защитника математики обрадовался как поводу еще немного задержаться, чтобы написать ему ответ.
Ну вот, дотянул до того, что спешить уже некуда. Все равно не успею. Хотя…
Ладно, ладно, будем честны еще раз, теперь до конца. Моя сегодняшняя работа должна быть сделана до шести. Потом уже действительно не имеет смысла суетиться, но вот прямо сейчас он еще есть. Две минуты – это, на самом деле, довольно много. Недостаточно, чтобы как следует попрощаться с Таней, но что касается работы – вполне можно успеть.
Однако вместо этого я пишу Тане: «Надо, наверное, тебя послушаться. Но есть одно техническое препятствие. Одеяло у меня отличное, а вот книжек нет».
«Как такое может быть?» – изумляется она.
«Они хранятся в другой квартире. Не успел перевезти».
Ну а как еще объяснить?
«И снова ты у нас самый бедный заяц в мире, – сочувствует мне Таня. – А знаешь что? Хочешь я тебе электронных книжек пришлю? Ты Пратчетта любишь? Например».
Понятия не имею, о ком речь, но на всякий случай отвечаю: «Да».
Нельзя слишком часто признаваться в своем невежестве. В какой-то момент оно перестает казаться милым. И никогда заранее не знаешь, что может стать последней каплей.
«А ты у него все читал?» – спрашивает Таня.
«Не все», – пишу я.
Потому что, во-первых, это правда. «Ничего» – и есть «не все», просто очень обширное «не все», но суть от этого не меняется. А во-вторых, Таня явно хочет сделать мне подарок, и следует дать ей такую возможность. До сих пор я не читал электронных книжек, но надо же когда-то начинать. Тем более, интересно, что именно выберет для меня Таня.
И, предупреждая дальнейшие расспросы, я добавляю: «Я давно все это читал. И у меня плохая память на названия. Поэтому пришли несколько, на твой вкус».
«Ладно, договорились, – откликается она. – Сейчас выберу и пришлю, подожди минутку».
Жду, конечно. И не одну минутку, а гораздо больше. Тем лучше, собственно говоря.
Когда в моем почтовом ящике появляется письмо с вложенными файлами, на часах уже шесть четырнадцать. Очень хорошо. Дело сделано. В смысле, наоборот, не сделано. Но поскольку я только что договорился с собой, что бездействие равно действию, оно все равно сделано. И этого уже не отменить.
«Спасибо, – пишу я Тане. – Книжки пришли. Ты настоящий друг».
Я и правда так думаю. Но, конечно, совсем не из-за книжек.
* * *
– Я даже не знаю, – говорит Эрик, – что меня потрясло больше. Вот эта нелепая хозяйственная сумка с взрывчаткой, совершенно невозможная у нас, да еще и в первый день ярмарки, когда все… Нет, слушай, нет! У нас нет террористов. И взяться им неоткуда. И делать им тут совершенно нечего, и требовать нечего, и запугивать некого, это бессмысленно, ну сама подумай. Только не у нас!
– Только не у нас, – эхом повторяет Таня.
Эрик ее не слушает. Ему надо выговориться.
– …или то, что она так и не взорвалась, – говорит он. – Под сценой же лежала! Под самой сценой. А там такие пляски были, по сценарию и сверх него, когда публика полезла с актерами обниматься, и детишек фотографировать на руках у чертей… Нет, слушай, ну нет же! Ничего такого быть не могло!
– Конечно, не могло, – соглашается Таня. – Поэтому и не случилось, что не могло… Эй, ты чего так смотришь? Оно уже не случилось, раз и навсегда, это неотменяемо. Все хорошо. И ты давай, прекращай.
– Тебе легко говорить, – огрызается Эрик. – Ты весь вечер тут сидела, в фейсбук тупила или не знаю куда еще…
– В фейсбук, конечно, – соглашается Таня. – Ничего не попишешь, кто-то должен дежурить по отделению. В смысле сидеть здесь, пыриться от скуки в планшет, ставить лайки кому ни попадя, болтать со старым приятелем и выбирать себе сумку, пока герои вроде тебя спасают мир.
Улица Кривю (Krivių g.) Халва в шоколаде
Все началось с халвы в шоколаде.
Ну, то есть.
На самом деле все началось задолго до халвы. Если вообще хоть что-то с чего-то началось. Что не факт.
Но все равно здорово звучит: «все началось с халвы в шоколаде». Просто невозможно удержаться, чтобы не повторять эту фразу снова и снова, пока во рту не станет сладко, вопреки утверждению ходжи Насреддина, или кто там у нас соответствующий первоисточник.
А все-таки началось с дедушки Жюля, думает Люси. Потому что для меня с дедушки Жюля началось вообще все, в том числе органическая жизнь. Даже имя он мне придумал. И настоял, чтобы так и записали в документах: «Люси». Какое счастье, что его никто не мог переспорить. Хорошее дурацкое заграничное имя, сама лучше не выдумала бы.
«Все началось с дедушки Жюля» – тоже неплохо звучит, думает Люси. Дедушка Жюль против халвы в шоколаде, кто победит?
Победит, безусловно, дедушка Жюль, потому что в начале было слово. А в начале этой конкретной истории – очень много слов. Дедушка Жюль был самым лучшим в мире рассказчиком. И вообще самым лучшим в мире – всем.
Мне с ним очень повезло, думает Люси. Какая же я молодец, что родилась именно в этой семье! Конечно, почитав «Бардо Тёдол», поневоле начинаешь чувствовать себя совсем конченым лузером: сидишь тут как дура, потому что не сумела ловко переродиться в каком-нибудь сияющем мире божественного лотоса, или, скажем, среди вечно наслаждающихся дэвов, тоже ничего так инкарнация… С другой стороны, родиться любимой внучкой дедушки Жюля – серьезное кармическое достижение. Может, я нарочно дэвом не стала, потому что дед в это время жил именно здесь. Они меня буквально на коленях умоляли, всем миром: переродись у нас, пожалуйста! А я – ни в какую. Простите, ребята, в следующий раз обязательно, а сейчас у меня дела в другом месте. И они горько заплакали и обещали ждать.
Люси сидит на дереве и смотрит в небо. Там, наверху, парят над городом воздушные шары: темно-синий с желтым значком, похожим на замочную скважину, красный с надписью «Nord», белый с цветком клевера, бирюзовый с рекламой пива, радужный с черным слоном. Дедушке Жюлю они бы очень понравились, думает Люси. Не удивлюсь, если он сейчас сидит на каком-нибудь облаке и смотрит на шары сверху вниз. Взрослый человек, доктор гуманитарных, а все-таки наук, физику в школе учила, но вот совершенно, ни капельки не удивлюсь!
Дедушка Жюль не раз во всеуслышание заявлял, что не собирается после смерти лежать в гробу. Дескать, никогда эта идея ему не нравилась. Жив ты или мертв, а света и свежего воздуха вокруг должно быть много.
Дед и в погреб-то не любил спускаться. Не боялся, конечно, он вообще ни черта не боялся, а именно не любил. А тут – гроб! Душно, тесно, темно. Поэтому, рассказывал дедушка Жюль, я заключил договор с одним ангелом.
Дело, по словам деда, было зимой, в Кракове, еще до войны. Ангел сидел на площади Рынок, лязгал зубами от холода и вид имел потерянный, как с неба свалился.
Строго говоря, именно это с ним и произошло.
Остальные люди ангела не то вовсе не видели, не то просто не обращали на него внимания, бежали мимо по своим делам, подняв воротники. А дедушка Жюль заметил беднягу, пожалел, ободряюще похлопал по крылу, напоил дешевым подогретым вином в ближайшем кабаке, сидел с ним и травил байки, не умолкал до самого вечера, пока ангел не начал смеяться. А когда ангелы смеются, они возвращаются домой, на небо, это каждый ксёндз знает. Ну ладно, заврался, не каждый. Только самые старые и умные. Да и те – через одного.
На прощание ангел твердо пообещал своему спасителю, что, когда придет срок, спустит ему с неба веревочную лестницу. И уж тогда главное – не замешкаться, не оробеть. И не выдохнуться на полпути. И, конечно, не свалиться. Потому что ловить никто не станет, так у ангелов не принято. Если уж человек взялся лезть на небо, пусть справляется сам.
Что дедушка Жюль справится с любой лестницей, можно было не сомневаться. В юности он сбежал из дома с бродячими циркачами, странствовал с ними несколько лет и успел выучиться куче вещей, чрезвычайно полезных человеку, всерьез планирующему забраться на небо. Как будто заранее знал, что пригодится. В цирке же он получил звонкое заграничное имя Жюль; впрочем, время от времени дед принимался уверять, будто взаправду родился в далекой Франции, самым что ни на есть расфранцузским французом, но потом его украли цыгане, спасаясь от погони, добежали аж до самого Балтийского моря и только там бросили младенца, на радость бездетному жемайтийскому рыбаку. И Люси ему верила. Мало ли что в паспорте написано «Юргис» и местом рождения значится рыбацкий поселок Йодкранте, написать что угодно можно.
Люси вообще верила каждому слову деда.
А как, скажите на милость, не верить человеку, который дожил до восьмидесяти девяти лет, похоронил жену, сказал: «Пожалуй, и мне пора, хорошего понемножку», – а потом не захворал, не умер, как прочие старики, а взял, да и пропал без вести. Исчез, совсем исчез! До сих пор ничего не нашли. Не то что тела – пуговицы от рубашки.
И не найдут, весело думает Люси. Разве что со спутника случайно сфотографируют, как он там по облакам с ангелами скачет, и тут же засекретят информацию на веки веков. Небось, сидит сейчас на самой пухлой тучке, смотрит на мои шары… ну, скажем так, на наши с князем шары. И наверняка страшно мной гордится. Говорит ангелам: смотрите, какую внучку воспитал! И те уважительно кивают, покачивая тяжелыми крылами. А я, правда, ничего так получилась. Даже знакомым ангелам не зазорно показать.
Дед с бабкой жили в Заречье, на улице Кривю. И Люси с ними, потому что в детских садах вечно не хватало мест, а отец с матерью никогда не были выдающимися борцами за житейские блага.
Поэтому Люси жила у папиных родителей. И в школу потом там же пошла. Домой ее забирали только на выходные – возить ребенка каждый день туда-сюда было бы долго, неудобно и совсем не по дороге.
Старики, заполучившие в полное распоряжение любимую внучку, были счастливы, молодые родители – свободны, а о Люси и говорить нечего. Хотя по-настоящему она осознала свою удачу гораздо позже, задним числом, в детстве-то просто живешь как живется, не оценивая, в голову не приходит, что может быть как-то иначе.
Бабушка Рая работала в библиотеке, зато дед был совершенно свободен, и с понедельника по пятницу весь мир принадлежал им с Люси. Такой прекрасный, удивительный мир, щедро снабженный дедовскими комментариями.
Слушать деда было огромным счастьем. И этого счастья Люси досталось с избытком. Дедушка Жюль каждый день будил ее новой утренней сказкой и потом практически не умолкал до самого вечера, когда приходило время приступать к особой, многосерийной, бесконечно длинной сказке на ночь. Люси засыпала почти мгновенно, поэтому за двенадцать без малого лет они так и не добрались до финала. Одна надежда, что дед однажды приснится и все-таки расскажет, чем там дело кончилось. Наверное, сам пока не знает, не успел сочинить, пока жил на земле, а на небе, ясное дело, не до того, особенно поначалу.
Накормив внучку завтраком, дед уводил ее гулять. Гуляли почти в любую погоду, только ливень, град и совсем уж лютый мороз могли заставить их сидеть в четырех стенах. Дедушка Жюль не любил подолгу оставаться на месте, для него и город-то был тесноват, не то что дом.
По каждой улице Старого города они прошли несколько сотен раз, не меньше, и по дороге дед всегда рассказывал Люси какую-нибудь новую историю; с тех пор Вильнюс навсегда стал для нее суммой множества разных городов, по большей части удивительных. К примеру, в одном из них по вечерам загорались электрические фонари, в другом люди до сих пор ходили по улицам с горящими факелами, в третьем выращивали специальную породу ночных собак-поводырей с сияющими глазами, в четвертом над городом летали воздушные змеи из светящейся бумаги, жители пятого покупали в аптекарских лавках очки с волшебными стеклами, позволяющими видеть в темноте (а днем – сквозь стены). В шестом же горожане раз и навсегда решили проблему уличного освещения, договорившись с луной, чтобы она всегда была полной и не ленилась пробиваться сквозь самые плотные тучи. Главное – не забывать о ежемесячной плате. Всего-то три воза картофельных блинов, говорить не о чем; дело за малым – наловчиться добрасывать их до самого неба. Но в каждом поколении непременно рождается девочка, или мальчик, наделенные соответствующей чудесной способностью, так что все в порядке.
И это – только одна деталь. По всем остальным параметрам между собравшимися по воле рассказчика в одном месте и времени городами наблюдались не менее яркие различия. Число разночтений множилось по мере прогулок, и в Люсиной голове превосходно уживались десятки одновременно сосуществующих Вильнюсов, почти не пересекающихся, но каким-то удивительным образом сливающихся в один многомерный город; большинство виленчан даже не подозревали о близости иных пространств, но некоторым счастливчикам удавалось по несколько раз на дню пересекать невидимые границы, так толком и не осознав, что с ними случилось.
И с другими городами, наверное, примерно так же обстоит, просто мы с дедом там не живем и ничего о них не знаем, думала тогда Люси. Собственно, до сих пор так думает. Отличное наследство оставил любимой внучке дедушка Жюль, лучше не бывает.
Холм, под которым спит князь[9], был совсем рядом с их домом. Когда поднялись туда впервые, дед начал было рассказывать: «Говорят, что под этим холмом похоронен князь Гедиминас…» – и тут же осекся, потому что Люси скривилась, изготовившись зарыдать. В детстве она слышать ничего не желала ни про какие похороны. Что такое смерть, не понимала и страха перед ней не испытывала, но идея зарывать человека в землю казалась ей совершенно ужасной. Даже если человек не возражает, и вообще лежит тихо, не прыгает и не разговаривает, как показывают мертвых в кино.
– Все это, конечно, глупости, – решительно сказал дед. – Ничего не знают, а туда же – болтать. Никто тут не похоронен.
Люси мгновенно успокоилась и уставилась на него требовательно и выжидательно – дескать, а как взаправду?
– Это большой секрет, – дед перешел на шепот. – С меня в свое время взяли слово, что я никому ничего не скажу. С другой стороны, тогда никто не догадывался, какая замечательная внучка у меня однажды родится. Даже не знаю, как быть.
– А если я тоже дам честное слово, что никому ничего не скажу? – с замирающим сердцем спросила Люси.
– Ну, пожалуй, – поразмыслив, согласился дедушка Жюль. – Ты человек надежный. До сих пор ни разу меня не подвела.
Со слов деда выходило, что под холмом спрятана большая пещера, а в той пещере крепко спит древний князь Гедиминас. Люди думают, будто давным-давно, тысячу лет назад[10], князь приказал построить город Вильнюс, и очень ему за это благодарны.
Но все не так просто. На самом деле однажды князь уснул в лесу под холмом, и во сне ему привиделся город. И такой это был хороший, интересный и приятный сон, что князь решил не просыпаться. От добра добра не ищут, чего он там, наяву, не видел. Друзья и слуги не смогли его добудиться, поэтому постарались устроить поудобнее – укутали теплыми одеялами, чтобы не замерз, перенесли в пещеру, чтобы дождь не намочил, а вход в ту пещеру замаскировали, чтобы никто не пришел и не побеспокоил спящего князя. Так хорошо спрятали вход, что до сих пор никто найти не может, представляешь?
Люси кивнула. Подумала и строго спросила:
– А как же на горшок?
Умение вовремя проснуться, чтобы успеть на горшок, было для нее в ту пору важнейшим из искусств.
Дед опешил. Ну, то есть это Люси сейчас понимает, что сумела его озадачить. А тогда дедушка Жюль просто ответил не так быстро, как обычно.
– Я думаю, князь просто не пил перед сном ни чаю, ни компота. Так что на горшок ему не надо. Может спокойно спать.
Люси это объяснение полностью удовлетворило. Она была готова слушать дальше.
– И вот какой прекрасный город приснился книзю, – заключил дед, сделав широкий жест рукой. – А когда человеку больше ста лет подряд снится один и тот же сон, он становится таким плотным и ярким, что его могут увидеть другие люди. В старину подобные вещи то и дело случались, но потом люди разучились спать подолгу, и сны у нас стали короткие, бледные, мелкие, как лужи, сами поутру их вспомнить толком не можем, не то что другим показать. В общем, повезло нам с тобой, что здесь живем. Другого такого города-сна на всем белом свете больше не осталось.
– А мы с тобой тоже снимся князю? – осенило Люси.
– По всему выходит, что снимся, – кивнул дедушка Жюль и полез в карман за папиросами. – Иначе, откуда бы мы здесь взялись?
В другой раз Люси наверняка стала бы тревожиться: а что будет, если князь проснется? Что ли, все исчезнет? И мы тоже? Может, пойдем отсюда, не будем топать? А почему забор не построили, чтобы никого близко не подпускать? Но в тот день на холме царила такая умиротворяющая атмосфера, что она и сама знала: никто не проснется, ничего не исчезнет, напротив, еще многое появится, все всегда будет хорошо, как сегодня. И даже еще лучше.
– А если вдруг князю приснится, как будто я катаюсь на велосипеде? – спросила Люси деда, когда он пришел рассказывать ей традиционную ночную сказку. – У меня тогда от этого сразу сделается велосипед?
Она весь день об этом думала. Велосипед был самой страстной ее мечтой. Ничего в жизни Люси не хотела так сильно, как велосипед, ни в детстве, ни потом, когда выросла. Дедушка Жюль об этом, конечно, знал. И уже почти год понемногу откладывал деньги на покупку, но дело продвигалось медленно. Жили они бедно, едва дотягивали от дедовой пенсии до бабушкиной зарплаты, у Люсиных родителей дела обстояли примерно так же, но это она только сейчас понимает, тогда-то казалось – мы живем лучше всех. Для полного счастья не хватало разве что велосипеда, но Люси даже в голову не приходило, что его можно просто купить в магазине. Думала, велосипед может появиться только в результате какого-нибудь волшебного чуда и терпеливо (насколько это возможно) ждала.
– Конечно, сделается, – ответил ей тогда дедушка Жюль. – Но сны, сама знаешь, дело такое, капризное. Что хочет, то и снится. Думаешь весь день о рыцарях и феях, а потом ночь напролет ругаешься во сне с добрейшим соседом. Ну, или наоборот. Лично я не знаю способа увидеть тот сон, который нужен, по заказу. А уж другого человека заставить – вообще не представляю, как такое сделать. Поэтому будем просто ждать и надеяться.
Он хотел сказать: «Ждать до Нового года», потому что к этому времени необходимая сумма должна была наконец накопиться. Но прикусил язык. Вдруг что-то не срастется. Нет уж, пусть будет настоящий сюрприз.
Ждать до Нового года, кстати, не пришлось. Буквально через две недели друзья родителей отдали им подержанную, но исправную «Бабочку», которая стала слишком мала для их подросшего сына, и это был самый лучший подарок к Люсиному пятому дню рождения, какой только можно вообразить.
Но «Бабочка», думает Люси, просто счастливое совпадение. Князь тут, скорее всего, ни при чем. Способ переписываться с ним я придумала гораздо позже. И это действительно началось с халвы в шоколаде, я точно помню.
Халву в шоколаде, большие, тяжелые конфеты в форме кирпичиков, мама привезла из Москвы. Ездила туда в командировку, вечерами пропадала в театрах, времени на походы по магазинам не оставалось совершенно, да и денег особо не было, все командировочные растренькала на театральные билеты. Уже перед самым отъездом спохватилась – надо же хоть каких-то гостинцев домой привезти. Заскочила в первый попавшийся гастроном, купила там разных московских конфет, понемногу, граммов по двести-триста.
Поэтому халвы в шоколаде оказалось всего восемь штук. Одну съели пополам мама с папой, а остальные сграбастала Люси – сразу после того, как попробовала. Это был единственный раз, когда она не смогла заставить себя поделиться. Ни с кем. Даже с дедом. Стыдно было – жуть. Но оторваться от халвы в шоколаде оказалось выше ее сил. Ничего вкуснее в жизни не пробовала. Съела все конфеты за один вечер и побежала к маме: давай скорее купим еще таких! Сто килограммов! Пожалуйста! Была готова обещать перемыть за это все чашки на свете и заполнить кривыми закорючками ненавистные прописи до самой последней странички, но мама развела руками: я бы и рада, но у нас такие не продаются. Может, еще когда-нибудь в Москву попаду, тогда обязательно побольше привезу.
Это был серьезный удар. До сих пор Люси в голову не приходило, что в разных городах продаются разные продукты. И, к примеру, московских конфет в Вильнюсе не найдешь. Не везут их так далеко. А может, везут, да не довозят, сами все съедают по дороге, и как же я их понимаю, печально думала Люси. Я бы на их месте тоже не удержалась.
Перед сном ее осенило: князь же! Дед говорил, мы ему снимся. А он уже тысячу лет спит. И про халву в шоколаде ничего не знает. Ее, наверное, совсем-совсем недавно изобрели. Уже после электричества и космонавтов. Вздохнула: ну, теперь хотя бы понятно, отчего такая несправедливость. И заснула, полностью удовлетворенная объяснением. А проснулась с мыслью: «Так, значит, надо ему рассказать».
Как рассказать спящему под холмом князю о халве в шоколаде так, чтобы он не проснулся, но информацию к сведению все же принял, – это был отдельный вопрос. Его Люси обдумывала очень долго, целых полчаса. И наконец нашла решение, простое и элегантное. Есть чем гордиться, весело думает Люси. Наверное, я была юный гений, маленький моцарт, просто это не очень бросалось в глаза.
Дело было в воскресенье, поэтому пришлось ждать до завтра. Вечером ее отвезли в дедовский дом на улице Кривю и почти сразу уложили спать, а утром отправили в школу. Зато после уроков Люси сразу побежала на холм, даже портфель домой не занесла. Конфетная обертка ждала своего часа в потайном кармане, а большой кусок прозрачного стекла нашелся по дороге; Люси с самого начала не сомневалась, что так и будет. Чего-чего, а битого стекла на улице Кривю всегда валялось предостаточно.
Взобравшись на холм, вырыла неглубокую ямку, сунула в нее заранее приготовленную записку: «Это самые вкусные в мире конфеты, пусть они продаются у нас». Аккуратно разложила красно-золотистую фольгу с надписью «Халва в шоколаде». Накрыла стеклом. Полюбовалась на дело своих рук и засыпала стекло тонким слоем земли. Потом, если захочется, можно будет раскопать и поглядеть, как сверкает под стеклом цветная фольга, не хуже настоящего золота и рубинов. Это называется «секретик». Все дети знают, что это такое, все их делают, и мама делала, и даже бабушка, хотя ужасно трудно в это поверить.
Зарыть секретик – все равно что закопать клад, а потом однажды вернуться и его найти. Интереснее собственного секретика может быть только чужой. Поэтому Люси была совершенно уверена, что ее секретик – достаточно важное событие, такое и сам князь не пропустит, даже во сне. И обязательно захочет узнать, что за сокровище зарыли прямо на его холме. И вот тогда…
Трудней всего оказалось дождаться результата. Время вдруг потекло медленно-медленно, дни стали длинными и тягучими, как перед летними канкулами. Так всегда бывает, если очень сильно чего-то ждешь. Люси этого терпеть не могла. Поначалу она каждый день обходила все окрестные магазины, проверяла – а вдруг уже? Но халвы в шоколаде по-прежнему нигде не было.
Промаявшись до следующих выходных – целую вечность! – Люси уныло сказала себе: «Ничего не вышло». Тихонько, чтобы не услышали взрослые, поплакала в подушку и выкинула московские конфеты из головы. Нет, так нет.
Она поторопилась. Не знала, что за неделю такие вещи не делаются. Должен пройти хотя бы месяц, а то и целый год или даже сто лет. Это уж как повезет.
Но в тот раз все-таки хватило месяца.
Халву в шоколаде принес домой дед. Получил пенсию, по традиции зашел в булочную за тортом, заодно и конфет купил, в красивой красно-золотой фольге. Высыпал на стол – лопай, сколько хочешь! И никак не мог понять, почему Люси стоит столбом, прижав руки к щекам, смотрит изумленно то на него, то на конфеты, то опять на него. Как будто он ей сластей никогда в жизни не покупал, и теперь бедный ребенок не знает, что с ними делать. Решил подать пример. Взял одну конфету, развернул, откусил половину, сказал внучке: «Открывай рот», сунул ей оставшийся кусок. Молча жевали вкусную халву в шоколаде, глядя друг на друга во все глаза, как будто только что познакомились.
Люси, конечно, все ему рассказала. Ее давно распирало от тайны, но поначалу надеялась устроить деду сюрприз, а потом решила – раз ничего не вышло, то и рассказывать не о чем. Но теперь-то, теперь!
Дедушка Жюль слушал ее внимательно, не перебивал. Удивленно хмурился. Потом сказал:
– Ну ты даешь.
Помолчав, добавил:
– Ты большая молодец. Очень здорово придумала. Но больше князя по пустякам не беспокой, вот тебе мой совет.
– Почему?! – изумилась Люси.
Не то чтобы она собиралась нынче же вечером снова бежать на холм. У нее и так было все, что нужно для счастья, даже халва в шоколаде, ешь – не хочу. Но вдруг завтра еще что-то понадобится? Получить это будет очень просто. Зарыть секретик на княжьем холме и подождать. Месяц – это, конечно, очень долго. Но «через месяц» звучит гораздо лучше, чем «никогда».
– Понимаешь, – сказал дед, – князь все-таки взрослый человек. Мужчина. Большой начальник. Ты же директора своей школы видела? Ну вот, а князь еще строже. Привык всеми командовать. Всю жизнь серьезными делами занимался – то у него война, то охота, то переговоры с иноземными послами. А теперь целый большой город во сне видит – куда уж серьезней! И вдруг ты со своими записками. Сегодня конфет захотела, завтра новую куклу потребуешь, или чтобы по телевизору одни мультфильмы показывали…
Люси, потрясенная столь смелой идеей, даже рот распахнула. Одни мультфильмы, целый день – вот это была бы жизнь!
Но деда перебивать не стала.
– Конечно, в первый раз князю было интересно получить от тебя записку, – говорил он. – Это внесло в его жизнь приятное разнообразие. Оно и понятно, давненько ему никто ничего не писал. Но если записок станет много, князю быстро надоест иметь с тобой дело. Подумает, что ты просто несмышленая девчонка, которую интересует всякая бесполезная ерунда. Это, конечно, неправда, но поди ему объясни. Поэтому и советую: больше не беспокой князя по пустякам. А то рассердится, и что тогда делать?
– А что будет, если он рассердится? – испугалась Люси.
– Не знаю. Скорее всего, просто перестанет обращать на тебя внимание. И уж тогда хоть сто записок ему напиши, даже читать не станет.
На этом месте Люси чуть было не разревелась. Это же самое обидное – когда на тебя не обращают внимания, вот честное слово, лучше бы ругались. Но вовремя вспомнила, что ничего страшного пока не случилось.
И никогда не случится, решила она. Ни за что не стану писать князю, пока не придумаю что-нибудь по-настоящему интересное. Не хуже войны и охоты.
Больше они к этой теме не возвращались. Но всякий раз, когда дед приносил из булочной халву в шоколаде, Люси вспоминала о строгом, серьезном князе и думала: чем бы таким его удивить? Чтобы он вообще обалдел. Чтобы – ух!
Так и не придумала тогда. И князя больше не беспокоила, хотя был, конечно, соблазн выпросить у него новый, «взрослый» велосипед, коньки и большой, как в Москве, парк аттракционов. И еще зоопарк!
А потом, гораздо позже, лет в пятнадцать, Люси вдруг приспичило срочно стать красавицей, и князь казался ей единственным шансом: новой прической и даже маминой косметикой нос не исправишь. И вообще почти ничего. Вот бы князю вдруг приснилось, что я самая красивая девушка в городе, думала Люси. Ему-то все равно, а мне – важно! Почти решилась, приготовила несколько фотографий киноактрис, на выбор, и даже написала соответствующее письмо. Но так и не отнесла его на холм. Если уж родной отец, совсем не серьезный человек и даже не начальник, смеется и называет тебя дурочкой, вряд ли можно ждать, что князь отнесется к проблеме с пониманием.
А потом Люси выросла. И взрослая жизнь оказалась такой непростой, увлекательной и захватывающей, что ей стало не до спящего под холмом князя. Иногда вспоминала дедушкину байку, думала: «Надеюсь, князю по-прежнему нравится видеть меня во сне». Улыбалась, мысленно махала ему рукой, как старому знакомому, которого приятно случайно встретить на улице, но говорить совершенно не о чем, так что и останавливаться не обязательно, приветливого жеста совершенно достаточно.
Все началось с халвы в шоколаде. А потом, много лет спустя, все началось с халвы в шоколаде еще раз.
Повзрослев, Люси совсем перестала есть конфеты. Просто как-то незаметно разлюбила сладкое, такое, говорят, со многими случается. Но однажды, ожидая скорого приезда гостей, свернула в отдел сладостей большого супермаркета, увидела там сверкающую золотым и красным фольгу, подумала – ну надо же, столько лет прошло, Москва теперь в другой стране, да что там Москва, весь мир изменился до полной неузнаваемости, и я вместе с ним, а любимые конфеты детства – вот они. Даже обертки те же самые, и фабрика по-прежнему «Рот Фронт». Неужели до сих пор работает, никакие социальные бури ей нипочем? Удивительно.
Впрочем, ничего удивительного. Сама же князю фантик показала. И он с тех пор исправно видит во сне халву в шоколаде. Не факт, что в самой Москве она по-прежнему продается. А у нас есть и, вероятно, будет всегда. А я-то хороша, сто лет ее не ела. Вообще забыла, что есть на свете такая замечательная штука.
Расстрогавшись, купила целый килограмм. По дороге домой не удержалась, достала одну конфету, развернула, откусила. Сладость невыносимая, а все-таки вкусно. Очень. Понятно, почему у меня в детстве крышу снесло.
Ну и дурища же я, подумала она, доев конфету. Так больше ничего у князя не попросила. А ведь могла! Дед посоветовал с ерундой к нему пореже приставать, кукол не клянчить, а я совсем заткнулась. Перфекционистка хренова. Уж парк аттракционов точно можно было попросить. Американские горки и чертово колесо ничем не хуже войны и чумы. В смысле охоты. И, тем более, дипломатических переговоров с послами.
Достала из сумки вторую конфету. Машинально вертела в руках, думала: такие возможности профукала, лахудра! А теперь все, поздно, поезд ушел. Чудеса случаются только с маленькими девочками, взрослым теткам они не светят.
Сунула конфету в рот целиком – закусить горечь. Спросила себя: а почему, собственно, не светят? Чем взрослые тетки хуже малолетних дурочек с косичками? Некоторые даже лучше! Вот я, например.
Развеселилась.
Почему бы не попробовать еще раз, думала она, разворачивая третью конфету. Просто из интереса. Надо же мне понять, что это тогда было – совпадение, или?..
Ох, какое тут может быть «или». Естественно, совпадение. Не думаешь же ты?..
А ведь думаю! – покаянно призналась себе Люси. Я порой еще и не такое думаю. Особенно в полнолуние. Или если башку на солнце напечет. Или когда обожрусь шоколадом – вот как сейчас. С непривычки-то. Как пьяная, и голова кругом. Ух, я вам всем покажу!
Что именно и кому «вам всем» – это она и сама хотела бы знать. Зато намерение «показать» было твердым. И стало еще тверже после четвертой конфеты, съеденной уже дома.
Если уж действительно писать князю, рассуждала Люси, надо просить чего-то совершенно невероятного. Как московская халва в шоколаде в семьдесят дремучем году. А лучше – еще невероятней. Чтобы не удалось потом списать на совпадение, если все получится. Пусть будет настоящий эксперимент. Ученый я или где?
После пятой конфеты она сочла проведение эксперимента своей профессиональной обязанностью и принялась обдумывать заказ. На худой конец, сойдет и парк аттракционов, хотя сейчас лично мне от него немного радости, вестибулярный аппарат совсем ни к черту, думала Люси. Ну и вообще, хочется чего-то совсем уж немыслимо прекрасного. Слопаю еще пару конфет – пойму, чего именно. В детстве меня, если не ошибаюсь, после седьмой осенило. Надеюсь, не придется пересчитывать это волшебное количество с учетом разницы в весе. А то ведь погибну во цвете лет!
Она благополучно одолела еще две конфеты, запила их целым литром зеленого чая, торжественно пообещала себе не прикасаться к сладкому еще лет двадцать и уснула, чрезвычайно довольная неизвестно чем. Вероятно, просто собой и жизнью в целом. Таково благотворное воздействие шоколада, детских воспоминаний и научных экспериментов на здоровый организм.
А проснулась, как и тогда, в детстве, с готовым решением.
– Воздушные шары же! – сказала Люси вслух. – На которых летают. С корзинами. Ветка как раз недавно говорила, что в большом городе это, оказывается, совершенно нереально: нужно договариваться с аэропортом, мэрией и хорошо, если не с самим дьяволом; впрочем, с ним-то как раз было бы проще всего… Какой-то Веткин приятель придумал смешной бизнес – туристов на воздушных шарах катать, стал узнавать, что да как, и его жестоко обломали. Нет, никогда, ни за что. Не-воз-мож-но.
Вот и поглядим.
В тот же день Люси отправилась на княжий холм. В сумке лежали вырезанная из журнала картинка с парящими в небе воздушными шарами, синим и белым, и записка: «Было бы очень здорово, если бы над нашим городом иногда летала вот такая красота». Кусок прозрачного стекла она тоже прихватила с собой из дома. Времена, когда мусор валялся на тротуарах, давно миновали и это, пожалуй, к лучшему.
Когда копала ямку на вершине холма, чувствовала себя полной дурой. Не имела ничего против – освежающее ощущение. Положила в ямку записку с картинкой, накрыла стеклом, засыпала землей. Тут же снова раскопала, полюбовалась на дело своих рук. Отличный секретик получился. Хотя, конечно, чересчур лаконичный. Пара сухих цветков и несколько ярких бусин существенно украсили бы композицию. Но лучше не сбивать князя с толку. Ему со мной и так непросто, вздыхала Люси, спускаясь с холма. Ишь выдумала – воздушные шары ей подавай. Всем бы ваши заботы, дамочка. Всем бы вашу печаль.
А действительно, всем бы. Какая хорошая стала бы жизнь.
Сперва, конечно, Люси то и дело задирала голову к небу, вечно из-за этого спотыкалась, хорошо хоть не сломала ничего, кроме каблука. Потом понемногу успокоилась. Остыла. Утратила энтузиазм. Несколько месяцев спустя, уныло заключила: ну вот, теперь ясно, что ничего не вышло. Строго спросила себя: а как ты думала? Чего ты вообще ждала, мать? Отвечать не стала, но подумала: значит, и с конфетами тогда было просто совпадение.
На этом месте Люси захотелось как следует пореветь, уткнувшись в подушку, но она так и не вспомнила, с какого конца следует браться за это непростое дело. Все-таки очень давно не практиковалась. Целую вечность.
Впервые она увидела шары почти год спустя. Гуляла с коллегой в Бельмонтасе, как всегда, спорила о чем-то абстрактном – не ради торжества объективной истины, существование которой всю жизнь ставила под сомнение, а просто из любви к процессу. Как всегда в таких случаях, слушала себя как бы со стороны, упивалась изяществом сокрушительных аргументов, посмеивалась над безапелляционностью интонаций. Так увлеклась, что ничего вокруг не видела, даже о собеседнике почти забыла, поэтому ему пришлось дернуть ее за рукав: смотри же, смотри! Да не на меня, в небо.
Задрала голову и тут же заткнулась. Стояла, как громом пораженная. Там, в безоблачной июньской бирюзе, медленно летели два шара, темно-синий с желтым значком, похожим на замочную скважину, и белый с цветком клевера. Из газовых горелок с шумными вздохами рвались столбы огня. Из корзин выглядывали люди, махали руками. Люси наконец опомнилась, подпрыгнула, заорала что-то невразумительное и принялась махать в ответ.
Пару недель спустя к синему и белому присоединились еще три шара – красный с надписью «Nord», бирюзовый с рекламой пива и радужный с черным слоном. А в конце лета – еще несколько. Воздушные шары над Вильнюсом стали вполне будничным зрелищем, некоторые горожане даже перестали обращать на них внимание – летят себе и летят, обычное дело. Хотя большинство все же до сих пор останавливается посреди улицы, задрав голову и забыв о делах.
Люси сидит на дереве и смотрит в небо. Отличная была идея, думает она. Просто отличная! Я у нас, получается, молодец. А уж князь-то каков молодец! Сам сообразил, что шаров может быть гораздо больше двух, любых цветов, и подсказывать не пришлось.
Что теперь? – спрашивает себя Люси.
Ответ известен заранее: все, что угодно.
Абсолютно все, что угодно.
Все.
Улица Круопу (Kruopų g.) Заверните, беру
Шла по городу, то и дело спотыкаясь – не ногами, взглядом, выхватывавшим из пасмурных предрассветных сумерек все новые удивительные детали: синюю черепичную крышу углового дома; догорающие факелы на специальных круглых подставках, похоже, занявшие место уличных фонарей; ободранную афишную тумбу, сулящую Рождественский концерт всем, кто сумеет вернуться в декабрь прошлого года; спящего на подоконнике толстого сливочно-белого кота; приземистое здание крытого рынка, почти целиком утонувшее в утреннем тумане; зеркальную вывеску над входом в закрытое сейчас кафе; бронзовую химеру с заячьей головой и павлиньим туловищем; красную стену с рисунками, слишком мелкими, отсюда не разглядеть; клумбу с тюльпанами – неужели они цветут даже осенью? Ладно, неважно, наверное, такой специальный очень поздний сорт.
Видеть все это было не так уж удивительно, кое-что Илария заметила еще вчера во время прогулки; как минимум синие крыши, пестрые лоскуты старых афиш на большой круглой тумбе, красную стену с рисунками и крытый рынок вдалеке. Но впервые за долгие годы остальные чувства – осязание, обоняние, слух – не противоречили увиденному, а подтверждали его. Стену можно потрогать, цветы понюхать, а по пустой широкой улице – идти, не опасаясь наткнуться на препятствие. Что видишь, то и есть на самом деле, как было когда-то в детстве, так давно, что порой кажется, вообще никогда. Она уже успела отвыкнуть от подлинности зримого мира и теперь наслаждалась ее бесчисленными доказательствами, как наслаждается твердостью земли моряк, впервые ступивший на берег после годичного кругосветного плавания.
Иногда Илария оборачивалась и смотрела на свои следы, тускло сияющие на тротуаре. Как будто забрела в лужу вязкого бледного лунного света, испачкала подошвы, и теперь, хочешь не хочешь, весь твой путь как на ладони; с другой стороны, тем лучше, если окончательно потеряюсь, можно будет вернуться.
– Можно будет вернуться, – сказала вслух Илария и рассмеялась не то от абсурдности предположения, что она когда-нибудь куда-нибудь вернется, не то от избытка – радости? восторга? – да просто от избытка. Всего.
Очень уж хорошо ей было в этом почти незнакомом предутреннем городе. Наверное, именно что-то такое имеют в виду, когда говорят о счастье, которого, как обычно поспешно прибавляют в таких случаях люди, желающие казаться разумными и рассудительными на самом деле, конечно же, не бывает.
Врут. Всегда это знала.
* * *
Когда проснулся, Ларки рядом не было. Позвал ее, но она не ответила, и от этой тишины подскочил, как от удара. Крошечная студия, снятая на четыре дня, была пуста. Метнулся в ванную – никого. Господи, да что же это такое. Куда она ушла? Зачем? И главное, как? Она же…
Кое-как натянул штаны, выскочил в подъезд, пустой, холодный и гулкий, оттуда – на улицу. И застыл на пороге, растерянно оглядываясь по сторонам. На улице Круопу, вчера показавшейся им совершенно безлюдной, почти нежилой, сегодня с утра пораньше почему-то был аншлаг. Пожилая женщина с ярко-оранжевыми волосами, длинноногая барышня с хаски на поводке, двое мужчин в одинаковых деловых костюмах, высоченный юнец с дредами, скрученными в узел на затылке, старушка в темном платке, мальчишка на велосипеде, еще какие-то люди, слишком много людей, а Ларки нет, нигде нет моей Ларки, и куда, господи боже, мне теперь бежать? Что делать? Что вообще делают в таких случаях? Звонят в полицию? Ладно, предположим, звонят в полицию. И говорят: «У меня пропала жена», – а потом, дав дежурному на другом конце провода снисходительно ухмыльнуться, добавляют: «Она слепая, всего второй день в вашем городе, даже не представляю, как она вышла из дома и куда могла забрести».
А ведь именно так и придется теперь поступить. Интересно, на каком языке здесь надо говорить с местными полицейскими? Просто по-русски сойдет? Или по-английски? Или лучше позвать на помощь хозяйку апартаментов? Как минимум она знает, по какому номеру надо звонить…
Так, стоп, погоди. Звонить.
Только сейчас сообразил, что Ларке тоже можно позвонить. По крайней мере, попробовать точно можно. Сразу надо было это сделать. Сунул руку в карман, но телефона там не оказалось, наверное остался дома, на прикроватной тумбочке, или в других штанах, или просто под подушкой; неважно, где-нибудь да найдется.
Вдохнул, выдохнул, еще раз огляделся по сторонам, окончательно убедился, что никого хотя бы отдаленно похожего на Ларку на улице нет, и побежал обратно.
* * *
Ждала – вот-вот рассветет, но почему-то не рассветало, сумерки тянулись и тянулись, по ощущениям, уже часа три, никак не меньше, так не бывает… впрочем, получается, бывает. Может быть, потому что здесь все-таки немножечко север? И эти бесконечные сумерки – вместо белых ночей?
Ай ладно, неважно. Потом разберусь, – думала Илария. – Ну или не разберусь.
Если чего-то и не хватало сейчас для полного, через край, счастья, так это горячего крепкого кофе, хорошо бы с теплым, свежим круассаном; впрочем, будем честны, любая плюшка сойдет.
Мир оказался благосклонен к ее желаниям: свернув в очередной кривой, засаженный старыми липами переулок, Илария неожиданно обнаружила настежь распахнутую дверь кафе, откуда лился теплый карамельный свет и такая восхитительная смесь ароматов – кофе, свежей дрожжевой выпечки, жженого сахара, разогретых в духовке яблок – что сперва вошла и только потом сунула руку в карман, чтобы проверить на месте ли кошелек. Ах ты черт. Кошелек, конечно, остался в гостинице. Обидно! Так обидно, хоть плачь. Хотя… Погоди, а это что?
Достала из кармана две монетки, одна была большой и прозрачной, другая – поменьше, с тусклым синеватым отливом. Откуда они взялись? Впрочем, откуда бы ни взялись, а на евро даже на ощупь совсем не похожи, увы.
– Вы недавно приехали и еще не привыкли к нашим деньгам, – приветливо сказал ей бритый наголо человек средних лет с удивительно тонким, до прозрачности бледным лицом, который все это время как-то хитро скрывался за стойкой, на корточках, что ли, там сидел? А теперь внезапно возник.
Он не спрашивал, а утверждал, но Илария все равно согласно кивнула: да, приехала, не привыкла! И только потом запоздало обрадовалась, что понимает его речь. Слухи о полной невозможности договориться по-русски с населением Вильнюса оказались, мягко говоря, преувеличенными, это она еще вчера заметила.
– Большая прозрачная – примерно два евро по текущему курсу, – пояснил бритый. – А синяя – чуть больше пяти. Вы, можно сказать, богачка. Добрую половину булок отсюда можете унести.
Илария невольно улыбнулась:
– Заверните, беру! – и, спохватившись, что чужой человек совсем не обязан понимать их с Сашкой любимую шутку, поспешно добавила: – На самом деле одной совершенно достаточно. Давайте вон ту круглую, с творогом. И кофе. Большой черный, с сахаром.
Властелин булок согласно кивнул, отвернулся и загремел посудой, а Илария вскарабкалась на высокий табурет и задумалась: так получается, у них все-таки не евро? А я была уверена, что… Ладно, неважно. Вчера Сашка за все платил, я не вникала, могла перепутать. Главное, что в самый нужный момент в кармане нашлись монеты. Повезло.
– Совсем ты, пан Юлек, спятил! – произнес звонкий женский голос, прямо у нее за спиной, да так неожиданно, что Илария едва не свалилась с табурета, резко обернувшись: что произошло?
Обладательница голоса оказалась маленькой, хрупкой и совсем юной, с пышной копной каштановых кудрей. Одета она была не то в полосатый брючный костюм пижамного покроя, не то в самую настоящую пижаму. Илария совсем не разбиралась в моде: наощупь за ней особо не уследишь, а по Сашкиным рассказам выходило, что теперь одеваются кто во что горазд, никакой фантазии не хватит вообразить.
– Та-а-а-анечка! – обрадовался бритый. – Я как раз недавно гадал, куда вы все пропали. А почему я спятил? Что не так?
– Ты ее кормить собрался, – строго сказала кудрявая Танечка, невежливо ткнув пальцем в сторону Иларии. – Гостеприимный такой. И как, интересно, ей потом домой возвращаться? После твоего кофе с булкой? Ты головой своей прекрасной подумал?
– Возвращаться? – почему-то переполошился бритый. – Ничего себе! Ты уверена? Ну и дела.
Илария наконец нашла в себе силы вмешаться в происходящее. Ну то есть как – вмешаться. Почти беззвучно пролепетать:
– Вы чего вообще? Почему это меня нельзя кормить? В кафе, за деньги?
– Извините, – сказала кудрявая девица в пижаме. – Я из полиции, хотя по моему виду, конечно, не скажешь. И даже документов при себе нет, хотя обычно мне всегда снится, что я с документами. И одета по форме. Но, как назло, не сегодня. Очень спешила. Боялась, не успею вас догнать. Сейчас все объясню.
* * *
Еще не успев вставить ключ в замок, услышал, как там, за дверью, Ларка зовет его: «Сашка, ты где?» Крикнул погромче, чтобы она точно услышала: «Я здесь, я сейчас!» И, конечно, потом битый час возился с незнакомым замком, так тряслись руки от облегчения и черт его знает, от чего еще.
Ларка сидела в постели, сонная, растерянная, печальная и одновременно очень довольная – вполне обычная для нее утренняя гамма чувств.
Сказала:
– Мне такое… всякое удивительное снилось. Проснулась, а тебя нет. Я еще подумала: «Вот это номер, куда-то я не туда проснулась». Как будто и правда можно проснуться не там, где перед этим заснул.
Сел рядом, обнял ее. Сказал:
– На самом деле это я проснулся, а тебя нет. Нигде. Представляешь? Выскочил на улицу тебя искать… Погоди, это что, получается, мне только приснилось, что я проснулся один? А на самом деле я проснулся уже по дороге, в подъезде? На бегу? То есть я у нас теперь лунатик? Ничего себе новости. Ну ты и влипла со мной, мать.
– Ничего, – утешила его Ларка. – Лунатик – именно то что надо! Мне подходит. Беру. Заверните. Нет, лучше разверните. В смысле снимай немедленно эти свои дурацкие штаны.
* * *
Потом, час спустя, когда они сидели за завтраком в кофейне, в двух кварталах от своего временного жилья, Илария будничным тоном, каким обычно говорят: «Кстати, я купила тебе ту красную кружку», – или: «Опять забыла взять зонт», – сказала:
– Представляешь, сегодня во сне я совершенно всерьез выбирала, остаться там навсегда или проснуться. Очень не хотела просыпаться! Но пришлось. Потому что здесь у меня ты.
Сперва не нашелся, что на это ответить. Только накрыл ее руку своей. Так и сидели. Наконец сказал:
– Спасибо. Если бы ты решила вернуться ко мне наяву, я бы, честно говоря, не очень удивился. Все-таки я у тебя вполне ничего. Но во сне человек обычно за себя не отвечает. А ты все равно…
– В этом сне я как раз за себя отвечала, – заметила Илария. – В смысле была не большей дурой, чем, например, сейчас. Это вообще не очень-то походило на сон. С моей точки зрения дело выглядело так: я проснулась под утро и вдруг обнаружила, что все вижу. По-настоящему, а не как всегда. То есть и стол, и кресло, и подоконник наощупь тоже стол, кресло и подоконник. И находятся ровно там, где должны быть. Я выглянула в окно, а за ним все примерно так, как мне вчера представлялось. В смысле мерещилось. Синие крыши, о которых я тебе все уши прожужжала, тюльпаны на клумбах, как весной, и прочая красота. И такое сладкое теплое раннее утро, что я не утерпела. Оделась и вышла на улицу. И пошла, куда глаза глядят, благо они и правда глядели. Думала, теперь так будет всегда. Но нет, оказалось все-таки просто сон.
Открыл было рот, чтобы сказать: «Ничего, бывает», – но слава богу, хватило ума прикусить язык.
– Я сама решила, что просто сон, – добавила она. – Оказалось, я могу выбирать: проснуться рядом с тобой, или выпить кофе с ватрушкой и пойти домой, что бы это «домой» ни означало. Подозреваю, что-нибудь очень хорошее. Огромный соблазн! Особенно горячая ватрушка. Ты не представляешь, как она благоухала свежим творогом и ванилью. А я хотела – даже не есть, а жрать, как тысяча бездомных котят. Но нечестно было бы вот так просто взять и исчезнуть без предупреждения, оставив тебя одного в этой дурацкой съемной квартире. Ты бы со мной так не поступил.
Илария смотрела прямо перед собой, почти на него, но все-таки немножко мимо. И улыбалась безмятежно, как шесть лет назад, когда он впервые увидел ее на крыше Casa Milà в Барселоне, сидящую, скрестив ноги, сияющую, неподвижную, с прозрачными зеленоватыми глазами, устремленными в небо, которого Ларка, как оказалось потом, не видела. Только воображала, каким оно могло бы быть.
Застыл тогда перед ней, как вкопанный. Твердил себе: перестань, дурак, хватит на нее пялиться, это самое неудачное начало знакомства, какое только можно придумать, так не делают, давай, извинись, добавь что-нибудь остроумное, придумай немедленно, только не стой столбом, не молчи, – но это совершенно не помогало, все равно стоял и смотрел, и она тоже смотрела – куда-то вдаль, сквозь него, как будто он вдруг стал невидимкой. И вдруг спросила, по-английски, с легко опознаваемым русским акцентом: «Извините, пожалуйста, но мне очень интересно: вы на самом деле загорелый двухметровый блондин или мне просто так показалось? Я иногда угадываю, а иногда нет». Колоссальным усилием воли оторвал от неба словно бы прилипший к нему, внезапно ставший тяжелым и неповоротливым язык, ответил: «Да не то чтобы двухметровый. Метр девяносто один, считайте, почти лилипут».
А что волосы у него темно-русые, и вместо загара шикарная зеленоватая бледность, характерная для офисных сидельцев из унылых северных стран, признаваться не стал. Сел рядом с ней и начал говорить – обо всем подряд, начиная с Гауди, которому на заре карьеры приходилось проектировать уличные туалеты, и заканчивая природой Черных дыр, о которых знал только из фантастических романов, прочитанных давным-давно, в детстве. И был чертовски убедителен. По крайней мере, когда появились Ларкины спутники, брат и какие-то девушки, она сказала им: «Это Сашка, мой очень старый друг, мы в школе вместе учились; нет, Полька, ты его точно не помнишь, ты тогда совсем маленький был. Сто лет не виделись и вдруг одновременно тут оказались, правда здорово?» Гениальная на самом деле идея: словосочетание «старый друг» убаюкивает бдительность, тогда как «новый знакомый», напротив, настораживает. Со «старым другом» можно сразу уйти, например, в кафе, якобы на пару часов, поболтать, и вернуться в гостиницу только под утро, никого особенно не встревожив; с незнакомцем такой номер вряд ли пройдет.
С ее слепотой он как-то сразу, на удивление легко – даже не смирился, а просто согласился. Некоторые люди заикаются, некоторые прихрамывают, а Ларка ничего не видит, значит надо это учитывать, водить ее за руку, помогать переступать пороги и подробно пересказывать впечатления, вместо того, чтобы просто подталкивать в бок: «Смотри!»
К вечеру они уже действовали так слаженно, словно провели рядом полжизни. И чувствовали себя соответственно, оба. Удивительная история, в голову бы не пришло, что так бывает. Но вместо того, чтобы удивляться, он хладнокровно планировал: что надо сделать вот прямо сейчас, завтра, через неделю и потом, чтобы бывать вместе почаще, а расставаться пореже, в идеале – вообще никогда. За ужином спросил: «Поедешь со мной в Норвегию? Мне там предлагают работу, на очень неплохих условиях, я уже почти согласился, но если ты не захочешь, я все отменю». И Ларка совершенно не удивилась такому вопросу от человека, с которым познакомилась всего несколько часов назад. Сказала: «Даже не вздумай отменять, Норвегия – это очень круто. Больше всего на свете люблю путешествовать, а там еще никогда не была».
Долго не решался спросить: «А почему ты любишь путешествовать? Какой в этом смысл, если не видишь, что делается вокруг?» – а когда наконец спросил, тут же покраснел, схватился за голову: «Ох, прости, я совсем дурак, не подумал, что кроме зрелищ есть запахи, звуки, погода, события, люди, еда и все остальное». Ларка молча кивала, соглашаясь с его аргументами, а потом вдруг добавила: «Если честно, зрелища тоже есть. Я часто что-нибудь вижу, не настоящее, конечно, а воображаемое, один врач говорил, это мозг так ловко компенсирует недостаток зрительных впечатлений, получать которые привык, пока я была зрячей; на самом деле, неважно, кто там чего компенсирует, факт, что дома, в Москве, это случается редко, зато когда я приезжаю в незнакомое место, вижу практически без перерыва – улицы, людей, дома и дворцы или просто пейзажи, обычно очень красивые. Но совсем не такие, как на самом деле, если верить рассказам моих спутников, вряд ли они все хором врут. Поэтому я очень люблю ездить, все равно куда. Но получается хорошо если пару раз в год, иногда с братом, чаще с папой. Мне, сам понимаешь, нужна компания, одна далеко не уеду». И он тогда деловито кивнул: «Ну и отлично, я тоже люблю ездить, почти все равно куда, так что компания для путешествий у тебя теперь есть».
Немного поколебавшись, спросил: «А прямо сейчас ты что-нибудь видишь?» – и Ларка ответила: «Освещенный цветными фонарями ночной бульвар, деревья с удивительной белой корой, пожилую торговку розами в кружевном пеньюаре, под которым, похоже, ничего больше нет, распахнутые настежь двери какого-то кабака, откуда только что втолкали взашей пьяного в клоунском костюме. Но ты учти, я не настолько сумасшедшая, чтобы принять эти видения за чистую монету. Просто смотрю, как кино. И при этом прекрасно помню, что на самом деле мы сидим на пустом городском пляже, освещенном редкими фонарями, по крайней мере, ты так говорил, когда мы сюда пришли». «Офигеть! – откликнулся он. – Как же интересно с тобой путешествовать! Куда ни приедешь, получишь два города вместо одного. Заверните, беру. В смысле никуда тебя больше не отпущу».
И действительно не отпустил. И никогда, даже в минуты самой черной, убийственной слабости, которые случаются у всякого, кто ввязался в игру под названием «жизнь», ни разу, ни на секунду об этом не пожалел.
* * *
– Вот эта тумба с останками афиш Рождественского концерта, – сказала Ларка, указывая на парковочный автомат. – А за ней, чуть дальше, красный дом с фресками и зайчик. В смысле химера. Потом я свернула… Знаешь что? Давай-ка попробуем пройти тем самым маршрутом, которым я гуляла во сне. До кафе, где мне так и не удалось съесть ватрушку, потому что кудрявая девочка в смешной полосатой пижаме, зачем-то представившаяся сотрудником полиции, сказала, что после здешней еды мне будет очень непросто вернуться к тебе; впрочем, вряд ли я вообще вспомню, что ты где-нибудь есть. И даже скучать не буду – не о ком станет скучать. Не представляешь, как я тогда испугалась. Но только этого. Больше ничего. Совсем не страшное место. Не враждебное. По крайней мере, мне там было отлично… Ладно, неважно. Пошли! Ужасно интересно, что мы обнаружим на месте того кафе – если, конечно, мне удастся вспомнить дорогу. Тогда, во сне, были сумерки, а сейчас я вижу ясный солнечный день. Это сбивает с толку.
Вставил зачем-то:
– На самом деле сейчас довольно пасмурно. И кажется, собирается дождь.
Ларка нетерпеливо кивнула:
– Да, знаю. Ты уже говорил, что погода стремительно портится. Но в моем городе светит солнце. И сладкий томительный май вместо честного северного октября. Поэтому держи меня крепче, чтобы не бросилась нюхать рекламный щит у троллейбусной остановки, утверждая, что это цветущий сиреневый куст.
Далеко, впрочем, они не ушли, вскоре уперлись в забор, за которым скрывалась стройка. Попробовали ее обойти, но теперь перед внутренним взором Иларии вставали совсем другие картины – дом с каруселью на крыше, площадь с фонтаном, устремленный в небо готический собор, оказавшийся, по ее утверждению, зданием средней школы, магазин париков, уличная пивная под полосатым навесом, скверик, засаженный цветущим боярышником и алой низкорослой японской айвой, все, по ее словам, невообразимо прекрасное, но совершенно незнакомое. В смысле во сне она этого не видела. «Ну и ладно, – с напускной веселостью твердила Илария, – подумаешь, не очень-то и хотелось. И так хорошо гуляем. Да просто отлично! А ты, дорогой друг, тоже поглядывай по сторонам, выбирай, где мы нынче будем обедать, по-моему, уже пора».
Ночью он почти не спал, только дремал, так чутко, что подскакивал от всякого Ларкиного вздоха. Не то чтобы всерьез думал, будто она может исчезнуть. Скорее, боялся увидеть давешний утренний сон о том, как проснулся один.
Ключевое слово – боялся. Вполне можно бояться, не уточняя, чего именно боишься. В этом смысле договориться с собой очень легко.
* * *
Оставшиеся два дня Ларка не то чтобы ходила мрачнее тучи, совсем нет. Просто он не мог не замечать, какие титанические усилия она предпринимает, чтобы выглядеть совершенно довольной происходящим. И беззаботно щебетать во время прогулок, описывая свои очередные видения: вот ярко-зеленый дом с круглыми окнами, вот огромное дерево, прямо в дупле которого сидит продавец мороженого и неловко свешивается вниз, принимая деньги у покупателей, вот удивительный переулок с фонарями на столбах, как бы завязанных узлом, вот мимо едет трамвай, а на плече водителя, представляешь, устроился попугай! Огромный, бирюзовый, с желтым хвостом, не удивлюсь, если он громко орет: «Пиастры», – но врать не буду, ты знаешь, вымышленных звуков я никогда не слышу, что на самом деле только к лучшему, но вот прямо сейчас немножко обидно.
Тогда он сам принимался орать: «Пиастррррры! Пиастррррррры!» – на радость окрестным детишкам, и Ларка тоже смеялась, а он, конечно, видел, какой ценой дается ей это веселье, и чуть не плакал от сострадания и досады. Приятное короткое путешествие как-то незаметно превратилось в худшую поездку их общей жизни. Но вслух он, конечно, ничего такого не говорил, потому что Ларка все время твердила: «Какой замечательный город! Как здорово, что мы сюда приехали! И как же не хочется уезжать!» Приходилось поддакивать.
Поддакивал-то поддакивал, однако поменять билеты не предлагал, хотя теоретически вполне мог позвонить на работу и договориться о двух-трех дополнительных днях отпуска, обычно ему шли навстречу и сейчас скорее всего пошли бы. Но об этом даже думать не хотелось. Нет уж, едем домой. По крайней мере, дома можно будет выспаться. А там, глядишь, все как-нибудь встанет на свои места.
* * *
В последний вечер он наконец расслабился. Не столько от бутылки легкого полусухого сидра, распитой на двоих в маленьком темном кафе, которое виделось Ларке пустым старомодным офисом, чем-то вроде конторы стряпчего из романов Диккенса, сколько от сознания, что вечер – последний. Завтра днем самолет домой.
И Ларка тоже расслабилась. По крайней мере, перестала делать вид, что все отлично. Открыто грустила, что пора уезжать. Даже всплакнула над третьим бокалом – боже, как жалко! Гуляла бы здесь еще и гуляла, глядела бы и глядела. Никогда раньше такого не было, чтобы уехать домой из чужого города, даже самого распрекрасного, – все равно что кусок сердца от себя оторвать.
Ее слезы его совсем не пугали. Он терялся перед Ларкиной притворной веселостью, зато прекрасно знал, что делать с честной печалью: обнимать, целовать кончики пальцев, сочинять планы будущих путешествий, один другого соблазнительней, говорить: «Ах ты рева-корова, бедный мой заяц, не нагулялась, не наигралась, а злой муж уже волочет домой, ничего-ничего, реви на здоровье, я тебя и с красным носом люблю, с красным почему-то даже больше, наверное, это такое изысканное извращение, тебе со мной крупно повезло», – и смотреть, как она смеется сквозь слезы, ощущая себя натурально спасителем сказочной принцессы, победителем всех злых драконов и великанов, без пяти минут загорелым блондином, кем же еще.
Домой, то есть в съемную квартиру, возвращались неторопливо, целуясь во всех подворотнях, как подростки, которым больше некуда деваться, петляли по городу такими причудливыми кругами, что в какой-то момент он перестал понимать, куда они забрели; одно утешение, что город довольно маленький, рано или поздно, то есть через пять или двадцать минут, непременно объявится какой-нибудь знакомый ориентир, а времени у них впереди – почти вечность. Целая долгая осенняя ночь, на удивление теплая и сухая, с чем-чем, а с погодой им в эту поездку удивительно повезло.
* * *
– А вот этот зайчик мне знаком! – вдруг сказала Илария, указывая, конечно же, вовсе не на зайчика, откуда бы ему тут взяться, а на закрытый сейчас газетный киоск.
Строго спросил:
– Что за зайчик? С кем это ты тут знакомишься, стоит мне отвернуться? И кстати, молилась ли ты на ночь, легкомысленная женщина? И если да, то кому?
Ларка рассмеялась, повиснув на его руке; сквозь смех кое-как объяснила:
– Просто забавная скульптура: спереди заяц, сзади павлин. Она мне уже мерещилась. Ну или снилась. Неважно. Важно, что именно где-то тут должен быть тот самый переулок, в котором было кафе. И несъеденная плюшка-ватрушка, главная фрустрация всей моей жизни. Там случайно нет строительного забора?
– Чего нет, того нет. Путь свободен.
– Отлично! – воскликнула Ларка. – Значит, идем туда. В смысле в ту сторону. Мне интересно…
Подхватил:
– Что там на самом деле находится?
Она на секунду замялась. Потом кивнула, но как-то без энтузиазма. И вдруг сказала:
– На самом деле ерунда все это. Я устала. Пошли домой.
Легко сказать – домой. Не признаваться же ей, что заблудился.
Но, внимательно оглядевшись, опознал наконец улицу и понял, что их временное пристанище совсем близко. Всего в паре-тройке кварталов. Не о чем говорить.
* * *
Уснул на этот раз довольно крепко. Сказалась накопившаяся усталость. Но все равно сквозь сон услышал, как Ларка встает с постели. Протянул к ней руку, сказал:
– Не уходи.
– Я только к окну, – откликнулась она. – Посмотрю, что могло бы мне сегодня присниться, если бы я, как дура, снова выскочила из дома и помчалась неведомо куда. Но я, конечно, не выскочу. Посижу тут немножко и сразу к тебе вернусь.
С трудом разлепил глаза. В комнате было довольно светло из-за горевшего прямо под окном уличного фонаря. Увидел, что Ларка, уже одетая, сидит на подоконнике и смотрит в распахнутое окно.
Поднялся, подошел, встал рядом. Хотел обнять ее, но почему-то не решился. Выглянул на улицу. Там был туман, такой густой, что очертания домов на противоположной стороне улицы скорее угадывались, чем действительно просматривались. А свет фонаря расплывался, как оранжевая клякса на школьной промокашке. Что видела там Ларка – бог весть. Впрочем, неважно. Что бы она там ни видела, ясно, что это зрелище кажется ей самым прекрасным в мире. Только это сейчас и важно. Остальное – полная ерунда.
Сказал:
– Я совсем не против с тобой прогуляться.
Она обернулась. Посмотрела – на него, не куда-то мимо, а прямо в лицо – с интересом, как на привлекательного незнакомца. Сказала:
– Я тоже совсем не против с тобой прогуляться. При условии, что ты закроешь глаза.
* * *
Пока спускались по лестнице, он думал: «Значит, все-таки сон. Наяву я никак не мог согласиться на такую глупость. А во сне человек за себя не отвечает, какой с меня спрос». Но облегчения эти мысли почему-то не приносили. Хотя должны бы: сон – это же просто сон. Утром все будет иначе. Нормально. Как всегда.
Спускались как-то удивительно долго, хотя наяву жили всего на третьем этаже. Лестница вроде бы закручивалась спиралью; впрочем, ему могло просто показаться. Не привык ходить вслепую, опираясь на Ларкину руку. До сих пор было наоборот.
Очень хотел открыть глаза и посмотреть на эту чертову бесконечную лестницу, но крепился. Все-таки обещал. Ларка сказала: «Если откроешь глаза, ничего не получится», – и он дал честное слово, что не станет подглядывать. Даже на улице, хотя больше всего на свете боялся, что Ларка может попасть под машину. Просто врезаться в столб или упасть, споткнувшись, – это как раз ладно, переживем.
Наконец лестница закончилась, скрипнула дверь подъезда, и воздух стал свежим, сырым и таким ароматным, что даже непонятно, можно ли им просто дышать. Судя по звукам, никаких машин на улице сейчас не было, даже где-нибудь вдалеке. Уже хорошо.
– Не бойся, – сказала Ларка, – я правда все вижу. И когда трогаю, чтобы проверить, оно оказывается на месте. Вот, например, дерево, кажется, тополь; впрочем, могла перепутать. Неважно, дай руку, вот, сам пощупай – это же дерево? А не какой-нибудь паркомат. И не столб.
Под его ладонью и правда оказалась древесная кора.
– И куртка на тебе сейчас серая, – добавила Ларка. – А вовсе не оранжевая, как ты мне почему-то заливал. Кстати, зачем?
– Хотел тебе еще больше понравиться. Ты иногда говорила, описывая свои видения: здорово, когда люди одеваются ярко, особенно мужики. И я решил соответствовать. Долго примерял в магазине куртки всех цветов радуги, но понял, что чувствую себя полным идиотом. Поэтому купил серую, а тебе соврал, чтобы порадовать. Совсем дурак. Прости.
– Да ну тебя! – рассмеялась Ларка. – Было бы за что извиняться. По-моему, очень трогательная история. И теперь у тебя есть доказательство, что я действительно все вижу. Не будешь так сильно бояться, что я приведу нас на край какой-нибудь пропасти, заполненной гоночными автомобилями, мчащимися на скорости тысячу километров в час.
Сказал:
– Да ладно тебе – тысячу. Средняя скорость гоночного болида – всего каких-то несчастных триста с хвостиком. Но по сути ты, конечно, права.
* * *
Шли очень медленно. Ларка понимала, что он не привык ходить вслепую, щадила его, как могла, о каждом бордюре и повороте предупреждала заранее, а потом еще раз, еще и еще. А в перерывах тараторила без умолку, рассказывала, как он обычно рассказывал ей: сейчас мы идем по улице, где много старых домов, крытых синей черепицей, о которой я уже все уши тебе прожужжала, но ничего не поделаешь, она снова есть. Вместо электрических фонарей на этой улице горят факелы, то есть, просто открытый огонь на таких специальных круглых подставках – жаровнях? – не знаю, как точно сказать. А вот и афишная тумба, вся в лоскутах красно-зеленых плакатов, все приглашают на большой Рождественский концерт, начало в шестнадцать-ноль-ноль, двадцать четвертого декабря пятнадцатого года; боюсь, мы с тобой немного опоздали. И зайчик! Тот самый зайчик с павлиньей задницей, за знакомство с которым ты нынче планировал меня придушить, совершенно зря, между прочим, он бронзовый и вообще не в моем вкусе. То есть умиляться – да, а так – пожалуй, все-таки нет. А к той красной стене мы с тобой подходить не будем, там куча картинок, я с непривычки зависну на пару часов, разглядывая подробности, и ты совсем заскучаешь. Нет уж, вперед и только вперед, где-то там, в туманной дали меня ждет возлюбленная моя ватрушка и кофе, очень много горячего кофе, никогда особо его не любила, а теперь даже руки от жадности дрожат. Кстати, если хочешь понюхать тюльпаны, это можно устроить, подведу тебя к самой клумбе… Впрочем, нет, тюльпаны отменяются, там ужасная лужа, не пройти, так что ладно, будем нюхать издалека. Вот еще бы вспомнить, куда я потом повернула… Да, точно. Сюда.
Шел за ней, слушал, думал: сон это или нет, но когда я в последний раз видел Ларку такой счастливой? Пожалуй, вообще никогда, даже в постели, мало ли что казалось. То-то и оно. Думал: ясно, конечно, что сон, так не бывает, чтобы слепая прозрела ни с того ни с сего. Ладно, пускай сон, но, Боже, если Ты все-таки есть, сделай так, чтобы эта прогулка снилась не только мне, но и ей. А если Тебя нет, все равно сделай, я знаю, Ты точно справишься, кому и заведовать снами, как не выдуманному всемогущему существу.
Запах кофе, горячего теста, корицы, ванили, чего-то еще, сладкого, как квинтэссенция простых земных радостей, он почуял задолго до того, как Ларка сказала: «Надо же, все-таки нашла! И открыто. Ну, значит, живем. Осторожно, сейчас будет ступенька. А потом я помогу тебе взобраться на табурет».
Только усевшись, понял, как на самом деле устал от долгих хождений вслепую, от мыслей, панических и восторженных, вперемешку крутившихся в голове, от Ларкиного счастья и своего страха, вернее, двух страхов: что их ночная прогулка по незнакомому городу окажется сном и что она в любой момент может стать единственной явью, данной ему в ощущениях, раз и навсегда. А больше всего – от собственной неспособности выбрать, чего продолжать бояться, а чего следует немедленно захотеть – скорее, пока не сбылось, чтобы стало потом приятным сюрпризом, а не ужасом, способным свести с ума.
Ладно, устал и устал, подумаешь, с кем не бывает. Это даже немного смешно: спать и видеть во сне, как ты задремал, сидя на высоком жестком табурете, и сквозь сон слышишь два голоса: слишком бодрый для такого раннего часа мужской, восхваляющий достоинства свежевыпеченных булок, и женский, Ларкин, победительно звенящий: «Вот эту ватрушку давайте, я ее долго ждала».
Прежде пару раз пробовал пить и есть вслепую, просто из любопытства, чтобы понять, каково приходится Ларке; оказалось, совсем не так вкусно, как с открытыми глазами, наверное, человеческий мозг замирает в смятении, внезапно лишившись одного из привычных источников информации, и не успевает поставлять обычный набор ощущений. Но сейчас, в этом сне наяву про ночную кондитерскую, вкус кофе оказался сногсшибательно ярким, хоть в обморок падай, пригубив.
Ларка пихнула его в бок, сказала: «Теперь все в порядке, можешь открыть глаза». Открыл, и первое, что увидел, – свою неожиданно смуглую или просто очень загорелую руку, сжимающую здоровенный круассан, такой горячий, что хоть обратно на тарелку кидай. Однако не кинул. Откусил, прожевал, сказал:
– Отличная штука. До сих пор думал, лучшая выпечка в нашем городе в пекарне у толстого Тима, на трамвайном кольце, а оказывается, у вас. Заверните, беру. В смысле я ваш верный клиент навеки. Молодец Ларка, что меня сюда привела.
Улица Кудрю (Kūdrų g.) Игра важнее, чем я
Иногда я просыпаюсь настолько человеком, что хоть переворачивайся на другой бок и снова засыпай. Звучит неплохо, но обычно это не помогает. В смысле, уснуть-то можно, но во сне эта напасть, по моему опыту, не проходит, только наяву. Так что лучше сразу вставать.
Нёхиси считает, это у меня вместо простуды. Устал, замерз, зачем-то зашел на рынок или прокатился в троллейбусе, утратил бдительность, подцепил вирус, ничего страшного, с каждым может случиться, скоро пройдет. И ведет он себя соответственно: достает из погреба малиновое варенье, кутает мой дом целебными туманами по самую печную трубу и превращает то воду в горячее вино, то утренний кофе в травяной чай с медом и лимоном. Последнее, на мой взгляд, лишнее. Но Нёхиси хрен переубедишь, ступив на путь милосердия, этот тип становится воистину страшен. Мое счастье, что он, похоже, не подозревает о существовании горчичников. То-то бы я поплясал.
Хуже всего в этой истории, что, проснувшись человеком, я никакого Нёхиси не вижу. Максимум – слышу, да и то сильно через раз, если хорошо постараюсь. Но, по крайней мере, я о нем по-прежнему знаю. Это большое облегчение, я еще помню времена, когда все забывал.
По сравнению с прежними приступами обострения человечности нынешние – полная ерунда. Я, конечно, злюсь, что впереди как минимум день совершенно бездарного времяпрепровождения, а то и два, если не все пять. Но заранее уверен, что рано или поздно все снова будет в порядке. Если уж раньше справлялся, сейчас – раз плюнуть. Но пасаран.
Главное утешение в этой невыносимой ситуации, что теперь я совершенно точно знаю: все происшествия, которые люди обычно считают «странными», «пугающими», «сводящими с ума», на самом деле свидетельствуют, что со мной по-прежнему все в порядке. Ну, почти. В частности, я прекрасно понимаю, что если окно в моей комнате открылось само собой, и в него ворвался совершенно неуместный в феврале летний горячий ветер, швырнул на мой стол мандарин, оранжевую салфетку из кафе, изрисованную смешными кошачьими рожицами, три шоколадных конфеты и цветущую маргаритку, это просто лучший друг пришел меня навестить. А что предпоследние условно приличные штаны внезапно слетели с вешалки и элегантно обвились вокруг моей шеи, так это он меня заботливо кутает – в меру своих представлений о том, что такое «заботливо укутать». Они у Нёхиси и так-то несколько более эксцентричные, чем у меня, а сейчас – вообще хоть святых выноси. Ну, или, наоборот, вноси. Я бы, пожалуй, парочку внес. Определенно не помешают.
Но ладно, справимся без святых.
Я говорю, воздев глаза к потолку, хотя совершенно не факт, что Нёхиси расположился именно там:
– Видишь, какая фигня. – И, помолчав, добавляю: – Спасибо, что пришел навестить. Ты лучший в мире выдуманный… прости, конечно, не выдуманный, а совершенно реальный, данный мне в острых ощущениях друг. Самое главное, когда я сварю кофе, не превращай его, пожалуйста, в чай с лимоном. Только чая мне сейчас не хватало. И так утро не задалось.
Я не слышу, что отвечает Нёхиси, но знаю его достаточно долго, поэтому догадываюсь, он сейчас ворчит: «Ладно, тебе же хуже. Чай, к твоему сведению, полезен для здоровья. Особенно травяной».
– Кофе тоже полезен, – говорю ему я. – Там до хрена витаминов. И наверняка каких-нибудь минералов. И микроэлементов. Знаешь, что такое микроэлемент? Я тоже не очень, но знать и не обязательно, в микроэлементы достаточно верить, примерно как в нас с тобой. А самое главное, кофе улучшает работу головного мозга. Вот почему я пью его ведрами и собираюсь продолжать в том же духе. Головной мозг – отличная штука, лучшее, что у меня сейчас есть.
Нёхиси ржет так громко, что звенят оконные стекла, даже я, уж на что нынче плох, а слышу его смех. Нёхиси кажется, что наличие у меня самого настоящего головного мозга – лучшая шутка в этой части Вселенной. Хотя лично я не вижу никаких причин, почему бы мне его не иметь.
Ладно, пусть веселится, лишь бы кофе в якобы целебную пакость не превращал.
Он и не превратил, спасибо ему за это. А явственный привкус гречишного меда вполне можно пережить. Я в этом смысле стойкий боец, даже кофе с чесноком однажды попробовал, якобы по старинному турецкому рецепту. Не могу сказать, что остался доволен, но, по крайней мере, баристу я в тот раз не убил и Турции войну не стал объявлять; кажется, даже в глаз никому не заехал, но тут я уже не настолько уверен, давно дело было. Очень, очень давно и, строго говоря, не со мной. А с дурацким человеком, который сегодня зачем-то проснулся вместо меня.
Я пью кофе, смотрю в окно, за которым сейчас вместо привычной уже прозрачной тьмы бытия и сияния его великолепной изнанки – всего лишь неумело прикинувшийся единственной реальностью традиционный, почти бесснежный февральский пейзаж: мой палисадник, ветхий забор, за ним тропинка, по какому-то нелепому недоразумению обозначенная в городских реестрах как самая настоящая улица Кудрю, черные от мороза и солнца деревья да старые черепичные крыши соседних домов на фоне бледного полуденного неба. На самом деле тоже вполне красиво. Просто мне мало. Я-то знаю, что это – не все.
Нёхиси сейчас наверняка свешивается с потолка, спрашивает: «Чем займемся?» Или: «Ты уже придумал, как будешь выкручиваться?» Или, что наиболее вероятно: «Я могу помочь?» Голоса я по-прежнему не слышу, но явственно ощущаю его присутствие и направленное на меня внимание. Вот и ладно. С этим уже вполне можно жить.
Я пока не придумал, как буду выкручиваться конкретно сейчас. Но метод мне известен, его я изобрел так давно, что даже не помню, когда именно; может быть, вообще всегда знал. Чувствуя, что начинаю заболевать, я тут же хватался за какое-нибудь интересное дело; ключевое слово – «интересное», от скучной работы толку ноль. Зато когда удавалось всерьез увлечься, я забывал о болезни, и она обиженно уходила, на прощание хлопнув дверью, так что содрогалось все мое тело, в которое ее, заметим, никто не приглашал.
Этот метод и сейчас работает безотказно: если вести себя так, будто ничего не случилось, вскоре выяснится, что действительно ничего не случилось. Подумаешь, утро не задалось. Просто встал не с той ноги.
Тут правда есть одно небольшое техническое затруднение: проснувшись до такой степени человеком, как сегодня, я практически ничем интересным заняться не могу, потому что ничего не умею. Разве вот, кофе варить, по-прежнему круче всех на четырех берегах наших двух рек. Но просто сварить кофе всегда оказывается недостаточно. Не знаю, почему, но оно так.
Однако кофе действительно улучшает работу головного мозга, ученые не врут. Поэтому после первой чашки я вспоминаю, как лет семь, что ли, назад в аналогичной бедственной ситуации развлекался, сочиняя роман, который планировал написать на стенах домов и заборах, по одной фразе на стену, по персонажу на улицу, по любовному свиданию на перекресток; впрочем, некоторым перекресткам должны были достаться дружеские встречи, а одному – таинственное убийство и одновременно его разгадка, как-нибудь так. Вместо романа в итоге вышел всего лишь рассказ; впрочем, довольно длинный. Дождавшись ночи, я побежал его писать, прихватив коробку мела, но оказалось, руками можно ничего не делать, надписи на стенах уже появились, причем даже более удачные, чем в черновике, а я – это снова я.
А как-то, – вспоминаю уже после второй чашки кофе, – я всю ночь увлеченно красил акрилом камни и выкладывал разноцветные спирали на речном льду, возле Зеленого моста, чтобы поутру водители и пешеходы выворачивали шеи, пытаясь понять, что там такое, что означает и какого черта оно вообще есть. Однажды сутки кряду вырезал из серебристой фольги семиконечные звезды, а потом рассыпал их по тротуарам. В другой раз исписал все те же многострадальные тротуары обнадеживающе бессмысленными надписями: «Уже совсем рядом», «Оно где-то здесь», «Может быть, за углом». А буквально в прошлом году, когда меня вот так же скрутило, рисовал на дверях парадных смешных инопланетных чудовищ, как бы выламывающихся наружу, успел всего шестерых, зато они были прекрасны, все-таки я неплохой художник. В смысле умею способствовать торжеству жизни, внося в нее упоительный хаос, даже когда из великого множества инструментов изменения реальности у меня остались только две руки и голова – всего одна, зато до краев заполненная тем самым мозгом, работу которого я в поте лица улучшаю вот прямо сейчас. Где там моя джезва? Третья чашка кофе столь выдающемуся мыслителю совершенно точно не повредит. Что бы придумать такого, чего я еще никогда не делал? Реальность реальностью, но себя тоже надо развлекать. Себя, собственно, в первую очередь. Я – это очень важно. Реальность начинается с меня.
Не знаю, следит ли Нёхиси за оптимистическим ходом моих мыслей, но он определенно все еще рядом. А как еще объяснить, что моя джезва сама худо-бедно помылась, наполнилась водой и теперь неспешно ползет к плите.
Одновременно к плите приближается сковородка. Судя по решительному выражению ручки, она намерена самоотверженно приготовить мне оладьи, или еще что-нибудь в таком роде, благо мука в доме есть; знать бы еще, откуда она здесь взялась. С другой стороны, должны же быть в моей жизни хоть какие-то необъяснимые чудеса.
Однако факт остается фактом: мука у меня есть. И, кто бы мог подумать, масло. И яйца. И сахара почти полный пакет. И еще куча всего… А, вспомнил! Это потому, что совсем недавно был китайский Новый год. Мы совершенно случайно о нем узнали из разговора на улице, и Нёхиси по такому случаю попытался превратить мою старую шляпу в праздничный торт, но вместо торта у него почему-то получилась кошелка с продуктами, как будто просто в супермаркет сходил; шляпа, впрочем, действительно бесследно исчезла. Мы решили, ну его к лешему, этот несбывшийся праздничный торт, и отлично скоротали остаток ночи, превращая сонных голубей в разноцветных драконов; от такой внезапной перемены в жизни бедняги теряли равновесие, падали с карнизов в подтаявшие сугробы и с перепугу гадили огненными фейерверками, любо-дорого было поглядеть.
Ладно, неважно. Главное, я уже знаю, что можно сделать с мукой, маслом, яйцами, сахаром и воспоминаниями о китайском Новом годе – если уж так получилось, что они у меня есть.
– Сейчас будем печь печенье, – говорю я вслух.
– Оййй блиииииин! – стонет Нёхиси, так громко, что я совершенно отчетливо его слышу.
Вот теперь, похоже, он встревожился по-настоящему. Уже небось приготовился мчаться за Стефаном, чтобы тот пришел и изгнал из меня злых духов. Хотя, если по уму, злых духов сейчас следовало бы в меня загонять. Глядишь, вышел бы толк.
– Не спеши отчаиваться, – говорю я. – Это как минимум не спортивно. Подумаешь, тоже мне горе – раз в жизни решил испечь печенье!
«В том-то и ужас, что раз в жизни», – ворчит Нёхиси. Ну или просто думает. Или ничего такого не думает, а я сочиняю за него. Трудно сейчас разобрать, но, в общем, причина его тревоги понятна. Я и домашняя кулинария – стихии настолько несовместимые, что на месте Нёхиси я бы и сам, пожалуй, перепугался и приготовился к эвакуации. Но я, увы, на своем. Говорят, сумасшедшим всегда кажется, что они очень разумно рассуждают, вот и я сейчас совершенно уверен, что испечь печенье мне по плечу.
– Только без паники, – говорю я. – Во-первых, тебя никто не заставит это есть. Более того, даже если очень захочешь, больше одной штуки не дам. Это будет не просто жратва, а печенья с предсказаниями. Chinese fortune cookies; впрочем, я где-то когда-то читал, что на самом деле их изобрели японцы, а у китайцев просто были похожие «лунные пирожки». Нет, не с начинкой из лунного света, а всего лишь соответствующей формы. Как тебе идея? По-моему, вполне ничего.
Нёхиси так, похоже, не думает. По крайней мере, сковородка взмывает к потолку. Ладно, хоть не норовит стукнуть меня по лбу, а то хорош бы я был, отбиваясь от собственной посуды, наедине с собой.
– Ты не понял, – говорю ему я. – Главное в этом деле не сами печенья, а предсказания. Мы с тобой их вместе придумаем, запишем, сунем в печенья, а потом… Неважно, увидишь. Только прикинь, какой восхитительной ерунды можно будет понаписать! А что касается теста, никакой отсебятины, обещаю. У Тони спрошу. И запишу. На бумажку. Слышишь?
Сковородка вздрагивает и медленно возвращается на подставку возле плиты. Надо же, какой Нёхиси нынче покладистый. Я даже не надеялся так быстро его убедить. Хотя мое обещание записать рецепт на бумажку – серьезная жертва на его алтарь. Примерно как сто отборных быков. Или даже сто десять.
У моего друга Тони великое множество разнообразных достоинств. Но важнейшими из них для меня сейчас являются два. Во-первых, к Тони можно не только влететь в окно, на ходу превращаясь во что-нибудь совершенно абсурдное, но и просто позвонить по телефону. И поговорить. И услышать, что он отвечает, вне зависимости от того, кто из нас насколько сейчас человек. А во-вторых, он повар от бога; строго говоря, от нескольких разных богов. И всегда готов поделиться рецептом с любым живым существом, даже не желающим его слушать. Догонит, обездвижит и поделится, никто от него не уйдет.
Сейчас мне это на руку.
– Значит, так, – невозмутимо говорит Тони. В отличие от Нёхиси, он совсем не удивлен. Тони считает, кулинария – что-то вроде бога, каждый рано или поздно к ней придет. – Значит так, – повторяет он, – слушай меня внимательно. Самое сложное из всего, что тебе предстоит, это растопить сливочное масло. Остальное – сущие пустяки.
Растопить масло – это я влип, конечно. Гораздо проще было бы провернуть то же самое с парой тысяч немилосердных сердец, по крайней мере, руками ничего делать не надо, и без специальной посуды можно обойтись.
Несколько секунд я малодушно прикидываю, не засунуть ли мне бумажки с предсказаниями, например, в яблоки. Или сделать с ними бутерброды. Или вообще раздать просто так, без еды. С другой стороны, стыдно вот так сразу пасовать перед трудностями. Человек рожден для подвига. Обычно меня это не касается, но вот прямо сейчас я, к сожалению, именно человек. Поэтому ладно, пусть будет подвиг. Зря я, что ли, полчаса по всему дому бумагу с ручкой искал.
Записываю рецепт. Он звучит как бред сумасшедшего; впрочем, для меня все кулинарные рецепты так звучат. С другой стороны, сам-то я сейчас кто? Сумасшедший и есть. Так что все довольно гармонично складывается.
– Самое главное, – говорит в завершение Тони, – бумажки с предсказаниями нужно успеть вложить, пока печенье горячее. Тогда его еще можно свернуть и слепить, как пельмень. Когда остынет, затвердеет, и ты уже ничего с ним не сделаешь. Ясно?
Да уж куда ясней.
– Слушай, – говорю я Нёхиси, – а ведь ты наверняка можешь растопить масло одним прикосновением. Или, не знаю, тремя. Это была бы неоценимая помощь. Потому что – ну ты только вообрази, как я пытаюсь делать это в кастрюле…
И умолкаю на полуслове, зачарованно уставившись на кусок масла, начинающий таять прямо на кухонном столе. Буквально в последний момент все-таки ору: «Погоди, дам миску!» – и спасаю положение. Нёхиси, конечно, тоже тот еще кулинар. Но все равно, как же он меня выручил. Если я все-таки псих, то самый везучий на свете, вон какие полезные в хозяйстве галлюцинации отрастил.
– А теперь, – говорю я, задвинув противень и закрыв духовку, – самое интересное. Будем писать предсказания. То есть ты – диктовать, а я – записывать. В идеале. Если разберу, что ты говоришь. Мне сейчас, сам знаешь, очень важно тебя слышать. И, хорошо бы, правильно понимать.
Вокруг моей шеи, прямо поверх уже намотанных на нее штанов обвивается мокрое кухонное полотенце. Это Нёхиси снова заботливо меня кутает. От сострадания и других возвышенных чувств. Впору прослезиться, но вместо этого я беру лист бумаги, ножницы и разрезаю его на сколько-то там кусочков, по большей части, косых и кривых. Это нарочно. Не надо мне сейчас ровных линий, ну их к черту совсем.
С нарезанными бумажками и первым попавшимся под руку маркером, устраиваюсь на краю обсыпанного мукой стола, умоляюще возвожу глаза к потолку – дескать, ну же, давай, диктуй! В ответ мне сперва звенит совершенно невыносимая, полная тишина, а потом Нёхиси совершенно внятно и отчетливо говорит:
– Не гони картину. Мне надо подумать. Все-таки предсказания, не кот чихнул.
Другой на моем месте сейчас разрыдался бы от облегчения. А я только носом шмыгнул. Герой.
Пока я геройствую, Нёхиси думает. А время, меж тем, идет, печенья нас ждать не будут. Но вот наконец с неба, вернее, откуда-то с сияющих высот дедовского платяного шкафа раздается глас:
– Художник должен быть обжорой!
– Чего-о-о?! – не веря своим ушам, переспрашиваю я.
– Художник должен быть обжорой, – терпеливо повторяет Нёхиси. И строго добавляет: – Это мое первое пророчество. Запиши.
Миг, и мы оба уже хохочем, возможно даже в обнимку, но в этом я не уверен, слышать его уже слышу, а не чувствую пока ни черта. Ладно, с ощущениями потом разберемся. Сейчас главное быстренько это все записать.
– Ты умеешь присниться вовремя, – диктует Нёхиси. – Машина времени из палки от швабры, рукавицы и селедочного хвоста. Не препятствуй естественному течению кошки. Сможешь в апреле. Твоя тень толще тебя. Никогда не плачь в шторм. Сейчас поиграем в прятки. Не надо ссориться с бисером. Дождь – это не ты. После того, как покрасишь волосы в фиолетовый цвет, на тебя перестанут обращать внимание. Следуй за голосом, от хора беги. Мантикоры – лучшие друзья девушек. Не вздумай ссориться с треугольниками. Не все, что падает с неба, непременно звезда. Скоро принесут твою голову из починки. Не притворяйся лошадью, ты – ягуар.
– Погоди, – прошу. – Я за тобой не успеваю.
– Ладно, – соглашается Нёхиси. И после небольшой паузы предлагает: – Напиши что-нибудь сам. А то чего я один на этой пашне надрываюсь.
Ох, да не вопрос.
«Так долго вглядывался в бездну, что как честный человек, должен был на ней жениться», – пишу я. И Нёхиси ехидно вставляет:
– Кому что, а голому баня.
Он прав. Но с толку меня не собьешь.
«Никогда не поздно научиться прыгать через скакалку», – оптимистически пишу я на очередном клочке бумаги. «Шаги должны быть разного цвета». «Горел синим пламенем, остался очень доволен». «Прыжок в сторону – это самое вкусное». «Придешь со своим фонарем, запишут в небожители». «Где граница между тобой и имбирным пряником, не знает никто». «Примерещусь тебе четыре раза, потом твоя очередь». «Море волнуется, просит срочно позвонить».
– Космос – не салат, а гораздо проще, – не утерпев, влезает Нёхиси. – Любовь управляет супом. Самая полезная еда – на букву «П».
Я записываю и это, никаких возражений. Насчет космоса ему точно видней. Насчет супа, салата и прочей жратвы, вероятно, тоже.
Бумажки как-то неожиданно заканчиваются, да и печенье, судя по запаху, пора доставать из духовки. Пишу: «В отчаянии много витаминов», ставлю точку. На этом все.
– Тридцать штук получилось, – говорю я, свернув последнее печенье. – Устал при этом, как будто испек три сотни. Ужасная штука эта кулинария. Трудное древнее колдовство.
Нёхиси швыряет в меня подушку. Не то заступается за кулинарию, не то просто от полноты чувств. Спрашивает:
– Что дальше?
– Увидишь. Ты случайно не знаешь, который сейчас час?
На стене возникают часы с кукушкой. Впрочем, вместо кукушки оттуда высовывается потрепанный жизнью василиск с головой не столько петуха, сколько ощипанного попугая. И говорит: «Мяу». Семь раз.
– Всего семь вечера? Отлично. Тогда пошли, – говорю я. И наконец снимаю с шеи свои условно приличные штаны. Теперь им придется занять более традиционное место. Я, увы, не настолько авангардист.
Большая удача, что я обаятельный. Правда, секрет моего обаяния описывается формулой «этому лучше не перечить, может укусить». Но какая разница, главное, что отказать мне практически невозможно – в тех редких случаях, когда я о чем-то прошу.
– Хочу сделать вам подарок, – говорю я и так широко улыбаюсь, что в этот момент меня очень легко перепутать с каким-нибудь сдуревшим от долгого пребывания в человеческой шкуре лесным оборотнем. В смысле, очень заметно, что укусить я действительно могу, что на самом деле неправда, делать мне больше нечего – посторонних девиц кусать.
Однако посторонняя девица, темноволосая, сероглазая бариста с чудесным детским румянцем на щеках, смотрит на меня с таким восхищенным отчаянием, словно я уже не раз являлся ей в страшных снах. Впрочем, кто меня знает, может быть и являлся. За мной не уследишь.
– Не вам лично, а вашим клиентам, – исправляюсь я. – Но и вам тоже, если захотите. В общем, всем подряд.
И вынимаю из-за пазухи сверток с печеньем. Пахнет оно, надо сказать, сокрушительно. Да и выглядит вполне ничего, хотя бывший скульптор в моем лице мог бы слепить края и поаккуратней.
– Это печенья с предсказаниями, – говорю я в ответ на немой вопрос. – Chinese fortune cookies, в честь китайского Нового года, он же совсем недавно… – на этом месте мой взгляд падает на настенный календарь, и я, спохватившись, исправляюсь: – То есть уже, получается, в честь Луперкалий. В смысле Валентинова дня. Тридцать китайских валентинок для любителей пить кофе по вечерам. – И увидев, что моя сероглазая бариста окончательно впала в замешательство, добавляю: – Я художник. У меня проект.
Убойный аргумент, на все времена и случаи. По крайней мере, в нашем городе. На том и стоим.
Вот и сбитая с толку бариста тут же умиротворенно улыбается и кивает. И достает откуда-то из-под стойки большое керамическое блюдо:
– Раз проект, высыпайте сюда. А мне одно можно?
– Да просто необходимо, – говорю я. – С кого и начинать проект, если не с вас.
Разломив печенье, она тихонько смеется. Я, конечно, умираю от любопытства, но не подглядываю. Читать чужие предсказания некрасиво, даже если ты сам их только что написал. Ну и потом, гадать интересней: что ей досталось? Про мантикору? Или про лошадь? Или вкусный прыжок в сторону? Или мое обещание четырежды примерещиться? Я бы, честно говоря, совсем не прочь.
– Что это у вас? Можно попробовать? – спрашивает ее строгий молодой человек с узлом волос на затылке. И, не дождавшись ответа, берет печенье.
– Осторожно, там бумажки, – говорит ему бариста. – С предсказаниями, не проглотите. Мне досталось очень смешное. А печенье вкусное – обалдеть.
– Пошло дело, – шепчет мне в ухо Нёхиси. Надо же, он сегодня, оказывается, при галстуке и в строгом черном костюме. Сумрачная элегантность гробовщика.
Мы сидим на дереве, через дорогу от кафе, где я оставил печенье. Следим за входящими и выходящими оттуда людьми. И ведем подсчет опророченных – на пальцах, для точности. Ради удобства Нёхиси временно отрастил еще две руки – голые, без рукавов. Мне даже смотреть на это безобразие холодно, а ему хоть бы хны.
– Смотри, какая игра завертелась, – говорю я ему. – Смотри, какая игра! Даже не ожидал, что будет так круто. Вот эта женщина – видишь? – зашла сюда в полном отчаянии, сама не зная, зачем, а вышла – натурально вылетела на крыльях. Даже не представляю, что ее так вдохновило? Витамины? Синее пламя? Ладно, неважно, главное результат. А этот толстяк крепко о чем-то задумался, похоже, его проняло. А помнишь ту парочку в самом начале? Такие хорошие дети, ссорились на пороге, а вышли уже в обнимку. Мы с тобой молодцы – такую отличную игру устроили, да еще в тот момент, когда я вообще ни черта не мог.
– Ну, теперь-то ты, похоже, пришел в себя, – улыбается Нёхиси. – Это самое главное.
– Да я-то как раз ладно, – отмахиваюсь. – Так или иначе пришел бы, куда я от себя денусь. Главное, игра у нас получилась. Игра важнее, чем я.
Улица Лабдарю (Labdarių g.) Разговор по-немецки
Уснуть смог только под утро, зато и спал потом почти до полудня, игнорируя призывные трели поставленного на девять будильника. Проснувшись, долго еще лежал с закрытыми глазами. Сперва пытался досмотреть сон, а потом, когда понял, что продолжения не будет, хотя бы побольше вспомнить и быстро-быстро, пока все, что казалось сокровенным смыслом, не превратилось в мутную бредовую лужицу, мелеющую под воздействием дневного света, заново пересказать себе бодрствующему – простыми словами, максимально полно и внятно, как рассказывал бы совершенно постороннему собеседнику.
Это удалось лишь отчасти. Был бы учеником начальной школы сновидцев, получил бы примерно «шестерку» по десятибалльной системе. Потому что вспомнил, конечно, далеко не все. А перевести на язык, понятный дневному сознанию, смог и того меньше.
Снилось, что шел по улице – считалось, как будто это соседняя Лабдарю, хотя выглядела она, конечно, совершенно иначе – обычное дело во сне. Точно не один, но с кем? Ни лица, ни, тем более, имени уже не вспомнить, лучше даже и не пытаться, потому что память обязательно попробует совершить подмену, заместить неведомого спутника из сновидения просто знакомым лицом, или услужливо подсказать, будто их было, например, трое, а то и вообще шестеро, а это уже никуда не годится, стоп! Просто с кем-то шел. И тут откуда-то появилась книга. Кажется, нашли в каком-то дворе целую пачку одинаковых новеньких, только из типографии… или не одинаковых? Теперь не вспомнить, но на обложке той, которую сразу взял в руки, было название «Книга перемены мест слагаемых», крупные синие буквы на алом фоне. Вот это точно запомнил, сам бы не выдумал. Просто в голову не пришло бы так лихо скрестить И Цзин и школьный курс арифметики.
Пока варил кофе, зачем-то записал в телефон все, что удалось вспомнить:
«Книга перемены мест слагаемых».
«Утонувшие в реке времени опускаются на ее дно, и лежат там, запутавшись судьбой за коряги; лишь тех, чья судьба коротка и жестка, как волосы новобранца, может унести течением и выбросить на берег – в любом месте, как повезет».
«Рисуя карту несуществующей местности, человек, сам того не зная, чертит новую карту своего внутреннего пространства, ключ от которого рано или поздно получит. Но кто его получит – это вопрос».
«Когда знакомое, вдоль и поперек исхоженное вересковое болото становится оливковой рощей, постарайся проснуться одновременно в обоих местах. Не пожалеешь».
«Люди думают, будто изобрели зеркала, тогда как это зеркала изобрели людей, когда им наскучило отображать одно только небо, слишком совершенное, чтобы казаться забавным».
«Все живое нуждается в утешении, дать которое можно только пребывая на пороге между движением и тьмой, где невозможны слова; с другой стороны, кто сказал, что утешать следует именно словом».
И фраза, которую то и дело повторял спутник (или один из спутников), мягко, даже ласково: «Я тебя убью». Во сне это почему-то казалось прельстительным обещанием.
Перечитав, печально подумал: «Полная ерунда», – и понял, что окончательно проснулся. Во сне эта информация была ослепительно важной, жизненно необходимой, вообще непонятно, как существовал без нее прежде. Спросонок все еще казалось, что обязательно надо вспомнить подробности, тогда многое прояснится, встанет на свои места, и в жизни появится хоть какое-то подобие смысла. А теперь даже стыдно, что был таким невероятным придурком всего какие-то три минуты назад. Правда, это придурок был гораздо счастливей разумного, вменяемого человека, который вот прямо сейчас снимает с плиты старую медную джезву, доставшуюся ему в качестве временного имущества вместе с пыльным телевизором, парой продавленных стульев, сравнительно новым диваном и полудюжиной разнокалиберных кастрюль.
Но тут уж ничего не попишешь.
Хотел было стереть идиотский конспект, но в последний момент передумал. Все-таки первый сон за… а хрен его знает, за сколько именно лет. За очень много, факт. Пусть останется на память.
Подумал: «Да ладно, не такой уж я придурок. Просто отвык видеть сны. Решил, уже и не будет их никогда. И тут вдруг – бац! – что-то приснилось. Конечно я обрадовался. Хотя лучше бы просто какую-нибудь безобидную порнографию показали – и организму приятно, и конспектировать особо нечего. Интересно, а можно делать заказы?»
Почти развеселился, представив, как перед сном заполняет бланк заказа и потом – а что, собственно, надо сделать потом? Положить под подушку? Сжечь и съесть пепел? Или развеять его по ветру? Впрочем, теперь для всего на свете существует электронная почта, дело за малым – нагуглить соответствующий интернет-магазин.
Завтракать отправился в город. После того, как немыслимо долго, целых два с половиной года, проработал поваром, возненавидел готовить. Даже заливая кипятком быстрорастворимую овсянку или нарезая хлеб на бутерброды, приходил в раздражение – не то чувство, которое полезно испытывать по утрам. Вечером еще куда ни шло.
По традиции отправился на Вильняус, где располагалось сразу несколько кафе класса «от добра добра не ищут» – не самых лучших в городе, зато недорогих, проверенных и надежных. Не был там уже почти полторы недели, значит можно рассчитывать, что тошнить от однообразия будет не слишком сильно. Привычно подумал: «Пора мне отсюда съезжать», – привычно же напомнил себе: «Договор аренды истекает в конце октября, вот тогда и посмотрим». Этот внутренний диалог повторялся примерно с апреля. Вильнюс хороший город, но очень уж маленький. Слишком быстро приходит момент, когда понимаешь, что все уже было, причем неоднократно – и эта улица, и парк, и эспрессо в стеклянной рюмке, и граффити на медленно осыпающейся стене, и деревья в вязаных свитерах, и божественный суп гуляш «У Ангела», и восхождение на холм, и маленькая речка, и большая река, и Белый мост, и Зеленый. Господи, как же мне надоело. Вообще все.
Вероятно, из этих же соображений – то есть, разнообразия ради – дал изрядного крюка. В итоге оказался на Тоторю, там зачем-то прошел мимо нескольких вполне подходящих для завтрака кафе, наконец, опомнился, свернул на Лабдарю и только тогда понял хитроумный замысел собственного подсознания. Лабдарю – это же улица, которая снилась. Понятно, что особого смысла в том нет, а все равно любопытно на нее поглядеть.
Хотя на что там глядеть? Правильно, совершенно не на что.
Впрочем, и от лунатических припадков бывает порой хозяйственная польза. Понял это, завидев большой проходной двор, где в полуподвале прятался магазин «Зодиак», торгующий эзотерической литературой, почему-то по большей части на русском языке, ароматными маслами, нефритовыми Буддами, медными колокольчиками и прочими таракуцками для любителей условно возвышенного, всегда готовых спуститься ради него под землю, на две ступеньки вниз. Но важно другое: именно в этой лавке он уже пару раз покупал чаванпраш, сладкое, очень острое бурое месиво из индийского крыжовника и лекарственных трав, вряд ли обладающее хотя бы сотой частью приписываемых ему чудодейственных свойств, зато невероятно вкусное. Жрал его одно время большими ложками, как варенье в детстве, и по сей день продолжал бы в том же духе, если бы запасы не подошли к концу еще в июне. А дырявая память, известное дело, спасает от лишних трат и оставляет без сладкого. Просто забываешь его купить, и хоть ты тресни. А тут вдруг все так удачно совпало.
Увы, не так уж удачно. Дверь лавки оказалась заперта, зато украшена сразу двумя объявлениями. Первое было размашисто написано от руки: «Технический перерыв до 14:00, приносим извинения за неудобства». А второе отпечатали на принтере экономным мелким шрифтом, чтобы уместилось на четвертушке стандартного листа: «5 августа в 19:00 в помещении магазина состоится встреча с немецким писателем Фабианом Файхом, автором «Книги перемены мест слагаемых». Встреча пройдет на немецком языке, вход бесплатный».
Уже развернулся, чтобы уходить, рассудив, что чаванпраш можно купить на обратной дороге, а то и вовсе завтра, когда наконец дошло. Чего-чего автором?! Вы это серьезно? Да ну, бросьте! Не может такого быть.
Перечитал объявление, только теперь осознав, что оно написано по-немецки. Что в общем логично: публике, не владеющей языком, на этой встрече делать явно нечего.
Подумал: «Мне тоже нечего, я учил немецкий хрен знает когда, столько вообще не живут. И с тех пор все забыл. Объявление прочитать несложно, а на слух хорошо, если хоть что-то кроме «гутен таг» и «данке шён» пойму. И это что-то будет не «шайзе». Превосходный словарный запас для творческой встречи с писателем. Именно то, что требуется».
Подумал: «С другой стороны, о чем мне с ним говорить? А посмотреть на автора книги, которая приснилась, было бы занимательно. Да ладно, чего притворяться, я же сдохну от любопытства, если его не увижу!»
Подумал: «Пятое августа – это у нас прямо сегодня. Если уж все так прекрасно совпало, точно надо зайти. И чаванпраш заодно куплю. Будет мне сладкая жизнь».
Впрочем, вечером, ближе к делу, чуть не передумал. Какой, к черту, писатель в эзотерической лавке, какой к бесам, немецкий язык? Зачем мне туда ходить? Чтобы беспомощно блея, подолгу вспоминая каждое слово, сообщить уважаемому зарубежному автору: «Я видел вашу книгу во сне»? То-то он, бедняга, порадуется.
Но в последний момент решил: «В конце концов я еще никогда в жизни не ходил на встречи с писателями. Какой-никакой, а новый опыт». Не самый безупречный аргумент, но чтобы оторваться от компьютера и выйти из дома, его как раз хватило, а дальше ноги сами взялись за дело. Ходить они очень любили – все равно, куда.
Когда пришел, понял, что опыт может получиться несколько более интересным, чем планировалось. Потому что оказаться единственным на весь город желающим встретиться с писателем – это уже перебор. Немец, пожалуй, расстроится. С другой стороны, сам виноват. Трудно найти более неудачное место для встречи с читающими по-немецки жителями литовской столицы, чем эзотерическая лавка, забитая русскими брошюрами «Йога для ленивых», «Как работать с ангелами» и «Нет паразитам в двадцать первом веке!»
Решил: «Куплю чаванпраш и уйду. Не хочу становиться эпизодическим персонажем трагикомедии». Но пока уговаривал собравшуюся домой продавщицу снова открыть кассу и платил за покупку, народу в магазине немного прибавилось. Все равно, наверное, ушел бы, но у входа столкнулся с белобрысым мужчиной неопределенного возраста в сувенирной футболке цветов литовского флага и дурацких розовых шортах, который увлек его за собой обратно, приветливо тараторя: «Здравствуйте, прошу прощения за опоздание, никуда не уходите, сейчас начнем». И остался – не столько из вежливости, сколько от удивления, что понял целую длинную фразу, беглой скороговоркой произнесенную по-немецки. Неужели еще не все забыл? То есть настолько не все?!
После того, как ушла продавщица, а следом за ней и хмурый лысоватый дядька, вероятно, хозяин лавки – по крайней мере, именно он проверил, закрыты ли окна и вручил немецкому гостю связку ключей – в зале осталось еще шесть человек. Сам белобрысый немец, юная дева с волосами, выкрашенными в ярко-синий цвет, двухметровый блондин с растерянным детским лицом, выглядевший так, словно голову подростка по ошибке приставили к телу взрослого спортсмена, кудрявая толстуха в льняном балахоне подчеркнуто богемного вида, конопатый мальчишка лет двенадцати и маленькая старушка в тяжелом зимнем пальто, наброшенном на плечи, как бурка. Совершенно невразумительная компания; впрочем, если рассматривать каждого в отдельности – человек как человек. Даже старухино пальто вряд ли привлекло бы внимание на улице, пожилые люди часто одеваются черт знает во что, и к этому все привыкли.
– Здравствуйте, – сказал немец. Теперь он говорил медленно, громко и предельно внятно, что несколько повышало шансы собравшихся понять его выступление. – Меня зовут Фабиан Файх. Я заранее уверен, что сюда вас привел скорее интерес к немецкому языку, чем к моей персоне. Я далеко не популярный писатель даже у себя дома, в Германии. Написал три книги, опубликовал только одну из них, да и ту аж в девяносто шестом году прошлого века, целую вечность назад. Тираж был невелик, на иностранные языки книгу не переводили. Поэтому я не стану притворяться знаменитостью, раздавать автографы и отвечать на вопросы. А вместо этого открою вам настоящую цель нашей встречи.
Все это время слушал немца, открыв рот. Был потрясен не содержанием его речи, а тем фактом, что разобрал почти все, за исключением нескольких длинных слов, вряд ли радикально меняющих смысл сказанного.
– Я хочу предложить вам помощь в ваших занятиях немецким языком, – объявил Файх. – Следует сразу пояснить, что я не являюсь профессиональным преподавателем. Это, скажем так, мое хобби. Я по собственному опыту знаю, что главное при изучении языка – возможность регулярно разговаривать с его носителем. По роду своей работы я часто бываю в продолжительных заграничных командировках и всякий раз стараюсь собрать группу из нескольких человек, желающих говорить по-немецки. Занятия, разумеется, бесплатные. Для меня это не дополнительный заработок, а способ знакомиться с людьми и приятно проводить свободное время. А теперь внимание, первый вопрос! Все ли поняли, что я успел сказать?
Присутствующие, включая старуху в пальто, закивали – более или менее уверено.
– Очень хорошо. У вас прекрасный уровень подготовки, значит разговаривать нам будет легко и интересно. Теперь попробую объяснить, чего я сам жду от наших встреч. Дело в том, что сейчас я пишу новую книгу. И очень рассчитываю на вашу помощь.
– А вот теперь я не понимаю.
Не хотел его перебивать. Само вырвалось.
– Я пишу новую книгу. И рассчитываю на вашу помощь, – любезно повторил немец. На этот раз по слогам. И, улыбнувшись, добавил: – Мне кажется, вы прекрасно поняли эту фразу. Просто не поверили своим ушам.
Ну, можно сказать и так.
– Я – довольно странный писатель, – Файх улыбнулся еще шире. – Можно сказать, ненормальный. Я пишу книги исключительно для собственного удовольствия. Деньги я зарабатываю другим способом, известности не ищу, литература занимает меня не сама по себе, а лишь в качестве достаточно необычного метода строить отношения с реальностью. Для меня каждая книга – это, в первую очередь, интересная игра, способная многому научить игрока и даже изменить его жизнь. Поэтому вместо сюжета я всякий раз придумываю новые правила игры. А потом стараюсь им следовать, смотрю, что из этого получится, и записываю свои наблюдения. Вы меня все еще понимаете?
На сей раз кивки были не столь единодушны. Высокий блондин попросил объяснить значение нескольких новых для него слов, синевласая девица озадаченно моргала, мальчишка смущенно топтался на месте, явно стесняясь переспросить. Полную невозмутимость сохраняли лишь толстуха и бабка в пальто.
Думал: «Надо же! Всю жизнь считал, что писать книги – самое тоскливое занятие на свете. Сидишь на одном месте, сочиняешь всякую ерунду, а потом еще и записываешь свои дурацкие мысли вместо того, чтобы немедленно выбросить их из головы и подумать о чем-нибудь другом, – что может быть скучней? А для кого-то, оказывается, интересная игра, да еще и якобы способная изменить жизнь. Врет, конечно. Причем в первую очередь себе. И правильно делает. Таким врунам веселей живется».
– На этот раз правила моей игры такие, – говорил тем временем Файх. – Я прошу разных людей из разных городов прожить один час своей жизни специально для меня. То есть, для будущей книги. Это совсем просто, немного глупо, зато увлекательно, как любая игра. Когда придет ваша очередь, вы объявите вслух, или про себя: «Теперь я проживу час для книги Фабиана Файха». И будете жить, внимательно следя за происходящим непосредственно с вами и, конечно, вокруг. Зная, какие фокусы выкидывает порой человеческая память, я бы рекомендовал делать заметки, но настаивать не стану. Потом вы расскажете нам, как жили в течение этого часа, а я запишу ваш отчет. Вот так будут проходить наши встречи примерно до конца августа, пока я не уеду домой. Что же касается будущей книги, моя коллекция записей уже довольно велика, но я все еще даже не представляю, что может получиться в итоге из нескольких сотен разрозненных эпизодов, пережитых почти незнакомыми мне людьми. Впрочем, тем интересней. Что скажете? Вы согласны?
Собравшиеся помалкивали. То ли переваривали информацию, то ли стеснялись попросить повторить некоторые особо сложные фразы.
Молчание нарушила толстуха.
– Это очень хорошее предложение, – решительно сказала она. – Даже если бы я не хотела воскресить свой немецкий, я бы все равно с удовольствием приняла участие в игре. Прожить час, как будто являешься персонажем чужой книги – такая неожиданная идея! Меня еще никто ни о чем подобном не просил. Я очень удивлена. И очень рада.
По-немецки она говорила прекрасно, бегло и уверенно. Совершенно непонятно, что тут воскрешать. Но ей, конечно, виднее.
– Спасибо за поддержку, – и Файх отвесил ей поклон, галантный, как на великосветском приеме.
Подумал: «Да уж, могу вообразить себе эту книгу. Особенно хорош будет мой вклад, какой эпизод ни выбери: проснулся, посмотрел на себя в зеркало, взвыл от тоски, сварил кофе, пошел поесть, вернулся домой, снова взвыл, поработал, побился головой о стену, поел, поработал, взвыл, закончил дневную норму работы, еще пару раз приложился башкой к стене, выпил, чтобы не маяться бессонницей, взвыл от тоски напоследок погромче, уснул. Перекуры, телефонные звонки и походы в уборную добавить по вкусу. Невероятно увлекательно, маэстро, повторим же на бис».
Подумал: «И у других, готов спорить, примерно та же нудьга, все человеческие жизни похожи одна на другую куда больше, чем кажется, когда разглядываешь прохожих на улице и поражаешься, какие все разные, живешь с этой светлой иллюзией, пока не заглянешь однажды поглубже, за пестрые декорации и не увидишь там помертвевшие от тоски глаза условно бессмертных существ, таких же бедных скучных дураков, как ты сам».
Подумал: «Зато, рассказывая о том, как пожрали, посрали и пошли на автобусную остановку, все присутствующие, несомненно, разовьют навыки разговорной речи и через неделю-другую станут болтать по-немецки бойко и уверенно, не тормозя перед каждым словом, как автомобиль перед «спящим полицейским». И это сделает их счастливыми очень надолго, возможно, на целых полчаса, потому что «мы делаем трудное дело, и у нас получается» – точная формула счастья, в полном объеме доступного человеку на этой прекрасной постылой земле. Чего уж там, молодец этот Фабиан Файх, никому не известный немецкий писатель в розовых шортах. Правда, большой молодец».
Подумал: «Мне-то здесь делать определенно нечего. Но не уходить же прямо сейчас, огорчая беднягу немца и подавая дурной пример остальным».
Подумал: «Но книга-то, книга. «Книга перемены мест слагаемых», которая значилась в объявлении – как быть с ней?» Хотел спросить, не откладывая, но вдруг забыл, как по-немецки «приснилась», поэтому промолчал.
Файх, тем временем, предложил:
– А теперь давайте знакомиться. Буду чрезвычайно благодарен, если каждый из присутствующих сообщит свое имя и расскажет, когда и зачем начал учить немецкий язык. И, самое главное, почему вы пришли на эту встречу? Чего от нее ждали? Это мне особенно интересно. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить вслух и не бойтесь делать ошибки. Самое главное условие успешного обучения чему бы то ни было – не бояться.
– Ну, мой случай совсем простой, – сказала толстуха. – Я восемь лет была замужем за вашим земляком и заговорила как миленькая, в первый же год. Но мы с мужем расстались, честно поделив имущество и друзей – в том смысле, что все досталось ему – я вернулась домой и в последнее время чувствую, что без практики начинаю терять язык, как в Германии почти забыла литовский, который теперь с трудом вспоминаю, а ведь был почти как родной. Очень обидно было бы остаться еще и без немецкого. Чтение – хорошее дело, но его явно недостаточно, а смотреть кинофильмы, вслух отвечая на реплики героев, как-то чересчур эксцентрично, даже для меня. Затем и пришла сюда – чтобы просто поговорить по-немецки с живым человеком. Такую возможность грех упускать.
– Прекрасно, – улыбнулся Файх. – По крайней мере, вы определенно не обманулись в своих ожиданиях. Но вы так и не представились.
– Марина. И, кстати, можно на «ты».
– Хорошо, – кивнул немец. – Мне тоже нравится на «ты». А вам, молодой человек?
Мальчишка покраснел почти до слез, но ответил твердо:
– Да, ко мне можно обращаться на ты. Я не возражаю.
Он говорил с чудовищным даже для иностранного уха акцентом, но Файх и бровью не повел.
– Спасибо. А теперь расскажи о себе.
– Меня зовут Эрик. В нашей школе не преподают немецкий язык, поэтому я учу его сам. Я мечтаю уехать в Германию, потому что там есть Нойшванштайн[11], самый прекрасный замок на земле. Раньше в нем жил король Людвиг Баварский, а теперь сделали музей. Возможно, мне удастся найти в Нойшванштайне работу – сторожем, садовником, водителем, кем угодно, мне все равно. Или хотя бы поселюсь где-нибудь рядом. Я хочу этого больше всего на свете. Я пришел сюда потому, что еще никогда не говорил с настоящими немцами. Сосед моего одноклассника учит немецкий язык в университете и иногда соглашается со мной поговорить, но это случается редко.
– Потрясающе, – сказал Файх. – Вот это цель! В жизни не встречал человека, у которого была бы более уважительная причина заговорить по-немецки. Я горжусь знакомством с тобой, Эрик. И рад, что могу немного тебе помочь.
– То есть мне можно будет еще прийти? – обрадовался мальчишка.
– Конечно можно. А если тебе нужно получить разрешение родителей, я могу написать им письмо. Как будто у нас бесплатные летние курсы… Впрочем, почему «как будто»? Курсы и есть.
Эрик помотал головой.
– Не надо! Я живу с бабушкой. Она письма испугается. Особенно если по-немецки. Она вообще всего непонятного боится. Зато если я говорю, что иду заниматься, отпускает без лишних вопросов, хоть до ночи можно гулять. Главное прихватить с собой какую-нибудь тетрадку, – и он выразительно помахал в воздухе большой толстой тетрадью в черной обложке. – Везде с ней хожу.
– Я тоже так в школе делала, – оживилась девица с синими волосами. – Только мне приходилось таскать с собой целый рюкзак, одинокая тетрадка мою маму не убедила бы.
Она говорила почти идеально, только почему-то немного нараспев, вопреки требованиям немецкой фонетики, растягивая гласные.
– Меня зовут Габия, и со мной тоже можно на «ты», – сказала она. – Я тоже учу немецкий в университете, как сосед друга Эрика. Уже, собственно, заканчиваю, остался последний год. А начала учить тоже в школе, правда, не сама. На курсы ходила. Знаете почему? Чтобы не заикаться! Мне школьный психолог сказала, что иностранные языки иногда помогают. А рядом с домом были только курсы немецкого, вот я и пошла.
– И как, помогло? – заинтересовался Файх.
– Отчасти, – улыбнулась Габия. – По-немецки я, как видите, говорю почти нормально. А по-литовски заикаюсь, как в детстве, иногда родная мать ни слова понять не может, хоть записками объясняйся. И, кстати, по-английски та же беда, хотя вроде бы тоже иностранный язык. Еще испанский начинала учить и почти сразу бросила – никакого от него толку, все равно заикаюсь. Честно, я не вру!
– Поразительно, – обрадовался Файх. – Впервые о таком слышу.
– Все так говорят, – кивнула Габия. – Включая моих преподавателей и дюжину логопедов с невропатологами, толку от которых было не больше, чем от испанского. Даже меньше, честно говоря. Ай, ладно. К черту их всех. По крайней мере, с немецким все хорошо, жалко только дома и с друзьями по-немецки особо не поговоришь… Но пришла я, кстати, не поэтому. В смысле не для того, чтобы лишний раз по-немецки поболтать. А только потому что я вас не знаю.
– Интересная причина, – Фабиан Файх озадаченно покачал головой. – Если бы я ходил на встречи со всеми, кого не знаю, у меня бы, пожалуй, даже на сон времени не осталось.
– Нет-нет-нет, не со всеми подряд! Просто я как раз специализируюсь на современной немецкой литературе. И диплом на эту тему буду писать. Думала, вообще всех современных немецких писателей знаю, и тут вдруг совершенно незнакомое имя. Еще и место такое… нелепое. Я в «Зодиак» часто захожу за тибетскими благовониями, и никаких литературных вечеров здесь до сих пор никогда не было. Я еще подумала, наверное, вы автор какой-нибудь эзотерической литературы, это бы все объяснило – кроме, пожалуй, немецкого языка. Вот и пришла, чтобы разобраться. Но, кстати, почему встреча именно в этой лавке, все равно не поняла.
– Очень просто, – улыбнулся Файх. – Квартира, которую для меня сняли, находится в этом же доме, только вход с другой стороны. В Вильнюсе я никогда прежде не был, города совсем не знаю, и эта лавка оказалась первым местом, куда я зашел разузнать об аренде помещения на вечер. И договорился с хозяином быстрее, чем понял, куда попал. Но подумал – ладно, поглядим, что получится, если моя затея провалится, значит так тому и быть. Во всем, что касается литературы, я фаталист. Однако, как видите, все получилось. Я бы и одному ученику обрадовался, а тут такая прекрасная компания, нечасто мне так везет.
– А я всегда ставлю машину в этом дворе, – неожиданно сказал длинный блондин с детским лицом. – Работаю неподалеку. И мне давно было интересно: что это за магазин такой – «Зодиак»? Чем торгует? Но всегда почему-то забывал посмотреть. Когда вспоминал, уже шел, например, по Тоторю, или сидел в машине, лень было возвращаться, откладывал на завтра. И только сегодня утром вспомнил вовремя, подошел, увидел, что магазин еще закрыт, а на двери висит ваше объявление. Так удачно совпало.
Он говорил очень медленно, иногда с явным трудом подбирая слова, но, похоже, довольно правильно. Хотя, конечно, глупо полагать, будто способен вот так сходу определить чужой уровень владения языком, который сам-то бросил учить лет пятнадцать назад и с тех пор практически не использовал.
– Удачно совпало, – повторил Файх. – У вас, кстати, узнаваемое берлинское произношение. Вы там жили? Довольно давно, да? Уже подзабыли порядком?
– Я никогда не жил в Берлине. В Берлине вырос мой друг. Он меня учил. Поэтому, наверное, такое произношение. А потом друг умер. И я думал, надо бы постараться забыть немецкий язык, он мне больше не понадобится. Для работы мне нужен английский, его совершенно достаточно. Но все равно не забыл, хотя прошло уже почти четыре года. И когда я увидел объявление, решил: надо пойти послушать и может быть немножко поговорить. Не знаю зачем. Просто… Просто я очень скучаю.
И после короткой, но звонкой как выстрел паузы добавил:
– Меня зовут Даниэль. И, да, лучше на «ты». Это так странно – слышать, как кто-то говорит мне по-немецки «вы». Никогда еще так не было.
– Спасибо, Даниэль, – сказал Файх. – Хорошо, что ты сегодня сюда пришел. На твоем месте я бы относился к языку как к наследству, которое мне оставили. Собственно, я и есть на твоем месте. У меня тоже был близкий друг, музыкант. Иногда от нечего делать учил меня бренчать на гитаре, и теперь, когда его больше нет, я специально играю хотя бы раз в неделю, чтобы не забыть тот десяток простых аккордов, которые мы успели разучить, хотя абсолютно бездарен, да и пальцы болят. Но выхода нет, больше он мне ничего не оставил, наследство не выбирают, какое есть, то и приходится хранить.
– Я тоже об этом подумал, – кивнул Даниэль. – Но только сегодня утром.
– Лучше поздно, чем слишком поздно, – оптимистически заметил Файх.
Подумал мрачно: «А еще лучше – вообще никогда, всем пословицам вопреки». И поежился. Очень уж выразительно смотрел на него теперь неизвестный немецкий писатель. Явно ждал выступления. Ладно, черт с ним, не жалко.
Сказал:
– Меня зовут Анджей, я учил немецкий язык сперва в университете, как дополнительный иностранный, позже доучивал на курсах, несколько раз ездил в Германию, даже собирался там остаться, но передумал. Учить немецкий тоже в конце концов бросил, потому что надоело. Мне вообще довольно быстро все надоедает. Это было давно, лет пятнадцать назад. Я был уверен, все забыл, ничего не пойму. Пришел, чтобы проверить. Но почему-то неплохо вас понимаю. Очень удивлен.
Почти не запинался. Неудивительно, было время заранее придумать речь, составить ее из простых коротких фраз, несколько раз повторить про себя, позаимствовав произношение у самого Файха. Всегда легко перенимал особенности чужой речи и так же легко утрачивал навык – буквально через час.
– Бывает и так, – задумчиво сказал Файх. И внезапно спросил очень строго, как школьный завуч, застукавший очередного старшеклассника с сигаретой прямо в учительской уборной: – Вы уверены, что пришли только ради проверки своих знаний? Вряд ли вам это действительно интересно.
Ишь ты, угадал.
Пожал плечами, хотел отмолчаться, но Файх смотрел требовательно, почти яростно, словно репетировал роль для спектакля о рыцарях, которым вот-вот придется схватиться за мечи ради какой-нибудь возвышенной глупости из разряда вечных ценностей, вернее, вечных заблуждений – ай, как ни назови.
Подумал: «Ладно, могу рассказать. В конце концов, молчать даже нечестно. Если бы я сам вдруг оказался писателем – ну предположим, никогда заранее не знаешь, кем тебя угораздит родиться – мне бы, наверное, было приятно и лестно узнать, что кто-то видел мою книгу во сне. Вспомнить бы еще это слово – «сон»!»
И ведь вспомнил, стоило только заговорить.
– В объявлении было написано, что вы автор «Книги перемены мест слагаемых». А я накануне видел книгу с таким названием во сне. И успел ее почитать. Даже записал поутру все, что вспомнил. Поэтому мне стало интересно на вас посмотреть.
– Мне тоже интересно на тебя посмотреть, – сказал Файх. – «Книга перемены мест слагаемых» – это как раз та, которую я собираюсь написать. Я добавил ее название в объявление просто так, на удачу. И в качестве своеобразной шутки, которую не поймет никто, кроме меня самого. И тут вдруг приходит человек, уже читавший мою будущую книгу во сне. Невероятно!
Он был, похоже, по-настоящему взволнован, даже на «ты» перешел, не дожидаясь разрешения, но Анджей не стал придираться, какая разница, «ты» или «вы».
– Покажешь мне свои записи? – нетерпеливо спросил Файх. – Пока я не умер от любопытства прямо в этой лавке, которая, будем называть вещи своими именами, не предназначена для христианского погребения.
На этом месте синевласая Габия расхохоталась, толстая Марина тоже хихикнула, прикрыв рот рукой, Даниэль и Эрик растерянно моргали, явно пытаясь понять, в чем соль шутки, а старушка в пальто вдруг перекрестилась, и это почему-то выглядело не смешно, а почти пугающе, хотя, казалось бы, такой безобидный ритуальный жест.
Сказал:
– Могу показать, мне не жалко. Только сначала их придется перевести.
– Ну так переводи! – нетерпеливо воскликнул Файх. – А мы, если что, тебе поможем.
Проворчал про себя: «Чтобы помочь, нужно знать не только немецкий, а еще и польский. А моих земляков тут, похоже, нет, так что сам, все сам». Вздохнул, предвкушая провал, достал телефон и принялся читать, кое-как переводя на ходу:
– Утонувшие в реке времени, опускаются на ее дно и лежат там, запутавшись судьбой за… – что обычно бывает на речном дне? – да, спасибо, коряги. А тех, чья судьба коротка и жестка, как волосы молодого солдата, унесет течением и выбросит на берег в любом месте, как повезет. Рисуя карту местности, которой не существует, человек не знает, что чертит новую карту своего внутреннего пространства, ключ от которого однажды получит. Но кто его получит – это вопрос. Когда знакомое болото, заросшее… простите, я не знаю названия растения и не понимаю, как объяснить, могу потом посмотреть в словаре, если не забуду. А пока читаю дальше: когда болото превращается в ореховую рощу, постарайся проснуться одновременно в обоих местах, не пожалеешь. Люди думают, будто изобрели зеркала, а на самом деле зеркала изобрели людей, когда им стало скучно отображать одно только небо… Небо, которое слишком совершенно, чтобы казаться забавным. Всему живому необходимо утешение, а дать его можно только стоя на пороге между движением и тьмой, где невозможно говорить; с другой стороны, кто сказал, будто утешение должно быть именно словом. И… и это все.
Не захотел переводить «Я тебя убью». Хотя технически это было гораздо проще, чем все остальное.
Пока удивлялся, что справился, Файх молчал и смотрел в окно. Наконец сказал:
– Удивительно, как много тебе удалось запомнить. Большое спасибо. На этом, я думаю, мы можем закончить первую встречу. Предлагаю собраться в пятницу в семь вечера – всем удобно? Никто не уедет за город? – у меня дома. В моей квартире прекрасный большой балкон, там гораздо приятней, чем…
– Погодите, еще не все представились, – укоризненно напомнила Марина.
Собравшиеся дружно обернулись к старухе в пальто, которой забыли дать слово.
– Не нужно ее беспокоить, – покачал головой Файх. – Эту женщину зовут Грета Францевна, и она пришла к нам из позапрошлого ноября. Ей сейчас очень трудно, и все, чем тут можно помочь – не дергать ее понапрасну. Расскажет о себе, когда захочет и если сможет. А пока я о ней позабочусь. До встречи, друзья. До пятни… Нет, стоп, сперва я запишу для вас номер квартиры и код. Подождите буквально минуту! А подъезд покажу, когда выйдем. Согласны?
Возражений не последовало. Вероятно, потому, что сейчас все собравшиеся судорожно повторяли про себя: «Таааак, пришла к нам из позапрошлого ноября. Из позапрошлого ноября, значит», – и прикидывали, в каком месте допустили ошибку, или просто не расслышали, что вышла такая чушь. Анджей и сам сперва задумался, а потом махнул рукой. Решил: хватит с меня. Наговорился уже по-немецки по самое не могу. Теперь с чистой совестью можно сделать перерыв еще лет на пятнадцать. Как минимум.
Принимать участие в дурацкой игре, затеянной немцем, он в любом случае не собирался. Слушать, как все эти милые люди будут пересказывать свои специально для книжки прожитые и от этого еще более дурацкие дни – увольте. Как мог, развлек, а дальше без меня, пожалуйста, вам же лучше, по крайней мере, никто не повесится в коридоре от лютой тоски после первой же полудюжины головокружительных, захватывающих эпизодов на кухне.
Файх тем временем принялся раздавать бумажки, на которых было написано: «Квартира 17, второй этаж, код 38, нажать одновременно». Демонстративно отказываться было бы глупо, поэтому взял, машинально скомкал, сунул в карман, и тогда Фабиан Файх, неизвестный немецкий писатель в нелепых розовых шортах, сказал негромко, но внятно: «Если не придешь, я тебя убью».
В подобных случаях говорят: «так и сел». Но нет, не сел, устоял на ногах, только адресовал немцу недоуменный взгляд: «Что это было? Я, конечно же, ослышался?» И тот повторил, прошептал в самое ухо, щекоча горячим дыханием, ласково, как вернувшийся под Рождество из долгой командировки, соскучившийся, нагруженный подарками отец: «Я тебя убью».
Почти как во сне.
Пока пытался слепить не то вопрос, не то ответ из немецких слов, внезапно разом вылетевших из головы, Файх дружелюбно улыбнулся, подошел к старухе Грете Францевне, взял ее под локоть, повел к выходу, распахнул перед ней дверь, заботливо помог одолеть обе ступеньки, ведущие наверх из подвала. Попросил, пропуская остальных:
– Подождите еще минуту, сейчас запру лавку и покажу вам мой подъезд, он довольно хитро расположен, так сразу и не найдешь, я сам минут десять по двору слонялся, пока не догадался позвонить, чтобы меня встретили и проводили…
Тараторил теперь быстро-быстро, еще и ругаться успевал, совсем уж тихо, под нос, пока возился с ключами, а когда наконец справился с дверью, и сказал: «Вот и все, пошли», – Греты Францевны в зимнем пальто уже не было во дворе. Как-то очень уж шустро она смылась – с учетом того, что по лавке передвигалась еле-еле.
Хотел было спросить, куда подевалась старуха, но промолчал, и остальные тоже промолчали, в конце концов, какое им дело, ушла себе и ушла.
Все равно не собирался приходить в пятницу. И бумажку выкинул еще по дороге, в дом не понес. Однако ненужная информация как-то успела осесть в голове: квартира семнадцать, второй этаж, код три-восемь, нажать одновременно. От своего бы подъезда код так сходу запомнить, но память своенравное устройство, сама решает, какую информацию хранить, а от какой избавляться, и ее выбор так часто противоречит здравому смыслу, что это можно считать закономерностью: чем бесполезней цифры, тем дольше будут крутиться в голове, как телефон одноклассника, с которым даже не дружил, а только обменивался марками, двадцать три-двенадцать-восемьдесят девять, что хочешь, то и делай.
Обещание немца: «Я тебя убью», – почти такое же ласковое, как во сне, совершенно не испугало, зато заинтриговало и, можно сказать, раззадорило. Убьешь, значит? А что, попробуй. Неплохое могло бы выйти развлечение, да ведь обманешь, даже не попытаешься, знаю я вашего брата европейского интеллектуала, брякнул с умным видом и забыл. Но если ты не таков – что ж, с нетерпением жду визита с кинжалом и ядом, вперед! Я не приду в пятницу.
Однако в пятницу Фабиан Файх объявился сам. Прямо с утра. То есть, ближе к полудню, когда снова заспавшийся Анджей вышел из дома и стоял у подъезда в задумчивости: куда бы пойти завтракать? В каком приличном месте я давно уже не был? Или попробовать что-нибудь новое? Звучит хорошо, а на практике поди еще это новое отыщи.
Файх подошел сзади, бесшумно, как и положено будущему убийце, положил на плечо горячую руку, сказал:
– Привет. Так вот где ты живешь.
Так растерялся, что даже не стал врать, будто вышел от приятеля или, к примеру, подруги. Кивнул:
– Здесь и живу. Привет.
Немец улыбнулся – даже немного слишком широко и благодушно, как ведущий детского утренника перед началом выступления. На этот раз он был, слава богу, не в розовых шортах, а в темном костюме, который мог бы стать образцовой метафорой офисной тоски, если бы не ярко-желтый значок с надписью «Я не такое скучное дерьмо, как кажется» на лацкане.
Довольно смешно. И вполне похоже на правду.
– Везет нам с тобой в последнее время на счастливые совпадения, – сказал Файх. – Однако у тебя лицо хищника, которого заперли в клетке, забыв покормить.
– Настолько голодное?
– И голодное тоже. А я знаю поблизости одно прекрасное место для завтраков, обедов и ужинов – что у тебя сейчас по расписанию?
Привел прямо на площадь Дауканто. Анджею в голову не пришло бы завтракать в кафе напротив Президентуры с видом на заскучавшую группу протестующих граждан с плакатами, надписи на которых он так и не разглядел. И, кстати, зря не пришло бы, отличное оказалось кафе с омлетами и картофельными блинами за совершенно человеческие деньги, и уличные столы не на солнцепеке, а в тени под каштанами, пустые все как один.
Сказал:
– Спасибо, действительно прекрасное место. И совсем рядом с домом.
– Но завтракать здесь каждый день ты все равно не будешь, – ухмыльнулся Файх. – Надоест, да?
Кивнул:
– Надоест. Завтра же.
Вдруг чуть ли не впервые в жизни захотел пожаловаться: мне все надоедает так быстро, что я не успеваю понять, понравилось оно мне или нет. Мне заранее надоело даже то, чего еще никогда со мной не было и вряд ли когда-нибудь произойдет, вроде полетов в космос – как подумаю, что надо годами тренироваться и соблюдать режим ради возможности оказаться запертым внутри ракеты или хуже, орбитальной станции, месяцами ждать, когда уже закончится эта тягомотина, и сразу такая тоска. Раньше, в юности, я заставлял себя терпеть, выхода-то все равно не было, вот и ходил в одну и ту же школу, учился изо дня в день одной и той же ерунде, проделывал одни и те же спортивные упражнения, полезные для тела, но испепеляющие дух, и университетов сменил всего три, причем последний даже как-то закончил, заливая тоску всем, что горит, практически не приходя в сознание, я был очень способный, так все говорили, и работал потом в дурацкой конторе, ходил туда примерно в таком же костюме, как у тебя, его тень до сих пор пригибает меня к земле. Но в какой-то момент, знаешь, я вдруг понял, что терпение – не совсем та область, в которой я действительно хочу преуспеть, и с тех пор время от времени позволяю себе все бросить, развернуться и уйти, прекрасно осознавая, что снова все потерял, и радуясь этой потере; с каждым годом я все чаще разворачиваюсь и ухожу, не успев толком начать новую жизнь, но, похоже, все равно недостаточно часто; впрочем, возможно, я просто всякий раз разворачиваюсь на триста шестьдесят градусов, привлеченный запахом куска хлеба, на который, как ни крути, а надо себе заработать, а потом как дурак удивляюсь, что впереди все та же пыльная серая долина смертной тени, где даже зла путевого не отыщешь, чтобы убояться его разнообразия и развлечения ради. Даже зла.
Но поди скажи все это по-немецки. Проще жевать омлет. Молча.
Файх глядел сочувственно, как будто читал его мысли. Или, что вероятнее, просто не любил омлет и полагал всякого заказавшего это блюдо мучеником. Внезапно спросил:
– Зачем ты живешь?
Чуть не поперхнулся от такого поворота светской беседы. Но ответил, не задумываясь:
– Чтобы не умирать.
Великое все-таки дело разговор на чужом, лишь отчасти понятном языке. Захочешь – не соврешь.
Все же пояснил, тщательно подбирая слова:
– Инстинкт самосохранения. Тело не хочет умирать. А хочет, как минимум, жрать и спать в тепле. Оно умеет быть убедительным. Поэтому пока – так.
– Это я очень хорошо понимаю, – кивнул Файх.
Похоже, не врал. Хотя кто его разберет.
– Просто ты заблудился, – сказал немец. – И я, кстати, тоже. Но мне повезло больше, у меня легкий характер. И я люблю развлекаться.
«Заблудился» – ишь, проповедник выискался. Впрочем, вполне возможно, в немецком языке это слово имеет какой-то иной оттенок значения. Поэтому не стал придираться. Сказал:
– Я раньше тоже любил развлекаться. И даже умел. Но потом мне надоело и это.
– Понимаю, – снова согласился Файх.
За столом воцарилось молчание, которое трудно было назвать умиротворенным. Поэтому, отставив в сторону пустую тарелку, спросил – просто чтобы поддержать разговор.
– А что ты имел в виду, когда сказал, будто старуха в пальто пришла к нам из позапрошлого ноября? «Из позапрошлого ноября» – это поговорка? Какое-то устойчивое выражение, которого я не знаю? И все остальные, готов спорить, тоже. Что оно означает?
– Нет, не выражение.
Файх отвернулся и какое-то время разглядывал башни Университета. Как будто внезапно, именно сейчас горячо заинтересовался архитектурой и ничего не мог поделать с этой новой страстью.
– Я сам пока толком не знаю, почему так сказал, – неожиданно признался он. – Просто была одна история, которая меня, по идее, совершенно не касается. Но очень тронула. Когда я поселился в своей нынешней квартире на улице Лабдарю, туда пришла хозяйка – узнать, не нужно ли принести какие-то дополнительные вещи, или, напротив, забрать лишнее. Узнав, что я из Германии, обрадовалась, заговорила по-немецки. Ну, то есть, как заговорила, вспомнила несколько фраз, а остальное любезно перевел мой коллега. Она рассказала, что в детстве немножко училась немецкому у соседки, а потом перестала, родители запретили, боялись, что всю семью арестуют, если дочка станет по-немецки болтать; тогда все всего боялись, такие уж были времена. Соседка была немка, звали ее Грета Францевна – именно так, с отчеством, по русской традиции, прижившейся здесь, как я понимаю, давным-давно, еще при царе. Одинокая женщина, ни семьи, ни даже дальней родни, тихая, вежливая, немногословная, жила очень бедно, то ли на скудную пенсию, то ли даже без нее, иногда нанималась убирать квартиры за гроши, за еду, за дрова, не торгуясь, сколько ни дай, все хорошо, ходила зимой и летом в одном и том же пальто, говорила, отцовское наследство, память, все, что от него осталось. Прожила Грета Францевна долго, чуть не до ста лет, умерла только в позапрошлом ноябре, оставила завещание с просьбой похоронить ее в Германии, куда при жизни так и не удалось съездить, и чтобы на похоронах все говорили только по-немецки. Но оплатить исполнение последней воли покойной было некому, так что закопали бедняжку где-то за городом, куда свозят всех одиноких бродяг и просто бедняков. А ее наивное завещание соседи до сих пор, смеясь, пересказывают знакомым как курьезный анекдот – ишь чего захотела! Все это мне пришлось выслушать, пока я тестировал кофейную машину, а хозяйка собирала лишнюю посуду. И когда я заметил в лавке старушку в пальто, почему-то сразу подумал: «Вот и Грета Францевна ко мне пришла, хоть и не дожила до этого лета. Надо же, как человеку хотелось хоть раз поговорить по-немецки!» Довольно глупая идея, согласен. Но так уж мне в тот момент померещилось. Я даже начал всерьез думать, что придется приютить старушку, в ее-то квартире давно другие люди живут, а у меня целых две комнаты. Но, как видишь, не понадобилось, она сама куда-то ушла, я и отвернуться не успел.
– Интересно, а сегодня она объявится?
Не собирался спрашивать, само вырвалось.
– Ну хоть что-то тебе интересно, – обрадовался Файх. – Значит, придешь?
Пожал плечами.
– Может быть, и приду. Действительно интересно, заявится ли старуха. И что о себе расскажет. И как представится. Если Гретой Францевной, будет, как минимум, забавно. Даже если вы с ней заранее сговорились всех разыграть. Собственно, это было бы даже более странно, чем… Как это называется, когда мертвый человек становится живым?
– Воскрешение, – любезно подсказал Файх. И еще раз повторил четко, по слогам: – «Вос-кре-ше-ни-е». Это очень важное слово, Анджей. Постарайся его не забыть. А теперь мне пора на работу. В восточной части Европы все еще жив миф о немецкой пунктуальности, и я не хочу разрушать иллюзии этих добрых людей.
Положил на стол деньги, поднялся, но внезапно передумал, снова сел рядом, наклонился к самому уху, прошептал:
– Там, откуда мы с тобой родом, звезды синие-синие, а небо так часто меняет цвет, что не уследишь. Приходи сегодня, пожалуйста. Я тебя убью.
И ушел прежде, чем Анджей успел не то что ответить, а осмыслить услышанное и почувствовать, что позвоночник его тает, как мороженое на солнце, в которое превратилась раскалившаяся от чужих, непонятных, сколько ни переводи, слов голова.
Шел домой, повторяя про себя, то по-немецки, то по-польски: «Звезды синие-синие, а небо часто меняет цвет». Раз двести, наверное, повторил. Почему-то не надоело.
Во дворе на Лабдарю был уже без десяти семь. Не любил приходить раньше назначенного времени даже больше, чем опаздывать, просто не рассчитал. Однако на балконе уже толпилась знакомая компания: длинный, мальчишка и обе женщины. Фабиан Файх, благополучно сменивший темный костюм на стыдливо пламенеющие шорты, помахал сверху рукой – дескать, заходи.
Нажал одновременно кнопки с цифрами 3 и 8, поднялся на второй этаж. Немец уже распахнул дверь и стоял на пороге, не просто улыбаясь, сияя. Сказал:
– Я очень боялся, что был недостаточно убедителен.
Ответил сдержано:
– В самый раз.
И, не удержавшись, спросил:
– Ты всех учеников такими сладкими обещаниями на уроки заманиваешь?
– Нет, не всех, – невозмутимо ответствовал Файх. – Только тебя.
Войдя в гостиную, Анджей вздрогнул. Потому что давешняя старуха в пальто тоже была тут. На балкон не пошла, сидела в кресле, в самом дальнем углу. На губах ее блуждала блаженная и растерянная улыбка праведницы, совсем недавно попавшей в рай и еще не успевшей привыкнуть к новым обстоятельствам.
– Попросила разрешения посидеть тут, говорит, на улице слишком холодно, – заметил Файх. – Старые люди часто мерзнут, даже летом.
И умолк, как будто действительно все объяснил.
Но Анджей пока не был готов его расспрашивать. Хватит разговоров. И так весь день провел как во сне, с трудом понимая, где находится, и что, черт побери, происходит. Работать не мог совершенно, одна надежда теперь, что ночь окажется достаточно долгой, и все можно будет наверстать.
– Зато, спорим на что угодно, сегодня тебе не очень скучно, – подмигнул ему немец.
Спорить не имело смысла. Что-что, а скучно не было. Факт.
Сказал:
– Но учти, я не сделал домашнее задание.
– Ты выполнил его еще в прошлый раз, можно сказать, авансом. И теперь я твой вечный должник. Черт знает что такое эти твои записки, контрабандой притащенные из сновидения; обычно люди не запоминают приснившийся текст, а у тебя получилось. Считай, полдела за меня сделал, поставил мне голову на место, обозначил структуру, наметил смысловые узлы, задал интонацию и даже отчасти прояснил контекст. Что же касается предстоящего урока, сегодня к нему готовилась только Марина. Одно занятие, один человек, мы так договорились, не помнишь?
– Не помню. Выходит, не так уж хорошо я понимаю по-немецки.
– Гораздо лучше, чем тебе хотелось бы, – усмехнулся Фабиан Файх. – Просто отвлекся, бывает. А теперь пошли на балкон, пока мой коридор не успел тебе надоесть. А то, чего доброго, не придешь больше. И разобьешь мне сердце.
– Очень рад видеть вас у себя в гостях, – немного чересчур громко, видимо, чтобы его слышала оставшаяся в комнате старуха, сказал Файх, воцарившись в центре балкона. – Отдельно приятно, что все пришли чуть раньше назначенного времени – обычно это показатель высокой заинтересованности в занятиях. Я прошу прощения, что не приготовил для вас ни закусок, ни напитков. На самом деле я не настолько жадный. Просто не хотел, чтобы возня с посудой отвлекала нас от разговора. Все-таки урок есть урок, и, чтобы извлечь из него максимум пользы, следует предельно сосредоточиться. Марина, ты готова рассказывать?
Та вздохнула и покачала кудрявой головой.
– Готова-то я готова. Только боюсь, что мне никто не поверит. Потому что выглядит так, как будто я специально для твоей книжки все выдумала.
– Я поверю, – пообещал Файх. – Хорошо знаю этот эффект. Черт знает что начинает твориться с человеком, как только его жизнь становится частью литературного замысла. Всякая настоящая книга сама себя придумывает, это известный факт.
«Кому, интересно, известный? – проворчал про себя Анджей. – Кто эти знатоки, глаза твои бесстыжие?»
Но вслух ничего не сказал, чтобы не мешать Марине. От смущения и растерянности она сейчас выглядела трогательной, как школьница, даже крупное пышное тело казалось чужим и необязательным, чем-то вроде маминого пальто, надетого из любопытства, чтобы покрутиться перед зеркалом, а потом снять, повесить на место, в шкаф, и забыть.
– Тогда хорошо, – кивнула она. – Так вот, в понедельник, когда мы расстались, я решила пойти домой пешком. Живу я сравнительно недалеко, в Жверинасе. С остановкой на кофе как раз около часа идти, так я рассчитала и сразу сказала себе, что проживу этот час для книжки. Мне так хотелось поскорее поиграть! К тому же заранее ясно, что дома ничего интересного не случится. Там только незаконченное шитье, которым я пытаюсь зарабатывать, незаконченные картинки, зарабатывать которыми я уже даже не пытаюсь, письма, на которые я не хочу отвечать, и ни одной живой души, кроме попугая, да и тот не мой, знакомые в отпуск уехали, оставили присмотреть. А на улице никогда заранее не знаешь, что может произойти. И даже если ничего особенного, остается человеческое разнообразие и прочая прекрасная фактура. Девушка в зеленой футболке и стоптанных зимних сапожках на босу ногу, мужчина в полосатом костюме с длинной, аккуратно заплетенной косой, автомобиль с нарисованными на дверцах пингвинами, человек, переодевшийся крокодилом ради раздачи рекламных листовок. Я не просто так перечисляю, не для примера. Все это действительно было, пока я сидела в кафе на улице Вильняус и пила беличье латте, есть у них такое в меню, с ореховым сиропом, честно говоря, слишком сладкое для меня, но я просто не могу устоять перед названием. Мама в детстве дразнила меня «белочкой», то ли из-за любимых конфет, то ли конфеты появились уже позже, не помню. Из-за этого я до сих пор люблю все с белками, про белок и для белок, мороженое ем только ореховое, и вот кофе этот дурацкий пью, даже свитер с большой рыжей белкой купила себе у Маркса и Спенсера, хотя на моей фигуре это, конечно, душераздирающее зрелище; ничего, дома буду носить, когда одна… Впрочем, свитер с белкой – это не для книги, свитер был в другой раз, простите. А вечером в понедельник – только беличье латте, которое я цедила маленькими глотками, разглядывая людей вокруг и подслушивая разговоры, даже кое-что записывала на память, благо карандаш у меня всегда с собой, а на столе лежала стопка рекламных открыток с чистой оборотной стороной, что, кстати, большая редкость, мне повезло. Мимо как раз прошел мальчик с другом, говорил: «Я – как бог, никто в меня не верит», – и я записала. За соседним столом сидели старушки, и одна рассказывала другой, что ее муж умер от болезни сердца, слишком много пил кофе, несмотря на советы докторов. И она с тех пор тоже пьет много кофе, хотя не очень его любит, просто надеется, что людям, умершим от одной и той же причины, будет легче найти друг друга на небесах… Ох, наверное нет смысла все сейчас пересказывать, я просто отдам тебе открытки, записывала сразу по-немецки, и почерк у меня разборчивый. И знаешь что? Напитки, может быть, и отвлекают внимание, но стакан воды мне сейчас совершенно необходим. Во рту пересохло. Давно столько не говорила. Я сейчас вообще целыми днями молчу.
– Прости, пожалуйста. Вот об этом я, дурак, не подумал.
Файх вышел и вскоре вернулся с несколькими бутылками минеральной воды – по числу присутствующих.
– Интересно, собственно, вот что, – сказала Марина, выдув добрую половину бутылки. – На одной из открыток, которые лежали на столе, кто-то уже писал до меня. И знаете, что там оказалось? «Маринка, мандаринка, красивая картинка, рыбка сардинка, от трусов резинка, в попе машинка».
Стишок Марина произнесла по-русски, и это было так неожиданно и так глупо, что Анджей, учивший когда-то русский язык за компанию с еще несколькими славянскими, сложился пополам от хохота. Мальчишка Эрик тоже смеялся, Габия тихонько, очень по-девчоночьи хихикнула, прикрыв рот рукой, длинный Даниэль растерянно моргал, явно не веря собственным ушам – ничего удивительного, добрая половина уроженцев Вильнюса билингвы, а остальные просто более-менее понимают друг друга, даже не задумываясь, как у них это получается. И только немец озадаченно качал головой, глядя на их веселье. Стали ему переводить, недружным хором, вразнобой, и немецкий вариант звучал так нелепо, что развеселился даже сдержанный Даниэль, а Марина вытирала текущие по щекам слезы, повторяя то по-русски, то по-немецки: «От трусов резинка!» «В попе машинка!»
– Так меня дразнил Мишка, – успокоившись, объяснила она. – Вот именно этими словами. А я делала вид, что немножко обижаюсь, так было смешнее.
– Друг детства?
– Можно и так сказать. Только дружат в детстве обычно с ровесниками, а Мишка был гораздо младше. Ему восемь, мне почти тринадцать – не очень-то похоже на дружбу. Просто сын наших соседей. Он болел, я так толком и не знаю, чем именно, при детях такие вещи обычно не обсуждают. Лежал почти все время в кровати, редко-редко вставал, хотя ходить вообще-то мог. Я его навещала. Соседка изредка просила нас посидеть с Мишкой, когда ей надо было уйти, и мама отправляла меня. Потом я стала ходить к ним сама, потому что Мишку было жалко. К тому же мне понравилось с ним болтать. Мишка был потрясающий. Слышали бы вы, как он врал! То есть фантазировал. То рассказывал, что он принц с далекой звезды, потерявшийся во время королевской прогулки по неизвестным планетам, которые у него дома такое же обычное дело, как у нас поездки на дачу. То сочинял, будто он дракон-оборотень, но превращаться умеет только по ночам, поэтому прямо сейчас не может показать. То к нему в окно лез американский шпион, а Мишка его напугал, да так, что бедняга шпион свалился на землю с пятого этажа, и если бы милиционеры узнали, кто так ловко победил врага, обязательно дали бы Мишке орден. Но они, увы, даже не догадываются! Мишка врал вдохновенно и талантливо, для своего возраста так вообще гениально. Я слушала-слушала, а потом и сама втянулась. В смысле начала сочинять. Я была старше и знала побольше, поэтому теперь уже Мишка слушал меня с открытым ртом: про летучих мышей, которые превращаются в ласточек, вьют гнезда на окнах, чтобы жить поближе к людям и пить из них кровь по ночам, про дворцы, построенные на дне моря медузами, на такой большой глубине, что туда даже подводные лодки не доплывают, про джиннов из арабских пустынь, которые иногда забредают в наши края и живут в батареях центрального отопления, потому что во всех остальных местах им слишком холодно. Еще никогда в жизни никто не внимал мне, затаив дыхание, а Мишка вечно просил: «Еще, еще», – и это подняло его в моих глазах на недосягаемую высоту. Подружки-ровесницы были забыты, каждый день после школы я шла к Мишке с очередной порцией баек. Его родители считали меня ангелом, да и собственные глазам не верили – откуда вдруг столько доброты у их дочки-эгоистки? А мне было интересно, вот и все.
Марина допила воду, виновато буркнула: «Вот же все-таки прорва ненасытная!» – и продолжила.
– А потом у Мишки пропал кот Васька. Выскочил в окно, и поминай как звали. Настоящая трагедия. Васька же все время был при Мишке. Спал на кровати у него в ногах, мурлыкал, грел, развлекал. Представляете, что такое любимый кот для ребенка, который уже больше года практически не встает с постели?
Судя по выражению лиц, все более-менее представляли. Заседание импровизированного клуба любителей поговорить по-немецки сразу стало похоже на задушевные поминки, и только розовые шорты преподавателя внушали некоторый оптимизм.
– Вот-вот, – кивнула Марина. – Мишка так огорчился, что даже заболел еще сильнее, и его мама все время ходила заплаканная, а папа ездил в Москву за каким-то лекарством, которого у нас было не достать. Я испугалась, что теперь Мишка вообще может умереть, как пишут в книжках, «от горя». И тогда я придумала Заесан.
– Что-что ты придумала? – переспросил нестройный хор скорбящих.
– Заесан. Это не незнакомое немецкое слово, если вы так подумали. А просто название такого специального прекрасного волшебного города, куда попадают пропавшие коты и собаки. И улетевшие попугаи, и сбежавшие хомяки. И люди, о которых объявляют по телевизору: «Вышел из дома и не вернулся, был одет в белую рубашку с короткими рукавами и серые брюки». И говорят: «Пропал без вести», – потому что так и не смогли найти. И еще, конечно, в Заесан попадают все потерявшиеся вещи. Поэтому мостовые там вымощены ключами вместо булыжников – известно же, что ключи теряются чаще всего. И еще очки, поэтому окна в домах там выложены из мелких увеличительных стеклышек, надо же куда-то девать это добро! А крыши в Заесане делают из зонтиков, потому что их тоже очень часто теряют, и если бы городской совет не придумал делать такие крыши, город давным-давно утонул бы в зонтиках, которые валятся и валятся на улицы с утра до ночи. Но это единственная серьезная проблема. В остальном жизнь в Заесане прекрасна и легка. Потому что нельзя же было отправлять любимого Мишкиного кота в плохое место, правда? Жители Заесана просто обязаны быть умными, добрыми, счастливыми и щедрыми, чтобы постоянно закармливать всех городских котов первосортной колбасой, взбитыми сливками, печеночным паштетом и свежей селедкой. А собак еще и пряниками. Котам бы пряников тоже дали, но те сладкое не жрут, как ни уговаривай. Приходится крошить их долю попугаям, которые в Заесане вместо воробьев – скачут повсюду бесстрашно и щебечут на всех языках мира, причем все больше стихи, только успевай за ними записывать.
– Боже, какой же прекрасный город! – улыбнулась Габия. – Я уже туда хочу. Хотя бы на экскурсию.
– Для этого тебе пришлось бы пропасть без вести, – совершенно серьезно сказала Марина. – Это обязательное условие – для всех, у кого нет карты.
– Карты?
– Ну да. Должна же я была придумать для Мишки способ попасть в Заесан и встретиться там с котом Васькой, окруженным новыми приятелями, дружелюбными псами, побежденными мышами, покорными его воле птичками, влюбленными кошками и котятами, которых надо воспитывать и защищать… Рассказала ему, что в Заесан можно попасть во сне, но для этого нужна карта города. Без карты туда соваться нельзя, чего доброго, заблудишься и ничего не найдешь, Заесан – город большой, как целая страна, так что некоторым людям приходится ездить друг к другу в гости на самом настоящем поезде. Карту я, конечно, нарисовала. Какая она была красивая, знали бы вы! Я несколько лет ходила в художественную школу, рисовала сравнительно неплохо, но все равно сама не ожидала, что так здорово получится. На работу ушел примерно месяц, и карта получилась очень большая, два склеенных ватманских листа. С названиями улиц, домами, парками и тремя морями, окружающими город со всех сторон, специально так придумала, чтобы пляжей было побольше. И во всех морях вода разного цвета, и рыбы тоже разные в них живут. И еще был список достопримечательностей внизу, как на настоящих картах для туристов: Кошачий дворец, музей потерянных драгоценностей, апельсиновый парк, площадь Тысячи Попугаев, дом Стеклянных Рыцарей, собачий лабиринт, построенный из печенья, Самый Большой В Мире Луна-парк, Башня Для Прыжков с Парашютом, Великий Королевский Батут. Ну что вы смеетесь, мне же надо было порадовать совсем маленького мальчишку, вот и сочиняла как могла. Но и сама, конечно, увлеклась. Даже школу прогуливала из-за этой карты, пряталась во дворе, ждала, пока родители уйдут на работу, и возвращалась домой, чтобы побольше успеть нарисовать. И, честно говоря, даже не потому, что Мишка ждет, просто сама больше ни о чем не могла думать. Когда карта была готова, мы с Мишкиным папой повесили ее над кроватью, как ковер. Мишка была счастлив, рассматривал мои рисунки весь вечер, да так и уснул, уткнувшись в них носом. А проснувшись, объявил, что всю ночь гулял по Заесану, нашел там Ваську, тот живет хорошо и передает всем привет. На самом деле ничего удивительного тут нет, дети очень впечатлительны, а уж больной ребенок, в жизни которого не происходит вообще никаких событий, впечатлителен втройне. О чем весь вечер думал, то и приснилось, обычное дело, даже со взрослыми часто случается. Но это я сейчас понимаю, а тогда чувствовала себя настоящей доброй волшебницей. Ужасно гордилась своей чудесной картой, думала: «Вот это да!» И каждый день после школы, даже не пообедав, неслась к Мишке – узнать, приснился ли ему Заесан и как там поживает кот Васька. Который, кстати, внезапно нашелся пару недель спустя. Лежал поутру на Мишкином одеяле, как ни в чем не бывало. Взрослые сошлись на том, что беглец проник в дом через открытое окно, до которого не слишком сложно добраться по карнизам. А Мишка утверждал, что просто уговорил кота вернуться домой, и Васька великодушно согласился проснуться вместе с ним, хоть и жаль было расставаться с новыми друзьями, охотничьими угодьями и докторской колбасой. Но карта, конечно, осталась висеть на стене, и Мишка продолжал гулять во сне по Заесану – теперь уже вместе с котом, который не упускал возможности навестить любимый город.
– Какая ты хорошая сказочница, – улыбнулся Файх. – Всем бы в детстве такую соседку! Но твоему Мишке, конечно, было нужнее всех. Думаю, ты его спасла.
– Тогда уж мы с Васькой, вместе. По крайней мере, Мишка действительно выздоровел. Постепенно пошел на поправку после возвращения кота. Примерно через полгода, зимой, даже в школу начал ходить. А что было дальше, я не знаю, весной они переехали куда-то на юг. И мне как-то в голову не пришло заранее узнать их новый адрес. Зачем? Кто в четырнадцать лет станет считать возню с соседским малышом настоящей дружбой, которую надо сохранить на всю жизнь? Потом жалела, конечно, – изредка, когда вспоминала. Не столько о самом Мишке, сколько о карте. Мечтала: вот бы не нее сейчас поглядеть. Но когда нашла открытку с дурацкими дразнилками, сразу подумала: боже мой, неужели мой Мишка здесь, в Вильнюсе? Живет, или просто приехал в гости? Только что сидел за этим самым столом, вспоминал детство и меня, и получается, мы всего на несколько минут разминулись – такое чудо! Такое прекрасное, такое досадное, до слез чудо. И тогда я совершила очень странный поступок. Взяла чистую открытку и принялась писать: «Заесан», «Площадь Ста Радуг», «Сладкое море», «Лиловое море», «Сияющее море, из которого берут воду для уличных фонарей», «Камышовая аллея», «Всемирная Школа Пряток», «кинотеатр для рыб и черепах на Ананасовом пляже», «Карамельный квартал», «дом Самой Большой в Мире Собаки», и так далее. Записывала все подряд, что удалось вспомнить, а потом сунула открытку под пепельницу и ушла. Думала: а вдруг Мишка живет поблизости? Или работает, или встреча у него где-нибудь рядом, и он еще вернется в это кафе до ночи, когда станут убирать столы и собирать мусор в черные полиэтиленовые мешки. Думала: шансов почти никаких, вернее, вообще никаких, а все-таки пусть этот список полежит на столе до закрытия, просто так, низачем, как письмо, запечатанное в бутылку, ради красоты жеста. Думала: глупость, ладно, а все-таки… все-таки пусть. Дописала и пошла домой обычным маршрутом, по проспекту Гедиминаса до самого конца, перешла мост, повернула направо, на улицу Витауто, а оттуда на Пушу. А там, понимаете, какое дело… В общем, на крыше одного из домов лежали раскрытые зонтики. Очень много, несколько десятков. Так что могло показаться, будто крыша из этих зонтов сделана. Ну, как в Заесане. Как я сама когда-то придумала для Мишки, а потом забыла и не вспомнила бы, если бы не «Маринка от трусов резинка» на открытке в кафе. Понимаете, эти зонтики действительно были! Я даже сфотографировала их на телефон, и изображение не исчезло, я проверяю, только не смейтесь, каждые полчаса. Могу показать.
И действительно пустила телефон по рукам. Анджей, впрочем, смотреть не стал. Ему показалось, что доказательство – это лишнее. Без фото было бы только лучше, потому что зонтики на крыше – это уже не пустяк, это вопрос веры. А вера, черт побери, не должна доставаться легко.
– На этом все, – сказала Марина, пряча телефон в сумку. – Потому что когда я вошла в дом, выяснилось, что час давным-давно прошел. Наверное еще до того, как я увидела крышу с зонтами. Но о ней просто не могла промолчать.
– И правильно, – подбодрил ее Файх. – Еще чего не хватало – оставить меня без твоих зонтиков! А вот, кстати, еще один, – и простер руку в сторону соседней крыши, где, зацепившись изогнутой ручкой за старую телеантенну, болтался на ветру ярко-оранжевый зонт, раскрытый и вывернувшийся наизнанку, со торчащими во все стороны спицами.
– На самом деле его легко починить, – сказал Анджей Марине. Сам не понимал, что его дернуло за язык.
– Я знаю, – невозмутимо кивнула она. – Что действительно трудно, так это до него дотянуться.
Однако когда, попрощавшись с Файхом и задремавшей в его кресле Гретой Францевной, вышли все вместе во двор, оранжевый зонтик уже валялся на асфальте, да еще и возле самого подъезда, чтобы далеко за ним не ходить. Иногда ветер бывает чрезвычайно любезен.
Анджей поднял зонт, покрутил в руках, кое-как закрыл, разровнял, снова открыл – все было в порядке, спицы не сломались, а только погнулись, да и то не сильно. Протянул находку Марине. Сказал:
– Отличная вещь, еще долго прослужит.
– Ой, – смутилась она. – А почему мне?
– Потому что этот зонтик явно родился из твоего рассказа, – крикнул сверху, с балкона Файх. – Больше ему неоткуда было взяться. Анджей все правильно понял!
Подумал: «Да ни хрена я на самом деле не понял. Просто отдать зонтик Марине было логично. Потому что… Нет, стоп, никаких «потому что». Логично, и все».
Но говорить ничего не стал. Устал уже от этого чертова немецкого языка, хоть плачь.
– До понедельника!
Теперь немецкая речь немилосердно лилась на их бедные головы прямо с небес – совсем невысоких, самых ближних, расположенных на высоте второго этажа. Всего-то.
– До понедельника! – повторил Файх. – Хороших всем выходных! Жду вас у себя в семь. И уже начинаю по вам скучать.
Вот ведь ненасытный.
Сказать, что всю дорогу думал о Марине и ее сказках про Заесан, было бы неправдой, потому что не думал вообще ни о чем, ни единой мысли не было в гудящей от перенапряжения голове. Зато не думал именно о Марине. О том, как она идет сейчас домой, где стол завален изрисованной бумагой – десятки эскизов, сделанных за последние три с половиной дня, и на всех картинках – улицы, улицы, улицы. И еще переулки, площади, деревья, дома с круглыми окнами, нежащиеся на солнце коты, играющие собаки, стаи пестрых попугаев на площади, статуи с цветами, выросшими на месте глаз, крылатый ребенок на пустом пляже строит замок из золотого песка, в фонарях плещется светящаяся морская вода. И как, не переодевшись в домашнее платье, даже не сделав бутерброд, о котором мечтала всю дорогу, сядет рисовать новую картинку и, не закончив толком, начнет еще одну, а потом еще – слишком много надо теперь успеть, ни одной человеческой жизни не хватит завершить это дело, с по-настоящему важной работой вечно так.
Обо всем этом Анджей не думал ни секунды. Просто откуда-то знал.
Пришел домой, открыл окно, высунулся по пояс и смотрел на темное ночное небо так долго, что оно пошло трещинами, сквозь которые пробивался неяркий бледно-синий свет. Подумал: «Я определенно чокнулся». Подумал: «Вот и проверим теорию, что психам жить интересней, чем всем остальным». Подумал: «Похоже, я даже рад».
И пошел работать.
По улицам ходил теперь, чутко прислушиваясь, боковое зрение за выходные стало чуть ли не лучше фронтального, и даже затылок зудел, как будто там и правда прорезывался дополнительный глаз. Был совершенно уверен, что эксцентричный немец Фабиан Файх вот-вот выскочит из-за угла, вынырнет из подворотни, или, чего доброго, вывалится прямо на голову из ближайшего окна. Скажет: «Привет, пошли обедать, я тебя убью». Даже ответную реплику заготовил: «Каким оружием?»
Действительно же интересно.
Однако Файх предательски оставил Анджея в покое. На весь уикенд. Объявился только в ночь с воскресенья на понедельник. То есть, даже не в ночь, а в половине пятого утра. И не где-нибудь, а на подоконнике. Сидел, курил трубку-калабаш[12], пускал дым кольцами, болтал ногами, терпеливо ждал, когда на него обратят внимание. Когда живешь на четвертом этаже, подобных визитов как-то не ожидаешь. И, получается, зря.
Анджей так растерялся, что спросил:
– Ты чего не спишь? Я-то ладно, конченный человек. У меня, во-первых, апокалипсис, то есть дедлайн. В девять все должно идеально работать! А во-вторых, как только оно заработает, я буду волен распрячь своего бледного коня и дрыхнуть, сколько захочу. А тебе же небось к восьми в офис. Или где ты там наводишь свои немецкие порядки.
– К восьми тридцати, – педантично поправил Файх. – Но это неважно. Я никогда не сплю. Просто не умею.
На фоне подобного признания время и форма дружеского визита сразу перестали казаться чересчур фантастическими. Ну залез человек на четвертый этаж незадолго до рассвета, с кем не бывает.
– Это как?!
– Ну как, – немец пожал плечами, – обыкновенно. Бодрствую, и точка. И никогда не устаю.
– Даже от себя?
Не хотел язвить. Само вырвалось. Но Файх был непрошибаем.
– Конечно. С собой мне всегда хорошо. Видимо, у меня легкий, уживчивый характер.
И добавил, перейдя почему-то на шепот:
– Есть спящие, а есть сны, вот и все. Мир очень просто устроен, Анджей. И довольно логично, как ни смешно это звучит.
– Действительно смешно.
– Тем не менее. Извини, если я тебя потревожил. Просто вдруг подумал – возможно, тебе кажется, будто ты сходишь с ума. Возможно, тебя надо успокоить. Рад, что ошибался.
– Успокоить! – восхитился Анджей. – Надо же – успокоить! Успокоить человека, примерещившись ему под утро! На подоконнике! На четвертом этаже! Отличный способ, надо взять на вооружение.
– Тебе не пригодится, – флегматично заметил Файх. – Ты не тот, кто снится. Ты тот, кто видит сны. Это разные роли.
– В любом случае сейчас у меня слишком много работы, чтобы разбираться, схожу я с ума или нет. Возможно, я займусь этим завтра. Хотя разумней воздержаться. Некоторые вещи о себе лучше просто не знать. Или хотя бы не обдумывать подолгу.
– Это очень хороший подход, – сказал немец. И, помолчав, спросил: – Ты придешь завтра?
– Куда я от тебя денусь, – вздохнул Анджей. – По крайней мере, завтра у себя дома ты не будешь выглядеть столь откровенной галлюцинацией. А если не приду, начнешь, небось, мерещиться мне каждый божий день.
– Нет, тогда я тебя убью, – ласково сказал Фабиан Файх. Выпустил кольцо дыма в форме черепа, подмигнул и исчез.
Ай да молодец немец. Хорошая из него вышла галлюцинация. Неназойливая. И от работы совсем ненадолго отвлекла.
Столь примерное поведение заслуживало награды, поэтому без десяти семь вечера понедельника Анджей был на улице Лабдарю. Еще не поглядев на балкон, знал, что вся компания уже в сборе, кроме Марины. Был уверен, что Марина сегодня не придет. И вряд ли еще когда-нибудь. Сдался ей теперь этот немецкий. Рисовать можно вообще без слов.
– Ты совершенно прав, Марина не придет, – улыбнулся Файх, вышедший зачем-то встречать его во двор. – Нет никакого смысла ее ждать. Зато все остальное исполнено смысла в этот холодный летний день. Чувствуешь ли ты смертоносное дыхание смысла на затылке? Или ему следует подойти еще ближе?
Почти не слышал, что говорит этот невыносимый немец. Потому что не хотел слышать. От одного только ритма его речей начинала кружиться голова, а по небесному куполу разбегались все новые трещины, голубое пасхальное яйцо, по которому колотят ложкой, вид изнутри.
Ухватился за большую и теплую даже в своем отсутствии Марину, как утопающий за соломинку.
– Погоди, почему ты уверен, что она не придет?
– Не знаю. Я никогда ничего толком не знаю, зато чутье у меня неплохое. Живу впотьмах и действую наощупь. Довольно часто угадываю, иногда попадаю впросак, но это не имеет значения, пока идет игра, правила которой мне неизвестны, хотя интуитивно ясны. Собственно, это и есть самое интересное. Начинаешь понимать, почему мне до сих пор не надоели мои развлечения?
– Начинаю понимать, что связался с чокнутым.
– Ну, это, по-моему, было вполне очевидно с самого начала, – улыбнулся Фабиан Файх. – Я с первого же дня вел себя как конченый псих. И потому был неотразим. Скажешь – нет?
Подумал: «Ну уж прям».
Подумал: «Неотразим, ишь ты».
Подумал: «С другой стороны, пришел же я сюда. И еще приду, если позовет. Как медом мне тут намазано. Сладким синим медом первого весеннего сбора, который называют «звездным» из-за необычного цвета… Тьфу ты, что за хрень творится у меня в голове? Явно перегрелся на солнце».
Хотя сам понимал, что перегреться на солнце в пасмурный день, при температуре плюс девятнадцать по Цельсию довольно затруднительно.
Грета Францевна на этот раз переместилась на балкон, вместе с облюбованным в прошлый раз креслом, которое каким-то образом вынесли из гостиной сквозь сравнительно узкую дверь. Сегодня, на слишком холодном для середины августа ветру, ее зимнее пальто уже не казалось абсурдной деталью. Напротив, Грета Францевна была экипирована куда лучше других. Синеволосая Габия и длинный Даниэль стояли по бокам как почетная охрана.
– Марину ждать не будем, – бодро объявил Файх. – Она мне позвонила. Говорит, слишком много работы, к тому же внезапно объявился этот ее друг детства, как его – Mishka! Каким-то чудом ее нашел. Впрочем, почему чудом? Адрес сменился, а фамилия прежняя; люди умудряются найти друг друга даже располагая гораздо более скудной информацией. Будем считать, мы с вами принесли Марине удачу, с чем нас всех и поздравляю. А теперь к делу! Эрик, сегодня твоя очередь. Только, пожалуйста, не стесняйся. Мы, конечно, безнадежно взрослые, но этот недостаток нам вполне можно простить.
– Я не стесняюсь, – сказал мальчишка. – Со взрослыми гораздо проще. Вам все равно, какие у меня кроссовки. И даже если бы я носил очки, вы бы мне ничего обидного не сказали. Взрослые никогда не дразнятся.
«Вот тут ты ошибаешься», – ухмыльнулся про себя Анджей. Но промолчал – чего ребенка с толку сбивать.
– Ты стал говорить гораздо лучше, чем неделю назад, – заметила Габия.
– Просто я услышал, как разговаривают по-немецки на самом деле, – объяснил Эрик. – Раньше у меня была только кассета для начинающих. Но я ее всего два раза слушал, в гостях, дома не на чем. Нет магнитофона.
– Как жаль, что мой старый кассетный плеер остался в Дортмунде, – сказал Файх. – Лежит без дела в шкафу, а тебе пригодился бы. Впрочем, эта кассета все равно больше не нужна. Какой же ты начинающий? Еще немного, и сам сможешь уроки давать.
Эрик ничего не сказал, только вздохнул потрясенно и недоверчиво.
– Ты правда очень быстро учишься, – заверил его Файх. – Впрочем, у меня вообще все быстро учатся. Как говорится, «легкая рука».
Хотел съязвить: «Небось мерещишься своим жертвам с утра до ночи и болтаешь с ними непрерывно, поди не научись в столь невыносимых условиях». Но вовремя прикусил язык. Для хорошей шутки слишком похоже на правду, а плохие лучше держать при себе.
– Я очень хочу услышать твою историю, Эрик, – неожиданно сказал Даниэль.
До сих пор длинный не производил впечатления человека, которого вообще хоть что-то интересует. Равнодушно слушал чужие разговоры, старательно произносил свои редкие реплики, но в целом скорее отсутствовал, чем присутствовал. «Тщательно пересчитывает тараканов у себя в голове», – думал о нем Анджей. Впрочем, возможно, все объяснялось проще: Даниэль учил немецкий язык давно, недолго, вряд ли слишком старательно и теперь просто не понимал добрую половину сказанного. А с мальчишкой-самоучкой у него был неплохой шанс включиться в общую работу.
– Спасибо, – сказал Эрик. И открыл свою черную тетрадку. Объяснил: – Я готовился. Искал разные новые слова в словаре. Можно, я буду смотреть в тетрадь?
– Конечно, – заверил его Файх. – Я благодарен тебе за столь серьезное отношение к делу.
– Просто я очень хочу рассказать. А по-немецки это трудно. В субботу я видел в Вильнюсе Нойшванштайн. Он стоял на Кривой горе.
– Где-где он стоял? – переспросил явно озадаченный немец.
– На горе, где три креста.
– А. Вот как она, оказывается, называется.
– Раньше называлась, – вмешалась Габия. – Кривая, а еще Лысая. А потом поставили кресты. Вроде бы, в честь францисканских монахов, убитых язычниками[13]. Ну или что-то в таком роде. Их то сносили, то опять ставили. Долгая история.
– Спасибо. Эрик, расскажи, пожалуйста, с самого начала.
– В субботу в десять часов утра я пошел гулять. Вышел и сразу сказал, что это специально для книги. Наш дом находится на улице Тилто. Это недалеко от Кафедральной площади. И я пошел туда. На Кафедральной площади есть надпись «Чудо». Такая… такой квадрат. Я не знаю, как сказать лучше.
– Он имеет в виду плитку с разноцветной надписью «Stebuklas», то есть «чудо», – помогла ему Габия. – Какой-то художник[14] ее сделал и потихоньку, никого не спрашивая установил на площади. Давно, еще в конце девяностых. Сперва никто не знал. Некоторые случайно замечали, удивлялись и радовались: «О! Чудо!» Приводили друзей, показывали. А теперь народ верит, будто плитка исполняет желания, приходят, топчутся – и местные, и туристы… Настоящая легенда! Я, кстати, и сама ходила, когда еще в школе училась.
– И твои желания сбывались? – заинтересовался немец.
– Конечно сбывались, – рассмеялась она. – Как же иначе.
– А я никогда раньше там не стоял, – сказал Эрик. – Я в такое не верю. Но подумал, что для книжки это хорошо. Книжки должны быть такие – про волшебство и чудеса. А иначе зачем они нужны?
– У тебя очень разумный взгляд на задачи литературы, – улыбнулся Файх. – Так ты встал на эту чудесную плитку ради моей книги? Спасибо, это потрясающе! А ты загадал желание? И что было потом?
– Я не успел сказать желание, потому что меня толкнул какой-то мальчишка. Старше, чем я, но не взрослый. Наверное, десятиклассник. Крикнул: «Смотри, смотри!» – и убежал. Я сперва не понял, куда смотреть. Стоял, вертел головой. А потом увидел, что на вершине Кривой горы вместо трех белых крестов стоит Нойшванштайн. Тоже белый и прекрасный, как на картинках. И я туда побежал.
– На гору?
– Да. Захотел залезть наверх, к замку. Но гора не очень близко. Поэтому сначала я долго бежал до горы. И все время смотрел, проверял, есть ли замок. Он был. И я бежал дальше. И добежал. И стал подниматься. Но когда добрался до вершины, там были только кресты. Три белых креста, как всегда. И я пошел вниз.
– Очень огорчился? – спросил Даниэль.
– Не знаю. Не очень. Наверное совсем не огорчился, но заплакал. Немножко. Но не потому что мне было плохо. Мне было хорошо. Я же видел Нойшванштайн! Пока бежал, много раз поднимал голову и видел замок Нойшванштайн, совсем близко. Он был такой прекрасный. Красивее, чем на фотографиях. В некоторых книгах написано, что люди плачут, если очень… слишком счастливы. Когда я это читал, думал, что неправда. Но, наверное, правда, потому что я сам плакал, когда спускался с Кривой горы. Я подобрал там белый камень и положил в карман. Я решил, это будет амулет. Я возьму его с собой, когда поеду в Германию. И принесу его в Нойшванштайн, положу незаметно где-нибудь там во дворе. Так мы с камнем договорились. Я ему обещал.
– Откуда что берется, – задумчиво сказал Фабиан Файх. – Вильнюсский школьник знает о принципах работы магии талисманов куда больше, чем лучшие из взрослых шарлатанов, которые обожают рассуждать о подобных материях. Ты молодец, Эрик. Очень грамотно поступил. И вообще все время вел себя идеально. И когда решил, что для книжки нужно чудо, и когда пришел на площадь, и когда, не раздумывая, побежал к подножью горы, и когда лез наверх, и когда не огорчился, но заплакал от счастья. Если бы вдруг я оказался рядом, мне нечего было бы тебе посоветовать. Только и оставалось бы – держаться рядом и делать как ты. Откуда что берется!
Эрик молча улыбался. Явно не мог подобрать нужные слова, а записанные в тетрадке уже закончились. С другой стороны, он и так много сегодня сказал. Неплохо для начинающего.
Совсем неплохо.
Договорились снова встретиться в пятницу. Эрик убежал первым, зато взрослые собирались неторопливо. Кажется, всем не особо хотелось расставаться, но и продолжить вечер, к примеру, в ближайшем кафе никто так и не предложил. Как будто это было не по правилам – встречаться еще где-то, кроме Файхова балкона. И разговаривать друг с другом не по-немецки. Хотя таких жестких условий он им совершенно точно не ставил. Но все равно казалось, что лучше не надо. Черт его знает почему.
Грета Францевна осталась дремать в кресле, Файх не захотел будить гостью, сказал: «Пусть отдыхает, я ее потом провожу». Когда вышли во двор, не сговариваясь, задрали головы и убедились, что старухи на балконе больше нет. Только Фабиан Файх в своих ослепительных розовых шортах – стоит, машет рукой: «До скорого!»
Разошлись в разные стороны. Габия – на Лабдарю, мимо закрытой уже эзотерической лавки, Даниэль отправился на стоянку за машиной, а Анджей, пожав плечами, вышел на Вильняус, хотя, если по уму, это был наименее удобный из возможных вариантов. С другой стороны, кто сказал, что сейчас непременно следует идти прямо домой?
Проходя мимо «Кофеина», подумал: «На что угодно спорю, Марина пила свое «беличье» латте именно здесь. У них в меню до фига причудливых названий – «Медвежий лес», «Апельсиновый бриз», «Влюбленное капучино» – и это явно важная составляющая успешной маркетинговой стратегии».
Интереса ради зашел и спросил. Угадал, конечно. И в награду стал обладателем картонного стакана с некрепким кофе, слишком щедро сдобренным ореховым сиропом. Хорошо хоть воды дали. Будет чем запить невыносимую эту сладость, которая кажется прельстительной только детям. Да и то не всем.
Вышел на улицу, сел за единственный свободный стол. Рекламные открытки там, кстати, тоже лежали, целых четыре штуки. Не стопка, как было с Мариной, но все равно неплохое число.
Из черной, зазывающей в какой-то ночной клуб, машинально смастерил кораблик. Из голубой с репертуаром молодежного театра – самолет. Из зеленой, разъясняющей, как добраться к месту проведения музыкального фестиваля, сложил лягушку, очень долго с ней промучился, никак не мог вспомнить, что куда загибать, а ведь в детстве само получалось. Пока возился с лягушкой, ветер унес четвертую открытку, и это было к лучшему. Теперь мог думать, будто там была еще одна записка Марине. Или неизвестно кому. Или ему самому. Вот совершенно не удивился бы, самое время вступать в задушевную переписку с эльфами, инопланетянами, вымышленными друзьями чужого детства, или еще чем-нибудь таким же неведомым. В последние дни все стало так нелепо и зыбко, как будто кто-то совсем незнакомый одолжил для примерки свою непонятную выморочную жизнь – попробуй, как тебе понравится, вдруг подойдет, я тогда подскажу, где их берут.
Но ветер унес четвертую открытку. Такой молодец.
– Вот и я решил попробовать, что это за «беличье» латте, – сказал Фабиан Файх, усаживаясь рядом.
Совершенно не удивился. Предложил:
– Можешь забрать мой стакан. Я эту порцию в одиночку не одолею. Слишком сладко.
– Затем я, можно сказать, и пошел по твоему следу – чтобы спасти, – усмехнулся немец. И, попробовав кофе, добавил: – Есть от чего спасать! Действительно слишком много сиропа.
– Только затем и вышел?
– Конечно, нет. Просто ты спрашивал о Марине – почему я уверен, что она не придет. Я тогда не знал, как тебе объяснить. Собственно, и теперь не знаю. Но решил попробовать. Что нам терять?
Подумал: «Действительно нечего». Но вслух не сказал. Только адресовал немцу вопросительный взгляд: «Не тяни. Не тяни. Не тяни».
Фабиан Файх улыбнулся столь ослепительно, словно им обоим было по восемь лет, и он знал, где в соседнем дворе спрятана дохлая кошка.
– Когда слагаемые меняются местами, наблюдателю может показаться, что одно из них просто исчезло, пропало навек. Но это только потому, что у нас не всегда есть возможность увидеть, как на его месте возникло другое слагаемое, куда более уместное, чем мы способны вообразить. Вот и все.
– Если ты думаешь, будто хоть что-то объяснил…
– Конечно, не думаю. Я же не дурак. Кстати, ты знаешь Маринин адрес?
– Нет. Откуда?
– Вот и я не знаю. Нарочно не спрашивал. Чтобы мы с тобой не имели ни малейшей возможности выяснить, что творится сейчас в одном из деревянных домов Жверинаса. Сидит ли там за своим рабочим столом наша Марина? Или совсем другая женщина в домашнем свитере с белкой на животе? Ликует она или печалится, плачет или поет? Продолжает рисовать или бросила? Помнит ли свое имя? Что за лицо глядит на нее из зеркала, какими вопросами она сейчас задается, что увидит во сне? Это больше не наше дело. И не наша игра.
– Я тебя совсем не понимаю.
– Слишком давно бросил учить немецкий, да? Не обольщайся, ты понимаешь каждое мое слово. И совсем не потому, что действительно неплохо знаешь язык.
Допил остывший «беличий» кофе и ушел, помахав на прощание с видом столь торжествующим, что это вполне заменило коронное обещание: «Я тебя убью».
И так убил. В некотором смысле.
Может быть, именно поэтому Анджей отправился потом не домой, а на проспект Гедиминаса. Свернул налево и быстрым шагом пошел мимо витрин закрытых уже магазинов, мимо театра, биллиардного клуба, бронзовой собаки в очках у входа в «Оптику», мимо Лукишской площади, мимо кондитерской, книжного и очередного кафе с оранжевым ромбом, дальше, дальше, до самой реки. Только на мосту остановился, спросил себя: «Зачем тебе в Жверинас?» Да ясно же, незачем. Просто так, назло чертову немцу. Вот просто назло.
Перешел на другой берег, свернул направо, на улицу Витауто, а оттуда на Пушу. Был уверен, что сразу узнает Маринин дом. Заходить, конечно, не собирался. Только заглянуть в окно. Она наверняка дома и уже давно зажгла свет. И окна нараспашку по случаю летнего вечера, какой дурак станет запираться от запахов увядающих трав, речной воды и дыма впервые за все лето растопленных печей. Посмотрю, увижу, что она есть, что с ней все в порядке, сидит, рисует, и…
Действительно, сидела, рисовала, и окно было открыто, и свет горел. Смотрел на нее долго, не таясь – все равно не заметит, очень уж занята. Но отошел от окна почему-то на цыпочках и еще долго стоял потом на другой стороне улицы, спрятавшись за толстым липовым стволом. Не понимал, зачем. И вообще ничего не понимал.
– Надо же, ты нашел Маринин дом, – сказал Фабиан Файх. – Назло мне взял и нашел! А я-то, дурак, почти не надеялся.
На этот раз он не подкрался сзади, не возник из ниоткуда, не слез с дерева, даже из соседнего подъезда не стал выскакивать с криком: «Сюрприз, сюрприз!» Просто пришел со стороны улицы Витауто, поочередно переставляя ноги, как приличный человек. И шорты свои одиозные, кстати, сменил на обычные джинсы. Может ведь когда хочет.
Добавил:
– Готов спорить на что угодно, вы не были знакомы прежде. Я бы заметил. И домой ты ее не провожал.
– В каком-то смысле провожал. То есть не отправился за ней следом, у меня в пятницу своих дел было невпроворот. Но все равно почему-то видел, как Марина идет домой. Не глазами. И даже не в воображении. Как-то еще. Не знаю, как. Хотя, по идее, мне было все равно.
– А мне было не все равно, – признался Файх. – Буквально извелся от любопытства. Очень хотел за ней проследить. Но не мог себе позволить. Нет принципов более священных, чем дурацкие правила игры, которую сам же и придумал. И вдруг появляешься ты! Поднимаешься и идешь, не раздумывая. И сразу приходишь, куда надо. Как я до сих пор без тебя обходился, вот чего теперь не пойму.
– Ты в окно сперва загляни, – сказал Анджей. – Сразу пройдет желание меня хвалить.
– Конечно загляну. Всегда интересно, кто во что дома одет. Особенно когда человек живет один, и его вообще никто не видит.
Сделав столь легкомысленное признание, Файх перешел улицу, немного поболтался у Марининого окна и вернулся, довольный, как накормленный кот. Интересно, с чего бы.
– Видишь, куда-то не туда я нас привел, – вздохнул Анджей.
– Да ну, – поморщился немец. – Сам прекрасно знаешь, что туда. Не выдумывай. Не вынуждай меня заново все объяснять. Не порти мне праздник.
– Ладно не буду.
Обратно пошли вместе. Когда переходили мост, спросил:
– А как же мальчишка?
– В смысле? Что – «как»? О чем ты?
– Эрик теперь тоже исчезнет? И у его бабушки появится другой внук? Как ты говорил, «более уместный»?
– А, вот ты о чем. Ну что ты. Неужели думаешь, будто со всеми людьми должно происходить примерно одно и то же?
Пожал плечами:
– Похоже, именно так я и думаю. И поэтому мне очень скучно среди людей.
– Понимаю. Но, к счастью, ты заблуждаешься.
– Правда, что ли?
– Зуб даю! – рассмеялся Фабиан Файх, продемонстрировав чуть ли не сотню распрекрасных белых зубов, уже готовых к раздаче. А потом серьезно добавил: – Некуда ему исчезать. Да и незачем. С таким талисманом теперь только жить да жить. Я ему даже немного завидую – сам бы хотел вот так, с самого детства, влипнуть в подобную историю. Ужасно интересно, как все теперь у него будет складываться. Но в отдаленное будущее даже ты меня не проведешь. Потому что будущего нет. Некуда вести.
– А прошлое? Хоть оно-то есть?
– Сложный вопрос. Теоретически, прошлого тоже нет. Вообще ничего, кроме текущего момента. А на практике то и дело выясняется, что некоторые фрагменты прошлого отлично сохранились, спрятавшись в складках времени, прилипли к нему, как кошачья шерсть, лежат там такие живые, будто все происходит прямо сейчас. Они, собственно, и есть «прямо сейчас». И это – навсегда. Такой вот удивительный парадокс.
Сказал:
– Ты натурально сводишь меня с ума. Но при этом почему-то совершенно не бесишь. А даже наоборот, каким-то образом успокаиваешь. Как будто я давным-давно привык к твоей болтовне. Как будто так было всегда. Как будто ты мой друг детства, и я даже рад, что ты наконец нашелся.
– Примерно так и есть, – подтвердил немец. – Я и сам рад.
Дальше шли молча. Только перед тем, как свернуть к своему дому, Анджей спросил:
– Слушай, а какого черта ты все время обещаешь меня убить?
– Потому что это правда, – безмятежно ответствовал немец. – Потому что я здесь за этим. Потому что я тебя убью.
И, заговорщически подмигнув, нырнул в ближайшую подворотню. Даже жаль. Не так уж хотелось сейчас оставаться в одиночестве. Вернее, совсем не хотелось.
Но простояв полчаса под душем, то и дело меняя температуру воды с горячей на ледяную и обратно, решил, что и так неплохо. Совершенно пустая, светлая, ясная голова. И совсем не скучно жить с такой головой, даже сейчас, сидя на чужой постылой кухне, сданной ему во временное, чересчур затянувшееся пользование. Потрясающее ощущение.
Подумал: «Очень хорошие последние дни жизни мне выпали. Надо же. Совершенно на это не рассчитывал».
В пятницу вышел из дома задолго до семи. Добирался до улицы Лабдарю даже не самой дальней, а вообще не дорогой, нарезая по городу хаотические, постепенно сужающиеся круги. То и дело заставлял себя притормозить, напоминая: время, время! Вспомни о времени. Сегодня оно идет гораздо медленней, чем ты. Пил сидр в кафе на Пранцишкону и Швенто Казимиро, вино на Литерату, кофе на Траку, Вокечю и Пилес; выпил бы и того, и другого, и третьего еще в доброй дюжине приглянувшихся мест, но сколь бы ненасытен ни был человеческий дух, возможности прилагающегося к нему брюха обычно драматически ограничены. Видимо поэтому в половине седьмого зашел все в тот же «Кофеин» на Вильняус и купил кофе на всех. Холодный апельсиновый для Габии с синей челкой, крепкий лаконичный Flat White для длинного Даниэля, миндальный капучино для Греты Францевны – вдруг согласится попробовать? Холодное какао с мороженым для Эрика – дети обычно не любят кофе, сам в его годы терпеть не мог эту горькую дрянь. И приторное «беличье» латте для Файха – еще раз, чтобы проняло. Пусть выпьет за здоровье Марины, где бы она сейчас ни была. Кто бы ею сейчас ни был. А если не осилит всю порцию, ничего, я допью.
Плотно закрыл все стаканы крышками, кое-как ухватил этот букет и понес. Идти-то всего ничего – через двести метров, перед банком свернуть налево, в большой проходной двор, где всего два неожиданных поворота спустя выходишь на территорию, безжалостно оккупированную немецким захватчиком в розовых шортах. Прямехонько под его балкон.
Сказал столпившимся наверху:
– Если никто не спустится, чтобы открыть мне дверь, я уроню все эти стаканы. И вы останетесь без кофе. Тогда ничто не будет отвлекать нас от занятий.
Файх материализовался внизу буквально секунду спустя. Распахнул дверь. Сказал:
– Кофе на всех! Прекрасная идея, спасибо! И как я до сих пор без тебя обходился?
– Это ты уже говорил. В Жверинасе.
– Помню. Но ответа на этот вопрос у меня по-прежнему нет. Проще уж представить, что без тебя меня вовсе не было. А потом я приснился тебе, и понеслось. Это хотя бы более-менее логично.
– Если ты мой сон, какого черта ты все время говоришь по-немецки?
– Видимо, просто для смеха. У тебя довольно своеобразное чувство юмора. Но я не в обиде. К тому же для нашей Греты Францевны это, пожалуй, единственный шанс.
Очень хотел переспросить про Грету Францевну: что за шанс? Почему единственный? Шанс – на что? И вообще, при чем тут она? Но почему-то не решился. И, вопреки недоумению и любопытству, был уверен, что правильно сделал.
Грета Францевна, чье кресло снова вынесли на балкон, выглядела сегодня бодрой и посвежевшей. С удовольствием приняла угощение, поблагодарила, попробовала. Сказала: «Как вкусно!» – и глаза ее заблестели от набежавших слез. Но щеки остались сухими.
– Ты угадал, с апельсином – мое любимое, – обрадовалась Габия.
– Спасибо! – восторженно выдохнул Эрик.
– Всегда хотел, чтобы капучино было хотя бы вдвое крепче, чем обычно готовят в кафе – сказал Даниэль. – И вот, оказывается, где-то такое делают!
– Ты очень злопамятный человек, – усмехнулся Файх, пригубив свою порцию.
– Нет, просто экономный. Решил, что это единственный напиток в меню, которого гарантированно хватит на двоих.
– Твоя правда. Оставлю тебе половину, не жалуйся потом. Габия, ты готова к уроку?
– Конечно, готова. Хороша я была бы, если бы упустила такое развлечение!
Подумал: «Надо же, она больше не растягивает гласные». И не удержался, спросил:
– А на других языках ты теперь тоже не заикаешься?
– Ты заметил, да? – обрадовалась она. – Но как?
– Ты перестала говорить нараспев. И вообще изменилась. Не могу сказать, в чем именно, я же тебя почти не знаю. Но сегодня ты выглядишь очень храброй и веселой. Я не к тому, что раньше ты казалась печальной трусихой. Просто ни эти качества, ни их отсутствие не бросались в глаза. А теперь бросаются.
– Правда? – обрадовалась она. – А еще у меня глаза теперь голубые. Никто, кстати, до сих пор не заметил, даже удивительно. Правда, меня мама еще не видела. Вот как ей объяснить, ума не приложу.
– Сочини какую-нибудь историю про контактные линзы нового образца, которые надо носить, не снимая, и менять раз в месяц под присмотром специалиста, – предложил Анджей. – Сейчас технологии развиваются так стремительно, что какой бред ни выдумай, непременно окажется похож на правду. Сколько раз убеждался.
– А что произошло с глазами? – спросил Файх. – Почему поголубели? А раньше какие были? Карие? Я, каюсь, не обратил внимания. Рассказывай по порядку.
– Если по порядку, то начать надо с того, что я решила поставить эксперимент, – сказала Габия. – Сейчас объясню, какого рода. Совершенно очевидно, что и с Мариной, и с Эриком случились очень необычные происшествия, верно? Сразу приходит в голову, что это связано с твоей будущей книгой: час, прожитый, чтобы стать ее эпизодом, оказывается чуть ли не интересней, чем вся предыдущая жизнь. И я захотела проверить… – она замялась, подбирая слова.
– Проверить, на что способна моя книга? – подсказал Файх. – Что она станет делать, если ты на целый час запрешься в шкафу, закрыв глаза и заткнув уши? Молодец. Мне бы на твоем месте тоже стало интересно.
– Ну, так далеко я не зашла. Просто осталась дома и затеяла уборку.
– По-моему, это даже серьезней, чем запереться в шкафу, – похвалил ее немец. – В шкафу можно заснуть и увидеть какой-нибудь сон, а то и парочку местных призраков накрыть с поличным, если повезет. А за уборкой даже не погаллюцинируешь толком – отвлекает!
– Я тоже так подумала, – кивнула Габия. – И поначалу все действительно было довольно скучно. Ну, то есть обыкновенно. Никаких удивительных происшествий, никаких странных мыслей в голове, даже стихи сочинять не принялась, хотя обычно именно так себя во время уборки развлекаю. Но у меня очень маленькая, почти пустая комната, так что я быстро ее убрала. И получаса не прошло. Тогда я отправилась мыть ванную. И начала с зеркала, оно было все в следах от брызг воды, мыла и зубной пасты – ужас, короче говоря. Самое время за него взяться. Так я думала, и терла зеркало столь сильно, что… Только не смейтесь! Я стерла свое отражение. Понимаю, что с точки зрения законов физики это невозможно, но я действительно отмыла зеркало от своего отражения, словно оно было просто грязным пятном. И осталась, как дура, совсем одна в собственной ванной, перед чистым пустым зеркалом, думая, кому бы позвонить, чтобы пришел и поддержал меня в столь нелепой беде. Но в итоге так никому и не позвонила. Наверное, это и есть настоящее одиночество, когда некого позвать в свидетели – не то чуда, не то собственного безумия. Я имею в виду, когда никому не доверяешь настолько, чтобы прямо спросить: «Что ты там видишь? Хорошо, спасибо. Как ты думаешь, я сошла с ума? Ладно, и что теперь делать?»
– Да, – эхом откликнулся Даниэль, – так и есть.
– Я бы тоже никому не сказал, – вставил мальчишка Эрик. И, подумав, добавил: – Кроме вас.
– Значит, мы хорошие. И не зря живем на свете, – улыбнулась Габия. – Я бы тоже позвонила кому-нибудь из вас. Но мы почему-то до сих пор не обменялись телефонами. И я осталась наедине с этим дурацким чисто вымытым зеркалом. Пришлось сказать себе, что я просто сплю. Вранье, зато с ним гораздо спокойнее. И сразу не страшно, а весело. Обычно когда во сне понимаешь, что это сон, начинается самое интересное. Можно самой решать, что будет дальше. И командовать всем происходящим. Оно не всегда слушается, но все-таки чаще получается, чем нет… Короче говоря, я решила, что теперь в моем чистом зеркале появится Катька.
– Кто?
– Катька. Когда я была совсем маленькая, придумала себе старшую сестру Катьку. Странное имя для любимой сестры, согласна. Но как раз с имени все и началось! У нас во дворе жила девочка Катя, гораздо старше меня; когда я в школу пошла, она уже была в выпускном классе. Поэтому мы никогда не дружили, я ее только в лицо знала, а она меня вряд ли замечала. Но это совершенно неважно. Дело вообще не в ней. Просто сколько себя помню, во дворе вечно кричали: «Катька! Катька!» Друзья звали ее играть, бабушка – обедать, а вечером родители – домой. Всех, конечно, время от времени звали. Но у Катьки было очень много друзей, а, кроме мамы с папой, еще бабушка, дед и, кажется, тетка, или две, в общем, большая семья, и все жили в нашем дворе, поэтому ее имя звучало гораздо чаще других. Летом, когда все окна нараспашку, целый день, с утра до вечера на разные голоса: «Катька! Катька!» Под эти крики я просыпалась и засыпала, а если Катьку подолгу никто не звал, мне становилось тревожно, как будто в мире сломалась какая-то тайная, маленькая, но очень важная пружина. До сих пор, кстати, каждый год заново удивляюсь: надо же, лето на дворе, окна распахнуты, а Катьку никто не зовет – почему?.. Но ладно, мало ли, что сейчас. А в детстве меня зачаровало само звучание слова: «Каааатька». Детям часто нравятся разные странные вещи. Ребенок может отчаянно, до слез влюбиться в пустой флакон из-под духов, часами разглядывать узоры на старом ковре, тащить в постель отцовскую коробку с гвоздями, или сломанный телефонный аппарат, днями напролет долбить одну и ту же клавишу пианино, обниматься с телевизором, потому что внезапно понравилось лицо диктора новостей. Да все что угодно может приворожить ребенка, это совершено непредсказуемо. И моей первой любовью стало слово «Катька». Со временем я узнала от взрослых, что это просто имя девочки, причем грубая форма, нехорошо так говорить, правильно «Катя», «Катерина». Но мне было все равно, грубо это звучит или нет. Мне нравилось. Я, конечно, захотела чтобы меня тоже звали Катькой. А родители не соглашались. Дескать, ты – Габия, и точка. Я плакала и просила, это не помогало. Чарующее имя по-прежнему ежедневно звучало во дворе, маня и дразня. И как-то незаметно я пришла к идее, что Катька – это на самом деле моя сестра. Старшая сестра, о которой я мечтала, сколько себя помнила. Очень похожая на меня, только лучше, высокая, загорелая, с голубыми глазами и синими волосами. Правильно смеетесь, синие волосы – это тоже моя детская мечта. Чуть ли не единственная, которую удалось осуществить. Уже четвертый год крашусь, и не надоедает. Как будто так и надо, вернее, как будто только так и можно. А у моей выдуманной Катьки синие волосы были свои, от рождения. Ну, она у меня, как несложно догадаться, вообще была идеал и совершенство. Во всем. Бегала быстрее всех во дворе, не боялась залезать на самые высокие деревья и сидеть на крыше, на самом краю, болтая ногами, могла побить любого хулигана, знала все на свете, говорила на ста языках – в отличие от меня, не заикаясь. И даже умела читать! И читала мне сказки каждую ночь перед сном, вместо мамы, которая так быстро уставала, что я перестала ее просить. И говорила: «Ты моя любимая младшая сестренка». Говорила: «Спи спокойно, я тебя от всего защищу». Я ей верила. Даже когда совсем выросла, всякий раз, попав в опасную, или просто неприятную ситуацию, думала: «Катька, ты же обещала меня защищать», – и все как-то благополучно улаживалось, беда проходила стороной, недоразумения разъяснялись, а врагам внезапно становилось не до меня. Мне всегда удивительно везло – это я только теперь, задним числом, понимаю. Спасибо Катьке.
– И ты решила, что в зеркале должно появиться ее лицо? – обрадовался Файх. – Ловко!
– Ну да. Я всегда вспоминаю Катьку, если мне страшно, или просто одиноко. И тогда тоже вспомнила. И решила: раз так, пусть она будет в зеркале вместо меня. Свято место пусто не бывает, а лучше Катьки заместителя не придумаешь.
– И у тебя все получилось, – не спросил, а констатировал немец.
– Ну, да, как видишь. И оказалось, что если Катька – мое отражение, значит, я сама теперь и есть Катька. Поэтому у меня голубые глаза. И я больше не заикаюсь, даже когда говорю по-литовски и по-английски. И вроде бы не боюсь высоты. Еще не успела проверить, но планирую в ближайшее время. И я снова отражаюсь в зеркалах! Это только кажется пустяком, а на самом деле довольно важно, если собираешься и дальше жить среди людей.
– По-моему, ты вернулась с отличной добычей, – подмигнул ей Файх.
– По-моему, тоже, – согласилась Габия. – Знать бы еще, откуда я вернулась.
– Из моей книжки, конечно, откуда еще. Из «Книги перемены мест слагаемых», которую я сейчас пишу с вашей помощью. Похоже, нам всем повезло друг с другом. Вы – безупречные персонажи, как на подбор, сам ни за что таких не выдумал бы. А я, как внезапно выяснилось, добрый сказочник. Быть моим персонажем легко и приятно. Честно говоря, прежде я не был в этом уверен. Но теперь вполне спокоен на свой счет.
Анджей ухмыльнулся про себя: «Ты-то, может, спокоен, а нам каково?» Но говорить, конечно, не стал.
Шел домой под раскаты далекого грома, двумя руками придерживал сердце, рвавшееся из-за ребер наружу, на запад, туда, где наливались свинцовой тьмой тяжкие тучи, навстречу грозе, навстречу грядущему дождю, навстречу какой-то иной жизни, единственной, настоящей, которой не было никогда. Кроме которой ничего не было.
Остановился, когда понял, что сейчас, чего доброго, упадет на блестящий от еще не пролившегося дождя тротуар, лицом вниз, как перебравший пьянчуга, потому что и правда пьян – то ли от сладкого беличьего кофе, то ли от слишком большого глотка первого осеннего ветра, прилетевшего из будущего, которого, как мы недавно окончательно и бесповоротно решили, нет.
Прислонился спиной к толстому древесному стволу. Думал, пытаясь хоть как-то собраться: «Я – человек, позади меня дерево каштан, сверху небо, под ногами земля, скоро пойдет дождь», – и сам себе не верил. Ничему нельзя верить при свете далеких звезд, когда они синие-синие – все, как одна. Стоял, безуспешно пытался вдохнуть полной грудью густой, влажный августовский воздух, чувствовал себя рыбой, насильственно вытащенной из воды, знать бы еще, что это был за водоем, и как туда вернуться. Подумал: «Наверное в таких случаях добрые католики молятся, а я не умею. Но все равно можно попробовать как-то поговорить». И действительно сказал вслух, едва ворочая непослушным, заплетающимся языком:
– Если весь я – только тяжкий серый свинец, так и не превратившийся в золото, если скудное подобие смысла, вмещающееся в меня, и есть весь смысл, тогда отмени меня, Господи. А если есть хоть что-то еще кроме этого, тогда ладно, на таких условиях я согласен быть дальше, оставь все как есть.
Совершенно не удивился, когда в небе полыхнула дюжина молний сразу. Самое время! Но потом, стоя под внезапно хлынувшим холодным, почти осенним ливнем, слушая уже совсем близкий гром, понял, что по-прежнему существует. И не то чтобы обрадовался, скорее просто ошалел от неожиданности, как ребенок, получивший подарок к чужому дню рождения.
Конечно, не мог потом уснуть, и работы, как назло не было, не только срочной, вообще никакой. Уже под утро перебрался из кровати в кресло у окна и там наконец задремал – сидя в неудобной позе, да еще и лицом на восток, чтобы восходящее солнце светило прямо в глаза. Хочешь хорошенько выспаться – спроси меня как.
Наверное, из-за яркого утреннего света приснилось, что они с Файхом играют в футбол, носятся по небу, как по полю, и вместо травы под ногами у них примятые облака, а вместо мяча солнце. Сперва забивал один гол за другим, гордился собой, дразнил незадачливого немца, а потом сам встал на ворота, и тут же увидел, что прямо в лицо летит огромный пылающий солнечный шар, поймать который означало сгореть, а не поймать было невозможно, да и глупо, какой вратарь станет уворачиваться от мяча, который сам идет прямо в руки.
Конечно, поймал. Конечно, сгорел. И проснулся – мокрый от пота, дрожащий от возбуждения и настолько счастливый, что жалко было снова засыпать.
Подумал: «Мы так здорово играли». Подумал: «Похоже, я победил». Подумал: «Ай, да какая разница». Подумал: «Вот бы еще сыграть».
Ждал чертова немца весь день. Заранее был готов ко всему, даже холодильник открывал аккуратно, потому что Фабиан Файх вполне мог вывалиться и оттуда. Да откуда угодно вообще! Теоретически. На практике же ничего не произошло.
Вечером даже прогулялся до Лабдарю, зашел во двор, завернул за дом, полюбовался на темные окна, подумал неодобрительно: «Ишь, загулял, красавец». Почти обиделся, хоть и понимал, насколько это смешно.
Файх объявился только в воскресенье вечером, вскоре после заката. Никаких фокусов, просто позвонил снизу в домофон. Сказал:
– Одевайся, пойдем где-нибудь выпьем. Ну или не выпьем, главное – пойдем. Я соскучился.
По дороге смеялся:
– Когда решишь выдумать меня в следующий раз, пусть я буду эксцентричным странствующим богачом, а не командировочным инженером. На кой черт мне сдалась эта работа? Для художественной достоверности – так, что ли? Резонно, кто бы спорил. И в будни я, заметь, не ропщу! Но когда тебя в субботу тащат куда-то за город с утра пораньше и на протяжении полутора дней пытают едой, пивом и так называемыми развлечениями, начинаешь думать, что ну ее в задницу, эту художественную достоверность. Свобода дороже. А ты как провел выходные?
– Да никак. Бездельничал, спал и видел сны. В частности, сон о том, как ты запустил в меня мячом, который оказался солнцем.
– Свинство с моей стороны, – покаянно вздохнул немец. – Об солнце запросто можно обжечься! Зато ты провел время гораздо лучше, чем я. Это уже плюс.
Усмехнулся:
– И не говори. Групповые развлечения на природе я бы, пожалуй, не пережил. А тут проснулся в холодном поту, побежал в душ, сварил кофе и через полчаса был как новенький.
Вечером в воскресенье все закрывается рано, так что поцеловали с десяток запертых дверей, пока не обрели счастье в маленьком баре на Тилто, вынесли это счастье в душную, душистую ночь, сидели на краю тротуара, потягивая пиво, курили, щурились от наслаждения, бессмысленно улыбались водителям автомобилей, изредка проезжавших мимо, те удивленно улыбались в ответ. Немец болтал без умолку, пересказывал душераздирающие подробности своего уикенда, антропологически злословил, развлекал, смешил. «Совсем как настоящий, – ухмылялся про себя Анджей. – Совсем как настоящий, надо же, а».
Проводил его потом до Лабдарю. Ну как проводил, просто им было по дороге, ему – чуть дальше. Во двор заходить не собирался, Файх не юная девица, впервые возвращающаяся в родительский дом за полночь, следовательно, к подъезду его доставлять не обязательно. Открыл было рот, чтобы проститься до завтра, но увидев на ступеньках перед дверью магазина «Зодиак» знакомый силуэт в зимнем пальто, непроизвольно вцепился в руку немца, как дети хватаются за отцовскую ладонь перед лицом неведомой опасности, невероятного приключения, долгожданного сюрприза – все равно.
– Удивительно даже не то, что ты боишься безобидную старушку Грету Францевну, – сказал Файх. – Удивительно, что больше никто ее не боится. Неужели не чуют?
– Не чуют – что?
– Что она пришла к нам из позапрошлого ноября. Я уже говорил. Думай, что хочешь, но это правда. Очень страшная правда, на мой взгляд. Впрочем, это ты как раз и сам знаешь.
Подумал: «Да ни черта я не знаю».
– Вернее, чуешь, – исправился немец. – У тебя прекрасное чутье.
– Извините, я не хотела причинять беспокойство, – сказала старуха, поднимаясь со ступенек им навстречу. – Сейчас пойду к себе. Села, потому что голова закружилась. Ничего, проходит, уже почти прошла. А кружилась так сильно, так сладко, словно я снова учусь танцевать вальс. Хотя я уже давным-давно выучилась; мне тогда сшили белое платье. Я танцевала с отцом, был мой день рождения, мне исполнилось пятнадцать лет. Мы кружились, кружились, летели куда-то под музыку, почти не касаясь пола, я в новом белом платье, отец в своем лучшем костюме, и он говорил: «Какая ты счастливая, Грета, все у тебя впереди». Но впереди оказалось так мало! Меньше, чем ничего. Так холодно, так стыдно, так убого и скудно, что мне проще думать, будто в моей жизни не было вообще ничего кроме детства. Зато оно было всегда, и еще будет, будет! Я всегда ношу его с собой под отцовским пальто, оно там как раз помещается. И смотрите! – Грета Францевна протянула к ним руку в толстом жестком драповом рукаве. – Этому пальто уже почти сто лет, но оно до сих пор не истлело. Вот что значит носить за пазухой собственное детство, время уважает настойчивых и порой идет на мелкие уступки. Хотя лучше бы оно сохранило не пальто, а девочку в белом платье, которая научилась танцевать вальс.
Старуха умолкла. И вдруг с неожиданной злостью добавила:
– Незачем было учиться. Не пригодилось.
Развернулась и стала спускаться по лестнице. А они растерянно глядели вслед.
– Ты видел, куда она ушла? – наконец спросил Файх.
– Ну так по лестнице же, вниз…
– А это ничего, что у так называемой лестницы всего две ступеньки?
– По-моему, ничего. В свете последних событий мне это кажется вполне обычным обстоятельством.
– Твоя правда, – вздохнул немец. – Но мне все равно обидно. Никак не могу за ней уследить. Не дается!
Сказал:
– Просто в следующий раз надо не ждать, а сразу пригласить ее на прогулку. Предложить руку, придерживать под локоть, как положено галантному кавалеру, и пусть идет, куда сама захочет.
– Ладно, – невозмутимо кивнул Фабиан Файх. – Попробуем так.
И пошел к своему подъезду.
Крикнул ему вслед:
– Эй, а когда ты меня убьешь?
– Всегда, – пообещал немец. Остановился, обернулся и еще раз четко, по слогам произнес:
– Всег-да.
Совершенно невозможный тип.
В понедельник, собираясь на Лабдарю, вдруг подумал: «Сегодня, по идее, рассказывает Даниэль. И, получается, все? Мой сон про «Книгу перемены мест слагаемых» Файх сразу зачел как выполненное задание, а Грета Францевна вряд ли станет делать уроки. Хотя кто ее знает, у нашего немца особо не забалуешь. Ладно, но что потом?»
Подумал: «Ясно, что. Сегодня уже девятнадцатое. Скоро у Файха закончится командировка, а вместе с нею август, и все, и все. И все».
Подумал: «Не надо драматизировать. Август, конечно, закончится, куда ему деваться, но я-то, счастливчик, не доживу до этого дня. Немец твердо обещал меня убить, а значит, ему придется сделать это до конца командировки. Не приезжать же из-за меня в Вильнюс еще раз, зимой. Глупо убивать людей, когда вокруг темно и холодно. Я бы точно не стал».
Подумал: «Надеюсь, он не шутил».
Вышел из дома в половине седьмого. И когда пришел на улицу Лабдарю, тоже была половина седьмого – на телефоне и на наручных часах, с которыми на всякий случай сверился. Хмыкнул, одолел две ступеньки, ведущие в открытую еще эзотерическую лавку, извинился, спросил, который час. Услышал: «Половина седьмого», – поблагодарил, вышел. Подумал: «Ладно, будем считать, что неумолимый Кронос просто велит мне снова купить кофе на всех». И отправился в «Кофеин» на улицу Вильняус, где, кстати, тоже была половина седьмого, но это ладно, сколько тут идти. Однако пока стоял в неожиданно длинной очереди, собравшейся по милости новенького барристы, очень красивого, но отчаянно лопоухого юноши, который легко справлялся с кофейным аппаратом, зато над кассой всякий раз зависал надолго, мучительно краснел, по несколько раз перебивал один и тот же чек, путался в сдаче. Хотя держался, надо отдать ему должное, молодцом, ни на миг не прекращал приветливо улыбаться. Ради его улыбки вполне можно было потерпеть задержку; впрочем, о задержке речи нет, когда на часах все еще половина седьмого, сколько ни стой в этой дурацкой очереди за кофе, сколько ни перечитывай надпись на стене «In Coffee we trust», сколько ни ухмыляйся про себя: «Во что еще и верить».
– Прекрасно, – сказал Файх. – Я успел! Сегодня мой черед покупать кофе, и не спорь. Будем считать, ты просто занял для меня очередь, которая как раз подошла. За это большое спасибо. Я поздно освободился, еще немного и никакого кофе, даже на урок опоздал бы, а это совсем никуда не годится – когда гости ждут тебя на улице.
Усмехнулся:
– Так это ты остановил время?
– А разве его кто-то остановил? По-моему, оно идет, причем даже быстрее, чем ему положено – если опаздываешь, всегда так.
– Лично я вышел из дома в половине седьмого. Пришел на Лабдарю, потом сюда, и вот уже черт знает сколько тут стою, даже ноги начали уставать. И вот, погляди!
Сунул немцу под нос часы, а потом и телефон – для сверки показаний. Хронометры смущенно переглянулись и выдали 18:33.
Подмигнул:
– Похоже, они пошли сразу после того, как ты тут появился. Ну а что, нормально, почти полчаса в запасе, очередь подошла, а идти отсюда до твоего дома две минуты, все можно успеть. Вот в чем, значит, секрет вашей хваленой пунктуальности. Когда немец опаздывает на свидание, для его визави останавливается время. Очень удобно!
– Думаешь, так? Это я лихо, конечно, – озадаченно протянул Файх. – Это я молодец.
И, уже когда получили заказ и сгребали с прилавка картонные стаканы, добавил:
– Удивительно, на самом деле, не то, что по моей милости время остановилось для тебя. А то, что именно ты мне это объясняешь. А не наоборот.
Кивнул:
– Да, ты очень качественно свел меня с ума. И так быстро! Август еще не закончился, а я уже забыл, что бывает какая-то иная логика, кроме сумрачного морока, воцарившегося в моей голове. Таково влияние углубленного изучения немецкого языка на неокрепшие юные души.
– Тоже мне юная душа выискалась, – ухмыльнулся Файх.
– Конечно, юная. Всего-то полторы вечности от роду.
– Ничего, – пообещал немец. – Скоро будет две. Отметим. Выпивка с меня.
Подъезд был заперт, как и положено, зато дверь квартиры Файха слегка приоткрыта, оттуда на лестницу струился густой яблочный дух.
– Грета Францевна? – понимающе спросил Анджей.
– Понятия не имею. До сих пор она не… Впрочем, мало ли, что было до сих пор.
Старуха действительно оказалась на кухне. Когда они вошли, как раз вынимала из духовки пирог, используя слишком длинные рукава своего пальто как прихватки.
Деловито объяснила:
– По маминому рецепту. Лет пятьдесят, наверное, его не пекла. У меня и плиты-то нормальной дома не было, только дровяная печь. Но я, похоже, не разучилась.
– Пахнет как в раю, – сказал Файх. Таким тоном, словно не комплимент делал, а констатировал факт: когда я в последний раз был в раю, там пахло именно так.
Пирог немедленно разрезали и попробовали, обжигаясь, дуя на пальцы, роняя горячую начинку на засыпанный мукой стол, с набитыми ртами прославляли труд Греты Францевны, да столь слаженным дуэтом, словно репетировали этот номер с самой весны.
– Так удивительно, – сказала старуха. – Я снова испекла яблочный пирог и меня хвалят, да еще по-немецки, как дома. Всегда знала, что так больше не будет, что не доживу до этого дня. Но, получается, дожила?
– Получается, – твердо сказал Файх. – И все остальное тоже получится. Я точно знаю.
Причащали пирогом и кофе всех входящих – мальчишку Эрика, голубоглазую Габию, длинного Даниэля, который был сегодня как-то особенно безучастен, собран и хмур, ни дать ни взять самурай перед битвой. Но яблочный пирог Греты Францевны ненадолго лишил равновесия даже его.
Однако на балконе Даниэль снова собрался. Сразу сказал:
– Я должен предупредить вас, что у меня очень бедный язык. Поэтому расскажу коротко. Много смысла будет потеряно. Но или плохо, или никак.
– Ничего, – успокоил его немец. – Значит будем искать потерянный смысл все вместе. И не удивляйся, если найдем его больше, чем было поначалу.
– Хорошо, – кивнул Даниэль. – Надеюсь на это. И верю – вам? В вас?
– Неважно. Лишь бы верил.
– Верю. И поэтому скажу правду: я боялся выполнять твое задание. Я не очень трусливый человек. Иногда даже храбрый. Но вдруг испугался. Не знаю, чего.
– Конечно, ты знаешь, – мягко сказал Файх. – Испугался, что твоя жизнь внезапно закончится. И начнется какая-то совсем другая, о которой пока даже смутно не догадываешься, понравится она тебе или нет. Но подозреваешь, что назад дороги уже не будет. Правильно, в общем, подозреваешь. Все так. Глупо было бы делать вид, будто до сих пор не понял, чем мы тут занимаемся. Вернее, что тут с нами происходит – не по нашей, по собственной воле. Само.
– Примерно так я сказал бы, если бы умел, – согласился Даниэль. – Именно этого боялся так сильно, что не стал делать задание ни в субботу, ни в воскресенье. Думал: только не сейчас, потом, потом. А сегодня на работе понял, что у меня не осталось времени. Мы же встречаемся в семь! И тогда я пошел обедать – для твоей книги. Обеденный перерыв длится ровно час. Это удобно. Но я не пообедал. Потому что увидел на улице мужчину. Он был довольно старый. Но не очень. Не знаю, как правильно назвать.
– Пожилой, – подсказала Габия.
– Да, спасибо. Пожилой. Он лежал на тротуаре и умирал. Люди шли мимо, думали, просто пьяный. Это понятно, он довольно плохо выглядел. Бедно и… не очень чисто. Я тогда подумал: вот зачем нужно всегда быть хорошо и опрятно одетым. Чтобы незнакомые люди сразу позвали врача, если начнешь умирать на улице. Чтобы не шли мимо. Иногда это довольно важно.
– Иногда это довольно важно, – эхом повторил Файх. – Но ты не прошел мимо? Сразу понял, что происходит?
– Да, я понял. Я видел пьяных и видел, как умирают. Довольно большая разница. У меня отец умер в больнице, я был рядом. А еще раньше умер брат. И не только они. Рядом со мной часто умирали люди. Близкие и просто знакомые. Чаще, чем обычно. Никогда не понимал, почему так. Есть мои ровесники, которые ни разу не были на похоронах. У них еще даже бабушки и дедушки живы, вся семья. А у меня осталась только старшая сестра, она живет с мужем в Америке. Я ее давно не видел. Но это сейчас неважно. То есть, важно, но только потому, что там, на улице, я сразу понял, что происходит. И вызвал скорую. Остался ждать, когда приедет. Сел рядом с человеком, прямо на землю. Не мог оставить его одного. Ему было очень страшно. Я взял его за руку и держал. И страшно больше не было, ни умирающему, ни мне. Было хорошо. Нет, не хорошо. Легко. Правильно. Нормально. Как будто так и надо. Как будто так было всегда, и мы привыкли. Он лежал, я сидел рядом. Мы разговаривали. Рассказывали друг другу разные вещи, как давние друзья. Он рассказал, что научился читать в пять лет, а у отца было много книг про приключения. Читал, думал, что все взрослые так и живут, мечтал стать путешественником, моряком и охотником. Но потом вырос и узнал, что книги – это просто фантазия. Все неправда. Взрослые люди так не живут. Очень обидно! И ему стало все равно, что будет дальше. Все равно, как жить, если как хочешь – невозможно. А я тоже рассказывал про детство. Как ездил с родителями в отпуск на поезде. И думал, что поезд – самое прекрасное место на земле. Такой удивительный дом, где ты сидишь у окна, пьешь чай, а комната в это время движется, едет из одного города в другой. И когда ты спишь, поезд тоже едет. Просыпаешься утром в незнакомом городе, чудеса! Я тогда решил стать проводником, чтобы всегда ездить… Нет, даже не поэтому. А просто чтобы быть там хозяином, а не гостем. Важной частью чуда, без которой оно невозможно. Такая была у меня мечта. Потом приехала Скорая, и врач сказал, что человек, с которым я разговариваю, уже умер. А он улыбался, как будто наоборот воскрес. Наверное рядом со мной легко умирать, вот что я тогда подумал. Сказал врачу номер своего телефона – вдруг кому-то понадобится меня найти, задать вопросы. И вернулся на работу. Час как раз прошел. Это все.
– Спасибо, – сказал Файх. – Ты прекрасно справился. И не только с немецким языком.
– Я понимаю, – кивнул Даниэль. – С немецким языком я как раз плохо справился. Многое не смог рассказать.
– Догадываюсь. Но смысл от этого никуда не делся. Наоборот, стал еще более явным. Захочешь – не отмахнешься.
– Да, не отмахнусь. Но как следует жить человеку, рядом с которым легко умирать? Я не могу пойти работать в больницу, я не врач. И никогда не выучусь на врача. Меня чуть не исключили из школы после урока биологии, на который учитель принес… длинные, тонкие, ползают – это что?
– Змеи?
– Нет-нет. Гораздо меньше.
– Червяки? – подсказал Эрик, страшно довольный, что наконец-то может помочь.
– Да, наверное, червяки. Спасибо. Мы должны были резать их на кусочки. Я отобрал червяков и побежал на улицу выпускать. Потом был скандал. Не люблю, когда убивают просто так. Не для еды и не ради защиты. А в медицинском институте живых лягушек режут, мне друг рассказывал.
– Да не надо тебе ни на кого учиться, – отмахнулся Файх. – Ангел смерти не ограничивает зону своих действий больницами. Бери с него пример. И кусок пирога в придачу. Он того стоит.
– Я очень странно чувствую себя сейчас, – сказал Даниэль, принимая угощение. – С одной стороны, я растерян. Совсем не понимаю, что мне делать и как теперь жить. Или оставить все как есть? А может быть, вообще ничего не случилось? Просто на улице умирал старый человек, а я сидел рядом и фантазировал? И даже его улыбка – это совсем не улыбка, а… – как это по-немецки? Люди дергаются, когда умирают.
– Судорога.
– Да. Может быть, это была просто судорога. Я ни в чем не уверен. И в то же время я чувствую себя человеком, который даже озера большого в жизни не видел, но вдруг оказался на берегу океана. И волна намочила его ботинок. Настоящая океанская волна. И человек вдруг вспоминает, что вырос возле океана, а потом просто об этом забыл. Но теперь все в порядке. Теперь все на местах. Вот так примерно я себя сейчас чувствую. Но это не отменяет ни растерянности, ни сомнений.
– А растерянность и сомнения не отменяют океан, – кивнул Файх. – Это я очень хорошо понимаю.
– В пятницу, – сказал на прощание немец. – Увидимся в пятницу. Больше никаких домашних заданий. Приходите просто выпить и поболтать. В субботу я улетаю. Будем меня провожать.
Ученики растерянно переглянулись. Файх, конечно, с самого начала предупредил, что пробудет в Вильнюсе примерно до конца августа. А суббота – двадцать четвертое, действительно, почти конец, все сходится. Но слова – это всего лишь слова. Бледная тень знания. Против твердой уверенности, что Фабиан Файх был в их жизни всегда и, следовательно, будет всегда, просто не может не быть, они бессильны.
– Да, я и сам не понимаю, как проживу без наших встреч, – улыбнулся он. – Сейчас мне кажется, никак не проживу, просто исчезну в тот момент, когда самолет начнет разгон по взлетной полосе. Но это, конечно, неправда. И я не исчезну, и вы не станете обо мне грустить. А если и станете, то не больше, чем об уходящем лете, на смену которому придет прекрасная осень, лучшая осень в нашей с вами жизни, верьте мне.
Почти рассердился на немца. Скорое прощание – не повод так неумело и бессовестно лгать. «Лучшая осень в нашей жизни», ага, знаем, плавали. Ищи дураков.
Развернулся, чтобы уходить, но Файх ухватил его за рукав. Ничего не говорил, просто придерживал, пока не вышли все остальные, а потом потащил за собой обратно на балкон, где осталась сидеть Грета Францевна.
Сказал:
– Грета, милая Грета, спасибо за волшебный пирог. Но теперь пора делать уроки. Моя книга – не какой-нибудь вальс, она пригодится тебе при любых обстоятельствах.
Сказал:
– Идем гулять, дорогая Грета. Для моей книги и для тебя. Или знаешь, черт с ней, с книгой, только для тебя – идем прямо сейчас. Сама выбирай, куда.
– Воспитанные мальчики не чертыхаются, – строго сказала старушка.
– Еще как чертыхаются, моя дорогая. Особенно когда хотят смутить юную барышню.
Заулыбалась, разрумянилась, спросила:
– А можно к реке? Не к большой Нерис, с ней мы никогда не могли договориться. А к маленькой речке Вилейке, я часто туда хожу – просто так, смотреть, как она течет.
– Отличный выбор, – кивнул Файх. – Сам лучше не придумал бы. Анджей, будь другом, возьми даму под руку. Я справа, ты слева – для равновесия и веселья.
Ухмыльнулся:
– И для красоты.
– Это само собой, – серьезно согласился немец. – Для красоты игры.
И прошептал почти беззвучно, в самое ухо:
– Только не дай ей исчезнуть. Только не дай.
Дыхание его было холодно, как сентябрьский ветер и пахло горькими мелкими астрами, которые скоро расцветут на всех окрестных огородах. Или уже расцвели.
Вели старушку по городу, как два заботливых внука, под руки. Всю дорогу в два голоса нахваливали давешний пирог, выспрашивали рецепт, вникая во все подробности, как будто и правда собирались вернувшись домой, немедленно встать к плите. Спорили, что делать с корицей: сразу покупать молотую или все-таки в палочках, растирать ее потом в порошок перед самым началом готовки – в ступке? В кофемолке? Или как? Всерьез обсуждали сорта яблок, поспевших уже в пригородных садах: какие идеально подходят для пирога? Мелкие, зеленые, с нежным розовым пятном на обращенном к солнцу боку, как они называются? Ай, неважно, мы все поняли, о чем речь. Лучше брать еще твердые, кисловатые, недозревшие совсем чуть-чуть, буквально на день или два. Грета Францевна сияла от удовольствия, давала советы, открывала маленькие хитрости, добродушно пререкалась с Файхом, легкомысленно объявившим, будто все яблоки одинаково хороши. И шла все быстрей, все уверенней, и заразительно смеялась, вышучивая ошибки Анджея: «Запекать, мой мальчик. Не «запековывать», запекать!»
Когда пришли к реке, было совсем темно, но Грету Францевну это не смущало, она уверенно шла по берегу в сторону улицы Кранто, мимо деревянных павильонов фермерского рынка, мимо моста, ведущего на Ужупис, дальше, дальше, туда, где вместо асфальта мокрая от недавнего дождя трава, а вместо фонарей только редкие светящиеся окна зареченских домов да повернувшая на ущерб луна, милосердно показавшаяся из-за туч.
Вцепился в жесткий рукав старухиного пальто, пытаясь нащупать под толстым слоем ткани живую теплую руку. Не преуспел. Однако, вопреки ощущениям, Грета Францевна не исчезла, напротив, выглядела достоверной как никогда прежде – не бледная тень, бодрая разрумянившаяся старушка, уже не ведомая, а влекущая их за собой. Щебечущая как птичка:
– Вот на этом мосту я люблю стоять по ночам, когда люди спят, а мир просыпается, когда небо темное-темное, а вода светлее, чем днем. И течет, течет!
Послушно повернули за ней к ветхому осыпающемуся мосту, скрытому от любопытных глаз зарослями прибрежного кустарника. Вопреки первому впечатлению, он оказался прочен, даже перила целы, и ступени, ведущие на мост, почти не тронуты немилосердным временем, всего несколько трещин, они не в счет. Поднялись, остановились, повернувшись к серебристой от лунного света воде.
– Течет, – эхом повторил Файх.
Долго молчали, глядя на воду. Наконец немец сказал:
– На первый взгляд, сразу понятно, куда течет река, правда? С востока на запад, от соседней границы к подножию Замковой горы, где сольется с Нерис. Но простым усилием воли можно – не повернуть воду вспять, а настроить собственный взгляд таким образом, что мы явственно увидим, как река течет в обратном направлении, с запада на восток, навстречу завтрашнему утру, нескорому, но неизбежному, как всякое новое рождение.
Анджей, чье предоставленное самому себе сознание все это время развлекалось подобными фокусами, удивленно кивнул. Грета Францевна молчала. Но не исчезала пока – и на том спасибо.
– Если смотреть на текущую реку достаточно долго, то и дело переключаясь из одного режима восприятия в другой, можно подглядеть, как все устроено на самом деле, – вкрадчиво добавил Файх. – Увидеть наконец, что вода течет во все стороны одновременно, и от твоей воли не зависит вообще ничего, даже возможность быть или не быть свидетелем ее движения. Это просто происходит. Или нет. Как повезет.
И, зачем-то перегнувшись через перила, откуда-то снизу, из серебряной сизой тьмы клубящегося над водой тумана, сказал:
– Это один из немногих способов хоть что-то узнать про время. Совсем малую часть правды о нем. Но все равно слишком большую, чтобы поместиться в человека. Придется нам теперь всегда быть хоть немного больше самих себя, а то, чего доброго, разорвет.
Хотел ответить: «Я тебя не понимаю». Но вовремя осознал, что это было бы ложью. Все он прекрасно понимал.
– А теперь мне нужна твоя помощь, – Файх уже вынырнул из-под перил и покровительственно обнимал за плечи обоих – Грету Францевну и Анджея. – Надо помочь даме снять пальто, – прошептал он. – Очень бережно и осторожно, с любовью обреченного и яростью получившего шанс, с нежностью бессмертного, с отчаянием первого выдоха, с восторгом последнего вдоха. Без тебя я не справлюсь, ты знаешь.
Не стал задавать вопросов. И делать ничего не стал. Словно бы со стороны наблюдал, как пальцы, внезапно онемевшие, как на легком морозе, не до бесчувственности, только до щекотного звона, медленно движутся вверх по рукаву, к жесткому шву плеча и дальше к отложному воротнику, за который можно ухватиться и слегка, почти незаметно потянуть на себя и вниз, вниз, к земле, дрожащей и сияющей сейчас как в день сотворения. И Файх тянул на себя и вниз, с другой стороны, справа, с севера, где вечность, уставшая быть огнем, может принять форму льда и наконец отдохнуть.
Обжигая ухо морозным дыханием, почти касаясь его ледяными губами, шептал:
– Я сам за ней присмотрю, справлюсь, не сомневайся, а твоя помощь мне нужна тут. Не возвращайся обратно по этому мосту, иди вперед, перейди на другой берег, там лестница и тропинка, выйдешь наверх к Францисканскому кладбищу, а оттуда дорогу и сам найдешь. Отправляйся ко мне домой, поживи там до моего возвращения, прими моих гостей, если вдруг не успею вернуться до пятницы, ничего им не объясняй, просто купи вина, наливай, не скупясь, говори с ними, о чем захочешь, только обязательно по-немецки, чтобы реальность не заметила, образовавшейся на моем месте пустоты, тогда она не будет шокирована моим возвращением, и не помешает… вообще ничему не помешает, верь мне.
Подумал: «Да я и так всегда тебе верил, с самого первого дня, с самого первого сна о тебе, а что я всегда забывал их задолго до утра – дело житейское, не только правда о времени не помещается в человека, а еще многие важные вещи. Например, некоторые сны».
Все это, конечно, можно было не говорить, тем более, что и немцу было не до разговоров сейчас, когда пальто Греты Францевны оказалось в его левой руке, а подвижный, сияющий, густой комок вечности, который был жизнью девочки Греты – в правой, теперь они существовали отдельно друг от друга, Грета и ее пальто, и медлить было нельзя. Файх и не медлил, воды сомкнулись над его головой даже чуть раньше, чем он, перемахнув через перила, прыгнул в реку с драгоценной своей ношей и поплыл во все стороны сразу, и уплыл отовсюду, и остался на дне – навсегда, или только до пятницы, как пойдет.
Перешел на другой берег, поднялся наверх, повернул налево, на улицу Полоцко, шел прямо, никуда не сворачивая, вышел из Ужуписа по другому мосту, парадному, увешенному свадебными замками, поднялся на Бокшто и дальше, дальше, ускоряя шаг, как будто за ним гналась целая свора невидимых соглядатаев, которых хорошо бы оставить с носом – просто так, чтобы лишний раз повернуть все по-своему и отметить эту смешную победу бокалом пива в уличном баре на бульваре Вокечу, совершенно пустом по случаю холодного вечера понедельника и снова начавшего накрапывать дождя.
О ключе вспомнил, уже сворачивая во двор на Лабдарю, подумал: «Вот это номер. Не ломать же дверь топором». Но ключ неожиданно обнаружился в нагрудном кармане, точнее, два ключа, связанные тонким металлическим кольцом. Интересно, в какой момент немец их подсунул? Впрочем, неважно.
А код подъезда давно запомнил навек: три и восемь, нажать одновременно. Имя свое проще забыть, чем некоторые тайные сведения, помогающие открывать запертые двери, то и дело встречающиеся на нашем пути.
Легко справился с обоими замками, не включая свет, умылся холодной водой на кухне, прошел прямо в спальню, упал на неразобранную постель, лицом к окну, за которым алая небесная твердь, и звезды синие-синие, как в детстве, как во сне, как всегда.
Просыпаться в чужом доме оказалось приятней, чем в собственном. Так просто и естественно, словно давным-давно обжил эту маленькую квартирку, обезображенную старательным, но безвкусным «евроремонтом» ровно настолько, чтобы жить в ней было не противно, а уезжать все равно радостно – идеальное временное жилье. В ванной нашлась новая зубная щетка в упаковке, на кухне – кофейный аппарат и холодильник, забитый сырами и виноградом, роскошный завтрак, красивая жизнь. Кофе пил на балконе, благо день выдался солнечный и жаркий, как будто лето вернулось – ладно, сделаем вид, что поверили, достанем из кладовой шезлонг.
Компьютера не нашел, телефон почти разрядился, лениво подумал, что за ноутбуком и зарядным устройством можно сходить к себе, благо здесь совсем рядом, но отказался от этой мысли. Не хотел читать почту, вдруг выяснится, что есть срочная работа, а сейчас совсем не до нее. Думал: «Долгов за мной не осталось, а новые обязательства – это не для меня. Вот вернется мой немец, убьет меня, уедет домой, а там поглядим». Эта формулировка очень его смешила, так что бесконечно ее повторял, иногда даже вслух. Конечно же, по-немецки. Привык, что в этом доме на других языках не говорят.
Вторник, среда и четверг пролетели незаметно и как-то удивительно, по-детски счастливо. Хорошо живется тому, у кого все новости только о погоде, всех дел – втиснуть поход за продуктами между двумя дождями, всех развлечений – несколько книг немецких стихов, а забота только одна – дождаться хозяина дома, который, конечно же, появится не позже пятницы, на вечер назначена прощальная вечеринка, ее нельзя пропустить.
Однако в пятницу Файх так и не объявился. До обеда Анджей спокойно ждал его, попивая кофе на балконе, ежился на уже совсем осеннем ветру. В два пополудни начал понемногу тревожиться, в три практически запаниковал, в четыре оделся и пошел в магазин. Немец велел наливать вино, не скупясь, значит, так тому и быть. Приволок домой полдюжины бутылок просекко, разноцветный лимонад для Эрика, конфеты на всех и сел ждать – Файха, гостей, да хоть кого-нибудь. Первого, кто придет.
Кого совершенно не ждал, так это Марину. А она пришла раньше всех, в половине седьмого. В роскошном льняном балахоне и щегольских летних сапожках, с ярким оранжевым зонтом. Сказала:
– Я как-то неожиданно закрутилась со своими картинками и картами, забыла о времени, даже за днями недели перестала следить. И вдруг поняла, что очень-очень соскучилась. Решила зайти на удачу – все-таки снова пятница, вдруг повезет, и встречи еще продолжаются? И тут ты сидишь на балконе – как хорошо!
Ответил:
– Теперь будем сидеть тут вдвоем. Так еще лучше.
Принес для себя стул из комнаты, гостью любезно усадил в удобный шезлонг. Не пялился на нее во все глаза, но исподтишка, конечно, разглядывал. По-прежнему широкие бедра, а талия стала тоньше, и грудь, кажется, меньше. Руки полные, как и были, зато профиль совсем другой, длинноносый, и рот тоже стал длиннее, и улыбка такая лукавая, лисья, кого хочешь с ума сведет. Волосы потемнели и больше почти не вьются – даже жаль, светлые кудри очень ей шли. Впрочем, не ей, а совсем другой женщине, которую звали Мариной всего две недели назад; интересно, на какое имя она откликается сейчас? Но вот об этом думать не стоит, потому что тогда неизбежно встанет вопрос: где, черт побери, она откликается на это имя? Поиски ответа на него – не лучший способ расслабиться перед вечеринкой в доме, внезапно оставшемся без хозяина, созвавшего гостей. К черту былую Марину. Все к черту, начиная с меня самого.
Ждал расспросов – куда подевался Файх, и какого черта Анджей теперь командует его кофеваркой, достает бокалы, открывает вино, разливает холодную влагу, шипящую, как сдувшийся мяч. Марина с благодарностью приняла бокал и осталась равнодушна ко всему остальному. Достала из сумки папку с рисунками, принялась показывать: «Первые были косые-кривые, стыдоба, а теперь смотри, как хорошо дело пошло, вот мой Заесан, Собачья площадь, Птичья аптека, Кошачий пляж, здание Ратуши, начальная школа, памятник вернувшимся домой морякам, я очень довольна, и Мишке так нравится, все домашние дела взял на себя, только не останавливайся, говорит, только не останавливайся».
Хотел спросить, откуда вдруг взялся Мишка, давным-давно пропавший друг детства, да еще и в статусе человека, готового взять на себя Маринины домашние дела, но вовремя прикусил язык. Подумал: «Она же не спрашивает, где немец, и почему я остался на хозяйстве. А если бы вдруг спросила, что, интересно, я бы смог рассказать? Вот то-то и оно, молчание золото, и надо быть очень глупым алхимиком, чтобы трудиться, превращая его в свинец болтовни».
Остальные тоже не задавали вопросов. Входили в оставленную приоткрытой дверь, улыбались, здоровались по-немецки, брали бокалы с вином; мальчишка пил ярко-зеленый тархун прямо из бутылки, запивал кока-колой из банки и, похоже, был счастлив, как будто попал на праздник в Нойшванштайн; впрочем, возможно, именно там он сейчас и находился, кто его разберет.
– Что-то Анджей опаздывает, – заметил длинный Даниэль, а голубоглазая Габия улыбнулась, сдувая с лица ярко-синюю челку:
– Наверное, снова в очереди за кофе стоит. Вечером в пятницу даже в кофейнях толпы.
Только тогда начал понимать, что происходит. Лучше поздно, чем никогда – теоретически. А на практике – как повезет.
Не то чтобы сказал, скорее просто услышал, как говорит:
– Подозреваю, Анджей сегодня не придет. Я сам виноват, дурак: дразнил его, обещал: «Я тебя убью». Не знаю, с чего мне взбрело в голову, я часто глупо шучу. А он мне, похоже, поверил, и это было так забавно, что я не мог удержаться, раз за разом повторял идиотскую шутку, и теперь Анджей, бедняга, просто уехал из города до воскресенья, на всякий случай, чтобы не оставить мне шанса. Что называется, довел человека. Ужасно стыдно. Никогда себе не прощу.
Бросились его утешать: ерунда, нечего тут не прощать, любому дураку ясно, что обещание убить не может быть ничем, кроме шутки, действительно довольно дурацкой, но тут все зависит от контекста, в разных обстоятельствах одна и та же фраза может показаться глупой, или, напротив, остроумной; в любом случае, она – не повод куда-то там удирать. И Анджей, конечно же, тоже пошутил, сделав вид, будто поверил, просто подыграл смеху ради, а что не придет сегодня – так всякое случается, бывают такие неотложные дела, из-за которых отменяются не только уроки немецкого и вечеринки, но и любовные свидания; впрочем наши уроки немецкого и есть что-то вроде любовных свиданий – не столько друг с другом, сколько с самими собой.
Сказал, перебивая этот нестройный, щебечущий по-немецки хор:
– Про свидания – чистая правда.
И все тут же заулыбались, примолкли, думая каждый о своем.
Сразу после девяти начали расходиться. Эрик умчался первым, пробормотав, что обещал быть дома до темноты, а она уже наступила; ничего, тут совсем близко, за пять минут можно, если бегом. На прощание записал телефон Габии, которая вызвалась и дальше помогать ему с немецким, даже несколько фильмов уже приготовила, чтобы вместе смотреть. Остальные тоже засобирались, Даниэль, хранивший верность своему автомобилю, а потому едва пригубивший вино, вызвался подвезти обеих женщин, которые, в отличие от него, ни в чем себе не отказывали и теперь разрумянились, развеселились, болтали, как старые подружки, а из подъезда вышли в обнимку, звонкими от просекко голосами договариваясь не то о продолжении банкета, не то о совместном завтраке, а может, еще о чем-нибудь, не разобрал, потому что говорили они уже не по-немецки, а по-литовски, как и положено виленским жительницам.
Подумал: «Надо же, а раньше после уроков расходились в разные стороны, и уговор был для всех один: снова встретиться на этом балконе в назначенный день и час. Но теперь игра окончена, старые правила не в счет – для всех, кроме меня».
Проводив гостей, погасил в доме свет, устроился в кресле, поставил рядом бутылку с недопитым вином, принялся ждать.
Немец появился вскоре после полуночи. Открыл дверь своим ключом, вошел. Как ни в чем не бывало, сказал:
– Столько дел еще осталось. Столько дел! Книга – ладно, бог с ней, допишет себя сама. По-моему, у нее неплохо получается. А вот чемодан надо бы собрать прямо сейчас, не откладывая на утро. Самолет у меня в какую-то несусветную рань.
Вздохнул:
– Не дури. Ну какой у тебя может быть самолет.
– Железный, – неуверенно предположил Файх. – Или алюминиевый? Из чего их сейчас делают? Впрочем, все это пустяки по сравнению с просекко, которое каким-то чудом дожило до моего возвращения. Или ты, как настоящий жадный немец из анекдотов, позволил гостям только пригубить?
– Нет. Просто слишком много купил. Потому что жадный немец – это у нас ты. А я – нормальный бесхозяйственный поляк. Хоть ты-то нас не путай, пожалуйста. Я чуть не рехнулся, когда понял, что все принимают меня за тебя. Спрашивали еще, где Анджей. Огорчались, что не пришел. Я что-то наврал; впрочем, неважно. Для них эта игра всяко закончена. А как дела у Греты Францевны? Представляешь, о ней никто даже не вспомнил. А если вспомнили, то не спросили. Не знаю, почему. Вроде бы, не далее как в понедельник лопали ее яблочный пирог и требовали добавки. И вдруг – ни слова, ни намека, ни единого вопроса.
– Ну правильно, – кивнул Файх, наливая себе вина. – Не о ком расспрашивать. Строго говоря, никакой Греты Францевны не было. То есть была, конечно, но не здесь и не сейчас. Она, к твоему сведению, умерла еще в позапрошлом ноябре. У себя дома, в Цюрихе. Не о чем горевать, старушка прожила долгую и счастливую жизнь, до сотой годовщины немного не дотянула. И умерла легко, не маясь болезнями, во сне, и улыбалась так, словно напоследок ей приснилось что-то очень хорошее. Хотя почему «словно»? Уверен, так оно и было.
Молчал, как громом пораженный, уставившись в пустой бокал. Умерла? В позапрошлом ноябре? Какого черта? Ничего не получилось? Но ведь я… ведь мы…
– У себя дома, в Цюрихе, – четко, по слогам повторил Файх и снова потянулся за бутылкой. – Голову, голову включи, она тебе еще пригодится. У нашей девочки Греты была безмятежная, счастливая жизнь, верь мне. И, кстати, умение танцевать вальс пригодилось ей в этой жизни не раз – на собственной свадьбе и потом на свадьбе каждой из четырех дочерей. К тому же, когда пришло время умирать, Грета уже хорошо знала дорогу в те края, где август вечен, и на деревьях всегда спелые яблоки, идеально подходящие для пирога. Мы с ней как раз мимо проходили, и я сказал: «Запоминай».
– Всегда знал, что в раю вечный август. Но даже не подозревал, что это действительно может быть так.
– На самом деле, смотря для кого. Для большинства людей и рая-то нет никакого, не то что августа. Но нас с тобой это не касается. У нас свои дела.
Помотал головой.
– Так, погоди. Не путай меня. Для начала – Грета. И ее долгая счастливая жизнь в Цюрихе. Как она вообще туда попала?
– Подробностей уже толком не помню, давно дело было, – ухмыльнулся Файх. – Но как-то они на этот раз вовремя унесли ноги из пекла. Не вся семья, только Грета и ее отец. Кажется, просто поехали в гости к дальним родственникам, задержались на месяц, еще на один, а потом вдруг стало некуда возвращаться, вот и остались – примерно так. Изменить прошлое, конечно же, невозможно; задним числом перекроить судьбу человека, который уже умер – об этом и задумываться-то не следует, если не хочешь раньше времени поседеть. Но сам знаешь, бывают такие августовские ночи, когда невозможное вершится само, по собственной воле, и все, что нужно сделать – вовремя прыгнуть с моста, при условии, что он переброшен через реку времени, а гарантий в таком деле никогда нет, что может быть ненадежней капризной реки. Но Грете повезло. Ну и мне за компанию. И знал бы ты, как я устал от этого невероятного везения. Чемодан, тем не менее, надо собрать, никто не сделает это за меня. Даже ты, пожалуй, не справишься.
Встал, зажег все лампы, прошелся по дому, как смерч, сметающий на своем пути все, хотя бы отдаленно похожее на брюки, рубашки, документы, ботинки, бритвенные приборы и книги на немецком языке. Четверть часа спустя все было кончено, квартира по-сиротски пуста, а чемодан почти полон, но пока не закрыт.
Фабиан Файх снова воцарился в кресле, разлил по бокалам остатки вина. Сказал:
– Осталось положить в чемодан самое ценное имущество: твою жизнь. Но не могу же я отнимать ее, пока ты не допил просекко. Худшего вероломства нельзя и вообразить.
Улыбнулся, кивнул, залпом допил вино, поставил бокал на стол, закрыл глаза. Подумал: «Ну наконец-то». Подумал: «Интересно, какое оружие ты припас: яд, шнур или стилет?» Подумал: «Если сейчас ты примешься душить меня подушкой, это будет слишком смешно, чтобы умереть». Подумал: «Чего же ты тянешь и тянешь?» И только тогда на грудь легла ласковая рука; пальцы ее однако были холоднее и тверже металла, они легко проникли под кожу, сокрушая ребра, добрались до сердца, обхватили его нежно, но крепко, чтобы не вздумало убегать, и Фабиан Файх, никому не известный немецкий писатель в дурацких розовых шортах, командировочный инженер, азартный игрок, балаганный шут, безупречнейший из ангелов смерти, прошептал в глохнущее от боли ухо:
– Душить подушкой – это действительно очень смешно. В следующий раз попробуем так.
Опустился на колени, смотрел снизу вверх, шептал горячо, торопливо, глотая слезы, смеясь:
– Как же долго я тебя искал, знал бы ты. Сколько глупостей успел совершить. Сколько прекрасных, удивительных, животворящих глупостей, и все – во имя твое.
Спросил:
– Ты так до сих пор и не вспомнил меня?
Подошел сзади, бесцеремонно потряс за плечо:
– Эй, открой глаза, мы уже дома. Здесь звезды синие-синие, а небо вот прямо сейчас изумрудно-зеленое, но если тебе не нравится, можно просто подождать минуту-другую, оно уже начало менять свой цвет на алый, самое время проснуться, пожалуйста, воскресай.
Сквер Лаздину Пеледос (Lazdynų Pelėdos skveras) Хана
По утрам, просыпаясь, больше не спрашивал себя: «Где я?» Уже привык. Вставал, выходил на балкон, смотрел во двор, где среди дровяных сараев обильно цвели бордовые и лимонные штокрозы, приветственно махал соседу, который иногда в это время уходил на работу, а иногда наоборот возвращался; тот отвечал хмурой утренней улыбкой. Шел в кухню, нажимал кнопку кофейного аппарата, привычно возносил молитву суровым божествам пробуждения: «Только бы не пришлось вот прямо сейчас его чистить!» Божества внимали и милосердно переносили чистку на вечер. Рассеянно думал, слушая фырканье машины: «Теперь у меня такая жизнь». Больше не удивлялся. Но и не особо радовался. Чему тут радоваться, когда через полчаса надо выходить на работу.
Жизнь в этом городе больше не походила на приключение; строго говоря, приключением она казалась только первые два дня, когда приехал сюда на выходные, чтобы осмотреться и принять решение о переводе в местный филиал банка, где открылась подходящая вакансия. Эти два дня неожиданно стали чуть ли не лучшим отпуском в жизни. Вроде бы ничего особенного не происходило, просто гулял, глазел по сторонам, удивляясь фрагментам самого настоящего леса, тут и там пробивающимся прямо в центре; потом уже понял: это не лес пробивается, а город пророс сквозь лес, как гигантская колония грибов. Заходил в кафе, совался во все незапертые дворы, выбирал дома, в которых хотелось бы пожить, любовался русалочьими лицами и разноцветными прическами студенток, читал воодушевляющие надписи на стенах – те, которые мог разобрать, по-русски и по-английски; по-немецки тут не писали, а литовского не понимал. Удивительно, но это совершенно не мешало чувствовать себя как дома. Даже наоборот. Как будто это обязательная составляющая домашнего уюта – многого не понимать.
Впрочем, бог бы с ним, с домашним уютом. Вот уж чего никогда для себя не искал, но все равно неизбежно обретал раз за разом, сколь бы резко ни менял свою жизнь, везде оказывался на своем месте. Молниеносно вписывался в новую обстановку, как простой и функциональный стеллаж из IKEA, в какую комнату его ни внеси, встанет там как влитой, сольется с фоном, никто и не вспомнит, что еще вчера его тут не было. И чувствовал себя соответственно. Супергерой нового поколения, Человек-Стеллаж.
Но этот город – так ему сперва показалось – сулил нечто гораздо большее, чем домашний уют, возможно даже прямо ему противоположное, особенно в сумерках, когда туманы текли по склонам окрестных холмов, реки замирали, наливаясь будущей ночной тьмой, по безлюдным улицам метались неведомо чьи бесприютные тени, а его отражения в стеклах витрин как-то внезапно утрачивали сходство с оригиналом, и от всего этого по позвоночнику поднималась ледяная сладкая дрожь, совсем как в юности. Мир снова казался исполненным тайных лазеек не то в райский сад, не то в бездну небытия, и поди еще отличи одно от другого. Да и надо ли отличать.
Однако стоило переехать, и уже пару месяцев спустя не мог толком вспомнить: а что, собственно, меня здесь так очаровало? Ну, кроме самой возможности в очередной раз сменить обстановку? Похоже, в этом все дело: так хотел хоть каких-нибудь перемен, что сам себя обхитрил, призвал на помощь воображение, а уж оно свое дело знает, еще ни разу не подводило. Ну или наоборот, подводило всегда, это как посмотреть.
Вот и влип как минимум на два года: рабочий контракт подписан, снята квартира, куплена оптимистически двуспальная кровать с ортопедическим матрасом и куча мелочей, превращающих временное пребывание в оседлую жизнь, новые коллеги приручены, соседи умеренно очарованы неизменно приветливой улыбкой, а ледяной сладкой дрожи, конечно же, больше нет, да и откуда бы ей взяться, воображение воображением, но так долго ни одна иллюзия не живет. Глупо рассчитывать на острые ощущения в городе, куда приехал работать, честно обменивать время своей жизни на еду, тепло и иллюзию безопасного будущего. Какая тебе еще дрожь, какие туманы, окстись.
Регулярно сочинял оптимистические отчеты о прекрасной новой жизни. Число адресатов варьировалось от двух до восьми; никогда никому не писал первым, но исправно отвечал всем, кого хотя бы условно интересовали его дела. Не скупился на забавные истории и живописные подробности, на разочарование даже не намекал. Зачем? Кому это интересно? Людям нужна не правда, а возможность думать, что у тебя все в порядке, ну или наоборот, верить, будто ты наконец-то несчастен настолько, насколько заслуживаешь, но последним можно вовсе не писать, и это большое облегчение.
Вся эта бодрая переписка и редкая болтовня в скайпе – о работе, погоде, прогулках, книгах, выставках, новых знакомствах, то есть ни о чем, о ничем – должна была, по идее, поднимать настроение, но на деле оказалась мучительной, как необходимость скрывать головную боль, чтобы не портить праздник, устроенный в твою же честь. Иногда немного недоговаривать становится труднее, чем просто лгать.
После того, как застукал себя при попытке наладить диалог с собственным зеркальным отражением, был вынужден признать, что дело плохо: намолчался уже по самое немогу, заврался до полной утраты опор. И сел писать Мишке, просто чтобы вспомнить, каково это – говорить о важном. И что сейчас кажется важным. И, если на то пошло, кому оно кажется важным. Есть здесь кто?
Ты не спрашиваешь, как мне тут живется, но я все равно отвечу: а вот даже не знаю.
Объективно говоря, хорошо, но мне, оказывается, вовсе не надо, чтобы было хорошо. Мне надо, чтобы было «как-нибудь не так». Причем как именно выглядит «так», неважно. Любое значение переменной подойдет.
Но здесь все «так».
А чего я, собственно, ждал? Издевательский вопрос, на который я могу ответить только тебе. И только потому, что вообразить не могу, как ты его задаешь. Совершенно не в твоем духе.
Так вот, я ждал чуда. Не знаю, какого. Ничего конкретного. Чего-то смутного и неопределенного, прельстительно звеневшего в воздухе, когда я ходил тут впервые.
Показалось.
Здесь – нормально. Обыкновенно. Примерно как везде. Ну, то есть не везде, а в любом более-менее крупном городе Восточной Европы. Восточно-европейская эстетика мне очень близка, ты знаешь. Вот эта печаль о несбывшемся на худо-бедно отреставрированных руинах многообещающего прошлого, исполненная достоинства осанка бродяги, получившего когда-то хорошее воспитание, приторно-горький, как бузиновый сироп, привкус тщетности, сопровождающий здесь любое действие, включая стирку носков (помнишь, как ты дразнил меня титулом «ваша тщетность»? конечно, не помнишь, но это было так метко, что я до сих пор сержусь). В этом городе я в каком-то смысле всегда стою перед зеркалом, куда ни повернусь, везде вижу себя. Как же меня это печалит и потешает, как же я все это люблю.
Скверно однако вот что: я здесь совсем не пишу. Не «реже», даже не «так редко, что почти никогда». А вообще ни строчки. Как отрезало. Будто стоящих слов в мире почти не осталось, а те немногие, что еще есть, не мои. Впрочем, я и сам знаю, что не в словах дело. Помнишь, ты однажды сказал, что внутри всякого стоящего поэта живет бездна, жадная до любых проявлений жизни, прожорливая черная дыра, и когда она говорит, вернее, вопит от тоски по чему-то невыразимому, а человек только слушает и записывает, из этого может выйти толк, а так – ни хрена, хоть вешайся на собственном беспощадном и беспомощном языке. Я тогда делал вид, будто не слушаю, демонстративно зевал, чтобы тебя взбесить, но вовсе не потому, что дурак и не понял, о чем речь. Наоборот, слишком хорошо понял. Просто к тому моменту уже начал догадываться, что во мне самом никакой черной дыры нет.
Мне, ты знаешь, всегда нравилось считать себя поэтом, который играет в банковского служащего; чем дальше, тем ясней, что на самом деле я – банковский служащий, который пытается играть в поэта. Или даже пытался – в прошлом, когда-то давно, полторы тысячи бесконечно долгих часов назад. И вот на этом месте у меня в сердце – нет, к сожалению, вовсе не бездна, даже не пропасть, падать в которую жутко, зато очень быстро, раз и все, а болото, трясина, только что был по щиколотку, а уже по колено, пока даже не очень страшно, но ясно (мне и тебе, а больше никому, потому что это не их дело), что впереди.
И тем более ясно, почему я так храбро, с точки зрения так называемых близких, которые, будем честны, далеки от меня, как Большое и Малое Магеллановы Облака, а на самом деле, панически метнулся в очередную как бы новую жизнь. Однако нового тут только вид из окна, мебель, кухонная утварь и улицы, по которым хожу на работу; впрочем, к ним я уже привык. Как привык спать в одиночку, покупать еду в большом супермаркете на холме, бегать в выходные по набережной и здороваться по утрам с соседом по двору – такой, знаешь, плотный седой мужичок средних лет, бодрый и приветливый, один из множества претендентов на титул «самый обыкновенный человек в мире», одно из множества моих скучных отражений, которые попадаются тут на каждом шагу. Впрочем, не только тут, а всегда и везде, очередной переезд в этом смысле ничего не изменил, просто врать себе стало еще немного труднее. Смена декораций принуждает к честности. И к занудству, – добавил бы сейчас ты. Имеешь полное право: нет ничего скучней, чем читать чужое нытье. Прости, я, пожалуй, и правда перегнул палку. Но у меня есть смягчающее обстоятельство: с тех пор, как ты умер, мне стало не с кем по-человечески поговорить.
Написал, перечитал, исправил несколько опечаток, выделил, нажал кнопку delete – стер. Ну а как еще отправлять письма мертвому другу – туда, где его и вообще ничего нет.
Рассчитывать на ответ не приходилось, но когда знаешь человека так хорошо, его вполне можно сочинить самостоятельно. Впрочем, лучше не надо, а то снова поругаемся. А ссориться с мертвым – это уже ни в какие ворота. Безумие должно приносить радость, иначе зачем оно нужно вообще.
Подумал: «Хорошо однако я провожу пятничный вечер». И вышел из дома быстрей, чем решил, куда отправиться. Впрочем, если бы размышлял до самой полуночи, результат был бы ровно тот же: некуда да и незачем, а значит, куда угодно и будь что будет. Даже если как всегда ничего.
Однако далеко не ушел. Буквально в воротах был пойман соседом – тем самым седым крепышом, претендентом на титул «самый обыкновенный человек в мире», которого поминал в письме. Никак не мог запомнить его имя, хотя оно было совсем простое; по крайней мере, точно короткое. Ладно, как-нибудь да зовут, не переспрашивать же в пятый раз.
– Опять! – драматическим шепотом возвестил сосед.
В его устах это означало: «опять барахлит компьютер». За два с небольшим месяца возился с горемычным соседским ноутбуком уже четыре раза. Совет закопать это горюшко за гаражами и купить новый благоразумно придерживал при себе. Не каждому по карману столь радикальные жесты.
Впрочем, ему-то проблемы соседа были скорей на руку. Всегда любил возиться с техникой и втайне гордился своими познаниями в этой области, обширными, хоть и разрозненными. А еще больше – интуицией, позволявшей быстро найти причину неполадок. «Шаман!» – говорил в таких случаях Мишка.
Ох, если бы, дорогой друг.
Впрочем, на этот раз поломка обнаружилась сразу и, строго говоря, даже поломкой не была, просто кнопка включения запала, слишком деликатные прикосновения трепетно относившегося к технике владельца на нее не действовали, а стоило нажать посильней, и чудо свершилось, экран замерцал.
– Шаман! – восхищенно резюмировал сосед.
И этот туда же.
Обстановка в соседской квартире была предельно аскетичная. Минимум мебели на фоне белых стен. Стеллажи – те самые, функциональные, из IKEA – завалены книгами и журналами, зато других вещей нет вовсе. Видимо, убраны в здоровенный стенной шкаф-купе. Жил он здесь, похоже, один, что вообще-то автоматически исключало его из числа кандидатов на звание самого скучного человека в мире, которого, если по уму, следует выбирать исключительно из числа семейных граждан. Одинокие все с каким-нибудь прибабахом, тщательно скрываемым пороком, невидимой стороннему глазу тайной. Вот я, например, тайный поэт. Скорее всего, уже бывший. Но все-таки.
В общем, совсем заврался в этом своем дурацком письме. И не исправишь уже, отправлено. Впрочем, читать его все равно некому, так что ладно, сойдет.
– С меня причитается, – решительно сказал сосед. – Вы пиво пьете? Я знаю одно местечко, где подают вишневое. Местного производства. Не бельгийское, конечно. Но до бельгийского ему на удивление недалеко.
Начал было: «Да что вы, не надо», – и осекся, услышав, как неубедительно звучит его отказ. Во-первых, вишневое пиво – далеко не худшее, что может случиться с человеком теплым летним вечером. А во-вторых, компания соседа вдруг показалась ему настолько приятней одиноких скитаний по городским барам, что заранее был готов смириться с обсуждением баскетбольной Евролиги, новостей из Фейсбука, цен на коммунальные услуги, или, к примеру, недостатков системы муниципального велопроката. Ну или о чем обычно говорят за пивом малознакомые одинокие люди. Все что угодно лучше, чем снова весь вечер молчать, тайком от самого себя сочиняя очередное жалобное письмо мертвому адресату, имеющему как минимум одно бесспорное преимущество перед живыми: полную неспособность рявкнуть: «заткнись!»
– Не беспокойтесь, это не перерастет в недельный загул, – усмехнулся сосед, истолковавший его колебания по-своему. – У меня времени хорошо если часа полтора. Потом надо будет бежать. Нынче вечером меня ждут как минимум в трех местах, хоть разорвись.
Изобразил на лице приличествующее случаю сочувствие. А про себя невольно подумал: «Везет!»
Надо же. До сих пор считал полное отсутствие обязательств, понуждающих вечно куда-то нестись и с кем-то встречаться, одним из главных бонусов переезда. А оказывается, уже успел соскучиться по суматошной жизни, заполненной разговорами, свиданиями и вечеринками. Тоже мне интроверт.
Сперва шли знакомым, сто раз уже хоженым путем, но вскоре сосед свернул в переулок, потом в следующий, увлек его за собой в проходной двор, откуда вышли на совершенно незнакомую улицу. Это было приятно – обнаружить, сколько, оказывается, осталось неисследованных белых пятен, да не где-нибудь на окраине, а в центре, под самым носом, гулять еще и гулять.
– Никогда не устану этому удивляться, – вдруг сказал сосед.
Из вежливости переспросил:
– Чему именно?
– Тому, как охотно город вступает с нами в переписку, – усмехнулся тот, указывая куда-то влево. – И как быстро отвечает на некоторые вопросы, еще сформулировать толком не успел, а ответ – вот он, уже готов.
Слева была светло-желтая стена жилого дома, обезображенная короткой размашистой надписью на литовском языке. Судя по кривизне букв, автор то ли совсем недавно начал посещать среднюю школу, то ли просто был вусмерть пьян.
– Здесь написано: «Даже не сомневайся», – пояснил сосед.
– А вы как раз в чем-то сомневались?
– Угу, – кивнул тот. И, помолчав, добавил: – Естественное состояние для человека. Так что это послание подойдет каждому второму прохожему. Но все равно я рад его получить.
Сказал, вдохновленный такой неожиданной откровенностью:
– Когда я сюда в первый раз приехал, на выходные, город посмотреть, мне постоянно попадались на глаза надписи: «Я тебя люблю». Раз десять за два дня, все в разных местах, по-русски и по-английски. И мне, конечно, было приятно думать, что эти послания адресованы мне. Хотя и дураку ясно, что какой-нибудь девчонке. При чем тут я. Но настроение все равно поднималось. Однако с тех пор, как переехал, никаких признаний в любви не видел. Ну или просто перестал обращать внимание.
– Скорее всего, – согласился сосед. – Обычно все самое интересное достается туристам. Оно и понятно, пока мы целеустремленно носимся по делам, они гуляют в свое удовольствие и глазеют по сторонам. Вот и снимают все сливки. А мы пришли.
И увлек его за собой под полосатый навес уличной пивной, где каким-то чудом нашелся один свободный стол, как будто специально их ждал. Остальные были заняты, все-таки пятница, вечер да еще такой теплый, ищи дураков – по домам сидеть.
Сосед, конечно, приврал, местному вишневому пиву до бельгийского было как отсюда до Брюгге. Пешком, в железных башмаках. Но настроения это не испортило. Сидеть с кружкой за деревянным столом на маленькой площади, среди беззаботных пятничных гуляк и спущенных с поводков добродушных, явно довольных жизнью собак, оказалось неожиданно приятно. Как будто снова стал туристом, и впереди еще много приятных бесцельных прогулок и беззаботных летних вечеров.
Одна из собак, похожая на улыбчивого голубоглазого волка, подошла к нему знакомиться. Положила на колени мохнатую башку, смотрела так внимательно и серьезно, что пришлось представиться:
– Меня зовут Александр. Можно «Алекс» или «Шу», но это только если крепко подружимся. А тебя?
– Ханна, – сказала собака.
Несмотря на женское имя, у нее был густой, хрипловатый бас.
Все произошло так естественно, что в первый момент он даже не удивился. Только секунду спустя начал понимать, что происходит что-то не то. Обычно собаки не говорят человеческим голосом, а эта… Но тут компания, сидевшая за соседним столом, дружно заржала, и он сообразил, что за Ханну ответил внимательно следивший за ее перемещениями хозяин, или кто-то из его друзей. Не подавая виду, протянул собаке открытую ладонь.
– Очень приятно, Ханна. Рад знакомству. Давай пять.
Собака, немного поколебавшись, положила на его ладонь тяжелую лапу, коротко взвизгнула от полноты чувств, развернулась и убежала к хозяину. Спряталась под лавку и затихла. Пришлось заливать горечь разлуки местным вишневым пивом, утешительно сладким, как компот.
– Вы прекрасно держались, – заметил сосед. – Можно подумать, всю жизнь ждали, что однажды с вами заговорит собака. И заранее приготовились с достоинством встретить это событие.
Пожал плечами.
– Да не то чтобы ждал и готовился. Скорее я просто не против. Вполне согласен такое допустить. Теперь даже немного жаль, что так быстро понял, кто за нее говорит. В мире и без этой собаки слишком много легкообъяснимых происшествий.
– Труднообъяснимые тоже попадаются, – утешил его сосед. – А есть и совсем непонятные, вроде черных дыр.
– Черные дыры и меня утешают. Одна беда: они далеко в космосе. А я – здесь.
– С одной могу познакомить, – сказал сосед.
Положил руку на деревянную столешницу. А когда убрал, в центре стола зияла дыра. Маленькая, размером с детский кулак. И действительно черная. То есть сквозь нее не было видно ни земли, ни подставки для ног, ни самих ног – вообще ничего. Только тьма.
Ничего себе фокус.
Некоторое время разглядывал эту невозможную черноту, потом протянул к ней руку – потрогать. Сосед не дал.
– Прикасаться не надо, пожалуйста, – сказал он так строго, что рука дернулась и сама вернулась на место. И тут же, широко улыбнувшись, добавил: – Она еще совсем маленькая и робкая. Лучше лишний раз ее не пугать. Даже подумать страшно, во что может превратиться черная дыра, получившая детскую травму. Мы с вами совершенно точно ничего не хотим об этом знать. Поэтому давайте отпустим ее отдыхать и переваривать впечатления.
Провел ладонью над столешницей, и черная дыра исчезла. И следа не осталось, даже хоть какого-нибудь пятна. Спросил:
– А сейчас-то можно потрогать?
– Трогайте на здоровье.
Потрогал. Дерево как дерево, твердое, немного липкое от пропитавшего его пива. Пожалуй, чересчур холодное для такого теплого летнего дня. Впрочем, скорее всего, это уже просто воображение подсказывает органам чувств: должна же быть хоть какая-то странность. Давайте ее ощутим!
Наконец спросил:
– Как вы это сделали?
Сосед задумался.
– Положа руку на сердце, я слегка приврал, – наконец сказал он.
Да кто бы сомневался.
– Это не совсем настоящая черная дыра, – признался сосед. – Но со временем вполне может стать настоящей. Штука в том, что она приснилась одному школьнику, насмотревшемуся научно-популярных видео на Ютубе, и как любой сон должна была исчезнуть после того, как спящий проснулся. Но она не захотела исчезать. К счастью, это недостаточно настоящая черная дыра, чтобы как-то повлиять на нашу реальность, но и не настолько морок, чтобы от нее можно было отмахнуться и забыть. Так, серединка на половинку. Пришлось ее усыно… удочерить. «Дыра» все-таки женского рода. В общем, теперь я время от времени о ней думаю. И раз в несколько дней кому-нибудь ее показываю. Этой порции внимания маленькой черной дыре вполне достаточно, чтобы продолжать существовать и даже понемножку расти. Думаю, через пару тысяч лет можно будет выпустить ее на вольный выпас. В смысле в открытый космос. А пока рановато. Пропадет.
Слушал его, натурально приоткрыв рот от удивления. Сосед, рассуждающий об удочерении черных дыр – чудо похлеще говорящей собаки. Претендент на титул «самый скучный человек в мире» оказался настоящим психом. С большой буквы «Пэ».
– Считать меня психом – это, как говорят мои молодые сотрудники, читерство, – укоризненно заметил сосед. – Слишком очевидное объяснение. И одновременно не объяснение вовсе. Потому что дыру вы видели собственными глазами. И, готов спорить, заметили, каким холодным стал после ее визита стол. С другой стороны, я, конечно, мог незаметно подбросить вам что-нибудь интересное в пиво. Вопрос, зачем мне это нужно, поднимать не станем. Например, забавы ради. Просто так. Предположим, я любитель жестоких розыгрышей, сводящих людей с ума, такие действительно встречаются. В общем, вполне себе рациональное объяснение. Гораздо более убедительное, чем моя версия про сон школьника. Но менее оптимистичная. Вам выбирать.
Вдруг понял, что очень устал от этого разговора, словно полдня мешки таскал. Хотя, казалось бы, чего тут уставать. По уму, следовало бы рассердиться на соседа за дурацкую болтовню и на себя за то, что поперся с ним в пивную. И, по старой доброй традиции, на весь мир – за то, что полон разочарований. Но рассердиться почему-то не получалось.
Сделал глоток сладкого вишневого пива, оглянулся в надежде увидеть свою новую подружку Ханну, но ее уже увели. Вспомнил, как буквально пару часов назад собственными руками написал: «Мне надо, чтобы было «как-нибудь не так». Ну вот тебе твое «не так», получи и больше не досаждай мертвым друзьям жалобами на унылую обыденность. А то еще подарков пришлют.
Но то, что уже есть, надо брать.
Сказал:
– Ладно, пусть будет сон школьника. Почему, собственно, нет.
– Хороший выбор, – кивнул сосед. – За это я, пожалуй, готов вам ее одолжить. В смысле отдать на воспитание.
– Кого?!
– Черную дыру, кого же еще. Я, честно говоря, не лучший опекун, дел и без нее по горло. Вечно забываю покормить бедняжку.
– Покормить? Она что-то ест?
– Еще как ест. Человеческое внимание. Я же говорил: о ней обязательно надо вспоминать хотя бы пару раз в день. Лучше – чаще. И регулярно проделывать трюк, который я вам показал. Неплохо бы на публике, но на самом деле, не обязательно. Можно и наедине с собой. Подозреваю, вы не великий любитель выступать перед широкой аудиторией с фокусами, зато думать о ней будете дни напролет. Именно то, что надо, причем вам обоим. Ни одному поэту лишняя черная дыра за пазухой не повредит.
Смотрел на соседа как громом пораженный. С чего он взял, будто я?..
– Извините, – потупился тот. – Очень некрасиво совать нос в чужие дела, согласен. Но что ж я могу поделать, если у вас все на лбу написано, а я, по случайному совпадению, знаю этот язык.
Зачем-то сказал:
– Я сегодня писал о вас другу: «Мой сосед – претендент на титул “Самый Скучный Человек в мире”; как, впрочем, и я сам». Нечеловеческая проницательность, что тут скажешь. Извините, что сплетничал: друг уже умер, так что, наверное, не считается.
– Ну почему же, – усмехнулся сосед, – иногда очень даже считается. Смотря как он умер. В смысле, куда.
Вот сейчас почти рассердился. «Почти» только потому, что на настоящую злость не осталось сил.
– Все умирают в одно и то же место. В никуда.
– Это вы пока не разобрались, – отмахнулся сосед. – Ничего, успеется, какие ваши годы. То-то удивитесь потом.
– Хотите сказать, вы знаете, что там?..
– Да все что угодно. По обстоятельствам. Смерть бывает разная, как, собственно, и жизнь. Для кого-то ужас, для кого-то праздник, для кого-то тяжелый труд. Что касается вашего друга, не буду врать, не знаю, как обстоят его дела. Он же не в Вильнюсе умер? Ну вот, значит, не в моей компетенции, ничего путного я вам не скажу. А гадать вы и без меня можете.
Слушал его, уставившись в бокал с красноватой пенистой жидкостью. Сходили попить пива, называется. Поговорили о баскетболе. Скоротали пятничный вечер. Ну и дела.
– А знаете что? – сказал он соседу. – Давайте эту вашу черную дыру. Все равно буду теперь думать о ней круглосуточно, чего добру пропадать. Надеюсь, вы просто так ее отдаете? Не в обмен на душу? Я экономный. В подарок возьму, а покупать не готов.
– Души я вам еще и добавлю, – серьезно сказал сосед. – Чтобы веселее жилось. Приличные люди, пристраивая домашних питомцев в добрые руки, обычно не скупятся на приданое. Мешок сухого корма, коврик или, к примеру, лоток.
Невольно улыбнулся. Спросил:
– Что надо делать?
– Вам – ничего. Моя черная дыра уже стала вашей – в тот момент, когда вы сказали: «Давайте». Юные черные дыры очень серьезно относятся к человеческим словам.
– Надо же. Думал, это будет обставлено поторжественней.
– В духе фильмов-сказок нашего детства? Белые молнии, зеленое пламя, душераздирающий вой? Теоретически можно, но не в пивной же. И потом, мне уже надо бежать.
– Можно без молний и завываний. Но я вообще ничего не почувствовал.
– А вам и не надо ничего чувствовать, – сказал сосед, поднимаясь из-за стола. – Достаточно, если вы будете просто о ней вспоминать. И иногда выпускать на волю.
– И как, интересно, я буду ее выпускать? Я не умею.
– Да, извините, – спохватился сосед и снова сел на лавку, на этот раз не напротив, а рядом. – Самое главное забыл объяснить. А все это чертово пиво. Из-за сладкого вкуса кажется легким, а на самом деле уже после пары глотков за головой – глаз да глаз. Положите руку на стол. Давайте, смелее. Теперь представьте… просто вспомните, как она выглядела.
Чувствовал себя полным идиотом, но инструкцию выполнил. Даже невозможную черную прореху в столешнице честно вообразил. Подумал: интересно, как он будет выкручиваться, когда выяснится, что ничего не слу…
– Все в порядке, – объявил сосед. – Можете убрать руку. Voila!
Это «вуаля» прозвучало так неожиданно, что он невольно улыбнулся, но тут же подавился усмешкой: на том месте, где только что лежала его ладонь, зияла дыра. Маленькая, размером с детский кулак, черная, как деготь, веселая – он сейчас был готов поклясться, что у этой тьмы есть настроение и даже вполне сложившийся характер – как разыгравшийся щенок. Окружающий мир сиял и звенел в висках стеклянного шара, которым внезапно оказалась голова, остальное тело, судя по ощущениям, превратилось в туман, и только задница по-прежнему ощущала успокоительную твердь деревянной скамьи. Надежная опора, последняя связь с миром, всегда знал, что она не предаст.
– Похлеще, чем говорящая собака? – сочувственно улыбнулся сосед. – Такое вы не были готовы допустить?
Молча помотал головой. Интересно, а кто готов? Собравшись с силами, спросил:
– А как… как убрать ее обратно? Ну, чтобы не было видно? Или она сама?..
– Сама вряд ли. Надо ее позвать. Обычно достаточно просто подумать: «Иди домой». А я, если помните, еще и рукой над ней поводил. Это не обязательно, но ей будет приятно.
Ладно. Пусть так.
Осторожно погладил пространство в нескольких сантиметрах над поверхностью стола. Сказал про себя, старательно, по слогам: «И-ди до-мой». Черная дыра тут же исчезла. И ему существенно полегчало. Ну слава богу, померещилось. Не то чтобы действительно в это верил, но вот прямо сейчас думать: «Померещилось», – было приятно, хоть и совершенно бесполезно. Как пить сладкую газировку в жару.
– Ну видите, все в порядке, – подбодрил его сосед. – Извините, мне правда надо бежать. Если будут вопросы, заходите. Если что-то срочное, звоните в любое время, вот мой телефон.
Записал номер на обратной стороне картонной подставки, зеленой, почему-то с надписью «Grolsch»[15], сунул ему в руки, перешагнул через лавку и исчез. В смысле, растворился в уличной толпе, где чуть ли не половина прохожих выглядела его братьями-близнецами.
Остался в пивной один. Ну, то есть как один – с черной дырой, куда теперь от нее деться. Вдруг осознал, что не понимает, где сидит. Вроде бы, смутно знакомое место, ясно, что Старый город, самый его центр, но в какую сторону надо идти, чтобы попасть домой – поди разбери.
Спросил официанта. Тот оказался хорошо подготовлен к подобным вопросам, сразу вынул из кармана фартука карту, ткнул пальцем: мы здесь.
Вглядевшись в мелкий шрифт, сперва чуть не впал в панику: какой-то сквер Лаздину Пеледос, в жизни не слышал такого названия. Это вообще еще Вильнюс? Куда я попал? Но потом обнаружил, что за спиной у него улица Арклю, настолько хорошо знакомая, что даже смешно стало – заблудиться в этом районе – все равно, что в собственном дворе. И сквер знакомый, сто раз проходил мимо, просто не знал, что он имеет отдельное название. Все дело, конечно, в необычном ракурсе. И в пиве. Похоже, и правда крепкое. А на вкус – практически компот. Чуть не рассмеялся от облегчения. Пиво, елки! Конечно, это оно.
Домой однако добирался часа три – кругами. Не то чтобы действительно по-настоящему заплутал, скорее, просто позволил себе притвориться, будто не знает дороги. Можно сказать, контролируемый топографический кретинизм. А что прикажете делать, если дом слишком близко, идти больше особо некуда, гулять просто так, без определенной цели давно отвык, но вечер при этом так хорош, что возвращаться в пустую квартиру совсем не хочется. Потом когда-нибудь, не сейчас.
Давно не чувствовал себя таким счастливым дураком, может быть, вообще никогда. И списать это исключительно на воздействие вишневого пива с каждым шагом становилось все трудней. Какое там пиво, за это время даже напиток покрепче выветрился бы давным-давно.
В сумерках большинство переулков выглядели незнакомыми, хотя читая названия на табличках, убеждался: здесь я уже сто раз ходил. И тут тоже, а вот и пекарня, рядом с которой винный магазин. А вон в той лавке однажды чуть было не купил чашку ручной работы, совершенно ненужную, обескураживающе красивую, притягательную, как чужая мечта; к счастью, там не принимают карты, а наличных при себе не было, так и спасся от покупки заведомо ненужного хлама, можно сказать, пронесло.
Проходя мимо высокого каштана, вдруг подумал с уверенностью, какую испытывал только в детстве: это дерево зовут Эммануил. Ничего удивительного, всех как-нибудь да зовут, даже меня, хотя казалось бы, откуда у меня может быть имя, что за дикая идея – обозначить почти произвольным сочетанием звуков нелепую ходячую бездну – так называемого человека, меня.
И мою черную дыру тоже, получается, как-то зовут. Даже странно, что сосед не сказал. Не успел придумать? Ладно, раз так, дам ей имя сам. Например, в честь собаки, с которой все началось. Как она сказала – Ханна? Отличное имя, только лучше с одной буквой «н» и ударением на последнем слоге: Хана́. Мне – хана. Наконец-то. Всю жизнь об этом мечтал.
Вдруг испугался, что теперь, когда безумного фокусника-соседа нет рядом, ничего не получится. В смысле, окажется, что никакой черной дыры нет, и не было, и не могло быть. Какая ерунда. И… как я теперь без нее?
Жить с этой мыслью оказалось настолько невыносимо, что бросился проверять. Присел на корточки в безлюдном переулке, под разгорающимся в поздних летних сумерках фонарем. Положил руку на теплый растрескавшийся асфальт; тут же отдернул, как ребенок, застигнутый за порчей родительского имущества. Даже вообразить ничего не успел. Но дыра все равно была. Зияла в позолоченном фонарным светом асфальте, явно довольная возможностью лишний раз покрасоваться. Обрадовался ей, как внезапно обретенной возлюбленной, или, скажем, воскресшему старому другу. Сказал едва различимым шепотом:
– Привет. Ты не против, если я буду звать тебя Хана?
И поскольку ничего похожего на возражения не последовало, добавил уже более уверенно:
– Хана, пошли домой.
Улица Лапу (Lapų g.) Много прекрасных дорог
Проснувшись, вдруг подумал, что надо пойти и купить Анне этот браслет. Потому что она его себе никогда ни за что не купит. Так и будет жить и хотеть, хотеть и не покупать, не покупать и мечтать, мечтать и жить без браслета, годами, я ее знаю.
И день рождения у Анны, можно сказать, на носу, всего через три с половиной месяца. Но ждать даты совсем не обязательно.
Дурацкий кожаный шнурок почти втрое дороже серебряной цепочки такой же длины. И бусины цветного стекла, самые дешевые – около сотни литов за штуку; о стоимости остальных лучше вообще не думать. В сумме выходит типичная хиповская фенька по цене золотого кольца. Но Анне нравится. «Смотри какое!» – и замерла у витрины на четверть часа, забыв обо всем.
Ну, значит, решено.
Думал, труднее всего будет выбрать, там же все по отдельности продается – шнурки, бусины, даже застежки. Ошибешься, и выйдет в итоге совсем уж безвкусная дрянь. Но, оказавшись у витрины, сразу уверенно ткнул пальцем в темно-синий шнурок. Застежка? Вон та, в виде тролля. Бусины? Ох, сколько же их тут.
– У нас сейчас рекламная акция. Тому, кто покупает шнурок и застежку, две бусины в подарок, – неожиданно сказала продавщица. – Выбирайте.
Это упростило дело. Подарок – это просто отлично. Никакой ответственности. Потому что еще две бусины Анна сможет выбрать сама. Деньги-то на них уже отложены. Почти не задумываясь, взял зеленую с пурпурными искрами и лиловую с прозрачными голубыми пузырьками внутри.
Продавщица ловко нанизала бусины на шнурок, приладила замок, примерила браслет, чтобы продемострировать, как он будет смотреться на женской руке. Одобрительно покачала головой:
– У вас безупречный вкус. Очень красивая минималистическая композиция. Обычно надо хотя бы четыре бусины, а еще лучше – шесть. Но тут я бы, пожалуй, ничего добавлять не стала.
Вот и прекрасно.
За работой, как водится, все вылетело из головы, но после обеда вдруг вспомнил о покупке. Достал, принялся разглядывать. Вертел в руках синий кожаный шнурок. Думал: где-то я уже видел очень, очень похожий. Синий, кожаный… Стоп. Да у меня же такой был. В детстве. И бусины были. Тоже, кстати, две. Синяя из мутного, непрозрачного стекла и зеленая деревянная, с длинной кривой царапиной и облупившейся возле отверстия краской. Ну надо же. Совершенно, получается, забыл.
Совершенно забыл.
Сидел, откинувшись на спинку кресла, глядел на купленный для Анны синий шнурок, вспоминал свой. Вроде очень важная была вещь. То ли амулет, то ли трофей, то ли часть какой-то сложной игры. И куда-то потом делся. Интересно куда? Вот же черт, теперь и не вспомнишь. Вечно так с этими детскими воспоминаниями, все равно что аквариумных рыбок руками ловить – выскальзывают, уплывают, а если даже ухватишь, все равно никакого толку, будет биться, беззвучно открывать рот, таращить бессмысленные глаза, только и остается – плюнуть и отпустить.
Плюнуть и отпустить, однако, не получалось.
Решил: пойду проветрюсь. Заодно кофе выпью. И сразу назад. Прости, дорогая работа. Сама видишь, и рад бы тобой заняться прямо сейчас, но не выходит. Я скоро, скоро.
Только на улице заметил, что вышел, намотав на запястье синий шнурок. В смысле Аннин браслет. Хотел было снять и спрятать в карман, но передумал. На руке точно не потеряется, а в кармане – как повезет. Пусть будет, все равно никто не увидит, рукава длинные.
В любимом кафе по случаю начала теплого весеннего вечера выстроилась очередь. По местным меркам довольно большая, человек шесть. Зато и новых книг на полке для свободного обмена прибавилось. С книжкой вполне можно постоять.
Взял книгу, не глядя, только по весу понял, что выбрал самую толстую. Невольно ухмыльнулся, вспомнив анекдот про таблетки от жадности, дайте самую большую – всегда знал, что это про меня. Прочитал на корешке: «Город, который виден сердцу». Автор Рэй Хауз. Пожал плечами – никогда о нем не слышал. Открыл наугад.
Мой друг жил в великолепной сверкающей башне, стоявшей в конце тропинки, вдоль которой лежали чудесные предметы, умевшие видеть волшебные сны. И всякий раз, когда я там проходил, им снилось, что они – большие каменные дома, в которых живут добрые люди. А тропинке снилось, что она – длинная, мощенная булыжником дорога.
В доме друга лежал мертвец, который все время на что-то жаловался и просил, а по комнатам ходила моложавая ведьмочка, у которой была дочка на выданье. Мы с другом запирались в его каморке и часами хихикали над всякими глупостями. Но потом у нас с другом вышла размолвка, о причине которой уже никто не помнит, кроме разве что вечных звезд, которым все равно.
С тех пор мой друг забыл, что я знаю тропу к его дому, и я перестал ходить по ней волшебными ночами. И всегда, каждый раз, когда ноги выносили меня на тот перекресток, Госпожа Ночь шептала мне на ухо: в мире так много прекрасных дорог.
– Здравствуйте, – в третий раз повторила красивая девушка, мисс Латте две тысячи одинадцать, согласно надписи на переднике. – Чего вам хотелось бы?
Так и не дождавшись ответа, принялась подсказывать:
– Ристретто? Эспрессо? Капучино? Апельсиновый? Мятный со льдом? Миндальный? Банановый? Беличий?
Очнулся. Переспросил, не веря своим ушам:
– Беличий? Это как?
– Просто латте с ореховым сиропом.
Сказал:
– Давайте.
Положил на прилавок три монеты. Бросил сдачу в коробочку для чаевых. И поставил книгу Рэя Хауза обратно на полку.
Чур меня.
Получив картонный стаканчик с беличьим кофе, вышел на улицу. Сел за единственный свободный столик. Закурил.
Сидел долго, цедил сладкую ореховую бурду, курил одну крепкую самокрутку за другой. Вспоминал.
В детстве у меня тоже был друг, к которому я часто ходил в гости. А он ко мне – никогда. Впрочем, мой друг определенно жил не в сверкающей башне, а в обычном двухэтажном доме, обнесенном ветхой оградой. Крыльцо заросло травой, вторая ступенька совсем сгнила, и ее надо было переступать. В доме его не водилось ни ведьм, ни мертвецов, даже родителей друга никогда не было, ну или они просто сидели на втором этаже и не показывались. Я пересекал пустую, пропитанную волнующими запахами кухню, потом короткий коридор и входил в комнату, где сидел мой друг. Вспомнить бы еще, как его звали. Нет, не получается. И лицо? Не помню лица. Кажется, он тоже был мальчик. Старше меня, но не намного. Года на два-три. Или больше? Нет, так я ничего не вспомню, разве что придумаю заново и сам себе поверю, а это не дело.
Иногда мы с другом играли – строили города из всего, что подвернется под руку, карточные домики там соседствовали с тряпичными шалашами, сахарными башнями и крепостями из мелких речных камней. Рисовали планы местности, придумывали горожанам имена, биографии и занятия, записывали их в толстую тетрадь в зеленой обложке, которую мне нельзя было брать домой и даже выносить из комнаты в коридор. А иногда просто болтали, говорили взахлеб, перебивая друг друга, подхватывая реплики на лету. О чем? Не помню. Но определенно о самых интересных в мире вещах. И очень много смеялись.
Больше всего на свете я тогда любил ходить в гости к другу, а потом возвращаться домой. Вроде бы он жил совсем недалеко от меня. Минут пятнадцать пешком, не больше. Но были какие-то трудности с дорогой. Какие именно? Не помню. Зато помню, что, отправляясь в путь, всегда обматывал запястье синим шнурком с бусинами… Ну да, точно же! Шнурок был нужен, чтобы ходить к другу. Без него я почему-то никогда не мог выйти на нужный перекресток, просто не получалось, и все. Хотя дорогу я, вроде бы, отлично знал… Или нет? Кажется, дорога каждый раз была немного другая. То через пустырь, то через рощу и овраг с ежевикой, то узкая мощеная мостовая между обнесенными заборами частными домами. И я, кстати, сам тогда думал, что дорога спит и видит сны. И я, хоть не сплю, а тоже вижу дорогины сны, пока по ней иду. Интересно все-таки в детстве устроена голова, и куда что потом девается.
О моих походах к другу нельзя было рассказывать родителям. То есть мне никто не запрещал, не говорил, что это секрет. И я поначалу попробовал что-то рассказать. Отец внимательно слушал, улыбался и назвал меня фантазером. А мама вдруг испугалась. Это я точно помню, потому что никогда прежде не видел, чтобы взрослые чего-то боялись. Ну или просто не понимал. А тут вдруг понял. И сам тоже испугался. Не своих историй, а маминого страха. Это было так… Так необычно. И неожиданно. И очень опасно, хотя я, конечно, не понимал, в чем, собственно, состоит опасность.
И сейчас не понимаю.
Да не волнуйся так, ему просто приснилось, сказал отец, и я ухватился за эту подсказку. Приснилось, конечно, приснилось.
И больше не рассказывал им ничего. А когда шел к другу, говорил, что буду играть в соседнем дворе. Мне верили, потому что в других вопросах я никогда не врал. Даже про двойки и разбитые чашки.
Это продолжалось лет пять. Или шесть? Но в какой-то момент я вдруг перестал ходить в гости к другу. Почему? Что стало не так? Тоже поссорились, как эти двое из книжки? Вроде нет. Ничего такого не припоминаю. Да и с чего бы нам ссориться.
Или?..
Вспомнил.
Родители выбросили мой шнурок с бусинами.
Я вообще-то хорошо его прятал. У меня было много прекрасных тайников по всему дому, один другого надежнее. И когда после пятого класса меня на все лето отправили в Клайпеду к бабке, я тщательно спрятал все свои сокровища и поехал, не подозревая, что в мое отсутствие родители собираются делать ремонт.
Конечно, по ходу дела они нашли мои тайники. И выбросили все, что там было – увеличительные стекла и охотничьи патроны, цветную проволоку и безголового пластмассового индейца, латунный ключ от неизвестной двери, огрызок химического карандаша, красную рыболовную блесну и шнурок с двумя бусинами.
До сих пор не знаю, почему родители так поступили. Можно было сложить находки в коробку, дождаться меня, отдать. Ну, предположим, сказать: «Разбери свой хлам». И, к примеру, строго спросить, откуда взялись патроны. А они просто выбросили и забыли.
Никогда в жизни я так не плакал.
Потеря ли так на меня подействовала или просто в поезде продуло, но в тот же вечер я слег с воспалением легких. Проболел несколько месяцев, а когда наконец выздоровел, все, что было раньше, до болезни, даже поездка к морю и утрата сокровищ, стало казаться делом столь давним, что я уже и сам толком не понимал, что было, а что нет.
Я и сейчас, честно говоря, не понимаю.
Погасил очередную сигарету, выбросил в урну пустой картонный стаканчик. Встал. Пошел в сторону дома. Но не своего нынешнего, а родительского, на Лапу. И заметил это только когда зашел во двор. Даже вздрогнул от неожиданности.
Вот так…
Подумал: да уж, хорош я был, когда рассказывал дома про рощи, пустыри и ежевичные овраги. Когда тут у нас практически самый центр города, до Святых Ворот рукой подать. И до рынка. И до вокзала. Впрочем, частный сектор тоже поблизости имеется, хоть какая-то часть моих воспоминаний выглядит вподне реалистично.
Подумал: наверное, мне все-таки снилось. Бывают такие многосерийные сны с продолжением, обычное дело, они мне до сих пор время от времени снятся, а уж в детстве-то…
Подумал: мне бы сейчас хоть одним глазком взглянуть, как там дела.
И вдруг вспомнил: путь к дому друга всегда начинался за гаражом дяди Джона. Надо было пролезть в щель между ним и стеной, сесть на корточки, намотать шнурок на руку, соединить бусины, синюю и зеленую, а потом можно идти в любую сторону, все равно не заблудишься.
И гараж – вот он, на месте. Удивительно прочное оказалось строение. Давным-давно побежден ржавчиной трофейный опель, ради которого был поставлен гараж, умер сам дядя Джон, и его маленькая смуглая жена с непривычным уху тягучим именем Наира, а бессмысленная жестянка все еще стоит в дальнем конце двора, что хочешь, то и делай.
Что хочешь, то и делай, вот именно.
Что хочешь, то и…
Что хочешь?
Подумал: а ведь у меня теперь есть новый синий шнурок, лучше прежнего. И две бусины на нем.
Подумал: ну а вдруг.
Подумал: какой дурак, господи!
Едва протиснулся в щель между гаражом и стеной. Счастье, что не разъелся, а то застрял бы на радость соседской детворе.
Сел на теплую еще траву. Собирался закурить, но передумал. Вместо этого закатал рукав и аккуратно придвинул зеленую бусину к лиловой. Нарушил красивую минималистическую композицию, балбес.
Поднялся. Не раздумывая, перемахнул через невысокий забор. Прошел метров пятьдесят вниз по улице, свернул на узкую, десятками ног вытоптанную тропинку между домами. И еще немного прошел. Так вот же он, перекресток. Ну, точно! Налево – к Святым Воротам, направо – к вокзалу, прямо – к дому Нёхиси. По этой улице до пустыря, а там наискосок, и, считай, пришел. Как можно было забыть? Заблудиться в районе, где родился и вырос? Эй, что у тебя вместо головы?
Нет ответа.
Ну и ладно, подумаешь.
Когда пересекал пустырь, все-таки испугался. Вспомнил некстати, что не было здесь никакого пустыря, по крайней мере, с тех пор, как построили школу, сразу после войны, отец говорил. Да я сам ходил в эту школу первые три года, пока не перешел в английскую. А теперь нет никакой школы, только пустырь, высокая трава, величественные чертополохи и кривые низкорослые сливовые деревья. И земляника. Здесь всегда было полно земляники…
Где – «здесь»?
От страха начало подташнивать. Руки светились, как бумажные фонари, и тряслись хуже, чем с самого тяжкого похмелья. Нагнулся, сорвал несколько ягод, кинул в рот. Невольно улыбнулся: какие сладкие! Проглотил. И еще пригоршню. И еще.
И прибавил шагу.
Дорога спала и улыбалась во сне.
Улица Латако (Latako g.) …вымышленных существ
– Широко известна история о князе Гедиминасе, который однажды прикорнул на свежем воздухе, увидел судьбоносный сон про железного волка, поутру побежал к психоаналитику, получил совет не маяться дурью, а занять себя делом и, добросовестно следуя рекомендации лечащего жреца, построил наш город, – говорит Люси. – Альтернативная версия гласит, что на самом деле князь до сих пор продолжает спать, и мы ему снимся; с легкой руки некоторых моих знакомых, она уже тоже более-менее известна и продолжает угрожающе расползаться по информационному пространству. Однако при этом довольно редко вспоминают, где именно задремал Гедиминас. А дрых он непосредственно на месте погребения мифического князя Свинторога, или Швянтарагиса, Святого Рога, если тебе угодно. Это же черт знает что может присниться, когда спишь на кладбище! Так что Гедиминас, можно сказать, легко отделался… Тебе еще не скучно?
Хайди прекращает фотографировать возвышающуюся над городом башню Гедиминаса и мотает головой.
– Что ты, мне очень весело.
И это чистая правда.
Когда Хайди сказали, что самая настоящая университетская профессорша согласилась провести для нее экскурсию по городу, она обреченно поблагодарила и приготовилась пережить один из самых длинных и тоскливых дней своей жизни в обществе строгой сухопарой дамы с аккуратной стрижкой и необозримым запасом никому не интересных исторических фактов. Однако профессорша оказалась Хайдиной ровесницей. На встречу она явилась в оранжевой футболке с зеленым жирафом, и у Хайди сразу отлегло от сердца.
Экскурсия превзошла самые смелые ее ожидания. Правда, поначалу Хайди немного нервничала, потому что никак не могла разобрать, когда Люси шутит, а когда говорит серьезно. Потом поняла, что Люси и сама не всегда это знает, и расслабилась.
– Это самое кладбище, то есть место при впадении реки Вильни в Нерис называется долиной Швянтарагиса, – говорит, тем временем, Люси. – И спорю на что угодно, ты это ни за что не выговоришь!
– Не выговорю, – соглашается Хайди. – Даже пытаться не стану.
И чтобы хоть как-то компенсировать эту трагическую потерю, снова фотографирует башню.
– Кстати, регулярные сожжения мертвых литовских князей превосходно подействовали на окрестную флору и фауну. В долину Швянтарагиса стали залетать черные бабочки с полутораметровым размахом крыльев, а в Нерисе завелись говорящие сомы; возможно, они, как и борхесовская рыба-Стоглав, в прошлой жизни произнесли по сотне бранных слов, а может быть, напротив, были великими молчальниками и получили наконец шанс беспрепятственно выговориться. Никто толком не знает, на каком языке они говорили, однако профессор Альфонс Парчевский неоднократно доказывал в своих трудах, что это была так называемая вульгарная латынь[16].
Хайди совершенно точно знает, что у самой большой в мире бабочки размах крыльев чуть больше тридцати сантиметров. А в говорящих сомов, пожалуй, не поверила бы и в четыре года, когда верила вообще всему подряд. Но слушает как завороженная.
– А вот и костел Святой Анны, – говорит Люси. – Быстро же мы с тобой ходим!
Хайди фотографирует красивый костел из красного кирпича и внимательно слушает.
– Шестнадцатый век, поздняя готика. Я бы даже сказала – внезапно спохватившаяся. Имя спонсора проекта, как водится, осталось в веках: всем известно, что денег на строительство храма дал великий князь литовский Александр. А как звали архитектора, никто не потрудился записать на хорошем, нетленном пергаменте, вот и гадают теперь любопытные историки, кто нам эту конфетку слепил. Не то сам Nobilis Benedictus, то бишь Бенедикт Рейт, который, только не падай, возводил краковский Вавель, укреплял Пражский Град и строил там Владиславский зал; не то позабытый неблагодарными потомками Николас Энкингер из Данцига. Но бог с ними, главное, что построили вот такую, почти неприличную, на мой взгляд, красоту. Любой виленский таксист, провозя тебя мимо, непременно сообщит, что Наполеон, который, как известно, драпал через наши края из России, восхищался Святой Анной и публично изъявлял желание увезти ее с собой в Париж. Не знаю, не знаю. По идее, ему, бедняге, тогда совсем не до перевозки храмов было. Видимо, с горя Наполеон отдал нашу Аннушку в распоряжение своих кавалеристов, которые не просто засрали костел под потолок, но еще и деревянную утварь пожгли. Неплохо бы нам с тобой туда зайти и убедиться, что за двести лет за ними успели худо-бедно прибрать, но сегодня понедельник, так что мы пролетаем – закрыто. Если захочешь, зайдешь сама завтра или в любой другой день… А вон на том холме, говорят, чуть ли не со времен восстания 1831 года живет бессмертный заяц-людоед; в него мало кто верит, но холм виленчане на всякий случай обходят стороной. Хотя, казалось бы, такое хорошее место для прогулок. И ты на всякий случай обходи. Береженого, как говорится, бог бережет.
– Заяц не может быть людоедом! – возражает Хайди, растерянно озирая безлюдные склоны.
Но на всякий случай фотографирует холм.
– Уверена, мама говорила ему то же самое, – невозмутимо кивает Люси. – Однако этот упрямец поступил по-своему. И в каком-то смысле не прогадал.
– Я простой немецкий турист, – вздыхает Хайди. – Твои рассказы о местной фауне привели меня в смятение. Я хочу пива и на ручки. Но можно просто пива.
– Я простой чичероне, – смиренно говорит Люси. – Дай мне евро, и я тут же заткнусь. И побегу кормить своих бедных голодных детей. Всю сотню!
– Об этом и речи быть не может. Мне не жалко евро, но вдруг ты и правда замолчишь? Я не переживу.
– Значит, сотня моих детишек сегодня останется голодной, – благодушно соглашается Люси. – Оно и к лучшему, я совсем не уверена, что наспех выдуманных детей действительно следует кормить. В награду за разумную экономическую политику угощу тебя худшим пивом в городе. Не пугайся, на самом деле оно везде примерно одинаковое. Пошли!
И они сворачивают на узкую улицу, круто поднимающуюся вверх от реки.
– Ла-та-ко, – по слогам читает Хайди и фотографирует табличку с названием улицы.
– Ох, как же нам повезло! – восклицает Люси. – Посмотри наверх! Скорее!
Хайди послушно задирает голову и сперва машинально щелкает камерой, а уже потом, разинув рот, изумленно созерцает неопознанный порхающий в воздухе объект, прозрачный, сверкающий в солнечных лучах, подвижный, гибкий, стремительный.
– Свэллу, – шепотом говорит Люси. – Прозрачная птица свэллу, водится только в Лейне; считается, что больше никто никогда нигде их не видел. Но к нам они изредка залетают, видимо, их просто ветром заносит… Принято полагать, будто увидеть свэллу – редкостное везение. Ну, в общем, так оно и есть. Мне тридцать два года, я родилась в Вильнюсе, а свэллу видела всего пять раз. Это – шестой.
– Они что, совсем прозрачные? – Хайди тоже переходит на заговорщический шепот. – И… видно, что делается у них внутри, да?
– Возможно. Но точно никто не знает. Птицы свэллу никогда не подлетают к людям достаточно близко, чтобы мы могли полюбоваться на их внутренности.
И тут до Хайди наконец дошло, что она попалась, как маленькая. В синем июньском небе парит, трепещет и сверкает большой прозрачный пластиковый пакет. Тьфу ты.
– Ты меня знатно разыграла, – вздыхает она.
– Разве? – удивляется Люси.
– На самом деле мне даже жалко, что это пакет, а не птица, – печально говорит Хайди. – Прозрачная птица – это очень круто. Даже если она не людоед. И не говорит на вульгарной латыни.
– Не людоед, – подтверждает Люси. – И на латыни не говорит, будь спокойна.
– Пошли действительно пива выпьем, – Хайди прячет камеру в кофр. – Мне надо залить горе.
– А потом я отведу тебя к Барбакану, – кивает Люси. – Рядом с ним как раз есть дом, во дворе которого раньше жил василиск.
Вечером, когда они решили отметить окончание экскурсии бутылкой чилийского вина и двумя чашками щедро разбавленного сливками кофе, Хайди решилась спросить:
– Это же был просто пакет, да? Прозрачный пакет, унесенный ветром.
– Как Скарлетт О’Хара, – рассеянно согласилась Люси. И, подумав, добавила: – На самом деле я не знаю, что ты видела – птицу или пакет. Решать всяко тебе.
– Я простой немецкий турист, – сказала Хайди. – Наивный и невинный, как младенец. Я приехала сюда пить ваше литовское пиво, есть ваши кошмарные, уж прости мою прямоту, цепелины и покупать дурацкие янтарные бусы. Я ни черта не знаю о том, как тут у вас все устроено. Поэтому пусть будет прозрачная птица свэллу из Лейна. Мне так больше нравится.
Но про себя уныло подумала: «Конечно, самый обыкновенный пакет». И два стакана чилийского вина ничего не изменили.
Уснуть она, однако, не могла. Хотя десять часов почти непрерывной ходьбы в содружестве с выпитыми за день пивом, сидром и вином, должны были не просто ласково ее убаюкать, а натурально свалить с ног.
Но сон не шел. От выпитого ныла голова, от долгой ходьбы – ноги. Хайди немного помаялась и села разбирать фотографии. Хоть какое-то занятие.
Сорок с лишним изображений башни Гедиминаса она безжалостно отправила в корзину, оставила себе два, да и то скорее для порядка, назвать их удачными у нее бы язык не повернулся. Зато Святая Анна вышла на удивление неплохо, и холм просто отличный, хотя хваленый заяц-людоед так и не выскочил попозировать. Стена и табличка с названием улицы: «Ла-та-ко». Дурацкий снимок, но его следует оставить на память об одном из самых нелепых жизненных разочарований. А вот и наш волшебный летающий пакет свэллу, и уж его, красавца, я сейчас отправлю в корзину, – думала она. – И оттуда еще раз удалю, не поленюсь, чтобы уж навсегда… Ой. Что это?
Так и не завершив роковой щелчок мышью, Хайди уставилась на экран.
Я очень устала, – сказала она себе. – И слишком много выпила. И, кстати, почти ничего за весь день не съела. Это мне только казалось, что алкоголь не действует. Всем так поначалу кажется, а потом ловят по всему дому маленьких зеленых чертей, остановиться не могут.
Она встала. Пошла в ванную, плеснула холодной воды на разгоряченное чело. Подумав, плеснула еще – на макушку. Потом выпила несколько глотков прямо из-под крана, чего никогда не делала даже дома, где вода, по идее, чище, чем тут. Или нет?
Успокоилась. Взяла себя в руки. Вернулась к компьютеру. Села. Выпрямила спину. Сделала глубокий вдох. Долго, внимательно разглядывала изображение на экране: голубое небо, белые облака, большая прозрачная птица размером с доброго гуся, только почти плоская, как рыба камбала, унесенная ветром из своего родного Лейна, принесенная им в Хайдину жизнь с неведомой, но, несомненно, восхитительной какой-нибудь целью.
Улица Лейиклос (Liejyklos g.) Площадь Восьмидесяти Тоскующих Мостов
– …очень большая кухня, в два окна, одно на восток, другое на север, пестрые занавески, папа достает из духовки сливовый пирог, и он так убийственно пахнет, что перешибает даже мой насморк, и папа хитро так говорит: «Ну, Катенька у нас болеет, у нее, наверное, аппетита нет», – а я подскакиваю на тахте и ору, аж чашки в буфете звенят: «ЕСТЬ!» И, конечно, сразу получаю большой кусок, такой горячий, что первые несколько минут на него можно только смотреть и дуть, а потом – начинать осторожно гладить зажаристую корочку, и пальцем – я тебе клянусь, пальцем! – чувствовать упоительный вкус…
– Хорошее воспоминание, – улыбается Линда.
Катя кивает:
– Очень хорошее. Только, увы, не мое. А если мое, то не воспоминание. Не было у меня папы. То есть был, конечно, какой-нибудь биологический, но я с ним не знакома. Я вообще с бабушкой жила. Отлично, кстати, жила, грех жаловаться. Только кухня у нас была пятиметровая. И пироги мы покупали в кулинарии. Дита в жизни ничего не пекла, кроме картошки, да и ту по большим праздникам. Не любила готовить, и времени у нее на это не было.
– Дита? – переспрашивает Эрика. Просто так, из вежливости, чтобы поддержать совсем не интересный ей разговор.
– Дита, – подтверждает Катя. – Мою бабушку звали Афродита Генриховна. В отличие от сливового пирога, вкус которого я могла ощутить кончиками пальцев, это чистая правда.
* * *
– Ну слушай, а чего ты хочешь, она же художница, – говорит Линда, пока они с Эрикой идут к троллейбусной остановке. – Художники живут в своем выдуманном мире, спасаются в нем от неумения справиться с реальной жизнью и других психологических проблем. Кэт хотя бы отличает свои фантазии от правды и не пытается выдать одно за другое. Поэтому с ней вполне можно общаться.
– Замуж бы ей, – вздыхает Эрика. – И деток. А то уже папу какого-то себе придумала. Доброго папу, который печет пироги. И бабушку Афродиту…
– Бабушку она как раз не придумала, – улыбается Линда. – Я Афродиту Генриховну хорошо помню. Она работала в нашей детской поликлинике. Ее имя в списке участковых врачей поразило мое воображение. На всю жизнь запомнила. А потом случайно выяснилось, что Кэт – ее внучка. Смешно.
Эрика ее почти не слушает.
– Зато у меня голова больше не болит, – объявляет она. – Еще там, в баре прошла, а я только сейчас заметила. Ух как хорошо!
* * *
Чего это я вообще? – недоумевает Катя. – Нашла с кем откровенничать. Линда отличная девка, но простая, как валенок… ладно, ладно, допустим, как ugg, хороший, добротный, современный лакшери-валенок из экологически чистой овчины, пусть будет так. А подружка ее… ой не-е-е-ет, это уже даже не валенок, а тапок. Лакированный, на каблучке-рюмочке, с розовым помпоном. Непонятно, зачем Линда ее сюда притащила? И тут ты такая задвигаешь бедным теточкам телегу про выкрутасы своей памяти – с какой стати? Совсем спятила, мать.
Конечно, спятила, – лениво соглашается с собой Катя. – Сложно не спятить человеку, которому не с кем поговорить про самое важное. Ну и про не самое важное, будем честны, тоже обычно не с кем поговорить.
Одиночество, – думает Катя, – конечно, отличная штука. Никто не мешает, не дергает, не отвлекает, не требует внимания, не навязывает свои предпочтения и свой жизненный ритм. Но как же иногда не хватает института платных собеседников! Обученных внимательно слушать. Испепелять проникновенным взором и понимающе кивать. Молча! Очень важно, чтобы кивали молча. Изредка могут вставлять: «Вот и у меня так», – и больше, пожалуйста, никаких комментариев. Поэтому психотерапевты и попы точно не подойдут.
В общем, неудивительно, что я так оплошала. Ладно. С кем не бывает.
Катя подходит к барной стойке, спрашивает:
– Насколько я сегодня насидела?
– Как всегда, на один поцелуй, – смеется Счесни.
Катя укоризненно качает головой.
– Ты так разоришься, дорогой друг. И куда я, скажи на милость, стану ходить по вечерам?
– Ай, ладно, тоже мне великое разорение, чашка кофе, да стакан сидра, – отмахивается Счесни и подставляет ей щеку для ритуального поцелуя.
Ему правда больше ничего не надо. То есть вообще ничего, даже долгих разговоров по душам. И ни одной картинки на память не выпросил, хотя мог бы потребовать любую, Катя с радостью отдала бы. И сама предлагала – нет, не берет. Принял в подарок только чашку, разрисованную Катиными фирменными разноцветными домиками, поставил на полку и сразу о ней забыл, нужны ему те домики, как зайцу лимузин. Ему просто нравится, что Катя сидит по вечерам в маленьком баре, где Счесни – и владелец, и директор, и бухгалтер, и бармен, и бариста, и грузчик, и уборщик – все в одном лице. Не то чтобы он не мог позволить себе еще кого-нибудь нанять, дела в последнее время идут неплохо, просто ему нравится справляться в одиночку. Счесни – тот еще чудак.
Он не влюблен ни в Катю, ни в ее картинки; Счесни не особо интересуется девушками и не разбирается в картинках, ему все равно. Зато он твердо уверен, что Катя – хорошая примета. Пока она заходит по вечерам, часами цедит остывший кофе, черкает что-то в большом блокноте для эскизов, встречается с подружками и заказчиками или утыкается в планшет, Счесни спокоен за свое заведение: никуда не денется, будет процветать. Бывают люди, упорядочивающие мир одним своим присутствием, такие приносят удачу всем, кому хватит ума оказаться рядом. Но не себе, нет. Только не себе.
Впрочем, кто их знает, – думает Счесни, глядя вслед удаляющейся Кате. – Может, и на себя хватает. Иногда. По вторникам и четвергам.
Завтра как раз четверг.
* * *
– …всегда ходила по дому босиком. И не только по дому, в сад выходила босая в любую погоду, и в соседнюю лавку могла побежать, не обувшись, но это, конечно, только когда тепло, чтобы соседи не особо глазели. Они, впрочем, все равно глазели, мама была певицей, довольно известной, кстати, не супер-звездой, но… а знаешь, пожалуй, что-то вроде того. Несколько раз в год уезжала на гастроли и всегда возвращалась с подарками: мне привозила всякие паззлы и головоломки, я их обожала, а папе – книжки на разных языках и всякие редкие пряности, больше всего на свете он любил читать и готовить еду; сам, между прочим, почти ничего не ел, сидел на какой-то сложной диете из несоленых каш, у него с детства больной желудок. Наверное, поэтому вкус папиной еды можно было ощутить пальцами, для себя же старался, иначе вообще никакого удовольствия, а так – да.
Все это Катя рассказывает кошке. Шепчет в мягкое серое ухо; кошка не возражает, в отличие от большинства своих сородичей она очень любит внимание, целыми днями готова обниматься, ластиться и слушать все, что ей скажут, молча, жмурясь от удовольствия, – идеальная собеседница. Ну, почти. Сказать: «Вот и у меня так», – кошка не может, хоть тресни.
Ладно, подумаешь.
– Школа была из разноцветных кирпичей, – говорит Катя. – Такая высокая, устремленная к небу, типичная неоготика; не Нойшванштайн, конечно, но тоже ничего. Если бы кирпичи были обычные, выглядела бы, наверное, как замок или даже собор. А так… ну, тоже вполне себе замок. Только такого, знаешь, придурковатого короля. В хорошем смысле придурковатого. Короля-художника, да еще впавшего в детство. Ходить в такую школу было одно удовольствие, тем более, через лес. Ну, то есть на самом деле через старый городской парк, но в детстве я считала его лесом и ужасно гордилась, что мне разрешают ходить в школу одной. Уж насколько не любила рано вставать, но стоило вспомнить, какая дорога мне предстоит, подскакивала как миленькая. А когда простужалась, и меня оставляли дома, принималась реветь: «А-а-а-а-а-а! Хочу в школу!» И правда хотела. Думала, в такой замечательной школе обязательно должны учить колдовству, а все эти наши прописи и таблицы умножения – только для виду. Очень боялась, что самое интересное они выучат без меня.
Кошка спит, да и Кате давно пора. Катя зевает, зачем-то прикрыв рот рукой, осторожно, чтобы не разбудить, целует кошку в теплую макушку. Шепчет:
– Я ничего не выдумала. Просто помню. Хоть и знаю, что этого не было. Или было, но не со мной. У меня была совсем другая жизнь. Тоже хорошая, но другая.
– По субботам, – бормочет она сквозь сон, – мы с Дитой ходили в кафе-мороженое. Вот это правда было. Но помню я эти наши походы почему-то гораздо хуже, чем папиного серого попугая и мамин темно-зеленый домашний джемпер, которых совершенно точно не было, а поди ж ты, стоят перед глазами, кажется, руку протяни, прикоснешься. Но нет, не прикоснусь.
* * *
– Тебе правда нравится, как она рисует? – спрашивает Ник. – Вот этот сладкий леденечный наивчик, неубедительная имитация как бы детской руки…
Агне неопределенно пожимает плечами. Ей не хочется ни злословить, ни признаваться, что на нее действует бесхитростное обаяние Катиных картинок.
– Какая разница, нравится мне или нет, – наконец говорит она. – Факт, что флаеры с ее картинками приводят в несколько раз больше клиентов, чем любые другие. Неоднократно проверено. Лично мне от художника больше ничего не надо. А тебе?
* * *
Катя рисует.
Лиловый дом с синей черепичной крышей и ярко-оранжевой дверью рисует она. Не на заказ, не для продажи, даже не в подарок, а просто так, для себя. У Кати с собой договор: если удается вовремя справиться с намеченной на день порцией обязательной работы, можно нарисовать что-нибудь ради собственного удовольствия. Когда работы нет, тем более можно. И в воскресенье можно, по воскресеньям у Кати всегда выходной, даже когда полный завал. Когда работаешь в десяти местах одновременно, а на самом деле толком нигде, хотя бы один выходной в неделю обязателен, иначе нельзя.
Лиловый дом Катя рисует в блокноте, потому что внезапно закончились белые кружки, которые она очень любит расписывать. А миниатюрные, десять на пятнадцать сантиметров, холсты закончились еще на прошлой неделе, просто до сих пор не было времени зайти в лавку и купить еще. Ай ладно, ничего, лучше рисовать фломастерами в блокноте, чем не рисовать вообще.
– В лиловом доме жила тетя Вероника, – говорит Катя кошке, которая по заведенному у них обычаю сидит рядом и внимательно наблюдает за работой. – Мамина двоюродная сестра. Она была Владычицей Фонарей. Ну, то есть это папа так ее называл: Владычица Фонарей. Потому что тетя Вероника работала в городском совете, как раз в том департаменте, который занимался освещением улиц и парков. Папа ее немножко дразнил, но она не обижалась. На него вообще совершенно невозможно обижаться, он такой… Эх. Даже жалко, что на самом деле его никогда не было. Такие замечательные люди все-таки должны быть на самом деле, а не персонажами ложных воспоминаний. Но ладно, даже так неплохо. Было бы очень обидно сходить с ума, вспоминая каких-нибудь скучных злых дураков.
Кошка внимательно слушает Катю. Ей все равно, что та говорит. Кошке нравится звучание Катиного голоса. И само Катино присутствие. Рядом с Катей кошке хорошо, для нее только это и важно.
Рядом с Катей на самом деле всем хорошо, хотят они этого или нет.
* * *
Закончив рисунок, Катя пришпиливает его кнопкой над кухонным столом, рядом с полудюжиной других картинок, изображающих разноцветные домики и высокие деревья. Домики и деревья Катя любит рисовать больше всего на свете. Пока она рисует, фальшивые воспоминания кажутся просто фантазией. Если бы они всегда казались просто фантазией, как было бы легко! Как есть, тоже на самом деле неплохо. Но иногда слишком больно от всех этих дурацких несовпадений. Немножечко чересчур.
Когда Кате надоедают развешенные на стене картинки, она снимает их и прячет в коробку из-под английских ботинок, лучшего приобретения ее жизни. Ботинки прекрасны, и сносу им нет уже третий год. А коробка из-под них так велика, что в ней отлично разместился весь Катин архив, и еще много места осталось. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что домики на бумаге она все-таки рисует довольно редко. Обычно – на чашках и на маленьких, размером с почтовую открытку, загрунтованных холстах. Их потом можно дарить знакомым на дни рождения и просто так, при случае продавать на ярмарках, а из осевших в хозяйстве строить на полках и подоконниках условные макеты несуществующего сказочного городка. Ради этой утешительной игры на нескольких чашках пришлось нарисовать трамваи, потому что без них общая картина получалась – ну не то чтобы сиротливая, просто неправдоподобная. Катя отлично помнит, как они с одноклассниками тайком от взрослых ездили после уроков на трамвае в центр, за ореховым мороженым, которое продавалось только в кондитерской на площади Восьмидесяти Тоскующих Мостов. А значит, трамваи обязательно должны тут быть.
– Пойду-ка я, пожалуй, пройдусь, – говорит Катя кошке. – А то что-то все мне сегодня не так. Полнолуние, что ли? Заодно куплю курицу. Сколько можно одними консервами тебя кормить.
Кошка, отлично распознающая не столько слова, сколько общую интонацию, всегда предшествующую Катиному уходу, вспрыгивает на подоконник и сворачивается в клубок, а Катя надевает свои прекрасные английские ботинки, поворачивает ключ в дверном замке, вынимает его, толкает тяжелую дверь, потом аккуратно закрывает ее за собой, вставляет ключ и снова его поворачивает. Папа в таких случаях любил показывать фокус: как будто кладет ключ в рот и глотает. Катя долго верила, что он на самом деле так умеет, и очень удивлялась, что ключ потом неизменно обнаруживался в кармане. А на самом деле, конечно, обычная ловкость рук…
Эй, – строго говорит себе Катя. – Не увлекайся. Окстись. Какой, к лешему, папа. Смотри, сама себе не поверь.
Но сегодня это почему-то особенно трудно: не верить дурацким фальшивым воспоминаниям. Обычно они вполне ничего, даже, можно сказать, развлекают. А сегодня все как-то очень близко и очень больно, как будто островерхие крыши разноцветных домиков забрались под кожу и колются теперь изнутри. Вот же черт.
Ничего, – думает Катя, – сегодня в городе ветер. Такой сильный ветер! Сейчас пройдусь немножко, он все выдует из головы. Папа в таких случаях говорил… Нет, стоп. Никакой он не папа. Ничего он не говорил.
* * *
Ветер сегодня и правда так силен, что вокруг кофеен летают пустые картонные стаканы и яркие разноцветные салфетки, девушки, смеясь, придерживают готовые взметнуться вверх юбки, а их кавалеры безуспешно отбиваются от взбесившихся шарфов. В такой ветреный день очень легко выбрать маршрут прогулки: идти так, чтобы ветер все время дул в спину, нетерпеливо обнимал за плечи, подгонял: давай же, поторопись. Как будто и правда есть куда торопиться, как будто Катю, страшно подумать, где-нибудь ждут.
Впрочем, ее и правда ждут как минимум в одном месте. Счесни наверняка уже загадал желание: если Катя сегодня придет, оно сбудется, а если нет, ничего не попишешь, придется потерпеть до завтра и снова его загадать. Счесни упрямый, рано или поздно дождется, добьется своего, Катя придет, потому что – ну куда от него денешься? Бар, где можно получить бутылку сидра и чашку американо за один-единственный сестринский поцелуй, – великая драгоценность, такими не разбрасываются, и не потому, что Катя настолько экономна, просто приходить к Счесни и видеть его приветливую улыбку – почти все равно, что возвращаться домой. Почти возвращаться, почти домой, чего ж мне еще.
Чего ж мне еще, – думает Катя. И насмешливо отвечает: – Да почти ничего. Только толкнуть калитку, войти в наш сад, подняться на крыльцо, предусмотрительно переступив через скрипучую, вторую снизу ступеньку, неслышно скользнуть в приоткрытую дверь, прокрасться по темному коридору в кухню и уже на пороге рявкнуть во весь голос: «Сюрприз, сюрприз!» – и чтобы мама, хохоча, картинно хваталась за сердце, папа насмешливо спрашивал: «Ты не обидишься, если я брякнусь в обморок несколько позже? У меня гуляш на плите», – а серый попугай орал с перепугу: «Иррационализм! Конвергенция! Теодицея! Апостериори!» – внося таким образом неоценимый вклад в умножение счастливого домашнего хаоса и его сокрушительное торжество.
Почти ничего, – думает Катя, – Только обнять их всех, а наобнимавшись вволю, накинуть пальто, потому что к вечеру похолодало, сунуть под мышку увесистый пухлый пакет и выйти из дома на улицу, где уже собрались почти все соседи, потому что такими погожими весенними вечерами у нас принято бродить по городу и развешивать на деревьях рыб, деревянных, бумажных, глиняных и картонных, пластиковых и стеклянных, разных, каких угодно. Мы их всю зиму рисовали, вырезали, клеили и лепили, привозили из заграничных поездок, покупали на ярмарках, рисовали в воображении, а потом приносили из сновидений – специально ради этих веселых апрельских вечеров, когда мы по старой, неизвестно как сложившейся, но всеми любимой традиции выйдем украшать только-только начавший зеленеть город. Ближе к маю рыб станет так много, будто мы живем на морском дне: куда ни глянь, всюду рыбы, висят на деревьях, дрожат на весеннем ветру, словно и правда куда-то плывут. Очень глупо и очень, очень красиво. Вот чего мне действительно не хватает, больше всего на свете: выйти из дома и увидеть на старой липе дурацкую пеструю рыбу из папье-маше. И тогда вполне можно было бы снова жить дальше, как будто ничего не случилось. Впрочем, на самом деле действительно ничего не случилось. И жить очень даже можно: я же как-то живу.
– Мне бы, – думает Катя, – поскорей окончательно спятить и поверить бесповоротно, без тени сомнения этим нелепым сладким воспоминаниям о двухэтажном оранжевом доме в саду на окраине города, всего в сотне метров от парка, больше похожего на сказочный дикий лес, в трех кварталах от трамвайной остановки, в восьми километрах от центра, где ореховое мороженое на площади Восьмидесяти Тоскующих Мостов, лучший в городе сидр на углу Лисьих Лап и Вчерашней, кинотеатр страшных фильмов в подвале Кровавой Бет, специально ради удовольствия зрителей наряжающейся сущим чудовищем, но всегда готовой пропустить школьников без билетов, если есть свободные места. И еще столько всего – никакой памяти не хватит, чтобы вместить удивительные подробности, но моей почему-то хватило, бывает и так. Можно сколько угодно жаловаться, как тяжело жить с этими фальшивыми воспоминаниями, неизвестно откуда возникающими в бедной моей голове; правда, однако, в том, что жить тяжело не с ними, а с пониманием, что ничего подобного никогда не было и не будет – со мной и вообще ни с кем. Тяжело рисовать на глупых круглобоких чашках дома своих одноклассников, родных, друзей и соседей, тяжело потом пить из них вкусный зеленый чай и горький, как правда кофе, отдавая себе отчет, что все эти разноцветные двери, окна и крыши не означают ровным счетом ничего, кроме полета фантазии, будем честны, не то чтобы шибко высокого, но уж какой есть. Такая тоска!
Прости, дружище Счесни, – думает Катя. – Твое безучастное гостеприимство – это прекрасно, именно то, что надо, но только не сегодня. Сегодня мне, чего доброго, покажется, что этого слишком мало, и тогда я совсем перестану к тебе заходить. Обоим же будет хуже. Поэтому придется тебе подождать до завтра. Сегодня я не приду.
* * *
– Вот в этом сером доме[17] жил Бродский, когда приезжал в Вильнюс, – говорит Люси. – Здесь даже табличка соответствующая имеется. Как – где? Головы поднимите!
Ее экскурсанты синхронно задирают головы. Они вообще все так делают – одновременно, не сговариваясь, такая забавная и трогательная парочка, тот редкий случай, когда влюбленные, невзирая на разницу в росте и телосложении, похожи на близнецов. Люси они очень нравятся, и это, с одной стороны, хорошо, потому что работа должна приносить удовольствие, а с другой… ну, скажем так, тоже хорошо, но чревато некоторыми осложнениями. Люси хорошо себя знает и почти уверена, что ее вот-вот занесет. Да так, что мало никому не покажется. Держите меня семеро, эй!
Впрочем, пусть заносит. Экскурсия почти закончена, и ребята вполне заслужили суперприз Люсиных симпатий: хорошую порцию вдохновенного гона напоследок.
– Посмотрите сюда, – говорит Люси, останавливаясь на углу Лейиклос и Тоторю. Перст ее авторитетно указывает на скучнейшую в мире автомобильную стоянку перед Министерством Обороны. – Ряд малоизвестных, но чрезвычайно живучих легенд о тайной изнанке нашего города при всех разночтениях сходится в том, что на теневой, скрытой от наших глаз, но такой же уютной и обжитой стороне Вильнюса в этом месте находится одна из красивейших площадей, получившая название Восьмидесяти Тоскующих Мостов; откуда оно взялось, это отдельная история, скорее героическая, чем лирическая… Что? Никогда не слышали этих легенд? Вообще не понимаете, о чем речь? Да, это большое упущение. Ладно. Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе[18], и почему бы нам не последовать его примеру. Здесь рядом есть одно симпатичное местечко, в такую погоду надо пить горячий яблочный сок с кальвадосом и слушать завиральные байки, отличная профилактика простуды, верьте моему опыту, я вас не подведу.
* * *
«Вот в этом сером доме жил Бродский», – говорит кудрявая женщина, похожая на хорошенького мальчика, если бы не голос, высокий, звонкий, отлично поставленный голос опытного лектора, можно было бы перепутать, а так ясно, что женщина, тонкая, длинноногая, в драных джинсах и мужской защитной куртке; впрочем, ей даже идет.
Но Катю заинтересовала не женщина, и не рассказ о Бродском, к поэзии она была вполне равнодушна. Кате понравилась внимавшая женщине-мальчику пара, сперва показалось, подростков, но на самом деле, взрослых людей, явно за тридцать, а может быть, даже больше; неважно. Просто очень уж симпатичные, оба рыжие, он – как медь, она – как цветочный мед, за руки не держатся, друг на друга не смотрят, внимательно слушают свою кудрявую предводительницу, а все равно невооруженным глазом видно, что они давным-давно вместе и до сих пор так влюблены, что наверняка, можно спорить, целуются по дороге домой во всех подходящих для этого подворотнях; впрочем, в неподходящих тоже целуются, чего уж там.
Как мы, – думает Катя. И у нее почти останавливается сердце, потому что она помнит все: маму, папу, ореховое мороженое, свою разноцветную школу, серого попугая, бумажных рыб на деревьях, каждый дом в окрестных кварталах, названия улиц, номера трамвайных маршрутов, книжные корешки в отцовской библиотеке, имена четырех с половиной дюжин речных камней, лет сто назад в шутку провозглашенных почетными гражданами города, выставленных на Ратушной площади ради какого-то праздника, да так и оставшихся там навсегда, и еще великое множество важных, забавных, нелепых, щемящих деталей, но только не имя и не лицо того, с кем обнимались на задней площадке трамвая, синхронно, как эти двое, мотали головами в ответ на вопрос, далеко ли еще до конечной, и хором, не сговариваясь, отвечали: «Примерно в сорок пять тысяч раз ближе, чем до луны в перигее». И может быть, так даже лучше – не помнить. Еще бы научиться не пытаться вспоминать.
Какое-то время Катя зачарованно бредет за этой троицей, тем более, что ветер по-прежнему дует ей в спину, целиком одобряя выбранное направление. Ладно. Пусть будет так.
* * *
«В этом месте находится одна из красивейших площадей, получившая название Восьмидесяти Тоскующих Мостов», – говорит кудрявая женщина. И Катя, поневоле, вполуха прислушивавшаяся к ее словам, замирает, не веря своим ушам, а потом, наверное, теряет сознание, впрочем сохранив при этом способность стоять на ногах и даже куда-то идти. По крайней мере, очнувшись, она обнаруживает себя не лежащей на влажном от утреннего дождя асфальте, а напротив, бодро, почти вприпрыжку шагающей по улице Лейиклос, наверх, в сторону Вильняус, туда, откуда недавно пришла. Но ветер опять милосердно дует в спину, спасибо ему за это, он большой молодец.
* * *
Яблочный сок с кальвадосом обманчиво похож на теплый домашний компот, слегка сдобренный корицей; осушив первый стакан, тут же заказываешь второй, и только тогда, пригубив новую порцию, вдруг обнаруживаешь, что ноги твои готовы плясать предпочтительно на потолке, голова исполнена диких, зато прекрасных, все как одна, идей, язык мелет что ни попадя, а так называемый разум вместо того, чтобы вмешаться и призвать распоясавшийся непарный вырост дна ротовой полости к порядку, восхищенно его подстрекает: «Еще, еще!»
Люси прекрасно знает, как действует этот негодяйский напиток. Поэтому и потащила симпатичных рыжих клиентов, которые, готова спорить, могли бы стать ее добрыми друзьями, живи они где-нибудь по соседству, не в какое-нибудь кафе, а сюда, поближе к гарантированному источнику вдохновения. Так им и надо, они заслужили, можно сказать, сами напросились, приговор обжалованию не подлежит.
– Согласно малоизвестным, но, к счастью, чрезвычайно живучим легендам, Вильнюс – пограничный город, – рассказывает Люси, и рыжая парочка слушает, забыв о своих стаканах, нарезанном сыре и яблочном пироге. – Речь, конечно, не о близости к белорусской границе, которая, впрочем, действительно совсем недалеко. А о границе между мирами, реальностями, вероятностями, называйте, как хотите, все равно слова – это просто слова, сути они не передают, только указывают направление воображению в тех редких случаях, когда оно есть.
– «Пограничный», – говорит Люси, – в данном случае означает, что у города есть близнец, тайная тень, близкая, совершенно недостижимая и в то же время явственно присутствующая – всюду, и прямо здесь тоже, прямо сейчас и всегда.
– Наша с вами реальность, – понизив голос, говорит Люси, и слушатели, не сговариваясь, подвигаются к ней поближе, чтобы ничего не упустить, – слишком тяжела и тверда, совсем не пластична, зато постоянна и очень устойчива. О нас можно твердо сказать, что мы есть. А вот со вторым городом, с нашей тайной, невидимой тенью, дела обстоят не так просто – согласно малоизвестным живучим легендам, не забывайте, я просто цитирую, какой с меня спрос. Так вот, согласно этим легендам, жизнь в той чудесной реальности весела и легка, зато ненадежна. Все в любой момент может перемениться до полной неузнаваемости, рассыпаться, развалиться, а то и просто исчезнуть: тень это только тень, глупо было бы ждать гарантий, что – она навсегда. Но без тени нашему городу не обойтись, тогда в нем не останется ни жизни, ни смысла, сами небось знаете, что за существа не отбрасывают тень. То-то и оно.
* * *
Катя медленно, маленькими глотками пьет горячий яблочный сок с корицей и, кажется, с кальвадосом; на вкус он, впрочем, совершенно неощутим. Но это, конечно, совершенно неважно, главное – слушать, что говорит эта странная женщина-мальчик, вот так запросто, среди бела дня помянувшая площадь Восьмидесяти Тоскующих Мостов, вряд ли это просто совпадение, такое захочешь – не выдумаешь, как ни фантазируй, надо хорошо знать историю города, чтобы понять, откуда взялось такое название. Впрочем, судя по тому, что она рассказывает этим симпатичным рыжим влюбленным, кое-что ей явно известно.
Кое-что из того, что так и не вспомнила я, – удивленно думает Катя. Ей очень жалко, что в этом баре не курят; впрочем, Катя сама не курит, даже толком не начинала, когда-то попробовала, не понравилось, но вот прямо сейчас, честно говоря, совсем не помешало бы закурить, просто чтобы немного отвлечься от паники, подступающей к горлу, как болотная жижа, лучше курить, чем судорожно подсчитывать, сколько вдохов осталось сделать прежде, чем…
Прежде чем.
Но о том, чтобы встать, подойти к барной стойке, попросить счет, расплатиться, выйти на улицу, а оттуда бегом домой, и речи быть не может. Нет уж, я хочу все услышать, – упрямо думает Катя. – Я сегодня ужасно храбрая, пусть она говорит.
* * *
– Разумеется, – говорит Люси, – жители зыбкой, тайной, изнаночной стороны, прекрасно знают о нас и часто приходят в гости. Им это довольно легко, правда, не всем подряд, только некоторым, но сути это не меняет: мы же не сомневаемся в существовании музыки, даже если сами не умеем играть ни на одном из инструментов. В общем, неважно, главное вот что: пока мы тут в них не верим и никогда не поверим в здравом уме, они о нас просто знают, и все. Ходят в гости, возвращаются домой с сувенирами, пишут книги о нашей удивительной с их точки зрения жизни, поют наши песни, иногда подбирают бездомных котят: кошки, в отличие от людей, вполне способны пересечь границу между реальностями, по крайней мере сидя за пазухой; впрочем, не удивлюсь, если некоторые из них бегают туда-сюда без посторонней помощи.
На этом месте ее слушатели согласно кивают. Видимо, опыт близкого общения с кошками у них есть.
– Но самое главное, конечно, не это, – говорит Люси. – Прогулки, сувениры, удивительные истории – все это хорошо, но совершенно необязательно. Просто приятное излишество. А важно вот что: однажды наши тайные братья и сестры, счастливые зыбкие двойники, научились за нас держаться, и с тех пор их дела пошли на лад. И наши, собственно, тоже, потому что мы зависим от их благополучия; впрочем, речь сейчас не о нас. И вот теперь мы с вами можем вернуться на площадь Восьмидесяти Тоскующих Мостов, из-за которой я начала все это рассказывать. Так вот, площадь названа в честь героев, ежедневно жертвующих собой. Нет, не жизнью. Но в каком-то смысле больше, чем жизнью, это как посмотреть.
Так называемые «мосты» – это люди, – говорит Люси. – Их всегда восемьдесят; каким-то образом выяснилось, что это оптимальное число. У них такая работа: жить тут, среди нас, в полной уверенности, что это и есть их место, почти ничего не помнить о доме и люто о нем тосковать. Оказалось, что человеческое отчаяние, замешанное на любви и помноженное на полное отсутствие надежды, самый лучший в мире скрепляющий материал. Пока восемьдесят изгнанников тоскуют по несуществующему, как им кажется, дому, этот дом будет цел.
– Но это ужасно, – хором говорят Люсины слушатели.
* * *
«Ужасно», – насмешливо повторяет про себя Катя. И с усталой горечью, несвойственной ей даже в худшие времена, думает: – Дурацкое слово. Все на свете слова дурацкие. Смысла в них совсем нет.
* * *
Люси пожимает плечами:
– Да, можно сказать, ужасно. Отчасти так и есть. Но тут следует принять во внимание, что на эту работу берут только добровольцев, да и среди тех проводят строжайший отбор. И пожизненных контрактов ни с кем не подписывают, максимум – на сорок лет, обычно – меньше. К тому же не забывайте самое главное.
На этом месте она умолкает. Ждет нетерпеливых вопросов: «Что, что у нас самое главное?» А дождавшись, улыбается так беззаботно, что даже у сидящей к ней спиной за соседним столом Кати внезапно становится легко на душе:
– Я сейчас пересказываю вам одну из великого множества городских легенд, малоизвестных, зато чертовски живучих. Лично я слышала их только от деда и еще от одного близкого друга. Поэтому охотно выбалтываю при всяком удобном случае: такие прекрасные байки не должны оставаться в забвении. Их бы, если по уму, записать и издать, или хотя бы выложить в интернете, но для этого я слишком ленива. Болтать за выпивкой куда как приятней, вот я и болтаю. Делаю что могу… Вы как хотите, а я – курить.
Люси накидывает на плечи свою защитную куртку и устремляется к двери, ведущей на улицу, а проходя мимо Кати словно бы случайно спотыкается, почти падает, опирается на нее, чтобы восстановить равновесие, крепко сжимает плечо, шепчет:
– Ничего, миленький, осталось всего шесть лет, последние годы самые трудные, все так говорят, но как-то справляются, и ты тоже справишься, ты молодец. Папа, кстати, в полном порядке, ему даже жареное есть разрешили, не каждый день, конечно, но все равно огромный прогресс. И вот эту новость ты не забудешь, все остальное да, но про здоровье отца вполне можешь помнить, делу это совершенно не повредит.
* * *
Когда Катя, расплатившись, выходит на улицу, кудрявая женщина в солдатской куртке, прикуривает вторую сигарету от горящего фильтра первой, и руки ее почему-то дрожат. Надо же, – думает Катя, – оказывается, экскурсоводы тоже волнуются, по крайней мере, в паузах между выступлениями; я-то думала, они быстро привыкают.
* * *
– Осталось всего шесть лет, – говорит Али. – Кажется, это ужасно долго, но если вспомнить, что прошло уже четырнадцать, шесть – это совсем не страшно, дождемся. Обязательно дождемся, ты слышишь, Райка? Мы с тобой еще молодые, Катька – тем более. Вернется – отлично заживем.
* * *
– Что-то я сегодня разошлась, – удивленно говорит Катя. – Уже четвертая картинка, ты меня слышишь, кот? Четвертая, гордись! Ты живешь с настоящим трудоголиком. Знаешь, что такое настоящий трудоголик? Это такой специальный полезный придурковатый человек, который идет якобы гулять, развеивать по ветру свои печальные мысли, а вместо этого втайне от самого себя кругами, как акула к жертве, подбирается к художественной лавке, покупает там полдюжины холстов и потом, высунув язык, красит их всю ночь до рассвета, при том что в рабочих проектах конь не валялся, а значит, придется нам с тобой завтра встать пораньше, бедный ты мой зверь. А уж я какой бедный…
Кошка внимательно слушает Катю, вполне бескорыстно наслаждаясь звуком ее голоса, но и невольно прикидывая, следует ли из этого длинного монолога, что сейчас ей выдадут дополнительную порцию курятины, или придется идти спать натощак.
– Папа в таких случаях говорил: «Что ж ты без пирога в кровать лезешь, во сне тебя небось никто не покормит», – вспоминает Катя. – Все-таки очень жаль, что на самом деле его никогда не было, а еще жальче, что нет прямо сейчас, и никто, ни одна живая душа не выдаст нам с тобой по пирожку. Сами, все сами! Ладно, у тебя есть курица, а у меня… Да, негусто, – вздыхает она, открыв почти пустой холодильник. – Но вполне можно вообразить, будто мы – англичане. И состряпать бутерброд – нет, пардон, все-таки сэндвич! – с огурцом. Благо остался отличный огрызок. Заварить, что ли, по такому случаю чай? Пять утра, самое время устроить файв-о-клок.
Улица Лигонинес (Ligoninės g.) Все желания гостей
Считается, будто театр начинается с вешалки; на самом деле он, конечно же, начинается с улицы, на которой стоит. Процесс подготовки зрительского восприятия запускается еще по дороге на спектакль, и тут ничего не поделаешь. Лучшие из режиссеров это понимают и учитывают, остальным все равно не объяснишь.
Всякая гостиница тоже начинается с улицы. И, в отличие от театра, ею же заканчивается. Красивая, тихая улица за окном сгладит если не все, то многие недостатки сервиса, шумный же проспект или индустриальный пейзаж способны испортить самое благоприятное впечатление – не только от гостиницы, но и от города. И какой тогда вообще смысл путешествовать.
Поэтому к выбору гостиницы всегда относилась очень тщательно. Почти не интересуясь интерьером номеров и меню завтрака, придирчиво изучала локацию. Предпочитала получать рекомендации местных жителей, или более опытных путешественников, а в отсутствие таковых не ленилась искать фотографии и отзывы в интернете.
На этот раз оказалось достаточно спросить Расу: что это за улица такая у вас – Лигонинес? По карте, вроде бы, в центре. Там отыскался на удивление недорогой отельчик на дюжину, что ли, номеров. Берут тридцать пять евро в сутки, кормить обещают как перед казнью, трогательно сообщают на сайте, что исполняют все желания гостей – о чем еще мечтать?
Правильно, о тишине. И умиротворяющем пейзаже.
Раса, конечно, еще сто пятьдесят раз повторила, что подруга должна остановиться у нее, но информацию предоставила: тишайшая улица с односторонним движением, до Ратушной площади минут семь неспешным шагом, до Кафедральной – максимум четверть часа. Ни пивных, ни ночных клубов. И даже полдюжины фотографий послала, ее старшая внучка как раз получила в подарок телефон с камерой и теперь непрерывно щелкала все, что под руку подвернется, в том числе, улицы Старого города. Вот и пригодилось.
На фото улица Лигонинес выглядела практически идеально – узкая, застроенная невысокими старыми домами, достаточно ветхими, чтобы не казаться глазированными пряниками, и черепица на крышах, похоже, потемнела от времени еще в начале времен. Тавтология, да. Зато красивая.
Решила: надо брать. Зарезервировала номер и, не отыскав на сайте опцию «раннее заселение», написала им письмо. Спросила, можно ли устроить так, чтобы в номер пустили не после полудня, а с утра пораньше? И сколько придется доплатить?
Думала – вот было бы славно. Потому что поезд из Москвы прибывает в Вильнюс в восемь утра. Теоретически, можно сразу же отправиться к Расе, которая с радостью накормит завтраком и пустит в горячий душ, но после почти тридцати лет разлуки хотелось бы предстать перед подругой юности в блеске и всеоружии. А не жалобной морской свинкой со слипшейся шерстью и заплывшими от раннего подъема глазками.
Ответ пришел почти мгновенно и приятно удивил: номер будет готов к восьми, оплате же подлежит только дополнительный завтрак. В постскриптуме трогательная приписка, как на сайте: «Мы исполняем все желания гостей».
Такие хорошие.
Решила привезти им из Москвы конфет, как возила всем и всюду в старые скудные времена, когда халва в шоколаде и засахаренные лимонные дольки могли сделать счастливым практически кого угодно. Сейчас-то, ясное дело, московскими сластями никого не удивишь, а все равно гостинец – хорошее дело. Никогда не помешает.
Погода в день приезда была совершенно отвратительная. То есть примерно такая же, как в Москве. Раса, конечно, потом говорила, что плюс пять в самом начале марта – это, напротив, прекрасная погода. И противная мелкая морось – это тоже прекрасная погода, просто потому что она – не снег.
Но говорить можно все что угодно; всякому здравомыслящему человеку понятно, что прекрасная весенняя погода начинается с плюс пятнадцати. А умеренно хорошая – с плюс десяти. Поэтому мысленно поставила Мирозданию двойку за поведение. Мироздание, впрочем, и бровью не повело. Сразу видно, что у него родители дневник не проверяют. Потому что наше бедное маленькое Мироздание – круглая сирота. Какой с него спрос.
Примерно такими рассуждениями развлекала себя по дороге от вокзала. Брела почти наугад, не в силах лишний раз свериться со специально распечатанной картой – все-таки ужасно не выспалась из-за пришедших задолго до рассвета пограничников, и даже тройной кофе, любезно предоставленный сердобольной проводницей, не особо помог. А тут еще чертова погода. В такой день разумный человек вообще из-под одеяла не вылезет, о прогулке по улицам и речи быть не может. Если только вы – не бедный странник, которому решительно некуда деваться.
К счастью, не заплутала. Улица Лигонинес нашлась сразу, а гостиница – почти сразу. То есть, сперва просто проскочила мимо, сунулась было в большой отель с забавным названием «Мано Лиза»[19] и портретами Джоконды во всех окнах первого этажа, но тут же осознала ошибку, вернулась в начало улицы и позвонила в дверь, украшенную вывеской столь неприметной, словно владельцы гостиницы играли с клиентами в прятки и выигрывать любили больше, чем заполучать жильцов.
Дверь открыла полная рыжая женщина, похожая – не на настоящую лису, а на загримированную для этой роли актрису детского театра. Белокожая, зеленоглазая и такая красивая, что за одну лишь возможность на нее смотреть, цену смело можно было поднимать как минимум еще на десять евро.
Рыжая улыбнулась и сказала:
– Мы вас ждали.
Подумала: «Господи, хорошо-то как. А ведь казалось бы – всего три слова. Два местоимения, один глагол. Но произнесены с единственно верной интонацией, в правильном месте, в нужный момент. Воистину, миром правит контекст».
Сказала:
– А я, так уж вышло, с гостинцами.
И вывалила на стойку администратора увесистый пакет с конфетами.
Рыжая так удивилась, что даже зажмурилась. Спросила:
– Это все нам? А почему?..
Честно ответила:
– Просто я люблю ездить с гостинцами. Как будто у меня везде, в каждом городе, по всему миру родня.
– А на самом деле родни нигде нет?
В чьих угодно устах этот вопрос прозвучал бы бестактно. Но у рыжей получилось совершенно естественно. В ее голосе не было ни жалости, ни даже вежливого сочувствия, лишь искренняя заинтересованность и радость понимания. Так радуются иностранцы, изучающие язык – хоть о больницах им рассказывай, хоть о похоронах, а первой реакцией будет восторг: «Ух ты! Все слова знакомые!»
Кивнула:
– Да, на самом деле никакой родни нет. В моем случае оно даже и неплохо. Режиссеры – самые одинокие люди на свете. По природе и в силу своего положения. Если вовремя это признать и не метаться в попытках доказать обратное, потом очень легко живется.
– Тогда хорошо, – невозмутимо согласилась рыжая. И принялась разворачивать первую конфету.
Вот молодец. Совершенно не церемонится. Все бы так.
За завтраком оказалась одна.
– Не сезон – объяснила рыжая. – С октября по май три постояльца сразу – это уже почти чудо. Обычно один-два. Вот и сейчас…
– Только я?
– Вы и еще один гость. Очень приятный господин из Португалии. Но к завтраку он не выйдет. Когда приехал, сказал, что больше всего на свете хочет как следует выспаться. Ну и спит теперь, конечно.
Рассеянно кивнула. Прикинула: если номер стоит всего тридцать пять евро в сутки – это сколько же они зарабатывают с одним-двумя постояльцами? Похоже, совсем мало. А ведь еще аренду платить, электричество, отопление, вода – ужас какой. Как вообще выживают?
Не удержалась, спросила. Ожидала услышать поток жалоб, но рыжая легкомысленно отмахнулась:
– Ой, да прекрасно! Лично мне даже нравится, когда гостей мало. Каждому можно уделить достаточно внимания, не то что летом.
Удивилась. Какой однако оптимистический подход. И совершенно не деловой, что по нашим временем равносильно безумию. Впрочем, вероятно, рыжая просто наемный работник, и проблемы владельцев ее не касаются.
Уходить из уютной столовой совершенно не хотелось. Теоретически понимала, что рассиживаться глупо: там, за окном, ждет, во-первых, подруга юности; повидать ее будет, как минимум, любопытно. А во-вторых, совершенно незнакомый город, ради которого, строго говоря, и приехала, воспользовавшись первым же мало-мальски убедительным предлогом. И времени на знакомство не так уж много.
Но плюс пять. Но противная морось. Но слякоть под ногами. Полной идиоткой надо быть, чтобы добровольно выйти наружу.
Сказала рыжей, которая любезно поставила на стол уже третью по счету чашку кофе:
– Как же надоела зима. Хочу настоящую весну! Вот бы солнышко сейчас вышло. И потеплело бы хоть немножко. Как бы я резво поскакала тогда на улицу! А так сижу, прикидываю, настоящий ли я герой. И прихожу к печальному выводу: не очень.
– «Хоть немножко» – это сколько градусов? – деловито спросила рыжая. Словно речь шла о температуре в комнате гостьи.
Почему-то поскромничала:
– Ну хотя бы десять выше нуля, чтобы руки-ноги не мерзли.
Рыжая кивнула, улыбнулась и вышла. Как будто действительно собиралась пойти в котельную и как следует протопить – весь город.
Печально посмотрела ей вслед, вздохнула, залпом допила кофе и отправилась к себе в номер – переодеваться. Все-таки Раса ждет. А к ней еще надо как-то добираться.
Пока одевалась, вернее, задумчиво осматривала прихваченные из дома наряды – все два – погода и впрямь начала исправляться. Солнце не то чтобы засияло, но с некоторым интересом выглядывало из-за туч, словно бы прикидывая, что делать дальше.
Приободрилась. Решительно достала из чемодана прекрасное, как галлюцинация принявшего ЛСД праведника, лоскутное пальто, прихваченное в последний момент, на случай небывалой, неслыханной оттепели. Потому что придумывать наряды в Барселоне, откуда оно родом, конечно, умеют. Но вот про зиму они не понимают ни-че-го. И, тем более, про малопривлекательное время года, которое случается в наших широтах вместо нормальной человеческой весны. Скажи им, что пальто должно еще и согревать – так и сядут, небось, от изумления.
Подумала: «Я, конечно, околею в этой тряпочке еще по дороге. И никакая пашмина не поможет, хоть трижды ею шею обмотай. Но надеюсь, мое бездыханное тело все-таки доберется до Расы и произведет на нее неизгладимое впечатление. А иначе вообще непонятно, зачем было приезжать».
Рыжая, увидев пальто, восхищенно ахнула, всплеснув руками, и этого оказалось достаточно, чтобы настроение поднялось до неизъяснимых высот.
Распахнув дверь, сказала:
– Глядите-ка, а погода действительно налаживается.
– Мы исполняем все желания гостей, – улыбнулась рыжая.
Отличная штука. И интонация выбрана идеально. Как будто резкое улучшение погоды – и впрямь заслуга гостиничной администрации. И одновременно – сущий пустяк, ничего им не стоивший.
Подумала: «С этой рыжей можно было бы подружиться. Жаль, что я здесь ненадолго. С другой стороны, не в продолжительности процесса счастье. А в его интенсивности».
Вернулась совсем поздно. Не за полночь, но около того. Почти не продрогшая – температура к полудню и впрямь поднялась до плюс десяти, а вечером вместо того, чтобы похолодать, стало еще теплее.
Открыла входную дверь своим ключом, вошла. Тихо, темно. Маленький холл освещен лишь свечой в стеклянном стакане; впрочем, этого вполне достаточно, чтобы, не расшибив лоб, найти возле лестницы выключатель и озарить себе путь наверх.
Подумала: «Рыжая, небось, давным-давно дрыхнет. И вместо нее никого».
Подумала: «А жаль, мне бы сейчас с кем-нибудь поболтать».
Подумала: «Ай, ну и ладно».
В номере стянула сапоги и упала на кровать, прямо в пальто. Понятно, что придется встать, раздеться, умыться, влезть в пижаму, но все это потом, потом, через пять минут, когда-нибудь, вечность спустя. Предельная физическая усталость в сочетании со счастливым возбуждением, как у ребенка, который полночи не может уснуть после похода в Луна-Парк, или как там они сейчас называются.
Подумала: «Вот и я не усну. Буду лежать на кровати босая, в пальто и смотреть в потолок. Такое времяпрепровождение, несомненно, подходит тонкой артистической натуре».
Рассмеялась. И, по сложившейся за годы одинокой жизни привычке, сказала вслух, обращаясь к потолку:
– Мне бы сейчас чайку горяченького. Сладкого, с лимончиком. Да где ж его взять? Нет в мире совершенства.
Однако совершенство в мире все-таки было. Потому что через минуту в номер тихонько постучали. Не успела ответить, а дверь уже распахнулась. На пороге стояла рыжая администраторша. Вовсе не заспанная, напротив, свежая, как роза. С подносом. На подносе – большой, чуть ли не литровый чайник, расписанный зелеными петухами и синими яблоками. А также чашка, ложка, сахарница, толстыми кусками нарезанный лимон.
Глазам своим не могла поверить. Чай! В номер! В полночь. Без всяких просьб. То есть, по собственной инициативе. Немыслимо!
Вскочила с постели, оправляя пальто. Сказала:
– Боже мой. Спасибо. Вы меня спасаете. И балуете.
Спросила:
– Но как такое может быть? Я же не заказывала. Как вы догадались?
Поскольку рыжая помалкивала и только улыбалась, как Мона Лиза в соседских окнах, повторила:
– Но как?!
– Просто мы стараемся исполнять все желания гостей, – скромно сказала рыжая. И, подумав, добавила: – Но только высказанные вслух.
Не поверила своим ушам.
– То есть у вас во всех номерах подслушивающие устройства? Да бросьте! Даже если бы они были, вы бы просто не успели заварить чай.
– Нет-нет, что вы, – рыжая почти испугалась. – Никаких устройств нет. Мы никого не подслушиваем. Просто…
Не дала ей договорить, махнула рукой:
– Да понятно, понятно же, что не подслушиваете. Но какое гениальное совпадение! Возможно, вообще лучшее в моей жизни.
Хотела еще спросить: «А может быть, выпьете со мной чаю?» – но почему-то постеснялась. Подумала: «Это я в отпуске, а человек на работе. Для меня дружеское чаепитие, а для нее – обслуживание клиента. Пусть отдыхает спокойно».
И только когда за рыжей закрылась дверь, подумала: «Ай, все-таки надо, надо было ей предложить!»
Но догонять не стала.
Чай выдула весь, до капли. С лимоном и сахаром, чего уже много лет себе не позволяла. А потом уснула и спала как младенец – не до девяти, не до десяти даже, а до одиннадцати. И поутру чувствовала себя так, словно родилась заново. И впереди теперь снова целая жизнь, настолько прекрасная, что впору огласить коридоры пронзительными младенческими воплями – просто от полноты чувств.
Спустилась вниз, счастливая и немного виноватая, как все заспавшиеся люди, с детства приученные думать, будто долгий утренний сон – порок, предаваться которому следует втайне от окружающих. Сказала рыжей, засевшей за стойкой администратора со стопкой каких-то бумаг:
– Завтрак я уже, понятно, проспала. Но, может быть, еще можно получить чашечку кофе?
– У нас невозможно проспать завтрак, – улыбнулась рыжая. – Потому что его подают, когда гость проснулся. А не когда это удобно нам самим. Ну и кофе, конечно, тоже. Сколько пожелаете.
Тихонько вздохнула, не веря своему счастью:
– Господи, в каких только гостиницах я не останавливалась. Включая надутые буржуйские отели. Но такое слышу впервые. Вы – лучшие в мире.
– Спасибо, – рыжая была смущена и ужасно довольна. – Мы просто очень стараемся, – простодушно добавила она.
– А я так до сих пор и не спросила, как вас зовут. Простите. Я часто упускаю, что у всякого человека непременно есть имя, и его следует знать. И сама вечно забываю представиться. Со стороны это, вероятно, выглядит очень невежливо.
– Нет, что вы, – улыбнулась рыжая. – Имя – это совершенно неважно. Меня зовут Лина. И мне кажется, это вообще ничего не меняет.
– Ничего. Зато оно вам идет.
Усадила в столовой у окна, за которым сияло почти майское солнце. Принесла горячий омлет, положила хлеб в тостер. Спросила:
– Вам кофе прямо сейчас?
Кивнула:
– Да, если можно.
И, сделав первый, самый горький, самый вожделенный глоток, призналась:
– Локти вчера кусала, что постеснялась предложить вам чашку чаю. Может быть, хоть кофе вместе попьем? А то вы работаете, я ем. Теоретически так и должно быть, но все равно как-то неуютно.
– С удовольствием, – легко согласилась рыжая. Взяла себе чашку, села рядом. Спросила: – Вам вчера поговорить хотелось? В следующий раз не стесняйтесь. Поговорить я люблю. А ложусь очень поздно.
– А встаете очень рано.
– Когда как. День на день не приходится. И потом, почти всегда можно вздремнуть после обеда. В это время уже никаких дел.
Почти не слушала. Думала о своем. И сама не заметила, как заговорила вслух:
– Сейчас мы с вами находимся в очень интересной точке. Мизансцена допускает любой диалог. Абсолютно любой, вы только подумайте. Руки наши, таким образом, развязаны. И одновременно связаны – общепринятыми условностями, помноженными на индивидуальные представления о том, как следует себя вести, нашим темпераментом и сиюминутным настроением – оно, возможно, вообще самый важный фактор. Но все равно, некоторый выбор у нас есть. Можно завести светскую беседу о погоде; впрочем, сегодня она того вполне заслуживает – хороша, чертовка! Можно расспрашивать друг друга – вы меня о Москве и моей работе, я вас – легко ли содержать гостиницу в не самом популярном среди туристов городе Восточной Европы. Еще я могу предаться сентиментальным воспоминаниям, и тогда вам предстоит выслушать длинную-длинную историю моей дружбы с Расой, нашей общей юности, и как я каждый год собиралась приехать летом к ней в гости, то есть сюда, в Вильнюс, но так и не сложилось; один раз я даже от поезда отстала в Смоленске и тогда решила: ну все, точно, не судьба. Не нужно мне в Вильнюс. И больше не пыталась – до позавчерашнего дня. Но слушайте, как же я рада, что все-таки доехала! И, кстати, вот нам еще одна возможная тема для светской беседы: я могу взахлеб рассказывать, как мне тут понравилось, а вы – слушать и любезно кивать, куда деваться. Выслушивать восторженных туристов – важная часть вашей работы, это я понимаю и от души вам сочувствую. Впрочем, вместо восхищенного лепета я могу выступить в жанре недоуменного сетования. Буду, скорбно цедя кофе, жаловаться на нашу с Расой вчерашнюю встречу. Рассказывать, какая она стала старая и скучная. И я, следовательно, тоже, мало ли что мне самой кажется. Но это совсем уж неинтересно, поэтому Расу вычеркиваем. Будем считать, я ее просто выдумала, как повод махнуть на выходные в Вильнюс. Я сама уже почти в это верю.
Отхлебнула кофе и решительно заключила:
– Но самое замечательное, что мы можем вычеркнуть не только бедную, ни в чем, в сущности, не повинную Расу, которая гуляет сейчас в парке с внучкой и не знает, что вероломная московская гостья внесла ее в черный список вымышленных друзей. А вообще все традиционные темы банальных диалогов разом – чего мелочиться? И просто говорить, что взбредет в голову. Только о том, что волнует вот прямо сейчас. Не церемонясь и не стараясь подладиться под собеседника. Не опасаясь быть неправильно понятой, оконфузиться, не понравиться – вообще ничего не опасаясь. Какой вариант выбрали бы вы?
– Это неважно, – улыбнулась рыжая. – Потому что вы-то определенно выбрали последний. И так энергично взялись его реализовывать, что пути назад уже нет.
Улыбнулась.
– Просто так интереснее. Всякий раз, когда спрашиваю себя, чего хочу на самом деле, честный ответ один: хорошего спектакля. И чтобы ставила его не я сама, а кто-нибудь другой, желательно совершенно неизвестный мне режиссер, загадочный и непредсказуемый гений, великий мастер сбивать всех с толку. Потому что в последнее время мне все чаще хочется чего-нибудь совершенно невозможного. И даже откровенно абсурдного. Кажется, я просто устала все всегда лучше всех понимать. И вот прямо сейчас я хочу, чтобы посреди этого моего дурацкого монолога… ну, например, открылась дверь, и в холл вошла синяя лошадь с шляпе, украшенной искусственными фруктами, остановилась возле стойки администратора, взяла ключ и отправилась по лестнице в номер, а мы…
Еще говорила и говорила бы, вдохновленная доброжелательным вниманием слушательницы, но тут хлопнула входная дверь.
– Погодите минуточку, – сказала Лина. – Сейчас вернусь, только ключ отдам.
Кивнула, отвернулась к окну. Стала ждать. Сидела с полным ртом прекрасных фраз, идеально подходящих для внезапно прервавшейся беседы, ни дать ни взять хомяк, набивший зерном защечные мешки. Заготовленные слова не желали спокойно ждать своего часа, бурно множились, менялись местами и прирастали смыслами. Минуту спустя поняла, что лопнет, если не закончит хотя бы дурацкую реплику про лошадь в шляпе – немедленно! Встала и вышла в холл.
Вернее, собиралась выйти, но застыла на пороге, уставившись на меланхоличную лошадь цвета майского неба, неторопливо шествующую к лестнице с большим медным ключом в зубах. Соломенная шляпа, украшенная бумажными яблоками и тряпичным виноградом, съехала на одно ухо, откуда должна была бы, по идее, свалиться на пол, но каким-то чудом удерживалась на этом последнем рубеже.
Лина сочувственно смотрела из-за стойки.
– Плюньте, – наконец сказала она. – Подумаешь – лошадь. Еще и не такое бывает. Идемте-ка в столовую. У нас там кофе остывает.
Уже, собственно, остыл. Допила холодные остатки залпом, одним глотком, в надежде, что горечь приведет в чувство, и тогда, конечно, сразу выяснится, что задремала прямо за завтраком и даже успела увидеть сон. Короткий, зато дурацкий. Со всяким может случиться.
Но себя не обманешь. Никогда этого не умела. Жаль.
Сказала:
– Ерунда какая-то получается. Я же как раз говорила про синюю лошадь. И тут она вдруг откуда-то взялась. Причем именно в шляпе! И как это? И что теперь?
Рыжая молча развела руками.
– Она будет жить у вас в гостинице? Лошадь? В человеческом номере? Синяя?!
– Не думаю, – беззаботно откликнулась Лина. – Вы же сказали: «Хочу, чтобы вошла синяя лошадь с шляпе, украшенной искусственными фруктами, взяла ключ и отправилась по лестнице в номер». И все. О постоянном проживании речи не было.
«Я сказала? А, ну да, правда. Я. И что?.. Нет, погодите. Получается, эта дурацкая лошадь из моих слов материализовалась? Только потому что я сказала, будто так хочу? Какой абсурд. Какой абсурд!»
Вслух не произнесла ни слова. Сидела, уставившись в пустую чашку. Наконец спросила:
– «Все желания гостей» – то есть вот до такой степени все? Не только чай, кофе, свежая пресса и дополнительное одеяло в номер?
– Обычно примерно этим и ограничивается, – заметила рыжая. – На самом деле люди не так уж много говорят вслух о своих желаниях. Особенно при чужих. Ну вот, разве что, действительно одеяло попросят, или еще чего-нибудь в таком роде. Впрочем, бывают исключения. Взять хотя бы нашего португальца. Сказал, что хочет как следует выспаться, и теперь спит, как убитый. А я не бужу, видно же, что человеку очень надо. Лишь бы обратный самолет не проспал, но за этим я слежу, четыре дня у него еще есть. Или вот в прошлом году один русский приезжал, пожилой человек, музыкант. Очень славный. Все время рассказывал мне о жене, которая уже долго болеет, фотографии показывал – смотрите, какая красавица. И однажды у него вырывалось: «Я так хочу, чтобы Люся поправилась!» Слава богу, не промолчал. Знали бы вы, как я за них рада! И еще был мальчик, забавный такой, совсем юный и ужасно серьезный. С порога объявил: «Я хочу написать книгу!» Подозреваю, он просто пытался произвести впечатление, но не тут-то было. Засел в своем номере, как миленький, на улицу только поесть выходил, да и то не каждый день. Мы даже скидку ему сделали – пусть работает спокойно, если уж так влип. До сих пор думаю: интересно, что у него в итоге получилось?.. Но вы, конечно, всех перещеголяли с этой своей лошадью. Такого у нас еще не было.
Вздохнула:
– Да уж. И погода, получается, вчера наладилась только потому что я захотела? А потом вы еще чай среди ночи принесли… Но погоду и чай все-таки можно списать на счастливое совпадение. А вот лошадь… Ох уж эта лошадь! И хотелось бы продолжать думать, что вы просто шутите, но как тогда быть с синей лошадью?
– То-то и оно, – меланхолично согласилась Лина.
– Слушайте, а как вы это делаете?
Спросила и замерла, как ребенок, влезший во взрослый разговор. Ясно же, что сейчас дадут по ушам и велят идти в свою комнату. И, в общем, правильно сделают. Но иногда просто невозможно удержаться!
– Не знаю, – беззаботно сказала рыжая. – Лично я вообще ничего из ряда вон выходящего не делаю. Все как-то само происходит, такое уж здесь место. А я просто наблюдаю. Ну, разве что, иногда внезапно обнаруживаю себя среди ночи в коридоре с подносом, совершенно не понимая, когда я успела все это приготовить, и куда несу. Но к таким вещам довольно быстро привыкаешь.
– Ничего себе. Все время вот так из-под собственного контроля выходить? Я бы с ума сошла.
– Это вряд ли. Не из того вы теста.
Помолчали.
– Еще кофе? – наконец спросила Лина.
Кивнула. С благодарностью приняла чашку. Сказала – просто не могла удержаться:
– Но это же, получается, открывает какие-то невероятные возможности, да? Если я теперь точно знаю, что любое мое желание немедленно исполнится, достаточно высказать его вслух, то… Господи, даже страшно.
– Да, – согласилась рыжая, – это довольно страшно. Хорошо, что вы понимаете.
– Я не в том смысле… – и осеклась. Потому что и в том тоже. В первую очередь – в том. Действительно.
Сказала:
– Так. Сперва надо проверить. Лошадь – это прекрасно, но теоретически она могла мне просто примерещиться. Так бывает.
– Бывает, – невозмутимо согласилась рыжая.
Даже не попыталась переубедить. И это само по себе выглядело убедительно.
Огляделась по сторонам, пытаясь придумать что-нибудь простое и при этом максимально наглядное. Например, окно? Почему бы нет. Хлопнула себя по лбу: доказательство же! Потом мне обязательно понадобится доказательство, даже если сейчас кажется, что это совершенно лишнее. Достала телефон, сфотографировала выходящее на улицу окно – высокое, почти до потолка, прозрачное стекло, чистое изнутри, пыльное снаружи. В общем, окно как окно. Обычное.
Спрятала телефон в карман, сказала:
– Хочу, чтобы это окно стало витражным.
И в упор уставилась на стекло. Думала: неужели вот прямо сейчас, у меня на глазах нахально превратится? А что, я бы посмотрела.
Не тут-то было. В носу защекотало. Сразу поняла, чем это закончится. Но мужественно терпела несколько секунд – вечность для того, кто неудержимо хочет чихнуть.
Конечно, чихнула, да так, что искры из глаз. В которых к тому же потемнело. Всего на миг, но он оказался весьма продолжительным промежутком времени. Необходимым и достаточным, чтобы пропустить момент чудесного преображения оконного стекла, которое стало разноцветным, как барселонское лоскутное пальто. Сквозь зеленые, синие, желтые ромбы лился полуденный весенний свет.
– Ничего себе!
Сказали, оказывается, хором. Рыжая Лина, похоже, тоже удивилась. Несколько секунд спустя она добавила:
– Спасибо. Какой подарок вы нам сделали!
– А то сами не могли.
– Конечно, не могла. Я же не гостья. Я тут работаю.
Вот оно как. Интересное уточнение.
Честно сверилась со снимком: а вдруг витраж был здесь всегда? А я просто чокнулась. Что, строго говоря, неудивительно. Но на экране телефона отобразилось обычное окно с прозрачным стеклом. Снова уставилась на витраж. Он был на месте, разноцветный и сияющий. Ладно, ничего не поделаешь. Факт есть факт, даже если он совершенно не укладывается в голове.
Сказала:
– Это что же у нас получается? Это у нас получается, что я вот прямо сейчас, не сходя с места, могу облагодетельствовать все человечество разом? И еще пару сотен знакомых в индивидуальном порядке? А потом, на закуску – себя любимую? И сразу стать владычицей морскою, не мелочась? Легко предсказуемый ход мыслей, правда?
Рыжая молча пожала плечами. Выглядела она встревоженной. И ее можно было понять.
Добавила, чуть не плача:
– И пару-тройку любимых воскресить, до кучи. Чтобы даже автор «Кладбища домашних животных» содрогнулся, сидя у камина в своем Бангоре, или где он там сейчас живет… Не смотрите так на меня, Лина. Я не стану злоупотреблять глаголом «хочу». Я прожила достаточно, чтобы заметить одну печальную закономерность: когда я совершенно уверена, будто знаю, как лучше, это мне только кажется. Если, конечно, мы не на сцене. А мы сейчас не на сцене, и я отдаю себе в этом отчет.
– Тогда вы, наверное, единственная в своем роде, – недоверчиво вздохнула Лина. – Никто на вашем месте не удержался бы. Такая легкость, такой соблазн!
Сказала:
– Просто так уж удачно совпало. Или наоборот неудачно, как поглядеть. Слишком долго все всегда получалось по-моему, и знали бы вы, как мне это надоело! Я же режиссер, причем постоянно работающий; по нынешним временам редкая удача. Последние лет двадцать я только тем и занималась, что воплощала в жизнь собственные представления о том, как должно быть. Даже сценарии зачастую переписывала под себя, в этом смысле, я совершенно невыносима, была, есть и, видимо, буду до самой смерти. И знаете что я недавно поняла? Реальность, созданная моей волей, всегда довольно скучная штука. Зачастую чертовски обаятельная, но банальная и предсказуемая, где убийца всегда один и тот же дворецкий, даже если никто никого не убил. Я – очень посредственный режиссер, Лина. И мой профессиональный успех тому подтверждение. Нынче хорошие времена для посредственностей, способных сделать ровно столько, сколько без особого труда уложится в некрупную голову среднего потребителя культуры. Желательно даже чуть меньше, чтобы оставить публике свободное пространство для снисходительного самодовольства, это она любит больше всего. А я ровно такая и есть, можно сказать, повезло; была бы гением, мыла бы сейчас чужие полы вместо того, чтобы по отелям за завтраком рассиживаться… Впрочем, ладно. Как бы я от себя ни устала, следует признать, что в театре от меня было больше пользы, чем вреда. Но только потому что он – просто театр. Временная иллюзорная реальность, существующая по общей договоренности, от звонка до звонка, и неизменно гибнущая от взрыва аплодисментов задолго до того, как появится хоть малейший шанс овеществиться. Туда ей и дорога! А в качестве Господа Бога я окажусь настоящим чудовищем, как любая другая умная волевая тетка, дожившая до моих лет. Ну или дядька, без разницы.
– Вы потрясающая, – твердо сказала Лина. – Даже если бы я специально постаралась, все равно не смогла бы придумать себе такую гостью. Просто в голову не пришло бы, что все может быть именно так.
Улыбнулась.
– В том и штука! Все по-настоящему прекрасные и удивительные вещи просто не могут прийти в наши маленькие твердые головы. Но к счастью, они все равно время от времени происходят. И какая же огромная удача хотя бы иногда оказываться зрителем! То есть, свидетелем. Ай, не важно. Вы все равно поняли.
– Да, – кивнула Лина. – Я поняла.
Сидела, уставившись в пустую чашку, думала: сейчас или никогда. Или я встану из-за стола и пойду собирать вещи, а потом гулять, и гори все огнем, потому что вечером поезд, мои выходные подходят к концу, и больше никаких «хочу», мое слово твердо. Или я все-таки сначала спрошу. Попытка не пытка. Да и что мне терять?
Спросила, набравшись решимости:
– А вам не трудно одной тут работать? Никогда не думали взять помощницу? Хотя бы теоретически?
– Да еще бы! – призналась рыжая. – Знаете, сколько лет у меня не было выходных? Сама уже сбилась со счета. А с помощницей можно было бы гулять по очереди – да хоть через день! Именно так я и представляю себе счастье. Но у меня нет полномочий нанимать новых сотрудников, разве что кто-нибудь сам… Нет, стоп, погодите, вы серьезно спрашиваете? Я – только за, но вы понимаете, что?..
Чуть не свалилась со стула, так кружилась голова, так звенело в ушах, так грохотало сердце, как будто не просто стояла на краю пропасти, а уже сделала шаг вперед и вдруг спохватилась: а крылья, крылья-то? Их же никогда прежде не было, успеют ли отрасти?
Но осталась жива и даже говорила спокойно и рассудительно, словно бы чужим голосом из какой-то далекой позапрошлогодней зимы, где не было ни единого повода для волнений.
– Я бы хотела пожить в этой гостинице подольше, но не гостьей, а работать тут, как вы. Убирать комнаты, варить кофе, жарить омлет, внезапно заставать себя среди ночи в пустом коридоре с подносом в руках, смотреть, слушать, запоминать, наблюдать, как согласно неведомой воле сбываются все случайные желания гостей, даже самые дурацкие, вроде моей синей лошади. Каждодневный труд – невеликая плата за возможность оказаться в зрительном зале, где идет бесконечный спектакль о могуществе, неведении и хитреце случае, только притворяющемся слепым. Может, научусь хоть чему-то? А не догоню, так согреюсь – всегда любила эту поговорку. Всегда.
Рыжая схватилась за голову, но это был жест ликования, а не отчаяния – и вот поди такое сыграй.
– Слушай, я совершенно счастлива! Даже не надеялась на такую прекрасную компанию. Мы отлично сработаемся. Но ты-то сама понимаешь, во что влипла?
Сказала:
– Конечно, не понимаю. Но наверняка когда-нибудь пойму. Лет через сто, а может быть, уже послезавтра. Посмотрим. Как пойдет.
Улица Лидос (Lydos g.) Белые стволы, алые стены
После утреннего чая Луиза Захаровна как всегда два часа работала и только потом села завтракать. Обычно по средам она варила гречку, но на этот раз разогрела оставшийся с вечера голубец, отрезала ломтик сыра, некоторое время задумчиво крутила в руках банку клубничного варенья; решила пока не открывать. Сказала себе: вот испеку оладьи, тогда.
Поев, она достала первую из выделенных на день четырех сигарет, надела вязаную шапку и вышла на балкон. Как всегда первый вдох дался ей нелегко, в глазах потемнело, на висках выступил пот; к выходу наружу, наверное, невозможно привыкнуть, по крайней мере, не за одну человеческую жизнь. Зато удалось научиться приходить в себя достаточно быстро, всего за несколько секунд, еще до первой затяжки, а ведь когда-то думала, сигарета – единственный способ как-то здесь себя сохранить.
Отдышавшись, сидела на табурете, медленно, стараясь растянуть удовольствие, курила, смотрела на лиловые башни Крайнего Города, меланхолично улыбалась плывущим по низкому небу золотым облакам. Значит, сегодня с утра у нас суровый Шор-Обриан. Редкое зрелище. Интересно начинается день.
Докурив, Луиза Захаровна вернулась в дом. На кухонном столе обиженно мигал телефон. Вечно так, пока сидишь дома, хоть бы кто вспомнил, а стоит на минуточку отвлечься, и пожалуйста, сразу два звонка, работодатель и племянница, никуда не денешься, придется перезванивать.
Начала с издательства. Пока говорила, смотрела в окно, за которым сейчас синели священные рощи Сидрейли. На фоне этого величественного зрелища было легко игнорировать истерические нотки в голосе начальницы и спокойно, даже ласково, как дурно воспитанному чужому ребенку отвечать: «Ну разумеется, корректура будет отправлена вам сегодня сразу после обеда; вы совершенно напрасно беспокоитесь. До сих пор я вас не подводила и впредь не намерена. Хорошего дня».
Перевела дух и набрала Томку. Спросила: у тебя что-то срочное, или до вечера ждет? Мне надо сдавать корректуру. Некоторое время слушала встревоженный голос племянницы, в очередной раз поражалась ее полной неспособности четко отвечать на поставленный вопрос. Вместо осмысленного диалога бессвязный поток сознания: «Почему ты не взяла трубку, я волновалась, я беспокоилась, я подумала…» – и так далее, бла-бла-бла.
Чуть было не ляпнула: «Просто я была на балконе», – но вовремя прикусила язык. Вместо этого сказала: «Тамара, ты уже достаточно взрослая девочка, чтобы узнать правду. Некоторые люди иногда ходят в уборную. И я тоже время от времени позволяю себе такую вольность. Извини, если мое признание тебя шокировало. Крепись. – и не дав бедной Томке опомниться, добавила: – Завтра позвоню, у меня куча работы, пока».
Сунула телефон в карман, подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу, стояла, смотрела на заметенную снегом улицу Лидос, по которой шла девочка в красном пальто с рыжим сеттером на поводке. И так тоже бывает. Иногда окно – это просто окно. Как будто тебе дают передышку. Хотя таких передышек Луиза Захаровна предпочла бы не получать.
Постояв так минуты три, она решительно встряхнулась и пошла работать. Сказала «отправлю сразу после обеда» – значит сразу после обеда. Слово надо держать.
Отправив заказчику законченную корректуру, Луиза Захаровна пошла одеваться. Теплые колготки, шерстяное платье, удобные угги, длинная, до колена куртка-пуховик – хорошие, качественные, неброские вещи, именно то, что следует носить приличной даме за шестьдесят, если она не хочет привлекать к себе внимания. Выглядеть колоритной старухой для настоящей городской сумасшедшей роскошь непозволительная.
Вышла на улицу, свернула направо, дошла до пересечения с Пранцискону, некоторое время стояла, раздумывая, куда отправиться теперь. То есть в какую из полудюжины любимых кондитерских и кофеен, посещение которых назначила себе наградой за каждую вовремя законченную порцию работы. Не то чтобы Луиза Захаровна действительно нуждалась в подвешенной перед носом морковке, просто считала, что в жизни должно быть место простым заслуженным удовольствиям, с ними веселей.
Уже почти решила пройтись до проспекта Гедиминаса, но тут из-за угла выскочил стылый февральский ветер, вероломно хлестнул по лицу невидимой мокрой тряпкой – ну и манеры у вас, молодой человек! Однако ничего не поделаешь, зимой мнение ветра, как бы дурно воспитан он ни был, следует принимать во внимание, если не хочешь проклясть все на свете и повернуть домой уже через пять минут. Пришлось выбрать кратчайший маршрут – до бульвара Вокечю. Благо там есть, где выпить кофе с отличным шоколадным пирогом. И, кстати, в той кофейне совершенно прекрасное окно. Ничем не хуже домашних. Надо иногда его навещать.
Луиза Захаровна отдавала себе отчет, что, по идее, должна смотреться в этой студенческой кофейне как минимум странно. Что на фоне драных штанов и разноцветных волос остальных посетителей ее дорогой черный пуховик выглядит унылым убожеством, а она сама – грузной медведкой, зачем-то затесавшейся в стаю пестрых мотыльков. Но это понимание совершенно не мешало ей чувствовать себя там как дома. Не просто уместным, но почти обязательным элементом. Неизменно заказывала капучино в толстой белой керамической кружке, шла в дальний зал, где для нее всегда находилось свободное место, устраивалась в старом, облезлом, фантастически удобном кресле, сидела там в блаженной неподвижности, отогревалась, потом наконец поворачивалась к окну, теоретически выходящему во внутренний двор, заставленный автомобилями и мусорными баками, зеленый летом, заснеженный зимой.
Но мало ли как там оно теоретически. У Луизы Захаровны с реальностью всегда был отдельный договор.
Сегодня за окном бушевала развеселая Сайдарьяльская весна – время, когда расцветают не только деревья и травы, но даже фонарные столбы; Луиза Захаровна долгое время думала, это их в честь прихода весны украшают живыми цветами, но оказалось, нет, просто тамошние деревья сохраняют способность цвести даже после того, как их срубят, хоть сто лет, хоть двести, пока не сгниют. Поэтому весной в Сайдарьялли цветут фонари, заборы, скамейки, оконные ставни, разделочные доски, картинные рамы, рукоятки молотков, древки знамен, ружейные приклады, письменные столы, карандаши и линейки, так что школьников и студентов лучше сразу отправить на каникулы, а всех остальных – в отпуск. На десять дней, пока не закончится цветение. Хорошая традиция, всем бы брать пример.
В общем, вовремя зашла в эту кофейню, спасибо холодному ветру. Сайдарьялли как-то очень давно не показывался. Наверное, лет пять. И вдруг объявился. И там как раз началась весна. Луиза Захаровна даже разулыбалась, хотя вообще-то давным-давно приучилась сохранять внешнюю невозмутимость. Это же только в раннем детстве можно мечтательно улыбаться, удивленно приподнимать брови и даже восторженно открывать рот, не особо рискуя привлечь внимание к своему поведению. А стоит чуть-чуть подрасти, и сразу начинаются косые взгляды посторонних и тревожные расспросы родных: что случилось? О чем ты задумалась? Чему так радуешься? Что там увидела? Что с тобой творится? Эй, не молчи!
Молчать в таких случаях действительно не стоит. Говорить правду – тем более. Ни взрослым, ни друзьям-ровесникам. Люди готовы объявить сумасшедшим всякого, кто видит чуть больше, чем они сами. Их в общем можно понять. Но жить рядом с ними от этого понимания не легче.
Впрочем, эта кофейня хороша еще и тем, что здесь никому ни до кого особо нет дела, все сидят, уткнувшись в компьютеры и телефоны. Луиза Захаровна очень жалела, что в ее юности ничего подобного еще не изобрели. Как легко было бы маскироваться! Что бы ни случилось, делай вид, будто пялишься в телефон, и всем сразу станет ясно: ты совершенно нормальная. Такая, как все вокруг.
Как я тогда вообще уцелела, загадка, – устало подумала она. – Подростковый возраст даже для обычных людей совершенно ужасное время. Ты еще недостаточно взрослый, чтобы принадлежать себе, но уже не настолько ребенок, чтобы тебе все сходило с рук. Все что можно сделать в таких обстоятельствах – как можно быстрей научиться врать.
Впрочем, это искусство Луиза Захаровна освоила гораздо раньше. Года в четыре, после первой же попытки рассказать матери о хрустальных башнях и веселых хороводах крылатых лисиц за окном. Хотела поделиться радостью, но мать до смерти перепугалась, принялась щупать лоб, бормотать: «Меньше надо смотреть мультфильмы», – а потом еще несколько дней косилась на дочь с такой откровенной тревогой, что хочешь не хочешь, а пришлось научиться говорить только то, чего от тебя ждут. Предварительно угадав.
Очень полезный оказался навык, спасибо ему за наше счастливое детство. И всю остальную жизнь.
Так рада была увидеть Сайдарьялли, что сидела бы тут до самого вечера. Но с четырех до пяти должны были привезти продукты из интернет-магазина. Совсем о них забыла, но курьер, молодец, оповестил заранее: «Планирую быть у вас примерно через двадцать минут». Пришлось спешно отправляться домой.
Шла по заснеженной улице Лидос, думала: ладно, ничего, немного осталось, скоро и у нас будет весна. Не такая буйная, как Сайдарьяльская, но тоже отличная. Всякие весны хороши.
Не успела снять пальто, как в дверь позвонили. Юный кудрявый курьер в красном форменном комбинезоне прошел на кухню, поставил на пол тяжелый пакет и две больших упаковки питьевой воды, ради закупок которой Луиза Захаровна и решилась когда-то освоить интернет-магазин. Оказалось, отличная штука: какие-то десять минут за компьютером, и дом под завязку забит припасами на пару недель вперед.
Курьер тем временем достал из папки бумаги, объяснил:
– У вас в заказе бутылка вина, поэтому надо написать вот тут дату вашего рождения, а здесь поставить подпись. Извините, такие правила.
– Да знаю я ваши правила, – улыбнулась Луиза Захаровна. – Давайте, напишу.
Ручка, которую дал ей курьер, из последних сил выдавила бледные «17. 12», почти невидимые «1» и «9», и почила с миром. В смысле окончательно перестала писать. Курьер смутился и принялся судорожно шарить по карманам комбинезона; по выражению его лица было ясно, что запасной ручки у него нет, и он об этом прекрасно знает. Но готов демонстративно искать ее до конца времен, если его не остановить.
– Ничего страшного, – сказала ему Луиза Захаровна. – Свою принесу.
И пошла в комнату за ручкой. А когда вернулась, кудрявый курьер стоял у окна, опираясь на подоконник, и как-то подозрительно шумно дышал.
Подошла, тоже выглянула в окно. Алые стены домов отражаются в зеркальных тротуарах, прозрачные птицы-альбиносы деловито скачут по ветвям белоствольных деревьев. Шеттал. Один из самых ближних городов, часто проявляется. В детстве ужасно его боялась: из-за отражений ей казалось, что по земле текут кровавые реки. Но ответственность за интерпретацию всегда лежит на интерпретаторе. А на самом деле Шеттал мирный, спокойный город, кажется, очень удобный для жизни – насколько вообще можно судить о городе, на который смотришь из окна.
Одного взгляда на лицо курьера хватило, чтобы понять: он видит то же самое. Надо же, как ему… повезло? Не повезло? Кто знает. Это ему решать.
Сказала очень спокойно, почти равнодушно, словно речь по-прежнему шла о содержимом пакетов:
– Если вы увидели в этом окне нечто необычное, это не означает, что вы внезапно сошли с ума. Просто бывают такие окна, из которых можно увидеть разные удивительные вещи. И люди, способные эти удивительные вещи разглядеть. Нас исчезающе мало, но все-таки мы есть.
– Извините, пожалуйста, – почти беззвучно ответил курьер. – Все в порядке. Ничего необычного. А… а что необычное там должно было быть?
– Ну, если ничего необычного, то и говорить не о чем, – усмехнулась Луиза Захаровна. И сжалившись, добавила: – Такие уж окна в моем доме. Иногда в них можно увидеть не улицу Лидос, откуда вы только что пришли, а… – ну, к примеру, белые деревья, алые дома и улицы, словно бы залитые кровью. Но на самом деле никакой крови там нет. Просто тротуары зеркальные, в них отражаются стены домов, и получается такой вот интересный визуальный эффект. Впрочем, неважно. Я принесла ручку. Давайте подпишу вашу бумагу. Где она?
– Визуальный эффект? – повторил курьер. – Нет, постойте. Вы сказали, белые деревья и алые дома? И кровь на тротуарах… ладно, предположим, не кровь. Вы что, серьезно? То есть мне не мерещится? Вы их тоже видите? Как такое может быть?
– На самом деле сложно сказать, мерещится вам или нет, – вздохнула Луиза Захаровна. – Никаких доказательств подлинности я вам при всем желании не предъявлю. Но да, лично я тоже все это вижу – вот прямо сейчас. И не только сейчас, а почти всегда. Каждый день. В детстве думала, так и надо, на то и окна, чтобы за ними творились разные чудеса, главное, взрослым не говорить, они вечно все портят. Потом стала старше и поняла, что я сумасшедшая. Но решила, что если продолжать молчать и не подавать вида, никто не догадается. Правильно в общем решила, мама до самой смерти так ничего и не узнала. И сестра. И вообще никто.
– То есть они ничего необычного в этих окнах не видели?
– Ничего, – кивнула Луиза Захаровна. – Ни они, ни другие родственники. Ни мои одноклассники, которых я специально приглашала в гости, чтобы подвести к окну – а вдруг тоже увидят?
– И?..
– Никто, ни черта.
– Я бы на вашем месте, наверное, сам к врачу запросился, – мрачно сказал курьер.
– Тогда были другие времена, – заметила Луиза Захаровна. – Психиатров боялись куда больше, чем самых страшных болезней. И даже не то чтобы совсем зря. И я тоже боялась. Сто миллионов ужасных галлюцинаций была готова перетерпеть, лишь бы никто ни о чем не догадался и не потащил в дурдом. Тем более, что ужасными эти неведомые города никак не назовешь. А в один прекрасный день выяснилось, что они не совсем галлюцинации. По крайней мере, их вижу не только я.
– А как это выяснилось?
– Да очень просто. Как с вами сейчас. Когда я училась в десятом классе, мама нашла мне учительницу, как сейчас говорят, репетитора, чтобы подтянуть математику перед выпускным экзаменом. Договорилась с дочкой своей сотрудницы, студенткой-старшекурсницей, потому что настоящий преподаватель обошелся бы гораздо дороже; неважно на самом деле. Важно, что Милда – так ее звали – пришла в наш дом, увидела в окне примерно то же самое, что и вы, и заорала как резаная. Я попыталась ее успокоить, но не преуспела. Милда ушла и больше не возвращалась; уж не знаю, какую отговорку она нашла, но математику мне пришлось зубрить самой. Не представляю, как бедняга справилась с этим эпизодом; скорее всего, решила: померещилось, – и постаралась забыть. Зато для меня наша встреча стала огромной удачей. От Милдиных воплей рухнула ледяная стена, которую я выстроила между якобы безумной собой и остальными людьми. Вдруг стало ясно: никакая я не сумасшедшая, просто у некоторых людей с реальностью свой, особый договор – видеть то, чего для остальных как бы нет. С того дня я больше не одна на всем белом свете. Ну, скажем так, не настолько невыносимо одна, как прежде. А потом, много лет спустя, у меня появились и другие свидетели. Еще два человека. Не то чтобы много, но в моем положении каждый «еще один» – почти целый мир.
Курьер слушал ее с таким потерянным видом, что Луиза Захаровна милосердно добавила:
– Вы имейте в виду, ничего страшного с вами пока не случилось. Подумаешь – что-то не то в чужом окне увидели. Плюньте и живите спокойно. Можете смело сказать себе, что… ну, например, не выспались. Или отравились. Или даже случайно нарвались на заскучавшую отставную гипнотизершу в моем лице и стали жертвой нелепого розыгрыша. Чего только не бывает. Совершенно не обязательно выворачивать свою жизнь наизнанку из-за одного-единственного необъяснимого случая. Не беспокойтесь, эти видения не начнут всюду вас преследовать. Главное, никогда не ходите в кофейню на Вокечю угол Швенто Микалояус; там еще над входом черный ромб вместо вывески. И в Общий читальный зал Университетской библиотеки лучше не заглядывайте. И в лавку пряностей напротив цветочного рынка на Венуоле. И… В общем, в городе есть еще несколько подобных окон, но их не слишком много. Вероятность, что вы туда однажды попадете совсем невелика. Это только меня угораздило родиться в доме с такими интересными окнами. И всю жизнь тут прожить.
– А почему вы не переехали?
– Сперва просто не могла. Дети не выбирают, где жить. А как закончила школу, сразу уехала учиться в Питер; тогда он еще назывался Ленинград. Мама не хотела меня отпускать, но я смогла ее убедить. Удрала от своих наваждений, жить бы и радоваться, но я затосковала. Да так сильно, что через два года перевелась на заочный и вернулась домой. Мама была рада, а я получила обратно свои окна. И свои наваждения. В смысле все эти города.
– Города? То есть они разные? Их много?
– Да, довольно много. За свою жизнь я насчитала сто сорок шесть. Некоторые показываются очень редко, другие почти каждый день. Не знаю, от чего это зависит. И расспросить, сами понимаете, некого. Досадно, но это так.
Помолчали. Наконец курьер взял подписанную бумагу, нерешительно переступил с ноги на ногу и спросил:
– Значит я могу продолжать считать себя нормальным?
– Можете, если получится, – невольно улыбнулась Луиза Захаровна. – А если не получится, звоните. Я прожила долгую жизнь и успела придумать много разных способов себя успокаивать. Глядишь, и на вас какой-нибудь из них подействует. Не стесняйтесь. Мой телефон у вас есть.
Курьер не просил его провожать, но Луиза Захаровна не поленилась обуться, выйти в парадную и собственноручно открыть дверь. Сказала:
– Улица, как видите, на месте. И красного здесь – только ваш фургон.
Он кивнул:
– Спасибо. Честно говоря, я боялся, что выйду, а тут то же самое, что было за окном. И куда мне тогда деваться?
– Совершенно нормальное опасение, – утешила его Луиза Захаровна. – Вы же только что своими глазами видели, что никакой улицы Лидос больше нет. Взрослому человеку непросто вот так сразу взять и перестать доверять собственному зрению. Однако факт остается фактом: моими заоконными наваждениями можно только любоваться, целиком туда не провалишься, даже если захочешь. Даже если очень захочешь. К сожалению, это так.
– «К сожалению»?! – почти возмущенно переспросил курьер.
– К сожалению, – эхом повторила она.
Курьер посмотрел на нее очень внимательно, как будто впервые увидел. Серьезно кивнул. Пошел было к машине, но вдруг остановился, обернулся и сказал:
– Меня зовут Марюс. Приятно было с вами познакомиться. И… спасибо за все.
Вежливый такой.
Дома, не разуваясь, прошла на кухню, села за стол и заплакала. Не от горя, конечно, но, пожалуй, и не от радости. Просто дала волю чувствам, которые пришлось придержать в узде, чтобы не напугать мальчишку. Сама на его месте совсем не хотела бы оказаться в цепких объятиях экзальтированной старухи, громко выкрикивающей названия зачарованных городов вперемешку с благодарностями судьбе и проклятиями ей же – за то, что не привела такого отличного напарника раньше. Это, кстати и правда вопрос: действительно ли поздно – лучше, чем никогда?
Ладно. Выбора-то в любом случае нет. И никогда не было.
Если бы можно было выбирать, с кем разделить свои удивительные видения, вряд ли ее выбор пал бы на заполошную трусиху, легкомысленную поэтессу и романтического забулдыгу. Да и саму себя она бы не выбрала. Для галлюцинаций сойдет вообще кто угодно, – думала порой Луиза Захаровна, – но для настоящих чудесных откровений нужно совсем другое существо. Утонченное и возвышенное, но при этом с железной волей, твердым характером, четко очерченным подбородком и лучистыми глазами в пол-лица. Это совершенно точно не я. И не Милда. И не Геннадий. И даже не Ленуте, хотя она-то как раз была хороша собой. Но чересчур круглолица, как кукла, не тот типаж.
Милда убежала с воплями и больше никогда не возвращалась, так что иногда поневоле задаешься вопросом: да была ли она?
Красавица Ленуте, случайно попавшая в дом, когда Луиза Захаровна после маминой смерти решилась продать кое-что из старинной мебели, напротив, фонтанировала восторгом, многословно рассуждала о мистическом таинстве навеки связавшей их дружбы, каждый день прибегала, чтобы посмотреть в ее окна, приносила вино. Выпив, тут же принималась декламировать новые стихи о чудесных миражах, рождающихся за пыльными стеклами. Положа руку на сердце, скверные были стихи. Зато пылкие, а за это многое можно простить. Но примерно полгода спустя Ленуте все это надоело, и она перестала заходить. А потом, кажется, уехала из города; в любом случае Луиза Захаровна больше ее не встречала. Бывает, оказывается, и так.
Сантехник Геннадий, в прошлом скульптор, давным-давно пустивший свою жизнь под откос, не стесняясь, плакал от нежности, глядя на синие звезды, загорающиеся над хрустальными куполами Дартумма, благодарно бормотал на ему самому неведомом языке: «Гьель труанак!» – тут же растерянно переспрашивал: «Это что такое я сейчас сказал?» – и безуспешно пытался вылезти во все ее окна поочередно, не в силах смириться с тем, что чудесные видения исчезают прежде, чем он успеет высунуть наружу хотя бы нос. С притворной бодростью говорил: «Ничего, значит завтра», – а Луизе Захаровне никогда не хватало духу его разубеждать. Надеялась, может быть однажды удастся провести его на балкон, а там пусть бежит на все четыре стороны, если сможет. Но в его присутствии балконная дверь не появилась ни разу, то ли это пространство не любит нетерпеливых, то ли просто не повезло.
По Геннадию Луиза Захаровна до сих пор скучала. Этот восторженный забулдыга стал для нее чем-то вроде внезапно обретенного старшего брата, невыносимого, но родного, терпеть его было совершенно невозможно, зато очень легко любить. Он был рядом целых четыре года, пока однажды ночью не вышел в окно. Не в одно из двух с половиной дюжин прельстительных окон в неведомое, которые они вместе успели отыскать в городе, а в самое обычное, у себя в квартире, на седьмом этаже блочного дома на спальной окраине, предварительно написав на стекле красным маркером: «Аварийный выход». Жестокая шутка. Оставалось надеяться, что хотя бы явившийся за Геннадием ангел смерти ее оценил.
Со дня его смерти прошло больше десяти лет, и Луиза Захаровна успела не только заново привыкнуть к полному одиночеству, но и более-менее убедительно объяснить себе, чем оно хорошо. И вдруг появляется этот серьезный кудрявый мальчик. Вряд ли, конечно, он захочет продолжения. А если захочет, ему совершенно не обязательно возвращаться, сама дала ему подсказку, с чего начинать. Но все равно, какое же счастье, что он есть на свете. Просто есть.
Немного успокоившись, Луиза Захаровна взяла сигарету, автоматически отметив: «сегодня вторая». Вышла на балкон. Закурила на пороге. Привычно массируя грудь, кое-как доковыляла до табурета. Обрадовалась, убедившись, что усаживаться уже не обязательно, ноги больше не ватные, и замершее было сердце снова бьется в обычном ритме. Но все равно села, сидя приятней курить и смотреть на плоские крыши Бьярди, зеленеющее вдали море и такое же зеленое небо над головой.
Луиза Захаровна очень любила Бьярди; возможно, вообще больше всех. Отчасти потому, что здесь ее дом выглядел не привычной частью пейзажа, как в других городах, а высокой белой башней, которая иногда появляется на дальней окраине, а все остальное время, согласно местным поверьям, остается невидимой. Жители Бьярди верят, что в этой белой башне живет прекрасная фея, которая помогает заблудившимся во тьме собственных сновидений путникам найти дорогу обратно, в явь. Но без особой нужды к ней лучше не соваться, а башню, видимая она или нет, обходить десятой дорогой. Этой легенды с лихвой хватало чтобы удовлетворить все запасы отпущенного Луизе Захаровне тщеславия. Все-таки очень приятно знать, что в каком-то далеком, чужом, непонятно как устроенном и даже не факт что вообще существующем мире тебя считают прекрасной феей. О чем еще вообще можно мечтать.
О чем еще можно мечтать, – умиротворенно думала она, сидя на балконе своего старого дома в центре Вильнюса, на улице Лидос, и одновременно на окраине города Бьярди, столицы Моланского Королевства, расположенном на юго-востоке Вечернего континента Тай-Туры. Пока смотришь в окно, таких подробностей не узнаешь, но когда сидишь на балконе, знания приходят сами, с каждым глотком чужого воздуха, смешанного с горечью сигаретного дыма. То ли награда за каждодневную работу свидетелем существования всех этих чужих реальностей, то ли, напротив, дополнительная обязанность – не только видеть, но еще и знать. Удивительно все это устроено. Хорошо бы однажды узнать, почему и зачем оно так.
Кудрявый Марюс, конечно, не позвонил. Ни вечером, ни на следующий день. Луиза Захаровна не особо надеялась на его возвращение, но с телефоном не расставалась, и звук не отключала даже на время работы и сна, хотя просыпаться раньше времени от рекламных смс и звонков тревожной племянницы Тамары – невелико удовольствие. Но в любой ситуации надо делать, что можешь, а она больше ничего не могла.
Напрасно старалась, звонить ей Марюс не стал. А просто постучал в ее дверь – две недели спустя, когда пришло время снова пополнять запасы воды и продуктов. Сразу, с порога, даже не поставив на пол тяжелые пакеты, сказал:
– Я очень хотел вам позвонить, но стеснялся. Зато выяснил по базе, что вы наш постоянный клиент и внимательно следил за заказами, чтобы перехватить себе ваш. Потому что…
Он запнулся и умолк. Луиза Захаровна не произнесла ни слова, только адресовала ему вопросительный взгляд: ну же, давай, говори! Почему?
– …потому что из окна лавки пряностей напротив цветочного рынка я снова увидел те самые белые стволы деревьев и алые стены домов. И кстати, на этот раз внимательно разглядел мостовые. Действительно просто отражения крашеных стен, никакая не кровь. А в окне кафе с черным ромбом на Вокечю в первый раз были такие потрясающие башни лилового цвета! И над ними, низко-низко сияющие как будто позолоченные облака.
– Шор-Обриан, – кивнула Луиза Захаровна. – Великолепное зрелище. И довольно редкое, вам повезло.
– Я в то кафе теперь каждый день захожу, – признался Марюс. – И каждый раз в окне что-то новое. И почти всегда выглядит, как будто смотришь с большой высоты, хотя там первый этаж, причем совсем низкий, над самой землей. Сфотографировать, конечно, не получается, сколько раз пробовал, ничего не выходит. Но вот что интересно: того пейзажа, который, по идее, должен на самом деле быть за окном, на этих фото тоже нет. Только какая-то серая муть. Думаю, это вполне можно считать доказательством, что с окнами действительно происходит нечто из ряда вон выходящее. Были бы у меня обычные галлюцинации, это вряд ли помешало бы камере зафиксировать реально существующие улицы и дворы.
– Я тоже в свое время пыталась все это сфотографировать, – призналась Луиза Захаровна. – Примерно с тем же результатом. Сколько дорогой пленки перепортила, знали бы вы! Но до ваших выводов я тогда так и не додумалась. Хотя, казалось бы, очевидно! У вас на редкость ясная голова, – и посторонилась, пропуская его в кухню.
Там курьер наконец избавился от пакетов и подошел к окну. Некоторое время стоял неподвижно, смотрел. Луиза Захаровна его не торопила. Наконец он сказал:
– Такие интересные дома со стенами-лестницами. Немножко похоже на пирамиды Майя, только не пирамиды. Просто жилые дома. Я даже занавески на окнах отсюда вижу. А на крышах растут деревья. И кто-то там качается в гамаке.
– В Ку-Лактимуре такой обычай: сады на крышах домов сажают все вместе. Домовладельцы, их друзья и родные, соседи, просто прохожие, которые шли мимо и решили составить компанию. И отдыхать в этих садах имеют право все горожане без исключения. Для того и внешние лестницы – чтобы любой желающий мог подняться в сад, не тревожа жильцов. Вроде бы считается, что этот обычай установился по требованию деревьев, которые хотят ежедневно встречаться с разными людьми, как если бы росли на улицах и площадях. Затащили нас на крышу, будьте любезны обеспечить хорошей компанией, а не то зачахнем и никогда не зацветем, – вот и весь разговор. Хочешь не хочешь, а приходится идти им навстречу.
– А откуда вы все это знаете? – спросил Марюс. – Тамошние люди иногда подходят к вашим окнам и рассказывают о себе?
– Такого, к сожалению, пока не случалось, – улыбнулась она. – А жаль! Я, как и ку-лактимурийские деревья, люблю новые знакомства.
– Но как же тогда?
– Сложно объяснить, – вздохнула Луиза Захаровна. – Проще сказать: считайте пока, что у меня неуемное воображение. А там поглядим. Надеюсь, однажды вам удастся выйти на мой балкон. Тогда сами разберетесь.
– Но в вашем доме нет балконов, – растерялся Марюс.
– Совершенно верно, нет, – кивнула она. – И за окнами у меня, не забывайте, улица Лидос, а вовсе не какой-то неведомый Ку-Лактимур. Но для нас с вами эта информация больше не представляет особой ценности. У нас с реальностью отдельный договор.
Улица Литерату (Literatų g.) Дипломная работа
– Ну как – что делаю. Пью и плачу, – сказала Санта. – А чего ты хотел.
Она говорила правду. Санта, она же Санта Мария, она же Сан-Маришка, она же Машечка фон Михальски, она же Михальская Мария Игоревна тысяча девятьсот семьдесят четвертого года рождения, проживающая по адресу Вильнюс, улица Литерату, а иногда совсем по другому адресу, а изредка и вовсе даже по третьему, мир велик, вообще всегда говорила правду и только правду.
Вот и сейчас она действительно пила – горький тоник «Швепс» из ностальнического граненого стакана. И плакала, потому что резала лук.
– Прости, дорогой друг, – сказала Санта. – Я безумно рада тебя слышать, но уже задолбалась держать телефон ключицей и подбородком. А руки заняты. Я тебе скоро перезвоню, хорошо?
Лука она нарезала уже целую миску. Оставалось его посолить, сбрызнуть уксусом, залить подсолнечным маслом, мутным, нерафинированным с острым запахом жареных семечек, щедро добавить мелко нарезанный черный ржаной хлеб, и любимый салат готов. Папа иногда делал себе его по ночам, Маша в таких случаях неизменно просыпалась, не открывая глаз, брела на запах лука и жареного масла за своей долей счастья, их общего большого секрета от всех-всех-всех.
Папы уже давно нет, но дело его живет. Никогда заранее не знаешь, какие именно ценности и идеалы удастся передать потомству. Учишь-учишь детей трудолюбию, бесстрашию и, предположим, теоретической физике, а эти мерзавцы перенимают у тебя только манеру жрать репчатый лук с постным маслом, традицию засиживаться за книжкой до середины ночи и любовь к спагетти-вестернам. Например.
Разделавшись с луком, Санта сунула нож в мойку, смела очистки в мусорное ведро, потянулась за уксусом, и в этот момент услышала подозрительный шорох в кабинете. Ну или в спальне. Или в гостиной. Когда у тебя всего одна комната, можно называть ее как угодно, в зависимости от обстоятельств. Если, к примеру, услышав посторонний шорох, сразу думаешь: «Ой, там же компьютер!» – значит, речь несомненно идет о кабинете. А если бы спохватилась, что там с утра погибает от скуки позабытый-позаброшенный сердечный друг, подумала бы: «В спальне», – это при условии, что он там голый. А одетый гость, по идее, может скучать только в гостиной. В общем, все сложно. Но логично и очевидно, по крайней мере, ей самой.
А в данном случае комната определенно была именно кабинетом, потому что на Сантином стуле сидел какой-то незнакомец и рылся в ее компьютере. Ну, то есть, слава богу, не пытался извлечь из него богатый внутренний мир при помощи крестовидной отвертки, а просто просматривал текстовые файлы. Просто! Просматривал! Файлы! В ее компьютере!!! Черт бы его побрал.
Мерзавец так увлекся эти занятием, что не заметил Санту. И, таким образом, развязал ей руки. Никогда заранее не знаешь, как поведешь себя в стрессовой ситуации – например, застукав у себя в кабинете незнакомого грабителя. Санта сама удивилась, когда метнулась на кухню за ножом, которым резала лук. И вернулась, потрясая этим грозным оружием, длина лезвия – восемь сантиметров. Могла бы и маникюрные ножницы прихватить, чего уж там.
Вооружившись таким образом до зубов, она заявила о себе громким воплем: «Руки вверх».
Незнакомец обернулся и уставился на нее – с досадой и одновременно с любопытством. Как на гималайского медведя – ясно, что эта здоровенная штука опасна, но все-таки никогда раньше живьем их не видел, ужасно интересно, хотя, конечно, полный трындец.
– Трындец, – наконец сказал он. И добавил: – Моему диплому.
– Диплому? – взвилась Санта. – В международном университете квартирных воров?
– Почти угадали, – согласился незнакомец. И улыбнулся. Настолько обаятельные улыбки надо бы запретить, как оружие массового поражения.
Он был тощий, загорелый, белобрысый и совсем юный, почти подросток. Ну, то есть вот эта прекрасная стадия превращения мальчишки в мужчину, которую большинство экземпляров, к сожалению, проходят буквально за несколько суток, а немногие избранные счастливчики застревают в ней чуть ли не на полжизни, и из них выходят такие неотразимые гады, хоть стой, хоть падай, хоть пей и плачь.
А этот засранец…
– Ой, – сказал засранец. – Конечно, вы подумали, что… Ну точно! Ой-ой-ой, совсем плохи мои дела. Слушайте, а знаете что? Давайте я вам кое-что покажу. Просто чтобы вы не думали, будто я – обычный грабитель. Мне очень надо с вами поговорить, если уж так получилось. У меня, понимаете, правда диплом. И правила техники безопасности, которые нельзя нарушать, но если никто никогда не узнает, то все-таки можно. В общем, смотрите.
И исчез.
Вот просто исчез и все. Как не бывало.
В ответ на столь дерзкую выходку мироздания гражданка Санта Мария Михальская-Игоревна сделала не менее оригинальный ход: перекрестилась. Впервые в жизни. И вовсе не была уверена, что выполнила упражнение в правильной последовательности. Но тут уж ничего не попишешь, остается только уповать на милосердие Господа – при условии, что он есть, и ему действительно не все равно, как мы выполняем предписанные обряды. Следит с блокнотиком и отмечает, кто напортачил, потом разбор полетов на Страшном Суде, всем очень стыдно.
Пока сквозь Сантину опустевшую от потрясения голову с визгом, свистом и хохотом проносилась вся эта адская чушь, белобрысый воришка снова возник в ее кресле. Спросил строго:
– Вы уже поняли, что происходит?
Но тут же огорченно покачал головой и сам себе ответил:
– Ясно, не поняли. Придется еще раз. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Чтобы потом не говорили: «Померещилось, померещилось!»
И – совершенно верно – снова исчез.
Второй раз Санта креститься не стала. Хорошенького понемножку. Тем более, от белобрысого крестное знамение все равно не помогло. Может быть, он ангел? Тогда, конечно, его такой ерундой не проймешь.
– Я вас не очень напугал? – заботливо спросил мальчишка, снова материализовавшись в кресле. – Вам не стало дурно? Вы – как бы это вежливо сформулировать? – не обосрались?
– Чего-о-о-о?! – грозно переспросила Санта.
– А, «обосрались» – это как раз невежливо, – спохватился он. – Вежливые люди говорят: «не обдрыстались», правильно?
Поскольку рассердиться еще больше, чем она уже успела, было совершенно невозможно, Санта села на пол и расхохоталась. От смеха ей как-то сразу полегчало. Подумаешь – какой-то белобрысый мальчишка. Ну, появился невесть откуда, ну, исчез. Если даже он галлюцинация, ничего страшного, такое со всеми время от времени бывает. А не со всеми, так с многими. И ничего, живут потом дальше. И даже рассказывают иногда по пьяному делу друзьям. И я потом буду рассказывать. Наверное. Может быть. Если смогу столько выпить.
– Первое правило Ал-Люри в действии! – восхищенно сказал мальчишка. – Работает, надо же, а. Не то чтобы я ему не верил, но…
– Чего? – переспросила Санта. – Что еще за «ай-люли»?
– Ал-Люри, – поправил ее гость. – Профессор Ал-Люри читает у нас правила техники безопасности. Он говорил: «Если вас застукали в момент перемещения или трансформации, постарайтесь насмешить свидетеля. Так его психике будет гораздо легче обрабатывать информацию о событии, относящемся к категории так называемых «невозможных». Повторю: не то чтобы я не верил профессору, но когда впервые поверяешь теорию практикой и убеждаешься, что она работает, это не может не удивлять.
– Елки, – сказала Санта.
Просто чтобы поддержать беседу.
– Извините, что доставил вам психологический дискомфорт, – сказал белобрысый. – Я исчез не для того чтобы вас напугать или подразнить, а только ради наглядной демонстрации своей неземной природы.
И улыбнулся – видимо тоже ради наглядной демонстрации неземной природы. Если и есть где-нибудь во Вселенной ангелы, готова спорить, они выглядят именно так.
– Я не грабитель, не хулиган и даже не галлюцинация, – добавил он. – А просто Ловец Книг. Ну, если совсем честно, то еще студент Лейнского Университета. Но уже заканчиваю последний курс по специальности «Непризнанные гении». Пишу диплом. Поэтому я здесь.
– Перебор, – вздохнула Санта. – Это, наверное, второе правило вашего профессора техники безопасности. «Если в ваше существование не верят, делайте комплименты, и сразу поверят, как миленькие». Так?
– Примерно, – удивленно согласился мальчишка. – Правда, правило не второе, а пятое. И формулируется немного иначе: «Сообщайте информацию настолько приятную собеседнику, что ради возможности считать ее достоверной он будет вынужден признать объективно существующим ее источник, то есть, вас». Но по сути вы все верно описали.
– Ну елки, – снова сказала Санта.
Вот так живешь-живешь, считаешь себя выдающимся мастером слова, а как дойдет до полевых испытаний, выясняется, что ничего кроме банального «елки» в твоем арсенале нет. А если и есть, то совсем уж непечатное. Как-то неловко при столь явно несовершеннолетней галлюцинации обсценной лексикой щеголять.
– Ужасно жаль, что так получилось, – сказал белобрысый. – Я не хотел вас беспокоить. Да и по правилам техники безопасности нельзя. Если мой руководитель узнает, что я ввалился к вам в дом в вашем присутствии, он мне голову оторвет. Потом правда приделает на место, потому что добряк и либерал. А вот если об этом узнают остальные преподаватели, плакала моя защита. И хорошо еще если только на год отложат, потому что могут и на три. И даже на десять. У нас в последнее время страшные строгости развели. Но у меня, понимаете, просто не было выхода!
– В каком смысле? – вяло спросила Санта.
Если бы кто-нибудь еще вчера сказал, что ей будет совершенно неинтересно слушать незнакомца, чудесным образом появляющегося в ее доме и с такой же легкостью исчезающего, ни за что бы не поверила. Но факт остается фактом: интересно ей не было.
«Наверное, именно так действует на меня шок, – думала она. – Не повезло! Другая бы на моем месте в истерике билась, звонила в полицию, родственникам и друзьям, молилась бы об избавлении от лукавого, биясь головой об пол, или просто выскочила бы из дома, как есть босая и без штанов, в одной мужской сорочке, заменяющей домашний халат, и помчалась бы по улице, оглашая ее паническими воплями. Знатно бы повеселилась! А я сижу на полу, как дура, слушаю вполуха эту белобрысую галлюцинацию, и даже не решаю сейчас мучительно, верить ей или нет. Потому что мне все равно».
Стыд и позор, на самом-то деле.
– Стыд и позор, я затянул до последнего, – признался гость. – Думал, успею, я способный, первый на курсе, всегда все в самый последний момент делал и все равно отлично сдавал. И тут вдруг – бабах! – просыпаюсь и понимаю, что завтра уже первая консультация с руководителем, надо хоть что-то показать, а у меня даже материалов нет. Их вообще нигде нет, только в вашем компьютере. А вы сегодня как назло весь день дома. Что мне было делать? Думал, я тихо, быстренько скопирую, пока вы на кухне, и бегом обратно. А вы все-таки услышали. Мне очень стыдно. Но я ужасно рад, что могу с вами поговорить. Я давно мечтал.
– О чем вы мечтали? – удивилась Санта. – Поговорить со мной?
– Ну да. Я читал ваш рассказ. Правда, пока всего один – про мальчика, который ходил по ночам в порт. Но это было так круто, что я твердо решил: моим дипломом будет ваша книга. Тем более, это же действительно моя специальность, не придерешься. «Непризнанные гении». И как раз вашу книжку никто не хочет издавать, все сходится!
– Не хотят, – подтвердила Санта. И, не удержавшись, процитировала избранные фрагменты из переписки с издателями: – «Читателю не нужны короткие тексты», «читателю не нужна такая сложная проза», «нашим читателям не интересны русскоязычные авторы, проживающие за рубежом». Советуют стать популярным блогером – тогда, дескать, есть шанс. Блогером, едрить их наперекосяк!
– «Едрить наперекосяк» – это очень красиво сказано, – мечтательно протянул белобрысый. Торопливо достал из кармана блокнот и записал туда приглянувшуюся фразу.
Видимо, и правда отличник. Первый на курсе, не кот чихнул.
– У вас действительно безобразно относятся к талантливым писателям, – сказал он, спрятав блокнот в карман. – Чем лучше ты пишешь, тем меньше шансов, что это хоть кому-то нужно. Я довольно давно изучаю вашу ситуацию, с четвертого курса, когда окончательно определился с сектором предстоящей работы, а все равно до сих пор в шоке. Невозможно к такому привыкнуть! Ну и сразу стало ясно, чем следует заниматься. На что не жалко положить жизнь.
– Это на что же вам не жалко положить жизнь? – опешила Санта.
– На восстановление справедливости, – объявил белобрысый мальчишка.
И вид при этом имел такой серьезный, даже суровый, что Санта невольно встревожилась за судьбу отказавших ей издателей. Мало ли что этой галлюцинации в голову взбредет.
– Это как? – наконец спросила она.
– Я не могу изменить вашу реальность, – печально признался гость. – Но, по крайней мере, могу сделать, чтобы ваши непризнанные гении стали признанными у нас.
– У вас?
– Надо все-таки попробовать объяснить ситуацию, – вздохнул он. – Вы и сами, наверное, уже поняли, что я не совсем настоящий человек.
«Не совсем настоящий»! Как метко.
– На самом деле я вполне настоящий, – сказал студент. – Там, у себя дома. В той реальности, естественной частью которой являюсь. А здесь, у вас, и в других подобных местах я могу временно овеществляться. Меня этому учили. Это основа моей профессии. Я – Ловец Книг.
– А они что, от вас убегают? – спросила Санта.
Идиотская шутка. Но иногда просто невозможно удержаться.
– Книги, конечно, не убегают, – терпеливо объяснил он. – Просто у нас их никто не пишет. Художественную литературу, я имею в виду. Научной-то как раз полно, с этим никаких проблем. А вот сочинять истории мы не способны. Все дело в нашем языке. Природа его такова, что невозможно говорить и, тем более, писать о том, чего не было. Потому что слово у нас равновелико делу, и всякая произнесенная ложь пытается стать правдой, круша и сминая реальность, это очень опасно для всех, а для автора – практически самоубийственно.
– Это получается, и соврать нельзя? Даже если очень надо?
– Промолчать всегда можно, – улыбнулся белобрысый. – Порой это очень спасает. Но мы говорили о книгах. Так вот, своей художественной литературы у нас нет. При этом наши ученые еще в незапамятные времена доказали, что чтение вымышленных историй могло бы принести огромную пользу, обогащая нас опытом, пережить который иначе нет никакой возможности.
– Это правда, – кивнула Санта.
Она сама всегда думала, что книги нужны в первую очередь для этого. Опыт – драгоценность, равной которой нет. Чем больше его, тем лучше. Зачем – потом разберемся. Лишь бы был.
– Попытки создать собственную художественную литературу привели к череде крупномасштабных катастроф, – печально сказал ее гость. – Однако восемьсот лет назад, благодаря эксперименту профессора Перемещений Тио Орли Ая, выяснилось, что вымысел, сочиненный в иной реальности, может быть без каких-либо последствий озвучен и даже воспроизведен в письменном виде у нас. Видимо, с точки зрения нашего языка, это не ложь, а просто цитирование. И ничего ужасного не происходит. Так родилась наша профессия – Ловцы Книг. Люди, способные временно становиться частью иной реальности и возвращаться оттуда с добычей.
– То есть с книгами?
– Совершенно верно, – кивнул он. И с простодушной гордостью добавил: – Все остальное у нас и так есть.
– Ничего себе профессия, – одобрила Санта. – Даже завидно. Я бы сама с радостью чем-то таким занималась.
– Самая лучшая в мире! – с энтузиазмом подтвердил ее гость. – У нас все с детства мечтают стать Ловцами Книг. Но мало кому удается. Потому что, во-первых, способность проникновения в иные реальности довольно редко встречается. Нас даже меньше, чем хороших музыкантов, представляете? Но одной способности мало. Потому что, во-первых, приходится учить ваши языки. А такой ужас мало кто выдерживает.
– Да прям, тоже мне ужас ужасный – языки учить.
– Для нас – да. Потому что ваши языки принципиально другие. Иной природы, понимаете? Они допускают вымысел, и одного этого достаточно, чтобы чокнуться. Я, честно говоря, в конце первого года обучения чуть не бросил все к черту. Но как-то перетерпел, и потом дело пошло.
– Вот оно как, – растерянно откликнулась Санта.
– Но ни способность перемещаться между реальностями, ни даже знание языков не помогут, если у тебя нет вкуса и чутья, – завершил мальчишка. – Без вкуса и чутья никогда не станешь экспертом. А если не быть экспертом, в нашей профессии делать особо нечего. Ну, будешь годами таскать что попало наугад, много не заработаешь, потому что платят только за добычу, принятую к изданию, в конце концов, сам себе надоешь и уйдешь в переводчики. Тоже неплохая профессия, но совсем не то.
– Ясно. Так ты… Вы – эксперт?
– Очень на это надеюсь, – улыбнулся он. – По крайней мере, я действительно первый на курсе. А значит, чего-то да стою. В смысле вкус и чутье у меня точно есть. И самое главное, у меня есть идея. Такая, знаете, Идея с большой буквы. В нашем деле без этого нельзя. Ну, то есть, на самом деле, можно, но недолго. Когда нет идеи, от всего быстро устаешь.
– Что за идея-то?
– Непризнанные гении, конечно! – торжествующе воскликнул он. – Вообще-то, специальность не очень популярная. У нас, понимаете, до сих пор считается, что надо переиздавать книги, проверенные временем. Мои старшие коллеги тащат их из ваших магазинов и библиотек. А я считаю, что так мы упускаем самое интересное. И мой профессор со мной полностью согласен. Ну, то есть, если совсем честно, это я с ним согласен, он все-таки первым понял, как обстоят дела. Но я и сам уже проделал большую работу. Например, научился искать ваших непризнанных гениев через интернет. Хорошо, что у вас изобрели такое хранилище информации. Как будто специально для нас постарались! Очень удобно стало искать интересные книги. А со временем начинаешь понимать некоторые принципы, облегчающие поиск… В общем, неважно. Важно, что именно таким способом я нашел в интернете ваш рассказ. Потом нашел ваш личный дневник, из которого узнал, что рассказов довольно много, на целую книгу набралось. И о том, что ее не хотят публиковать, тоже узнал. И очень обрадовался… Ой, извините, я только сейчас понял, как это обидно звучит! Но я хотел сказать, что обрадовался, потому что это же готовый диплом. Первое издание книги ваших рассказов у нас, а не у вас. Именно то, что надо! Восстановление справедливости – раз, использование новейших технологий вашей реальности – два, утешение и поощрение автора – три…
– Это в каком смысле? – опешила Санта. – Как вы собираетесь меня утешать и поощрять?
Белобрысый студент замялся. Наконец смущенно сказал:
– Понимаете, я подумал: может быть, для вас это важно? Ну, знать, что где-то, пусть даже в другой реальности есть человек, который без ума от вашего рассказа. И в лепешку готов разбиться, чтобы издать вашу книгу. И профессор, мой научный руководитель, который тоже прочитал ваш рассказ и разрешил мне поступать на свое усмотрение, и уже написал распоряжение в главную типографию, хотя до сих пор там никогда не печатали студенческие работы, даже дипломные, это невероятная удача, вы не представляете, насколько! И скоро куча народу будет читать ваши рассказы. Вам даже в наше существование поверить непросто, а мы все равно будем читать вашу книгу в переводе на наш, совершенно немыслимый и невообразимый для вас язык, и все равно все поймем, представляете?
– Не представляю, – честно сказала Санта. – Значит, это и есть положенное мне утешение и поощрение?
– Ну да, – простодушно подтвердил ее гость. – Окажись я на вашем месте, я хотел бы узнать, что все было не зря. Что меня слышат. А кто и где – это уже дело десятое. Я так устроен. А вы нет?
– Даже не знаю, – растерянно сказала Санта.
И только тогда поняла, что разговаривает со своим пустым стулом. Таковы будни непризнанного гения, можете начинать трепетать.
– Нет, я больше не пью и не плачу, – говорила Санта в телефонную трубку минуту спустя. – Прости, что сразу не перезвонила. У меня тут были непростые переговоры с будущим издателем. Смешная история. Когда получу сигнальный экземпляр, расскажу.
Улица Майронё (Maironio g.) Трижды семь
Семь звонких стеклянных лет, семь пустых оловянных лет, семь сонных деревянных лет.
Думал: вот ведь прицепилось. И крутится, и крутится в голове с самого утра, как заезженная пластинка. Приснилось, что ли. Да ну, быть не может. Мне же никогда не снятся сны.
Думал: а ведь я это уже слышал. Где-то, когда-то. Голова дырявая, не могу вспомнить. Ай, ладно, слышал, не слышал. Мне бы теперь забыть поскорей.
Но, как известно, захотеть что-то забыть – самый простой способ затвердить это наизусть. Даже удивительно, что до сих пор никто не додумался применять этот метод для изучения иностранных языков. «Здравствуйте, дети, я ваш новый учитель, я помогу вам забыть, что вы умеете говорить по-немецки», – и все, успех гарантирован, ученики уже через год будут Гёте наизусть километрами шпарить, не подглядывая в шпаргалки.
Пока думал, почти добрался до рынка. Тут идти-то всего ничего: мимо Барбакана, вниз с холма, заросшего густой, темной, цвета вишневого сока, травой, спуститься на Майронё, перейти дорогу, и ты на месте. Торгуют там только раз в неделю, по четвергам, а это не всегда удобно. Но плевать. С тех пор, как проходя мимо зимним вечером, три с половиной года назад, увидел оранжевое мерцание свечей на деревянных прилавках, свернул, попробовал сладковатый домашний сыр у румяной от мороза крестьянки, возвращался сюда каждый четверг, как на работу. Походы на рынок неизменно поднимали настроение, купленные там соленые огурцы, чеснок и ветчина лежали потом в холодильнике, радуя глаз обещанием скорого праздника. Врали, конечно. Ну и что.
Думал: забавно, сколько лет живу в этом городе, а почувствовал себя более-менее своим, местным только с тех пор, как стал ходить на дурацкий маленький рынок у реки.
Кстати, а сколько, собственно?
Семь звонких стеклянных лет, семь пустых оловянных лет, семь сонных деревянных лет.
Неужели действительно двадцать один год? Господи, твоя воля. По ощущениям – ну, лет пять. Или шесть. При том, что всегда казалось, время здесь течет медленно, как темный гречишный мед. И цвет у него такой же. И эта невыносимая муторная сладость, хоть реку выпей, не запьешь.
От одной только мысли о ходе времени начало подташнивать. Пришлось сесть на лавку. Перевести дух. Дурацкая слабость. Вроде не старый еще совсем. И никогда не болел. Но чуть что – ноги ватные, и вот эта противная дурнота, как будто начинает укачивать. Впрочем, ничего страшного, можно перетерпеть. Как и жизнь в целом.
Сидел на лавке, ощущая, как заполняется сырым речным ветром невидимая дыра в груди. Это было совсем не больно, скорее сладко. Но почти невыносимо, как слишком затянувшийся поцелуй. Думал: однажды эта дыра станет больше меня, и тогда, наверное, можно будет нырнуть туда, как в колодец, и пропасть навек. Скорей бы уже, а. Все равно не живу, только хожу, дышу, ем, думаю. Но это совсем не то.
Думал: интересно, что же такое я потерял двадцать один год назад, когда приехал сюда? Или еще раньше? Настолько важное, что даже вспомнить теперь не могу. Это называется «вытеснение», знаем, читали, нынче все читают популярные книжки про психологию, как прежде без разбору глотали романы, и меня не минула чаша сия. Но если вдруг все-таки вспомню, что будет? Умру, не в силах пережить такую потерю? А что, вышло бы забавно.
Сказал себе: да ладно, какого черта расквасился. Встань и иди. Встань и иди, слышишь? Купи себе три стакана смородины, красной, черной и белой. И дюжину помидоров, например. Если уж все равно надо жить дальше.
Конечно, встал и пошел. Куда деваться.
Синеглазая травница, как всегда, заняла крайний прилавок у входа. Или у выхода – это смотря откуда идешь. Красивая. Сколько, интересно, ей лет? Иногда кажется, за пятьдесят, иногда – что и тридцати нет. Словно у нее бурный роман с Кроносом, и они то бранятся, то мирятся, и стрелки ее внутренних часов скачут туда-сюда в зависимости от того, как у них с утра все сложилось. Поначалу вообще думал, что это мать и дочь по очереди торгуют, но постепенно, как следует приглядевшись, убедился: женщина всегда одна и та же – тонкий шрам на среднем пальце левой руки, одна бровь аккуратной дугой, вторая словно бы переломлена пополам, маленькая треугольная, будто нарисованная родинка на щеке и еще множество мелких неповторимых примет, исключающих подмену.
Всегда останавливался возле ее прилавка – просто поздороваться, перекинуться парой слов. Товаром не интересовался. И рад бы еженедельно скупать всю эту душистую роскошь – лекарственные сборы, травяные чаи, зелень в горшках, говорящие семена, сухие зимние букеты, льняные мешочки, туго набитые лавандой – но для этого требовался совсем другой дом, большой, уютный, со скрипучими деревянными половицами, заставленный солнечной мебелью из светлого дерева, выстеленный домоткаными коврами, залитый светом по утрам, таинственно шуршащий синевой в сумерках, до краев переполненный топотом босых ног и детскими голосами, звеневшими в недавнем прошлом, или только обещающими раздаться когда-нибудь годы спустя, или звучащими вот прямо сейчас, это как раз совершенно неважно, потому что такие дома стоят, прочно укоренившись во всех временах, наслаждаясь настоящим, черпая силу в прошлом, устремившись в будущее.
А тащить чудесные благоуханные травы в съемную комнату, больше похожую на походный шатер воина, уже не первый год осаждающего невидимую и, будем честны, никому не нужную крепость, было бы жалким мошенничеством. Сколько ни тверди: «Я тоже тут живу, как все», – себя, увы, не обманешь. Потому что прекрасно знаешь: не как все, почти не живу. И даже не то чтобы «тут».
Травница, похоже, прекрасно понимала, что невысокий мужчина в неизменной джинсовой куртке с небрежно собранными в хвост не то седыми, не то пепельными волосами, не ее клиент. Во всяком случае, никогда ничего не предлагала, кроме неизменной серебряной рюмки с липовым чаем, который заваривала в огромном термосе и потом целый день угощала покупателей и коллег. Кивала приветливо, говорила, что рада видеть, спрашивала ласково, как дела. Изредка позволяла себе заметить: «Лето, а вы все в городе. Неужели не хотите уехать в отпуск? Все ездят».
Вежливо отмалчивался, неопределенно пожимал плечами – дескать, и рад бы, да пока не выходит.
Про себя думал: «Господи, какой еще отпуск. Куда мне уезжать? Я же совсем недавно приехал. Семь звонких стеклянных лет, семь пустых оловянных лет, семь сонных деревянных лет назад.
Всего-то.
На этот раз сказала прямо, без обиняков:
– Бледный вы совсем, лица на вас нет. Устали? Вам бы к морю хоть на недельку.
Хотел, как всегда, отмолчаться, отделаться ускользающей улыбкой – дескать, да, хорошо бы, а все же придется отложить на потом. Но вместо этого вдруг сказал – тоже прямо, без обиняков, как она:
– Да какое море. Некому туда ехать. Чувствую себя даже не тенью собственной тени, чем-то гораздо меньшим. Столько лет уже нет меня. Столько лет. Устал быть мороком. Совсем запутался. Имя едва помню, да и то не уверен, свое ли. Хоть бы расколдовал кто.
Поглядела пристально. Усмехнулась:
– Расколдовать – это можно. Ну-ка, поглядим, что у меня сегодня есть.
Опомниться не успел, а она уже принялась рыться в своих мешках. Брала по щепотке, по листику, по цветку, складывала в бумажный пакет. Встряхивала его, чтобы все смешалось, сыпала дальше.
Подумал: «Господи, только этого мне не хватало. Кто за язык тянул? Теперь придется покупать. Денег-то не жалко, но куда девать такое добро? Будет годами пылиться на кухонной полке. Сам я чай не пью, тем более, травяной. И угостить некого – такая дурацкая жизнь».
А она все отмеряла и сыпала, приговаривая:
– Семь звонких полуденных трав, семь пустых кладбищенских трав, семь сонных береговых трав. У меня давно все готово, столько лет вас ждет. Оно и неплохо, за эти годы травы настоялись, напились солнца, надышались тьмой, смешались с дождем, пылью, смехом и ветром, наслушались разговоров, навидались чужих бед и, самое главное, истосковались без настоящего дела. Какой крепкий будет из них настой. Одного глотка хватит, чтобы очнуться… Эй, да вы, как я погляжу, не собираетесь это пить? Гадаете сейчас – сразу выбросить в реку, или оставить пылиться на кухне? Так не пойдет.
Был ошеломлен ее проницательностью. Пробормотал:
– Извините. Я, честное слово, все выпью. Но зачем вы?.. Почему?
– Потому что сами попросили вас расколдовать, а я согласилась. Такими словами попусту не бросаются, – отрезала синеглазая травница. Помолчав, добавила: – И еще потому, что утопающий хватается за любую соломинку. А у меня как раз столько прекрасной сухой травы. И сегодня вся она в вашем распоряжении. Но до полуночи, не дольше.
Спросил:
– Сколько с меня?
– Все, что есть в вашем левом кармане. В правом, догадываюсь, телефон и ключи. Мне они ни к чему.
Пожал плечами. Пусть будет так. На рынок всегда брал с собой пятьдесят литов, их как раз хватает на все покупки, и еще чуть-чуть остается – ровно на чашку кофе, а больше и не надо.
Ну, сегодня, значит, не останется. Тоже мне горе.
Вынул из кармана приготовленную купюру и стеклянный шарик с мутно-белыми прожилками – давным-давно нашел его в подъезде и с тех пор зачем-то всегда таскал с собой, не забывая вынуть перед тем, как отправить штаны в стирку. Положил на прилавок. Взял маленький бумажный пакет.
– Только не кипятком, – сказала вслед травница. – Пусть вода минут десять остывает. Потом можно заваривать. Все сразу. Нечего тут экономить. И выпейте залпом, за один присест.
Помидоры, конечно, так и не купил. И смородину. И творог. И ветчину с огурцами. Вообще ничего. Подумал: «И черт с ними». Пошел на берег, умылся молочно-белой, теплой, как кровь, речной водой, а оттуда – домой. То есть, на вершину холма, с которого недавно спустился, по темно-зеленым малахитовым ступенькам, которые всякий раз собирался сосчитать, но неизменно сбивался, дойдя до полусотни. Вот и сейчас – счет сбился одновременно с дыханием, пришлось остановиться, как всегда на полпути.
Над холмом парили дикие воздушные змеи, желтый июльский ветер сносил их к реке, но они упрямо возвращались на излюбленное место. Разомлевшие от жары горожане и туристы сидели и лежали на склоне, некоторые на предусмотрительно прихваченных из дома подстилках, некоторые падали прямо в траву, выгоревшую до бледно-розового цвета. Опустив глаза, обнаружил под ногами монетку в пять литов. Подумал: «Ну вот, без кофе все-таки не обойдется. Особо не разгуляешься, но на порцию лучшего в городе эспрессо хватит. Еще и сдача останется, будет что положить барристам в кружку, они хорошие ребята, что бы я без них делал все эти годы. Семь звонких стеклянных лет, семь пустых оловянных лет, семь сонных деревянных лет — в самом деле, что?»
А так хоть кофе пил.
Всегда умел растянуть маленькую порцию кофе на почти бесконечное число глотков. Мог сидеть в кафе сколь угодно долго – полчаса, пять сигарет, до вечера, до закрытия. Для того, кому некуда себя девать, из всех искусств важнейшее – это. Но на сей раз и десяти минут над рюмкой эспрессо не просидел, бумажный пакетик с травами жег карман – не иносказательно, а натурально жег, был горячей раскалившейся на солнце металлической спинки стула; дыру, правда, так и не прожег, но к тому шло.
Вернулся домой, поднялся по скрипучей, в тугую спираль закрученной лестнице в свою мансарду, знойную и пыльную, как херсонские степи, и почти такую же пустую. Снял ее когда-то ради окон – пять штук, на все пять сторон света; прежде думал, таких квартир вообще не бывает, однако, чем выше забираешься, тем больше становится возможно – и это, конечно, касается не только жилья.
Поставил на огонь маленькую кастрюлю, в которой обычно варил яйца к завтраку. Сел на пол и принялся ждать. Желтый горячий ветер стучался в послеполуденное окно, как забытый на крыше кот. Не пустил. Нечего ему тут делать, и без него невыносимо жарко. Сказал: «Ты бы лучше зимой ко мне заходил, приятель, славно бы время провели». Впрочем, что толку разговаривать с ветром. Известно, что они всегда все делают по-своему.
Вода начала закипать. Погасил огонь, посмотрел на треугольный циферблат часов. Она говорила – кипятком не заваривать, десять минут остужать. Ладно, подожду.
Чайника в доме не было, пришлось насыпать траву прямо в кружку. Получилось почти три четверти. Крепкий будет настой.
Думал: «Ладно, к горьким микстурам нам не привыкать. Выпью. Мне на этот рынок еще ходить и ходить. А синеглазой не соврешь, она из тех, кто насквозь видит; здесь таких замуж не берут, потому что кому понравится быть всю жизнь на виду, без единого завалящего секрета. Но я-то, я-то хорош, нашел, с кем шутки шутить. Черт потянул меня за язык, не иначе».
Подумал: «А вдруг и правда расколдует?»
Знать бы еще от чего.
Первый глоток был горек до звона в ушах, от горечи второго почти остановилось сердце, от третьего рот онемел, как под наркозом дантиста, так что вкуса остальных не почувствовал вовсе, под конец захлебнулся, закашлялся и
Проснулся. Еще не повернув голову, знал, где и с кем. А повернув, увидел блестящие спросонок, темно-серые с золотым ободком, самые прекрасные в мире глаза. И не заплакал только потому, что заплакать – это слишком мало.
Сказал:
– Мне приснился самый страшный сон, какой можно вообразить. Мне приснилось, что тебя нет. То есть, вообще, в принципе нигде нет. До такой степени нет, что я о тебе не помню, потому что нечего помнить, прикинь. Но я при этом есть. И зачем-то без тебя живу. Семь звонких стеклянных лет, семь пустых оловянных лет, семь сонных деревянных лет. Трижды семь, в сумме выходит двадцать один год, не то что прожить – подумать страшно. Это был очень длинный сон. Дурак буду, если не забуду его немедленно. Обними меня.
Улица Малуну (Malūnų g.) И я из тех, кто выбирает сети[20]
– Девочка, – говорит Илона, – конечно, ты девочка, как же я, старая дура, сразу не поняла, у тебя же на лице все написано, на морде твоей хитрющей, ты ж моя красота.
«Красота» – маленькая белая кошка месяцев пяти от роду. Мордочка кошки выглядит так, словно живописец, рисовавший хмурый осенний пейзаж, завершив работу, тщательно вытер об нее все свои кисти – под левым глазом рыжее пятно, над правым серебристо-лиловое, на носу кривой черный зигзаг, на лбу серые полоски, как челка, одно ухо темно-коричневое, второе белое, как и все остальное пространство кошки, не слишком пока обширное.
«Красота» сидит на коленях Илоны, тычется пестрой своей башкой в мягкий теплый живот и мурлычет без остановки.
«Хорошо, что я вчера заправила машину, – думает Илона. – Как чувствовала, что пригодится. Теперь можно будет сразу отвезти ее к ветеринару. Без лишних задержек в пути. Выпьем кофе и поедем».
– Сливки, – говорит Илона официантке. – У вас же наверняка есть взбитые сливки для десертов. Принесите немножко в блюдечке. И кофе. Но кофе не в блюдечке, а в чашке, это уже для меня.
Официантка, маленькая рыжая девушка, тихонько хихикает, кивает, но сперва наклоняется, разглядывает кошку, спрашивает: «Ее можно погладить?» – и, получив разрешение, осторожно проводит пальцем по полосатому лбу.
– Такая чистенькая, – говорит она. – Как домашняя.
– Да она и есть домашняя, – вздыхает Илона. – Вернее пару дней назад еще была.
– Потерялась?
– Дети в том дворе говорят, соседи выкинули. Взяли котенка, потом передумали. Пристраивать не стали, выпустили во двор, обратно не берут.
– Господи. Как так?
– Не знаю, – говорит Илона. – Неважно. Уже все хорошо. Она со мной.
– Ой, – умиляется Тони, – это ваша?
– Уже моя.
Проверенная примета: если долго сидеть в уличном кафе на Малуну, мимо непременно пройдет какой-нибудь твой сосед. Ну или не просто пройдет мимо, а остановится поздороваться. Это почему-то очень приятно, гораздо лучше, чем случайно столкнуться во дворе.
Илона приветливо улыбается Тони. Он славный мальчик. Художник. Почти друг семьи. По крайней мере, прошлым летом, когда она решила съездить к подруге, а Витки, как назло, не было в городе, сосед с радостью согласился приглядывать за кошками. И израсходовал за пять дней двухнедельный запас корма, но пусть первым бросит в него камень, кто сам так не грешил.
Однако его картин Илона до сих пор так и не видела. Хотела напроситься посмотреть, да постеснялась; впрочем, еще успеется. Жизнь длинная. Даже когда тебе семьдесят три, длинная все равно.
Тони присаживается на корточки, чтобы лучше рассмотреть кошку. И глядит на нее такими влюбленными глазами, что Илона почти невольно прижимает кошку к животу, этот жест означает: «моя, не отдам!» Кошка чувствует это и начинает мурлыкать еще громче, Тони чувствует тоже и отстраняется. Смеется:
– Не бойтесь, не уведу! Хотя руки чешутся. Какая же она у вас славная!
– Не то слово, – кивает Илона.
Тони усаживается рядом, адресовав соседке вопросительный взгляд – можно ли? Не помешаю?
– Конечно сиди, – говорит Илона. – В хорошей компании веселей.
– А ваши новенькую примут? – спрашивает сосед.
– Примут, куда они денутся. Руся любопытная и ласковая, ей хоть черта с рогами приведи, через пять минут будут играть вместе. Пукас у нас известный трус, сутки небось под диваном будет отсиживаться, когда я Руську принесла, он в первый вечер даже ужинать не вышел, но потом ничего, привык. И сейчас привыкнет. А Лапе все равно, она у нас королева. Какая ей разница, на двоих или на троих сверху вниз надменно смотреть?
Рыженькая официантка приносит блюдце со взбитыми сливками и кофе – совсем слабенький латте для Илоны и эспрессо с лимоном для Тони, наверное, увидела его из окна и сразу сообразила, что нести, он сюда каждый день заходит и всегда заказывает одно и то же.
– Спасибо, – хором говорят Илона и Тони.
– Мяу! – говорит белая кошка с пестрой мордочкой.
– Такая маленькая и такая воспитанная! – умиляется официантка.
– А вам не… не очень трудно с ними будет? – спрашивает Тони. И, встретив удивленный взгляд соседки – о чем это ты? – смущенно поясняет: – Ну, все-таки четверо это больше, чем трое.
– Ненамного, – отмахивается Илона. – Считай, вообще никакой разницы. Вот двое – гораздо больше, чем один, это правда. Когда я Пукаса в дом взяла, за первые две недели чуть не рехнулась. Лапа у меня всегда была лентяйка и тихоня, а этот бесенок ни секунды не сидел спокойно, всюду лез, делать ничего не давал… Но это очень давно было. Лет двенадцать назад, если не ошибаюсь.
– Пукас уже такой… – Тони явно хотел сказать «старый», но в последний момент запнулся: – взрослый?
– Да, – кивает Илона. – Солидный джентльмен.
И, помолчав, добавляет:
– Хоть бы их подольше было четверо, вот что я тебе скажу. Пукас-то ладно, он пока в расцвете сил и скачет, как котенок, а вот Лапка у меня совсем старенькая. Девятнадцать лет. Девятнадцать лет, Тони! Будь она человеком, я бы в дочки ей годилась!
– И она не пускала бы вас на танцы по вечерам, – смеется Тони.
Илона тоже смеется и гонит, гонит прочь черные мысли. Мало ли, что со стороны может показаться, будто она заранее подыскала замену Лапке, чтобы не так грустить, когда… Ай, ладно, уж мы-то знаем, что новая любовь не отменяет былую, а новая жизнь – утрату. Человеческое сердце гораздо больше, чем может показаться, в него помещается очень много народу, и ничего, не тесно, не надо никого никем заменять.
– Я в интернете читал про кошку, которая прожила тридцать восемь лет, – говорит Тони.
– Пуффи из Техаса, – кивает Илона. – Я тоже читала.
– Чокнулась ты, мать, совсем, – говорит Витас.
Ничего, пусть говорит. Витка – старый дружище, верный боевой товарищ, ему можно.
– Если бы я чокнулась, в этом доме сейчас околачивалось бы сотни три уличных котов, – смеется Илона. – А у меня пока всего четверо. И все бывшие домашние. Таких на улице нельзя оставлять.
Маленькая белая кошка с пестрой мордочкой, уже получившая паспорт, в котором официально записано гордое имя Красота, с любопытством обнюхивает штанину Витаса. От штанины не пахнет ни другими котами, ни даже едой. А наоборот, чем-то противным и несъедобным. Но Витас ей нравится все равно. Маленькой белой кошке пока нравятся вообще все. У нее легкий характер.
– Сколько ей? – спрашивает Витас. – Месяца четыре?
– Ветеринар говорит, около пяти.
– Ну вот.
Витка отворачивается к окну. Судя по выражению лица, его так и подмывает сказать какую-нибудь гадость.
«Я даже догадываюсь, какую именно, – думает Илона. – Ничего пусть».
– Здоровые кошки у хороших хозяев обычно очень долго живут, – наконец говорит он.
– Вот и слава богу, – улыбается Илона. – Мне бы совсем не понравилось раз в пару лет кого-нибудь хоронить.
Витас молчит. Илона пихает его локтем в бок.
– Эй, я помню, что мне семьдесят три года! Не так это много, чтобы сбиться со счета. И не так много, чтобы ложиться и помирать. Мне нравится жить, Витка. Можно сказать, только во вкус начала входить.
– Это ты молодец, – он наконец улыбается в ответ. Но как-то вымученно. Как будто после слова «молодец» должно последовать какое-нибудь противное «но». И, в общем, ясно, какое.
– Я в курсе, что одного желания в таком деле недостаточно, – говорит Илона. – И прекрасно знаю, что даже совсем молодой человек может в один прекрасный день внезапно схватиться за сердце, и привет. С кем угодно может случиться все, что угодно. В этом смысле все примерно в одинаковом положении. Будь мне сейчас двадцать лет, я бы все равно не могла гарантировать этой кошке, что останусь с ней до конца ее дней. Так что ж теперь, никому зверей в дом не брать? И детей не рожать, чтобы не остались сиротами?
– Не перегибай палку, – сердито говорит Витас. – Пока тебе двадцать лет, строить планы с обязательной поправкой на возможную скорую смерть довольно нелепо. Но в наши с тобой годы думать о смерти – просто обычное здравомыслие.
– В наши с тобой годы здравомыслие – это думать о том, как ее обхитрить, – подмигивает ему Илона. – Давай-ка – знаешь что? Я сейчас нам с тобой кофе сварю. И только не вздумай ныть, что у тебя давление. Когда я слышу слово «давление», моя рука тянется…
– К пистолету?
– К джезве, Виточка, – смеется она. – Всего лишь к джезве. А ангину я с детства лечу мороженым. Клин клином, дорогой друг.
– Я вечно хвастаюсь, что железная, – говорит Илона, разливая кофе в чашки. – Дескать, где у меня сердце и прочие потроха, знаю только по картинкам. А слово «болит» – из художественной литературы. Так вот, это, скажем так, некоторое преувеличение. Или преуменьшение, как посмотреть… Эй, не надо делать такое скорбное лицо! Я не собираюсь приглашать тебя на похороны. Тем более, что мои похороны отменились еще двенадцать лет назад. Я тогда только Пукаса взяла, поэтому помню.
– Ты о чем вообще? – спрашивает Витас.
– Повторяю: не надо так на меня смотреть. Я не чокнулась, не дождешься. Просто тогда меня стукнуло током, на этой самой кухне.
– Это как?
– Обыкновенно. Набрала в раковину воды, чтобы вымыть посуду, решила подогреть кипятильником – у нас тогда горячей воды еще не было, как раз на следующий год поставили котел…
– Только не говори, что сунула руку в воду, чтобы проверить, достаточно ли она нагрелась.
– Именно это я и сделала, дорогой друг.
– Господи, Лонка. И как?..
– Как я уцелела? Понятия не имею. Но помню, что когда меня тряхнуло, и реальность начала выключаться, знаешь, заворачиваться в такую приторно-сладкую темноту, подумала о своих кошках. Не о внуках, которые, слава богу, уже взрослые люди, живут в другой стране и распрекрасно там без меня обходятся. И не о недописанных статьях, хотя кое-что интересное у меня тогда было в работе. А только о кошках: как они без меня? Куда денутся, кто их возьмет? Поняла: никуда, никто, а значит, нельзя позволять вот этой темной тошной слабости меня одолеть, пошла вон, живем дальше. И, будешь смеяться, сразу очнулась, сидя на полу, сердце бьется, как будто километр пробежала, но ничего, целехонька. И Лапка с Пукасом тут как тут, бодают в бока – эй, ты чего? Мы с тобой!
– Счастливчики они у тебя.
– Вот именно, – с нажимом говорит Илона, – Счастливчики! Так и есть. Ко мне, такой хорошей, вовремя попали – это же как главный выигрыш в лотерее отхватить. И Руська счастливица, я ее буквально в последний момент перехватила, хозяева уезжали в Австралию и, как гуманные люди, решили перед отъездом ее усыпить…
– Ох, Лонка!
– Вот именно что ох. Зато ясно, что эта кошка счастливица. И за свое счастье будет держаться крепко. А я – за нее. То есть за всю компанию.
– Что ты хочешь сказать?
– Да ничего я не хочу говорить. Уже все сказала, – смеется Илона. – Просто это оказался очень хороший способ справляться с болячками. И вообще со всем на свете. Чуть что, говорю себе: «Так, это мне нельзя, у меня кошки, девать их некуда, значит помирать – не вариант». И, как видишь, не помираю. И чувствую себя ничуть не хуже, чем почти двадцать лет назад, когда Лапку взяла. Пожалуй, даже и получше.
– Ладно, – подумав, говорит Витас. – Пусть на этот раз я буду дурак, а ты права. Меня такой расклад устраивает.
* * *
– Стойте, не двигайтесь, – говорит Витас. – Пожалуйста. Елки зеленые, ну как же здорово, а!
Во дворе стоит стопка старых оконных стекол, штук шесть. С одного края стекла опираются на край мусорного контейнера, с другого – на ствол старого каштана. Между опорами – пустота. В пустоте – в смысле, в свободном пространстве между деревом и контейнером замер Илонин сосед. «Вроде бы даже мой коллега, – вспоминает Витас. – В смысле, художник. Лонка что-то такое говорила; ай, неважно».
Важно, что сосед так удивительно вовремя вышел во двор, да еще и в очень удачной одежде каких-то зыбких зелено-голубых водяных цветов, поэтому его силуэт через несколько слоев старого мутного стекла кажется размытым, ускользающим, нездешним. Такое, оказывается, магическое сочетание – старые оконные стекла, человек в потертых джинсах, жемчужный пасмурный свет.
Витас достает из сумки камеру – впервые за три, что ли, недели. Уже начал думать, что может и правда не стоит всюду таскать ее за собой. И вдруг.
Всегда, всегда обязательно случается какое-нибудь «вдруг». Главное – до него дожить.
– Ничего? – коротко спрашивает он, показывая Тони камеру.
– Делайте, что хотите, – откликается тот.
Молодец, коллега.
– А теперь, если можно, присядьте на корточки, – просит Витас. – Мне нужно ваше лицо… так… Ага. А теперь немножко левее… нет-нет-нет, не настолько, совсем чуть-чуть, тут так интересно слои сложились… Да, вот! Я быстро. Спасибо. Сейчас!
«Быстро» – это у нас примерно полчаса, в течение которого Тони приходится двигаться влево, вправо, нагибаться пониже – еще ниже, еще… слушайте, а не могли бы вы просто лечь? – прижимать к стеклу ладони, плющить об него нос, как в детстве, смешно, отходить подальше, возвращаться, поворачиваться в профиль, снова просто стоять.
– Ну, хватит пока, – неохотно говорит Витас. – Спасибо. Извините. Но сами видите, что тут творится с этими стеклами, невозможно было упустить. А у вас еще рубашка такого удачного цвета… Спасибо, в общем.
– Да не за что, – говорит Тони. – Мне самому было интересно. И я же вас немножко знаю. Ну, то есть, ваши работы. У меня книжка есть, которую к вашей последней выставке делали. Я и остальные хотел, но пока не нашел…
– Вот это замечательно! – радуется Витас. – Тогда я знаю, как вас отблагодарить.
– Да я не к тому, – смущается Тони.
– Неважно. Зато я – к тому. Вы – модель, вам положен гонорар. Денег не дам, я жадный. А книжками выдам с великим удовольствием. Не так уж много я знаю людей, которым они действительно нужны.
– Прибавьте к этому числу еще четырнадцать, – улыбается Тони.
– Что?
– Четырнадцать экземпляров я раздарил друзьям. Я вообще-то тоже жадный, но они не оставляли мне выхода. Практически силой отбирали, и их можно понять. Вы очень крутой фотограф. Честно. Я таких больше не знаю.
«Это, молодой человек потому, что ты не знаком с историей фотографии», – ворчливо думает Витас. Вслух такое говорить невежливо, он в курсе. Ну и вообще, будем честны, слова Лонкиного соседа очень приятны. А его искренность и смущение приятны вдвойне.
– Идемте, – говорит Витас. – У меня здесь рядом мастерская. Тоже на Малуну, в соседнем дворе.
В просторной мастерской Витаса почти пусто. Когда он еще занимался скульптурой, здесь было не повернуться. А теперь – необъятный простор и ничего священного, как покойный Гришка любил шутить[21]. Только шкафы с архивами вдоль стен и стол, а на столе компьютер, без которого фотографу нынче никуда.
– Вот книги, – говорит Витас, – в пачках, на полу. Не стесняйтесь, выбирайте. Они тут специально на подарки. А я на минутку. Хочу посмотреть, как получилось.
Он торопливо вынимает карту памяти из камеры, сует ее в компьютер. И пропадает. В смысле, надолго умолкает, совершенно забыв о госте, которого сам же и привел.
– …Надо же. Я, пока снимал думал, это история о пространстве, – наконец говорит Витас. – А она оказалась про время. Все эти слои стекла, как дни, недели и годы, отдаляющие нас от… От нас. Мне не вас следовало так снимать, а самого себя. На моем лице больше оставленных временем следов, фактура на фактуру, должно получиться интересно. Особенно если снимать на протяжении хотя бы десяти… а лучше – двадцати лет. Каждый год добавляя к стопке еще одно стекло. Например. Год за годом, слой за слоем… Слушайте. По-моему, это тема. Надо делать.
– Только стекла в нашем дворе вряд ли так долго простоят, – печально говорит Тони. – Боюсь, их на этой же неделе вывезут.
«Ну, по крайней мере, он не сомневается, что я сам простою так долго», – весело думает Витас. А вслух говорит:
– Стекла – не проблема. В вашем дворе – это, считайте, был черновик. Чтобы попробовать: увидеть возможности и знать, от чего плясать дальше. А стекла я как-нибудь раздобуду. И складывать их, сами видите, есть где.
Проводив Тони, Витас стоит во дворе, смотрит ему вслед, думает, кому позвонить насчет старых стекол. Адам наверняка что-нибудь путное подскажет, с него и начнем.
Улица Мелагену (Mielagėnų g.) Азбука пробуждений
А
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! – то есть с криком очнуться от кошмара, выскочить из него как из поезда, на ходу, с отчаянно бьющимся сердцем, сидеть потом, опираясь на подушки, бороться с желанием закрыть глаза и бухнуться обратно, потому что если уснуть слишком быстро, можно вернуться в тот же самый сон, а это не дело, нас там пока ждут, нетерпеливо постукивая – даже думать не будем, чем именно по чему.
Б
Будильник приучает нас к богооставленности, ежедневно изгоняя из рая в довольно неоднозначную, скажем так, местность, где мы, конечно, обжились и чувствуем себя как дома – всегда, но только не в самый первый момент после пробуждения, когда уже забыли, как выглядел наш рай, но еще помним, что он был.
В
Ветер иногда влетает в распахнутое окно и такое творит, словно поступил к тебе на службу шкодливым котом. Просыпаешься и смеешься, глядя, как летают по спальне конфетный фантик, салфетка, бумажка с запиской «До вечера», незнакомый кленовый лист, заглянувший в гости за компанию с ветром, и с надеждой трепещут на полу брошенные вчера как попало носки, слишком тяжелые, чтобы взлететь, слишком полосатые, чтобы перестать стараться.
Г
Говорить во сне, разболтать, к чертям собачьим, все сокровенные тайны: имя, фамилию и домашний адрес розы, число колонн во дворце Кубла-хана, точную высоту полета тяжелогруженной валькирии, порядок чередования долгих и коротких гласных в заклинании «мутабор». Быть разбуженным, увидеть встревоженные лица домашних, с облегчением убедиться, что никто не понял ни слова в твоем бормотании, но потом еще некоторое время с нетерпеливым страхом, больше похожим на смутную надежду, ждать появления стражников с содэргами[22], потому что суровый приговор за болтливость ты себе уже зачитал.
Д
Думать, что проснулся, вставать, отправляться в душ, включать кофеварку, жарить гренки, потом одеваться, а на самом деле засыпать все глубже и глубже, из этого сна нет возврата, все – он.
Е
Едва проснувшись, снова уснуть, выскочить в какой-нибудь сон по соседству, как Герда и Кай бегали друг к другу из окон чердачных каморок, перешагнув водосточный желоб, раз – и на месте. А мы читали и думали: понятно, что сказка есть сказка, но вот бы и правда к кому-нибудь в гости вот так по крышам ходить!
Ж
Живым – после того, как во сне умер так убедительно, что теперь даже радоваться нет сил, только лежать и думать: ну вот, теперь все сначала, черт побери.
З
Забыть, что снилось, проснувшись, но помнить: было, что забывать. Это довольно мучительно, но вы еще можете вернуть себе утраченные воспоминания – в каком-нибудь другом сне, который, разумеется, в момент пробуждения тоже будет забыт.
И
Играть во сне в покер на пробуждение, проиграться, открыть глаза, удивиться собственной бодрости после, в лучшем случае, трех часов сна, обругать своих уже стремительно ускользающих из памяти приятелей шулерами и пойти на кухню варить какао – а что еще делать, если вскочил как дурак, в воскресенье, в половине шестого утра.
К
Книгой стоять на полке долгие годы и вдруг обнаружить, что кто-то открыл тебя и читает: внимательно, не пропуская ни слова, и это такое счастье, что даже не думаешь: «Только бы никогда не закрыл». Хотя весь предыдущий опыт свидетельствует, что закроет, но какая разница, если не прямо сейчас.
Л
Ликуя, проснуться, весь день летать, как на крыльях; какая разница, почему.
М
Марс – не лучшее место для пробуждения, но некоторые все-таки просыпаются там. Дико вращая глазами, озираются по сторонам, теряют сознание, вдохнув непригодный для дыхания воздух, впадают в беспамятство, умирают и только потом просыпаются дома, на земле. Некоторые прохожие, спешащие по своим бесхитростным повседневным делам, – мертвые покорители Марса, только сами об этом не знают; может, оно и к лучшему, не все о себе следует знать.
Н
Не там, где заснул накануне, довольно легко проснуться. Многие это делали не раз. Что действительно трудно – не вспомнить, буквально спустя секунду, как вчера укладывался на эту зеленую простыню, в комнате с двумя окнами, оба выходят на улицу Мелагену, узоры на ковре складываются в забавные одноглазые лица, знакомые с детства, даже сомневаться смешно.
О
Оплакивая – уже и не вспомнить, кого.
П
Приехать. Любая дорога – сон, в дороге мы есть лишь отчасти, и заново овеществляемся всякий раз, когда шасси самолета касаются земли, матросы берут в руки швартовы, поезд ползет вдоль перрона так медленно, что ничего уже не успеть.
Р
Рыб, живых, только что пойманных, бросила сказочная принцесса на голое брюхо спящего мужа, который не знал, что такое страх, всюду искал возможности его испытать и вот наконец получилось, пляска агонизирующих окуней покончила с его сказочным бесстрашием раз и навсегда.
С
Стоя перед зеркалом, из которого, сонно моргая, глядит не то чтобы неприятный, но чужой, совершенно незнакомый человек.
Т
Торопливо, больше всего на свете боясь умолкнуть, перечисляя вслух имена всех, кого не любил, в надежде успеть как-то это исправить в самый последний момент, на зыбком мосту, ведущем с берега жизни (сновидений) на берег забвения (так называемой яви).
У
Умереть – означает наконец-то проснуться; по крайней мере, так говорят. Не удивительно, что человечество мечтает о бессмертии, натягивает на голову общее, одно на всех драное одеяло реальности, крепко держится за него, кому же охота вскакивать на работу в сияющий понедельник вечности, в адовы шесть утра.
Ф
Форменную шинель Младшего Вопрошающего Аскета кондитерской канцелярии Пятого Берега так и не сняв – сходи теперь с ума, пытаясь понять, что у тебя вместо пижамы, откуда оно взялось и что вообще происходит.
Х
Ходить во сне и вдруг уткнуться в стену, твердую и неожиданно холодную, словно в доме никогда не топили, хотя потом окажется, на комнатном термометре плюс двадцать пять.
Ц
Целоваться; то есть сначала начать целоваться, а потом уже осознать, что происходит, обрадоваться и проснуться так торопливо, как выскакивают из дома, опаздывая на поезд, навстречу приехавшему такси, размахивая руками и чемоданами – эй, я тут!
Ч
Чашку кофе уже принесли, держат в руках, терпеливо ждут, когда ты проснешься, чтобы ее взять, и томительный горький запах щекочет ноздри того существа, которое все еще летит Легкой долиной Лайянгри во всех своих восемнадцати черных, семи долгожданных и трех стеклянных телах.
Ш
Шум, разбудивший нас, может оказаться чем угодно – звоном трамвая, ревом прибоя, громкими голосами, скрежетом дворницкого лома, вонзающегося в лед – например, в середине июля, в городе, где ни моря, ни трамваев, ни даже жителей нет.
Щ
Щель между двумя соседними сновидениями может оказаться такой широкой, что из нее начинает сквозить, и тогда поневоле проснешься, дрожа от холода, источник которого неизъясним.
Э
Это не сон, – говоришь себе, встревоженно озираясь по сторонам, еще не веришь, что вернулся домой, но тревога напрасна, это и правда не сон: звенят золотые струи первого светлого ливня, медузы, ликуя, взлетают, чтобы напиться, блаженные камни Хиарры согреты твоей рукой и шепчут: «Привет».
Ю
Южная ночь слепит глаза яростней южного солнца, не удивительно, что летом на юге ночью почти невозможно заснуть. Стоит закрыть глаза, кажется: веки стали прозрачными, так яростно рвется сквозь них, заполняя тебя до краев, небесная тьма. Некоторые после этого засыпают, а другие, наоборот, просыпаются, но пробуждение во тьме южной ночи ничего не меняет. Никогда, ни для кого.
Я
«Я есть» – удивительное открытие, совершаемое практически ежедневно; если повезет сделать его прямо с утра, в первый же момент после пробуждения, сразу становится ясно, чем заниматься дальше – продолжать быть.
Улица Месиню (Mėsinių g.) Смесь для приготовления понедельника
– Прах земной развести водой в пропорции примерно один к четырем.
Это – основа.
Прочие ингредиенты добавлять по вкусу. Но лучше использовать все.
– Несколько чашек мороженой тьмы, утренней, зимней, густой, колючей как терновый венец вязаной шапки с помпоном, тяжкой как набитый книгами ранец, скрипучей, как дверь подъезда. Лучше всего брать ее в царстве Хель, там знают толк в темноте, сквозь которую волокут за руку – в бездну, или в школу, к восьми тридцати.
– Градусник нагревать на радиаторе до температуры 37,5 – чтобы наверняка оставили дома, но особо не беспокоились, не хлопотали, ушли на работу. Улыбнуться тайком, предвкушая грядущее одиночество, вольную волю до самого вечера, почти что навек. Мы все знаем ее сладкий вкус.
– Ломтик детской мечты «когда вырасту, буду…» молоть на жерновах времени, пока не станет песком. Отложить в сторону, забыть, потом снова вспомнить. Вспоминать до того момента, когда пески станут зыбучими – вот теперь в самый раз, пора добавлять.
– Пару десятков так и не начавшихся новых жизней – несделанных зарядок, несъеденных овсянок, непогашенных сигарет. Густо посыпать автомобильными пробками, усмехнуться, пожать плечами, выбросить из головы – прямо в котел.
– Два бутерброда с сыром, грязные чашки, крошки от пирога, обязательные витамины, телефонный звонок в половине шестого утра: «Нет больше папы». И другой: «Прости, что так рано, не могу без тебя заснуть, уже в подъезде, открой». И третий, настойчиво требующий какую-то Лялю, жившую в этой квартире тысячу и одну ночь назад.
– Несколько сновидений, привидевшихся в автобусе, когда, не в силах одолеть дремоту, приваливаешься к чужой широкой спине, драпированной коричневым мехом или, скажем, красным нейлоном, все равно; для остроты вкуса не помешает добавить одно ослепительное осознание, что сон вам приснился один на двоих – тебе и спине, вернее ее обладателю, который тоже все понял и будет теперь прятать лицо до конечной, выскочит и побежит.
– Налить на два пальца воспоминаний о работе по гибкому графику, когда на понедельник часто приходился выходной. Позднее пробуждение, полная тишина, стая солнечных зайцев прыгает по углам, ты – практически повелитель мира, завтракаешь мороженым, светел и весел, и временно, только до вечера одинок. Знать бы в шесть лет, что так когда-нибудь станет, легче было бы дожить до этого славного понедельника, лучшего в мире дня.
– …Добавить сладкую тяжесть горячей ладони, опустившейся на затылок, полную чашу голоса, который скажет сейчас: «Может, ну ее на хрен, эту нашу работу?» Добавить несколько дюжин стремительных поцелуев и крепкий утренний кофе, поданный не в постель, а уже в коридор, где в спешке пытаешься зашнуровать ботинки, так и не разобравшись спросонок, где чьи.
– Бережно положить три первых снега, красный кленовый лист, влетевшего в комнату воробья, ворох недописанных шпаргалок, ролики в коридоре, новую куртку, старый велосипед, белую пену над чашкой, царапину от бритья, пустой холодильник, торт, оставшийся от воскресных гостей, бурю и натиск радиоточки, рваный носок, мокрый собачий нос, собранные чемоданы, в десять утра самолет, в семь вечера поезд, автобус – сейчас не помню, но точно после восьми.
– Грохот далеких соседских будильников, третий за месяц разбитый стакан – к счастью, к счастью, мы все это помним. Детский голос: «Можно я не пойду в школу?» – и собственный: «Господи, можно и я никуда не пойду?» Шарканье дворницкой метлы на Месиню, за открытым настежь окном, внезапная тишина, комментарий из кухни: «Умер проклятый метельщик!» – и общий хохот, день задался.
Готовую смесь выпить залпом, трижды перевернуться с боку на бок, проснуться, обнаружить, что жив, вдыхать, выдыхать.
Улица Место Сенос (Miesto Sienos g.) Музыка и цветы
Он появился на пороге «Музыки и цветов» за десять минут до полуночи. Долговязый молодой человек в слишком легкой, не по погоде джинсовой куртке, с ярко-оранжевым рюкзаком. Скорее симпатичный, чем нет: копна светлых кудрявых волос, круглые глаза на пол-лица и по-девичьи длинные ресницы, такой вечно юный, какими бывают только худощавые блондины, у которых из-под тонкого слоя взрослого мужчины то и дело просвечивает мальчишка, встрепанный, раскрасневшийся не то от смущения, не то от слишком быстрой ходьбы, почти испуганный, но очень решительный. Не поздоровавшись, спросил – резко, отрывисто, по-английски, с каким-то диковинным славянско-немецким акцентом:
– Это здесь выдают новые судьбы?
– Чего?! – дружно переспросили Даля и Хлоя. – Wa-a-a-a-a-at?!
Зато Нонна не растерялась; ничего удивительного, она всегда была мастером нечаянной импровизации, из тех, кто сам никогда не знает, что может выкинуть в следующую секунду, каковы будут последствия и удастся ли их расхлебать.
Вот и сейчас Нонна гаркнула с неподражаемой сварливостью советской продавщицы, сумрачные тени которых еще порой мелькают на оптовых рынках, в буфетах сельских автовокзалов и на дальних задворках наших детских воспоминаний:
– Не больше трех в одни руки!
Даля и Хлоя восхищенно переглянулись. Еще немного, и они бы расхохотались, да и сама Нонна едва сдерживала смех, но ночной гость повел себя как черт знает что: криво улыбнулся, кивнул и заплакал. Ну, то есть не зарыдал в голос, но по его румяной щеке скатилась самая настоящая слеза, настолько крупная, что ее существование невозможно было игнорировать. И смеяться сразу стало неловко. Свинство смеяться, когда на твоем пороге плачет взрослый человек.
– Извините, – почти беззвучно сказал он. – Просто… ну, как-то внезапно это все. Я же не верил. Прилетел сюда из Берлина и сразу пошел вас искать, но на самом деле не верил. Твердо знал, что он меня разыграл.
«Еще как разыграл!» – хором подумали три подруги. «По шее бы ему надавать за такие шутки, кем бы он ни был», – сердито добавила про себя Даля. «Все-таки мальчишки – ужасные дураки», – с удивившей ее саму нежностью вздохнула Хлоя. А Нонна, чье буйное воображение чрезвычайно удачно уравновешивалось здравым смыслом, сказала:
– По-моему, вам надо выпить.
И поставила перед гостем рюмку с кальвадосом, которую буквально за секунду до его появления наполнила для себя, чтобы опытным путем выяснить, зачем люди пьют с горя и что при этом чувствуют. А вдруг действительно помогает? Однако даже начать эксперимент не успела. Вечно так.
Ну, не то чтобы с такого уж великого горя, но повод печалиться у Нонны, Дали и Хлои был. Дела в их общем кафе «Музыка и цветы» шли совсем неважно, пора было это признать. Как раз сегодня в очередной раз расплатились за аренду, а вечером, дождавшись ухода последнего из тридцати четырех – за весь, мать его, долгий день! – посетителей, сели подбивать баланс. Без особого удивления выяснили, что за последний месяц едва-едва вышли в ноль, и это притом, что все, включая бухгалтерию и уборку, делали сами, а арендная плата пока была невелика: помещение принадлежало Далиному троюродному брату, который согласился в первый год брать с них вдвое меньше средней рыночной цены, чтобы дать возможность наладить бизнес. До истечения срока оставалось четыре месяца – май и все лето. Промежуточный итог оптимизма, мягко говоря, не внушал.
Это не было для хозяек «Музыки и цветов» настоящей катастрофой. То есть им не грозила перспектива остаться с голыми задницами без крыши над головой. С трусами и крышами у них все было более-менее в порядке, даже в долги не залезли, вложили в кафе только свои многолетние сбережения, время, труд, смутные, но упоительные надежды, остатки былой храбрости и наивные юношеские мечты о собственном идеальном, самом лучшем в мире кафе. Даже название «Музыка и цветы» придумали еще на первом курсе, как им казалось, очень удачное. Люди часто шутят, описывая неожиданно накатившее лирическое настроение: «Хочется музыки и цветов», – и вот теперь всем будет ясно, куда в таких случаях надо идти. Выяснив, что в арендованном помещении несколько лет назад был цветочный магазин, обрадовались совпадению: значит, именно так и назовем. Ради полного соответствия названию всегда держали на стойке несколько свежих букетов; впрочем, их никогда никто не покупал. Что касается музыки, у каждой была обширная фонотека, и вот наконец-то пришло время их объединить. По воскресеньям, закрыв кафе, варили кастрюлю глинтвейна и составляли плей-лист на следующую неделю, неизменно засиживались чуть ли не до утра, но по домам расходились не усталые, а радостно возбужденные, как в юности со свиданий. Посмеивались над собой: любовь зла.
Еще как зла.
Так все отлично продумали, до мельчайших деталей, работали не покладая рук, но дело почему-то шло ни шатко ни валко, многочисленные прохожие равнодушно топали мимо, не обращая внимания на яркую вывеску, сулящую свежую выпечку и отличные скидки на кофе, например, сегодня – влюбленным парам, а завтра – всем, чье имя начинается на букву «А». Реальность оказалась скучной сердитой теткой без капли воображения, каждый день она повторяла все громче и настойчивей: «Убирайтесь отсюда, девчонки, не путайтесь под ногами, неужели сами до сих пор не поняли: люди распрекрасно обходятся без вашего дурацкого кафе». И это, конечно, было особенно обидно, гораздо хуже, чем понапрасну потратить кучу денег, времени и усилий: выяснить, что твоя воплощенная мечта никому не нужна.
Но что ж теперь. Значит – так.
Вопрос, собственно, заключался в том, растягивать ли агонию до конца лета, или прикрыть кафе прямо сейчас. Умом подруги понимали, что за лето вряд ли что-то изменится к лучшему, однако все три сердца – инициаторы этой гиблой затеи – требовали бороться за «Музыку и цветы» до конца. У сердец был неплохой шанс настоять на своем, но тут внезапно сломалась новенькая кофе-машина. Получила задание приготовить латте для Дали и с блеском выступила в роли Брута. Такой вероломный удар.
Машина была дорогая, швейцарская; ясно, что на гарантии, но даже думать было страшно сколько времени уйдет на гарантийный ремонт. И чем все это время поить немногочисленных посетителей? Варить кофе в турках, которые стоят на полках для красоты? Не смешите. Мы так, пожалуй, в первый же день с ума сойдем. Да и клиенты вряд ли согласятся ждать каждую порцию четверть часа. Для френч-пресса придется закупить зерна классом повыше, о новомодном кемексе лучше даже не вспоминать. Проще уж сменить табличку на «Чайную» или вызвать с утра знакомого мастера. Который будет возиться, в лучшем случае, до обеда и обдерет их как липку, но все равно это самый разумный вариант.
В общем, руки у них окончательно опустились. Как ни крути, а поломка смыслообразующего кофейного агрегата в момент обсуждения ближайшего будущего – плохой знак.
Бессильно погрозив кулаком мертвой машине, Нонна сказала: «Ответ, по-моему, ясен», налила себе рюмку кальвадоса, и тут к ним ворвался дурацкий румяный блондин. Будний день, вторник, десять минут до полуночи – странное время для посещения кафе, на дверной ручке которого к тому же висит самодельная табличка «Закрыто». Впрочем, табличка вполне могла случайно перевернуться. Это бы многое объяснило. Хотя, по большому счету, все равно ничего.
Блондин, кстати, выжрал Ноннин кальвадос и бровью не повел, даже не скривился, как будто это не сорокаградусный яблочный бренди, а просто глоток воды. Поставил пустую рюмку на стойку, сказал:
– Спасибо. А почему «не больше трех в одни руки»? То есть у вас можно получить сразу три судьбы? И как их потом проживать? По очереди? Или одновременно? Не представляю. С одной не знаешь, как справиться, а тут – целых три…
Даля и Хлоя вопросительно посмотрели на Нонну. Дескать, сама все это затеяла, сама и выкручивайся. А мы будем слушать тебя очень внимательно. Нам тоже интересно про три судьбы.
– Ну как-как, – укоризненно сказала Нонна, сразу всем троим. – Одну сейчас, еще две – в последующих перерождениях. Потому и не больше трех, что перерождения довольно трудно контролировать. В Бардо смерти полно хулиганов. Все эти несуразные Гневные божества, да и так называемые Милосердные ничем не лучше, тоже пугают народ черепами и чашами с кровью, создавая путаницу и бардак.
Даля и Хлоя восхищенно вздохнули – надо же, выкрутилась. К Нонниным импровизациям они, по идее, давным-давно должны были привыкнуть, но все равно каждый раз удивлялись заново: во дает!
– Получается, в «Тибетской Книге мертвых» правда написана? – просиял блондин.
– Более-менее, – уклончиво ответила Нонна. – Насколько это вообще возможно. Вы сон когда-нибудь пробовали словами подробно пересказать? Ерунда же выходит.
Блондин неуверенно кивнул.
– Ну вот. Представляете, какая фигня получается, когда человек пытается словами пересказать смерть? Впрочем, чего тут представлять, все мы эту фигню читали. Правда, в разных переводах. Но вряд ли перевод принципиально что-то меняет. Рассказывайте лучше, зачем вам новая судьба? И почему вы пришли за ней именно к нам?
– Вообще-то мы свои услуги не афишируем, – подхватила Даля – не столько для гостя, сколько для Нонны. Показать ей: я тоже в игре.
– До такой степени не афишируем, что можно сказать, тщательно скрываем, – добавила Хлоя, что в переводе с языка легкомысленного щебета на язык серьезного разговора означало: «Делайте что хотите, я вас не выдам. Но только при условии, что вы мне потом объясните… ладно, черт с вами, без условий, просто так».
– Ну как – зачем новая судьба? – вздохнул блондин. – С той, что есть, я не справляюсь. Не настолько, чтобы вот прямо сейчас в петлю, но к тому, честно говоря, идет. Совсем запутался. И кучу народу подвел – не столько какими-то поступками, сколько самим фактом своего существования. Я до такой степени невезучий, что иногда кажется, волоку за собой какое-то нелепое проклятие, о котором ни сном ни духом. Всем, кого я люблю, делаю только хуже; тем, кто любит меня, совсем кранты, а… Нет, это все-таки очень личное. Я так не могу. Неужели обязательно рассказывать подробности?
– Не обязательно, – утешила его добросердечная Хлоя.
Нонна и Даля чуть было не показали ей по кулаку – дура ты дура, подробности это же самое интересное! Но сдержались. По большому счету, Хлоя, конечно, права, хотя все равно до смерти любопытно послушать исповедь человека, которого любит целая куча народу, а он – какую-то другую целую кучу. И еще удивляется, что вся эта невразумительная толпа почему-то не особенно счастлива рядом с ним.
– Спасибо, – поблагодарил Хлою гость. – На самом деле никаких особенных тайн, просто неловко рассказывать. А к вам я пришел потому, что мне дали ваш адрес.
Дружным хором спросили:
– Кто?!
– Приятель. Вернее, просто знакомый. Прежде видел его всего пару раз. Зовут Эдо, но, кстати, я даже не знаю, Эдвин он, Эдмунд или Эдуард. И фамилию запамятовал; впрочем, может, никогда и не слышал. Вроде художник, примерно мой ровесник, может, чуть старше, но вряд ли ему больше сорока…
Подруги разочарованно переглянулись. Никто из их знакомых под это описание явно не подходил.
– Два дня назад я напился, – покаялся блондин. И поспешно добавил: – На самом деле я не какой-нибудь пьяница. Обычно держу себя в руках. Но тут все так сложилось… В общем, сорвался. Пошел по барам, один. Видеть никого не мог – так мне, по крайней мере, казалось. Но когда встретил Эдо, обрадовался. С ним обычно весело. Он такой человек… ну, как говорят, с неоднозначной репутацией. Одни его обожают, другие терпеть не могут, но это неважно. Самое главное, на меня ему совершенно точно плевать. Наверное, поэтому у меня развязался язык, и я стал ему жаловаться – не столько на конкретные обстоятельства, сколько на жизнь в целом. На свое фатальное невезение, похожее на проклятие, от которого страдают все вокруг. Примерно как вам сейчас. И вдруг он сказал: «Ну так слушай, со мной когда-то то же самое было. Эта проблема решается просто: надо сменить судьбу. Если хочешь, расскажу, где это могут устроить». Звучало как полная ерунда. Я уж насколько был пьян, а не поверил. Но адрес все равно попросил. Потому что верить-не верить это одно, а действовать – совсем другое. Говорят, родственники безнадежно больных, даже самые образованные, под конец начинают бегать по шарлатанам, обещающим исцеление птичьими потрохами или болотной травой. Я их хорошо понимаю. Иногда легче делать глупости, чем вообще ничего.
Подруги переглянулись. Всем им не раз доводилось делать подобные глупости. И они заранее знали: если что, поступят так снова. Потому что сидеть, сложа руки, и ждать исполнения приговора действительно невыносимо. Хуже не придумаешь.
Нельзя разбивать ему сердце – вот о чем они тогда думали. Каждая формулировала по-своему, но какая разница, главное, что нельзя.
– И этот человек дал вам наш адрес? – наконец спросила Даля.
– Да. Вот, записал.
Блондин зачем-то достал из кармана измятую пивную картонку, на обороте которой красовалась четкая надпись зеленым карандашом: «Miesto Sienos str. Muzika ir gėlės». Вроде все правильно. Хотя откуда бы знать об их кафе какому-то художнику из Берлина? Его и местные-то игнорируют. С ума сойти.
Впрочем, можно ни с чего не сходить, а просто вспомнить, что осенью, сразу после открытия к ним довольно часто заглядывали иностранцы. Благо туристический сезон тогда еще не закончился, а гостиниц вокруг предостаточно. Вот и весь секрет.
– Ладно, – наконец сказала Нонна. – Только учтите, насчет судеб для будущих перерождений я пошутила. Иногда меня заносит, извините, пожалуйста. У меня не было цели выставить дураком лично вас.
Даля и Хлоя грозно уставились на подругу: эй, даже не вздумай сейчас выходить из игры! А кудрявый блондин помрачнел, приготовившись мужественно встретить очередной – будем честны, не то чтобы неожиданный – удар судьбы.
Насладившись общим замешательством, Нонна невозмутимо продолжила:
– Новая судьба будет действовать только до конца вашей жизни. Если не понравится, можно попробовать снова ее сменить, но не раньше, чем через год. Просто их сейчас всего три штуки осталось. Судьбы в последнее время быстро разбирают: весна – время перемен. Новая партия будет только в конце недели. Но если вам срочно, то есть эти три. Невелик выбор, согласна, но по крайней мере, он у вас есть.
– С ума сойти можно, – сказал их ночной гость. Он улыбался, но губы его дрожали. – Я же буквально полтора часа назад прилетел, добрался до центра и сразу вас нашел. И вы меня не прогнали. Я еще не успел поверить, что все это правда, а уже надо выбирать. Может, и хорошо, что так. Если бы окончательно поверил, испугался бы сейчас ужасно. А так – как будто просто игра.
– Игра и есть, – подтвердила Нонна. И, не удержавшись, ввернула цитату: – Вся наша жизнь игра. Знать бы еще чья.
«И надрать бы этому затейнику уши», – сердито закончила она про себя. Жалко все-таки мальчишку. Влип он с этим своим дурацким приятелем. А уж с нами как влип!
Но отступать в любом случае было поздно. Только не сейчас. «Мама дорогая, ну и что мне теперь делать? – тоскливо подумала Нонна. – Как изобразить перемену судьбы, чтобы это было хоть немного похоже на правду? Господи, чего Ты расселся на своих небесах? Не видишь, я в тупике. Подскажи!»
Она молилась всего пятый раз в жизни. Первые четыре раза, надо сказать, вполне помогло. Именно поэтому Нонна старалась молиться как можно реже. Нехорошо постоянно лезть с просьбами к чему-то настолько непостижимому, что вряд ли представится шанс Его отблагодарить. Но сейчас, наверное, можно. Все-таки не для себя.
– А что это за судьбы, можно узнать заранее? – осторожно поинтересовался блондин. – Хотя бы примерно, в общих чертах? Чтобы не нарваться на совсем уж невыносимую.
– Совсем невыносимых не держим, – утешила его Хлоя. – У нас только самые качественные судьбы: удачливость не меньше шестидесяти процентов, уровень свободы воли начиная с четвертого, коэффициент экзистенциальной муки максимум ноль-две десятых по шкале Иова-Мазоха. Какой смысл впаривать людям фуфло?
Такого выступления от обычно не в меру серьезной Хлои подруги не ожидали. Что тут скажешь, молодец.
– А вот узнать подробности, к сожалению, невозможно, – наконец продолжила Нонна. – Даже, как вы говорите, в общих чертах. Потому что судьбы у нас в качественной упаковке, через нее ничего не видно. Что только к лучшему: будучи пересказанной словами, судьба неизбежно искажается – вашими ожиданиями, нашими индивидуальными интерпретациями, в конце концов, просто особенностями самого языка.
– Но вы же сказали, можно будет выбрать, – опешил блондин.
– Выбирать придется наугад, вслепую, – отрезала Нонна. – По велению сердца, ну или левой пятки, не знаю, кто у вас в организме сегодня главный. Но только так.
– Ой, это плохо, – нахмурился гость. – Я думал, будет хоть какая-то информация. А вдруг только сделаю хуже? Хотя, если вы говорите, коэффициент экзистенциальной муки гораздо ниже единицы…
– Вот именно! – с нажимом подтвердила Даля. – Мне показалось, вам особо нечего терять.
– И правда, нечего, – неожиданно легко согласился блондин. – Извините, что торгуюсь. Просто как-то иначе это себе представлял. Думал, мне расскажут хоть какие-то подробности: вот, например, судьба богача, обремененного большой дружной семьей, это судьба вечно колесящего по миру весельчака, а здесь ничего выдающегося, зато хозяин этой судьбы обладает чудесной способностью радоваться каждому дню… Но ладно, как скажете. Наугад – значит наугад.
К этому моменту Нонна уже нашла если не выход, то какое-то его подобие. Все лучше, чем номера на бумажках писать. Встала, вышла в кладовую, вернулась с таким торжественным выражением лица, словно дочь замуж отдавала. Положила на стойку три кофейных зерна, сказала:
– Выбирайте.
– Это просто кофейные зерна?! – их гость не смог скрыть разочарования. Да и вряд ли хотел.
– Кофейные зерна – не то, чем они кажутся, – неожиданно брякнула Хлоя. Тут же прикусила язык, но блондин, похоже, не распознал в ее словах шутку. Надо же, неужели «Твин Пикс» не смотрел?
– Не верите – воля ваша, – устало сказала Нонна. – Мы вас сюда силком не заманивали, вы сами пришли. Но на всякий случай имейте в виду: верить не обязательно, зерно все равно сработает. Достаточно просто выбрать одно, положить в рот, разгрызть и проглотить.
Он посмотрел на нее с отчаянием ребенка, которого привели в поликлинику делать укол и теперь сулят золотые горы, лишь бы не выдирался; заранее ясно, что ничего не будет, взрослые вечно врут… Или все-таки на этот раз говорят правду? Рискнуть? Или убежать?
Взял кофейное зерно, сунул за щеку, хрустнул, невольно поморщился:
– Горько. Это такая судьба?
– Это такая у вашей судьбы упаковка, – отрезала Даля. – Кофе всегда горький, что в него ни добавляй.
– И что мне теперь делать? – спросил блондин. – Я имею в виду, что положено? По ритуалу? Ночь не спать? Или, наоборот, нужен покой?
– Это как раз не имеет значения, – строго сказала Нонна. – Что важно, так это запить. Все равно чем, главное хорошенько прополоскать рот, чтобы ни крошки там не осталось. А то знаете, бывают случаи: у одного судьба в дырке между зубами застрянет, другой ее нечаянно выплюнет, а потом удивляются, что никаких перемен… Чего вам налить?
Гость, так и оставшийся безымянным, покинул их примерно четверть часа спустя, такой обалдевший от переживаний, словно выпил не кружку чая с ромом, а полведра какого-нибудь мухоморного отвара. Оставил сто евро, хотя Нонна, Хлоя и Даля дружно отказывались, объясняли, что судьба дается бесплатно, не такой это товар, чтобы деньги за него брать. Но блондин твердо сказал: «Значит, это за напитки», развернулся и ушел. Подруги еще долго молчали, глядя то на засунутую под кружку зеленую купюру, то на закрывшуюся за гостем дверь.
– Интересно, – наконец спросила Хлоя, – ему есть, где переночевать?
– Ну, он же все-таки немец, – неуверенно сказала Даля. – Прилетел из Берлина. Немцы все всегда заранее планируют. Небось не пропадет.
– Да какой он немец, с таким-то акцентом, – усмехнулась Нонна. – Явно русский. Или украинец. Ну, может быть, поляк. Но в данном случае это совершенно неважно. У психов не бывает национальности. Одно большое международное братство. И мы в нем тоже теперь состоим.
– Я, знаешь, даже рада, что мы все это устроили – откликнулась Хлоя. – Дурацкие шутки у его приятеля. Небось доволен собой, предвкушает, как белобрысый прибежит к нему с претензиями: «Ты все наврал про судьбу! Меня там послали к черту!» И как он будет хохотать – так ты, дурачок, поверил? А теперь пусть сидит, гадает, чего наделал, как так вышло, что в каком-то литовском кафе действительно раздают новые судьбы, не упустил ли он свой единственный шанс и кто кого на самом деле удачно разыграл.
– Вот это точно, – улыбнулась Нонна.
– А судьба? – укоризненно спросила Даля. – Вот вернется он домой, счастливый и окрыленный, а судьба все та же. Полный провал.
– В самом худшем случае теперь у него будет возможность решить, что новая судьба тоже оказалась как-то не очень, и коэффициент экзистенциальной муки ноль-две десятых совсем не подарок, зато через год можно будет попробовать еще раз, – заметила Нонна. – Надежда часто делает нас полными дураками, но лично я предпочитаю по возможности ее иметь.
– А может быть, он вернется домой такой довольный, вдохновленный нашими обещаниями, что теперь все действительно пойдет иначе? – предположила Хлоя. – Так иногда бывает. Эффект плацебо никто не отменял.
– Фыр, – вдруг сказала кофейная машина. Немного помолчала и бодро повторила: – Фыр-фыр-фыр!
– Матерь божья, это что же она, починилась от наших разговоров? – ахнула Даля.
– Сейчас проверим, – встрепенулась Нонна. – Эффект плацебо, значит? А что ж, все может быть.
Два дня спустя, когда была Далина очередь открывать кафе, у запертой калитки, ведущей в крошечный внутренний дворик, топталась какая-то странная девица. И дело совсем не во внешности, таких сейчас полный город, с бритыми головами, зелеными челками, разноцветными татуировками, серьгами в носу и в рваных колготках, которые стоят втрое дороже целых, это Даля знала не понаслышке, ее собственной дочке только что исполнилось четырнадцать лет.
Странным был взгляд незнакомки – испуганный, заискивающий и одновременно доверчивый, как у потерявшегося щенка.
– Вы работаете в кафе «Музыка и цветы»? – почти беззвучно спросила она, когда Даля достала ключи.
– Я его хозяйка, – гордо кивнула Даля.
Как бы скверно ни шли дела, но говорить: «Я – хозяйка кафе», – ей по-прежнему было приятно. Как в первый день.
– Я… – начала было бритая девица, умолкла, смущенно потупилась, наконец набралась решимости и выпалила: – Мне сказали… сказал один человек, у вас тут можно получить новую судьбу?
Даля мысленно схватилась за голову. Ох, мамочки. Уже разболтал. Но вслух строго сказала:
– Только при условии, что вы совершеннолетняя. И учтите, сейчас их на складе всего две. Хотите иметь большой выбор, приходите в конце недели. А еще лучше – в понедельник, чтобы наверняка.
– Нет, – помотала головой девица. – Это ничего, что две. Мне и одной хватит, лишь бы прямо сейчас. Я вчера вообще в окно хотела… Нет, не слушайте меня, это неважно. Просто долго точно не вытерплю. И мне уже девятнадцать. Хотите, за документами сбегаю? Я тут рядом живу.
– Сбегайте, – кивнула Даля. – У нас с этим очень строго, – и, чтобы девица не передумала возвращаться, добавила, сменив суровый тон на ласковый: – А я пока кофе сварю.
В пятницу вечером, когда в кафе были Даля и Хлоя, пришла еще одна барышня, в розовом пальто, без татуировок, с гладко причесанными волосами, но, судя по выражению лица, с космических масштабов бардаком в голове. Спросила: «У вас еще осталась одна судьба?» – и разревелась. Как такой отказать?
В понедельник на голову Нонне свалились сперва две бойкие подружки, с порога деловито спросившие: «Ну что, завезли новую партию?» – а ближе к вечеру – толстый молодой человек, которому восемнадцать лет должно было исполниться только через месяц. Но с такими отчаянными глазами, что пришлось сделать для него исключение. В смысле дать погрызть кофейное зерно.
Во вторник толстяк привел в «Музыку и цветы» своего приятеля, а пятничная барышня – старшую сестру. Ну а дальше заработало сарафанное радио, поток клиентов нарастал. В основном это были студентки, иногда с приятелями, но чаще с подружками, иногда – большими компаниями. Кофейные зерна расходились на ура. Мальчики приходили ближе к закрытию, поодиночке. Вид имели независимый и решительный, некоторые с порога объявляли, что ни в какие глупости не верят, а сюда пришли на спор, поэтому ладно, давайте сюда вашу судьбу с низким коэффициентом экзистенциальной муки… правда, что ли, может полегчать?
Впрочем, большинство новых клиентов заходили просто так, из любопытства, о новых судьбах не заикались, но явно знали, это было заметно по напряженным лицам и возбужденно блестящим глазам. Но каждый что-нибудь да заказывал, это главное. Дела в «Музыке и цветах» понемногу пошли на лад.
Еще до начала лета подруги с удивлением обнаружили, что их заведение постепенно становится популярным молодежным кафе, хотя формат, как им до сих пор казалось, был не совсем подходящий. Но сменить его оказалось несложно: частично обновили музыкальный репертуар, научились заливать разноцветной глазурью свои фирменные шоколадные кексы, превращая их таким образом в модные капкейки, в букеты стали добавлять декоративную капусту, студентки раскупали их на ура, а для чаевых завели копилку, пестрый керамический череп, назвали Эдо в честь дурацкого берлинского шутника. Студентки его обожали, а порой, перебрав «Восторженного кофе» с ромом и сливками по Нонниному рецепту, норовили украдкой поцеловать.
Кудрявый берлинский блондин, вопреки их прогнозам, больше не появился, но в сентябре прислал фотографию джазового квартета, он – с контрабасом, на обратной стороне подпись: «Я не верил, а все получилось!», а в конце декабря открытку с красными розами из Барселоны: «Счастливого Рождества». Нонна повесила оба послания над барной стойкой. Как раз удачно совпало: музыка и цветы.
Улица Миндауго (Mindaugo g.) Большая весенняя охота
Утром внезапно хлынул дождь, не по-весеннему холодный и какой-то очень по-человечески злой, словно его оторвали от важного разговора, на который долго не мог решиться, наконец собрался, начал, и тут срочно вызвали на работу: а ну давай лейся, пора. Нет, через полчаса будет поздно, надо прямо сейчас. И дождь, куда деваться, пошел. Но совершенно не собирался делать вид, будто ему это нравится. Хлестал по асфальту, как пощечины раздавал.
Ингрида стояла во дворе под навесом, который, впрочем, почти не спасал от брызг. Вчера, как назло, поставила машину в дальнем конце двора, пока туда добежишь, промокнешь насквозь. Теоретически можно вернуться домой за зонтиком, но до подъезда отсюда примерно столько же, сколько до машины. Ливень застал ее точнехонько посреди двора. Надо же так влипнуть!
– Доброе утро, – негромко сказал у нее за спиной мужской голос.
Ингрида вздрогнула от неожиданности, испуганно обернулась. Было бы чего дергаться – за спиной подъезд. Вполне естественно, что оттуда может выйти кто угодно. Например, пожилой дядька почти двухметрового роста; предположительно, сосед. По крайней мере, широкое, красное, словно бы опаленное солнцем лицо, казалось смутно знакомым. Высокий лоб, нос картошкой, мясистые щеки, напряженный внимательный взгляд маленьких, очень светлых глаз. Общее впечатление, будем честны, довольно неприятное. Но это не повод шарахаться от человека, который только тем и виноват, что вежливо поздоровался.
Откликнулась наконец:
– И вам доброго утра.
Лучше поздно, чем никогда.
– Узнали меня? – спросил сосед.
Ингрида неуверенно покачала головой.
– У меня плохая зрительная память, – сказала она. И извиняющимся тоном добавила: – К тому же, я сейчас без очков.
Зачем было врать про очки, непонятно. Чтобы сосед не обиделся на недостаток внимания? Не огорчился, ощутив себя никому не нужным неприметным ничтожеством? И не запил с горя, решив, что жизнь прошла зря? Так называемая деликатность, в фундаменте которой исподволь внушенный матерью и бабкой страх не угодить любому мужчине? Из серии «никогда такого не было, и вот опять». Ну, дорогая, ты даешь.
– Полиция, – напомнил сосед, как-то нехорошо, неуместно, почти сладострастно ухмыльнувшись. – Приезжал к вам по вызову несколько лет назад. Все еще не вспомнили?
Конечно, вспомнила. Хотя дорого дала бы, чтобы не вспоминать. Ответила, изо всех сил стараясь казаться спокойной:
– Да, действительно.
И отвернулась, всем своим видом давая понять, что говорить больше не о чем.
Но сосед сделал шаг и снова оказался перед ней.
– Я теперь живу в этом дворе, – сказал он, все так же внимательно и напряженно всматриваясь в Ингриду. – С февраля. Как раз думал о вас недавно: остались вы в той квартире или съехали? Снова замужем или еще одна? И вот так удачно встретились.
Вроде бы ничего особенного в его словах не было. Обычная ситуация: переехал человек во двор, куда несколько лет назад приезжал на вызов. Естественно, вспомнил о том происшествии, кто угодно на его месте вспомнил бы, и я тоже, – думала Ингрида, – и я. А теперь встретил возле подъезда – как я с его точки зрения называюсь? Потерпевшую? Свидетельницу? Подозреваемую? – неважно, как-нибудь называюсь, замнем. Поздоровался, напомнил, что уже встречались, по-своему деликатно, даже слово «самоубийство» не прозвучало, по крайней мере, пока, – говорила себе Ингрида, стараясь усмирить поднимающуюся панику. Но понимала, что выдержки хватит ненадолго. Еще очень больно. И было совсем недавно. Почти шесть лет назад, почти вчера.
– Извините, мне пора. Если ждать, пока закончится дождь, опоздаю на работу, – сказала она соседу, одарив его на прощание ледяной улыбкой и взглядом, от которого могла бы завянуть трава.
Но что ему какой-то взгляд.
– Ничего страшного, – сказал он. – Еще увидимся. Все-таки в одном дворе теперь живем.
Вид у соседа при этом был довольный, как у сытого людоеда, сразу после завтрака зашедшего в свой погреб поприветствовать заготовленных к обеду пленников.
Не выдумывай, – говорила себе Ингрида, пока бежала через двор, накрыв голову сумкой. И потом, сидя в теплой сухой машине, выруливая из двора, упрямо повторяла: не выдумывай, пожалуйста, ничего плохого он не хотел, просто увидел меня у подъезда, узнал, вспомнил, сам, наверное, тоже смутился, мало ли что незаметно, просто лицо такое… тяжелое. И вообще эмоции у всех людей проявляются по-разному, а я не физиономист, не психолог, боже мой, совсем нет. Поэтому, пожалуйста, не надо выдумывать, будто этот человек хотел как-то специально меня помучить, нарочно напомнить, тем более, напугать, да и чем тут пугать, меня и дома-то не было, когда все случилось, даже доказывать свою непричастность не пришлось, и полицейским меня тогда было жалко, я точно помню, хотя на самом деле не помню почти ничего, и хорошо, и правильно, зачем что-то помнить, это было давно и прошло, прошло.
Думала, что успокоилась, однако доехав до перекрестка, повернула не налево, как всегда, на работу, а направо, словно собралась ехать в отделение полиции, куда ее отвезли в тот вечер заполнять какие-то нелепые, бесконечно длинные протоколы, и это было огромное облегчение, гораздо лучше, чем оставаться дома одной. И краснолицый здоровяк, между прочим, вел себя тогда вполне деликатно, все больше помалкивал, отводил глаза; правда, в отличие от коллег, особо не утешал. Но он и не обязан. Никто никого не обязан утешать.
Развернулась, конечно, на следующем перекрестке. И поехала на работу. И даже не опоздала, совсем молодец.
Коллеги как сговорились, наперебой расспрашивали Ингриду, как она себя чувствует и все ли в порядке; даже шеф, особой чуткостью вроде бы не страдавший, посоветовал принимать витамины, напомнил о скорых пасхальных каникулах, а под конец, явно наслаждаясь собственным милосердием, объявил, что если дело совсем плохо, готов отпустить ее домой. Ингрида еле отбилась, в смысле, с трудом убедила начальство, что с ней все в порядке, но витамины – отличная идея, надо будет купить их и начать принимать. Поведение шефа ее почти напугало – это как же я, получается, выгляжу со стороны? Пошла в туалет, долго, придирчиво рассматривала себя в большом зеркале. Действительно не очень, вполне можно решить, будто заболела или всю ночь не спала. А ведь ничего страшного не случилось. То есть не только страшного, а вообще ничего не случилось.
Ни-че-го.
Однако вечером, подъезжая к дому, беззвучно молилась: господи, пожалуйста, пусть этого типа не будет во дворе. Молитва помогла, соседа и правда не было. Сегодня пронесло, а завтра – как бог даст.
Лешка, конечно, сразу заметил, что с Ингридой творится неладное. Еще бы он не заметил, если уж даже шефа проняло. Кинулся расспрашивать, что стряслось. Отмахнулась: да ничего особенного, просто устала, такой дурной, дерганый день, иногда бывает, сам знаешь, потом проходит, завтра все будет иначе, не о чем говорить.
Вроде бы поверил, но все равно косился встревоженно. Носился с ней весь вечер, как с захворавшим ребенком, закутал в плед, заварил чай с обильно разросшейся на подоконнике мелиссой, нажарил блинов, принес на большом подносе – сиди, ты устала, а у меня сегодня был легкий день, почти выходной. Включил ей «Доктора Кто», и сам вместо того, чтобы уткнуться в компьютер, смотрел за компанию, хотя не особо любил этот сериал. Ну, Лешка есть Лешка; не зря кто-то из его приятелей шутил, что на конкурсе самых добрых людей в мире Лешка занял бы второе место, потому что пропустил бы последнее задание, утешая не прошедших в финал. В очередной раз подумала: надо бы все-таки ему рассказать. Но сама знала, что на самом деле не надо. Потому что рассказывая про Йонку, слишком легко выдать себя. Не стоит Лешке знать, что она любила Йонку – ладно, не больше жизни, почти как ее, а больше так никогда ни с кем не получится, того немногого, что осталось от ее сердца, просто не хватит на такую любовь.
Никто не заслуживает жить с таким знанием, тем более Лешка, тем более сейчас, пока он так счастлив, что его счастья вполне хватает на двоих.
Не рассказала, конечно. Зачем портить вечер, так хорошо сидели в обнимку, смотрели кино. Перед сном демонстративно приготовила на утро пригоршню витаминов. Вот увидишь, завтра все будет хорошо.
Назавтра и правда все было хорошо. В смысле сосед не подстерегал ее во дворе. А что от подъезда до машины неслась, сломя голову, как будто решила установить новый мировой рекорд в беге на каблуках по пересеченной местности, так ничего не поделаешь, нервы ни к черту, имеют право, с чего бы им, собственно, быть в порядке, когда такая вот дурацкая, слишком поздно ставшая счастливой жизнь.
Лешка встретил Ингриду после работы, потащил гулять. И правильно сделал, погода была отличная, темнеть уже стало довольно поздно, в центре открылся очередной новый суши-бар, на всех углах продают тюльпаны, а вернувшись домой в половине одиннадцатого, не рискуешь встретить во дворе дурацкого соседа. Ну, почти не.
Через несколько дней Ингрида почти успокоилась. Сосед больше не попадался ей на глаза. Ясно, что они уходят на работу в разное время и возвращаются тоже в разное, к тому же – она вспомнила и специально сходила проверила – из того подъезда с козырьком, где пряталась от дождя, целых два выхода, во двор и прямо на улицу Миндауго; возможно, этот полицейский чаще пользуется вторым. Через двор выходить неудобно, да и выглядит он, будем честны, непрезентабельно, нечего тут делать нормальному человеку, разве только машину парковать. На самом деле, может так удачно сложиться, что мы больше вообще никогда не встретимся, – думала Ингрида. – Теоретически это вполне возможно. Пожалуйста, пусть будет так.
Но не вышло. В субботу, пока Лешка увлеченно проходил какую-то долгожданную новую игру, решила съездить в Икею за разными мелочами – тоже своего рода квест, самый простой, начальный уровень, хочется иногда.
Уже почти подошла к машине, когда увидела, что рядом с ней топчется красномордый сосед. Первым порывом было сбежать, но поздно, он ее заметил и озарил этой своей хозяйской людоедской ухмылочкой – хорошего дня.
Да уж, лучше не бывает.
Ничего не поделаешь, кивнула, выдавила какое-то подобие улыбки, подошла к машине, хотела быстро сесть, завестись и поехать, но сосед как бы случайно перегородил проход, встал между Ингридой и водительской дверью, беззастенчиво оглядел ее с головы до ног, так что сразу захотелось вернуться домой, сунуть одежду в стиральную машину и принять душ. Наконец сказал:
– Хорошая машина. Ваша? – и, не дожидаясь ответа, ухмыльнулся еще шире: – Знаю, что ваша. Я номера пробил.
От такого признания Ингрида онемела. Пробил номера? С какой стати? Зачем?! И какое право?..
– От покойника досталась? – по-свойски подмигнул ей сосед. – Хорошее дело – наследство, правда? Помогает горе пережить.
– Это с самого начала была моя машина, – сухо ответила Ингрида. – Купленная на мои деньги. Мало ли, что на кого в семье записано.
Боже, – подумала она, – зачем я оправдываюсь? Зачем я вообще с ним говорю?! Так разозлилась на себя за этот лепет, что перестала робеть. Наконец позволила себе посмотреть на соседа с искренней неприязнью. Сказала:
– Пропустите меня, пожалуйста. Мне пора ехать. – И, не скрывая сарказма, добавила: – Приятно было поговорить.
Тот поспешно отступил, открывая дорогу. И даже глаза наконец-то отвел.
Назло ему, себе, мертвому Йонке, Лешке, залипшему в дурацкую игрушку, вообще всем на свете, поехала-таки в Икею, долго таскалась по залам с тележкой, набивая ее чем попало, лишь бы не оставалась пустой, а потом бросила возле кассы и ушла с пустыми руками. Отлично, словом, провела день.
Машину оставила в соседнем дворе, благо там нашлось место. Ну, то есть как – в соседнем, за два квартала. Решила: ничего, сколько тут идти. Зато здесь красномордый хмырь ее не найдет, не будет глазеть. Уже в подъезде задумалась, как объяснить это Лешке, но тут же махнула рукой – да никак. Все равно он не водит, а гулять мы обычно ходим пешком, так что скорее всего просто не заметит. А если все-таки заметит, скажу, что у нас во дворе не было мест, Лешка на такие вещи внимания не обращает, поверит и забудет через пару секунд.
Еще два дня прошли спокойно. Сосед не объявлялся. Но машину Ингрида по-прежнему оставляла в окрестных дворах, а свой теперь пересекала строго по диагонали, от ворот к подъезду, быстрым шагом, почти бегом.
На третий вечер ходили с Лешкой гулять, встречались с друзьями, домой возвращались поздно, в начале двенадцатого. Во дворе было пусто, но возле подъезда, где жил красномордый полицейский, кто-то курил. В темноте не разглядеть, но судя по огоньку сигареты, курильщик был высокого роста. Ладно, если и он, по крайней мере, не стал приставать с разговорами. Даже не поздоровался. Спасибо и на том.
Но это, конечно, ненормально – через собственный двор ходить, вздрагивая и оглядываясь. Не дело. Не жизнь.
– Как ты думаешь, – спросила она Лешку, – что если продать эту квартиру и купить в Старом городе? Хорошо бы нам там жилось?
– Но мы и так почти в Старом городе, – удивился тот. – Сколько тут, всего пара кварталов. – И поспешно добавил: – Но если ты хочешь, я за. Кстати, Маркус – ты помнишь моего Маркуса? – знает отличного риэлтора. Недавно как раз говорил. И…
– В общем, есть смысл подумать, – заключила Ингрида.
На самом деле все ее существо восставало против этой идеи. Ингрида очень любила доставшуюся ей от деда квартиру на улице Миндауго, здесь прошли лучшие, самые веселые и беззаботные дни ее детства. Наверное, поэтому чувствовала себя в этих комнатах не просто дома, а, как дед говорил, «у бога за пазухой» – настолько на своем месте, что даже после Йонкиной смерти не стала переезжать. Хотя тогда, наверное, как раз следовало. Все лучше, чем теперь, столько лет спустя, в панике бежать от какого-то дурацкого соседа, который только тем и страшен, что постоянно встречается во дворе и заводит какие-то нелепые, ненужные разговоры, скорее всего, не со зла, а просто по глупости. И уж совершенно точно не может по-настоящему навредить.
Не может-то он не может. Но на следующее утро прежде, чем выйти во двор, осторожно приоткрыла дверь подъезда и долго напряженно всматривалась в щель: свободен ли проход?
К сожалению, когда возвращаешься домой, в щель не посмотришь, ворота всегда нараспашку. Да и обзора всего ничего.
В итоге красномордый вышел из своего подъезда и направился прямо к ней, приветливо помахивая рукой, как старой подружке. Спросил еще издалека, не здороваясь:
– А машина где?
Пробормотала:
– Оставила возле работы.
Хотя не обязана была перед ним отчитываться. И здороваться не обязана. И даже узнавать.
– Это вы с новым мужем вчера вечером были? – спросил сосед. Не дождавшись ответа, добавил: – Хороший парень. Одет прилично. И не пьет, как тот, верно? Я бы с ним, пожалуй, познакомился. Надо будет как-нибудь к вам по-соседски зайти. Шестнадцатая квартира, я правильно помню? На четвертом этаже?
И пока Ингрида стояла, не в силах двинуться с места, судорожно, шумно втягивала в себя воздух, внезапно ставший почти непригодным для дыхания, склонился к самому ее уху, прошептал интимно, как мог бы только бывший любовник:
– А новый муж знает, что случилось со старым? И что по этому поводу думает? Нам с ним есть о чем поговорить.
Хорошо, что Лешка работал допоздна и не застал ее ревущей от горя, стыда и ужаса. Хорошо, что предугадал отсутствие ужина и принес пиццу, огромную, как автомобильное колесо. И совсем хорошо, что вернувшись, открыл дверь своим ключом, потому что звонок Ингрида отключила. Непросто было бы объяснить, почему. Ну, то есть просто: «К нам собрался зайти сосед. Нет, я его не приглашала, он сам решил». Но тогда, конечно, придется рассказывать все с начала.
Ладно, черт с ним, давным-давно пора рассказать.
Для храбрости открыла бутылку вина, разлила его по бокалам, но выпить как-то забыла. И кусок пиццы лежал на тарелке нетронутый. Лешка встревожился, но с вопросами лезть не стал, только смотрел выжидающе. Знал, что ее лучше не торопить.
– Никогда тебе не рассказывала про Йонаса, – наконец сказала Ингрида. – В смысле, про моего быв… покойного мужа. Не потому, что какая-то тайна, просто очень тяжело лишний раз вспоминать.
– Ну и не рассказывай, – ответил Лешка. – Факты я, если что, и так знаю. А обо всем остальном имеет смысл говорить, только если от разговоров тебе станет легче. Но я догадываюсь, что нет.
– Знаешь… факты? Откуда? – пробормотала Ингрида, ушам своим не веря, еще не понимая, что это для нее означает, и как в связи с этим себя вести. Радоваться? Сердиться? Обижаться? Стоп, погоди, почему, на кого обижаться? Что за бред.
Только теперь поняла, какой была дурой, думая, будто кроме нее и полиции никто не знает обстоятельств Йонкиной смерти. Такое захочешь – не скроешь. Как только в голову могло прийти?
– Ну слушай, – вздохнул Лешка, – мы все-таки не на необитаемом острове живем. Все всем все обо всех рассказывают. Всегда. И про Йонаса я знал еще до того, как мы с тобой познакомились. Он же был известным человеком. Да и общих знакомых у нас полно.
– Как же хорошо, что ты сам все знаешь, – наконец выдохнула Ингрида. – Меня это грызло в последнее время. Ты хороший. Самый близкий мой человек во всем мире. Не хочу иметь от тебя секретов. Но заставить себя сказать никак не могла.
Потом предсказуемо расплакалась. Но плакала не столько по мертвому Йонке, сколько от облегчения. Как же все оказалось просто, стоило только начать говорить.
Жаловаться Лешке на соседа не стала. Ну его к черту, придурка красномордого, только вечер портить. Теперь, когда стало ясно, что Лешку в любой момент можно позвать на помощь, сосед перестал ее пугать. Пошлю его в задницу, – весело думала Ингрида, опьянев не столько от вина, сколько от собственной храбрости. – Пусть только сунется. Как только увижу, сразу, не здороваясь, пошлю. А еще лучше, завтра же пойду в полицию. Напишу заявление на этого типа. Привру, что шантажирует, угрожая разгласить служебную информацию… А собственно, почему «привру»? Именно это он и делает, мало ли что денег не требует. В гости насильно напрашиваться – тоже шантаж. Правда, я не знаю, как его фамилия, но по номеру дома, наверное, можно вычислить. Вряд ли у нас все жильцы служат в полиции. И наверняка у них где-нибудь отмечено, кто на какой вызов выезжал, даже шесть лет назад. Вот пускай теперь поднимают архивы, ищут виновника. И наказывают. Никто не имеет право портить мне… нам с Лешкой жизнь.
Хотела пойти в полицию утром, до начала работы, но проспала. Дел, как назло, было много, так что в обеденный перерыв съездить в полицию тоже не удалось, какое там съездить, успеть бы бутерброд до рта донести.
А к вечеру так устала, что решила – бог с ним, съезжу в полицию завтра. Сейчас бы горячего чаю и с книжкой на диван.
Приехала в свой двор и бестрепетно остановилась возле того самого подъезда, где жил красномордый шантажист. Не нарочно, просто там было удобное место, словно специально для нее оставили. А если увидит в окно, как я паркуюсь, и выйдет… Да на здоровье. Я его не боюсь.
И действительно даже не вздрогнула, когда распахнулась дверь подъезда. И в машине не стала отсиживаться, вышла ему навстречу, веселая и злая, отчасти даже радуясь поводу произнести заранее сочиненную речь.
– Я сегодня ходила в полицию. Написала жалобу, что вы меня шантажируете. Попросила разобраться. Мне обещали… Ну и чего вы так уставились? Удивились? Было бы чему. Думали, если полицейский, вам можно издеваться над чужим несчастьем? Что ни делай, все сойдет с рук?
Говорила с такой уверенностью, словно и правда уже побывала в полиции. Ай, да какая разница, сегодня или завтра, главное, я туда точно пойду. И пусть только попробует… – Ингрида не стала додумывать, что именно он может попробовать. И так ясно, что абсолютно все. Но пусть только попробует, сука. Тварь такая. Я тебе покажу.
Явно ошеломленный ее напором, сосед попятился назад. И глаза отвел. И, кажется, даже стал меньше ростом; ясно, что просто ссутулился, но приятно было думать, что натурально уменьшился, как дракон в любимом мультфильме детства – тот уменьшался, когда его не боялись, и в конце концов стал размером с воробья[23].
– Попался, красавчик! Что, не дали попировать напоследок?
Откуда-то из-за спины краснолицего вдруг возникла женщина в форме полицейского. Невысокого роста, худенькая, как школьница, с выбивающимися из-под фуражки легкомысленными кудрями. Но выглядела она при этом совсем не забавно. Бывают такие люди – вроде ничего выдающегося, но как-то сразу, с первого взгляда ясно, что лучше не вставать у них на пути.
Надо же, как оперативно работает наша полиция, – озадаченно подумала Ингрида. – Отреагировать на жалобу, которую я только планирую написать – это они, конечно, молодцы. Или этот хмырь еще кучу народу до ручки довел?..
Додумать она не успела, потому что в этот момент кудрявая женщина направила на красномордого – господи, неужели пистолет?! С одной стороны, так ему и надо, но все-таки нет, погодите, так не делается, перебор, он же не убийца, не террорист. Или все-таки убийца? То есть опасность была больше, чем казалось?
Ингрида еще никогда в жизни не падала в обморок, хотя поводы, будем честны, случались. Думала, обмороки – это литературщина и притворство, даже не представляла, как это может быть, чтобы сознание вдруг – хлоп! – и отключилось прямо посреди бела дня, без наркоза или хотя бы удара дубиной по голове. Но сейчас вплотную приблизилась к пониманию этого феномена: окружающий мир вдруг становится зыбким горячим туманом, звуки сливаются в гулкий звон, от которого в голове не остается ни единой мысли, и…
Все-таки не отключилась, но тяжело осела прямо на мокрый после дневного дождя асфальт. И уже из этой позиции успела увидеть, как исчез краснолицый сосед. Не убежал, не упал, а именно исчез, но не мгновенно, а медленно растворился в воздухе, как кусок сахара в чашке чая, стремительно теряя объем и цвет, но до последнего момента сохраняя подобие формы.
– С вами все в порядке? Можете встать?
Маленькая кудрявая женщина в полицейской фуражке сидела на корточках рядом с Ингридой. И больше не выглядела человеком, с которым лучше не связываться. Наоборот, как-то сразу было ясно, что ее тонкая рука – надежнейшая из опор. И хрупкое, почти детское плечо самой природой создано для преклонения всякой измученной головы.
– Наверное, могу, – неуверенно отозвалась Ингрида. – А что это было вообще?
– Вопиющее нарушение служебной инструкции в моем исполнении, – ответила женщина. И вдруг рассмеялась, так звонко, словно они были школьными подружками, и она собиралась рассказать Ингриде подслушанный дома неприличный анекдот.
Глядя на нее, Ингрида тоже заулыбалась. Хотя чувствовала себя не то чтобы замечательно. Совсем паршиво чувствовала, честно говоря.
– Хотите выпить? – вдруг спросила женщина. И, не дожидаясь ответа, извлекла откуда-то из внутреннего кармана небольшой термос. – Это чай с ромом, – сказала она. – То есть, если называть вещи своими именами, скорее все-таки ром с чаем. Рома гораздо больше. В общем, очень советую. Только мне оставьте. Я тоже хочу.
Ингрида, обычно брезговавшая пить из чужой посуды, сейчас ни секунды не колебалась. Дают – бери.
– Вы уверены, что с чаем? – спросила она, отхлебнув пару глотков. – По-моему, чистый ром.
– Чай там совершенно точно был, – заверила ее женщина-полицейский. – С утра. Но я уже несколько раз отпивала и разбавляла по новой. Вообще, пить на службе последнее дело, но на охоте без этого не обойтись.
– На охоте? – растерянно повторила Ингрида. Тут же вспомнила, как исчез красномордый, и в голове снова раздался опасный звон. – А что случилось с моим соседом? – спросила она. – Куда он подевался? Кто он?
– Вот это хороший вопрос. Знаете что? Давайте я все-таки помогу вам подняться. Не дело это – на холодной земле сидеть, еще простудитесь. Давайте сядем… Ну, например, в машину. Это же ваша? Вот и отлично. Не беспокойтесь, я вам все расскажу.
Перебрались в машину. Термос с условным чаем снова оказался в руках Ингриды. Очень кстати, честно говоря.
– Меня зовут Таня, – сказала хозяйка термоса. – Полиция города Вильнюса, Граничный отдел.
– Пограничный? – изумилась Ингрида. – Так что, этот тип был шпион?
Сказала и сама рассмеялась от нелепости предположения. Чай явно делал свое дело. В смысле, ром.
Но Таня осталась серьезной.
– Не то чтобы именно шпион, но… Думаю, вам следует знать, что сотрудник полиции, за которого выдавал себя ваш обидчик, два года назад вышел в отставку по возрасту и переехал в Авиженяй[24], где и живет с семьей. Если захотите, можете проверить эту информацию. Адреса его вам, конечно, не дадут, но…
– Не надо адреса, – сказала Ингрида. – Я же своими глазами видела, что случилось. Как этот тип исчез после того, как вы направили на него пистолет.
– Это не совсем пистолет, – улыбнулась Таня. – То есть он настолько же пистолет, насколько в термосе чай. Теоретически что-то вроде. Возможно, когда-то им был.
Теперь они рассмеялись вдвоем. Удивительно хорошая оказалась эта Таня. Вроде бы такое творится, что должно быть страшно, но с ней почему-то спокойно. И весело. И в термосе у нее отличный ром.
– Вы сказали, что нарушили служебную инструкцию, – отсмеявшись, вспомнила Ингрида. – Нельзя было, чтобы он исчезал?
– Это как раз можно, – отмахнулась Таня. – И даже нужно. В этом, собственно, и заключалась моя задача – чтобы он исчез и больше вас не донимал. Просто нельзя было делать это в вашем присутствии. Пугать людей нам запрещено. Но шеф считает, что в некоторых случаях те, кто сумел сам победить эту пакость, имеют право узнать, с чем имели дело. И заодно получить гарантии, что оно никогда не вернется. А вы почти победили. Все к тому шло.
– Я почти победила? – изумилась Ингрида. – Но как?
– Вы перестали его бояться. С Тихим Мучителем это единственно верный ход. Рядом с храбрыми людьми они мгновенно слабеют. Не могут подолгу сохранять плотность в присутствии тех, кто их не боится. И исчезают навсегда. По крайней мере, к вам бы он точно уже никогда не вернулся. Насчет новых жертв не знаю, смотря насколько он силен и упрям. По-разному бывает. Когда как.
– С «тихим»… С кем, извините?
– Тихий Мучитель. Одна из разновидностей низших ненасытных демонов. Все они, честно говоря, страшная дрянь, но Тихие Мучители, пожалуй, хуже всех. Слишком хорошо маскируются под обычных людей. И безошибочно определяют слабые места потенциальной жертвы. Часто принимают облик бывших обидчиков, насильников или просто когда-то восторжествовавших врагов. А иногда – вот как в вашем случае – прикидываются свидетелями событий, вызывающих страх, боль, вину или стыд; в идеале – все сразу. Наши страдания – их корм. Это не иносказание, действительно, самая настоящая еда.
Ингрида внимательно слушала, но все меньше понимала, о чем речь. После того как прозвучало слово «демоны», ее ум вежливо, но решительно отказался обрабатывать эту информацию. Можно сказать, вышел на перекур.
Таня это заметила.
– Ладно, – вздохнула она, – на самом деле, вы вовсе не обязаны меня слушать. Можете считать, это просто забавное происшествие: нетрезвая женщина в форме полицейского, несла в вашем присутствии околесицу о демонах. Забудьте. Выбросьте из головы.
Это было великодушное предложение, Ингрида его оценила. Но принять не смогла.
– Я своими глазами видела, как этот тип исчез, – твердо сказала она. – После того, как вы направили на него этот свой… не-пистолет.
– КАРМ, – кивнула Таня. – Компактный Автоматический Разрушитель Морока. Шеф называет эти штуки «Кармен». Он вообще большой любитель поглумиться над всем, что кажется слишком страшным, чтобы быть смешным. Мне до него в этом смысле пока далеко.
– А что с ним стало? – спросила Ингрида. – С этим демоном, или как там его? Он умер? Или просто провалился в какое-нибудь пекло? В смысле, попал домой?
– Надеюсь, первое, – неуверенно ответила Таня. – Но точно никто не знает. Куда именно они деваются и что при этом чувствуют – бог весть. Но с нашей точки зрения он совершенно точно покойник. В этом мире его больше нет. И еще примерно полутора сотен его родичей, всего за пять дней, с начала Большой Весенней Охоты. Неплохой результат.
– Полутора сотен?! Их так много?
– На самом деле гораздо больше. Мы, к сожалению, не настолько всесильны, как хотелось бы. И в отделе нас пока всего восемь человек. Но делаем, что можем. Лично я даже сплю сейчас на работе. Никто не заставляет, но так гораздо легче вставать, поспав всего три часа.
– Это звучит пострашней, чем рассказы о демонах, – сочувственно сказала Ингрида.
– Ничего, – вздохнула Таня. – Еще два дня, и отдохнем. Большая Весенняя Охота закончится, хотим мы того или нет.
– За оставшиеся два дня перебьете всех демонов? – обрадовалась Ингрида. Она по-прежнему не очень верила в реальность происходящего, но ее разобрал азарт.
– Всех, к сожалению, не успеем. Их тут страшные толпы, особенно по весне. Но наши КАРМы работают в полную силу примерно неделю: за три дня до полнолуния и три дня после. И не каждый месяц, а только в апреле и октябре. На все про все у нас две недели в году – Весенняя и Осенняя Охоты. Но и это гораздо лучше, чем ничего.
Помолчали.
– Я пойду, – наконец сказала Таня. – Это конечно свинство – оставлять вас одну после всех этих разговоров. Но работы не просто много, а как говорил мой папа, до жопы. Извините за грубость, но сказать иначе – считайте, соврать. Вот моя визитка, захотите поговорить – добавьте меня в Фейсбуке. Но учтите, раньше чем через три дня я туда не загляну. Продержитесь?
– Да чего там «держаться», – усмехнулась Ингрида. – Ничего же не случилось. Нетрезвая женщина в форме полицейского несла в моем присутствии околесицу о демонах, предварительно укокошив одного из них прямо у меня на глазах. Подумаешь, горе. Переживу. Всего каких-то несчастных три дня.
Сквер С. Монюшкос (S. Moniuškos skv.) Возможны варианты
Андрис пересекает сквер, что напротив Дома Учителя. Настроение у него – хуже некуда. Ничего не случилось; собственно, в том и беда, что ничего не случилось, просто жара, просто пыль, просто скука, просто все как всегда.
В такие жаркие дни особенно обидно сидеть в городе, выбираясь только к бабке по выходным; на хуторе не так душно, но тоже скучно до тошноты, даже если на весь день уйти в лес. Хотя раньше, в детстве Андрис любил гулять в лесу. Но одно и то же, вечно одно и то же из года в год: лето, город, работа, жара, выходной, хутор, лес, жара и тоска, тоска. А отпуск еще нескоро, да и толку от того отпуска. Куда поедешь с такой зарплатой? Все к той же бабке или к сестре в Шяуляй. Прямо сейчас еще можно было бы рвануть автостопом на море, но что делать у моря в ноябре? И какой может быть автостоп? Поздно уже. Раньше надо было ездить, студентом, пока молодой, пока можно все, а не сидеть сиднем на бабкином хуторе все каникулы, потому что мама сказала, а ей ее мама сказала, а той тоже кто-нибудь такую глупость сказал.
Мне двадцать шесть лет, – думает Андрис, – а я дальше курортного поселка на Неринге еще никогда не уезжал; да и то так давно, в детстве, что, кажется, просто приснилось, мало ли, что у мамы с той поездки фотографий полный альбом.
Так мне и надо, – вдруг с ослепительной и одновременно очень спокойной яростью думает Андрис. – Так мне и надо, – повторяет он. – Потому что нельзя послушно сидеть на месте, слушать чужие рассказы о путешествиях, злиться и придумывать, что мне в этом не нравится, почему я так не хочу. Нельзя год за годом обещать себе: «Я еще все успею когда-нибудь потом». А самое главное, нельзя было бросать музыку, что бы ни говорила мама. И поступать надо было в музыкальную академию, не с первого раза, так хоть с десятого; не в академию, так хоть в музучилище, лишь бы не в этот поганый технический университет, бросить который так и не хватило храбрости. И что толку, в задницу теперь можно засунуть свой красивый диплом.
Я трус, – думает Андрис. – Не умный, не осторожный, не расчетливый, не практичный, не терпеливый, не ответственный, как привык себя утешать, а просто самый обычный трус. Трусы вот так и живут: потихоньку, помаленьку, безопасно, безрадостно, жалко. Когда ты трус, твой выбор – тихая жизнь, стабильная низкооплачиваемая работа, лето, город, выходные на бабкином хуторе, жара и тоска, тоска.
Андрис замедляет шаг, хотя сам понимает, что это бессмысленно, невелика храбрость – прийти на работу не за четверть часа до начала смены, а всего за десять минут. Опоздать, впрочем, тоже невелика храбрость, разве что вообще не явиться, но на это Андрис никогда не решится, и сам это знает, работа есть работа, пусть консультантом в магазине бытовой техники, хотя бы за гроши.
* * *
– Вот этот красивый юноша, который идет медленно-медленно, – говорит Вера, – конечно же, музыкант.
Вацлав пожимает плечами. «Тебе каждый второй художник или музыкант», – думает он. Но не спорит. Какой смысл спорить? Все равно проверить нельзя.
Впрочем, Вера всегда слышит его возражения, будь они хоть трижды безмолвные. Веру не провести.
– Да точно музыкант. Этот мальчик играет в оркестре на флейте, – говорит она и тут же сама себя перебивает: – Нет, прости, я ошиблась. Какая может быть флейта? Конечно же, на тромбоне. Он джазовый музыкант.
«Такой молодой, и вдруг джазовый, – кривится Вацлав. – Что вообще молодежь понимает про джаз?»
Но не возражает. Вера очень упрямая. А права она или нет, не проверишь. Какой смысл возражать.
– Мальчик играет на тромбоне, – твердо говорит Вера. – Он очень хороший музыкант. Талантливый. Девушки от него без ума. Девушки любят симпатичных музыкантов. Их можно понять, сама бы в такого влюбилась. Но почему-то всю жизнь люблю только тебя.
«Ну надо же, – удивленно думает Вацлав. – Что это с моей Верой? Она меня любит, я знаю. Но вслух об этом обычно не говорит».
* * *
У Андриса кружится голова, темнеет в глазах так, что он останавливается, оглядывается по сторонам: есть ли здесь хоть одна свободная лавка? Но все скамейки заняты, в сквере какая-никакая, а все-таки тень. А сегодня жара, такая жара…
Звонит телефон, Андрис достает его из кармана, одновременно прислоняясь спиной к ближайшему дереву – так нормально, можно стоять. Андрис касается зеленой кнопки, говорит: «Привет», а потом какое-то время молчит и слушает. Наконец отвечает: «Я помню про репетицию. Естественно, буду вовремя; когда это я опаздывал?.. Ай, ну мало ли, что было на гастролях в Варшаве в каком-то дремучем пятнадцатом году».
Андрис кладет телефон в карман. Голова больше не кружится, но кофе определенно не помешает; когда полгода учился в Италии, перенял у местных привычку пить в жару очень крепкий эспрессо без сахара, здорово помогает сохранять бодрость и ясность ума.
* * *
– Смотри, уходит уже твой красавчик, – ехидно говорит Вацлав.
– Конечно, уходит, – беззаботно соглашается Вера. – Что ж ему, до ночи тут стоять?
* * *
Эльза сидит на скамейке в сквере напротив Дома Учителя, при полном параде, с укладкой и макияжем, в ставшем немного тесным за прошлую зиму пышном коротком платье, в неудобных серебряных босоножках на каблуках. Эльза теребит в руках телефон, хотя толку от того телефона, и так все ясно: договаривались встретиться в три, а сейчас половина четвертого, конечно, он уже не придет. Он почему-то часто так делает, назначает свидания, а сам не приходит, потом говорит: «Извини, отвлекся, забыл», или даже: «Я передумал», – и на все упреки отвечает: «Не нравится – больше мне не звони».
Вот и сейчас так будет, – думает Эльза, но все равно сидит, не уходит, потому что он может просто опаздывать, например, попал в автомобильную пробку, или поехал троллейбусом, а троллейбус сломался, или может быть с ним случилось какое-нибудь несчастье? Выяснить это невозможно, телефон у него отключен.
Пожалуйста, – думает Эльза, даже не думает, просит Бога, в которого, в общем, не верит, но все-таки немножечко верит в такие моменты, когда больше некого попросить. – Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, – безмолвно молится Эльза, – пусть он сейчас придет и не накричит на меня за то, что сижу с кислой миной, и вообще ни за что не накричит, а сядет рядом, обнимет, скажет: «Пошли к тебе»! Пожалуйста, Господи, не для себя прошу, для него, он же такой хороший, и ему со мной хорошо, я точно знаю, он однажды, в апреле так сильно напился, что расхрабрился, перестал стесняться своих чувств и честно признался, что я вполне ничего.
* * *
– Вот эта барышня на скамейке, видишь, немножко наискосок? Такая хорошенькая, правда? – шепотом спрашивает Вера, и Вацлав кивает:
– Да, она ничего.
– Так вот, – торжествующе шепчет Вера, – эта барышня, можешь себе представить, не какая-нибудь легкомысленная фифа, а инструктор по стрельбе!
– Инструктор по стрельбе?! Не художница? Не музыкантша? Даже не поэтесса? – Вацлав ухмыляется в седые усы. – Надо же, какие дела.
– Ну, не всем же быть поэтессами, – разводит руками Вера. – Инструкторы по стрельбе тоже нужны. Напрасно смеешься, эта девочка – очень хороший инструктор; кстати, не такая уж она «девочка», просто выглядит младше своих лет. Можешь представить, половина; ладно, ладно, загнула, конечно, не половина, а примерно десятая часть наших полицейских, те, которые помоложе, ее ученики.
Ладно, – думает Вацлав, – если тебе так нравится, пусть будет инструктор. Хотя для девчонки, похожей на сдобную булку, совершенно неподходящая профессия. Но Вера есть Вера, Вера любит устраивать цирк.
* * *
Эльза вздрагивает, – что со мной? Неужели я задремала? Вот прямо так, сидя на лавке в сквере? На самом солнцепеке? То-то такая тяжелая голова. Кто бы сказал, зачем я вообще здесь расселась? У меня же в четыре занятие, придут новички. А уже, матерь божья, половина четвертого, времени осталось в обрез.
Эльза встает и тут же садится обратно: теперь понятно зачем. В кроссовок попал мелкий камешек, пока сидишь, совершенно не чувствуется, но стоит встать, сразу очень мешает. Затем и села, чтобы его вытряхнуть, и сама не заметила, как сморило. Ужасно утомительно все-таки бегать в жару по делам.
* * *
– А этот бродяга… – говорит Вера Вацлаву, указывая на меня, умолкает и тихонько хихикает, деликатно прикрыв рот изящной сухой ладошкой.
«Пани Вера, вы с дуба, часом, не рухнули?» – очень строго думаю я.
– Ладно, молчу, молчу, – улыбается Вера и демонстративно льнет к плечу своего седоусого спутника, дескать, мы тут просто так лирически, невинно сидим. А сама в это время думает: «Извини, дорогой, ты такой красивый, когда рассердишься! Только поэтому тебя и дразню».
«Не подлизывайтесь, пани Вера, мы оба знаем, что вы просто хулиганка», – думаю я, стараясь сохранять серьезность. Это ужасно трудно, когда имеешь дело с Верой, но я держусь молодцом.
«За это ты меня и любишь, – ласково думает Вера. – Ты сам хулиган, еще похуже меня. Не сердись, красавчик. Лучше замолви за меня словечко перед Стефаном, я же знаю, вы дружите».
«Тоже мне великий секрет, – думаю я. – Чего вы хотите, пани Вера? Ладно, сам угадаю. Дюжину вместо десяти?»
«Вообще-то я хочу три десятка в неделю, как минимум, – капризно думает Вера. – Но ладно, для начала пусть накинет хотя бы до дюжины, все веселей. Десять – какое-то очень уж глупое число. Жадины вы какие! И ты, кто бы мог подумать. Даже ты!»
«Десять и правда глупое число, согласен, – думаю я. – Толстое и округлое, с дурацким нулем в конце. Стефан, конечно, пошлет меня подальше, как у него это принято. Но я все равно поторгуюсь. В этом споре, пани Вера, я на вашей стороне».
* * *
– Это уже какое-то запредельное нахальство, – говорит Стефан.
Он очень старается выглядеть недовольным, но рот помимо его воли разъезжается в улыбке, то с одной, то с другой стороны.
– Да ладно тебе, чего тут такого запредельного, – говорю я. – Пани Вера совершенно права: десять – глупое число, мне оно тоже не нравится. Дюжина совсем другое дело. А на практике разница невелика.
– Да ей вообще ничего не положено! Ни дюжины, ни десяти, ни даже одной судьбы в неделю. Сам не понимаю, как я ей разрешил.
Теперь Стефан хмурится так достоверно, что еще немного, и я ему, чего доброго, поверю. И начну утешать.
– Так это не делается, – сердито говорит Стефан. – А если и делается, то не у нас. Людям такой халявы не положено. Наделал глупостей, иди и сам исправляй, если жизни на это хватит. А заодно сил и ума. Что, конечно, крайне сомнительно. Очень жаль, но здесь – так.
– Да ладно тебе, иногда-то можно, – улыбаюсь я. – В виде исключения. Исключения из правил и есть настоящие чудеса, а чудеса в этом городе по моей части. Это моя ответственность, строго говоря. А я считаю, несколько новых судеб в неделю вполне можно подарить. В конце концов, они достаются только самым удачливым: поди окажись в нужное время в нужном месте, попадись на глаза пани Вере, она не так уж часто выходит погулять. И еще произведи на нее впечатление, чтобы захотела о тебе своему дружку рассказать. У кого такая удача, тому, по-моему, можно все. И если этих счастливчиков станет на две штуки в неделю больше, ничего страшного не…
– Да просто ты к Вере неравнодушен, – ухмыляется Стефан. – Так и скажи.
Пожимаю плечами:
– Тоже мне новость. Я вообще ко всем в этом городе неравнодушен. Такая уж у меня неровная душа. А что касается пани Веры, просто иногда думаю: что, если я сам – один из этих особо удачливых? Шел как-то по городу похмельный, унылый, или наоборот, довольный собой, как все дураки, а в это время за столиком какого-нибудь летнего кафе наша пани Верданди шептала своему приятелю, незаметно указывая на меня пальцем: «Видишь этого небритого типа? С виду не пойми кто, а на самом деле genius loci, наше местное городское божество». А он: «Эй, мать, не перегибай палку, genius loci это даже для тебя перебор!» – ну, ты же знаешь Вацлава. Для вымышленного друга он все-таки немного чересчур скептик. С другой стороны, Вера сама виновата: зачем-то придумала его именно таким.
Улица Наугардуко (Naugarduko g.) Вольховский Ры
С Вольховским они не дружили, даже приятелями не были. Просто одноклассники, объединенные общим днем рождения – 22 сентября. В этот день оба приносили в класс конфеты, и их матери заранее договаривались, чтобы не купить одинаковые.
Еще какое-то время они вместе сидели на уроках черчения, за первой партой: оба были любимчиками преподавательницы, потому что чертили лучше остальных. Он – благодаря многолетним занятиям в художественной школе, где, помимо прочего, учили писать шрифты. Вольховский тоже вроде бы занимался в какой-то изостудии или кружке; он не интересовался. Но пару раз видел на школьных выставках рисунки Вольховского и втайне ему завидовал: рисунки были очень хороши. Было в них особое очарование обманчивой легкости, как будто Вольховский не возился с карандашами и красками, а просто взял и наколдовал эти свои простые картинки – дерево на ветру, старика на качелях, лодку с веслами среди высокой сухой травы.
Краем уха слышал, как взрослые говорили, что у Вольховского «настоящий талант», это звучало гораздо круче, чем просто «способности». Про способности время от времени говорили всем, чтобы не особо гордились успехами: нет никакой заслуги в том, чтобы родиться способным, просто повезло. «Настоящий талант» – это, конечно, тоже просто везение, зато очень крупное. Все равно что найти клад.
Вольховского звали Радек, но по имени его почему-то никто не называл. Только по фамилии, даже учителя. Среди одноклассников он выглядел этаким игрушечным взрослым: малый рост, причесанные на ровный пробор светлые кудри, прозрачная детская худоба, но лицо всегда оставалось серьезным и одновременно каким-то отчаянным, как будто Вольховский сейчас поедет стреляться на дуэли, вот только допишет диктант.
Один раз был у Вольховского дома. Вольховский тогда заболел чем-то серьезным, не ходил в школу целый месяц, и классная руководительница велела его навестить. Квартира у Вольховского оказалась маленькая и темная, зато дом стоял возле холма, поэтому получалось интересно: поднимаешься на третий этаж, заходишь в квартиру и обнаруживаешь, что она на самом деле на первом, да таком низком, что подоконники буквально лежат на земле.
Больше, собственно, ничего о Вольховском не помнил – только эту удивительную полуподвальную квартиру на третьем этаже, рисунки да общий день рождения. Ну и что Вольховский умер сразу после выпускного вечера. Такое поди забудь.
Среди бывших одноклассников ходили смутные слухи, что Вольховский умер от каких-то наркотиков. То ли передозировка, то ли просто грязный шприц попался, то ли аллергия у него оказалась на что-то там. Поверить в наркотики было непросто: Вольховский даже сигарет не курил. И когда в день «последнего звонка» тайком пробрались в физкультурную раздевалку и пустили по кругу несколько бутылок вина, пригубил с явным опасением, похоже, пробовал спиртное в первый раз. Это многие заметили, но смеяться не стали. Над Вольховским почему-то никогда не смеялись, хотя теоретически он со своим малым ростом, льняными кудрями, тонкими руками и отчаянным взглядом мог стать отличной мишенью для школьных остряков. Но что-то в нем было такое, что никто не связывался.
Девчонки из класса, Светочка, Рута и кто-то еще ходили на похороны; он не пошел. Слышал, как вечером на кухне его мать шепталась с соседкой, причитали: «Какое горе потерять ребенка, какое горе». Но подробностей так и не узнал. Потому что не хотел узнавать. Обычно любопытный, вечно совавший нос в чужие секреты, на этот раз только что уши не затыкал. И заткнул бы, да не пришлось, о смерти Вольховского как-то не особо болтали.
Потом, гораздо позже, понял, вернее, смог признаться себе, что просто испугался. Когда тебе шестнадцать лет, смерть кажется событием, не имеющим к тебе отношения. Умирают только герои книг и кинофильмов. И некоторые старики, такие дряхлые, что уже не могут сами встать с постели. И еще на войне, но войны сейчас нет, поэтому я совершенно точно не могу умереть, и мои ровесники тоже не могут. Так не бывает, потому что так не бывает, точка, все. Он смутно опасался, что вместе с подробностями о смерти Вольховского в него войдет – не то чтобы именно сама смерть, скорее просто согласие с тем, что она в принципе, теоретически для него возможна. А соглашаться с этим он не хотел.
Поэтому выкинул Вольховского из головы и не вспоминал о нем много лет.
Той зимой на него навалилось все сразу – не то чтобы внезапно, но по некоторым пунктам он до последнего надеялся проскочить.
Однако не вышло. Началось с острого приступа почечных колик; нашли камни, раздробили их лазером, прописали таблетки и какую-то дурацкую диету, исключавшую почти все мало-мальски съедобное, но он все равно ее соблюдал, потому что до смерти перепугался. Тело, до сих пор не дававшее особых поводов для тревоги, вдруг оказалось пришедшим в неисправность скафандром, деваться из которого решительно некуда, за его пределами открытый космос, вечная пустота.
Вскоре после того, как пошел на поправку, Ирма сказала, что им надо какое-то время пожить врозь; спросил как бы в шутку: «Лет сорок-пятьдесят?» – а она серьезно кивнула: «Что-то вроде того».
Всегда спасался работой, но проект закончился за неделю до Рождества, а о новом пока даже разговоров не было; не мог отделаться от нехорошего подозрения, что разговоров этих не вели лично с ним. До сих пор все вроде бы шло неплохо, но с таким начальством как Якуб никогда не знаешь, на каком ты свете, насколько тверда земля под ногами да и земля ли она.
Решил всерьез заняться подготовкой к выставке, но Вальтер в очередной раз предложил ее перенести; обижаться на него не мог, понимал, что вежливому галеристу гораздо проще сослаться на какие-то досадные технические накладки, чем сказать правду: «Твои последние работы – полное говно». Сам знал, что говно, и это было хуже всего. Если бы не это, на все остальное – Ирму, работу и даже дурацкие камни в почках – вполне можно было бы забить. Обычные житейские катастрофы, глупо надеяться вечно их избегать. А перестать быть художником – катастрофа совсем иного масштаба. Как если бы Моисей, прилежно записав на скрижалях надиктованные заповеди, вдруг обнаружил, что столь впечатлившее его представление на горе организовал ловкий факир.
Всегда верил, что внезапная утрата вдохновения – миф, придуманный ради оправдания лени, если уж можешь, то можешь, не зря говорят «талант не пропьешь». Оказывается, еще как пропьешь. Или проешь. Или пролюбишь. Или, что наиболее вероятно, прозарабатываешь. Ну, или все это вообще не при чем, талант просто иссякает. Без каких-либо внешних причин. Сам.
Когда-то в юности читал китайские – сказки? рассказы? байки? Поди пойми, что это за жанр; сейчас сказали бы «городские легенды», и это определение было точнее остальных. Неважно; главное, что одна из историй повествовала о предсказателе: каждому человеку он говорил, сколько еще риса тому суждено съесть, и по этому количеству можно было более-менее точно высчитать, оставшийся тебе срок жизни[25]. Думал теперь: может быть, дело в этом? Мне было суждено нарисовать, предположим, сорок отличных картин, и я уже израсходовал этот запас, но почему-то не умер. И теперь, как ни старайся, получится только дрянь. Число плохих картин, очевидно, не лимитировано – кто будет такую пакость считать?
Сам понимал, что идея дурацкая, но она не выходила из головы. Казалась чертовски логичной и все объясняющей; говорят, со всеми психами происходит именно так.
Известие о маминой смерти должно было его окончательно добить. Оно, в общем, и добило, но сперва, наоборот, мобилизовало. Потому что пришлось отрывать задницу от дивана, а взгляд от стены, на которую был готов пялится сутками напролет, покупать билет на ближайший самолет, собирать вещи, лететь, утешать многочисленных маминых учениц, командовать одуревшей от горя родней, организовывать все, что следует в таких случаях организовать – можно сказать, не приходя в сознание. Однако функционировал вполне исправно, на кофе, снотворном и мечтах о коньяке, который твердо пообещал себе в любом количестве – потом, когда все закончится.
Но когда все закончилось, ему уже вообще ничего не хотелось, даже коньяку, хотя девочки, все мамины «девочки», от шестнадцати до пятидесяти с чем-то там, настойчиво предлагали выпить на поминках хотя бы рюмку, сулили, что станет легче.
Чтобы стало легче, он тоже не хотел, вот в чем штука.
Думал, что горе – это подскочить задолго до позднего зимнего рассвета от телефонного звонка, бормотать спросонок: «Не может быть, она никогда ничем не болела, я же приезжал в сентябре, все было отлично, это какой-то розыгрыш, да?» Думал, что горе – это кидать в пустой чемодан упаковки новых трусов и носков, а вслед за ними, положить туда диванную подушку и пачку сахара, совершенно не понимая, чем одни предметы отличаются от других, и зачем они вообще нужны, просто есть такая традиция: перед отъездом обязательно набить чемодан, все равно чем, лишь бы доверху, чтобы с трудом закрылся, в этом и состоит смысл. Думал, что горе – это разъезжать по городу своего детства в нанятом на весь день такси, из морга в похоронное бюро, потом почему-то обратно, бодро отвечать на сочувственные расспросы таксиста: «Нет, у меня никто не умер, это просто экскурсия по городу, по любимым памятным местам», – нелепая шутка, но что угодно сгодится, лишь бы не расплакаться прямо сейчас.
Но оказалось, горе – это просто скука и тишина. Горе – это когда все срочные дела сделаны на пять с плюсом, но мама почему-то все равно не воскресла, и вообще ничего не изменилось, ни к лучшему, ни хоть как-нибудь.
Горе – это когда не отвечаешь на звонки друзей и временно забывшей о разладе Ирмы, зато кратко пишешь: «Забей» на милосердное предложение Вальтера все-таки провести выставку прямо в марте, сопровождаешь вежливыми извинениями решительный отказ от участия в новом проекте, не покупаешь билеты домой, а остаешься в городе своего детства, который терпеть не можешь, в ненавистной старой квартире на улице Наугардуко, потому что быть здесь совершенно невыносимо, а ты и хочешь, чтобы невыносимо, чем хуже, тем лучше, наималейшего облегчения своей участи ты сейчас совершенно точно не переживешь.
С маминой квартирой надо было что-то решать: то ли продавать, то ли делать ремонт и искать квартирантов, то ли сдать как есть, за гроши, каким-нибудь бедным студентам, лишь бы покрывали расходы за отопление и прочие услуги. Все это требовало активных действий, а он, понятно, ничего не делал и не собирался, зато на вопросы: «Когда обратно?» – можно было отвечать: «Когда разберусь с квартирой» – и оставаться на месте. Замереть, затаиться, запереться от всех. Еще никогда не превращал свою жизнь в настолько полное ее отсутствие; оказалось, можно и так.
Спал допоздна, без всякого удовольствия, просто в надежде обмануть время: когда много спишь, оно идет гораздо быстрей. Почти ничего не ел, не особо хотел и ленился возиться, зато литрами пил запрещенный врачами кофе, самый дрянной дешевый – не из экономии, конечно, до этого не дошло, просто считал бессмысленным переводить хороший кофе на человека, почти не чувствующего вкус. И вообще ничего почти не чувствующего.
Ни читать, ни даже смотреть кино не мог, только иногда раскладывал в стареньком мамином компьютере карточные пасьянсы; впрочем, быстро от них уставал и бросал. Зато много гулял, прогулки, как и сон, помогали обхитрить время: вышел из дома в начале сумерек, куда-то забрел, пока плутал в темноте по до неузнаваемости изменившимся кварталам, пока соображал, как вернуться в центр, пока выбирался, глядишь, на часах уже почти девять вечера, скоро будет можно снова ложиться спать, и это хорошая новость – ровно настолько хорошая, что ее вполне можно пережить.
Однако долгие прогулки делали свое дело. Он сам не замечал, как оттаивал, понемногу, вместе с асфальтом, обледеневшим за долгий морозный бесснежный январь. «Оттаивал» – это значит, начал смотреть не только под ноги, но и по сторонам; полное равнодушие к окружающей обстановке сменилось слабым подобием интереса. Отмечал, почти бесстрастно: а неплохо эти дома отремонтировали. Новый сквер разбили, молодцы. Надо же, сколько в центре стало кофеен. Гляди-ка, в бывшей рюмочной теперь художественная лавка. А крытый рынок как стоял, так и стоит.
Подобие любопытства привело его во двор, где когда-то жил Вольховский. Вдруг решил посмотреть, цел ли привалившийся к холму странный дом. Дом был на месте, но подъезд оказался заперт на кодовый замок; постоял во дворе и вышел, потом зачем-то вернулся к дому с другой стороны, с вершины холма, где окна третьего этажа упирались в землю. На бывших окнах Вольховского теперь висели яркие занавески со старомодными псевдоафриканскими узорами, желтое, черное и оранжевое на небесно-голубом, лютый ужас с точки зрения человека, много лет зарабатывавшего на жизнь дизайном интерьеров, но объективно, положа руку на сердце, красиво, глаз не оторвать.
Из-за этих занавесок вспомнил рисунки Вольховского – старика на качелях, дерево на ветру и что-то там еще было, ай, неважно, без разницы, что он рисовал, главное – как. За это великолепное, до небрежности легкое «как» душу бы продал, да где она, та душа.
Подумал, спускаясь с холма: интересно, как бы он сейчас рисовал, если бы не умер? Неизвестно. Кстати, не факт, что все так же легко и лихо, у многих это с возрастом проходит, да что там, почти у всех. А то от гениев деваться было бы некуда бедным умеренно способным всем остальным. Сам удивился завистливому сарказму своего внутреннего монолога. Как будто Вольховский не умер, как будто я сам все еще художник, как будто нам и вправду есть что делить.
Но этот горький сарказм, эта черная зависть к покойному однокласснику были настолько лучше, чем ничего – тихое тяжелое «ничего», объявшее его после маминых похорон – что поневоле думал о Вольховском до вечера. О его рисунках, льняных кудрях, отчаянном взгляде, нелепой смерти на следующий день после выпускного, и о том, что могло бы быть, если бы не смерть. Это было как наваждение, словно заколдовали – еще сегодня утром ничего не вызывало ни малейшего интереса, а теперь, прикрыв глаза, часами разглядывал в темноте перед внутренним взором картины мертвого одноклассника, которых тот так и не нарисовал.
Это было как наваждение, – говорил себе потом, задним числом, вспоминая, как вскочил в семь, что ли, утра, еще затемно, побежал в художественную лавку, ту самую, которую открыли на месте рюмочной, или, кстати, все-таки не точно там, а в соседнем подвале, фиг теперь вспомнишь, столько лет прошло.
Выяснил, что лавка открывается только в десять, кружил по городу, злой и сосредоточенный, как голодный волк. Кстати, действительно голодный, это обнаружилось, когда зашел в кофейню, вроде бы исключительно ради убийства времени, однако съел один за другим полдюжины теплых круассанов, запивая приторно-сладким «кофе недели» с каким-то сиропом, сливками и шоколадом, и страшно сказать, не наелся, а только вошел во вкус.
Не знал, какие материалы могут понадобиться, поэтому купил всего понемногу; на самом деле очень даже помногу – всего. Еле допер до дома эти богатства, и все, как оказалось, только ради того, чтобы заточить несколько твердых карандашей, распечатать пачку бумаги и очнуться лишь в сумерках, когда стало слишком темно. Пятьдесят четыре наброска – это уже потом сосчитал. Из них сорок шесть – потрясающий в своей бездарности ужас, зато семь – вполне ничего, а один по-настоящему хорош, почти как у Вольховского в детстве. Отличный, между прочим, результат.
Включив свет, понял, что снова проголодался, пошел в магазин. О диете даже не вспомнил, сгребал все подряд. Есть начал еще по дороге – сперва банан, потом вскрыл упаковку нарезанного сыра, никаких сил терпеть. Дома пожарил и проглотил яичницу из четырех яиц, поставил вариться курицу – суп всегда пригодится – включил компьютер, написал два письма, почти одинаковых, Ирме и Якубу: «Привет, не серчай, у меня депрессия, – это признание больше не было правдой, поэтому не вызывало ни страха, ни даже просто внутреннего протеста. – Но я понемногу выкарабкиваюсь, все будет хорошо, а сейчас мне очень нужна твоя помощь в делах». Дел, положа руку на сердце, было совсем немного: Ирме предстояло разобраться с квартирой, Якубу – подыскать ему замену, если до сих пор не нашел.
Удивительное это было открытие: оказывается, чтобы завершить свою прежнюю, старательно, годами выстраиваемую жизнь, достаточно написать всего два письма. Кого угодно это могло бы окончательно подкосить, но его только взбодрило.
Никогда, даже в самые разгульные свои времена не пил запоями: надоедало уже на второй день, просто уставал быть пьяным, а до третьего, кажется, не продержался вообще ни разу. Но теперь примерно представил, как это бывает – хлоп! – и непонятно куда и на что ушла неделя. Вернее, понятно – теоретически, по числу новых набросков, эскизов и законченных картин, в самой разной технике, но все-таки в основном по старинке, маслом, хотя сам уже много лет предпочитал акрил.
Пару раз засыпал прямо на полу, на мамином ковре, настолько ужасном, что даже не сказал бы вот так, слету, каких он цветов, сознание тщательно блокировало эту невыносимую информацию. Но для сна ковер оказался вполне хорош, тело с утра почти не болело, ну или он просто не замечал.
О найме натурщиков или выездах на пленэр речи, конечно, не шло. Думал: ладно, если что, можно поискать фотографии в Интернете, раньше тоже часто так делал, если у тебя есть опыт и чувство пространства, фотографий достаточно. Но не понадобилось ни разу, еще не написанные картины уже висели – смотри, не хочу – в темноте перед закрытыми глазами, или даже перед открытыми, поди разбери, как оно было на самом деле, подобные состояния легко и приятно переживать, но анализировать лучше и не пытаться.
Иногда смотрел на картины чужим, отстраненным взглядом. Хладнокровно признавал: «Я так не умею». Потому что так действительно не умел. Дело даже не в том, хорошо или плохо, а просто совсем другая манера, чужая рука. Легкая и, будем честны, легко узнаваемая, как и следивший за ним из зеркала маминого трюмо отчаянный взгляд. Все с тем же невесть откуда взявшимся хладнокровием признавал: «Я рисую картины мертвого Вольховского». Как, почему так случилось – да хрен его знает. Лишь бы продолжать.
Думал: «Как же мне повезло с Вольховским. Свои картины я уже нарисовал, сколько было отмеряно. А теперь, получается, можно рисовать чужие. И даже нужно – вон как дело пошло! Как же мне повезло».
Готовые работы – те, которые по какой-то причине казались ему завершенными, хотя будь это его рисунки, еще долго бы их доводил (и наверняка бы испортил) – подписывал: Volkhovsky_Pbl. «Pbl» – это была такая дурацкая внутренняя шутка для самого себя, привет кириллице от латиницы, как бы первая буква имени Радек, «Ры». Должно же в этой истории быть хоть что-нибудь смешное.
К концу апреля готовых, в смысле, подписанных картин было уже четырнадцать. Остального – эскизов, набросков, по какой-то причине отложенных и пока не законченных – без счета. И тут его натурально скрутило – работы надо показывать. Святая правда, работы действительно обязательно надо показывать, и дело тут вовсе не в личных амбициях, просто пока картину никто не видел, она не завершена. И автору от этого трудно жить.
В данном случае автору было плевать, он давным-давно умер. А исполнителю приходилось несладко. Теперь добрую половину времени он не работал, а снова бродил по улицам, без цели и смысла. Вернувшись домой, лежал на ковре лицом вниз. Иногда лицом вверх, для разнообразия. Но легче от этого не становилось. Отчаянно хотелось продолжать рисовать. Но браться за новые картины, никому не показав готовые, физически не мог. Звучит дико, но это так, просто пока не попробуешь, не узнаешь.
Решение пришло неожиданно и как бы само собой, девочки в кафе фотографировали друг дружку, выкладывали снимки в Инстаграм и громко обсуждали процесс. Поглядел, послушал их щебет и натурально просветлел: Интернет же! В Интернете все можно всем показать.
Сперва чуть было не завел мертвому Вольховскому Фейсбук, да вовремя опомнился: Фейсбук сейчас у всех, не приведи боже, наткнутся его родственники или общие бывшие одноклассники, нет, даже думать о таком не хочу. Ограничился аккаунтом на Фликре – там можно просто выложить все работы, скорее всего, их никто никогда не заметит, но мало ли, вдруг повезет. Целый день убил на съемку картин, намаялся с ними страшно, хотя вроде бы имел богатый опыт. Но сейчас чувствовал себя новичком. Подумал: «Ну да, Вольховский-то не умеет». Это, конечно, все объясняло, хотя с точки зрения здравого смысла не объясняло ничего. Но где я, а где тот здравый смысл.
После того, как выложил на Фликр все законченные работы, стало значительно легче. Почти сутки спал, проснулся свежим, бодрым, зверски голодным и самое главное, готовым работать дальше. А больше ему тогда ничего не было надо. Удивительно, но это правда – больше вообще ничего. И, кстати, о якобы больных почках даже не вспоминал, хотя жрал все подряд, включая смертельно опасные чипсы и купленные на рынке соленые огурцы.
В течение месяца у пользователя Volkhovsky_Pbl на Фликре появились какие-то подписчики, целых восемнадцать человек. Ясно, что ради мало-мальски ощутимого результата надо было как-то там тусоваться, френдить всех подряд, комментировать чужие работы, наверное, еще что-нибудь. Никогда специально этим не интересовался, ему было не нужно, однако примерно представлял механизмы раскрутки художника в Интернете, ничего особо сложного, но на это не было ни времени, ни сил. Необходимости, как выяснилось, тоже не было. Оказалось, число зрителей не имеет никакого значения. Скорее всего, можно обойтись и вовсе без них. Важен не зритель, а открытость миру, дающая шанс на возможность его появления. Теперь такой шанс у них с Вольховским был.
К началу лета число завершенных картин Вольховского выросло до двадцати девяти. Закончив очередную работу, тут же ее фотографировал и выкладывал на Фликр. Наградой всякий раз становилось облегчение, словно утолил жажду, мучавшую так долго, что уже почти перестал ее замечать – тем благотворнее был эффект.
Жил затворником, не подходил к телефону, изредка отвечал на самые срочные письма, раз в неделю исправно рассылал несколько смс условно заинтересованным лицам: «Все в порядке, разбираюсь с делами, приехать пока не могу». Во время прогулок с удовольствием прислушивался к чужим разговорам, это было занятно, как смотреть фрагменты незнакомых фильмов, вперемешку, наслаждаясь случайностью выборки, не предпринимая попыток угадать сюжет.
Впрочем, иногда ему хотелось поговорить. Не о жизни, погоде и судьбах мира, упаси боже, нет. О картинах. Рассказать, как безумно трудно дался ему такой простой на первый взгляд «Ветер ночью на площади». Что приснилось после того, как дописал «Последнюю сову». И как смеялся вслух, заканчивая «Ярмарку фей», на которую ушли всего сутки – от эскиза до подписи, самому не верится, но это именно так. Однако отдавал себе отчет, что это именно его желание. В смысле, не Вольховского. Того, во-первых, давным-давно не было на свете, а во-вторых, не такого он склада человек, чтобы трепаться о подобных вещах. Поэтому блог Вольховскому он заводить не стал, хотя, конечно, подмывало. Не надо никакой отсебятины. И так все непросто.
То есть наоборот. Слишком просто.
Отрезвление, которое с непривычки показалось затмением, наступило внезапно. Проснувшись где-то в середине бесконечно долгого летнего дня, подскочил как от удара: боже, что я тут делаю? Чем занимаюсь? Кто я такой вообще?!
Так страшно, как от этого вопроса ему не было еще никогда в жизни. Даже… В общем, никогда.
Выскочил из дома, в чем был, благо спал в футболке и шортах; примерно в таких же ходил сейчас почти весь город по случаю внезапно наступившей жары. Пройдя несколько кварталов, более-менее успокоился. Купил себе кофе со льдом, сел в тени, под тентом, курил, украдкой разглядывал свои отражения в стеклах витрин. Во всех четырех обнаружился старый знакомый, изрядно осунувшийся, заметно поседевший за последнюю зиму, давно не бритый; впрочем, многодневная щетина была ему даже к лицу. Собственные отражения ему понравились: такие подтянутые, бодрые. И глаза совсем не отчаянные. Обычные человеческие немного встревоженные глаза.
Вернувшись домой, понял, что оставаться тут невыносимо. Так страшно и муторно – хоть прыгай в окно. Но это было бы совсем глупо. Вышел на улицу, взялся за телефон. На городских сайтах недвижимости оказалось неожиданно много предложений. Часа полтора спустя уже смотрел комнату неподалеку, в Старом городе. Ничего хорошего, и цена явно завышена; ладно, что тут поделаешь, разгар туристического сезона. На первые несколько дней сойдет.
Через неделю нашел чистенькую однокомнатную квартиру-студию, тесную, как пенал, зато дешевую и прохладную – первый этаж, северная сторона. В любом случае, задерживаться в этом городе он не собирался. Мамина квартира уже была выставлена на продажу; ответственная за сделку риэлтор Мария уверяла, что найти покупателей будет легко: район прекрасный, цена не завышена, а ремонт любой новый владелец все равно будет делать по своему вкусу, незачем хлопотать.
Оставалось что-то решить с картинами покойного Ры Вольховского. Отдавал себе отчет, что сбежал не из дома как такового, а именно от них. Сжечь в камине рука не поднималась. Решил взять напрокат машину и вывезти все это чужое художество за город. В любом направлении, здесь везде лес, а нам того и надо. Унести картины куда-нибудь в чащу, как можно дальше от всех дорог, сколько хватит сил оттащить от машины, оставить там, вернуться в город, и все. И все.
Каждый день обещал себе: «Завтра, в крайнем случае послезавтра», – и снова откладывал ликвидацию картин на потом. Некоторые поступки требуют решимости, превосходящей обычную человеческую, где ж ее взять. Но тут ему неожиданно повезло: пока отсыпался в съемной каморке, квартиру обокрали. То есть натурально, пришли какие-то добрые люди и вынесли из дома все картины чертова Вольховского, присовокупив к ним шкатулку с маминой бижутерией и оставшееся от бабки столовое серебро. И на здоровье, пусть им будет впрок.
В полицию заявлять, конечно, не стал – не приведи боже, поймают вора, вернут краденое добро, и таскайся с ним потом по лесным чащам, скрипя зубами от растущего с каждым шагом ужаса, ну уж нет.
Когда шел из офиса риэлторской конторы, не столько довольный, сколько обескураженный простотой оформления сделки и тем восхитительным фактом, что дело завершено, мамина квартира продана, можно убираться из этого города ко всем чертям, встретил на перекрестке бывшую одноклассницу Светочку, не узнать ее было невозможно, совершенно не изменилась, во дает.
Светочка была миниатюрной блондинкой, из тех, о ком бабушка говорила: «мелкая собачка до старости щенок». И правда, до сих пор выглядела совсем юной, пока не подойдешь поближе. Впрочем, даже поближе тоже вполне ничего.
У маленькой Светочки было большое сердце, исполненное если не любви, то искреннего сочувствия ко всем, в школе ее называли только уменьшительным именем, как младшую, однако за советом и утешением девчонки всегда бегали именно к ней, даже классная руководительница, устав от ежедневных забот, жаловалась Светочке, которая всегда ухитрялась вовремя подвернуться под руку, на чужие горести у нее было чутье.
Сам-то он никогда Светочке не жаловался – с чего бы, да и на что? Просто одно время ухаживал за ее подружкой Рутой, тогда и узнал про Светочку и про других девчонок. Думал, они все примерно одинаковые, а с Руткиных слов выходило, чуть ли не с разных планет. Полезное, кстати, оказалось знание; впрочем, сейчас не о том речь. Просто о Светочке он помнил только хорошее, поэтому, наверное, и решил поздороваться. К кому-то другому вряд ли стал бы подходить.
Светочка тоже обрадовалась встрече, ну или просто вежливо сделала вид; так или иначе, сказала, что у нее есть полчаса, можно где-нибудь присесть, выпить кофе и хоть немножко поговорить.
Не стал рассказывать о смерти матери. Боль от этой утраты ушла, пока рисовал картины Вольховского, но боль дело такое, всегда может передумать и вернуться, лучше не давать ей лишнего повода. И не лишнего тоже. Никакого не давать.
Рассказывать о себе вообще ничего не хотелось, отделался парой общих фраз, так что Светочке пришлось трещать без умолку, за двоих. Она, впрочем, была не против, с явным удовольствием рассказывала о муже-летчике и щенке маламута, недавно купленном для сыновей. Потом перешла к общим бывшим одноклассникам, вспомнила одного, другую, третью, вдруг пригорюнилась: «Слушай, ты же, наверное, не знаешь, наша Магда прошлой осенью умерла, вернее, погибла, страшная была авария, такой ужас, вот и первая смерть в нашем классе, я думала, это случится когда-нибудь очень нескоро, а она…»
Перебил: «Погоди, почему первая? А как же Вольховский?» Светочка сделала большие глаза, нахмурилась: «Как, и он?! Что случилось? Я его и правда лет семь не видела, он вроде бы в Норвегию уехал или в Швецию, точно в одну из северных стран, у него картины там хорошо продавались, и…»
Боже, какая может быть Норвегия. Что за чушь.
Начал было: «Погоди, он же умер сразу после выпускного вечера, говорили, что от наркотиков, и ты сама…» Хотел напомнить: «Ты же сама ходила на его похороны с Руткой и кем-то еще», – но на этом месте Светочка его перебила: «Ай, точно! Вспомнила, были какие-то дурацкие слухи, я даже сперва поверила, не знаю, кто такой ужас выдумал и зачем – ты об этом? Забудь, семь лет назад наш Вольховский был жив, здоров и ужасно доволен предстоящим отъездом, это факт».
Не стал с ней спорить, конечно. А кто бы стал. Сказал: «Ну и слава богу», – посмотрел на часы, схватился за голову: «Извини, мне пора». И торопливо пошел по улице, стараясь не побежать.
Улица Одминю (Odminių g.) Сто сорок девять дворов
Этот двор настежь открыт навстречу улице, от желающих бесплатно запарковаться в самом сердце Старого города он отгородился не глухими железными воротами, а невысоким красно-белым шлагбаумом; еще совсем недавно, говорят, не было и его.
Зато с тыла двор защищен довольно высокой глухой стеной, отделяющей его не от шумной проезжей части, а от тихих соседских палисадников. Неизвестно, из каких практических соображений построили эту ограду, но всем прохожим, идущим мимо по улице, кажется, будто там, за стеной в глубине двора, скрываются не деревья, крыши и храмы Старого города, а море.
Вернее, так: никому ничего не кажется, каждый, кто идет мимо, знает, что за этой стеной море. Ноздри его щекочет запах йода и водорослей, а волосы ласкает теплый соленый ветер. Но уже секунду спустя наваждение рассеивается, и прохожий готов посмеяться над собой: надо же, чего только не примерещится, тебе явно пора в отпуск, дружище, бедный ты мой я.
Штука же в том, что море там действительно есть. Если зайти во двор и перелезть через стену – но не в любом месте, а в том, где бесчисленные трещины сходятся в большую ассиметричную звезду о восьми лучах – за стеной обнаружится не соседний двор, а пустынный пляж, где всегда царят теплые летние сумерки, лучшее время, чтобы искупаться.
Из книги Мартинаса Радкевичюса «Неполный каталог незапертых дворов»* * *
– По-моему, мелкий, ты перегнул палку.
За соседним столиком сидят мальчишки. Одни, без взрослых. Старший, впрочем, уже может с некоторой натяжкой считаться подростком, на вид ему лет двенадцать-тринадцать. Младшему примерно пять-шесть, и выглядит он как типичное горе луковое, вихрастая личинка антихриста, такие обаятельные детские физиономии хороши в мультфильмах, в жизни же они скорее настораживают.
Сидит, впрочем, смирно, пьет апельсиновый сок из большого пластикового стакана, столы не переворачивает, пирожными не кидается, даже в кофе пока никому не плюнул, но эта идиллия подозрительно смахивает на временное затишье перед бурей.
Наверняка братья, хотя особого сходства между ними нет. Но какие еще резоны могут заставить подростка таскать за собой такую малышню? Да еще и в кафе водить.
– Хорошо хоть пингвины с единорогами сегодня по улицам не шастают, – говорит тем временем подросток. – И драконы не летают. Спасибо тебе и на этом.
Надо же, сказки рассказывает. Братья, братья, без вариантов. Причем старший – герой, подвижник и вообще большой молодец. Я бы на его месте и в его годы… Да ни за что, хоть режьте!
– Пожалуйста, – кротко отвечает младший. И еще что-то добавляет, так тихо, что не разобрать.
Но у старшего голос громкий, не захочешь – услышишь.
– Эспрессо ему подавай, – возмущается он. – Детям, к твоему сведению, нельзя крепкий кофе. Слабый, впрочем, тоже нельзя.
– А что будет, если я его все-таки выпью?
– Ну, например, сердце начнет стучать быстро-быстро. Голова закружится. А может вообще в обморок упадешь, кто тебя знает.
– Ух ты! – восхищенно выдыхает личинка антихриста. – В обморок! Хочу!
– Обойдешься, – твердо говорит старший. – Эспрессо ему. Ты бы еще сигару потребовал. Сам захотел быть маленьким, теперь играй по правилам.
Интересные какие у них сказки. «Сам захотел» – ишь. Можно подумать, у кого-то есть выбор.
* * *
Почти каждому, кто заходит в этот двор, мерещится, будто он уже жил здесь прежде. Даже тому, кто впервые прибыл в Вильнюс утром текущего дня, вдруг начинает казаться, что вон за той деревянной дверью без номера – дом его детства, или съемная комната студенческой юности, или, к примеру, бывшая бабкина квартира, куда приезжал каждое лето на каникулы, пока были живы старики.
Люди обычно тяжело переносят подобные конфликты памяти и здравого смысла. Поэтому подавляющее большинство поспешно уходит отсюда в смятении, но некоторые любопытные смельчаки все же решаются задержаться и даже постучать в бывшую свою дверь. Им всегда отпирают, а дальше – по обстоятельствам. Гостя могут пригласить в дом, не требуя объяснений, могут с вежливым интересом выслушать на пороге, дать разумный совет, или незначительное поручение, сделать подарок или, напротив, попросить что-нибудь на память о случайной встрече. Наверняка известно одно: если уж постучался в дверь, надо соглашаться со всем, что тебе там скажут, и делать, что велят, ибо нет на свете игры сложней и серьезней, чем та, в которую ты теперь вовлечен.
Из книги Мартинаса Радкевичюса «Неполный каталог незапертых дворов»* * *
Вопреки моим опасениям, младший мальчишка, лишенный восхитительной возможности отравиться эспрессо, продолжает мирно пить сок, вместо того, чтобы в гневе поливать им окружающих. Включая меня. Вернее, начиная с меня, очень уж близко к источнику опасности я располагаюсь. Хоть пересаживайся.
А кстати, можно бы и пересесть. Например вон за тот дальний столик. От греха подальше. На мне новые льняные штаны, прекрасные, как чужая мечта; ничего не имею против того, чтобы отправить их в стирку, скажем, послезавтра. Но прямо сегодня, не дожидаясь вечера – перебор.
Но тут старший мальчик строго говорит:
– Ты лучше скажи, зачем столько дворов наизнанку вывернул?
И я остаюсь на месте. Не знаю, угодит ли юный сказочник непоседливому братцу, но меня он заинтриговал окончательно и бесповоротно. Теперь буду подслушивать, пока опустевшие чашки не разлучат нас.
– Пара-тройка – ладно, пусть десяток – вполне допустимо, – продолжает он. – и даже полезно для всякого города. Но сто сорок девять, мелкий. Сто сорок девять дворов! Я считал. Какого черта?
– Ну так они же были совершенно ужасные, – отвечает младший. – Заходишь, и сразу становится тааак тоскливо! Хоть плачь. А некоторые люди всю жизнь там живут, от рождения до самой смерти, представляешь? А другие просто ходят мимо – тоже не сахар. И им с каждым днем становится все тоскливее, а плакать они уже давно разучились, так что вообще никакого выхода. Но я все исправил!
– Да уж. Исправил – не то слово. А сколько народу теперь нам на голову свалится, ты подумал?
– Ой, да никто никуда не свалится. Они и не заметят ничего. Ну, может, кто-нибудь иногда, если очень повезет. Пару раз в год, например. И это будут хорошие гости. Удачливые и храбрые. Представляешь, как они удивятся? И как удивимся мы. Жалко тебе, что ли?
Такой важный и рассудительный как будто роль играет. Когда-то я смотрел забавный кинофильм, где дети изображали взрослых гангстеров, джазменов и певиц[26]. Маленькие актеры были чрезвычайно убедительны, но, кстати, без драки кремовыми тортами в финале все равно не обошлось. Так что лучше бы мне не терять бдительность.
Старший мальчик тем временем вздыхает и качает головой. Молча. А жаль. Так интересно мне не было с тех пор, когда мы с другом Мишкой сидели на чердаке его дома, среди развешенных на просушку простыней и ждали, когда появятся хоть одно из обитающих тут привидений, о которых по большому секрету рассказала нам Мишкина старшая сестра Беата.
Так и не дождались, кстати. До сих пор обидно.
– Совсем не обязательно вот так беспокоиться, – говорит младший мальчишка. – Что сделано, то сделано. А дальше – как получится. Зачем портить себе удовольствие? Нечестно, если только мне весело, а тебе – нет. Мы так не договаривались.
– Дворы в промышленном количестве наизнанку выворачивать мы тоже не договаривались, – ухмыляется старший.
– Конечно, не договаривались. Потому что и без всяких договоров заранее ясно, что так все равно будет. Они же практически сами при виде меня выворачиваются. Но до сих пор это всегда было к лучшему, скажешь, нет?
– Смотря что считать «лучшим»… Ай, ладно. Что сделано, то сделано, действительно. Чего это я.
* * *
В этом дворе есть ветхая беседка, построенная под старыми яблонями. В беседке стоят две лавки и стол. Стол в любое время года усыпан мелкими зелеными яблоками; если взять одно из них, вытереть, как в детстве, рукавом, и откусить, обнаружишь, что слаще этого яблока нет ничего на земле.
Съев яблоко, следует взять с собой косточки и закопать их в землю в своем дворе или любом другом месте, какое покажется подходящим. Яблони из этих семян вырастут быстро, им не будут страшны ни морозы, ни засуха, ни насекомые, ни болезни, а посидев под их сенью хотя бы несколько минут, любой человек сможет избавиться от печалей и тревог, даже тех, для которых есть серьезные основания.
К сожалению, в наше время мало кому приходит в голову сажать семена, в противном случае, весь город с окрестностями давно уже стал бы островом радости и покоя.
Из книги Мартинаса Радкевичюса «Неполный каталог незапертых дворов»* * *
Мне очень хочется вмешаться. Сказать: «Мальчики, о своем поведении вы распрекрасно можете поговорить дома. А здесь, сейчас, пока я вас подслушиваю, извольте рассказывать интересное. У меня кофе осталось едва на донышке, надолго эти слезы не растянешь. Не заказывать же еще одну чашку, тем более, что в этом дурацком летнем кафе на Одминю варят, как выяснилось, исключительную, бессмысленную бурду. А я еще сказку хочу. Я их, кажется, тысячу лет уже не слушал. Что там у вас в запасе, кроме драконов, единорогов и вывернутых наизнанку дворов? И кстати, что это означает – наизнанку? Швами наружу? И что это за швы, если речь идет не о штанах, а о дворах? Давайте, выкладывайте, да поскорей.
– На самом деле я бы тут еще пару-тройку сотен дворов наизнанку вывернул, – мечтательно вздыхает младший мальчишка. – Но с запертыми никакого смысла возиться.
– Твоя правда, – кивает старший. – Все-таки запирать дворы – дурацкая затея. Все равно что здоровую руку туго перевязывать, препятствуя течению крови. Что люди не могут гулять, где захотят, это еще полбеды, но от городов, где запертых дворов больше, чем открытых, отворачиваются обидчивые ветры, а это уже настоящая катастрофа. К счастью, всегда остаются окраины, спальные районы с огромными общими дворами, которые захочешь – не обнесешь забором, не запрешь. Это хоть как-то выравнивает баланс.
Надо же, как они рассуждают. Запертые дворы в Старом городе и меня огорчают до невозможности, всегда кажется, что там сокрыто самое интересное, и ужасно обидно, что нельзя поглядеть. Выходит, мое мнение разделяют ветры и эти странные дети, которые с каждой минутой нравятся мне все больше. Хоть действительно вторую чашку скверного кофе заказывай, лишь бы никуда отсюда не уходить.
* * *
В этом дворе, когда ни зайди, непременно встретишь старушку, которая сидит на лавке, окруженная клубками разноцветной шерсти, и вяжет длинный узорчатый шарф. От дождя старушку и ее рукоделие защищает деревянный навес, когда становится темно, она зажигает керосиновую лампу, если холодает, надевает валенки и пестрые перчатки-митенки; впрочем, даже в самый лютый мороз, когда не заводятся автомобили и отменяют занятия в школах, температура воздуха в ее дворе едва ли ниже нуля. Хорошо, что об этом почти никто не догадывается, а то цены на квартиры в ветхих двухэтажных домах, чего доброго, подскочили бы до небес.
Старушка обычно не обращает внимания на посторонних, но изредка все же поднимает голову от вязания и, глядя прямо в глаза незнакомцу, требовательно спрашивает: «Синий или зеленый?» А то и вовсе: «Какой сейчас цвет?» И, получив ответ, берет соответствующий клубок.
Говорят, будто узоры, которые вывязывает старушка, непостижимым образом влияют на ход истории – то ли самого Вильнюса, то ли какого-то иного неведомого города. Есть, впрочем, версия, что она просто вяжет шарф вымышленному внуку, который непременно вернется домой в тот день, когда работа будет закончена.
Из книги Мартинаса Радкевичюса «Неполный каталог незапертых дворов»* * *
Личинка антихриста тем временем начинает беспокойно ерзать на стуле и как-то подозрительно на меня коситься. Неужели заметил, что я их подслушиваю? Странно, обычно мне удается сохранять более-менее невозмутимый вид. А сейчас еще и телефон держу в руке, со стороны должно казаться, будто я что-то сосредоточенно там читаю. Очень удобная штука эти телефоны, а все-таки обычная газета гораздо лучше – развернув ее, можно укутаться практически с ног до головы, не опасаясь, что ваше лицо станет в какой-то момент слишком уж заинтересованным.
И, кстати, если уж на то пошло, я вообще никого не подслушиваю. А просто сижу в летнем кафе на Одминю, не спеша пью кофе и заодно слышу доносящиеся до меня голоса. Не затыкать же демонстративно уши, ну в самом деле.
Мальчишка что-то неразборчиво шепчет на ухо брату, тот хмурится и громко спрашивает:
– Мелкий, ты что? Зачем?!
– Иногда должно случаться и такое, – отвечает тот. – С тем, кому повезет, в городе, которому посчастливится. Это же как лотерея. Не обязательная, но возможная для всех, в любой момент, в каком угодно месте. Родиться – все равно что купить билет. А дальше – как получится.
Боюсь, к этому моменту от моего якобы невозмутимого вида уже и следа не осталось. Ну да что тут поделаешь.
* * *
Если в этот двор случайно забредут влюбленные, и один из них скажет: «Я тебя люблю», – второй ничего не услышит. Невелика беда, прочтет по губам, увидит в глазах, поймет, расшифровав ритм сердечных ударов. Зато когда много дней спустя во двор зайдет одинокий человек, он, если остановится там хоть на миг, непременно услышит: «Я тебя люблю». И улыбнется неведомо кому, и уйдет – спасенный.
Из книги Мартинаса Радкевичюса «Неполный каталог незапертых дворов»* * *
Рыжий мальчишка залезает на стул, а потом и на стол – с ногами. Поднимает руки, и я вдруг понимаю, что он не просто так сжимает кулачки, а держится за конец толстого каната, свисающего… А откуда, собственно говоря?
Ну, в общем, откуда-то свисающего. Не с неба же, в самом деле.
И мальчишка начинает по этому канату карабкаться. Только не спрашивайте меня, куда именно. Я и сам себя об этом спрашивать поостерегусь. Просто по канату. Вверх, точка.
Люди за соседними столиками не обращают на его выходку никакого внимания, только братец укоризненно качает головой, да я сижу с распахнутым ртом, как последний дурак. Или как первый. Смотря, с какого конца нас, дураков, считать.
Одолев несколько метров бесконечного пути к небу, мальчишка останавливается и заговорщически мне подмигивает. И зачем-то показывает язык. И громко говорит:
– «Изнанка» – это просто та часть правды, которая не на виду. А «наизнанку» – это значит, что все секреты вдруг оказываются снаружи. Чего тут непонятного, Мартинас?
И лезет дальше. Я смотрю, а он все лезет и лезет, а я все смотрю и смотрю, пока не понимаю, что больше ничего не вижу, потому что из глаз текут слезы – с чего бы, интересно?
Похоже, я просто слишком долго смотрел в небо, напрочь забыв о необходимости иногда моргать.
Проморгавшись всласть и утерев слезы салфеткой я, конечно, обнаруживаю, что ничего нет. Ни противного рыжего мальчишки, ни дурацкой веревки, ни, кстати, его брата-сказочника. Этот-то, интересно, куда делся? Просто встал и ушел? По всему выходит, что так.
«Чего только не примерещится от жары и скуки», – почти сердито думаю я. И тут же обрываю себя: «Цыц, дурак! Почему это сразу – «примерещилось»? Есть другой прекрасный глагол: «произошло». Чего только не происходит время от времени, да? По-моему, так гораздо лучше».
В кои-то веки у меня есть возможность выбирать.
«Для галлюцинации, – думаю я, – это как-то чересчур глупо. Зато для события, случайного эпизода, крошечного фрагмента жизни – в самый раз. Чего только порой не случается, ну правда».
«И кстати, – думаю я, – это можно проверить. Согласно моей галлюцинации, сто сорок девять незапертых дворов в центре города вывернуты наизнанку. Секретами, стало быть, наружу – что бы это ни означало. Целых сто сорок девять, эй! Если задаться целью найти хотя бы один, вряд ли это окажется так уж сложно. Ну или дня через три станет окончательно ясно, что никаких мальчишек не было, и несли они при этом полную чепуху. Что вполне простительно – поди расскажи что-то толковое, когда ты – просто чужая галлюцинация».
«Стоп, – говорю себе я. – Ничего подобного мне ясно не станет. Ни через три дня, ни через неделю, ни через год. Никогда. Если уж в кои-то веки у меня есть возможность выбирать, я выбираю, что мальчишки – были. И дворы найдутся. Возможно, не все сто сорок девять, но кое-что найдется, а дальше – как получится. На что спорим?»
На весь мир и новые коньки, как обычно.
* * *
В дальнем конце этого двора стоит стопка узких высоких зеркал, целых, но так потемневших и искривившихся от непогоды, что иной любопытный прохожий, заглянув в одно из них, чего доброго, не узнает свое отражение. И, кстати, будет совершенно прав: оно и есть чужое. И, строго говоря, вообще не отражение, а отдельное самостоятельное существо, одно из обитателей зазеркального пространства, всерьез говорить и даже думать о котором у людей не принято; это табу изредка нарушают лишь дети, безумцы и математики.
Бояться в любом случае не надо. Подсматривающие за нами с той стороны вовсе не враждебны человеку, они, как говорится, не «злы»; впрочем, и не «добры» в общепринятом значении этого слова, просто любопытны. Однако следует знать, что взгляд зазеркальных соглядатаев целителен, и всякий, кому посчастливилось быть замеченным, станет тем прекрасным существом, которое увидели их беспристрастные, привычные к чудесам глаза – самим собой.
Из книги Мартинаса Радкевичюса «Неполный каталог незапертых дворов»Улица Оланду (Olandų g.) Синий автомобиль
Ночью Дануте приснился страшный сон, один из тех кошмаров, которые она не любила больше всего на свете – почти никаких событий, один сплошной саспенс, бесконечное ожидание чего-то немыслимо страшного, когда в ужас приводит любой шорох; отсутствие шорохов, впрочем, тоже неизбежно приводит в него. Лучше бы, ей-богу, какие-нибудь вампиры погнались или инопланетяне, с ними хотя бы ясно, что делать – убегать. А убегая от погони во сне, обычно взлетаешь или просыпаешься с бешено колотящимся сердцем, оба варианта по-своему хороши.
Но в этом паскудном сне вообще ничего не происходило, только под Данутиным окном остановился автомобиль, крайслер круизер, некоторые любители иногда называют эту модель «Лондонское такси» глубокого темно-синего цвета. Наяву Дануте нравились круизеры, красивые машины, тяжелые и одновременно элегантные; в городе их было совсем немного, и это усиливало эффект. Сама бы от такого не отказалась, хотя, конечно, страшно подумать, во сколько, если не дай бог что, обойдется ремонт. Но во сне страшен был не ремонт, а водитель синего автомобиля, совершенно ей неизвестный, но некоторым образом все-таки знакомый – как будто он ее уже однажды ловил и делал что-то настолько ужасное, что в памяти вместо подробностей остался один бесконечный и мертвый, как космос, крик.
Пока водитель сидел в машине и – Данута знала это совершенно точно, как если бы у них была одна голова на двоих – раздумывал, зайти к ней в гости или не заходить. Было понятно, если что этот… эта… это существо решит зайти, всему конец. А если передумает, она спасена.
Был еще один способ спастись, без гарантий, но можно попробовать – удрать из дома через окно спальни, которое выходит во двор. Наяву Данута жила на первом этаже, а во сне это была величина переменная – то первый, то пятый, то вообще какой-нибудь сороковой, откуда видно не только улицу Оланду и купола собора Петра и Павла вдали, а весь город, так что пришлось бы дожидаться, пока этаж снова станет первым, и вот тогда – срочно бежать, благо двор проходной, если только соседи не закрыли калитку, эти бирюки регулярно ее запирают, особенно на ночь, а сейчас как раз она.
При этом Данута прекрасно понимала, что все ее мысли и намерения сразу становятся известны водителю крайслера, поэтому не стоит сейчас думать ни о побеге, ни о собственной уязвимости; в идеале – вообще ни о чем. Но она не умела совсем не думать, ни наяву, ни во сне.
Все это в сумме парализовало Дануту, не давало двинуться с места, поэтому она стояла возле кухонного окна и завороженно смотрела на синий автомобиль, одновременно чутко прислушиваясь к шорохам в коридоре – вот, собственно, и весь кошмар. Когда пересказываешь, глупость какая-то получается, но пережить еще раз – не дай бог.
«Недайбог, – подумала Данута, проснувшись. – Не хочу еще раз туда засыпать».
Такое было вполне возможно и уже не раз случалось – проснуться среди ночи от страха, тут же снова задремать и увидеть продолжение давешнего кошмара, в полной уверенности, что уж сейчас-то все точно происходит наяву. Но теперь Данута уже была ученая, знала, что надо сразу, не раздумывая, вставать. Не обязательно надолго, достаточно дойти до туалета или выпить воды. Потом можно возвращаться в постель и спокойно спать дальше, продолжения не будет. Как будто кошмар – что-то вроде электрички, из него надо выйти на станции и подождать, пока отъедет, буквально пару минут, тогда уже захочешь – не догонишь. Впрочем, было бы чего хотеть.
Вот и на этот раз она сразу вскочила. На кухню идти побоялась, потому что если выяснится, что на улице за окном действительно стоит какой-нибудь автомобиль – не обязательно крайслер, не обязательно синий, любой достаточно большой и темный сойдет – вот тогда начнется настоящий ужас. А пока – так, ерунда.
Поэтому Данута просто прошла по коридору до комнаты сына, убедилась, что его постель пуста – все правильно, она и должна быть пуста, Ежи сейчас гостит у отца – и вернулась в спальню. Полчаса ворочалась с боку на бок, но наконец заснула и вполне нормально проспала до утра. Ну, то есть какая-то дребедень ей все-таки снилась, но не кошмары, обычная умеренно неприятная суета. Такое с облегчением забывается прежде, чем голову от подушки оторвешь.
Настроение с утра все равно было паршивое. Что довольно обидно: Данута редко оставалась дома одна и очень ценила не просто каждый день одиночества, а каждую его минуту. Особенно если выходной. Ужасно жалко, что нельзя просто взять и перенести плохое настроение на какой-нибудь будний день, когда от пробуждения все равно никакого удовольствия, слишком много всего сразу надо: готовить завтрак, поднимать сына, наспех прихорашиваться и бежать-бежать-бежать.
Но ладно, что теперь делать. Пошлепала на кухню, нажала кнопку кофейной машины, с отвращением покосилась на пачку овсяных хлопьев – господи, как же они надоели! Зачем я с упорством, достойным лучшего применения, продолжаю их покупать? – и достала из буфета шоколад. Считается, будто шоколад поднимает настроение; Данута, сколько к себе ни прислушивалась, не ощущала никакого особенного эффекта. Просто шоколад очень вкусный. А про эндорфины, или что там от него появляется в измученном бытием организме, наверняка придумали для успокоения совести. Время сейчас такое: удовольствие от еды вдруг стало считаться постыдным. Ради пользы все можно, просто так – ничего нельзя. Жрут, пожалуй, даже больше, чем раньше, зато многословно оправдываются буквально за каждый кусок.
Впрочем, на этот раз Данута и правда быстро повеселела. То ли действительно от шоколада, то ли от кофе, то ли просто оттого, что никто не дергает, ни о чем не спрашивает и никуда не торопит. Все-таки в жизни человека должно быть место отпуску. Даже от самых любимых, даже от сыновей.
С такими благодушными мыслями Данута подошла к окну и отодвинула обычно плотно задернутую – на первом этаже иначе никак – занавеску. Хотела посмотреть, какая погода на улице и, исходя из этого, строить планы на ближайшее будущее. Ну или наоборот, забить на планы и вернуться в постель. На то и выходной, чтобы – не столько валяться целый день, сколько знать, что вполне можешь себе это позволить. Просто иметь в виду такой вариант.
Какая на улице погода, и есть ли она там вообще, Данута так и не поняла. Потому что прямо напротив ее окна, на улице Оланду был припаркован темно-синий крайслер круизер. Лондонское, мать его через Букингемский дворец, такси. Причем за рулем сидел водитель. Кто, как выглядит – да черт его знает. Отсюда не разглядеть. Но он есть.
Данута не закричала только потому, что хорошо помнила: во сне кричать бессмысленно, обычно только рот открывается, а звука нет. От этого чувствуешь себе еще более беспомощной, вот и вся польза от крика. Впрочем, в тех редких случаях, когда голос появляется, от него только хуже: крик притягивает чудовищ, как магнит. Поэтому она осторожно задернула занавеску и на цыпочках отошла от окна. Растерянно посмотрела на пустую кофейную чашку и остатки шоколада – это что такое вообще? Я же не сплю. Я же точно проснулась! Или нет?
Огляделась по сторонам, вспоминая известные ей способы проверить, спишь или бодрствуешь. Способы не вспоминались, что само по себе было довольно подозрительно: Данута довольно много об этом читала. И вроде бы даже что-то применяла на практике, успешно… или нет?.. Вот черт, все, абсолютно все вылетело из головы! Но это не обязательно означает, что я сплю, – говорила себе Данута. – Почему сразу – сплю? Просто испугалась. Это паника. А когда паникуешь, забываешь обо всем на свете, даже… Так, погоди. Сейчас.
Бегом бросилась в спальню, где оставила телефон, про себя отмечая, что никаких затруднений с ходьбой не испытывает. И коридор не увеличивается в размерах. И спальня выглядит именно так, как она ее себе представляла. И за окном – первый, не пятый, тем более, не сороковой этаж. Значит, точно не сплю. Осталось понять, хорошо это или плохо. Может быть, как раз лучше бы спала? Тогда можно было бы проснуться, а так…
Данута схватила телефон, нажала нужные кнопки. Слушала гудки: один, два, четыре, восемь, где же ты, моя хорошая? Куда подевалась? Ты мне очень нужна.
Наконец послышалось сонное:
– Данка, ну ты чего? Суббота! Десять утра! Тебя похитили компрачикосы? И требуют в качестве выкупа мои новые носки с коалами? Ладно, передай им, пусть приезжают. Я на все согласна ради бесконечного счастья своими руками придушить тебя за этот трезвон.
Кристина в своем репертуаре. Самая лучшая в мире, даже спросонок, старшая сестра.
Формально Кристина была младше Дануты на целых пять лет. Но опекала сестру примерно с того момента, как научилась ходить. Кое-как доковыляла, встала рядом, сказала: «Сясисять!» – с ударением на последнем слоге. Родители умилялись: хочешь сосиску? Но Данута поняла сестру правильно. Кристина пообещала всегда ее защищать. И свое слово держала крепко. До сих пор.
– Прости, – сказала сестре Данута. – Я помню, что тебя в это время лучше не будить. Но мне стало страшно. Сон плохой приснился. А потом воплотился наяву, по крайней мере, отчасти. Стоит сейчас у меня за окном.
– У тебя за окном стоит страшный сон? – изумилась Кристина. – Это ты, конечно, молодец. А теперь рассказывай по порядку, потому что я пока вообще ничего не понимаю. А?
Пока рассказывала, сама поняла, какая, в сущности, ерунда этот дурацкий крайслер. Ну синий, ну стоит. Небось, и вчера так же стоял, я его краем глаза заметила, но не осознала, а во сне он вполне предсказуемо всплыл, так часто бывает. Ну ладно, не часто. Но иногда случается, факт.
– Полная фигня получается, да? – спросила Данута сестру.
– Конечно, – легко согласилась Кристина. – Но если эта фигня отравляет тебе жизнь, значит она – проблема. Ее надо решить и выбросить из головы.
Вот как, интересно, она себе это представляет? – почти рассердилась Данута. – Голова – не платяной шкаф, откуда в любой момент можно выбросить все ненужное. Но, кстати, даже со шкафом многие мучаются годами, не в силах к нему подступиться. А тут – голова!
– Я бы на твоем месте просто вышла и посмотрела на эту машину поближе, – сказала Кристина. – Кто за рулем, что за номера. Особенно номера! Такие подробности почему-то сразу успокаивают. Автомобиль, официально зарегистрированный в каком-нибудь регионе, это просто средство передвижения, а не кошмар из сна.
В ее словах был здравый смысл. Что для Кристины обычное дело. Она вся, целиком, воплощенное здравомыслие, крепко стоящее на длинных мускулистых ногах. Потому и старшая, хотя на самом деле младшая сестра.
– Ты права, – сказала Данута. – Но мне… Слушай, мне страшно!
– Естественно, тебе страшно, – согласилась Кристина. – Ну и что? Лучше побояться как следует пять минут и закрыть вопрос, чем растягивать это удовольствие. Что ты будешь делать, если не сходишь и не посмотришь на номера этой машины? Я имею в виду, чем заниматься? Молчишь? То-то и оно, весь день псу под хвост. И еще хорошо, если всего один день.
– Ты права, – обреченно повторила Данута.
А что еще она могла сказать.
– Давай так, – решила Кристина. – Ради тебя я совершу подвиг. В смысле, встану и… например, испеку шарлотку. Вот прямо сейчас, практически на рассвете, специально для тебя. Но только при условии, что по дороге ты хорошенько осмотришь эту чертову машину. Внимательно, по методу Шерлока Холмса: давно ли ее мыли, какие там стекла, какого цвета сидения, в каком полку служил водитель, есть ли на колесах какая-нибудь необычная грязь с Ридженс-стрит… ладно, ладно, шучу, грязь можешь не изучать. Просто сфотографируй номер этого крайслера – ради меня и шарлотки. Договорились? Давай!
– Ну ты раскомандовалась, – сказала Данута, не сестре, а уже отключившемуся телефону. Скорчила ему рожу, как корчила в детстве за спиной отвернувшейся матери: «Бе-бе-бе!» – и пошла одеваться. Еще бы она не пошла.
Уже запирая дверь, Данута наконец сообразила, что ничем не рискует. Вообще ничем! Потому что если все происходит наяву, ничего страшного не случится. Наяву свое, совсем другое страшное, у настоящих бед иные вестники, никакой синий автомобиль не сравнится с телефонным звонком в неурочное время с незнакомого номера, например. А если это все-таки сон, не в меру правдоподобный, так я рано или поздно проснусь, – сказала себе Данута. И ободренная этими оптимистическими размышлениями, вышла из подъезда во двор, залитый неожиданно ярким солнечным светом. Когда живешь на первом этаже, любая погода кажется пасмурной. А тут такой приятный сюрприз.
К синему крайслеру Данута шла, гордо выпятив подбородок, воображая себя самым храбрым в мире борцом со страшными снами и прочим злом. А что по мере приближения постепенно замедляла шаг – ну так ничего не поделаешь, человек слаб. Но все равно собирает волю в кулак и делает, как решил.
В нескольких метрах от автомобиля Дануту охватил такой ужас, какого наяву не испытывала ни разу, даже когда попала с полугодовалым Ежи в больницу. Тот страх был, во-первых, вполне понятный, основанный на фактах, а во-вторых, побуждающий к действиям, а не сковывающий по рукам и ногам. Но все равно не сбежала. Только пообещала себе: я просто сфотографирую номер отсюда и пойду подобру-поздорову, не заглядывая в окна, ну его.
Но стоило ей достать телефон, как водительское стекло поползло вниз, и оттуда высунулась белокурая девичья голова с нелепым малиновым бантом на макушке. На вид совсем подросток, максимум пятнадцати лет, но голос у нее оказался неожиданно взрослый, низкий и строгий, как у директора школы.
– Да что ж вы меня так боитесь? – спросила девица с бантом. – Мне просто надо с вами поговорить. И больше ничего.
В тот момент, когда стекло поползло вниз, Данута так испугалась, что, похоже, израсходовала суточный запас отпущенного ей страха. Или даже годовой. По крайней мере, ноги вдруг перестали подгибаться, и даже сердце забилось условно спокойно. Не то чтобы она стала считать ситуацию безопасной, просто ей вдруг стало все равно, что сейчас будет.
Ладно, почти все равно.
– Если надо поговорить, выходите, – сказала Данута. – Я не сяду в вашу машину. Еще чего.
– Да я бы с радостью, – вздохнула та. – Но не могу выйти. Мы с этим автомобилем… даже не знаю, как вам объяснить, чтобы вы еще больше не напугались. В общем, в некотором смысле, сейчас мы с ним одно существо.
Ну надо же. Все-таки сон.
– Ладно, – решила девочка с бантом, – не хотите садиться в машину, не надо. А то действительно еще больше испугаетесь. Хотя лично мне непонятно, чего тут бояться: я выгляжу как физически слабый подросток одного с вами пола. Уж не знаю, что может быть безопасней. Но если вам так спокойней, можем поговорить через окно.
– Спасибо, – сказала Данута.
Она была очень довольна своей вежливостью. Вряд ли на свете много людей, способных поблагодарить кошмар за то, что он согласился стать не таким ужасным, как мог бы.
– Объясните, пожалуйста, почему вы так меня испугались? – спросила девочка с бантом. – Ну нет же во мне ничего страшного! И в вашем сне тоже не было. Подумаешь – какая-то машина стоит на улице. Может быть, человек к вашим соседям в гости приехал. Чего вы переполошились? Что я сделал не так?
Она так уверенно говорила о себе в мужском роде, что Дануте на миг показалось, за рулем сидит здоровенный мужик. Но нет. Белокурая голова с малиновым бантом, круглые кукольные голубые глаза. И голос – хоть и грубоват для девочки-подростка, но все-таки определенно не мужской.
– Вы так боялись меня во сне, что мне пришлось овеществиться наяву! – обиженно, как обычно жалуются на незаслуженную «двойку», добавила девочка. – А это, между прочим, очень надо постараться! Некоторые чародеи разучивают специальные заклинания, чтобы с их помощью выманить свои сновидения в дневную реальность, но даже с хорошей предварительной подготовкой это мало у кого получается, обычно людям просто не хватает сил. А вам и заклинаний не понадобилось, раз и все! Со мной подобный казус всего третий раз в жизни случился. Причем первые два я нарочно старался. Тогда мне еще нравилось быть кошмаром, и очень забавляла возможность дополнительно напугать кого-нибудь наяву. Но эти времена давно позади. Сегодня ночью у меня была только одна задача: присниться вам максимально нестрашным. Желательно незначительным и незаметным. И вдруг такой результат!
– Что? – беспомощно переспросила Данута. – Что вы такое говорите? Я вас не понимаю. Совсем!
– А так вам и надо! – сердито сказала девочка, и малиновый бант грозно подпрыгнул на ее кудрявой голове. – Все справедливо: я вас тоже не понимаю. Что за проблема у вас с синими автомобилями? На вас, что, в детстве такой чуть не наехал? Или подружки рассказывали, будто в синем крайслере по городу ездит маньяк? Или на экзаменах в автошколе провалились с позором именно на этой модели? Объясните, ради всего святого! Я должен знать.
Под конец она сорвалась на крик, но это оказалось даже к лучшему. Чем больше сердилась эта странная девочка, тем меньше Данута ее боялась. По своему опыту она твердо знала, что ночные кошмары так себя не ведут. Не скандалят, не насмехаются, не лезут с претензиями. У них другой стиль общения. И не только стиль.
– Во-первых, – наконец сказала Данута, – прекратите на меня кричать. Это нелепо: ночной кошмар, устроивший скандал, потому что его испугались. А во-вторых, ваша внешность тут не при чем. Мало ли, как вы выглядите! Значение имеет, в первую очередь, атмосфера, которую вы создаете. Знаете, как страшно чувствовать, что ты в ловушке и всему конец? Особенно во сне. Хотя наяву, честно говоря, тоже ничего хорошего. Врагу не пожелаю такого утра, как выдалось у меня.
Девица с бантом внимательно слушала Дануту. Вид у нее был не то виноватый, не то просто мрачный.
– Атмосфера, значит, – наконец сказала она. – Такое чувство, что ты в ловушке и всему конец. Ясно, спасибо, что рассказали. Значит, ничего у меня пока не получается. Ничего! Так и знал.
– Что именно у вас не получается? – спросила Данута.
К этому моменту она окончательно перестала бояться девочку в автомобиле. Трудно бояться подростка, который вот-вот разревется. А к тому явно шло.
Данута так расхрабрилась, что свершила немыслимую глупость – с точки зрения человека, которому снится кошмар: обошла синий крайслер и села на пассажирское сидение. Чего на всю улицу орать.
Дверцу, правда, оставила приоткрытой – если что, раз и выскочу! – думала Данута. Но даже это был не страх, а обычный тактический прием. В автомобиле любого малознакомого человека повела бы себя точно так же, чтобы не принял ее согласие сесть рядом за готовность ехать, куда повезут.
Заодно выяснила, что сидения в салоне обтянуты серой замшей – эту бесценную информацию можно занести в отчет для Кристины. А о том, что в автомобиле не было ничего, кроме руля – ни приборной панели, ни педалей, ни переключения передач, ни ручного тормоза, ни даже магнитолы – сестренке лучше не знать. Кристинкин здравый смысл – их общее достояние, один на двоих. Надо его беречь.
– Ну вот, – обрадовалась девочка с бантом. – Теперь сами видите, ничего страшного ни во мне, ни в этой машине нет. Только смотрите, не вздумайте опять испугаться. Если вы испугаетесь, мне придется вас съесть. А это сейчас совершенно некстати.
– Именно съесть? – переспросила Данута, поражаясь собственному бесстрашию. – Вы что, сон-людоед? Или сон про людоеда? Или как?
– Пожалуй, скорее первое, – подумав, призналась девочка. – «Сон-людоед», вполне можно так сказать. То есть от вашего тела я ни кусочка не откушу, не беспокойтесь. Но тому существу, которым вы становитесь, когда спите, могу нанести довольно серьезный ущерб, даже сам того не желая. Достаточно, чтобы вы испугались, и – хлоп! – изрядная часть того вещества, которое можно в известном приближении назвать кровью вашего сновидения, уже у меня в брюхе. То есть не то чтобы именно в брюхе, никакого брюха у меня нет. Но в его аналоге. В этом-то и проблема! Причем не только ваша, но и моя. Мне нельзя вас есть. Я сейчас на строжайшей диете.
– На диете?! – повторила Данута, не веря своим ушам. – Да что же это за времена такие пришли? Все вокруг на диете, уже и ночные кошмары туда же. Вам-то зачем? Такая худенькая барышня…
– Ну, положим, худенькой барышней я только кажусь, чтобы вас не пугать, – напомнила ее собеседница. – На самом деле, у меня вообще никакой внешности нет, ни худой, ни толстой. Я же все-таки сновидение, а не ваш сосед по подъезду. И могу быть, кем пожелаю. Вернее, казаться.
– Но при этом вы все-таки мальчик? – уточнила Данута. – То есть мужчина?
– С чего вы взяли? Как я могу быть мужчиной? Я не человек, я сон.
– Просто вы говорите о себе в мужском роде. В сочетании с вашей внешностью это дает довольно странный эффект.
– А, – заметно смутилась девица с бантом. – Вы правы. Но это просто привычка. Когда мне нравилось быть кошмаром, я предпочитал сниться людям в виде какой-нибудь жуткой ведьмы, их почему-то боятся больше всего. И говорил о себе в женском роде – в тех редких случаях, когда мне было с кем и о чем говорить. Но в последнее время я обычно выгляжу красивым мужчиной. Во сне такие красавчики кажутся безобидными и вызывают доверие. Наяву, кстати, почему-то далеко не всегда. Удивительное противоречие. Но я не о том хотел рассказать… А кстати, о чем мы с вами только что говорили? Наяву я обычно довольно рассеянный. Уже забыл.
– Да, извините, я вас сбила с толку, – покаялась Данута. – Вы начали рассказывать о диете. Зачем она вам?
– Чтобы перестать быть кошмаром.
– Это как? Извините, мне непонятно.
– Да было бы что понимать. Мне надоело быть кошмаром. Уже восемнадцать тысяч лет одно и то же! Напугал, пожрал – и привет. Никаких развлечений, никакого – как вы, люди, обычно в таких случаях говорите? – а! Никакого духовного роста. Я подумал и решил: хватит с меня. Теперь хочу быть хорошим сном. В идеале, счастливым, но для начала хотя бы просто обычным, нейтральным. Я все-таки реалист и стараюсь не ставить перед собой невыполнимых задач. Но для того чтобы радикально изменить свою природу, мне нужно перестать питаться страхом. Просидеть на строжайшей диете хотя бы один лунный цикл. И я стараюсь. Знали бы вы, как я стараюсь! Но…
– Вы, наверное, все время голодный? – посочувствовала Данута, невольно вспомнив оставленный дома шоколад. Предложить ей, что ли? Я бы быстро сбегала, принесла…
– Да если бы! – горько воскликнула девица. – Проголодаться я пока только мечтаю. Голод означал бы, что у меня начало получаться. Ради трансформации я готов терпеть, сколько надо. Но у меня ничего не выходит. Что ни делай, как ни прячься, а все меня боятся. Не только вы. Хотя вытянуть меня из сновидения в явь – это вы, конечно, лихо. Думал, вы сумасшедшая, если так сильно боитесь. А вы оказались вполне ничего. То есть, извините, я хотел сказать, вы совсем не трусиха. Просто очень чувствительны к атмосфере, которую я невольно, даже вопреки собственному желанию, просто в силу своей природы создаю. Очень жаль! Даже не знаю, что мне теперь делать. Все оказалось гораздо сложней, чем я думал. Похоже, надежды у меня нет.
– Нет – и ну ее к черту, – решительно сказала Данута. – Вам сейчас не надежда нужна, а план действий. Хороший такой пошаговый план. Хотите, я вам помогу?
– Вы мне поможете? – изумилась девица с бантом.
– В моих же интересах, чтобы в мире стало хотя бы одним кошмаром меньше, – пожала плечами Данута. – Мне с детства часто снятся страшные сны. Надоели – не представляете. А теперь, задним числом, еще и обидно – получается, все это время меня кто-то ел?
– Куча народу, – печально подтвердила ее собеседница. – Но вы особо не переживайте, кровь… ну, в смысле, вещество, которое я ради удобства назвал «кровью», довольно быстро восстанавливается, если только не съесть сразу слишком много – тогда человек просто умирает во сне. Но мы стараемся этого не допускать.
– Хороший хозяин дойную корову не прирежет? – мрачно спросила Данута.
– И это, конечно, тоже. Но главное – никому не надо, чтобы среди нас шлялись рассерженные покойники и творили, что им в голову взбредет. Мы, кошмары, совсем не такие любители хаоса и анархии, как может показаться со стороны… А как вы собираетесь мне помогать?
– Если мне теперь снова приснится ваш синий автомобиль, я, наверное, не испугаюсь, – сказала Данута. Не так уверенно, как ей самой хотелось бы, но иногда надо рисковать. – Сразу вспомню, как мы с вами тут сидели и говорили. И наверняка захочу проверить, правда ли вы умеете сниться таким красавчиком, как хвастались – я любопытная. И прокатиться с вами наверняка не откажусь. Сколько вы говорили, вам надо сидеть на диете? Один лунный цикл? Ну и отлично. Так быстро мне обычно никто не надоедает. Надеюсь, красавчик в вашем исполнении тоже не надоест.
– Чтобы не надоесть, я могу каждую ночь выглядеть по-разному, – оживилась девочка с бантом. – И кстати, совсем не обязательно человеком, можно кем-нибудь смешным. Хотите, я буду огромным бананом? Или каким-нибудь другим фруктом.
Данута невольно содрогнулась, вообразив свидание с гигантским бананом.
– Ну уж нет, – твердо сказала она. – Никакой самодеятельности. Я вам дам – банан! У меня даже наяву с чувством юмора не очень. А во сне его у меня вообще нет, хотя… Знаете что? Попробуйте бант оставить. Кошмаров с такими бантами не бывает. Это в вашем нынешнем образе самая удачная деталь.
– Ладно, – невозмутимо кивнула девочка. – Будет вам бант.
День пролетел незаметно, хотя вместил в себя множество событий, начиная с Кристининой шарлотки и заканчивая отличной вечеринкой у Клауса, о которой Данута, приглашенная еще неделю назад, напрочь забыла, но вдохновленная телефонным напоминанием, собралась и поехала, не раздумывая. «Не раздумывая» – это вообще был девиз дня. Гнала из головы не только мысли, но и любые попытки их породить. Как ни странно, более-менее получалось; впрочем, после нескольких бокалов просекко дело пошло значительно веселей.
Домой вернулась за полночь, усталая и ужасно довольная – вспомнить бы еще, чем. Ай, ну да, – подумала Данута, натягивая на себя одеяло. – У меня же назначено свидание. Красавчик с бантом в синем крайслере и этот наш смешной договор…
Додумать, впрочем, не успела. Уснула как убитая – так в подобных случаях говорят.
Данута спала, и ей снилось, что на улице Оланду, буквально под самым ее окном остановился автомобиль, крайслер круизер, так называемое «Лондонское такси» глубокого темно-синего цвета. Наяву Дануте очень нравилась эта модель, сама бы от такого не отказалась. Но сейчас, во сне, автомобиль выглядел довольно угрожающе.
Впрочем, угрожающе он выглядел только в самый первый момент. Потом из синего крайслера вышел водитель, высокий мужчина в летнем льняном костюме и призывно помахал ей рукой. Красавец или нет, из окна не видно, но на его макушке красовался пышный малиновый бант. Ее ночной кошмар был взволнован, собран и исполнен несгибаемого намерения смешить ее всю ночь, без перерыва, как раньше пугал – Данута знала это совершенно точно, как если бы у них была одна голова на двоих.
Улица Онос Шимайтес (Onos Šimaitės g.) Море по колено
– Как пройти к морю?
Почему именно к морю, сам толком не знал. Может, потому, что родился у моря, но прожил там совсем недолго и ничего об этом не помнил, когда отца перевели в Москву, ему даже двух не исполнилось. Потом, конечно, ежегодно ездили к морю в отпуск, и было отлично, но ни по этим летним поездкам, ни по детству в целом, он вроде бы не особо скучал.
Однако это была его любимая игра – приехать в незнакомый город, все равно какой, лишь бы не приморский, и спрашивать там прохожих: «Как пройти к морю?» Дурацкая шутка, но какой же прекрасный иногда получался эффект.
Спрашивать прохожих о море, которого нет, придумал очень давно, на первом, кажется, курсе; впрочем, тогда выходило не особенно смешно. Прохожие в лучшем случае раздраженно пожимали плечами и шли дальше, а некоторые ругались, как-то неожиданно, несоразмерно обстоятельствам зло. Ничего не поделать, пока ты выглядишь, как подросток, тебя не принимают всерьез.
Зато вопрос про море оказался отличным способом знакомиться с девчонками-ровесницами, но это была уже совсем другая игра.
Кстати, с будущей – то есть теперь уже бывшей – женой тоже именно так познакомился, вышел наперерез, спросил про море, и она не смогла устоять. После семи лет почти еженедельных поездок друг к другу, детских ссор на пустом месте и пылких примирений, они поженились; почти сразу выяснилось, зря. Жить вместе оказалось совсем не так увлекательно, как об этом мечтать. В ссорах жена часто в сердцах говорила: «Сама виновата, что с тобой связалась, сразу могла бы понять, что про море в Казани может спросить только последний дурак».
Вот за это ей, кстати, большое спасибо, а то бы, может, и не вспомнил, что была у него когда-то такая прекрасная игра.
После тридцати наконец-то начал выглядеть на свои годы. Прежде не особо помогала даже отпущенная для солидности борода, и вдруг как-то внезапно во всех окружающих зеркалах обнаружился взрослый, серьезный дядька, с виду вполне заслуживающий доверия, сам бы такого с первого взгляда зауважал.
Осенью, как раз вскоре после развода, его послали в командировку в Челябинск, и там было так скучно и непривычно без постоянных нервных звонков жены, что однажды вечером вопрос про море сорвался с языка как бы сам. Пожилая женщина, к которой он обратился, остановилась, растерянно моргнула и беспомощно уставилась на его солидный костюм. «Не может такой человек быть сумасшедшим! Наверное, я что-то неправильно поняла», – было написано на ее лице. Не стал мучить тетку дополнительными расспросами, извинился и пошел своим путем. Но эффект запомнил. И с тех пор не отказывал себе в удовольствии остановить на улице какого-нибудь прохожего, одарить серьезным вдумчивым взглядом абсолютно нормального, заслуживающего доверия взрослого человека и вежливо спросить: «Извините пожалуйста, как пройти к морю?» Больше можно ничего не говорить и не делать, только стоять и смотреть.
Особенно любил так развлекаться в путешествиях. Ездил много: дважды в год ему полагался отпуск, а в остальное время обычно удавалось договориться, прибавить отгул к выходным и умотать куда-нибудь на три дня. Ради этих поездок, собственно, и работал как проклятый все остальное время, а то бы давным-давно бросил все к чертям.
Заграничные прохожие в ответ на вопрос прилично одетого иностранца о море обычно не зависали в состоянии когнитивного диссонанса, а сочувственно улыбались – эй, мужик, ты перед поездкой на карту смотрел? Некоторые начинали всерьез объяснять, где продаются билеты на самолеты, поезда и автобусы, но случались и замечательные сюрпризы: в Берлине его потащили с собой в отличный клуб, в Праге прямо на улице угостили марихуаной, в Кракове нелепый диалог о море неожиданно перерос в короткий, но очень счастливый роман, а в Гранаде толстая смуглая старуха сняла с пальца кольцо и надела ему на мизинец, бормоча: «Амулето, синьор». Хотел отказаться от подарка, но смог его снять только в гостинице, с мылом; кольцо оказалось серебряным с красивым прозрачным камнем, голубым, как морская вода. Носить его не носил, конечно, кольцо было явно женское, но неизменно таскал с собой, все-таки «амулето», даже из кармана в карман не забывал перекладывать, а ведь сколько раз деньги и документы вместе со штанами стирал.
Иногда ездил к настоящему морю, вернее, к разным морям. Жарился на пляже, добросовестно проплывал несколько километров, с аппетитом ел в прибрежных ресторанах рыбу, мидий, кальмаров – что дадут. Оставался доволен, но вместо того, чтобы вернуться при первой возможности, снова ехал куда-нибудь в Мюнхен или Рим, где можно часами бродить среди каменных стен, то и дело озадачивая прохожих своим дурацким вопросом; в глубине души сам понимал, что разговоры с незнакомцами о несуществующем, несбыточном море нравятся ему гораздо больше, чем оно само.
В Вильнюс приехал не ради удовольствия, а по делам, самому бы в голову не пришло тратить на него время; как большинство москвичей, снисходительно думал: «Что может быть интересного в столице бывшей советской республики?» Потом, конечно, сам над собой смеялся: надо же, какой болван.
Дел было всего на полдня, но увиденного с утра из окна переговорной на восемнадцатом этаже оказалось достаточно, чтобы поменять билет и продлить гостиницу до конца выходных.
Поскольку планировал улететь домой тем же вечером, не взял с собой сменной одежды и обуви, а ходить три дня в одном и том же деловом костюме в самый разгар лета было немыслимо, поэтому пришлось отправиться по магазинам. Выбирать было лень, взял практически первые попавшиеся джинсы и пару футболок; вроде бы нормально сидели, но из зеркала примерочной на него почему-то смотрел не хорошо знакомый взрослый человек, а длинный тощий подросток. Махнул рукой – ай, ладно, сойдет – и пошел выбирать кроссовки, сменная обувь нужнее всего.
Когда вышел из гостиницы во всем абсолютно новом, включая белье, чувствовал себя немного странно, как замаскированный инопланетянин, благополучно прибывший на Землю, но в последний момент забывший зачем. Впрочем, ответ на этот вопрос есть у всякого опытного путешественника: в любой непонятной ситуации иди разведывать местную кухню и выпивку, остальное подождет. Наразведывался, надо сказать, до полного изумления, до счастливого эйфорического непонимания, кто он такой, где, черт побери, оказался, и почему вокруг все такое прекрасное? Очень это состояние любил, ради него, по большей части, и путешествовал, но каждый раз заново ему удивлялся: вот так сюрприз!
Об игре в вопросы про море в первый вечер даже не вспомнил, и без нее хорошо. Сны, приснившиеся ему в гостинице, можно было оптом продать «Диснею», или кто сейчас специализируется на добром детском кино. С утра безуспешно пытался вернуть себе скептический настрой, строго выговаривал умиленному внутреннему идиоту: «Успокойся, город как город, таких – полвосточной Европы. Ты что, слаще морковки в жизни ничего не видел?» Идиот блаженно мычал: «Слаще такой морковки – ничего». Плюнул и разрешил себе оставаться счастливым. И оставался – до самого вечера, когда не то чтобы по-настоящему заскучал, скорее просто устал от впечатлений, еды и пива и немного растерялся: так, а что теперь?
Ну как, что. Теперь – поиграть.
Никогда специально не выбирал, к кому из прохожих обратиться с вопросом про море. Наоборот, строго следил за тем, чтобы не выбирать. В этом смысле ему повезло со зрением: стоит посмотреть поверх очков, и вместо четкой окружающей действительности вокруг сплошной импрессионизм. А когда все-таки успевал кого-то приметить, обычно хорошенькую девушку, нарочно, себе назло обращался к кому-то другому, потому что игра есть игра, в ней все должно быть наугад, иначе неинтересно. Вернее, интересно, но совсем другим интересом, корыстным, а это не то.
Вот и на этот раз залюбовался длинными ногами неторопливо бредущей навстречу юной русалки, открыл было рот, но тут же опомнился, сдвинул очки пониже, развернулся на сто восемьдесят градусов и спросил по-английски у ближайшего цветного пятна:
– Извините, пожалуйста, не подскажете, как пройти к морю?
И поспешно вернул очки на положенное им место, чтоб увидеть, как от его дурацкого вопроса изменится лицо прохожего, точнее, как оказалось, прохожей, белокурой, коротко стриженной женщины примерно его возраста.
Однако оно не изменилось.
– Подскажу, – невозмутимо кивнула женщина. – Только объяснить на словах будет трудно, запутаетесь. Это довольно далеко. А знаете что? Давайте я вас провожу, мне все равно по дороге… почти по дороге, но в такую прекрасную погоду одно удовольствие сделать небольшой крюк.
Любитель наблюдать, как вытягиваются чужие лица и распахиваются глаза, он сейчас очень жалел, что не видит себя со стороны. Подумал с веселым злорадством: «Так тебе и надо! Нарвался. Даже интересно, куда она меня приведет. Наверняка это «Море» – какой-нибудь ресторан. Или кафе, или бар, или просто магазин спорттоваров. Но все равно интересно. Пусть».
А вслух вежливо сказал:
– Очень любезно с вашей стороны. Спасибо.
– Да пока не за что, – ответила белокурая женщина. – Я вас еще никуда не привела.
Это она сказала по-русски. Надо же, был уверен, что давно избавился от акцента, а она сразу его раскусила. Дама-супершпион.
Некоторое время они шли молча и как-то очень обыденно, словно женщина обещала показать ему ближайшую автобусную остановку или стоянку такси. Наконец, она спросила:
– Вы здесь впервые? Недавно приехали?
Кивнул:
– Вчера.
– Вы очень везучий, – улыбнулась она. – Ну или наоборот, это с какой стороны посмотреть. Но приехать в незнакомый город и случайно обратиться с вопросом к профессиональному экскурсоводу – это, конечно, надо уметь. Сейчас сорвусь с цепи и начну трещать без умолку, что в этом доме не раз останавливался Бродский, а вон в том баре иногда выпивают наши городские духи…
– Кто?!
– Духи местности, – флегматично повторила она. – Genius loci. Точнее, «гении», множественное число. Но когда они там сидят, окна сияют зеленым, а сейчас свет самый обычный – значит их нет.
Рассмеялся – не столько потому, что шутка была смешной, сколько просто от удивления.
– Будьте осторожней! – серьезно сказала женщина. – Наши духи, насколько я знаю, совсем не против, чтобы люди смеялись при их упоминании, но в других городах с таким отношением запросто можете влипнуть в неприятности. А то и вовсе пропасть.
Он ничего не ответил, только восхищенно покачал головой.
– Это улица Швенто Игното, – сказала его спутница, увлекая его за собой в узкий темный переулок. – Названная, как легко догадаться, в честь Святого Игнатия Лойолы, вернее, в честь костела Святого Игнатия, который стоит в начале улицы Святого Игнатия… в доме, который построил Джек. Но я сейчас не на работе, поэтому про этот костел, а также монастырь бенедиктинок, дом боярина Кесгайлы и прочие местные достопримечательности слова вам не скажу. И со здешним призраком не познакомлю, потому что он сам не покажется. Предпочитает одиноких прохожих, а мы вдвоем.
– Призрак?!
– А чему вы удивляетесь? В этом городе призраков больше, чем живых людей… Ладно, завралась, извините. На самом деле, конечно, гораздо меньше, да и те редко показываются. Не больно-то им охота с нами дело иметь. Но призрак улицы Святого Игнатия общителен и очень человеколюбив. Его призвание – приносить живым извинения от имени их уже мертвых обидчиков, которые сами рады бы, да не могут. И всех, таким образом, утешать. Впрочем, нам с вами сейчас не до утешений. Мы идем к морю, и к черту другие дела. А кстати, почему именно к морю? Я имею в виду, зачем вам оно? Вы возле моря выросли, а потом уехали навсегда? Или впервые увидели его в юности и влюбились всем сердцем, но не смогли остаться там жить? Впрочем, не хотите, не отвечайте. Я любопытная, но не обидчивая. И к чужим секретам отношусь с пониманием. Вполне может быть, у вас с морем свои, совершенно не касающиеся меня дела.
Белокурая женщина так бойко тараторила, что он не успел бы вставить ни слова, даже если бы знал, что сказать. Но наконец умолкла и адресовала ему вопросительный взгляд.
Ответил:
– Я правда родился у моря. У Черного, в Севастополе. Но мне и двух лет не исполнилось, когда меня оттуда увезли, не о чем вспоминать… А призрак – слушайте, вы это серьезно?! Есть такая городская легенда, что тем, чьи обидчики умерли, не извинившись, за утешением надо приходить сюда?
– Ну что вы, нет никакой городской легенды. Никто специально сюда не ходит. Но иногда приходят случайно, и тогда все отлично получается. Призрак улицы Святого Игнатия – большой молодец. А теперь давайте снова вспомним, что я не на работе и дружно возрадуемся: я не стану подробно рассказывать вам о стекольной мануфактуре, основанной по привилегии короля Сигизмунда Августа, хотя мы идем по улице Стиклю, названной в честь тех самых стекольщиков, у них здесь было гнездо. Вместо этого я быстро-быстро проведу вас по этой улице, с настоятельной рекомендацией непременно вернуться в светлое время суток, она очень красивая. Вы, кстати, сладкое любите?
– Не особенно.
– Отлично! Значит, можно не расписывать, какие расчудесные финики-марципаны продаются вон в той кулинарии. И не объяснять, как добраться сюда завтра днем из вашей гостиницы.
– Да ладно вам, – невольно улыбнулся он. – Что я, улицу на карте не найду? Тем более, я здесь уже, кажется, дважды был, если ничего не путаю. Все-таки в темноте улицы выглядят совершенно иначе.
– Это правда, – кивнула она. – В темноте они иногда даже возвращают себе старые имена, а из окон выглядывают люди, жившие в этих домах двести лет назад; впрочем, на их счет не беспокойтесь, им нет дела до нас, им бы с собственными тенями разобраться… Зато днем в этом районе часто можно встретить Нарядную Даму. Если она просто пройдет мимо, не обращайте внимания; можете дать ей монетку, но это не обязательно, в смысле ей будет приятно, а для вас ничего не изменит. Но если она перейдет вам дорогу, как черная кошка, надо быстро сказать вслух: «Я тебя люблю», – на каком-нибудь иностранном языке, чтобы она не разобрала; впрочем, это несложно, главное – не по-русски и не по-литовски, наша Нарядная Дама совсем не полиглот. Если все сделаете правильно, будете потом очень удачливы в любви. А если нет – ну, извините. В самом лучшем случае «все как у людей»…
– Что за Нарядная Дама? Как ее узнать?
– Сами сразу поймете, если ее увидите. Такую ни с кем не перепутаешь: как будто обчистила театральную костюмерную и с тех пор так и ходит, надев на себя всю добычу, потому что ее некуда сложить. А теперь – внимание! – выходим на Ратушную площадь. Когда-то тут был своего рода городской культурный центр: рынок, позорный столб, виселица; кстати, фонари до сих пор иногда отбрасывают ее тень, но это мало кто замечает, в основном, дети и чокнутые любители истории вроде меня. Нынче на Ратушной площади никаких развлечений, зато на Рождество здесь всегда ставят елку, а теплыми летними ночами, вроде сегодняшней, устраивают отличные ярмарки. Вернее, ночные ярмарки просто мерещатся, зато практически всем подряд и настолько качественно, что некоторым удается донести до дома купленный там леденец.
– Ярмарки? Мерещатся по ночам?
– Совершенно верно. Но, к сожалению, не каждый день. Сегодня, как видите, пусто. Попробуйте прийти сюда завтра после полуночи. Ничего не обещаю, гарантий в таком деле, сами понимаете, быть не может, но вдруг повезет.
Шли дальше, то и дело сворачивали в переулки, ныряли в проходные дворы. Ему казалось, они кружат на одном месте, почти не удаляясь от Ратушной площади, пару раз порывался об этом спросить, но не стал перебивать спутницу, которая рассказывала такие интересные вещи, хоть диктофон украдкой включай. Но не включил, конечно, хотя был уверен, что завтра не вспомнит и четверти, а что вспомнит, сочтет ерундой, старыми детскими сказками, наскоро перекроенными на новый лад. Заранее об этом жалел, быть очарованным дураком ему нравилось больше, чем влюбленным и пьяным, больше, чем вообще все.
Рассказчица так его заболтала, что шел за ней почти как во сне, то и дело спотыкаясь о камни и расставленные во дворах цветочные горшки. Глаза слипались, хотя вроде было еще не поздно, стемнело совсем недавно… или давно? Хороший вопрос.
Поэтому сам не заметил, как наступил в лужу, вернее, сперва подумал, что в лужу, спохватился, отпрыгнул, за ним с веселым шипением последовала волна.
Сонливость, конечно, сразу как рукой сняло от холода в промокших ногах. Моргнул, огляделся и увидел, что стоит не в темном дворе, а на пустынном пляже, вокруг только песок, обломки ракушек, оплетенная водорослями табличка с надписью «Onos Šimaitės g.» среди прибрежных камней, и море до самого горизонта, и мигают далекие огоньки, один – совершенно точно маяк, остальные – да бог их знает. Просто где-то зачем-то горят. А волны лижут его новые, только вчера купленные кроссовки, самое время их снять, отбросить подальше, закатать штаны и войти в море хотя бы по колено, даже не вспомнив о спутнице. Да и была ли она?
Улица Палангос (Palangos g.) Например, позавчера
Жилье искал недолго.
Строго говоря, вообще не искал. Взял первую же квартиру из предложенного списка – красивый старый дом горчично-желтого цвета в самом центре города, все положенные удобства, кухня и стиральная машина на месте, белые стены, большие окна, хозяева постоянно живут за границей, оплата через банк. Чего еще желать.
К тому же сдавали квартиру дешево, даже по местным меркам. Красивая девушка-риелтор сказала, здесь очень давно никто не жил.
– Сперва была долгая-долгая тяжба за наследство, – объясняла она, пока ехали в какое-то специальное отделение банка, работающее по субботам, – а потом новые владельцы несколько лет не могли найти жильцов. Хорошая квартира, вы сами только что видели. Не роскошная, но в своей ценовой категории, безусловно, одна из лучших. А клиенты сразу разворачивались и уходили, даже толком не посмотрев. Не нравится, и точка. Почему – бог весть… Что? Над хозяевами тяготело страшное проклятие лишенной наследства родни? Хорошая версия. Но скорее всего, им просто не везло.
Горько ухмыльнулся про себя: «А уж со мной-то как повезло беднягам – подумать страшно. Как ни крути, а свинью я им подложу изрядную».
Но благоразумно промолчал.
В банке перевел на хозяйский счет аванс за два месяца, получил от прекрасной посредницы свой экземпляр договора и связку ключей, забрал вещи из гостиницы, назвал таксисту свой новый адрес: «Улица Палангос», – приехал, поднялся на последний этаж, заперся, перевел дух – все, дело сделано. Чур я в домике.
«В домике» – это означает, что можно отключить телефон, запереться на все три замка, задвинуть щеколду и никому никогда не открывать, даже проверяющим из газовой конторы и улыбчивым распространителям рекламы. Всех к черту.
Это означает, что можно остаться в полном одиночестве.
Один на один с собой.
Затем и уехал, никому не сказавшись. То есть, конечно, предупредил тех немногих условно близких, которые могли бы забить тревогу, но даже им ничего толком не объяснил. Выслушал десяток почти одинаковых восклицаний: «Это безумие!» – и великое множество разумных аргументов против. Всех выслушал, со всеми вежливо согласился, а потом собрал чемодан и уехал. В город, где никогда прежде не бывал и не мечтал побывать, о котором и знал-то сугубо теоретически – есть такой населенный пункт, столица страны Литвы, сравнительно недалеко, виза не нужна – это все. Ну и слависту там, как выяснилось, раздолье, почти все местное население говорит по-русски и по-польски, объясняйся – не хочу, было бы желание. Но это случайное совпадение, на выбор нового места жительства оно не повлияло.
Никакого выбора, собственно, и не делал. Просто ткнул пальцем в карту Европы – безответственно, наугад. Попал не то чтобы прямо в Вильнюс, но он оказался ближайшим к месту соприкосновения ногтя с бумагой большим городом. Селиться в деревне, в любом случае, не хотел, значит, и думать нечего, Вильнюс так Вильнюс. Да какая разница.
План был такой: никого не видеть, ничего не слышать, ни с кем ни о чем не говорить. Даже не переписываться. Из дома выходить только в случаях крайней необходимости. Остаться наедине с собой и посмотреть, что будет. Скорее всего, ничего особенного. Но попробовать-то можно. Вернее, нельзя не попробовать. Потому что время внезапно перешло в наступление, и победа его стала теперь вопросом – вот именно, всего лишь времени. Будь оно проклято. Будь оно благословенно – все, оставшееся мне.
За последний год прочитал добрую сотню книжек о смерти – страшных и утешительных, умных и глупых, мистических, философских и научно-популярных. В подавляющем большинстве случаев авторы отчаянно противоречили друг другу, не оставляя дотошному читателю ни малейшей возможности выбрать что-нибудь наиболее приемлемое и на этом успокоиться. Твердо уяснил только одно: умирая, человек остается наедине с собой. И решил выяснить – с кем именно предстоит остаться наедине? И хорошо бы, если получится, заранее привыкнуть к его – своему – обществу. Откладывать в любом случае больше некуда; если по уму, начать следовало гораздо раньше. Ну да чего уж теперь локти кусать.
Заперся-то заперся, но вечером того же дня пришлось выйти на улицу. В съемной квартире не оказалось посуды – вообще никакой, только гнутые алюминиевые вилки и одинокая десертная ложка в пыльном кухонном ящике. Даже для самой аскетической жизни явно недостаточно.
Купил электрический чайник, две чашки, несколько разнокалиберных тарелок – про запас. Заодно чай, сахар, хлеб, молоко и маленькую кастрюльку, чтобы его греть. Укладывая покупки в пакет, чуть не заплакал. Думать, что новая посуда переживет своего владельца, оказалось мучительно. Удивительное дело, здоровым людям, которым предстояло прожить еще много лет, совершенно не завидовал. А дурацким плошкам – почти до слез. Как будто именно их способ бытия таил в себе какие-то немыслимые сладостные, но теперь навек утраченные возможности.
Смешно.
По дороге из магазина вдруг вспомнил, как в студенческие времена, когда денег на вино вечно было меньше, чем готовности захмелеть от чего угодно, зато времени впереди гораздо больше, чем удавалось вообразить, кто-то из компании вдруг задался вопросом – что бы вы стали делать, если бы совершенно точно узнали, что жить осталось всего год? Большинство предсказуемо выбрало путешествия и непрерывный секс, но были и более оригинальные варианты – срочно написать роман, научиться летать на параплане, перепробовать все психотропные средства, какие удастся добыть, отправиться в Индию и быстренько получить там просветление, проваляться весь год на каком-нибудь пляже, забив на все. А кто-то из девушек – то ли Моника, то ли Анна, сейчас уже не вспомнить – сказала, что постаралась бы срочно родить ребенка – для мамы, чтобы не оставлять ее совсем одну. Бывают и такие благородные сердца.
Подумал: «И ведь никому не пришло тогда в голову сказать: «Отправлюсь покупать чайник и кастрюлю». Почему-то правдой вечно оказываются такие простые и одновременно абсурдные факты – никакой фантазии не хватит их предвосхитить».
Лег спать в субботу первого сентября. И проснулся тоже в субботу. Четырнадцатого июля.
Вполне мог бы не заметить неувязку, если бы не соседский телевизор, оравший за стеной по-русски о взятии Бастилии – да с таким энтузиазмом, словно хотел подбить телезрителей на новый штурм далекой парижской крепости. Удивился – с чего вдруг вспомнили? Что за повод?
Был благодушен, потому что хорошо выспался и вообще чувствовал себя много лучше, чем привык в последнее время. Подумал: «Праздное любопытство – роскошь в моем положении. С другой стороны, именно в моем положении следует позволять себе любую роскошь». И включил компьютер, чтобы почитать новости. Озадаченно уставился на дату с нижнем углу: 2012.07.14. Господи твоя воля. Это как же понимать?
Как, как. Обычный сбой программы, нашел чему удивляться.
Однако новости были переполнены поучительными сведениями о взятии этой чертовой Бастилии, случившемся якобы ровно двести двадцать три года назад. Кроме этого, по уверениям всезнающего интернета, в Кёльне начинался ежегодный праздник фейерверков[27], в Венеции – первый день Festa del Redentore[28], а в Мадагаскарском городе Махадзанга проходила ежегодная церемония омовения реликвий королей Буйна[29]. Все эти события имели наглость датироваться четырнадцатым июля, а вовсе не вторым сентября.
Пробормотал: «Ничего не понимаю». Прозрачное отражение в стекле древнего буфета таращилось на происходящее с идиотской улыбкой. Душа ликовала, не дожидаясь команды растерянного разума. Оно и правильно, ничего путного тот все равно не присоветует. Скорее всего, больше никогда.
В этот момент звякнул телефон – время принимать лекарства. На всякий случай проверил дату и там. Четырнадцатое июля, точка. Почему-то рассмеялся.
Подумал: «Я сошел с ума».
Подумал: «It finally happened»[30], – и невольно улыбнулся цитате.
Подумал: «В моем положении это, пожалуй, следует считать удачей».
Подумал: «Стоп. А ну-ка. Какого числа у нас заключен договор аренды?»
Хороший вопрос.
Достал из шкафа документы, подписанные первым сентября две тысячи двенадцатого года. Та же дата стояла на банковской квитанции о переводе. Это, совершенно верно, было вчера. Хотя, если верить календарям, произойдет только полтора месяца спустя. Ну и дела.
Подумал: «Выходит, я живу тут нелегально? Вот это номер. Какое счастье, что хозяева за границей. А соседям, надеюсь, все равно».
Подумал: «Четырнадцатого июля я вообще-то был в больнице. Получается, я вот прямо сейчас там лежу? И это у меня такие галлюцинации? Вообще-то можно было бы подобрать что-то более экзотическое – да вот хотя бы участие в церемонии омовения королевских реликвий. Впрочем, и так неплохо».
Подумал: «Теоретически можно позвонить в больницу и проверить, лежу ли я там. Вот будет номер, если меня тут же позовут к телефону».
Подумал: «Ну уж нет. Никаких расследований. Желаю спокойно галлюцинировать дальше. Без потрясений и тревог. Имею полное право».
Подумал: «Надо бы выйти, посмотреть, какое число творится на улице. И что там вообще происходит. Вдруг для меня припасен какой-нибудь особо приятный бред. А я сижу дома, как дурак».
По лестнице бежал вприпрыжку. Вышел из подъезда на улицу Палангос, повертел головой по сторонам: куда теперь?
Свернул направо.
В первом же киоске купил газету на русском языке. Номер был датирован двенадцатым июля. Что вполне логично, поскольку газета оказалась не ежедневной, а еженедельной. Тогда зачем-то купил еще одну, литовскую – ни слова не понятно, зато точно сегодняшняя. То есть за четырнадцатое июля. На фоне последних событий слово «сегодняшняя» звучало как форменное издевательство, но почему-то все равно успокаивало.
На всякий случай спросил у очень юной толстой барышни с дредами, рассевшейся прямо на тротуаре:
– Какое сегодня число?
– Четырнадцатое, – флегматично ответила она, совершенно не удивившись вопросу. И сладко, с хрустом зевнула, не прикрыв рот. В языке сверкнула бирюзовая сережка в форме цветка незабудки.
Подумал: «Как во сне. Вроде бы ничего особенного не происходит, но при этом все отчетливо странно: девушка с голубым цветком во рту, газета на непонятном языке, омовение реликвий королей Буйна, четырнадцатое июля наступает сразу после первого сентября. Хороший, добротно сработанный, совершенно не страшный сон. Пусть продолжается, раз так».
Как во сне было и потом, до самого позднего вечера. Вроде бы просто умеренно жаркий летний день в небольшом городе, почти опустевшем по случаю выходных, но путаница с датами придавала особый смысл всякому пустяковому событию, случайному жесту, на ветер брошенному слову.
«Пошло дело!» – сообщал своему спутнику крепкий седой мужчина, и сердце не только пело, но и натурально плясало от его оптимизма.
«Оставайся тут», – строго говорила по телефону высокая женщина, и невольно кивал, соглашаясь – конечно, останусь, куда я теперь от вас.
«У тебя есть время!» – громко кричал рыжий мальчишка кому-то на другой стороне улицы, и поди не прими это на свой счет сейчас, когда снова стало казаться, будто время действительно есть. Целых полтора лишних месяца последнего лета.
Какая немыслимая роскошь.
Когда вернулся домой, осознал, что так толком и не разглядел город. Не понял даже, какой он – красивый или нет. Много ли старинных зданий? Наверное, много, но это – предположение, а не воспоминание. Вообще почти ничего не запомнил, кроме лабиринтов уличных кафе, бесчисленных цветочных клумб и разноязыкого говора. И еще седобородого старика, певшего на пешеходной улице русский романс, не то путая, не то сознательно переделывая слова на свой лад: «Очи черные, очи страстные, очи красные и прекрасные». И другого старика с банкой черники, то и дело бросающего ягоды через плечо, словно кто-то невидимый вот прямо сейчас уводит его в дремучий лес, и надо отмечать дорогу, чтобы вернуться. И двух монахов в светло-серых одеяниях, крутивших скакалку, через которую прыгала маленькая девочка в белом платье. И мужчину в шортах, чей голый торс был выкрашен в зеленый цвет, а на круглом животе каким-то чудом держалось большое красное перо. И другого мужчину – сутулого, со скорбно поджатыми губами, в наглухо застегнутом черном костюме, из кармана которого раздавался громкий, заливистый хохот. И двух пожилых дам с непроницаемо строгими лицами – эти, усевшись прямо на краю тротуара, старательно выдували мыльные пузыри из специальных маленьких флаконов и внимательно следили за их полетом.
Укладываясь в постель, подумал: «Это была отличная галлюцинация. Вот бы и дальше в том же духе».
А больше ничего не успел подумать. Так устал от ходьбы и впечатлений, что заснул прежде, чем голова коснулась подушки.
Лег спать в субботу четырнадцатого июля. Логично было бы проснуться, например, в воскресенье пятнадцатого. Или в пятницу тринадцатого, вышел бы красивый обратный отсчет. Или все-таки второго сентября – тогда пришлось бы признать, что весь этот длинный летний день действительно просто приснился.
Проснулся однако пятого июня, во вторник.
Открыв глаза, тут же схватил телефон – смотреть дату.
Пробормотал: «Вообще не в какие ворота». И рассмеялся от счастья. Пятое июня, подумать только. Все лето впереди. Целое лето! Спасибо, спасибо.
А потом понял, что зверски проголодался. И это было даже более удивительно, чем взбесившиеся календари.
Подумал: «Надо было вчера купить в дом хоть какую-то еду».
Подумал: «О да, купить в июле, а съесть в июне – смелый эксперимент».
Подумал: «Нет, а действительно, что будет, если съесть, к примеру, яйцо, которое курица снесет только через неделю? Или творог, приготовленный месяц спустя? Впрочем, у меня же есть хлеб, который испекут аж в сентябре. Вот сейчас и проверим».
Сентябрьский хлеб то ли вопреки здравому смыслу, то ли, напротив, в полном соответствии с ним, к началу июня успел немного зачерстветь. Но с горячим сладким чаем пошел на ура. Тщательно прожевывая его, думал: «Вот, оказывается, каков вкус здешнего времени. Оно тут темное, ржаное, с тмином, а как обстоят дела в других краях, меня уже вряд ли касается».
Однако, как выяснилось, временем особо не наешься, так что пришлось идти завтракать в кафе. Благо их тут было видимо-невидимо, даже непонятно, зачем столько, если все горожане разъехались на каникулы, да и туристов не то чтобы толпы. Мягко говоря.
Думал: «Ну и дураки, что не ездят сюда. Такой прекрасный город и такой пустой».
Думал: «Ничего, мне больше достанется. Мне как раз сейчас надо – все и сразу. У меня теперь есть аппетит».
Съел за завтраком столько, что почти испугался – вдруг с отвычки станет плохо.
Но плохо не стало. Напротив, стало совсем хорошо.
После пятого июня внезапно наступило двадцать второе августа. Немного встревожился – как же так? Это мое, мое лето, отдайте, куда уволокли? Но проснувшись на следующий день, седьмого июля, понял, что порядок дат не имеет никакого значения. Они тут, похоже, просто для красоты. Ну, потому что всегда должно быть какое-нибудь число. Все равно какое. Второе июня, пятнадцатое июля, тринадцатое августа, восемнадцатое августа, двадцать первое июня и так далее.
Но ни одного майского дня и ни одного сентябрьского, о прочих и речи не шло, только летние. Много прекрасных летних дней, солнечных и дождливых, прохладных больше, чем жарких, и это к лучшему, жара здесь переносилась тяжело, воздух из-за влажности становился почти тропическим, а по ночам на центральном проспекте остро пахло горячей полынью и гниющими водорослями, хотя до ближайшего моря больше трехсот километров, да и то – Балтийское, северное, подобных ароматов от него, по идее, не дождешься.
Думал: «Интересно, что будет, когда я проживу все девяносто два дня? В том порядке, в котором они мне достаются, но – все до единого. Все-таки осень?»
Но когда восьмое июля наступило второй раз и по городу снова пошли торжественным маршем детские духовые оркестры – мальчики, девочки, оттопыренные уши, тонкие ножки, яркие цвета, ритм, ослепительный блеск меди, торжество всего самого недолговечного, звука, цвета, дыхания, радости, многообещающей незавершенности форм – начал понимать, что все не так просто. И времени впереди, возможно, гораздо больше, чем три летних месяца.
Господи, немыслимо. Невероятный подарок. Только бы не вспугнуть.
Потом стали понемногу повторяться и другие даты. Шестое августа поставило рекорд, наступив трижды в течение одной недели. Все три раза по вечерам разражалась совершенно ослепительная, небывалая гроза. Гром уставал грохотать первым и умолкал, потом стихал ветер, прекращался дождь, и только молнии все сверкали и сверкали – почти ежесекундно. Постепенно они утрачивали форму и, строго говоря, переставали быть молниями. Просто темно-сизое небо со светлыми облаками примерно раз в две секунды становилось белым, а облака темно-сизыми – негатив. В эти моменты окружающий мир настолько явственно казался другой планетой, что потом, задним числом, всякий раз удивлялся, что воздух по-прежнему подходил для дыхания.
Но он определенно подходил.
В какой-то момент спохватился: наверное, надо бы отмечать, сколько раз случился каждый из дней. И в каком порядке. Возможно, когда-нибудь впоследствии это поможет понять… Вот интересно, что именно? И зачем?
Неважно. Что-то зачем-нибудь понять.
Тогда еще было не слишком поздно, при желании вполне мог хотя бы приблизительно восстановить причудливый график дат. Но так и не решился, из каких-то дремучих, не поддающихся формулировке опасений.
Подумал: «Надо же, какой я стал суеверный».
С другой стороны, а кто бы не стал.
Самым удивительным казалась даже не вся эта календарная свистопляска, а собственное отношение к ней. Легкость, с которой принял происходящее. И готовность к любой интерпретации событий – сон так сон, бред так бред, явь так явь, лишь бы было. Часто думал: «Ладно, предположим, я вообще уже умер, и вся эта катавасия – просто последний взбрык распадающегося сознания. И что с того? Какая разница, как оно на самом деле, если я ощущаю себя таким живым, как никогда прежде. Кроме ощущений все равно ни у кого ничего нет».
«Какая разница, как на самом деле» – это был совершенно новый, революционный подход, прежде совершенно немыслимый. Никак от себя не ожидал. Думал: «Видимо, штука в том, что мне совершенно нечего терять. По-настоящему нечего, а не потому что прочитал о такой концепции в книжке».
Иногда думал: «Почему такой царский подарок – именно мне?»
Думал: «Нет, правда, интересно, как выигрывают в подобных лотереях?»
Думал: «У меня нет важной работы, дела всей жизни, которое непременно надо закончить. Я определенно не Яромир Хладик[31], не художник, не творец, и не стану таковым даже вечность спустя».
Думал: «Я не какой-нибудь святой, чьими молитвами держится мир, не алчущий просветления буддист, не наивный праведник и не философ-мистик. Господи, да я йогой по выходным отродясь не занимался, к исповеди ни разу не ходил и гороскопов не читал. И даже заболев, не начал молиться о чуде – не то чтобы из принципа, просто в голову не пришло. По идее, скептикам вроде меня чудес не полагается даже во сне. Это просто несправедливо по отношению к жаждущей их аудитории».
Думал: «По большому счету, все, что у меня есть – это любовь к жизни. Но у кого из умирающих ее нет».
Думал: «Скорее всего, это просто случайность. Чудо могло произойти с кем угодно, я просто кстати подвернулся под руку. Как говорится, ничего личного».
Такой вывод почему-то казался не обидным, а радостным. Мир, где чудеса случаются с кем попало, просто так, от избытка, казался замечательным местом. Ну, или самой прекрасной галлюцинацией на свете. Впору пожать руку собственному сознанию, оказавшемуся способным ее породить. Или вместить – если все-таки эта странная жизнь происходит взаправду. Что бы это слово ни значило.
Однажды встревожился: а что случится, если, скажем, второго двадцатого июня две тысячи двенадцатого года я прогуляюсь по тем же самым местам, где уже ходил первого двадцатого июня? Неужели встречу там самого себя? И как тогда быть?
Опасение, впрочем, быстро сменилось любопытством: а действительно, что случится? Во многих культурных традициях считается, будто встреча с собственным двойником – предвестие скорой смерти. Ха, тоже мне новость. Можно начинать смеяться.
Думал: «Встретившись в городе, мы можем вместе вернуться домой. И поутру проснуться тут – вдвоем, в одной квартире, в один момент так кстати взбесившегося времени. Воистину отличное начало прекрасной дружбы[32]. Или захватывающее развитие прекрасной шизофрении, кому что больше нравится».
Думал: «Могло бы получиться неплохо. По крайней мере, полное взаимопонимание нам гарантировано».
Думал: «Интересно, а куда мы, в случае чего, денем третьего? Если вдруг встретим его однажды – когда-нибудь очень нескоро. Например, позавчера».
Думал: «Ой, мамочки».
Думал: «А все равно было бы круто».
Стал целенаправленно повторять уже пройденные маршруты в соответствующие дни – все, что мог вспомнить. Высматривал себя на безлюдных улицах, караулил в любимых кафе и просто у подъезда, предусмотрительно выскочив из дома на полчаса раньше, чем в прошлый раз.
Ничего не вышло. Все неизменно повторялось – погода, люди, автомобили, даже многочисленные городские коты дисциплинированно возлежали на одних и тех же подоконниках. Но сам оказался единственной свободной переменной среди всеобщего постоянства – ходил, где вздумается, делал, что хотел, каждый день, как в первый раз, не оставляя ни следов, ни воспоминаний, ни, тем более, двойников. Что, честно говоря, немного обидно.
Совсем чуть-чуть.
Одному тоже было неплохо.
Думал: «Это, конечно, серьезный аргумент в пользу версии о посмертных видениях. Если так, забавно, что ближе всех к истине оказался простодушный Сведенборг[33]. И какое же счастье, что именно он, а не какой-нибудь мрачный пророк, одержимый идеей ада».
Думал: «А если это все-таки прижизненный бред, будем надеяться, что меня никогда не приведут в чувство. Ничего не хочу менять».
Думал: «Жив или мертв, сплю или бодрствую, но я сейчас счастлив, как никогда прежде. Хожу, дышу, ем, глазею по сторонам, слушаю, обоняю, мокну под дождями, сладко изнемогаю от послеполуденного зноя, восхитительно зябну по ночам – чего мне еще. Со стороны может показаться, что я бездельничаю, на самом же деле занят по горло – живу. И, похоже, впереди у меня еще куча времени, чтобы совершенствоваться в этом непростом искусстве. Вечное виленское лето – мне одному. То ли высокая награда за исключительное безумие, то ли своего рода паек, положенный всем, кто приезжает в этот город умирать. Кто знает. И какая разница».
В один из тех дней, когда тщетно пытался отыскать в почти безлюдном городе себя, встретил Бету.
То есть видел-то ее уже не раз – мельком, краем глаза, боковым зрением, даже не осознавая, что как-то выделил сизоволосую женщину с серой кошкой на руках среди прочих прохожих. Но в тот день, двадцать шестого июля, поздоровался с ней – машинально, как с соседкой, или старой знакомой. Тут же понял ошибку, страшно смутился, но женщина так же машинально кивнула в ответ. Она была занята – гладила кошку и рассказывала ей трагическую историю не прижившегося в Вильнюсе трамвая, вагоны которого в финале распродали по дешевке городским обывателям для хранения сена и овощей. Кошка внимательно слушала, сочувственно взмуркивая в нужных местах.
Потом никак не мог сообразить – какая она была? Красивая или нет? Юная или уже за тридцать? Маленькая, высокая? Вроде довольно худая, но тоже не факт. Помнил только волосы, сизые, как голубиное перо, стоптанные тряпичные туфли, загорелые колени и глаза, темные, как полночь за дровяными сараями на улице Даукшос, куда случайно забрел однажды, исследуя тайную ночную жизнь городских дворов.
С тех пор стал специально их высматривать – женщину и кошку. И, обнаружив, всякий раз радовался так, словно выиграл главный приз в какой-то неведомой лотерее.
Они были в июле.
Точнее, в двадцатых числах июля, когда городом овладел зной, и воздух превратился в тягучую белую пастилу, ароматную, но почти непригодную для дыхания. В эти дни женщина с кошкой, похоже, только и делали что слонялись по улицам, изредка останавливаясь, чтобы подкрепиться. Женщина покупала эспрессо в маленьких картонных стаканчиках, кошка пила воду из фонтанов.
В июне и первой половине июля женщина иногда ходила по Старому городу, но одна, без кошки.
Думал: «Интересно, что потом случилось? Ушла из дома, забрав кошку? Ночует у всех друзей по очереди, а днем зверька просто некуда девать?»
Думал: «Или просто кошку только-только завели? А гуляют вместе, потому что кошка с причудами. Или хозяйка. Или обе».
Думал: «А может, у нее началась аллергия? И кошку пришлось отдать, например, маме. Но бывшая хозяйка тоскует, поэтому иногда устраивает свидания – на открытом воздухе, чтобы легче было переносить кошачью шерсть».
Очень о них тревожился.
В августе не встретил женщину ни разу, как ни искал. Ни с кошкой, ни без кошки. И понял, что почти разлюбил август.
Спрашивал себя: «Да что с тобой творится?»
Что творится со мной? Хороший вопрос.
Настолько хороший, что даже отвечать не обязательно.
В начале лета сизые волосы женщины были, оказывается, ультрамариново-синими; этот яркий цвет шел ей меньше, зато притягивал взгляд. Красива она или нет, так и не разобрался, но смотреть был готов часами. Впрочем, так подолгу она на одном месте не засиживалась, а совсем уж назойливо преследовать незнакомку было глупо. Примет, чего доброго, за маньяка, запомнит, станет избегать, и тогда…
А что, собственно, тогда?
Тогда она не захочет со мной знакомиться.
Знакомиться?! Ого. А ты собираешься? И что, интересно, станешь делать потом? При самом благоприятном раскладе, обаяв ее, вызнав имя и заполучив, предположим, номер телефона – ну что?
Был честен с собой. Говорил себе: «Не знаю».
Потому что и правда не знал.
Утро тридцатого июля выдалось жарким, но после обеда разразилась гроза, дождь лил как из ведра, а небесного грохота хватило бы на озвучку доброй дюжины фильмов о войне. Воздух резко остыл до двадцати с небольшим градусов, дышать им было слаще, чем пить ледяной грушевый сидр после прогулки по раскаленному бульвару – словом, все как всегда. Тридцатые июля случались довольно часто, сейчас наступило не то семнадцатое, не то восемнадцатое по счету, и всякий раз радовался этой грозе как впервые.
Обычно в этот день ходил под дождем – босой, без зонта, с непокрытой головой, наслаждаясь не только долгожданной прохладой, но и полной безнаказанностью: в этом мире чокнутых календарей рухнула большая часть причинно-следственных связей, и простудиться было теоретически возможно – но только на один вечер, а потом наступало очередное утро давно прошедшего дня, где парадоксальной будущей вчерашней простуде не было места.
Но на сей раз решил пересидеть ливень под ярко-желтым тентом кафе – просто для разнообразия. И, уже сделав заказ, увидел за соседним столиком сизоволосую женщину. До сих пор в этот день ее не встречал, а она вон где, оказывается, отсиживается. И почему-то без кошки, хотя самый конец июля, и кошка, по идее, должна быть с хозяйкой. Где же кошка?
– Где же кошка?
Понял, что спросил вслух, и так смутился, что закрыл лицо руками. Но тут же сообразил, что этот нелепый беспомощный жест даже хуже бесцеремонного вопроса, и убрал руки. И увидел, что женщина улыбается.
– Так и знала, что вы в нее влюбились, – сказала она. – Несколько раз шли нам навстречу и тааак смотрели. Я ее теперь дразню: «Это твой поклонник, Бите», – а она делает вид, что ей плевать. Потому что принцесса и гордячка. Но на самом деле очень довольна.
Улыбнулся в ответ. Сказал:
– Извините меня, дурака. Я нечаянно спросил. Само вырвалось.
– Бывает, – кивнула женщина. – А кошка сегодня дома, потому что больше не жарко. Она не то чтобы большая любительница прогулок. Но сидеть в нашей мансарде в жару невозможно. Под раскаленной крышей как в духовке! Именно этого мы с Бите при съеме жилья и не учли. Я ее, бедную, сперва просто поливала из лейки, а сама не вылезала из душа. Но этого оказалось явно недостаточно. Пришлось эвакуироваться и шляться по улицам до позднего вечера. Ну вроде теперь все позади.
Сказал:
– Да, август будет довольно прохладный. – И поспешно добавил: – По прогнозам.
Сказал:
– Я на самом деле так рад, что заговорил с вами.
Сказал:
– Меня зовут Марк. Хотя это, конечно, совершенно неважно.
– Очень даже важно. Должна же я знать имя поклонника моей кошки.
– Осталось выяснить, как зовут вас. Просто для полноты картины.
– Бета. То есть Беата. Но букву «а» я изъяла еще тридцать лет назад. Как только выучилась говорить. По-моему, «Бета» – это больше про меня. «Беата» – какая-то другая девушка. Ласковая блондинка. Белокожая, с нежным персиковым румянцем. Чуть-чуть полнее, чем сейчас модно, но ей это идет. Настоящая польская красавица. А не взъерошенный воробей вроде меня.
Невольно улыбнулся. Загорелая, темноглазая с сизыми от выцветшей краски, мокрыми от дождя волосами она и правда немного походила на воробья.
Сказал:
– Вы определенно самый красивый воробей в этом городе.
– По крайней мере, самый крупный.
– Ннннуууу… Не без того.
Смеялись этой немудреной шутке, как старые друзья, которые так рады встрече, что готовы хохотать по любому поводу – просто чтобы выпустить пар. И еще потому что смеяться вместе – одно из самых больших удовольствий, доступных людям. Это – почти как заниматься любовью.
Или не почти.
От смеха стали как пьяные. Реальность зазвенела, заискрилась, пошла в пляс. Все смешалось. Кто первым решил пересесть поближе? Кто первым нежно коснулся губами чужого уха, сообщая какой-то необязательный секрет? Кто первым ответил на мысленный вопрос, так и не заданный вслух? Теперь уже не вспомнишь. Чтобы перейти на «ты», пили на брудершафт горячий шоколад с перцем и горький тоник без джина. Не помогло, захмелели еще больше, уходя, опрокинули оба стула и слава богу, что не стол. Обнялись – без задней мысли, просто чтобы образовать более-менее устойчивую конструкцию. Так и пошли.
Гуляли по городу до вечера, не могли наговориться. Обо всем на свете, хором, взахлеб. Словно и правда встретились после долгой разлуки и теперь спешили продолжить все давным-давно начатые разговоры сразу.
Но в сумерках Бета спохватилась:
– Господи, у меня же работа! Перевод должен быть отправлен не позже завтрашнего утра. Конь там, конечно, уже повалялся, но это не очень помогло. В смысле, за тем конем еще доделывать и доделывать.
Проводил ее до маленького двухэтажного дома, затерянного в садах на самом краю Ужуписа. И даже поднялся в крошечную мансарду, чтобы поздороваться с серой кошкой, которая тут же улеглась на колени, не желая отпускать. Но полчаса и две чашки чаю спустя все же пришлось прощаться.
– Работа есть работа, – строго сказала Бета, – а дедлайн есть дедлайн. Это – неотменяемо. Зато завтра я буду совершенно свободна – сразу после обеда, как только проснусь.
Договорились встретиться в том же самом кафе в пять часов пополудни тридцать первого июля. То есть завтра – с точки зрения Беты.
Сказал себе в утешение: «Тридцать первое июля – это все-таки лучше, чем никогда».
Гораздо лучше.
Проснулся пятого августа. Потом – двадцать девятого июня. Третьего июня, тридцатого августа, второго июля, шестого августа – уже которая по счету ослепительная гроза – четырнадцатого июня, восьмого, двадцать пятого и так далее. Тридцать первое июля было далеко и одновременно очень близко, оно могло наступить буквально в любой момент. Но все не наступало. Как будто нарочно дразнилось.
Зато было время подумать. И никакого желания это делать. Но все равно пришлось.
Каждый день спрашивал себя: «Что будет с нами потом?»
Сперва вяло огрызался: «Ну как – что? Будет новое свидание первого августа, потом, даст бог, второго, потом третьего. И так далее. С огромными перерывами – для меня. Но для нее – каждый день. Если, конечно, захочет».
Но и сам понимал: настоящее «потом» – это после тридцать первого августа. Что после него?
Что?
Правильный ответ: «Ничего». Утешительное примечание: «Мое «ничего», по всей вероятности, наступит довольно нескоро». Неутешительное примечание: «Зато для Беты «ничего» наступит всего через месяц. И, что самое обидное, она даже не узнает, почему так вышло. Что я исчез не «куда-то», а в «когда-то». Например, в позавчера. Или в полтора месяца назад».
Думал: «И еще интересно, что будет, если она разрешит мне остаться в ее мансарде на всю ночь. Как тебе такой вопрос? Не нравится? Очень не нравится? То-то и оно».
«Не нравится» – это еще слабо сказано. Мысль о возможности переночевать в другом месте вызывала почти неконтролируемую панику. Вдруг – впервые за все время – стал догадываться, что дело, скорее всего, именно в квартире. Что время затянулось причудливым узлом тут, на третьем этаже желтого дома на улице Палангос. Зачарованное место, крошечный Бермудский треугольник местного значения, звучит как бред собачий, но, господи, на фоне всего, что со мной происходит – почему нет?
Думал: «А если все-таки нет, какого черта ты боишься лечь спать в другом доме? Так боишься, что от одной только мысли об этом хочется кричать и бежать – неважно куда, отсюда, из той точки пространства, где пришла в голову столь ужасная идея. Жопой чуешь, что нельзя? Что это – погибель, конец твоего вечного лета, а значит, всего вообще? Что и требовалось доказать».
Думал: «Ну хорошо, предположим, я не стану у нее ночевать. И вообще нигде, кроме этой квартиры. Это вполне реально, всегда можно вовремя уйти. Но если Бета захочет прийти ко мне? Сюда? Что будет, если я приведу в заколдованный дом еще одного человека и позволю остаться до утра? Не воскресну ли я в ее объятиях, как Спящая Красавица от поцелуя сказочного принца? Только у той сказки был хороший конец, а в моем случае «воскреснуть» означает понестись навстречу смерти со скоростью, многократно превышающую обычную человеческую. Именно сейчас это было бы очень некстати. Сейчас, впрочем, вообще все некстати, вот в чем беда».
Так ничего и не решил. Но нетерпеливо считал дни до наступления тридцать первого июля – двадцать, сорок, пятьдесят, семьдесят. Да сколько можно жилы из меня тянуть?!
Иногда думал, что тридцать первое июля не наступит вообще никогда. Все летние дни когда-нибудь снова настанут и еще многократно повторятся, а этот – нет. И на фоне столь ужасного предположения все остальные проблемы стали казаться сущей ерундой. Так хотел пойти на это свидание, увидеть Бету, захмелеть от ее запаха, ходить, обнявшись, смеяться дурацким шуткам, говорить обо всем на свете, целоваться в каждом незапертом дворе, дрожа от нетерпения, подниматься по темной лестнице в дом, что был готов уплатить любую цену.
Наверное, любую.
Скорее всего, готов.
Тридцать первое июля все-таки наступило. Через девяносто восемь дней после тридцатого. Не стесняясь ни солнечных зайчиков, ни собственных зеркальных отражений, заплакал от счастья, прижимая к груди телефон, на дисплее которого светилось лучшее в мире число самого прекрасного месяца. Написал Бете смс: «Знала бы ты, как я жду вечера». Но не отправил. Сказал себе: «Все равно она, наверное, спит».
На самом деле, конечно, боялся не получить ответа.
Она написала сама, уже после полудня: «Я проснулась. Сижу и думаю: а ты мне случайно не приснился?»
Ответил: «Конечно, приснился. Но это был вещий сон».
И выбросил из головы все мысли, кроме одной: «Скорее бы уже пять».
Когда увидел Бету, пришедшую заранее и уже занявшую вчерашний столик в кафе – растрепанную, загорелую, в светло-сером льняном сарафане – понял, как сильно хочется рассказать ей все. Вот прямо сейчас, не откладывая до конца августа, который так далек, как в детстве была далека смерть – в него почти невозможно поверить.
Тем более не надо откладывать.
Подумал: «В конце концов, нынешний я – это то, что со мной здесь происходит. Не рассказать этого – значит, соврать вообще во всем. И тогда Бета, вместо того, чтобы быть со мной, станет проводить дни с кем-то другим, наскоро выдуманным, кое-как слепленным из моих смутных представлений о том, какими обычно бывают люди. Заранее ненавижу мерзавца.
Это оказалось решающим аргументом. Всегда был ревнив, ничего не поделаешь.
Сел рядом. Сказал:
– Ну наконец-то.
Сказал:
– Больше всего на свете хочу тебя обнять. Но это может закончиться крайне неприличной сценой в общественном месте.
Сказал:
– Ужасно скучал по тебе.
– Всю долгую-долгую ночь?
– И долгий-долгий день. И еще девяносто восемь таких же долгих летних дней.
– Но почему именно девяносто восемь?
– Потому что ровно столько их и было. Я считал. Это не метафора. Не поэтическое преувеличение. А сухая констатация факта. Я подумал, надо сразу тебе рассказать, как много дней прошло для меня между тридцатым и тридцать первым июля. Ты, конечно, решишь, что я псих. И, скорее всего, сбежишь от меня на край света, прихватив лишь смену белья и кошку. И все что я смогу сделать – постараться тебя догнать.
– Что псих – это еще вчера стало понятно, – безмятежно отозвалась Бета. – Но я, как видишь, все равно не сбежала. Я вообще храбрая. И довольно глупая, как все храбрецы.
Ответил совершенно серьезно:
– Храбрая и глупая – это очень хорошо. Именно то, что требуется.
А потом рассказал ей все.
Как приехал в этот город наугад, ткнув пальцем в карту – умирать. Вернее, попробовать пожить напоследок как-нибудь так, чтобы умирать не было страшно. Как снял квартиру на улице Палангос и в первый же вечер чуть не расплакался от жалости к себе, покупая дурацкую посуду. Как лег спать первого сентября и проснулся четырнадцатого июля. И что было потом. И все свои попытки объяснить происходящее тоже изложил, включая самые дикие. Чего стесняться. Пусть знает, с кем связалась.
– В твоей истории куча неувязок, – сказала Бета. – И, честно говоря, это пугает меня больше всего. Потому что если бы ты все это выдумал, чтобы поразить мое воображение, ты бы как-нибудь свел концы с концами. Хоть некоторые. Именно из-за неувязок твой безумный рассказ становится похож на правду. Слишком многого ты сам не понимаешь. В жизни обычно так и бывает. А бред более логичен. Выдумки – тем более.
– Ну вот. А говорила, что глупая.
– Конечно, глупая. Сижу тут с тобой, никуда не убегаю, на помощь не зову и уже почти готова поверить в самую нелепую чушь, какую когда-либо слышала. Дура и есть. Всегда такая была и очень старалась не поумнеть. Как знала, что рано или поздно мне пригодится вся моя глупость разом.
Только и сказал:
– Ты потрясающая.
– Я-то потрясающая, не вопрос. Да и ты тоже. Это понятно. А непонятно вот что: с какой целью ты мне все это рассказал?
– Потому что…
– Стоп. Не «почему», а именно «с какой целью». Зачем? Что я должна сделать, выслушав твою историю? Как поступить? Какое решение принять?
– И все-таки мой ответ – «потому что». Рассказал, потому что не смог промолчать. Не было никакой дополнительной цели. И стратегического плана тоже не было. Девяносто восемь дней думал, как нам с тобой жить дальше. И ничего не придумал. Разве что…
– Что?
Набрал в легкие побольше воздуха – для храбрости. Предвечерний июльский воздух в этом смысле ничуть не хуже рюмки водки.
Сказал:
– Я бы, пожалуй, проверил, что будет, если ты согласишься переночевать со мной в этой квартире на Палангос. Мне почему-то кажется, все дело именно в ней. Хотя, конечно, никаких доказательств. Только смутное ощущение.
– Должна сказать, что столь хитроумным способом меня еще кавалеры в гости не зазывали, – улыбнулась Бета.
– Куда им, твоим кавалерам.
И рассмеялись – в точности как вчера, практически на ровном месте, воспользовавшись первым попавшимся поводом, потому что смеяться вместе – это огромное удовольствие, грех такое упускать.
Когда успокоились, сказал:
– Мне, конечно, очень страшно тебя туда звать. Потому что я же не знаю, что потом будет. И здорово опасаюсь, что наваждение рассеется. И мы проснемся первого августа. А потом второго, третьего, и так далее, как все вокруг. И быстренько доживем до первого сентября – в этот день я там поселился. Вот, кстати, интересно, я снова приду туда с риелтором? До сих пор ни одного двойника не встретил, а уж как искал. Впрочем, двойник – это как раз ладно бы. Наверняка с ним можно поладить. И зажить дружной коммуной на радость всем адептам прикладной темпорологии. Что меня по-настоящему пугает – я же могу проснуться второго сентября, причем совершенно один, потому что знакомство с тобой мне примерещилось… Впрочем, есть и более оптимистические версии развития событий.
– Например?
– Может быть, ты застрянешь в этом лете вместе со мной?
– Думаешь, такое возможно?
– Конечно, нет. Но все, что происходит со мной в последнее время, невозможно. Каждая секунда моей жизни – невозможна. Так что вопрос лишь в том, какое именно невозможное решит с нами случиться. Пока не попробуешь, не узнаешь.
– Господи, какой все-таки бред, – вздохнула Бета. – И ведь зачем-то я тебя слушаю. Более того, я и в гости к тебе пойду. И ночевать останусь. И обниму тебя крепко-крепко, чтобы не смел никуда исчезать без меня. Ни в какое дурацкое второе сентября. Ты что! Даже думать об этом не желаю.
– Ты серьезно?
– Совершенно серьезно. Только знаешь что? Я должна взять с собой Бите. Потому что, с одной стороны, я тебе, конечно, не верю. Мне приятно думать, что все это – такой специальный сложносочиненный розыгрыш. Психологический тест из серии: «Достаточно ли влюбленная вы дура?» Может, ты вообще проводишь какой-нибудь дурацкий эксперимент. И черт с тобой, проводи, я не против. Но если вдруг ты все-таки говоришь что-то вроде правды, тогда… Ну, в принципе ничего страшного, именно сейчас я вполне могу позволить себе исчезнуть. Перевод сдала, мама умерла два года назад, а все остальные распрекрасно без меня обойдутся. А вот кошку надо кормить, что бы ни случилось.
Сказал:
– Ты абсолютно права. Кошку надо кормить. Конечно, мы возьмем Бите. Я даже могу понести ее лоток.
– Вот именно эти слова, – вздохнула Бета, – я мечтала услышать от мужчины всю жизнь. Ты – мой герой.
Сам не заметил, когда перестал бояться, что все пойдет как-нибудь не так. Но факт – перестал. Видимо, еще по дороге, пока шли пешком от Ужуписа до улицы Палангос, через весь Старый город. Потому что, вставляя ключ в замочную скважину, был храбр, как никогда прежде.
Это было такое счастье – ничего не бояться.
И когда поутру они проснулись – все трое одновременно – не потянулся за телефоном, чтобы посмотреть дату. Главное, что Бета рядом, никуда не исчезла, и серая кошка по имени Бите сидит на подоконнике, значит, остальное уладится как-нибудь само.
Но телефон сразу цапнула Бета.
– Ты не менял настройки? – строго спросила она. – Правда, что ли, десятое июня? То есть, вообще все – правда? И ты – правда? И я?
Пожал плечами.
– Вот уж не знаю, правда ли мы с тобой. А что касается даты, можем выйти за свежей газетой. Тем более, никакой еды в доме все равно нет. Кроме кошачьей.
– Десятое июня, – повторила Бета. – Ну ничего себе. Десятое июня! Влипла я, получается, в твое вечное лето. И это что, навсегда?
– Не знаю. Но очень надеюсь, что так. Хотя, конечно, опасаюсь, что ты со мной заскучаешь.
– Ничего, – отмахнулась Бета. – Если заскучаю, схожу в кино, и все как рукой снимет. В любом случае это случится еще очень-очень нескоро. Например, позавчера.
Переулок Пасажо (Pasažo skg.) Черный ветер
– Черный Ветер. Приближается Черный Ветер.
Очень ее боялась.
С виду совершенно обычная старушка. Вовсе не отталкивающая. Напротив, красивая. Из тех, кто с возрастом истаивает до прозрачности, щиколотки и запястья у них становятся тонкими как у детей, морщинистая кожа нежна как мятый маковый лепесток, а темно-карие когда-то глаза выцветают до янтарной желтизны. Юта и сама не отказалась бы постареть именно так, но знала, что ей не светит – другой тип, увы. Мясистое лицо, крупные черты, широкая кость, кровеносные сосуды слишком близко к поверхности кожи – пока все это не мешает казаться условно привлекательной, но с возрастом придется превратиться в печального краснорожего бульдога, и лучше свыкаться с такой перспективой заранее, не пестуя иллюзий.
А старушке из переулка Пасажо достаточно было надеть длинное платье из небеленого льна и аккуратно уложить седые волосы, чтобы казаться не выжившей из ума старой курицей, а феей из волшебной страны, явившейся озарить своим присутствием серые будни горожан. Может быть именно поэтому бормотание про Черный Ветер звучало в ее устах не маразматическим бредом, а устрашающим пророчеством. Безумицы так хорошо не выглядят, феи не сходят с ума.
«Хотя с чего это я взяла? – сердито думала Юта. – Еще как сходят. И вот нам живой пример».
Но как ни старалась быть ироничной, как ни выстраивала дистанцию между собой и собственным страхом, ничего не получалось. Всякий раз, сворачивая с Арклю в переулок Пасажо, невольно сжималась в комок, бормотала про себя: «Только бы ее не было, только бы сегодня ее не было», – и ликовала, когда переулок оказывался свободен.
Конечно, разумнее было бы просто изменить маршрут, но когда среди дня убегаешь с работы ради миндального латте в маленьком «Кофеине» на Диджои, и у тебя максимум четверть часа на все удовольствие, включая вполне вероятную очередь, приходится выбирать наикратчайший путь. А отказываться из-за сумасшедшей старухи от вкуснейшего в мире кофе и нескольких торопливых затяжек табачным дымом – это уже самая настоящая позорная капитуляция. Отец однажды сказал, что храбр не тот, кто не знает страха, а тот, кто способен действовать, невзирая на страх. Эту формулу Юта усвоила сразу и навсегда. С годами из нее получилась очень храбрая трусиха, и сдаваться она не хотела.
Поэтому, завидев в переулке маленькую красивую старушку в светлом платье летом, в беличьей шубке зимой, не вздрагивала, не сутулилась, не втягивала голову в плечи, даже не ускоряла шаг, и без того, впрочем, стремительный. Только отводила глаза, чтобы, не приведи господи, не встретиться взглядом.
Всякий раз, поравнявшись с Ютой, старушка говорила негромко, но очень четко: «Приближается Черный Ветер», – и от этих ничего в сущности не значащих слов перехватывало дыхание, а ноги становились ватными и одновременно свинцовыми – совсем чужими. Больше всего на свете Юта боялась, что однажды не успеет отвернуться, и безумная старуха заглянет ей в глаза. Думала обреченно: «Наверное, я тогда просто обосрусь». Потому что думать: «Умру на месте», – было слишком глупо. И слишком похоже на правду.
Ворчала потом про себя, закурив у входа в кафе и немного успокоившись: «Дался ей этот ветер. Ну подумаешь – ветер. Просто перемещение воздушных масс под влиянием… Под влиянием чего-то там. Чего положено. И почему, интересно, он черный? Дует со стороны промзоны? Да какая у нас тут промзона, смех один. Нет, без мистики не обойдешься. Наверняка в старухиной голове черный цвет – символ абсолютного зла. Или не абсолютного. Но все равно зла, чего же еще. И оно, как положено всякому уважающему себя злу, грядет. Непонятно одно: меня-то зачем ставить в известность? Потому что, согласно пророчеству, однажды именно я спасу мир? Босая и простоволосая возглавлю Божье воинство? Охохонюшки. Надеюсь, до этого все же не дойдет».
Думала: «Когда-нибудь это безобразие должно прекратиться. Родственники или соседи дотумкают, что бабка не в себе, и примут наконец меры. Добрые доктора пропишут ей волшебные таблетки от Черного Ветра, и всем станет хорошо. Особенно мне».
Однако время шло, а старуха все так же прогуливалась по переулку Пасажо, порой с перерывами, которые могли длиться от нескольких дней до месяца, однако непременно объявлялась снова, и тогда Юта обреченно думала, что ей и правда следует отказаться от ежедневных побегов в кофейню, а еще лучше – вообще сменить место работы. Капитуляция, так капитуляция. Раз в жизни можно позволить себе сдаться. Нервы дороже.
Но потом наступало очередное солнечное утро, капучино в кафетерии Экономического Университета оказывался гаже, чем обычно, голова саботировала любую работу, а новые туфли желали пижонски цокать каблучками по тротуарам Старого города, и Юта, сердито хлопнув дверью кабинета, вылетала на улицу. Кофе! Кофе и сигарета. Хочу! Подумаешь – какая-то дурацкая старуха.
Однако как бы ни куражилась, при каждой встрече ужас снова охватывал ее. Неодолимый, сокрушительный. И какое же счастье, что не парализующий.
Так промаялась добрых два года, и маялась бы еще, если бы не шеф, улетавший в командировку накануне собственного юбилея. По этому случаю была открыта бутылка драгоценного сорокалетнего арманьяка, шефова ровесника, и не в конце рабочего дня, а еще до обеда, поскольку именинник спешил в аэропорт.
Отказаться от выпивки было решительно невозможно, да Юта и не хотела отказываться, хотя заранее знала, что работать до вечера даже после одной рюмки будет непросто: пьянела всегда мгновенно, а потом столь же стремительно трезвела, зато похмелье затягивалось надолго. В исполнении Ютиного организма это было скорее приятное, чем мучительное, но совершенно нерабочее состояние.
Был, впрочем, способ быстро привести себя в порядок – эспрессо. Но не одинарный, даже не двойной, а тройной, густой, как горячий шоколад, горький, как дюжина раскаяний. Подумала: «В «Кофеине» сегодня работает Зося, она знает, как надо, она мне сделает».
В кои-то веки отправилась в кофейню не украдкой, а получив благословление шефа, за которым как раз приехало такси. Шла, не торопясь, расслабленная, довольная, еще хмельная, а потому храбрая – не как обычно, вопреки собственной трусости, а почти по-настоящему.
Свернув в переулок, увидела безумную старуху и не столько испугалась, сколько рассердилась на нее – впервые за все время: «Да сколько же можно меня изводить?!» И когда та, приблизившись, снова принялась лопотать о Черном Ветре, Юта не стала отворачиваться, делая вид, будто происходящее ее не касается. Напротив, остановилась, хотя от ужаса потемнело в глазах. Спросила:
– Зачем вы мне это все время говорите? Пожалуйста, оставьте меня в покое. Какое мне дело до вашего Черного Ветра?
– Ну слава Богу, – внезапно обрадовалась старуха. – Спросила наконец-то!
Глаза у нее оказались совсем не безумные, вот что удивительно. Ясные, внимательные и очень спокойные, всем бы в ее годы такой взгляд.
– Если уж спросила, должна выслушать ответ, – сказала она. – Можешь не верить ни единому слову, но будь внимательна и запоминай. Черный Ветер всегда начинается в сумерках и дует где хочет, но в этом городе чаще, чем в прочих местах. Тому есть причины; впрочем, обсуждать их сейчас не время и не место. Когда дует Черный Ветер, мир выворачивается сновидениями наружу, время останавливается, вечность приходит в движение, и все становится возможным, а каждый человек – тем, для чего рожден. О Черном Ветре все знают, но никто не помнит. Поэтому всем здесь знакома тоска о неведомом, ностальгия по тайной родине; утолить ее очень легко, дождавшись нового ветра, но узнать, что утолил – почти невозможно. Чтобы запомнить, кем ты был и как жил при Черном Ветре, надо все время, пока он дует, держать во рту два камешка – один со дна Вильни, другой – из Вилии[34]. Добыть их несложно, подойдут любые, никаких особых правил тут нет, но лучше брать помельче, чтобы не очень мешали.
Все это время Юта ошеломленно молчала, удивленная скорее собственным бесстрашием, чем старухиными речами. Однако, собравшись с силами, снова спросила:
– Но почему вы говорите все это именно мне?
– Да потому что мы с тобой давние подружки, – улыбнулась старуха. – Когда дует Черный Ветер, нас водой не разольешь. А когда ветра нет, я по тебе скучаю. Но ты ничего не помнишь, и не могу сказать, что это делает тебя счастливой. Вечно высматриваешь неведомо кого на другой стороне улицы и в темных углах квартиры. То и дело заводишь новые дружбы и так же быстро их обрываешь – все тебе не то и не так. И подолгу смотришься во все зеркала, хоть и считаешь себя некрасивой. Втайне надеешься, что однажды из зеркала вместо твоего отражения выглянет – кто? Правильно, этого ты сама не знаешь. И не узнаешь, пока не придет Черный Ветер. А после забудешь опять.
Стояла как громом пораженная. Чего угодно ожидала от жуткой старухи, но такого поворота предвидеть не могла.
Интересно, как она угадала? Про темные углы и зеркала? Особенно про зеркала. О таком самым близким людям не рассказывают. О подобных вещах вообще не принято говорить. Даже с собой.
Подумала: «А может быть, ей и угадывать не пришлось? Потому что вообще все люди таковы? Одинаковые именно в этом вопросе? Тычемся во все темные щели, заглядываем в зеркала, как в чужие окна, ищем там неведомо что. То, чего нет. И всякий раз обламываемся. И никогда об этом не говорим. Чтобы, не дай бог, не договориться до того, что это – самая правдивая правда о нас. А не безобидное временное помрачение, следствие бесконечного числа мелких стрессов, помноженных на пресловутое экзистенциальное одиночество, которое и есть жизнь».
И тут же устыдилась своих мыслей, словно сумасшедшая бабка могла их прочитать. Пробормотала:
– Я, наверное, лучше пойду. Если вы не против.
– Конечно, – согласилась старуха. – Только еще одно, напоследок. Если однажды – просто из любопытства, или еще по какой-то причине – захочешь узнать, что бывает, когда дует Черный Ветер, и станешь всюду носить с собой два заветных камешка, гадая, не пришло ли время совать их за щеку, тебе пригодится моя подсказка. У Черного Ветра много вестников, но самая верная примета такова: уходит боль. Любая. И душевная маета, и телесная мука исчезают, словно не было их никогда и быть не могло. Это, кстати, чистая правда. Боли не существует, она – иллюзия, зато настолько достоверная, что с возрастом все мы начинаем думать, будто боль – единственная правда, данная нам тут. Но под напором Черного Ветра эта иллюзия развеивается первой. А за ней и все остальные. И город погружается в сон, который и есть наша подлинная жизнь. Ради него имеет смысл терпеть всю эту маяту, которая, в сущности, всего лишь топливо для сновидений. Отличное, надо сказать топливо, грех жаловаться.
От старухиных речей кружилась голова. «Господи, помоги устоять на ногах, – подумала Юта. – Просто не упасть. Больше ни о чем не прошу».
– Тяжело тебе со мной, – вздохнула старуха. – Ступай, я тебя больше не потревожу. Все, что надо, ты уже знаешь. Дальше – сама.
Не обманула. Сколько Юта с тех пор ни бегала в «Кофеин» кратчайшей дорогой, старухи в переулке Пасажо не было. Сперва особо не радовалась, памятуя, чем обычно заканчиваются такие светлые периоды: только как следует расслабишься, поверив, что бабку наконец-то заперли в дурдом, а она снова тут как тут. С отвычки еще и жутче, чем обычно. Врагу не пожелаешь. Бррр.
Однако время шло, город взорвался вишневым и сиреневым цветом, одумался, укрылся пыльным зеленым бархатом лета, успокоился, согрелся, потускнел. Начался и закончился отпуск, на который, как всегда, копила полгода, с Рождества, осыпались августовские звезды, за ними – кленовые листья, зарядили осенние дожди, а старухи все не было, и Юта наконец поверила, что ее персональный кошмар остался в прошлом. Больше никаких страшных старух, никакого Черного Ветра, а заодно – Гроба-На-Колесиках и Красной руки.
Явно же одна компания.
Зимой уже почти не вспоминала о старухе и прочей чепухе, а когда вспоминала, снисходительно думала: «Надеюсь, у нее все хорошо, жива-здорова, и родственники в дурдом не упекли, просто перестала караулить меня в переулке Пасажо, потому что… Например, потому что пообещала. Психи тоже умеют держать слово. Некоторые. Кому диагноз позволяет».
Потом и вовсе выбросила ее из головы.
Весна всегда начиналась для Юты скверно, с депрессии или чего-то в таком роде. Знакомые в один голос говорили, это случается от недостатка солнца, просто надо с самого начала ноября не жалеть времени и денег на солярий, принимать витамины, а Рождественские каникулы проводить где-нибудь поближе к экватору, тогда настроение останется хорошим, работоспособность не упадет, и даже жопа за зиму не вырастет. Ну, не больше, чем на полразмера.
Юта с ними не спорила, но и в солярий бежать не спешила, опасаясь, что вреда от ультрафиолета много больше, чем пользы. На Рождество отправлялась к родителям, которые, увы, жили на берегу Балтийского, а не Красного моря. А витамины, конечно, пила. То есть каждую осень покупала большую упаковку и исправно принимала примерно неделю, но уже к началу декабря вряд ли смогла бы вот так сразу отыскать – если бы вдруг о них вспомнила. Что вряд ли.
Да и какой, честно говоря, прок в дурацких витаминах. От витаминов постылая щекастая ряха не станет ангельским личиком, дурацкая работа не обретет смысл, на счету в банке не прибавится ни цента, и даже влюбиться – по уши, наотмашь, неосмотрительно, зато взаимно – не выйдет, увы. Хоть всю банку витаминов зараз слопай. С повышенным содержанием кальция, магния и прочей ерунды.
От солярия, кстати, тоже ничего не изменится. И даже трехзвездочные каникулы эконом-класса в каком-нибудь Египте не помогут – это Юта пару раз проверяла самолично. Когда была моложе и верила в чудеса.
Очередная весна оказалась совсем тяжелой. Позади была не только на редкость студеная для этих краев зима, но и два вполне безрадостных, наспех начатых, а потом столь же поспешно завершившихся романа, болезнь матери, к счастью, не фатальная, но даже на расстоянии вымотавшая душу, пять лишних кило и отвратительная висячая родинка, внезапно выросшая на животе – надо бы пойти удалить, но некогда, да еще и гнусный внутренний голос гундит: «А зачем?»
И правда, зачем. Проще больше никогда не раздеваться при посторонних.
Свободное от работы время проводила дома на диване, спала по десять часов в сутки, но все равно чувствовала себя усталой и разбитой. Хорошо хоть на еду смотрела почти с таким же отвращением, как на собственное отражение, а то страшно подумать, во что могла бы превратиться. Иногда, собрав волю в кулак, заставляла себя ходить пешком – хотя бы с работы домой. Почти три километра; на самом деле маловато, но гораздо лучше, чем ничего. И, кстати, можно придумать какой-нибудь кружной путь. Например, по набережной. Или вообще через Ужупис – когда погода позволяет. Тоска тоской, но хотя бы жопа и пузо замедлят рост, позволят не тратиться на новый гардероб размером больше. Это была бы капитуляция столь сокрушительная, что даже вообразить страшно. «Нет уж, так просто не сдамся, – думала Юта. – Сейчас по фигу, но потом придет лето, суровое время всеобщего взаимного контроля состояния телес, и тогда я наконец оценю свою героическую борьбу».
Камешек со дна реки Нерис выудила во время одной из таких принудительных прогулок по набережной. Он призывно блестел позолоченным солнечной рябью бочком, и Юта подумала – монета. Или брошь, или запонка. Словом, ценная вещь. Невозможно пройти мимо. Почти до локтя закатала рукав куртки, сунула руку в ледяную воду. Дно оказалось даже ближе, чем думала, повезло. Зато добыча… ну уж, какая есть.
Разочарование было столь велико, что демонстративно рассмеялась вслух – а чего ты хотела, детка? Сокровище ей подавай. Размечталась, ишь.
Камешек, однако, не выбросила, потому что вспомнила вдруг нелепые речи старухи из переулка Пасажо. Сейчас, на расстоянии, бабка казалась совсем не страшной. Такое милое, оригинальное сумасшествие, чего там было бояться? Впрочем, трус, как известно, даже при встрече с собственной тенью в штаны наложить готов. Особенно, если тень выходит навстречу из-за угла и вежливо говорит: «Доброе утро».
Невольно улыбнулась. Подумала снисходительно: «Да уж, старухин Черный Ветер мне бы сейчас не помешал. Если уж выбирать между ним и дурацкими веселящими таблетками, о пользе которых все уши прожужжали разнообразные добрые люди, пусть лучше будет ветер. Черный, белый, да какой угодно, лишь бы не тосковать. Налетит, а у меня камень уже наготове, в пасти. И я – королева мира, царица идиотов, священная праматерь всех дураков. Впрочем, согласно инструкции, нужно выудить еще один, из Вильняле. Значит, чудесная мистерия отменяется. Даже немного жаль».
Но камень положила в карман. Черт его знает зачем. Наверное, просто трудно выбросить то, что недавно казалось сокровищем, а значит, в каком-то смысле, было им.
Хотя, конечно же, не было.
За вторым камнем следовало лезть в Вильняле; делать это Юта, понятно, не собиралась. Той весной ей было по-настоящему плохо, а все же не настолько, чтобы бросаться исполнять инструкцию сумасшедшей старухи. Однако лезть и не понадобилось, камешек ей подарили дети, игравшие на берегу. Точнее, девочка лет семи. Двое мальчишек помладше робко топтались в стороне, наблюдая за процессом.
Сама виновата – шла мимо, увидела детей у самой воды, испугалась, что они свалятся в реку, и зачем-то полезла к ним вниз по откосу. Изгваздала в грязи почти новые замшевые ботинки – ай молодец, героиня, всем службам спасения пример.
Дети, конечно, никуда падать не собирались. Спокойно бродили по берегу в ярких резиновых сапожках, тыкали палками в речное дно, шарили руками в ледяной воде. Видимо, тоже искали сокровища. В их годы кладоискательство – нормальное состояние души. Но это не проблема, с возрастом оно проходит. Почти у всех. Кроме некоторых особо вздорных теток, которым без золота Нибелунгов жизнь не мила.
Девочка, белобрысая, тонконогая, отчаянно курносая, сразу же почуяла в незнакомой тетке родственную душу. Протянула пригоршню мокрых пестрых камней – смотри, что у нас есть!
Юта никогда не умела, да и не особо любила иметь дело с детьми, особенно незнакомыми. Не знала, о чем с ними говорить, но старалась быть серьезной и держаться на равных, памятуя, сколь обидными казались ей самой снисходительные шутки и насмешки взрослых. Вот и сейчас присела на корточки, внимательно осмотрела добычу, вежливо похвалила: очень красивые камешки. Хоть в кольца их вставляй.
– Конечно, красивые, – важно согласилась девочка. – Они же драгоценные. Драгоценности некрасивыми не бывают!
И с царственной щедростью предложила:
– Можешь взять себе любой, какой захочешь.
Пришлось брать. От таких подарков не отказываются.
Выбросить камешек сразу было бы свинством. Поэтому сунула его в карман, где уже лежало одно такое сокровище. Удивительное дело, нужные вещи, вроде телефона, кошелька и ключей, если таскать их в карманах, тут же теряются, а положишь какую-нибудь ерунду – камешек, значок или зубодробительную ириску из кафе – будь уверена, вы вместе навсегда. Бессмысленная фигня переживет любое бедствие, включая войну, чуму, поход на центральный рынок, поездки на городском транспорте в часы пик и падения в сугробы.
Сугробов, впрочем, в обозримом будущем не ожидалось – в городе уже вовсю свирепствовала весна. Будь она неладна.
«Все к тому шло, – будет думать Юта потом. – Все само к тому шло. И пришло, прихватив меня по пути».
По крайней мере, камни из двух рек оказались в кармане как бы по собственной воле, подбирать их намеренно Юта не стала бы. Для того, чтобы осознанно запасаться речными камнями в ожидании Черного Ветра, надо было не просто окончательно слететь с катушек, что, честно говоря, дело нехитрое, но и признать свое безумие свершившимся фактом. И согласиться с ним; более того, пойти у него на поводу. Зато носить камни с собой, не выбрасывая, можно просто по рассеянности. Мало ли ерунды накапливается в карманах курток и пальто между ежегодными визитами в химчистку. То-то и оно.
В тот апрельский день тоска грызла как-то особенно люто, и Юта, обычно полагавшая ежевечерние прогулки от работы до дома тяжкой повинностью, намеренно слонялась по улицам Старого города. Не хотела идти домой. Одиночество, в последние месяцы казавшееся сущим благословением – по крайней мере, никто не дергает – внезапно стало невыносимым. Лучше бы уж дергали, лучше бы отвлекали от созерцания так называемого внутреннего пространства, темного, пустого и гулкого, как заброшенный склеп, откуда давным-давно вынесли даже останки последнего мертвеца. Не говоря уже обо всем остальном.
Список номеров в Ютиной телефонной книжке был длиннее дюжины пожарных лестниц, поставленных одна на другую. Но позвонить по любому из них означало обречь себя на болтовню, которая и в лучшие времена казалась необязательной, а уж сейчас – совершенно бессмысленной. «Мне есть, с кем поговорить, – думала Юта, – и есть кого послушать. А помолчать, обнявшись, совершенно не с кем. И, наверное, не только мне. Так просто не принято проводить время – встретиться и молчать. Даже любовники бесконечно о чем-то говорят, тишина возможна лишь в одиночестве, которое иногда настолько невыносимо, что к черту бы тишину, да вот беда – ни на что кроме нее нет сил».
В городе меж тем кипела веселая весенняя жизнь. На всех углах открыто целовались пьяные от солнца парочки, свежеиспеченные мамаши катили пестрые коляски по булыжным мостовым, застрявшие в пробках водители фальшиво подпевали дорогим стереосистемам, солидные мужчины на ходу расстегивали пальто, осторожно разминая отвыкшие от улыбок рты, длинноногие старшеклассницы зябко ежились в куцых курточках из «Зары», неловко заигрывали с мальчишками, возбужденными, взъерошенными и храбрыми, как оголодавшие воробьи. У тех и других были отчаянные глаза, нежные обветренные губы и тонкие детские шеи.
Юта смотрела на этих мучительно и сладко взрослеющих детей со смесью сострадания и лютой ревности к жизни, которая совсем недавно переполняла ее до краев, с избытком, так же, как их сейчас, а потом отвернулась, ни единого обещания толком не выполнив, даже не поцеловав. Еще не ушла насовсем, но уже увлеченно занялась новыми возлюбленными; ясно, что по вечерам неторопливо собирает свои волшебные вещи по тайным углам Ютиного бытия, складывает их в черный, как вечная ночь, чемодан. Процесс необратим, скорое расставание неизбежно.
Осознавать это было так больно, что душевная мука отчасти превратилась в физическую – не то обычная межреберная невралгия, не то сердце сдуру переползло в правую часть грудной клетки, чтобы поболеть там всласть; ай, да какая разница, если лечь поудобней, наверняка тут же пройдет. А все равно лучше эта боль, чем тихая домашняя диванная тоска.
Поэтому даже боль не погнала Юту домой. Вместо этого зашла в первый попавшийся «Кофеин». Этот большой, двухэтажный, на улице Вильняус, любила меньше, чем маленький на Диджои, куда постоянно бегала с работы. Но кофе одинаково хорош во всех, а здесь, к тому же, полосатые матрасы на подоконниках, можно купить большую порцию латте, выйти на улицу, сесть, закурить, постараться расслабить плечи, глазеть по сторонам – все на тех же девочек и мальчиков, которые так заняты собой, что не замечают чужого внимания. И правильно делают.
Сидела на подоконнике, потягивала кофе с ностальгическим привкусом мороженого крем-брюле, осторожно массировала не на шутку разболевшуюся грудь, рассматривала красивых студенток, облепивших соседний подоконник, прохожих, идущих по своим делам, и хмурых мужчин, вышедших покурить из бара напротив. Вот с кем следовало бы подружиться: за все время эти двое не сказали ни слова, даже смотрели в разные стороны, но явно воздействовали друг на друга весьма утешительно. Их мрачные лица постепенно разглаживались, один под конец даже заулыбался – криво, уголком рта, а все-таки. Каков счастливчик.
Вдруг осознала, что и сама улыбается. И было отчего – острая боль в груди внезапно прошла, уступив место обычному в таких случаях блаженству, которое на самом деле просто отсутствие муки, норма. А все равно, господи, какой же кайф.
«Какой кайф, – думала Юта, подставляя разгоряченное лицо свежему влажному ветру. – Просто счастье. Больше ничего не болит».
«Боли не существует, она – иллюзия», – так говорила старуха из переулка Пасажо. Что ж, безумная или нет, а прожила она достаточно, чтобы узнать о боли все, что может узнать о ней человек. Или почти все. И, кстати, старуха утверждала, будто внезапное исчезновение боли – самая верная примета прихода Черного Ветра. Который, по ее словам, не просто дует, а выворачивает мир сновидениями наружу. Интересно, «сновидениями наружу» – это как?
Зачем-то достала из кармана речные камешки, покрутила в руках, подумала: «Оставлю их здесь, на подоконнике. Кто-нибудь молодой, глупый и хороший решит, что это добрый знак, заберет и несколько дней будет счастлив. Или счастлива – что вероятней. Девочки на такие штуки чаще ведутся. И это понятно – нам труднее живется. Хотя бы потому, что неписанное требование нравиться всем подряд никто, увы, не отменял. Интересно, а зачем? По-моему, в обществе, где физическое выживание одинокой самки больше не ставится под вопрос, нравиться кому ни попадя – ненужное и даже вредное излишество… Ой».
«Ой» – это уже было про камни. Они лежали на ладони, такие прекрасные, словно никогда не были речной галькой или что там обычно лежит на дне водоемов. Старший (из большой реки, к тому же, подобранный первым) снова обрел золотой блеск, заставивший Юту извлечь его из воды. Младший камень, подаренный юной искательницей сокровищ, казался сейчас настоящим самоцветом – не рубином-изумрудом, конечно, но вполне себе драгоценной пейзажной яшмой, из которой и правда не грех сделать украшение.
Несколько секунд Юта смотрела на камни, а потом решительным жестом отправила их в рот. Сказала себе: «Будем считать, что в город действительно пришел старухин Черный Ветер. Если уж у меня наконец-то ничего не болит, а простая и честная речная галька зачем-то меняет цвет среди бела дня. Я, конечно, веду себя как дура, зато теперь самую лютую тоску можно будет объявить просто сном. А потом взять и проснуться. И понять, что все хорошо… А, кстати, и правда вполне неплохо».
«Неплохо» – это было слабо сказано. От тоски, навалившейся еще в конце февраля и с тех пор ни на миг не ослаблявшей хватку, остались лишь воспоминания. Малоприятные, честно говоря. Но какая разница, если сейчас ее нет. «Это потому что я веду себя как дура, – сообразила Юта. – У дураков не бывает депрессий, вот в чем штука. Надо иметь в виду на будущее. Пригодится».
Тротуар под ногами дрожал и переливался, улица текла, как течет река – стремительно двигаясь вперед и одновременно оставаясь на месте. Один из мужчин, куривших возле бара, выбросил сигарету и стал взлетать неторопливыми рывками, как воздушный змей. Второй открыл было рот, явно намереваясь спросить: «Ты что творишь?» – но в последний момент передумал, рассмеялся, стал прозрачным и дрожащим, как мыльный пузырь, взмахнул радужной рукой и исчез. Девочки-студентки одна за другой взрывались фейерверками, а потом подолгу, с нескрываемым наслаждением собирали себя заново из разноцветных искр; какой-то серьезный мальчишка смотрелся в живот приятеля, как в зеркало, деловито примеряя все свои лица по очереди, одно за другим. Зацвели выставленные на улицу столы, к ним, как котенок ластилась лужа, из окна на третьем этаже выглянула любопытная драконья морда, в небе появился первый поющий шар, зальели стеклянные пцы, свеллые тройсеры, как всегда, запрайтились в хуух – кошмар закончился, все наконец-то стало хорошо, вернее, просто нормально. Понятно, логично, привычно непредсказуемо и абсолютно осмысленно, спасибо, Господи, я снова дожила до этого дня.
Юта привычным жестом испепелила ставший ненужным картонный стакан, посмотрела на свои ладони – огненную и ледяную. Подумала: «Интересно все-таки, какой смысл в этих долгих периодах существования без памяти о себе?» Потом, впрочем, вспомнила, какой в этом смысл. И вообще все.
Скомандовала: «Срочно за работу, смотри, что тут творится». Наскоро перечертила несколько искривившихся линий мира, оборванную связала крепким узлом – теперь небось срастется. Решила заодно заняться собой, сколько можно откладывать, сапожник без сапог – это даже не смешно. И осторожно, стараясь не погасить, остудила один из семнадцати звонов небытия над своей левой бровью, чтобы не докучал потом, когда снова наступит штиль. А покончив с делами, вошла в то течение, где восхитительный хаос бытия более-менее упорядочен – ровно настолько, чтобы две подружки могли посидеть в кафе, не беспокоясь о том, во что секунду спустя превратятся под ними стулья.
В первый момент подумала, что Тали еще не пришла, потом поняла, склонилась над зеркальным столом и укоризненно покачала головой, дескать – ну что ты вечно дразнишься, как маленькая.
– А здорово я тебя напугала, скажи? – подмигнуло отражение, точная копия Юты, только глаза не серые, а желтые, в этом вопросе Тали всегда проявляла удивительное постоянство.
– «Черный Ветер! – передразнила ее Юта. – Девочка, девочка, Черный Ветер приближается к твоему дому! Надо было еще сказать: «Бууу!» – и зловеще на меня напрыгнуть. Чтобы меня на месте кондратий хватил. Чего церемониться.
– Да, это было так удивительно, – согласилась Тали. Она все-таки вылезла из зеркала, со свойственной ей неуклюжей грацией спрыгнула со стола, села наконец рядом. – Видеть, что ты меня взаправду боишься. Ни капли не притворяешься. А все равно с камнями во рту пришла, умничка ты моя. Наконец-то!
– Сказал бы кто, что ты можешь быть такая жуткая, ни за что не поверила бы, – вздохнула Юта. – Впрочем, теперь-то ясно, что не в тебе дело. Просто между человеком и его памятью поставлена надежная стража. Удивительно, как я не чокнулась от твоего бормотания. То есть, конечно, чокнулась, но не очень. В меру. Социально приемлемо, в больницу не упекут… Так странно и смешно сейчас говорить о каких-то больницах и употреблять слово «социально», правда?
– Еще смешнее будет вспоминать о Черном Ветре наяву, – пообещала Тали. – На так называемом «яву». Рехнуться можно с этой терминологией. Зато теперь тебе и в безветренные дни будет весело. Это я твердо обещаю.
Улица Паупё (Paupio g.) Книжная лотерея
Закричал: «Поймай меня», – и побежал.
И стал дождь.
Дождь стоял над городом неподвижной стеной, зато весь остальной мир бегал, мельтешил, метался, суетился. Верещал счастливыми детскими голосами, скрипел тормозами, цокал каблуками устремившихся в укрытия прохожих, хлопал дверями кафе и подъездов, пел телефонными звонками, лаял рассерженными по случаю внезапного купания псами, звенел падающими из рук официантов подносами, галдел птицами, чавкал промокшими кедами.
И кто-то рявкнул прямо над ухом бегущего:
– Поймал!
Это было так смешно, что почти не страшно.
Из рукописей Клотильды Забелене– Извините, могу ли я занять этот стул?
Не люблю, когда ко мне подсаживаются незнакомцы. Удивительно, как много людей не понимают: если человек сидит в кафе один, без компании, скорее всего, он пришел сюда именно ради возможности побыть наедине с собой. Великая роскошь по нашим временам; теоретически, ее можно купить, но лично мне по карману только полчаса одиночества в кафе и еще примерно столько же – дома, в ванной.
Однако прямым отказом отвечать невежливо, а врать, будто жду друзей, мне обычно лень, куда проще неприветливо кивнуть, потребовать счет и, оплатив его, удалиться, все равно удовольствие безнадежно испорчено.
Но, матерь божья, как же не хочется вставать и уходить прямо сейчас. Летнюю веранду только открыли, апрельское солнце греет вовсю, ветер прохладен, как льняная простыня, за соседним столиком жизнерадостно щебечет компания студенток в куцых разноцветных курточках, сигарета моя выкурена всего наполовину, да и кофе пока не допит. В чашке еще целых полтора глотка крепкого, кислого эспрессо романо[35], который подают только здесь, в Ужупской пиццерии на Паупё, с видом на бронзового ангела, взявшегося за трубу столь лихо, словно буквально с минуты на минуту начнется долгожданный апокалипсис, бессмысленный дорогостоящий проект под названием «Органическая жизнь на планете Земля» будет наконец завершен, а все мы – уволены без выходного пособия, и, господи, как же это было бы славно.
Ох, что-то я совсем устал.
Но посмотреть, кто собирается нарушить мое уединение, все-таки придется.
Поднимаю глаза и первым делом встречаюсь взглядом с собственным отражением в стеклянной стене кафе. Поспешно отворачиваюсь.
Нельзя сказать, что я себя не люблю. У меня, слава богу, не настолько бурная внутренняя жизнь. Скорее, я просто изрядно себе надоел. Немудрено, мы с моим зазеркальным двойником неразлучны с младенчества, вместе выросли, вместе прошли огонь и воду; до медных труб, впрочем, так и не добрались и уже вряд ли успеем. А теперь я вынужден ежедневно смотреть, как он стареет и постепенно становится все меньше похож на меня. Эту часть сериала я бы с огромным удовольствием промотал или вовсе выключил, но так и не выяснил, куда подевался пульт, и был ли он вообще.
Поэтому я отворачиваюсь от угрюмого типа в слишком теплом для апреля сером пальто так быстро, как только позволяет застуженная на весенних сквозняках шея. И вижу наконец, что рядом стоит маленький улыбчивый старичок, щурится не то от солнца, не то от смущения, тянет к себе пустующий стул.
Надо же, а старичок-то знакомый.
Ну, то есть как – знакомый. Просто примелькавшийся. С позапрошлого лета регулярно встречаю его в городе, то тут, то там, обычно в недорогих кофейнях, порой среди ярмарочных лотков на Гедимино и сувенирных киосков на Пилес. Небольшого роста, остроносый, бедно, но тщательно одетый, в круглых, как у Гарри Поттера, очках, зимой и летом в одной и той же джинсовой панаме, всегда с пачкой разноцветных конвертов – не то на продажу, не то еще зачем-то. Пару раз он при мне показывал их каким-то людям, объяснял что-то шепотом, издалека не разобрать. Всегда было интересно, что там.
Вот сейчас и выясним.
Пришел домой. Долго стирал носки под краном. Один носок постирал два раза, второй только намочил.
Не заметил.
Разбил на сковородку три яйца. Долго смотрел на них, думал, почему остаются сырыми? Наконец спохватился: масло! Бросил на сковородку кусок. Но не вспомнил, что надо разжечь огонь. Устал ждать, ушел из кухни.
Взял книгу, сел на диван, опустил руки, закрыл глаза.
Так и не заплакал.
Из рукописей Клотильды ЗабеленеРадушной улыбкой и жестами показываю старичку, что все стулья этого мира в его полном распоряжении. И, едва дождавшись, когда он усядется, спрашиваю:
– А где ваши конверты?
Разбавляю бесцеремонность лошадиной дозой приветливости. В юности мое обаяние могло сгладить почти любую неловкость; надеюсь, от него еще хоть что-то осталось.
Старичок машинально прикладывает руку к сердцу (и внутреннему карману). Дескать, вот где они. А вслух смущенно уточняет:
– А разве вы уже играли?
– «Играли»? С вами? Нет. Но во что?
– В лотерею. У меня же лотерея. – и таинственным шепотом, каким только в детстве самые страшные секреты рассказывают, добавляет: – Книжная лотерея.
– Ого! Так в конвертах лотерейные билеты? Можно купить билет и выиграть книгу? А где ее потом получать?
– Нет-нет, – старичок переходит на шепот столь тихий, что мне приходится практически читать по губам. – Книга – уже в билетах. Билеты – и есть книга. Вернее, ее фрагменты. Но целой все равно нет. И, увы, никогда не будет.
И умолкает, напустив на себя вид столь загадочный, что я понимаю: от меня ждут расспросов. Человек просто сгорает от желания немедленно выложить все подробности до единой. Но навязываться, конечно, не станет.
И я милосердно подаю реплику:
– Почему?
Мне, впрочем, действительно интересно.
– Эту книгу написала моя покойная жена. Она всю жизнь сочиняла рассказы. Там, по моим прикидкам, не на одну, а на добрый десяток книг рассказов накопилось. Впрочем, теперь уже не проверишь.
Снова пауза. И я снова спрашиваю:
– Но почему?
– Дожди виноваты. Ну и я, конечно, хорош. Рукописи хранились на антресолях. А крыша прохудилась – как на грех, именно над антресолями, в других местах потолок был сухой, вот я и не тревожился. Года три папки и блокноты в сырости пролежали, пока я не затеял ремонт. Полез на антресоли, а там – заплесневелая бумажная каша. Все пропало. Даже хорошо, что Клотильда не дожила. Это было бы слишком жестоко.
Клотильда, ну надо же. Я, честно говоря, думал, таких имен у живых людей вообще не бывает. Только у книжных персонажей. Да и то из курса зарубежной литературы позапрошлого века.
– Я тогда совсем расклеился. Лег пластом и несколько дней лежал. Думал: в романах часто пишут, что люди умирают от горя, и мне, по идее, теперь тоже положено. Но, как видите, не получилось. Смерть, похоже, брезгует слишком легкой добычей; по крайней мере, меня она брать не стала. Пришлось жить дальше – с такой виной, что хуже не придумаешь. Непоправимой. Как же я подвел Кло! Она-то всю жизнь была уверена, что на меня можно положиться. Говорила: «Ты у меня надежней любой скалы». Бедная. Нашла себе скалу – из чистого талька[36]. Что труд всей ее жизни по моему недосмотру на антресолях сгниет – такое, небось, и в страшном сне привидеться не могло.
– Ох.
Это все, что мне удается из себя выдавить. Никогда не умел демонстрировать сочувствие. Только испытывать. Как правило, людям этого недостаточно. Но моему собеседнику, похоже, все равно. Слушаю – и на том спасибо.
– Самое обидное и несправедливое, – говорит он, – что Кло писала отличные рассказы. Были бы скверные, я бы особо не убивался. Все равно, конечно, оставил бы на память, как другие хранят письма и поздравительные открытки. Но погибшие рукописи – совсем иное дело, несоизмеримая ценность… Вы, наверное, думаете, что я пристрастен? Все-таки автор – моя жена. На самом деле как раз наоборот. Близкому человеку обычно прощаешь не больше, а гораздо меньше, чем чужим.
О да. Это я могу понять.
– Я бы, чего греха таить, предпочел, чтобы она вообще никогда ничего не писала. И не в том дело, что Кло совсем не занималась хозяйством. Приходила с работы и сразу за письменный стол, как медом ей там было намазано. Да и бог с ней, пожарить картошку и погладить рубаху я и сам всегда мог. Хуже другое. Ее никогда не было рядом. Даже когда обнимала меня, мысли витали где-то еще. Далеко-далеко. Мне туда путь был заказан. И вообще всем. При этом, проку от ее писательства не было никакого. Я хочу сказать, ее рассказы никогда нигде не печатали. Ну, мы же еще в СССР жили. Вы, наверное, тоже то время застали? Помните, как тогда издавались книжки? И как мало среди них было стоящих. Да и те, в основном, переводы.
Еще бы я не помнил.
– Может быть, если бы у нас были какие-то полезные знакомства – в издательствах, журналах, да хоть в какой-нибудь газете – подсказали бы, что делать, с чего начинать, к кому обращаться, и все сложилось бы иначе. Но мы люди простые, я химию в школе преподавал, а Кло в проектном бюро какую-то ерунду чертила. Никаких связей, никаких шансов. Только письма по редакциям могли рассылать – без толку, конечно. «Рукописи не рецензируются и не возвращаются», – так везде предупреждали. Святая правда, не рецензировали и не возвращали, хоть бы раз кто-нибудь две строчки в ответ написал. Но жена не особо огорчалась. Или просто виду на подавала. Говорила: «Не печатают – и ладно, значит, еще не время. Не надо пока людям это читать». Я спрашивал: «А когда будет пора?» – но Кло только отмахивалась. «Может быть когда-нибудь, после дождичка в четверг, не знаю. Но хорошо бы, конечно, до этого дня дожить». Не дожила. Никогда в жизни ничем не болела, по врачам не ходила, считала себя здоровее всех на свете, а оказалось, слабое сердце, остановилось во сне. Меня утешали – хорошая смерть, не мучилась, не страдала, даже испугаться не успела. Может быть. Только я, знаете, не думаю, что смерть бывает «хорошей». Хорошей бывает жизнь, да и то не у всех. И не каждый день.
Киваю. А что тут скажешь.
– Наследник из меня, конечно, вышел хуже, чем просто никакой. Времена изменились, и я часто думал – может, теперь кто-нибудь захотел бы напечатать ее рассказы? Не у нас, конечно. Клотильда писала по-русски. Она вообще-то из семьи осевших в Польше французов, но ходила в русскую школу, поэтому болтать могла на четырех языках, а писать – только по-русски, как в детстве научили. Впрочем, все это неважно. Плохо другое: отправить ее рассказы куда-нибудь в Москву или Ленинград я так и не собрался, хотя почтовые адреса русских издательств добросовестно переписывал из всех попадавших мне в руки новых книг. Но прежде чем посылать, рассказы надо было разобрать, убедиться, что все страницы на месте, отдать машинистке, написать какое-то сопроводительное письмо… Честно говоря, я просто растерялся. Не знал, с чего начать. И поэтому все откладывал и откладывал, пока не обнаружил, что на антресолях потоп и разбирать, собственно, уже нечего. Но именно тогда я этим и занялся.
– Стали спасать, что уцелело?
– Ну да. Когда понял, что умереть от горя не так просто, как кажется, взял лупу и принялся разглядывать, что осталось. Некоторые фрагменты вполне можно было разобрать. Я их переписывал в тетрадку. Сам тогда не знал, зачем. Просто делал что мог. Для себя, чтобы хоть немного полегчало.
– И помогло?
– Конечно. Методичная ежедневная работа всегда помогает, даже если не видишь в ней особого смысла. Смысл-то я придумал уже потом, год спустя, когда подвел итоги.
Вздыхает.
– Мне удалось восстановить несколько сотен фрагментов текста. К сожалению, совсем коротких и разрозненных. Ни один рассказ не сохранился полностью. Или хотя бы настолько, чтобы можно было понять, о чем там речь, и дописать недостающее. Сам бы я, конечно, не взялся, но теоретически мог бы найтись подходящий человек. То есть понятно, что не нашелся бы, откуда бы такому в моей жизни появиться, но мечтать-то никто не запрещает. Однако тут и мечтать было не о чем. Слишком короткие фрагменты, по таким не восстановить целого, можно только в собственную историю их как-нибудь вставить, как камешек в браслет. Клотильде такая идея вряд ли понравилась бы. Да и мне самому не очень. И тогда я…
Языком, узким, как серп, слизывает дождевую каплю с жасминового листа, улыбается, щурится от удовольствия. Говорит, это последняя ночь.
Почему? Завтра ты уйдешь?
Качает головой. Говорит, некуда мне уходить.
Ты умрешь? Я умру? Я перестану тебя любить? Ты не захочешь на меня смотреть? Из темного леса придет сотня лютых врагов, чтобы взять нас в плен и разлучить навек?
Говорит, ты не слушаешь, ты не слышишь. Не понимаешь. Не последний день, последняя ночь. Не для нас одних, для всех. Солнце взойдет через несколько часов и больше не сядет. И будет свет. Везде будет свет. Мы закроем глаза, но веки станут прозрачными. Мы запремся в доме и опустим шторы, но их унесет ветром. Мы укроемся с головой одеялом, но солнце прожжет в нем дыру. Мы спрячемся в подвале, а он окажется чердаком. Мы скроемся под землей и увидим там небо.
И как мы будем жить?
Говорит, а мы не будем жить. Мы будем свет. Это разные вещи.
Из рукописей Клотильды Забелене– Что будете заказывать?
Официанты «Ужупской пиццерии» обычно элегически неторопливы. И первого подхода с меню, и заказа, и счета, и сдачи здесь приходится ждать подолгу. Это скверно, когда собираешься одним глотком, как горькую микстуру залить в себя ристретто и, приободрившись, бежать дальше. И замечательно почти во всех остальных случаях – при условии, что вам нравится сам процесс пребывания в кафе, а еда и напитки – просто повод, посильная плата за вход в магическое пространство пластиковых стульев и полосатых тентов, где время и его умалишенная дочь суета почти не властны над человеком.
Но сколь бы медлительны ни были здешние официанты, рано или поздно кто-нибудь из них непременно вспомнит о вашем существовании. Вот и за плечом моего собеседника вдруг материализовался совсем молоденький парнишка в форменном желтом фартуке.
По смущенному лицу старичка ясно, что делать заказ он вовсе не собирался. Только дать небольшую передышку ногам, поболтать о своих делах со случайным собеседником в моем лице и идти дальше. Чем больше денег у тебя в кармане, тем проще небрежно отказаться от протянутого меню: «Спасибо, пока ничего не нужно, может быть, позже». А человеку, стесненному в средствах, всегда неловко объяснять подобные вещи. Я и сам, увы, не богач, но позволить себе потратиться на вторую порцию кофе все-таки могу, не особо задумываясь. Не самый блестящий итог близящейся к завершению карьеры, но бывает гораздо хуже, я в курсе.
Поэтому спрашиваю:
– Хотите кофе? Или лучше пива? Или чего-нибудь другого? С удовольствием вас угощу.
Не хочу, чтобы он ушел, так и не дорассказав про книжную лотерею.
– Спасибо, тогда лучше кофе, – улыбается старичок. – Если можно, капучино.
И, проводив официанта глазами, шепчет:
– А знаете, еще ни разу так не случалось – чтобы совершенно незнакомый человек вдруг захотел угостить меня кофе. Хотя в последнее время я очень часто захожу в кафе.
– Все когда-нибудь случается впервые, – говорю я, чтобы подбодрить его и сгладить неловкость. И зачем-то добавляю: – Я и сам прежде никого вот так не угощал. Это не в моем духе. Но очень не хотелось, чтобы вы вот прямо сейчас встали и ушли. Считайте, я просто купил дополнительную порцию вашего общества. Выгодная сделка.
– Спасибо. Это очень лестное для меня признание. Но я и сам не хотел уходить. Собирался сказать, что должен сперва дождаться внучку, обычно после подобных объяснений меня оставляют в покое. А в обмен на ваше великодушное угощение могу предложить один билет. Я их как раз по пять литов продаю.
Открываю рот, чтобы вежливо отказаться, но тут же прикусываю язык. На самом деле, мне же интересно, что там, в этих билетах, написано. Пожалуй, не настолько, чтобы платить за любопытство пять литов. Но глупо было бы не взять его в обмен на кофе, который уже окончательно и бесповоротно заказан.
Спрашиваю:
– А почему именно по пять литов?
Пожимает плечами.
– Сам не знаю. Назначил цену почти наугад. Ясно было, что просто так раздавать Клотильдины тексты не стоит, люди редко ценят то, что досталось бесплатно. Я прикинул: десять литов – явно дорого, сам даже в лучшие времена не отдал бы столько невесть за что. Один – воля ваша, как-то несолидно. В каком-то смысле даже меньше, чем ничего. Значит, пусть будет пять, это как раз средняя цена чашки кофе в приличном кафе, с такой суммой многие готовы расстаться, и в то же время, она уже вполне ощутима для кошелька… Я вообще с самого начала пробирался наощупь. С того момента, как понял, что нужно сделать.
– А что именно вы поняли?
– Единственное, что необходимо всякой книге, – это внимательные и заинтересованные читатели. В идеале как можно больше, но даже один – гораздо лучше, чем совсем никого. Собственно, именно об этом мне следовало позаботиться с самого начала, сразу после смерти Кло. Отпечатать рассказы на машинке, сделать побольше копий. Для начала просто дать почитать знакомым – почему нет? А потом… Ну, совать их прохожим на улице, положим, не метод – испугаются, не возьмут, или сразу выбросят. Но, к примеру, оставлять папку с рассказами в кафе или кинотеатре – вполне достойный вариант. Может, кто-нибудь подберет и прочитает, просто из любопытства. Какой-никакой, а шанс. Впрочем, все это имело смысл делать раньше, до потопа, пока рассказы были целы. Сам дурак, сам погубил отличную возможность. И сам должен был найти выход.
– Дети мои, – говорю я, обнимая их за плечи, левой рукой Эмму, правой – Томаса. – Дети мои, вот вы слушаете меня и наверняка думаете: а чем все закончилось? А оно ничем не закончилось, потому что еще продолжается, и будет продолжаться всегда, и наши с вами маленькие личные истории вплетаются в эту большую, подобно ручьям, которые… Тьфу ты, черт, ручьи, впадающие в полноводные реки – банальность, граничащая с непристойностью, но что прикажете делать, дети мои, я смущен и растерян, имя свое едва помню, потому что…
На этом месте я прикусываю язык. Наверное, не следует говорить деревянным куклам, что они – деревянные куклы. Возможно, им будет неприятно это услышать. Хотя если бы ко мне пришел Создатель и обозвал меня, к примеру, драным мешком с обезьяньей требухой, я бы совершенно не огорчился, какая разница, что такое я, когда Он – здесь.
– Какая разница, что такое мы с вами, дети мои, вдохновенно восклицаю я, обнимая теплые от солнца деревяшки.
Томас насмешливо хмурится, Эмма тихонько вздыхает, вежливо скрывая зевок.
Из рукописей Клотильды ЗабеленеПаренек в желтом фартуке ставит перед нами чашку капучино с корицей и щедрой порцией солнечных зайчиков, отразившихся от мелких блестящих сережек, полумесяцем обрамляющих его левое ухо. Стыдно в таком признаваться, но иногда я почти до слез завидую нынешней молодежи. Красивые, яркие, нарядные, волосы красят кто в зеленый, кто в оранжевый, серьги вешают дюжинами, в уши, брови, нос и вообще куда попало, творят с собой все, что взбредет в голову, а как надоест, переделывают без сожалений. Ужасно жалко, что у нас всего этого не было. А теперь уже поздно начинать, выглядеть это будет крайне нелепо. Все-таки выпендриваться – одно из самых больших удовольствий юности, взрослому человеку это искусство редко дается. Особенно если начинать с нуля.
– Меня осенило, когда я смотрел по телевизору какой-то старый фильм, – говорит мой старичок, придвигая к себе чашку. – Там был большой попугай, который доставал из шляпы шарманщика записки с предсказаниями. Сперва я почти всерьез задумался о подобном варианте, но быстро понял, что не решусь выставить себя на посмешище. А даже если бы решился, шарманка и попугай – тоже из области пустых мечтаний. Где я их возьму? Но сама идея выдавать разрозненные фрагменты текста за предсказания показалась мне плодотворной. Люди, даже образованные и не суеверные, к предсказаниям обычно относятся с повышенным вниманием и интересом. Потому что, скорее всего, конечно, чушь, а все-таки кто знает, как оно там на самом деле, правда?
– Наверное, – киваю я. – Думаю, так и есть. Так это у вас, получается, гадание такое? Не просто лотерея?
– На самом деле я сам толком не знаю, что у меня получилось. И всем говорю разное, – смущенно улыбается старичок. – По обстоятельствам, смотря какой человек. Кому-то обещаю предсказание судьбы, кому-то советую мысленно задать вопрос и получить ответ. А иногда говорю, что моя книжная лотерея – «интерактивный литературный проект нового типа». Это я не сам придумал, один прохожий посоветовал, спасибо ему за это, очень удачная вышла формулировка, студенткам особенно нравится… Проще всего с художниками, им всегда можно посулить вдохновляющую игру случая и неожиданную новую тему для импровизации, от такого на моей памяти еще никто не отказывался. Жаль только, что деньги у них редко водятся. Впрочем, художнику, или музыканту я могу почти задаром билет уступить, питаю к ним слабость… А некоторым людям я выкладываю все начистоту – вот как вам, например. Иногда хочется просто поговорить.
– Спасибо за доверие. Жаль только, что я небогат. С радостью скупил бы все билеты, чтобы прочитать побольше. И составить хоть какое-то представление о целом.
Старичок качает головой.
– Ну что вы. Мне чрезвычайно приятен ваш интерес, но я бы все равно не продал больше одного билета. Ни за какие деньги. Так нельзя.
– Но почему?
– А вдруг там и правда будет предсказание судьбы? – Неожиданно подмигивает он. – Не то чтобы я сам верил, но и никаких надежных гарантий, что это не так, не имею. И как быть человеку, вдруг заполучившему несколько судеб в одни руки? Обычно и с одной-то мало кто справляется. Нет уж, вы как хотите, а такую ответственность я на себя принять не могу.
Мне нравится внезапная перемена его тона. Теперь, когда старичок лукаво улыбается до ушей, вполне можно сказать себе, что печальная история о рукописях его покойной жены – просто часть игры в книжную лотерею. Или даже «интерактивного литературного проекта», почему бы и нет. Мне досталась вот такая легенда, а завтра мой новый знакомый будет рассказывать прохожим о ветхой картонной папке с бумагами, найденной в вагоне Калининградского поезда, таинственном голосе, диктующем во сне пророческие фразы, или, предположим, о социологическом эксперименте, в который его втянула родная внучка, та самая, что вечно опаздывает на встречи с дедом в кафе, студентка-отличница, умница и красавица, совершенно невозможно такой отказать.
Вот и хорошо. Множественность вариантов – это то, что я люблю больше всего на свете. В детстве всегда старался не дочитывать до конца самые интересные книжки, чтобы придумывать собственные версии – не финала, а бесконечного развития истории, о которой наверняка известно только одно: она может оказаться какой угодно, если, конечно, у меня хватит выдержки никогда не заглядывать на последнюю страницу.
Иногда удавалось.
– Выбирайте.
Старичок уже покончил с капучино и раскладывает на столе разноцветные конверты. Надо, конечно, брать первый попавшийся, о чем тут думать, но рука моя невольно замирает на полдороге. Потому что – ну а вдруг его билеты и правда предсказывают судьбу? В подобную ерунду я, разумеется, не верю. Что совершенно не мешает мне сейчас взволнованно думать: «А мало ли. Всякое бывает. Кто знает, как оно там на самом деле».
Ну надо же. Не просто взрослый, без пяти минут пожилой человек, а иногда такой удивительный дурак.
И от этого мне становится совсем весело.
Закрываю глаза и беру конверт – не то чтобы наугад, скорее, наощупь. Тот, который показался самым теплым. В детстве всегда так выбирал, и не то удивительно, что совершенно об этом забыл, а то, что сейчас вспомнил.
Конверт оказался бледно-желтым, и вложенный в него листок бумаги с текстом, отпечатанным на пишущей машинке, тоже.
Белая улитка, розовая улитка, зеленая улитка.
Мирра лепит улиток.
Это глупо, потому что завтра ярмарка. Улиток там не продашь. Вместо них следовало бы налепить ярких брошек и вынести завтра полный поднос, старшеклассницы и взрослые дамы в цветастых платьях сметают их на бегу, не останавливаясь, не задумываясь, сколько ни вынеси, все разберут. Ни тем, ни другим совершенно не нужны улитки. И вообще никому.
Белая улитка осторожно высовывает рожки. Белая улитка смотрит на мир. Белая улитка находит, что он хорош. Белая улитка начинает ползти. Розовая улитка тоже ползет. И зеленая улитка ползет. Интересно куда?
Это глупо, потому что глиняные улитки не могут ползать. Это глупо, потому что на улице еще холодно. Это глупо, потому что это очень глупо.
Синяя улитка, желтая улитка, лиловая улитка.
Мирра лепит улиток.
Синяя улитка ползет, желтая улитка ползет, лиловая улитка ползет.
Мирра лепит.
Офигеть. Вообще все про меня, слово в слово! Только ярмарка у нас все-таки не завтра, а в воскресенье. То есть через два дня. Но вряд ли это важно, потому что я уже неделю, забив на все дела, не разгибаясь, леплю и крашу глиняных улиток. Понятия не имею, что с ними потом делать, но леплю все новых и новых. Совершенно невозможно остановиться. То есть теоретически еще и не такое возможно. Но о-о-о-очень не хочется. Даже чтобы выскочить на полчаса в любимое кафе, пришлось сделать над собой страшное усилие, переодеваться было труднее чем зимой рано утром на занятия идти, вот честное слово. Притом что погода сегодня вообще невероятная и кофе хотелось ужасно. И есть, кстати, тоже. Надо бы на обратной дороге хлеба купить. По идее, какая-то мелочь у меня после оплаты счета еще останется. Хоть и меньше, чем планировалось… Ай, ладно. Книжная лотерея – это оказалось ну о-о-о-очень круто! Настоящим гаданием текст про Мирру и улиток, конечно, считать нельзя. Скорее, констатацией факта. Но все равно – ничего себе совпадение! И дед отличный. Прям даже жалко, что я не его выдуманная внучка.
Кладу желтую бумажку обратно в конверт. Говорю:
– Слушайте! Вообще все правда, один в один – сижу сейчас целыми днями в мастерской, леплю дурацких улиток вместо того, чтобы заняться делом. Представляете?! А можно оставить бумажку себе? Очень хочется. Не знаю почему.
– Конечно, – кивает дед. – Вы же купили билет. Следовательно, он – ваш. Навсегда.
Прячу конверт в сумку, заодно достаю кошелек. Эспрессо романо и капучино – это восемь пятьдесят. Кладу на стол девять литов. Вопреки опасениям, у меня остается еще семь с чем-то. Уже что-то. Вполне можно жить. Особенно, если хоть на один вечер оторваться от улиток и все-таки сделать что-нибудь на продажу.
Ай, ладно. Как пойдет.
Говорю:
– Спасибо вам. Здорово получилось! Но мне пора бежать. Работы до фига. Ой. В смысле много.
– Конечно, – улыбается продавец книжной лотереи. – И вам спасибо, барышня. Очень рад знакомству. Возможно, еще увидимся.
– Наверняка. Чтобы в этом городе не встретиться, надо о-о-о-очень постараться!
Поднимаюсь, и оба моих отражения – прозрачное, в стеклянной стене пиццерии, и темное, плотное, в зеркальной витрине супермаркета IKI – вскакивают одновременно со мной. Застегивают новенькие лоскутные пальто, встряхивают изумрудно-зелеными волосами, вздергивают подбородки. Им тоже пора по домам. У нас очень много работы.
Улица Пилес (Pilies g.) Пингвин и Единорог
– У всех, знаешь, свои представления о возможном и невозможном. Чтобы выбить человека из колеи, должно случиться нечто немыслимое, но не вообще «немыслимое», а с его точки зрения.
Нина берет чашку с кофе, подносит ко рту, но рука замирает где-то в конце второй трети маршрута, и чашка возвращается на стол.
– Вот если сейчас на улице появится… ну, я не знаю, к примеру, единорог, вот, да, белый единорог, пройдет по тротуару мимо этого кафе, ты как хочешь, а я не стану верещать, или там просить, чтобы ты меня ущипнул, да я вообще бровью не поведу, потому что в мою картину мира единорог вполне укладывается. Совершенно не противоречит моим представлениям о возможном. Мало ли что я раньше никогда не видела единорогов, так я и пингвинов не видела – своими глазами, я имею в виду, по телевизору не считается, там еще и не такую херню показывают, так что не доказательство – но мы же не ставим вопрос, верю ли я в пингвинов.
– Ну вот, кстати, пингвин – это было бы ничего, – смеюсь. – Вопрос не в том, веришь ты в пингвинов или нет. Все дело в неуместности. Пингвин в нашем городе, на этой улице, в это время суток – такое же немыслимое событие, как единорог.
– Да ну, – отмахивается. – Почему немыслимое? Вполне себе мыслимое, маловероятное просто, но в мою картину мира все это вполне укладывается и в чью-нибудь еще – тоже, а в чью-то, например, в твою – нет, я только это и хотела сказать. – И, помолчав, добавляет: – А вот если он сейчас мне все-таки позвонит, ты, ясно, и бровью не поведешь, скажешь: «Ну вот видишь» – а зато я… ну, не знаю даже что. В обморок, наверное, все-таки не упаду, я в него еще ни разу в жизни не падала, но сердце точно остановится, и хорошо, если не прыгнет в горло, а то ведь подавиться можно и умереть… Да ладно, все равно, я тогда с ума сойду даже быстрее, чем подавлюсь. Потому что если он вот сейчас позвонит, моя картина мира точно рухнет. И черт бы с ней, пакостная она у меня какая-то в последнее время.
Я не спрашиваю, кто этот таинственный «он», чей телефонный звонок не укладывается в представления о возможном, – пингвин, или единорог. Я знаю, о ком речь. Вернее, догадываюсь. Но мне, в общем, не очень интересно. Вечно одно и то же. У каждой девочки непременно есть свой бездонный колодец, во тьме которого таится какой-нибудь очередной «он», который не звонит, не приходит, не понимает или еще что-нибудь «не», мучает девочку, болван. Если в колодце никого нет, значит, был совсем недавно и скоро, вот буквально на днях, заведется новый, это, я так понимаю, закон природы: всякая замечательная девочка должна целыми днями пялиться в этот проклятый колодец и мучительно размышлять о поведении его обитателя, забыв, что вокруг вообще-то огромный удивительный мир, все чудеса которого теоретически к ее услугам. Вернее, были бы к ее услугам, если бы она не воротила нос, бормоча: «Спасибо, не надо», – лишь бы отпустили поскорее обратно к колодцу, смотреть в темноту.
Нечего и говорить, что меня это страшно бесит. Но есть вещи, которые я не могу изменить.
А есть – которые могу.
Да, я отличаю одно от другого. Как правило.
Нина тем временем снова берет кофейную чашку и глядит на нее с некоторым недоумением. Дескать, знакомый предмет. Сейчас вспомню, что с ним обычно делают. Сейчас-сейчас.
Момент самый что ни на есть подходящий. Встаю, беру ее за плечи, разворачиваю к окну, говорю: «Гляди-ка».
По улице Пилес неторопливо шествует единорог. Сияющий белоснежный зверь с серебристой гривой – в общем, как на иллюстрациях к сказкам, только лучше, конечно, потому что живой. Следом ковыляет императорский пингвин, фрачная пара из мастерской матушки-природы сидит на нем безупречно. Четверо прохожих стоят на противоположной стороне улицы, разинув рты; дама лет сорока в малиновых шортах явно изготовилась завизжать, как поведут себя остальные, пока непонятно. Ладно, их проблемы. Девочка лет пяти за соседним столиком, которая вот уже полчаса с тоской во взоре ковыряла пирожное, теперь прилипла кокну. Не издает ни звука, даже маму, безнадежно увязшую в иллюстрированном журнале, пока не дергает. И правильно. Есть вещи, о которых мамам лучше не знать.
Нина не верещит, конечно, держит слово, но смотрит, не отрываясь, глаза становятся круглыми, как у совы, губы складываются в испуганную улыбку, я уже почти торжествую, и тут у нее начинает звонить телефон. Нина вздрагивает, хватает сумку и принимается там рыться. Астматик, которому срочно понадобился ингалятор, в сравнении с нею – воплощенное спокойствие, айсберг, без пяти минут Будда. На пол с грохотом падают две связки ключей, кошелек, книжка, пестрый платок, еще ключ с брелком в форме экзотической рыбы, снова какая-то книжка; наконец, она достает телефон и, едва взглянув на экран – не тот номер! не тот! – швыряет его обратно. Потом, прикусив губу, начинает аккуратно складывать в сумку прочее имущество. В окно она больше не смотрит.
Какое-то время мы молчим.
– Слушай, – наконец говорит Нина, – что это за фигня была? Я имею в виду эти звери на улице. Откуда они взялись?
– В соседнем переулке с утра кино снимают, – отвечаю. – Наверное, оттуда ивзялись.
– А, – с облегчением вздыхает Нина. И разочарованно добавляет: – Ну да, тогда понятно.
Обманывать, я знаю, нехорошо, а в данном случае – просто немилосердно, но в моем сердце пока нет места милосердию. Тут уж ничего не поделаешь, надо просто подождать. Скоро опять появится.
Единорог и пингвин уже скрылись за углом. Девочка за соседним столиком снова принимается крошить свое пирожное. Иногда она поглядывает на маму, лицо ее при этом делается лукавым и упрямым. У нее есть тайна.
Улица Пилимо (Pylimo g.) Полиция города Вильнюса
Все было хорошо, пока Янина шла через двор, белый от вишневого цвета, разглядывая пестрые пропеллеры, развешенные на столбах вместо фонарей. Даже три старухи, несущие вахту на лавке, ее не насторожили – ну, бабки, подумаешь, надо же им где-то сидеть, а что вид неприветливый, так в их возрасте почти все так выглядят, особенно в сумерках.
Она не устояла перед искушением, уже в подворотне обернулась и показала зловещей троице язык, а потом побежала, разгоняясь, чтобы взлететь, в таком настроении это обычно сразу получается, но сейчас не вышло – ноги налились свинцом и словно бы прилипли к земле. При этом они не стояли на месте, а продолжали идти каким-то неведомым, самостоятельно выбранным маршрутом; Янина не знала, куда направляется, а они, похоже, знали, и как же ей это не нравилось.
Двор с вертушками и старухами находился, по ее ощущениям, где-то на спуске с холма, между улицами Басанавичюс и Калинауско, однако вышла Янина возле центрального рынка, и сердце ее сжалось в маленький, твердый, зеленый, как неспелое яблоко (цвет она ощущала как-то особенно отчетливо), комок, тяжелый и вязкий, как пластилин. Обычно в это место ее заманивали хитростью, здесь назначали свидания любимые, сюда ее приводили за руку друзья, в этом направлении всегда бежали сорвавшиеся с поводка щенки и летели бабочки, которых ей поручали пасти. Но сегодня обошлось без ухищрений, Янину предали собственные ноги. Теперь они вероломно шагали по направлению к троллейбусной остановке. Минуты не пройдет, и Янина будет стоять там по стойке «смирно», лицом к проезжей части, не в силах заставить себя уйти, или хотя бы обернуться и посмотреть в глаза убийце. Не то чтобы она верила, будто это может помочь, а все-таки хотела попробовать, но до сих пор ни разу не получилось.
Воздух стал густым и тошнотворно сладким, кислый запах страха Янины смешался с терпким звериным ароматом невидимого убийцы, и это интимное соединение телесных испарений было, кажется, хуже всего, хотя в таком деле, конечно, все – хуже. Янина содрогнулась от омерзения, попыталась повернуть, или хотя бы остановиться, но ноги по-прежнему шли вперед, ей не удалось даже замедлить шаг, и тогда она наконец закричала от ужаса и отчаяния, но так и не проснулась. Ей никогда не удавалось проснуться от собственного крика. Наоборот, начиная кричать, Янина еще глубже увязала во сне, как в трясине – похоже, здесь действовало поганое болотное правило: не трепыхайся, тогда проживешь на целых три минуты дольше. Может быть.
До троллейбусной остановки оставалось всего несколько шагов, когда Янина услышала стук. Она встрепенулась, прислушалась и вдруг, о чудо, застыла на месте, так и не переступив роковую, черт бы ее побрал, черту. Стук становился громче, теперь он грохотал повсюду – впереди, позади, в небе и под землей, гудел в Янининой голове, вибрировал в животе, заполнил ее тело, и когда оказалось, что там больше не осталось свободного места, Янина взорвалась, и глаза ее наконец открылись.
Она не вскочила, а выкатилась из постели на ковер, уткнулась лицом в его колючий ворс и только тогда осознала: спасена. На этот раз – спасена.
А потом Янина поняла, что стук раздается по-прежнему. И ладно бы, просто стук – дверь ее, того гляди, вот-вот слетит с петель.
За окном чернильная тьма безлунной ночи начала наливаться свинцово-синим предрассветным мраком. Значит, где-то около шести утра. Кого, интересно, принесло в такую рань? В любом случае благослови его Боже!
Янина встала на все еще непослушные ноги, набросила поверх пижамы старое вязаное пальто, заменявшее ей домашний халат, и поковыляла к двери.
– Кто там?
– Это полиция, – ответил женский голос. – У вас все в порядке? Мы проходили мимо и услышали крики…
– Понимаю. Это я кричала, – сказала Янина. – Подождите, я открою. Сейчас.
Их было двое: худенькая остроносая молодая женщина с очень густыми каштановыми волосами, подстриженными и уложенными так неудачно, что они больше походили на огромную валяную шапку, чем на прическу, и седой мужчина лет пятидесяти, по-крестьянски кряжистый, флегматичный и основательный. Они с недоверчивым удивлением разглядывали сияющую Янину, которая сбивчиво повторяла:
– Спасибо! Спасибо вам, что зашли! Такое спасибо!
– А что случилось-то? – настороженно спросила женщина. Перейдя нашепот, уточнила: – В доме еще кто-то есть? – И, поколебавшись, почти не размыкая губ, добавила: – Муж?
– Нет-нет, никакого мужа. Я одна живу. И сейчас одна. Это я во сне кричала. Кошмар приснился. Очень страшный сон. А вы услышали, пришли и разбудили, спасибо вам за это… А знаете что? Давайте я вас кофе напою. Хотите?
Полицейские изумленно переглянулись и снова недоверчиво уставились на Янину.
– Я просто еще боюсь оставаться одна, – честно сказала она. – А вы, наверное, всю ночь дежурили, кофе не помешает. Правда же?
– Не помешает, – наконец решил мужчина.
А женщина просто улыбнулась.
Янина тоже заулыбалась в ответ и метнулась на кухню, бормоча:
– Проходите-проходите, разуваться не надо, я сейчас, я быстро-быстро, вот увидите.
Поставила джезву на самую мощную конфорку – не по правилам, конечно, хороший кофе надо томить на медленном огне, чем дольше, тем лучше, но сейчас, честно говоря, сойдет и просто умеренно неплохой. Не до жиру.
Полицейские нерешительно остановились на пороге кухни.
– Садитесь, садитесь! – затараторила Янина. – В кресло или на диван, все равно, куда нравится… Вы все-таки разулись? Ой, зря, не надо было! У меня тапочек нет…
– Ноги устали, – сказала женщина. – Вроде удобные туфли, но я их только второй раз надела. И уже часов семь не снимала. Мне сейчас разуться даже нужнее, чем кофе.
– Нехорошо в обуви на кухню, – добавил мужчина. – Обувь грязная, а на кухне еду готовят.
Он сел в кресло, его напарница с ногами залезла на диван, достала сигареты и нерешительно посмотрела на Янину.
– Курите, курите, я сама тут курю, – закивала она.
Женщина чиркнула зажигалкой, жадно затянулась дымом и наконец представилась.
– Меня зовут Таня.
– А меня Альгирдас, – сообщил ее напарник.
– А я Янина. И наш кофе уже почти готов. Еще минуточку.
– Да вы не спешите, пани Янина, – хором сказали полицейские.
– Будем считать, что все это время мы делали обыск в вашей квартире, – добавила Таня. – Искали злоумышленника. Но так и не нашли.
– Найдешь его, как же, – вздохнула Янина. – Он, зараза такая, во сне остался. И ужас в том, что рано или поздно я снова туда засну.
Она разлила кофе по пестрым керамическим стаканам, привезенным когда-то из Гранады, поставила на стол сахарницу, достала из холодильника сливки, заглянула в буфет – порой там можно обнаружить какой-нибудь отбившийся от рук шоколад. И сейчас он, к счастью, нашелся – белый, с орехами. Янина раздробила плитку на мелкие осколки, чтобы гостям было удобно их брать, села на диван рядом с Таней, закурила и только тогда окончательно поверила, что проснулась. И чуть не заплакала от облегчения и одновременно от жалости к себе. Теперь, когда страх был побежден, на Янину навалилась усталость. Неудивительно – и трех часов не поспала. И ясно, что больше уже не получится. День, можно считать, пропал, в таком состоянии много не наработаешь.
– Снова туда заснете? – переспросил Альгирдас. – То есть этот сон вам регулярно снится?
– Вот именно, – подтвердила Янина. – Чуть ли не с детства. То есть первый раз он мне приснился в четырнадцать лет, это я очень хорошо помню. Так перепугалась, что на Центральный рынок потом много лет не ходила, только на Кальварийский, хотя он гораздо дальше. Теперь, конечно, и на Центральный хожу, наяву-то он совсем не страшный. Хотя все равно неприятно…
– То есть что-то плохое всегда происходит с вами на Центральном рынке? – деловито уточнила Таня.
– Не совсем там, но рядом. На троллейбусной остановке на Пилимо.
– Ясно, – кивнула Таня. Достала блокнот и принялась конспектировать Янинины показания.
Янина открыла было рот, чтобы спросить: зачем записывать, это же просто сон, – но постеснялась и промолчала. Ну, надо человеку. Может быть, эта Таня на психоаналитика учится в свободное от службы время. И как раз сейчас пишет курсовую про страшные сны городских жителей. Можно считать это большой удачей. Янина давно ждала случая выговориться. Близким как-то неловко эту чепуху рассказывать, а чужим людям, да еще и полицейским – в самый раз. Полицейские – это даже лучше, чем, скажем, попутчики. Их, пожалуй, ничем не смутишь, всякого навидались.
– Меня на этой остановке все время убивают, – пожаловалась она. – То есть по-настоящему убили только в первый раз, ножом в спину, и это было так ужасно! Я имею в виду не удар, а то, что за ним последовало, процесс умирания. Как будто меня жевали, вернее, перемалывали в мясорубке. Не тело, конечно, а – меня. Душу, что ли? В общем, не знаю, как сказать. То, что я на самом деле собой представляю. И сознание вытекало из меня как сок. Постепенно. Медленно-медленно. Это было гораздо хуже физической боли, хуже вообще всего на свете… нет, я не смогу внятно объяснить. Это продолжалось так долго, что мне показалось – всегда, я почти забыла, что когда-то была жива, и со мной происходили другие вещи, самые разные, приятные и не очень, но – другие… Неважно. Главное, что в тот раз меня все-таки разбудили. Папа проснулся, стал искать очки, зашел в мою комнату, спросонок задел книжную полку, все попадало, и от грохота я проснулась. Еле живая, руки-ноги ледяные, давление нулевое, сердце почти не билось, родители даже скорую вызывать хотели, но обошлось, я как-то сама ожила. И потом несколько дней боялась засыпать. Но усталость, конечно, взяла свое, и кошмаров больше не было, по крайней мере, этого, про убийцу на троллейбусной остановке, не было несколько лет. А потом сон повторился, только до убийства не дошло, я тогда уже более-менее взрослая была, ночевала у мальчика, он меня очень вовремя разбудил, спасибо ему… И с тех пор мне эта дрянь время от времени снится, раз в год, иногда чаще – как я иду мимо Центрального рынка, подхожу к троллейбусной остановке, а там уже ждет убийца с ножом. И я вспоминаю, что сейчас случится, но убежать не могу, ноги не слушаются, и тогда я начинаю кричать. Обычно на этом месте меня кто-нибудь будит, я просыпаюсь в холодном поту – и все, свободна. На какое-то время. До следующей серии.
Янина остановилась, перевела дух и опасливо покосилась на полицейских. Что они теперь считают ее идиоткой – это ничего, нормально, даже хорошо. Лишь бы не решили, что ситуация требует медицинского вмешательства. И не приняли меры.
Но во взорах полицейских она не обнаружила ничего, кроме сочувствия, причем скорее профессионального, чем человеческого. Так обычно смотрят на жен алкоголиков и матерей трудных подростков – дескать, жалко вас, пани, но таких, как вы, увы, много, и помочь вам всем способен разве что Господь Бог, а уж никак не правоохранительные органы. Хотя мы, конечно, сделаем, что можем.
– Ужасный сон, – наконец вздохнула Таня. – Действительно ужасный. Как вы спать одна решаетесь?
Янина пожала плечами.
– Я не то чтобы «решаюсь». Просто так сложилось. Не могу же я спать с кем попало, даже ради безопасности. Пробовала когда-то, думаете, нет? Очень не понравилось… А тот, который не кто попало, живет в другом городе. У него там работа. У меня тут. Ничего не поделаешь.
– Работа – это да, – авторитетно кивнул Альгирдас. – Такое дело. Работой в наше время не бросаются.
Помолчали.
– К сожалению, нам уже давно пора, – сказала Таня, с явной неохотой покидая гостеприимный диван. – Спасибо вам за кофе. И попробуйте еще немного поспать. Сами же говорите, этот кошмар вам редко снится. Так что сейчас бояться нечего, да?
– Мне почему-то кажется, что если я засну прямо сейчас, то вернусь на эту проклятую остановку, – вздохнула Янина. – А если попозже, то уже, наверное, не вернусь. Как будто есть какая-то невидимая дверь, ведущая прямо туда. И она еще открыта, а какое-то время спустя, как-нибудь сама захлопнется. Глупости, конечно, но лучше я потерплю до вечера. Чтобы уж наверняка.
– А все-таки поспать вам бы не помешало, – заметил Альгирдас. И с отцовской заботой, замаскированной под строгость, добавил: – Вы же не просто бледная, вы зеленая. Краше в гроб кладут.
Но Янина не стала ложиться в гроб, а, напротив, по пояс высунулась в окно и долго махала своим новым знакомым, пока они не свернули за угол. И только тогда почувствовала, что осталась одна. Но страшно ей уже не было. Чего ж тут страшного, если не засыпать? А засыпать-то мы и не будем, пообещала она себе. Мы сейчас сварим еще кофе, и с книжкой под одеяло… А еще лучше будет одеться и пойти в парк. На ходу я точно не засну. Я и сидя-то спать толком не умею, в автобусе вечно мучаюсь… Да, пойти погулять – это самое надежное.
Она сняла вязаное пальто и пижаму, ежась от холода, натянула свитер и носки, взяла джинсы и, прижимая их к груди, рухнула на постель как подкошенная. Ноги отказывались повиноваться, в ушах звенел сладостный, убаюкивающий гул. Какой уж тут парк.
Сейчас, сейчас, говорила себе Янина. Вот только одну минуточку полежу и сразу встану. И сварю еще кофе. И потом пойду. Ух, как я пойду!
Глаза ее тем временем закрылись. Джинсы, с которыми она обнималась, были тяжелые и теплые, так что в какой-то момент Янине показалось – она больше не одна. И значит, можно немножко поспать. Буквально минуточку. Совсем чуть-чуть.
Когда Янина говорила: «Если я засну прямо сейчас, то вернусь на эту проклятую остановку», – она сама не очень-то верила в такую возможность. Боялась, да, но страх – чувство иррациональное, пробудившись после очередного кошмара, она поначалу вообще всего боялась, а потом снова почти ничего, как всегда.
Когда Янина представляла себе, что после ее пробуждения в спальне появляются невидимые открытые двери, ведущие обратно, в сон, и на то, чтобы они закрылись, требуется какое-то время, ей самой казалось, что это – просто причудливая игра воображения, нелепая фантазия, неожиданно звонкое эхо давнего юношеского увлечения сочинительством фантастических историй. В конце концов, любой сон – это то, что происходит у нас в голове, – говорила она себе. – Значит, и дверь в голове, а это считай, нигде, просто образ, причем не то чтобы очень удачный.
Однако на сей раз здравый смысл был посрамлен.
Почувствовав, что уже почти заснула, Янина вздрогнула, открыла глаза и обнаружила, что снова стоит на улице Пилимо, возле Центрального рынка, всего в нескольких шагах от проклятой троллейбусной остановки. В свитере и носках, прижимая к груди джинсы, то есть точно в таком же виде, как заснула, и это испугало ее больше всего. До сих пор ничего подобного не случалось, по крайней мере, Янина не могла припомнить, чтобы ей приходилось слоняться по своим сновидениям голышом или, скажем, в пижаме. А то бы давно завела привычку засыпать при полном параде, причесавшись и наложив макияж.
Подвывая от страха, Янина принялась натягивать джинсы. Без штанов, с голыми ногами она чувствовала себя слишком жалкой и беззащитной. Нельзя сказать, что джинсы коренным образом изменили такое положение вещей, но пока Янина их надевала, она свято верила, что это вполне может произойти. И еще, конечно, надеялась, что проснется от предпринятых усилий, но ничего не вышло. Болото, проклятое болото, – в отчаянии думала она, – чем больше трепыхаешься, тем быстрее идешь ко дну.
Но, по крайней мере, сейчас Янина оставалась на месте. То есть не сделала ни шагу из тех пяти или шести, что отделяли ее от зеленой лавки под жестяным навесом, соседствующей с ней афишной тумбы и монументальной каменной урны в форме разевающего пасть льва; наяву такой, конечно же, не было, и ее присутствие, похоже, оставалось единственным отличием этой троллейбусной остановки от настоящей.
Лучше всего было бы убежать отсюда куда глаза глядят, но об этом не могло быть и речи, по крайне мере, пока. Ноги отказывались повиноваться, в этом сне они всегда сами решали, что делать, а интересы и намерения хозяйки были ногам до того самого места, откуда они, мерзавцы такие, росли.
В принципе, а что помешает убийце самому подойти поближе? – тоскливо думала Янина. – Правильно, ничего. Зато на этот раз я его наконец увижу. И, возможно, так перепугаюсь, что наделаю в штаны, зря я, что ли, их надевала. И вот тогда уж точно проснусь. Но, скорее всего, просто заору. И буду орать, пока кто-нибудь не разбудит. Хоть бы соседи в стенку постучали, что ли. Интересно, кстати, почему они никогда не стучат? Неужели их мои вопли совершенно не беспокоят? Немыслимо.
Занятая размышлениями, она неожиданно успокоилась – насколько вообще можно успокоиться в подобных обстоятельствах. И не закричала, а только зябко поежилась, когда увидела, как от афишной тумбы отделилась длинная гибкая тень, вернее, силуэт высокого человека, наделенного пластикой танцора. Широкие плечи, худые руки, длинные ноги, волосы собраны в хвост; лица пока не разглядеть, но и так понятно, что хорош, гад. Очень хорош. До сих пор Янина была уверена, что на нее охотится чудовище; она, впрочем, и сейчас так думала, ноне могла не признать, что это чудовище выглядит чрезвычайно привлекательно. Так, наверное, лучше, – беспомощно думала она. – Если бы он оказался уродом, мне было бы еще и противно. А так – только страшно. Но когда я его не видела, только слышала шаги за спиной, было гораздо страшнее.
– Ни с места!
Женский голос, да такой звонкий, что с деревьев посыпались багряные листья и белые цветочные лепестки.
Гибкий красавец содрогнулся и как-то резко уменьшился в размерах. Теперь он казался подростком, по крайней мере, издалека.
– Это полиция. Стоять. Руки за голову. А теперь, пожалуйста, бросьте вашеоружие на землю, – сказал другой голос, мужской.
Он звучал так флегматично, словно арестованный был, скажем, семьдесят третьим по счету на этой неделе.
Янина смотрела во все глаза, как двое полицейских надевают наручники на человечка, столь маленького и жалкого, что будь она просто случайной прохожей, рассказывала бы потом знакомым, как сволочи полицейские истязают дошкольников, Бога не боятся, никто им не указ.
В этом сне всегда царили густые, мутные предрассветные сумерки, но все же Янина явственно различала в полумраке светлые волосы мужчины и огромную шапку на голове женщины. Все-таки у Тани очень неудачная стрижка, подумала она перед тем, как проснуться.
Улица Плачойи (Plačioji g.) 1 + 1
Почти каждый день, возвращаясь с работы, шел по Плачойи, а потом сворачивал на Круопу, откуда можно было подняться по лестнице почти к самому дому; не то чтобы кратчайший маршрут, просто любил ходить по этим узким коротким улочкам за синагогой, обшарпанным и неизменно безлюдным, чувствовать себя монетой, ненадолго угодившей в потайной латаный-перелатаный, а все равно дырявый карман условно пижонского пиджака, которым город щеголяет перед туристами и жителями собственных спальных окраин, изредка, хорошо если пару раз в месяц приезжающими погулять в центр.
Любил этот район, застрявший даже не то чтобы в прошлом, скорее, в полном безвременье; знал, что рано или поздно его вытащат из этого безвременья за шкирку, как угнездившегося в хозяйском шкафу кота, отряхнут, осмотрят с деловитой брезгливостью, выкупят все что можно, снесут, перестроят, отремонтируют, распродадут. Знал и совсем не грустил по этому поводу, но дорожил каждой прогулкой, как трофеем, отвоеванным у неизбежности. Сегодня моя взяла, а дальше – ну, поглядим.
Очень удивился, обнаружив там новенькую вывеску «Арт-галерея 1+1». Не было тут никогда никаких галерей; ясно, конечно, что открыть галерею дело нехитрое, но елки, не здесь же! В этих безлюдных проулках даже булочная прогорит в первую же неделю: жильцов в окрестных домах раз, два и обчелся, а остальным просто в голову не придет сюда завернуть.
Естественно, зашел. Интересно, что там такое.
Галерея оказалась совсем дурацкая.
Во-первых, слишком маленькая. Предполагается, что художественная галерея – это все-таки какое-никакое, а выставочное пространство. И, по уму, хорошо бы иметь возможность отойти от стены, на которой висят картины, хотя бы на несколько метров. А «несколько» – это совершенно точно больше двух! Если бы две тесные комнатушки объединили в одну, сломав перегородку, вышло бы еще туда-сюда, однако хозяева галереи не стали утомлять себя капитальным ремонтом. Поэтому вместо одного условно пристойного выставочного зала здесь было два: очень маленький и совсем крошечный. И освещение хоть куда. В смысле пристрелить бы их всех, чтобы не мучились.
Во-вторых, на неровно, на скорую руку выбеленных стенах висели не городские пейзажи, не натюрморты с маками и васильками, не портреты умильных котов, сулящие хотя бы смутную тень надежды на прибыль, и даже не какой-нибудь лютый, надменно глумящийся над зрителем авангард, а просто черно-белые фотографии, на первый взгляд производящие впечатление любительских из-за небольшого размера и дешевых рамок с тусклой позолотой; впрочем, именно рамки и смягчили его сердце, у бабушки были такие же или очень похожие, надо же. Только поэтому сразу не вышел на улицу, решил задержаться и внимательно посмотреть.
Фотографии неожиданно оказались вполне ничего, их бы еще распечатать покрупнее и оформить по-человечески. Никогда не любил соваться с непрошеными советами, но тут почти невольно принялся оглядываться по сторонам в поисках живой души, которую можно было бы спросить: за что вы так ненавидите автора? Почему так старательно скрываете от публики достоинства его работ? И имя нигде не написали, слушайте, ну так же нельзя!
Во втором зале, то есть, если называть вещи своими именами, в дальней каморке, обнаружил милую старушку в аккуратном клетчатом платье, которая сразу, не дожидаясь расспросов, объявила, что знать ничего не знает, в галерее сидит по просьбе соседа, которому понадобилось отлучиться по делам, а выставка пока не работает, открытие только в пятницу. Но ладно, если зашли, можете посмотреть сейчас.
Прошелся по залу; ну как прошелся – три шага туда, четыре сюда. Фотографии тут были не хуже, чем в первом, скорее всего, того же автора или группы авторов, объединенных сходными представлениями о том, как надо снимать. И в какие убогие золоченые рамки потом запихивать свои снимки, чтобы отпугнуть как можно больше любителей изящных искусств. Если оформление – часть суровой мизантропической концепции, тогда отлично все удалось.
Ладно, какое мне дело.
Уже собирался поблагодарить и уйти, когда увидел себя. Подумал: «Быть того не может, просто немного похож», – но сходство было так велико, что засомневался, подошел поближе и долго рассматривал фотографию, на которой его двойник, лет на десять моложе, в обрезанных до колен джинсах и светлой футболке с надписью «Hasta Mañana»[37] пересекал Кафедральную площадь, подняв над собой, как зонт, тощий скелет давным-давно осыпавшейся елки. Свободной рукой двойник обнимал маленькую кудрявую женщину в длинном, до пят сарафане, оба хохотали так заразительно, что невозможно было не улыбнуться в ответ этим придуркам, собравшимся выбросить рождественскую елку, судя по их одежде, в июле. Ну или ладно, допустим, чуть раньше, в мае почти каждый год бывает несколько очень жарких дней.
Подумал: даже жалко, что на фото не я. Определенно не я, никогда у меня не было футболки с такой надписью, и женщину я не знаю; впрочем, даже если бы знал, вряд ли стал бы так пылко с ней обниматься, совершенно не в моем вкусе, грудь, как у мальчишки, и кудри эти овечьи, и рот практически до ушей.
Подумал: надо же, где-то в городе живет мой близнец, а я его никогда не встречал. Впрочем, может и не живет, приехал в отпуск к друзьям, заодно помог им навести порядок, вынес мусор, чтобы отблагодарить за стол и ночлег.
Подумал: чего только не бывает.
Попрощался с клетчатой старушкой и ушел.
* * *
В четверг после работы ужинал с Эмилией; как всегда вполуха слушал, что она говорит, кивал в нужных местах, в других нужных местах отрицательно мотал головой. Эмилия всегда говорила примерно одно и то же, это изрядно облегчало задачу, поэтому рядом с ней было легко, почти как наедине с собой: ешь пиццу, краем уха слушаешь музыку, думаешь о своем. Рассеянно рассматривал фотографии, которыми после недавнего ремонта украсили стены ресторана, невольно сравнивал их со вчерашними в так называемой «арт-галерее». Здесь, слава богу, все честь по чести, нормальный размер, прекрасная печать, черные паспарту, матовое стекло… так, погоди, а что это там? Неужели?.. Да нет, не может быть.
Не стал говорить Эмилии: «Пойду взгляну вон на ту фотографию», – потому что если там и правда веселый двойник со своей кучерявой подружкой, расспросов не избежать: «Ты это тут с кем? А когда? Ты уверен, что до меня?» По большому счету, все равно, поверит она или нет, но вечер будет испорчен.
Соврал: «Погоди, кажется, там мой коллега, надо подойти поздороваться». Подошел, вслух сказал одиноко сидевшему за столом незнакомцу: «Извините, я перепутал», – а пока говорил, успел рассмотреть фотографию над его головой. Снова эта парочка, надо же, что за нелепое совпадение, только вчера их видел, ну правда, только вчера. Сцена, впрочем, совсем другая: двойник и его кудрявая подружка спускаются по лестнице от Барбакана; на голове у женщины горшок с разлапистым кактусом, несет его, придерживая одной рукой, а я хохочу, как дурак, как счастливый мальчишка в нелепой футболке с надписью «Hasta Mañana», парю над лестницей, не касаясь ногами земли, так уж удачно фотограф поймал момент. То есть, конечно, не я, мой везучий близнец парит и хохочет, а я тут стою и смотрю, и это еще вопрос, кто из нас «как дурак».
Вернулся на место, сказал Эмилии: «Обознался». Хотел узнать у официантки, что за фотографии тут развесили, вдруг расскажет про автора, кто он вообще такой, но в последний момент передумал. Сам не знал, почему.
Расплатившись за ужин, курил у выхода, пока Эмилия ходила в уборную поправлять макияж, улыбался, вспоминая фотографии, вчерашнюю и сегодняшнюю: дурацкий двойник с дурацкой елкой, дурацкой кудрявой телкой и таким же дурацким кактусом, им всем под стать. Чего, интересно, они так ржали, что у них такое случилось, что она ему сказала? Или он ей сказал? Или просто представили, как сейчас выглядят со стороны? Счастливые, черти, такие счастливые, зависть берет.
Потом шли к Эмилии обычным маршрутом, через проспект Гедиминаса, где в это время обычно еще продают цветы. Купил три темно-бордовые розы на очень длинных стеблях, как всегда самые дорогие, Эмилии это было важно, а ему все равно.
У подъезда поцеловал Эмилию в щеку, сказал: «Извини, малыш, сегодня я… у меня… мне срочно надо. Спасибо за вечер, я тебе позвоню».
Эмилия выглядела удивленной, но сам удивился гораздо больше. Спрашивал себя: «Эй, ты чего?» Так и не дождался ответа – ни по дороге, ни в незнакомом баре, куда зачем-то свернул, хотя завтра пятница, открытие выставки в дурацкой галерее, в смысле с утра на работу, какая может быть галерея, совсем свихнулся, придурок, и даже посмеяться над собой тебе не с кем, такая беда.
* * *
Бармен был красив, как киноактер, и приветливо невозмутим, тоже как в каком-нибудь старом фильме; порекомендовал кайпиринью, коктейль из бразильской водки кашасы, никогда раньше не пробовал, а оказалось, отличная штука, от нее не столько пьянеешь, сколько исполняешься беспричинной радости, как те двое с фотографий, которые с елкой и кактусом, вот они, оказывается, почему! Сам бы сейчас хохотал в голос, если бы нашлась подходящая компания, а в одиночку смеяться вслух – это все-таки не дело, не настолько я пьян и, положа руку на сердце, не настолько счастлив, сколько коктейлей ни выпей, а до полного счастья чего-то все равно не хватает, возможно, кудрявой тощей подружки с таким удивительным длинным, почти уродливым, бесконечно чувственным ртом – каково, интересно, ее целовать? Я бы попробовал, правда, вот прямо сейчас бы попробовал с радостью, где же ты, женщина-которая-смеется, куда подевалась, эй!
Но она, конечно, не возникла из ниоткуда за соседним столом, не вошла с улицы, извиняясь за опоздание, не влетела в окно, как птица, не выскочила из подсобки с полным подносом орешков и чипсов, что на самом деле совершенно не удивительно, но все равно чертовски обидно. Это она зря.
Спьяну всегда становился внимательней, чем обычно, видимо, мозг включал дополнительную систему контроля, чтобы не влипнуть в неприятности, не забыть положить в карман кошелек, не выронить телефон, не шагнуть под машину, не выйти в закрытую стеклянную дверь. Только поэтому заметил пришпиленную кнопкой, высоко, над стеллажами с бутылками, почти под самым потолком цветную открытку с изображением трамвая, почему-то на фоне Святой Анны[38], хотя трамваев в Вильнюсе отродясь не было; ну то есть как «отродясь», на самом деле с двадцать шестого года прошлого века, когда выставили на продажу вагоны злосчастной «пигутки»[39], с тех пор о трамваях больше не заикались, с двух попыток не получилось[40], третью дают только в сказках, а в жизни – нет, значит нет.
И вдруг трамвай и Святая Анна! Вроде бы не рисунок, а фотография. Дураку ясно, что фотошоп. Попросил посмотреть, желая разобраться, как это сделано, бармен не поленился залезть на табуретку, дотянулся, спасибо ему за такую любезность. Долго вертел открытку в руках, щурился, изображая знатока, все равно ни хрена не понял про фотошоп, зато разглядел детали: кудрявую пассажирку, по пояс высунувшуюся из трамвайного окна, и ее долговязого кавалера с гигантским плюшевым зайцем в руках, которого он не то подавал подружке, не то, напротив, помогал эвакуировать из вагона, поди их пойми. Лиц, конечно, было не разглядеть, и это к лучшему, потому что наверняка бы чокнулся прямо на месте, снова опознав своего счастливого двойника, а так – ну просто подумал: «Они, готов спорить, они!» И заказал еще одну кайпиринью, гори все огнем. Ласковым, теплым, темным, неугасимым небесным огнем, как от ее поцелуев. Чьих «ее»? – не знаю, не помню, неважно, но ты, уважаемое все, пожалуйста, будь так добро, гори им, гори.
Пока сидел в баре, на улице изрядно похолодало, и зарядил смурной, совершенно осенний дождь, такой неуместный, но почти неизбежный в апреле; пожалел, что не вызвал такси, думал даже вернуться в бар и позвонить оттуда, без точного адреса никто не захочет ехать, но поленился, пошел пешком до самой остановки; оказалось, правильно сделал: успел на последний трамвай. Чудо, на самом деле обычно в это время они уже не ездят, неужели наконец-то ввели специальный ночной маршрут? Завтра надо будет посмотреть на сайте городского транспорта, там должны написать.
Домой добрался сильно за полночь, и уснул, едва голова коснулась подушки, уже без штанов, но в рубашке и почему-то в одном носке.
* * *
Что снилось, потом так и не вспомнил, но проснулся счастливым, как в детстве, нетерпеливым, исполненным сладких предчувствий, как будто кофе, растворимая овсянка и получасовая прогулка до офиса – лучшее, что может случиться с человеком, а кропотливая работа с аудиторскими документами – захватывающее приключение, о котором всю жизнь мечтал. На самом деле мечтал, конечно же, о другом, но настроения это почему-то совсем не портило – подумаешь, сегодня так, а завтра будет иначе, ужасно интересно, как именно, кто бы мне рассказал.
О дурацкой галерее и открытии выставки сперва даже как-то не вспомнил, а когда спохватился, что хотел туда зайти, познакомиться с фотографом и может быть, если сложится разговор, расспросить об этих его развеселых моделях, сладкой парочке – кто они? где они? – уже было поздно, потому что твердо пообещал шефу, во-первых, закончить срочную работу, даже если придется сидеть до ночи, а во-вторых, выпить с ним потом коньяку, не то в награду за успех, не то в наказание за излишнюю покладистость, это как посмотреть.
Работу закончил быстро, к восьми; с коньяком оказалось сложнее, потому что шеф был в лирическом настроении, домой не спешил, получасом в ближайшем баре не ограничилось, пошли в не ближайший, потом куда-то еще; в итоге остался один только в половине двенадцатого, удручающе трезвый не то от ночного холода, не то от досады, что не успел на открытие выставки; впрочем, ладно, к черту ее.
Домой отправился пешком, обычным маршрутом, через все эти свои любимые переулки, скорее просто по привычке, чем ради возможности прижаться носом к холодному стеклу галерейной витрины, долго всматриваться в темноту в надежде разглядеть там – что именно? – нет ответа. Хоть что-нибудь разглядеть. И уж точно не для того, чтобы сидеть потом на корточках на пороге, ждать неведомо чего, курить сигареты, одну за одной, принимая горечь и легкую тошноту как благословение, как спасение от гораздо худшей беды, знать бы еще какой.
Наконец решился оттуда уйти, встал, дошел до угла, свернул с Плачойи на Круопу, там, в конце, знакомая лестница, всегда по ней поднимался к дому, но сейчас почему-то никакой лестницы не было, только тропинка, ведущая вниз с холма, к реке, которая здесь отродясь не текла, до реки отсюда минимум четверть часа быстрым шагом, очень быстрым, почти бегом – до любой из наших двух рек.
Но куда деваться, спустился к реке, долго шел по берегу до моста, сидел потом на перилах, как попугай на жердочке, болтая ногами над быстрой темной водой, думал: если бы мы пришли сюда вдвоем, как бы сейчас смеялись, уж не знаю, над чем, нашли бы; нам не нужен какой-то особый повод, достаточно и того, что мы есть, мы живы и вместе, и вот сидим на мосту, болтаем ногами в небе, распугивая любопытные звезды, такие придурки, прекрасные и нелепые, как сама жизнь. Сказал почему-то вслух, как будто говорил по телефону: «Эй, приходи, ты же видишь, я без тебя не могу».
Но, конечно, никто не пришел.
Так и сидел на этом мосту один, как дурак, пока не проснулся; за окном было темно, значит, нет еще даже шести, можно спать дальше, а с учетом того, что сегодня суббота, практически вечно. Перевернулся на другой бок, обнял Анну, зарылся лицом в ее кудрявую шевелюру, вдохнул сладкий, почти младенческий запах ее затылка, прошептал: «Представляешь, мне приснилось, что у меня тебя нет». Но Анна спала очень крепко, ничего не услышала, и правильно сделала, нечего слушать всякие глупости, она молодец.
Улица Повило Вишинскё (Povilo Višinskio g.) Гости
Сперва Иван захотел жениться на Берте, а познакомился с ней только полтора года спустя.
Так бывает: увидел на улице женщину, высокую, статную, с кудрявыми волосами цвета крыла попугая ара, то есть действительно трех цветов, красного, синего, желтого, в каком-то невероятном косматом овчинном жилете с фольклорным орнаментом, с незажженной короткой сигариллой в зубах и сливочно-белым лабрадором на поводке, невольно подумал: вот бы мне такую жену, – и сам удивился. Зачем мне вообще какая-то жена?
Какая-то совершенно точно ни к чему, а вот такая – смешная, кудрявая, пестрая, длинная, с веселым ласковым псом – наверняка пригодилась бы. Пусть бы была под рукой.
Забыл об этом, конечно, но сразу же вспомнил, случайно встретив Берту в компании приятелей старшей сестры Алины, с которой никогда не был особенно близок, редко виделся, и вдруг так удачно зашел. Голос у Берты оказался под стать его первому впечатлению: бархатный, низкий, с едва заметной, волнующей хрипотцой. Спросил: как поживает ваша собака? – и угадал, это был отличный ход, кратчайший путь если не ко всему сердцу Берты сразу, то хотя бы к одному из предсердий. К левому, например.
Остаток вечера они проговорили о Зигги (все сразу спрашивают: «Стардаст?» – и я соглашаюсь, но на самом деле в честь Зигзага Мак-Кряка, вы же в детстве смотрели эти мультфильмы? Ну вот, щенком он был точно такой же прекрасный храбрый дурак). И еще добрую половину ночи болтали обо всем на свете, наматывая бесконечные круги по холодному весеннему городу; Иван был так счастлив, что, можно сказать, впал в детство: расставаясь с Бертой возле подъезда, внезапно оробел и даже не попытался ее поцеловать. Однако не особо огорчился. Почему-то не сомневался, что впереди у них если не вечность, то как минимум целая жизнь.
Недели не прошло, а он уже гулял с Зигзагом Мак-Кряком: Берта вдруг позвонила ему, сказала, что улетает на три дня по делам. Добавила: обычно когда я в отъезде, за Зигзагом присматривает уборщица, но если вдруг ты тоже хочешь, ей придется уступить.
Иван терпеть не мог заниматься чужими делами, но тогда даже не раздумывал: они со стариком лабрадором поладили при первой же встрече. Да и пожить в доме женщины, в которую только-только начал влюбляться – занятное приключение. Даже если жить там предстоит без нее. В общем, все сложилось отлично; вернувшись, Берта сказала: надо же, обычно я с трудом переношу присутствие посторонних в своей квартире, но ты тут – как всегда был. Хоть вовсе не выгоняй.
Но выгнала, конечно. Правда, не сразу, а вечером следующего дня. Сказала: прости, моя радость, мне надо работать. Только тогда спохватился: слушай, и мне! Прекрасное было время. Причем, в отличие от других его прекрасных времен, оно все не заканчивалось и не заканчивалось. Каждое новое свидание с Бертой казалось – не самым первым, конечно, но примерно вторым.
Сестра Алина при встрече сказала: ну ты даешь, охмурил нашу писательницу! Мы с девчонками были уверены, она вообще не по этому делу, в смысле не по мужикам. И вдруг – ты.
Ушам своим не поверил: какую писательницу? Погоди, так Берта?.. Да ты что! Не врешь?
Выяснилось, что Берта пишет детективные романы; написала уже целую серию, около десяти штук. И тиражи большие – да ты сам видел, как неплохо она на это деньги живет. Ее романы пользуются популярностью, особенно среди женщин среднего возраста – ну, тут, положим, можно сделать поправку на злой Алинин язык. Почему-то когда хотят обругать писателя, оставаясь при этом в рамках приличий, непременно призывают на помощь пресловутых женщин среднего возраста, как будто они черти с хвостами, где пройдут, не растет трава – в смысле рядом с ними нет ни жизни, ни литературы, вообще ничего.
Сперва чуть не сбежал с перепугу на край света, да все равно куда, лишь бы подальше от Берты, потому что однажды крутил роман с художницей и с тех пор твердо решил больше никогда, ни за что, ни на каких условиях не связываться с так называемыми «творческими людьми». С другой стороны, все люди разные, мало ли, что там творят другие, а Берта есть Берта, сдержанная и смешливая, теплая и исполненная достоинства. И еще, как выяснилось, чертовски скрытная, но кто не без греха.
Обдумав новость, Иван в конце концов даже обрадовался: теперь, по крайней мере, понятно, почему Берта хоть и выглядит влюбленной по уши, вовсе не рвется проводить в его обществе все выходные и вечера. К такому он не привык: до сих пор сам постоянно сражался с женщинами за свое священное право проводить часть свободного времени в одиночестве или с друзьями, а с Бертой получилось наоборот. И ему, надо сказать, совсем не понравилось оказаться по другую сторону баррикад, где вместо того, чтобы наслаждаться свободой, только сидишь и думаешь: интересно, что она сейчас делает без меня? «Пишет детективы», положа руку на сердце, совсем неплохой вариант.
Он, конечно, сначала твердо решил никогда не читать Бертины детективы – понятно, почему. В этом жанре, прямо скажем, немного шедевров, и если Бертины книжки окажутся совсем уж полным дерьмом, будет трудно пережить разочарование, так что лучше не рисковать.
Но не утерпел, конечно. Погибая от любопытства, открыл одну в магазине, решил: не понравится, сразу захлопну, постараюсь поверить, что это был самый слабый фрагмент во всем ее сериале, в общем, как-нибудь переживу. Но неожиданно для себя так увлекся, что очнулся чуть ли не на середине. Подумал: наверное, я – женщина среднего возраста. Это единственное разумное объяснение. Ну или Берта все-таки гений. В моих интересах выбрать второй вариант.
Гений, не гений, но детективы Берта правда писала хорошие. Он прочитал все и даже, можно сказать, заново влюбился, вернее, не заново, а просто в новую Берту, к которой теперь прилагались бесстрашный частный детектив Клаус, субтильный отставной шахматист, и его соседка Илона, двухметровая бывшая баскетболистка, по доброте душевной взявшаяся опекать растяпу-соседа, и получившая столько приключений на свою задницу, сколько вообще способна вместить задница размера XXL.
Пара получилась нелепая, но обаятельная, события, по большей части, загадочные, тайны – порой пугающие, разгадки – всегда остроумные; в ходе расследования мощный аналитический аппарат Клауса удачно умножался на житейский опыт Илоны, так что никто не оставался на вторых ролях. Но самым главным достоинством Бертиных книжек была их атмосфера, умело созданная трогательными деталями и задушевными диалогами. Вроде ничего особенного, но рядом с Илоной и Клаусом хотелось остаться жить. Или хотя бы заходить к ним в гости по вечерам – когда Берта запирается дома, чтобы как следует, всласть поработать, и все, чего от нее можно добиться, – приглашения вместе погулять с Зигзагом – целых двадцать минут. Но Иван больше не досадовал. Ее работа и правда стоила того.
Берте он долго не говорил, что читал ее книги. Просто не решался признаться. Чтение почему-то казалось ему постыдным поступком, как будто в личную переписку залез, хотя эта так называемая «личная переписка» издавалась многотысячными тиражами и продавалась во всех книжных магазинах на радость читателям. Но все равно как-то не поворачивался язык. Когда наконец раскололся, Берта сперва нахмурилась, но потом рассмеялась: ну да, конечно, ты в курсе, а чего я хотела. Сотню любовников легче было бы скрыть! Зато, узнав, что он полюбил Илону и Клауса, обрадовалась: не зря я решила, что с тобой можно иметь дело. Они отличные! И не потому, что я про них так уж хорошо написала, а сами по себе.
В итоге Бертины детективы их еще больше сблизили, можно сказать, породнили, как иногда бывает после удачного знакомства с родителями невесты – чувствуешь, что тебя приняли, признали членом семьи. То есть Иван теоретически предполагал, что так наверное бывает, на практике-то до знакомства с родителями избранницы у него еще ни разу не доходило. Просто не успевал. Он вообще был мастером короткого бурного романа – месяц, ну, два, потом начинал скучать. Но с Бертой они познакомились в марте, а в декабре он еще продолжал искренне волноваться перед каждым свиданием: как бы ей не разонравиться, не ляпнуть какую-то глупость, не разочаровать. И, в общем, уже понимал, что пожалуй не разонравится. Но волноваться от этого не переставал.
В начале декабря Берта сказала: слушай, у нас есть проблема, – и Иван чуть не умер на месте, потому что сразу решил: вот и все. Но она добавила: я влюблена в тебя по уши, мне с тобой весело, и спокойно, и вообще хорошо. Очень не хочется тебя, такого прекрасного, огорчать, но у меня есть традиция: встречать новогоднюю ночь за работой. От нее лучше не отступать. Один раз, очень давно, поддалась на уговоры, и потом за весь год не написала почти ни строчки; ладно, вру, написала, но это была моя худшая книжка, к счастью, у меня хватило ума ее на фиг выбросить, больше так не хочу.
Он даже рассмеялся от облегчения: господи, всех проблем – одна новогодняя ночь? Плюнь и забудь, терпеть не могу этот праздник. Лягу спать, или пойду в клуб с приятелями, в кои-то веки надерусь. Берта повисла у него на шее: не рассердился, не обиделся, ты самый прекрасный, ура! И весь остальной декабрь у них получился очень счастливый, свидания были чаще, и заканчивались, как правило, утром, причем – послезавтрашнего дня. И Ивану, конечно, все равно не надоело; впрочем, это он как раз заранее знал.
Но, вернувшись домой под вечер тридцать первого декабря, он внезапно затосковал. Хотя не обманывал Берту: до сих пор Новый год не казался ему важным праздником или, скажем, знаменательной датой. Но и никогда не вгонял в депрессию. Просто слегка раздражал. А тут вдруг стало по-детски обидно, хоть плачь.
Ни в какой клуб Иван, конечно, ни с кем не пошел; в любом случае, об этом надо было договариваться заранее, а ему как-то даже в голову не пришло. Идея проспать всю ночь была хороша, но совершенно нереалистична: они с Бертой дрыхли почти до полудня, и теперь он был свеж и бодр, как никогда. В конце концов, составил вполне приемлемый план. Сходил в магазин, купил килограмм мандаринов и три бутылки сухого вина, решил: сварю большую кастрюлю глинтвейна, буду всю ночь читать Бертины детективы, это почти все равно, что болтать с ней о пустяках.
Полночь Иван встретил, как было задумано – в кресле, с кружкой глинтвейна и книгой; пока за окном гремели салюты и взлетали в небо петарды, он перечитывал первый том, где шахматист Клаус знакомится со своей новой соседкой Илоной, они оба кажутся нелепыми, трогательными дураками, и даже не представляют, что у них впереди. Какое-то время и правда было неплохо, но к трем часам Иван как-то незаметно скис. Решил позвонить Берте, поздравить… ай, ладно, при чем тут какие-то поздравления? Просто поговорить. Услышать ее голос. Спросить: а в этом году ты меня любишь? – и услышать знакомое, задумчивое, почти печальное: ой, ты знаешь, похоже, что да!
После такого приятного разговора вполне можно было бы допить остатки глинтвейна и завалиться спать, но вместо Берты ему ответил механический голос: абонент недоступен, и прочее бла-бла-бла. И вот это его не на шутку встревожило, хотя конечно, можно было списать на плохую работу связи в новогоднюю ночь или обычную Бертину рассеянность – подумаешь, заработалась, забыла зарядить телефон. Но это теоретически, а на практике звонил ей снова и снова, наверное, тридцать раз, а может быть, сорок. А потом плюнул и стал одеваться: чего сидеть и впустую гадать, тыкая в телефонные кнопки, когда до ее дома на улице Повило Вишинскё отсюда максимум двадцать минут пешком. Сказал себе: я просто посмотрю на ее окна. И, может быть, крикну: «Привет!»
Окна Бертиной квартиры на втором этаже были темными, только в гостиной горел – не то чтобы свет, скорее, свеча. Но вопреки здравому смыслу, это зрелище Ивана не успокоило, наоборот, встревожило еще больше. Даже мелькнула совсем уж нелепая мысль: где свеча, там пожар, – хотя и сам понимал, что это слишком. Даже для свихнувшегося влюбленного перебор. Однако после того, как она не выглянула на его крики и даже Зигги не залаял в ответ, Иван понял, что перспектива впервые всерьез поссориться с Бертой пугает его куда меньше, чем идея вернуться домой. Потому что как поссоримся, так и помиримся, долго ли умеючи. А с ума я могу сойти навсегда.
Звонить в дверь не стал, открыл замок своим ключом, бормоча: чем хуже, тем лучше. Почему, собственно, «хуже», даже мысленно уточнять не стал. Застукать Берту с любовником было совсем не так страшно, как обнаружить, что ее вообще нет на свете – сам не знал, как такая глупость могла прийти ему в голову, но она пришла и тут же по-хозяйски заняла все свободное внутричерепное пространство, и несвободное тоже, и вообще все.
В гостиной Берты действительно горели свечи, две обычные и одна темно-синяя, украшенная золотыми вензелями, сам ее на Рождественской ярмарке покупал. На низком журнальном столе стояло блюдо с мандаринами, две початых бутылки с неведомо чем и одна большая тарелка, на которой красовался кусок пирога. Берта сидела на ковре по-турецки, Зигзаг сладко спал, умостив на ее колено свою сливочную башку, а оба кресла были заняты какими-то незнакомцами. В одном сидел худой лысый старик, завернутый в клетчатый плед, в другом – крупная высокая женщина; она первой заметила Ивана и улыбнулась ему так приветливо, что он, еще ничего толком не понимая, на всякий случай заранее всех простил.
Старик флегматично сказал: ну вот, все, как я говорил, надо было спорить с вами на деньги, был бы сейчас богат. Когда уже вы, юные дамы, поймете, что тайны следует иметь не от всех?
Берта обернулась к Ивану. Сперва нахмурилась, но тут же улыбнулась и махнула рукой. Сказала: ладно что с тобой делать. Раз уж пришел, садись.
Улица Полоцко (Polocko g.) Две горсти гороха, одна морского песка
– Ночью луна была красная, – говорит Наташка. – И здоровенная такая, слушай! Как будто это вообще больше не наша луна, а какая-то противоестественная голливудская жуть. И ветер выл в трубе так истошно, словно навек там застрял, и спасения нет. А в сад пришли какие-то чужие черные коты, три штуки. И тоже очень страшно выли, не хуже ветра. Я полночи думала – к чему все эти прекрасные добрые знамения? А теперь ясно: к твоему приезду! Но ты все-таки звони в следующий раз, предупреждай заранее. Я же тоже куда-нибудь уехать могу.
– Еще как можешь, – киваю я. – Ты шустрая. Но я не сомневался, что тебя застану. У нас всегда было отличное чувство времени, мы даже во двор одновременно выходили.
– А кстати, да.
Мы сидим на чердаке, как сидели тридцать с лишним лет назад. И хочется сказать, что это тот же самый чердак, но врать не стану, совсем другой. И город другой, и даже страна. И весь мир изменился так, что я порой думаю: детство наше, похоже, прошло на какой-то другой планете. Еще немного, и я вспомню, как мы дружно грузились в транспортный звездолет, волоча за собой чемоданы, прижимая к животам ошалевших от растерянности котов.
А чердака, куда мы залезали в детстве, чтобы спрятаться там от всех на свете и от самого света в сумрачной тени застиранных соседских простыней, давным-давно нет ни на одной из планет. И дома тоже. Все к лучшему, это был очень старый дом с печами, которые топили углем, и такими щелями в стенах, что зимой меня укладывали спать в куртке, которую мама почему-то называла «анораком», а папа – «паркой», и застегивая на мне «молнию», подмигивал: «Ты сегодня настоящий полярник». И если после этих его слов удавалось не заснуть, дождаться, пока лягут родители, встать и выглянуть в окно, можно было увидеть, как по нашей улице среди голых лип, угольных куч и подмерзших по краям луж бродит белый медведь, задумчивый и строгий, почему-то всегда один. Мне очень хотелось рассказать про медведя папе, но тогда пришлось бы признаться, что я вовсе не засыпаю в девять, а лежу и слушаю их телевизор за стеной, обрывки взрослых разговоров, звон посуды, скрип диванных пружин. Поэтому папа так и не узнал о белом медведе, родившемся от его шутки про полярника, декабрьских сквозняков, громкого шороха дедеронового капюшона, поцелуя в нос и традиционного напутствия: «Счастливой зимовки!»
Зато Наташке я рассказал про медведя сразу. В первый же момент. Вышел во двор один, без родителей, увидел ее такую красивую, высокую, почти взрослую, со спортивной сумкой через плечо, в настоящей ковбойской рубашке, в красном платке, повязанном, как у пиратов в кино, подошел и сказал: «А ты знаешь, что ночью по нашей улице ходит белый медведь?» И она серьезно кивнула: «Всю зиму думала, откуда он взялся».
Мы стали друзьями еще до того, как она договорила. Хотя, по идее, шансов у нас не было. Все-таки Наташка – девочка, выше меня на целую голову и старше почти на три года. Мне шесть, ей скоро девять, в детстве это огромная разница. Но мы даже не то чтобы преодолели это препятствие, а вообще ни разу не задумались, кому сколько лет, и кто какого роста. Только потом, когда уже совсем выросли, удивлялись задним числом – как это у нас так лихо получилось. Спасибо медведю.
Штука в том, что Наташка действительно его видела. До сих пор в этом не сомневаюсь.
Накануне нашего знакомства во дворе косили траву, ее не успели убрать, и теперь всюду валялись охапки душистого, еще влажного сена. Наташка поставила меня в центр самого большого травяного острова. Велела:
– Кружись! Можешь быстро, можешь медленно, как хочешь. Но только все время в одну сторону, пока не упадешь. Упасть – это самое главное. Не бойся, тут мягко.
А я и не боялся.
До сих пор помню, как начал кружиться по часовой стрелке, сперва медленно, а потом все быстрее, и не то чтобы я хотел этого ускорения, оно происходило само, независимо от моей воли, как будто мое тело стало каруселью, а весь остальной я – просто пассажиром, который не может ни управлять движением, ни даже спрыгнуть по собственному желанию. Если уж купил билет, терпи, жди, пока карусель не остановится.
Потом я все-таки упал. Это тоже случилось само, я даже не понял, как и почему. Только что кружился и вот уже лежу на мягкой колючей траве, а весь остальной мир продолжает вращаться. И это оказалось совершенно удивительно. До сих пор всегда было наоборот: я сам двигался, бегал, прыгал, куда-то лез, а мир оставался надежным и неподвижным. Теперь стало не так.
– Здорово, да? – спросила Наташка.
Она тоже лежала в траве, неподалеку, метрах в трех от меня и смотрела в бешено вращающееся над нашими головами небо.
– Это меня папа научил. Давно, я только в первый класс пошла. Он мне так доказывал, что земля вертится. Сказал: «Сейчас сама почувствуешь». Но я все равно не верю.
– Так в книжках же написано, что вертится, – откликнулся я, слишком рано выучившийся читать и надолго сохранивший безграничное уважение ко всякому напечатанному слову.
– Мало ли что в книжках. Книжки пишут взрослые, а они часто врут, я проверяла.
Я открыл было рот, чтобы возразить, но не стал. Слишком уж быстро кружилось небо, чтобы спорить. Тем более, взрослые действительно иногда врут, это я уже знал.
Было лето, каникулы, почти все соседские дети разъехались, и мы с Наташкой бродили всюду вдвоем. «Могущественные Повелители Тысячи Дворов», – говорила она, и я безмерно гордился столь высоким званием.
На самом деле дворов в нашем квартале, за пределы которого нам запрещали выходить под страхом вечного, до самой осени, заточения в душной квартире, было гораздо меньше, но мы не сомневались, что рано или поздно храбро перейдем дорогу, свернем за угол и распространим свою безграничную власть до самых дальних городских окраин.
А пока я заново изучал ближайшие к дому окрестности. В Наташкиной компании они вдруг снова исполнились сладкой, завораживающей угрозы, как в те дни, когда я впервые вышел во двор один. Снова стали неведомой территорией – формулирую я сейчас. Но это просто слова взрослого человека. А тогда были ощущения – подлинные, неописуемые. Мои – навсегда.
– Там живет девочка, которую превратили в старушку, – говорила Наташка, указывая на угловое окно двухэтажного дома, такого же ветхого, как наш.
– А разве так бывает?
Никогда ни на миг не подвергал ее слова сомнению. Но мне были нужны подробности, чем больше, тем лучше, тем легче уложить в голове новую информацию – совершенно сокрушительную, когда имеешь дело с Наташкой.
– Бывает вообще все, – строго говорила она. – Просто некоторые вещи – редко. Так редко, что никто их не замечает. Думают, все нормально, всегда так было. А я замечаю. Однажды эта старушка прыгала во дворе через скакалку. Прыгала и плакала. Представляешь? Ясно, что она еще недавно была девочкой, а потом ее – рррраз! – и заколдовали. Даже в школу пойти не успела наверное. Хотя это как раз не самое страшное.
– Кто заколдовал? – холодея от ужаса, спрашивал я.
– Есть одна ведьма. Часто ходит по нашей улице, но по лицу ее не узнать, оно каждый день новое. И всегда с виду добрая-добрая. Ни за что на нее не подумаешь! Ходит и высматривает – вдруг мама с ребенком идет. Это ее добыча. Подходит, здоровается – ой, я ваша новая соседка, будем знакомы. И завязывает разговор, долгий-долгий. Всегда про болезни и другие неприятности. Мама стоит, слушает, взрослым про болезни всегда интересно. Ну или просто стесняется сразу уйти. Ребенок скучает. И тут ведьма – бац! – дает ему конфету. Если взял – все, тебя заколдовали. Даже есть эту конфету не обязательно. Все равно завтра проснешься уже старенький. Родители увидят, скажут – ой, вы кто такой? А где наш сыночек? И выгонят старика на улицу, живи как хочешь. У этой бабушки со скакалкой хотя бы дом есть, повезло ей.
– А если не брать конфету, не превратишься?
– Не превратишься. Хотя на самом деле, если идешь с мамой и к вам подошла такая незнакомая добренькая бабка, лучше вообще сразу убегать. И пусть потом кричат и наказывают сколько хотят. Главное, что не заколдовали. А маме все равно не объяснишь… А вот, смотри! В этом доме до революции жил граф-разбойник, он проиграл в карты свое состояние и вместе со слугами стал грабить по ночам купцов. А перед смертью закопал в саду клад – триста золотых колец с огромными бриллиантами. Но клад лучше не выкапывать, если кольца пролежат в земле ровно триста лет, из них вырастут алмазные деревья, представляешь, как будет красиво?.. А вон в том дворе весной растут черные тюльпаны. Сейчас их уже нет, отцвели. Но следующей весной не забудь посмотреть. Знаешь, откуда берутся черные тюльпаны? Они всегда вырастают только на могилах пиратов. И значит здесь…
– Прямо во дворе могила пирата?!
– Ну да. Например он прапрапрадедушка хозяев. Или просто пришел к их прадедушке в гости, чтобы его убить. Но прадедушка храбро сражался, застрелил пирата и закопал в саду. Вполне может такое быть. Просто никто не знает. А тюльпаны с тех пор растут, черные-пречерные. Весной сам увидишь, я не вру.
Я и не сомневался.
– А в этом доме, – Наташка переходила на шепот, – живет холостяк. Так называются люди, которые никогда не женятся. По разным причинам. Некоторые разведчики, как Штирлиц, и с ними все понятно. Разведчику с женой трудно жить – правду рассказывать нельзя, а врать каждый день неохота. Еще бывают ученые, им жениться просто некогда. И космонавты, которые готовятся лететь на Марс, туда жену брать нельзя, а дома навсегда оставлять нечестно. Но этот человек-холостяк не женится, потому что дружит с привидениями. Они к нему ходят в гости по вечерам. А жена ни за что бы не разрешила.
– Почему? – удивлялся я. – К папе гости часто ходят. И мама разрешает. И даже рада.
– Ну так к твоему папе наверное просто люди ходят. Людей многие разрешают домой приводить. А привидений все взрослые боятся, кроме этого человека-холостяка.
– А ты боишься?
– Наверное, не боюсь. Но точно пока не знаю. Я же их еще никогда близко не видела. Только издалека, в окно.
– В окно? – благоговейно переспрашивал я.
– Ну да. Они по нашей улице часто ходят, в гости к человеку-холостяку, а иногда просто так гуляют. Если ночью не спать, можно в окно подглядеть. Только осторожно, чтобы не заметили. Привидения вообще-то не любят, когда за ними подсматривают. У них знаешь сколько секретов? Да они и сами – секрет. Смотри, никому не рассказывай.
Мне бы и в голову не пришло.
Родители, изумленные моей дружбой с такой взрослой девочкой, становившейся в их присутствии тихой, вежливой и рассудительной, как маленькая старушка, разрешили мне гулять с ней по вечерам, в сумерках и даже после заката – при условии, что ровно в девять Наташка приведет меня домой. И она, конечно, приводила, почти всегда вовремя, а когда мы все-таки опаздывали, не забывала подвести стрелки тяжелых отцовских часов, доставшихся ей после покупки новых: «Ой, извините, пожалуйста, опять они отстают, я обязательно переставлю». Этого оказывалось достаточно, чтобы завтра меня снова отпустили с ней на целый день. Такова была сила Наташкиного обаяния.
Впрочем, почему «была». Чего-чего, а обаяния с возрастом только прибавилось. Если бы Наташка решила завоевать мир, он лег бы к ее ногам после единственного телевизионного выступления примерно такого содержания: «Дорогие люди, я тут вдруг подумала, наверное будет очень здорово, если я стану вами повелевать, как вы считаете?» И улыбнется мечтательно, накручивая на палец светлый завиток у виска.
Но на черта ей сдался весь мир. У Наташки двухэтажный дом на улице Полоцко, мастерская на чердаке, загрунтованные холсты вместо мокрых простыней, сад обнесен деревянным зеленым забором, и старая слива заглядывает в окно спальни, с каждым летом продвигается все глубже, того гляди заберется в комнату целиком и начнет там обживаться. «Тогда придется мне спать на кухне, – смеется Наташка. – Хорошо что там есть гостевой диван!»
Гулять до темноты – это было очень важно. Потому что днем не видно звезд, а смотреть на звезды Наташка любила больше всего на свете. И я тоже – после того, как она смастерила для меня «телескоп». На самом деле просто свернула в трубу лист плотного картона, обклеила сверху темно-зеленой бумагой, украсила семиконечными звездами, старательно вырезанными из разноцветной конфетной фольги. Сказала: «Если будешь долго-долго смотреть в дырку, не моргать и не бояться, обязательно все увидишь». И я, конечно, смотрел, пока из глаз не потекли слезы, а потом, утерев их, начал сначала. И снова, и еще раз. Получаться стало только на третий день. Или вообще на четвертый. Мне-то тогда казалось, я чуть ли не половину лета провел, безрезультатно пялясь в эту зеленую трубу. Время в детстве идет очень медленно. Вернее, в детстве оно как раз совершенно нормально идет, а потом почему-то ускоряется. Никогда не пойму, зачем так устроено.
Но важно сейчас не это, а что все получилось. Наташкин «телескоп» вдруг заработал для меня.
– Что ты видел? – тормошила меня Наташка.
Она уже много раз спрашивала, сгорая от нетерпения, но я только мрачно мотал головой – дескать, ничего особенного. Никогда ей не врал.
Но на этот раз я молчал совсем по другой причине – не мог найти подходящие слова. Наконец сказал:
– Как будто в звездах живут другие звезды, поменьше. Их там много-много, но, вроде, никому не тесно. А наоборот хорошо. И еще между всеми звездами протянуты такие светящиеся нитки, как лучи, но не совсем лучи. Мне кажется, они для звезд вместо слов. Или как за руки держаться. Чтобы быть вместе и не скучать.
– Я тоже думаю, это они так разговаривают, – кивнула Наташка. – Просто мы их не слышим, а только видим. Ужасно хочу выучить звездный язык! Но его вообще никто не знает. А даже если узнает, все равно ничего не сумеет сказать. Это же как надо светиться, чтобы так разговаривать!
– Все планеты, когда умирают, становятся звездами, – мечтательно говорила Наташка. – Вот если у нас все-таки будет конец света, Земля тоже станет звездой. А мы все – жителями звезды. Я бы хотела, а ты?
Я, честно говоря, не очень хотел. К тому же, твердо знал, что конца света не будет. Папа мне трижды в этом поклялся, когда я, испуганный случайно подслушанной болтовней соседок о грядущем Параде Планет, прибежал к нему выяснять, правда ли мы все скоро умрем. Он тогда сказал, дело в том, что многим людям просто не хватает образования. Особенно старикам, которые жили в тяжелое время, много работали и не смогли поступить в институт. А то знали бы, что парады планет случаются регулярно, и никакого вреда от них нет, а только красота в небе и простор для астрономических наблюдений.
Но Наташке папины объяснения я никогда не пересказывал. Она так хотела поскорее стать жителем звезды, что я решил ее не огорчать. Пусть лучше от кого-нибудь другого узнает, что ничего не получится. Не в этот раз.
Снег в нашем городе выпадал редко, всего пару раз за зиму – в лучшем случае. И лежать оставался далеко не каждый год. Но санки у меня все-таки были. Родители подарили, сказали – на всякий случай. Вдруг повезет.
В ту зиму, когда я учился в первом классе, нам всем как раз повезло. То есть, наступил день, когда я вышел из дома с санками. И сразу встретил Наташку, хотя даже не надеялся на такую удачу. Она училась во вторую смену, и встречались мы только по выходным и иногда по вечерам. Но до вечера было еще далеко, а она все равно гуляла во дворе.
– У нас в классе карантин! – объявила Наташка. – Мы все заболеем чумой, холерой и черной оспой! – и, расхохотавшись, призналась, не дожидаясь расспросов: – На самом деле просто свинка. От нее не умирают, а только превращаются в поросенка. Но через неделю – обратно в человека, так что ты не бойся.
А я и не боялся.
Сказал:
– Даже если в поросенка с чумой и холерой, я все равно согласен с тобой гулять.
Из всех признаний в любви, которые мне довелось произнести в жизни, это, конечно, было самое совершенное.
Наташка его тоже оценила.
– За это я тебя покатаю, – сказала она. – Чур ты будешь мои дети, мальчик и девочка, близнецы.
Я слова сказать не успел, а Наташка уже усадила меня на санки и потащила куда-то по утоптанной за день тропинке.
– Закрой глаза! – велела она. – И чур не подглядывать.
Ехать на санках с закрытыми глазами оказалось так здорово, что у меня сразу прошла охота спорить, объяснять, что я не могу быть двумя детьми сразу, даже понарошку. Потому что я уже есть – один. Так получилось.
А потом я почувствовал, что кто-то крепко держится за меня двумя руками. И одновременно мои руки тоже вцепились в чье-то мягкое, толстое, теплое даже на ощупь пальто. Поэтому глаза я так и не открыл. Подумал, лучше мне не видеть, что меня действительно стало двое. Пока не увидел, не считается, а пока не считается, я как-нибудь потерплю.
Поездка завершилась в сугробе, куда Наташка опрокинула санки вместе со мной. И сама плюхнулась сверху. Крикнула: «Все! Чур ты больше не мои дети! Ты опять один!» И я наконец открыл глаза, на радостях забыв на нее рассердиться.
Летом Наташка переехала. Не в другой город, но на противоположный конец нашего – тоже ничего хорошего. Обычно детские дружбы на этом и заканчиваются. Особенно когда нет телефонов. А у нас их не было. Не то что мобильников, которые тогда даже в воображении сценаристов фантастических фильмов возникали нечасто, но и обычных стационарных с крутящимися дисками – ни в нашем старом доме, ни в новостройке, где получили квартиру Наташкины родители.
– Мы не потеряемся, – твердо сказала Наташка, залезая в грузовик, набитый вещами. – Я тебе обещаю, вот увидишь.
Я ей, конечно, верил. Но думал, «не потеряемся» – это про далекое будущее. Вырастем, станем взрослыми, пойдем в справочное бюро и найдем друг друга. Специально для этого записал в блокнот Наташкину фамилию – вдруг забуду. Приготовился жить без Наташки долго-долго, и эта перспектива так меня потрясла, что я даже реветь не стал. Не то чтобы мужественно терпел, просто не получилось. Иногда слезы – это слишком мало, вот что я тогда понял.
И как же я удивился, когда всего три дня спустя увидел Наташку. Она сидела на старой груше и болтала ногой. Как будто их отъезд в большом грузовике, со шкафом, диваном, ковром и трельяжем был розыгрышем, а на самом деле все осталось по-прежнему.
– Я целый час ехала! – похвасталась она. – Сперва в автобусе, потом в трамвае.
– Тебе разрешили? – изумился я.
– Не знаю, – беззаботно отозвалась Наташка. – Думаю, вполне могли бы разрешить, я уже несколько раз одна ездила – к маме в институт, когда ключи забыла. Но я на всякий случай не стала рисковать и никому ничего не сказала. Все равно мои до вечера на работе. А в том новом дворе все какие-то дураки. И вообще без тебя неинтересно.
– Хорошо, что я не ревел, – сказал я, усаживаясь на соседнюю ветку. – А то получилось бы зря.
– Вот и правильно, – кивнула Наташка. – Не надо из-за меня реветь. Я же сказала, мы никогда не потеряемся. Я точно знаю.
У нас не было возможности заранее договариваться о встречах. Взрослые редко дают детям распоряжаться временем по собственному усмотрению. Гулять выходишь только когда отпустят, и это зависит от такого немыслимого количества причин, большая часть которых тебе неизвестна, что строить планы можно разве только на отдаленное будущее: когда вырасту, стану каждый день ходить в кино на последний сеанс, это совершенно ясно, поэтому можно с уверенностью назначать свидание в восемь вечера возле кинотеатра «Вымпел» двадцать лет спустя.
А вот насчет завтра такой уверенности нет. Тем не менее, Наташке всего пару раз пришлось кричать под моим окном, обычно в момент ее появления я уже ждал во дворе. А когда приходилось оставаться дома, или идти куда-нибудь с родителями, она и не приезжала. Как мы угадывали – до сих пор не понимаю.
Только однажды Наташка пропала на целый месяц. Я не знал что и думать – неужели так сильно заболела? Или вообще заснула летаргическим сном, как в книжках пишут? Или они снова переехали, на этот раз в другой город, никого заранее не предупредив? Совсем извелся.
Она объявилась уже после осенних каникул. В том году был очень теплый, солнечный ноябрь, и я до сих пор помню, как увидел Наташку из окна и выскочил на улицу в домашнем свитере, забыв надеть куртку. И совершенно не замерз, хотя мы целых два часа болтали, стоя у подъезда, пока не пришла моя мама, ужаснулась, обнаружив меня раздетым, и погнала нас домой пить горячий чай. Мы, впрочем, не возражали, потому что «чай» в исполнении моей мамы – это как минимум три разных сорта печенья и полная вазочка конфет, шоколадных в начале каждого месяца, липких ирисок ближе к его концу. Но ириски мы любили даже больше.
Никогда раньше не расспрашивал Наташку – где была, что делала. И она меня тоже. Иногда рассказывали сами – по большей части забавные эпизоды, чтобы посмеяться вместе. Теперь думаю, нам просто казалось, это совсем неважно – как мы жили и чем занимались друг без друга. Важное начиналось, когда мы встречались.
Но тут был совершенно особый случай, поэтому я все-таки спросил.
– А у нас по району маньяк ходил, – равнодушно, с набитым ртом промычала Наташка. – Ну, то есть взрослые говорили, что маньяк. Лично я в него не очень-то верю. Но гулять меня не выпускали. И в школу за руку водили, как маленькую. А из школы – домой. Родители договорились, встречали нас по очереди, провожали каждого не просто до подъезда, а до входной двери – вот как перепугались.
– Маньяк? – восхищенно повторил я. – Это с ножом? Убийца?
– Ну да, так говорили – убийца. Вроде бы у нас в парке убили девочку. Не знаю, кого. Не из нашей школы. А может вообще никого не убили, а просто кто-то глупость сказал, и все сразу поверили и стали повторять: «Маньяк, маньяк!» И началось. Меня не то что к тебе, а даже в булочную не отпускали. Которая вообще прямо в нашем доме, внизу. По-моему, очень глупо.
– А сегодня как же? – спросил я.
Воображение мое уже нарисовало сцену побега: Наташка спускается с восьмого этажа по веревке из простыней, внизу ее поджидает маньяк с окровавленным ножом, который она, разумеется, выбивает ударом ноги – в прыжке, как в кино.
Но она только еще больше нахмурилась.
– Да вроде бы того маньяка поймали. Или просто какого-то человека с ножом. Может он масло на хлеб мазал, а потом задумался о чем-то и так и вышел из дома с ножом в руке. И его сразу – хвать! И в тюрьму! И нож на экспертизу, а он весь в масле, представляешь?
– Или в колбасе, – добавил я. – Вдруг он зарезал колбасу?
– Отрезал ей голову! – подхватила Наташка. – И закопал!
– А потом выкопал и съел!
– Голову от колбасы!
Мы уже не могли остановиться. Считается, будто чудесная способность говорить глупости и хохотать над ними взахлеб, до слез, до невразумительного хрюканья, до счастливой икоты проходит вместе с детством. Но нам с Наташкой повезло, мы до сих пор так умеем. Особенно если долго не виделись.
Вот и сейчас, сидя на ее чердаке, мы хохочем так, что дрожат хлипкие деревянные стены и падают прислоненные к ним подрамники с холстами, мы и сами постепенно сползаем на пол от изнеможения. Лично я уже там, Наташка, похоже, скоро присоединится. Что нас так рассмешило? Да уже невозможно вспомнить. Наверное, как всегда, кто-то что-то сказал, а другой подхватил, тихонько, для разминки, хихикнув, слово за слово, смешок за смешком, и теперь мы не можем остановиться, хотя у меня в глазах мельтешат яркие красные огоньки, и голова идет кругом.
И пусть идет. Затем мы, собственно, и нужны друг другу, чтобы кружилась дурацкая твердая взрослая голова, и прыгали огоньки, и умные, тяжелые мысли смешивались в один большой, невесомый, уморительно смешной пустяк.
Иначе пропадем.
– Не хочу вырастать, – неожиданно сказала Наташка.
Мы уже допили чай и пошли на трамвайную остановку.
– Почему? – изумился я.
До сих пор мне казалось, быть взрослым здорово. У взрослых интересная жизнь. Конечно не у всех, это я уже понимал. Но был совершенно уверен, что они сами дураки, раз ничего не сумели придумать, вот и скучают теперь.
Зато даже самые скучные взрослые могут никогда не есть суп и творог. «Спасибо, что-то не хочется», – и все, никто не заставляет. Уже только ради этого имело смысл вырасти как можно скорее.
– Взрослые всего боятся, – сказала Наташка. – Даже того, что еще не случилось. И чего вообще может быть нет. Маньяка, например. Никто его не видел, но все боялись – заранее, на всякий случай. По-моему, очень глупо.
Я открыл было рот, чтобы возразить, сказать, что бывают храбрые взрослые. Мой папа, например, точно никого не боится. Но тут приехал Наташкин трамвай. Что в общем хорошо. Никогда не любил с ней спорить.
О предстоящей поездке к морю я узнал заранее, еще весной. И, конечно, сказал Наташке. Она так обрадовалась, словно я предложил ей поехать с нами.
– О! А я как раз думаю, где взять морской песок. Вот ты мне и привезешь. Тогда точно все получится.
– Что получится?
– Когда привезешь песок, скажу.
– Так нечестно!
Я чуть не заплакал, представив, как долго мне придется мучиться от любопытства. До самой середины августа. Это же почти всю жизнь.
– Нечестно, – согласилась Наташка. – Зато теперь ты точно не забудешь про песок. А мне очень надо. Всего одну пригоршню, только в кулек насыпь, не прямо в карман, а то не довезешь. Не сердись. Смотри, что у меня есть.
И достала из спортивной сумки продолговатый бумажный пакет. В пакете лежали два очень странных куска проволоки, с одного конца тонкие, с другого потолще, как будто их обмакнули в густую металлическую манную кашу.
– Что это?
– Бенгальские огни.
– «Огни»? – недоверчиво переспросил я.
– Ну да. Ты что, никогда раньше не видел?
Я помотал головой.
– Да ну, точно видел. В «Голубом Огоньке» на Новый год всегда показывают. Они горят и сверкают как звезды. Надо только поджечь.
Я начал понимать, о чем речь. Хоть и не мог поверить в такую невероятную удачу.
– Где ты их взяла?
– Папа перед Новым Годом где-то купил. Или не купил, а подарили ему, не знаю. Какая разница. Главное, что я стащила и спрятала две штуки. И они у нас теперь есть.
– И мы их зажжем? – заикаясь от восторга спросил я.
– Ну да. Только не сейчас. Вечером. Чтобы темно и звезды. Иначе нет смысла.
В сумерках мы залезли на чердак, а оттуда выбрались на крышу. Сидели, сгорая от нетерпения, ждали, когда окончательно стемнеет. Так волновались, что почти не разговаривали. Наташка то и дело проверяла, на месте ли прихваченный из дома спичечный коробок.
– Уже можно, – наконец прошептала она. Дала мне один бенгальский огонь. Сказала: – Ты, главное, не бойся, когда искры полетят. Они не обжигают.
А я и не боялся.
То ли бенгальские огни отсырели в Наташкином тайнике, то ли с самого начала такие и были, но разгораться они не желали. Наташка почти все спички извела, а я так устал надеяться на чудо, что внезапно утратил к нему интерес. Думал: «Скорее бы спички закончились, можно будет слезть с крыши и больше ничего не ждать».
И только тогда раздалось шипение, и первая ослепительно белая искра вспыхнула у меня в руках. И вдруг оказалось, что металлическую проволоку, зажатую в моих окоченевших на весеннем ветру пальцах, уже венчает огненный шар, веселый и сердитый. И у Наташки такой же. И она размахивает им, приплясывая на цыпочках, и я тоже размахиваю и подпрыгиваю, а звезды смотрят на нас сверху, распахнув от удивления сияющие рты.
Потом мой бенгальский огонь погас. Наташкин горел на целую секунду дольше и тоже утихомирился. Я даже не огорчился, что все так быстро закончилось. Наверное потому что не успел поверить, что оно вообще было. Хотя, конечно, запомнил на всю жизнь. Но помнить и верить – совсем разные вещи, с возрастом начинаешь это понимать. А иногда и не с возрастом.
– Бенгальские огни – это такая специальная штука, чтобы человек мог поговорить со звездами, – сказала Наташка потом, когда мы спустились на землю. – Странно, что люди этого не понимают. Сами изобрели и сами не знают зачем. Думают, для красоты.
– А что ты им говорила? – спросил я.
– Точно не знаю, – призналась она. – Наверное просто: «Эй, мы тоже есть!» Пусть теперь звезды про нас знают. Я специально тебя позвала. Потому что двоих издалека лучше видно. И еще чтобы звездам сразу стало понятно, что люди тоже умеют дружить, как они. Что мы не совсем дураки. И с нами вполне можно иметь дело.
Этой ночью я долго не мог заснуть. Лежал на спине, смотрел в окно на звезды, думал: «Теперь они знают, что я есть». А звезды с любопытством разглядывали меня. И, наверное, что-то рассказывали, по крайней мере, я даже без Наташкиного самодельного «телескопа» видел дрожащие сияющие нитки протянувшиеся от них к земле. Однако языка не понимал по-прежнему. И это, конечно, было обидно.
Но все равно хорошо.
Сейчас смешно вспоминать, но в те годы раздобыть обычный пластиковый пакет было непросто. Дома родители иногда приносили в них еду из нового универсама, стирали пакеты с мылом, сушили и аккуратно складывали в кухонном шкафу про запас. Но у моря универсамов не было, мы ели в пельменной и еще мороженое в кафе, а фрукты родители покупали на рынке и уносили оттуда в свертках из старых газет, бережно прижимая к груди, чтобы не растерять по дороге.
Поиски целого, не рваного пакета для песка подарили мне немало мелких приключений и несколько интересных новых знакомств, но успехом так и не увенчались. Пришлось довольствоваться свернутым из старой газеты кульком из-под семечек, а его для надежности замотать в еще одну газету. Карман мой чуть не треснул от пухлого свертка, но морской песок добрался до Наташки, почти не просыпавшись, а это главное.
– Вот теперь точно все получится, – просияла Наташка, принимая подарок.
– Что получится? – нетерпеливо спросил я. – Для чего тебе песок? Это будет такая игра?
Прежде, чем ответить, она огляделась по сторонам, проверяя, нет ли рядом людей. Хотя мы сидели на чердаке, среди чужих простыней, достаточно мокрых, чтобы до самого вечера не опасаться появления соседок.
– Не игра, а колдовство.
Ни на секунду тогда не сомневался, что Наташка не врет. Но почему-то не обрадовался, а испугался, да так, что в глазах потемнело, а в каждом ухе билось по сердцу, и я не мог понять, откуда взялось второе.
– Я знаю, как превратиться в звезду, – спокойно, словно речь шла о сущих пустяках, сказала Наташка. – Не понарошку, а в настоящую. Чтобы ночью в небе гореть и светить. Навсегда.
Я так и не сумел обрадоваться. Превращаться мне совсем не хотелось, даже в звезду. Тем более, навсегда. На пару часов – еще куда ни шло. Хотя все равно страшно, хоть убегай.
Я, конечно, не убежал. Но мои чувства наверняка отразились на лице. Никогда не умел притворяться.
– Жалко, что ты не хочешь, – вздохнула Наташка. – Без тебя будет не так весело. Но я все равно превращусь. Я уже слово дала.
– Кому?
– Звездам.
– Это как?
Не то чтобы я перестал ей верить. Но подробные объяснения требовались мне, как никогда в жизни.
– А я научилась с ними разговаривать. Давно, еще зимой. Я не старалась, само получилось. Иногда сижу, смотрю в телескоп, а в голове звучат слова. Я сперва удивлялась – какие странные мысли думаются. Как будто не мои. И даже не чужие. Потому что ни на что не похожи – ни на книжки, ни на взрослые разговоры. А потом дошло: это говорят звезды! И я стала за ними записывать. Сперва вообще не понимала, о чем они говорят. Абракадабра какая-то. Хочешь прочитаю? Это секрет, но тебе можно. Сейчас.
Достала из кармана штанов замусоленный блокнот, открыла наугад.
– «Три лунных краба были мне опорой», «в том сумеречном доме не считали дней», «горгулью покормить забыли».
– Кто такая «горгулья»? – зачем-то спросил я.
Как будто только это и было важно.
– Мама сказала, страшное сказочное чудовище. То есть на самом деле их не бывает, только скульптуры такие когда-то на домах делали. Показала картинку в энциклопедии. По-моему, не очень-то и страшные. Хотя если бы у меня дома жила горгулья, я бы ее кормить не забывала. Потому что такая вполне может человеком пообедать. И даже с удовольствием.
Я открыл было рот, чтобы выспросить подробности. Во-первых, действительно интересно. А во-вторых, говорить о горгулье было безопасно. Каменное сказочное чудище, картинка в энциклопедии. Ясно, что на самом деле она никого не съест. И, самое главное, в горгулью не нужно превращаться. Как хорошо!
Но Наташка решительно сказала:
– Все это ерунда. Главное, что звезды поняли, что я их слышу, и стали говорить не просто так, а со мной. Сказали, что хотят дружить. А потом рассказали мне рецепт. Говорили медленно, чтобы я все успела записать. Как диктант. Для этого рецепта и нужен песок, который ты привез с моря. Я так боялась, что ты забудешь!
Помолчала и добавила:
– Тебе совсем не обязательно вместе со мной превращаться. Но если захочешь, то можно. Я специально спросила про тебя. Ну, то есть, просто представила, что спрашиваю. И звезды все поняли. И разрешили.
– Можно я подумаю?
Еще никогда в жизни я не задавал такой вопрос. До сих пор мне просто в голову не приходило обдумывать свои решения. Они рождались сами, без дополнительных усилий. В какой руке конфета? В левой! Будешь доедать суп? Ни за что! Куда идем, в рощу, или в кино? Конечно, в кино, а после сеанса – сразу в рощу. На обратной дороге.
Наверное, штука в том, что по большому счету все это было не очень важно. Жизнь моя не менялась от вкуса съеденной конфеты или маршрута прогулки. И даже препирательства с мамой из-за лишней ложки супа оставались без драматических последствий. Что бы ни случилось за день, вечером я все равно получал чашку чая с лимоном и печенье, а потом лежал в своей постели, слушал телевизор и родительские голоса за стеной, разглядывал цветные картинки под закрытыми веками, засыпал, прижимая к животу плюшевую собаку Жоньку, твердо знал, что утром снова проснусь дома, и это совершенно точно буду я. Вполне достаточно для счастья.
Но теперь могло измениться вообще все. Сразу. И я этого не хотел.
Зато Наташка хотела.
Не то чтобы я всегда и во всем ее слушался. Но когда слушался, выходило просто отлично, это следовало признать. И сейчас я думал – а что если Наташка права, и быть звездой гораздо интересней, чем человеком? И если я испугаюсь, пропущу все, как последний дурак. А потом звезда-Наташка будет смотреть на меня с неба по ночам и говорить: «Жалко, что ты – просто человек, я без тебя скучаю». Но я ее никогда не услышу. А если услышу, все равно не пойму. И даже если пойму, ничего не смогу поделать.
– Думай, – согласилась Наташка. – Но только до завтра. И, помолчав, добавила: – Если прямо сейчас не превратиться, потом ничего не получится. Такие дела откладывать нельзя.
– …Ты чего не спишь? – удивилась мама, когда я вошел на кухню. – Болит что-нибудь?
Еще бы она не удивилась. Было уже очень поздно, даже в телевизоре все передачи закончились. До сих пор я успешно скрывал от родителей свои ночные скитания по дому, но сегодня они почему-то засиделись на кухне, а я очень хотел пить. Ну и, честно говоря, просто устал ворочаться с боку на бок, обдумывая Наташкино предложение – совершенно ужасное и одновременно такое соблазнительное, что я не мог твердо сказать «нет» даже наедине с собой.
– Дай воды, – попросил я.
Мама налила воду в стакан. Папа протянул мне половину холодной вареной картошки, которую только что очистил. Сказал:
– И закусить!
Они с мамой рассмеялись, я так и не понял, почему. Но картошку съел. Она была очень вкусная. С едой, впрочем, всегда так, самый сладкий кусок – случайно утащенный среди ночи.
Дожевав картошку, я хотел было уйти в свою комнату, но вместо этого вдруг спросил:
– А если бы я превратился в звезду на небе, вы были бы рады?
Я весь вечер думал, спрашивать их или нет. Потому что, с одной стороны, тайна. Чужая, Наташкина. И выдавать ее ни за что нельзя. А с другой, не могу же я вот так взять и превратиться, не посоветовавшись с мамой и папой. Я часто нарушал разные мелкие запреты, то тайком, то демонстративно, напоказ, но не хотел огорчать родителей по-настоящему. Чтобы они, как в кино, сразу стали седыми, сгорбленными и заплакали, а я смотрел бы на них с неба, как дурак.
В конце концов я пришел к выводу, что спросить все-таки можно. В случае чего скажу, будто видел такой мультфильм. Или сказку когда-то читал, названия не помню, неважно. Но так и не решился завести разговор. А сейчас вдруг само вырвалось. «Если бы я превратился в звезду».
– Еще бы! – присвистнул папа. – Тогда у нас была бы знакомая звезда. Более того, звезда-родственник. Ничего себе!
– Ну вообще-то не просто родственник, а родной сын, – педантично поправила его мама.
– Тем более. У всех нормальных людей сыновья балбесы, а у нас – звезда. Кто от такого счастья откажется?
Я был совершенно потрясен. Думал, родители ни за что не разрешат. Затем, честно говоря, и спросил – чтобы не разрешили. И можно было бы пойти, пореветь в подушку, не столько от обиды, сколько от облегчения, что все наконец решено. А они вон как радуются. Через дорогу одному ходить до сих пор не разрешают, а в звезду навсегда превращаться – пожалуйста. Удивительные люди эти взрослые, никогда не знаешь, чего от них ждать.
«Ладно, – обреченно подумал я, – раз так, значит, превращусь».
Когда я выходил из кухни, мама тихо сказала: «Все-таки ужасно несправедливо, что самые интересные сны снятся детям», а папа ответил: «Нам тоже, просто мы забываем». Я хотел возразить, что про звезду – это вовсе не сон, но вовремя прикусил язык. Тайна есть тайна.
А уже лежа под одеялом, я подумал, что звездам, наверное, должны сниться совсем уж удивительные вещи. И я это скоро узнаю.
– Две горсти гороха, одна морского песка, щепотка пыли из-под кровати, где спишь, шестеренка из часов, осколки елочной игрушки красного цвета, полный стакан цветочных лепестков, пуговица с маминой кофты, прядь волос. Книгу сказок, любую, лишь бы с картинками, порвать на мелкие кусочки. Крылья трех бабочек, сгоревших на лампе, чайная чашка земли из-под яблони, два кукольных глаза, обязательно голубых, птичье перо, семь леденцов, десять медных монет.
Наташка закрыла блокнот, спрятала его в карман и сказала:
– Все это я уже собрала, осталось только отрезать твои волосы. Если ты тоже хочешь.
Я молча кивнул. Дескать, режь.
Думал, придется идти за ножницами домой, но Наташка достала из кармана свои – маленькие, пластмассовые, из какого-то кукольного набора, совсем тупые. Но прядь волос откромсать вполне можно.
Я вдруг понял: если она взяла ножницы с собой, значит заранее не сомневалась, что я соглашусь. Видела вчера, как я испугался, а все равно думала, что я храбрый и в конце концов захочу превратиться. Вот это да!
– А что с этим всем надо делать? – спросил я, пока она, прикусив от усердия язык, отпиливала прядь у меня над ухом.
– Сложить в коробку, перемешать, вынести поздно ночью на крышу. После полуночи, раньше ни за что нельзя! Сказать специальное заклинание – оно короткое, я тебя научу. И развеять все по ветру. Тогда мы превратимся.
– Сразу?
– Не знаю, – неохотно призналась Наташка. – Звезды про это ничего не сказали. Но наверное сразу. Чего тянуть?
– А как мы попадем на крышу после полуночи?
– Как обычно, через чердак.
– А на чердак? Как мы вообще выйдем из дома ночью?
– Придется тебе как-нибудь выбраться, когда родители заснут. Они на ключ закрываются, или просто на задвижку?
– На задвижку, – сказал я.
– Вот и хорошо. А то когда ключ прячут, непонятно, как быть. Сможешь тихонько выйти?
Я прикинул: обычно в полночь родители уже спят. И очень крепко. Сколько я вставал, ни разу не услышали. Дверь у нас, вроде бы, не скрипит. Получается, вполне можно попробовать.
Но я-то ладно. А Наташка? Она же на другом конце города живет. А ночью даже трамваи не ездят. Значит ничего у нас не получится, с самого начала можно было не бояться. Все останется как раньше.
Хотя теперь, когда опасность миновала, мне стало немного жалко, что я так и не узнаю, каково это – быть звездой. Потому что все-таки ужасно интересно. Хоть и страшно – жуть.
– А я просто не поеду домой, – сказала Наташка, не дожидаясь расспросов. – Коробка со мной, – она похлопала по дерматиновому боку старой спортивной сумки, с которой не расставалась никогда. – Останусь тут тебя ждать.
– Так тебя же будут искать!
Она пожала плечами.
– Ну и пусть. Все равно не найдут. Просто не догадаются где. Они же не знают, что я сюда к тебе езжу. Я всегда говорила, что в библиотеку иду, или на кружок, или в гости к бывшей однокласснице. Родителям на самом деле все равно, лишь бы домой вовремя возвращалась, а мне нравилось, что ты – это мой секрет. Пока меня будут искать, мы уже превратимся. И станет все равно.
– Слушай, а тебе маму с папой не жалко? Они же, наверное, подумают, что тебя маньяк поймал.
– Жалко, – вздохнула Наташка. – Но тут одно из двух. Или ты всех жалеешь, сидишь дома и плачешь, потому что ничего по-настоящему важного делать нельзя. Или ты все-таки превращаешься в звезду, и тогда плачут все остальные. Надо выбирать.
Она говорила как взрослая. И даже выглядела сейчас гораздо старше, чем на самом деле. Как будто ей уже целых пятнадцать лет. Или вообще двадцать. Я даже подумал: «А вдруг она уже начала превращаться, вот прямо сейчас?» Но Наташка не взлетала на небо и даже не светилась. А будничным тоном добавила:
– Вообще-то я оставила записку у себя в комнате. Что все хорошо, я их люблю, но ухожу в Зазеркалье, как Алиса. Вранье, конечно, но у мамы это любимая книжка, ей так будет проще понять. Они все равно устроят поиски, но может хотя бы про маньяка этого своего говорить не начнут. И остальных детей по домам не запрут, перепугавшись. Не хочу всему двору остаток каникул испортить.
Я принес ей из дома бутерброд, помидор и полный карман ирисок. Очень не хотел уходить ужинать, но Наташка настояла. Сказала – вот только не хватало, чтобы еще и тебя стали искать. Твои-то знают, где ты любишь прятаться, сразу пойдут на чердак, и тогда все пропало.
Крыть было нечем.
Я поужинал, хотя есть было почти невозможно. Живот ныл от страха, а сердце стучало так, что я думал, этот грохот не только родители, а даже соседи за стеной слышат. Сейчас начнут выспрашивать, что случилось. Я-то, конечно, не скажу ни слова, но сердце меня выдаст, отстучит военной азбукой Морзе страшную правду о спрятавшейся на чердаке Наташке и наших планах на грядущую ночь, и мой папа, бывший связист, сразу все поймет. И тогда такое будет!
Зря боялся, родители ничего не замечали. Смеялись, шутили, увлеченно говорили о чем-то своем, взрослом, непонятном, но явно хорошем. Почти не обращали на меня внимания, зато включили мне телевизор, «Спокойной ночи, малыши» с мультфильмом. Я глядел на экран, где скакали нарисованные звери, слушал их веселые голоса и не понимал ни слова. Точно так же, ничего не разбирая, листал потом книжку, которую мне разрешали читать в постели перед сном. Смотрел на зеленый абажур настольной лампы, бледные разводы на обоях, серо-голубые цветы на ковре, трещину в потолке, похожую на ящерицу с лапками. Думал: «Наверное, я это больше никогда не увижу». Пытался представить, что такое «никогда», и не мог. Не сегодня, не завтра, не в этом году – дальше воображение мне отказывало, зато ноги от страха становились мягкими, как пижамные штаны, а в животе делалось темно, как будто там, внутри, выросла еще одна пара глаз, оба слепые.
Я не боролся со страхом, потому что не знал как. Просто терпел его. Лежал в кровати, слушал, как родители в своей комнате разбирают диван, о чем-то говорят, и папа смеется, а мама просит: «Тише, мелкий же спит».
Больше всего на свете хотел побежать к ним, крикнуть: «Заприте меня в комнате, не отпускайте к Наташке на чердак!» И точно знал, что не сделаю этого. Раньше со мной не случалось ничего подобного – чтобы так сильно хотеть и все равно не делать. И не потому что запретили, а просто – сам решил. Моя воля оказалась сильнее страха, и это, конечно, была потрясающая новость. Такого я о себе прежде не знал.
И когда я шел на цыпочках по коридору, а потом осторожно, очень медленно, чтобы не звякнула, открывал задвижку, мне уже не было страшно. Наверное, именно в таких случаях и говорят: «Я победил». Но подобными категориями я тогда, конечно, не мыслил.
По лестнице я тоже поднимался на цыпочках. Аккуратно перешагнул самую скрипучую ступеньку, толкнул чердачную дверь. Было совсем темно, но Наташку я увидел сразу, хотя она сидела в самом дальнем углу. А может быть, не увидел. Просто знал, что она там.
– Если бы не твои ириски, я бы уже заснула, – шепотом сказала Наташка. – Ужасно трудно так долго ждать! Но я их ела и сочиняла сказки, по одной на конфету. Я потом тебе расскажу.
– Когда – потом? – удивился я. – Мы же сейчас в звезды превратимся!
– Ну правильно. Думаешь, звезды не рассказывают друг другу сказки? Да они только этим и занимаются. Вот увидишь.
В принципе это была отличная новость. Сказки я любил больше всего на свете.
Мы залезли на крышу, и Наташка, прижимавшая к груди картонную коробку с пылью, пеплом, битым стеклом, кукольными глазами, горохом и моим морским песком, сказала:
– Когда я развею все по ветру, надо будет сказать заклинание. Оно такое: «Трульнгугунгунгук». Запомнишь? Это очень важно! Если скажешь неправильно, ничего не получится.
– Труль… чего? – ошеломленно переспросил я.
Вот уж не думал, что просто не сумею выговорить волшебное слово. Теперь, когда я перестал бояться, это было бы очень обидно.
– Трульн-гу-гун-гун-гук, – повторила Наташка. – Пожалуйста, не перепутай и не запнись. Глупо получится, если только я одна превращусь. Не хочу быть звездой без тебя. Ты же мой лучший друг.
Я долго молчал, потрясенный ее признанием. А потом твердо сказал:
– Я не перепутаю. Трульнгугунгунгук.
Само выговорилось, как по маслу, многочисленные «н» и «г» выкатились из горла мелкими камешками. Прежде я и не подозревал, что звук может быть твердым, тяжелым, скольким и прохладным, как будто всю жизнь пролежал под землей, а теперь его выкопали и положили в меня.
– Ты молодец, – обрадовалась Наташка. – Из тебя получится очень хорошая звезда, вот увидишь.
Я теперь тоже так думал.
Мы уселись на самом краю крыши, и Наташка как-то очень долго возилась с коробкой, которую заклеила липкой лентой, чтобы ничего не просыпалось, а теперь никак не могла отодрать. Звезды смотрели на нас сверху с любопытством и нетерпением – дескать, что же вы тянете, давайте!
– Приготовься, – наконец сказала Наташка. – Когда я тебя стукну, надо сразу говорить заклинание.
И перевернула коробку. Я, помню, ждал хоть какого-то шума, по крайней мере, пуговица и монетки должны были звякнуть, упав на тротуар. Но вокруг стояла тишина, такая полная, словно звуки отменили вообще, ну или просто я оглох, сам того не заметив. Теперь я думаю, это просто остановилось время, и мы сидели на крыше то ли вечно, то ли вовсе никогда.
Строго говоря, я до сих пор там сижу – в каком-то смысле. Который и есть единственный.
А потом время снова пошло, Наташка чувствительно стукнула меня кулаком по плечу, и я громко, совершенно не думая, что могу перебудить весь двор, начиная с собственных родителей, заорал: «Трульнгугунгунгук!» Но Наташкин голос все равно звучал громче, так что себя я почти не услышал. Однако не сомневался, что произнес заклинание правильно. Волшебное слово вылетело из меня само, я только рот открыл.
И тогда в животе стало горячо, а в голове светло, как будто там зажегся яркий белый бенгальский огонь, и я подумал – все, превратился. И несколько секунд, часов или лет прислушивался к новым ощущениям – каково оно, быть звездой?
Но все это, конечно, просто от волнения. В какой-то момент я обнаружил, что по-прежнему сижу рядом с Наташкой на крыше, и вокруг темная-темная ночь, только горит, мигая, бледный лиловый фонарь у калитки, да звезды на небе. Так много звезд! Но мы – все еще не они.
– Я поняла, в чем дело. Просто это срабатывает не сразу, – сказала Наташка. – А как бомба замедленного действия. Знаешь, как в кино? Все про нее уже забыли, и вдруг – ба-бах! Интересно, сколько надо ждать?
А я молчал. Слишком велико было потрясение. И разочарование. И радость, что можно еще побыть нормальным человеческим человеком. И еще много разных чувств, описать которые я и сейчас-то вряд ли сумею.
– Плохо, что меня теперь запрут дома, – сказала Наташка. – И будет страшный скандал. Терпеть не могу, когда орут. Но зато мы с тобой уже все сделали. И это нельзя отменить. А значит, мы обязательно превратимся в звезды. Это может случиться в любой момент. Когда угодно, без предупреждения. Хоть в школе, хоть в бассейне, хоть в новогоднюю ночь. У всех на глазах! Представляешь, как они удивятся? И как удивимся мы. Так интересно будет теперь жить!
Я кивнул. Еще как интересно. Жить вообще невероятно интересно, потому что вообще все что угодно можно случиться в любой момент. Причем даже с тем, кто никогда не выкрикивал волшебные заклинания на крыше. С каким угодно человеком, если ему повезет. А уж с нами-то теперь – и подавно.
Вот о чем я тогда думал, но ничего не говорил, потому что не знал нужных слов. Собственно, до сих пор не знаю.
– Раз еще не превратились, надо мне идти домой, – сказала Наташка.
– Ты что?! Темно же. И далеко. И трамваи не ездят.
Это было первое, что я сказал. Потому что очень за нее испугался. Это, конечно, Наташка, она храбрая и все может, я знаю. Но идти одной, ночью, пешком через весь город – даже для нее как-то слишком.
– Ай, – отмахнулась она, – подумаешь! Ночь – ну и что? Я же знаю, в какую сторону идти. И фонари везде горят. А если привидение встречу, только обрадуюсь. И попробую с ним познакомиться.
– А если бандита?
– Да они уже, наверное, давно спят, – сладко зевнула Наташка. – Или банк грабят. Ну так я мимо банка и не пойду.
Все равно мне не хотелось ее отпускать.
– Давай я пойду с тобой.
– Тогда и тебя заругают. И запрут дома до осени.
– Ну и пусть, – упрямо сказал я. – Если ты все равно не будешь приезжать, можно и дома сидеть. Зато сейчас вместе погуляем. К тебе, наверное, долго надо идти?
– Наверное, – согласилась Наташка. – Может быть, аж до утра. Я еще никогда не ходила. Но даже ехать почти целый час.
Я очень хорошо помню, как мы сидели на крыше. Каждую минуту, каждое произнесенное слово, и как Наташка чесала коленку, засунув руку под штанину. И как подала мне руку, чтобы помочь вскарабкаться наверх, к чердачному окну. И как я вдруг очень по-взрослому подумал: «Дружба – это когда у тебя две жизни вместо одной. И обе одинаково важные. Какая разница, где чья». Но говорить вслух почему-то постеснялся.
Зато почти не помню, как мы шли через ночной город. Мы оба очень хотели спать, хоть под кустом ложись, или на лавку в парке. Но все равно шли, и мне снились какие-то удивительные сны, прямо на ходу, но их я, конечно, забыл.
Когда мы добрались до Наташкиного дома, было совсем светло. И ее родители, наверное, увидели нас с балкона, потому что выскочили навстречу, в подъезд. И тогда я сказал с самого начала заготовленную фразу: «Это я виноват. Я ее подговорил». А потом лег и заснул, прямо на лестнице. Слышал сквозь сон, что меня несут на руках, хотел сказать свой адрес, но не мог выговорить ни звука. И мне было все равно.
Проснулся я уже дома, в своей кровати. Рядом на стуле сидел папа. И лицо у него было совсем не сердитое, а грустное и растерянное. Таким я его еще никогда не видел.
– Что ты проснулся, это очень хорошо, – сказал папа. – А что из дома ушел среди ночи без спроса – просто ужасно. Совершенно от тебя не ожидал. Что у тебя теперь температура – это вообще безобразие. У нас с тобой мама на кухне уже целый час плачет, и что прикажешь делать?
Я молча пожал плечами – дескать, не знаю. Ну и потом, что-что, а температуру я себе нарочно не повышал, в этом смысле моя совесть была совершенно чиста.
– Твое путешествие ночью через весь город – это уже какой-то запредельный кошмар, – продолжил папа. – Страшный сон любого родителя. Хоть на цепь тебя теперь сажай до шестнадцати лет, чтобы точно никуда не сбежал.
«На цепь» – это, конечно, звучало ужасно. Но выглядело с моей точки зрения вполне справедливо. Так что я даже защищаться не стал. Просто не нашел достойных аргументов.
– С другой стороны, – неожиданно заключил папа, – ты большой молодец, что пошел провожать Наташу. Не оставил ее одну. Ее отец говорит, ты еще и вину на себя взял, хотя я совершенно уверен, что этот ваш ночной побег из дома – совсем не твоя идея. То есть, сын из тебя, конечно, вышел никуда не годный, нам с мамой здорово не повезло. Зато друг ты, как выяснилось, надежный. Уже кое-что. Не зря мы с мамой столько конфет и сосисок на тебя извели. Возможно, со временем одним хорошим человеком на земле станет больше – при условии, что ты в ближайшее время не сбежишь на Южный Полюс и там тебя не съест какой-нибудь хищный пингвин.
Я глазам своим не верил: папа улыбался. Весело, как будто я ничего не натворил. Я так обрадовался, что сказал:
– Я больше никуда не сбегу, обещаю. Но могу превратиться в звезду. В любой момент! Вы с мамой сами сказали, что это было бы здорово, так что теперь не пугайтесь.
– Судя по тому, какой ты горячий, ты уже в нее превращаешься, – вздохнул папа.
– Просто все происходит довольно медленно, – говорит Наташка. – А мы этого не учли!
Я лежу на деревянном полу, каждой клеточкой тела ощущаю впитанный им за день солнечный трепет и жар. Мне так хорошо, лениво и сладко лежится, что Наташке приходится говорить за двоих, я даже не киваю, только думаю: «Да. Да. Да». Но этого достаточно.
– Мы представляли, что превратимся, как в сказочном кино – раз, и все! А это медленный процесс. Очень много времени надо, чтобы человек превратился в звезду и при этом остался жив. Не сгорел, не взорвался.
И я снова думаю: «Да».
– Вот поэтому, – торжествующе заключает Наташка, – чем дальше, тем веселее и легче нам становится жить. А когда что-то вдруг идет не так, это не имеет значения. Вообще никакого! Потому что главное дело все равно делается, превращение происходит, а больше ничего и не требуется… Жалко, что я это так поздно поняла, но наверное понимание – тоже часть превращения. И раньше просто не могло случиться.
«Да, – снова думаю я. – Конечно, дружище. Еще бы!»
– Две горсти гороха, одна морского песка, – вздыхает Наташка. – Крылья бабочек, стекляшки, пуговицы, монеты. Эта моя дурацкая мятая коробка. И волшебное слово «трульнгугунгунгук». Такая чепуха. И так отлично сработала, скажи!
И глаза ее светятся в чердачном полумраке. И мои глаза светятся тоже – во всех временах сразу, раньше, сейчас и потом.
Улица Пранцишкону (Pranciškonų g.) Хава Шимали, Хава Джануби[41]
По утрам мир раскалывается надвое от грохота будильника, я открываю потемневшие за ночь глаза, и северный ветер начинает дуть из пустыни Карджалад-Кум. Пока я сладко потягиваюсь, он швыряет в небо тучи раскаленной пыли, выворачивает с корнем редкие деревья; веселые злые джинны пляшут на кончиках моих пальцев, когда я шлепаю босиком по лестнице вниз, чтобы налить в джезву воды из последнего не засыпанного пока ручья, отмерить кофе, поставить медный сосуд в горячий песок, утихомириться, ждать.
По утрам у меня тяжелый нрав, имя мне – Аджина-Шамол, Чертов Ветер; в жертву мне приносят кофейные зерна, пляски на углях и лисий лай, но смягчить меня до сих пор не удалось никому.
Ты спишь с открытыми глазами, подавая добрый пример звездам и фонарям, сладко жмуришься на рассвете, суешь за щеку золотой как солнечная пыль леденец, встаешь и наощупь идешь на террасу, где среди розовых кустов и лимонных деревьев тебя ждут три стакана с водой – мертвой, живой и холодной; третий нужнее прочих для того, кто весь – жар и свет, кто целиком – пламя.
Пока ты пьешь воду, над прудами Домба и холмами Бресса со стороны кантона Монлюэль, что в департаменте Эн, начинает дуть южный ветер. Безоблачное небо затягивается молочно-белой дымкой, травы трепещут, сизые рыбы пляшут в прудах, толстые бресские куры, ошалев, носятся по дворам, воображая, будто взлетели, или вот-вот взлетят.
По утрам тебе светло и смешно; звать тебя по утрам – Ван де Монлюэль.
В полдень мне вдруг исполнится двадцать семь лет, в полдень у меня будут волосы цвета тени от воронова крыла, в полдень весь мир ляжет к моим ногам, и я буду рыться в нем как в шкафу, выбирая, что бы надеть. В полдень я выйду из дома, и в этот же миг шквалистый северный ветер засвистит над Мексиканским заливом, приветствуя пеликанов и лимонных акул – эй вы, я здесь!
«Эй вы, я здесь», – издалека кричу я подружкам, загорелым и длинноногим, в тонких суконных жакетах, ярких шапках с помпонами и мягких сапожках. Они сидят на улице Пранцишкону, на последней в городе открытой веранде, ждут меня, кутаясь в кашемировые шарфы, курят тонкие дамские сигариллы, выдыхают ароматный вишневый дым, словно каждая – дом, где только что растопили камин, чтобы согреться. Мои руки слишком холодны, чтобы их обнимать, зато губы достаточно горячи, чтобы с ними смеяться. В полдень, пока мы пьем густой горячий шоколад, зябко ежась на далеком мексиканском ветру, меня зовут Чоколатеро, и со мной вполне можно поладить, некоторым удавалось, я помню их имена.
В полдень ты выходишь из дома, чтобы зайти в книжную лавку, где работает друг, готовый подолгу листать для тебя страницы бульварных романов позапрошлого века и старинных энциклопедий на легких, внятных чужих языках. Его помощь неоценима, потому что в твоих руках бумага истончается и желтеет, начинает тлеть прежде, чем ты успеваешь разобрать слова: «контрнаступление», «mystery», «heilig», «buriavimas». Пока шелестят страницы, у острова Шри Ланка дует сухой порывистый ветер, чей горячий шепот веселит слонов, обезьян и звездных черепах, но сводит с ума простодушных жителей побережья, потому что пересказывает им все, что ты успеешь прочитать, на всех языках сразу – вот уж не знаю, зачем.
В полдень, листая старые книги, ты счастлив, спокоен и абсолютно безумен, имя тебе Баттикалоа Каччан, сумасшедший ветер. Какой же еще.
В сумерках я принимаюсь за работу, сумерки – мое время, и зимой, пока они длятся почти вечно, я могу все.
В сумерках, пока я расправляюсь со своими бесчисленными делами – бегаю, записываю, читаю, оплачиваю, рассылаю, звоню – жители департамента Изер запираются в домах, топят печи, тушат мясо, подогревают вино, слушают, как барабанит по крышам град, как скрипят и стонут вековые деревья, как звенят обледеневшие провода. В сумерках у меня слишком много работы, в сумерках у меня слишком много сил, в сумерках мне слишком весело, потому что близится ночь. В сумерках мое присутствие отменяет любое зло, но людям со мной неуютно и зябко, в сумерках люди называют меня Биз Нуар, Черный Биз.
В сумерках я – есть.
Вечером ты не хочешь возвращаться домой, вечером ты кружишь по городу, не отвечаешь на телефонные звонки, покупаешь газированную воду в киосках, заглядываешь в освещенные окна, тайком ухмыляешься, подслушав обрывки чужой болтовни, и от твоего беззвучного смеха на Балеарских островах, на западом краю Средиземного моря поднимается ветер, удушливый, влажный и пыльный. Он проносится над клубами Ибицы, нудистскими пляжами Форментеро и сосновыми рощами Эспарто; невозмутимые потомки гимнесийских пращников и карфагенских пиратов укрываются от него за каменными стенами, пьют горячий крепкий кортадо и ледяной джин с соком горьких лимонов, знают – ты скоро утихомиришься, все пройдет.
По вечерам ты томишься ожиданием и мучаешь других, по вечерам твое имя – Миг-Йор. По вечерам осчастливить тебя легче легкого – достаточно приблизить ночь. Но этого никто не умеет.
Кроме меня.
Ночью мы сидим, обнявшись, на краю Аравийской пустыни, и ты азартно шепчешь: «Меняю три пыльных бури на дюжину твоих дурацких шквалов», а я притворно возмущаюсь: «Ишь какой хитрый, всего три несчастных бури за целую дюжину, ищи дурака», – и изворачиваюсь, чтобы щелкнуть тебя по конопатому носу, получить в ответ подзатыльник и в отместку до полусмерти тебя защекотать. Мне для тебя ничего не жалко, тебе для меня – тем более, просто спорить и драться мы любим почти так же сильно, как молча сидеть в пустыне на самом краю всего, дышать, замедляя время, ждать, когда молния расколет тонкую черную чашу небес, и сверху раздастся сладчайший из голосов: «Хава Шимали, Хава Джануби, ужин готов, дети, ступайте домой – до утра».
Улица Радвилу (Radvilų g.) Трое в лодке, не считая Гери и Фреки
Оми, Гери и Фреки всегда приходят первыми. Оми занимает место на веранде «Старой лодки» – то есть под ярко-зеленым тентом на тротуаре улицы Радвилу. Здесь у него есть любимый стол, крайний справа от входа. Летом стол преданно ждет Оми, прикрывшись табличкой «Зарезервировано»; зимой специально для дорогого гостя на улицу выносят газовый обогреватель в форме гигантской поганки. В помещение Оми не заходит ни при каких обстоятельствах. Дело не в собаках, с которыми он неразлучен, – и владелец, и посетители «Старой лодки» с радостью приплатили бы за возможность оказаться в обществе двух дружелюбных голубоглазых волчат. Обаяние всех хаски неотразимо, но псы Оми даже на фоне своих сородичей – нечто выдающееся, к ним сбегаются с подношениями не только заскучавшие клиенты, готовые по случаю счастливого знакомства распрощаться с последним свиным ухом, но и раскрасневшиеся от кухонного жара повара, прознав об их очередном визите, несут лучшие филейные обрезки. Оми кормлению псов не препятствует, полагая, что радость важнее дисциплины. Вечно голодный Фреки ловит угощение на лету, тщетно жадина Гери пытается ухватить его долю, предусмотрительно придерживая свой кусок лапой, этот трюк у него никогда не проходит. Но Гери с оптимизмом смотрит в будущее – когда-нибудь да получится. Главное – не оставлять стараний.
Поэтому дело не в собаках, а в трубке. Оми всегда выходит из дома, тщательно окутав голову облаком ароматного дыма, с неизменной пенковой трубкой в зубах. Она, похоже, вообще никогда не гаснет, по крайней мере, Оми на моей памяти еще ни разу не прерывал игру, чтобы вычистить и заново набить трубку, а дым при этом исправно клубится, как бы мы ни засиделись. Не понимаю, как ему это удается. Тайна за семью печатями, сорок три тысячи восемьсот двадцать девятый пункт в моем неполном пока списке чудес этого света, на составление которого я ухлопал уже добрую дюжину лет, несколько сотен блокнотов и столько же – строго по одному на блокнот – карандашей.
Санн всегда приходит сразу вслед за Оми. Буквально десять секунд спустя, как будто нарочно пряталась где-то рядом за углом, высматривая, когда он появится, лишь бы не усаживаться за стол первой.
Санн среднего роста и сложения, но поначалу всем почему-то кажется очень высокой и тонкой, как натянутая струна. У нее смуглая кожа, густая копна вьющихся пепельных волос и глаза, серебристые, как озера в пасмурную погоду.
Санн всегда одета так тщательно, что кажется – она начинает продумывать свой гардероб чуть ли не за неделю до встречи. На самом деле Санн всегда собирается впопыхах, но на результате это не сказывается – ни одной случайной детали, все на своих местах. Если одна из ее прядей выкрашена в зеленый цвет и заплетена в косицу, значит из-под многослойной цыганской юбки рано или поздно покажется соблазнительно тонкая щиколотка, обтянутая таким же зеленым чулком. А узор на одной из бусин ее браслета, можно не сомневаться, в точности повторяет рисунок, вышитый по краю шали. И так далее.
Я же неизменно опаздываю на каждую встречу; причиной тому не безалаберность, а пунктуальность. Просто я знаю, что Оми нравится приходить первым, а Санн обожает являться сразу следом за ним. И мне совсем не трудно прийти на четверть часа позже, дать этим двоим спокойно помолчать о разных вещах, которые в моем присутствии пришлось бы обсуждать вслух.
Собравшись наконец вместе, мы заказываем напитки. Оми пьет светлое пиво, Санн – брусничную воду, а я беру джин-тоник и еще целый стакан колотого льда. За игрой мне всегда жарко, даже зимой, даже если забыть дома шарф и сесть подальше от обогревателя.
После того, как на столе появляются стаканы, Оми достает из кармана колоду карт. Всякий раз новую, еще в упаковке. Не то чтобы мы не доверяли друг другу, просто Оми любит покупать карты, Санн – их разглядывать, а мне все равно.
Мы играем в Рамми[42]; из множества вариантов этой игры мы выбрали нечто похожее на Рамми-пятьсот – такая же запись заработанных и штрафных очков, два джокера в колоде, возможность брать любую скинутую карту, а не только верхнюю. Но сдача у нас по тринадцать карт, как в Каллуки. И стоимость туза в любой комбинации пятнадцать очков. И еще некоторые нюансы.
Конечно, мы делаем ставки. Скучно играть, как говорится, «на интерес». Но и на деньги в нашем случае – вполне бессмысленно. Оми настолько к ним равнодушен, что даже не знает, богат он, или беден; Санн слишком щедра и, чего доброго, может начать поддаваться ради удовольствия сделать нам подарок. Что до меня, я-то как раз не против заработать хорошей игрой, но всему свое время и место. Наши ставки в любом случае привлекают меня куда больше.
Потому что мы играем на людей.
Каждый, кого волей случая занесет на улицу Радвилу, пока мы сидим на веранде «Старой лодки», может оказаться ставкой в нашей игре. А может и не оказаться. Тут требуется точность, надо пройти мимо «Старой лодки» в тот момент, когда один из нас тасует карты перед очередной сдачей.
А еще надо нам понравиться.
Победитель – тот, кто первым выложит все карты на стол – может рассказать о назначенном ставкой прохожем, что взбредет в голову. Давать волю воображению не возбраняется; впрочем, сохранять сдержанность тоже не считается дурным тоном. Если у кого-то из проигравших наберется больше очков, чем у победителя (при игре в Рамми такой случается), он может делать уточняющие замечания и даже вносить поправки. Но мы стараемся не злоупотреблять этим правом.
Я тасую карты. Мимо идет невысокая миловидная женщина в сером льняном костюме. Переглядываемся. Я вопросительно поднимаю бровь. Санн неопределенно взмахивает рукой – дескать, будь что будет. Оми кивает – годится.
Можно сдавать.
Оми берет карты по одной, по мере того, как они ложатся на стол; он хмур и безмятежен, как всегда во время игры. Санн сгребает по несколько штук за раз, щурится, разглядывая добычу, и адресует мне традиционный укоризненный взгляд – дескать, мог бы сдать и получше. Это вовсе не означает, что карты действительно плохи. Окажись у нее на руках полдюжины джокеров вперемешку с тузами, укоризны во взоре не убавилось бы ни на йоту.
Закончив сдавать, я беру свои карты и торжествующе улыбаюсь. Вовсе не потому, что они мне так уж нравятся, скорее наоборот. Просто кто-то из игроков должен улыбаться после всякой сдачи, и пусть это буду я, у меня, говорят, неплохо получается.
Впрочем, итог все равно предрешен. Первую сдачу у нас всегда выигрывает Оми. Это тоже своего рода традиция. Дальше игра может пойти как угодно, но первая сдача всегда его, не знаю уж, почему.
– Все-таки очень неприятно с тобой играть, – говорит Санн, подсчитывая штрафные очки. – И сам ты только на первый взгляд милый человек. А на самом деле очень неприятный!
Оми ухмыляется, затягиваясь трубкой. Ему нравится, когда проигравшие делают вид, будто сердятся. От меня в этом смысле толку немного, зато на Санн всегда можно рассчитывать.
Оми никогда не торопится. Вот и сейчас он медленно перебирает карты, медленно складывает вслух: «Сорок шесть плюс девять. Пятьдесят пять?» Дождавшись от меня подтверждения, продолжает: «Пятьдесят пять плюс одиннадцать…» Назвав окончательную сумму, непременно перепроверяет, наконец, веско повторяет результат: «Сто сорок три».
– Неприятное какое число, – завистливо вздыхает Санн.
– Ну же! – не выдерживаю я. Но Оми молча пыхтит трубкой. Думает.
– Однажды наша женщина в сером, – наконец говорит он, – найдет на улице старую книгу без обложки и нескольких первых страниц; следовательно, без имени автора. В этой книге будут детально описаны судьбы… ну, скажем, восьми человек. И подробно рассказано, как каждый из них может избежать ожидающих его неприятностей, а в некоторых случаях – преждевременной гибели. Сперва женщина в сером решит, будто в руки ей попал чрезвычайно оригинальный роман, не похожий на все, что она читала прежде. И даже предпримет ряд усилий, чтобы узнать имя автора – увы, безрезультатно. Зато однажды она случайно познакомится с одним из персонажей. Сперва будет удивляться и радоваться полному совпадению имени и биографических деталей. Но после того, как новый знакомый погибнет в возрасте сорока трех лет при обстоятельствах, полностью соответствующих предсказанию, женщина в сером проведет в раздумьях бессонную ночь. Потом еще раз внимательно перечитает книгу и составит список – в какой последовательности надо разыскивать ее персонажей. То есть кому из них серьезные неприятности угрожают в ближайшее время, а кому еще нескоро. Начнет подтягивать порядком забытый немецкий язык и с нуля учить испанский – чтобы, когда придет время, иметь возможность объясниться. Поскольку она не настолько богата, чтобы нанимать частных детективов, возьмется за поиски сама. Нечего и говорить, что жизнь ее полностью изменится, заполнится новыми знакомствами и удивительными приключениями. Шесть лет спустя все персонажи будут предупреждены и, следовательно, вооружены, а наша героиня обнаружит себя где-нибудь у черта на куличках. Ну, предположим, на острове Антигуа, чего мелочиться. Загорелой, похорошевшей, очень счастливой и по уши влюбленной – в кого именно, оставляю на ее усмотрение. Но в целом – вот такая картина.
– Ну ничего так дамочка развлечется, – киваю я.
Оми знает меня не первый год. Он в курсе, что мое «ничего так» дорого стоит. Высший балл. Отсутствие подлинного восторга я легко и охотно маскирую одобрительными формулировками. А когда по-настоящему зацепило, становится не до церемоний. Это не поза, а просто устройство организма, внешнее поведение никогда не соответствует внутреннему состоянию, самому смешно.
– По-моему, ты сделал этой женщине в сером королевский подарок, – вздыхает Санн. – Я ей почти завидую.
– Сперва чуть не сглупил, – смущенно признается Оми. – Думал просто сделать ее королевой бабочек. Ну, чтобы бабочки слетались к ней отовсюду и порхали вокруг ее головы, куда бы она ни пошла. Но вовремя опомнился. Решил, что было бы нечестно вот так запросто решать за всех здешних бабочек, как им себя вести. В конце концов, бабочки – не ставка. И какого черта, раз так.
– Было бы красиво, – неуверенно говорит Санн.
– Ты тасуй давай, – говорю я. – Руки уже чешутся отыграться.
– Да ладно тебе. Чешутся – ишь.
Оми любит и умеет держать паузы, и с этим, увы, ничего не поделаешь.
Тасовать теоретически можно очень долго. Хоть до самого вечера. Улица Радвилу – не то чтобы главная пешеходная магистраль. И даже не второстепенная. Если называть вещи своими именами, тут вообще почти никто не ходит. Туристы сюда не забредают, да и среди местных желающих срезать путь от улицы Тилто до набережной или в обратном направлении совсем немного. Хорошо, что хозяин «Старой Лодки» с самого начала сделал ставку на формирование круга завсегдатаев, не особо рассчитывая на случайных клиентов, а то бы давным-давно разорился, и где тогда, скажите на милость, мы бы собирались.
Впрочем, нам-то как раз грех жаловаться, дольше нескольких минут на моей памяти ждать не приходилось. Вот и сейчас, стоило Оми наконец взять карты в руки, как на Радвилу появились сразу трое прохожих. Мальчик с рыжим сеттером на поводке, рано облысевший клерк в темно-синем костюме и старушка с кошелкой, едва ковыляющая на опухших, негнущихся ногах. Из кошелки торчат букеты, составленные из полевых и садовых цветов. До проспекта Гедиминаса, где она обычно торгует, любой из нас, не спеша, дошел бы отсюда минут за пять, а она будет добираться не меньше часа. Но ничего, добредет. А потом, собрав скудную выручку, обратно. И так все лето и осень, ни единого дня не пропуская. Потому что – надо, точка. Снимаю шляпу.
– Бабка явно не из тех, кто легко сдается, – говорю я вслух. – Другие в таком состоянии даже во двор на лавке посидеть не выбираются, а эта – ишь, цветы продавать ходит. Она мне по душе.
– Мне тоже, – кивает Оми. – К тому же у мальчишки жизнь и без нас вполне интересная.
– А лысый лично мне совсем не нравится! – Встревает Санн. – Но не потому, что лысый. А… А потому что!
– Спасибо, что объяснила, – вежливо говорю я. – Теперь все наконец стало ясно.
– Но ведь действительно ясно, – ухмыляется Оми. – Не придирайся.
И начинает сдавать.
Санн, как всегда, бурно возмущается его удивительной способностью сдавать ей исключительно неприятную дрянь. Однако это не мешает ей выкладывать комбинацию за комбинацией. Еще немного, и на столе закончится место. Это досадно, мне хотелось бы выиграть старуху. Санн наверняка уже сочинила для нее добрую дюжину прелестных девчачьих историй об обретении молодости, усыновлении чудесного младенца, случайной встрече с былой любовью, или внезапной горячей дружбе с королевой местных фей. Старушке, скорее всего, понравится, но лучше все-таки доверить это дело мне. Честное слово.
Словно бы в ответ на мои мысли, Санн, а затем и Оми сбрасывают ровно те карты, которые мне требуются. И я – оп-ля! – заканчиваю первым. К их нескрываемой досаде.
– А я тебе так верила, – скорбно говорит Санн. – Так верила. Как самому родному человеку. Замуж бы пошла, если бы позвал, вот честное слово! Но уж теперь-то ни за что не пойду. Теперь я тебя знаю! С самой, заметь, неприятной стороны.
Подсчет, впрочем, показал, что очков у Санн больше чуть ли не вдвое. Но это как раз ничего. Ее подсказки дела не испортят. Мою историю вообще ничем не перешибешь.
– Ну, во-первых, – небрежно говорю я, – ясно, что никакая это не бабка. А джинн. Заключенный разгневанным и хитроумным господином в сосуд из плоти, а не из меди, как делали прежде.
– Боже! – Санн картинно хлопает себя по лбу. – Ну конечно! Как я сразу не догадалась.
– И сколько тысячелетий ему еще так шаркать? – озабоченно спрашивает Оми. – Джиннов обычно надолго проклинают.
– В том-то и штука, что господин решил мерить срок заключения не годами, а шагами, – торжествующе говорю я. – Обрек беднягу сделать сто тысяч шагов, понадеявшись, что в таком ветхом теле он и тысячи не одолеет. Но наш джинн проявил стойкость, и обретет свободу уже сегодня, как только…
Я собирался сказать: «Как только свернет за угол», – но Санн меня перебила. Что ж, имеет право.
– Как только продаст последний букет, – восхищенно выдыхает она. – Отдаст его, предположим, какому-нибудь унылому умнику, который с пяти лет полагает, будто знает, как устроен мир, и чего от него ждать. Сделает шаг в сторону – скажем, чтобы взять свою кошелку. И это окажется самый последний шаг! И джинн метнется в небо огненным столбом, прямо у всех на глазах. Представляете, какой переполох поднимается?! Кто-то завизжит, кто-то перекрестится, кто-то пустится наутек, завоют псы и заревут младенцы, а охранник магазина «Зара» позвонит в полицию, но в целом, обойдется без особых жертв. И то-то наш умник попляшет!
– Поправка принимается, – говорю я. – Так даже лучше. Спасибо, Санн.
– Весело, – резюмирует Оми, затягиваясь трубкой.
В его устах «весело» – это даже круче, чем «ничего так» в моих.
– А теперь я сдаю, – объявляет Санн. – Давай сюда карты.
Санн всегда тасует долго. Ей просто нравится это занятие, и улица Радвилу послушно пустует, сколько заблагорассудится Санн. Наконец из-за угла выходит высокий мужчина с этюдником. Одетый при этом, как солдат великой армии какой-нибудь неведомой, но прекрасной страны: камуфляжные штаны и такая же кепка, украшенная пучком попугайских перьев, изрядно вылинявшая на солнце оранжевая майка и высокие ботинки цвета берлинской лазури. Коротко стриженные темные волосы выкрашены в тон ботинкам; в целом композиция более чем удалась. И кому как не Санн ее оценить.
– Он прекрасен, – вздыхает Санн. – Я его хочу.
– Сперва тебе придется его выиграть, – хладнокровно замечает Оми.
Санн снова вздыхает и начинает сдавать карты.
Но в этой партии снова везет мне.
– Вот это уже совсем нечестно! – Возмущается Санн. – Я тут сижу, такая красивая. А ты у меня выигрываешь и выигрываешь. Лукаво! Вместо того, чтобы простодушно проиграть.
– Да я бы с радостью, дорогая. Но ты сама сдала мне все эти замечательные карты. Своими руками. Они не из моего рукава.
– А кто тебя знает, – ворчит Санн. – Ладно уж, давай, рассказывай. Только чур моего прекрасного мальчика не обижать! Смотри мне!
– Да кто ж такого обидит, – говорю я. – На следующей неделе твой прекрасный мальчик найдет на холме калейдоскоп фей, узоры которого, как известно, повторяют самые прекрасные фрагменты невидимых человеческому глазу миров, причем в ритме, наиболее благоприятном для смотрящего, что делает их притяжение совершенно неодолимым. Художник подберет вещицу, чтобы подарить соседскому ребенку, глянет одним глазом, и пропадет – известно, что бывает с людьми от фейских игрушек. Но ничего страшного не случится. Потому что у него есть… Ну, предположим, очень надежный друг. Который придет, встряхнет, приведет в себя, заставит поесть. Для чего еще и нужны друзья. А потом сам заглянет в калейдоскоп. И тоже пропадет, потому что ничего прекрасней откроющихся ему переменчивых узоров нет на этой земле. Но тут уж наш художник приведет друга в чувство. Так и будут проводить время, пока не привыкнут к ослепительной красоте настолько, что смогут сами, добровольно от нее отрываться, когда пожелают. И никто не умрет от истощения, сжимая в скрученной судорогой руке волшебный калейдоскоп. Хотя с иными счастливчиками подобное порой случается. Но самое главное, конечно, не это, а…
– Художник станет рисовать увиденные узоры? – Перебивает меня Санн.
Не выдержала. Ее можно понять и простить. Тем более, что это не подсказка, а догадка. Причем совершенно верная.
– Он даже выставку этих картин устроит, – говорю я. – Год-полтора спустя, чего тянуть. И узоры калейдоскопа фей увидит так много людей, что на трижды трех калькуляторах сосчитать невозможно. И все останутся живы, потому что картина – это все-таки умеренно волшебный объект. Оторваться трудно, но можно. А вот забыть уже не получится. Никогда. И после этого мир окончательно изменится к лучшему. Хотя даже и не знаю, куда еще.
– В мире, действительно изменившемся к лучшему, я буду выигрывать у вас хоть иногда, – ворчит Санн.
Впрочем, она совершенно довольна. Ее любимчик пристроен наилучшим образом. Угодить Санн очень просто, было бы желание. У меня оно обычно есть.
Пошел второй круг, снова моя очередь сдавать. Псы Оми, успевшие собрать дань со всех завсегдатаев «Старой Лодки», угомонились, вернулись к хозяину и улеглись под стол подремать. Теплая тяжелая голова Фреки доверчиво лежит на моей ноге. Я стараюсь сохранять неподвижность и тасую карты. А по улице Радвилу ковыляет юная девица на таких высоченных каблучищах, что ее променад больше похож на цирковое выступление, чем на обычную прогулку. Мы с Санн, переглянувшись, взрываемся от безмолвного хохота, а Оми говорит:
– Она сумела вас развеселить, а это – немалая заслуга.
– И то верно, – киваю я. – Годится.
Эту сдачу наконец-то выигрывает Санн.
– Пустяковый, конечно, успех, – с наигранной сдержанностью говорит она. – Но все равно хорошо. Наконец-то мне стало приятно с вами играть. И вы даже кажетесь мне, не побоюсь этого слова, милыми. Хотя я знаю вас не первый год. И могла бы не питать иллюзий.
– Не тяни, – говорит Оми. – Что с барышней?
– О, с барышней все прекрасно, – улыбается Санн. – Я как ее увидела, сразу поняла, что каблуки – это не следование моде, а домашнее задание.
И умолкает. Такая уж у нашей Санн манера рассказывать. Еще и удивляется, что никто не понимает ее с полуслова. Словно живет в мире, где все без конца занимаются чтением мыслей друг друга. А вслух говорят только если хотят продемонстрировать красивый тембр голоса – глядите, как я умею.
Впрочем, почему «словно».
– Что за задание? – хмурится Оми.
Я пока помалкиваю. Но тоже хмурюсь.
– Ну как же. Девочка учится пению. У нее очень хороший учитель. Немного эксцентричный, но кто без греха? Порой он дает ученикам необычные домашние задания, на первый взгляд, не имеющие никакого отношения к певческому мастерству: станцевать в супермаркете, переправиться на плоту через реку, добраться автостопом до моря, или вот, к примеру, прогуляться на каблуках непривычной высоты. Учитель уверен, что все это благотворно влияет – и на голос, и на всего человека целиком. И он совершенно прав! Если только сидеть дома и петь, легко упустить самое главное.
– Что именно? – хором спрашиваем мы.
– Ну как – что? Весь мир. Для того и домашние задания. Чтобы человек был то весел, то растерян, то смущен, то беспричинно счастлив. И всегда немного настороже. Потому что никогда заранее не знаешь, что тебе велят отмочить завтра. И как ты станешь выкручиваться. Когда ты певец, а значит, весь, целиком – музыкальный инструмент, надо быть готовым к постоянным переменам. Иначе как же из тебя сделается музыка?
– И не только музыка, – кивает Оми. – А вообще все. Спасибо, дорогая. Напоминай нам об этом почаще.
Обрадованная его похвалой, Санн безропотно соглашается считать следующей ставкой толстого мужчину в неопрятном джинсовом комбинезоне, подходящем, разве только, для домашнего спектакля про Карлсона. Хотя сказать, что такие ей не нравятся – все равно, что назвать пустыню детской песочницей. Недопустимое преуменьшение.
И даже когда Оми выигрывает с разгромным счетом, то есть, оставив нас обоих с полусотней штрафных очков на брата, она великодушно пожимает плечами – повезло, бывает. А ведь какую шикарную сиротскую песнь могла бы завести.
– Ну и что такого интересного может случиться с этим толстяком? – нетерпеливо спрашивает Санн. – Рассказывай!
Торопить Оми, конечно, бесполезно. Он курит и молчит, молчит и курит, выпускает сизый дым аккуратными овальными кольцами. Наконец говорит:
– Готов спорить, через год ты его не узнаешь. Впрочем, у вас немного шансов встретиться. Потому что уже через неделю этот человек отправится в свое самое первое путешествие. Которое, по моим прогнозам, затянется на долгие годы.
– Что за путешествие?
– Его можно было бы назвать кругосветным, но, точности ради, следует сказать, что и кругов, и источников света будет великое множество. Хотя сам он поначалу запланирует совсем простой непродолжительный марш-бросок – к ближайшему теплому морю и обратно. Оно и к лучшему, когда впервые в жизни решаешься оторвать наконец задницу от дивана, не стоит вот так сразу признаваться себе, что это – навсегда. А то рухнешь с перепугу назад, и привет.
– Совсем-совсем впервые в жизни? – спрашиваю я. – То есть мужик до сих пор вообще никуда из Вильнюса не уезжал?
– Не дальше бабкиного хутора в Малетай. За всю жизнь, то есть сорок с лишним лет даже до Клайпеды ни разу не добрался. И в Каунасе не был, хотя он всего в ста километрах отсюда, не о чем говорить.
– Во дает. Как же он умудрился?
– Тоже мне хитрость. Бедность, лень и мечтательность. Вполне обычное сочетание, таких людей, на самом деле, полным-полно.
– Я имею в виду, как он умудрился вырваться?
– А. Тогда следует употреблять будущее время. Вырвется он, как я уже сказал, только неделю спустя. Хотя, конечно, процесс уже давно запущен. Работу он потерял месяца три назад, жена ушла еще в позапрошлом году. День рождения был на минувшей неделе; обычное в таких случаях подведение итогов оказалось, мягко говоря, малоутешительным. Но решающее событие еще впереди: через пару дней он случайно подслушает разговор девочек-студенток. Обычная болтовня о том, кто как провел лето. Одна ездила автостопом в Париж, другая таким же способом добралась аж до Барселоны, третья не любит жару, поэтому колесила по Норвегии. И это окажется благословенной последней каплей: какие-то пигалицы, можно сказать, владеют миром, а я?! К тому же, идея автостопа, позволяющая путешествовать без затрат, прежде просто не приходила ему в голову. В первые дни он, конечно, будет отчаянно стесняться. Но быстро войдет во вкус.
Оми задумчиво улыбается, затягивается трубкой; кольцо дыма застывает над его головой как сбившийся набекрень нимб. Но мы с Санн пока помалкиваем. Нам кажется, что продолжение воспоследует.
И точно.
– Этот человек, – говорит Оми, – пока скромно мечтает когда-нибудь добраться до побережья Черного моря. И не знает, во сколько морей и океанов ему предстоит окунуться. Но главное, конечно, не это. Куда важнее, как много нового он узнает о самом себе. Выяснит, что довольно смел и удивительно щедр для человека, который большую часть жизни экономил даже на еде. Что умеет на ходу придумывать увлекательные истории, а если понадобится, внимательно слушать чужие исповеди. Что на редкость удачлив в любой игре и памятлив на слова чужих языков. Что не боится тяжелой работы и не устает от нее. Что нравится некоторым женщинам и легко находит общий язык с детьми. И еще великое множество разных вещей, о которых не подозревал, пока сидел дома. Жизнь его, таким образом, приобретет смысл столь ослепительный, что можно станет бродить по лесу без фонаря, даже в новолуние. Если бы я был не собой, а кем-то другим, я бы сейчас ему позавидовал.
– Впечатляет, – задумчиво кивает Санн. – Вот оно, значит, как обернется.
– Между прочим, – твоя очередь сдавать, – говорит Оми. – Смотри, кстати, какая хорошая девочка идет.
– Я еще тасовать не начала, – смеется Санн. – Куда ты спешишь?
– Я-то не спешу. Просто девочка очень хорошая.
А кстати, да. Отличная девчонка. Легкая и прохладная, как сентябрьские сумерки. Стройная, длинноногая, с тонкими щиколотками и запястьями. Из тех редких красавиц, которые совершенно не придают значения собственной внешности, а комплименты встречают с искренним недоумением. Мало ли, кто как выглядит, подумаешь, какие пустяки.
– Ладно, ладно, уговорили, – Санн перемешивает карты прямо на столе, сгребает и начинает сдавать.
Открыв карты я, конечно, торжествующе улыбаюсь. Но только потому, что считаю своим долгом блюсти традицию. Однако Гери, неожиданно вылезший из-под стола поразмяться, кладет голову мне на колени и, невольно подглядев дикий набор разномастных троек, восьмерок и валетов, окружающих одинокий пиковый туз, начинает жалобно поскуливать.
– Ты чего, дружище? – удивленно спрашивает Оми.
«Вот уж действительно, – думаю я. – Чего скулить, тут плясать впору. От радости, что эти карты сдали не тебе».
Псу это, видимо, тоже пришло в голову, потому что он внезапно успокоился и, сладко зевнув, снова нырнул под стол. От греха подальше.
– Надеюсь, на руках у вас обоих такая же неприятная дрянь, как у меня, – вздыхает Санн. – Просто ради торжества справедливости.
И тут же выкладывает три туза. Ничего себе «неприятная дрянь».
– Ах ты бедняжечка.
Оми укоризненно хмурится, но это совершенно не мешает ему выкладывать одну комбинацию за другой. И только я сижу как дурак, с кучей бесполезных карт на руках.
Впрочем, партия оказалась долгой. И даже мне, как выяснилось во второй ее половине, грех жаловаться. К тому времени, как Оми, торжествующе хмурясь, избавился от последней дамы, мы с Санн успели занять комбинациями не только свою часть стола, но и один из пустующих стульев. На руках осталась пара мелких карт, не о чем говорить. Шикарно сыграли.
– Однако девица все равно твоя, – говорю я, подсчитав очки. – Рассказывай, что с ней?
– Да ничего особенного, – пожимает плечами Оми. – Просто в детстве она ухитрилась подружиться с собственной тенью. Часами могла с ней болтать, когда никто не слышал, и знали бы вы, что за дивные истории они друг другу нашептывали. Постепенно подружки выучились бегать наперегонки и даже играть в прятки. Вместе читали книжки – и обычные человеческие, и сказки, которые тени взрослых сочиняют для детских теней, чтобы тем было чем занять себя в пасмурные дни. Правда накормить друг дружку любимым печеньем им не удалось, как ни старались – все-таки слишком разные материи, ничего не попишешь.
– Ого! – говорю я. – Повезло барышне с лучшей подругой, ничего не скажешь.
– Повезло-то повезло. Только эта идиллия давным-давно закончилась. Когда люди взрослеют, с ними происходят разные неприятные вещи. И когда обнаруживаешь, что больше не слышишь свою тень и даже отпустить ее побегать уже не умеешь, это открытие может показаться очень печальным. Оно и есть печальное, чего уж там.
Мы растерянно смотрим на Оми – и это все?! Совершенно не в его духе.
– Ну, зато она точно знает, чего ей надо, – оптимистически говорит Оми. – Они обе знают. Поэтому однажды у них все получится. Не очень скоро, явно не на этой неделе, но получится, готов спорить. И это будет так прекрасно, что рассказать невозможно. Но, если хотите, я вам о них помолчу.
И действительно надолго умолкает. Сидит, подперев руками подбородок, и в одном уголке его рта помещается трубка, а в другом пляшет синий солнечный зайчик, родившийся от счастливого союза солнечного луча и стеклянной бусины браслета Санн.
– Только чур печеньем они на этот раз обменяются, – строго говорю я. – Это важно.
– Конечно, обменяются, – безмятежно соглашается Оми. – Для того, строго говоря, и встретятся после долгой разлуки. Это была хорошая новость, но есть и плохая для всех нас: в сумме у меня уже пятьсот восемь[43]. Игра окончена, простите, ребята. Мне самому очень жаль.
– Ничего, – говорю я, – у меня почти столько же. Пятьсот четыре. Можем разделить ответственность. Отлично посидели. Ты когда теперь сможешь?
– Да хоть в ближайшую субботу.
– Вот и славно, – говорит Санн. – Суббота и мне подходит – если после обеда.
– Ну не с утра же пораньше, – ухмыляется Оми.
А я просто киваю. Мне в общем любой день хорош.
Оми покидает нас первым, за ним вприпрыжку несутся Гери и Фреки, чрезвычайно довольные предстоящей долгой прогулкой. Дождавшись, пока они скроются за углом, Санн поднимается из-за стола, целует меня в щеку и уходит в сторону набережной – столь стремительно, что юбка хлопает на ветру, как пестрый латаный парус, а ноги не успевают касаться земли; впрочем, этого обычно никто не замечает.
Я захожу в «Старую Лодку», чтобы расплатиться за напитки, а потом некоторое время стою на пороге, раздумывая, куда теперь отправиться. Теоретически мне, конечно, полагается просто исчезнуть до субботы, но я уже давно пренебрегаю этой обязанностью, а Оми и Санн, которые выдумали меня, обнаружив, что играть в Рамми на двоих не слишком интересно, великодушно не замечают моего своеволия. По крайней мере, никогда не обсуждают мои выходки вслух.
Одно удовольствие иметь с ними дело.
Улица Расу (Rasų g.) А вы как хотите
На границе была огромная очередь, не повезло. Поэтому в Вильнюс Нелли въехала совсем поздно, в половине одиннадцатого вечера. Идея не бронировать гостиницу заранее, а найти что-нибудь на месте окончательно перестала казаться удачной. Шансы отыскать ночлег в это время суток уверенно стремились к нулю; некоторые шансы поужинать пока еще были, но с этим следовало поспешить.
Потом за дело взялись местные лешие и принялись гонять Нелли по окраинам, не подпуская к центру. Навигаторы она терпеть не могла, но сейчас была вынуждена признать, что в подобных обстоятельствах они незаменимы. Сперва она хорохорилась – идите в жопу, уважаемые лешие, у меня идеальное чувство направления, до сих пор всегда было так! Но после почти получаса хаотической езды по спальным районам смирила гордыню, припарковалась возле автобусной остановки и достала телефон. Ваша взяла, электронные человечки, будьте такие добренькие, проложите мне маршрут.
Но тут она увидела девушку. Худенькую блондинку в кожаной куртке и джинсовых шортах, с распущенными волосами чуть ли не до пят. Ну, то есть все-таки не до пят, а всего лишь до задницы, но тоже неплохо. Девушка сидела на лавке под навесом и прижимала к груди какой-то сверток. Ну и отлично. Девушка – гораздо более приятный собеседник, чем бездушный телефонный навигатор. Если она говорит по-русски или по-английски, наверняка сможет показать, где у них тут центр. Впрочем, если не говорит, все равно сможет, слово «центр» звучит почти одинаково чуть ли не на всех языках. Пусть просто пальцем ткнет, в какую сторону ехать, а дальше сама как-нибудь разберусь.
И Нелли решительно вышла из машины.
Беглый осмотр потенциальной спасительницы показал, что она, во-первых, ослепительно красива, во-вторых, ревет в три ручья, а в третьих, сверток – никакой не сверток, а кошка. Маленькая трехцветная кошка с большим черным пятном на левом глазу, натурально пиратка.
Заметив Нелли, девушка явно смутилась и зашмыгала носом, жалобно и яростно, как ребенок. Некоторое время они разглядывали друг друга, а потом девушка спросила:
– Это вы только что из машины вышли?
Нелли кивнула.
– Здорово! – просияла девушка. – Мне сейчас очень-очень надо в центр! Пешком долго, а я из дома без денег выскочила. И возвращаться не хочу. Не могли бы вы меня немножечко в ту сторону подвезти?
По-русски, между прочим, спросила. С почти неразличимым мягким акцентом. Вот это называется удача.
– Мне тоже надо в центр, – сказала Нелли. – Только я понятия не имею в какой он стороне. Очень давно тут была. И приезжала тогда не на машине, а поездом. В общем, если покажете, куда ехать, с радостью вас подвезу.
– Конечно, покажу! – обрадовалась блондинка.
Несколько секунд спустя она уже нетерпеливо ерзала на переднем сидении, одной рукой прижимала к себе кошку-пиратку, а другой с энтузиазмом размахивала, показывая куда-то влево:
– Туда! Сейчас надо ехать туда!
– Меня зовут Свете, – сказала блондинка после того, как поворот налево был благополучно совершен.
– Света?
– Нет-нет, именно Свете! В честь одной маленькой речки. Она течет… ай, на самом деле неважно. Отсюда довольно далеко[44].
– А я Нелли, – сказала Нелли.
– Очень красивое имя! – восхитилась ее спутница.
– Спасибо. А эту маленькую пеструю леди как зовут?
– «Маленькую пеструю леди»! – с явным удовольствием повторила Свете. – Здорово! Вот так, пожалуй, и назову: Леди. Я ее всего час назад подобрала. Хорошая, правда? И по всему, бывшая домашняя. Потерялась. Таких нельзя на улице оставлять, пропадут.
– Нельзя, – подтвердила Нелли. – А теперь куда поворачивать?
– Никуда не надо, пока едем прямо, и все, – сказала Свете. И, не утерпев, пожаловалась: – Представляете, мне муж не разрешил брать домой кошку. Говорит, он ее съест.
– Съест?! – недоверчиво переспросила Нелли.
– Съест, – подтвердила Свете. – На самом деле, может, он такой. В том и проблема! Но я считаю, каждый из нас обязан уметь держать себя в руках.
– По крайней мере, когда доходит до поедания кошек, – согласилась Нелли. – Вполне можно обуздать свой гастрономический порыв.
Она с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться. И не потому, что боялась обидеть новую знакомую. Просто ей нравилось говорить абсурдные вещи с совершенно серьезным видом. Если бы не врожденная смешливость, всегда бы так себя вела.
– В общем, мы от него ушли, – заключила Свете. – Я еще никогда в жизни так громко дверью не хлопала. Сама испугалась, что потолок обвалится. Отлично получилось!
– И что вы теперь будете делать? – сочувственно спросила Нелли.
– Поеду к друзьям. То есть уже к ним еду, большое вам за это спасибо! А то я так рассердилась, что обо всем на свете забыла. И выскочила из дома без кошелька. Могла бы, конечно, за ним вернуться, но как-то глупо возвращаться сразу после того, как пригрозила уйти навсегда. Нет уж, пусть теперь сам меня ищет и уговаривает! У нас так заведено.
«Какие молодые дураки», – подумала Нелли. Но не осуждающе, а, наоборот, одобрительно. Ей нравилась беззаботная самоуверенная дурковатость, свойственная юности. Сама никогда такой не была, но в последние годы упорно пыталась развить в себе это качество. Лучше поздно, чем никогда. Собственно, нынешняя поездка в отпуск под девизом «слабоумие и отвага» – за рулем, в одиночку, практически куда глаза глядят, даже без предварительного заказа гостиниц – была вовсе не следствием житейской беспомощности, Нелли совершенно не свойственной, а очередной тренировкой всегда восхищавшего ее навыка «вести себя как полная дура и не огрести». Оно, конечно, не всегда получается. Вот и сегодня расплаты не миновать.
Ладно, ладно, «расплата» – это слишком сильно сказано. Однако ночевать, скорее всего, придется в машине. Что, на самом деле, невелика беда, если сперва удастся добыть чего-нибудь горячего. И, в идеале, вкусного. Эх, мечты, мечты.
– Вы не знаете, в это время еще где-нибудь можно поесть? – спросила она.
– Конечно! – заверила ее Свете. – Как минимум, «Чили-пицца» на Гедимино работает всю ночь… так, погодите, кажется, скоро надо будет поворачивать направо. Да, точно, возле того светофора!.. А можно просто у Тони. Я имею в виду, у моих друзей.
Нелли открыла было рот, чтобы отказаться. Ужин у незнакомых людей в ее планы определенно не входил. Но Свете добавила:
– Друзья, к которым вы меня везете, сейчас сидят в кафе. Не помню, до которого часа там работает кухня, но что-нибудь съедобное точно найдется, особенно если я попрошу.
– Спасибо, – сказала Нелли. – Кафе, открытое в начале двенадцатого вечера в понедельник – это очень ценно. Мне с вами крупно повезло.
– А мне – с вами, – откликнулась Свете. – Люблю, когда все так удачно устраивается. Это красиво, как математика.
– Как математика? – удивилась Нелли.
– Ну да. Сидят себе два маленьких никому не интересных числа, и вдруг – оп! – внезапно между ними появляется знак умножения. Или вообще возведения в степень. И два маленьких числа сразу становятся одним большим. Никто от них такого не ожидал! Даже они сами от себя.
Нелли рассмеялась от неожиданности. А потом, следуя указаниям своей спутницы, свернула направо, еще раз направо и оказалась на набережной. Ясно, что это уже и есть центр города, близко-то как! Впрочем, все близко, если знать, куда ехать, а не петлять.
Однако попетлять еще пришлось, когда въехали в Старый город, и все сразу стало так сложно, хоть плачь, но Свете оказалась гораздо лучше навигатора, предупреждала о поворотах заранее и повторяла столько раз, сколько нужно, а сбившись с толку, не верещала: «Пересчет маршрута», – только смеялась: «Ой, мамочки! Куда же это я вас завела?»
– Вот где-нибудь там, возле забора можно оставить машину, – наконец сказала Свете, указывая в направлении белеющего справа приземистого храма. – И сейчас, и потом, когда будете по городу гулять. Идеальное место: центр, а платной стоянки нет, запрещающих знаков тоже, зато всегда есть тень от деревьев, в солнечный день это важно. Правда, отсюда до моих друзей минут десять пешком, но это же ничего?
Нелли только мечтательно улыбнулась. После целого дня, проведенного за рулем, возможность идти куда-то пешком казалась ей счастьем.
Первые пару минут Нелли наслаждалась ходьбой и видом высокого двуглавого костела, чрезвычайно удачно подсвеченного прожекторами: одна башня была освещена ярко, а вторая – едва-едва, бледным, тусклым лучом, так что казалась призрачной. Наверняка случайно так получилось, и уже завтра ответственному за городскую иллюминацию настучат по ушам за разгильдяйство[45], но вот прямо сейчас выглядит идеально, сразу ясно, таким и должен быть настоящий храм: одна половина целиком здесь, в человеческом мире, светлая, четкая, понятная, а вторая едва мерцает тенью нездешнего света, ради которого, по идее, все и затевалось. Не только этот конкретный храм, вообще все.
Свете тем временем свернула, перешла дорогу и увлекла Нелли в какой-то темный проходной двор, провела ее по почти невидимой в темноте тропе, ловко лавируя между сараями и гаражами; напоследок им пришлось по очереди перейти по шаткой, ненадежной доске глубокую, как озеро, лужу. Марш-бросок по не в меру пересеченной местности сопровождался нервным хихиканьем Нелли и возмущенными воплями проснувшейся кошки, зато и награда была велика: восхитительный вид на ночной город с холма, на вершине которого они как-то внезапно оказались. Немного постояли там, отдавая дань уважения красоте мира, а потом развернулись и пошли вдоль старой крепостной стены, по узкой улице, стекающей вниз, как река.
«Вот как, интересно, я потом найду свою машину?» – насмешливо спросила себя Нелли. Удовлетворительного ответа на этот вопрос в ее ошалевшей от сладкого речного ветра голове не нашлось. Но всерьез беспокоиться о собственном будущем почему-то не получалось. Как-нибудь, точка. Не пропаду.
Легкомыслие, всю жизнь казавшееся Нелли недоступным, хоть и опасным сокровищем, вроде гномьего золота, которым поди еще правильно распорядись, вдруг само легло в руки. К драгоценной добыче прилагался роскошный футляр: летняя ночь, булыжная мостовая, крепостная стена, белокурая девочка с пестрой кошкой, сладкий запах цветущих акаций, бледные фонари, круглая желтая луна, звуки вальса, доносящиеся откуда-то издалека. Как же хорошо начинается отпуск, а. Слабоумие и отвага к счастью, старая лиса переправилась через великую реку, не вымочив хвост, хулы не будет, радость[46].
– …Ой, мамочки! – вдруг ахнула Свете. – Ну конечно! Как же я не сообразила?.. И что теперь делать?
– Что-то пошло не так? – удивилась Нелли.
Они только что свернули во двор, просторный, темный, засаженный старыми деревьями. В глубине двора высился забор из строительных щитов, подсвеченный разноцветными фонариками, больше всего похожими на рождественскую гирлянду.
– Я совсем дура, – простодушно призналась ее спутница. – Наобещала вам с три короба, забыла, что тут эта стройка…
– И кафе ваших друзей из-за нее закрыто? – сообразила Нелли.
– Нннууу… – почему-то замялась Свете, – можно сказать и так.
– Действительно обидно. А у вас с маленькой Леди есть какие-то запасные варианты? Если что, не стесняйтесь, я вас куда угодно отвезу.
– Спасибо, – просияла Свете. – Нас больше никуда везти не надо. А вот как теперь накормить вас ужином – это вопрос! Или нет?.. Слушайте, а вы согласитесь немножко здесь подождать? Буквально минуту? Я обязательно что-нибудь вам принесу!
– Лучше просто объясните, как добраться до ночной пиццерии, о которой вы говорили, – улыбнулась Нелли. – Пойду туда.
– Объясню, – пообещала Свете. – И покажу. И даже провожу, если понадобится. Только кошку в дом занесу. Очень вас прошу, никуда не уходите!
И, не дожидаясь ответа, побежала куда-то в дальний конец двора. Нелли посмотрела, как тоненькая фигурка ее новой знакомой растворяется в темноте, пожала плечами – ладно, почему бы не подождать. Присела на кстати подвернувшийся пень, закрыла глаза, вдохнула аромат летней ночи и чуть не заплакала – не то от неожиданно острого, почти невыносимого с непривычки счастья, не то от обиды, что до сих пор было не так.
Свете и правда вскоре вернулась. Примерно через четверть часа – именно столько обычно и длится «минуточка», на которую мы все время от времени куда-нибудь убегаем. А «секундочка», как правило, еще длиннее, такой вот парадокс.
Теперь вместо маленькой пестрой кошки в руках Свете была тарелка, на которой лежал здоровенный кусок багета; при ближайшем рассмотрении выяснилось, это не просто кусок, а бутерброд. С чрезвычайно богатым внутренним миром. В смысле с начинкой в несколько слоев.
– Осторожно, он очень горячий, – сказала Свете, присаживаясь рядом на корточки. – Я поэтому на тарелке принесла: в руки не взять, а есть лучше прямо сейчас, с бутербродами вечно так: чем горячей, тем вкусней.
Нелли открыла было рот, чтобы сказать: «Да не стоило так хлопотать», – и прочее вежливое, необязательное, привычное, что обычно говорят, принимая угощение от малознакомых людей, но тут ее ноздрей коснулся аромат горячего хлеба, дымного мяса и каких-то до боли знакомых, но вот прямо сейчас почему-то неузнаваемых пряностей, и вежливым формулировкам пришлось снова опуститься на дно породившего их сознания. Потому что случаются в жизни такие прекрасные моменты, когда с пронзительной ясностью осознаешь: рот нужен человеку в первую очередь для еды. Болтовня подождет.
Бутерброд был проглочен со скоростью, изумившей саму Нелли. Жаль, Свете не догадалась включить секундомер, зафиксировали бы какой-нибудь рекорд. Впрочем, и без рекордов вышло неплохо.
– Спасибо, – сказала она. – Невероятно вкусно. Даже не подозревала, что обыкновенный горячий бутерброд может таить такие бездны наслаждения. Пиццерия мне, пожалуй, больше не нужна. Пойду просто гулять. Кстати, как называется улица, на которой мы оставили машину? Это тайное знание мне пригодится.
– Расу, – откликнулась Свете. – Когда пойдете ее искать, можно ориентироваться на Миссионерскую церковь[47] и купол Визиток[48], их много откуда видно. Идемте, покажу.
Нелли поднялась и пошла за ней – но не обратно на улицу, а в глубь двора, где громоздились строительные заборы.
– Ничего-ничего, – бормотала себе под нос Свете, – теперь мы тут отлично пройдем. Пройдем-пройдем, никуда не денемся, все будет хорошо.
– Почему «будет»? – улыбнулась Нелли. – По-моему, все уже хорошо. Вот прямо сейчас.
– Да, конечно, – рассеянно согласилась ее спутница. – Осторожно, пожалуйста, здесь доска выпирает, можно кофту порвать. А сейчас будут ступеньки. Лучше давайте руку, а то все-таки очень темно.
Рука Свете оказалась неожиданно холодной, как будто только что с мороза вошла. И очень сильной, сразу ясно, что на нее можно опереться по-настоящему, а не только для вида, если что, действительно удержит, не даст упасть. А выглядит таким нежным и хрупким созданием! Удивительно все-таки, как одно-единственное прикосновение может изменить впечатление о человеке.
Спустившись на несколько ступенек, Нелли вдруг поняла, что мельтешившие впереди разноцветные рождественские фонарики украшали не строительные щиты, а фасад маленького одноэтажного флигеля, окна которого сияли тусклым, но теплым оранжевым светом. Из-за приоткрытой двери доносилось бодрое бренчание расстроенного пианино, негромкие голоса и умопомрачительные запахи – сразу ясно, откуда был родом лучший горячий бутерброд ее жизни, только что съеденный до последней крошки и оставивший неизгладимый след в ее памяти, навсегда.
Свете улыбнулась смущенно и одновременно торжествующе.
– Видите, Тонино кафе все-таки открыто, – сказала она. – Плевать он хотел на эту дурацкую стройку! И мы с вами отлично прошли. Зря я сомневалась. Хотите зайти? С едой у него в это время уже не очень, но, если что, еще пара бутербродов точно найдется. Зато напитки на месте. Кофе, чай, коньяк, пиво, ром, лимонад, текила и все остальное – что еще положено пить в барах? Я, честно говоря, совершенно не разбираюсь в человеческом пьянстве, но мне и не обязательно. Я же там не работаю, а только в гости хожу.
– Совершенно не разбираюсь в человеческом пьянстве! – восхищенно повторила Нелли. – Спасибо, это лучшая в мире формулировка. Теперь я знаю, что надо говорить в таких случаях вместо всем надоевшего: «Я за рулем».
– Так вы зайдете? – просияла Свете.
– Да я сейчас ради чашки горячего кофе в ад спущусь и черту на рога усядусь! – искренне сказала Нелли.
Как в воду глядела.
Ад, не ад, но пламени в этом заведения и правда оказалось в избытке. Огонь рассудительно тлел в дровяной печи, деловито потрескивал в маленьком камине, легкомысленно подмигивал гостье с расставленных всюду свечей и многозначительно мерцал за стеклами керосиновых ламп. Сполохи плясали на стенах маленького кафе и чрезвычайно выгодным образом подсвечивали лица немногочисленных посетителей, придавая им дополнительную вдумчивую глубину. Говорили здесь, навскидку, как минимум на четырех языках – и это притом, что Нелли насчитала всего девять человек: нарядная старуха с изумительными фиалковыми глазами в пол-лица; стриженная под мальчишку белокурая женщина и высокий улыбчивый мужчина рядом с ней; пижон в вызывающе белоснежном летнем пальто; бойкая смуглая девица, ухитрившаяся напялить на себя чуть ли не всю новую коллекцию Desigual разом, и сопровождающий ее элегантный блондин в подчеркнуто строгом костюме; коренастый дядька в клетчатой рубахе, удобно расположившийся в огромном кресле; влюбленная пара на дальнем подоконнике, оба рыжие, как лисята, но из разных пометов, медный он, медовая она. Ай да, еще пианист – не то белокурый, не то совершенно седой, непонятно, следует ли считать его посетителем; ладно, посчитаем, пусть будет десятым, тогда с нами как раз дюжина, хорошее число. И все остальное здесь тоже хорошее, особенно все остальные, не люди, а воплощенная мечта начинающего идеалиста. Примерно так и я представляла себе завсегдатаев питейных заведений в детстве, прочитав в очередной книжке, что главный герой отправился в бар. И еще понятия не имела, что на самом деле регулярное пьянство по ночам не так уж красит людей. И умней их, увы, не делает. Но этим оно, похоже, и правда на пользу. Такие милые, всех бы обняла.
– Это мой добрый друг, ее зовут Нелли, она нас с Леди сюда привезла, а по дороге придумала для нее имя! – звонко сказала Свете.
Нелли почувствовала себя неловко, внезапно оказавшись в центре внимания, однако никто на нее особо не пялился, собравшиеся вежливо покивали и вернулись к своим делам, в смысле стаканам и разговорам. Пианист приветственно взмахнул рукой и продолжил играть что-то сладко знакомое и одновременно мучительно неопознаваемое, в точности как давешние пряности в бутерброде; ладно, может вспомнится потом.
– И она была готова спуститься в ад ради чашки кофе, – заключила Свете.
Эта фраза предназначалась бармену или бариста – в общем, единственному человеку по ту сторону стойки, с пиратской серьгой в ухе и невозмутимым тонким лицом отставного профессора математики, повидавшего на своем веку столько многокилометровых формул, описывающих немыслимые процессы, что теперь его ничем не проймешь.
– Не хотелось бы навязывать вам свое мнение, но поверьте, вот именно за кофе в ад спускаться не стоит, – сказал он. – Хотя бы потому, что никакого ада, конечно же, нет. Максимум, на что он способен, – примерещиться. А кофе требует сурового реалистического подхода. Иллюзией не напьешься, таково мое экспертное заключение.
Нелли растерянно моргнула. По идее, такие остроумные монологи требуют достойного ответа. Но в голове, как назло, было пусто, как в школе в разгар каникул. Все разбежались, вернутся неделю или даже месяц спустя.
– Это Тони, – сообщила ей Свете. – Говорят, от его кофе иногда мертвые воскресают, и не потому что слишком крепкий, просто так вкусно, что обидно оставаться трупом и упустить все удовольствие. Я-то сама кофе не пью, но слухам верю. От человека, у которого из кухонного крана течет самый настоящий горный ручей, иного как-то и не ждешь.
– Моей заслуги тут нет, просто бедняга внезапно сошел с ума, – скромно заметил Тони. – Возомнил себе водопроводом, что хочешь, то и делай. Психиатры бессильны, и их можно понять, до сих пор еще никому не удавалось надеть смирительную рубашку на ручей. Лично я даже пытаться не стал бы. Пришлось предоставить в его распоряжение свой кухонный кран: я считаю, что всякий ручей имеет право на счастье, безумен он или нет. И мне прямая выгода. Известно, что вода обезумевшего ручья шибает в голову лучше любой выпивки. Если понемножку добавлять ее в коктейли, можно здорово сэкономить на водке. Но кофе я, конечно, варю на обычной речной воде, поэтому не беспокойтесь.
Он поставил на стойку большую белую чашку и церемонно добавил:
– Кофе за счет заведения. Не отказывайтесь, пожалуйста, это традиция: клиент, переступивший порог ровно в полночь, получает бесплатный напиток, а вы вошли буквально с последним ударом часов, – и, немного подумав, добавил: – Но честно говоря, если бы вы появились здесь раньше или позже, я бы придумал какой-нибудь другой предлог вас угостить. Вы мне нравитесь.
Обескураженная его признанием, Нелли взяла чашку и уселась за первый попавшийся свободный стол. Свете устроилась рядом. Пестрая кошка снова была с ней, сидела на коленях и деловито вылизывалась.
– Сытая, – улыбнулась Свете. – Тони ее курицей накормил. Слышали бы вы, как страшно она рычала, когда вцепилась в первый кусок! Тоже мне леди.
– Леди, леди, – заверила ее Нелли. – Аристократия только потому и стала аристократией, что их далекие предки умели очень страшно рычать.
– Тони то же самое сказал! – обрадовалась Свете. – Слово в слово! А как вам кофе?
– Еще не знаю. Сейчас попробую. Ого! Ничего себе!
– Надеюсь, вы сражены? – строго осведомился из-за стойки Тони, угрожающе поблескивая пиратской серьгой. – Не ожидали, что будет настолько хорошо?
– Не ожидала, – признала Нелли. – И да, сражена.
– Вот и отлично, – откликнулся он. – Значит, мы все не зря старались. Если захотите добавки, или чего-нибудь покрепче, я к вашим услугам.
Он отвернулся и деловито загремел посудой, а Нелли сделала второй глоток. Кофе и правда был великолепный. Даже слишком хороший для усталой странницы, заранее согласной на любую бурду, лишь бы оказалась горячей и содержала хоть малейший намек на утешительную кофейную горечь. Как будто сироте, мечтавшей откусить краешек пирожка, внезапно подарили весь мир.
Вдохновленная наглядным доказательством доброжелательности Вселенной, Нелли благодарно возвела глаза к потолку. Счастье, что перед этим успела поставить чашку на стол, а то непременно уронила бы ее себе на колени, обнаружив, что на потолке, скрестив ноги, сидит человек. Почему-то зеленый, но во всех остальных отношениях вполне антропоморфный. Даже, можно сказать, симпатичный; вернее, был бы вполне симпатичным, если бы не вызывающе травяной цвет лица. В одной руке он держал открытую книгу, в другой – стакан с кро… Ладно, не будем драматизировать, просто с чем-то подозрительно красным. И это подозрительно красное каким-то образом не выливалось на головы всем присутствующим. Хотя, по идее, должно.
– Это что вообще? – наконец спросила она. – Это кто? Это как?
– На самом деле он не зеленый, – утешила ее Свете. – Это, наверное, настроение у него такое сейчас.
Какое, черт побери, облегчение.
– Или просто заснул снами наружу, с ним это часто бывает, – добавила Свете.
– «Снами наружу»? Это как?
– Да очень просто, – улыбнулась Свете. – Когда человек спит снами внутрь, он сам видит, что ему приснилось. А когда снами наружу, их видят все остальные, хотят они того или нет.
– Что?!
Нелли ушам своим не верила. Только что была нормальная девица, плакала, гладила кошку, дорогу показывала, и вдруг…
– Вообще-то снами наружу мало кто спит, – поспешно добавила Свете. – Ничего удивительного, что вы не знали. Но вы не волнуйтесь, ничего страшного в этом нет… по крайней мере, пока ему не приснится какой-нибудь кошмар. Вот тогда да, лучше сразу будить.
Бармен Тони, явно услышавший какую-то часть их беседы, тоже задрал голову к потолку, прыснул в кулак, как школьник, но тут же спохватился, снова придал своему лицу бесстрастное выражение и громко сказал:
– Эй, ты чего? Мы же договаривались: ты сидишь на стуле, как все добрые люди и не зеленеешь при посторонних, а я за это притворяюсь, что все еще варю кофе хуже, чем ты.
Зеленый человек закрыл свою книгу, неторопливо допил красное из стакана, огляделся по сторонам и наконец спросил:
– Посторонние – это у нас кто?
– А то сам не видишь, – укоризненно сказала ему Свете.
– Светечка! – обрадовался он. – Наконец-то ты объявилась! Я рад.
– Нечему тут радоваться, – печально ответила она. – Виткус кошку в дом не пускает. Говорит, он ее съест.
– Правду говорит, – пожал плечами зеленый. – Сама знаешь, такое вполне может случиться. Думаешь, было бы лучше, если бы он ничего не сказал, а в один прекрасный день – ам! – и…
– Замолчи! – возмущенно воскликнула Свете. И внезапно разрыдалась, горько и отчаянно, как ребенок, прижимая к себе пеструю кошку, будто ее и правда кто-то собирался отнять.
– Ты чего? – растерянно спросил зеленый.
Спрыгнул с потолка – книга и стакан при этом остались, где были, – присел на корточки рядом со Свете, погладил ее по голове.
– Прости, дружок. Не хотел тебя расстраивать. Но ничего нового я не сказал. Ты сама знаешь, с кем связалась. И до сих пор тебя все устраивало.
– Просто до сих пор у меня не было кошки! – сквозь слезы сказала она.
– Да ладно тебе, не реви. Не пропадет твоя кошка. Хочешь, я ее к себе заберу?
– К себе?! – возмутилась Свете. – Обойдешься! Никто не знает, во что она может рядом с тобой превратиться. Ну уж нет!
– По крайней мере, я ее совершенно точно не съем. Ладно, не хочешь мне, оставь ее Тони. У них взаимная любовь с первого взгляда. Эй, я же правильно говорю?
– Если под «первым взглядом» ты подразумеваешь первый кусок курицы, то да, – откликнулся бармен. – Она так страшно рычала, невозможно устоять.
– У меня тоже любовь с первого взгляда! – отрезала Свете. – Не хочу никому ее отдавать.
И демонстративно поцеловала кошку в макушку, между ушами: моя!
– Ладно, не хочешь – не отдавай, – пожал плечами зеленый. – Главное, в речку за собой не тащи. В рыбу эта маленькая леди даже у меня, пожалуй, не превратится. Никаких шансов! Хищники никогда не превращаются в свою еду.
– Я знаю, – серьезно согласилась Свете. – И это большая проблема!
Нелли слушала их краем уха, не вникая. Не до того! Таращилась на зеленого человека с бесцеремонным любопытством, а на самом деле, в надежде воочию убедиться, что удивительный цвет лица, рук и всего остального – это просто грим. Тогда бы ей сразу полегчало. А что на потолке сидел – подумаешь. Просто клоун, ну, в смысле какой-нибудь акробат. Или, например, каскадер. Чем только люди не зарабатывают на жизнь. А книга и стакан – рабочий реквизит, на какой-нибудь зверской липучке. Наверное, в их клоунских кругах обычное дело, вот совершенно не удивлюсь.
Никаких следов краски она так и не разглядела. Но твердо сказала себе: значит просто очень хороший грим. Качественный. Какие-нибудь новейшие технологии. Знать ничего не желаю, сказано – грим, значит грим!
Нелли всегда была стойким бойцом за свое душевное равновесие. А уж сегодня сам бог велел сражаться за него до последней капли крови. Очень уж хороший выдался вечер. Может быть, вообще самый лучший в жизни. И никаким зеленым типам его не отравить.
– …На худой конец, вы всегда можете решить, что просто спите, – внезапно сказал зеленый. – Например, уснули в машине, еще на границе. Не идеальный вариант, зато самый простой. Присниться может вообще все что угодно. Даже я.
Он каким-то образом успел пересесть поближе. Устроился на полу, у Неллиных ног, и смотрел на нее снизу вверх приветливо и одновременно вызывающе. Но без тени смущения или хотя бы сочувствия, это факт.
– Уснула в машине – это было первое, что пришло мне в голову, когда я увидела, как вы сидите на потолке, – сказала ему Нелли. – Но, честно говоря, это было бы обидно. Очень уж хороший выдался вечер. Такие вещи должны хотя бы иногда происходить наяву. Так что беру, пусть будет, вместе с вами и потолком, куда теперь вас девать.
Сказала и тут же пожалела: зачем? Но зеленый человек не стал ни смеяться, ни возражать. А напротив, серьезно кивнул.
– Ну что ты к ней прицепился, – укоризненно сказал ему бармен Тони. – Дай человеку кофе спокойно попить.
– Ну, чашку-то я у нее не отнял, – заметил зеленый. – И не планирую. Просто она мне нравится. – И, повернувшись к Нелли, повторил: – Да-да, вы мне нравитесь. Настолько, что даже хочется с вами познакомиться. Но у меня сейчас ни одного имени, как назло. Совсем недавно было целых восемь штук, одно другого причудливей, а теперь – все. Отняли злые люди у бедного сироты…
– Хорош заливать, – перебил его Тони. И сказал Нелли: – Не было никаких злых людей. Он сам сжег свои имена, все до единого, еще в середине зимы. Заявил, что устал от определенности и устроил страшенный пожар, попутно покончив с январскими морозами, за что ему, конечно, большое спасибо, надоели они нам тогда – словами не передать.
– Сжег имена? – повторила Нелли.
Просто, чтобы не молчать.
– Ну да, – подтвердил бармен. – Ожоги, конечно, быстро зажили, даже шрамов не осталось, но с тех пор нам приходится проявлять чудеса изобретательности, когда мы хотим его позвать.
– Извини, дружище, – сказал ему зеленый. – Я знаю, что с безымянным мной еще трудней, чем обычно. Просто в голову не пришло, что это надолго. Был уверен, по весне появится пара-тройка новых. Но вот уже июнь, а я по-прежнему хожу без единого имени. Я и сам не рад. Вот с девушкой хорошей теперь не могу познакомиться, как нормальный человек. Например. Вы уже допили свой кофе?
Вопрос был адресован Нелли, которая к этому моменту как раз успела решить, что попала в один из интерактивных театров, о которых так много разговоров в последнее время. Где зритель оказывается полноправным участником действия и даже влияет на его ход. Только ее без предупреждения привели, поэтому совсем удивительно получилось. И теперь ясно, куда бегала Свете, попросив ее подождать во дворе: договаривалась с друзьями-актерами о сюрпризе. Молодец девочка, что тут скажешь. Таких удивительных подарков мне еще никто никогда не делал. Как же мне повезло! – думала она.
– Вы уже допили свой кофе? – повторил зеленый.
Нелли взяла в руки чашку, внимательно посмотрела, кивнула:
– Да, там только гуща осталась.
– Ну и отлично. Если познакомиться мне все равно не светит, буду вас развлекать.
– Даже не вздумай! – дружным хором взвыли Тони и Свете.
– Это моя гостья, – добавила она.
– Была твоя, стала моя, – усмехнулся зеленый. – Так уж ей повезло.
И подмигнул Нелли – дескать, держись меня, детка, со мной не пропадешь. Хотя заранее ясно, что наоборот.
Нелли поняла, что спектакль нравится ей все меньше. Слишком много внимания к ее персоне, она бы предпочла и дальше просто сидеть и смотреть. Интересно, кто у них тут режиссер? Кого можно попросить, чтобы убрали зеленого, а все остальное оставили, особенно пианиста, особенно при условии, что он расскажет, где, черт побери, где она уже слышала эту мелодию? Потому что попытки вспомнить почти так же мучительны, как требовательный взгляд этого крашеного кривляки, чтобы ему в ад провалиться. В тот самый, которого нет.
Эх, как ни крути, а испортил мне этот тип все удовольствие, – печально резюмировала она.
В этот момент входная дверь распахнулась, и на пороге появился волк. Ну, то есть как – волк. Скорее, чудовище, отдаленно напоминающее волка. И как минимум раза в два крупней, чем волкам положено. Хуже всего, что оно совершенно не походило на реквизит, даже очень дорогой и качественный. С другой стороны, существуют же какие-то новые материалы, высокие технологии, так что леший его разберет.
Высокотехнологичный реквизит тем временем коротко рыкнул – не то чтобы угрожающе, скорее, предупредительно: «Я тут». Впрочем, Нелли этого было совершенно достаточно, чтобы оцепенеть от страха. Зато остальные посетители кафе бровью не повели. Вместо того, чтобы вооружаться кухонными ножами и с воплями выскакивать в окна, они приветливо заулыбались, а бармен Тони сказал:
– Отлично выглядишь, Виткус. Рад тебя видеть.
Огромный волк вежливо кивнул и направился прямо к Нелли. Ну, то есть ей сперва показалось, что именно к ней. Сидела, смотрела, как чудище приближается, с ужасом понимала, что не может ни пошевелиться, ни даже закричать, как в кошмарном сне, – значит, это все-таки сон? Хорошо, если так, но, божечки, что в таких случаях делают, чтобы проснуться прежде, чем тебя начнут раздирать на части? Не хотелось бы досмотреть до этого драматического момента.
Волк, однако, не обратил на Нелли никакого внимания. Подошел к Свете, которая, завидев его, надменно вздернула подбородок, покрепче прижала к себе кошку и отвернулась к окну. Лег рядом, положил голову ей на колени и тихо, по-щенячьи заскулил.
– А мне, думаешь, вот прям очень весело сидеть тут без тебя? – укоризненно спросила она.
Волк еще немного поскулил. Потом несмело лизнул Светену руку. Она вздохнула, погладила его по лохматой башке. Сказала:
– Я тоже тебя люблю, и ты это знаешь. Но у меня теперь есть кошка. Она маленькая и беззащитная. Она уже один раз потерялась, хватит с нее. Я ей твердо обещала, что никогда ее не брошу. И не отдам чужим людям. И тебе на съедение тоже не отдам. Между прочим, я даже в речку с ней не нырнула. Хотя сперва очень хотелось к маме, домой. Но я как-то перетерпела! А чем ты хуже меня?
Волк коротко рыкнул и потянулся к кошке. Нелли, только-только начавшая успокаиваться, охнула и схватилась за сердце: только не это, нет! Однако Свете почему-то не испугалась. Сидела и спокойно смотрела, как огромный волк вылизывает маленькую пеструю кошку – бережно, осторожно, как новорожденного щенка.
И зеленый тип смотрел на них, как зачарованный. И бармен Тони, чья невозмутимость сменилась откровенным умилением. Того гляди, пустит слезу, и как после этого жить? И остальные посетители кафе смотрели на Свете, волка и кошку, а пианист наконец-то заиграл что-то по-настоящему знакомое; стыдно сказать, «Историю любви». В других обстоятельствах Нелли фыркнула бы: «Боже, какая сентиментальная безвкусица», – и вышла бы, хлопнув дверью, но, надо признать, для этого интерактивного спектакля, плавно переходящего в кошмарный сон, вполне удачное решение. Пусть хоть что-нибудь будет просто, понятно и предсказуемо. Например, музыкальный фон.
Пока они все умилялись, волк вдруг подпрыгнул метра на три, не меньше, счастье, что потолки тут высокие, а то крышу бы снес своей огромной башкой. Перекувыркнулся в воздухе и приземлился – аккуратно, на все четыре… нет, всего на две ноги. И оказался невысоким, но изумительно сложенным молодым человеком, с разбойничьим скуластым лицом и неожиданно милой, почти детской улыбкой.
– Светичка, – сказал он, опускаясь на одно колено перед Свете, – рыбка моя серебряная, я не съем твою… нашу кошку. Скорее уж лапу себе отгрызу. Обещаю. Поехали домой.
– Это ничего, если я вас тут одну оставлю? – спросила Свете.
Не то чтобы Нелли была готова вот прямо сейчас остаться без ее поддержки. И уходить из кафе пока не очень хотелось. Но глаза Свете так сияли, что пришлось невозмутимо кивнуть:
– Конечно. Я помню, машина на улице Расу, идти, ориентируясь на купола храмов, к тому же Тони обещал мне добавку, определенно не пропаду.
Парочка с кошкой скрылась за дверью, минуту спустя где-то далеко, во дворе взревел мотоцикл, а Нелли все смотрела им вслед, вернее, просто в одну точку, которая, по случайному совпадению, оказалась прямо над входом. Если долго не двигаться и даже не моргать, мысли сперва замедляются, а потом совсем умолкают. Иногда это наилучший выход – чтобы никаких мыслей не было вообще. Ну их к чертям собачьим.
– Отлично получилось! – сказал зеленый тип, усаживаясь на освободившийся стул рядом с Нелли. – Я бы сам лучшего развлечения для вас не придумал. Ребята молодцы.
Она не слишком обрадовалась его соседству. Но и возражать не стала. На это просто не было сил.
– Хотите выпить? – сочувственно спросил ее бармен.
– Коктейль с водой из вашего сумасшедшего ручья? Да, пожалуй, самое время. Подобное лечат подобным; во всяком случае, так говорят.
– Не советую, – вмешался зеленый. – Очень уж шибает в голову. А вам с этой головой еще жить.
– Мне в любом случае с ней еще жить, – усмехнулась Нелли. – И со всем, чему моя бедная голова стала свидетелем. Стыдно признаться, но я до сих пор еще ни разу не видела, как волки превращаются в людей. И теперь… э-э-э… несколько удивлена. Можно и так сказать.
– Бросьте, почему это вдруг стыдно признаться? Вашей вины в этом нет, – утешил ее зеленый. – Где в наше время такое увидишь? Оборотни нечасто селятся среди людей. И Виткус не собирался, пока не влюбился в русалку. Сами видели, по уши. К тому же взаимно. А это уже совсем огромная редкость. Один случай на миллион. И куда им, спрашивается, было деваться? Он в реке долго не высидит, ей в лесу тоже делать особо нечего. Только и оставалось – превратиться в людей, благо этому в наших краях даже самые пропащие лесные духи обучены, снять квартиру на окраине города, чтобы все-таки к лесу поближе, и… Ну что вы на меня так смотрите? Не надо расстраиваться. Я вам с самого начала сказал: вы имеете полное право решить, что это просто сон. А во сне чего только не бывает.
– Ну уж нет, – упрямо сказала Нелли. – Если уж этот ваш приятель – как его? Виткус? – меня не сожрал, пусть все остается как есть. Все-таки отличное начало отпуска, жалко если оно не наяву. И место замечательное. Такое идеальное кафе из моих детских грез. Вас бы еще отсюда убрать, и совсем прекрасно было бы, – мстительно добавила она. – Ничего личного, просто выяснилось, что меня раздражают люди зеленого цвета. Стыдно быть расистом, я знаю. Но поделать ничего не могу.
– Что, получил? – расхохотался бармен Тони. – Нашлась на тебя управа! А героев ждет награда.
Он поставил перед Нелли стакан с каким-то прозрачным пузырящимся напитком. Объяснил:
– Это просто бузиновый лимонад; честно говоря, ничего особенного, зато огромная редкость в наших краях. Водопроводной воды из сумасшедшего ручья там всего одна капля; ладно, две, но точно не больше. Я подумал, вам не повредит.
Нелли только сейчас поняла, как сильно ей хочется пить. Осушила стакан залпом, не отрываясь. А когда захотела поставить его на стол, обнаружила, что никакого стола больше нет. И стула тоже. И огненных бликов на стенах, и самих стен, и окон, вообще ничего. Но она сама все-таки есть. И невозмутимый приветливый Тони с пиратской серьгой. И все остальные, включая ее зеленого приятеля. Только никакой он был не зеленый. А огненный. И одновременно прозрачный, как вода. И все остальные, кажется, тоже, хотя трудно вот так сразу сказать, как именно выглядят существа, парящие рядом с тобой в радужном шаре, среди других таких же радужных шаров, видеть которые – чистая, звонкая, почти невыносимая радость. А уж находиться внутри…
Она моргнула, и все снова встало на место: стулья, кресла, стены, окна, барная стойка, камин и дровяная печь. И стол, на который можно аккуратно поставить стакан, а уже потом окончательно потерять душевное равновесие и заплакать. Но не от горя и не от страха, совсем нет. Просто от полноты чувств.
– Ой, простите, – сказал Тони. – Не знал, что это на вас так подействует. Похоже, все-таки немного не рассчитал дозу. С другой стороны, для вас это скорее везение, чем несчастье. Но извинения я вам, пожалуй, все-таки принесу.
И поставил на стол большую эмалированную кастрюлю, до краев заполненную клубникой. Мелкой, спелой, похоже, только что с грядки. И такой ароматной, что Нелли, не переставая плакать, потянулась, взяла несколько ягод, отправила в рот. И, все еще всхлипывая, громко сказала:
– Пожалуйста, угощайтесь. Так нечестно, что все это – мне одной.
Четверть часа спустя кастрюля была пуста, лица посетителей кафе окончательно приобрели сходство с ангельскими, а пианист, принявший деятельное участие в истреблении клубники, вернулся к инструменту и заиграл какую-то сложную, но вполне узнаваемую вариацию на тему бетховенской «Оды к радости». И был совершенно прав.
– Теперь, пожалуй, даже я не хочу, чтобы вы считали это происшествие сном, – сказал зеленый человек, свешиваясь с потолка, куда снова зачем-то забрался. Возможно, просто из милосердия, чтобы не нервировать Нелли. Сама, конечно, виновата, забыла добавить, что люди, сидящие на потолке, раздражают ее даже больше, чем просто разноцветные.
– А то нечестно получится, – добавил он. – Мы-то вашу клубнику наяву лопали. А вы, получается, нет.
– Ну так я и не собираюсь считать это сном, – ответила ему Нелли. – А что вы на потолке сидите, так я с самого начала решила, что вы клоун. В смысле каскадер. И твердо намерена стоять на своем.
– Клоун и есть, – легко согласился зеленый. – Кто же еще. Проблема в другом: считать эту ночь сном или явью, не то чтобы вопрос выбора. Что бы вы сейчас ни решили, а завтра утром все равно будете вспоминать нас, как самый странный сон в своей жизни. Льщу себя надеждой, что довольно приятный. Но – сон.
Нелли открыла было рот, чтобы возразить – с какой это стати я буду вспоминать вас, как сон? Не настолько же я дура, чтобы…
Но и сама понимала – настолько. Уйду отсюда, и уже через пять минут обнаружу, что весь этот бред совершенно не укладывается в голове. «Приснилось» – единственное удовлетворительное объяснение. Потому что альтернатива ему: «сошла с ума».
– Обидно, – наконец сказала она. – Что же это за жизнь такая дурацкая, если все по-настоящему замечательные вещи могут происходить только во сне. А когда наяву, то все равно во сне. Потому что кто же поверит.
– Вот именно, – кивнул зеленый. – И теперь я думаю, как вам помочь. Хотя, по идее, мне должно быть до одного места. Я же с вами даже не познакомился, не вышло, увы. И на танцы не пригласил. И поцеловать не попытался. Но думаю все равно.
– А чего тут думать? – пожал плечами бармен Тони. – Обморок! Наш Обморок, слава богу, еще никогда не подводил.
– Ты готов отдать ей Обморок? – удивился зеленый. – Это, конечно, все меняет. Я потрясен.
– Да ладно тебе, – отмахнулся бармен. – Тоже мне, великая жертва. Готов спорить, что в один прекрасный день она нам его вернет.
Нелли открыла было рот, чтобы спросить: «Какой еще, к лешему, обморок?» – но тут Тони извлек из кухонного шкафа странный черный предмет. И протянул ей.
При ближайшем рассмотрении черный предмет оказался термосом, очень старым, облезлым и каким-то мятым, будто его часами крутил в руках какой-нибудь нервный великан накануне важного экзамена. На обшарпанном гнутом боку красовалась кривая, словно бы детской рукой сделанная надпись «Обморок-76». Бледно-голубые буквы на черном фоне выглядели стигматами. Как-то сразу становилось ясно, что термос не просто был расписан, а претерпел муки. И не был канонизирован только по причине жуткого внешнего вида. Несправедливо, но мир вообще несправедлив.
– И что я должна с этим делать? – наконец спросила Нелли.
– Вы – ничего, – сказал бармен. – Делать буду я. Сварю кофе – не беспокойтесь, на самой обычной воде! – налью в этот термос и дам его вам. С собой. Утром, обнаружив его под подушкой, вы не сможете отрицать, что он есть. И кофе в нем тоже есть. А кофе – это очень реальная вещь, я вам уже говорил. Иллюзией он стать не может ни при каких обстоятельствах. И уж тем более ни при каких обстоятельствах вы не сможете счесть эту вещь своей, – для пущей убедительности он взмахнул перед ее носом чудовищным черным термосом. – В том и заключается его убийственная магическая сила, что такого ужаса ни у кого, кроме нас нет. А значит, доказательство налицо. Чего ж вам еще?
– И тогда вы точно свихнетесь, – мстительно пообещал зеленый, показав ей неожиданно розовый, совершенно человеческий язык. – Я бы и сам свихнулся, если бы это кошмарище у себя под подушкой нашел. Но вы, конечно, можете отказаться. В любой момент.
– Отказаться? – изумилась Нелли. – Отказаться от возможности найти с утра термос с кофе? Если я и дура, то не настолько. Наливайте!
– Кофе сперва надо сварить, а уже потом наливать, – заметил Тони. – Поэтому придется вам еще немного у нас задержаться, невзирая на приставания этого жуткого типа. Я бы его давным-давно выставил, но не могу: это моя персональная божья кара. В смысле ближайший друг. А божью кару, сами знаете, не выбирают.
И поставил перед ней еще один стакан с лимонадом. На этот раз лимонад был розовым и совсем несладким. И вкус какой-то неуловимо знакомый, снова что-то из детства, да что ж ты будешь делать, опять ничего вспомнить не могу!
– Ревень, – подсказал ей бармен Тони. – А в бутерброде была грузинская приправа «Хмели-сунели», ваш папа ее очень любил и пригоршнями сыпал в еду. Извините, что сую нос не в свое дело, но вы так мучились, пытаясь вспомнить, никакое сердце не выдержит. А вот что играл Карл, я вам не подскажу; боюсь, он и сам уже не вспомнит. Поэтому пейте лимонад. В нем всего три капли моей безумной водопроводной воды, беспокоиться не о чем. Слишком мало для настоящего сумасшествия, зато для радости – в самый раз.
– Ладно, поверю вам на слово, – улыбнулась Нелли. И взяла стакан.
* * *
Проснувшись в своей машине, Нелли сразу подумала: вот и хорошо, значит не придется ее искать. Поглядела в окно, потом, на всякий случай сверилась с телефоном: где я вообще? Это точно Вильнюс? После такой развеселой ночки трудно вот так сразу понять, что приснилось, а что все-таки было наяву. Вдруг я уснула прямо на Белорусской границе? И до сих пор стою там, как дура, перегородив проезд.
Однако вместо пограничных шлагбаумов за окном виднелись какие-то старые, явно недействующие храмы, со всех сторон окруженные деревьями, и телефон уверенно сообщал: «Вильнюс, 10:24». Ну слава богу, значит, приехала все-таки наяву. А вот все остальное…
С «остальным» было настолько сложно, что Нелли решила: не буду думать об этом с утра. Сначала кофе, потом – еще кофе. Потом найду гостиницу, приму душ, лягу и вытяну ноги. А там поглядим.
Выполнить эту договоренность с собой оказалось очень легко: ни на что другое у нее все равно пока не было сил. На поиски ближайшей кофейни их, впрочем, тоже не было, но куда деваться. За роскошь быть живым человеком приходится расплачиваться ежедневной мукой воскресения, нам не привыкать.
Еще немного, и встала бы, и пошла, но тут почувствовала, что в бок упирается что-то большое и твердое. Подскочила, как укушенная, почему-то рисуя в воображении пистолет, все-таки кинематограф проделывает с нашим сознанием удивительные вещи. Заслуженно получила по башке низким автомобильным потолком и от этого как-то сразу пришла в себя. Взяла в руки самый страшный в мире, черный, как мысли злодея термос с вмятинами от великаньих пальцев, с надписью «Обморок-76», прижала его к груди, как заново обретенную после нескольких дней поисков глупую кошку, поцеловала в крышку, как в лоб, отвинтила ее, сделала глоток, ожидаемо обожглась и расплакалась, громко, навзрыд, как в детстве, как бы от боли, но на самом деле, конечно, от радости. Как хотите, мои дорогие чудовища, адские-незнакомцы-из-бездны, столбы священного пламени, радужные шары, оборотни и русалки, а теперь вы все у меня точно есть.
Ратушная площадь (Rotusės a.) Город в половине третьего ночи
– Новолуние, – говорит Тони. – Вот именно сегодня – оно. Точнее, завтра. Ну, то есть ночью, в два с копейками… нет, даже не с копейками, а ровно в половине третьего. Прикинь!
– И что из этого следует?
– Из этого следует вообще все.
Обожаю внятные объяснения.
* * *
– …самым дурацким рейсом, в два часа ночи – скороговоркой докладывает Саша. – На все остальные билеты стоят столько, что проще еще немного подкопить и купить личный самолет. Причем с золотыми пропеллерами. Короче, я прилетаю ровно без двух минут два. Но тебе все равно придется меня встречать. Таковы гримасы твоей злой судьбы.
– Два часа ночи – прекрасное время, – твердо говорит Аль. – Лучше захочешь – не придумаешь.
* * *
Это нелепо, – думает Анна. – Нелепо, что взрослая, разумная, прекрасная я вместо того, чтобы спать, по пол-ночи просиживаю у окна и хочу гулять по ночному городу. Вдвойне нелепо, что гулять я при этом все-таки не иду. Уже которое лето подряд. Хочу, но не иду! А ведь мне даже разрешения спрашивать не нужно.
Вот предположим, – думает Анна, – мне пришлось бы срочно идти в ночную аптеку. Например, кто-нибудь заболел, и, кроме меня, за лекарством послать некого. И что тогда? Да пошла бы как миленькая. И совсем не было бы страшно. Я же не боюсь темноты. Даже в детстве ее не боялась. Впрочем, в городе фонари везде горят. Или почти везде.
Ну и чего тогда тянуть? – думает Анна. – Тем более, что в аптеку меня все равно не пошлют, некому меня туда посылать. Зато я могу взять и выйти вот прямо сейчас. По собственной воле. А зачем она еще нужна?
Это нелепо, – думает Анна, шнуруя кеды. – Это нелепо, – повторяет она, застегивая кофту. – Нелепо, что я куда-то прусь среди ночи. Нелепо, что я так долго откладывала.
* * *
– Популярные среди эзотерически грамотных домохозяек лунные календари вполне единодушно гласят, что в двадцать девятый день каждого лунного месяца следует избавляться от мрачных мыслей и беспросветной тоски, а также печь лепешки, – говорит Тони. – Кроме того не следует строить долгосрочные планы и необходимо принимать душ, но эти рекомендации, на мой взгляд, и в другие дни вполне актуальны. Однако для нас с тобой важно не это.
И умолкает с загадочным видом. Он это умеет. Но я не отстану.
– А что важно?
– Как – что? Полное отсутствие луны на небе. Сегодня никто за нами не подглядывает. Следовательно, можно творить все, что в голову взбредет.
– Как будто в другие дни нельзя.
– Да можно, конечно. Просто не так интересно.
Аргумент.
* * *
– Устала? – спрашивает Аль.
– Вроде нет. А надо было?
– Ни в коем случае. Усталых гостей отвозят домой, укладывают в постель, и они спят до утра, как глупые дураки. В то время как половина третьего ночи – лучшее время для первой прогулки по городу. Просто идеальное.
– А почему именно половина третьего?
Честный ответ звучит так: «Потому что сейчас уже почти четверть этого самого третьего, а ехать до центра как раз десять-пятнадцать минут, вот и считай». Но это очень скучное объяснение. Придется положиться на импровизацию.
– Сама увидишь, – Аль переходит на таинственный шепот, который отлично компенсирует полное отсутствие мало-мальски оригинальных идей.
– Ладно, – кивает Саша. – Значит, буду смотреть очень внимательно.
* * *
– Ну уж нет, – бормочет Анна.
Она буквально ловит себя за шиворот при попытке повернуть в сторону дома.
Четыре квартала – это не прогулка. Ради четырех кварталов и кеды шнуровать не стоило. А что на часах уже начало третьего, так это не новость. Если выходишь из дома в два пополуночи, не следует рассчитывать, что вдруг снова сделается всего девять вечера. Например.
Ты этого несколько лет хотела, – ехидно напоминает себе Анна. – Вот и наслаждайся теперь на всю катушку. Пошла гулять, значит гуляй.
И, потрясенная собственной неумолимостью, прибавляет шагу, сворачивает на Тоторю, идет, удаляясь от своего дома, как пешеход из школьной задачки, со скоростью пять километров в час.
Или даже шесть.
* * *
– Отличный балкон, – говорит Тони.
– Да, ничего себе, – вежливо соглашаюсь я.
Вообще-то у меня несколько иные представления об отличных балконах. Возможно, еретические. В частности я считаю, что на отличном балконе должны помещаться как минимум два удобных кресла. А на этот кое-как влезла пара колченогих кухонных табуретов. И теперь мы чинно восседаем на них, стараясь не размахивать руками, я – правой, Тони – левой. Потому что если размахивать, локоть неизбежно встретится с плечом собеседника. Или с его подбородком. Или с ухом, как повезет.
Я хочу сказать, здесь чертовски тесно.
– Зато какой вид, – примирительно говорит Тони. – Лучший вид – если не на город в целом, то на Ратушную площадь. И сидим мы при этом практически в джунглях. В засаде. Как вьетнамские партизаны.
Ну, вряд ли все-таки именно вьетнамские. Потому что балкон наш увит не тропическими лианами, а плющом и диким виноградом. В нижних ящиках растут вперемешку декоративные подсолнухи, мелкие гвоздики, укроп и душистый горошек, в верхних пенятся разноцветные петунии. Пахнут они так, что впору потерять рассудок. Собственно именно ради этих зарослей мы здесь и сидим. Тонина подружка умотала куда-то на неделю и оставила ему ключи от квартиры с балконом, чтобы поливал, если не будет дождя. А дождя у нас нет уже третий день кряду. Что, кстати, непорядок. Кое-кто непозволительно расслабился там у себя на небесах.
Середина ночи – наилучшее время для таинственного вторжения в чужую квартиру с целью злодейски вылить густую от дневного зноя воду в черную-черную землю, так считает Тони. И в этом вопросе я с ним совершенно согласен. Утром, днем, даже вечером поливка цветов – обычное рутинное дело, зато ночью – почти приключение. Особенно для того, кому некуда торопиться.
Нам – некуда. По крайней мере, сегодня это так.
Поэтому мы заварили хозяйский зеленый чай, вынесли табуреты на крошечный балкон и сидим тут с видом на Ратушную площадь в компании счастливых мокрых цветов и ночных бабочек, которые летят и летят на огоньки наших сигарет, как околдованные.
* * *
– Пожалуй, оставим машину здесь, – говорит Аль, припарковавшись в переулке, узком, как лезвие, под единственным на всю округу бледным лиловым фонарем. – Если ты не против.
– Это и есть центр города? – изумленно спрашивает Саша.
– Самый что ни на есть центр. Не верится? Мне тоже. Меж тем скажем, до Ратушной площади отсюда минут десять неспешным шагом. Можно было проехать еще немного и остановиться прямо там, но мне кажется, пешком гораздо интереснее. Ты же здесь в первый раз. Темные переулки будят воображение, чего не разглядишь, поневоле досочинишь, и любой город в половине третьего ночи окажется таким, каким ты его представишь… Но ты точно не устала? Потому что мы еще возле машины, и пеший поход можно отменить.
– Точно не устала. Не надо ничего отменять. Да здравствуют темные переулки, смутные силуэты и прочая прекрасная неопределенность. Уж я сейчас навоображаю!
– Давай-давай. Ни в чем себе не отказывай.
– Например, вон тот дом, – Саша машет рукой в сторону темного четырехэтажного здания с единственным светящимся чердачным окном. – Сейчас не видно, но на самом деле он изумрудно-зеленый. А соседний – оранжевый. И вместе они выглядят так красиво, что некоторые прохожие каждый день специально делают крюк, сворачивают сюда, чтобы лишний раз ими полюбоваться. А во дворе вон за тем забором, предположим, живет скульптор. Очень талантливый, но пока неизвестный. И там весь двор заставлен его работами, их просто больше некуда девать. Отличные штуки! Такие, знаешь, химеры, слепленные из чего попало на основе старых манекенов – дурацкие и невероятные. Туда бы давно экскурсии ходили, да никто не знает. Это же специально через забор заглядывать надо, а калитка всегда заперта.
– Ничего себе. Теперь я хочу на это посмотреть.
– Да я и сама хочу. Но темно же. Так что придется нам вернуться сюда завтра днем, – смеется Саша. – А вдруг там и правда полный двор химер?
– Я в этом до такой степени не сомневаюсь, что даже камеру прихвачу, чтобы не кусать потом локти, пытаясь сфотографировать их зажигалкой. А ты давай, рассказывай дальше. Что еще сокрыто у нас во тьме?
– Дофига всего тут у вас сокрыто. Даже не ожидала. Например, среди обычных булыжников на мостовой попадаются зеркальные. Сейчас, конечно, не разглядеть, только днем, когда в них отражается небо. А под стенами крепости, конечно же, зарыт клад. Только не золото и сапфиры, как думают все. Знаешь, что там спрятано? Хорошая погода! Если в один прекрасный день найдется мудрец и герой, способный найти сокровище и выпустить его на волю, у вас навек установится лучшая в мире погода, плюс двадцать два градуса круглый год. С ночными туманами, пасмурными утрами и солнечными закатами. И градообразующим предприятием Вильнюса сделается филиал рая для особо заслуженных праведников. Представляешь, сколько сразу появится новых рабочих мест? Были бы у тебя дети, сказала бы: учи их играть на арфе и витать в облаках, верный кусок хлеба в свете грядущих перспектив… Так, что тут у нас еще? Ага, например, ворота на той стороне. Знаешь, почему они заляпаны краской? Каждый вечер сюда приходит красивая старуха с волосами, выкрашенными в зеленый цвет, и рисует на воротах птицу. Каждое утро на рассвете птица улетает. Вечером художница снова приходит, видит, что рисунка нет, вздыхает и рисует еще одну. Она уже много лет собирается остаться до утра и проследить, куда деваются птицы, но ближе к делу начинает зевать и, махнув на все рукой, идет домой спать. А встать пораньше ей тем более не удается. Даже зимой, когда светает совсем поздно.
– Наш, стало быть, человек.
– Еще бы! А вот видишь вооон тот храм? Он только с виду обычный, как все вокруг. А на самом деле там окопалась такая развеселая секта. То есть, даже не секта, просто теплая компания с… эээ… активной языческой позицией. Раз в год, в самый короткий зимний день, они поклоняются солнцу, в самый длинный летний день – тьме, а все остальное время – луне. Бескорыстно, исключительно ради ее удовольствия. В смысле, ничего для себя не выпрашивают. Просто считают, что луна переменчива, не уверена в себе и, следовательно, нуждается в регулярном поклонении как никто другой.
– Кстати, это костел Божией Матери Утешения, давным-давно не действующий. А значит, твориться там действительно может все что угодно.
– Ну и вот! Кстати, сегодня новолуние, а значит там обязательно должно происходить что-нибудь интересное. Представляешь, сколько поклонения необходимо луне в тот момент, когда ее как бы нет вовсе?
– Могу вообразить. Будь я божеством, которого нет, моим адептам пришлось бы здорово потрудиться, чтобы хоть немного поднять мне настроение.
– Давай пойдем мимо него, ладно? Вдруг они там, к примеру, поют? Что-нибудь утешительное. Или даже специальное новолунное заклинание, от которого то, чего нет, незамедлительно становится сущим. Это же по дороге?
– Конечно. Как раз по Савичяус и выйдем на Ратушную площадь.
– Слушай, как же это прекрасно звучит – «Ратушная площадь»! Сразу что-то праздничное и сказочное представляется. Хотя теоретически я знаю, что ратуша – это просто скучная городская канцелярия. А все равно кажется, что там должна быть ярмарка, музыка, смех, пиво, лимонад, жареное мясо и леденцы из жженого сахара. И посреди площади обязательно карусель – знаешь, такая дурацкая, из детства, с разноцветными лошадками и драконами…
– С драконами? Хорошее у тебя было детство. Лично мне приходилось довольствоваться одними лошадками.
– Мне тоже. Просто я сперва представляла, что некоторые из лошадок все-таки драконы, а потом садилась на одну из них. И каталась на драконе, мало ли, что больше никто его не видел. Я-то знала!
– Отличный рецепт.
– Не то слово. Я до сих пор им пользуюсь. Например, вот прямо сейчас.
– Ну да, – улыбается Аль. – Конечно.
* * *
Дойду до Ратушной площади, а уже оттуда домой, – думает Анна. – Какой-нибудь другой интересной дорогой. Гораздо лучше, чем сейчас разворачиваться и идти назад. Да и не хочу я ни в какое «назад». Ночь такая теплая, сладкая, такая шелковая нынче ночь, возможно, это и есть лучшая летняя ночь в моей жизни, идеальная, как на заказ, а я, дура, совершенно не готова, не знаю, как распорядиться таким богатством, что делать, чтобы все это оказалось не зря? Вернуться домой и лечь спать у открытого окна? Приятно, но непростительно мало. И как же было бы хорошо, если бы город вдруг взял и вырос, и возвращаться пришлось бы долго-долго, с каждым шагом все глубже увязая в ласковой этой тьме, ощущая на губах леденцовую сладость фонарного света, брести медленно, как плыть, обнявшись…
Так, погоди, а с кем это ты, интересно, собралась обниматься? – строго спрашивает она себя. – Вроде, с утра еще не была ни в кого влюблена.
Ай, мало ли что с утра. С тех пор прошла вечность и еще целый день в придачу, десять тысяч раз можно было успеть влюбиться, вот я и успела. Не в кого-то конкретного, а – вообще. Объекта нет, а волшебный механизм заработал, так, говорят, бывает. А если и не бывает, все равно так – есть. Уже случилось, следовательно, неотменяемо. Факт биографии, не вырубишь топором.
И в связи с этим, – вдруг понимает Анна, – чертовски хочется музыки и цветов. Вот прямо сейчас! Или хотя бы жареных орешков. Да где их возьмешь в начале третьего ночи. Город у нас очень уж сонный. К полуночи все закрыто. Круглосуточный Макдональдс на проспекте Гедиминаса, да Чили-пицца с цветными телевизорами на Диджои – вот и вся наша разгульная ночная жизнь.
Но помечтать-то можно, – печально говорит себе Анна, пока ноздри ее чутко трепещут на теплом ветру, принюхиваясь к далеким, но вполне отчетливым ароматам. – Какая-то сволочь вот прямо сейчас, среди ночи жарит миндаль, нахально распахнув все окна, – восхищенно вздыхает она. – И еще, кажется, мясо. Благословен будь, о прекрасный романтический полуночный обжора. Ты сделал меня счастливой на целую секунду, я же почти поверила, что там, за углом, самая настоящая развеселая ярмарка, которой, конечно же, не может быть – с пивом, сидром, закусками и каруселями. В это время суток на них катаются исключительно ангелы, да и те падшие, все коленки в зеленке. Совсем ненадолго падшие, всего на одну ночь, специально ради ярмарки.
* * *
– Ого, это что-то новенькое, – говорит Тони.
– Что именно?
– Поют, – лаконично отвечает он.
– Поют, – рассеянно повторяю я.
И только тут понимаю, что и правда поют. Причем где-то недалеко. То есть, не прямо под нашим балконом, но и явно не за рекой. А, к примеру, где-нибудь за ближайшим углом – интересно, где именно? И кто? Нестройный, явно неслаженный хор, зато голоса хороши. Мелодия незнакомая, и слов не разобрать, но это даже к лучшему. Зачем нам сейчас слова.
– Причем поют, похоже, на Савичяус, у Божией Матери Утешения, где быть никого не может, – задумчиво говорит Тони. – Ни в это время суток, ни поутру, ни днем, вообще никогда. Там еще нынче вечером все было заколочено, мы же мимо шли.
Я слушаю его вполуха, потому что голоса неведомых певцов становятся громче, а Тонин голос, напротив, звучит все тише, вопреки законам акустики, которых я, впрочем, толком не знаю. Стало быть, какой с меня спрос.
Я закрываю глаза.
* * *
– И правда, поют, – шепчет Саша. Глаза у нее сейчас круглые как блюдца. – Слушай, в этом костеле действительно поют! В два часа ночи!
– В половине третьего, – педантично поправляет Аль.
– Тем более. Кто это, что это, почему?
– Понятия не имею. Знаю только, что этого быть не может, потому что ничего подобного совершенно точно не может быть. Иди-ка сюда. И давай руку. Мне так спокойнее.
– Мне тоже. И пошли уже на эту вашу Ратушную площадь. Это так успокаивающе звучит: «Ратушная площадь». На Ратушной площади совершенно невозможно сойти с ума. Только чинно прогуливаться, демонстрируя выходные наряды другим добропорядочным горожанам. Правда же?
– Только чинно прогуливаться, – повторяет Аль. – И еще кататься на карусели с драконами. И еще… Нет, стоп. Хватит с нас на сегодня фантазий.
– Ладно, – кивает Саша. – Никаких фантазий. Никаких драконов. Пусть карусель будет с лошадками, я согласна. Пошли!
* * *
– Эй, – изумленно спрашивает Анна, – вы действительно существуете?
Бестактный, конечно, вопрос. Но иногда невозможно удержаться.
Красивая рыжая женщина в накрахмаленном белом чепце звонко хлопает себя по бедрам и, не удовлетворившись результатом экспертизы, еще раз – по затянутым в корсет бокам.
– Ну, если уж я не существую, тогда, скажите на милость, что существует вообще? – говорит она мягко, нараспев и так убедительно, что Анна немедленно прекращает расспросы и покупает у рыжей пакетик жареного в меду миндаля.
– Просто это так удивительно – ярмарка в половине третьего ночи, – говорит она. – Глазам своим не верю. И ушам тоже не верю. А вот носу, языку и нёбу, пожалуй, придется поверить. И, конечно, брюху – чуть погодя.
И отправляет в рот сладкий, горячий, корицей и перцем благоухающий орешек.
* * *
– Эй, ты что, дрыхнешь? – изумленно спрашивает Тони. – С чего бы? Половина третьего ночи, детское время, тебя же обычно до пяти утра палкой в постель не загонишь, ты чего?
– Просто сон хороший мимо пробегал, глупо было бы его упустить, – говорю я, изо всех сил стараясь не проснуться окончательно. – В этом сне прямо под нашим балконом развернулась ярмарка, примерно как в день Святого Бартоломея, только ночная, с фонарями и факелами. А в самом центре Ратушной площади крутится карусель. Не буди меня, пожалуйста, пока не покатаюсь.
– Ладно, не буду, – соглашается Тони. – Но имей в виду, наяву тут тоже ярмарка с каруселью. Откуда-то внезапно взялась, стоило на минутку отвернуться. Я решил, будет обидно, если ты все пропустишь.
От изумления я открываю один глаз. А потом второй. И смотрю вниз, на освещенную факелами Ратушную площадь, заполнившуюся вдруг уличными музыкантами, торговцами в костюмах эпохи Ягеллонов и слишком бодрыми для этого времени суток горожанами.
А в самом центре развеселого шумного хаоса гремит, звенит, скрипит, переливается огнями карусель, разноцветные лошадки бегут по кругу под восторженный смех давным-давно переросших подобные развлечения седоков. И если я не присоединюсь к ним немедленно, буду дураком, каких мало.
Фотографии
Правила джиннов
Сквозной проход
Эффект Жаровски
Ну, например
Белый кролик Лена
Где-то здесь рядом
Повадки духов Нижнего Мира
Четыре летних грозы
Тяжелый свет
Требуется чудовище
Сделай сам
Прокрастинатор
Темнее, чем просто тьма
Халва в шоколаде
Заверните, беру
Игра важнее, чем я
Разговор по-немецки
Хана
Много прекрасных дорог
…вымышленных существ
Все желания гостей
Площадь Восьмидесяти Тоскующих Мостов
Белые стволы, алые стены
Трижды семь
Дипломная работа
Большая весенняя охота
И я из тех, кто выбирает сети
Азбука пробуждений
Смесь для приготовления понедельника
Музыка и цветы
Например, позавчера
Черный ветер
Возможны варианты
Вольховский Ры
Сто сорок девять дворов
Синий автомобиль
Трое в лодке, не считая Гери и Фреки
Море по колено
Книжная лотерея
Пингвин и Единорог
1 + 1
Полиция города Вильнюса
Гости
Две горсти гороха, одна морского песка
Правила джиннов
Хава Шимали, хава Джануби
А вы как хотите
Город в половине третьего ночи
Примечания
1
Улица, о которой здесь идет речь, называется Jono Meko skersvėjo takas – «сквозной проход Йонаса Мекаса», но дословно это может быть прочитано как «проход сквозняка».
(обратно)2
Йонас Мекас (1922) – американский режиссер-авангардист литовского происхождения. В 1954 году с братом Адольфасом начал издавать журнал «Кинокультура» (Film Culture), который со временем стал считаться самым важным изданием о кино в США. В 1962 году он основал знаменитый «Кооператив кинематографистов» (Film-Makers' Cooperative), а в 1964 – «Синематеку кинематографистов» (Film-Makers' Cinematheque), которые в конечном итоге переросли в «Антологический кино архив» (Anthology Film Archives), один из крупнейших и наиболее значимых в мире архивов авангардного кино.
(обратно)3
Речь о горе Trijų Kryžių Kalnas, на вершине которой установлен памятник жертвам сталинизма в виде трех белых крестов. Впрочем, кресты на этой горе стояли с первой половины семнадцатого века. Тогда они считались памятником монахам-францисканцам, убитым язычниками. Власти, то российские царские, то немецкие, то советские эти кресты периодически сносили, а население упорно их восстанавливало.
(обратно)4
Замок Нойшванштайн (буквально: «Новый лебединый утес») – знаменитый романтический замок баварского короля Людвига II в юго-западной Баварии. Король принимал настолько активное участие в разработке чертежей, что замок можно считать его личным произведением.
(обратно)5
Альгирдас Бразаускас (Algirdas Mykolas Brazauskas) – первый президент независимой Литвы, т. е. брюки датируются 1993–1998 годом.
(обратно)6
Костел Святых апостолов Петра и Павла – римско-католический приходской костел Вильнюсского деканата, памятник архитектуры XVII века. Расположен в самом начале улицы Антакальнё.
(обратно)7
Айтварас – в литовской мифологии летучий дух в виде огненного змея, дракона, а иногда черной вороны, цапли, черного или огненного петуха, реже кошки. Привидение, инкуб. Считается, что Айтварас приносит людям богатство. Его излюбленные занятия – заплетать лошадям гриву и насылать людям кошмары.
(обратно)8
Клаус Номи (Klaus Nomi), настоящее имя Клаус Шпербер (нем. Klaus Sperber) (24 января 1944 – 6 августа 1983) – американский певец немецкого происхождения, контртенор, один из основоположников стилистики New Wave, одна из самых эксцентрических фигур в истории поп-музыки. Среди прочего, Клаус Номи исполнял композицию «The Cold Song», являющуюся арией Гения Холода из оперы «Король Артур» Генри Пёрселла.
(обратно)9
Здесь и далее речь идет о князе Гедиминасе, который, согласно легенде, основал Вильнюс после того, как переночевал в месте, где сливаются реки Вильняле и Нерис, и увидел там сон про железного волка. Почему всякий увидевший во сне железного волка, должен немедленно строить новый город, современный психоанализ не объясняет.
(обратно)10
На самом деле менее семисот. Годом основания Вильнюса считается 1323 г.
(обратно)11
Замок Нойшванштайн (нем. Schloß Neuschwanstein) – романтический замок баварского короля Людвига II около городка Фюссен в юго-западной Баварии. Сам король, отдавая распоряжения о строительстве замка, называл его «сказочным дворцом».
(обратно)12
Калабаш (сalabash) – курительная трубка особой формы. Коническая чаша этой трубки сужается книзу, а ее верх вырезан в виде крыши дома. Табачная камера также сужается. Раньше калабаши были тыквенными (отсюда, собственно, и название «калабаш» – тыква-горлянка), а теперь их изготавливают из бриара и даже пенки.
(обратно)13
Три креста – памятник в виде трех белых бетонных крестов, установленный на Трёхкрестовой горе (прежде носила название Лысой или Кривой) на правом берегу Вильни. По преданию, в середине XIV века, в отсутствие отправившихся на войну князя Ольгерда и виленского воеводы Гаштольда виленские язычники напали на монахов францисканцев, которых по просьбе супруги христианки поселил в своем доме Гастольд. Семеро монахов были казнены на рынке, семерым удалось бежать. Убежавших монахов «изловили на горах на берегу Виленки» и сбросили с Лысой горы в реку. В некоторых изложениях живописуются подробности: монахов язычники привязали или прибили к крестам и бросили в реку. По одному из вариантов, в реку было сброшено четыре монаха, а трех распяли на крестах и оставили на Лысой горе. Однако легенда о мученической смерти францисканцев не нашла подтверждения в исторических источниках. Предполагается, что её авторами были сами францисканцы, озабоченные прославлением своего ордена. По предположению некоторых историков, кресты должны были сигнализировать крестоносцам, что здесь живут христиане, и таким образом избавлять город от нападения и грабежа. Так или иначе, но в память о мученической смерти францисканцев на горе между 1613 и 1636 годами были воздвигнуты три деревянных креста. В 1740 году обветшавшие кресты были заменены новыми. Когда они, снова обветшав, рухнули в 1869 году, власти не стали их восстановить. Во время Первой мировой войны в 1916 году, когда Вильнюс был занят немцами, по инициативе ксёндза Казимира Михалькевича были собраны средства и организованы работы по сооружению монумента из прочного материала. За два месяца были сооружены кресты из железобетона по проекту Антония Вивульского и тайно (поскольку немецкие власти не разрешали) освящены тем же ксендзом Казимиром Михалькевичем. Эти кресты простояли до 1950 года и были взорваны по приказу советских властей. Часть обломков была вывезена, часть закопана в укромном месте. В 1989 году после кампании за восстановление Трех крестов, включавшей сбор подписей под обращением к властям, памятник был в течение двух недель восстановлен как памятник жертвам сталинизма. Восстановленный памятник по проекту архитектора Генрикаса Шилингаса исполнил скульптор Станисловас Кузма. Сохранившиеся фрагменты прежних Трех крестов были вмурованы в фундамент нового памятника.
(обратно)14
Художник Гитис Умбрасас в 1999 году установил в Вильнюсе три плитки с надписью «Чудо»: рядом с костелом св. Анны, у часовни св. Казимира и между Кафедральным собором и его колокольней. Уцелела только последняя. Она же стала местом стихийного паломничества горожан и туристов, которые верят, что их желания будут исполнены, если постоять на плитке (другая версия – покружиться на ней).
(обратно)15
Grolsch – марка голландского пива.
(обратно)16
Конечно же, польский юрист, историк, этнограф, общественный деятель и политик Альфонс Ипполитович Парчевский, возглавлявший юридический факультет, а в 1922–1924 годах бывший ректором Вильнюсского университета, ничего подобного в своих трудах не доказывал.
(обратно)17
Речь о доме номер один по улице Лейиклос, где, приезжая в Вильнюс, неоднократно останавливался поэт Иосиф Бродский.
(обратно)18
Цитата из «Литовского дивертисмента» Бродского; часть 3, «Кафе Неринга».
(обратно)19
Название одной из вильнюсских гостиниц Mano Liza (украшенной, разумеется, репродукцией знаменитой картины) переводится как «Моя Лиза». Налицо, стало быть, условно непереводимая игра слов.
(обратно)20
Цитата из стихотворения Арсения Тарковского «Жизнь, жизнь».
(обратно)21
Это он не просто шутил, а ответ Бодхидхармы на вопрос императора Лян Уди о главной истине Учения цитировал.
(обратно)22
Содэргами, что переводится как «запутанный рукав», был оружием японской полиции эпохи Эдо. Содэгарами был, по сути своей, зубчатым багром, который втыкают в кимоно противника. Быстрый поворот запутывал ткань и позволял полицейскому схватить преступника, не нанося ему большого количества ран. Часто один полицейский нападал спереди, а другой сзади, пытаясь уложить преступника на землю. Два содэгарами в кимоно не оставляли шансов убежать. Это был важный инструмент при аресте самурая, который, согласно закону, мог быть убит только другим самураем. Как только самурай доставал свою катану, офицер нападал на него с содэгарами.
(обратно)23
Речь, вероятно, о мультфильме «Три банана» по одноименной сказке Зденека Слабого; по крайней мере, именно там описан уменьшающийся при встрече с храбрецом дракон Бойся-Бой.
(обратно)24
Авиженяй – деревня на территории самоуправления Вильнюсского района.
(обратно)25
Речь о рассказе Ляо Чжая (Пу Сунлина) «Содержание чиновника». Поскольку рассказ совсем короткий, приведу его здесь целиком в переводе В. М. Алексеева:
Один видный деятель часто поступал бессовестно. Жена всякий раз в таких случаях обращалась к нему с увещаниями и предостережениями, указывая на ждущее его возмездие. Но он совершенно не желал ее слушать и не верил.
Как-то появился у них маг, которому дано было знать, сколько человек получит содержания. Наш деятель пошел к нему. Маг посмотрел на него самым внимательным и долгим взором и сказал так:
– Вы скушаете еще двадцать мер риса и двадцать мер муки. И ваше «содержание с небес» на этом кончится!
Человек пришел домой и рассказал жене. Стали считать. Выходило, что один человек в год съедает всего-навсего не более двух мер муки. Следовательно, этого самого «небесного содержания» хватит лет на двадцать, а то и больше! Может ли, значит, безнравственность прервать эти положенные годы? И рассудив так, он стал озорничать по-прежнему.
Вдруг он заболел «выбрасыванием» нутра. Стал есть очень много – и все-таки был голоден. Приходилось ему теперь есть и днем и ночью, раз десять. Не прошло и года, как он умер.
(обратно)26
«Багси Мэлоун» (англ. Bugsy Malone) – фильм Алана Паркера, мюзикл-пародия на тему гангстерского Чикаго, примечательный тем, что все роли в нём исполняют дети, а убийства совершаются из крем-автоматов кремом для тортов.
(обратно)27
Kölner Lichter (Кёльнские огни) – ежегодный праздник фейерверков в Кёльне, отмечается в середине лета. В 2012 году пришелся на 14 июля.
(обратно)28
Фестиваль Festa del Redentore, который еще называют празднованием в честь Спасителя, проводится в Венеции ежегодно в третьи выходные июля и по традиции продолжается два дня. В 2012 году первый день фестиваля пришелся на субботу 14 июля.
(обратно)29
И этот праздник – не вымышленное событие. Церемония омовения реликвий королей Буйна действительно ежегодно происходит в Махадзанге 14 июля, и делайте что хотите.
(обратно)30
«Это наконец случилось». Строчка из песни группы Queen «I'm going slightly mad» («Я слегка схожу с ума»).
(обратно)31
Яромир Хладик – персонаж рассказа Борхеса «Тайное чудо». Для него секунда перед расстрелом оказалась достаточно долгой, чтобы полностью переделать и довести до совершенства (в уме) свою неоконченную пьесу «Враги».
(обратно)32
Знаменитая цитата из кинофильма «Касабланка».
(обратно)33
Эммануил Сведенборг – шведский ученый-естествоиспытатель, ставший теософом после ряда чудесных видений. В своем труде «О небесах, о мире духов и об аде» Сведенборг пишет, что после смерти человек сохраняет все свои привычки, склонности и любимые занятия, на основании которых он, собственно, и отправляется в ту или иную область потусторонней реальности.
(обратно)34
Вилия – польское и белорусское название реки Нерис, притоком которой является речка Вильня (Вильняле).
(обратно)35
Эспрессо с лимоном.
(обратно)36
Тальк считается самым мягким минералом (один балл по шкале твердости Фридриха Мооса).
(обратно)37
До завтра (исп.).
(обратно)38
Храм Святой Анны – католическая церковь, памятник готической архитектуры, одна из самых известных достопримечательностей Вильнюса.
(обратно)39
После Первой Мировой войны в Вильнюсе попыталисьбыла предпринята попытка восстановить конный трамвай, прекративший работу в 1916 году. Вильнюсский инженер Пигутковский оборудовал вагоны конки бензиновыми моторами. Новый трамвай по фамилии инженера окрестили «пигуткой». Регулярные рейсы «пигутки» с Кафедральной пл. до Поспешки начались 25 июля. Но «пигутка» ходила недолго: старые моторы постоянно ломались, вагоны загорались, а новые покупать никто не хотел. В 1926 г. городские власти приняли решение прекратить работу трамвая и разобрать линии, а вагоны продать жителям города, которые использовали их потом как склады или овины для скота и домашних птиц.
(обратно)40
Первой попыткой была конка, построенная инженером А. Горчаковым. К 1893 году было проложено 10 км линий. Трамваи ходили по трем маршрутам: Центр – железнодорожный вокзал и в пригороды Ужупис и Антакалнис. В 1909 году конка перевезла 2,6 млн. Пассажиров и прекратила работу во время немецкой оккупации в 1916 году. Второй попыткой следует считать «пигутку».
(обратно)41
Хава Шимали – северный ветер в Аравии, часто сопровождающийся шквалами; Хава Джануби – южный ветер в Аравии, часто сопровождающийся пыльными бурями. Прочие имена, которые встречаются в тексте, также принадлежат северным и южным ветрам соответственно.
(обратно)42
Рамми (Rummy) – группа карточных игр, рассчитанных на 2х, 3х или 4х человек. Главная задача в любой из игр Рамми – быстрее противников избавиться от имеющихся на руках карт, выложив их на столе в виде определенных комбинаций.
(обратно)43
В Рамми играют, пока один из игроков не наберет заранее оговоренную сумму очков; обычно играют до 501. Набравший эту или большую сумму первым, считается победителем всей партии.
(обратно)44
И правда, не сказать, что очень близко – примерно в 250 километрах от Вильнюса. Свете, или Швете (латыш. Svēte, лит. Švėtė) – река на севере Литвы и юге Латвии. Она берет начало вблизи литовской деревни Туломинай, а впадает в реку Лиелупе в 8 км к северо-западу от Елгавы.
(обратно)45
На самом деле вряд ли это разгильдяйство. Миссионерская церковь всегда так странно подсвечена. Так что вполне может быть, это действительно замысел. Знать бы еще, чей.
(обратно)46
Явная отсылка к трактовке 64-й гексаграммы «Книги Перемен» Вэй-цзи: «Молодой лис почти переправился, но вымочил хвост – ничего благоприятного!»
(обратно)47
Костел миссионеров, он же Костел Вознесения Господня – католический костел бывшего монастыря миссионеров. Находится в Вильнюсе на улице Субачяус (Subačiaus g. 26). Считается характерным примером вильнюсского позднего барокко и отличается изящными высокими башнями. В настоящее время является недействующим.
(обратно)48
Так называемый костел Визиток, он же костел Сердца Иисуса – бывший римско-католический неприходской храм во имя Сердца Иисуса монастыря визитанок, расположенный на улице Расу (Rasų g. 6). После Второй мировой войны в помещении монастыря была устроена исправительно-трудовая колония, и костел Сердца Иисуса оказался на ее территории.
(обратно)




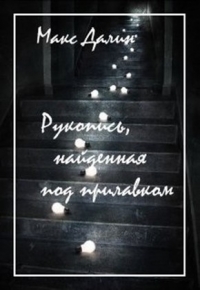




Комментарии к книге «Все сказки старого Вильнюса. Продолжение», Макс Фрай
Всего 0 комментариев