Макс Далин Рукопись, найденная под прилавком
Аннушке К. - охотнице до ужасных сказок.
…Не тот этот город и полночь не та… Б. Пастернак15 янв.
Сегодня тихо. Ни живых, ни мертвых.
С живыми все понятно: праздники кончились. У меня не осталось ни одного подарочного альбома с видами. Под землей в праздники лучше всего продаются альбомы с видами, кулинарные книги и детские книжки с картинками. Я заворачиваю их в пленку, чтобы эта пыль — пыль везде, пыль всегда, пыль въедается в пальцы, в страницы, в легкие — не испортила глянцевые голубые небеса над Спасом-на-Крови. На обложках альбомов с видами чаще всего фотографии Смольного собора или Спаса-на-Крови. Небеса ужасно яркие, но на них можно смотреть. От вида блинов с икрой на обложке кулинарной энциклопедии просто тошнит. Под землей как-то странно воспринимается обычная еда.
Но покупатели реагируют спокойно. Под землей книги в подарок покупают по дороге. Второпях. Между прочим. Их даже не рассматривают особенно, только просят: «Мне что-нибудь покрасивее и подороже». Чтобы подарить каким-то другим, которые, в сущности, безразличны. Поэтому в праздники идут только три сорта товара. Детям — сказки, мужчинам — альбомы, а женщинам — жратву. И я стираю пыль с плёнки мокрой салфеткой — небеса вспыхивают такой голубизной, что глазам больно.
Отвык я от этого цвета. Но фигня это все.
Интересно, почему мертвые пропали. Никто не кончает с собой в праздники? Или что? Надежда в людях проснулась, хе-хе… Один-единственный труп подпирает спиной стену — наверное, наркоман; не иначе, как случайно откинулся. Даже не пытается уехать; неизвестно, куда его вывезет — а тут ему неплохо. Уже часа три стоит, не шевелясь — двигаются только зрачки, широкие и мутные. Следит за электричками.
Мертвые от метро не устают. А я — живой.
Я живу под землей, при искусственном свете. Я просыпаюсь при искусственном свете, выхожу в темноту, спускаюсь под землю и выбираюсь на поверхность, когда там снова темно и искусственный свет. Я существую при искусственном свете. Я не то, чтобы устал, но все время существую между сном и явью. Я начал забывать, что такое неискусственный свет.
Солнце… Даже странно вспоминать это слово.
Метро — это лимб, вот факт, пошлая истина, которой никого нельзя удивить. В лимбе нет настоящего света и быть не должно. Все правильно.
И никакая не преисподняя, вот что я вам скажу. Я не знаю, где преисподняя. Может, туда идут поезда, о которых объявляют «На этот поезд посадки нет». Может, туда можно попасть как-то еще. Но метро как таковое — за пределами. За верхними пределами и за нижними пределами. Поэтому в нем нет ничего по-настоящему ужасного. Все странное и бессветное, но не кошмарное. Лимб, этим все сказано.
Продавал я пачками фантастические романы, в которых люди спасаются в метро от некоего гипотетического конца света. В тридцатые годы. В восьмидесятые годы. В будущем. Апокалипсис, атомный взрыв, инопланетное вторжение… Фантасты — смешные люди. Ездили в метро — и впечатлились? Промелькнуть через лимб, выйти на поверхность с другой стороны, чуточку зацепить что-то такое у себя в душе… Хорошенькое местечко они нашли для спасения человечества! Я читаю и веселюсь. Интересно, они всерьез считают возможным спасение от ада в лимбе? Впрочем, они понятия не имеют, что это такое — метро. Они придумывают инопланетян и мутантов поужаснее, совершенно не представляя себе ни тех, ни других — а о самых обычных вещах не знают, и знать не хотят. Фантастика спокойнее действительности.
Поэтому народ так ее любит.
Хотя о метро я тоже толком не знал, чего там. Иначе не пошел бы сюда работать — ах, тут такая хорошая зарплата. А теперь уже не уйти… Я работаю по шестнадцать часов. Иногда закрываю киоск шторой и сплю на самой нижней книжной полке, под кассой, просыпаясь от дикого озноба. Под землей редко хочется есть, но спать иногда хочется нестерпимо. И спросонок всегда холодно до костей, хочется выпить, хотя бы горячего чаю. Я кипячу чай в большой ложнофарфоровой кружке и плюю на все правила. Даже если нагрянет мое начальство — сверху, тоже не имеющее понятия о том, что такое метро — скандала не будет. Они же знают: под землей трудно. За это и платят. Почти всем, кто здесь работает, платят хорошо. Только деньги потихоньку теряют смысл.
Своих коллег я называю про себя «детьми подземелья». Почти все они живые люди. Только у самых бесчувственных из них нет этой печати лимба на лице. У всех серая кожа и блестящие глаза, как у морлоков, блестящие, с красными прожилками. Новенькие общительны и трепливы. Те, кто работает под землей давно, молчат и усмехаются в ответ на любые вопросы.
Сегодня я работаю на Просвете. Холодно. Сквозняк иногда доносит запах сырой свежераскопанной земли, его чувствуешь лицом, он влажный и более живой, чем весь остальной воздух. Это очень приятно. Обычно воздух сухой, теплый и мертвый, липнет к лицу. Я вхожу в метро — и попадаю в воздух, стоячий, как болото. Тут все стоит стоймя: воздух, свет, время. Движение времени изображает текучая смена цифр на электронных табло. Раньше я думал, что это настоящие часы; теперь меня не обманешь. Тут все движение иллюзорно, и все думают, что спешат.
Книг покупают очень много. Мой прилавок плотно заставлен дешевыми книжками в бумажных обложках. Это детективы, самая ширпотребовская фантастика и любовные романы. Их покупают пачками; те, кто ездит в метро постоянно, используют книжки, чтобы уткнуть в них глаза и ничего вокруг не видеть. Хома Брут рисовал для этого круг мелом, но вместе с кругом нельзя передвигаться. Книжки удобнее. Оторвав взгляд от страниц, можно случайно проследить, к примеру, как меняется твое отражение в вагонном стекле — это уже достаточно неприятно, но это ведь такие пустяки.
Запахи держатся на удивление долго. Они стойкие, резкие. Волны духов, дезодорантов, туалетной воды, вонь бомжей — каждая струя повисает в воздухе на бесконечные минуты. Они не смешиваются. За каждым человеком запах тянется кометным хвостом. Движение электричек стирает эти струи потоком сквозняка, как ластиком. Иногда сквозняк доносит отчетливый запах растертой ромашки… но это отдельный разговор.
Я все обоняю. Я — фильтр запахов, звуков и видений, похожих на бред. Я только что видел двух женщин, которые несли щенка бульдога, одетого в детский голубой комбинезон с капюшоном. Из капюшона высовывалось его печальное личико, черное, сморщенное, в мелкой щетинке, с пронзительными темными глазами усталого ребенка-урода. Под капюшон заглянула старуха, шарахнулась. Любопытно, как она это увидела… может, это вовсе не щенок, а?
Рядом с киоском стоит серый человек. Его лицо, одежда, поза — никакие, я никак не могу сфокусировать на нем взгляд. Этот тип уже минут десять читает детектив. Обложка книжки маячит в сером ярким оранжевым пятном. Изба-читальня…
Надо бы сказать ему, что у меня не библиотека, но как-то не говорится. Кто его знает, отчего мужику от книжки не оторваться. Иногда иллюзорный мир — панацея.
А обезболивающее гуманно давать даром — особенно такую мизерную порцию.
Немного потом
Она опять приходила. Об этом не стоит думать. Она купила книжку и ушла, сказав только пару фраз. Она торопилась. Я еще долго чувствую ее запах — запах горько-сладкого яда.
Ее голос — шелест в ночной темноте.
Все. Достаточно.
Маленькие пауки на очень длинных тонких ножках пьют капельки электрического тока, сидя на «пилоте». К «пилоту» подключены касса и компьютер. Из-за электрических паучков у меня виснет поисковая система. Я сгоняю их щелчками. Они, в сущности, безобидные твари, пока маленькие. Один, правда, покрупнее: ростом с половину компьютерной мыши, ножки очень тонкие и высокие, на них видны напряженные сухожилия, как на ногах слонов у Дали. На пластмассовой головке — штук десять мутно светящихся красных глазок разного размера. Под глазками — пучок щупальцев, медных, блестящих. Эти существа питаются электричеством и готовы на все, чтобы украсть чуток. Они вечно заползают под шторку, самые маленькие снуют под ногами пассажиров, как сор; те, что побольше, пробираются вдоль стен, ползают под рельсами, где течет электрическая река. Изредка свет вокруг медленно тускнеет, почти гаснет… ну уж это самые крупные. Такие, я думаю, живут в ответвлениях тоннелей. Позволь такой твари присосаться к кабелю — и готово дело, напряжение падает на целой станции. Но электрички их пугают, поэтому крупное воровство выгорает нечасто.
Моя соседка, продавщица бижутерии, Марина, смахивает паучков тряпкой. Она их побаивается, убеждена, что от них можно получить удар током, если неловко дотронешься. Рассказывала, как раздавила одного — маленькая молния проткнула ногу насквозь, теперь у нее два шрама, на подушечке стопы и на подъеме, а из паука вытекла едкая темная жидкость — как из старой батарейки. Раньше были такие батарейки, большие, круглые, с коричневой электрической кровью внутри. Но я о пауках. Марина видела их паутину, когда работала на Старой Деревне. Паутина не для охоты, она загораживает проход в их жилища. Дежурная по станции рассказывала, как из такой выпутывали обугленный скелет, но я слабо верю в такое дело. Для того, чтобы убить током человека, нужен очень мощный разряд, а те, что создают паучки, не сильнее пьезы в зажигалке. Разве что в тоннеле…
У Марины выбеленные неживые волосы, глаза серые, круглые, лицо покрыто толстым слоем косметики. Наши отношения близки к приятельским. Марина рада, что я работаю поблизости, потому что боится метросексуалов. Я их гоняю, но, вообще-то, ее страх иррационален.
Метросексуалов не интересуют живые женщины. Это какая-то разновидность некрофилии — они либо просто тащатся от ощущения земли над головой и общей могильности вокруг, забиваются куда-нибудь в нишу и дрочат, либо кадрят мертвых.
Свежего мертвеца, наверное, сравнительно просто снять — у них такой жалкий, пришибленный и растерянный вид, блуждающий взгляд в никуда, разболтанные движения… Иногда недавно умерший ищет свой поезд часами, даже на станциях, где нет переходов с линии на линию. По большей части они — самоубийцы, но встречаются и исключения. Одна пожилая тетка все приговаривала, что «к сынку едет», а сынок, как я понял, умер в больнице, так что у тетки, наверное, случился сердечный приступ. Я здорово удивился, что она притащилась в метро. Потом уже сообразил, что в итоге ей надо в аэропорт, до Московской. Какие-то мелкие грешки, наверное. Я даже запирал шторку, чтобы посадить ее на поезд.
У нее была с собой хозяйственная сумка с апельсинами и чистым бельем. Забавная баба. Проездит некоторое время, конечно, но в итоге выберется. Вот другие
Товар привезли. Потом допишу.
20 янв.
А запах вовсе не просто так.
Дело в том, что где-то в тоннеле снова открыли те самые ворота. Это такие стальные створы, которыми обычно перегорожены пути, ведущие только туда. Там есть семафор, но ворота все равно закрывают. На всякий случай.
Но если откроют — оттуда запах. Всегда один и тот же. Растертой в пальцах ромашки.
Дело в том, что с одной стороны там нет стен. С другой — есть. Бесконечная стена, по которой идет электричество для поездов и еще для каких-то жутких вещей, эти бесконечные перепутанные кабели. Но за рельсами — до самого Стикса — поля. Иногда я вижу эти поля вдоль рельсового полотна почти наяву. Они, кажется, простираются без конца, поля под землей, которые никогда не видели неба — и ромашки смутно белеют в вечной темноте. Бледные, совсем без цвета, ни зеленого, ни желтого, но очень, очень ароматные. Она любит эти цветы, сегодня у нее в руках букет, завернутый в блестящий целлофан. Бледные цветы, ни живые, ни мертвые. Стебли тонкие и чуточку тронуты плесенью, но и плесень пахнет ромашками. Она чуть улыбается; ее губы густо накрашены бледно-розовой помадой, чтобы скрыть их естественный цвет.
Сегодня ей не нужна книга. Она пришла показать мне ромашки. Бравирует тем, что ходила в полях, из которых не возвращаются, или просто хочет меня напугать — не понимаю. Я слишком устал. Я весь — только обоняние и
А вдруг ей кто-то подарил этот букет
Все, все, все. Не будем об этом.
Уборщица устроила скандал. Я, видите ли, недостаточно плотно закрыл штору и плохо ее запер. Из-под шторы просачиваются слова, черт бы их взял! Ей пришлось перемывать пол из-за этой липкой дряни, всасывать ее в гудящий ящик на колесах, который она толкает перед собой.
Я все понимаю, но я-то не виноват. Я все запирал как следует. Просто привезли несколько ящиков с новыми детективами, совсем свежак, течет из них. Я жду — не дождусь, когда Донцова и всякие Бешеные-Косые-Кривые-Чокнутые выйдут, наконец, из моды. Слова, которые делает эта братия, распространяются хуже керосина. Ими всегда воняет вокруг, они просачиваются под штору, выливаются из ящиков, пачкают другие книги… Я поднимаю коробки с классикой в бумажных обложках повыше, но в дамские романы, в фэнтези, в современную прозу все равно много попало. Если кто заметит — будет ругаться, будто это я виноват.
Если бы из классики так текло, никто бы не жаловался. Только в хорошей книге слова — ограненные кристаллы. Они никуда не деваются, они вплавлены в страницы тонко и четко, как в оправу. Некоторые современные писатели отковыривают слова из старых книг, забирают себе… краденые слова выпирают, торчат, рвут страницы острыми углами. Для них нужна совсем другая оболочка. Тут на днях один мужик швырнул мне на прилавок книжку, где краденая фраза на первой странице прорвала бумажную обложку, а в дырки потекли слова автора и все в сумке перемазали. Ну да, гадость, гадость, и я так думаю. Но при чем тут я-то!
Я эту книжку даже обменять не могу, потому что не типографский, а издательский брак.
Впрочем, это еще полбеды. Если в метро запретят продавать книги, то не из-за слов, а из-за образов. Образы материализуются с поправкой на мир — и я не знаю, сколько времени могут продержаться в бытии эти бледные призраки. Нет, когда я вижу, что какой-нибудь очередной маньяк норовит выползти наружу, то втискиваю его обратно. Но боюсь, что кое-чему все-таки удается удрать, когда киоск закрыт и когда я сплю. Видал я одного — полупрозрачная тупая харя феноменальной гнусности. Призрак человекообразной гниды. Как запихнуть его назад, в книгу — понятия не имею.
И никак не удается внушить себе, что не мое это дело. Но, может быть, он и не вреден особенно.
Потом
Все-таки совсем неплохой мужик. Хотя мужиком его называть, по-моему, не совсем точно.
Смешно, ведь он ужасно не понравился мне с первого взгляда. День был не тяжелый даже, а какой-то глупый. Сначала эти цыгане, которые окружили киоск всем табором и громко вопили о чудовищном преступлении и вероломстве. Ха-ха, у них машину угнали! Им пришлось ехать под землей, а по дороге они решили затариться сборниками заклинаний и заговоров против воровства. Чтобы наказать вора, я плакал! Я нарыл им пачку этой дурной макулатуры, они отстегнули за всю пачку и ушли просветленные. И сами ровно ничего не стырили. Какие культурные, милые люди!
Смешно, когда цыгане покупают брошурятину с цыганскими заклятиями. Я-то, наивный, думал, что они сами знают в сто раз больше, чем написано в этой дешевке. Но, с другой стороны, быть может, им просто требуются тексты для вдохновения. И вообще — возможно, слова не главное, главное — кровь.
И этот мужик, в ответ на мои мысли, сказал, что я попал в точку. Главное — кровь.
Не понимаю, почему я не огрызнулся. Ведь, пожалуй, что-то педерастическое в нем было. Этакая подчеркнутая жеманность — не жеманность, но переутонченность. Высветленные волосы в его лет сорок пять — пятьдесят, очки в золотой оправе. Перстень с совершенно безумной геммой из матового черного камня. А главное, вкрадчивая мягкость, такой доверительный тон, сниженный голос, будто говорится что-то запредельно интимное. Все это в первый момент показалось ужасно противным, особенно когда он нагнулся, и я увидел, что у него за очками на левом глазу — форменное бельмо, или как это там зовут? Глаз бледный, без зрачка — но он в оба смотрел на меня. Передернуло.
Я же хотел его послать. Точно хотел. Но передумал уже через минуту, когда мы оборжали новую книжку фэнтези. Русское фэнтези — как русское порно, бессмысленное и беспощадное, сказал он. И цитнул Успенского. И сказал, что на Харитонова, натурально, кое-кто в Инобытии имеет зуб за разглашение тайн, которые он непонятно как узнал. Через пять минут мне уже не было неприятно. Меня неким образом к нему потянуло — и уж с гомосексом эта тяга стопудово не имела ничего общего.
Совершенно непонятная сила окружает его, как магнитное поле. А у меня, похоже, подходящий полюс. Соответствующие — притягиваются. Не соответствующие — отталкиваются. Такие дела.
Я еще тогда заметил, что его запястья забинтованы полосками черной ткани, но кровь все равно видна, проступает на черном более темными пятнами. И при том он нисколько не напоминает потенциального самоубийцу, такой всепонимающий и спокойный. На его руках всегда красуются эти повязки — на свежих порезах. Потому что главное — кровь. Ему время от времени нужна кровь для каких-то труднопонимаемых дел. Он — не Харитонов и не намерен ничего разглашать. И совершенно ничего не боится и ничему не удивляется.
Это он мне сказал, что метро было всегда.
Я ляпнул что-то о юбилейных плакатах, а он хихикнул и выдал, что русские люди из любви к юбилеям могут отмечать и юбилей луны, если она подвернется им под руку. И что метро — не ровесник цивилизации даже, а просто существует между мирами с запредельной древности, чуточку меняясь, когда меняются обстоятельства.
Зыбкие дороги, сказал он. В большинстве мест подземка называется так. Зыбкие дороги.
Почему — зыбкие, спросил я.
Потому что иногда их почти нет, разве ты не знаешь? А иногда они сами по себе меняют направление. Электрички — это очень, очень свежая идея. Раньше тут… были другие средства передвижения, сказал он. И я как-то постеснялся спросить, какие именно. Но потом спрошу.
Считается, продолжал он, что метро — это достижение сталинских пятилеток. Ну, коммунистам не привыкать стать прибирать к рукам всякие темненькие штучки из тех, что побезопаснее. У некоторых из этой братии было совершенно упырье чутье. Наверное, копаясь в земле для других дел, они наткнулись на Зыбкие дороги и решили хорошенько это использовать в собственных интересах. Ты только посмотри, как здорово все устроилось. Как гармонично. Люди с большим вкусом.
Чем старше станция, тем больше она похожа на исключительно шикарный склеп. Очень, очень атмосферно. Тебе плохо, спросил он.
Мне немного нехорошо.
Значит, мне пора идти, сказал он. Я еще загляну. Мы еще поговорим. Ты чувствительный. Вряд ли тебе полезна эта работа. Надеюсь, ты не задержишься тут надолго.
Я не собирался уходить.
Тогда тебя уведут, сказал он. И купил свой первый детектив в мягкой обложке. Потом он заходил часто. Иногда ловлю себя на мысли, что жду, когда зайдет снова.
Поговорить.
янв.
Я стою и нюхаю лилии, пока продавщица не тыкает меня взглядом, как палкой. Твердым таким, тупым взглядом. Это здорово неприятно.
С одной стороны, я ее понимаю. Она работает в пристройке к метро, так что не принадлежит к «детям подземелья». Представляю, как выгляжу с ее точки зрения! Этакое бледное серо-зеленое привидение с красными глазами, морлок в пыльной безрукавке типа «ватник», тень вечной мерзлоты, грязь под ногтями, грязь в порах кожи. Под землей это не так заметно, но тут, в цветочном магазине, такой нереально яркий свет, такие чудесные цвета и этот воздух, блестящая бумага хрустит… Здесь я — клякса на белом фоне. А продавщица такая холеная, гламурная барышня.
Видела бы она ту! Ах, черт, молчу, молчу, молчу.
Лилии, правда, тоже не чересчур живые. Хоть это и пристройка к метро, все-таки местечко, имеющее отношение к метро… но, с другой стороны, может, это и не важно. Может, это просто кусок того вранья, которого наверху даже больше, чем внизу. Ведь внизу-то все вранье сконцентрировано только в желтых газетах и глянцевых журнальчиках, которые продают рядом, а наверху вранье везде, куда ни глянь.
Вот взять эти лилии. Думаете, где-нибудь там есть такой громадный сад, где они все и растут, а? Эти лилии, эти розы, темные и тяжелые, как бархатные портьеры, эти самурайские хризантемы и орхидеи в виде мотыльков на палочке? Такой сад, роса, солнце… небеса голубые и глянцевые, под небесами — девушки, которые срезают цветочки дачными ножницами и составляют букеты, такие загорелые лапушки, золотые, хохочущие… юбчонки взлетают над голыми коленками…
Это же все обман. А вы и поверили? Ведь они же, эти цветочные сироты, выросли в запертом бункере, под лиловым мертвенным светом, в пластиковых гробах, полных гнилых костей и яда. Их обманули и заставили, солнца они никогда и не нюхали, они тоже своего рода дети подземелья. Вынеси их на солнце из этого гламурного искусственного сияния — они поразятся до невозможности и умрут от счастья и тоски так быстро, что вы и ахнуть не успеете. А сейчас они только и могут, что пахнуть — и исходят на запах, никакого другого смысла в их жизни нет. Запах — это же их последняя надежда на любовь, нет?
Но они все равно мне нравятся. Мертвый воздух они делают очень, очень похожим на живой. Я прихожу сюда подышать, когда кажется, что воздух метро меня вот-вот убьет — и воскресаю на некоторое время. Лилии пахнут так, что я вспоминаю запах той, хотя сравнить, конечно, нельзя. Разве что голова кружится, я пьяный лилиями, я вспоминаю…
Больше никого в магазине нет. Я мешаю, время обеда, продавщица голодна. Она смотрит на меня раздраженно, вытаскивает из-под кассового столика еще теплое человеческое сердце, завернутое в лаваш, и ест, запивая суррогатным кофе. Запах синтетических сливок портит мне праздник. Как можно пить такую дрянь? Я выхожу из магазина и спускаюсь под землю. Успеваю полаяться с дежурной — «есть жетон — нет жетона». Какого дьявола я, подземельная тварь, с бейджиком, на котором все написано, должен поминутно платить за спуск?
Интересно, перед кем они отчитываются за эти медяшки? Ха, почти все дежурные искажены в высоту, маленькие и коренастые, их тела сплюснуты сводами подземелья, а в лицах есть нечто от бульдогов или мопсов. Впрочем, это совершенно нормально для гномов, просто, когда в первый раз видишь тетку-гнома, здорово удивляет. Я же раньше думал, что у всех гномов бороды, все такое. Детские сказки.
22 янв.
Олег Борисович показал мне, как выжимать кровь из детективов.
Больше всего ему нравится Харрис. Он вырывает страницы из «Молчания ягнят» и выжимает над аптечной мензуркой. Страницы медленно набухают кровью, потом она стекает тяжелыми темными каплями. Почти черная кровь, как венозная.
Очень удачный источник, говорит он. Лучше использовать западные книги. В наших кровь обычно смешана со спермой в таких пропорциях, что ни на какую надобность не годится. А в некоторых — и с дерьмом. Женские детективы вообще не подходят; они делаются из другого материала.
Я спрашиваю, почему у меня оттуда только слова текут.
Олег улыбается. Улыбка славная, доброго, умного человека. Старается стоять так, чтобы его белесый мутный глаз не действовал мне на нервы — а может, ему просто так лучше меня видно. Говорит, что дело в руках. Мои руки для выжимания крови не годятся. Был ли я в армии, а?
Нет, не был. Косил. Собственно, и сейчас кошу.
Ты — пацифист, спрашивает он. Смеется.
Не то, чтобы. Но ударить человека мучительно. С другой стороны, возможно, застрелить было бы легче.
Ему очень смешно. Он бросает окровавленные скомканные остатки книжки в урну, затыкает мензурку пробкой и прячет в портфель. Из портфеля пахнет выраженной тухлятиной.
Что это, спрашиваю я.
Рука славы, отвечает он.
Я хочу посмотреть, говорю я. Я только читал о таких вещах.
Хорошо, говорит он. Можно положить на прилавок?
Я вытаскиваю из-под кассы пачку бесплатных газет, кажется, «Асток-пресс». Олег кладет на них завернутую в точно такую же газету руку мертвеца, разворачивает с самодовольным видом. Рука синюшно-розового цвета, как лежалая потрошеная курица, срез потемнел, только кость белеет. Чисто вымыта, как курица.
Настоящий самоубийца, говорит он с гордостью. Думаешь, я ее отрезал? Это ее — поездом, чистенько, да? Голова застряла между колесом и предохранительным щитком, ее ломом выковыривали. Всего-то дней пять назад, на Петроградской.
Зачем вам, спрашиваю я.
На всякий случай, говорит Олег. Мало ли, где придется побывать. Хорошо помогает от чумы и от сглаза. Способствует общению… ну, тебе неинтересно, с кем. Я ее доведу до ума, будет вполне приличный оберег. Смотри.
Он переворачивает руку ладонью вверх, проводит длинным белым пальцем вдоль линии жизни. Рука конвульсивно вздрагивает, пальцы скрючиваются, почти сжимаясь в кулак. Меня мутит.
Олег улыбается, заворачивает руку в газету. Вовремя. Он как раз сует сверток в портфель, когда подходит дама средних лет, чтобы купить пачку дрянных женских романов. Дама косится на некроманта, он улыбается галантно, как французский дворянин восемнадцатого века.
Я рад, что он ко мне приходит. Нельзя сказать, чтобы он много покупал, но мне нравится с ним общаться. Тут, под землей, он один из самых адекватных покупателей. А некромантия, в конце концов, гораздо менее неприятная вещь, чем уринотерапия.
Поклонников уринотерапии я не выношу. Они вызывают у меня непреодолимую брезгливость: то ли мне кажется, то ли в действительно у них изо рта несёт, как из унитаза в загаженном подземном сортире. Они серо-желтые, но ужасно самодовольные — и норовят обсуждать свой оздоровительный метод со мной и друг с другом. Разговоры их возбуждают; я в такие минуты тихо счастлив, что грохот поездов не дает мне расслышать все пикантные подробности. Только профессиональный долг мешает мне сказать кому-нибудь из них, что от множества болезней еще отлично помогает жеваное дерьмо — только непременно надо жевать его друг другу. Интересно, воспользуются ли, хотя бы из любопытства? Чем может брезговать подобный экземпляр?
Чистюля-некромант, разумеется, не напоминает их ни малейшим образом, он себя уважает. Любопытно было бы посмотреть на зомби. Я хочу намекнуть ему, но он уже отошел и рассматривает газеты в соседнем киоске.
Вероятно, выжимает кровь из криминальных хроник тоже… хотя там она, наверное, пополам с дерьмом, спермой плюс соплями и не годится для его работы.
Вроде, суббота
Правда, сырость хуже, чем любой мороз?
Наверху гаже, чем внизу — уникальный случай. Вчера работал почти наверху, в вестибюле Петроградской. Большая невезуха. Во-первых, киоск просто разваливается на части — шторки прилегают неплотно, листы оргалита прибиты, как попало — в зазоры кое-где можно просунуть ладонь. Зверски дует, я замерз. Во-вторых, продавец, которого я подменяю, вообще никогда не вытирает пол. Матюги, протекшие из контркультурной прозы и детективов, намертво присохли к полу и воняют кислятиной. Принципиально не убираю.
В-третьих, самое худшее — стенка к стенке стоит киоск, где продают музыку. Продавец, чтоб ему лопнуть, без конца крутит диск Кати Лель: муси-пуси, пуси-муси, сладенький мой. Шестнадцать часов подряд — это хуже, чем любые матюги, это пытка «музыкальной шкатулкой», я стучу в стенку, я обещаю набить морду. Сосед говорит, что его начальство требует рекламы. Я его ненавижу, я ее ненавижу. За шестнадцать часов эта мерзость почти материализуется, покачиваясь, висит в мертвом воздухе, крутит задом и облизывает пальцы. Телевизионное привидение.
Я завидую некроманту. Мне тоже нужна рука славы; говорят, она хороша от просачивающихся всюду телевизионных миазмов. Но у меня мало друзей и нет связей ни в одном путном морге, а без связей такую вещь не достанешь… и потом, я не умею ее настраивать. Я борюсь с нечистью кустарными способами — выкинул телевизор и стараюсь отплевываться, когда рядом маячит какая-нибудь телегадина. Получается не очень хорошо, вероятно, я не знаю чего-то принципиального.
А у вас нет книжки про «Дом-2»? А почему?!
Телевизор — самый тяжелый наркотик. На нем сидят все; начнешь разговаривать с покупателем, думая, что он нормальный человек — а фигу, теленаркоман. Реклама, сериалы, шоу, концерты — все пускается по венам, мозг превращается в телетранслятор, через некоторое время клубок цветных щупалец копошится в голове, дожирает остатки серого вещества — ведь думать уже невозможно, а там, где пустота, всегда заводится всякая дрянь. Редкий день проходит без того, чтобы рядом с киоском кто-нибудь не блеванул телепередачами — и всегда в луже блевотины пивные пробки и клочья женских гигиенических изделий. Лучше не смотреть, а то самого вывернет.
Молодой человек, а у вас нет книжки вот этого милого ведущего? Ну как же, он по первому такое шоу ведет… Как — не смотрите?!
Слышь, мужики говорят, по фильму «Обитаемый остров» уже книжку выпустили. Правда?
Ну и местечко… Хоть бы один человек порядочную книгу спросил…
Вчера я так устал, что испортилась погода. Этот гнилой зимний дождь в темноте — штука такая страшная, что под землю почти хочется. Внизу всегда сухо, даже когда наверху сырость пробирает до костей. Я кипячу чай, мои ботинки промокли, меня знобит. Я автоматически продаю детективы утренним пассажирам — они серые, сонные, даже обложки не обтряхивают. Метро пьет из них; я видел в вагонных окнах такое, что по утрам, как и все, теперь утыкаюсь в книжку. О некоторых вещах лучше не знать — я больше не смотрю, я читаю Акутагаву, я читаю Шаламова, я читаю Кортасара, но последний плохо помогает.
Я сижу на обшарпанном стуле с кружкой в руке, как господин Мозес, я сплю и продаю, я знаю, что тоже серый, сонный, что глаза у меня такие же плоские и тусклые, как у всех, что я небрежно выбрит — и мне все равно. И тут подходит она.
Она реет в мертвом воздухе, ее лицо неоново светится, из косметики — только помада, бледно-розовая помада, губы закрашены девственным цветом, главное — глаза, темно-вишневые, ресницы — стрелы, направленные…
Я не могу больше, я стараюсь не думать, я стараюсь только быть вежливым.
Жестом фокусницы она вытаскивает из томика Джейн Остин букет призрачных дымных роз, улыбается. Багровый туман клубится вокруг неонового лица, собираясь в темные цветы. Она кладет на прилавок сторублевку, на деньгах еще минуту холодным неоновым светом горят отпечатки ее пальчиков. Хочу поцеловать ей руку, она смеется, отстраняется, уходит.
За ней тянется шлейф горько-сладкого запаха. Подземный опиум, мой подземный опиум. Запах темно-золотой, он медленно тускнеет и тает; грохочет поезд — и вокруг уже пахнет только что разрытой землей. Но и это не больше, чем на минуту.
Вот чем еще на Просвете лучше, чем на Петроградской. Тут уже знакомые, время от времени заходит кто-нибудь, кого приятно видеть. С Просвета ездят она, некромант, милая дама, любящая японскую классику, симпатяга-грузин, который никак не теряет надежды найти «Витязя в тигровой шкуре» в оригинале, молоденький парнишка, фанат Паланика… Иногда пять минут разговора возвращают силы, которые сожрали пятьдесят предыдущих покупателей. Я все думаю: упырье действительно такое тупое или прикидывается, чтобы эффективнее питаться?
Хотя, какое мне дело?
Молодой человек, мне нужен коричневый учебник по экономике.
Простите, но это не ко мне. Нет учебников.
Ну тогда почитать что-нибудь неглупое. Коэльо, например.
Благие небеса… час от часу не легче.
Какие страшные лица у пожилых людей… особенно у женщин. С возрастом верхний слой стирается, душа начинает заметно просвечивать — и ох… У молодых кошмарные души все-таки хорошо скрываются косметикой, их почти не видно, если не приглядываться, но у старых удивительно дрянные штуки торчат наружу. Особенно бросается в глаза тупая агрессивность.
Из мертвых она уходит. Они — как пустые емкости, разве что иногда в них горохом гремит пара последних мыслей. Не остается даже страха.
Несут кота в контейнере для переноски котов. Кот кричит. Кошки видят и понимают все, ему страшно. Я бессильно сочувствую. Слышно, как он кричит, даже с эскалатора.
Интересно, кот черный?
янв.
Сортир на Просвете чище, чем где бы то ни было. Не то, что на Сенной — длинный коридор увешан гирляндами дохлых крыс, идешь мимо этих крыс, нюхаешь, смотришь, как они тебе скалятся… То ли местный оберег, то ли просто работяги развлекаются. Запах нестерпимый. Дурацкий способ развлекаться. Я бы поостерегся связываться с крысами.
Неважно.
На Просвете крыс почти нет, но ими все равно пахнет. Заметно. Стены сортира крашены в желтый цвет. В единственном унитазе блестят три новеньких гривенника, как в фонтане, к которому кто-то пожелал вернуться. На стене — трехбуквенная формула. Электрический паучок присосался к лампочке, а она и без того тусклая.
Хотя, вообще-то, свет под землей всегда ярок, но нерезок, будто пылью присыпан. Если долго работаешь в метро, этот свет начинает вызывать дурноту уже через час после начала смены. Но мертвым нравится; наверное, им кажется, что он настоящий.
Я иду к киоску. Сзади кто-то орет, называя меня по имени.
Приятель. Что ему может быть нужно от меня? Мы давно не виделись.
Ты так и сидишь в своем метро?! Тоже мне работа! Книжки перекладываешь?!
Восклицательные знаки торчат из него, как антенны. Он розовый и пухлый. Я не понимаю, чего он от меня хочет. Он растягивает губы и округляет глаза — эта гримаса меня раздражает, в ней нет ничего общего с улыбкой. Он ужасно много говорит.
Кого-то взорвали в метро. Он слышал по телевизору. Тоже мне новость. Умирают везде — глупо было бы думать, что никто не умирает в метро. Я слышу кислый и дымный запах войны; призрак электрички корчится в неживом свете, превращаясь в окровавленную арматуру. Мертвецы, конечно, никуда не деваются; тела увозят — но они сами остаются, неприкаянно шатаются по перрону. Ждут своего настоящего поезда; иногда — страшно долго.
Зло в метро — обычная вещь. Но мне все равно остро жаль взорванных мертвецов: из-под земли тяжело добраться до аэропорта, даже если положено улететь.
Упыри, говорю я.
Приятель договаривает какой-то бред о видеозаписях, о милиции, о женщинах, которые выглядели не так, как им положено — и вдруг, резко заткнувшсь, смотрит на меня.
Какие упыри, спрашивает он.
Ты же сам сказал, говорю я. Женщины. Мертвые женщины, которые убивали живых женщин. В Москве, да? Я не выношу упырей, меня от них выворачивает.
Ты больной, орет он. И начинает нести какую-то чушь про торговлю мобильными телефонами, про бонусы, про деньги, про клубы и про телок. Про то, что мне надо работать наверху. От него отвратительно пахнет пивом, патентованным дезодорантом и телепередачами. Мне хочется с размаху опустить шторку ему на пальцы.
Наверху — клубы и телки. Внизу — книги и она. Но о ней в присутствии этого урода — я ни звука, ха-ха! Я не такой псих, чтобы распространяться с человеком сверху о подземных делах.
Но почему бы ему не убраться? Неужели он не видит, что я не хочу с ним общаться? Он — какой-то инопланетянин; мне кажется, или он говорит о телешоу? Неужели живой человек может об этом говорить? Или — это не телешоу, а что-то из его собственной жизни?
Бред… Неужели нужно послать его матом, чтобы он ушел? В метро чревато материться — призрачные причиндалы будут торчать вперемежку с лампами на эскалаторе, пока их не сотрут вместе с пылью. Кому-то забавно, подростки хихикают, но меня бесит.
К киоску подходит пес Ваня. Он, я думаю, помесь овчарки с дворнягой, немолод, уже обрюзг, но у него замечательные глаза, всепонимающие. Он ездит сюда с Московской, к продавщице шавермы, которая угощает его обрезками.
Привет, Ваня, говорю я.
Привет, говорит он и ухмыляется, показывая язык. Колбаса есть, спрашивает он.
Я снимаю кусочек колбасы с бутерброда. Ваня почти не голоден и страдает отсутствием аппетита по старости и нездоровью, но ему хочется, чтобы мы были чем-то связаны. Он деликатно берет колбасу у меня с ладони и неторопливо жует.
Как дела, спрашиваю я.
Видел ее в Купчино с каким-то хлыщом, говорит он. Замечает, что я огорчен, и добавляет: этот тип похож на нее и пахнет почти так же. Может, брат.
Да ладно, говорю я. Я ни на что и не рассчитываю. Как сам?
Ничего, говорит он. Поясница побаливает; ревматизм. Ночую теперь на вокзале, у обогревателя. На улице слишком холодно.
Я слушаю и жалею, что не могу позвать Ваню к себе: нас вдвоем выгонят из моей комнатушки коммунальные соседи. Да и тяжело ему будет сидеть дома по шестнадцать-семнадцать часов, пока я под землей. Он любит свежий воздух.
А бродяжничать ему уже не по годам…
Ладно, будь, говорит Ваня. Мне пора.
Я ему улыбаюсь. Он уходит к эскалатору. Я гляжу ему вслед и вдруг понимаю, что все это время мой приятель что-то говорил. Стоял рядом с киоском и говорил. Просто так, в пустое пространство — абсолютно пустые липкие слова, которые всегда отрыгивают заядлые теленаркоманы.
Хорошо, что подходит покупатель.
Это трепло, наконец-то, соображает, что я занят, затыкается и уходит. Я продаю Перумова, я продаю Олди и Стругацких и улыбаюсь парню, который складывает все это в рюкзак.
Дождавшись, пока он уйдет, достаю баллончик с распылителем — там жидкость для очистки поверхностей. Достаю тряпку, выхожу из киоска и опрыскиваю стенку, заплеванную словами моего приятеля — странно, у него же, наверное, есть имя, а я не помню, хоть убей — тщательно опрыскиваю. Потом стираю эту мерзость тряпкой.
Не люблю, когда киоск снаружи грязный, да и уборщица ругается.
25 янв.
Спать-то как хочется, мама родная…
В кипяток — пару пакетиков отвратительного кофе, растворимого, но без искусственных сливок. Брр-р, отрава! В него — плюх настойки элеутерококка и настойки женьшеня. И горсть сахара. Ядерное пойло. «Адреналин Раш» кустарного производства — от глотка глаза выскакивают на стебельках, как у краба, но просыпаешься.
Горячее — это хорошо. Холодно, ужасно холодно
Бегут на работу. В утренний час пик даже мертвые суетятся — делают вид, что им тоже куда-то надо. У живых женщин лица нарисованы прямо поверх пустоты, из которой они еще не вернулись спросонок; у мужчин часто вообще нет лиц — мутные плоские лепешки, даже глаз не видать. И лица не появятся раньше, чем вся эта публика выйдет на улицу.
Хотя… там все равно солнца нет.
Молодой человек, а у вас нет такой книжки в зеленой обложке? Очень интересная. Не помню, как называется. И про что, не помню. Автора я не посмотрела. Но мне очень понравилось.
Слышь, пацан… а во второй части Хмырь Горбатого замочил или в третьей? Забыл уже…
Ой, молодой человек, а мне дали одну книжку почитать, а там порнография. Такая гадость. Лоуренс написал. Любовник какой-то леди. Один секс. Эти современные писатели пишут такую грязь…
Мне бы Лондона, «Белый клык». В школу ребенку… У-у, какая толстая! Такую она читать не будет. У вас потоньше нет? В половину потоньше, а лучше — вот такую? Нет? Молодой человек, я не об этом. Ту же самую книгу, только наполовину тоньше!
Дробовик мне под прилавок… Эхе-хе…
В нашей работе хуже всего постоянное вранье. А если ты не врешь, то тебя жрут.
Забавно. Если ты продаешь тухлую колбасу и предупреждаешь, что она тухлая — поблагодарят, но попробуй, предупреди, что книга протухла! Ха…
У меня под прилавком ящик с новыми детективами. За сегодня раскупят. На прилавке — стопка сопливых романчиков, тоже свежак. Книжки такие хорошенькие — их хочется подержать в руках, как в детстве — фигурку из киндер-сюрприза. Такие же гладенькие и яркие. А внутри — гнилая пустота, обман. Откроешь — и тут же хочется захлопнуть и помыть руки.
Мой сменщик держит под прилавком фунфырик «Тройного одеколона» — протирает ладони и лицо после особенно мерзких книжек. А после упырей еще и лоточек для денег протирает. Неплохой парень, но брезгливый до смешного — наверное, ему непросто живется на белом свете. Рядом с одеколоном лежит его Бредбери, старая книжка, года восемьдесят лохматого — противоядие от Доценко. От темно-зеленой обложки исходит еле заметный свет и тонкий-тонкий запах сандала — таких нынче не выпускают, отличное было издание. На макулатуру раньше распространяли…
Хорошая книга, молодой человек, спрашивает подошедшая дородная дама. У нее в руках томик с миленьким орнаментом из цветочков и тоненьких розовых червей. Гламурное женское чтиво, модная книжка. То ли детектив, то ли что…
Барахло, говорю я. Еще шальной с утра. Чтобы начать врать, надо проснуться.
А раньше у нее были хорошие книги, говорит дама, глядя на фотографию автора — такой же дамы с лицом из сдобного теста, с ярко-красным ртом и выбеленными волосами.
И раньше были барахло, говорю я. Всегда были барахло.
Знаете, что, взрывается дама, держите свое мнение при себе! Хам!
Швыряет деньги, забирает книгу. Длинные розовые черви на обложке и внутри шевелятся от тепла руки, ползут по тыльной стороне ее ладони, заползают в рукав. Дама улыбается от щекотки. Она еще упаковывает в сумочку бумажник из псевдокрокодила, когда первый червяк добирается до ее шеи, осторожно минует двойной подбородок и втягивается в ноздрю. Дама делает сосредоточенное лицо, вдыхает его, как наркоман — кокаиновую дорожку. Я отворачиваюсь. Мне уже тянут деньги за пару детективов. Слепой и Бешеный.
По дороге на работу у тебя будет хорошая компания, мужик. Только в вагонное стекло не смотри. Можешь увидеть
Да черт с тобой!
Сегодня толпа… с чего бы?
конец смены
Она идет мимо, к электричкам, а я закрываю киоск.
Она оборачивается, кивает, идет дальше. Я дергаю ключ из шторки, сую в карман, иду за ней. Шагах в пятнадцати.
Ее каблучки цокают по мраморным плитам. Длинная юбка, темная, бархатистая ткань — ножек почти не видно. Тоненькая фигурка, очень прямая спина. Хрупкая, как статуэтка из цветного стекла. В сухом стоячем воздухе медленно плывут ее темные локоны. Я
Не могу заговорить. Нет сил окликнуть. Она проходит мимо запертого киоска «Метропресса», мимо запертого стенда с бижутерией, мимо безразличного мертвеца, сидящего на корточках, мимо подростков, которые тискаются в нише — к электричкам. Я впервые вижу ее, не запертый собственным прилавком.
Пустой перрон.
На этот поезд посадки нет, говорит механический голос. А почему открылись двери?
Она входит в вагон. Я стою и смотрю, как она садится и вынимает из крохотной сумочки маленькую книжку. Томик стихов?
С перрона плохо видно.
Двери вагона начинают закрываться, сдвигаются страшно медленно — я проскакиваю между ними фокусным движением. Она в одном вагоне, я — в другом; между нами — стеклянные окошки, вагонный стык. Я сажусь на самое крайнее сиденье.
У нее книжка Тэффи, «Черный ирис, белая сирень», оформленная картинками Мухи. Издание редкой элегантности. Надпись на обложке не прочесть, но формат нестандартный и общий вид ни с чем не перепутаешь.
Электричка ныряет в темноту со стонущим гулом, скулит и громыхает. В грохоте и вое растворяются все звуки. Густой желтый свет стоит в вагоне — и я вижу ее точеное белое лицо через два стекла. Она читает и улыбается. Хотел бы я думать, что она
Долго, долго, долго. Такие длинные перегоны, вообще-то, редки на нашей линии; если только в сторону Приморской — но как бы эта электричка могла там оказаться? Мне уже кажется, что время остановилось совсем: мы с ней, разделенные двумя стеклами и вагонным стыком, застряли в этой минуте, наполненной желтым грохочущим воем, как мухи в янтаре. Навсегда.
Мне хорошо от этой мысли.
Но тут поезд замедляет ход и останавливается. Механический голос неразборчиво объявляет незнакомую станцию.
Она сидит и читает, я тоже не двигаюсь с места. Станция совершенно мне не знакома — какой-то жутко обшарпанный, зашорканный вестибюль, желтовато-серый ноздреватый камень толстых колонн, низкий потолок. Название я не расслышал. На этой станции вваливается неожиданная для позднего времени толпа, она заполняет вагон едва ли не битком.
Из-за качающихся тел мне почти не видно ее — в другом вагоне тоже давка. Что случилось на ночь глядя?
На первый взгляд, в толпе полно мертвецов и упырей, даже больше, чем обычно. Мертвый, стоящий передо мной — наверное, катается в метро уже не день и не два: кусок почерневшего лица отвалился, я вижу кость скулы, светлую в черном мясе; он держится за поручень тремя уцелевшими пальцами, кисть раздулась. Никогда такого не видел: вправду похоже на ходячий труп, а не на бледный след ушедшей жизни, как обычно. Жутко смотреть. От него несет падалью и мятной жевательной резинкой — а мне некуда отодвинуться. Рядом плюхнулась тетка, занимающая все остальное место на этом коротком сиденьи, и колышется с каждым движением поезда, как прибой в океане. Ее серая туша упакована в серую дубленку — иначе она, наверное, растеклась бы по всему вагону. Какие-то темные пальто, набитые окоченевшим мясом, висят над ней; из воротников торчат головы без лиц.
Случайно встречаюсь взглядом с мертвым. Непроизвольно вздрагиваю.
Он — живой!
У него насмешливые светлые глаза. Он смотрит на меня с печальной улыбкой, смущенно. Ему неловко, что я вижу его череп сквозь гнилую плоть — ну бывает же неловко людям, случайно прорвавшим дыру на рукаве или заметившим, что у них на воротнике перхоть.
Мало того, что он — живой, он еще и не теленаркоман. У тех не бывает такого взгляда, всепонимающего, смущенного и грустного. Меня вдруг окатывает стыдом. Я пытаюсь уступить ему место; он отрицательно мотает головой — и волосы, слипшиеся от позеленевшей сукровицы, раскачиваются одним запекшимся колтуном.
Я впадаю в долгий ступор, пытаясь понять, как совместить этот вид и этот взгляд — но тут в вагоне начинается драка. Двое бугаев в спортивных куртках сцепились с высоченным худым парнем в длинном плаще а-ля Нео. У бугаев круглые красные рожи, глазки-изюминки и глубокие черные рты. С худого сбивают темные зеркальные очки — две внимательные змеиные головки смотрят из его пустых глазных впадин. Бугаи, ворча, отступают; мне кажется, зрелище их впечатлило. Худой поднимает очки, кривит безгубый рот, отряхивает плащ, пробирается к дверям.
Электричка останавливается. Станция мне совершенно незнакома, но роскошна, как те, что делались в сталинские пятилетки. Тяжеловесная, угрюмая роскошь. И я, рассматривая колонну из черного мрамора и стекла, вдруг вижу, как она идет по перрону к выходу в город.
Вскакиваю с места, толкаюсь и шепчу ужасные слова. Бабка-баньши визжит мне вслед так, что ломит виски и горит спина. Я еле выскакиваю из поезда, помятый и воняющий псиной от прикосновений мертвецов.
Ее уже не видно — дошла до эскалатора и поехала вверх.
Бегу за ней, чувствуя себя идиотом. С наверший стеклянных колонн слащаво улыбаются бронзовые безглазые лица. Пол — черный, гулкий, похожий на плиты вулканического стекла. Пустынно. На мраморной скамейке расположился веселый бомж и играет на баяне «Раскинулось море широко» — мелодия гулко отдается в высоких сводах.
На электронном табло — «00.13.13» — и секунды растянулись так, что я вижу эти цифры целую минуту, пока бегу. А потом — эскалатор.
В щелях между ступенями шевелится и светится обычное адское.
Ну, может, и не адское, на самом-то деле.
На движущемся поручне — заиндевевший след ее пальчиков.
Наверху
Это ужасно далеко. Вернее, я ехал ужасно долго. Кажется, зима уже кончилась.
Наверное, все-таки это только кажется. Холодно, даже очень холодно. Снег кругом лежит и все так, как должно быть, но сквозь резкий запах снега я слышу этот дымный, терпкий весенний аромат. Я выхожу из метро — и первое, что вижу — луна, бледно-золотая, апрельская луна, которая смотрит с зимних небес. Луна мне хорошо знакома, подруга, можно сказать.
Остальное — нет.
Вокруг очень обычная площадь с ночными ларьками. Рекламные щиты. Кольцо маршруток; автобусы брошены и неподвижны, на лобовом стекле ближайшего — номер 666, но не светится. Я, хоть убей, не помню, где ходит такой маршрут.
На рекламном щите в ослепительном электрическом свете сияет роскошный, черного, наверное, дерева, гроб, наполненный кружевами и атласом. Он сфотографирован в интерьере склепа под евростандарт, с резными панелями и узким окном, из которого падает лунный луч. Завлекательная надпись гласит: фирма «Ахерон», десять тысяч лет на рынке. Покойся с миром.
Я улыбаюсь.
На темной стенке ларька под классической трехбуквенной формулой маркером крупно написано «Ван Хельсинг, ты убийца!» Под надписью спит бездомный пес.
Ее, разумеется, нигде нет. Пустынно. Интересно, где мне сегодня ночевать? Я впервые тут. Как я мог так сорваться, как школьник? Зачем? Никогда я так себя не вел. Что меня нынче дернуло?
Приступ романтики. Идиот.
Но я шел, как загипнотизированный. Меня позвали, молча, почти не глядя в мою сторону. Но призыву нельзя было противиться.
Волчица, за которой убегают в лес клондайкские псы. Чтобы их там волки съели. Я — пес. В голову лезет законченный бред.
Я вхожу обратно в вестибюль метро. Передо мной схема линий, светящийся щит, на котором нарисовано множество запутанных и переплетенных цветных полосок со стрелками. Мне бросается в глаза название «Сумеречный привал» — переход к поездам до станций «Золотые ворота» и «Прибрежная». Я ничего не могу понять. Мне все это незнакомо. Это не Питер.
Это — Зыбкие Дороги. Кроличья нора чертовски глубока, и у нее множество отнорков. Я провалился по самые уши. Как вернуться — я понятия не имею.
Я читаю название этой станции — «Волчий проспект». Металлические, старосоветского образца, буквы врезаны в темно-серый мрамор над кассами. Никаких тайных знаков. Этой станции в нашем Метрополитене нет, но она есть. Это — Питер, но другой Питер.
У Города такое множество отражений, что в них легко заблудиться. Я брожу по зеркальному лабиринту. Не увидеть бы своего двойника — это было бы дико неприятно.
Я перебираю в кармане жетоны метро. Я не знаю, куда ехать — и снова выхожу на улицу. Я совершенно потерян. Я чувствую себя усталым и разбитым, страшно хочется чего-нибудь горячего и спать. Я хочу домой, но даже не представляю себе, что делать, чтобы туда попасть.
У меня в кармане карандаш, эта тетрадь, свернутая в трубку, и бумажник. Я чувствую, как в тетради проявляются слова, появившиеся в моей голове. Это меня странным образом обнадеживает.
В одном из отражений Города я — бомж. Может, есть еще одно — где я и она…
Об этом сейчас лучше не думать.
Ночь
Подхожу к ночному ларьку. Продавщица заспанная и бледная; у нее приятное, но серое лицо и блестящие глаза с красными прожилками.
Крысиную кровь, молодой человек, спрашивает она.
Небогато, говорю я. Крови девственниц нет?
Продавщица смеется.
Болван, говорит она. Иди проспись.
Джин, говорю я.
Она хохочет. Осторожно вытирает глаза, чтобы не смазать черные стрелки.
Джин с тоником, говорю я. Джин. Вот что мне нужно. Купить, я имею в виду. Джин — не старик Хоттабыч, а напиток такой. В банке. Не в сберегательном банке, а в жестяной такой баночке. Это возможно?
Она закатывается. Сгибается на стуле пополам и стонет.
Сила Матейи! Убирайся отсюда, пока я тут со смеху не подохла. Тебя сегодня поцеловали?
Нет, говорю я. Можешь быть первой.
Сумасшедший, говорит она, всхлипывая от смеха. Псих ненормальный. Ты что, из цирка?
Из погорелого театра, говорю я. Меня несет. Меня радует, что она смеется, что она живая, что ее не тошнит телевизионным ядом. Я понимаю, что мы говорим на разных языках; я понимаю — все, что я успел наболтать, она воспринимает, как полный и уморительный абсурд, я не понимаю — почему. Впрочем, меня это не огорчает.
Что-нибудь выпить, говорю я. Протягиваю ей купюру. Она смотрит на меня, на деньги — ее усталое лицо под боевой раскраской становится сочувственным.
У меня не обменный пункт, говорит она.
Это чужая валюта, спрашиваю я.
Да. Это валюта… другого круга. Я у метро торгую, я такую уже видела, говорит она.
Другого круга — чего, спрашиваю я, хотя знаю ответ.
Она вздыхает. Вытаскивает пачку тонких дамских сигареток, копеечную зажигалку — и закуривает.
Не наивничай, говорит она. Хочешь курить?
Я не курю. Так другого круга чего?
Я не люблю это произносить, говорит она сердито. Ну ада, ада, надоедала. Доволен?
Я отхожу от ларька, я бреду прочь по площади, освещенной желтым искусственным светом, и думаю. Метро — это лимб, думаю я. Но с чего я взял, что выше — рай?
Я — на чужом кругу. И мне некуда идти.
На кирпичной стене белым намалевано «Сила Матейи», а рядом — два квадрата, врисованных друг в друга, грубая восьмиугольная звезда. Вдоль стены растут стриженые тополя, похожие на окоченевших приютских детей. Ночь переваливает за полночь, ее дыхание очистилось — она начинает благоухать. От дымного и свежего деревенского аромата ночи у меня кружится голова.
Очень холодно.
На ярко освещенном рекламном щите — прекрасная дева, всунувшая руку по локоть в зеркало. В зеркале отражается она же, но неуловимо другая, как сестра-близнец. «Зеркала Хесаллы — пожелай и узришь! — написано под девой. — Поверь в Дар». Этого я не понимаю.
Под рекламным щитом у обочины дороги стоит пестрая компания. Их освещает рекламная подсветка и желтый фонарь — похоже на витрину супермаркета. Больше девушки — но есть и юноши. Всего их человек десять. Они все молоды, одеты очень легко и очень ярко; раскрашены, как куклы. У всех нарумянены щеки — они розовые, они персиковые, они золотистые — от этого молодые люди издали выглядят очень здоровыми. Вблизи я вижу серые лица ночных существ под ослепительным макияжем.
Напряженно ждут, но притворяются беспечными. Их глаза блестят, зрачки широки. Хотят выглядеть призывно, но по позам видно, насколько им холодно, им привычно холодно, они устали от холода, но не уходят. Они болтают вполголоса — и вдруг замолкают, когда я подхожу.
Ты чумной, спрашивает тоненькая девушка в голубой куртейке. Остальные смотрят со страхом и отвращением.
Нет, говорю я.
Он не боится темноты, говорит парень, раскрашенный под матрешку помадой и румянами — впалые щеки у него, как яблоки. Он или чумной, или сумасшедший, продолжает парень.
Как бы то ни было, пусть катится отсюда, говорит второй. Он смотрит на меня с холодной яростью, сунув руки в карманы. Его приятели подходят справа и слева; меня поражает контраст между их курточками веселеньких оттенков, длинными цветными челками, убойным макияжем — и неожиданной нерассуждающей злобой. Так внезапно и резко приходят в ярость наркоманы, которых уже начало ломать. Каждый из них — кистень, прикинувшийся гламурной фенечкой. Девушки замерли в ожидании, будто надеются на свою долю моего мяса, когда все будет кончено.
Пусть катится, говорят сбоку. Таким тут делать нечего.
Я прикидываю, кого придется ударить первым и куда отступать. Не похоже, что удастся разойтись мирно. Улица совершенно пуста и темна, ни машин, ни людей — я понимаю, что шансов у меня немного. Компания выглядит готовой на многое.
Я ненавижу драться.
Но из кирпичной стены вдруг выходит высокий франт в белом пальто.
Он мог бы быть ее братом, как сказал бы Ваня. Его лицо светится в темноте бледным лунным светом, а глаза такие же вишневые, как у…
Общий вид — черно-белый рисунок тушью. Красив чисто и строго.
Накрашенные тут же забывают обо мне. Они пожирают его глазами, как попсовую звезду на концерте. Не знаю, что мешает накрашенным кинуться к нему — страх ли перед ним, страх ли перед тем, что он сейчас исчезнет — и конец празднику — но стоя поодаль, они все концентрируются на нем до дрожи воздуха. Тянут руки, лица — и умоляют всем телом.
О поцелуе. Так наркоманы умоляют дать им дозу. Они его так хотят, что мне становится стыдно стоять рядом с ними — и я быстро иду прочь.
Я не вижу, что происходит за моей спиной, и видеть не хочу. Слышу только, что сзади кто-то клянчит поцелуя, как милостыни, а кто-то истерически рыдает.
Я иду вдоль кирпичной стены, потом — вдоль дома, на вид совершенно нежилого, с черными слепыми окнами, с обшарпанными стенами, с глубокой дырой подворотни и желтой лампочкой, качающейся на ветру. Ледяной ветер пахнет так восхитительно, что я перестаю верить в ад. Очень холодно, и становится все холоднее.
Я прохожу мимо стеклянного павильона автобусной остановки. На железной дырчатой скамье сидит одинокая девушка с раскрашенным лицом. Она одета в пушистую курточку, мини-юбку и чулочки-сетку, как летом в пасмурный день. Девушка сидит неподвижно, как манекен в модном магазине.
Я подхожу ближе. На ее широко раскрытых глазах — ледяные линзы. Я трогаю ее щеку — лицо твердое, как лед. Девушка блаженно улыбается безжизненной улыбкой манекена. Подношу пальцы к глазам — на них след нежно-розовых румян.
Я вдруг понимаю, что слышу урчание мотора. По улице медленно ползет большой обшарпанный грузовик с брезентовым верхом на кузове. На дверце кабины белой краской небрежно намалевана знакомая восьмиугольная звезда из двух квадратов. Грузовик останавливается около павильончика с мертвой девушкой. Из кабины, не обращая на меня внимания, выпрыгивает мужик в овчинном полушубке и шапке, с длинными руками, приземистый, неуклюжий. Болтая руками ниже колен, как большая обезьяна, подходит к девушке, тормошит — спокойно и грубо. Потом поворачивается и машет рукой кому-то в грузовике.
С другой стороны подходит еще один мужик. Он деловито огибает машину и с лязгом опускает задний борт кузова. Потом направляется к своему напарнику неторопливой, какой-то подпрыгивающей походкой. На секунду он поворачивается лицом ко мне. При свете фар и фонаря отлично видно — лицо у этого типа будто искажено в «Фотошопе», всю морду свело на сторону и утянуло в нос и скулу. Этот кривой огромный нос, сросшийся со щекой, ярко-розовый, блестящий, поклевывает воздух на ходу, как у идущего индюка.
Они вдвоем поднимают труп за плечи и за ноги и несут. Зашвыривают в кузов; ее закоченевшее тело падает с деревянным стуком. Поднимают борт, опускают, что-то там отбрасывают — может, девушкину ногу — и снова поднимают. Не торопясь, размещаются в кабине — и грузовик ползет дальше.
Все так просто. И до меня никому нет дела.
Я потихоньку начинаю многое понимать. Я впадаю в безнадежную тоску, от которой хочется метаться и грызть пальцы — но это совершенно бесполезные действия. Я чувствую дикое одиночество и отвращение к себе.
И — что настолько невероятно, что не укладывается в голове — я больше не хочу видеть ее. Я ощущаю себя так, как те, накрашенные, имитирующие детское полнокровие румянами — ждущие и жаждущие поцелуя от таких, как она, чтобы испытать опасный кайф, украсть кусочек Вечности — или, на худой конец, умереть.
Эта таинственная жестокая нежность — просто наркотик. Он вызывает вожделение, привыкание, распад и гибель — и мне страшно, мне гадко, я уже наркоман — или еще нет?
Я не хочу быть от чего-то зависимым — будь то водка, героин, телевизор или даже она. Мне хотелось бы думать, что это любовь, но это — игла, это — дорожка белого порошка на зеркале, это — бутылка, брошенная в подъезде.
Я смотрю на луну — и луна смотрит на меня.
Темное время суток
Я бреду по улице наугад.
Город пуст. Дважды длинные серебряные лимузины бесшумно пролетают мимо. Долго не встречается никто.
Сворачиваю за угол. На обочине дороги сидит девочка лет пятнадцати; она обнимает тонкими пальцами колени, обтянутые джинсовой тканью, бесформенный пуховик велик для хрупкой фигурки.
Девочка смотрит вдоль улицы, в электрическое марево, смешанное в дрожащее желе с ночным мраком. Я вижу в профиль ее остренькое личико, бледное, с синяками под глазами, выражающее боль ожидания и холода. Светлые волосы собраны на затылке в пучок — пучок торчит из-под вязаной шапочки.
Я подхожу. Она удивленно смотрит на меня. Глаза громадные, синие.
Ждешь одного из них, спрашиваю я.
А то, кивает она. Закурить есть?
Не курю, говорю я с сожалением. Замерзла?
Придет и согреет, улыбается она. Передние зубы еще заострены снизу меленькой пилочкой, как у школьницы.
Почему — здесь, спрашиваю я.
А где, усмехается она. Все закрыто, кроме заведений для чумных. Не домой же его звать. Родичи убьют.
Его убьют?
Меня. Но его тоже есть кому убить. Упокоить, в смысле. Мать позвонит в контору охотников — мне это надо? Он меня любит.
А почему ты живая, если любит, спрашиваю я.
Она устало пожимает плечами.
У него тоже много всего… Кодекс, Старшие, Зов… Так и мыкаемся. Смотри.
Гордо подтягивает вверх рукав пуховика, потом — рукав тоненького пуловера. Рука до локтя в шрамах — старых, свежих и едва закрывшихся. Девочка лижет кровоточащую ранку.
Поцелуи, спрашиваю я.
Ага, кивает она радостно. Он поцелует — и потом ходишь, как по облаку. Не надо есть, не надо пить, чувствуешь себя такой легкой-легкой… Родичи придираются, училки в школе всем листовки раздают, все время болтают по ящику… Эта передача, «Вера против Смерти», каждый день в восемь вечера, знаешь? Мои каждый выпуск смотрят. Если уж очень счастливой выглядишь, задирают рукава, под воротник заглядывают или пытаются накормить. А жратва такой мерзкой кажется… Ничего, скоро помру им назло — вот мы с моим зайчиком поржем тогда!
Ад, говорю я. Да?
Брось, смеется девочка. У нее чудесный смех. Я почти завидую ему. Неужели ты не знаешь, говорит девочка, что в начале времен Творец создал мир-абсолют и людей по собственному образу и подобию. Вообще-то Он хотел, чтобы в этом мире царило вечное добро. Но у людей была свобода воли, а по образу и подобию — значит, как сам Творец, они заключали в себе Все. Вообще Все, понимаешь?
И зло, спрашиваю я.
Брось, говорит она. Тогда это злом не называлось. Да и не было злом, вообще-то. Просто такой способ бытия. Альтернативный. У людей же всегда была тяга к творчеству… страсть к самопознанию там… и некоторые из них начали всякие рискованные эксперименты…
И Бог выгнал их из рая, спрашиваю я. Улыбаюсь.
Ничего Он не выгнал, говорит она сердито. Вот всегда мы мыслим своими критериями. Если сами бы выгнали тех, кто не угодил, так и Богу готовы приписать нашу дурную мелочность. Ни фига подобного. Ему просто показалось, что таким… экстремистам в раю не интересно. Или они не могут там совершенствоваться… и тогда Он создал для них другой мир.
Поплоше, уточняю я.
Да нет, говорит она с досадой. Просто в этом новом мире было побольше места для разрушения. И для… всякого такого. На грани греха. Хотя тогда о таком понятии никто не слыхал.
И что?
И там тоже нашлись такие, которым захотелось солененького. А Творец создал для них еще один мир… еще ниже. По их вкусу. И некоторые и там умудрились не ужиться… а Он и для них…
И много вышло миров, киваю я.
Девочка машет искалеченной рукой, подтягивает рукав на место. Ее слегка знобит.
До фига, говорит она. Ступеньками. И чем дальше от рая, тем экстремальнее. Его наставники считают, что душа, чем замороченней на распаде, тем тяжелее — и это дело тянет ее вниз. А если за жизнь она набирает еще желания уничтожать — то еще дальше вниз. А если наоборот — ей надоедает зло и хочется созидания — то вверх. И так — вверх до рая или вниз до преисподней… Вот и вся система.
И к чему ты клонишь, спрашиваю я.
Да ни к чему особенно, вздыхает девочка. Просто многие считают, что наш мир — это предпоследняя ступенька.
Я слышал такое про свой, говорю я.
Ну, не знаю, говорит девочка. Дышит на свои руки, стеклянные от холода. И я дышу на ее прозрачные пальцы. Я злюсь на того, другого, которого она зовет зайчиком. Где он бродит?
Я слышу шаги многих людей, слишком громкие в ледяной тишине. И понимаю, кого увижу, когда обернусь
Потом
Крыса, вопит раскрашенная девица. Я тебе говорила, чтобы ты тут не околачивалась! Они из-за тебя сюда вообще не ходят, сука!
Смотри, чумной с ней, говорит плотный парень, вымазанный румянами. Я его сейчас урою. Это из-за него. Это он. Из-за него эта сука не боится тут торчать.
Девочка издает хриплый вопль, хватая с земли обломок кирпича. Я успеваю увидеть блеск лезвия в искусственном свете — отпихиваю девочку назад, бью наотмашь, чувствую, как нож рвет ткань куртки, мне жарко, я отшвыриваю от себя чью-то руку, я натыкаюсь кулаком на чье-то лицо, я жду удара в спину, я чувствую горячую ярость, я не вижу девочку — и мне страшно за нее.
Я ненавижу драки.
Он, выйдя из тени рядом со мной, окатив меня запахом мяты и ладана, выворачивает руку с ножом. Я слышу вопль, хруст и стон. Раскрашенная девица тянет к нему руки — но через миг сидит на снегу и трясется в ознобе, лязгая зубами. Ее дружок сидит рядом, одна его рука с растопыренными пальцами торчит неестественно, как шарнирная вешалка в виде человеческой руки, вторая засунута под пальто, а на лице невыносимое смешанное выражение дикой боли и наркотического прихода. Остальные не разбежались: стоят поодаль, смотрят голодными и жадными глазами.
Он обнимает девочку. На их лицах — мучительное наслаждение. Девочка голубовато-бела от холода, но именно поэтому ей, кажется, уже тепло. Он держит ее, как огонь свечи, и золотое пламя ее жизни танцует в его темных глазах. Он юн — хотя не моложе живого, конечно.
Им ни до чего дела нет — они держатся друг за друга, хотя между ними стена смерти. Смерть между ними ранит их, как колючая проволока — но боль, которую они чувствуют, куда слабее страха перед одиночеством — живого даже для мертвецов и неумерших.
Их жрут глазами, слизывают взглядами капли боли и счастья, но у них — много, много, им все равно, они расплескивают себя вокруг, щедро и спокойно. Им не жалко.
Так проходит год. Может, два. Мой бок горит, я чувствую, как свитер и футболка постепенно намокают.
Девочка толкает его, он замечает меня.
Ты ранен, спрашивает он.
Просто царапина, говорю я. Куртку порвали. Жаль. Она мне нравилась.
Хочешь, я тебя поцелую, спрашивает он.
Я смеюсь. Я говорю, что накрашусь, если захочу, и что девочка обидится на нас. Он смеется и сердится, говорит, что живому, из которого течет кровь, нужен врач. Я подкалываю его, говорю, что дело не во мне и не во враче — дело в крови, ведь так?
Дело всегда в крови. В ней все растворено — жизнь, смерть, сила, прошлое, надежда, желания… Об этом все думают, правда?
Девочка топает ногой, кричит на меня; он пристально смотрит мне в лицо — взгляд ощущается чем-то между просьбой, приказом и благодарностью — я расстегиваю куртку и задираю свитер. Ледяной ветер проходится по коже, обжигая холодом. Я смотрю на себя: порез длиной с палец, не слишком глубокий. Лезвие скользнуло по ребру. Кровь течет равномерно и сильно; теперь уже дотекла и до брюк. Его ноздри раздуваются — он наклоняется и лижет мой бок, как пес. Мне непереносимо холодно, его прикосновения вымораживают боль, кровь перестает течь — кажется, просто замерзает. Зависть накрашенных ощущается, как душное давление темной воды — но вдруг напряжение пропадает, будто их сдувает ветром. Меня трясет и колотит, но в какой-то момент становится очень легко, легко и спокойно. Ночь, холод, боль — все это отодвигается в сторону, зато я снова чувствую запах ночного ветра.
Запах дыма, далеких лесов и близкого моря, покрытого льдом.
Я слышу смех девочки откуда-то издалека.
С тобой все будет в порядке, говорит он — голос тоже страшно далекий. Посиди немного, говорит он. Это пройдет. Все будет в порядке.
Я сажусь на поребрик. Я вижу только апрельскую луну в январских ледяных небесах. Девочка целует меня в щеку — ее губы кажутся горячими, просто обжигают меня, и я ухитряюсь улыбнуться.
Потом — луна и облака
Никакого числа. Наверное, уже завтра
Я вижу ее, как сумеречную грезу наяву. Светлая фигурка в кромешном мраке, проколотом звездами. Я сплю или галлюцинирую — но все кажется реальным: и ночь, и запах крови, похожий на запах ржавого железа, и холод, который обнимает меня нежно и крепко, как смерть…
Меня трясут за плечо.
Парень, проснись, замерзнешь. Меченый, что ли? Сбрендил, шляться по ночам!
Я открываю глаза.
Незнакомец — пол-лица превратились в шматок тухлого мяса с опарышами, и глаз вытек, а из глазницы течет какая-то дрянь — смотрит тусклым уцелевшим глазом и ухмыляется. Живой, который выглядит, как мертвый? Почерневшая рука — на моем плече. Запах.
Дезодорант, хлорка, тухлятина, мятная жвачка.
Что смотришь, парень? Чумных не видел? Не дергайся, чума не заразна. Вампы заразнее. Не фиг было целоваться с Хозяевами, придурок. Меточку потом ничем не выведешь. Так и будет тянуть бродить в сумерках, пока не подохнешь.
А им зачем касаться живых, спрашиваю я. До меня медленно доходит смысл слова «чумной».
А черт их знает! Многие живые из кожи вон лезут, чтобы их пометили — только вампы обычно не замечают таких. Вампа румянами не обманешь… Чем-то ты приглянулся королеве, парень.
Не королеве… Не нашел королеву…
Ну — королю. Разница-то… Говорят, они отмечают чистых. Еще говорят… вставай уже, задницу отморозишь… так вот, еще говорят, что их привлекает что-то особенное в крови. Любовь… Фигня. Забудь.
Чума… у тебя чума…
Чума, парень — и никто не знает, отчего. Другая метка, не такая приятная, я бы сказал… беда, просто беда — и все. Тело гниет, но в нем живет душа, черт ее знает… Но совершенно не больно. Нервы сгнили. Можешь идти?
Я встаю. Меня болтает из стороны в сторону, чуть не сажусь снова. Холодно, холодно, холодно. Наваждение ушло. Вера — тоже. Я видел вампа и девочку — я больше не могу себе врать. Есть любовь и любовь — одна дает шанс, вторая — нет.
Я держусь за запястье чумного. Он до смешного стильный: в мокасинах, в модной куртке… волосы светлые, длинноваты. Он отводит их с лица, чтобы не пачкать в тухлой сукровице. Его ухмылка кажется сочувственной и всепонимающей. Мясо на костях руки скользит под моими пальцами вместе с рукавом.
Добропорядочные граждане по ночам дома сидят, говорит чумной. Среди добропорядочных принято бояться темноты. В сумерки ходят только отбросы, парень. Чумные, шлюхи, вампы… убийцы… Куда тебе надо-то?
К метро, говорю я. Куда же еще. Мне же на работу завтра.
Пойдем к метро, говорит чумной. Мне все равно нефиг делать.
Он вытаскивает из кармана пачку сигарет и зажигалку. Щелкает пьезой — и верхняя фаланга большого пальца отваливается и падает на снег. Чумной кроет матом сквозь зубы, нагибается, поднимает кусочек мертвой плоти, смотрит на него с досадой — и отшвыривает в темноту, обложив в пять этажей чуму, сумерки и весь этот поганый мир.
Я беру у него зажигалку, выщелкиваю огонек и даю прикурить.
Чумной благодарит кивком. Он одновременно взбешен и огорчен почти до слез. Затягивается. Дым с шипением выходит из гнилых легких.
Все чертовски несправедливо, говорит чумной тихо. Почему — я? За что? Может, лучше было бы издохнуть? Загнуться по-настоящему, а не гнить живьем?
А ты хочешь издохнуть, спрашиваю я.
Чумной долго молчит. Мы идем проходным двором, темным, заросшим скорчившимися заиндевевшими деревьями. Наледь скользит под подошвами, в ней отражаются редкие желтые фонари.
Нет, говорит он, наконец. Не хочу. Боюсь, что исчезну совсем. Без следа. Может, в этом и дело. Это чертовски ужасно — думать, что можешь просто исчезнуть. Вот ты есть — и вот тебя нет.
Но существовать так — наверное, нестерпимо жутко, спрашиваю я робко.
Зато я есть, говорит чумной. Ухмыляется; белоснежные зубы блестят между черными губами. Я вижу, я слышу, я мыслю, продолжает он. Это тяжело, но лучше быть так, чем не быть никак. Я — трус?
Нет, говорю я абсолютно искренне. Каждому — свое.
Ты — хороший парень, говорит чумной. И знаешь, что, продолжает он, гетто — это куда нестерпимее чумы и нестерпимее смерти, поэтому если примут закон о гетто для чумных, я все-таки что-нибудь сделаю с собой. Чумным запрещено выходить днем — ну и ладно. На солнце я и в окно посмотрю. Но если и ночью запретят, если запрут — что ж мне нюхать собственную гниль в четырех стенах…
Луна, говорю я.
Чумной кивает. Ничего, говорит он. Я, вообще-то, дизайнер, только работать больше не могу. Пальцы, видишь? Пенсия крохотная, но есть все равно уже почти не надо… и мало что надо… разве кофейку хлебнуть… хватает на квартирную плату — и ладно. Иногда удается с кем-нибудь поговорить — не в чате, в реале. С вампом обычно, хотя не люблю я их. Или — с тобой.
Все будет хорошо, говорю я.
Он снова кивает.
Как-нибудь, да будет. Ладно, это не важно. В нашем поганом мире еще никому не удавалось сохранить живыми и тело, и душу. Живое тело — наверное, приятнее, но я слишком боялся всю жизнь, что душа издохнет… Фигня. Вон метро. Только оно еще закрыто. Кофе хочешь?
Кафешка для чумных неподалеку от метро — крохотное заведение, отделанное грязным белым кафелем, полуподвал, куда ведут исшарканные ступеньки — почти полна. Мне тяжело дышать от запаха мертвечины и сигаретного дыма, но здесь гораздо теплее, чем на открытом воздухе.
Я вижу раздутые лица, трупные пятна, отставшие куски почерневшей плоти; на меня смотрят. Ты — свежачок или не чумной, что ли?
Я тут единственный не чумной. Бармен, совсем свежий, лицо только позеленело и глаза ввалились, улыбается, заваривает «эспрессо». Запах свежемолотого кофе перебивает трупную вонь.
Храбрый паренек, говорит девушка у стойки; ее синее лицо тщательно замазано театральным гримом — а может, тем, каким гримируют мертвецов. Ну да все знают, чума не заразна, смеется она.
Считается, что все знают, мрачно возражает парень в громадных зеркальных очках. Очки и длинная челка скрывают обезображенное лицо, на руках — перчатки из тонкой кожи. Он непрерывно курит, как многие здесь; керамическая пепельница полна бычков. В его манере держаться есть что-то аристократическое. Рядом с ним сидит тихое худенькое существо в шубке, спрятав лицо в тени под большим пушистым капюшоном.
Смешно, господа, говорить об отсутствии страха у здоровых, продолжает аристократ в очках. По зомбоящику между рекламами и ржакой каждый день радостно сообщают, что кого-то из нас взорвали или сожгли заживо.
Чтобы мы решили, что эта мерзкая идея с гетто — забота о нашей безопасности, говорит дизайнер. Они ничего не делают просто так. Во-первых, на черта мы сдались в городе. Мы вид портим. А во-вторых, надо иметь кого-нибудь на роль козла отпущения. Общего врага.
Да уж, говорит бармен. Медики знают, что чума не заразна, что она возникает изнутри, как рак — но по ящику то и дело намекают на возможность заразиться. И оно приносит плоды. Месяц назад здоровые плеснули на мою соседку бензином и бросили спичку… Возьми сахар… вон ложки лежат.
По крайней мере, она отмучилась, замечает девушка. Ее кавалер, высоченный, квадратный, с обвисшим лицом, нежно обнимает ее за плечи. Оставь, говорит девушка грустно. Женщинам это тяжелее. Знаешь, каково каждый день видеть себя в зеркале?
Ты видишь там что-то, чего не вижу я, говорит высокий. И пока ты жива, я совершенно не рвусь умирать.
Девушка прижимает его руку с потрескавшейся кожей и отросшими грязными ногтями к своей щеке. Из ее глаза вытекает капля мутной жидкости, скатывается с грима.
Как странно, роняет аристократ в очках. Почти у всех наших, кого я знаю, при полной невозможности секса с любовью все в идеальном порядке. Просто удивительно, насколько в порядке. Когда я был здоровым, некоторые вещи не ощущались так остро.
Он кашляет, тушит сигарету, сплевывает в салфетку, снова кашляет. Высокий хлопает его по спине. Миниатюрное существо, стряхнув капюшон, гладит аристократа по руке, оказавшись довольно свеженькой девчушкой с черно-синими пятнами на лице. До болезни ее волосы, вероятно, были великолепны; даже сейчас, тусклые и ломкие, убитая пакля, они густы и длинны.
В здоровом теле здоровый дух — редкая удача, говорит коричневая мумия с пергаментной кожей и черными блестящими глазами в глубоких ямах глазниц. Она грациозна, как балерина; чашка, как цветок, белеет в ее длинных и темных сухих пальцах. Наш мир давно уже разделился на мертвых духом и мертвых телом. Причем первым светят телешоу, а вторым — гетто. Как все забавно сложилось — их удобно любить, хотя, вроде бы, и нечем; нас удобно ненавидеть, хотя, вроде бы, и не за что…
Дизайнер платит за кофе. Я пытаюсь всучить ему свои деньги, он отмахивается.
Я все равно не знаю, где такое меняют. Я бы предложил выпить, но спиртного тут не наливают. Считается, что от него процесс идет быстрее… но чумные не пьянеют, так что — какая, к черту, разница…
У тебя кровь, приятель, говорит пожилой — непонятно, как вообще говорит почти очистившимся от мяса черепом с несколькими клочьями высохшей кожи и седых волос. Нос провалился, а глаза болтаются у него в глазницах, как шарики-липучки.
У чумных кровотечений не бывает, говорит девушка, а у здорового остановится. Ты в порядке, храбрый парень?
Меня поцарапали, говорю я. Я дрался с раскрашенной сворой, которая клянчит потусторонние поцелуйчики. И это стоило свеч — за храбрость удостоился оказания первой помощи от вампа. Не поцелуй, но похоже на то. Уже не болит.
Чумные смеются. Полускелет пьет кофе чашку за чашкой, не замечая, что под ним растекается коричневая лужа. Дизайнер отхлебывает незаметными глотками.
Мне неожиданно уютно. Меня больше не беспокоит запах и вид посетителей кафешки. Их живые взгляды на мертвых лицах выглядят милее, чем мертвые глаза на живых физиономиях телезомби.
Я болтаю с ними о пустяках и чувствую, что весна когда-нибудь настанет
Ближе к утру
Я дремлю, привалившись к стене. Сквозь тонкую пелену полусна слышу голоса чумных, изредка почти понимаю их слова.
… а когда был маленький, обожал зверей. Как-то прОклятую крысу в дом притащил, не знаю, где взял. Мама, говорит, смотри — ёжик-мутант. Зеленая такая тварь, растаращенная, отовсюду кости торчат — все фанеру грызла…
… я ему так и сказал: если от тебя все это течь не перестанет, вломлю по первое число, не посмотрю, что ты здоровый. Ну нестерпимо же, когда в дом ползет такая дрянь — аллергия у меня на мысли подонков, ничего поделать не могу. Чем больше разваливаюсь — тем сильнее чувствую…
… небеса молочно-синие, как поздней весной в поздний час, но еще не ночью — и сирень. Самое лучшее — это сирень. Он ее так написал… можно услышать запах, если подольше постоять перед картиной… если еще помните, как пахнет сирень и жасмин…
… любопытно, что же тогда называть дискриминацией. Я попытался сказать этому мерзавцу, что специалист по сетевой безопасности — не кинозвезда, а посему моей трупной физиономии при удаленной работе он может не видеть месяцами… как вы думаете, что он ответил, господа?
… все-таки невыносимо, когда твою дверь поджигают уже десятый раз. Я ведь знаю, кто — но что тут поделаешь? Поймать и отлупить — силы уже не те, знаете ли…
… когда кожа начала слезать, она просто тихонько сошла с ума, бедняга. Иногда забредает сюда; сядет в уголок и поскуливает, как собачонка. Иногда начинает жевать собственные пальцы. Но ведь можно понять: наша жизнь — не малиновый сироп, сдала девочка…
… пришлось бросить гитару — пальцы. Но в плейере — все мелодии на свете. Остается только пожалеть, что играю не я…
… хорошо тому, у кого есть дом. Я, можно сказать, живу здесь. Квартиру продали, а все, что я могу об этом сказать, считается бредом мертвеца. Мы все считаемся безумцами — тебе повезло, что никто не сказал об этом в лицо…
… говорят, где-то на севере, далеко за городом, есть коммуна… в лесу, на берегу озера…
… говорят, этот поселок сожгли, девочка…
Мне хорошо. Я согрелся, и бок почти не болит. Я полон странным покоем — здесь, среди чумных, мне спокойнее, чем в большинстве других человеческих компаний. Жалость во мне так сплелась с уважением, что стала похожа на зависть…
Меня будит неожиданный грохот с силой брошенной в дверь пустой пивной бутылки. Она разбивается об пол с треском и звоном — и сразу же за этим я слышу пьяный вопль с улицы.
Вы, дохлятина, орет какой-то мерзавец, вы еще ползаете? Сейчас сходим за керосинцем и сделаем вам тепло! Мертвый должен лежать смирно, вашу мать!
В двери влетает вторая бутылка, грохается об стену рядом с головой бармена. Снаружи — хохот, улюлюканье и крики.
Скоро вас всех на свалку вывезут! Специализированный крематорий «Уголек»! Не рассыпьтесь по дороге, уроды! Позовите на огонек, вашу мать!
У меня на руках виснут дизайнер и аристократ. Я рвусь изо всех сил, так, что стаскиваю их с места, хоть дизайнер крупнее меня, а аристократ схватился за подоконник. Я — сплошная ярость, берсерк, готовый грызть край щита. Красная пелена в глазах желание бить убить стереть в пыль заткнуть пасть.
Пустите пустите пустите меня
Судя по звукам с улицы, эта мразь разбегается, когда выходят пожилой и колоритный парень с глазом, висящим на щеке.
Мне никак не отдышаться. Моя кровь, кажется, вот-вот превратится в пар прямо в венах.
Худенькая пушистая девушка аристократа протягивает мне чашку, гладит по щеке.
Ты ведь не брезгуешь? Не надо, пожалуйста. Мы все равно ничего не исправим. Все так несправедливо, что даже начинает болеть сердце…
Это не сердце, говорит аристократ. Это душа. Сердце у тебя уже не бьется, малышка.
Не нервничай, старина, говорит парень с глазом на щеке. Эти гады сами нас до смерти боятся. Ненавидят, но боятся. И их постоянно на нас науськивают. Я даже не уверен, что они виноваты…
Уже седьмой час, говорит дизайнер. Ты говорил, тебе надо на работу.
Я пытаюсь успокоиться. Вынимаю из кармана несколько жетонов.
Такие годятся для того, чтобы отсюда уехать, спрашиваю я.
Худенькая девушка кивает. Дизайнер тяжело садится на стул.
Устал я, говорит он. Не стоит злиться. Злость тоже усиливает процесс. Зачем торопить судьбу, и так все уже решено. Слышь, парень, ты иди, ты уже не заблудишься. Утро… не годится провожать здорового и… провоцировать этих тварей.
Я выхожу. У меня слезы наворачиваются на глаза.
Утренний воздух сладок и свеж. Еще совершенно темно, но каким-то образом понятно, что это темнота перед рассветом. Так холодно, что дыхание инеем оседает на воротник. Меня снова начинает знобить. Я бреду к метро, понятия не имея, как буду добираться до работы.
К метро течет обычная серая толпа телезомби пополам с обычными людьми и людьми без лиц. Я привычно вливаюсь в нее. От меня отстраняются: я воняю дохлятиной и дымом сигарет, я измазан кровью, у меня, вероятно, чудовищно заспанная, помятая и небритая рожа.
Мне все равно.
Вдруг в толпе я вижу некроманта. Он идет с непокрытой головой; я узнаю его выбеленную шевелюру. Бегу к нему, расталкивая всех подвернувшихся, наплевав на матюги в спину.
Олег Борисович, подождите!
Он оборачивается, останавливается, ждет. Грустно улыбается.
Скверная, скверная девочка, говорит некромант. Шалит, как трехлетняя малышка — полагает, что это весело… Увели тебя?
Мне нужно на работу через час, выдыхаю я. Вы ведь знаете, как уехать отсюда?
Утром — с пересадками, говорит некромант.
Я иду за ним в метро.
1 феврапреля
Я стою в битком набитом вагоне, прислоняясь к некроманту плечом. Пол подо мной покачивается, стонущий гул наполнил мозг целиком. Тепло, как всегда тепло в вагоне метро. Меня клонит в сон.
Некромант читает Фроммовскую «Анатомию деструктивности» в бумажной обложке. Я не знаю, куда уткнуть глаза: в черном вагонном окне плывут искаженные лица, вокруг — утренние упыри, воздух так сух, что рассыпается в легких крупинками и царапает гортань.
В тяжелой полудреме, которую никак не стряхнуть, шарю взглядом по вагону. Натыкаюсь на газету, свернутую трубкой и засунутую за спинку сиденья. Автоматически вынимаю.
«Анекдоты и приколы». Слово «анекдот» вызывает у меня приступ тошноты, но я не могу бросить эту дрянь. Буквы складываются в слова почти сами собой.
А если солдат чумной, где он должен носить штык-нож? Да хоть в спине, какая ему разница!
Девушка, девушка! Да, вы, синенькая! А вы собак боитесь? А они вас?
Я снова чувствую приступ ледяной ярости. Дремоты — как не бывало.
Некромант сует книгу в дипломат, кивает на дверь.
Нам выходить.
Станция пересадки целиком из черного мрамора. В конце перрона — темная чугунная статуя странного существа, карикатуры на танцующего Шиву. В десятке его растопыренных рук — красные светящиеся сердца. Человек-паук…
Мы поднимаемся по лестнице. «Мост самоубийц» — с лестницы такой завораживающий вид на рельсы внизу, что тянет сигануть через перила. Истерики, вероятно, вообще могут ходить тут только под конвоем и с завязанными глазами.
Я трогаю некроманта за локоть.
Он оборачивается, поправляет очки, улыбается — и мрачнеет, встретившись со мной взглядом.
Что такое чума, спрашиваю я. Вы говорили, что от заражения помогает рука славы. Значит, чумой можно заразиться?
Ты перепутал, малыш, говорит некромант. Чума не заразна. Чума — это проклятие. А с помощью руки славы проклятие можно вернуть тому, кто пытается проклясть. А что?
Я останавливаюсь, и некромант останавливается.
Почему мне кажется, что чумные лучше здоровых, спрашиваю я. Как это может быть?
Они лучше здоровых, говорит некромант. Они — те, кому завидуют, и те, кто непонятен, малыш. Они — те, кто выбрал душу вопреки рекламе. И еще: они — те, кому легче убивать себя, чем других. Мне показалось, что и ты такой. Таким рука славы не поможет.
Я не такой, говорю я, и пыльный свет тускнеет и расплывается. Я, наверное, могу и убить. Сегодня ночью я это понял. Только не за себя.
Вот в этом-то и дело, говорит некромант, больше не улыбаясь. Пойдем, опоздаешь на работу.
Он выходит на Техноложке. Мне почти жаль с ним расставаться. На душе тяжело, больно, смутно… и я снова не знаю, что делать.
Я сплю стоя до самого Просвета. Выхожу на автопилоте, открываю киоск. Включаю свет, компьютер, кассу — будто и не я, а какой-то заводной механизм. На том же заводе, бездумно, завариваю чай. Пью. Вокруг тепло, но за эту ночь я так продрог, что льду внутри никак не растаять. Меня слегка знобит.
Я точно знаю, что девочка-вамп, в которую я был влюблен со щенячьей страстью, меня тоже не отогреет. И не поможет. Ее шуточки для меня слишком холодны, хоть и изысканы.
Я чувствую, как что-то рвется внутри меня. Может, чума так и начинается? Похоже на то, но мне совершенно не страшно. Я знаю, куда и как отправлюсь, если окажусь прав. Я больше не чувствую себя одиноким. Все равно ада нет, а рай — не в этой жизни. Какая, в сущности, разница, на каком ты кругу…
Я надеваю тужурку типа «ватник» на окровавленный заскорузлый свитер. Теперь крови не видно, а запах учует не каждый.
Детектив. Пара детективов. Еще детектив. Гламурный роман. Детектив в хорошем переплете. Пачка розовых дамских романчиков. Детектив. Трудовые будни.
Дяденька, нам по литературе задали… В общем, про карлика, который хотел замуж.
Что?!
Пацаненок, похожий на нарисованного бурундука. Смущенно улыбается в пухлые беличьи щеки.
Погоди, старик. Задача… Автора не помнишь, конечно? А что еще делал этот карлик?
В школу ходить не любил…
Ага! «Недоросль», да? Фонвизина? Карлик, потому что не дорос? Не хочу учиться, хочу жениться?
Ребенок радостно кивает. Забирает копеечную книжку — школьная библиотека. За ним подходит высокий парень. Я поднимаю глаза от кассы.
Он улыбается черными губами. Глаза запали, зеленоватое лицо — и вид такой виноватый, будто чума у него назло окружающим. Дезодорант, хлорка, падаль, мятная жвачка. Свежий, но не свежее меня, конечно.
Приятель, я понимаю, что, вроде как, не твой профиль… Но Солженицына, «Двести лет одиночества» — нет, случайно?
Не в этом мире, говорю я. Ты заблудился. У нас — «Двести лет вместе».
Улыбается гораздо веселее.
Знаешь, дружище, я не читал, но, судя по названию, та, что у вас — куда лучше. Я покупаю. Сколько?
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
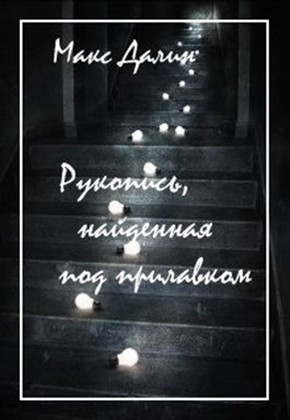







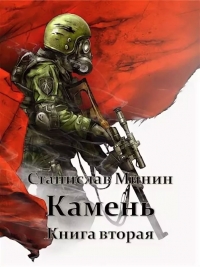
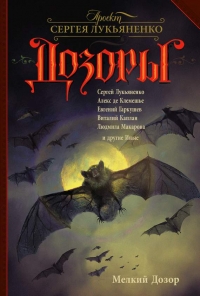



Комментарии к книге «Рукопись, найденная под прилавком», Максим Андреевич Далин
Всего 0 комментариев